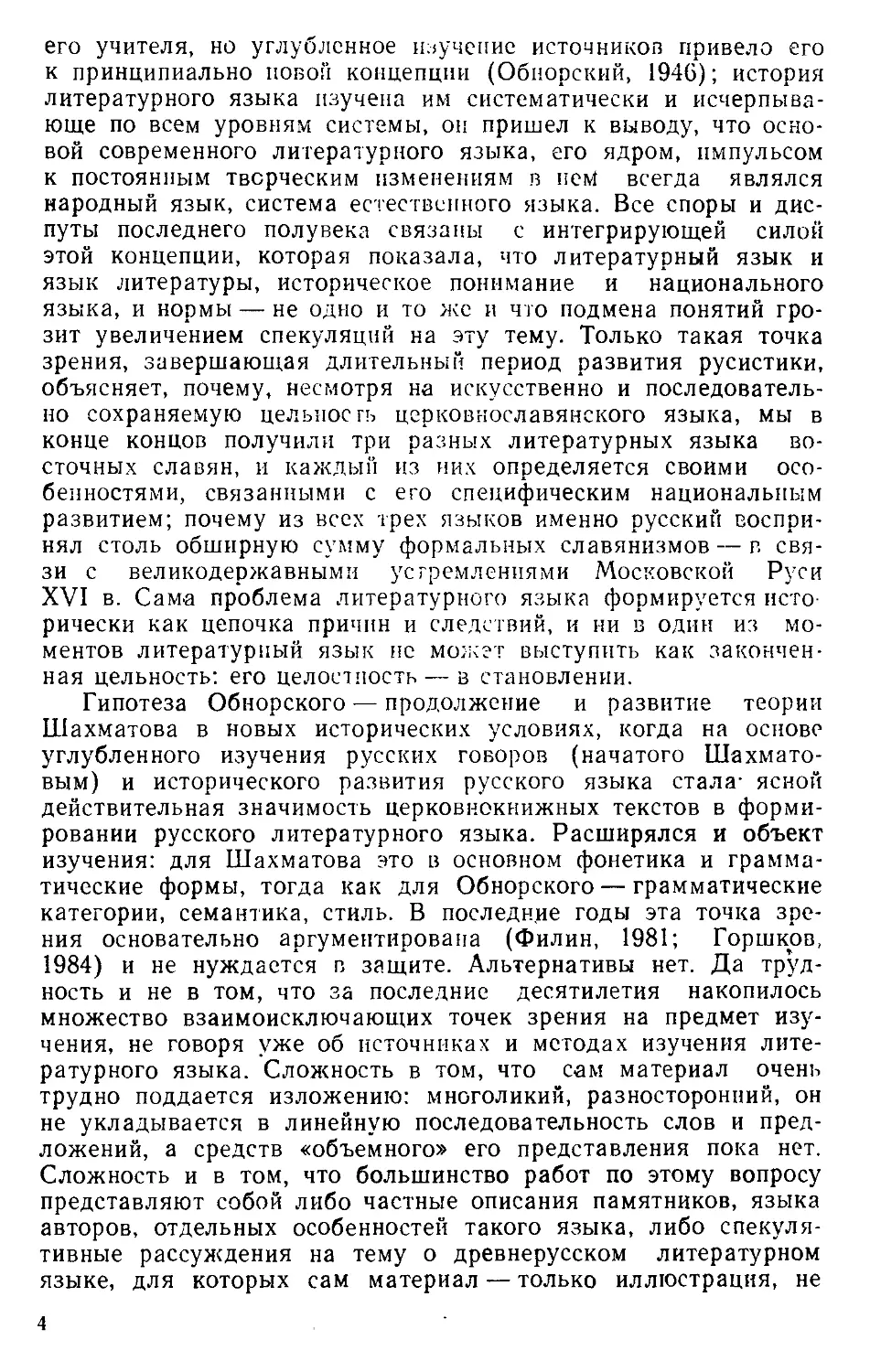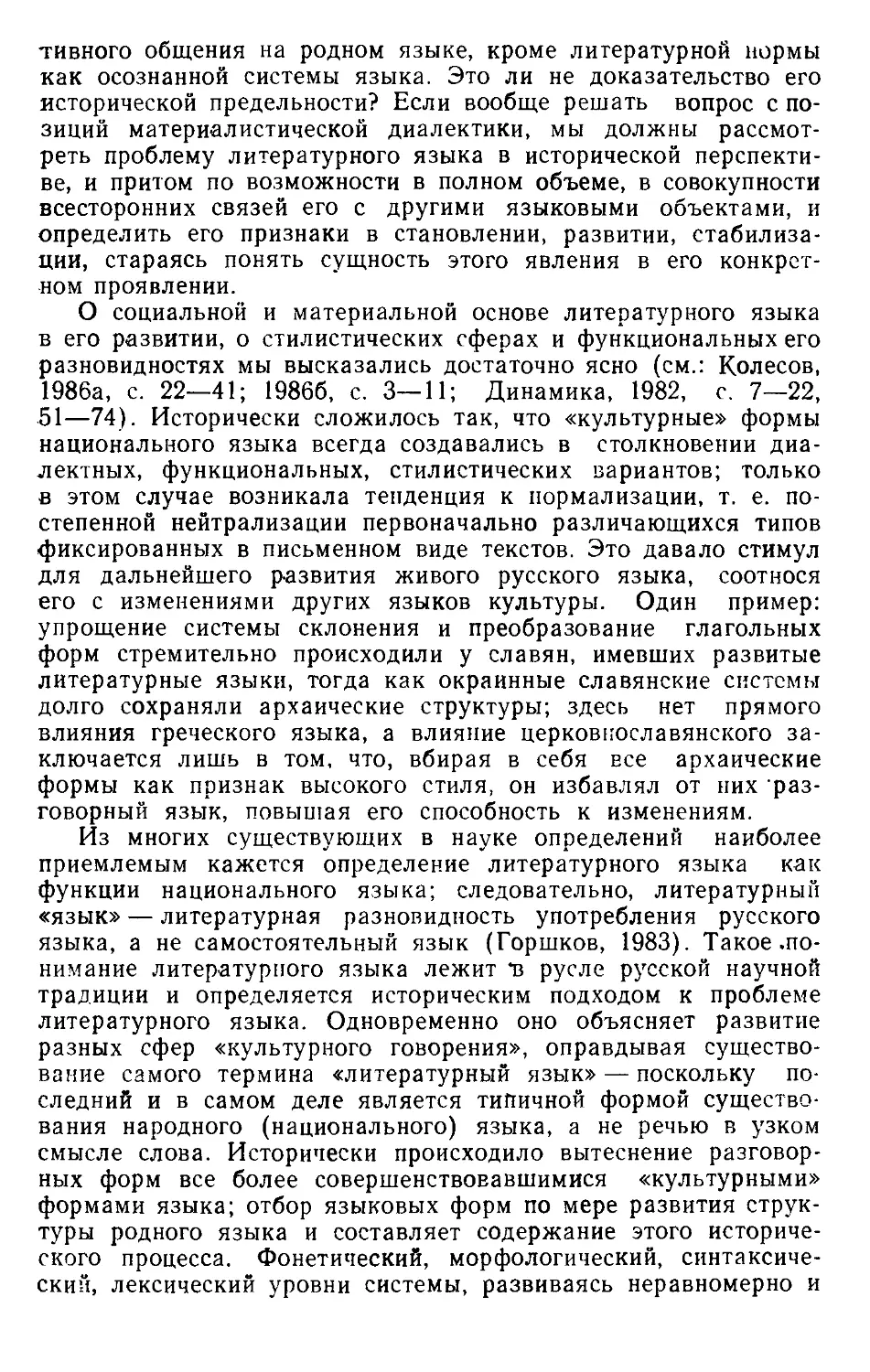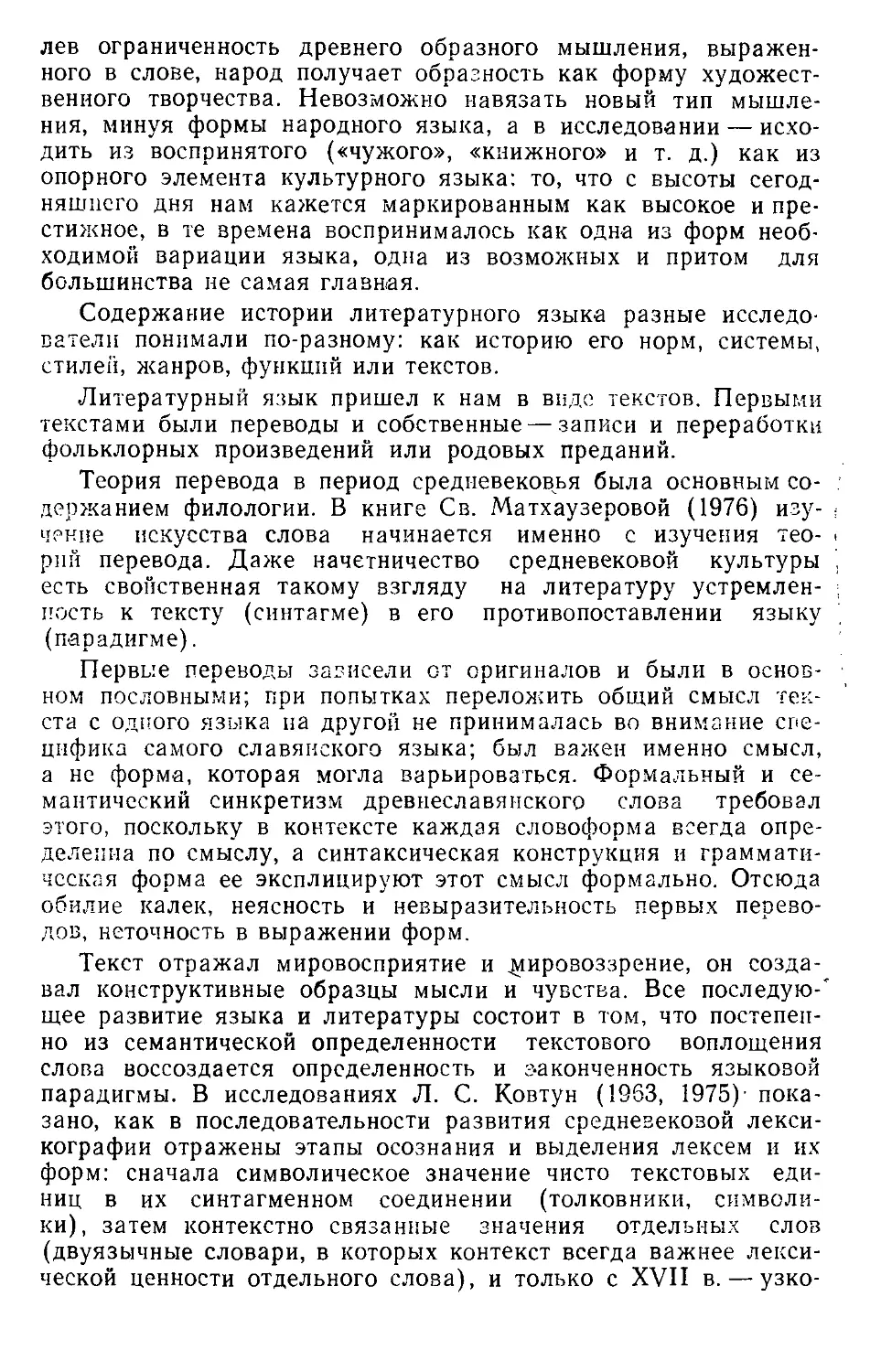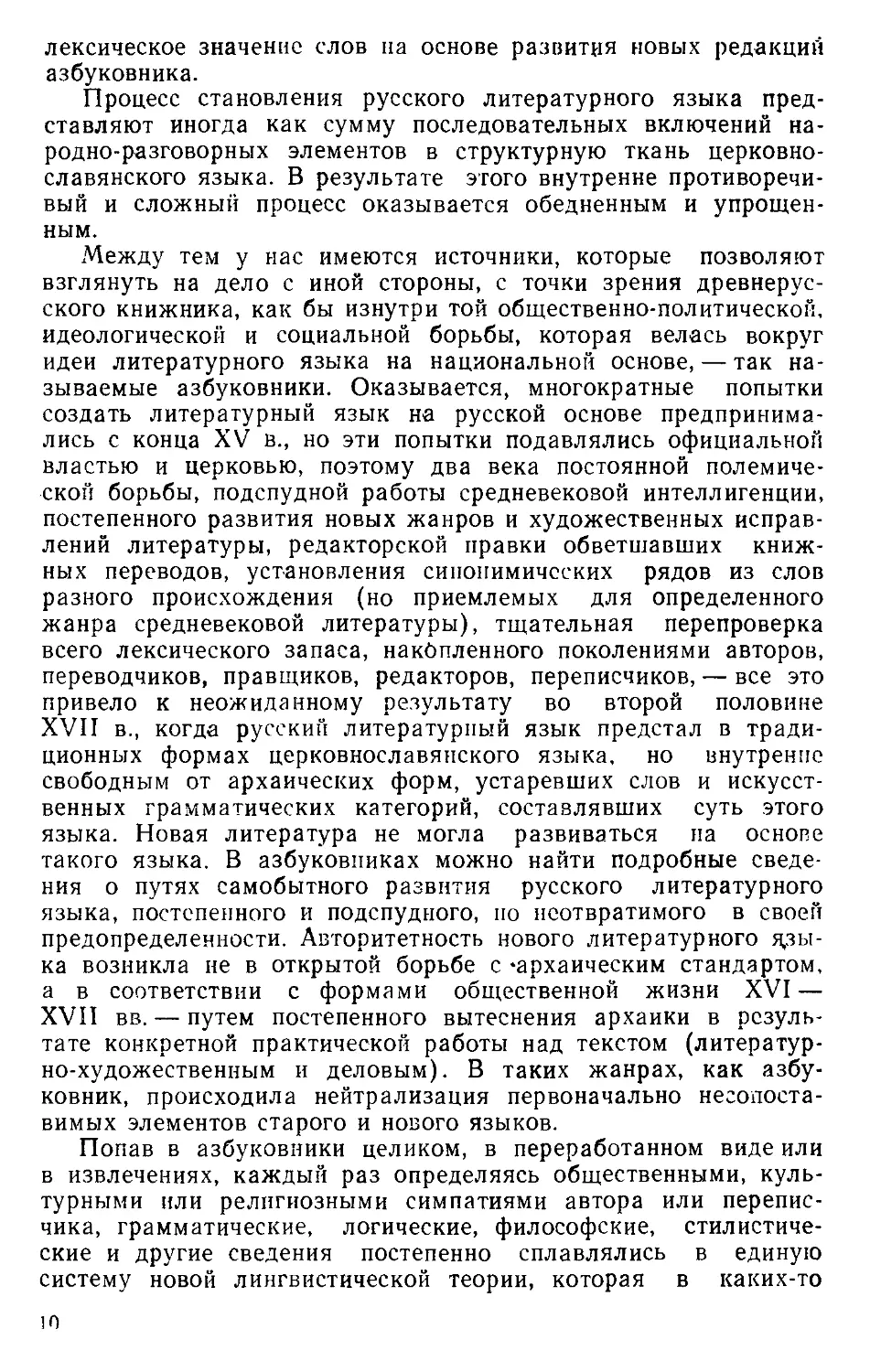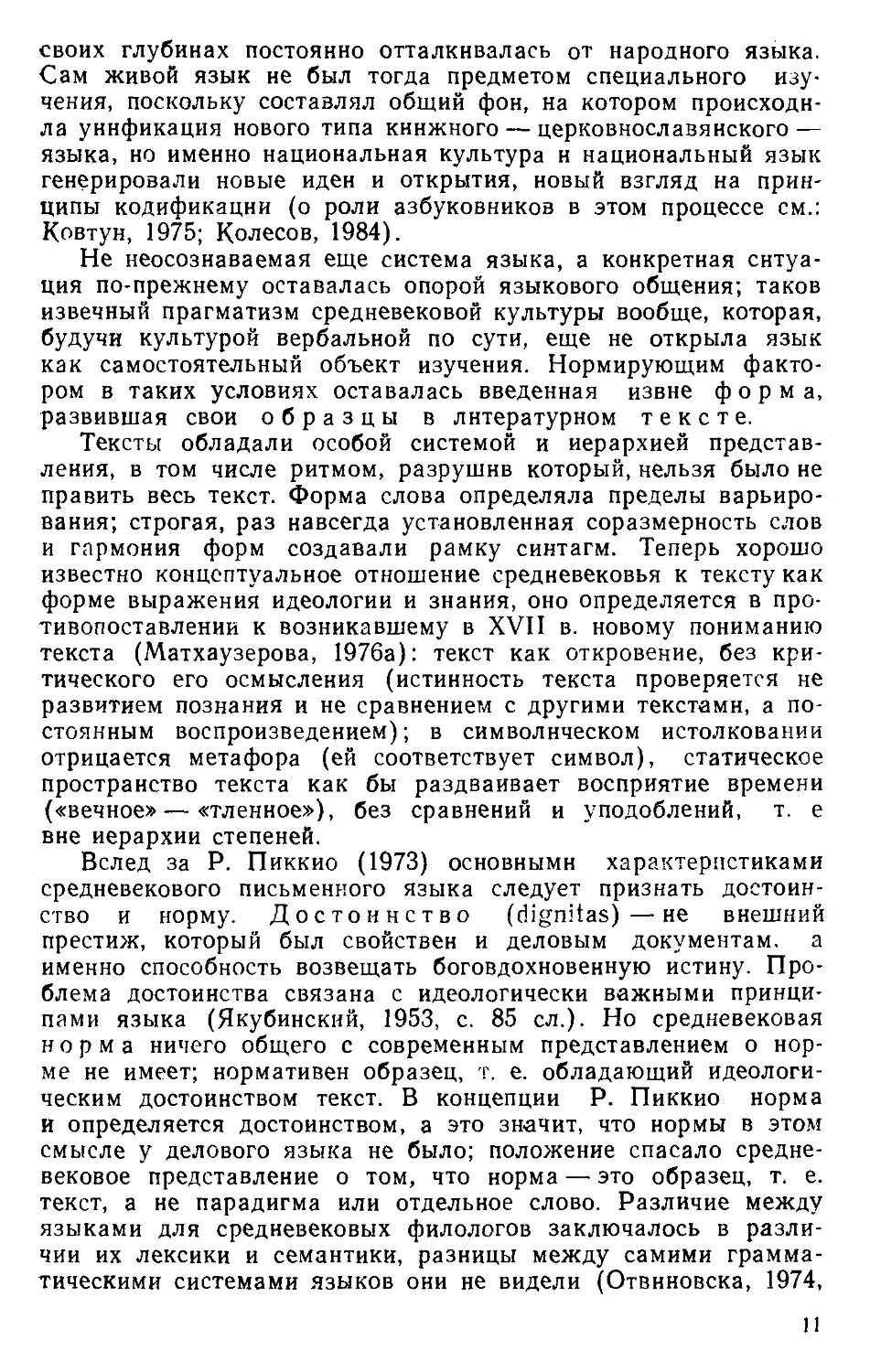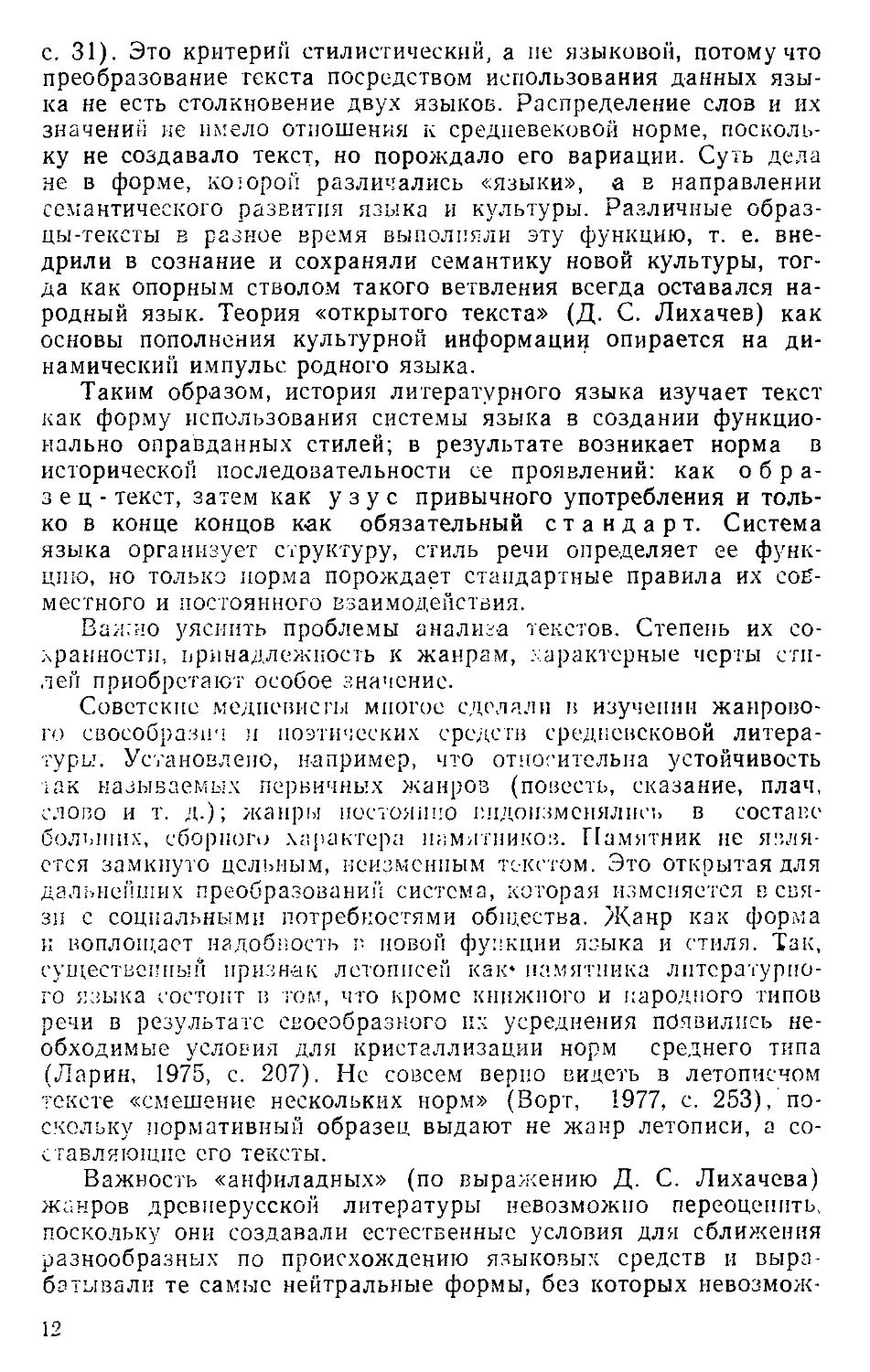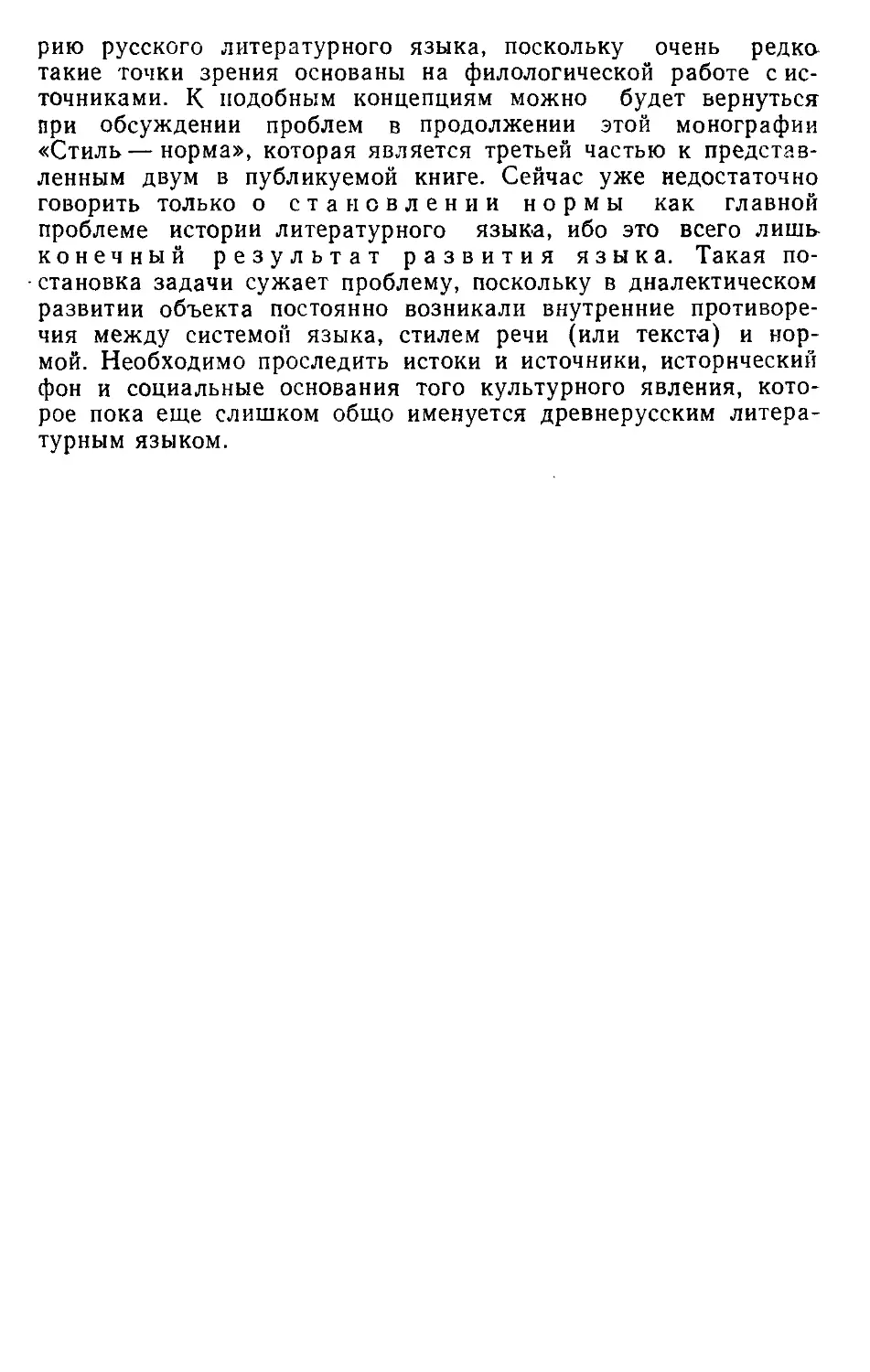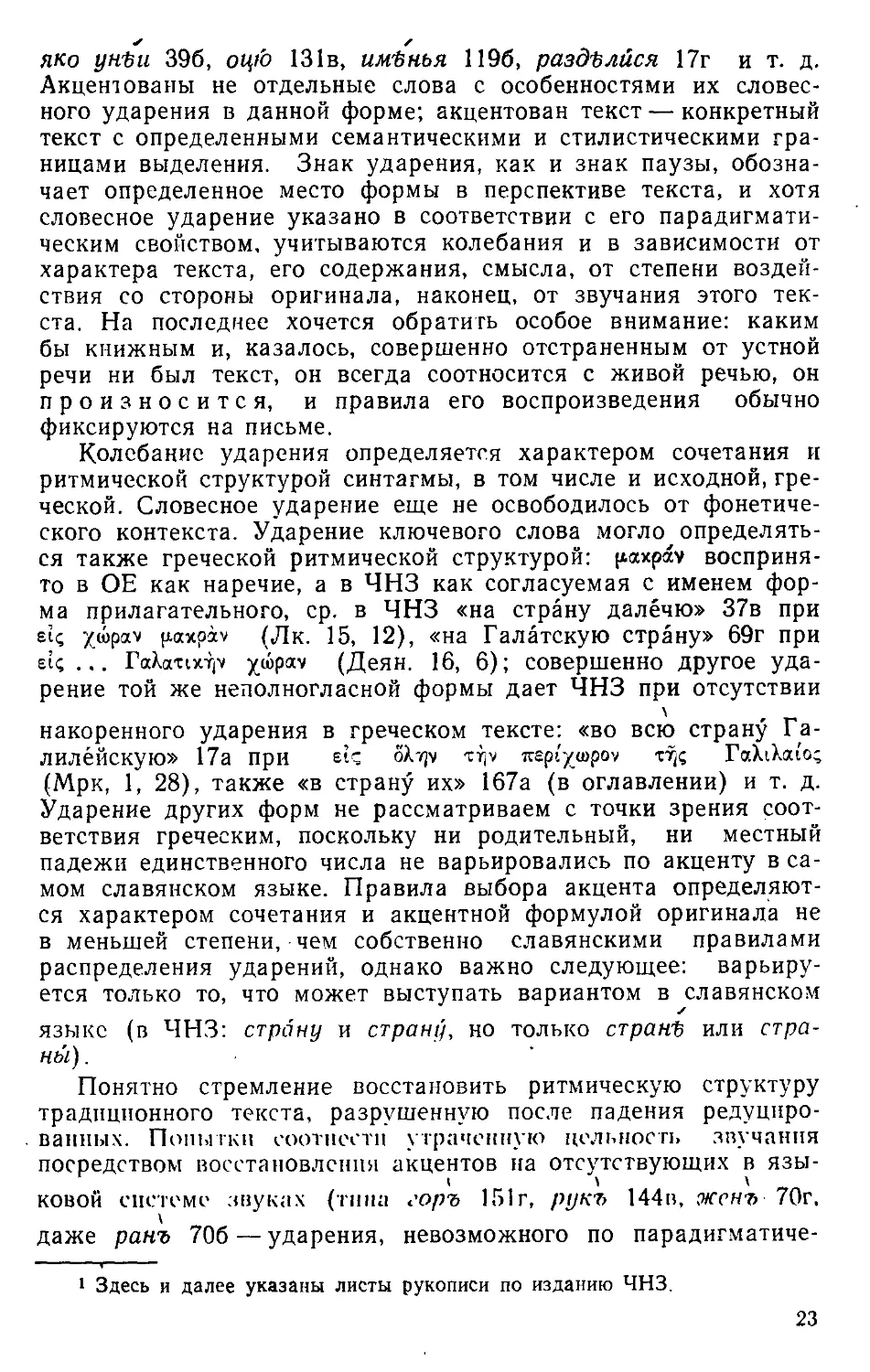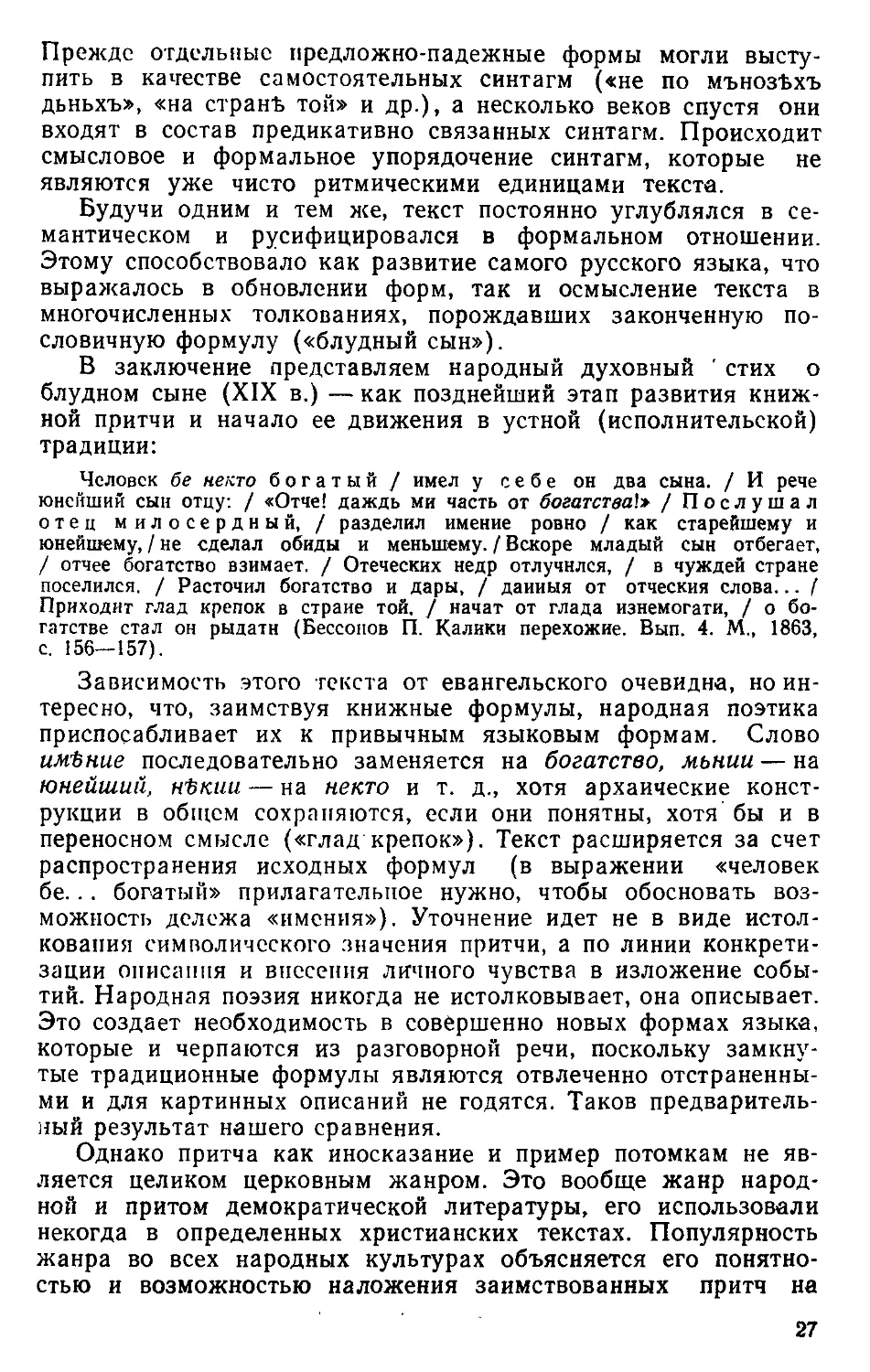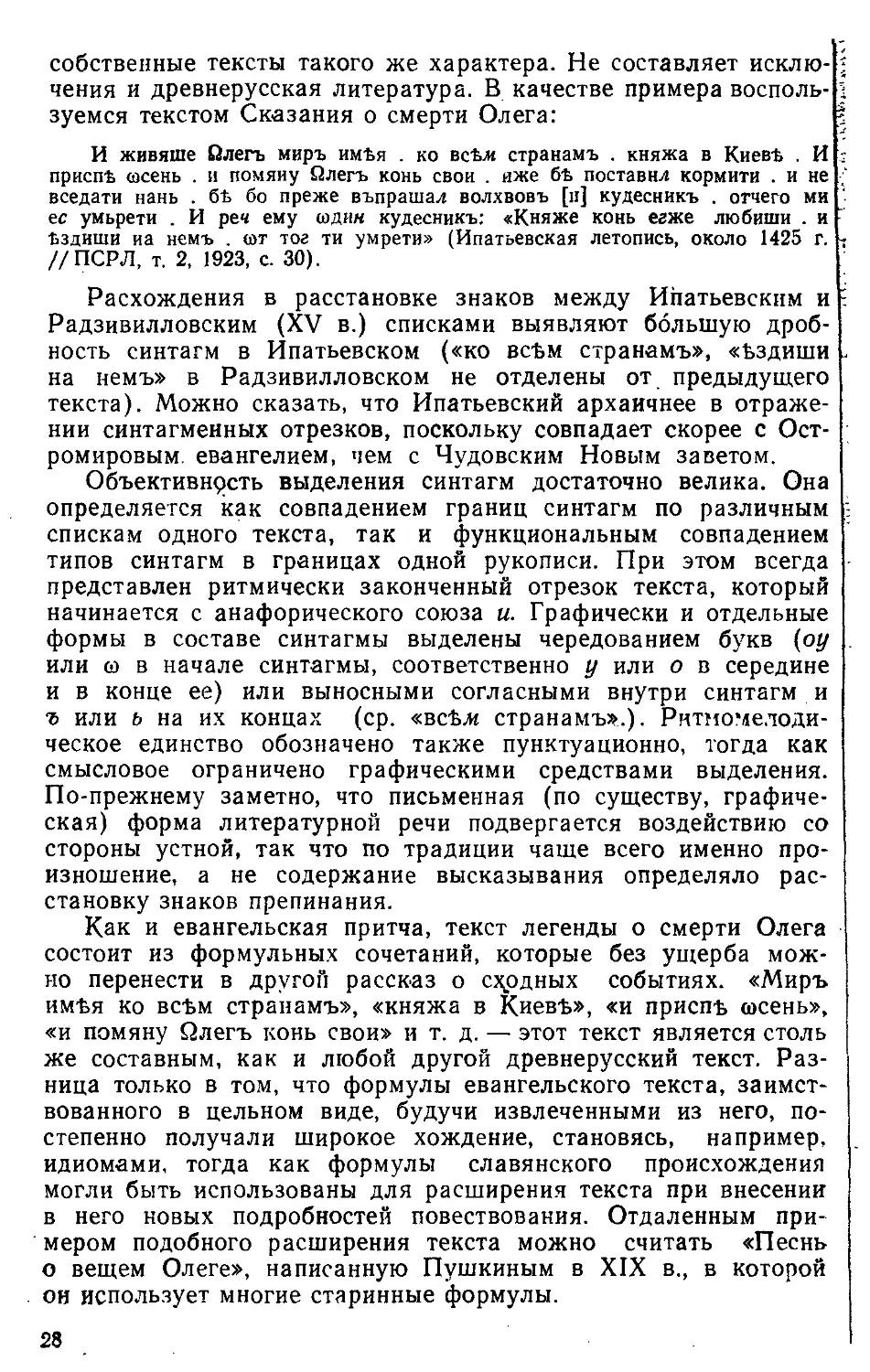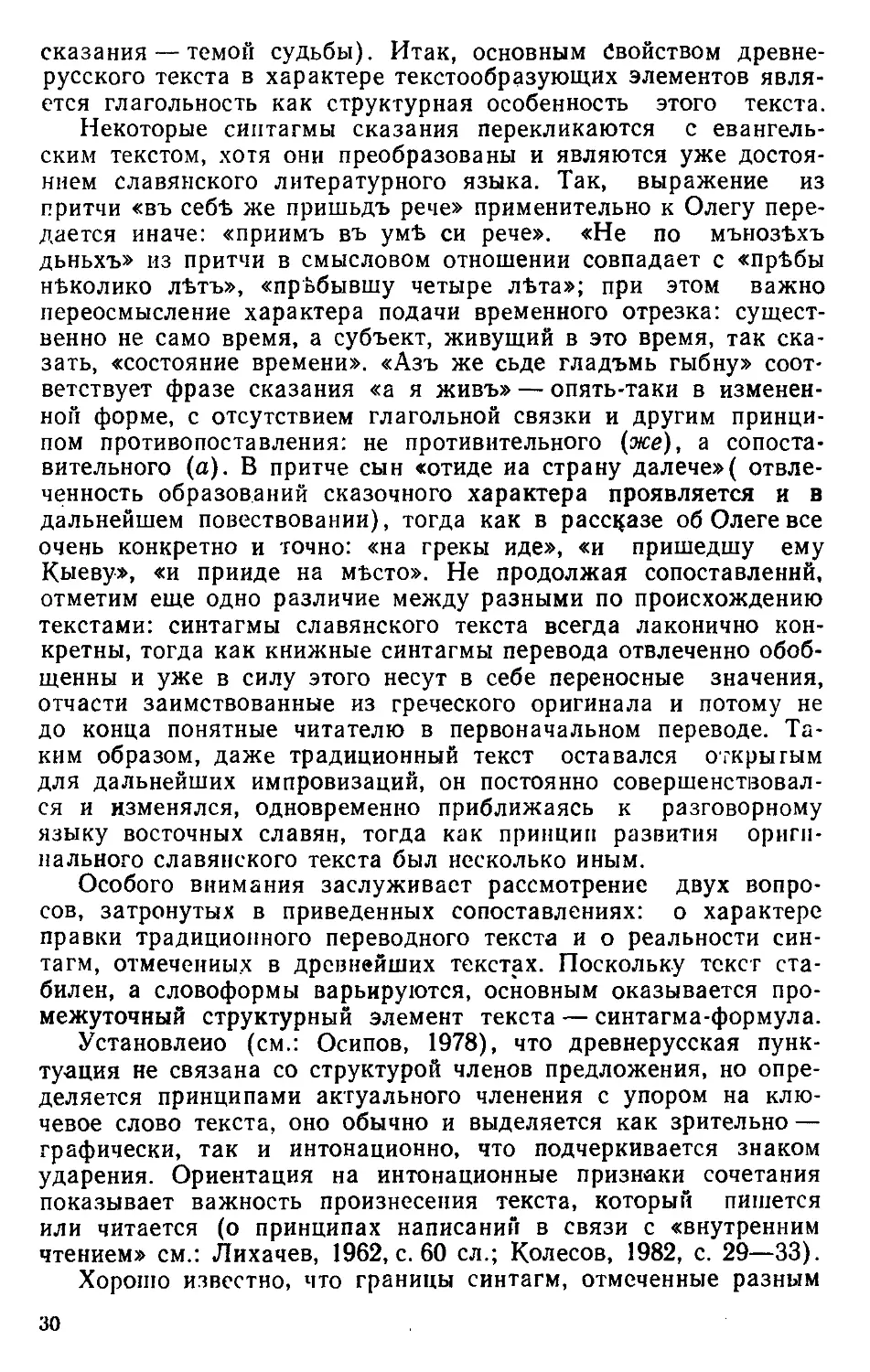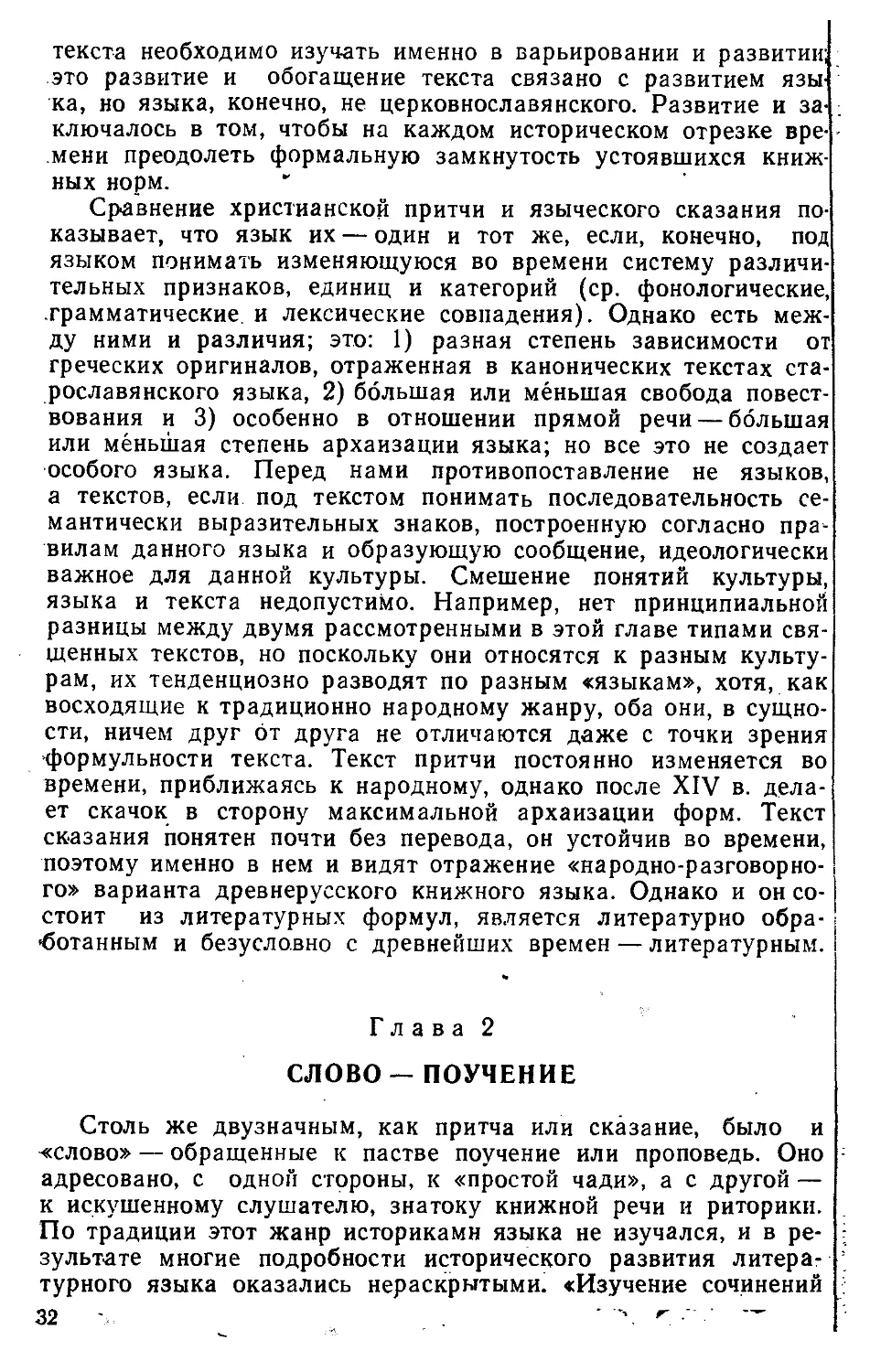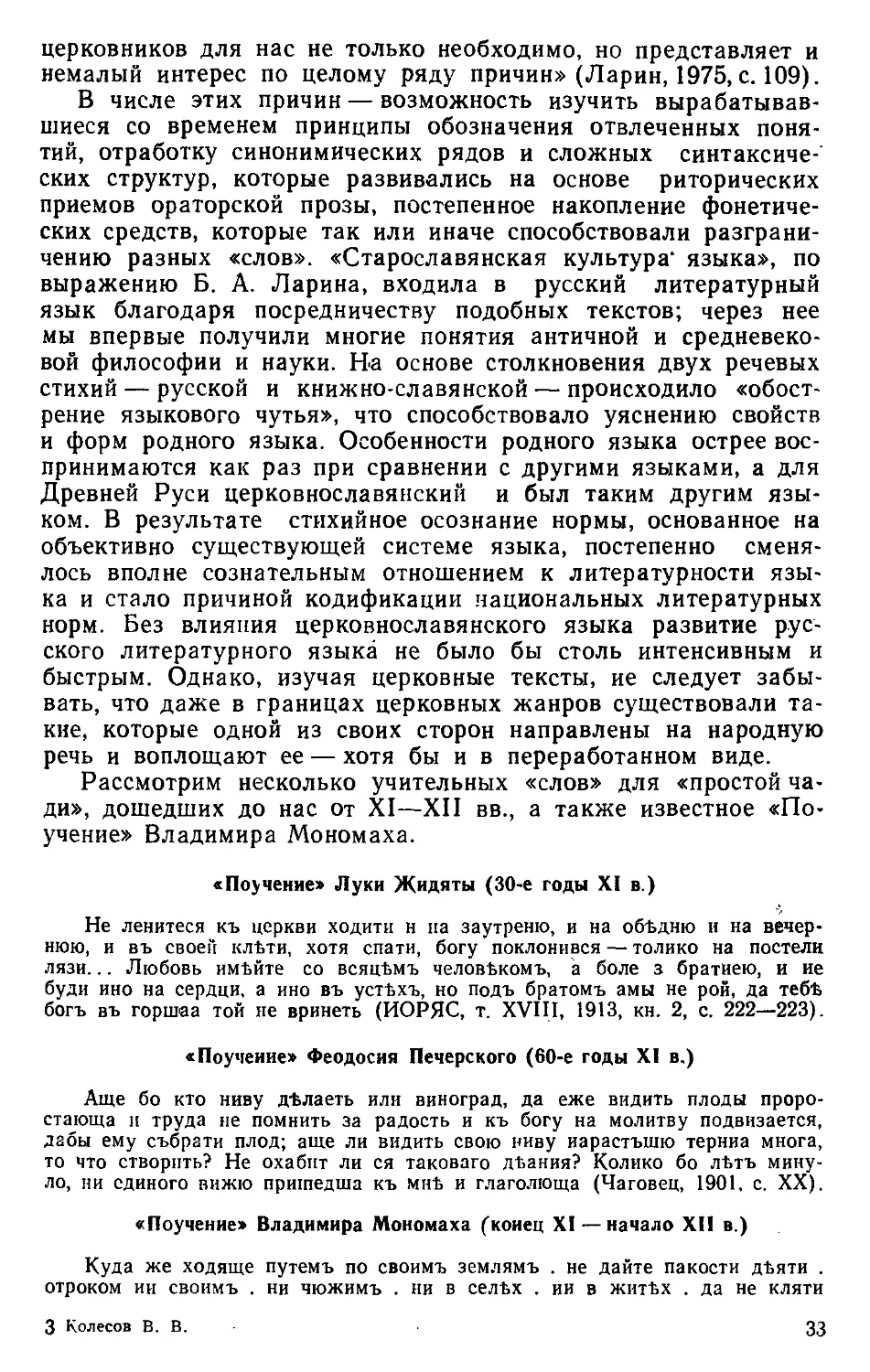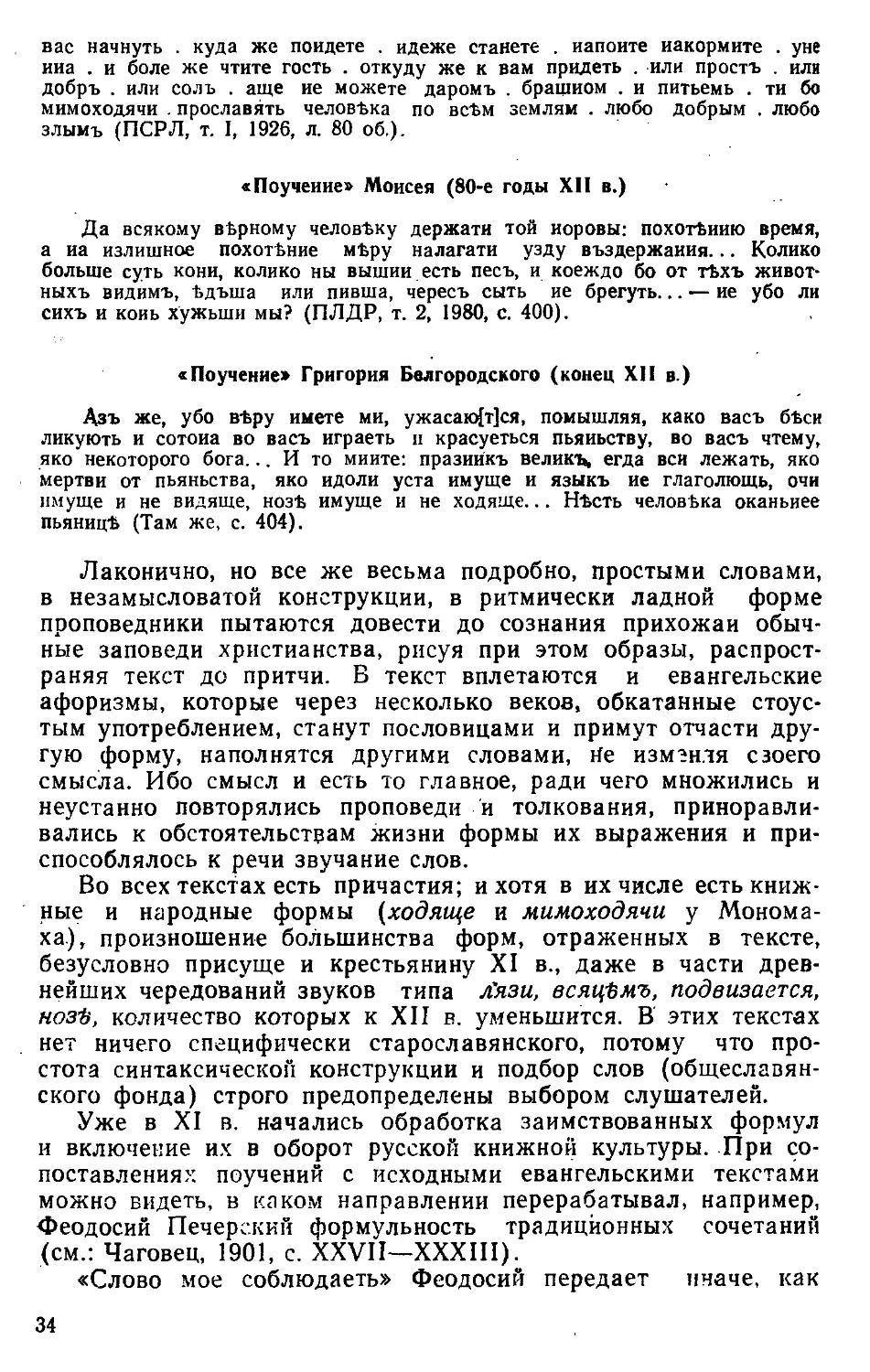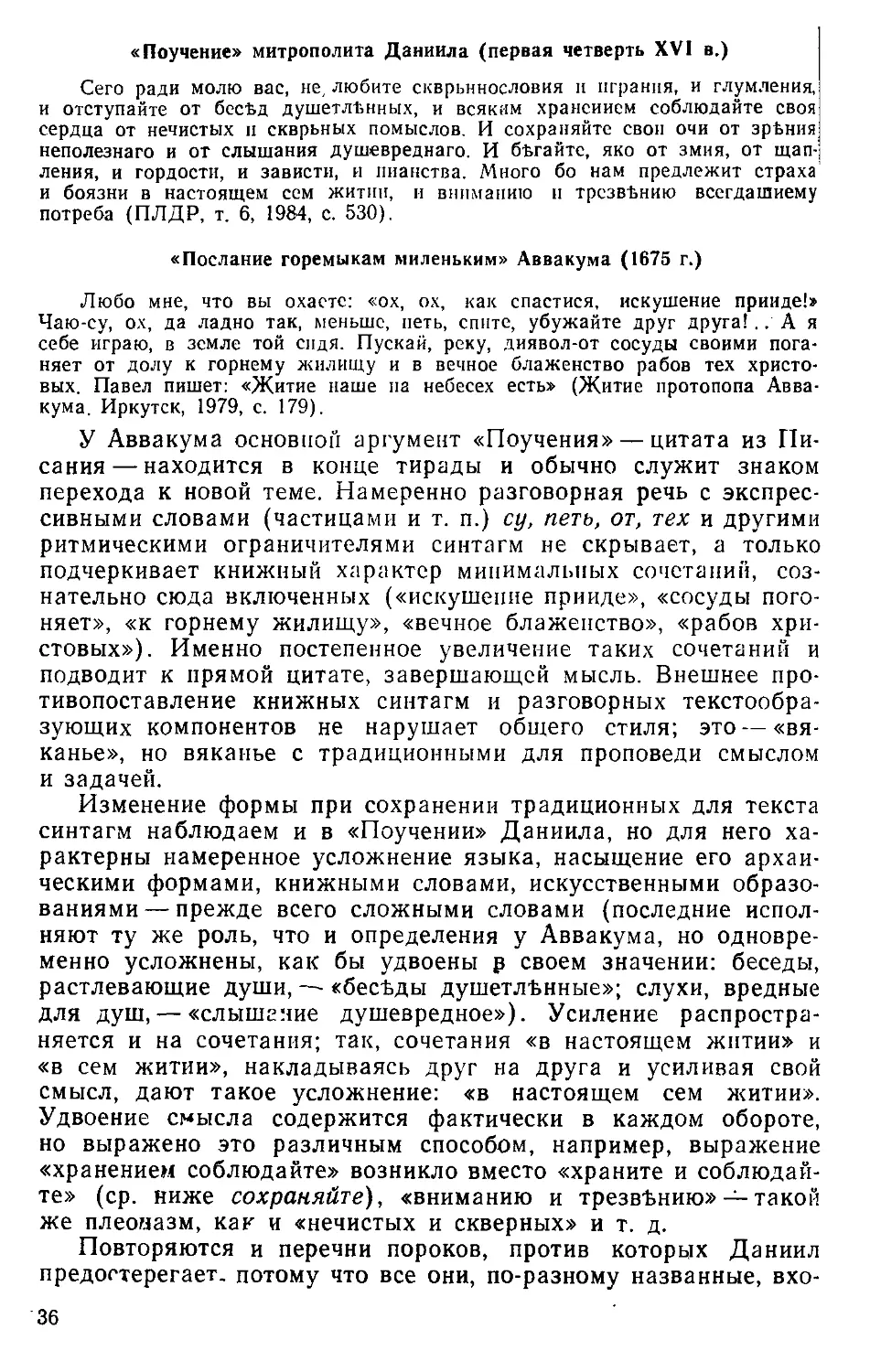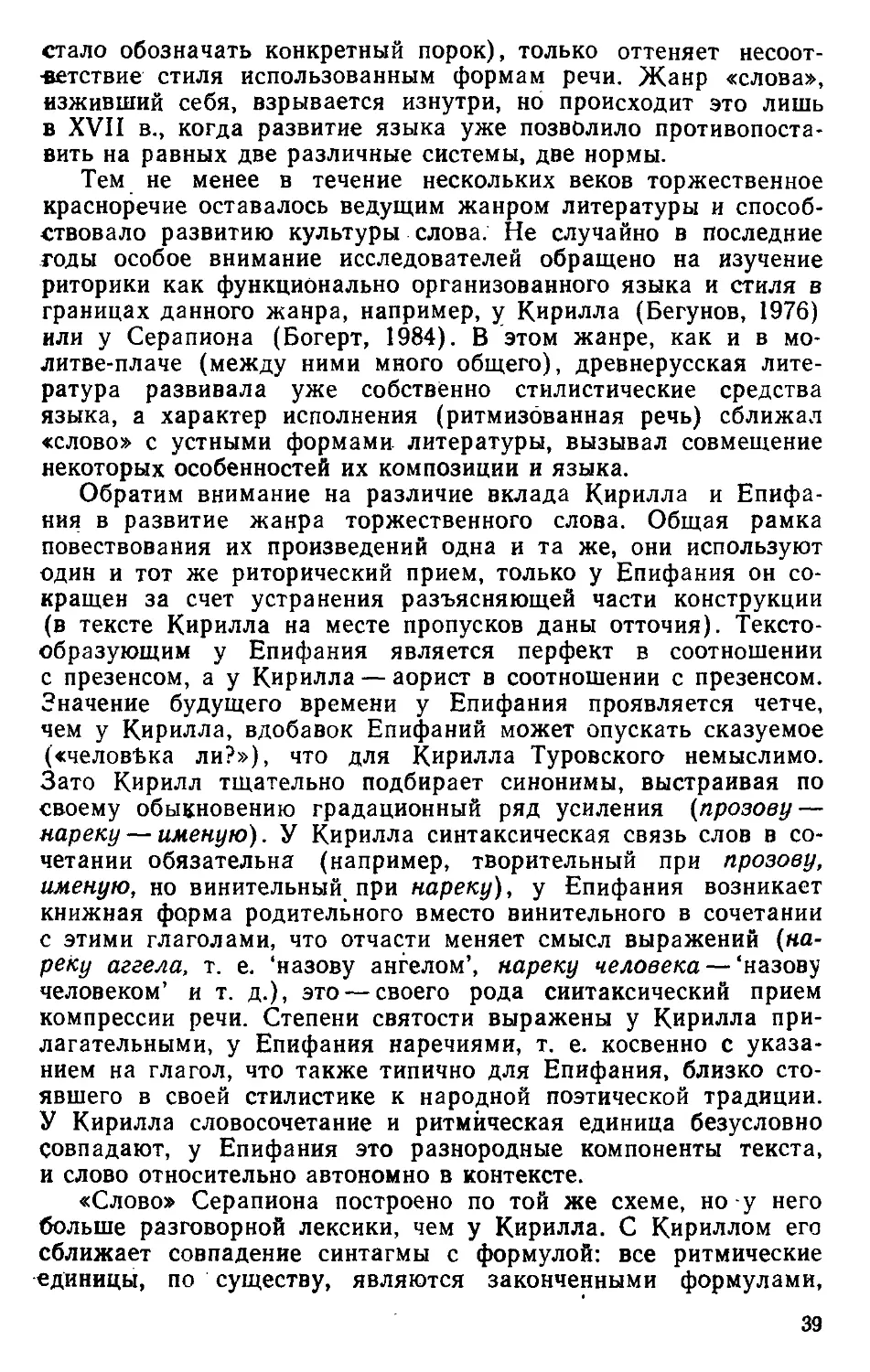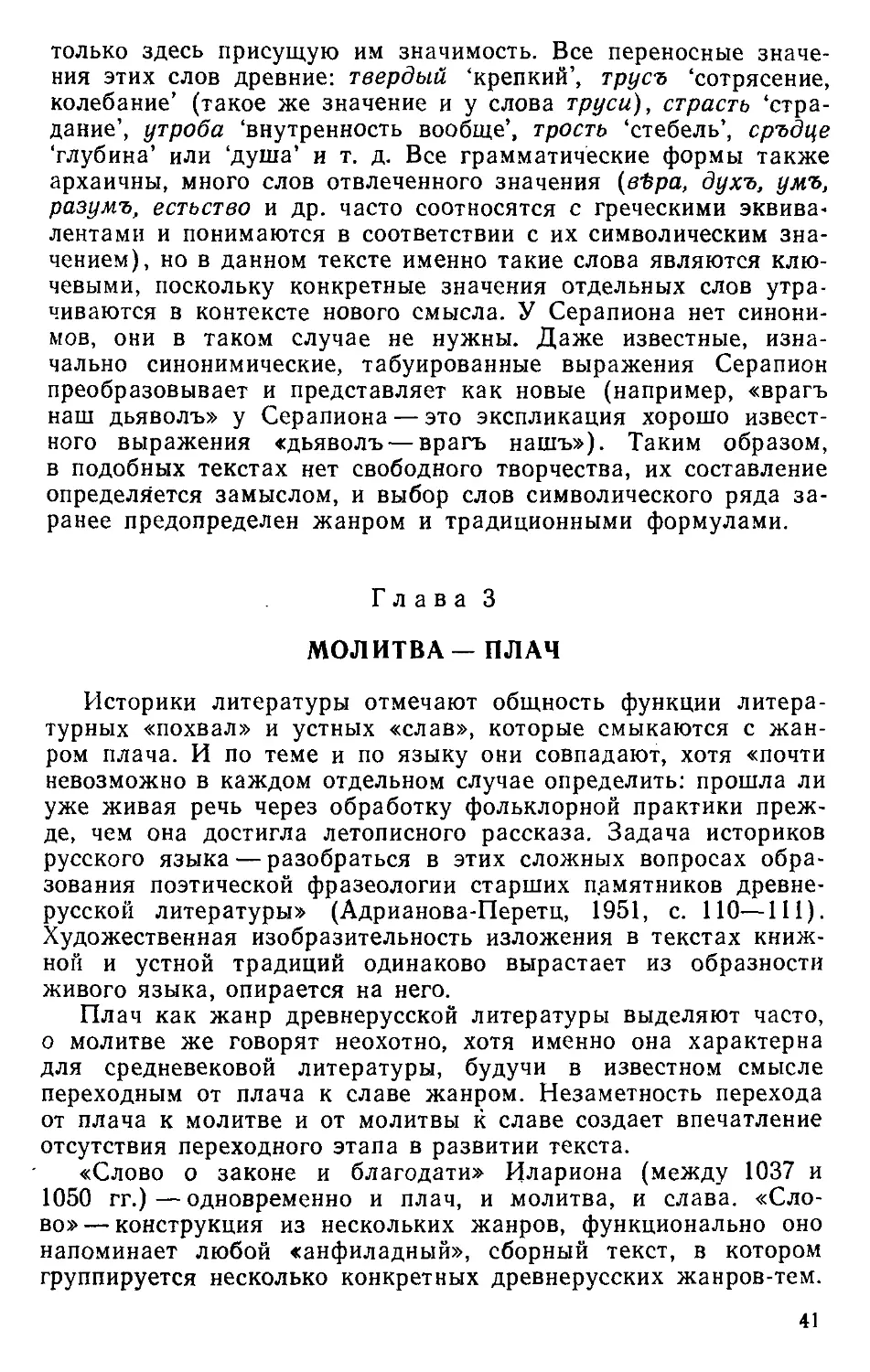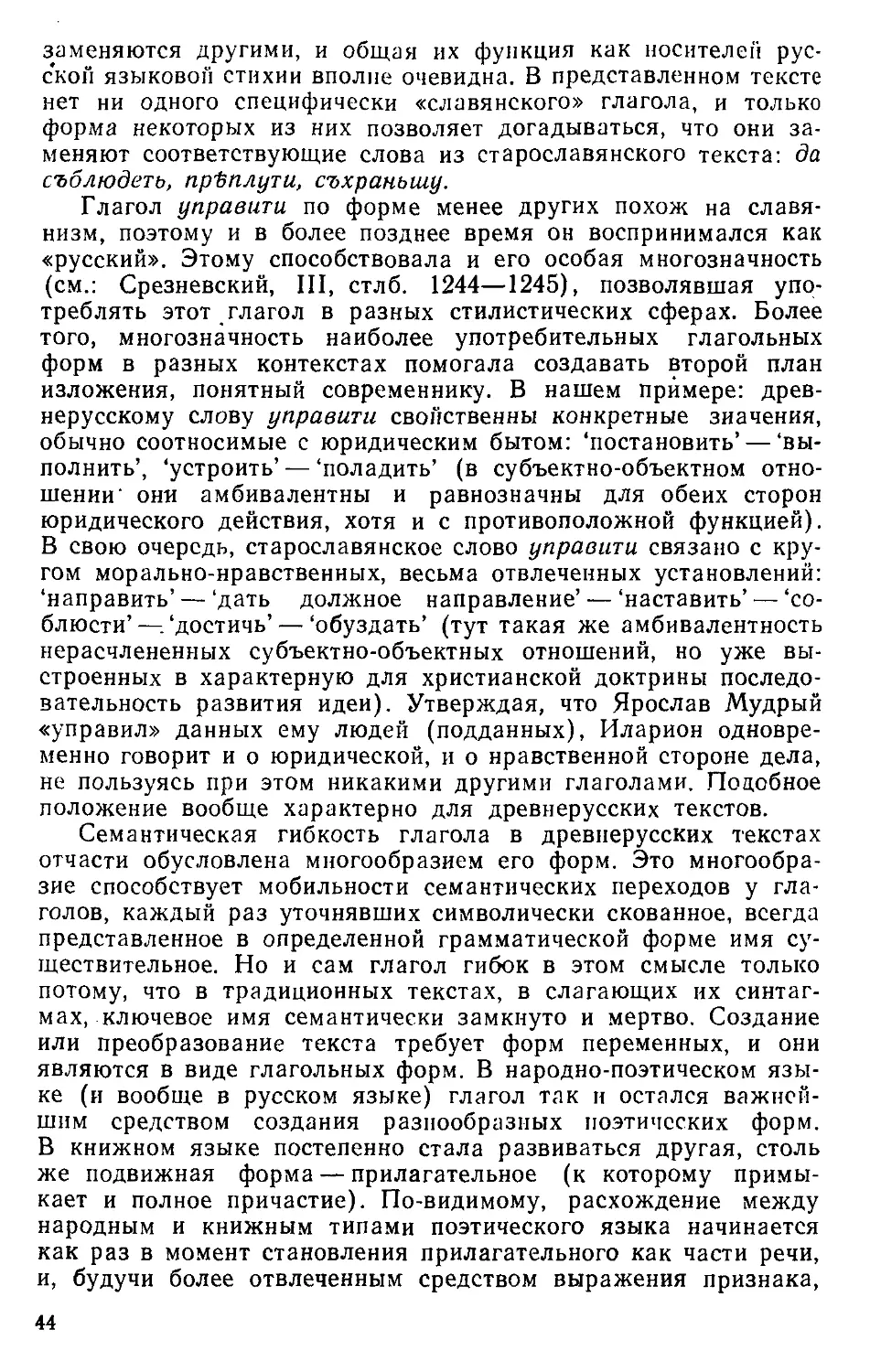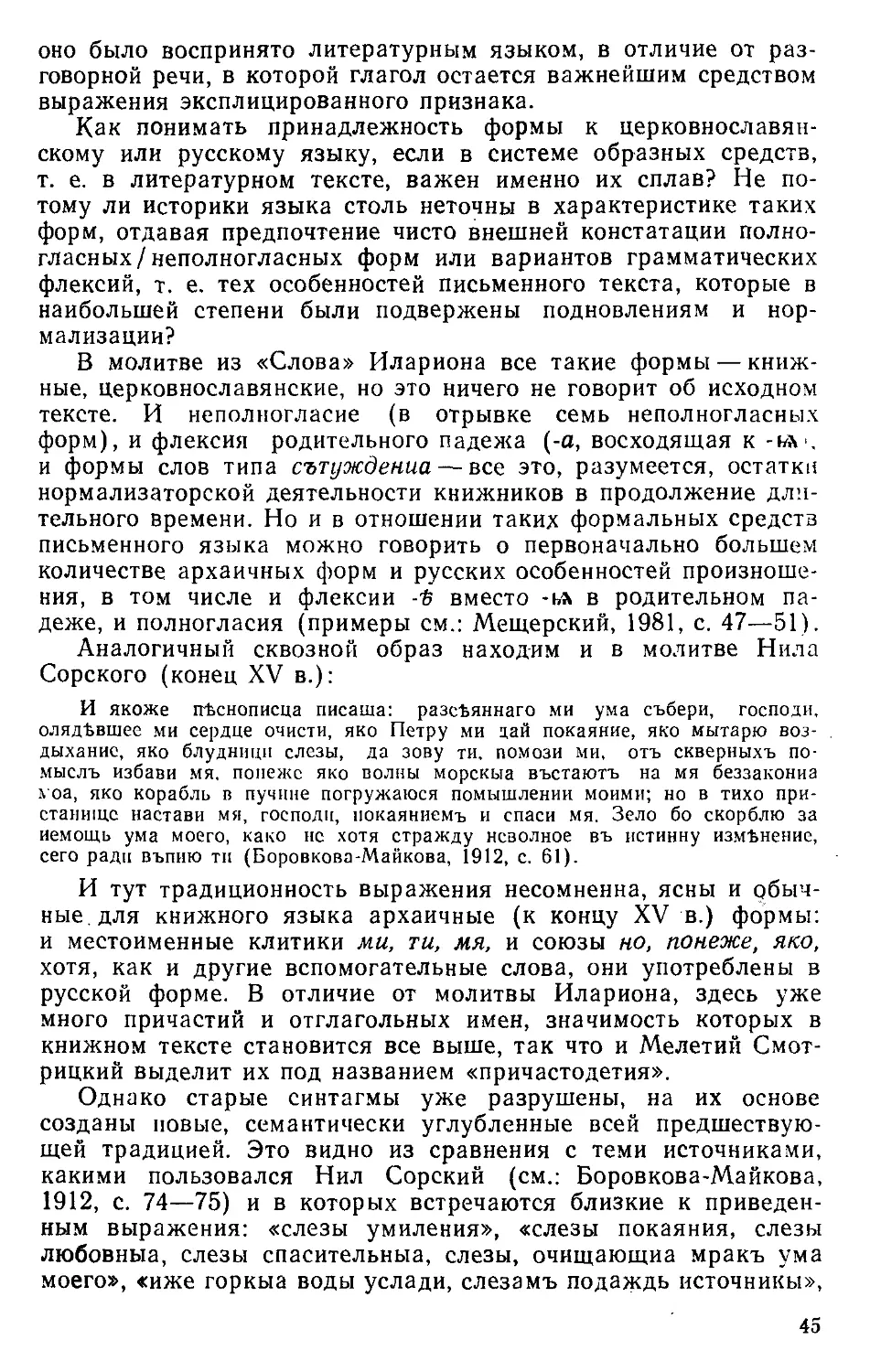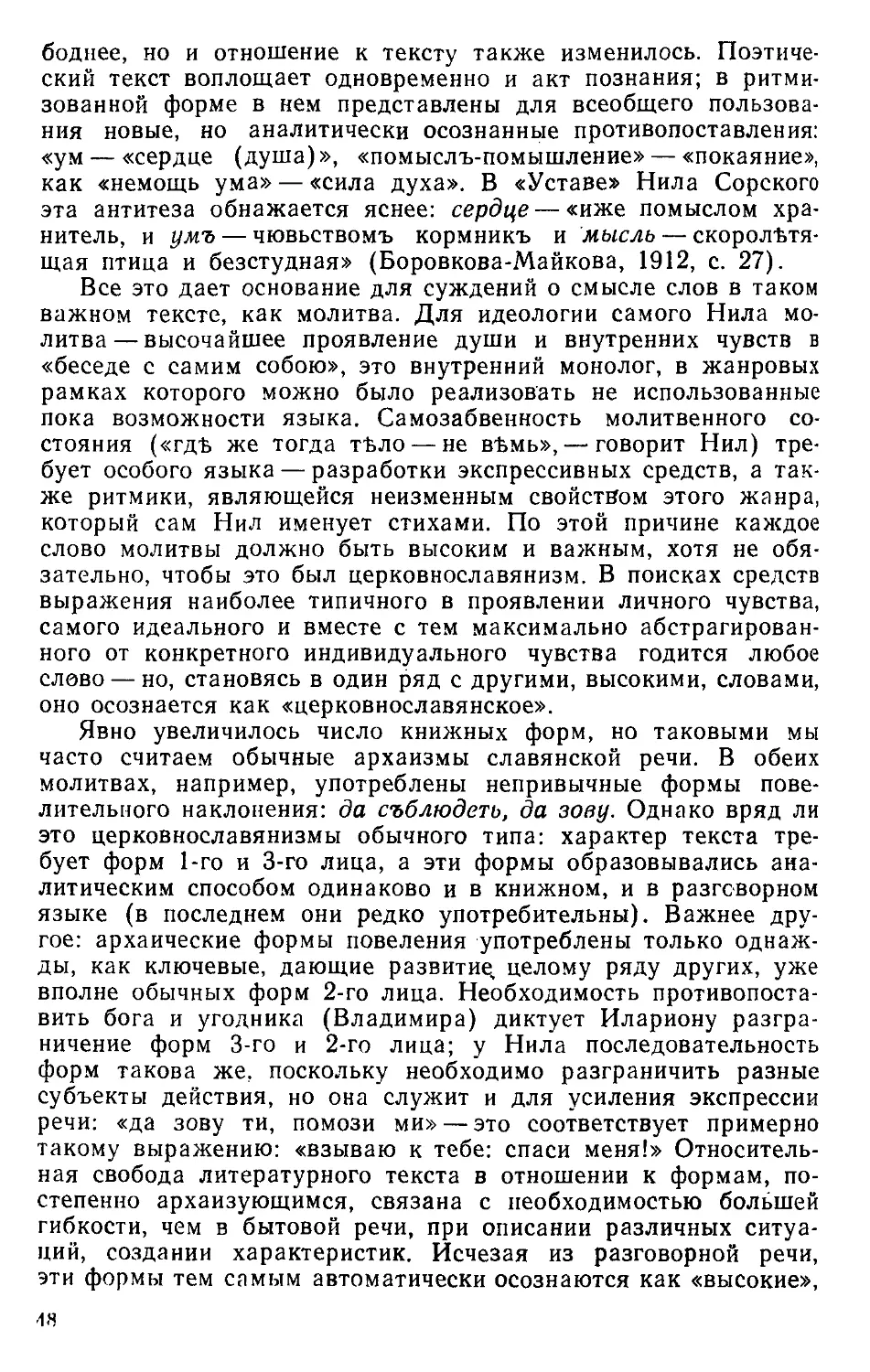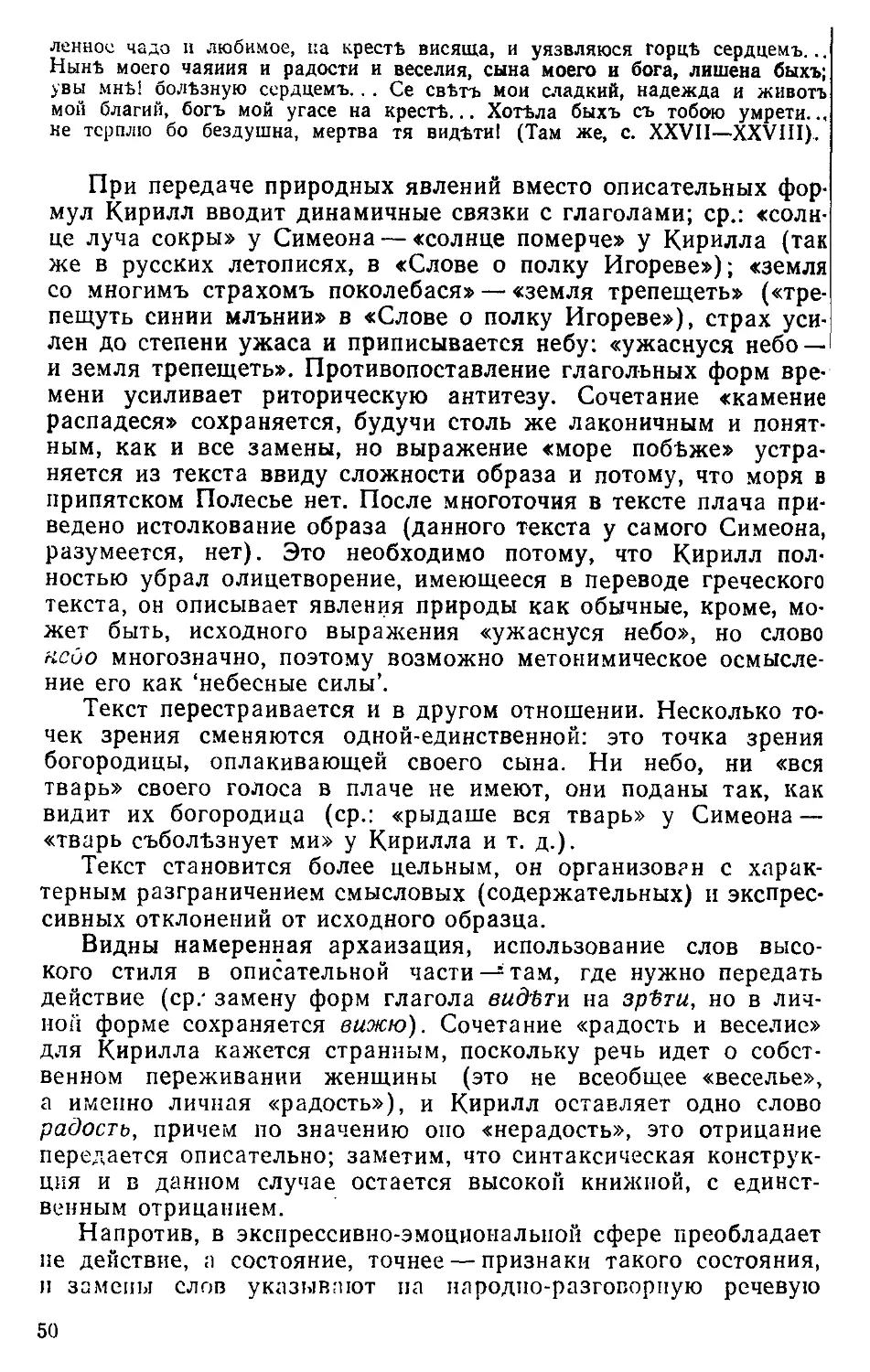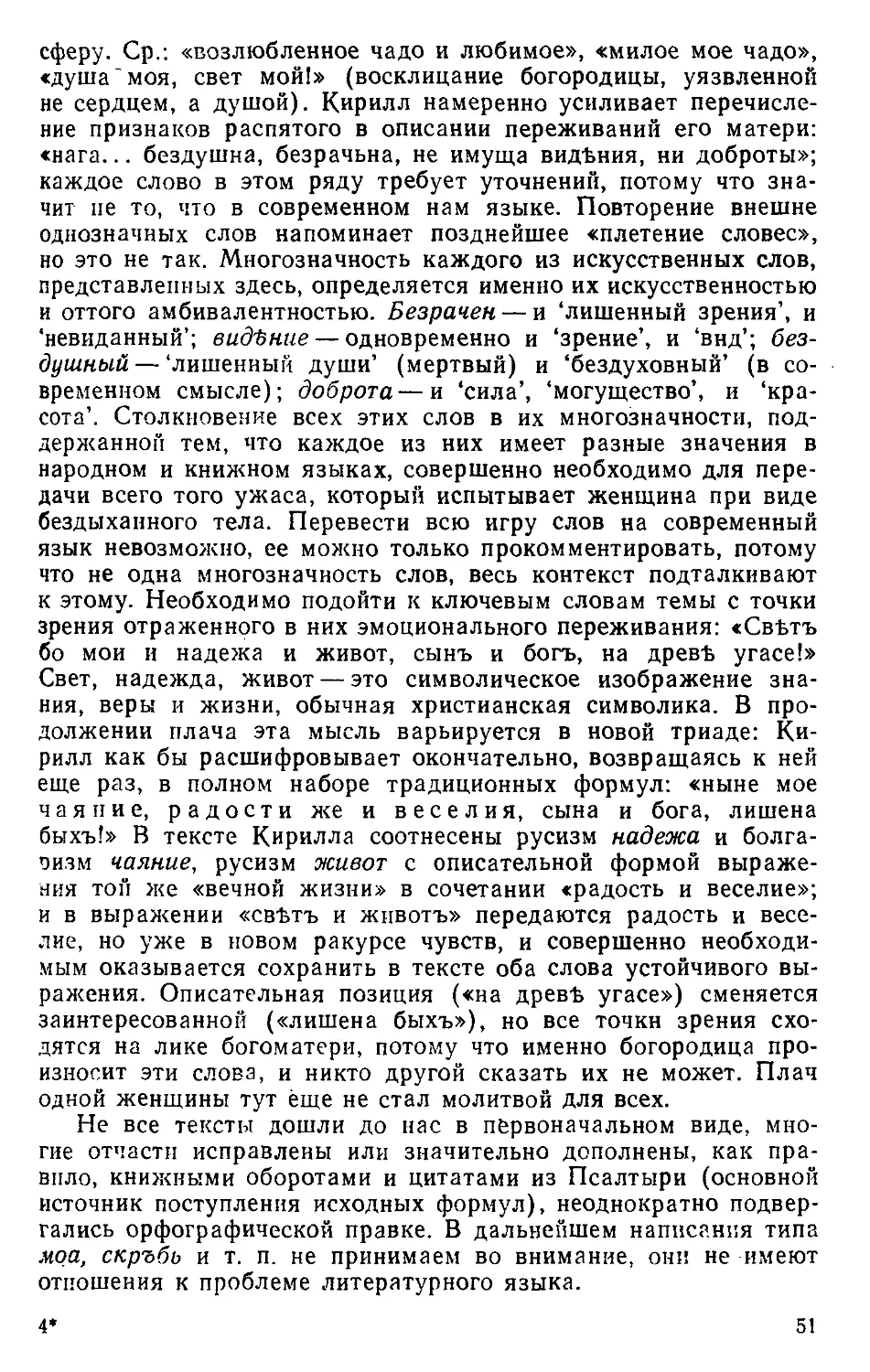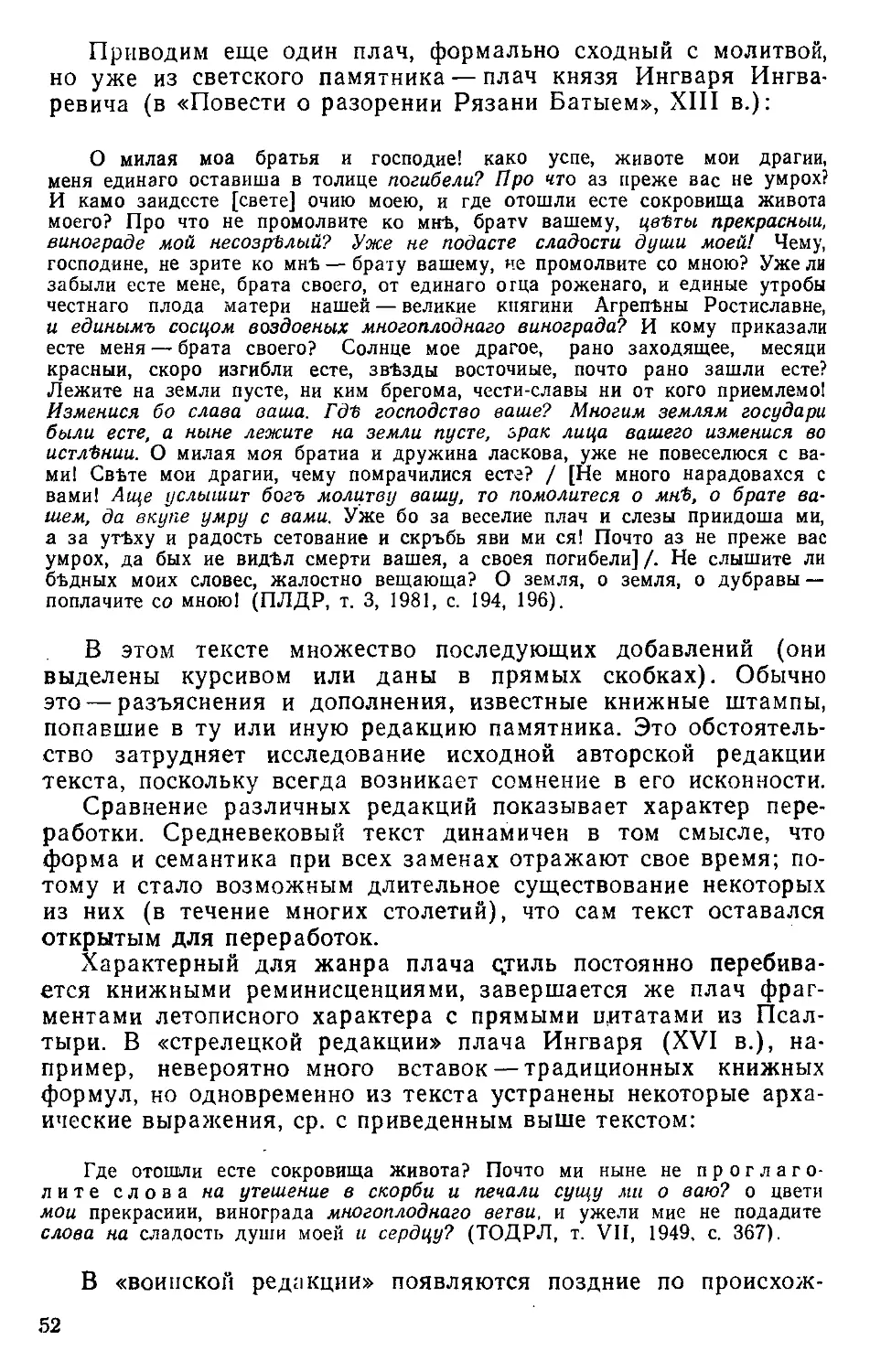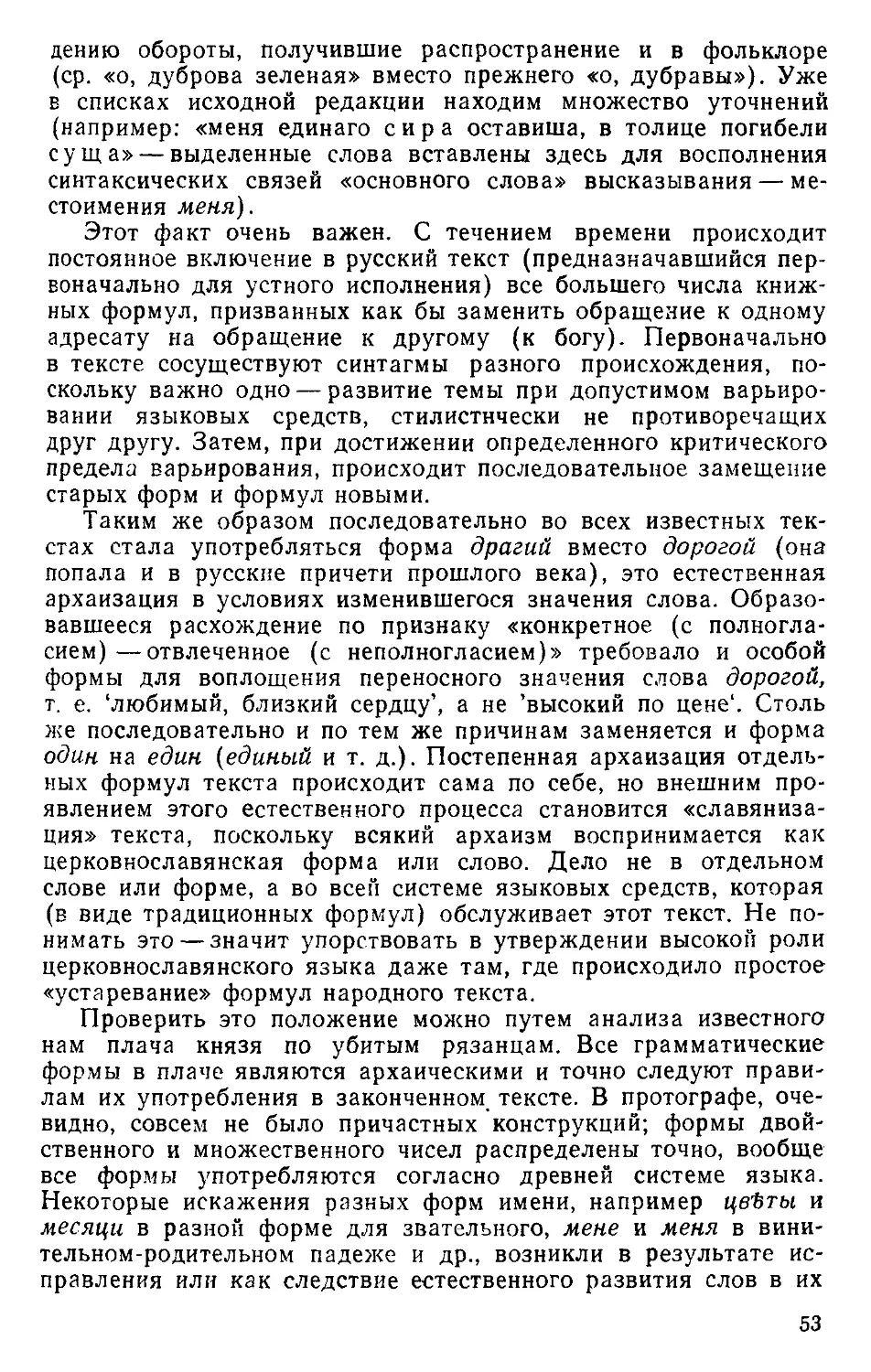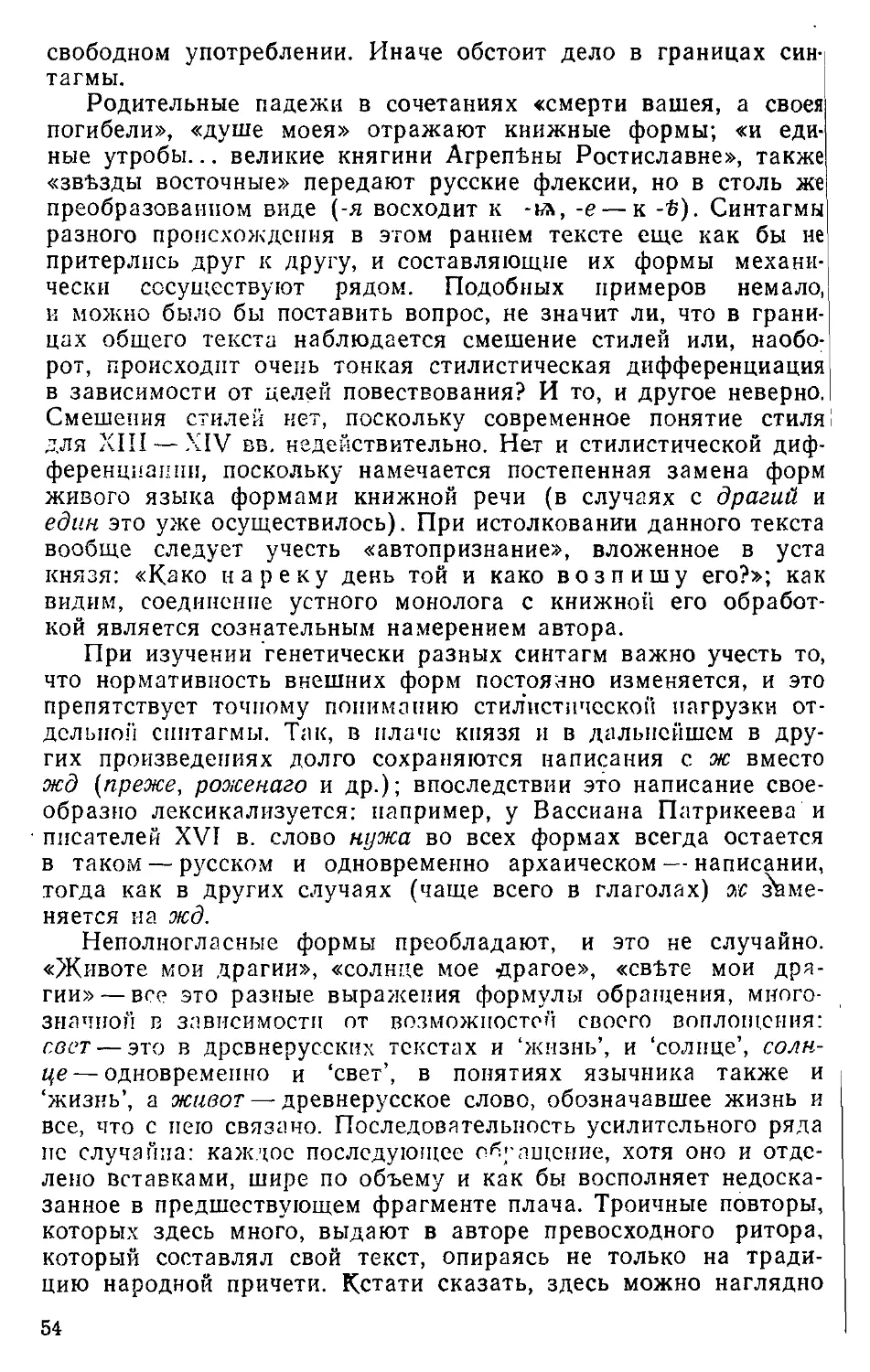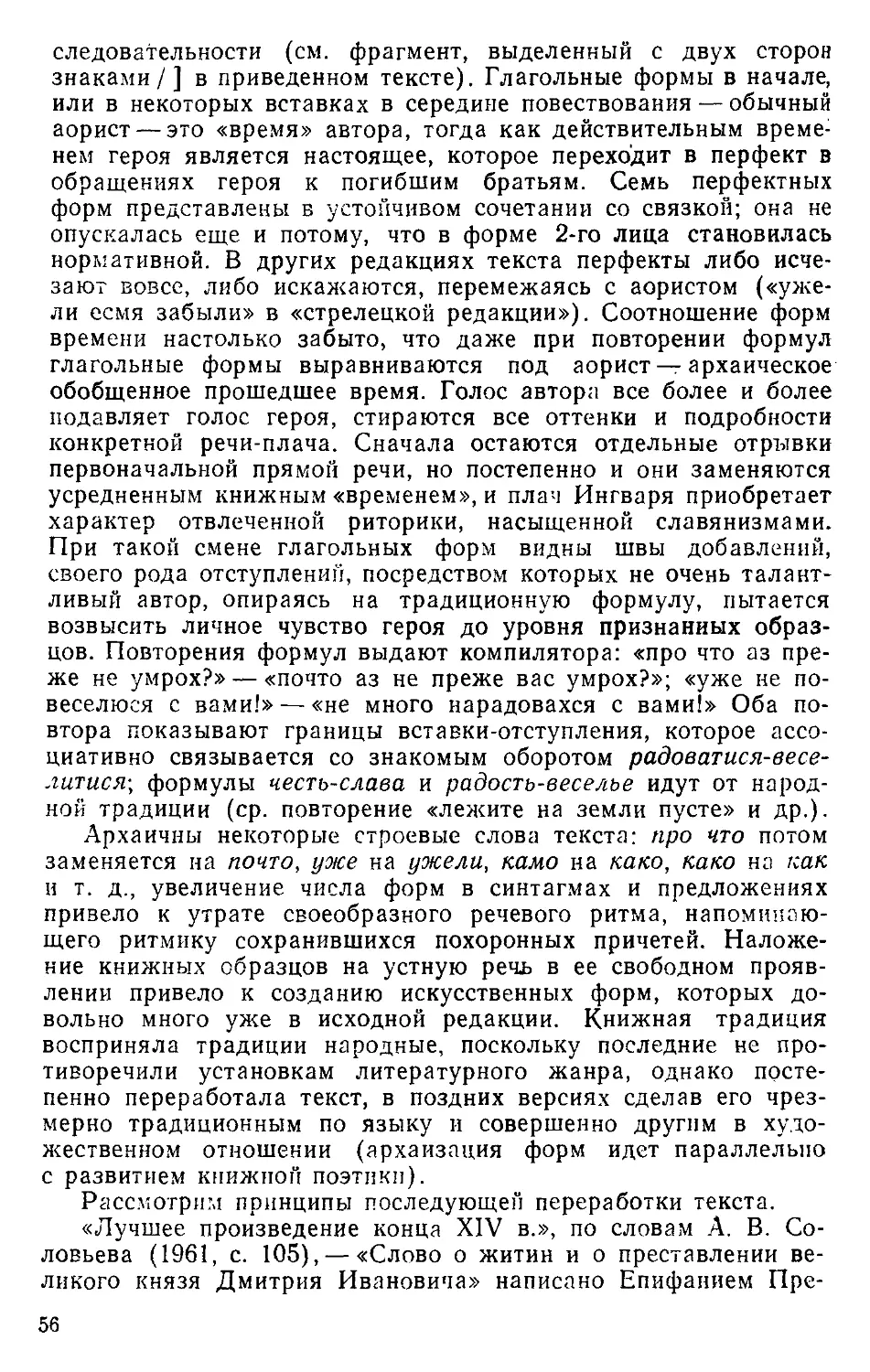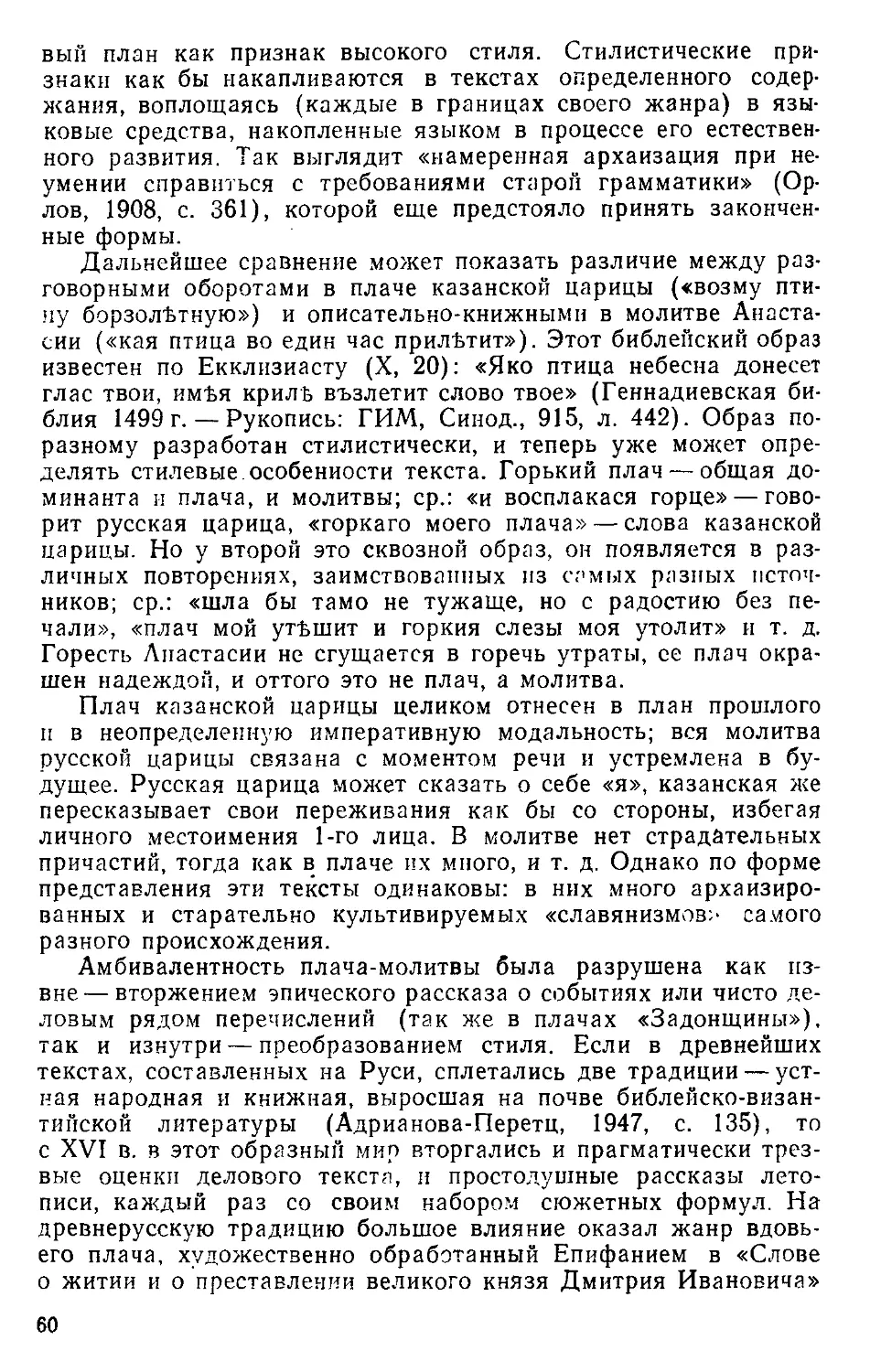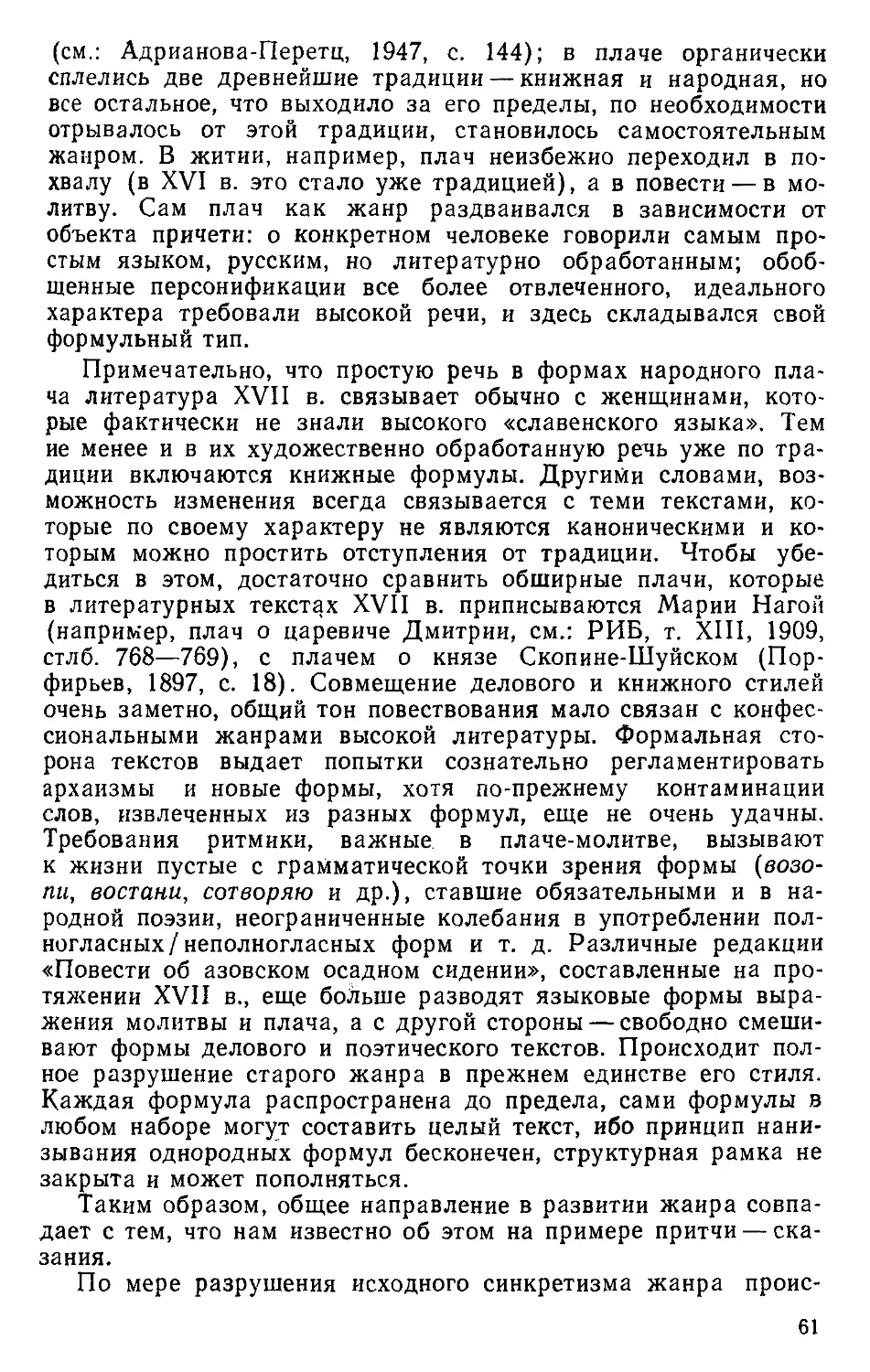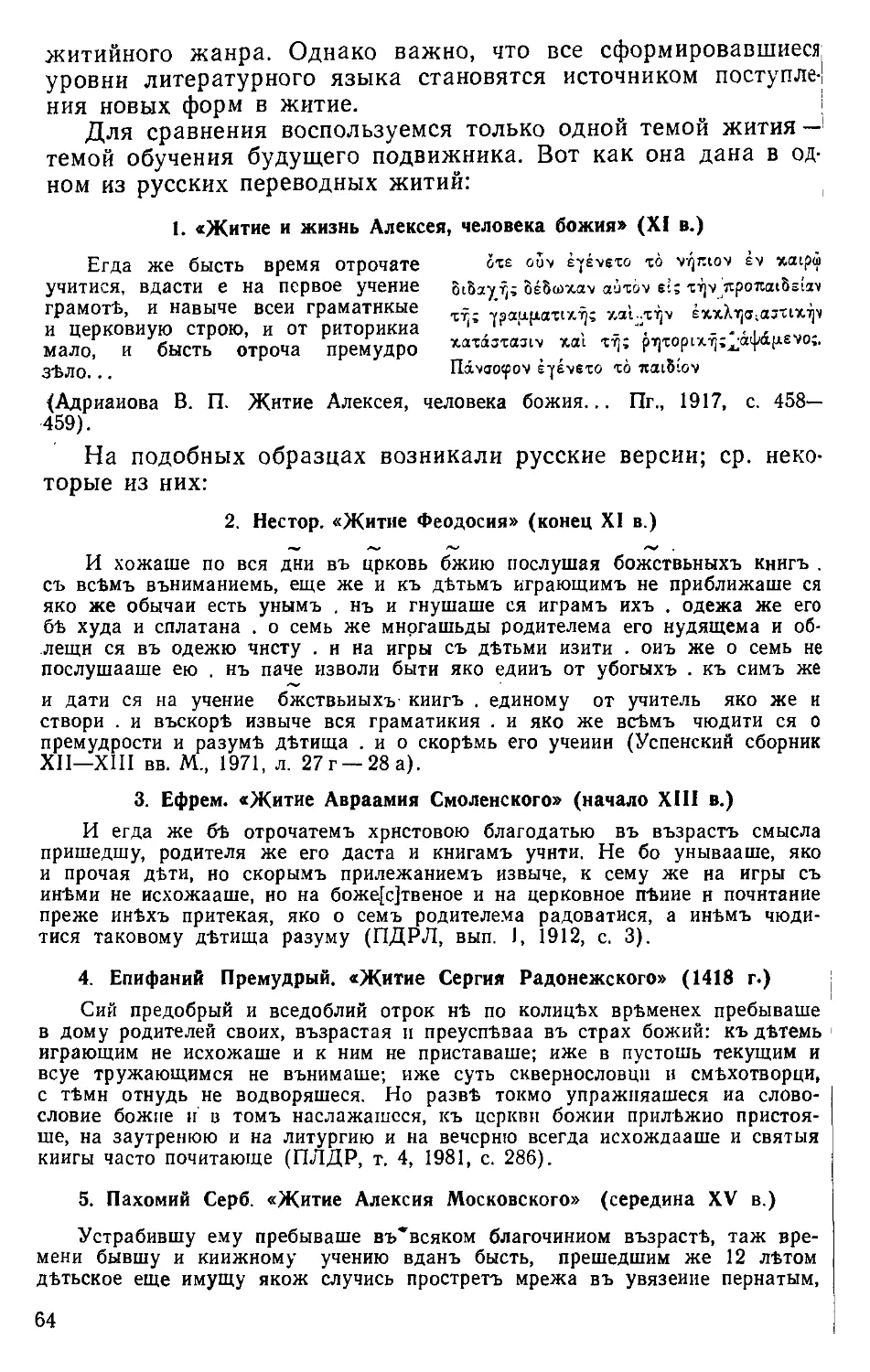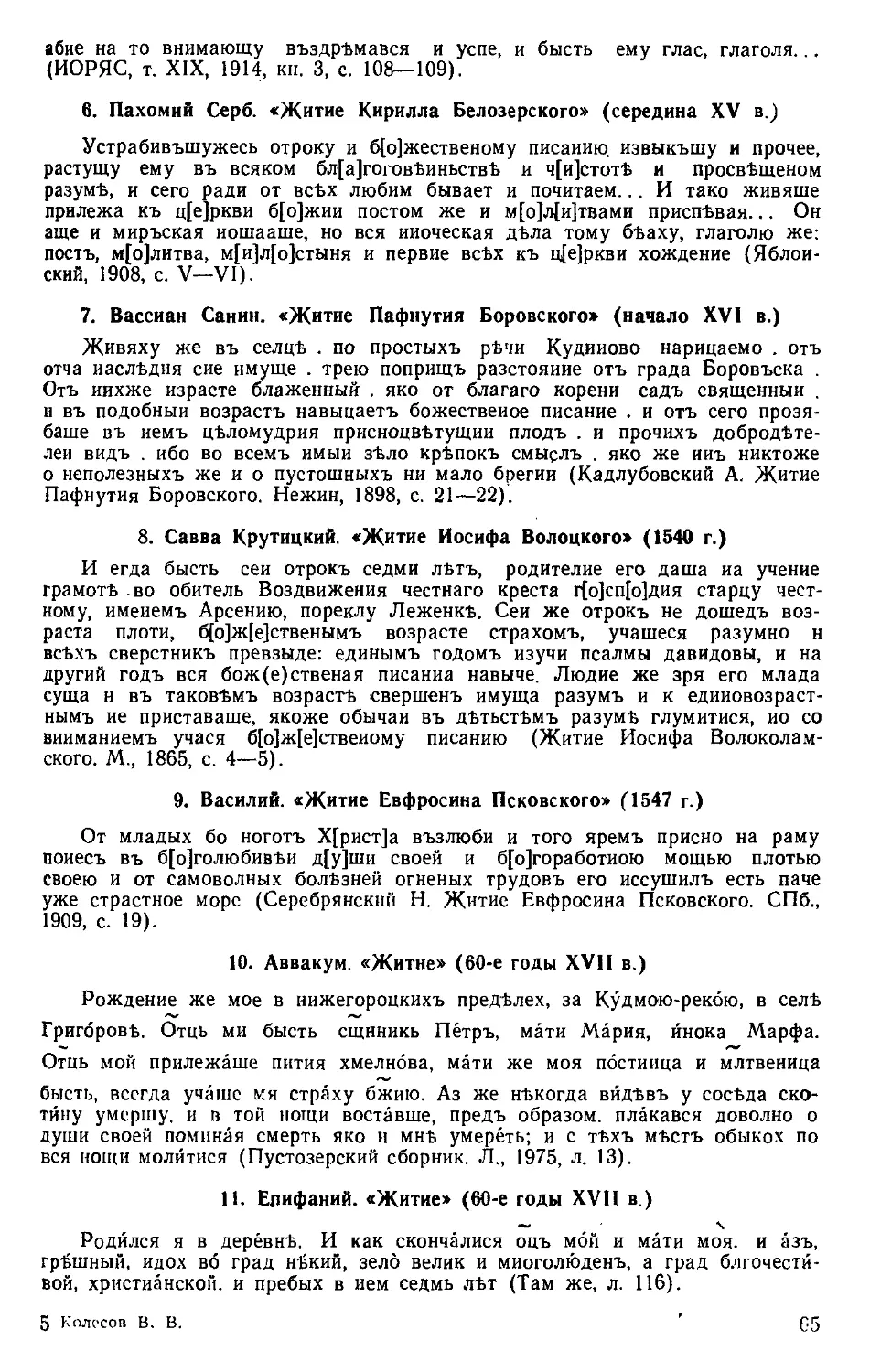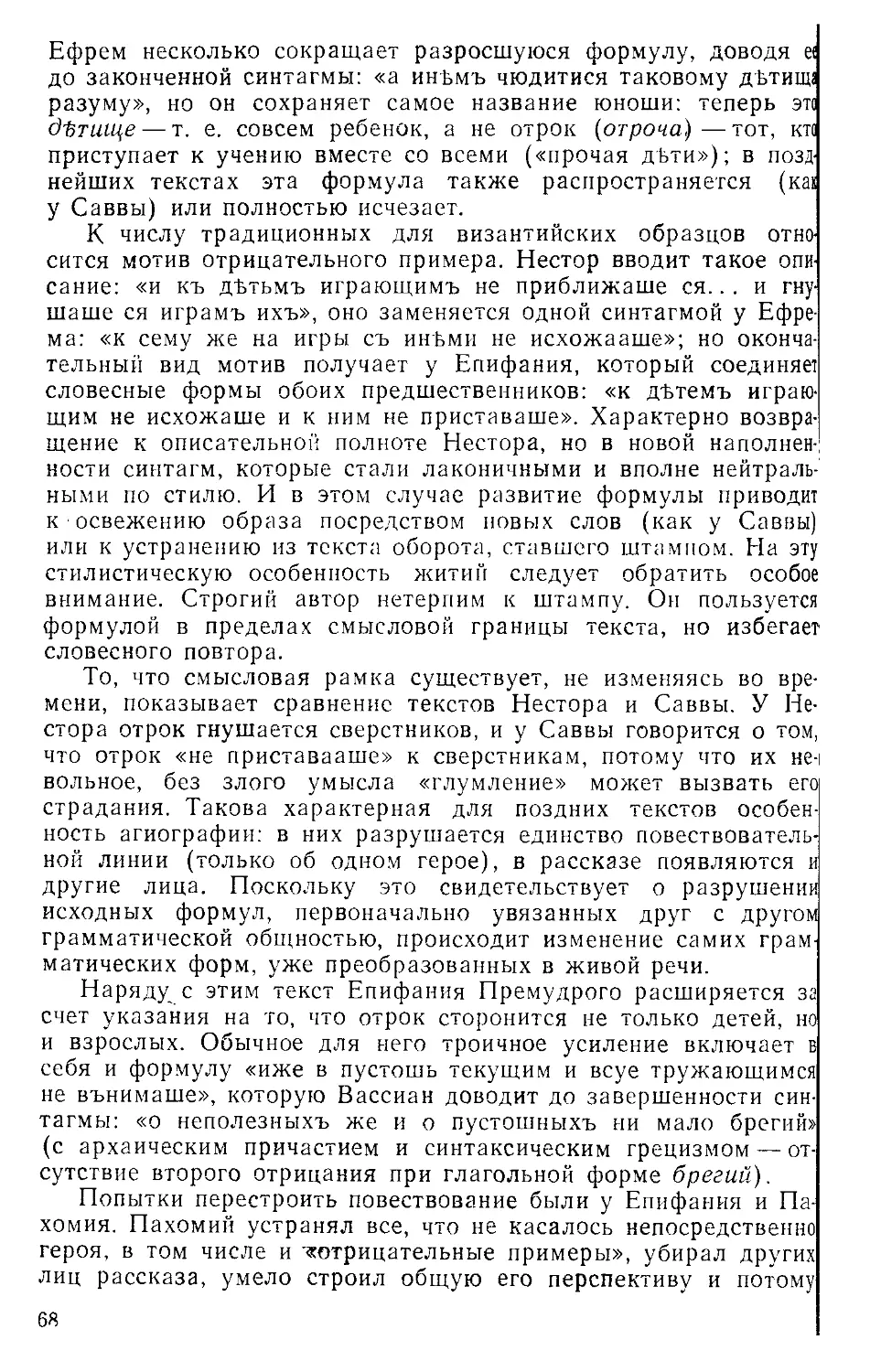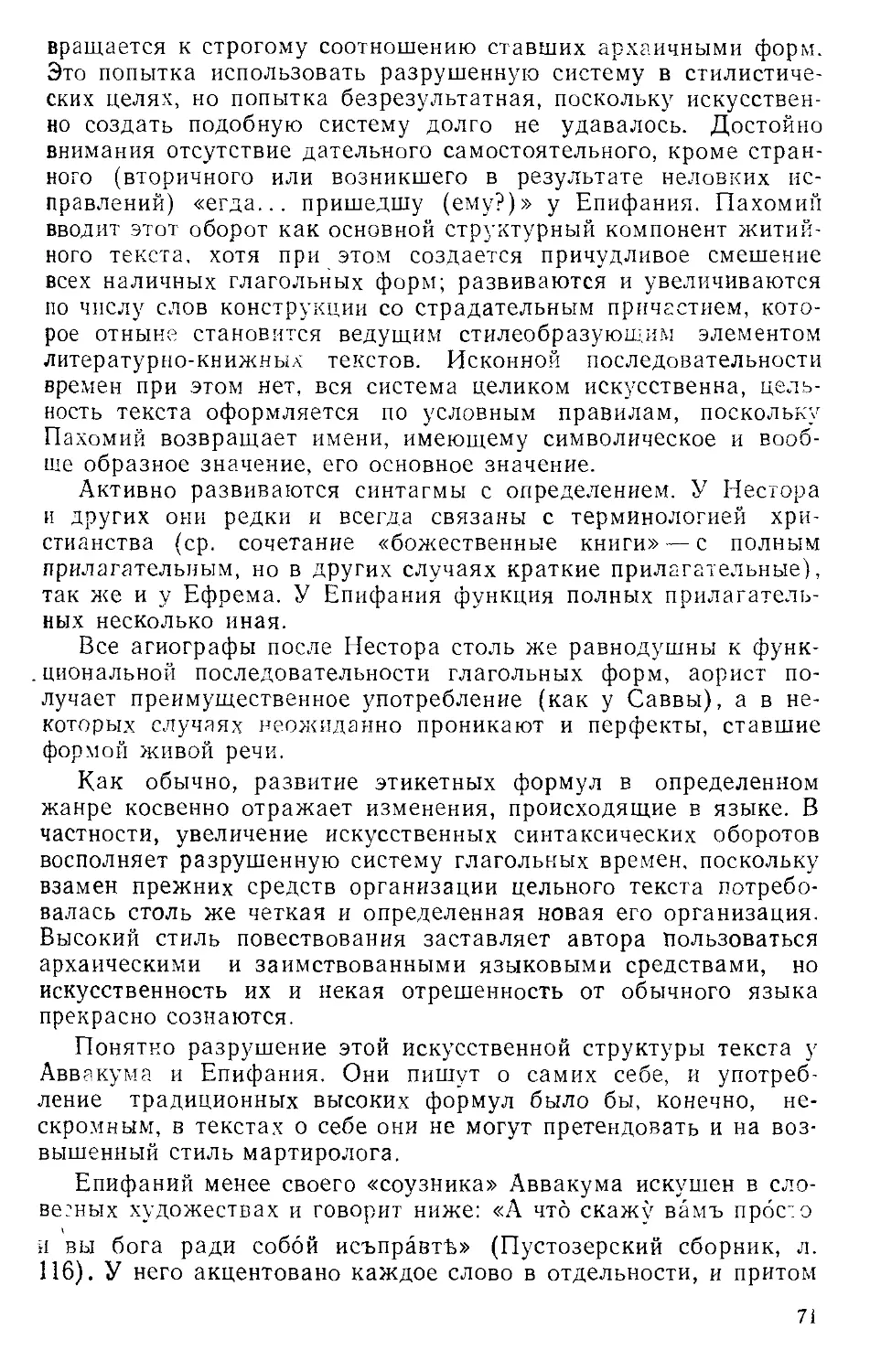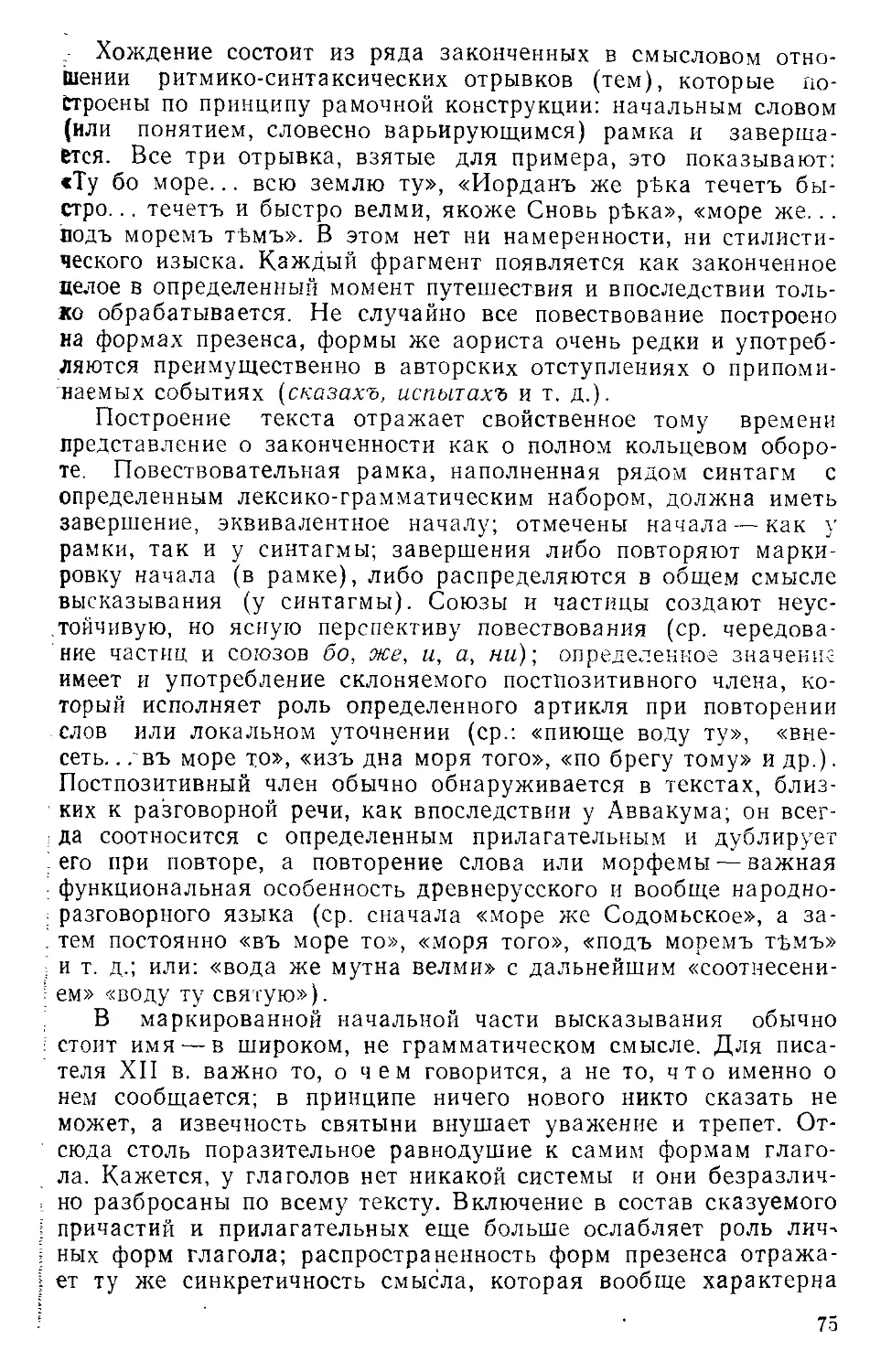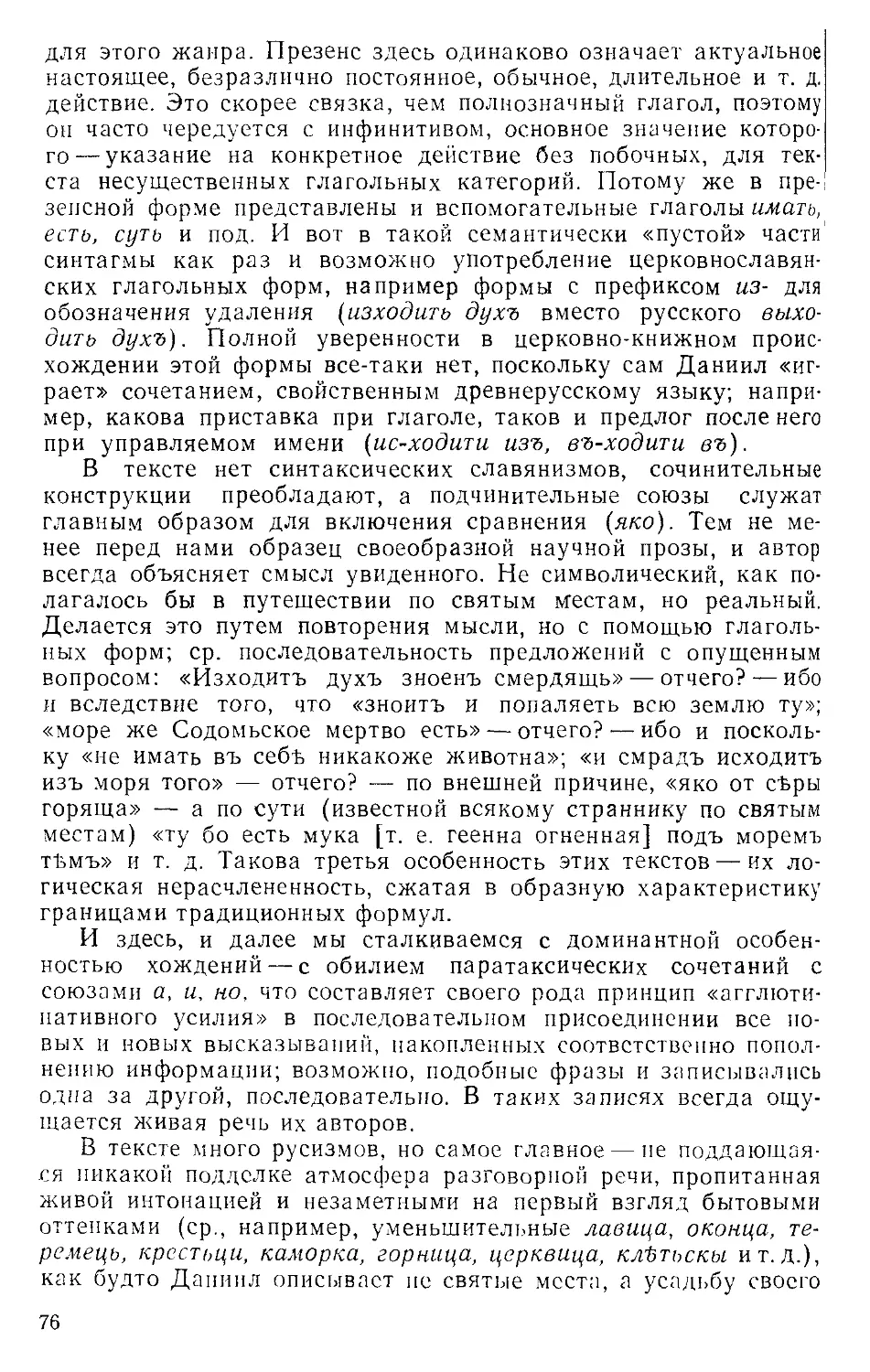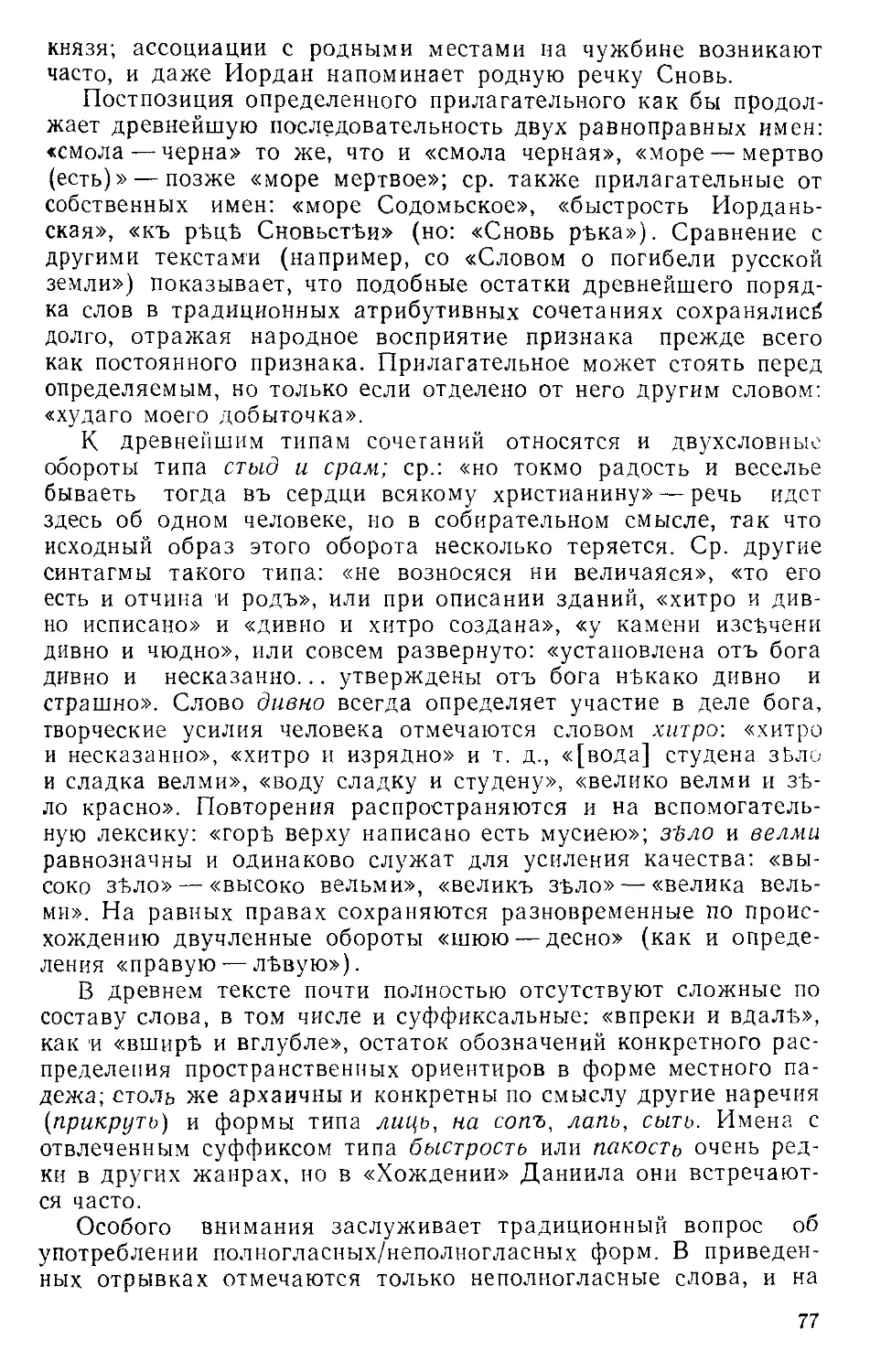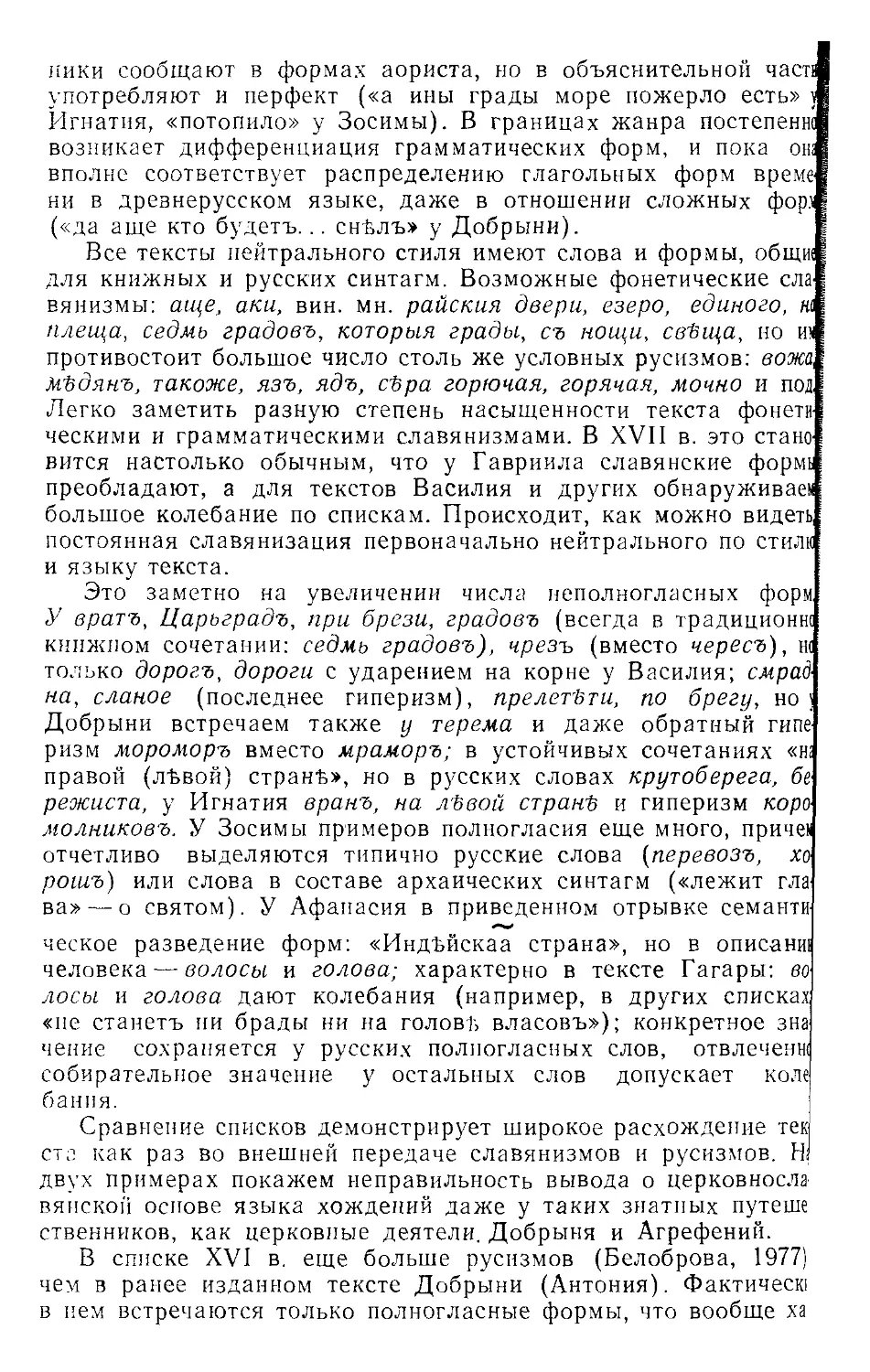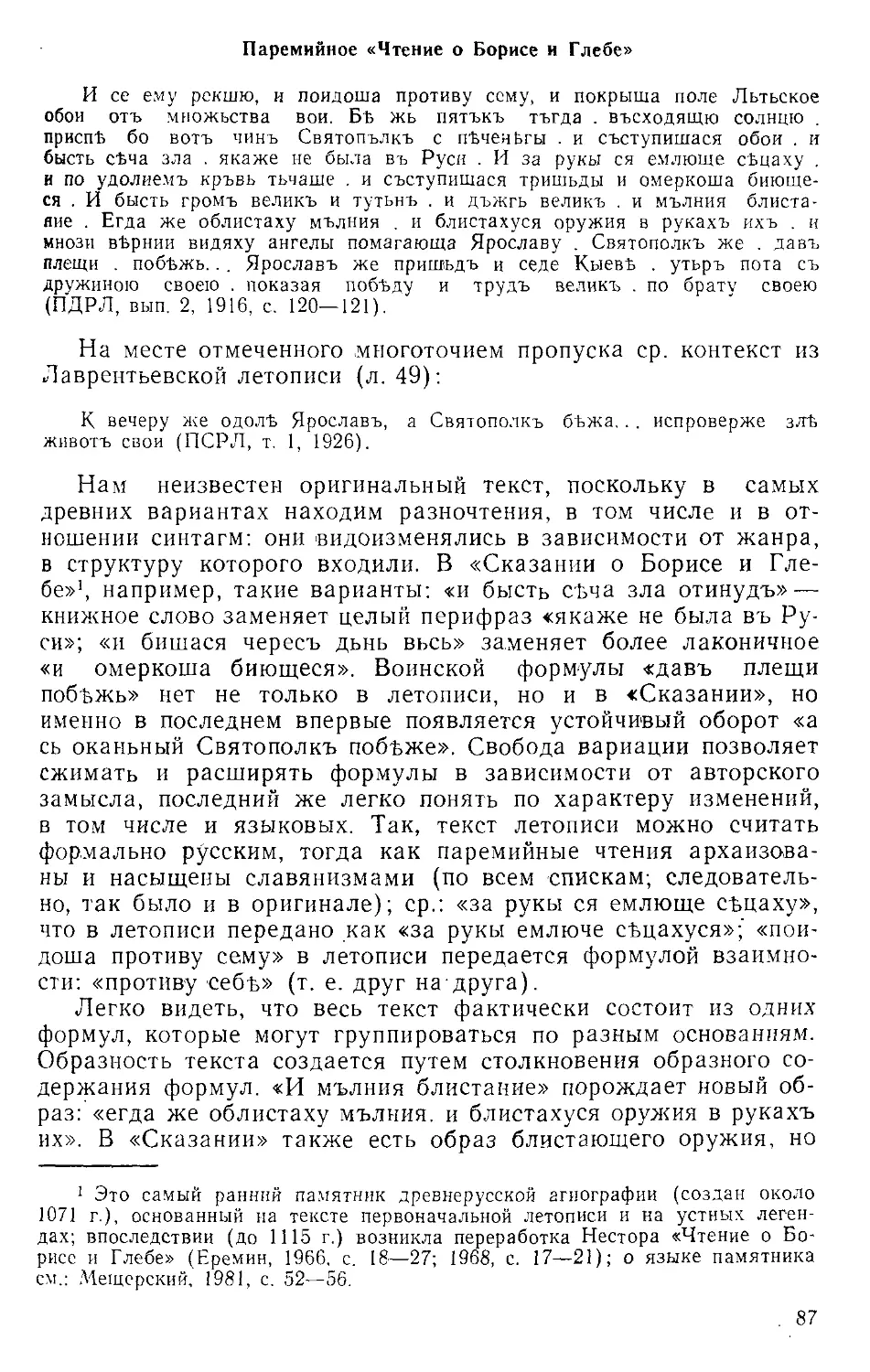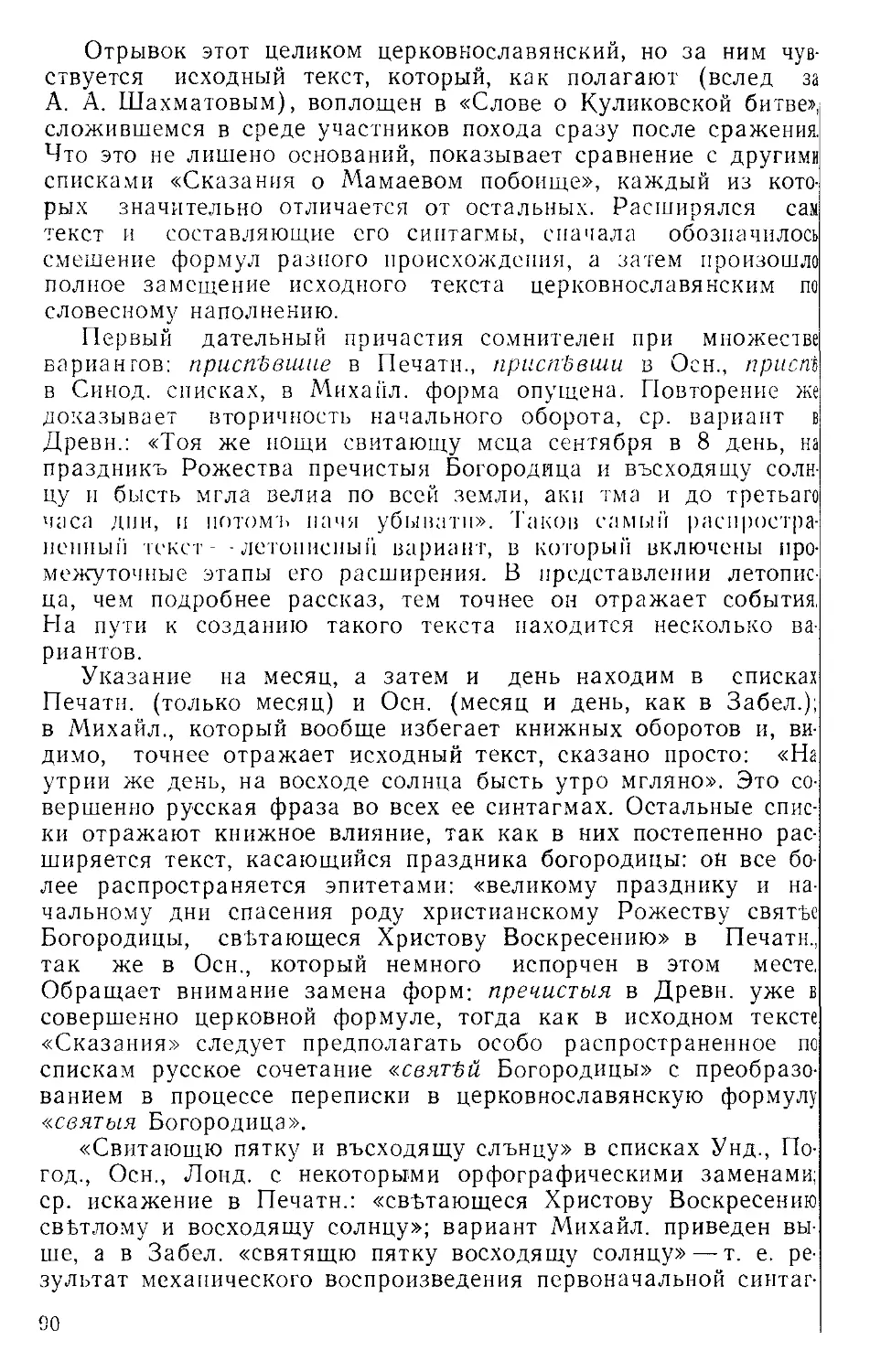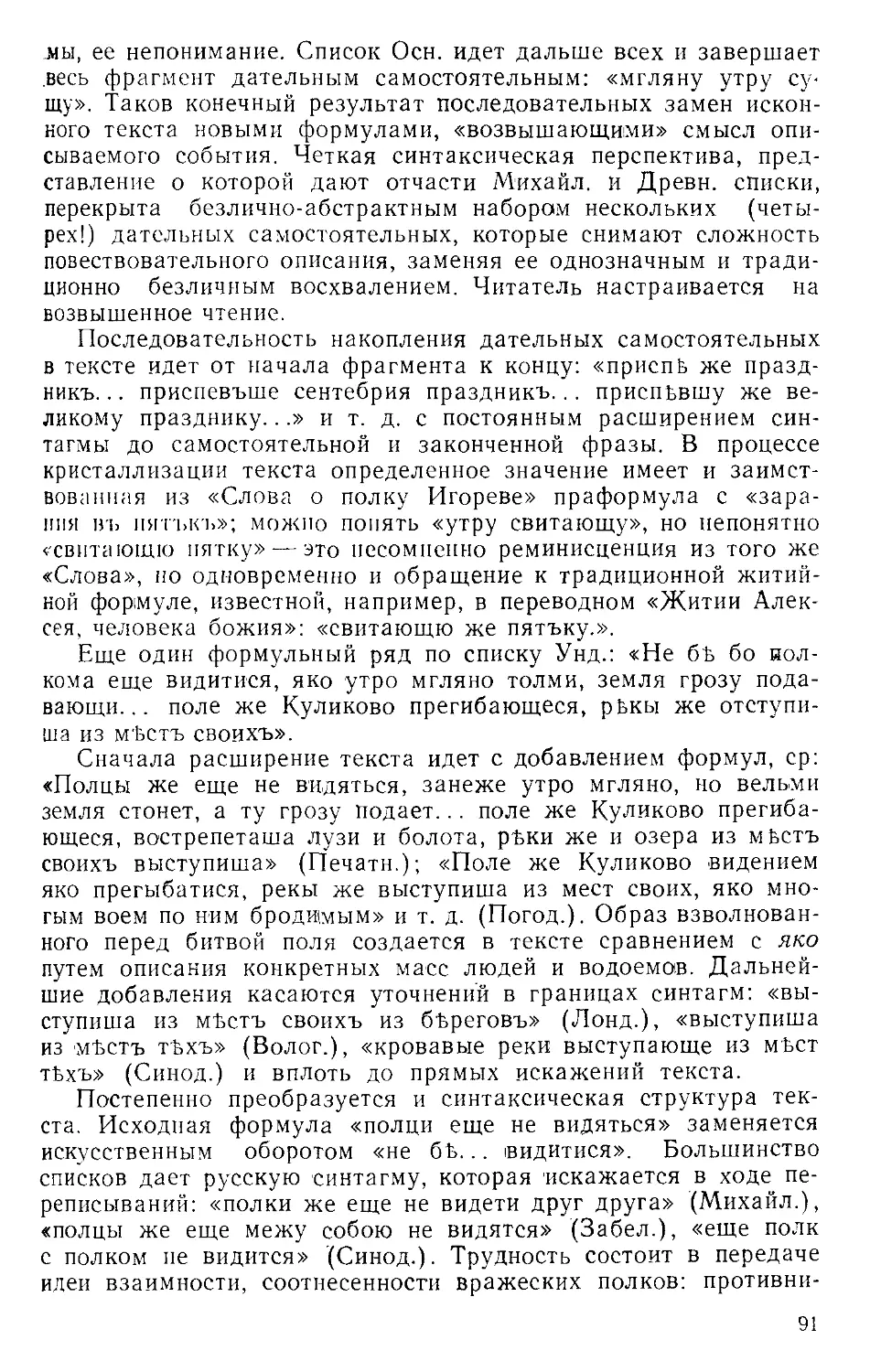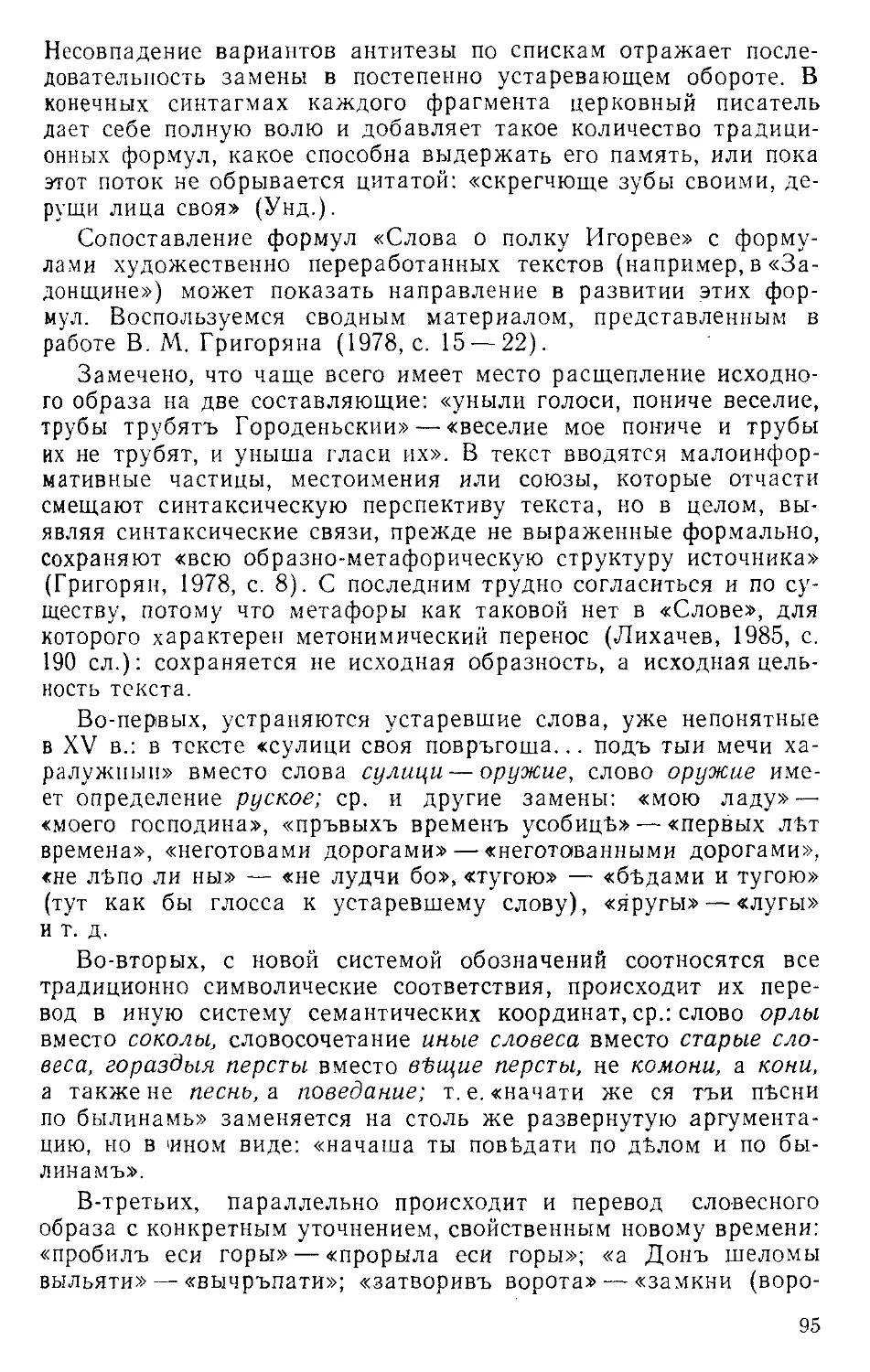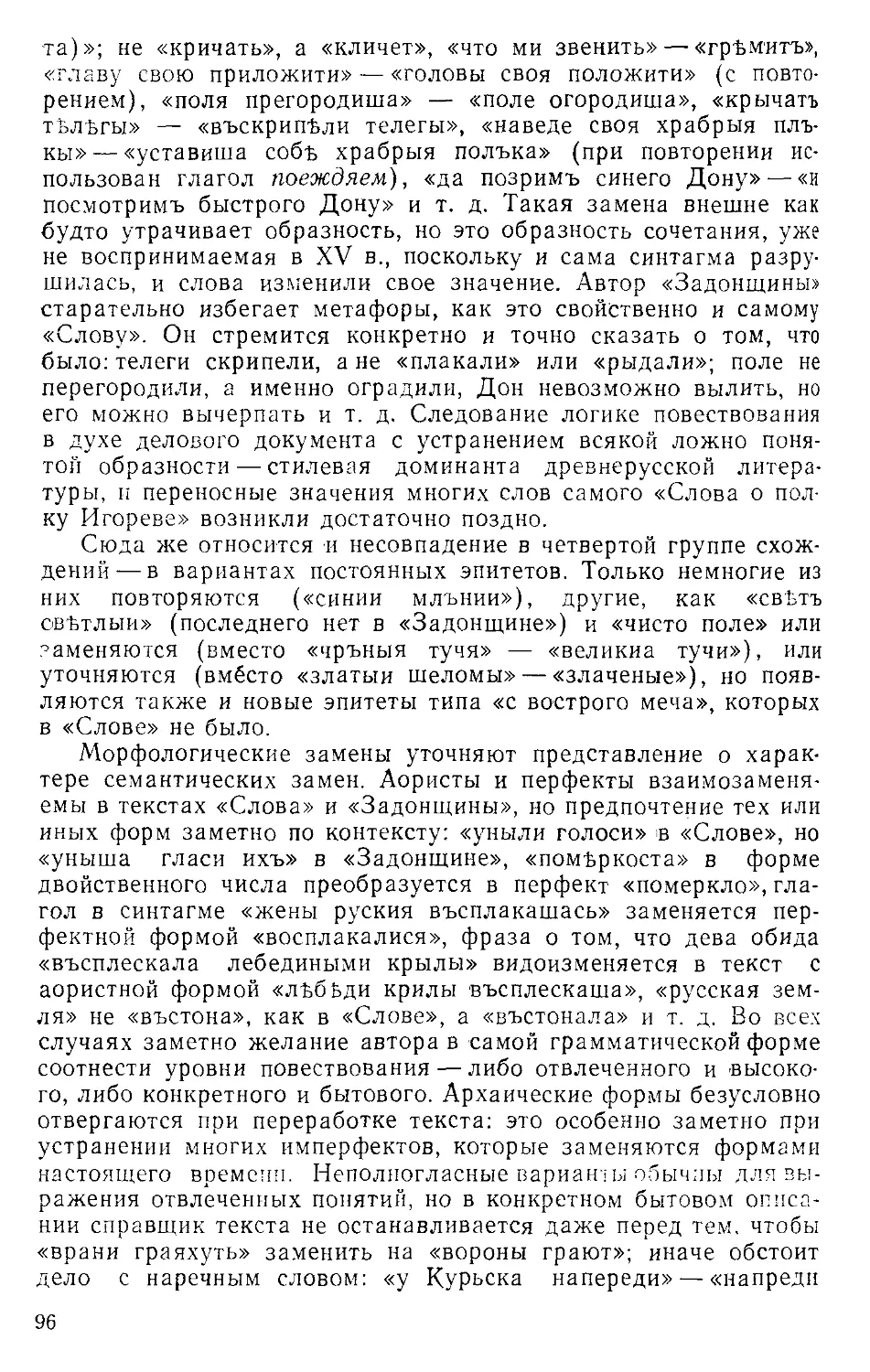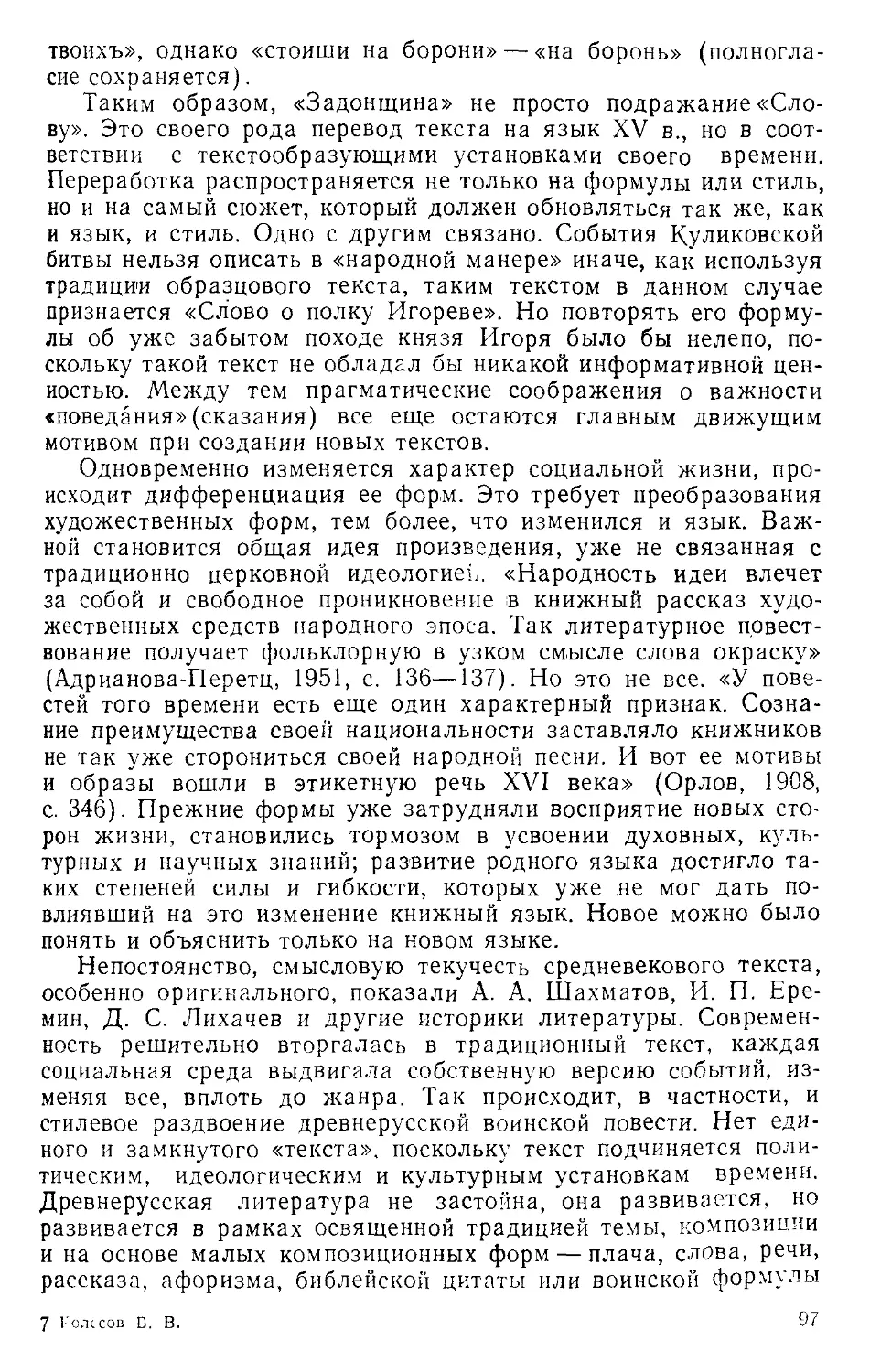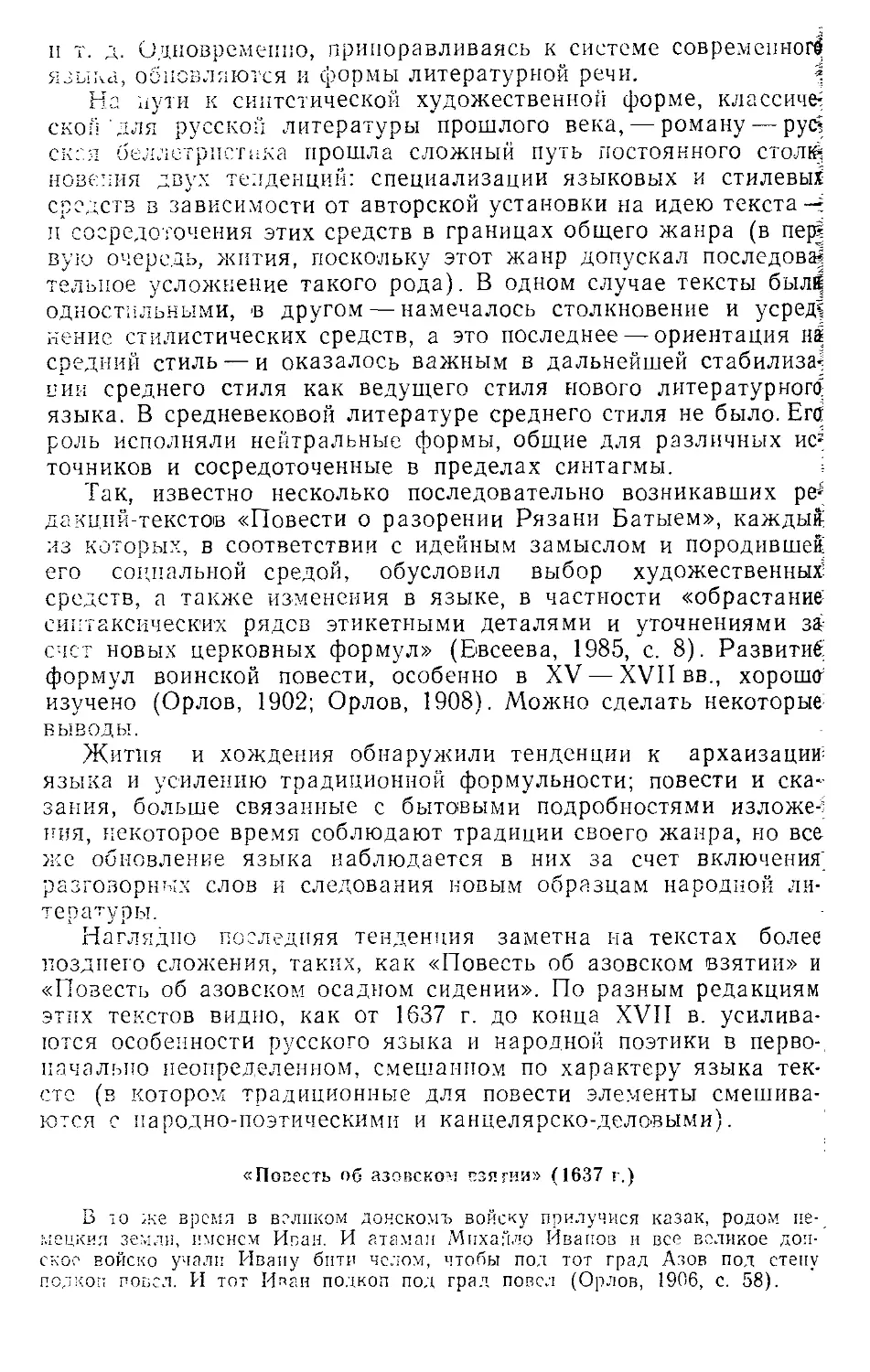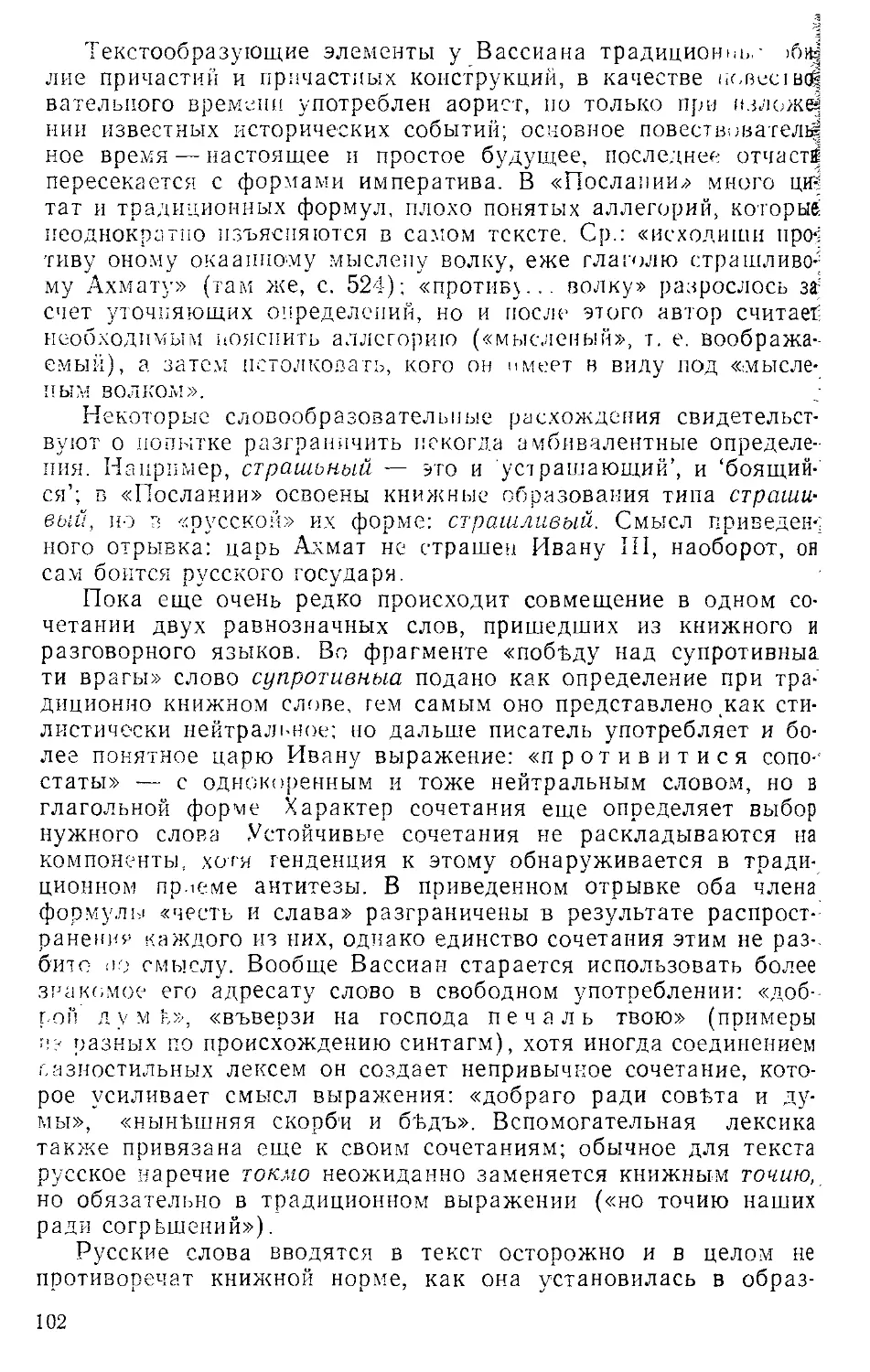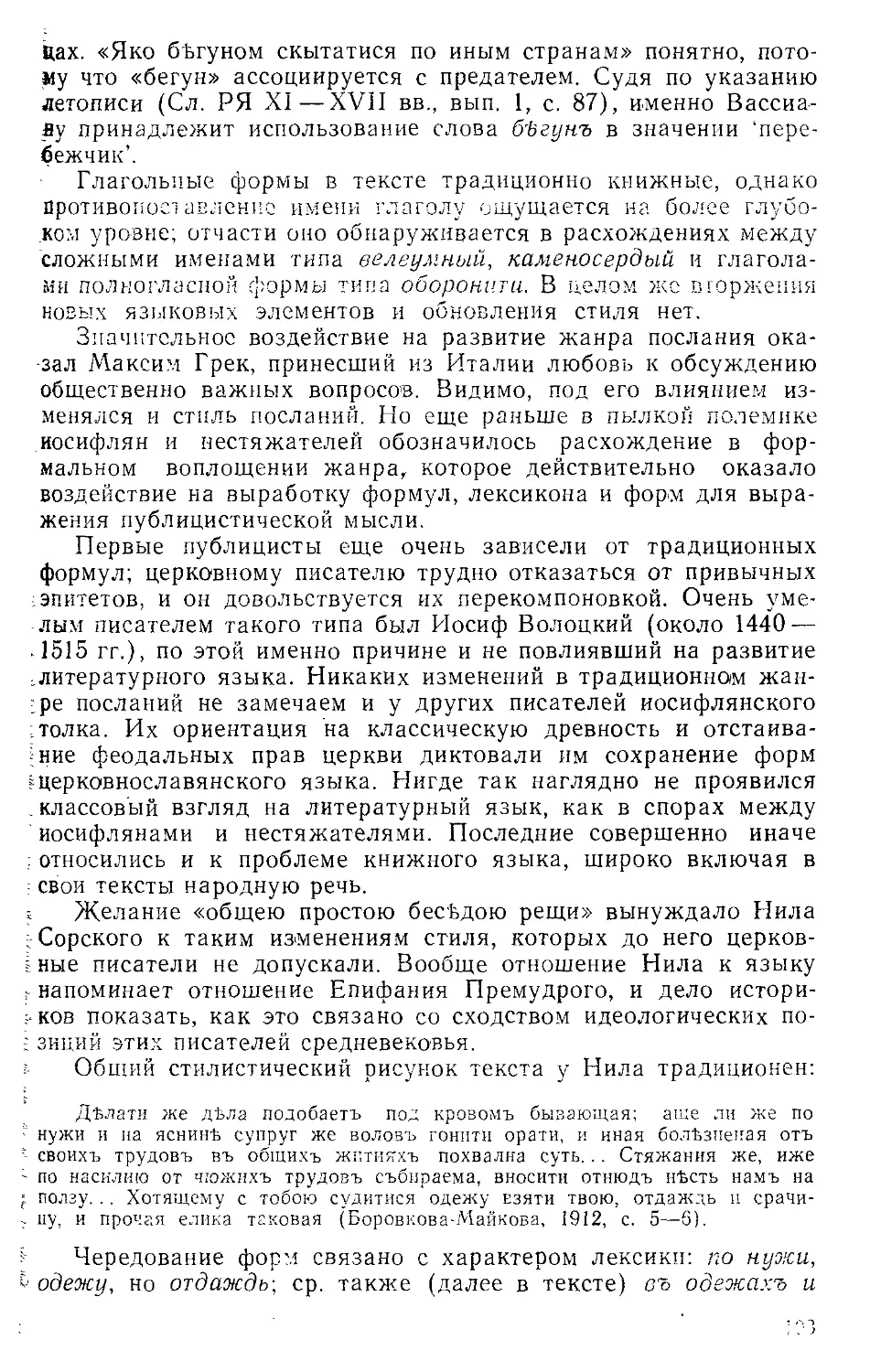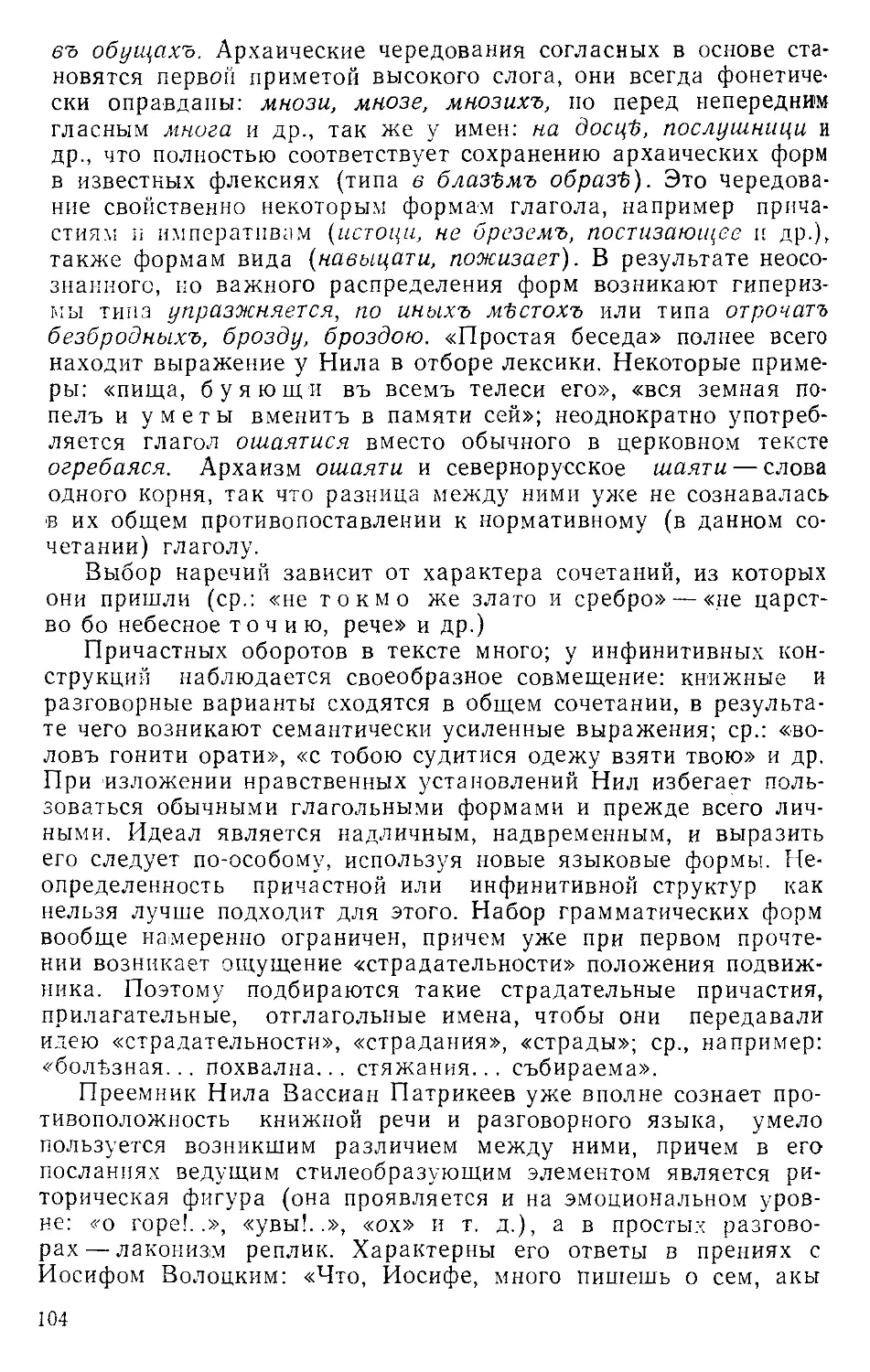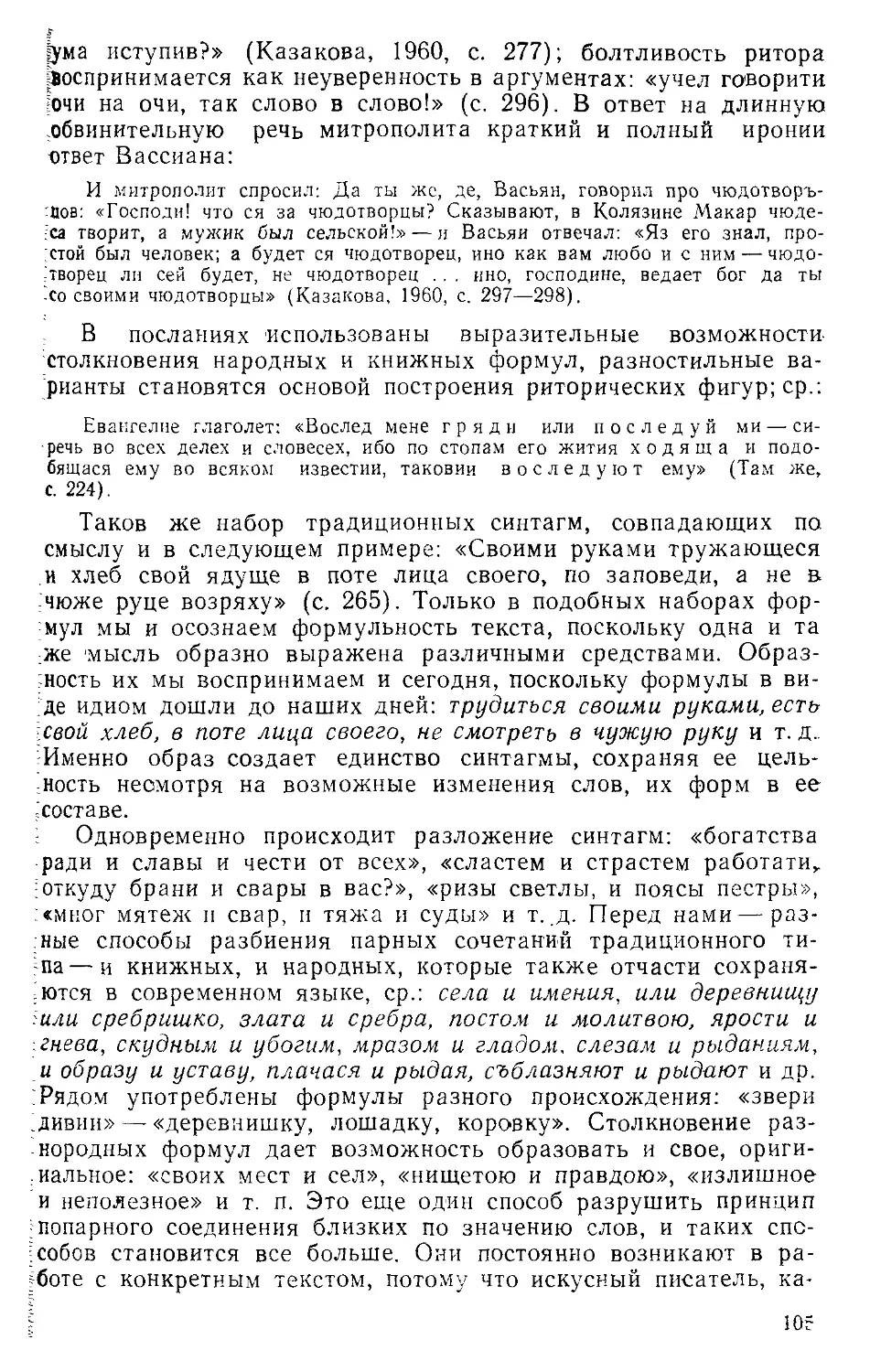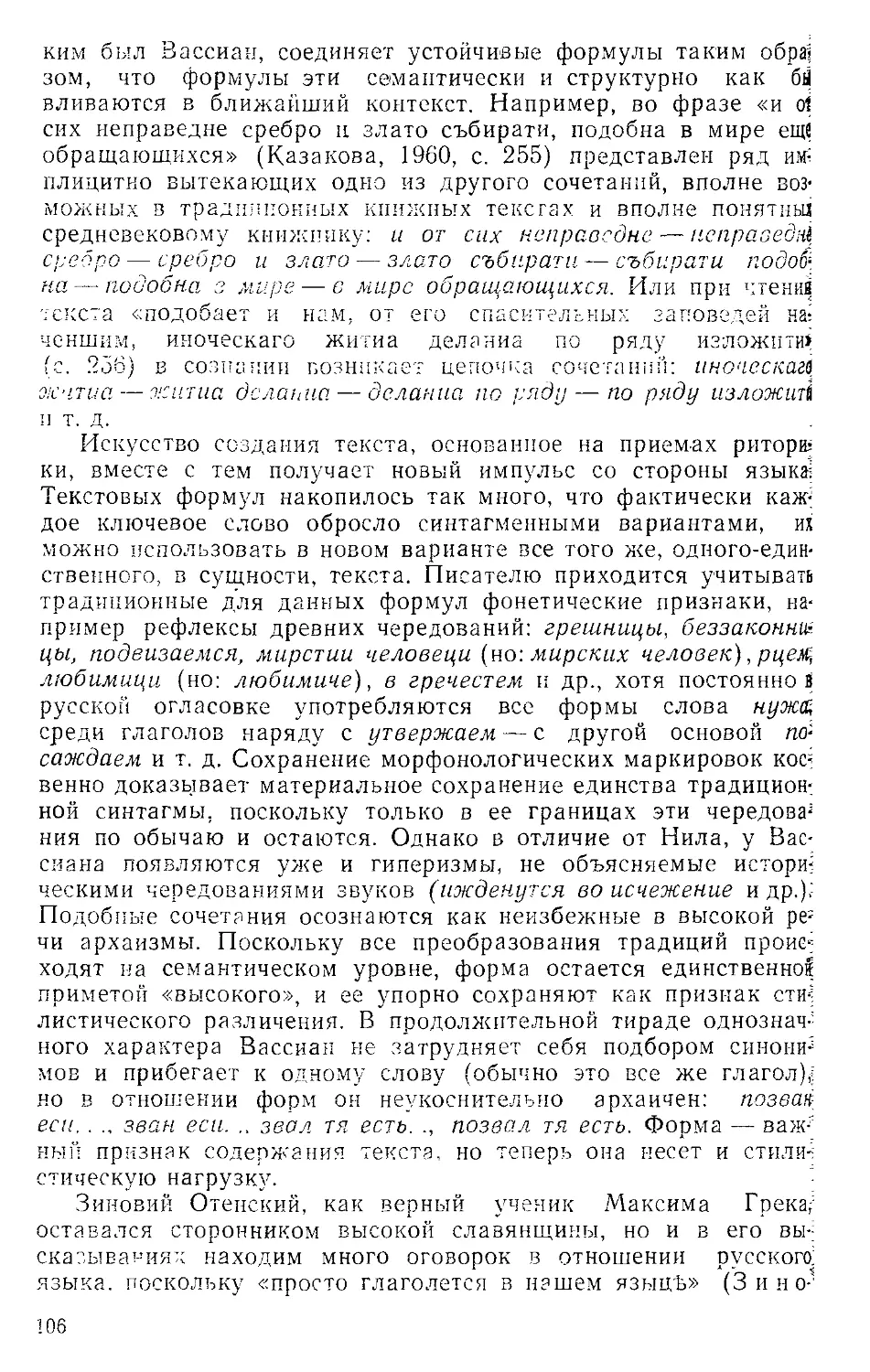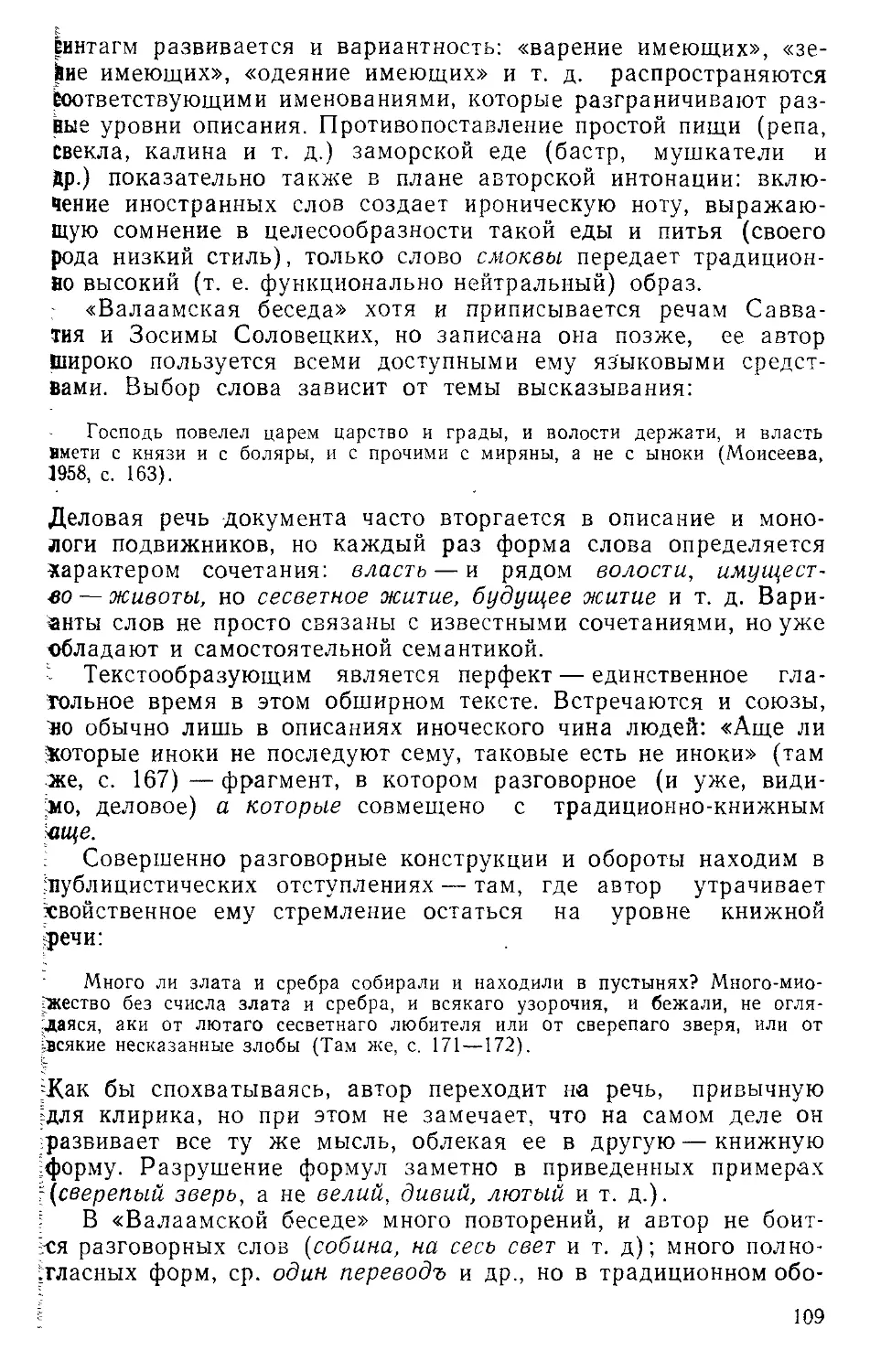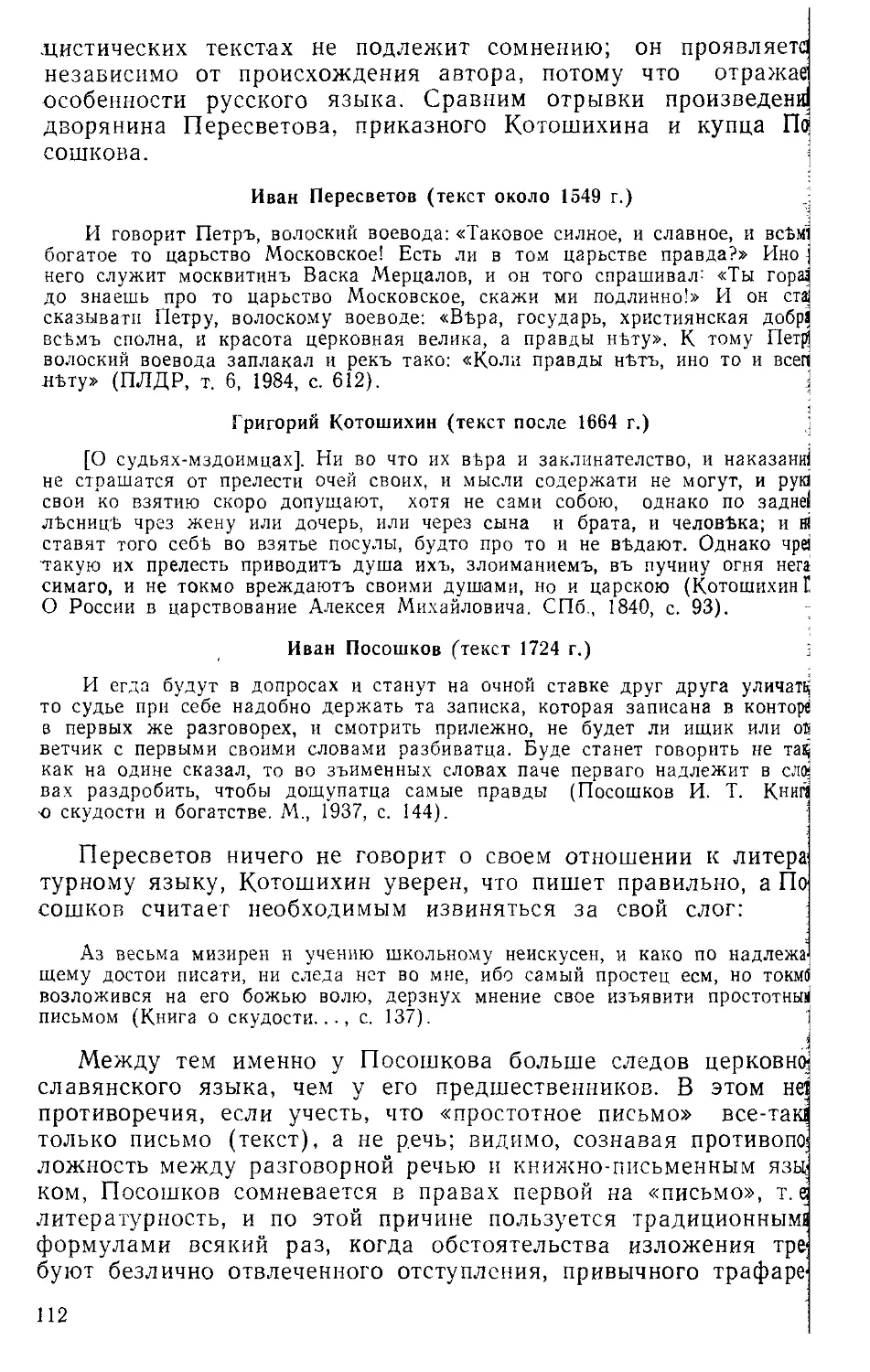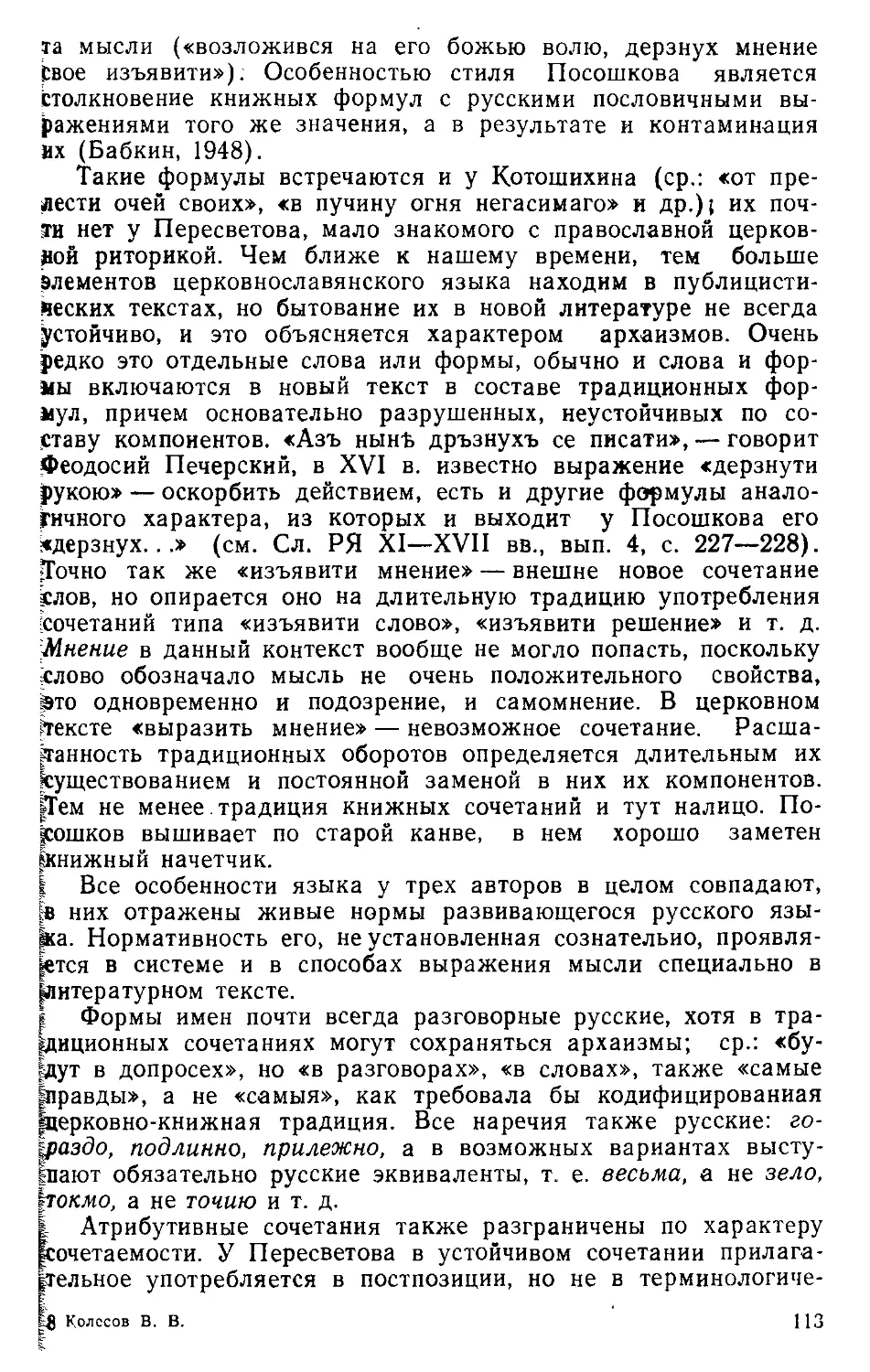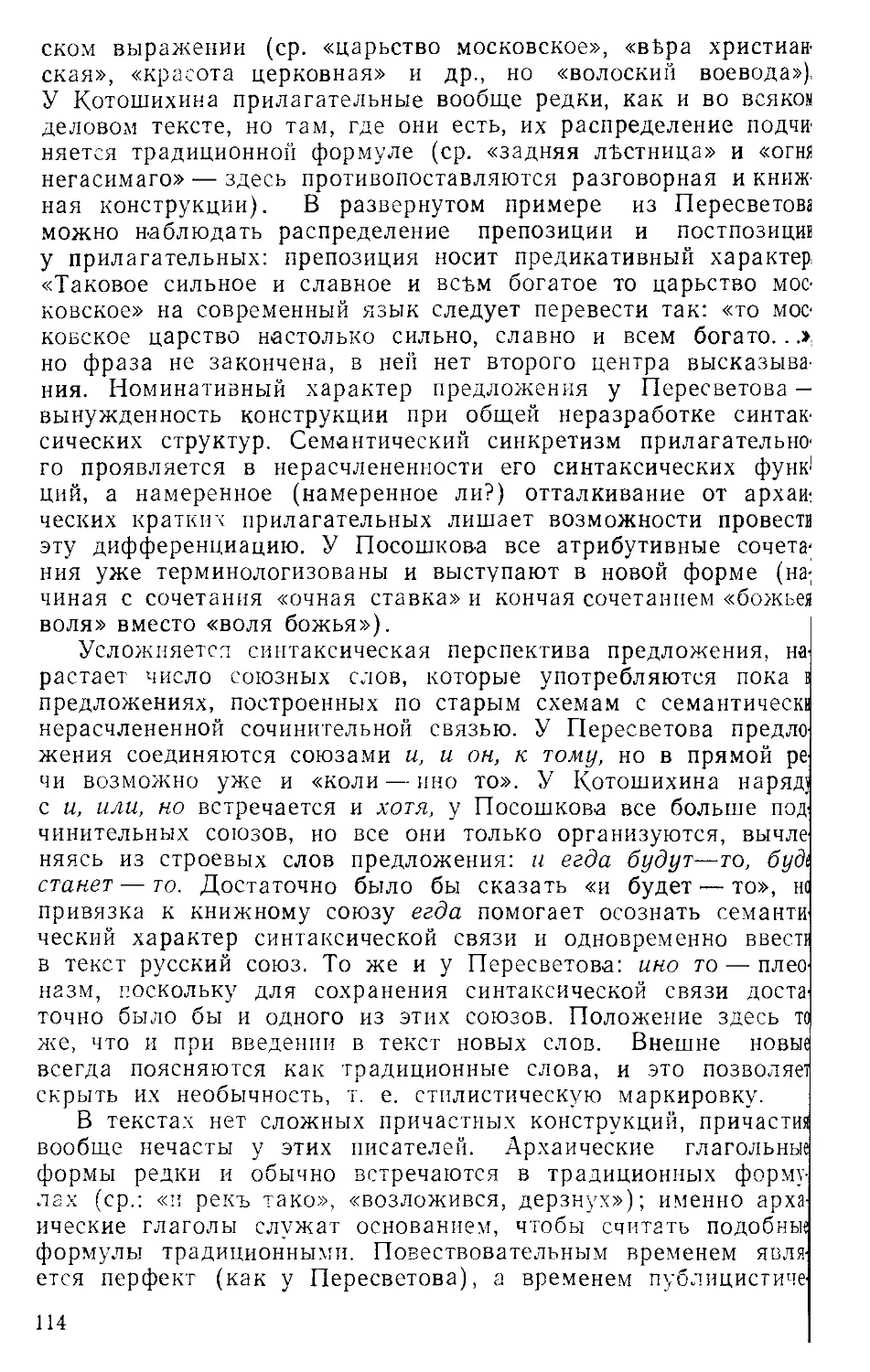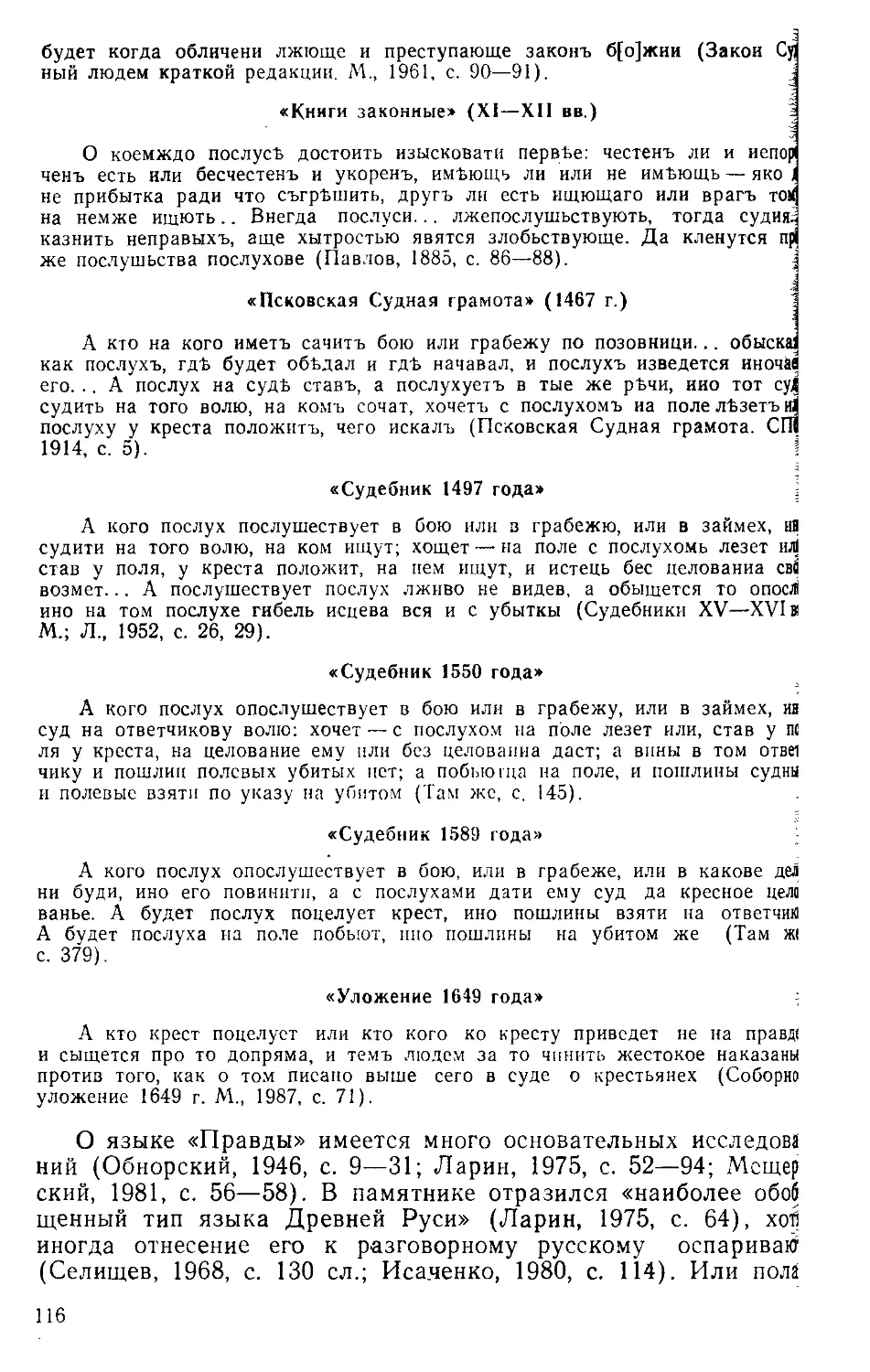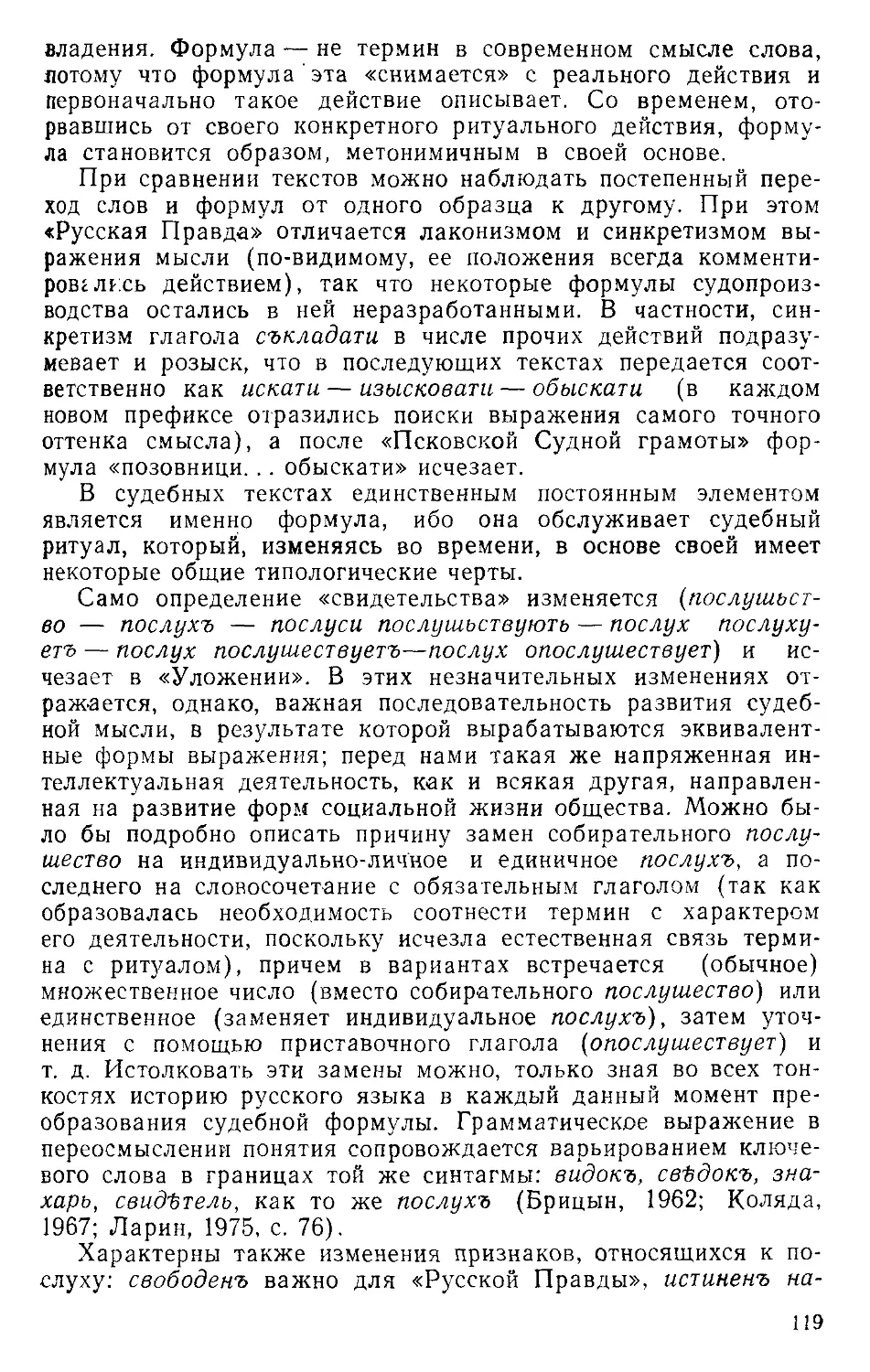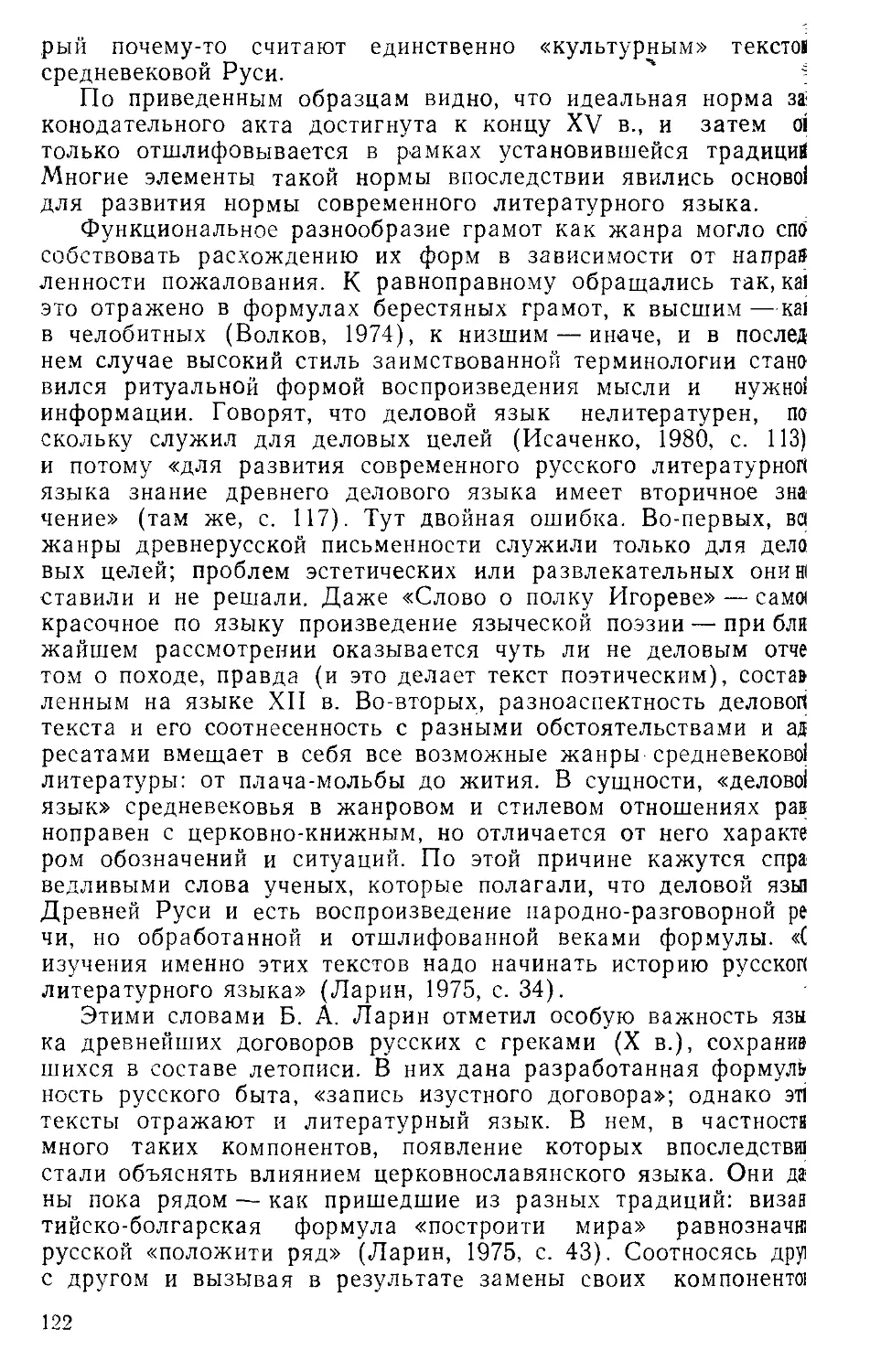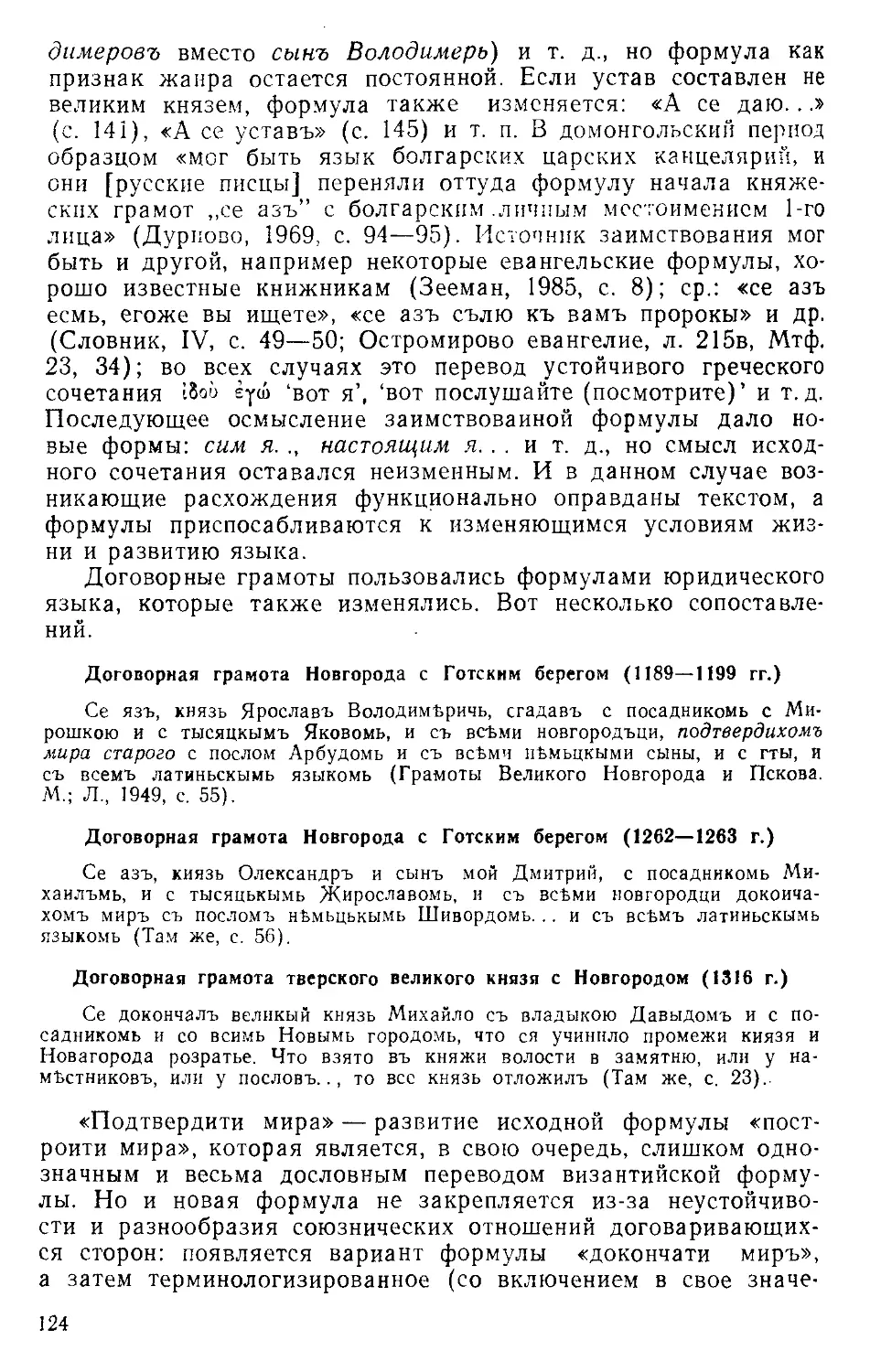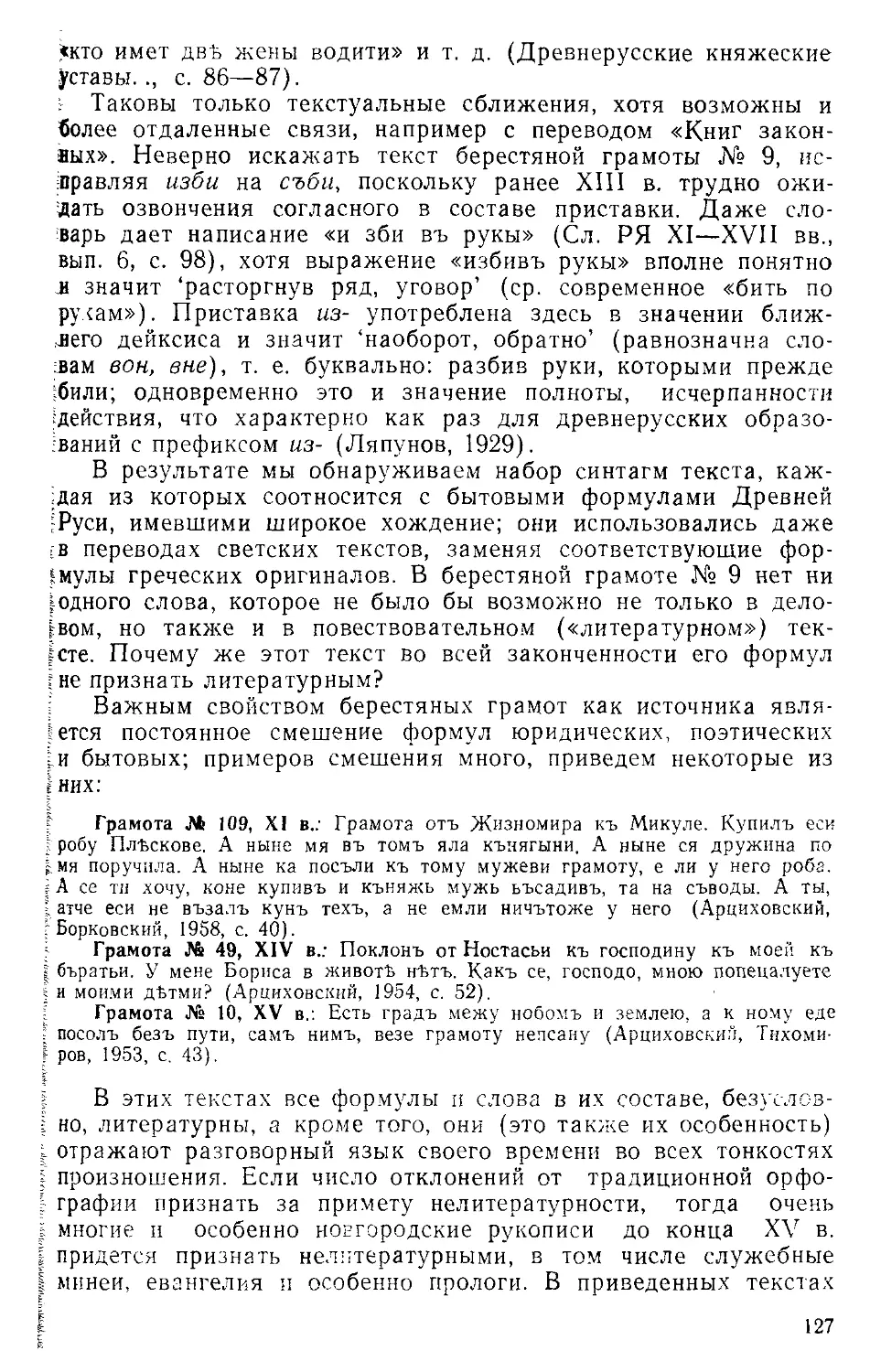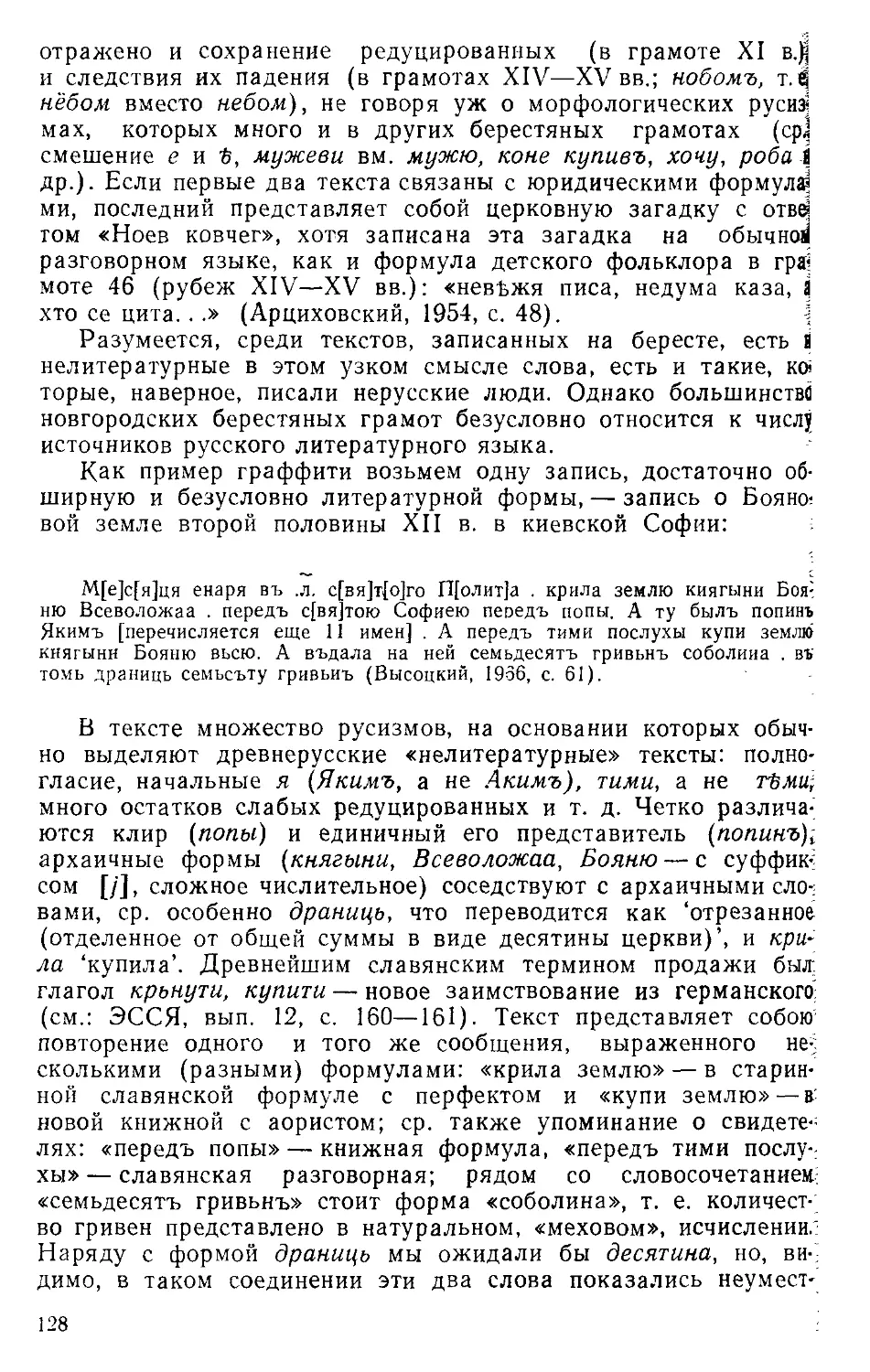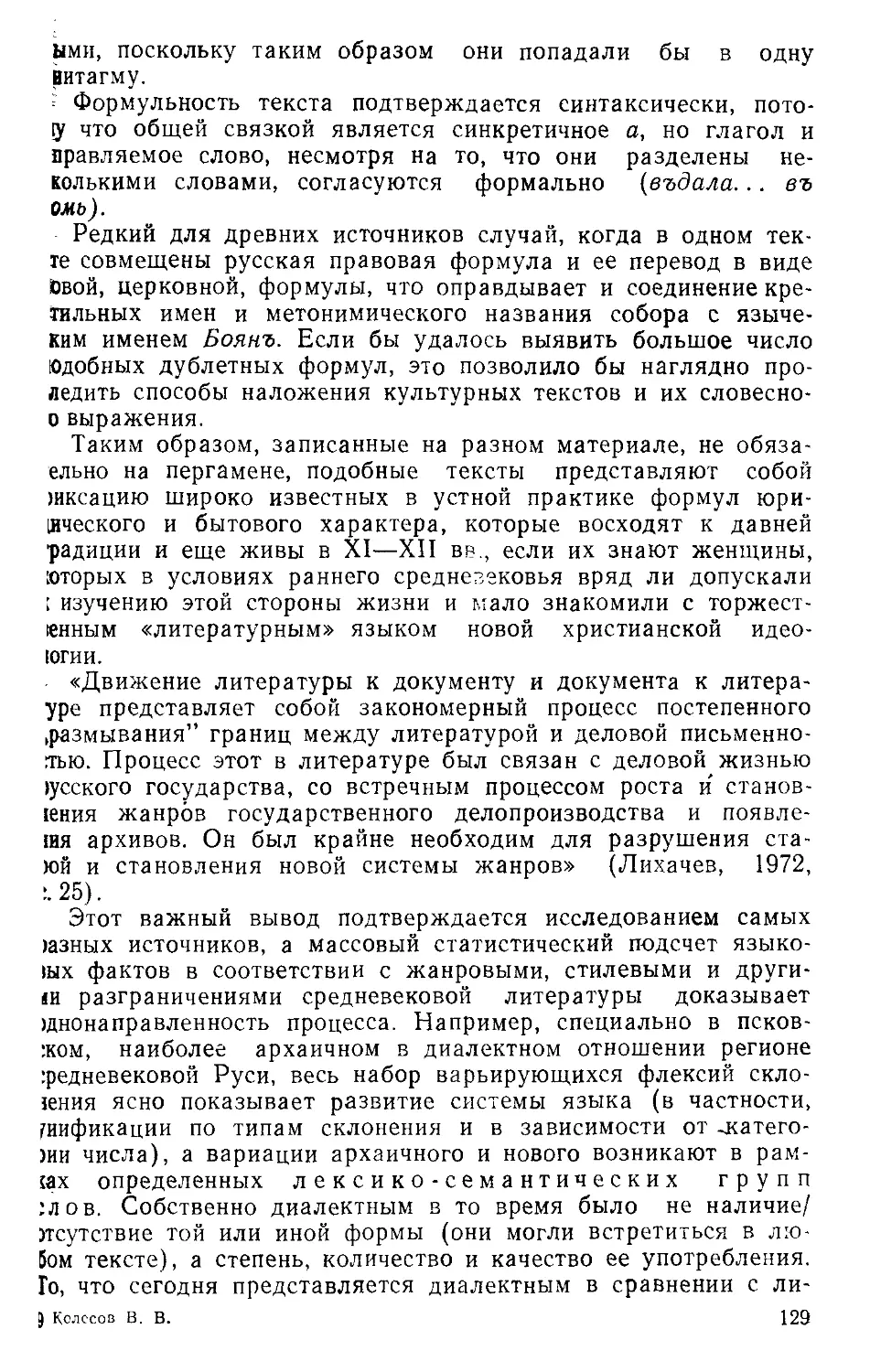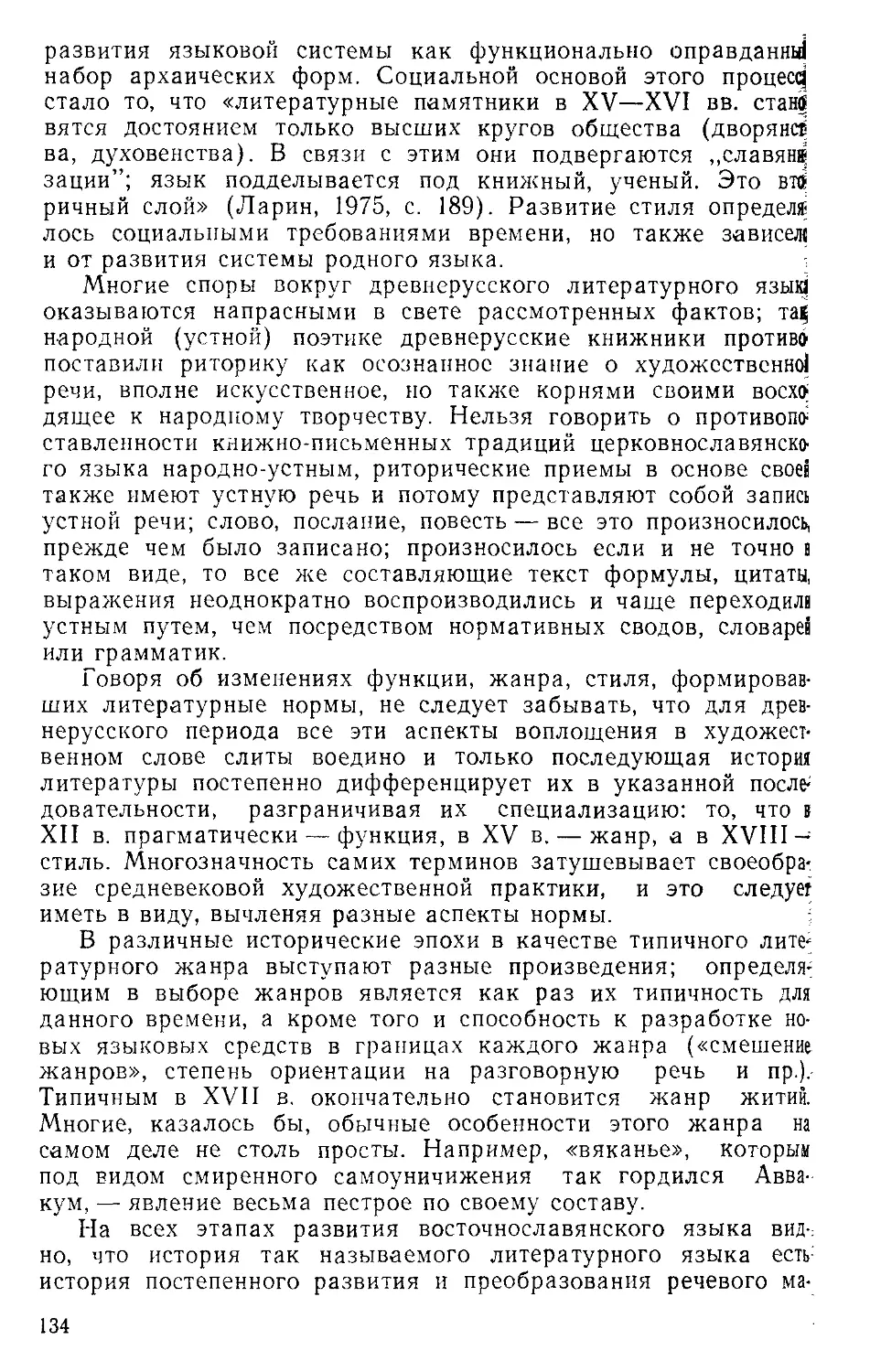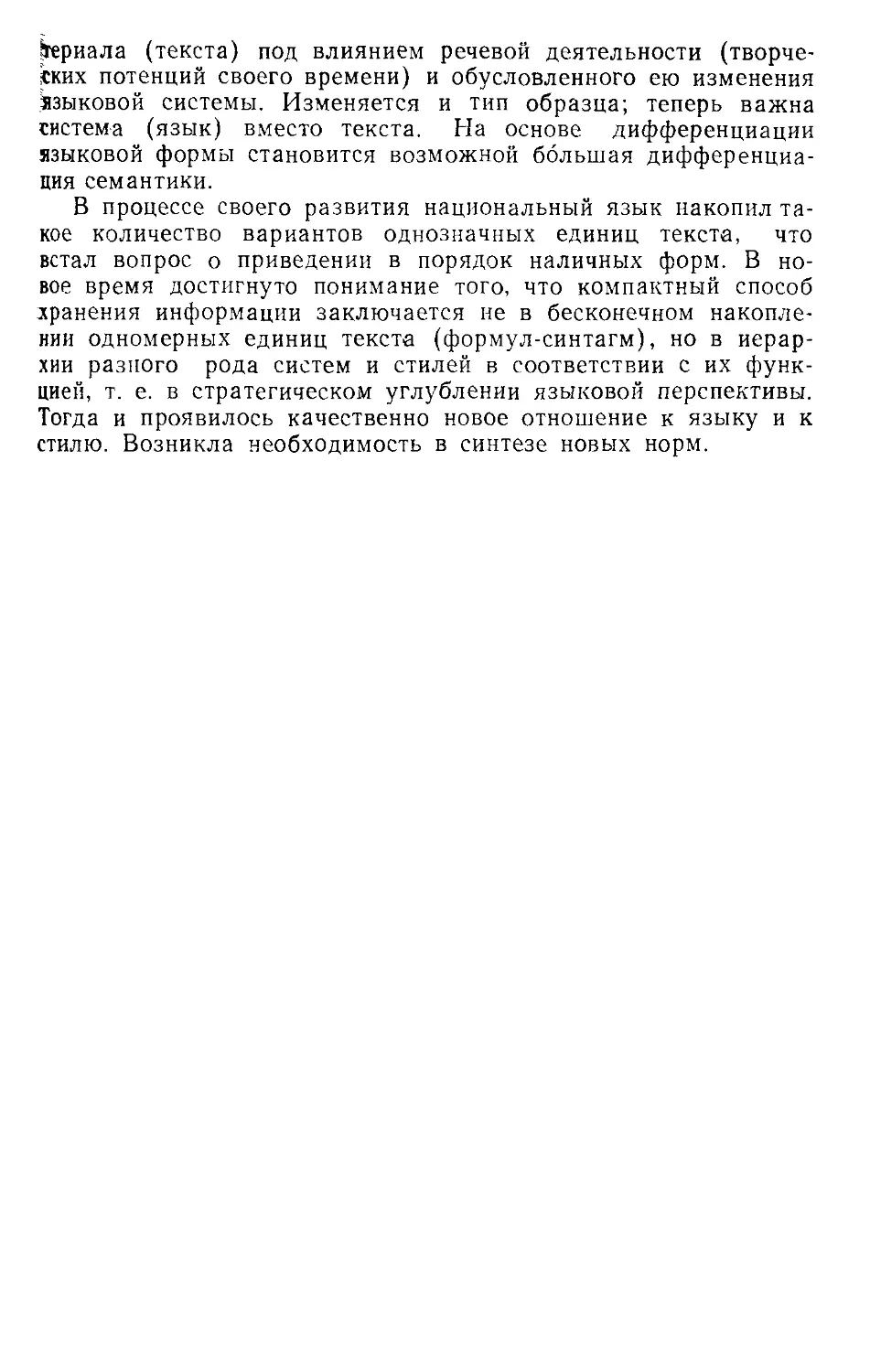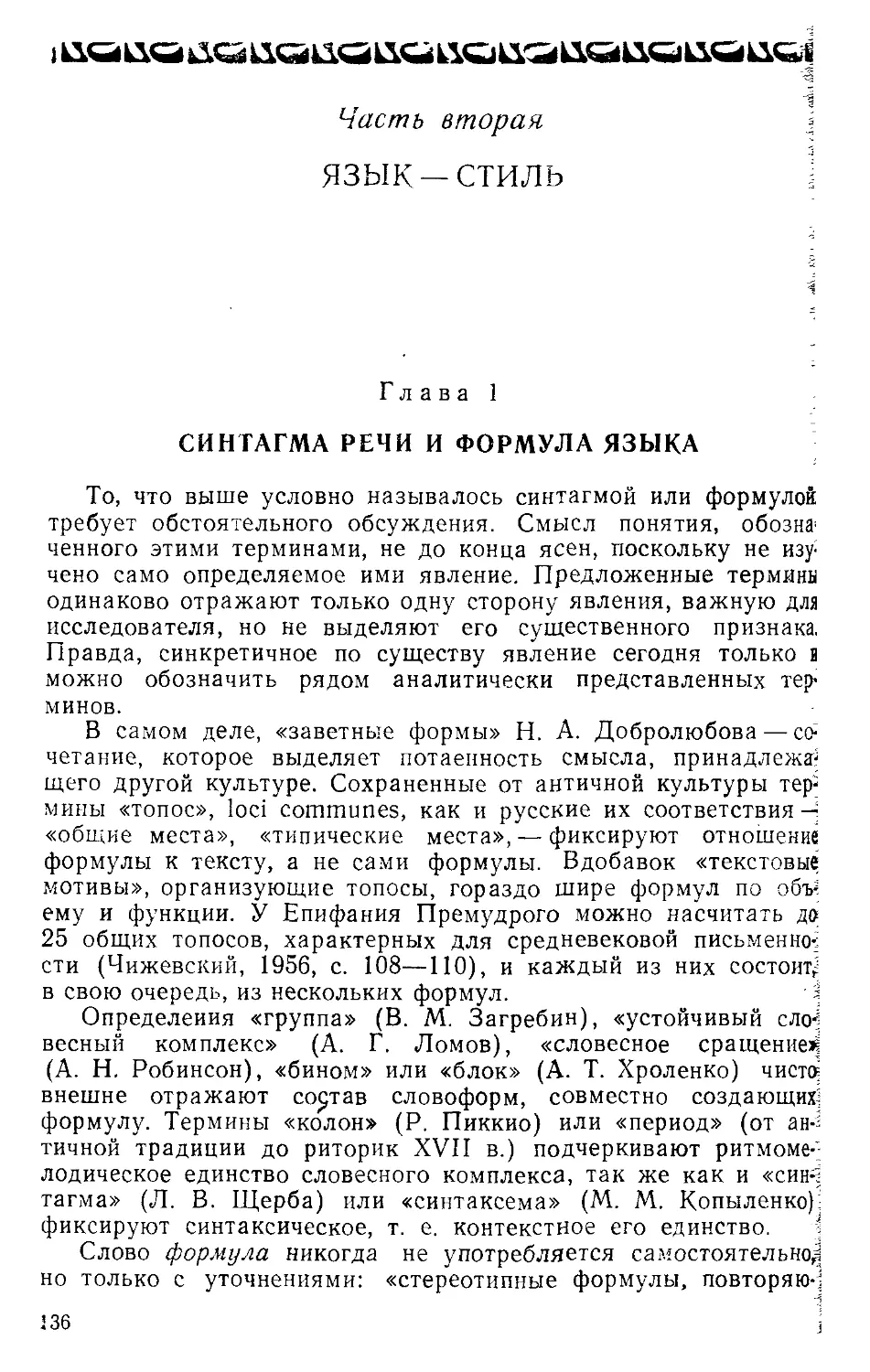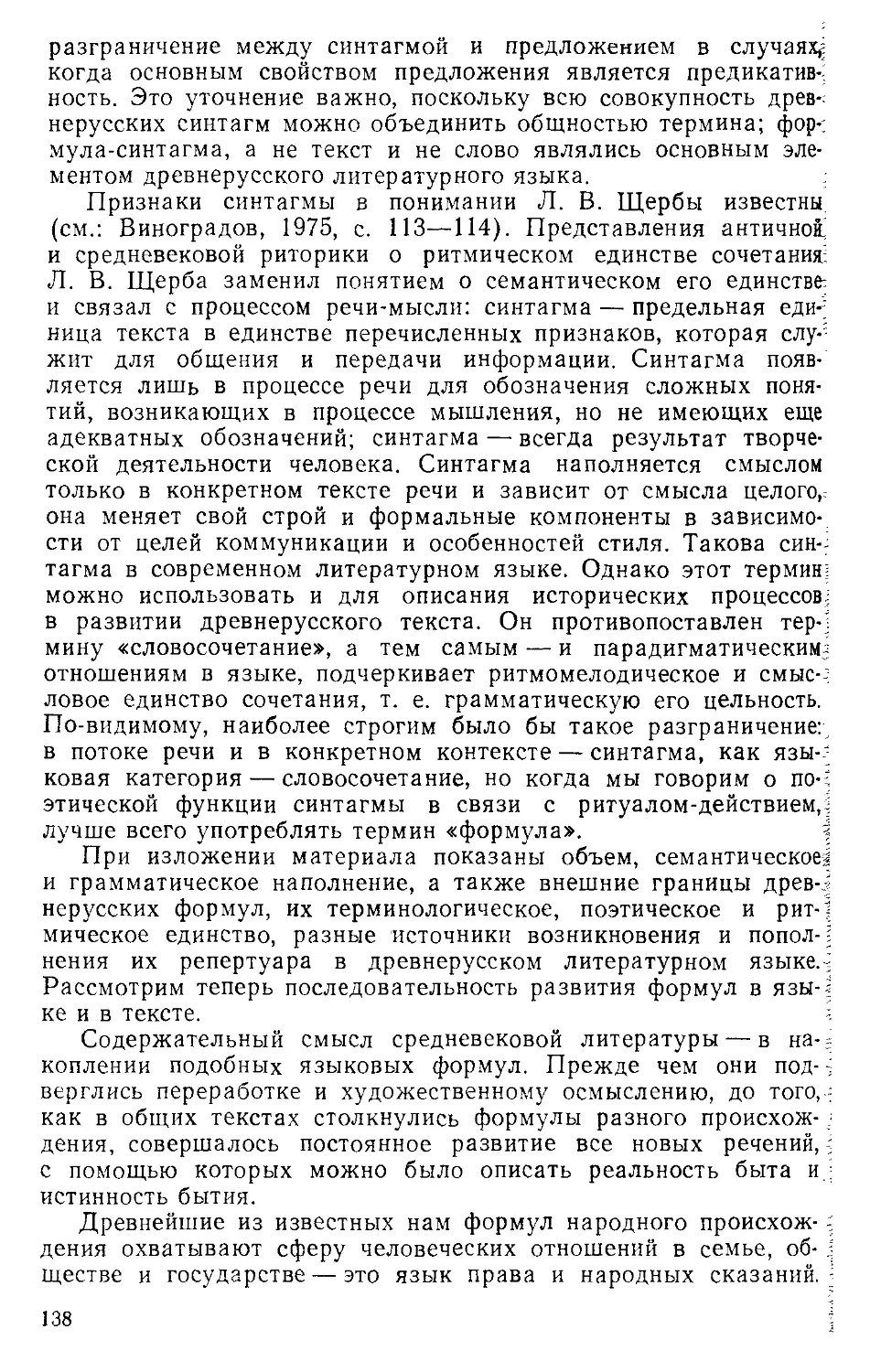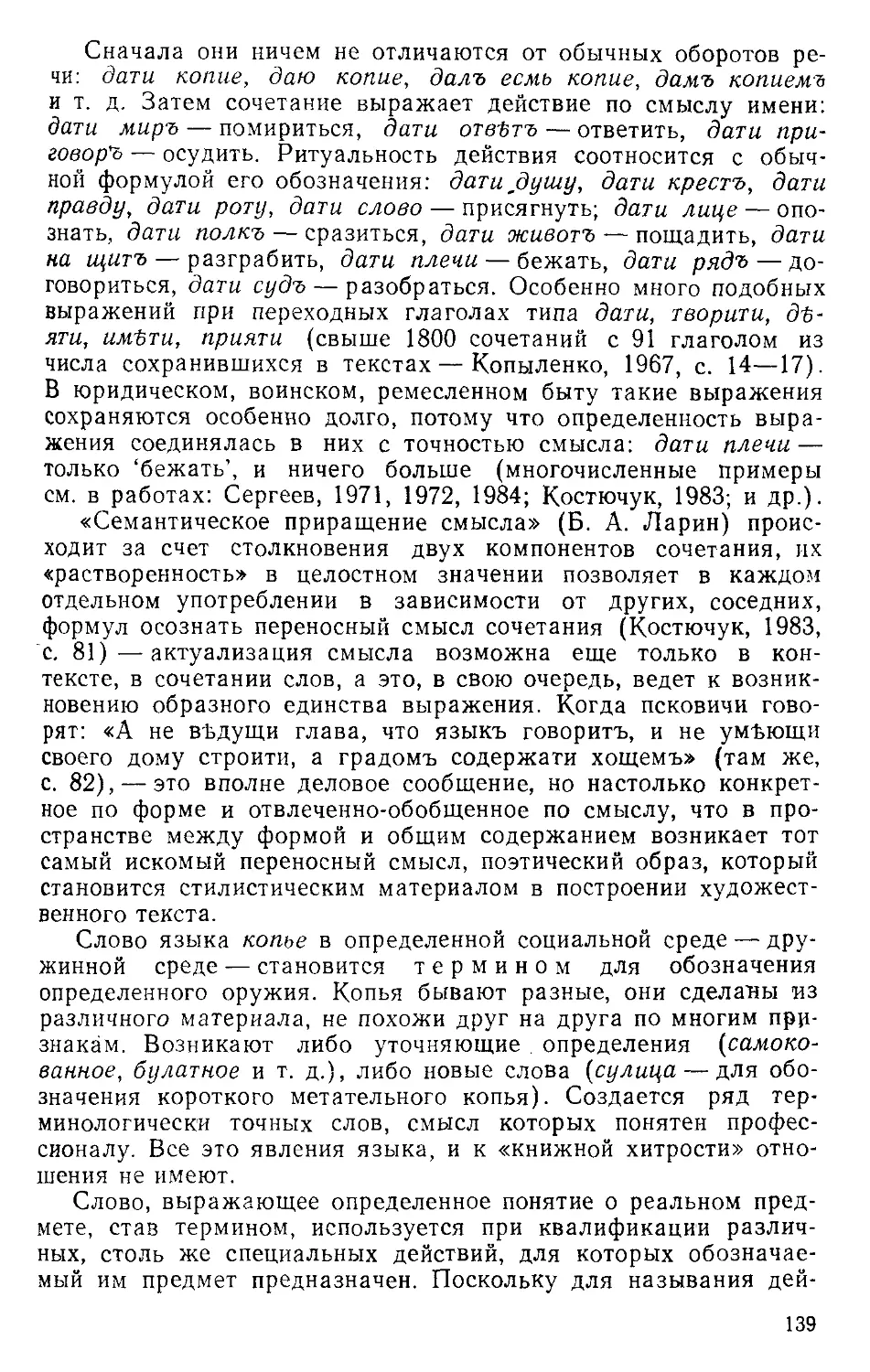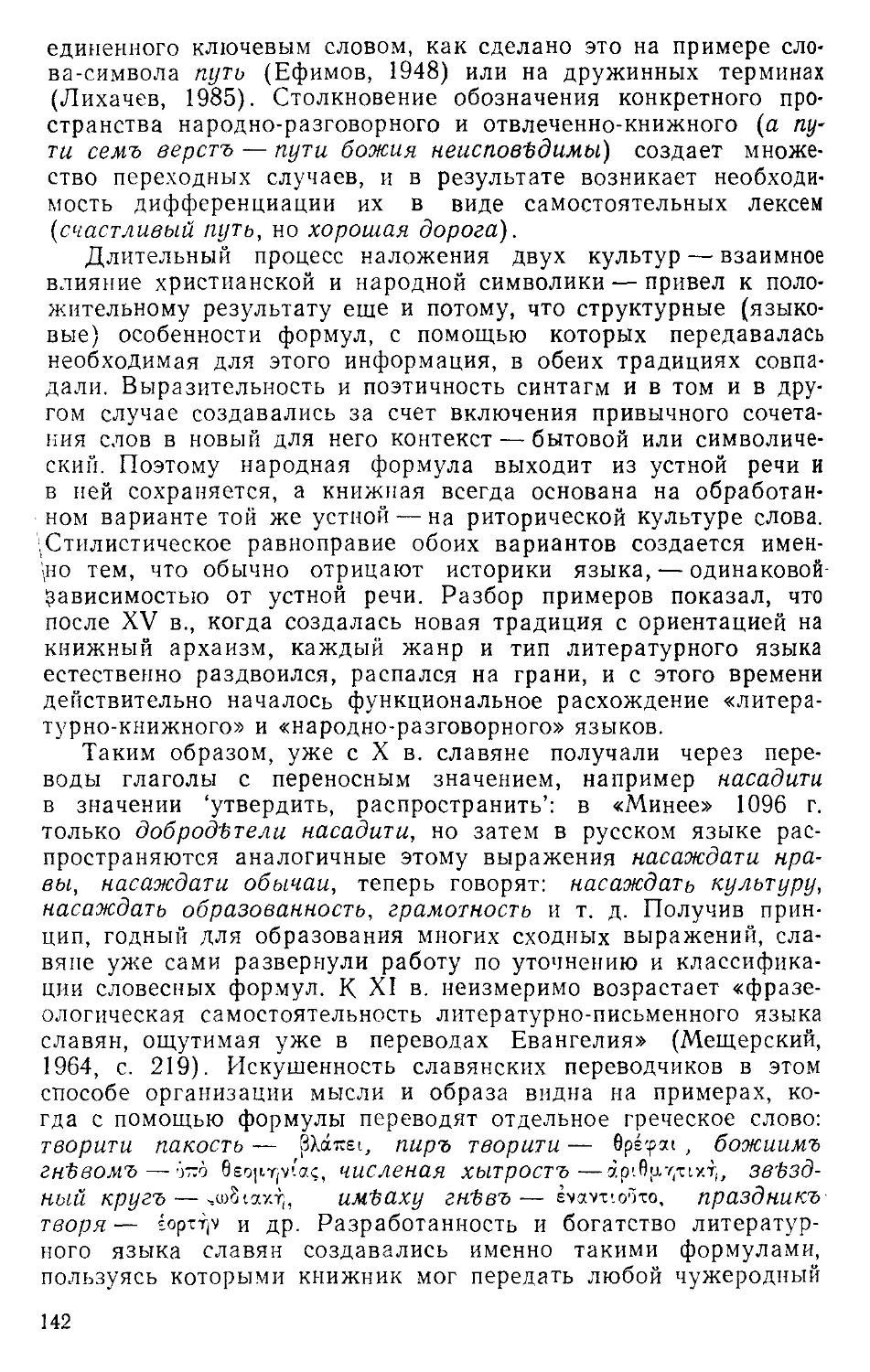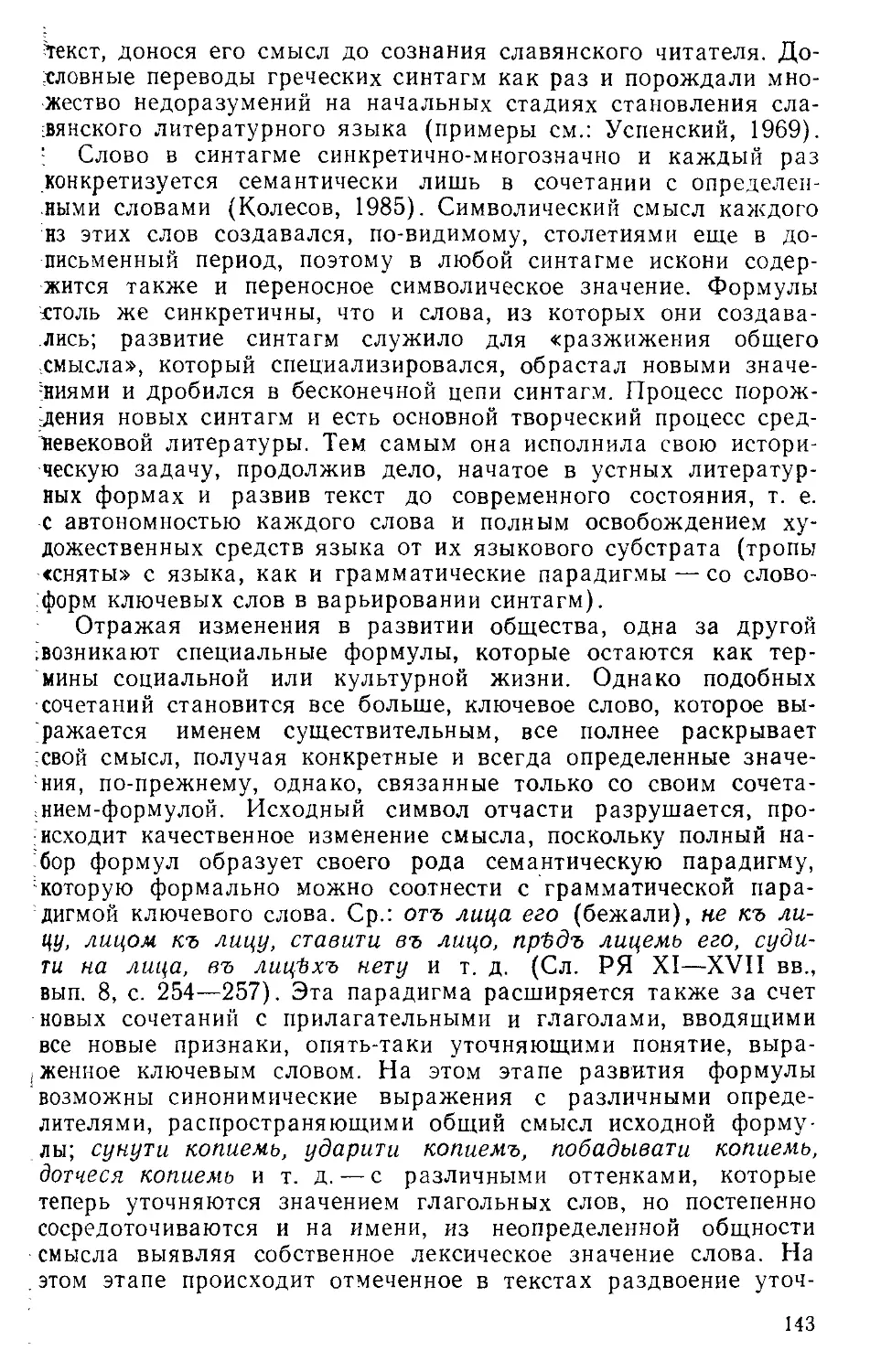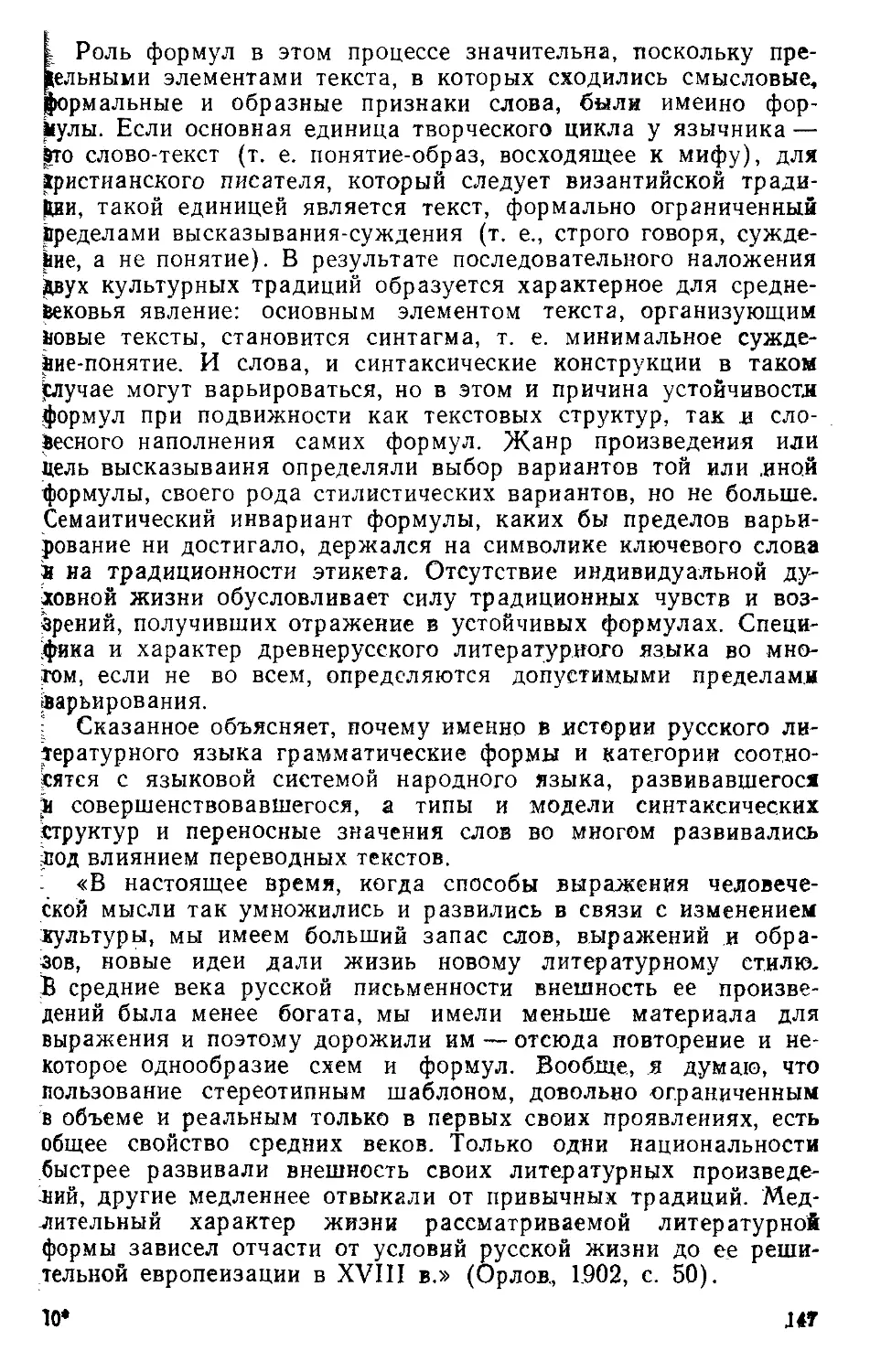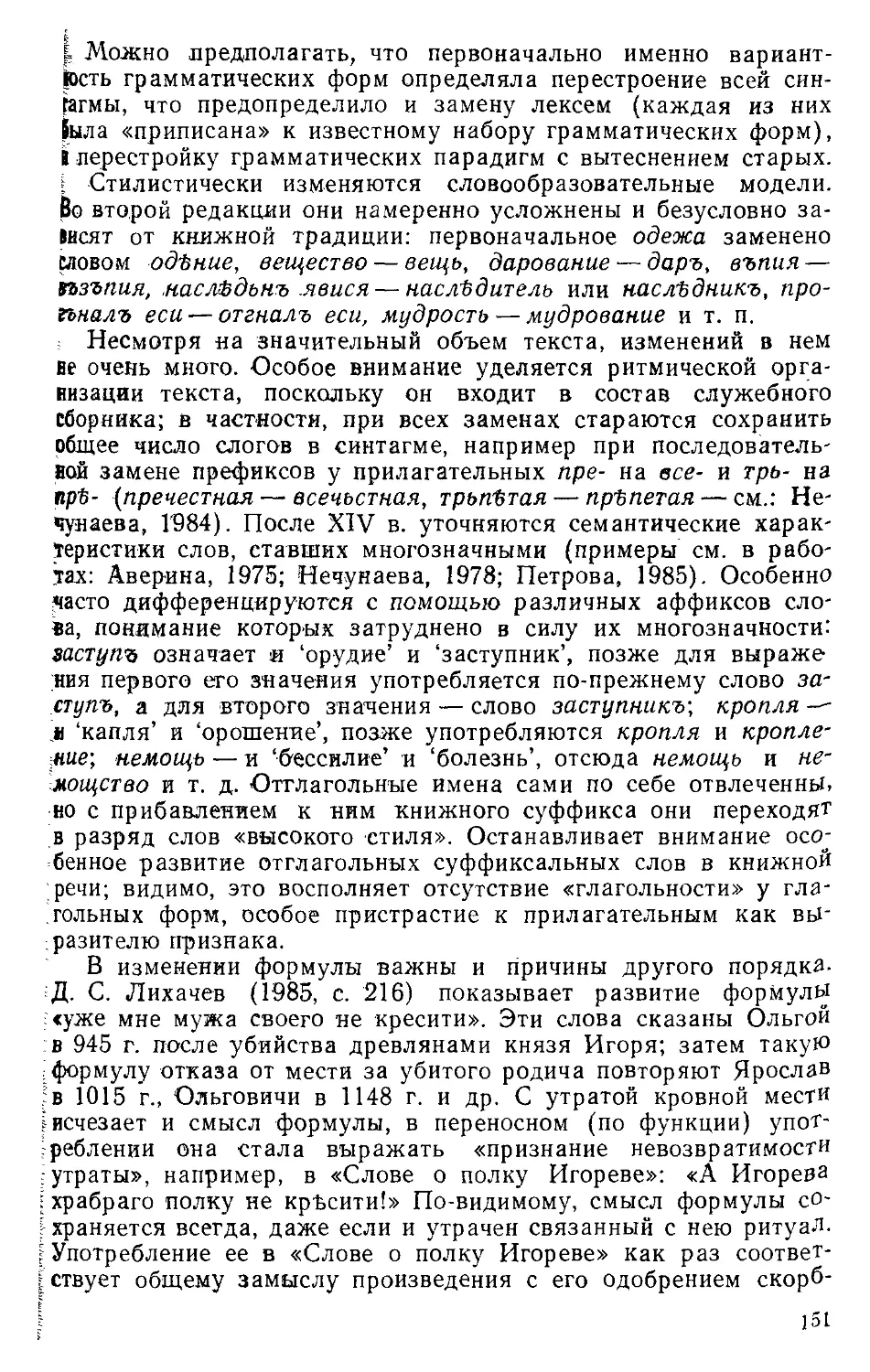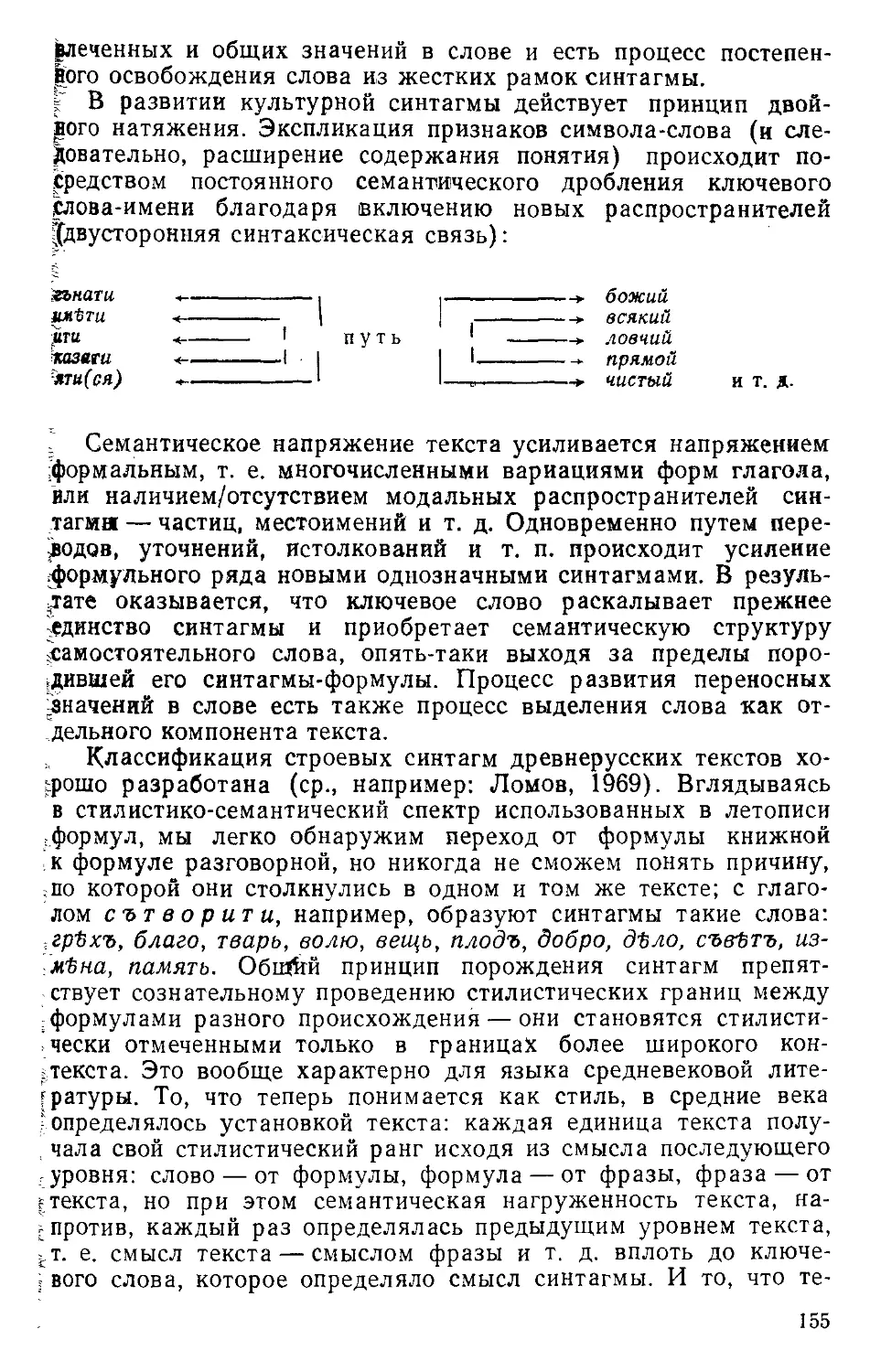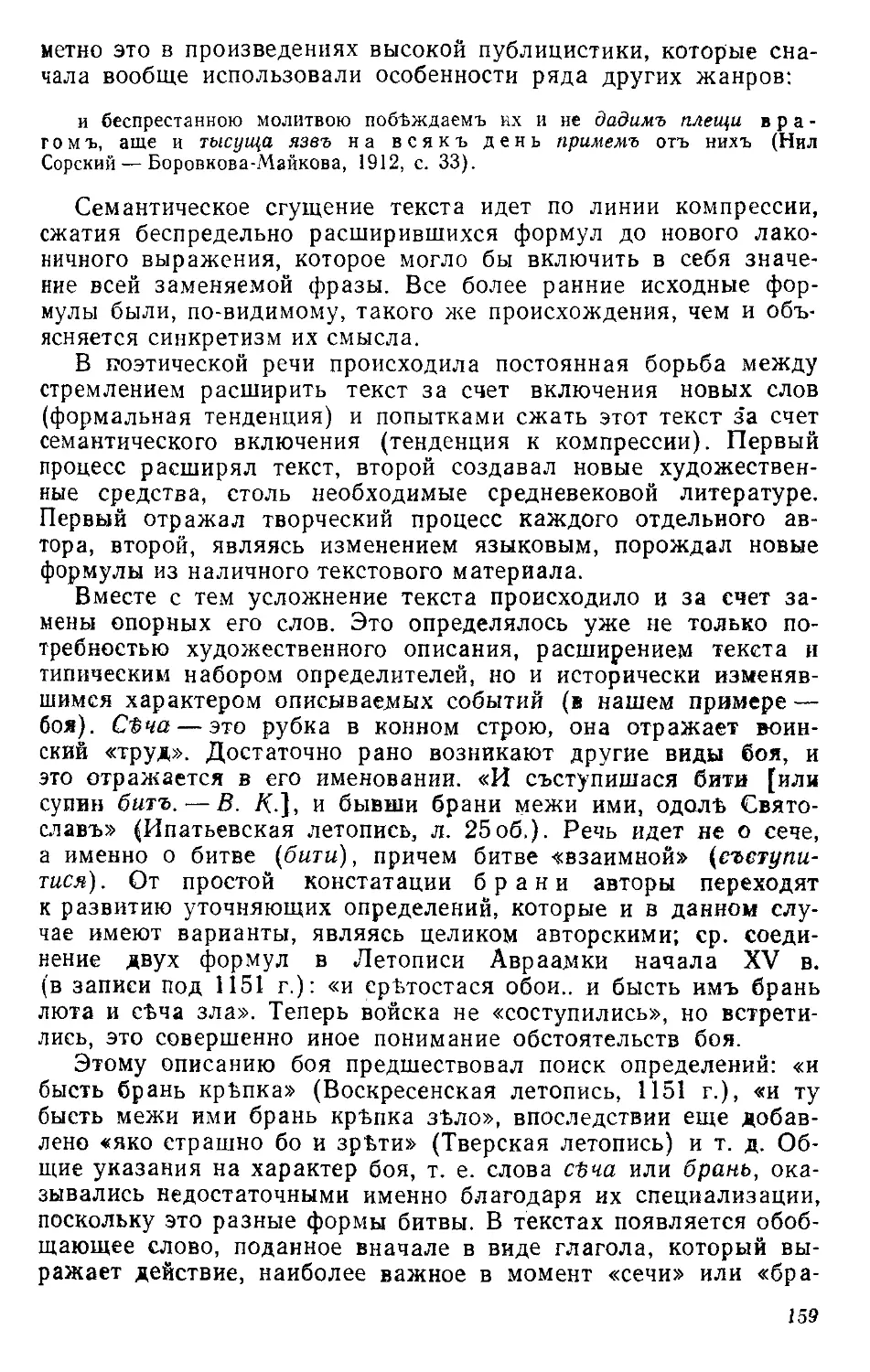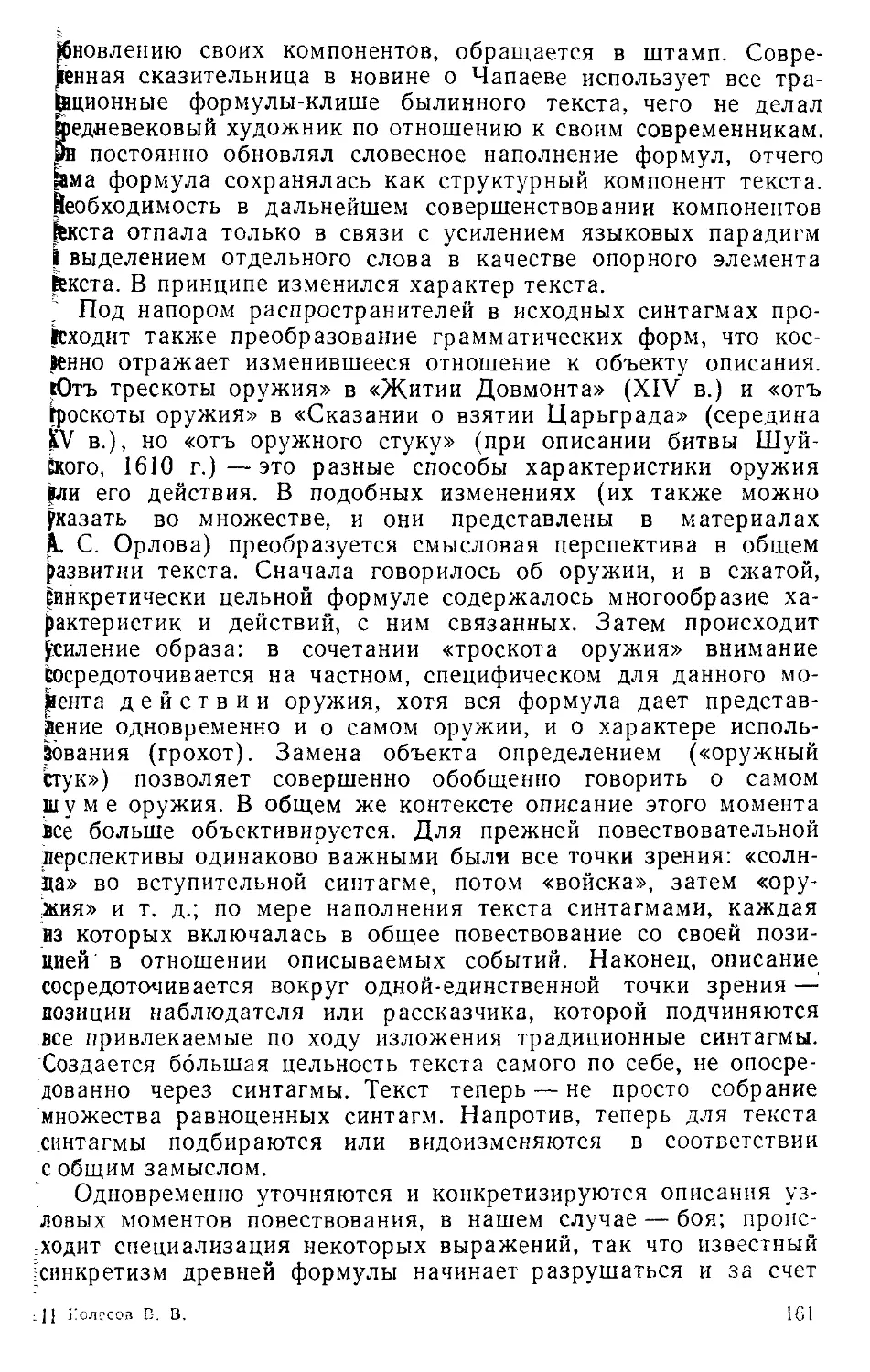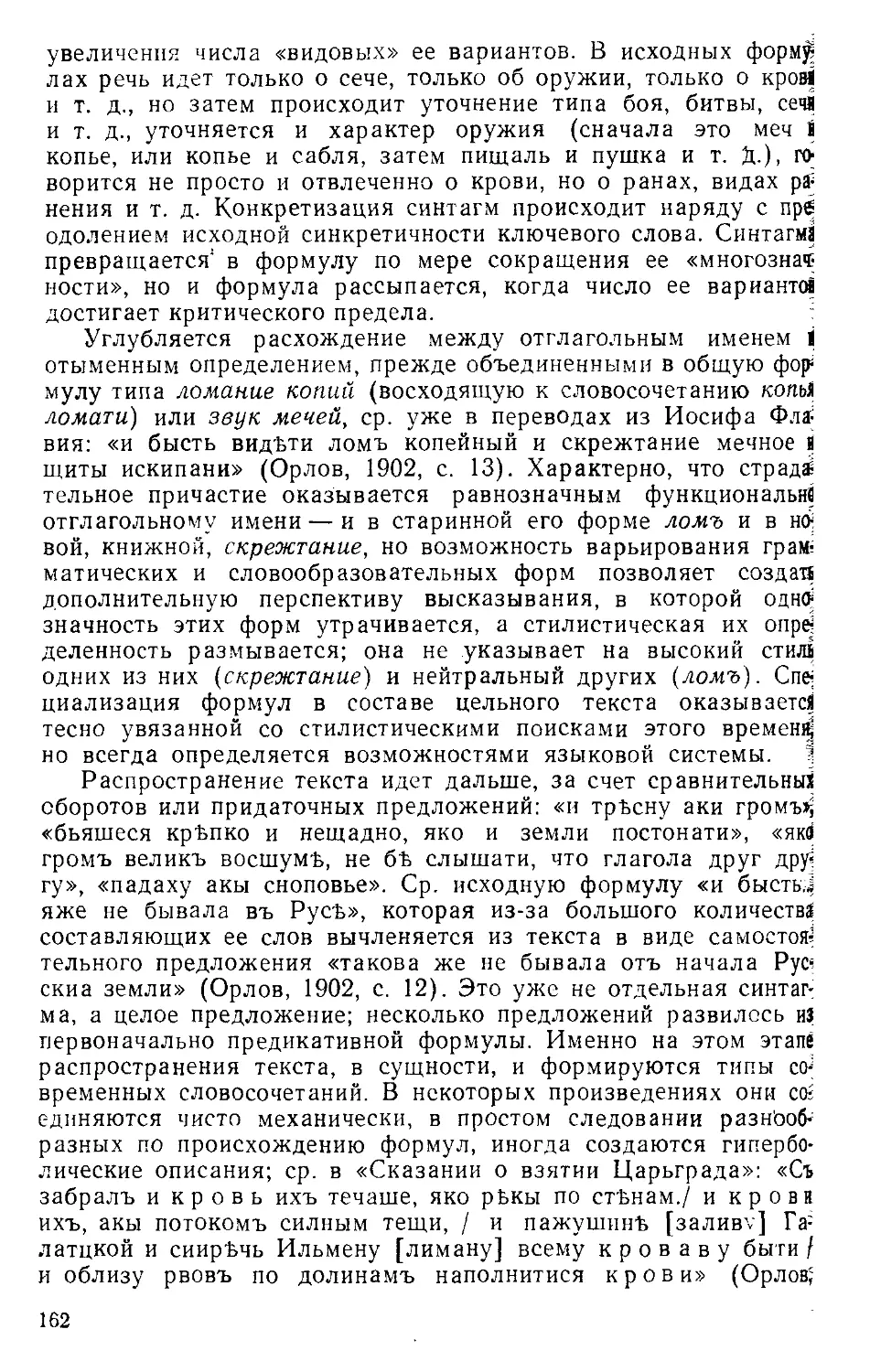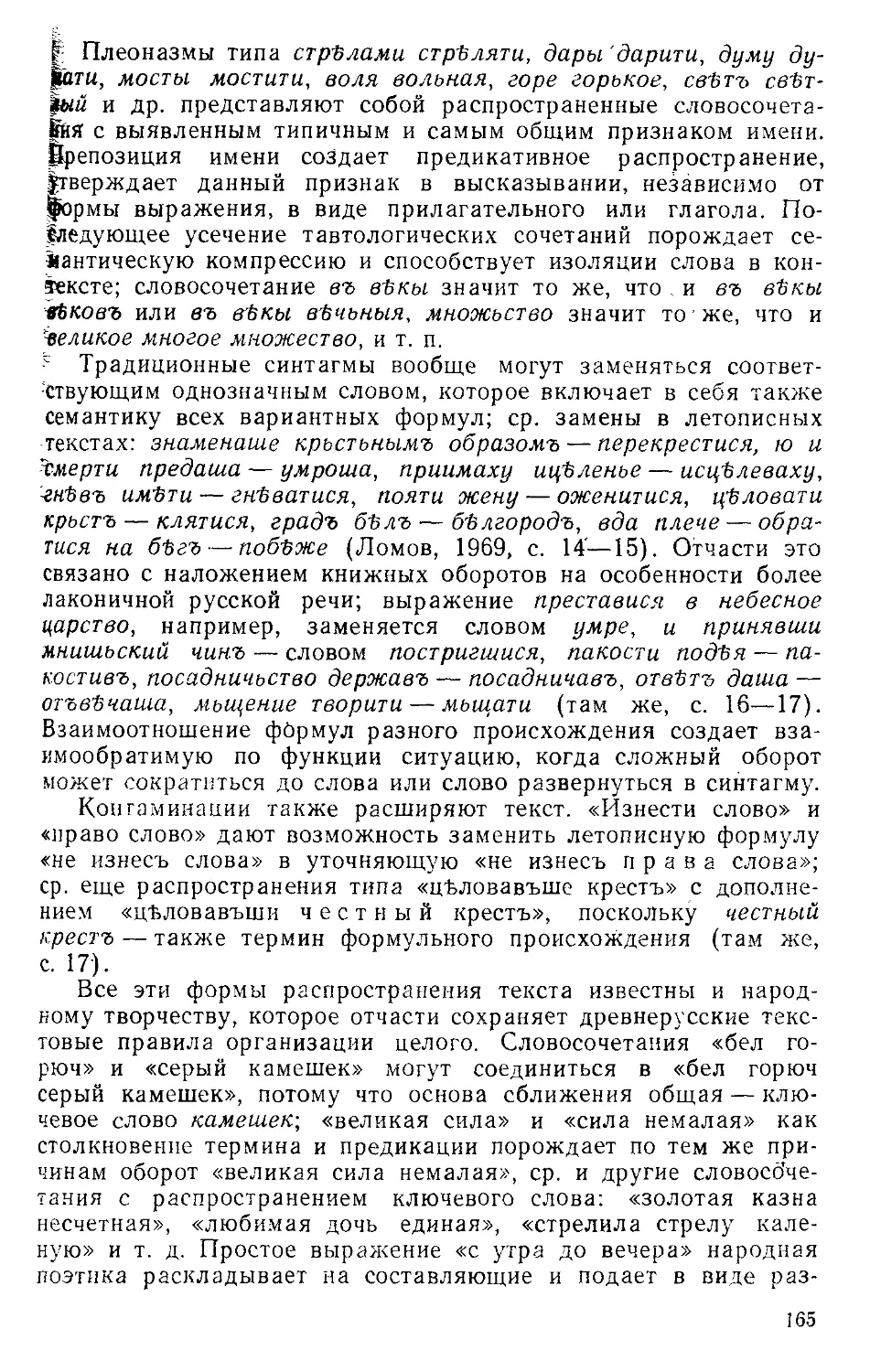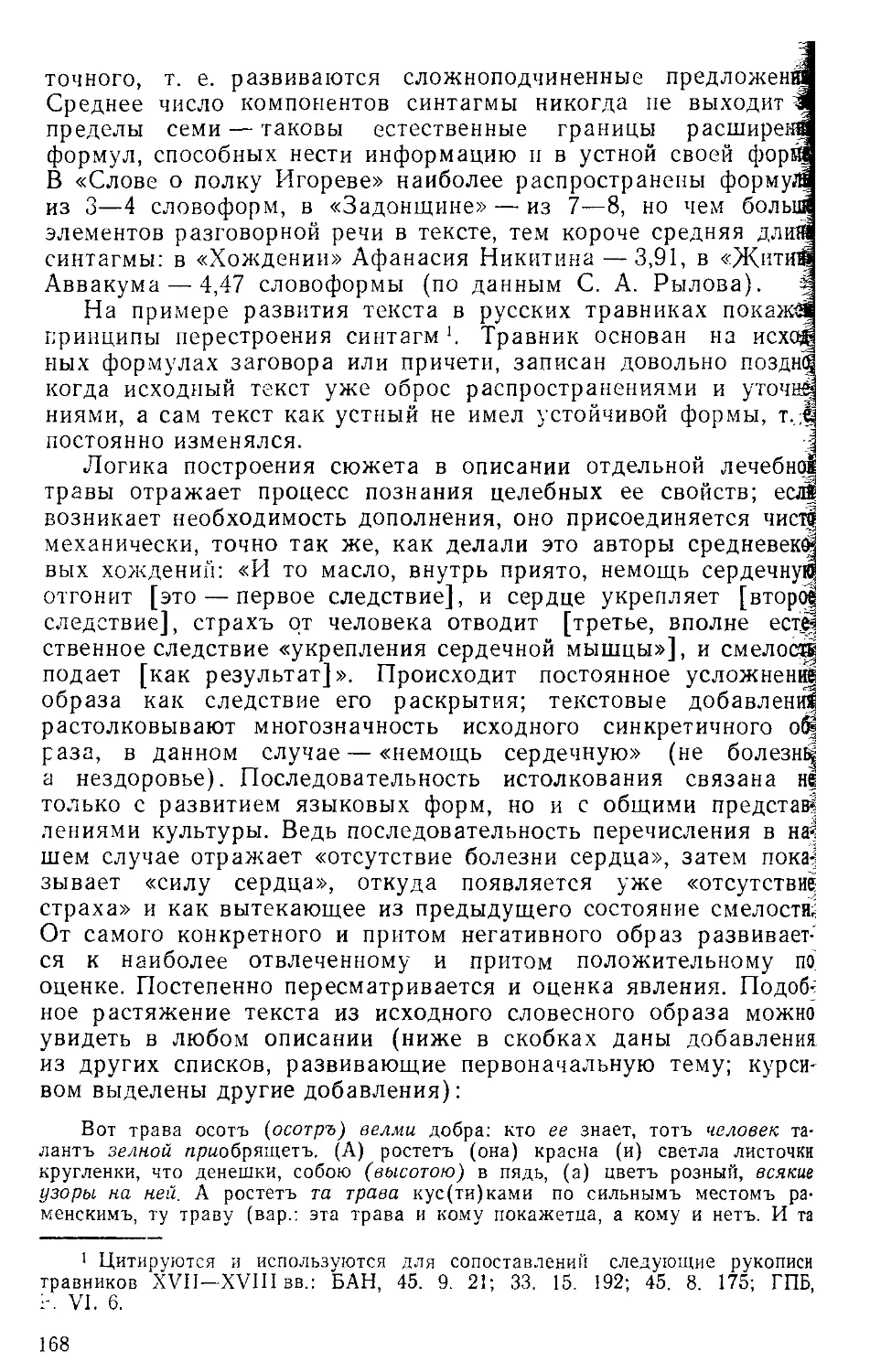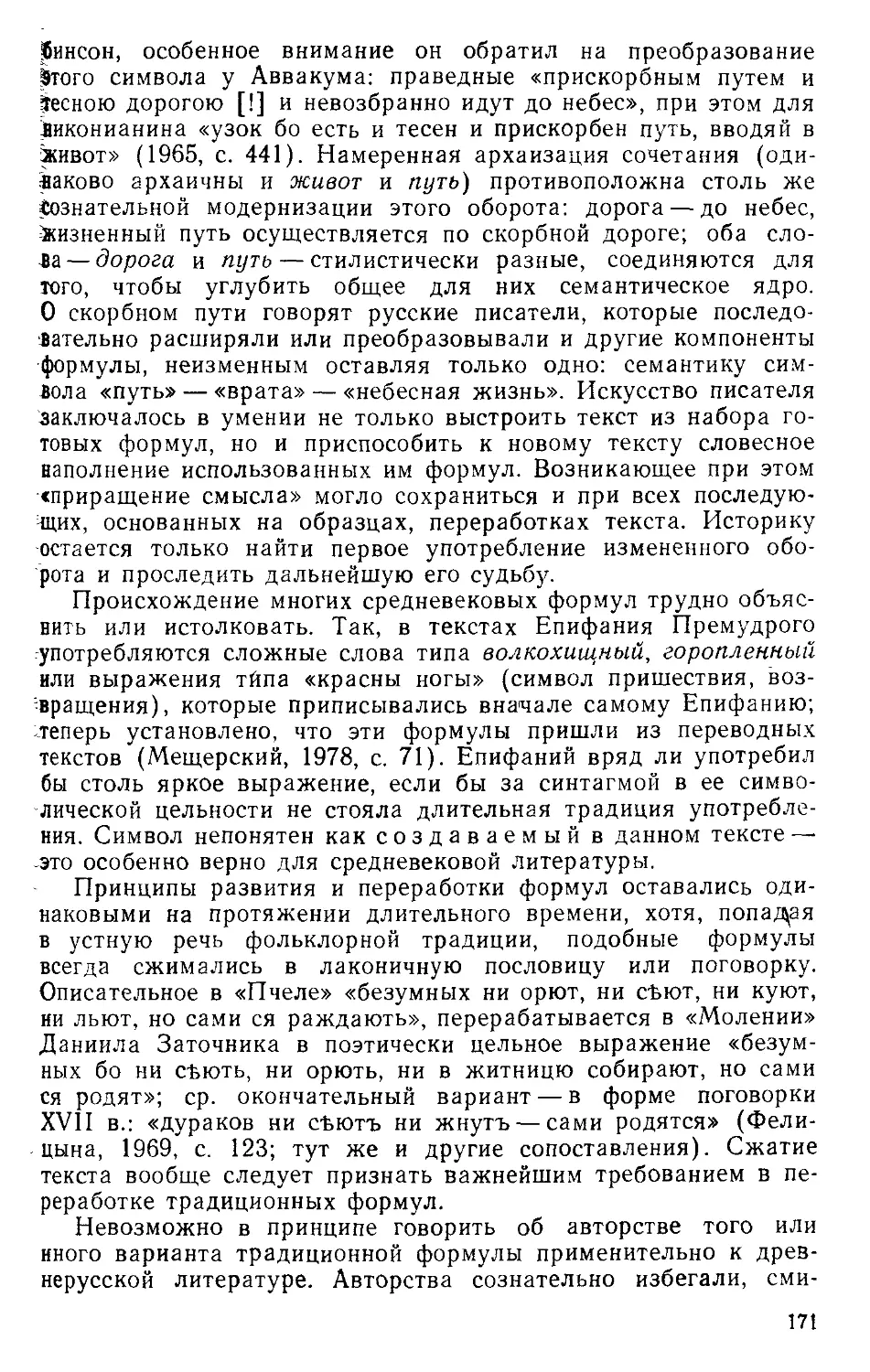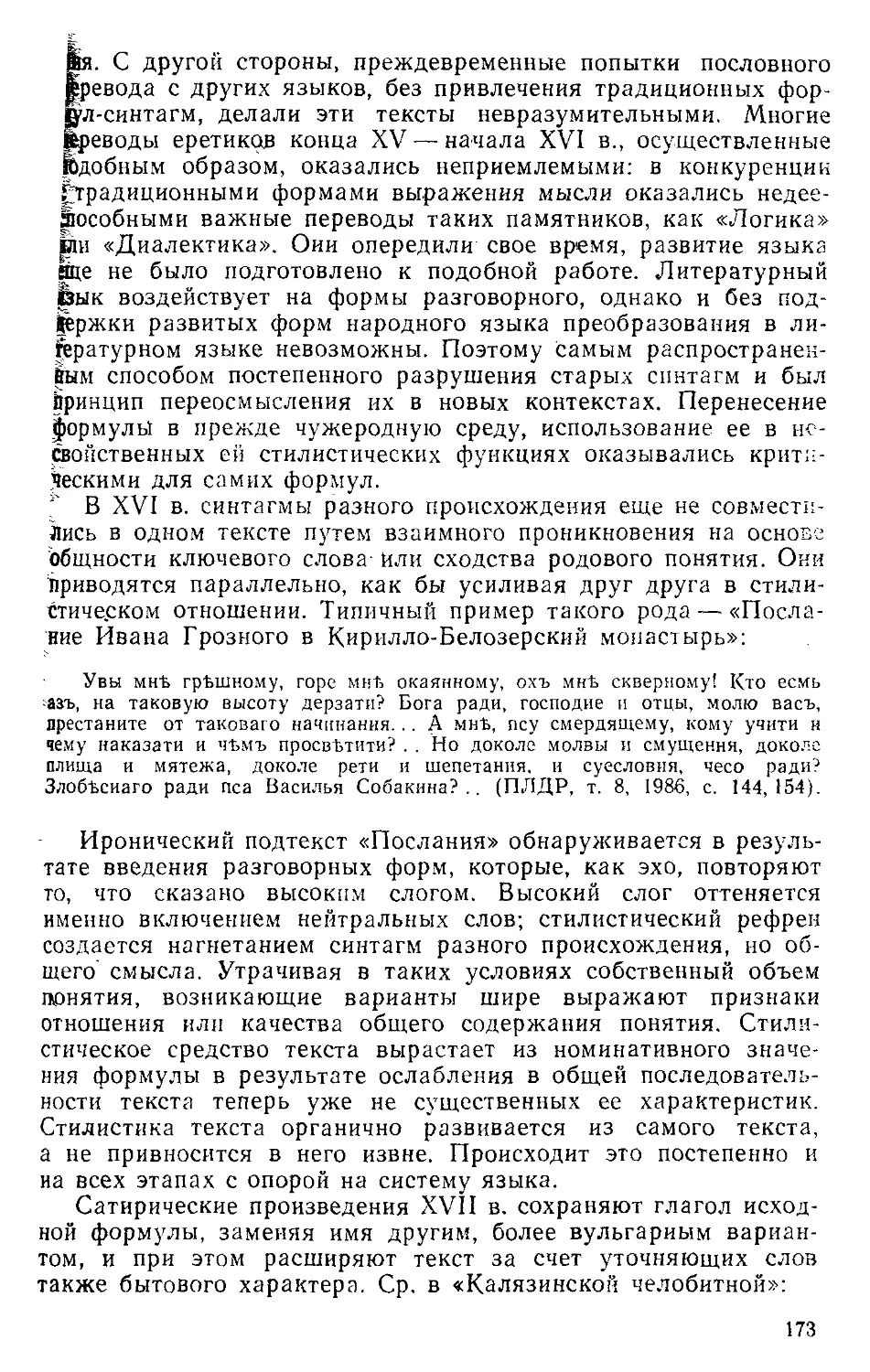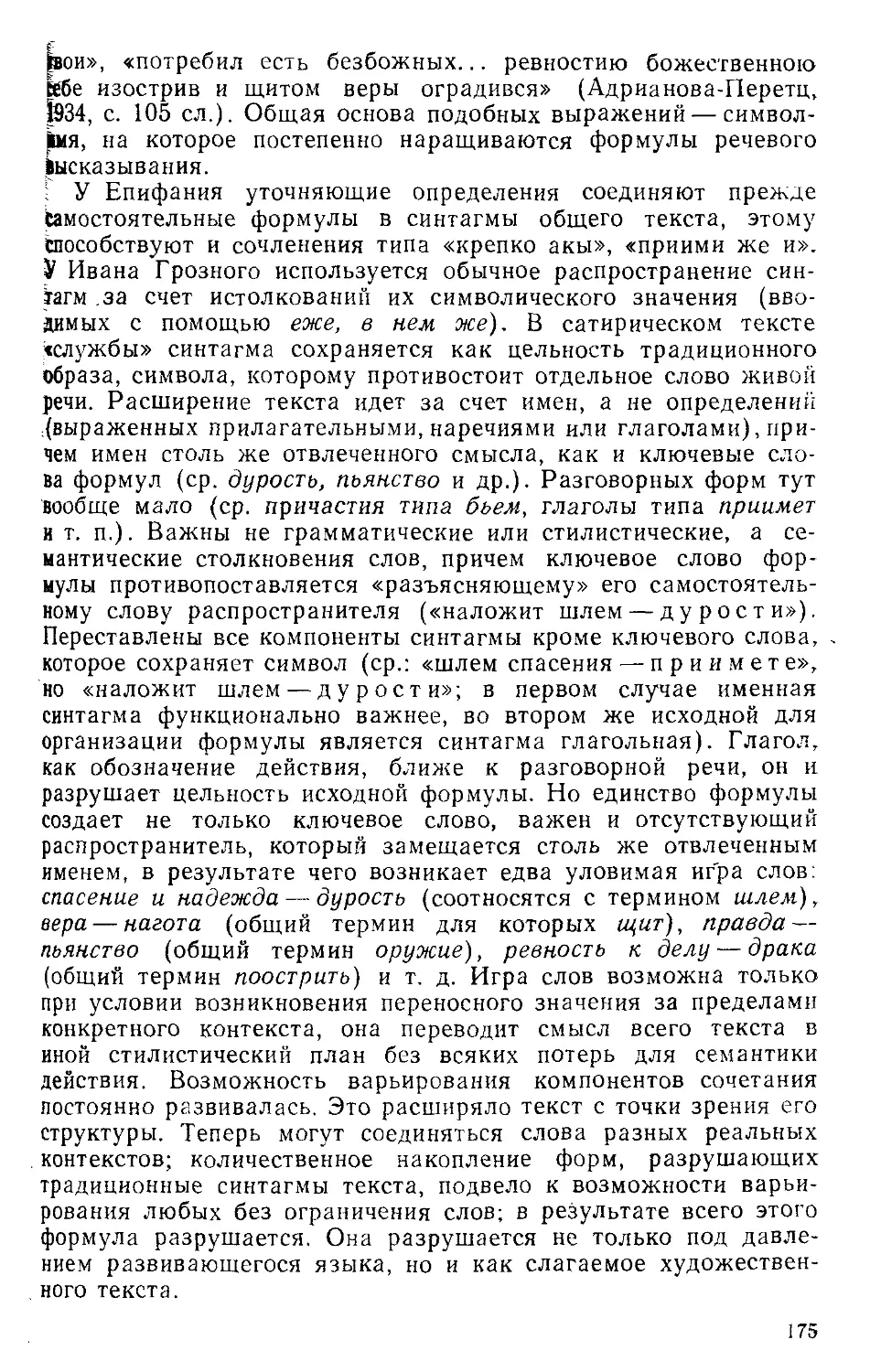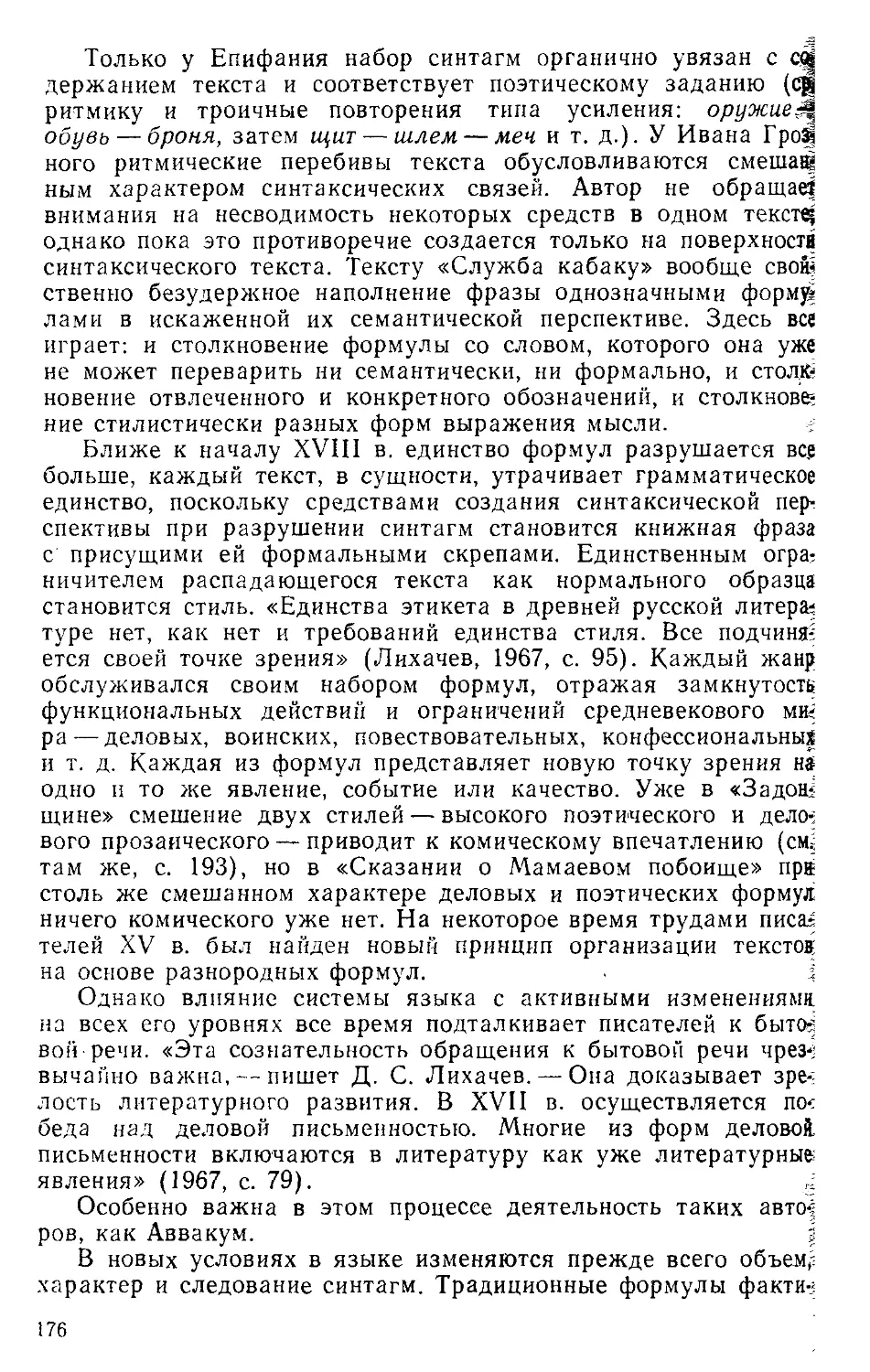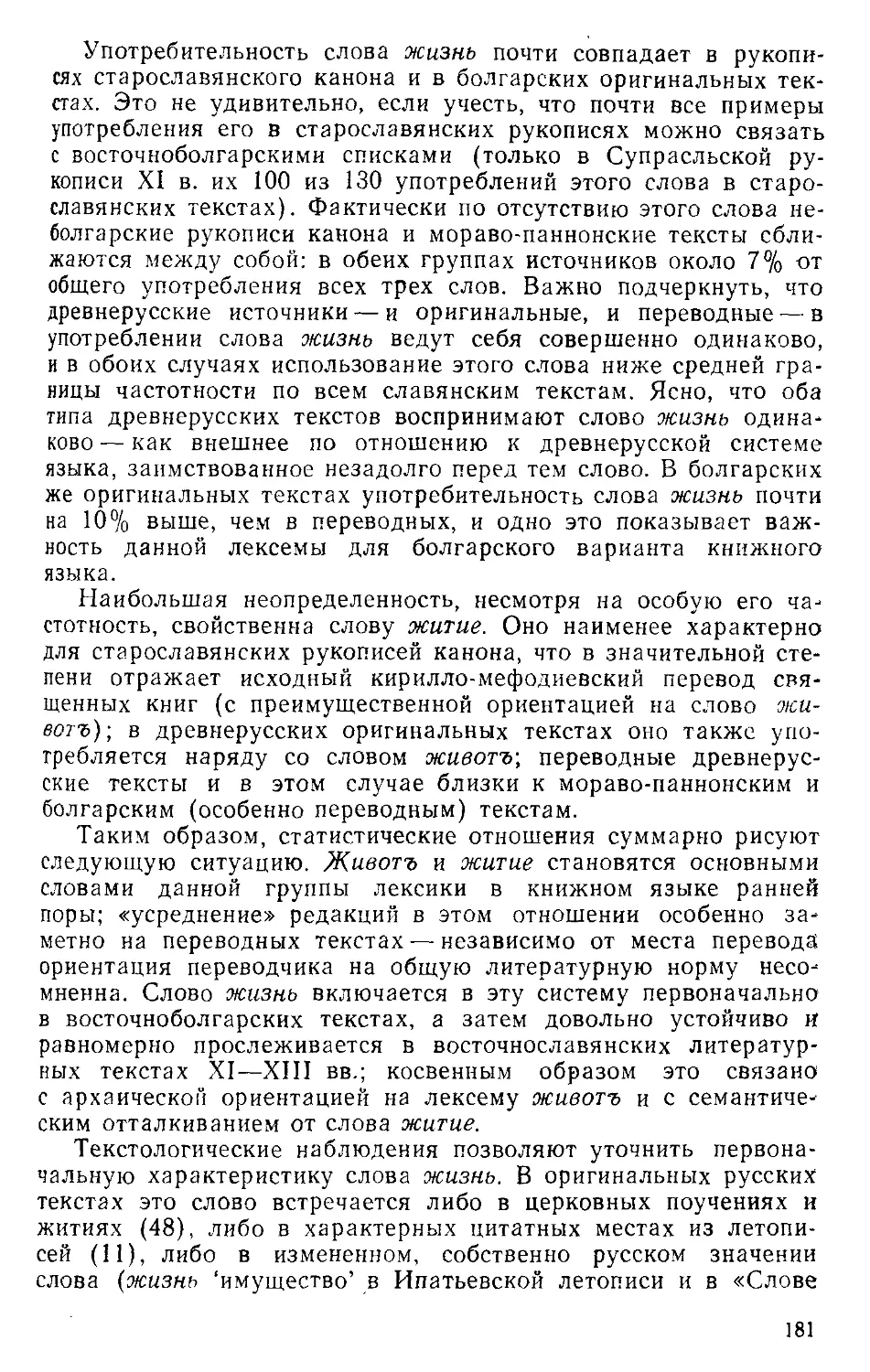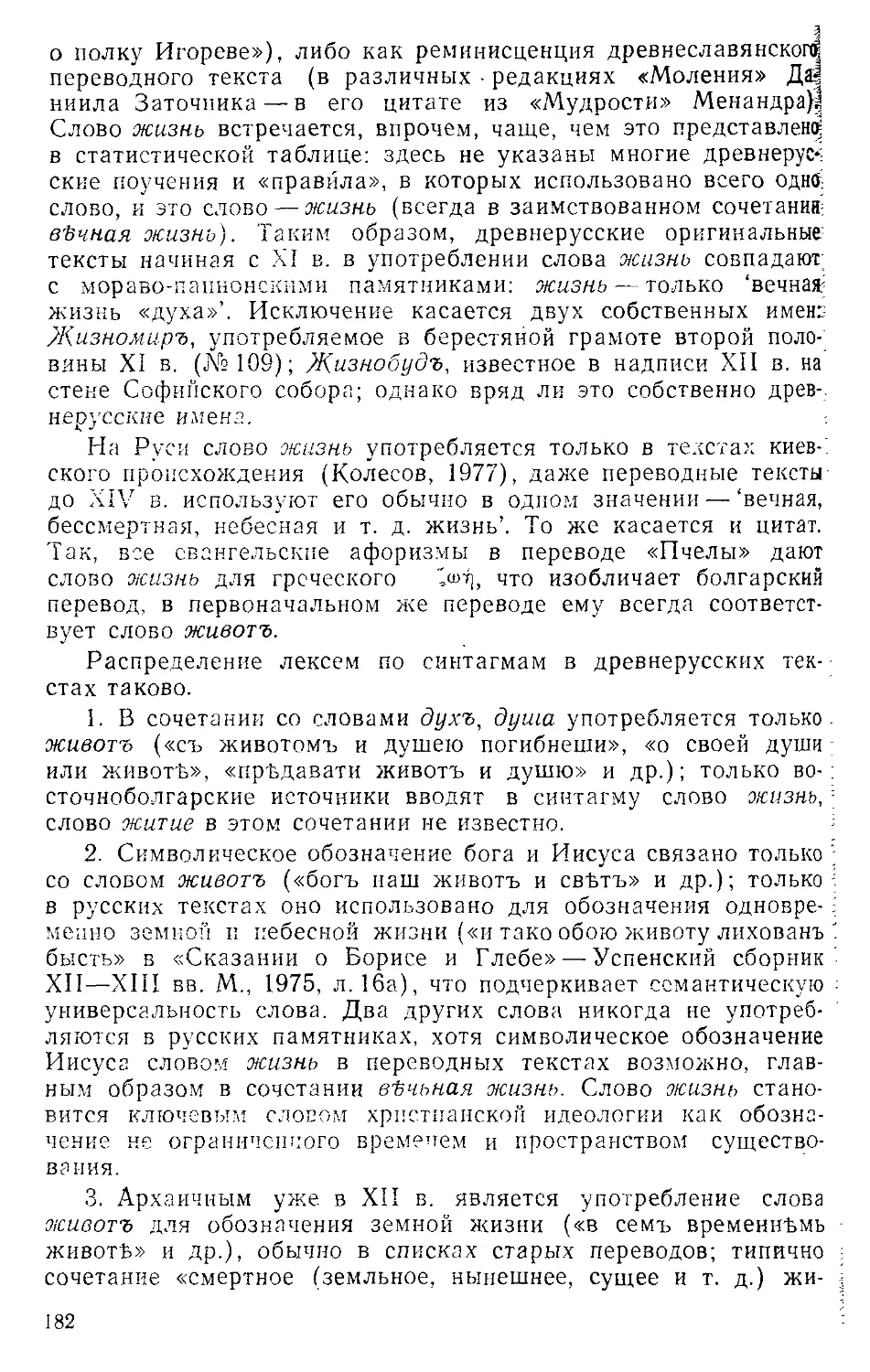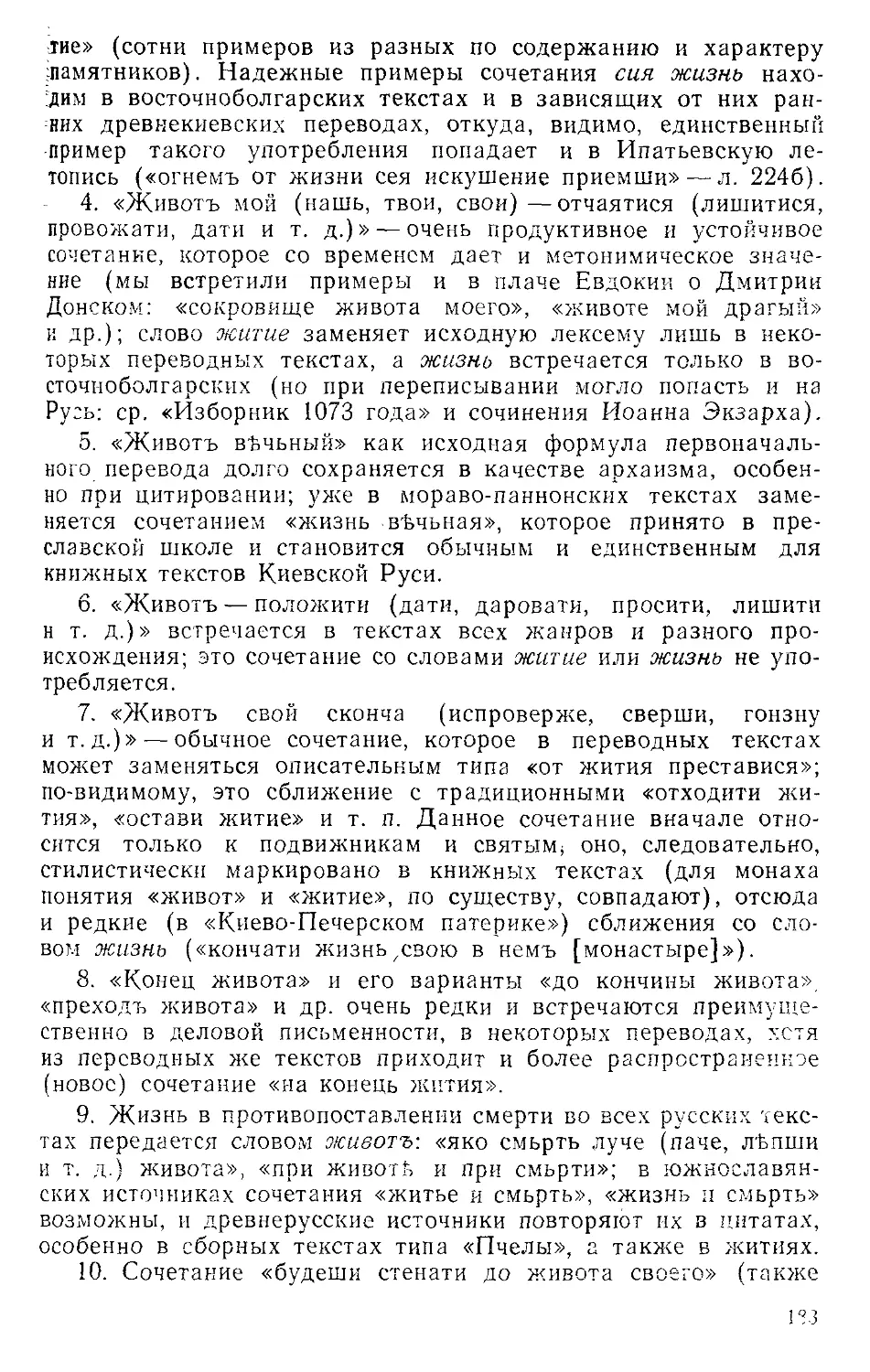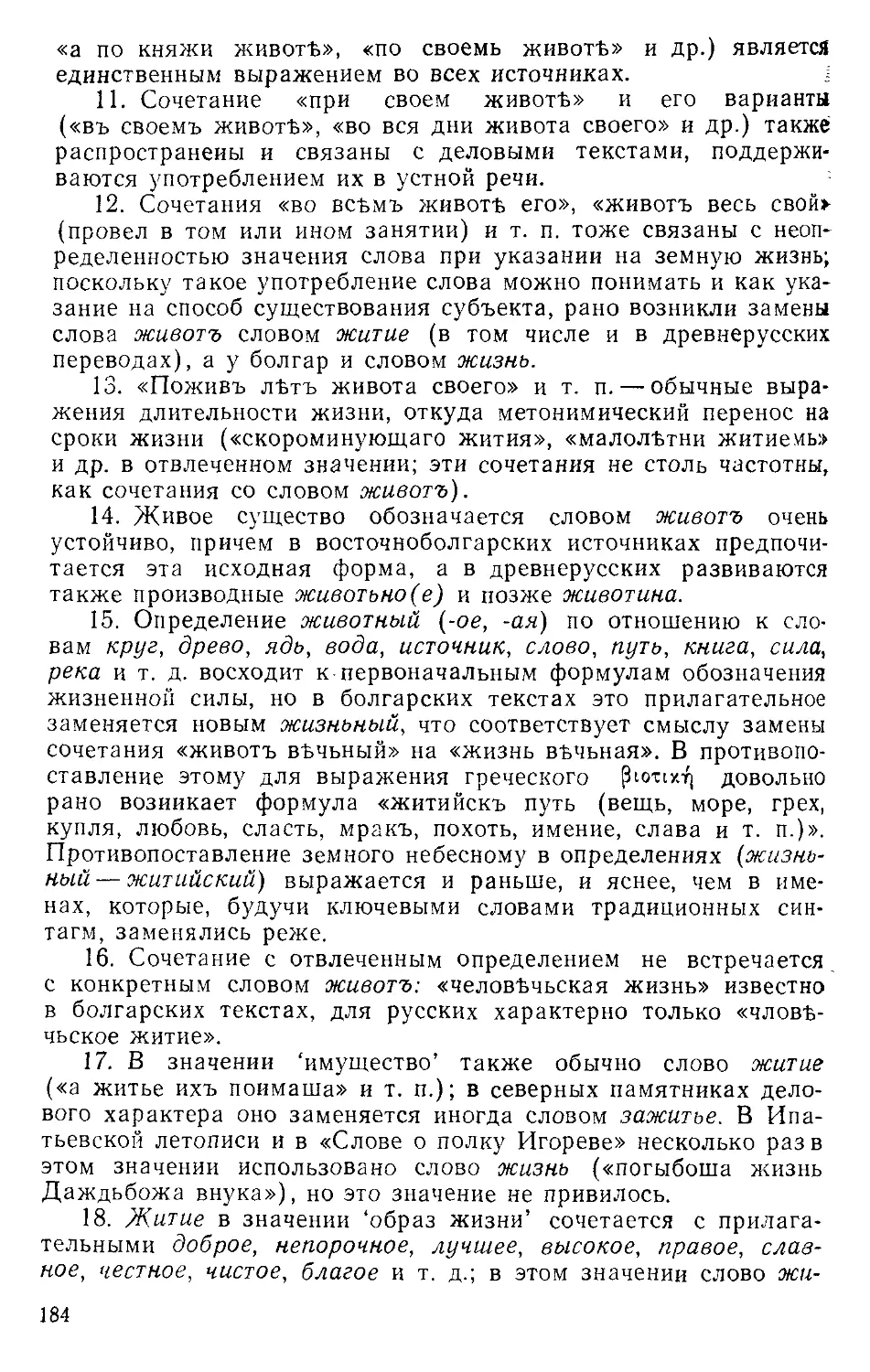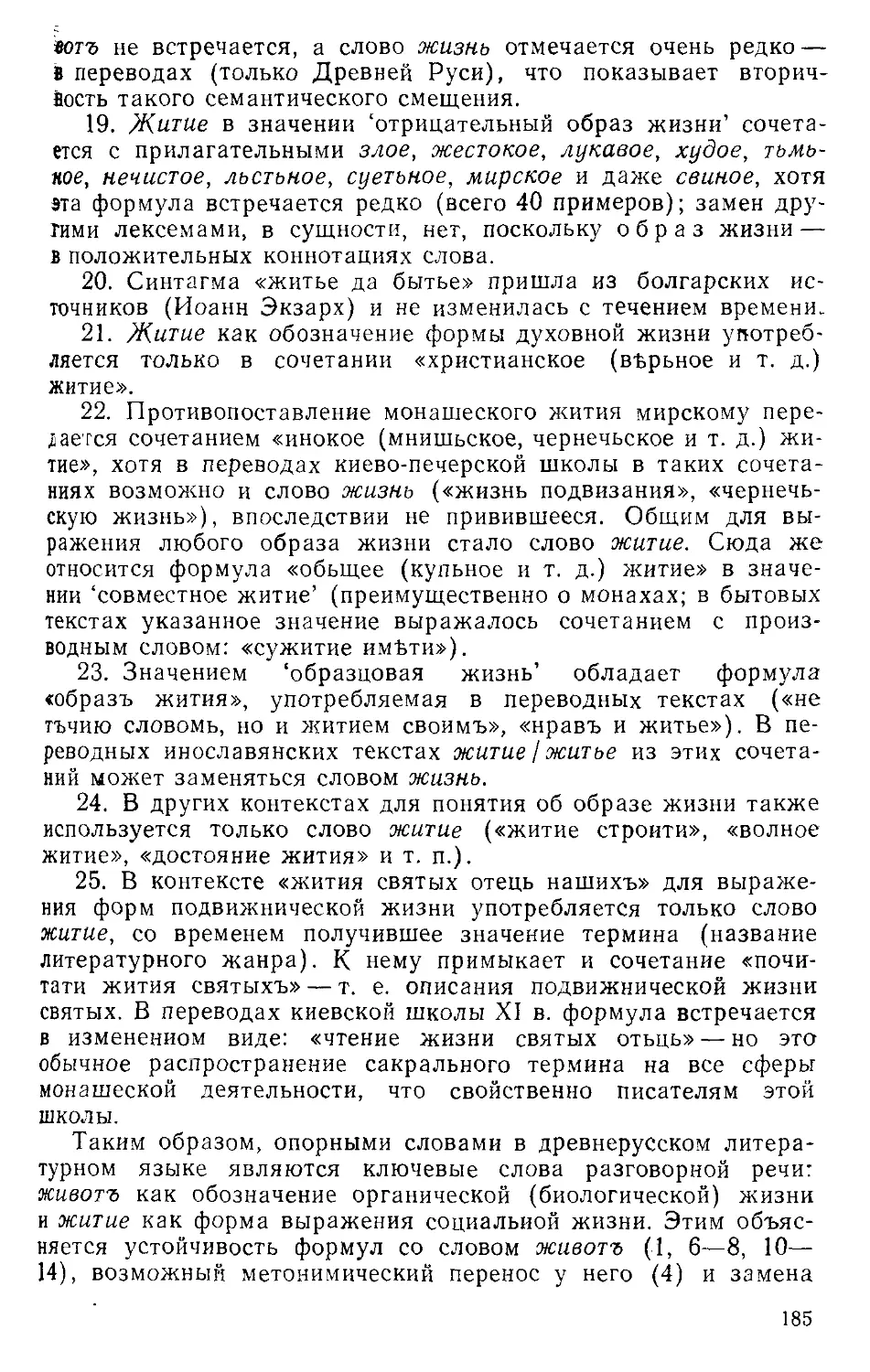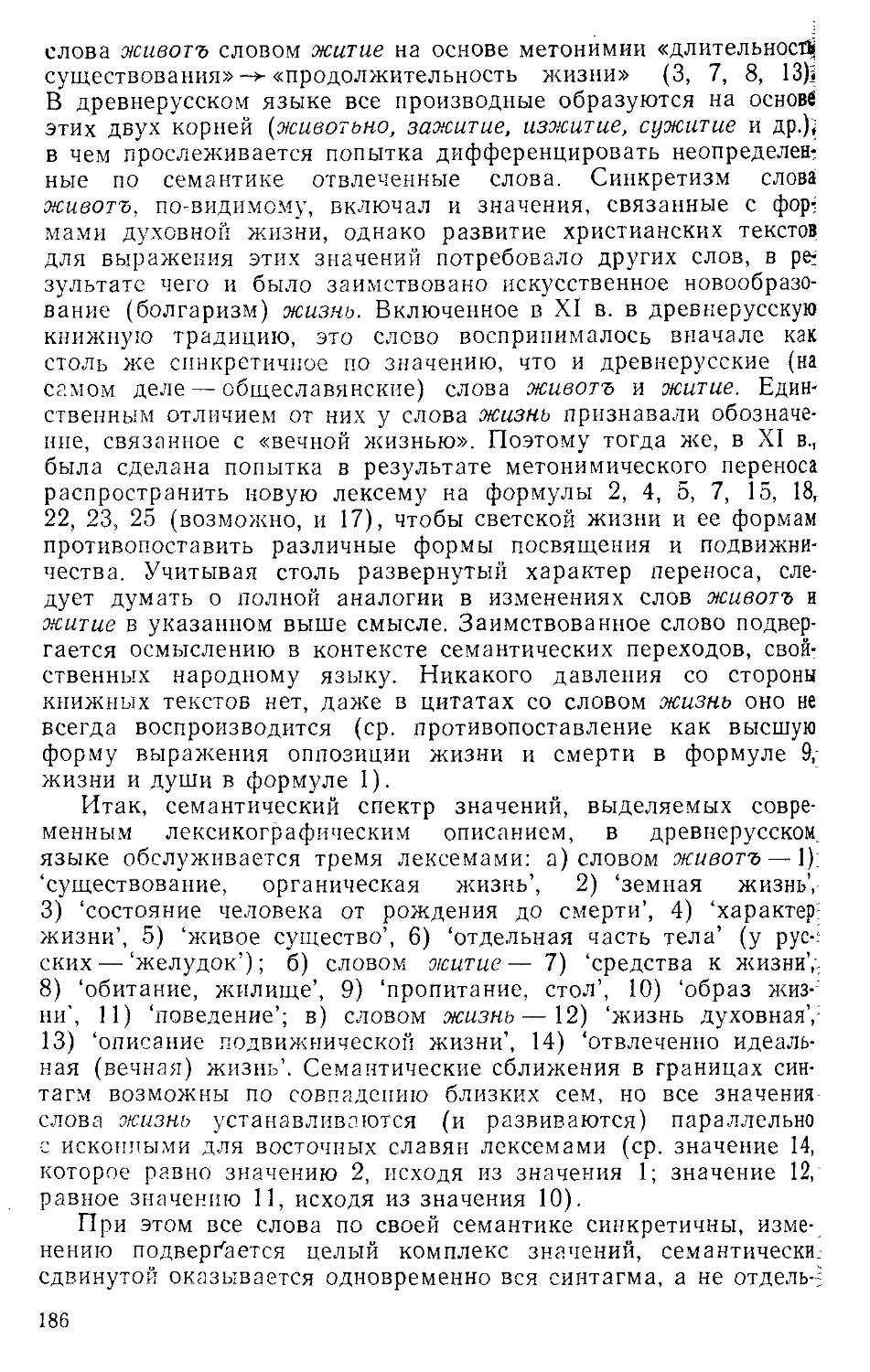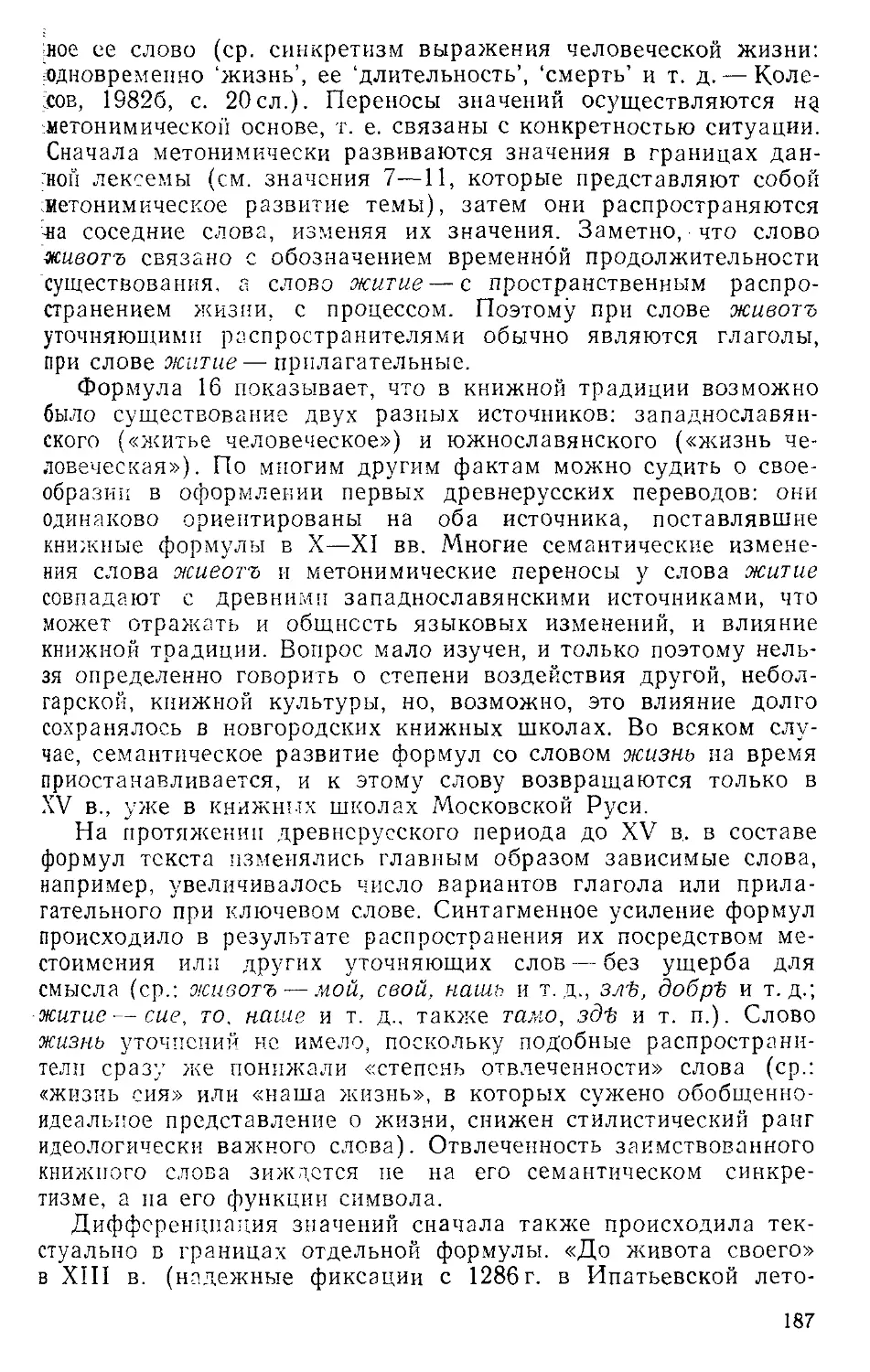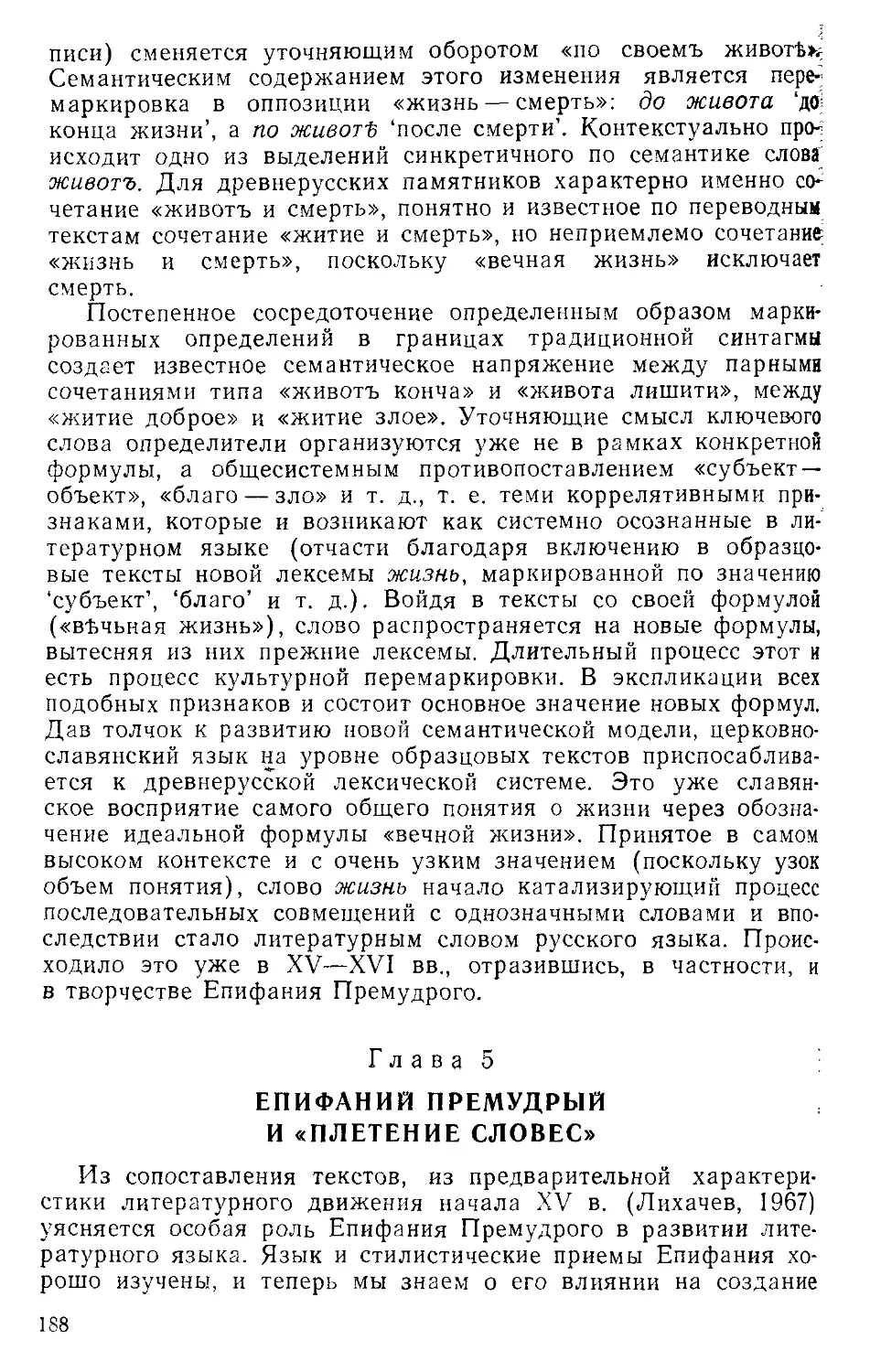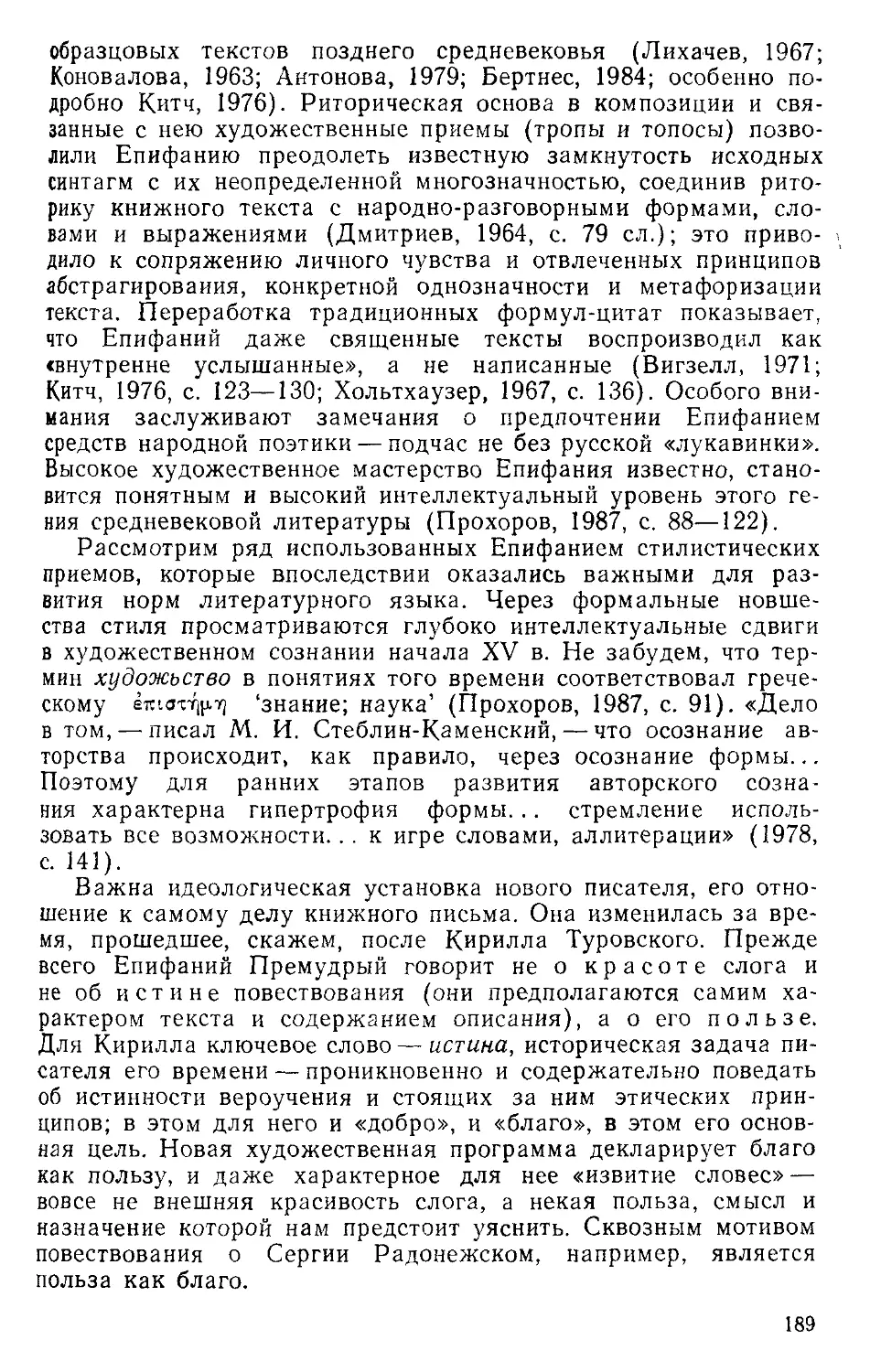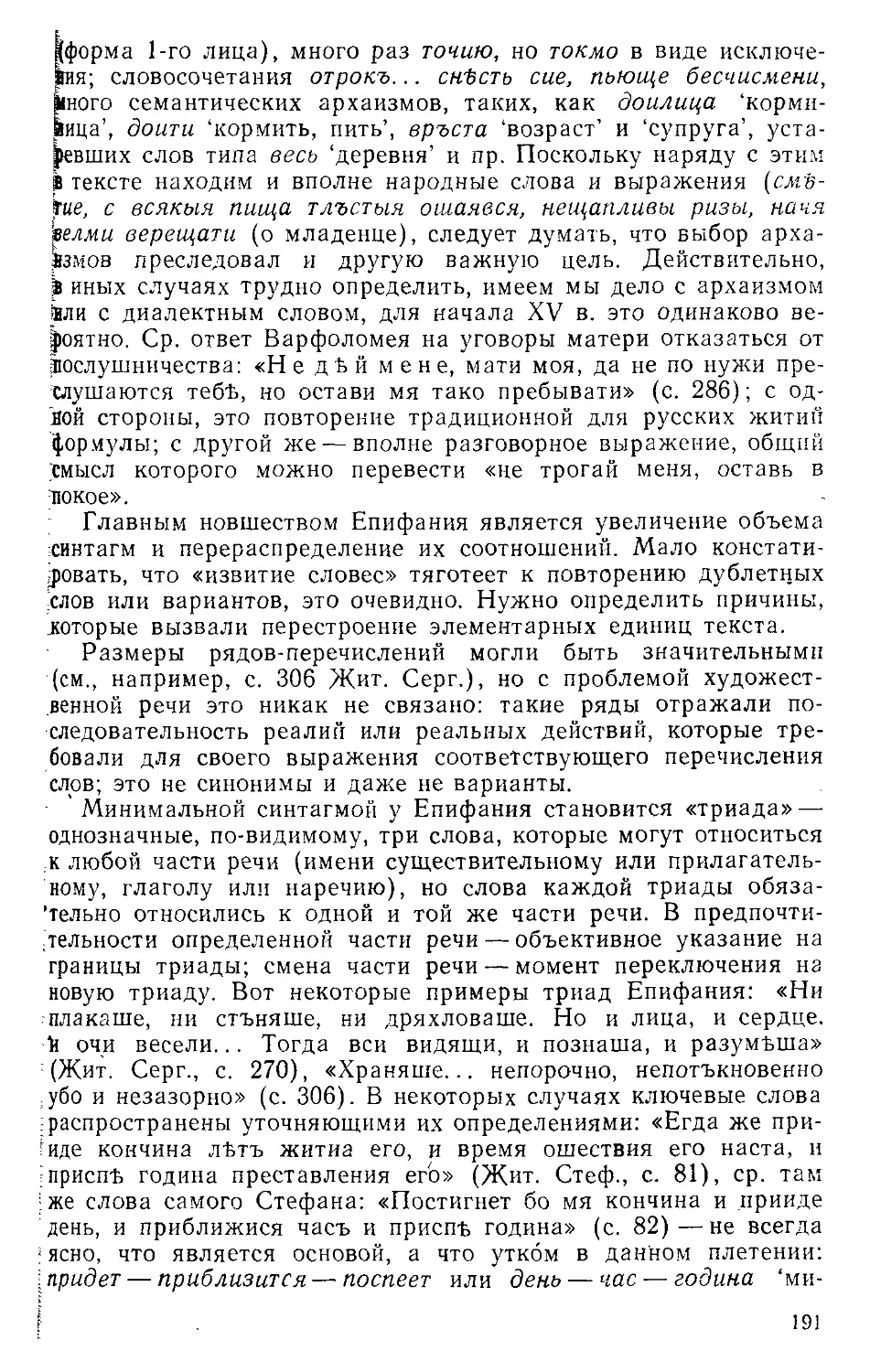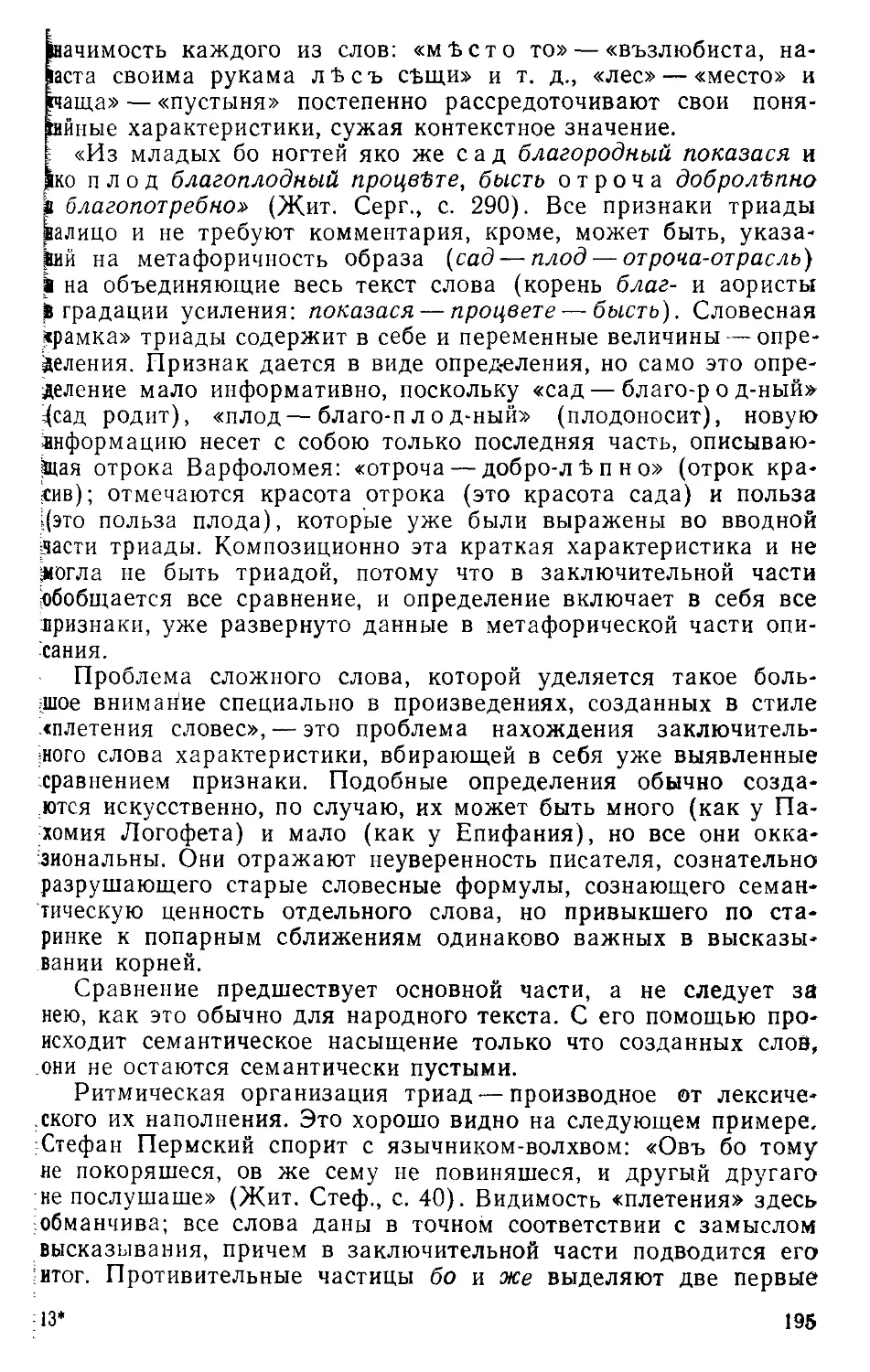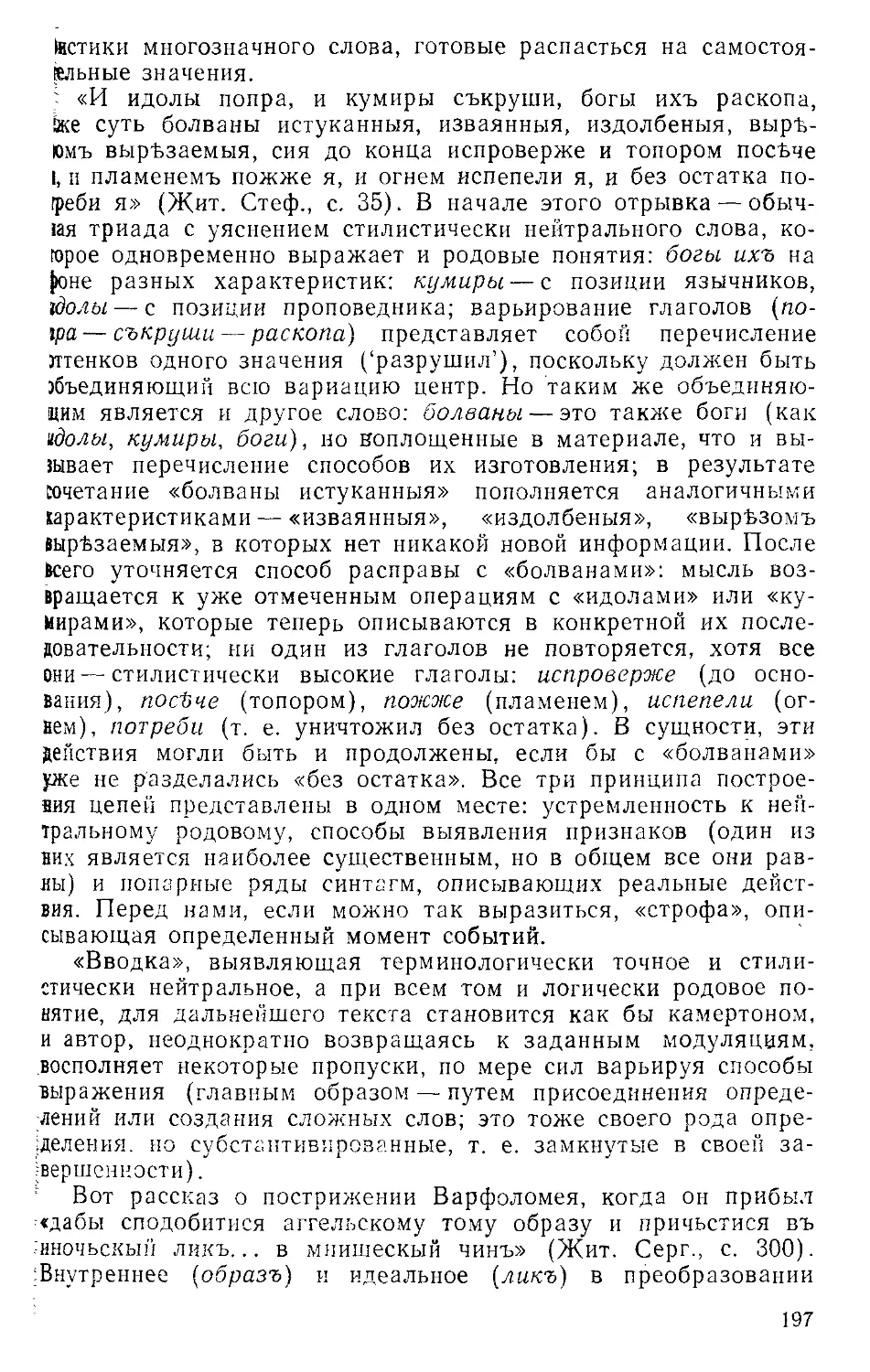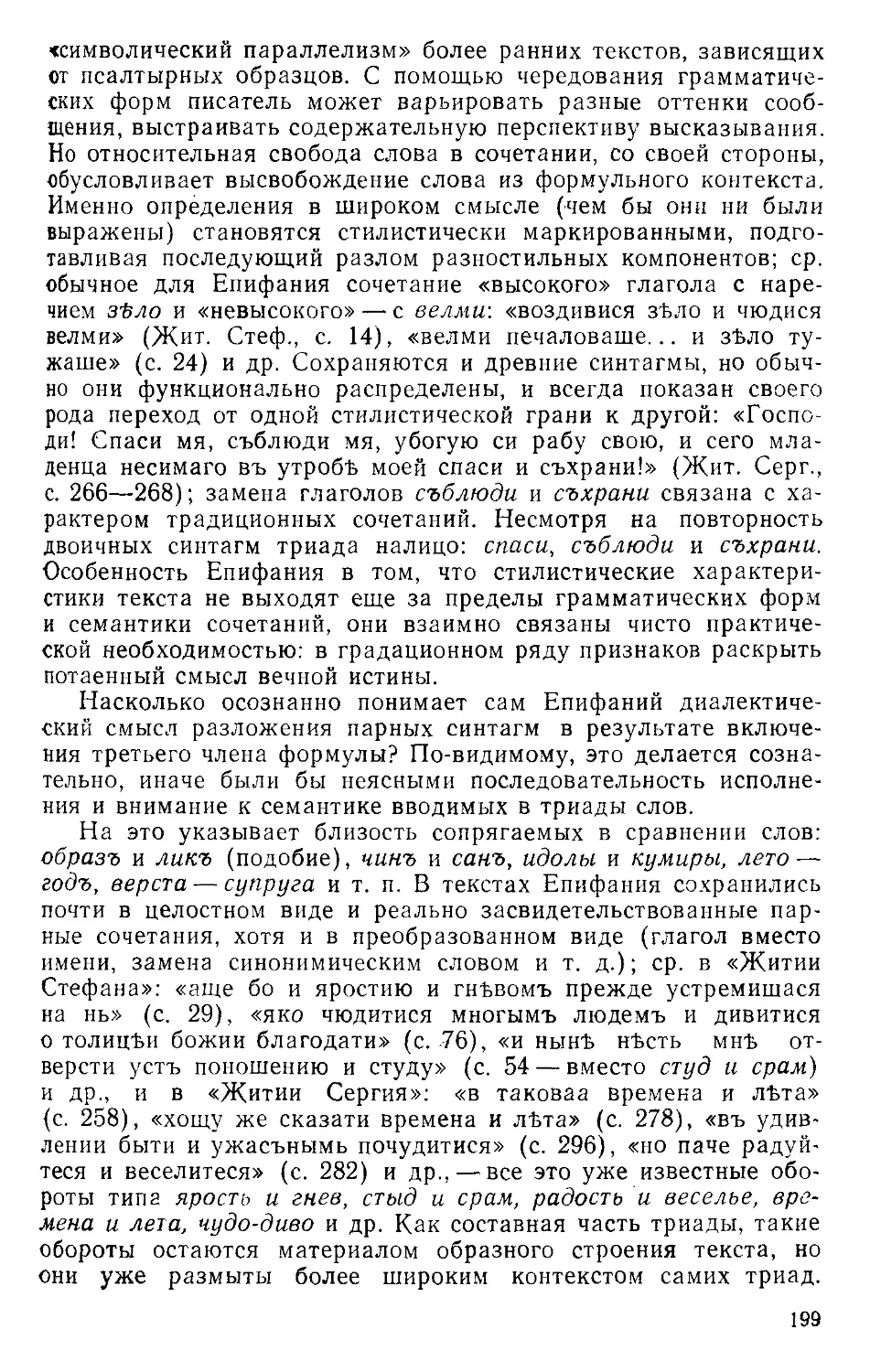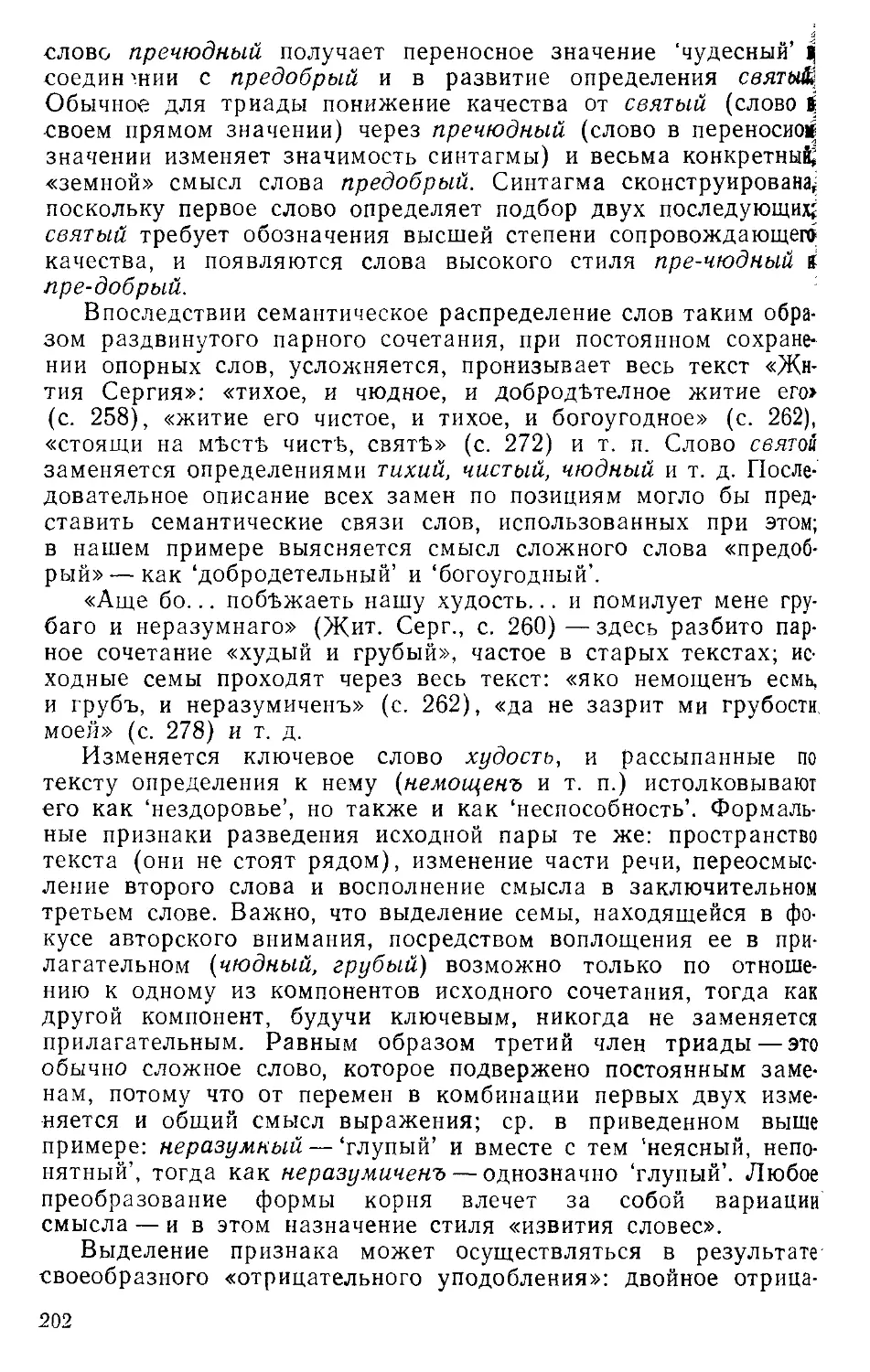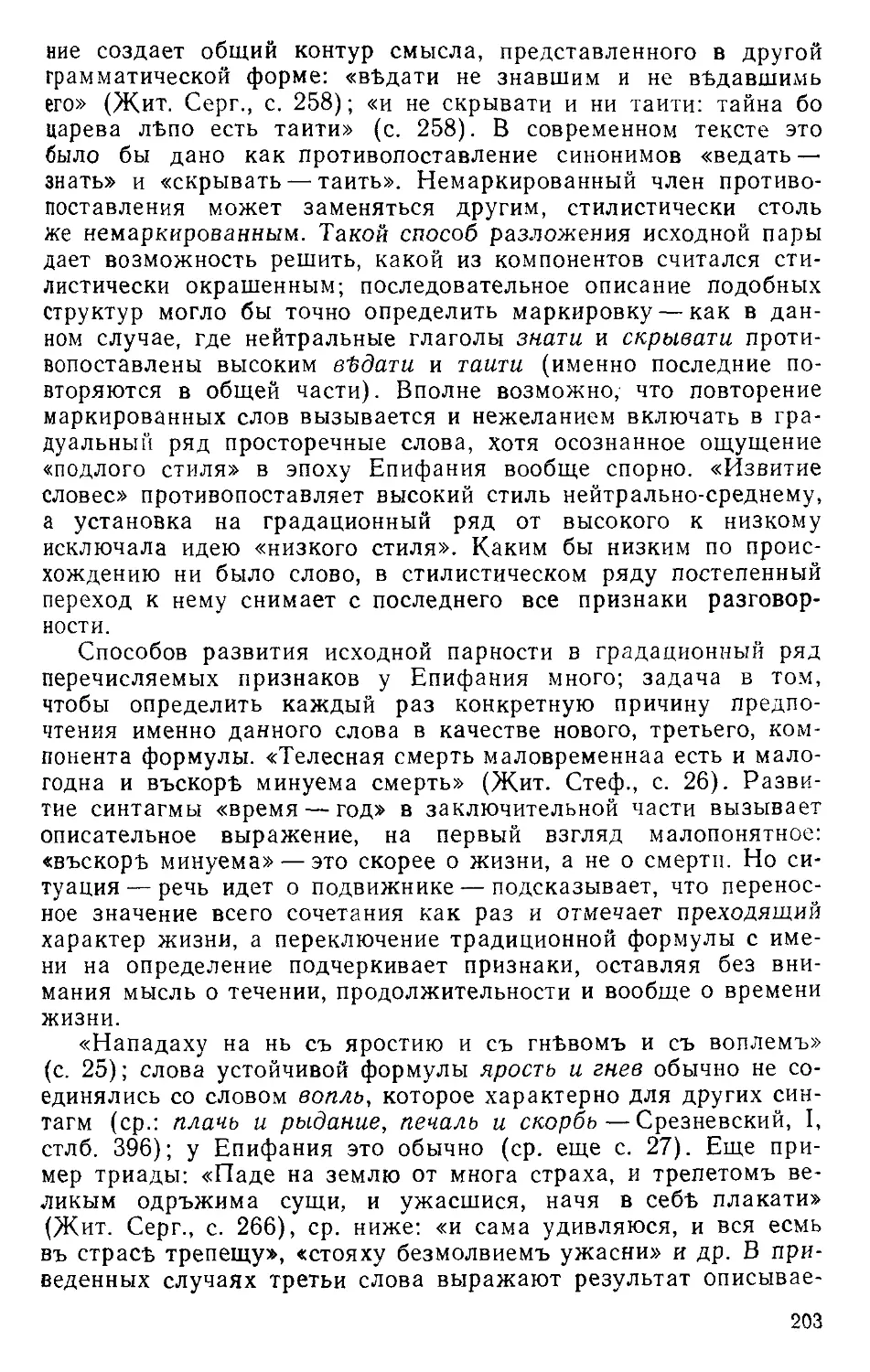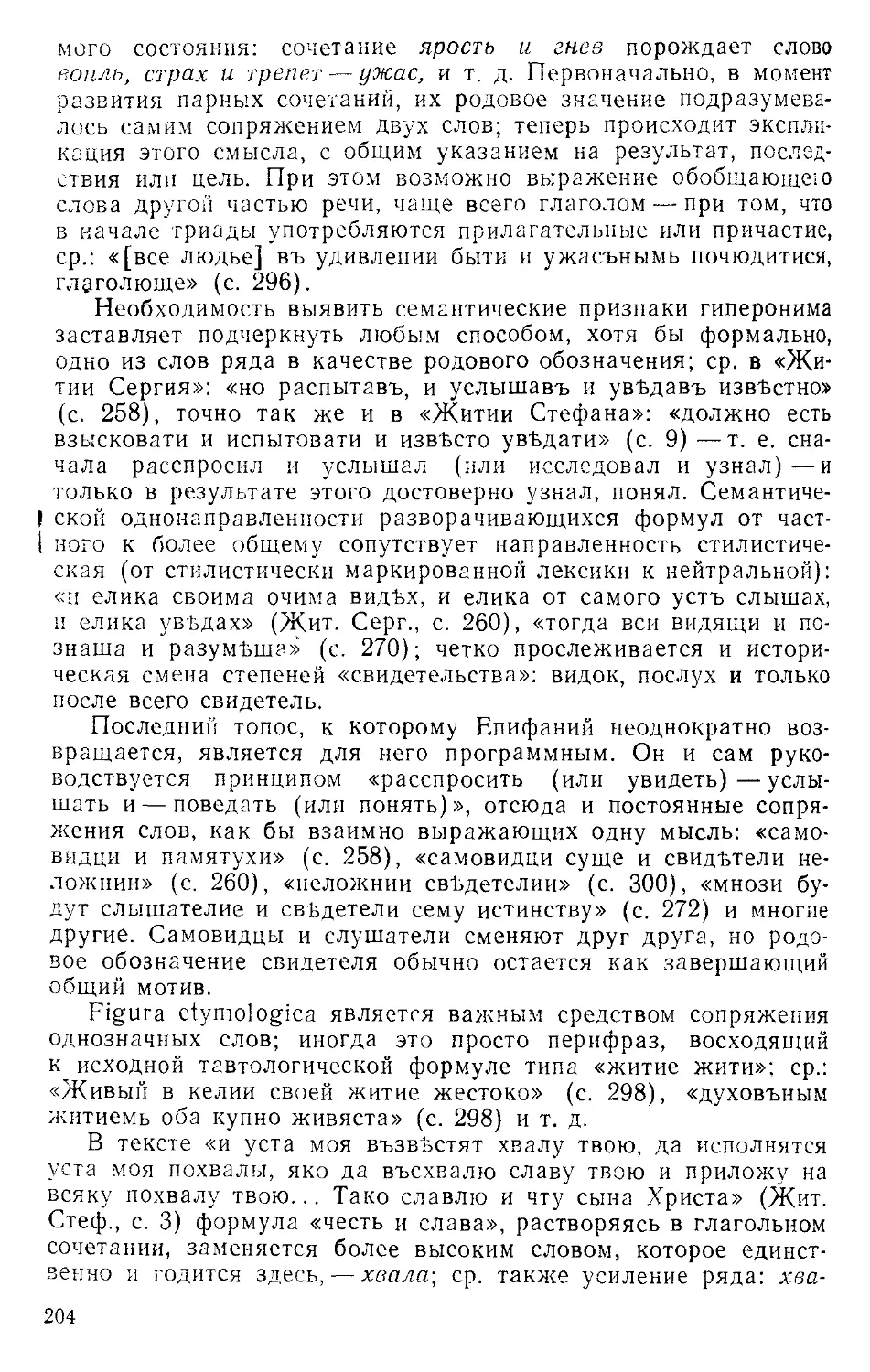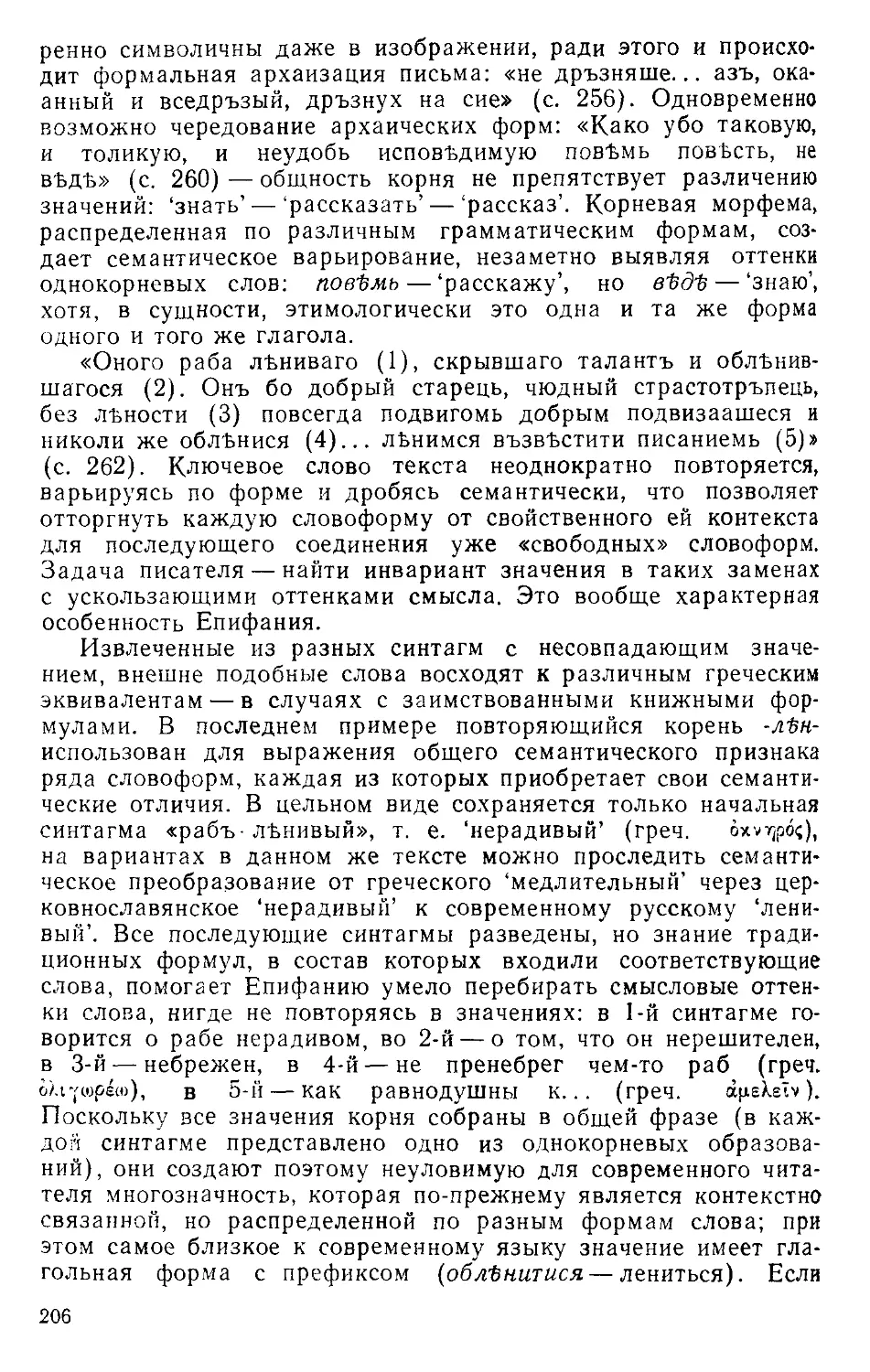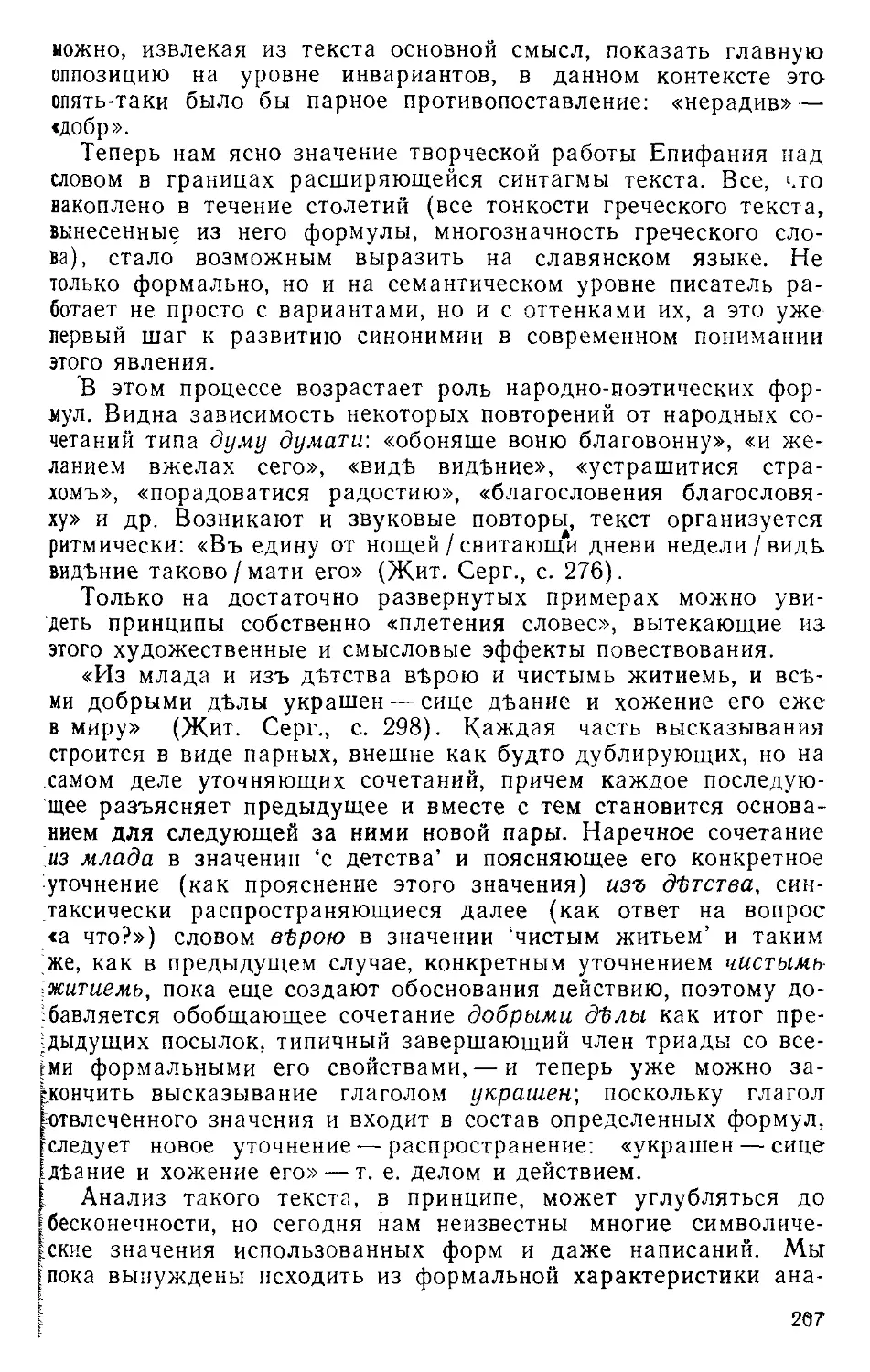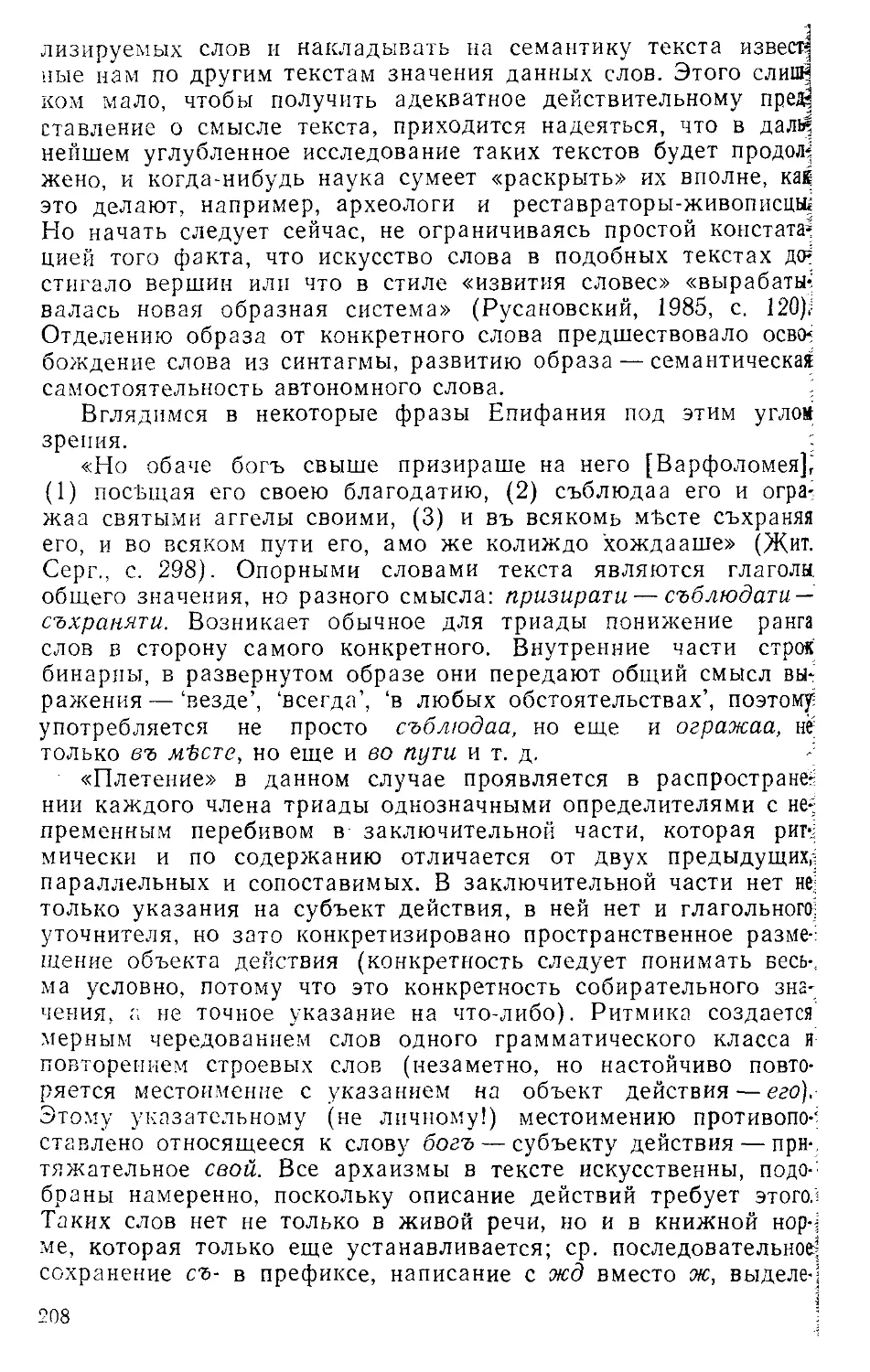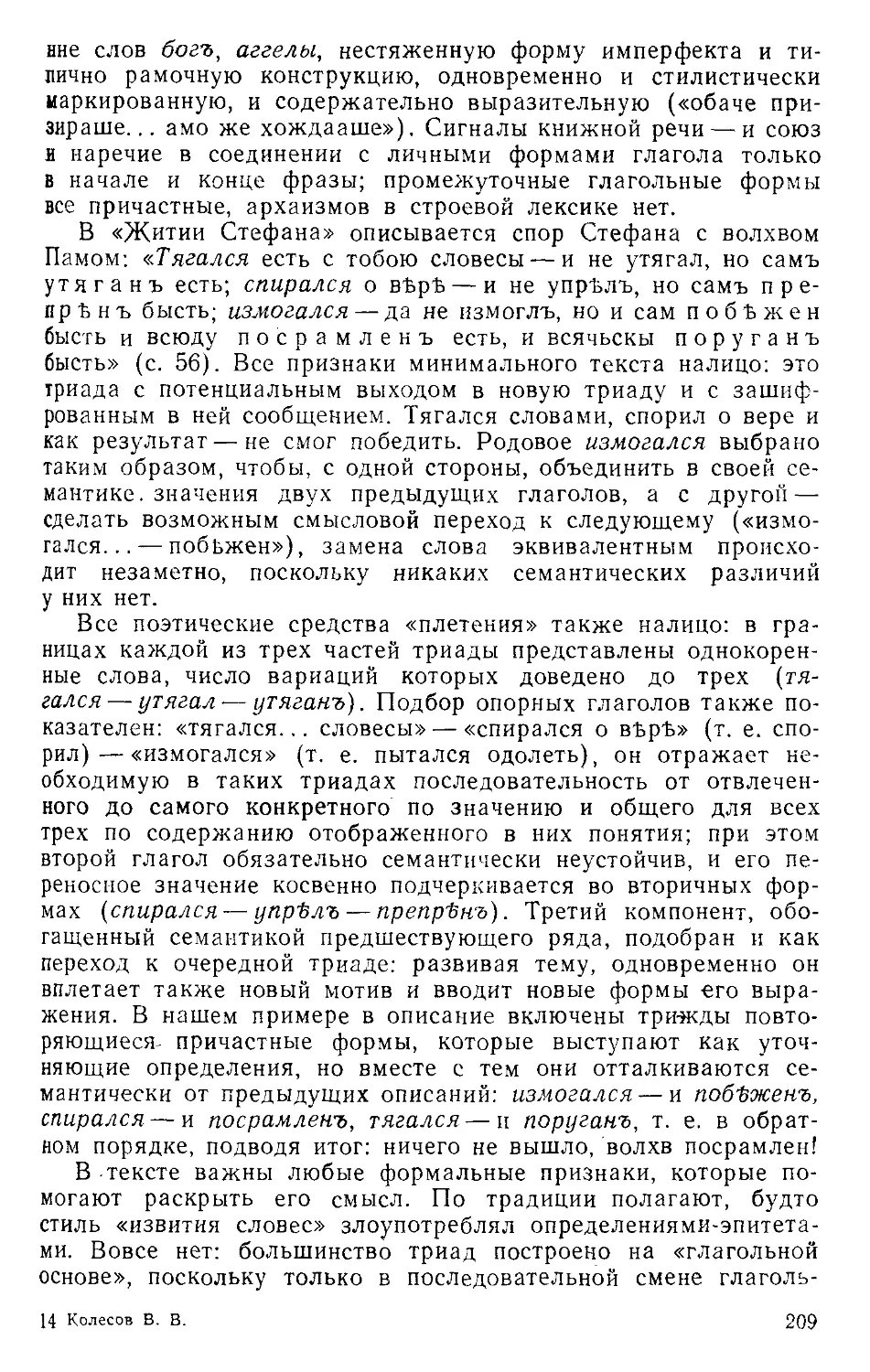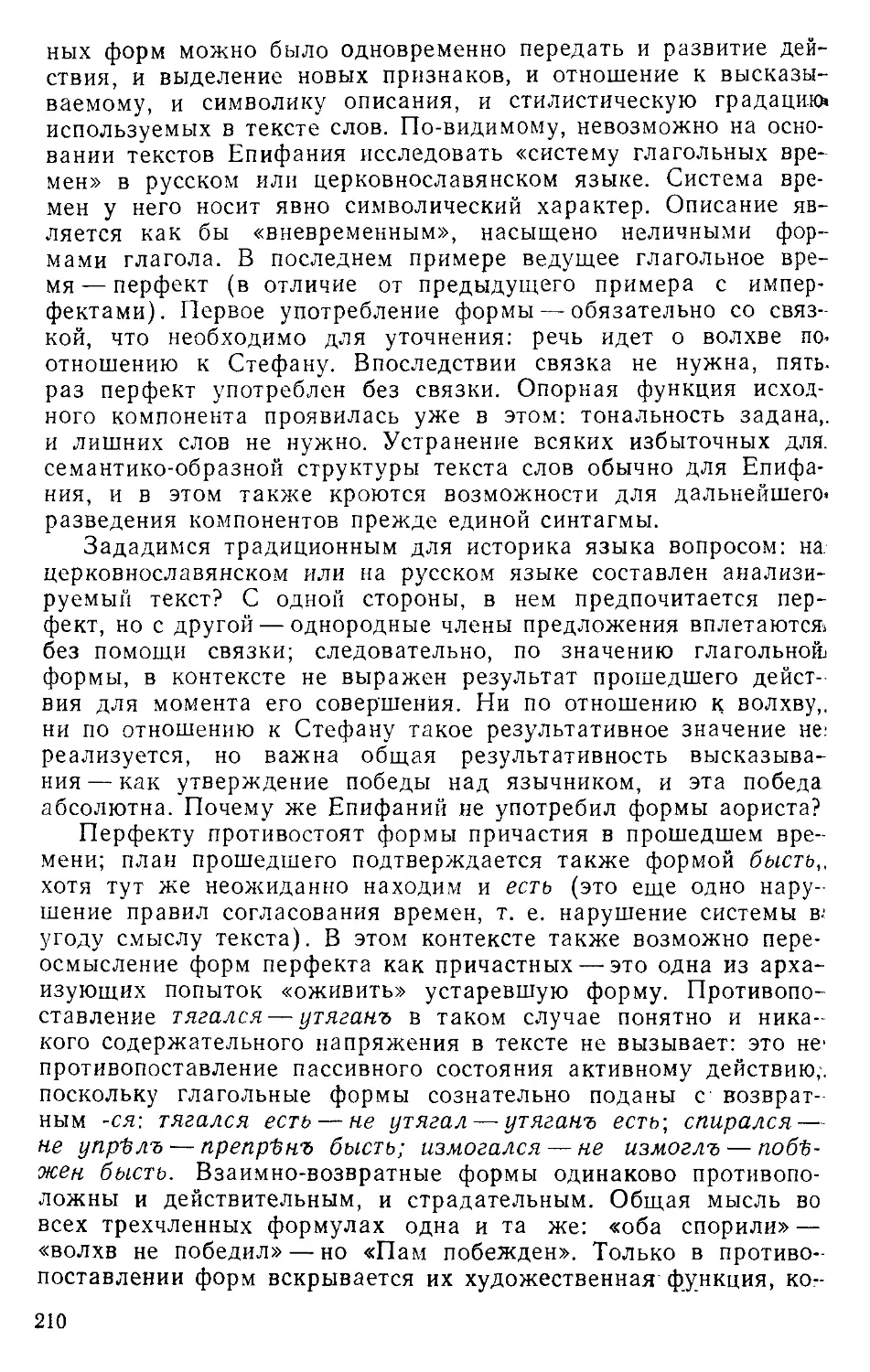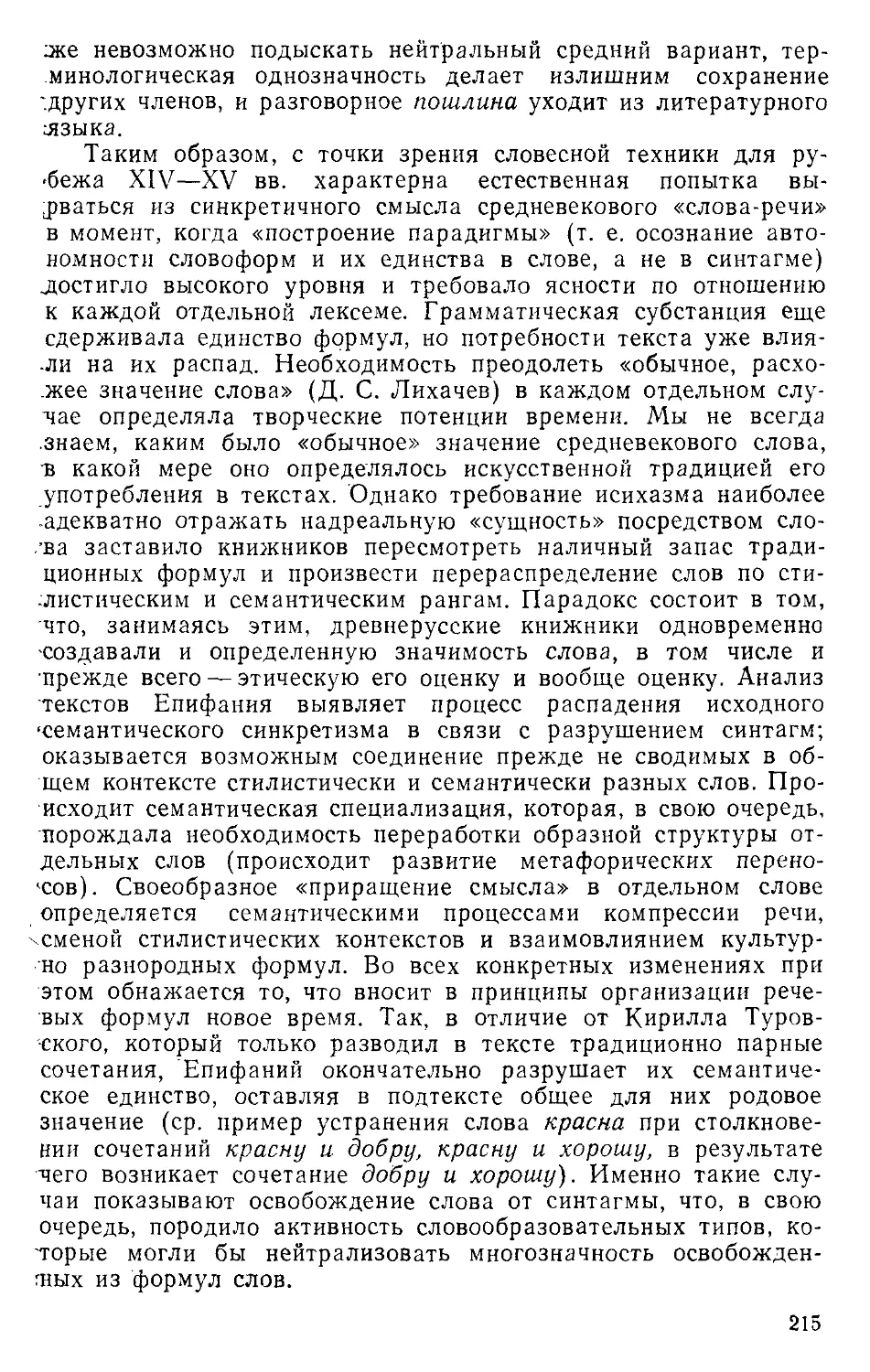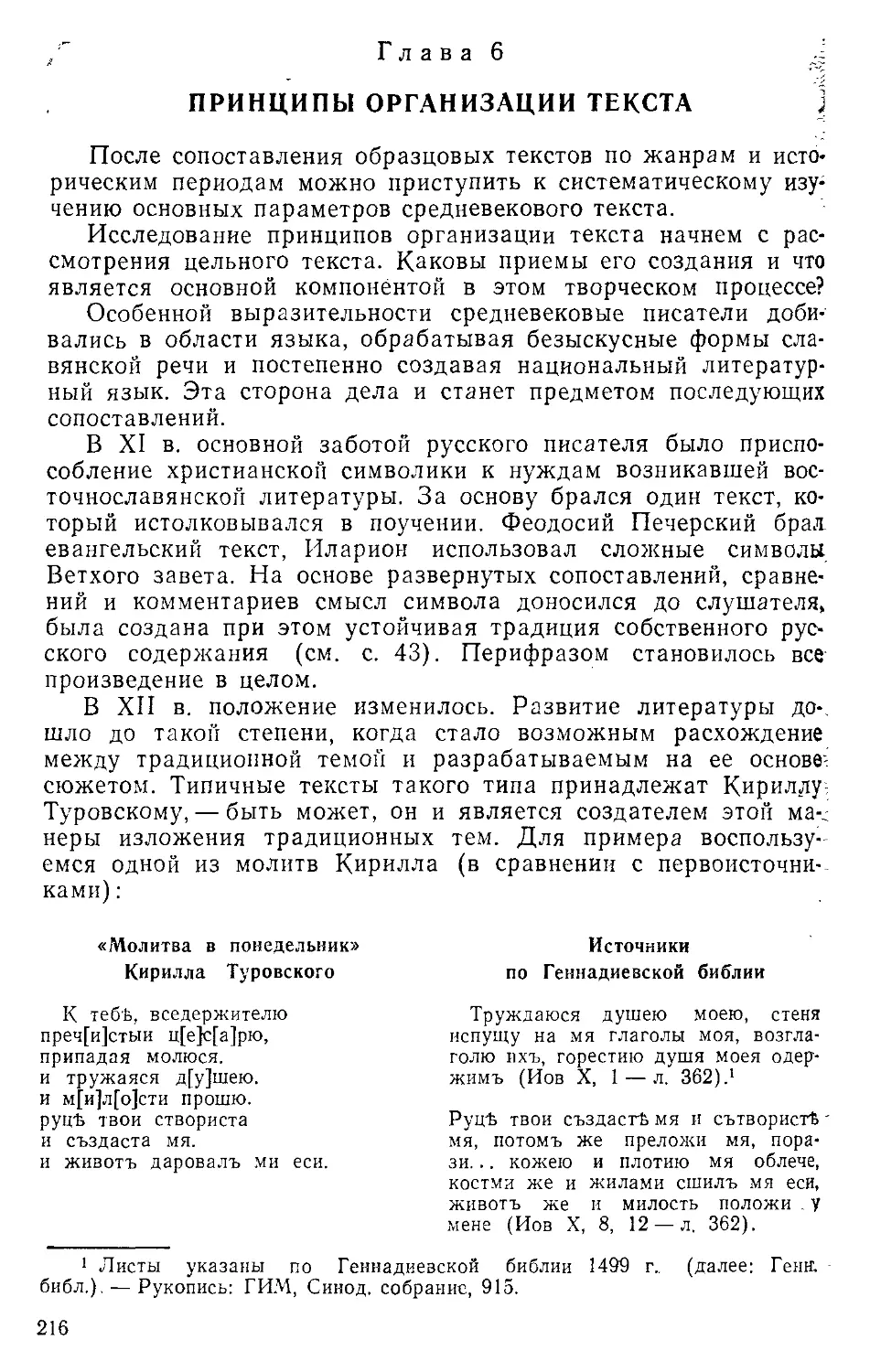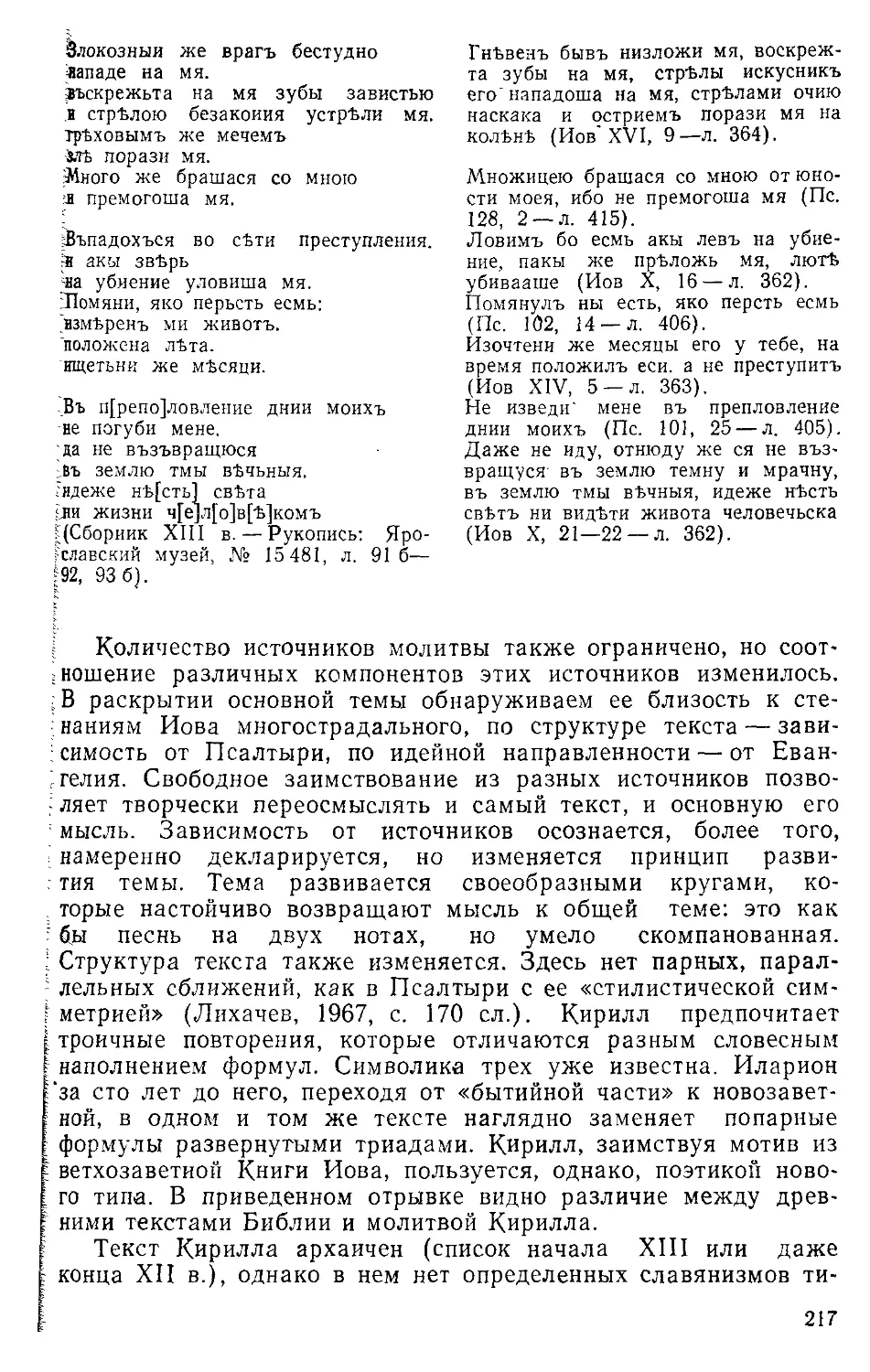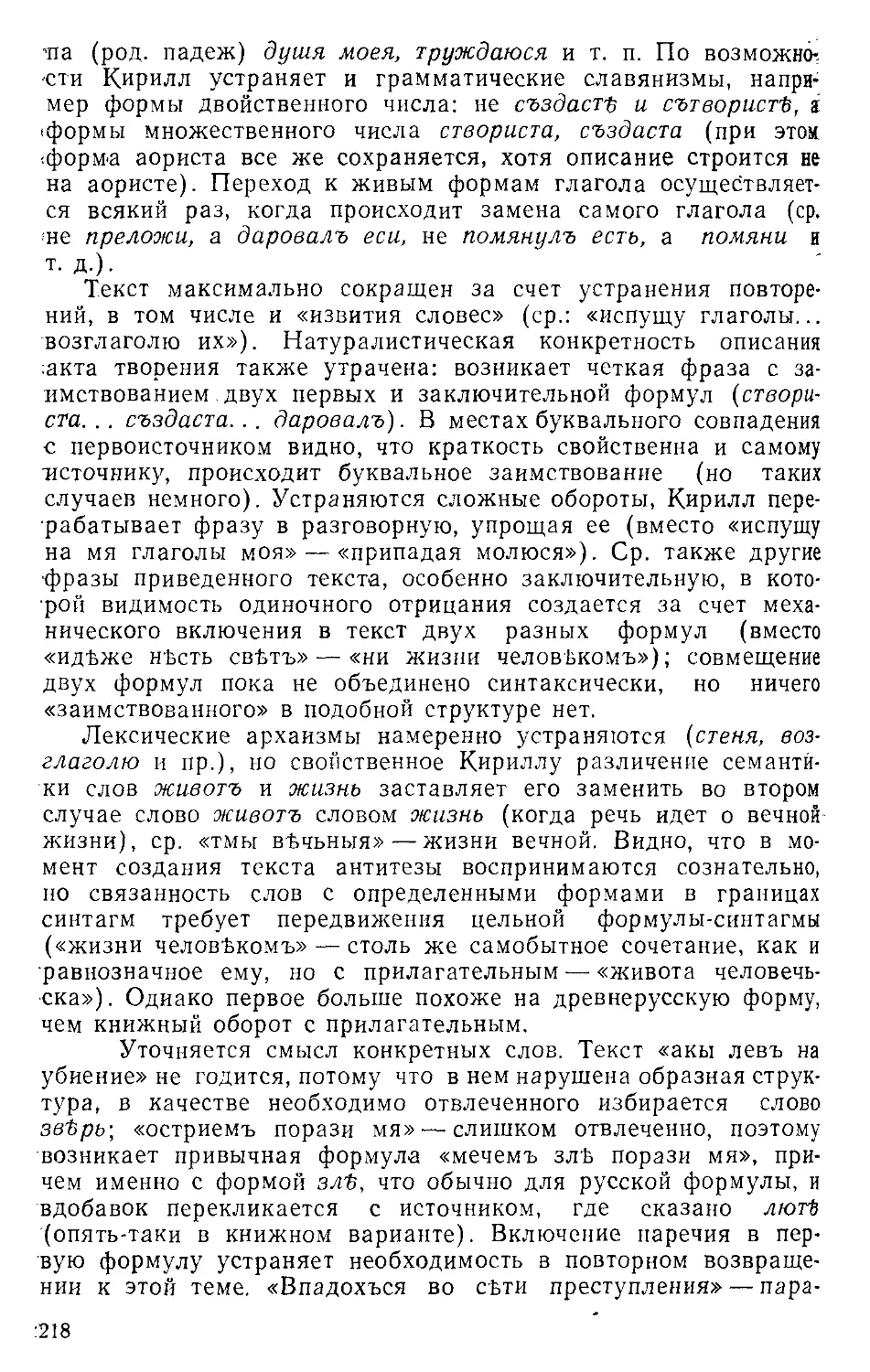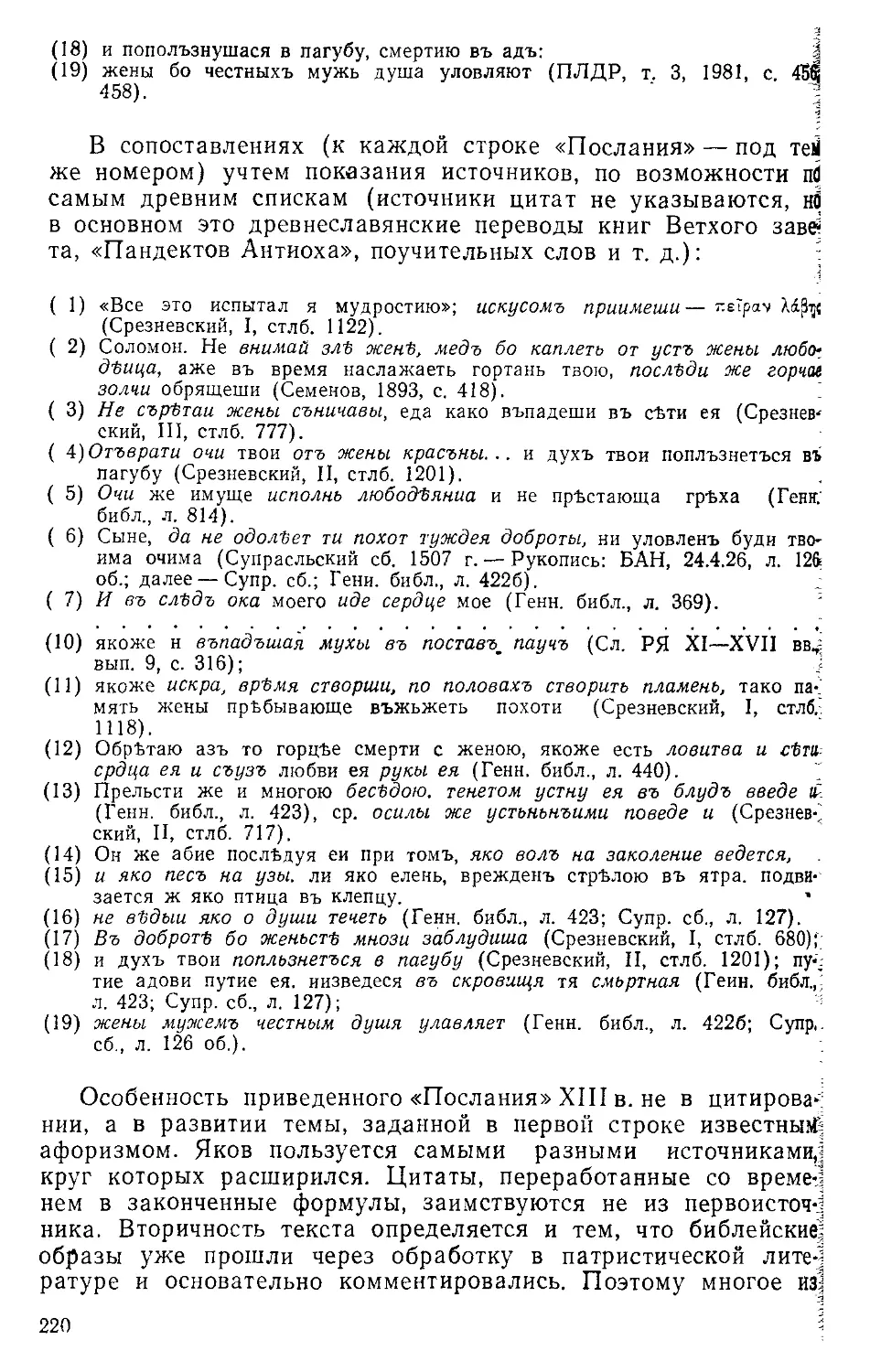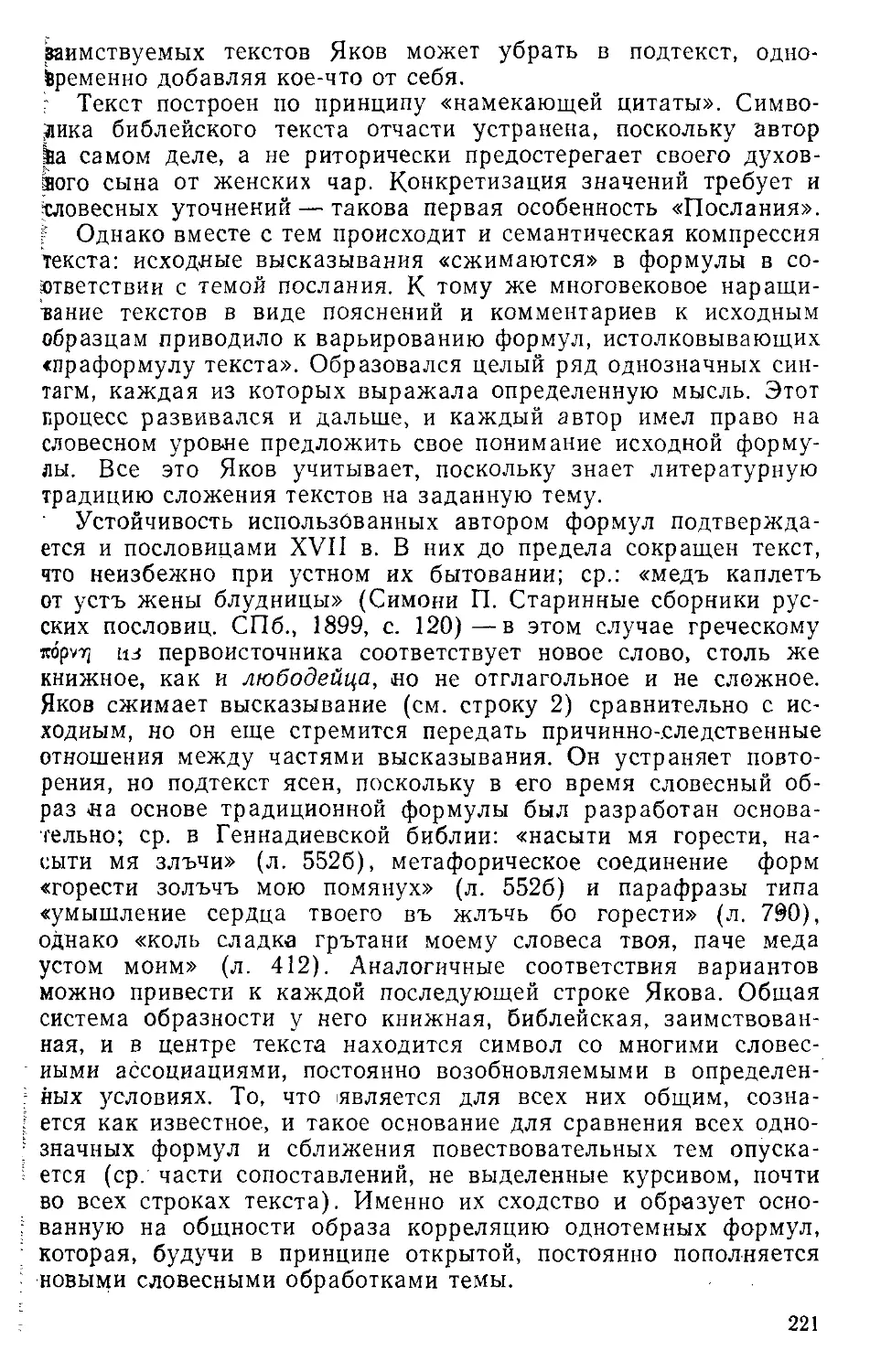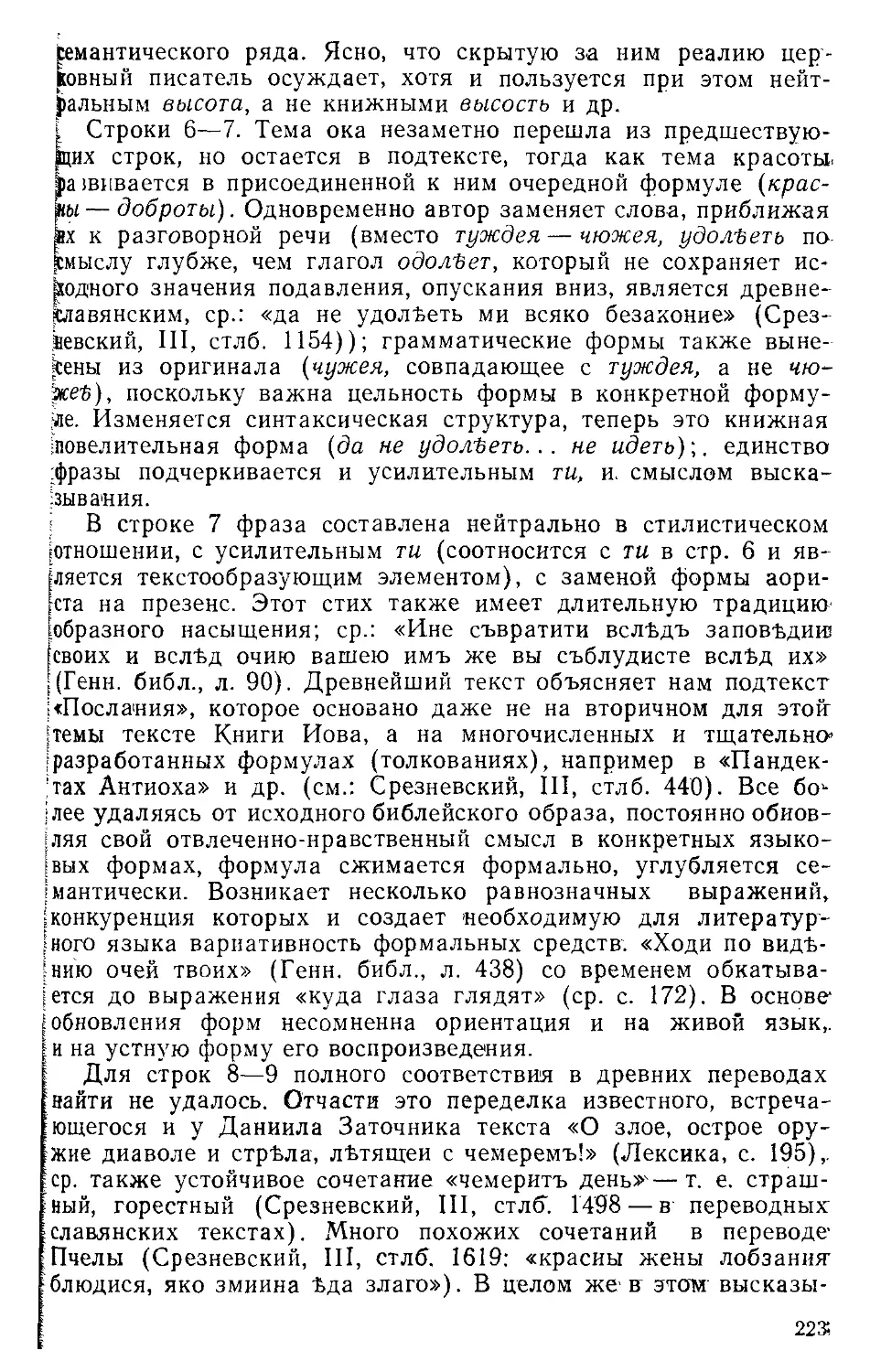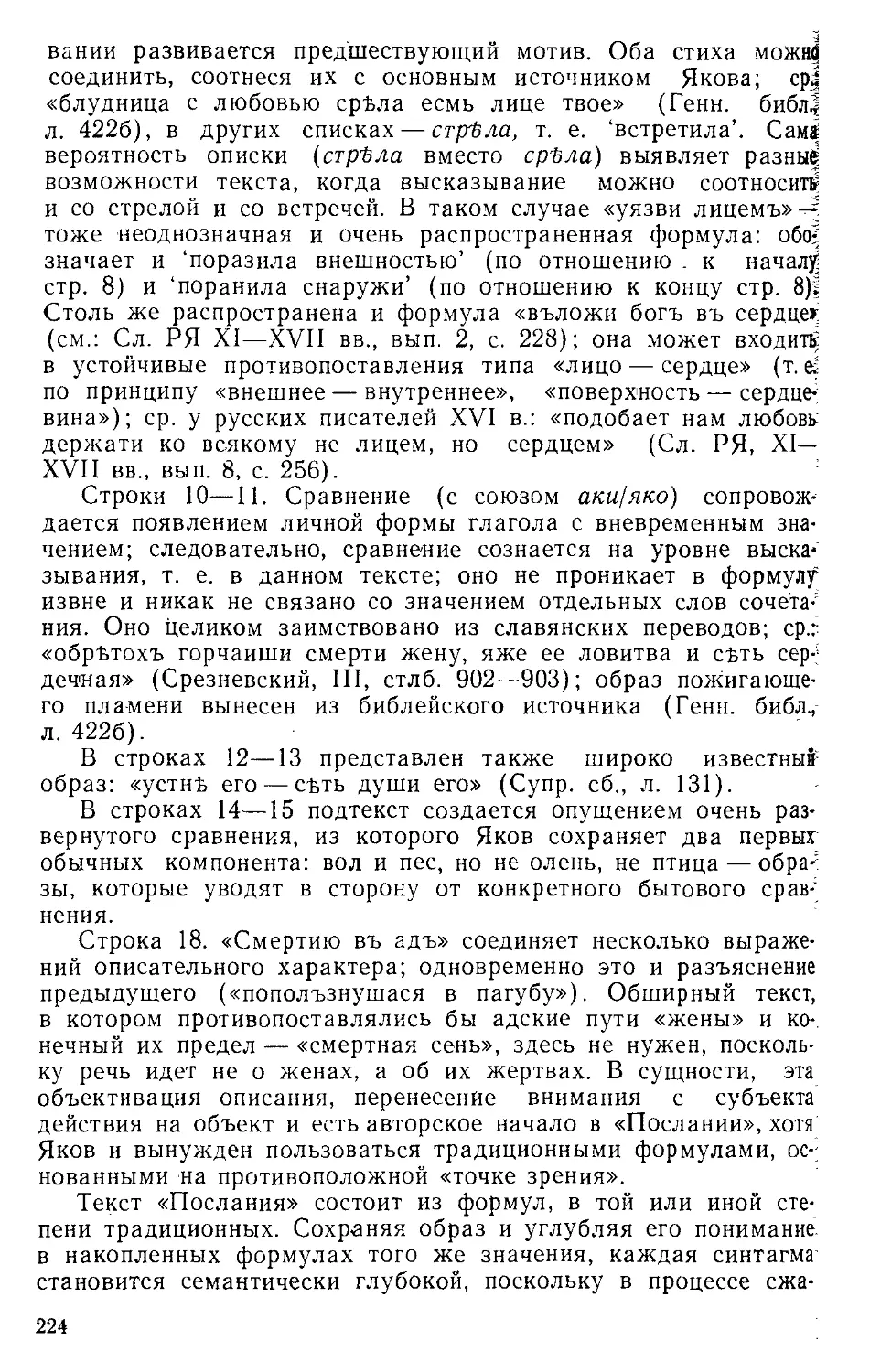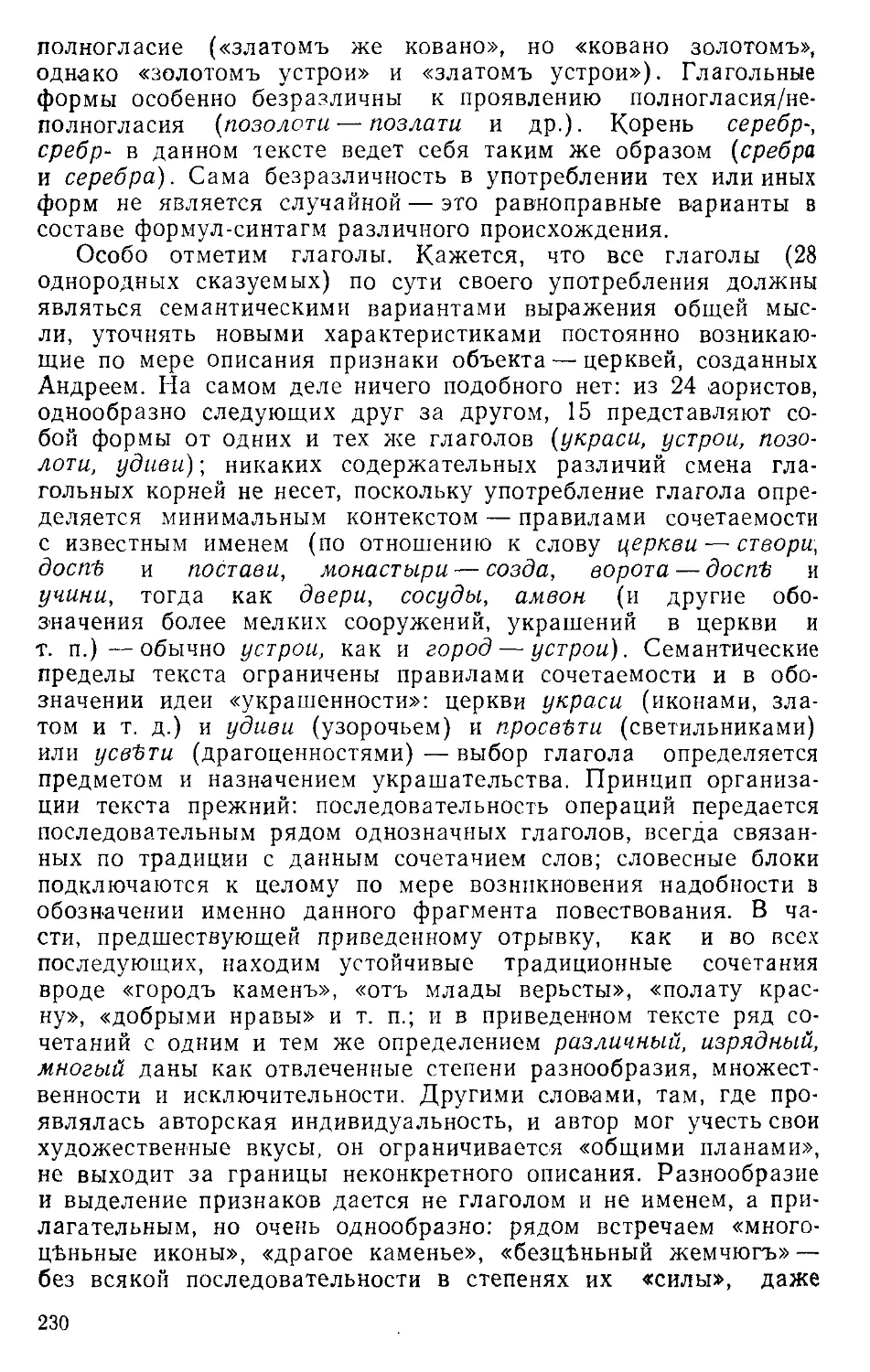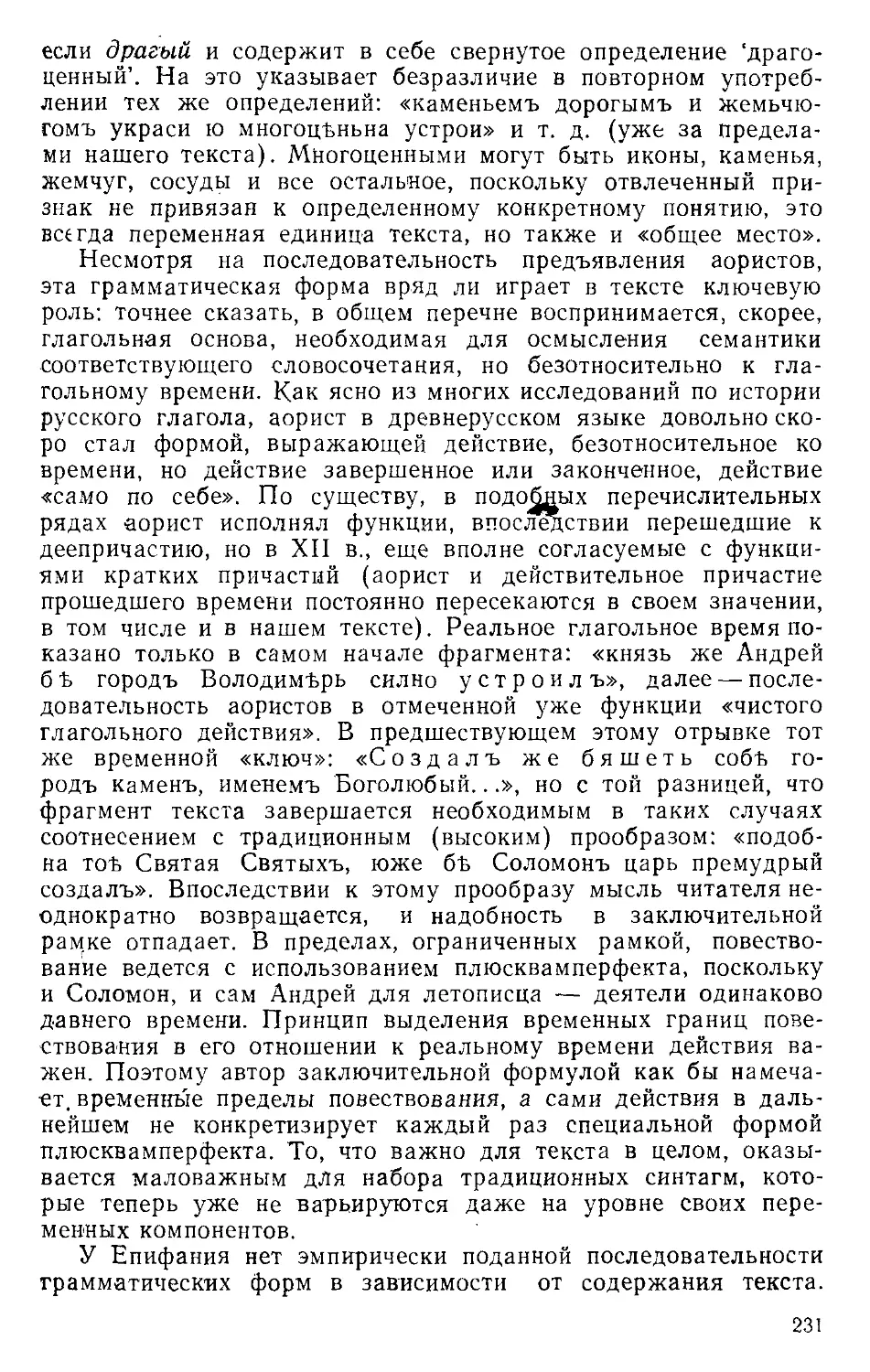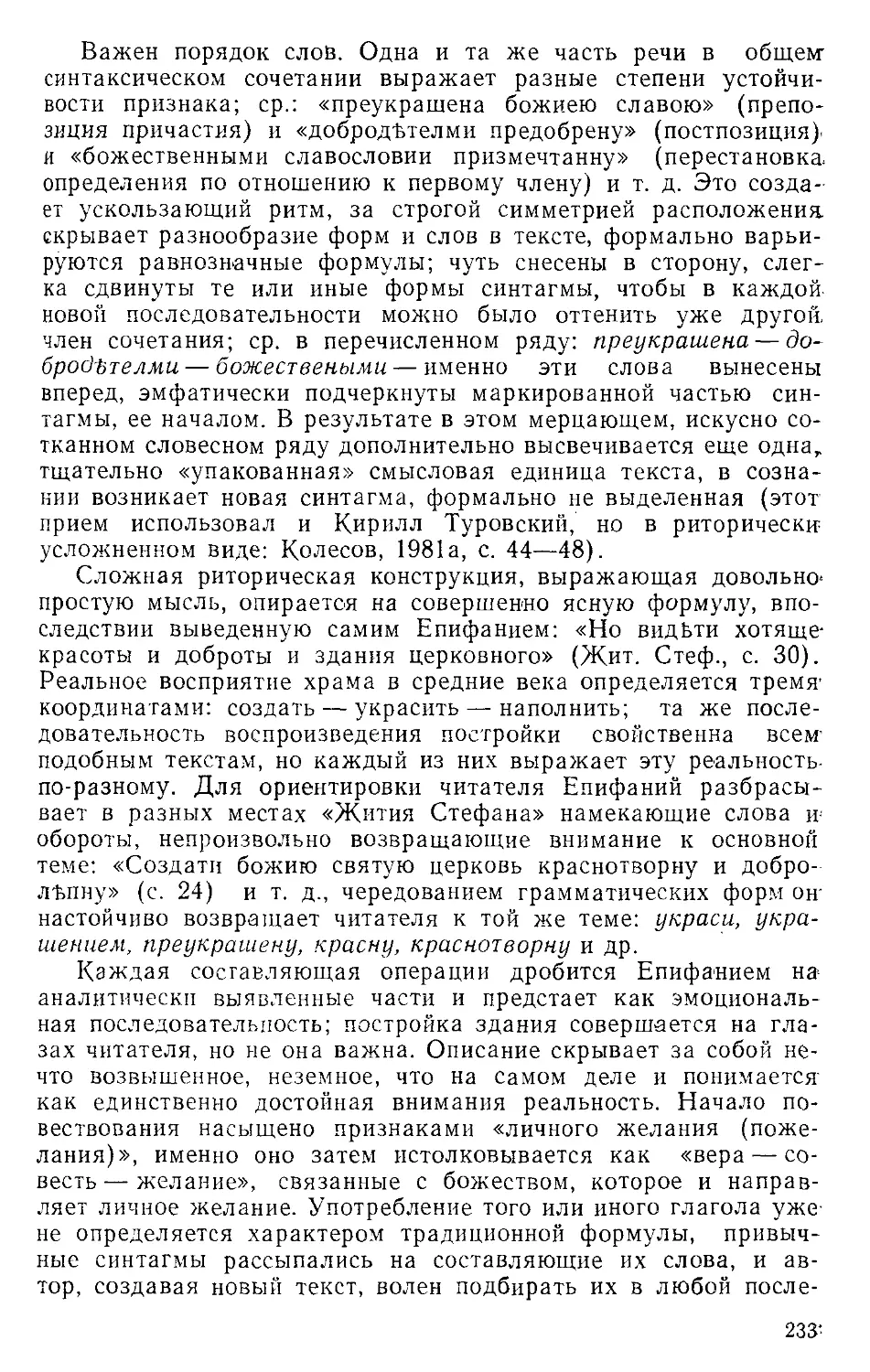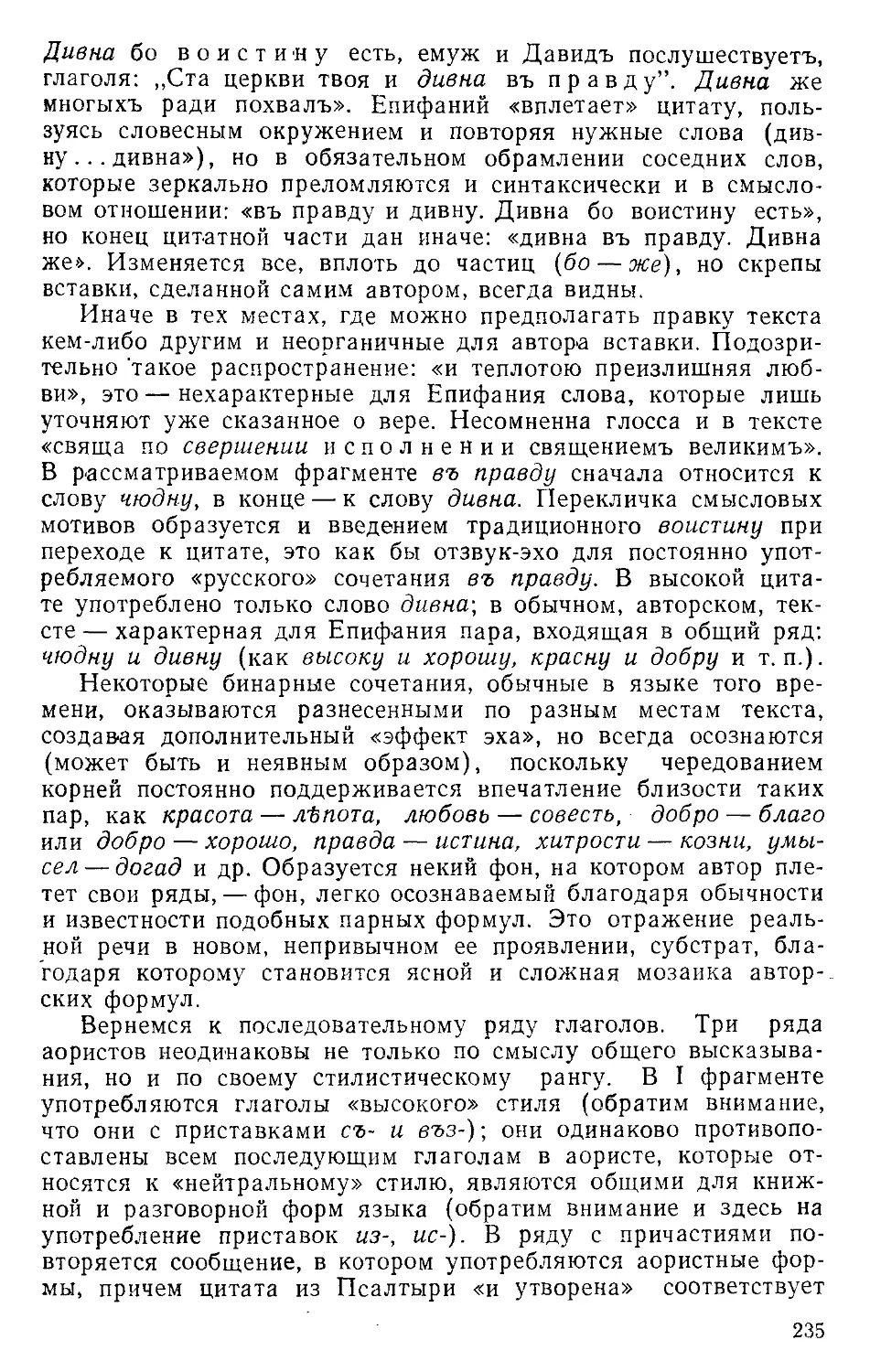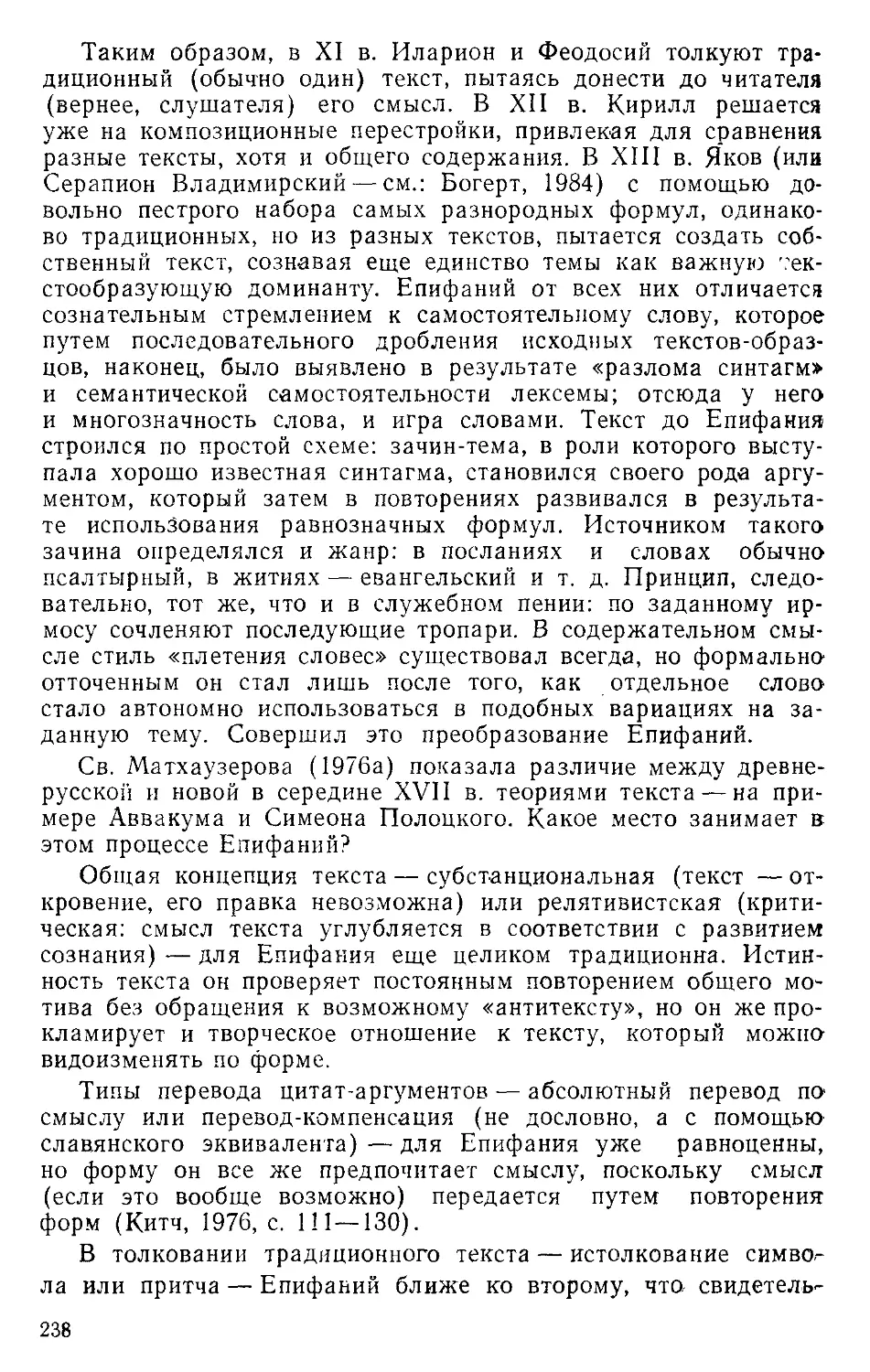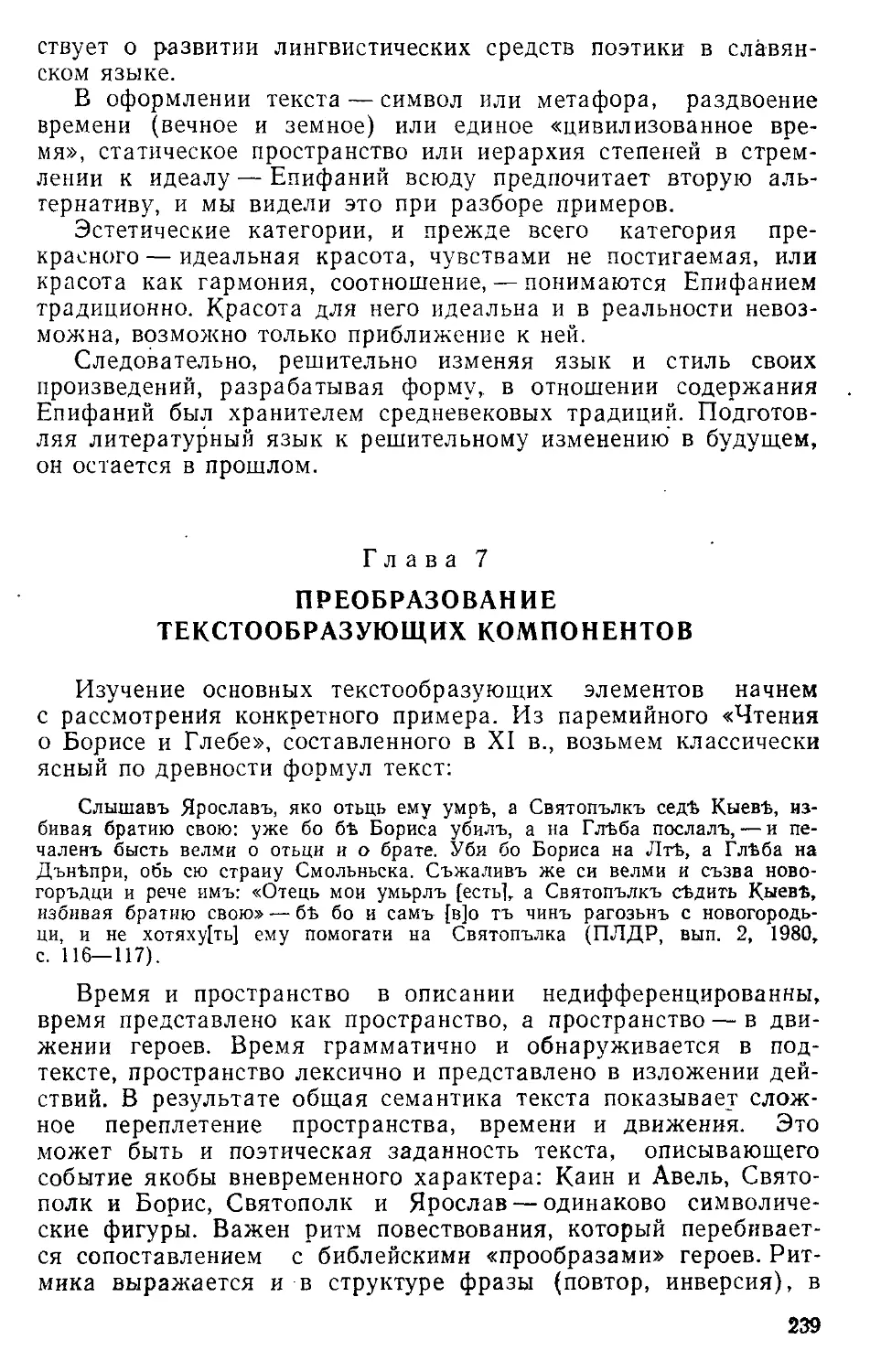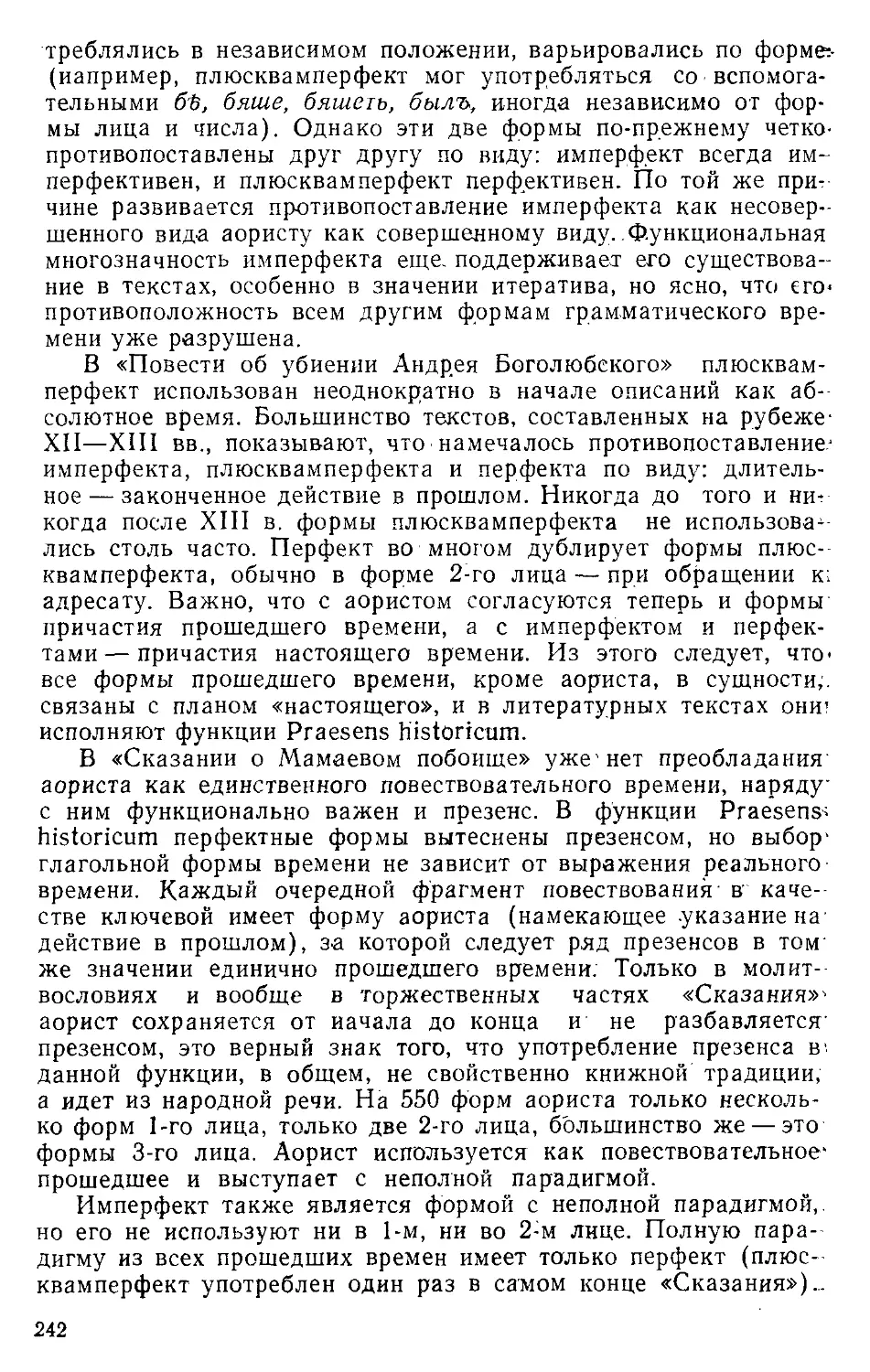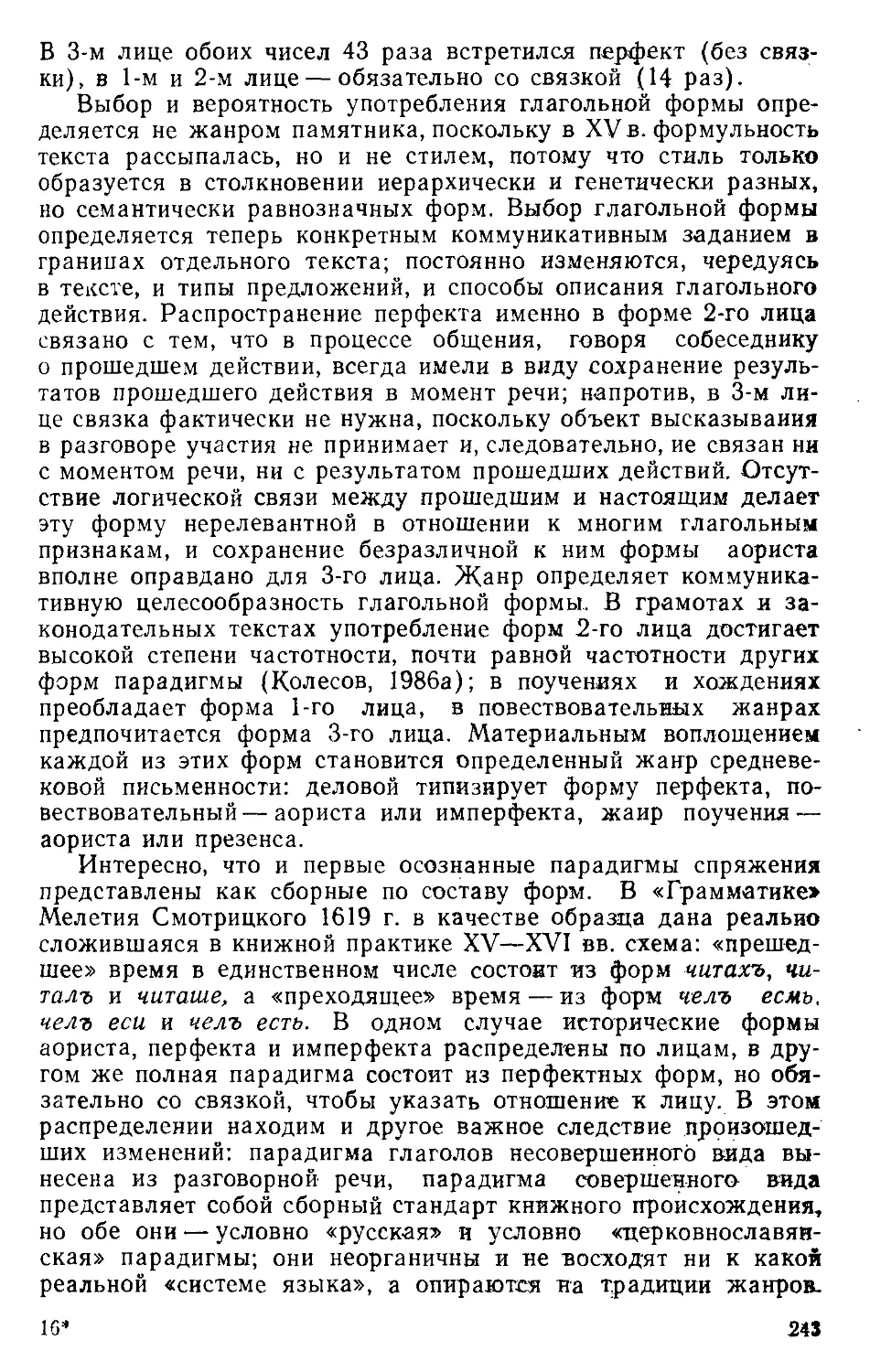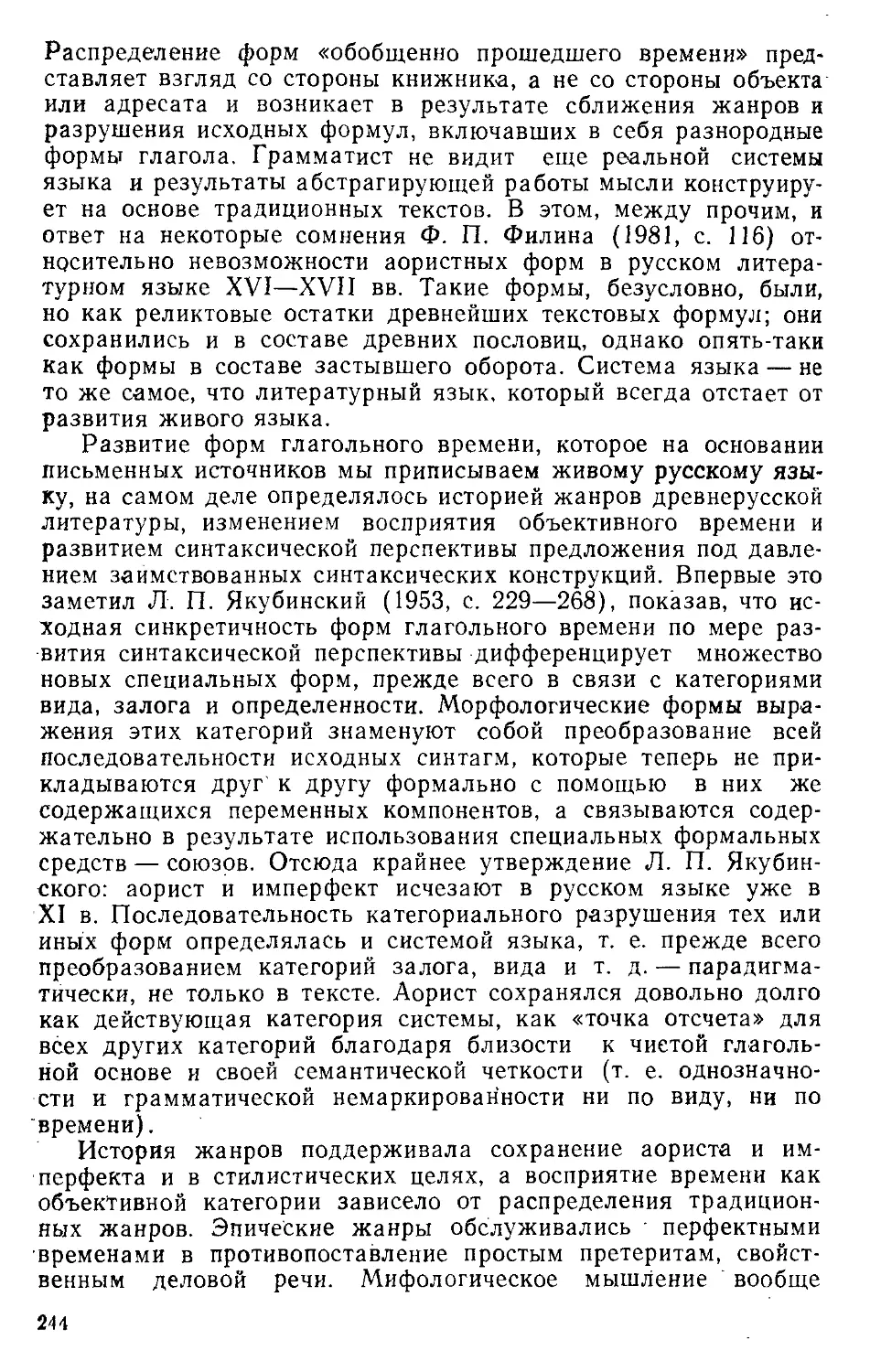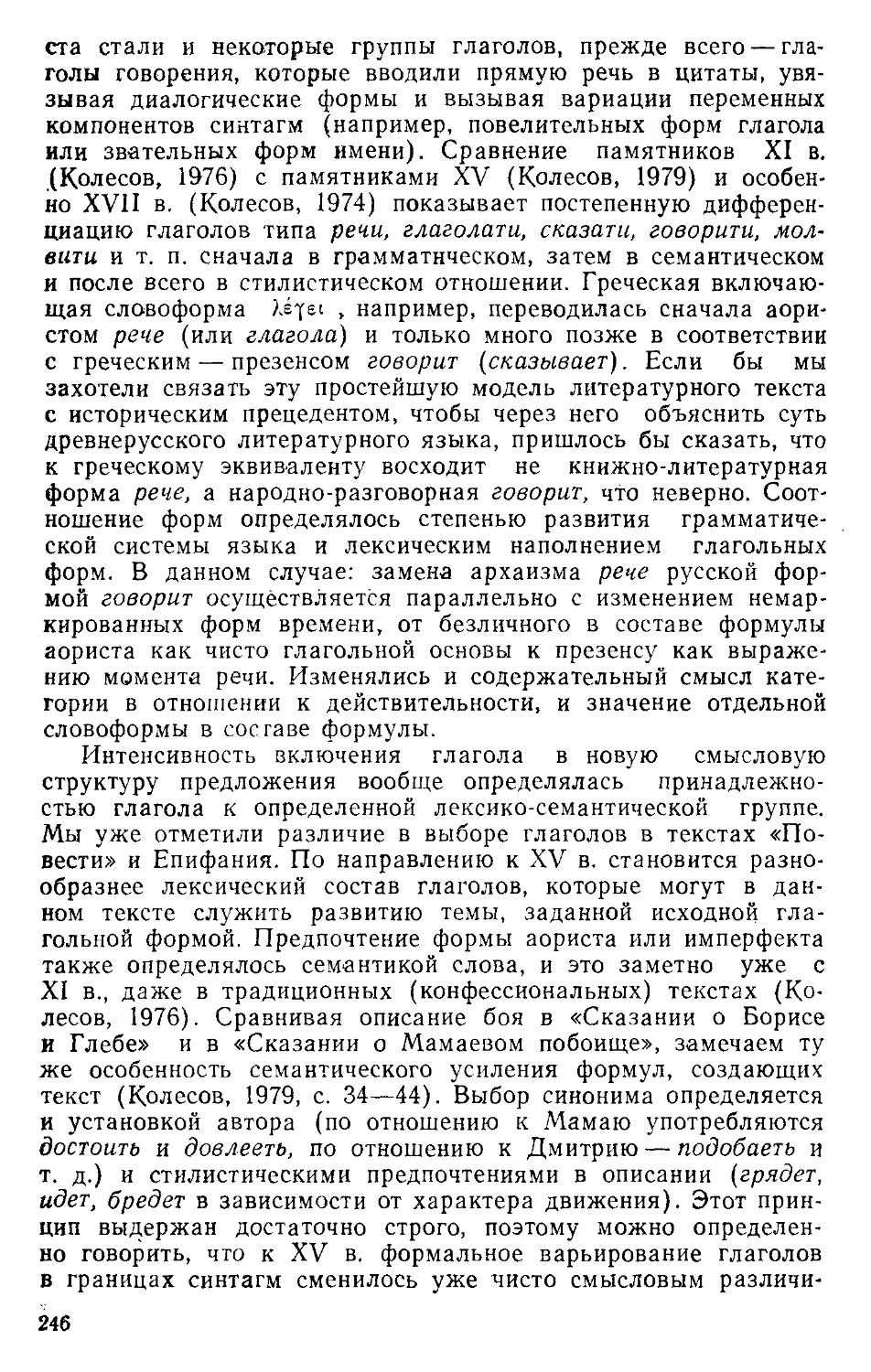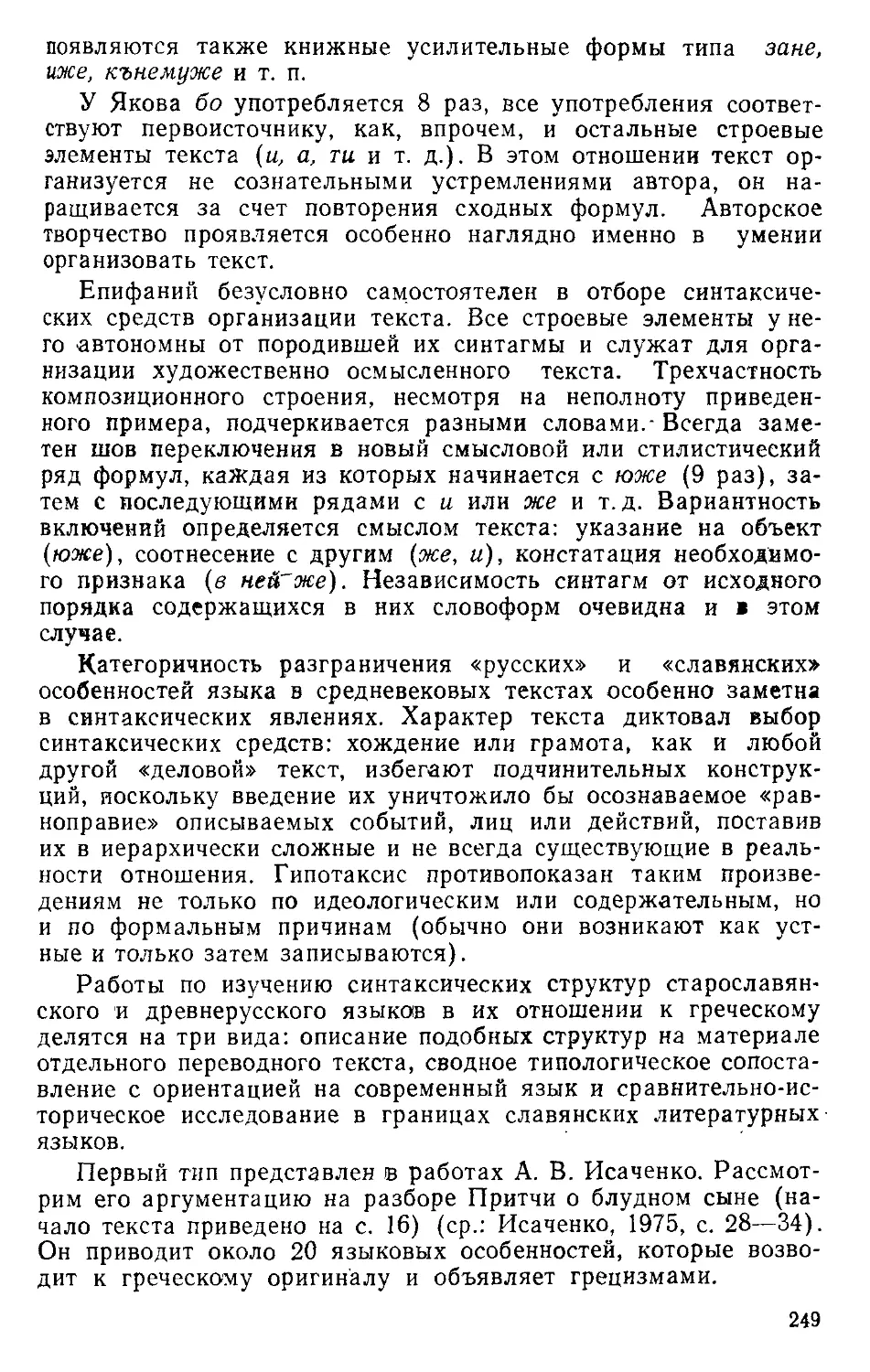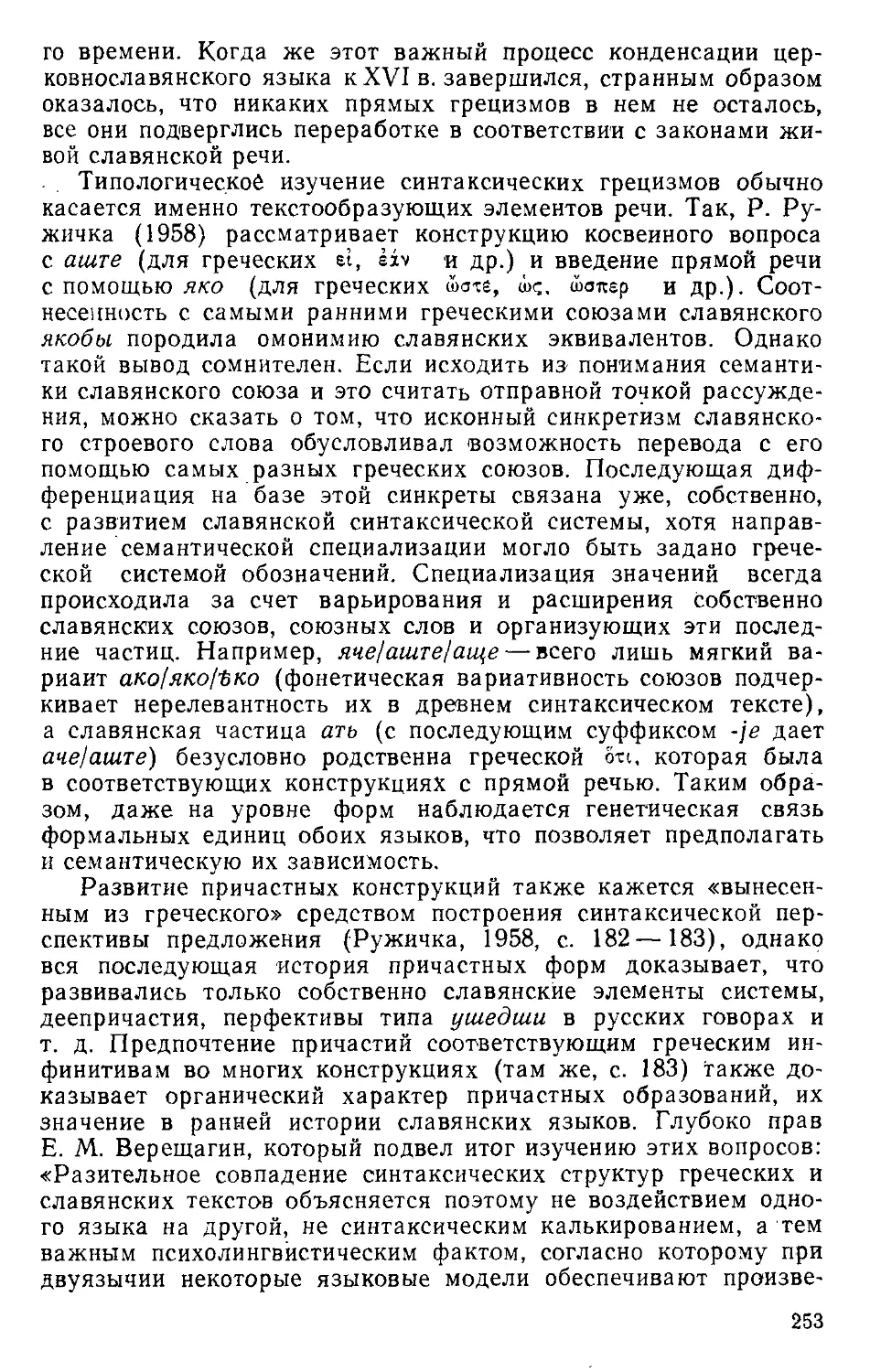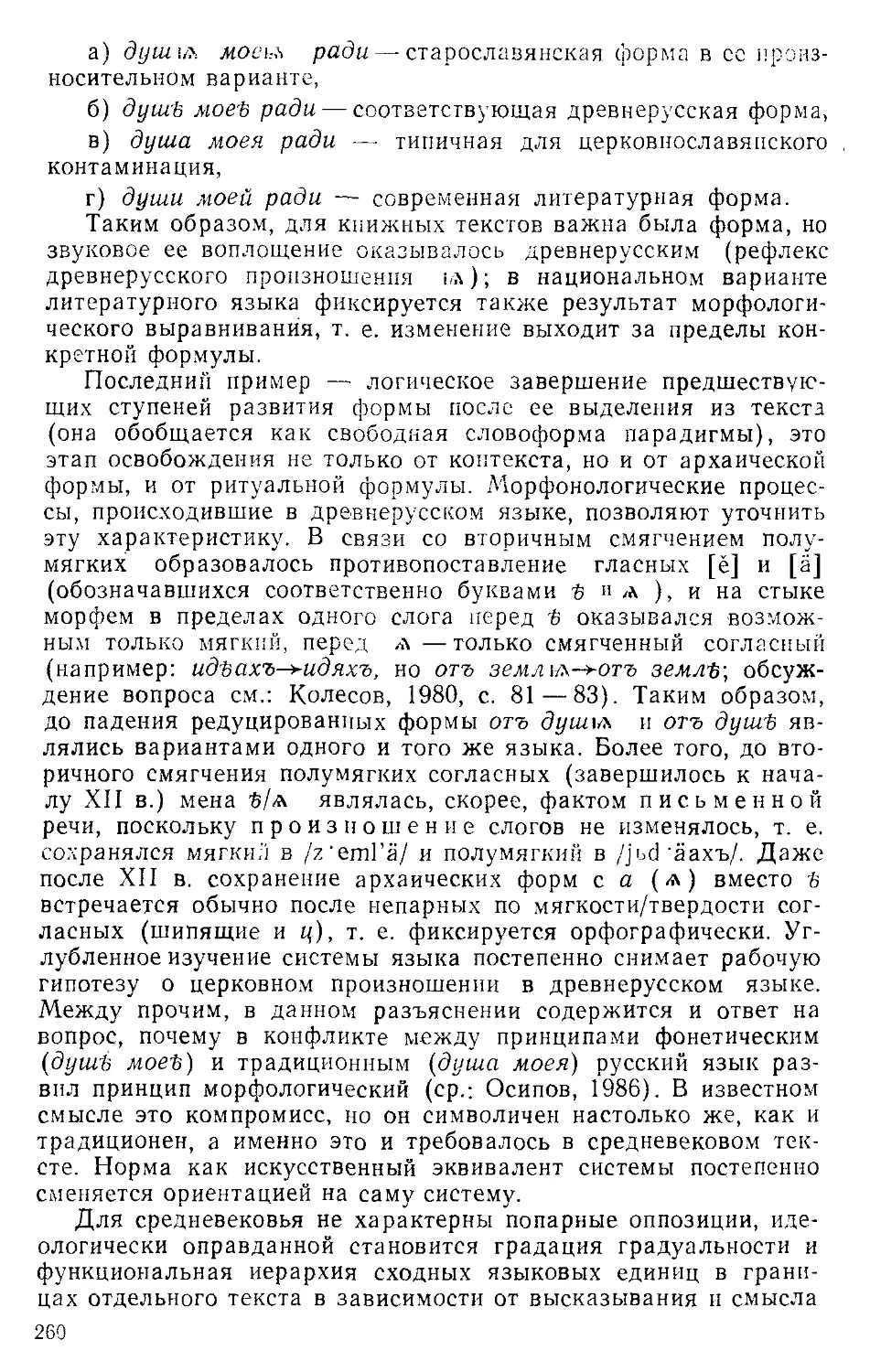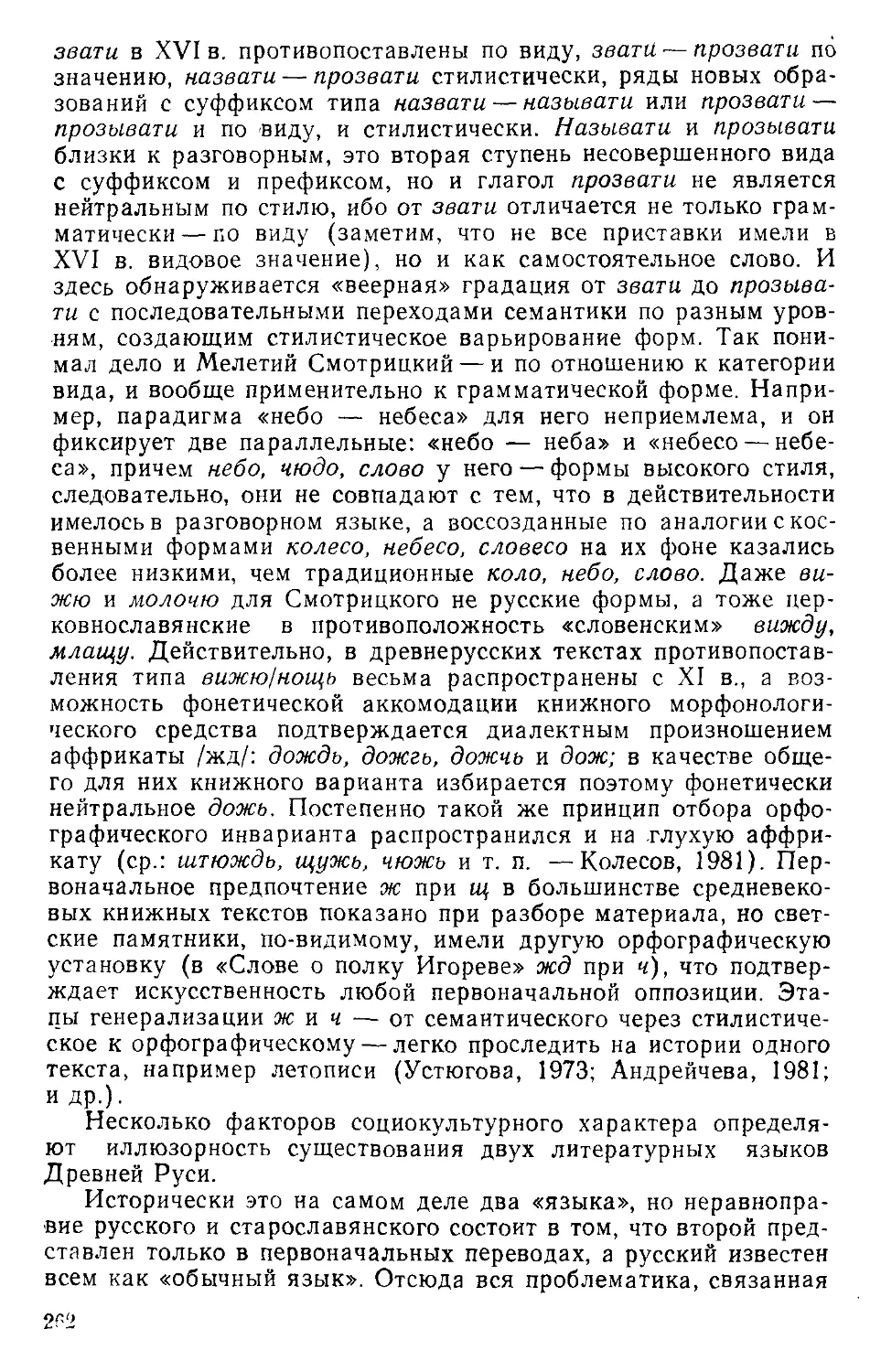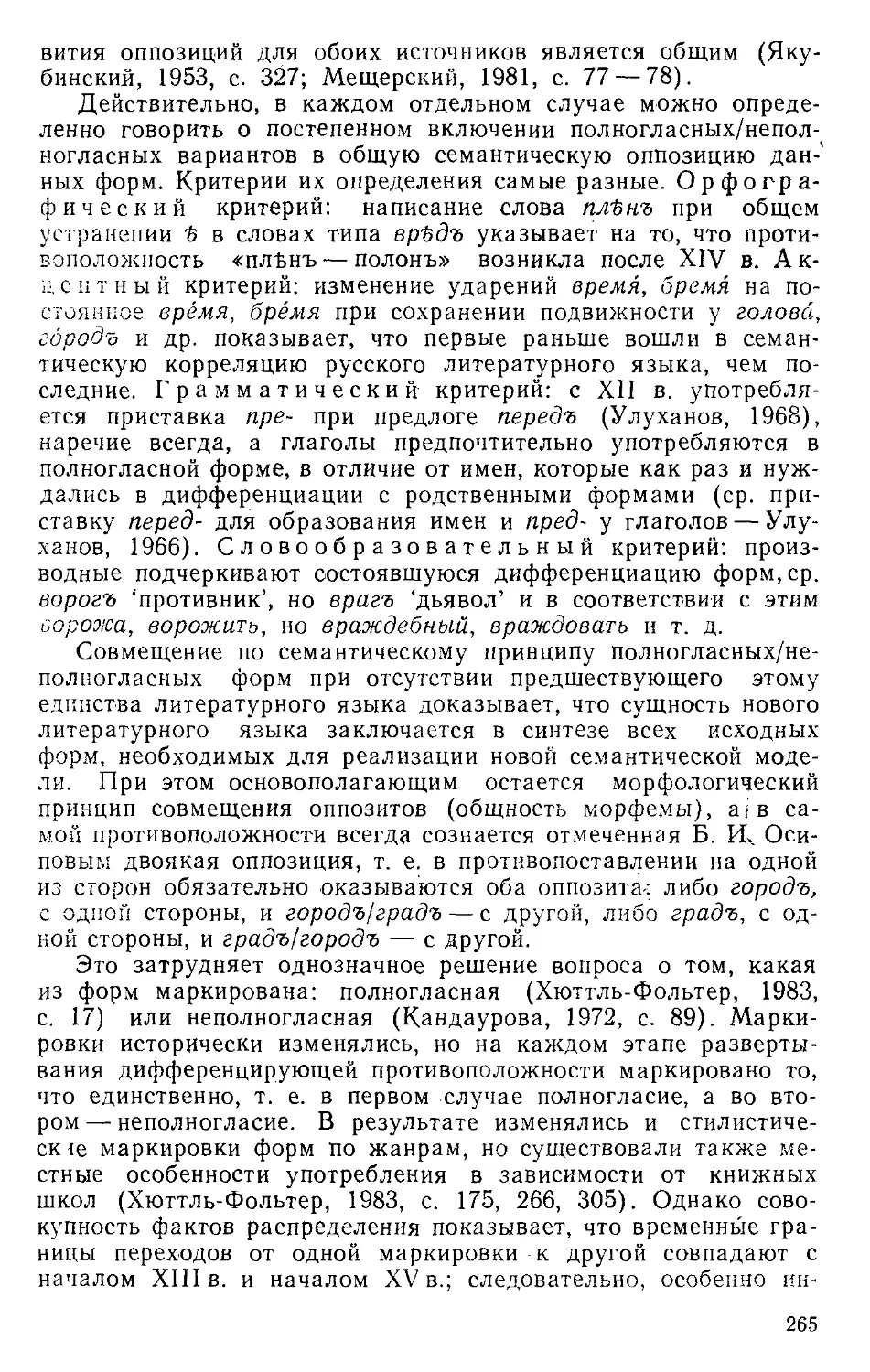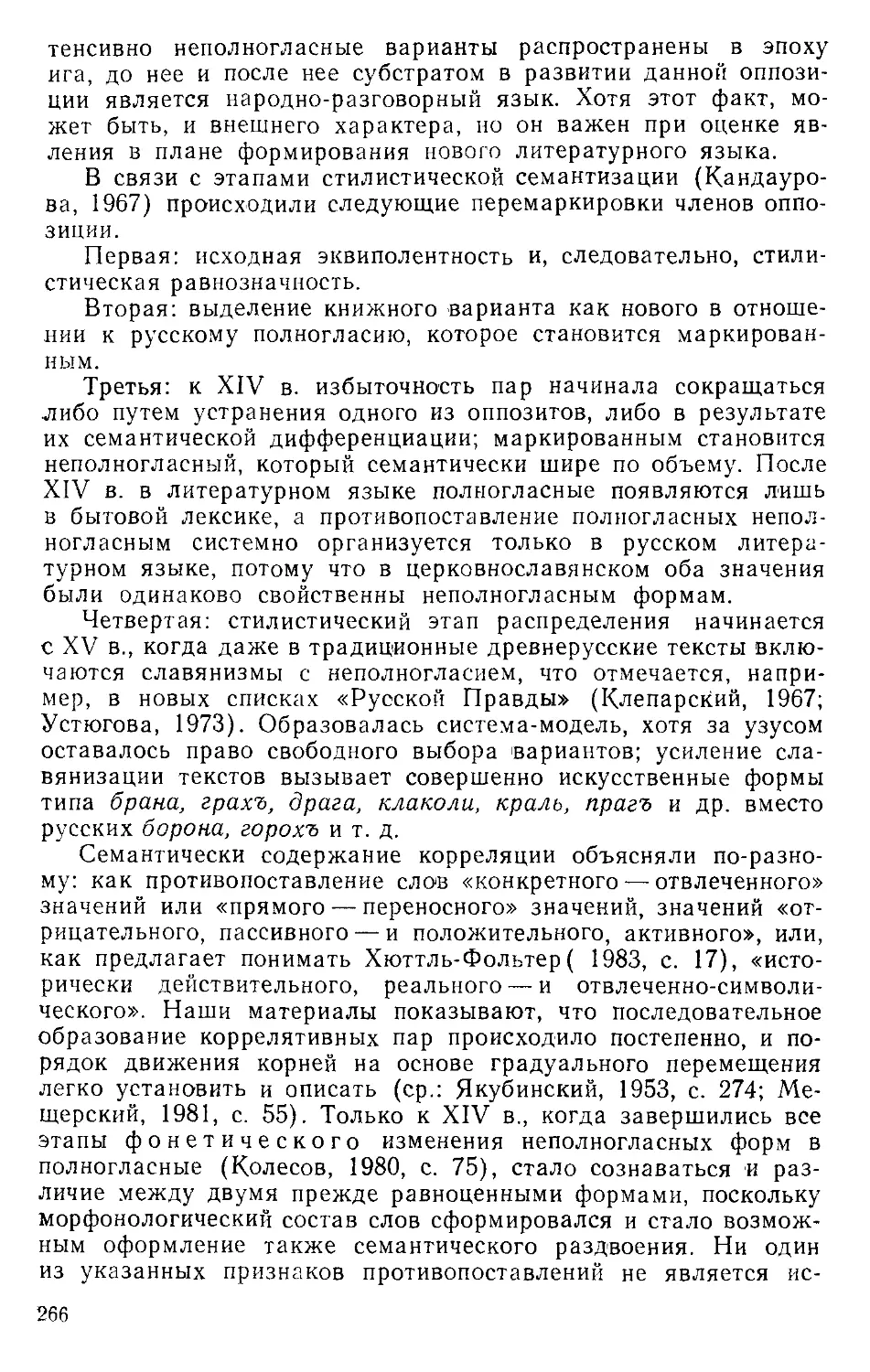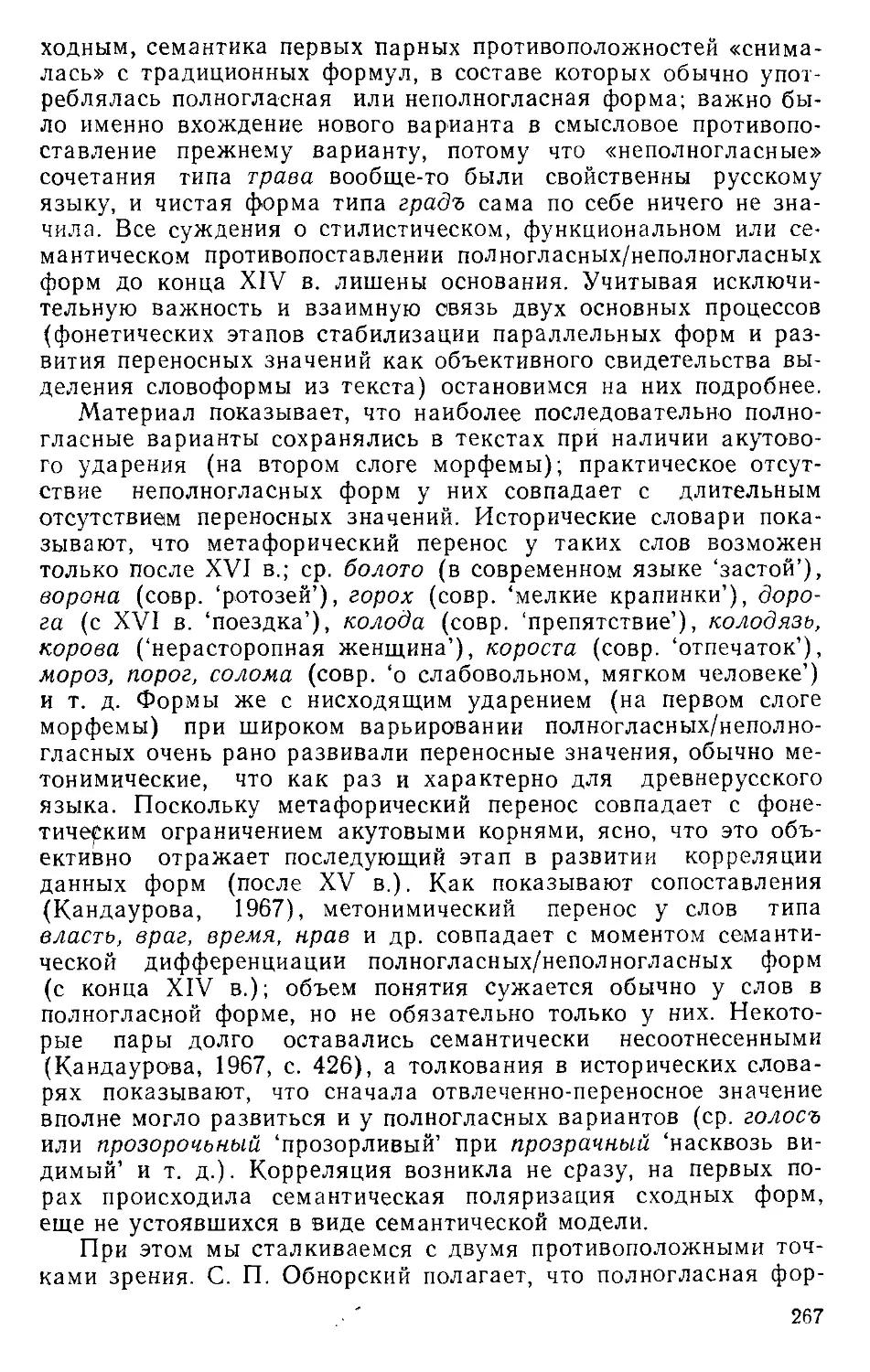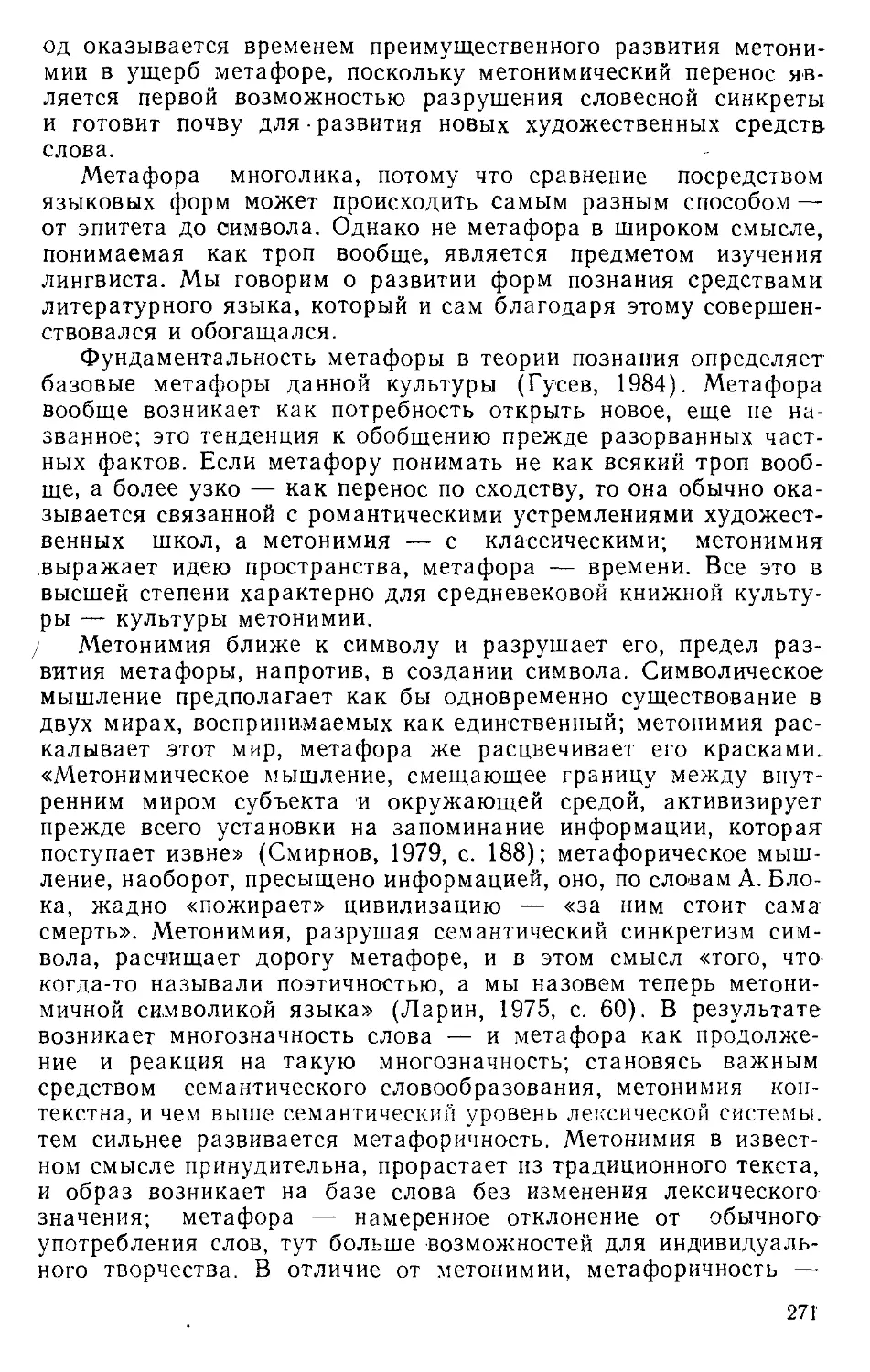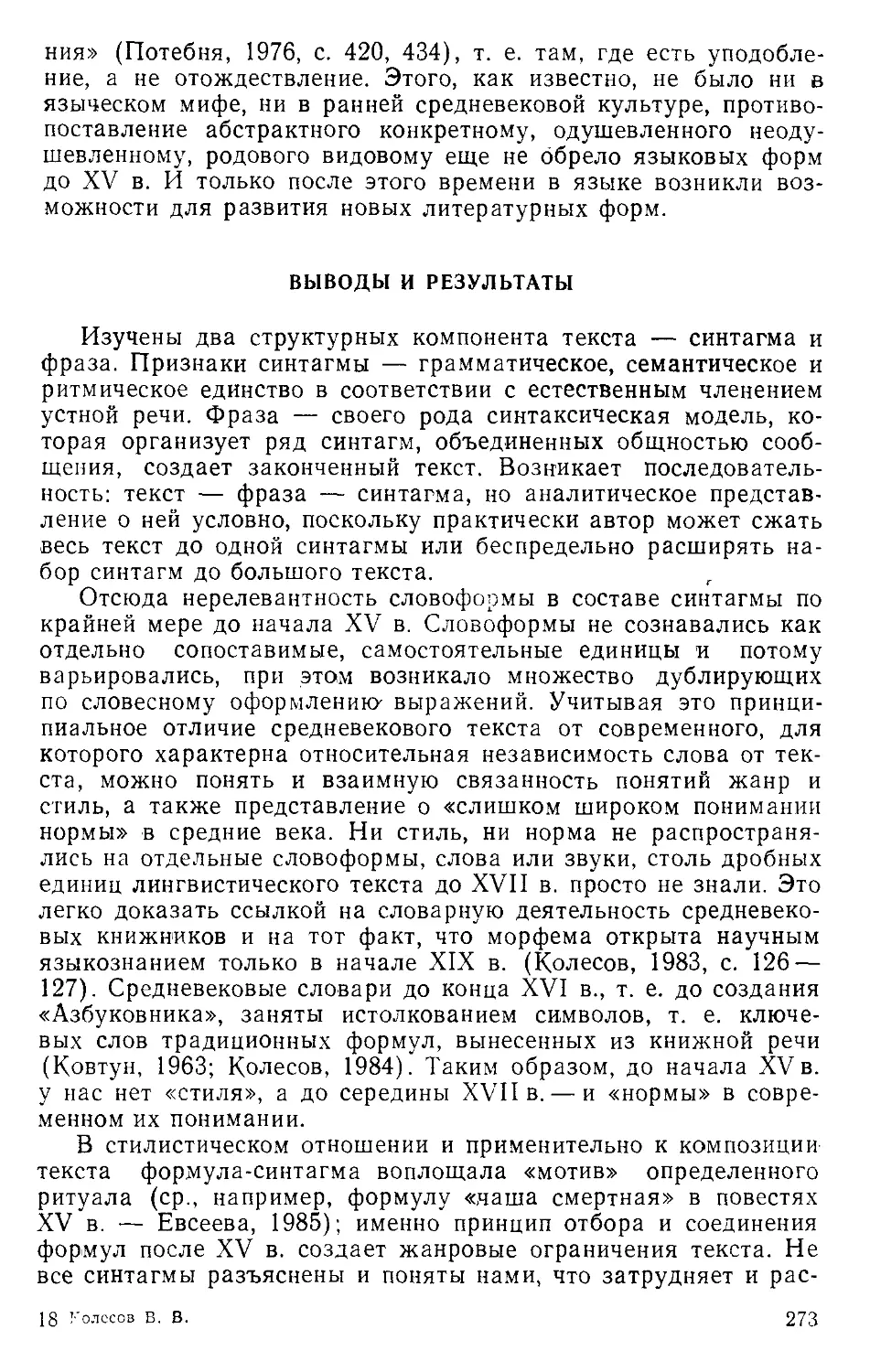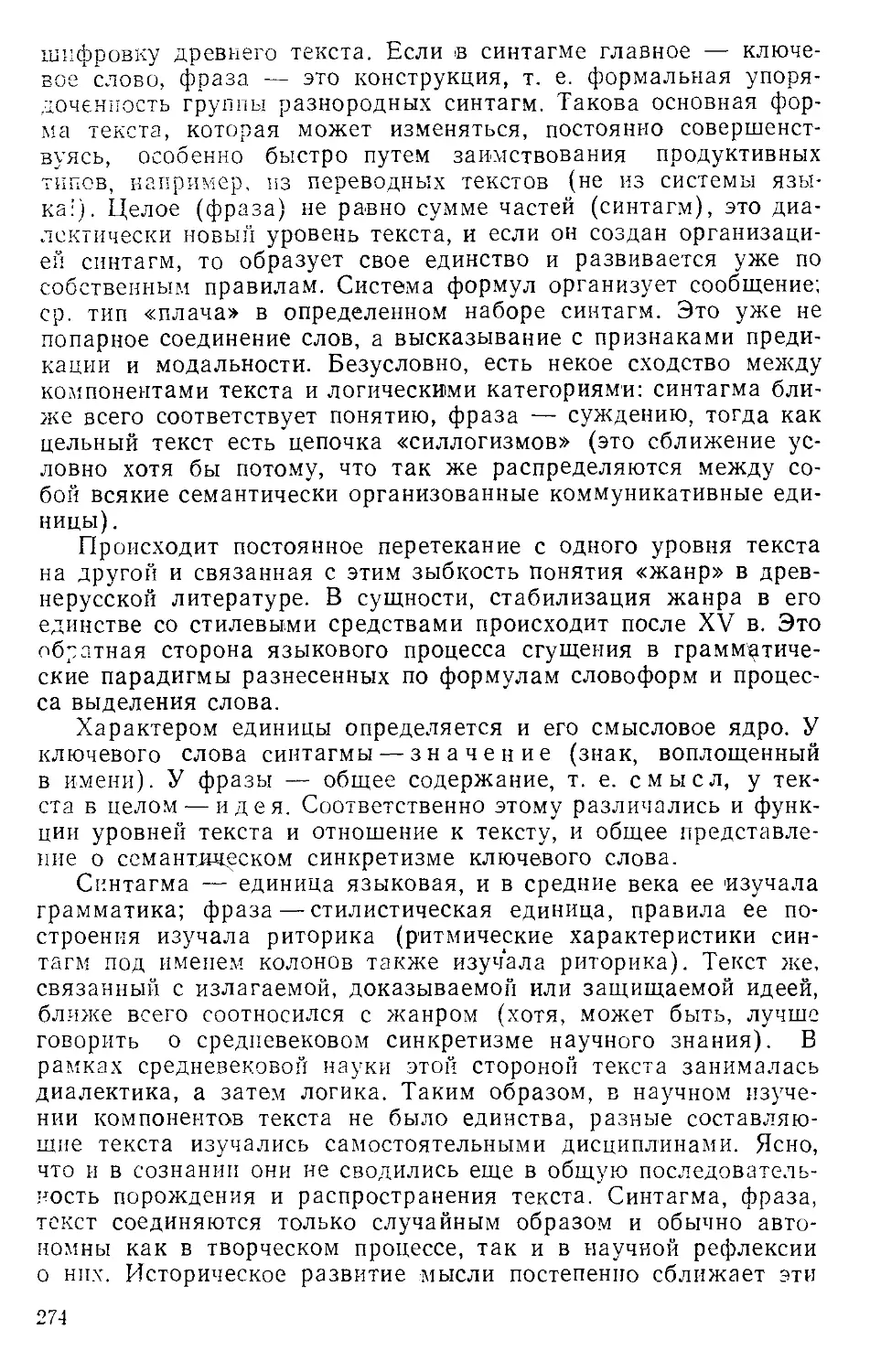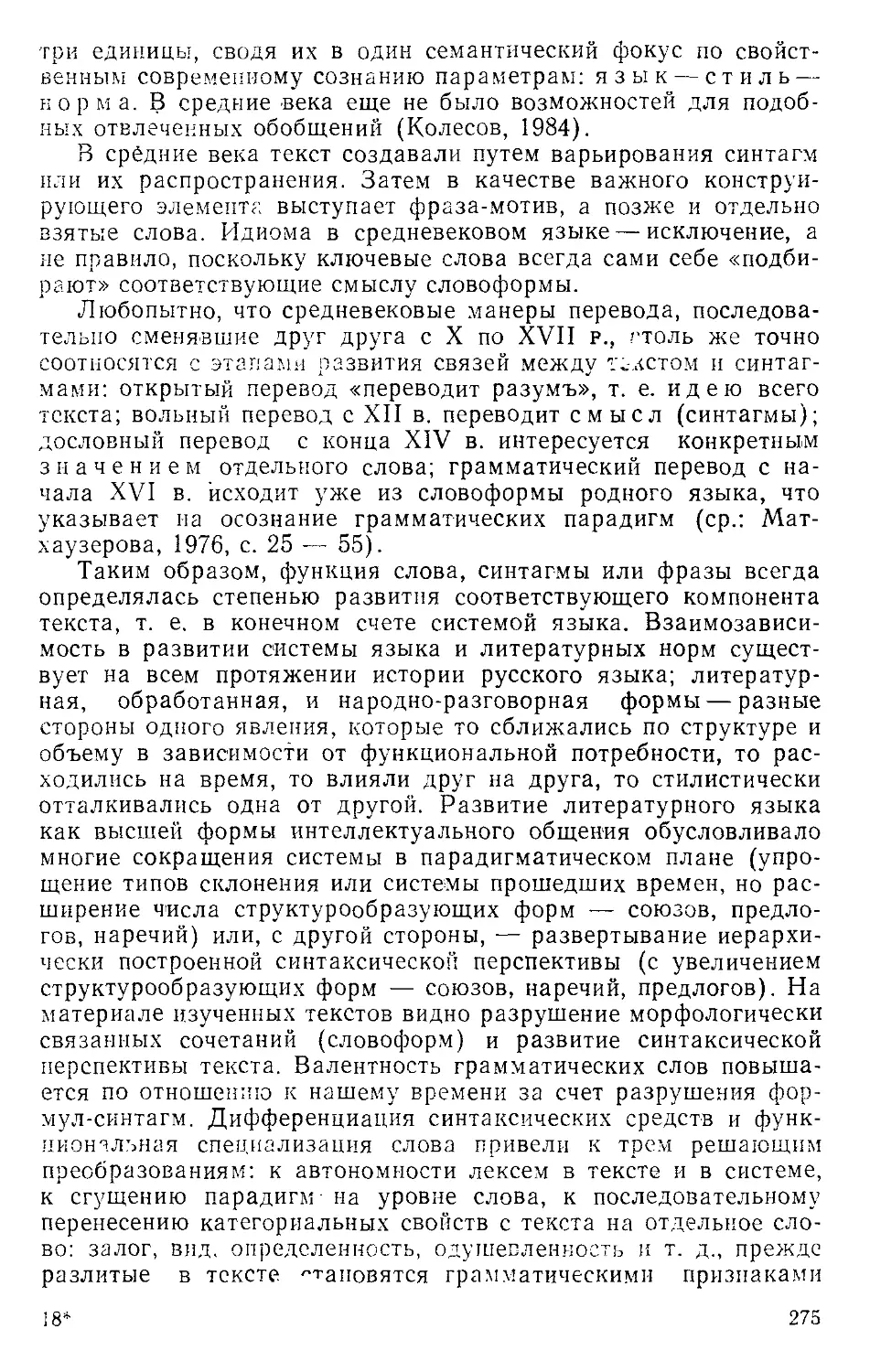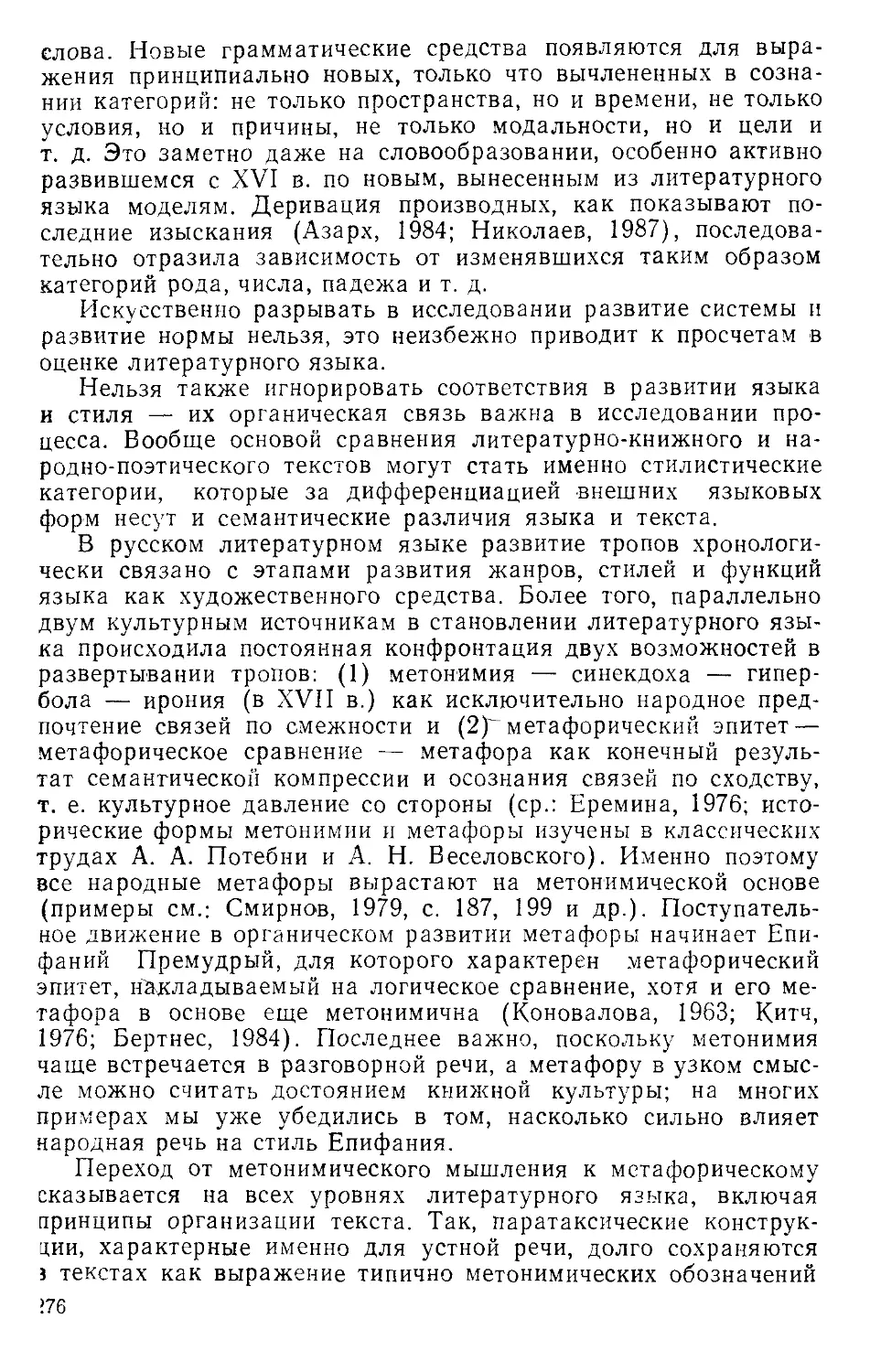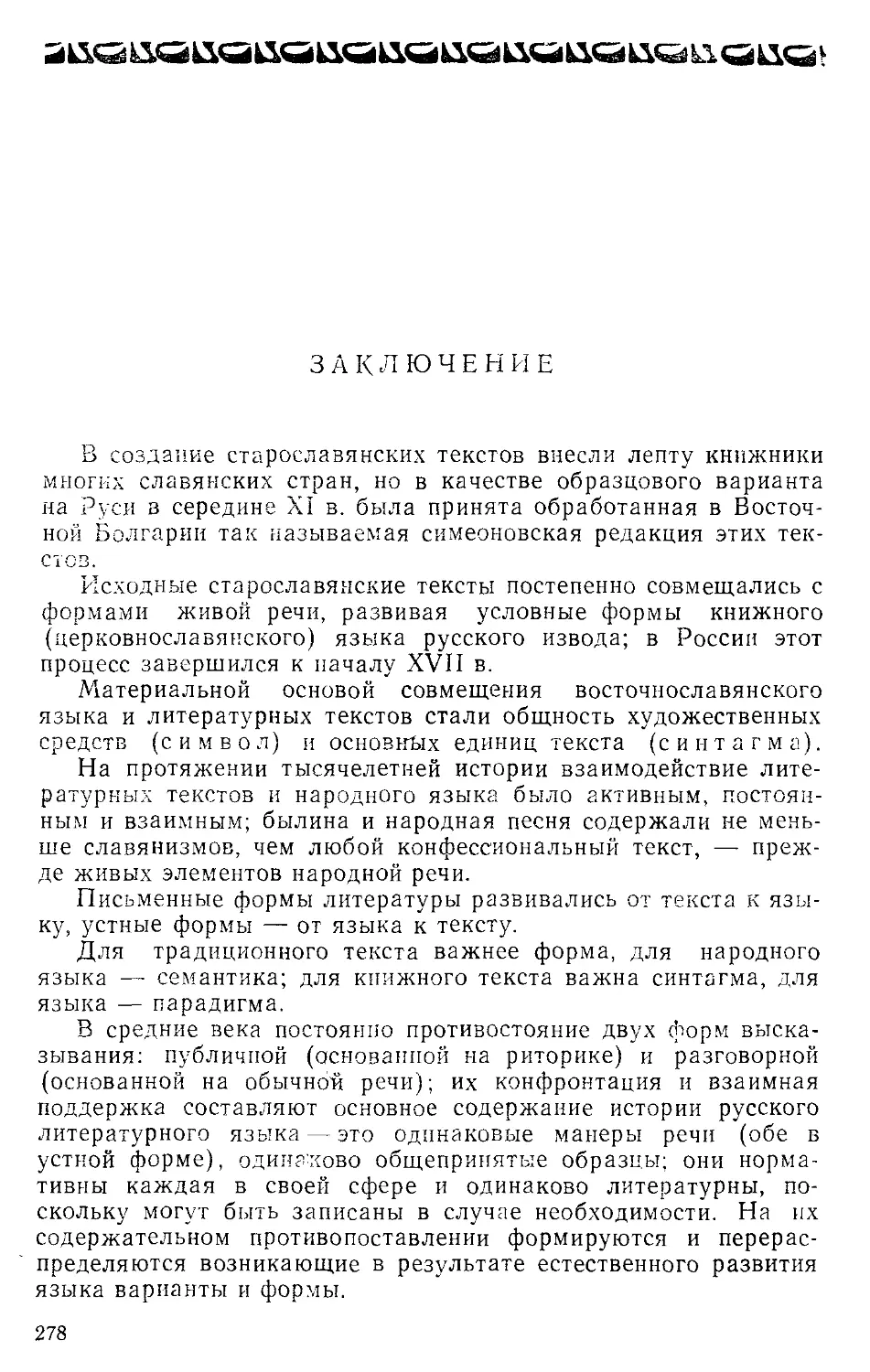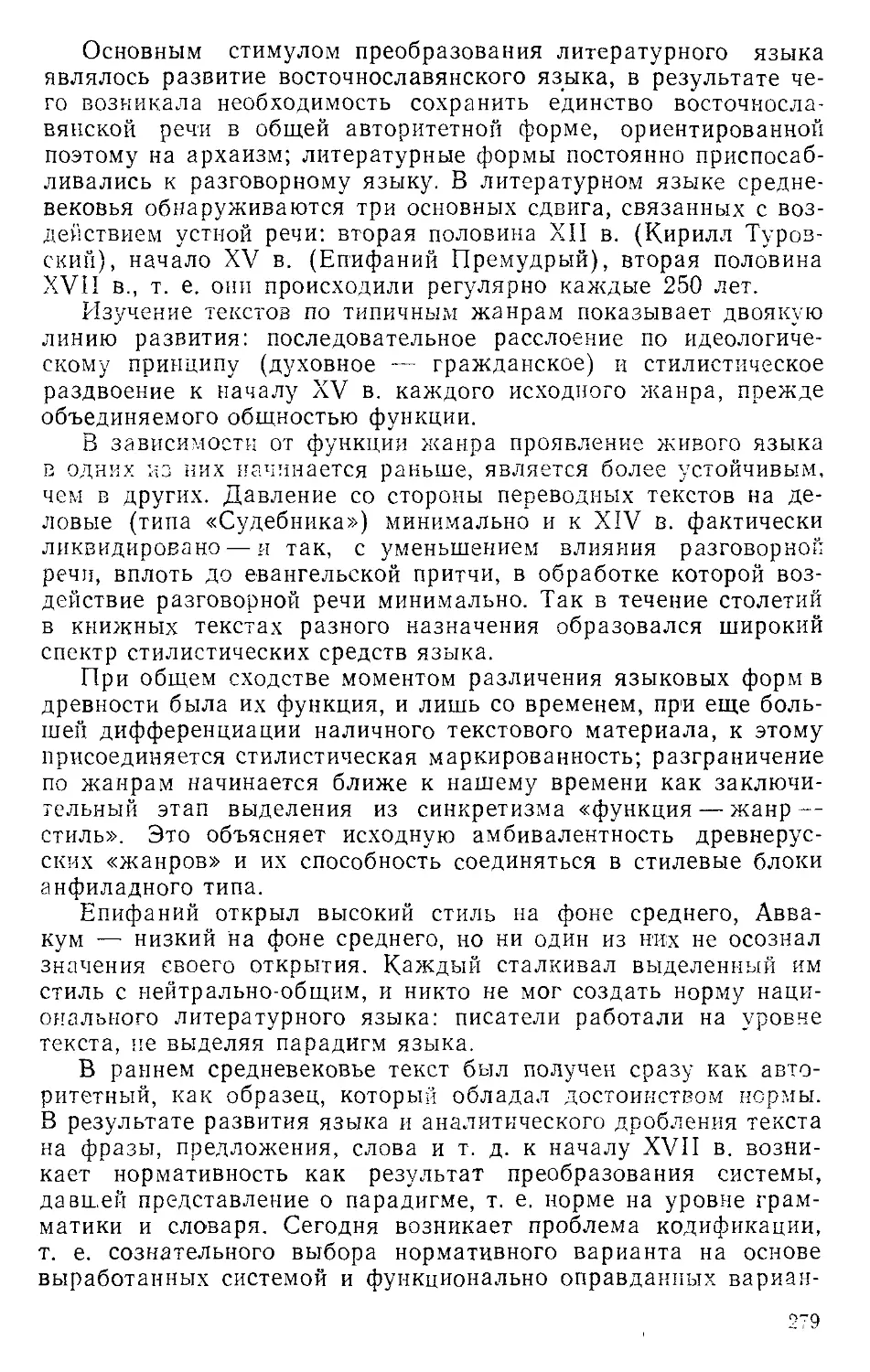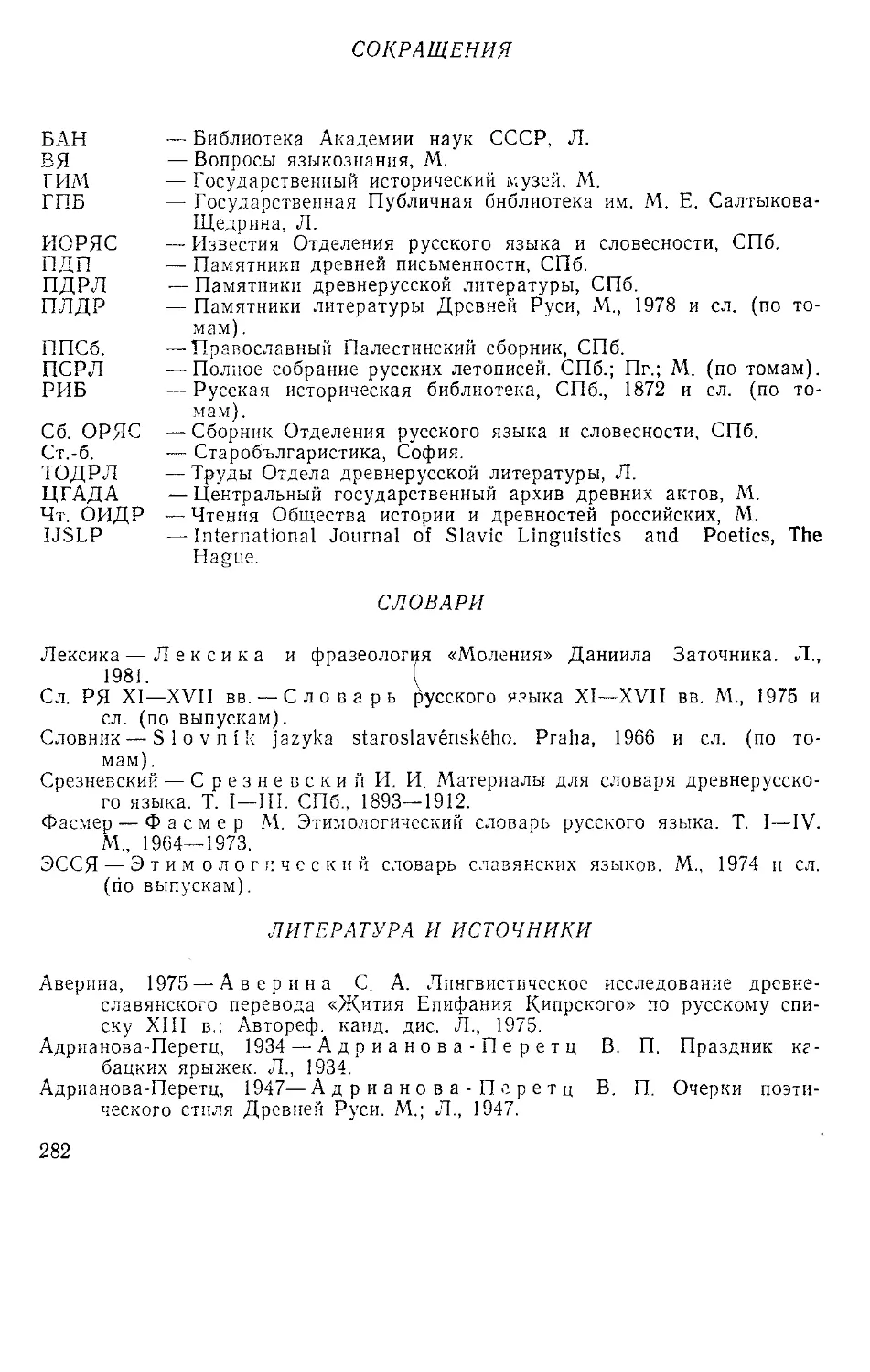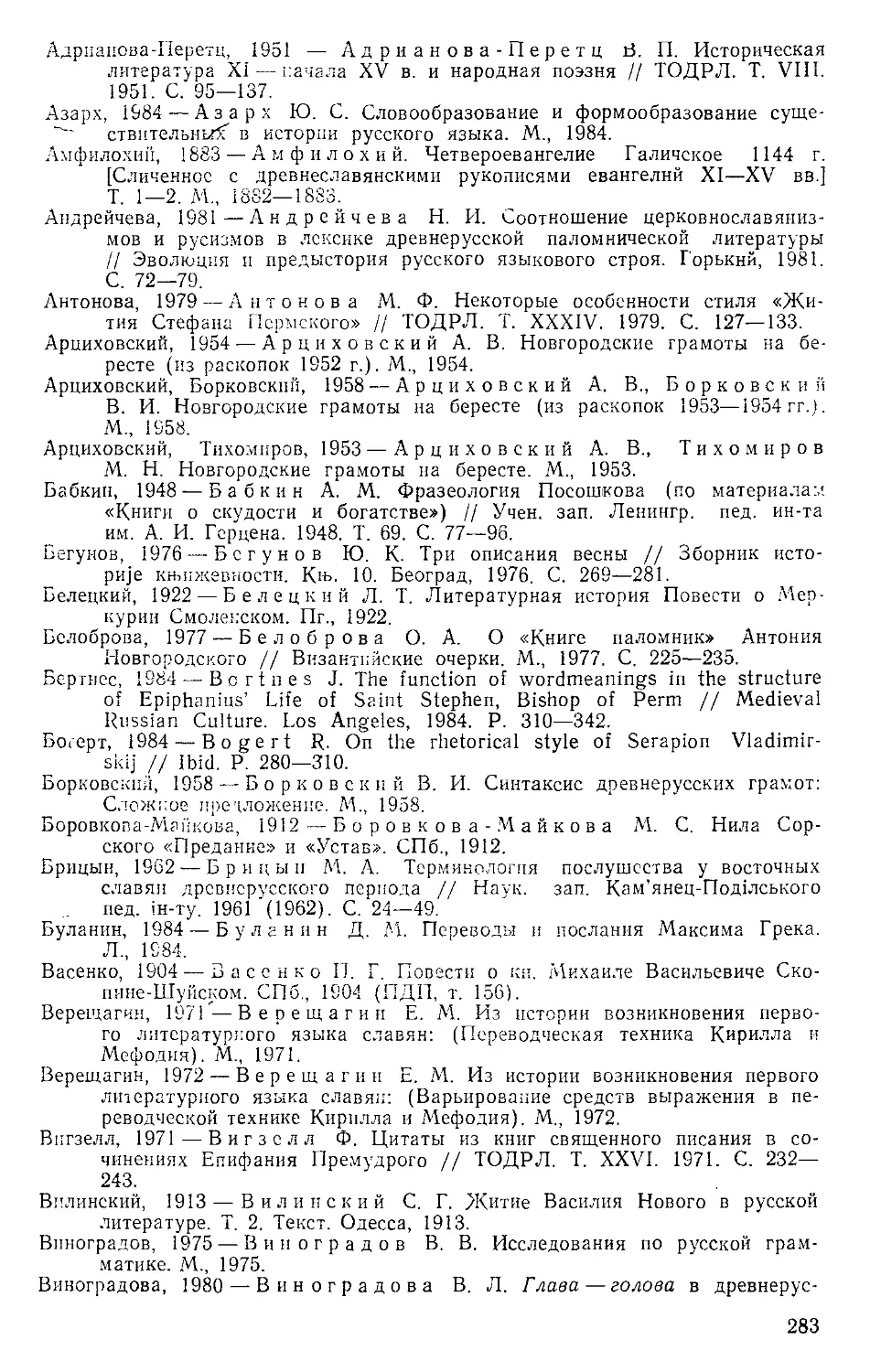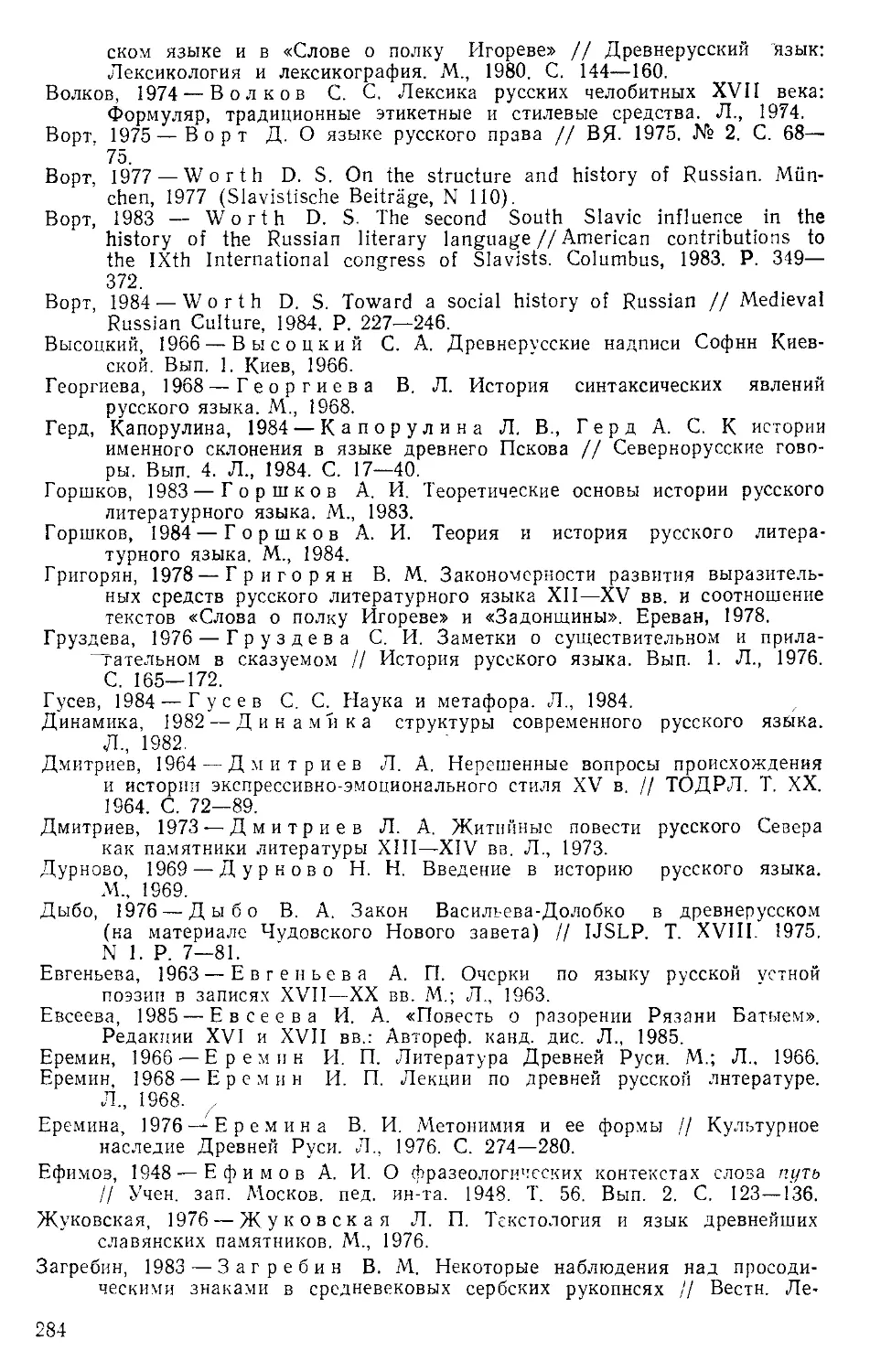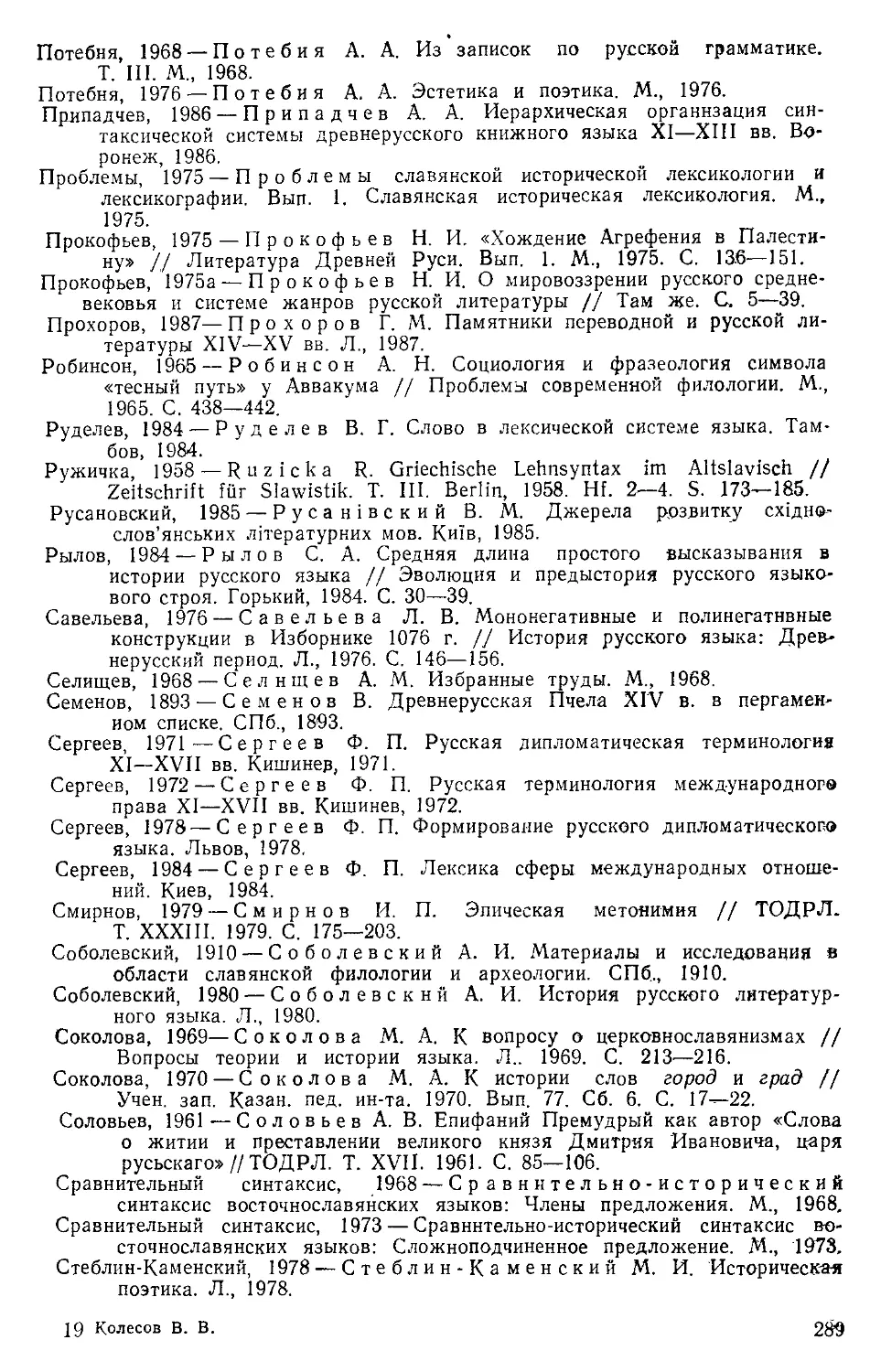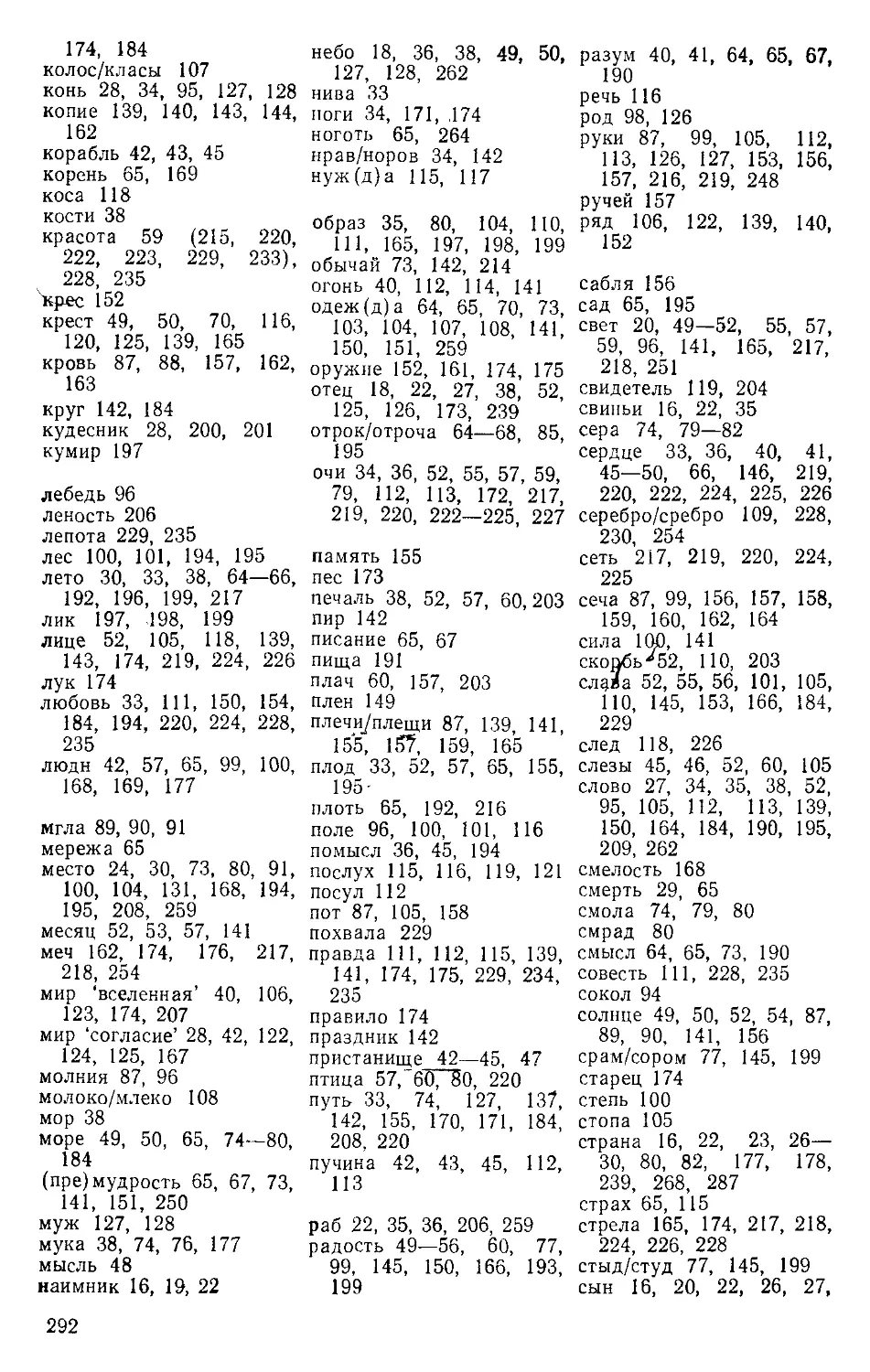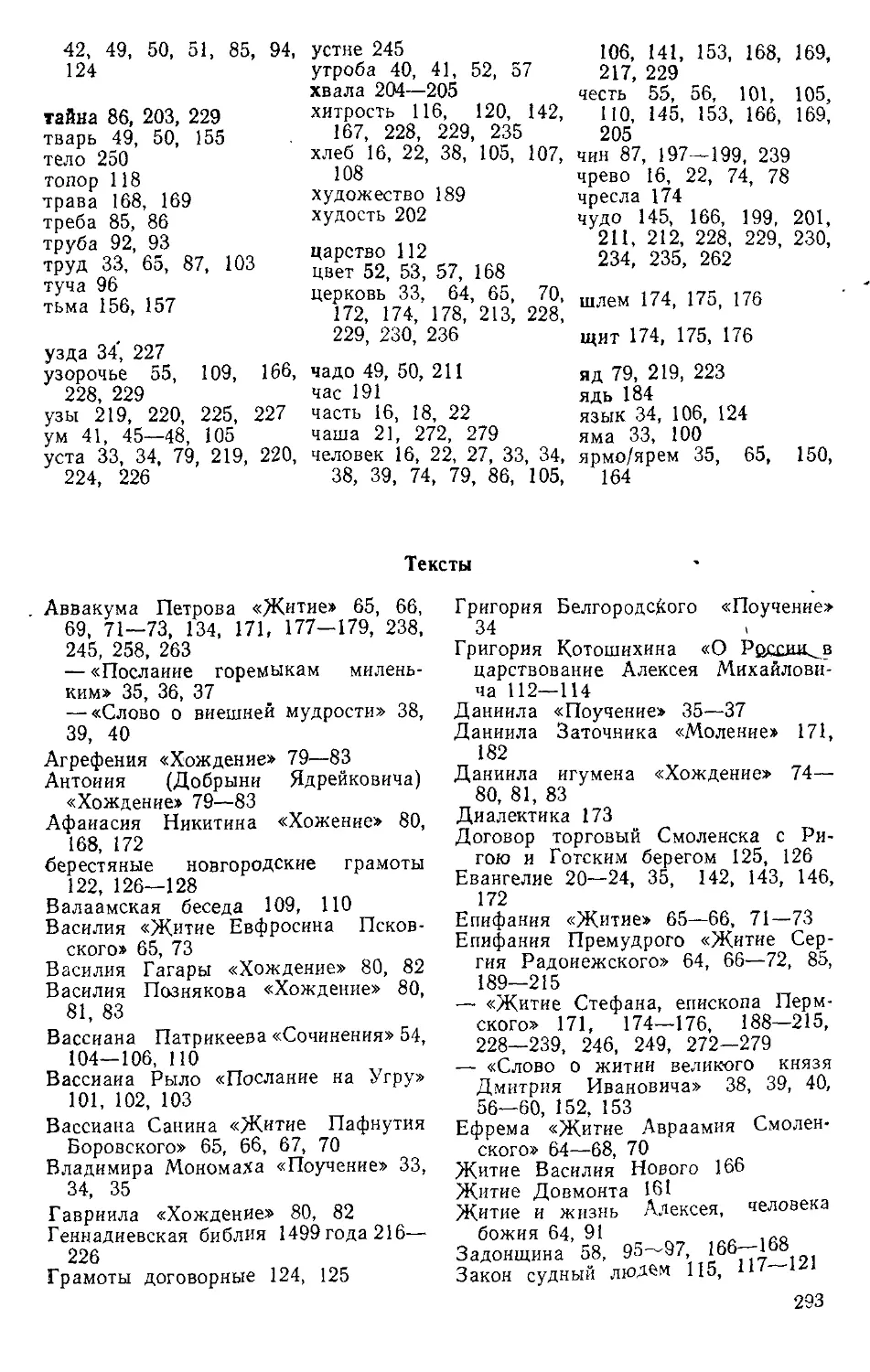Автор: Колесов В.В.
Теги: языки мира монография языковедение литературный язык издательство ленинградского университета история русского языка народно разговорныйй язык
ISBN: 5—288—00125—1
Год: 1989
Текст
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ университет
В. В. Колесов
ДРЕВНЕРУССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЯЗЫК
ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1989
ББК 81.2Р
К60
Редактор: Ю. Ф. Денисенко
Рецензенты:
д-р филел. наук А. А. Алексеев
(Лсшшгр. отд. i-iii-та языкознания АН СССР),
д-р филол. наук 5. И. Осипов (Удмурт, ун т)
Печатается по постановлению
Редакционно-изд и сельского совета
Ленинградского университета
Колесов В. В.
К60 Древнерусский литературный язык. — Л.: Изд-во Ле-
нингр. ун-та, 1989. — 296 с. ISBN 5—288—00125—1
В монографии последовательно и критически изложены ключе-
вые проблемы истории древнерусского литературного языка как ре-
зультата общекультурных и языковых схождений народно-разго-
ворного языка и старославянских текстов. В качестве иллюстраций
приведены наблюдения над языком многих' жанров древнерусской
письменности. Образование современного литературного языка по-
казано как диалектически противоречивый процесс многовековой
истории русского языка. Особое внимание уделяется языку и сти-
лю таких мастеров древнерусского литературного языка, как Кирилл
Туровский (XII в.), Епифаний Премудрый (конец XIV — начало
XV в.), Аввакум Петров (XVII в.).
Для филологов-русистов, специалистов в области средневеко-
вья и читателей, интересующихся историей русского языка.
460201000—010
k 076 (02)—89 1 е~88
ISBN 5—288—00125—1
ББК 81.2Р
Издательство Ленинградского
университета, 1989
ВВЕДЕНИЕ
Во все времена проблема литературного языка — проблема
социальная и культурная; древнерусский литературный язык
не является исключением.
Долгие споры относительно того, лежит в основе современ-
ного русского литературного языка церковнославянский или
русский язык, с научной точки зрения являются беспредмет-
ными и по сути, и по содержанию, и по ссылкам на авторите-
ты. В последнем случае особенно.
В истории вопроса сложилась традиция противопоставлять
точки зрения А. А. Шахматова и С. П. Обнорского на образо-
вание и развитие русского литературного языка. Однако по
многим фактам известно, что Шахматов просто разделял тра-
диционное для его времени мнение о церковнославянской ос-
нове литературного языка (поэтому оно и «абстрактно, не исто-
рично»— Якубинский, 1953, с. 281) \ а в собственном исследо-
вании приближался к точке зрения, теперь связываемой с име-
нем Обнорского (ср.: Мещерский, 1981, с. 57). В своих универ-
ситетских лекциях он вообще говорил не о церковнославян-
ском языке, а о «церковном языке», «церковной письменности»,,
о возможности «непосредственного воздействия живого произ-
ношения на письменную передачу русскими писцами церков-
ных памятников» (Шахматов, 1908, с. 227; ср. с. 229—230 и
др.). Это постоянное взаимодействие развивающейся устной
речи и традиционной формы письменных памятников и состав-
ляет процесс истории русского литературного языка. Таково,
действительно, не абстрактно типологическое, а историческое
представление о происхождении и развитии русского литера-
турного языка, соответствующее теории познания.
С. П. Обнорский сначала также исходил из положений сво-
1 Литературу и источники см. в конце книги.
3
его учителя, но углубленное изучение источников привело его
к принципиально повои концепции (Обнорский, 1946); история
литературного языка изучена им систематически и исчерпыва-
юще по всем уровням системы, он пришел к выводу, что осно-
вой современного литературного языка, его ядром, импульсом
к постоянным творческим изменениям в нем всегда являлся
народный язык, система естественного языка. Все споры и дис-
путы последнего полувека связаны с интегрирующей силой
этой концепции, которая показала, что литературный язык и
язык литературы, историческое понимание и национального
языка, и нормы — не одно и то же и что подмена понятий гро-
зит увеличением спекуляций на эту тему. Только такая точка
зрения, завершающая длительный период развития русистики,
объясняет, почему, несмотря на искусственно и последователь-
но сохраняемую цельность церковнославянского языка, мы в
конце концов получили три разных литературных языка во-
сточных славян, и каждый из них определяется своими осо-
бенностями, связанными с его специфическим национальным
развитием; почему из всех трех языков именно русский воспри-
нял столь обширную сумму формальных славянизмов — в свя-
зи с великодержавными устремлениями Московской Руси
XVI в. Сама проблема литературного языка формируется исто-
рически как цепочка причин и следствий, и ни в один из мо-
ментов литературный язык нс может выступить как закончен-
ная цельность: его целостность — в становлении.
Гипотеза Обнорского — продолжение и развитие теории
Шахматова в новых исторических условиях, когда на основе
углубленного изучения русских говоров (начатого Шахмато-
вым) и исторического развития русского языка стала- ясной
действительная значимость церковнокнижных текстов в форми-
ровании русского литературного языка. Расширялся и объект
изучения: для Шахматова это в основном фонетика и грамма-
тические формы, тогда как для Обнорского — грамматические
категории, семантика, стиль. В последние годы эта точка зре-
ния основательно аргументирована (Филин, 1981; Горшков,
1984) и не нуждается в защите. Альтернативы нет. Да труд-
ность и не в том, что за последние десятилетия накопилось
множество взаимоисключающих точек зрения на предмет изу-
чения, не говоря уже об источниках и методах изучения лите-
ратурного языка. Сложность в том, что сам материал очень
трудно поддается изложению: многоликий, разносторонний, он
не укладывается в линейную последовательность слов и пред-
ложений, а средств «объемного» его представления пока нет.
Сложность и в том, что большинство работ по этому вопросу
представляют собой либо частные описания памятников, языка
авторов, отдельных особенностей такого языка, либо спекуля-
тивные рассуждения на тему о древнерусском литературном
языке, для которых сам материал — только иллюстрация, не
4
всегда точная и обычно случайная, той или иной особенности
древнерусского текста (или языка). В этом смысле равны по-
следователи как номиналистической, так и «реалистической»
точек зрения. Роковым образом изучение проблем средневеко-
вья постоянно возвращает нас к тем гносеологическим метани-
ям, которые свойственны были самому средневековью. У неко-
торых создается иллюзия, будто уже сам термин «диглоссия»
дает основания полагать, что и само явление диглоссии было
свойственно древнерусской культурной среде; в этом они «схо-
жи» со средневековыми реалистами, признававшими реальное
существование отвлеченных понятий (Колесов, 1986а).
Тенденции средневекового реализма явно прослеживаются
и в современной науке, которая творит реальности посредством
терминотворчества. Между тем применительно к нашей теме
простой историко-предметный разбор понятия «литературный
язык» показывает, что за ним не кроется никакого реального
содержания в смысле предметности (см.: Колесов, 19866).
Термин «литературный язык» по своему происхождению
оказывается связанным с понятием «литература», а в этимо-
логическом его понимании — «основанный на литере», т. е. на
букве, собственно, письменный язык. Действительно,
средневековый литературный язык — только язык письменно-
сти, собрание текстов литературного назначения. Все остальные
признаки литературного языка вытекают из этого абстрактно-
го определения через термин и потому кажутся логичными и
понятными. Многообразные термины, наслоившиеся на пред-
мет изучения, представляют собой, собственно, только попытку
выйти из порочного круга формальной логики: признаки по-
нятия почитать за признаки не существующего объекта, а объ-
ект определять через те же признаки понятия. Литературный —
нелитературный, письменный — устный, народный — культур-
ный (даже культовый, в последнем случае вообще много
синонимов), обработанный — необработанный, а также много-
значные и потому неопределенные по значению — система, нор-
ма, функция, стиль. Чем больше таких определений (которые
по видимости как будто уточняют наше представление об объ-
екте), тем больше опустошается понятие «литературный язык»:
сведение каждого последующего из них настолько увеличива-
ет содержание понятия, что сводит его объем до пределов нич-
тожности.
Теоретическое языкознание создает свои мифы на принци-
пах логики — и потому совершает логические ошибки. Про-
блема литературного языка — несомненно, историческая про-
блема, поскольку и категория «литературный язык» — конкрет-
ная историческая категория. Литературного языка как тако-
вого когда-то (и притом сравнительно недавно) не было — и
литературного языка в скором времени также не будет, по-
скольку в принципе не останется никаких других форм коллек-
5
тивного общения на родном языке, кроме литературной нормы
как осознанной системы языка. Это ли не доказательство его
исторической предельности? Если вообще решать вопрос с по-
зиций материалистической диалектики, мы должны рассмот-
реть проблему литературного языка в исторической перспекти-
ве, и притом по возможности в полном объеме, в совокупности
всесторонних связей его с другими языковыми объектами, и
определить его признаки в становлении, развитии, стабилиза-
ции, стараясь понять сущность этого явления в его конкрет-
ном проявлении.
О социальной и материальной основе литературного языка
в его развитии, о стилистических сферах и функциональных его
разновидностях мы высказались достаточно ясно (см.: Колесов,
1986а, с. 22—41; 19866, с. 3—11; Динамика, 1982, с. 7—22,
51—74). Исторически сложилось так, что «культурные» формы
национального языка всегда создавались в столкновении диа-
лектных, функциональных, стилистических вариантов; только
в этом случае возникала тенденция к нормализации, т. е. по-
степенной нейтрализации первоначально различающихся типов
фиксированных в письменном виде текстов. Это давало стимул
для дальнейшего развития живого русского языка, соотнося
его с изменениями других языков культуры. Один пример:
упрощение системы склонения и преобразование глагольных
форм стремительно происходили у славян, имевших развитые
литературные языки, тогда как окраинные славянские системы
долго сохраняли архаические структуры; здесь нет прямого
влияния греческого языка, а влияние церковнославянского за-
ключается лишь в том, что, вбирая в себя все архаические
формы как признак высокого стиля, он избавлял от них раз-
говорный язык, повышая его способность к изменениям.
Из многих существующих в науке определений наиболее
приемлемым кажется определение литературного языка как
функции национального языка; следовательно, литературный
«язык» — литературная разновидность употребления русского
языка, а не самостоятельный язык (Горшков, 1983). Такое .по-
нимание литературного языка лежит *в русле русской научной
традиции и определяется историческим подходом к проблеме
литературного языка. Одновременно оно объясняет развитие
разных сфер «культурного говорения», оправдывая существо-
вание самого термина «литературный язык» — поскольку по-
следний и в самом деле является типичной формой существо-
вания народного (национального) языка, а не речью в узком
смысле слова. Исторически происходило вытеснение разговор-
ных форм все более совершенствовавшимися «культурными»
формами языка; отбор языковых форм по мере развития струк-
туры родного языка и составляет содержание этого историче-
ского процесса. Фонетический, морфологический, синтаксиче-
ский, лексический уровни системы, развиваясь неравномерно и
в зависимости один от другого, только в определенной после-
довательности и с разной степенью интенсивности могли по-
ставлять материал для отбора средств национальной нормы;
до завершения этого процесса некоторое время и с разным
успехом в качестве своеобразных «подпорок» использовались
формы близкородственных языков или семантические кальки
с развитых литературных языков (прежде всего с греческого).
Как сама культура является фактом интернациональной жиз-
ни, так и сложение национальных литературных языков явля-
ется результатом интернациональных устремлений известного
народа.
Норма как динамический процесс есть выбор инварианта
на основе многих вариантов, выработанных системой в ее раз-
витии; таков в общих чертах механизм порождения современ-
ной для языка нормы посредством выявления на каждом уров-
не стилистически немаркированного «третьего лишнего» (Ко-
лесов, 1974); стилистически маркированные элементы создают
в своей совокупности стиль.
Как ни сходны по своим проявлениям стиль и функция, они
различакися, и притом весьма существенно, поскольку отра-
жают разные точки зрения на объект: стиль может прояв-
ляться в границах одного жанра или одной функции, это —
правило выбора из многих вариантов, тогда как функция си-
стемна, дана как целостность уже сформированных инвариан-
тов. Поэтому в отношении к стилю можно говорить о количе-
стве расхождений, о том, что является высоким, что — низким
применительно к каждому отдельному стилистическому вари-
анту, а о функции так говорить нельзя. Даже то, что какое-то
явление присуще как нейтральный элемент стиля сразу не-
скольким функциональным уровням, позволяет выступать это-
му элементу каждый раз в определенном стилистическом ранге;
например, флексия -а в формах типа катера в разговорном,
литературном или специальном употреблении получает разную
стилистическую характеристику.
При изучении системы (языка) мы идем от единиц к их
структурному единству и функции (и это целое в системе
структурных отношений семантически всегда больше состав-
ляющих его частей), а при изучении стиля (литературного
языка) — наоборот, и целое определяет функцию состав-
ляющих его единиц; последним, между прочим, и объясняется
столь живой интерес к глобальным проблемам истории языка
(«двух литературных языков», множества их типов, литератур-
ного языка как языка литературы и как культурного языка,
языка культа и т. д.).
В законченном виде категория «литературный язык» в раз-
ное время определялась по различным признакам. Указывались
нормативность, стилевая дифференциация, отсюда и много-
функциональность (используется в разных сферах деятельио-
7
сти), а также литературная обработанность, общеобязатель-
ность (нарушения осуждаются) и традиционность (стабиль-
ность нормы). Если принять все эти признаки так, как они
присущи современному литературному языку, возникает опас-
ность исказить историческую перспективу в понимании разви-
тия литературного языка.
По негативным признакам литературный язык — не язык
литературы, а средство интеллектуальной деятельности чело-
века; не застывший стандарт, а норма; он не обязательно по-
ливалентен в данной культурной среде, но стремится к этому.
Следовательно, литературный язык — всегда некое усреднение
узуса, совокупность устоявшихся и общепринятых языковых
тенденций развития. Национальный литературный язык не до-
пускает со стороны ничего, что противоречило бы системе или
с ней не согласовывалось бы, но свободно открывает путь тому,
что в самой системе логически и фактически уже вызрело,
хотя не облеклось еще в соответствующую форму и не полу-
чило стилистически ясной маркировки. Изучение такого рода
влияний также составляет историю русского литературного
языка. Поэтому литературный язык и есть категория истори-
ческая. Собственно говоря, в каждую данную эпоху литера-
турный язык — это одна из возможных точек зрения на си-
стему родного языка в отношении его коммуникативной целе-
сообразности и прагматической ценности.
Таким образом, не одна норма является основным призна-
ком литературного языка в его развитии, не всеобщность его
употребления, не «обработанность мастерами», не жанровая
поливалентность, хотя, конечно, все это важно для функциони-
рования литературного языка. Историческая изменчивость форм
проявления всех указанных признаков — свидетельство их вто-
ричности по отношению к сущности литературного языка. Ос-
новным признаком литературного языка является отношение
к литературе (объем которой постоянно расширяется в связи
с изменением интеллектуальных сфер деятельности), что вызы-
вает исторически обусловленные формы литературной обработ-
ки языка; письменность предстает как .выражение нормативно-
сти. Сказанное определяет различные проблемы в изучении
литературного языка: филологические, общекультурные и со-
циологические; на долю собственно лингвистических проблем
остается немногое: изучение истоков литературного языка и его
функционирования на уровне единиц языковой системы.
В средние века образность и интеллектуальная форма по-
знания совпали, исторически это был этап развития образной
(не понятийной) стороны слова. Поэтому важны все сферы дея-
тельности; не только художественная литература, но все жан-
ры обеспечивали интеллектуальный тонус средневековой книж-
ности: и деловой, и народно-поэтический, и всякий иной жанр
одинаково авторитетен каждый в своей сфере. Только преодо-
лев ограниченность древнего образного мышления, выражен-
ного в слове, народ получает образность как форму художест-
венного творчества. Невозможно навязать новый тип мышле-
ния, минуя формы народного языка, а в исследовании — исхо-
дить из воспринятого («чужого», «книжного» и т. д.) как из
опорного элемента культурного языка: то, что с высоты сегод-
няшнего дня нам кажется маркированным как высокое и пре-
стижное, в те времена воспринималось как одна из форм необ-
ходимой вариации языка, одна из возможных и притом для
большинства не самая главная.
Содержание истории литературного языка разные исследо-
ватели понимали по-разному: как историю его норм, системы,
стилен, жанров, функций или текстов.
Литературный язык пришел к нам в виде текстов. Первыми
текстами были переводы и собственные — записи и переработки
фольклорных произведений или родовых преданий.
Теория перевода в период средневековья была основным со-
держанием филологии. В книге Св. Матхаузеровой (1976) изу-
чение искусства слова начинается именно с изучения тео- >
рпй перевода. Даже начетничество средневековой культуры '
есть свойственная такому взгляду на литературу устремлен- ,
пость к тексту (синтагме) в его противопоставлении языку
(парадигме).
Первые переводы зависели от оригиналов и были в основ-
ном пословными; при попытках переложить общий смысл тек-
ста с одного языка па другой не принималась во внимание спе-
цифика самого славянского языка; был важен именно смысл,
а не форма, которая могла варьироваться. Формальный и се-
мантический синкретизм древнеславянского слова требовал
этого, поскольку в контексте каждая словоформа всегда опре-
деленна по смыслу, а синтаксическая конструкция и граммати-
ческая форма ее эксплицируют этот смысл формально. Отсюда
обилие калек, неясность и невыразительность первых перево-
дов, неточность в выражении форм.
Текст отражал мировосприятие и мировоззрение, он созда-
вал конструктивные образцы мысли и чувства. Все последую-'
щее развитие языка и литературы состоит в том, что постепен-
но из семантической определенности текстового воплощения
слова воссоздается определенность и законченность языковой
парадигмы. В исследованиях Л. С. Ковтун (1963, 1975)- пока-
зано, как в последовательности развития средневековой лекси-
кографии отражены этапы осознания и выделения лексем и их
форм: сначала символическое значение чисто текстовых еди-
ниц в их синтагменном соединении (толковники, символи-
ки), затем контекстно связанные значения отдельных слов
(двуязычные словари, в которых контекст всегда важнее лекси-
ческой ценности отдельного слова), и только с XVII в. — узко-
лексическое значение слов на основе развития новых редакций
азбуковника.
Процесс становления русского литературного языка пред-
ставляют иногда как сумму последовательных включений на-
родно-разговорных элементов в структурную ткань церковно-
славянского языка. В результате этого внутренне противоречи-
вый и сложный процесс оказывается обедненным и упрощен-
ным.
Между тем у нас имеются источники, которые позволяют
взглянуть на дело с иной стороны, с точки зрения древнерус-
ского книжника, как бы изнутри той общественно-политической,
идеологической и социальной борьбы, которая велась вокруг
идеи литературного языка на национальной основе, — так на-
зываемые азбуковники. Оказывается, многократные попытки
создать литературный язык на русской основе предпринима-
лись с конца XV в., но эти попытки подавлялись официальной
властью и церковью, поэтому два века постоянной полемиче-
ской борьбы, подспудной работы средневековой интеллигенции,
постепенного развития новых жанров и художественных исправ-
лений литературы, редакторской правки обветшавших книж-
ных переводов, установления синонимических рядов из слов
разного происхождения (но приемлемых для определенного
жанра средневековой литературы), тщательная перепроверка
всего лексического запаса, накопленного поколениями авторов,
переводчиков, правщиков, редакторов, переписчиков, — все это
привело к неожиданному результату во второй половине
XVII в., когда русский литературный язык предстал в тради-
ционных формах церковнославянского языка, но внутренне
свободным от архаических форм, устаревших слов и искусст-
венных грамматических категорий, составлявших суть этого
языка. Новая литература не могла развиваться на основе
такого языка. В азбуковниках можно найти подробные сведе-
ния о путях самобытного развития русского литературного
языка, постепенного и подспудного, по неотвратимого в своей
предопределенности. Авторитетность нового литературного язы-
ка возникла не в открытой борьбе с -архаическим стандартом,
а в соответствии с формами общественной жизни XVI —
XVII вв. — путем постепенного вытеснения архаики в резуль-
тате конкретной практической работы над текстом (литератур-
но-художественным и деловым). В таких жанрах, как азбу-
ковник, происходила нейтрализация первоначально несопоста-
вимых элементов старого и нового языков.
Попав в азбуковники целиком, в переработанном виде или
в извлечениях, каждый раз определяясь общественными, куль-
турными или религиозными симпатиями автора или перепис-
чика, грамматические, логические, философские, стилистиче-
ские и другие сведения постепенно сплавлялись в единую
систему новой лингвистической теории, которая в каких-то
ю
своих глубинах постоянно отталкивалась от народного языка.
Сам живой язык не был тогда предметом специального изу-
чения, поскольку составлял общий фон, на котором происходи-
ла унификация нового типа книжного — церковнославянского —
языка, но именно национальная культура и национальный язык
генерировали новые идеи и открытия, новый взгляд на прин-
ципы кодификации (о роли азбуковников в этом процессе см.:
Ковтун, 1975; Колесов, 1984).
Не неосознаваемая еще система языка, а конкретная ситуа-
ция по-прежнему оставалась опорой языкового общения; таков
извечный прагматизм средневековой культуры вообще, которая,
будучи культурой вербальной по сути, еще не открыла язык
как самостоятельный объект изучения. Нормирующим факто-
ром в таких условиях оставалась введенная извне форма,
развившая свои образцы в литературном тексте.
Тексты обладали особой системой и иерархией представ-
ления, в том числе ритмом, разрушив который, нельзя было не
править весь текст. Форма слова определяла пределы варьиро-
вания; строгая, раз навсегда установленная соразмерность слов
и гармония форм создавали рамку синтагм. Теперь хорошо
известно концептуальное отношение средневековья к тексту как
форме выражения идеологии и знания, оно определяется в про-
тивопоставлении к возникавшему в XVII в. новому пониманию
текста (Матхаузерова, 1976а): текст как откровение, без кри-
тического его осмысления (истинность текста проверяется не
развитием познания и не сравнением с другими текстами, а по-
стоянным воспроизведением); в символическом истолковании
отрицается метафора (ей соответствует символ), статическое
пространство текста как бы раздваивает восприятие времени
(«вечное» — «тленное»), без сравнений и уподоблений, т. е
вне иерархии степеней.
Вслед за Р. Пиккио (1973) основными характеристиками
средневекового письменного языка следует признать достоин-
ство и норму. Достоинство (dignitas)—не внешний
престиж, который был свойствен и деловым документам, а
именно способность возвещать боговдохновенную истину. Про-
блема достоинства связана с идеологически важными принци-
пами языка (Якубинский, 1953, с. 85 сл.). Но средневековая
норма ничего общего с современным представлением о нор-
ме не имеет; нормативен образец, т. е. обладающий идеологи-
ческим достоинством текст. В концепции Р. Пиккио норма
и определяется достоинством, а это значит, что нормы в этом
смысле у делового языка не было; положение спасало средне-
вековое представление о том, что норма — это образец, т. е.
текст, а не парадигма или отдельное слово. Различие между
языками для средневековых филологов заключалось в разли-
чии их лексики и семантики, разницы между самими грамма-
тическими системами языков они не видели (Отвнновска, 1974,
11
с. 31). Это критерий стилистический, а не языковой, потому что
преобразование текста посредством использования данных язы-
ка не есть столкновение двух языков. Распределение слов и их
значений не имело отношения к средневековой норме, посколь-
ку не создавало текст, но порождало его вариации. Суть дела
не в форме, ко:орой различались «языки», а в направлении
семантического развития языка и культуры. Различные образ-
цы-тексты в разное время выполняли эту функцию, т. е. вне-
дрили в сознание и сохраняли семантику новой культуры, тог-
да как опорным стволом такого ветвления всегда оставался на-
родный язык. Теория «открытого текста» (Д. С. Лихачев) как
основы пополнения культурной информации опирается на ди-
намический импульс родного языка.
Таким образом, история литературного языка изучает текст
как форму использования системы языка в создании функцио-
нально оправданных стилей; в результате возникает норма в
исторической последовательности се проявлений: как обра-
зец- текст, затем как узус привычного употребления и толь-
ко в конце концов как обязательный стандарт. Система
языка организует структуру, стиль речи определяет ее функ-
цию, но только норма порождает стандартные правила их сов-
местного и постоянного взаимодействия.
Важно уяснить проблемы анализа текстов. Степень их со-
хранности, принадлежность к жанрам, характерные черты сти-
лей приобретают особое значение.
Советские медиевисты многое сделали в изучении жанрово-
го своеобразии и поэтических средств средневековой литера-
туры. Установлено, например, что относительна устойчивость
так называемых первичных жанров (повесть, сказание, плач,
слово и т. д.); жанры постоянно видоизменялись в составе
больших, сборного характера памятников. Памятник не явля-
ется замкнуто цельным, неизменным текстом. Это открытая для
дальнейших преобразований система, которая изменяется в свя-
зи с социальными потребностями общества. Жанр как форма
и воплощает надобность в новой функции языка и стиля. Так,
существенный признак летописей как* памятника литературно-
го языка состоит в том, что кроме книжного и народного типов
речи в результате своеобразного их усреднения появились не-
обходимые условия для кристаллизации норм среднего типа
(Ларин, 1975, с. 207). Не совсем верно видеть в летописном
тексте «смешение нескольких норм» (Ворт, 1977, с. 253), по-
скольку нормативный образец выдают не жанр летописи, а со-
ставляющие его тексты.
Важность «анфиладных» (по выражению Д. С. Лихачева)
жанров древнерусской литературы невозможно переоценить,
поскольку они создавали естественные условия для сближения
разнообразных по происхождению Языковы:: средств и выра-
батывали те самые нейтральные формы, без которых невозмож-
но создание литературной нормы. Возможность объединения
нескольких первоначальных жанров в общую систему пока-
зывает близость нх друг к другу и предел соотношения меж-
ду разными по функциональным характеристикам жанрами.
Жанры, не способные к интеграции в рамках памятника, на
самом деле связаны с другими, параллельными стилистиче-
скими системами.
Интенсивное увеличение числа жанров в древнерусской ли-
тературе, по-видимому, объясняется естественным ростом со-
циальных функций литературы, потому что каждый жанр пред-
ставляет собой соответствующую репрезентацию литературно-
го текста в отношении определенной, исторически обусловлен-
ной формы социальной деятельности.
Важно при этом, что «новые жанры образуются по боль-
шей части на стыке фольклора и литературы» (Лихачев, 1972,
с. 13; Еремин, 1966, с. 203—204); в конфликте различных
речевых стихий элементы разного происхождения в пределах
общего жанра становились стилистическими вариантами обще-
го литературного языка.
Относительную устойчивость первичных жанров определял
характер жанра с устранением авторского «я», типом литера-
турного стиля и предпочтительности форм языка (Лихачев,
1967, с. 56—57, 71). Важнейшие жанры древнерусской лите-
ратуры называли неоднократно, но конечного списка их нет;
вот самый краткий перечень жанров, в котором различаютс?!
и отчасти совпадающие жанры (Прокофьев, 1975, с. 31): по-
весть, сказание, притча, беседа, плач, поучение, слово и т. д.
Некоторые из них безусловно обозначают один и тот же жанр,
поскольку по средневековому обычаю в основу их номинации
положены разные признаки одного жанра. Притча как «неболь-
шое эпическое повествовательное произведение, в котором аб-
страгированное обобщение носит назидательный характер»
(Прокофьев, 1975, с. 33), безусловно связана со сказанием
(сказъ означает ‘истолкование’) хотя бы потому, что «действие
притчи логически конструируется... для выражения нравствен-
ной идеи» (там же, с. 33), которую и следует раскрыть тем
или иным образом и прежде всего средствами языка. Плач
также безусловно связан с молитвой (о которой редко говорят
историки литературы). Поучение — слишком общий термин, по-
скольку оно было основным составным компонентом и беседы
(учительного слова), и торжественного слова.
После работ Д. С. Лихачева, посвященных древнерусским
устным жанрам типа «посольских речей», и исследований лин-
гвистов С. П. Обнорского, Б. А. Ларина, Ф. П. Филина стало
несомненным, что в древнерусской литературе функционально
целесообразными являлись и устные жанры; теперь в этом не
сомневаются и наиболее объективные зарубежные исследова-
тели (см.: Ворт, 1984. с. 240 сл.). Такие жанры развивались
13
на основе наддиалектных форм речи и рано вступили в сорев-
нование с новыми, заимствованными формами литературной
речи.
Основным элементом текста-образца, которым пользовались
средневековые писатели, создавая новый текст, были речевые
формулы; эти формулы оказались еще стабильнее, чем сами
жанры, которые они обслуживали в течение нескольких столе-
тий; таким формулам в нашей книге будет уделено особое вни-
мание.
Вычленяя, а затем иерархически выстраивая ряды литера-
турных формул как образцов речи жанра и произведения в це-
лом, мы получаем достаточно ясную структуру средневекового
текста. Стабильность формулы определялась широкими воз-
можностями варьирования составлявших ее словесных форм;
стабильность жанра, в свою очередь, определялась значитель-
ным варьированием составлявших его формул. Стабильность
текста памятника также зависела от творческих возможностей
варьирования жанров и их функционального наполнения. В этом
соотношении нет ни субординации, ии иерархии, ни иной за-
висимости уровней текста; таков принцип свободного расши-
рения текста, присущий средневековой литературе, и этот
принцип также станет предметом изучения в книге.
Таким образом, в русской культурной среде постепенно
возникает и совершенствуется компактный способ хранения ин-
формации— не в бесконечном накоплении одномерных еди-
ниц языка, а в иерархии стилей и жанров, в которой каждая
единица языка (например, слово) как знак текста стала
проявляться в связи с ее смыслом в системе.
Здесь не ставится задача исчерпывающего изучения языка
отдельных произведений — это дело специальных монографиче-
ских исследований. Основная цель книги — на типичных образ-
цах показать общее направление в развитии формул, текстов,
жанров древнерусского литературного языка и причину про-
изошедшего в XV в. расхождения его на «два литературных
языка». Преимущества такого способа аргументации обсуж-
даемых в работе положений очевидцы: всегда можно продол-
жить сравнение приведенных здесь образцов, расширяя тем
самым материальную базу изучения объекта, или извлечь до-
полнительную информацию из уже представленных текстов, по-
скольку из-за краткости изложения они не анализируются ис-
черпывающим образом.
Общие результаты исследования в тезисной форме сумми-
рованы в заключении. Следует помнить, что выводы эти основа-
ны на многих трудах представителей ленинградской филологи-
ческой школы, более века изучавших историю древнерусского
языка. Чтобы оттенить историческую перспективу в разработ-
ке проблемы, представлена основная литература вопроса. В
книге нет прямой полемики с другими точками зрения на исто-
14
рию русского литературного языка, поскольку очень редко
такие точки зрения основаны на филологической работе с ис-
точниками. К подобным концепциям можно будет вернуться
при обсуждении проблем в продолжении этой монографии
«Стиль — норма», которая является третьей частью к представ-
ленным двум в публикуемой книге. Сейчас уже недостаточно
говорить только о становлении нормы как главной
проблеме истории литературного языка, ибо это всего лишь
конечный результат развития языка. Такая по-
становка задачи сужает проблему, поскольку в диалектическом
развитии объекта постоянно возникали внутренние противоре-
чия между системой языка, стилем речи (или текста) и нор-
мой. Необходимо проследить истоки и источники, исторический
фон и социальные основания того культурного явления, кото-
рое пока еще слишком общо именуется древнерусским литера-
турным языком.
Часть первая
ТЕКСТ —ЯЗЫК
Глава 1
ПРИТЧА — СКАЗАНИЕ
Сравнение текстов начнем со сказания, безусловно напи-
санного на старославянском языке, поскольку его перевели Ки-
рилл п Мефодий, — с хорошо известной евангельской притчи.
А. В. Исаченко утверждает, будто смысл этого сложного фило-
софского текста может стать понятным только «после интенсив-
ного изучения церковнославянского языка» и при знании гре-
ческого; при знании одного лишь «народного» восточнославян-
ского языка смысл текста неясен (1975, с. 33). Приведем на-
чало Притчи о блудном сыне в точном соответствии с орфогра-
фией и пунктуацией Остромирова евангелия (ОЕ) (без пере-
дачи юсов) — в сопоставлении
ЧловЬкъ нЬкыи имЪ дъва сы-
на . и рече мьнии сынъ ею . оцу:
«Оче, даждь ми достоину часть им-Ь-
ння» . И раздали има им-Ьние . и
не по мънозЬхъ дьньхъ . събьравъ
вьсе мьнии сынъ . отиде на страну
далече . и ту расточи имЬние свое .
живы блудьно . Иждивъшу же ему
вьса . бысть гладь крЬпъкъ . на
стран!, тон . п ть нанять лшиатн
ся . И шьдъ прильни ся единомь .
отъ житель тоя страны . и посъла
п на села своя пасть спппни . И же-
лайте насытнги чрЬво снос . oil.
рожьць . яже Г.дЬаху свиния . и
никътоже не даяаше ему . Въ себъ
же пришьдъ рече . «Колику наимь-
никъ . она моего . п избывають хл!>-
би . азъ же сьде гладъмь гыбну»
с греческим оригиналом:
Avflpior.6; xi; eryev 8бо viou;. xa'i
eTitev 6 vecoxepo; оитйт тй itaxpi. ITaxep
86; poi to erafia.T.'ko'i pepo; тт;; ouoia;. о 8e
oteiXev auxoi; zov {iiov. xai pex’ou xoXXa;
ijpepa;. auvafayiov itavxa 6 veioxepo; uio;
акеЗ^рЦзеу ei; X*’’?®7 P«*P“7 exit 8iea-
xopxuev ттр ooaiav aoxoo Co»7 aai.ixeo;. 8a-
itivTpa'iZ'i; 8e аитой it-ivxi e-fevezo ’Xipo;
ijyiprr 7.TT7 z it4 у.орам xai aoxo;
vp^azo 6axepeia6ai. xai ropeuOei; тхоЛХ^От;
evi z6.v xrAiToiv zt; х<йра; exeiv>);. xai
teeplsT auzov ai; too; аурой; айтой рбз-
zeiv yoipo-j; . xai sr.eflupei -уортазв^си ex
zwv xepaziio^ <ov -qafitov ni yoipot . xai
ou8s't; e6i6ou айтй . ei; eauzov 8e eXflwv
eyi;. KOaot piaStd хой iraxpo; рои zepiaaeo-
ovzai apzwv . cy<i> 8ё Xipio o>8e axoXXupa
(Остромнрово евангелие 1056—1057 гг. СПб., 1844, л. 117 об. — 118 Лк. 15,
11—17; греческий текст сверен с изданием: Nestle — Aland. Novum Testa-
mentum Graece. Ed. XXVI. Stuttgart, 1979, S. 211—212).
16
Многие слова этого первоначального перевода понятны чи-
тателю на основании общности корней перевода и современно-
го языка. Некоторые архаизмы его объясняются утратой в сов-
ременном языке соответствующих грамматических форм
(мьнии). Нужно помнить и то, что часто под архаизмами мы
понимаем просто редкие слова (Ларин, 1975, с. 76); в этом
смысле лексика могла быть архаичной и для XI в. Кроме того,
все формы слов в нашем тексте древнеславянские, эти архаич-
ные для современного читателя грамматические формы и со-
здают впечатление «чужого языка»; но столь же «чужим» для
такого читателя является и древнерусский, которому также
свойственны все подобные формы. Важнее понять устаревшие
значения отдельных слов: достоину, расточи, блудьно, крЪпъкъ,
прилЪпи ся, рожьць, избывають. Прояснить эти значения помо-
гает и внутренняя форма (образ) корня.
Только в семантике заметно воздействие на перевод. грече-
ского оригинала. При этом смысл нового для славян выраже-
ния передается не отдельным словом, а словосочетанием или
самостоятельной синтаксической конструкцией. Переводится
смысл фразы, а не значение слова. Различаются
лексический, морфемный и синтаксический уровни текста. На
лексическом уровне (корни слов) устойчивость основного зна-
чения настолько велика, что оно сохранилось до настоящего
времени. Однако формальные морфемы изменились полностью
(морфологический уровень). Лексический уровень объединяет
старославянский, древнерусский и современный литературный
языки; морфологически же, на уровне словоформ, объединяют-
ся только старославянский и древнерусский. Синтаксические
характеристики текста (синтаксический уровень) отчасти раз-
личны уже в древнерусском и старославянском, потому что по-
следний в этом отношении зависит от греческого оригинала;
наряду с этим многие синтаксические структуры старославян-
ского языка стали активными в современном русском литера-
турном языке.
Итак, следует аналитически различать лексические, морфо-
логические и синтаксические компоненты текста, поскольку их
взаимопроникновение исторически переменчиво и создает по-
стоянно различающуюся перспективу текста. Учтем все это в
последующих сопоставлениях.
Зависимость славянского перевода от греческого оригинала
видна из сравнения текстов. Особенно подробно об идентично-
сти текстов говорит именно А. В. Исаченко (1975, с. 28 сл.),
доказывая этим полнейшую зависимость старославянского
языка от греческого. На первый взгляд очевидно, что в пере-
воде сохраняется порядок слов греческого языка (даже в от-
ношении клитик), но ведь и в древнеславянском, как показы-
вают реконструкции, порядок слов мог быть таким же. Впол-
не возможно, что древнеславянскому языку были свойственны
2 Колесов В. В. 17
именно словосочетания с местоименными словами в постпози-
ции «чловЪкъ нЪкыи», «чрЬво свое», как и сочетания с прила-
гательными в препозиции: «достоину чясть», «по мънозьхъ
дьньхъ». Отсутствие конкретных данных славянских сочетаний
того же времени не доказывает разнородности языковых си-
стем и зависимость славянского порядка слов от греческого.
В квалификации фактов необходима осмотрительность: совме-
щение отмеченных сочетаний происходит не на уровне я з ы-
к о в, а на уровне текстов.
В тех случаях, когда славянский язык отличался от грече-
ского, переводчики заменяли конструкции греческого текста
на однозначные славянские. Родительный притяжательный пере-
водился прилагательным, это верно, но рядом и целый обо-
рот включался в обычное для славянского языка согласование
существительного с прилагательным; ср.: «отьць вашь небесь-
скый» —о патт|р ujacov, но «иже въ небесьхъ» — 6 ev tot; oupavoit;.
Также родительный абсолютный переводился дательным само-
стоятельным (ср. в тексте притчи: «иждивъшу же ему вьса»),
поскольку родительный падеж в славянском имел свою особую
функцию.
В отличие от родительного имени причастные конструкции
передаются в славянском тексте очень заботливо. Впечатление
такое, будто переводчик сознает известный синкретизм при-
частной формы и особую важность ее в построении перспекти-
вы текста: это и имя, и глагол одновременно; при последующих
многократных переработках именно причастные формы не из-
менялись. Столь же внимателен переводчик и к соответствиям
с относительным местоимением или наречием (яже), а также
частицами типа же, бо, ли. Особое внимание придает он всег-
да текстообразующим элементам, стараясь соотнести их с кон-
струкцией греческой фразы. По-видимому, есть какие-то глу-
бинные основания придавать особое значение именно тексто-
вым скрепам мысли, развернутой в цельном высказывании. Се-
мантический синкретизм подобных формул несомненно осозна-
вался славянским переводчиком.
А. В. Исаченко полагает, что без. хорошего знания грече-
ского языка многие словосочетания оригинала были бы непо-
нятны славянскому переводчику. Например, греческое выра-
жение, которому в переводе соответствует сочетание «достойна
чясть», означает ‘мне принадлежащая часть’; «не по мънозьхъ
дьньхъ» — ‘в скором времени’; «въ себь же пришьдъ» также
слишком отвлеченно по смыслу, чтобы можно было точно
перевести его на славянский. Мы знаем, что Кирилл и Мефодий
прекрасно владели греческим, но их перевод отличается точно-
стью, ясностью и применительно к славянскому языку. При-
ходится удивляться тонкости понимания греческого оригинала
и передаче его на славянский язык во всех оттенках смысла.
Приведем один характерный пример.
18
Слово имЪние может соответствовать двум греческим со
значением ‘имущество’ и ‘прожиток’. Переводчик использует
его для передачи многозначного греческого ?io; ‘жизнь’ и ‘до-
стояние’; второе значение уходит в подтекст, оставаясь как
будто не выявленным (хотя обычно в переводах каждому из
значений этого греческого слова соответствуют разные славян-
ские слова — жизнь и имЪние— Верещагин, 1971, с. 85). Но
так кажется , только на первый взгляд. Пока говорят о сред-
ствах, полученных блудным сыном на прожитие, пользуются
отвлеченным словом имЪние (корень которого, кстати, тот же,
что и у слова наимьникъ, но по семантике оно далеко от вся-
кого ‘имения’; вполне возможно, что ради этой игры слов и
было отдано предпочтение варианту имЪние, а не искусствен-
ному сложению наимьникъ). В переломный момент повест-
вования вводится конструкция с причастием (что способст-
вует переключению внимания); «иждивъшу же ему вьса»; не-
ожиданно возникает образ «жизни» («когда же он прожил
все...»), хотя в греческом оригинале стоит глагол, который
можно перевести по-разному: как ‘расточить’ (ср. в тексте
притчи «расточи имение»), как ‘истощить’ (ему по смыслу со-
ответствует перифраза «живы блудьно»), как ‘издержаться’ (ср.
в притче «иждивъшу же ему вьса»). Иждивъшу — типично сла-
вянское слово, оно отвлеченно по смыслу и как бы вбирает в
себя значения всех окрестных в тексте глаголов, развивающих
данную мысль, но одновременно в нем фокусируется такой об-
щий подтекст: не одно лишь имущество, не только здоровье и мо-
лодость, но саму жизнь во всей ее полноте истратил блудный
сын. Несомненно, такой перевод сделан сознательно, поскольку
в указанном значении глагол встречается лишь в данном тек-
сте (см.: Словник, I, с. 711). Только в середине XIV в. в но-
вом — буквальном — переводе (см. ниже) разграничиваются
слова имение и житье — в соответствии с оригиналом. Такое
обобщенное слово, как иждивъшу, признается неприемлемым
для славянского текста, и к нему уже никогда не возвраща-
ются.
Таким же образом выявляется содержательный подтекст во
всех стихах притчи (как и в древнем переводе Евангелия в це-
лом), но это самостоятельная тема. Здесь важно подчеркнуть
несправедливость мнения А. В. Исаченко о том, что славянский
переводчик не передавал всей тонкости и многозначности
греческого оригинала. Передавал, но пользовался при этом
языковыми средствами родного языка, смещая иногда семан-
тическую и стилистическую структуры текста в соответствии
с нормами славянского языка; переводчик творил на родном
языке, хотя в известной мере зависел от образной семантики
греческого оригинала.
Е. М. Верещагин прекрасно показал, что уже первые сла-
вянские переводчики, передавая греческий оригинал, исполь-
2*
19
зовали возможности самого славянского языка. Хотя 98,6%
первоначального славянского текста Евангелия — перевод до-
словный, он осуществлен на основе «общности сем» славянско-
го и греческого слов, и это с самого начала давало возмож-
ность дальнейшего совершенствования текста путем последо-
вательной мены имеющихся славянских соответствий (Вереща-
гин, 1972). «Пословный принцип применялся при общности
культур, а поморфемный — при их расхождении», причем для
пословного перевода характерно «понимание слова как морфо-
логического единства» (Верещагин, 1971, с. 47, 35). Чтобы уме-
ло использовать эти принципы, следует различать разные
уровни языка и осознавать сводимость — несводимость куль-
турных коннотаций.
Aeyet можно было перевести как речеть, глаголеть и т. п.,
но уже в полном соответствии с семантикой сочетаний с этими
словами в славянской фразе. Выразительность славянского
эквивалента оттачивалась столетиями, и в этой коллективной
работе неизвестных нам переводчиков постепенно создавался
характерный облик славянского литературного языка. Одно-
временно изменялись и формальные характеристики текста.
Греческая форма презенса, к примеру, воплощая «вневремен-
ное» значение, служила также для введения прямой речи; на
славянской почве «вневременное» действие рассказа выража-
лось формой аориста, отсюда и странное на первый взгляд
переосмысление Xsfet как рече (Колесов, 1976, с. 82). Анало-
гичные изменения получали все другие формы перевода, под-
страиваясь даже под ритмику славянской фразы (синтагмы
славянского перевода короче греческих синтагм одного и того
же текста). Много трудностей возникало в связи с передачей
форм, отсутствующих в славянском. Постепенно устранялись
из перевода буквальные искусственные сочетания, хотя неко-
торое время и переносились из списка в список такие неловкие
конструкции, как «и другии свЬтъ повЪдають быти» из Речи
философа (т. е., говорят, есть и «toi свет»). Формы двойствен-
ного числа типично славянские, и в тексте притчи форма ею
употреблена на мес^е aotwv (мн. ч.)4 и притом неуместно:'она
относится по смыслу греческого выражения к слову сынъ (для
передачи значения ‘младший из них’) и потому остается в гра-
ницах предшествующей синтагмы («мьнии сынъ ею»), в дейст-
вительности же, уже по законам славянской синтагмы, это место-
имение должно быть связано с последующей синтагмой («ею
отьцу», т. е. ‘их отцу’). Возникает расхождение межлу граница-
ми синтагм в разных языках, причем искусственная славянская
синтагма впоследствии подвергается исправлениям: ею опуще-
но уже в Мстиславовом евангелии русской редакции XII в.
Переводчик приводил в соответствие со славянской фразой
незаконченное, на его взгляд, высказывание оригинала, если
того требовала синтаксическая валентность славянского слова.
20
Так, греческое -o-criptov 'i'o'Zpoo (Мт.ф, 10, 42), буквальное зна-
чение которого ‘чашу холодного’, переведено как «чашу студе-
ны вод ы». Экспликации семантики определения диктуются
славянскими правилами сочетания студена вода; itpoaeipepov
au-tio raxpako-cixov (Мтф. 9, 2) переведено как «принЪся ему ос-
лабленъ жилами» (ниже вариант: ослабленному) и др.
(см.: Верещагин, 1972, с. 90—115).
Таким же языковым явлением предстает и распространение
синтагм за счет зависимых слов: ключевое слово подбирается
точно в соответствии с греческим, тогда как зависимое от него
должно отражать характер славянской синтагмы (Верещагин,
1972, с. 116—118; ср. также: Копыленко, 1967; Колесов, 1985).
Когда славянские переводчики слепо следовали оригиналу, их
переводы оказывались неудобочитаемыми, и подобного буква-
лизма славянские книжники сознательно избегали (Вереща-
гин, 1972, с. 121).
Определенное значение имела и традиция бытования како-
го-либо текста в славянской среде. Новые переводы частей
Библии, выполненные в Новгороде в конце XV в., отличаются
ясностью и поэтичностью, тогда как сделанные там же и тогда
же дословные переводы «Логики» и других «еретических»
книг невразумительны и темны, требуют истолкования самого
перевода; они прерывают традицию средневековой культуры
книжных синтагм, открывая новую, еще не освоенную.
Самые принципы перевода постоянно совершенствовались
(см.: Матхаузерова, 1976, с. 26—55), на каждом этапе отра-
жая развитие разговорного и литературного языков и уровень
лингвистического знания.
С течением времени уточнялись некоторые неточные места
перевода или устранялись архаизмы. Это делалось неоднократ-
но и вполне сознательно. По сопоставлениям, приведенным в
книге Амфилохия (т. 2, 1883, с. 361—365), можно судить о ха-
рактере правки в древнерусских списках XII—XIII вв. В тек-
сте притчи разночтения касаются следующих слов: вместо
нЪкыи дается иногда грецизм етеръ, мьнии заменяется формой
меньший, житель — словом гражданъ, вместо лишати ся — но-
вое лиховатися, вместо иждивъшу — изнуривъшю или истро-
сившю, вместо насытити — наполнити, а гыбну (в связи с из-
менением основы и развитием категории вида) дает множество
вариантов: гыблю, погыбаю, изгыбаю и др. В более поздних
редакциях обычно заменяются глаголы, поскольку именно их:
последовательность организует повествование, но по этой же
причине данные формы долго удерживаются, иначе текст рас-
пался бы как цельность (ср. устойчивое соотношение форм
аориста и имперфекта). Устраняются архаичные формы (дая-
аше вместо дадяаше), приводится в соответствии с древнерус-
ским произношением написание: дажь вместо даждь, имЪнье
вместо имЪние, ижчившю вместо иждивъшу (с южнорусским
21
произнесением аффрикаты), вся вместо веса, последовательно)
устраняются слабые редуцированные и т. д.
Структурная цельность текста остается постоянной. Не из-
меняется даже форма супина, не нарушается синтаксическая
перспектива высказывания в результате взаимной мены при-
частия и личных форм (что становится обычным после XIV в.).'
Ненарушенной остается и последовательность составляющих!
текст синтагм; заметно только опущение архаической формы'
двойственного числа ею и включение местоимения все в син-’
тагму «расточи (все) имение свое»; ею не соответствует ориги-
налу и разрушает цельность синтагмы в смысловом отноше-
нии, все усиливав! смысл высказывания.
Границы минимальных высказываний (синтагм) почти не
нарушаются при переписывании текста. Они соответствуют де-
лению греческого текста, хотя и не всегда. Границы тактовых:
единиц в славянском тексте своеобразны и в общем совпадают!
с границами предикативных групп. Что эти синтагмы опреде-1
ляются устным произнесением текста и связаны с законами^
славянской фонетики, показывает древнейшая акцентованная
рукопись — Чудовский Новый завет 1355 г. (ЧНЗ), в котором
представлен новый перевод притчи: !
Члвк нЬкии . имЬ .в. спа . и ре'/ унЬп сю опю . оче даж ми достойную )
час имЬня . и раздали има житье . и ие по мнозЬх диех . собрав вся унЬи I
снъ . отиде на страну далёчю . и тамо расточи имЬиье свое . жива блуд- ;
но . истросйвшю ж ему вся . быс глад крЬпок па странЬ тон . и т нача нс- !
достаточствовати . и шей прилЬпнс единому от жител страны тоя . и посла |
и на села своя пасть свинии . и желаше папблпити чрево свое от роже/{ их ж ,
ядяху свиня . и никто ж даяш ему . в себе ж пришей реч . «Колици найм- !
ницы она моег . излйшьствуют х.тьб . аз же гладолг гйблю» (Чудовский Но- I
вый завет. М., 1892, л. 35г). ;
Предикативность — главное свойство синтагмы — усилена,।
в качестве самостоятельных уже не воспринимаются сочетания ;
«на странЬ той», «от жител страны тоя», «от рожец», «их ж I
ядяху свиня», «оца моег». Древнеславянский посинтагменный )
тип чтения, связанный, как можно догадываться, с особенно- :
стями акцентуации древнего текста, сменяется совершенно но-
вым, содержательным, при котором предикативность выступает |
как способ выделения словесных групп. !
Важно, что в ЧНЗ обычным является только одно ударение I
па синтагму (так не везде в этом большом тексте, но откло-
нения следует обсудить в другом месте). Происходит это не
оттого, что другие словоформы сочетания в принципе остава-
лись нс акцентованными. Напротив, в приведенном тексте нет
ни одной словоформы, которая в доугом месте не была бы ак-
✓
центованной, в частности:1 члвк нЪкй 1656, имЪ 36а, речё 71в,
22
яко унЪи 396, оцю 131в, именья 1196, раздЪлйся 17г и т. д.
Акцептованы не отдельные слова с особенностями их словес-
ного ударения в данной форме; акцептован текст — конкретный
текст с определенными семантическими и стилистическими гра-
ницами выделения. Знак ударения, как и знак паузы, обозна-
чает определенное место формы в перспективе текста, и хотя
словесное ударение указано в соответствии с его парадигмати-
ческим свойством, учитываются колебания и в зависимости от
характера текста, его содержания, смысла, от степени воздей-
ствия со стороны оригинала, наконец, от звучания этого тек-
ста. На последнее хочется обратить особое внимание: каким
бы книжным и, казалось, совершенно отстраненным от устной
речи ни был текст, он всегда соотносится с живой речью, он
произносится, и правила его воспроизведения обычно
фиксируются на письме.
Колебание ударения определяется характером сочетания и
ритмической структурой синтагмы, в том числе и исходной,гре-
ческой. Словесное ударение еще не освободилось от фонетиче-
ского контекста. Ударение ключевого слова могло определять-
ся также греческой ритмической структурой: jiaxpav восприня-
то в ОЕ как наречие, а в ЧНЗ как согласуемая с именем фор-
ма прилагательного, ср. в ЧНЗ «на страну далёчю» 37в при
ец /wpav paxpav (Лк. 15, 12), «на Галатскую страну» 69г при
et; ... ГаХаихтр ywpav (Деян. 16, 6); совершенно другое уда-
рение той же неполногласной формы дает ЧНЗ при отсутствии
накоренного ударения в греческом тексте: «во всю страну Га-
лилейскую» 17а при etc; okvjv -crjv rcspiyu>pov ГоОпЫо;
(Мрк, 1, 28), также «в страну их» 167а (в оглавлении) и т. д.
Ударение других форм не рассматриваем с точки зрения соот-
ветствия греческим, поскольку ни родительный, ни местный
падежи единственного числа не варьировались по акценту в са-
мом славянском языке. Правила выбора акцента определяют-
ся характером сочетания и акцентной формулой оригинала не
в меньшей степени, чем собственно славянскими правилами
распределения ударений, однако важно следующее: варьиру-
ется только то, что может выступать вариантом в славянском
языке (в ЧНЗ: страну и страну, но только странЪ или стра-
ны) .
Понятно стремление восстановить ритмическую структуру
традиционного текста, разрушенную после падения редуциро-
ванных. Попытки соотнести утраченную цельность звучания
посредством восстановления акцентов на отсутствующих в язы-
ковой системе звуках (типа горъ 151г, рукъ 144в, женъ 70г,
даже ранъ 706 — ударения, невозможного по парадигматиче-
1 Здесь и далее указаны листы рукописи по изданию ЧНЗ.
23
ским основаниям) — такие попытки не удались. Выделение пре-
дикативных элементов высказывания также наталкивалось на
затруднения, обусловленные, языковой системой. Например,
выделить личное местоимение в сочетании аз же невозможно,
поскольку в такой комбинации слов акцентованным оказывает-
ся малозначительная для смысла частица: аз же 102в. Можно
сказать, что словесное ударение вообще принималось во вни-
мание при чтении текста, оно было известно и распространено,
сохраняя, правда, следы архаичности (все акценты ЧНЗ уди-
вительно архаичны), но в нужный момент обычно проявлялось
и в постановке знаков ударения. В приведенном же тексте
ЧНЗ акцептованы не просто коммуникативно важные слова
(не тема, а рема высказывания), но и слова, имевшие, как
правило, постоянное ударение на той морфеме, что представ-
лена в ЧНЗ (кроме, может быть, нового на сёла). Возникаю-
щее невнимание к редуцированным отразилось и на графике
текста: многие окончания как бы недописаны, они «стираются»
в сознании и произношении, становясь не важными в осмысле-
нии цельности синтагмы признаками; важной остается цель-
ность сочетания определенных корней, а нс формальное един-
ство флексий. Впоследствии эта противопоставленность корня
флексии отразится и в грамматических сочинениях средне-
вековья. В «Грамматике» Мелетия Смотрицкого (1619 г.) осо-
бое внимание уделяется написанию корня, тогда как варианты
падежных окончаний, в том числе и русских по происхождению,
новых, обязанных аналогии с другими типами склонения, пред-
ставлены в изобилии (типа мЪстЪхъ — мЪстохъ — мЬстахъ и
т. д.). Отныне противоположность «корень—флексия» рассмат-
ривается аналогично противоположности «имя — глагол»: те-
ма — рема, устойчивое постоянное — неустойчивое изменчивое,
последнее поэтому может варьироваться в широких пределах,
вплоть до разговорного русизма в границах высокого стиля.
Как обычно, национально русским и здесь остается то, что
варьируется, преобразуется, а следовательно, дает возможность
наполнить возникающую форму новым содержанием.
Совершенно справедливо замечено, что «судить о принад-
лежности текста определенному языку на основании одного-
единственного уровня — теоретически неверно» (Верещагин,
1972, с. 23). Между тем это типичная ошибка почти всех иссле-
дователей древнего текста. Текст описывают либо на фонетико-
орфографическом уровне — и тогда говорят о «русскости» Ост-
ромирова евангелия (Тот, 1985), либо на синтаксическом (с
привлечением лексических, обычно очень спорных мгтериа-
лов) — и тогда говорят о том. что Остромирово евангелие яв-
ляется старославянским по существу (Исаченко, 1975). Проис-
ходит смешение понятий «рукопись» и «текст», что неправомер-
но сужает рамки исследования древнерусского литературного
языка до границ текста, притом представленного в виде от-
24
дельных рукописей. Инвариант рукописных воспроизведений:
позволяет моделировать текст, который может лечь в осно-
ву исследования литературного языка. Последователь-
ное восхождение к степеням функциональности и должно со-
ставить предмет нашего изучения.
О рукописи Остромирова евангелия известно, что она от-
ражает древнерусский извод старославянского языка (Тот,
1985). Осмысление текста переводчиком и писцами, как можно
видеть, начинается с фонетической его адаптации, постепенно
подгоняется под восточнославянские нормы, и в конце концов
текст уже «видится русским».
Особенно заметна такая тенденция в редакции Чудовского
Нового завета. За три века в системе языка произошли значи-
тельные изменения, все они отражены в самом традиционном
по понятиям того времени тексте. Уже нет редуцированных
гласных, и это сжимает текстовые синтагмы чуть ли не на од-
ну пятую их прежнего звучания; последовательное стяжение
форм имперфекта ведет к тому же, как и устранение второго
отрицания по греческому образцу («никтоже даяше ему»), как
и редукция частиц (ж, но под ударением аз же) и т. д. Изме-
няются характер звукосочетаний, допускаемых в речи, синтаг-
матические правила соединения фонем (ср. напряженные ре-
дуцированные в русском их варианте: житье, имЪнье) и соче-
тания гласных (нЬкий с «; шю, цю, ча, а не шоу, цоу, чя, как
прежде). Распространяются русские варианты звучания типа
дажь вместо даждь, унЪи вместо юиЪи и др., что также пора-
зительно, если учесть церковный характер текста. Все время
происходит приспособление писаного текста к меняющемуся
произношению. Пока еще чисто фонетический характер носит
и большинство грамматических замен; сохраняются формы
имперфекта, но теперь они русские, и клитики выражены по-
новому (ся в постпозиции, что указывает на смещение ритми-
ческих границ); фонетическая редукция охватывает противи-
тельные частицы, но не распространяется на усилительные.
Причастия сохраняются, но они также меняют форму (жива
вместо живы), поскольку произносительная форма текста ста-
новится русской. Таков основной вывод, к которому приводит
изучение Чудовского Нового завета —. важной вехи в развития
литературного языка восточных славян эпохи становления Мос-
ковского государства. Таким был путь развития литературного'
языка в его логической последовательности, прерванной даль-
нейшими событиями. Важно отметить, что и традиционный текст
постоянно приспосабливался к произносительным формам сов-
ременной славянской речи, никогда от нее не отступая.
Однако формальные элементы текста сохранялись в тради-
ционной неподвижности. Особенно это касается глагольных
форм, причастий, даже супина (пастъ). Такие формы отчасти
сохраняли и традиционное звучание (ср.: Ъ'дЪаху — ядяху). В
25
других случаях, выходящих за пределы приведенного отрывка
найдем множество следов столь же явной «приспособительной
реакции» на развивающееся русское произношение. Душа ради
нашей — грамматический славянизм, однако в столкновение (
русской формой душЪ ради нашеЪ вступает не грамматический
а фонетический русизм, поскольку рефлексом йотированного юса
было именно произношение [’а]. Оставаясь книжной, грамма-
тическая форма фонетически передается русским способом, т. е.
является, строго говоря, русизмом в составе традиционного тек-
ста (Колесов, 1982,с. 172—173). Такого рода примеры являются
постоянными и в дальнейшем; следует сделать вывод, что устная:
форма воспроизведения текста всегда стремится быть русской,!
хотя предпочтительным остается архаическое, а не самое новое,:
только что завершенное фонетическое изменение. Основная;
установка русского церковнославянского языка — максимально;
близкая русскому произношению, но всегда чуть архаичная!
форма. I
Противоположность между старославянским и архаическим
восточнославянским постепенно нейтрализуется, поскольку оба
эти источника одинаково поставляют варианты для развиваю-'
щегося литературного языка эпохи средневековья.
Семантическая структура текста переосмысляется в соот-
ветствии с изменением лексической семантики. Высвечивают-
ся новые семантические грани традиционного текста. Прежнее
противопоставление «страны той», «страны далекой» родному
дому и «мьния сына» старшему сыну в новом тексте усилива-
ется путем включения семантически противопоставленных слов.
«Имение» как капитал противопоставлено «житью» как про-
житку, растрачиваемому безрассудно. Эксплицируется мысль,
заложенная в греческом оригинале, по не раскрытая в перво-
начальном переводе, быть может, из-за неясности самой этой
противопоставленности для славянского читателя IX в. Клю-
чевая идея текста позже раскрывается углубленнее в противо-
поставлении глаголов истросити — наполнити, недостаточство-
вати — излишьствовати, ядяху свиния — аз же гладом граблю
и т. д.; в последнем случае экспликация противопоставления
осуществляется в результате устранения лишних слов типа
сьде, заменой яже на ихжи т. д. Изменяется принцип прочте-
ния традиционного текста, который толкуется с помощью уме-
ло подобранных и хорошо понятных русскому читателю и слу-
шателю слов. Если в первоначальном переводе переводчик сво-
дил все многообразие текстового содержания к единственному
ключевому слову, как бы раскрывая с его помощью весь кон-
текст, позже почти каждая синтагма общего текста ориенти-
руется на раскрытие подтекста притчи. Это объясняет и необ-
ходимость ритмической соотнесенности синтагм друг с другом
и с греческим оригиналом, и сознательную упорядоченность
самих синтагм, что вызывается опять-таки изменением языка.
26
Прежде отдельные предложно-падежные формы могли высту-
пить в качестве самостоятельных синтагм («не по мъноз'Ьхъ
дьньхъ», «на странЪ той» и др.), а несколько веков спустя они
входят в состав предикативно связанных синтагм. Происходит
смысловое и формальное упорядочение синтагм, которые не
являются уже чисто ритмическими единицами текста.
Будучи одним и тем же, текст постоянно углублялся в се-
мантическом и русифицировался в формальном отношении.
Этому способствовало как развитие самого русского языка, что
выражалось в обновлении форм, так и осмысление текста в
многочисленных толкованиях, порождавших законченную по-
словичную формулу («блудный сын»).
В заключение представляем народный духовный ’ стих о
блудном сыне (XIX в.) — как позднейший этап развития книж-
ной притчи и начало ее движения в устной (исполнительской)
традиции:
Человек бе некто богатый / имел у себе он два сына. / И рече
юнейший сын отцу. / «Отче! даждь ми часть от богатства!» / Послушал
отец милосердный, / разделил имение ровно / как старейшему и
юнейшему, / не сделал обиды и меньшему. / Вскоре младый сын отбегает,
/ отчее богатство взимает. / Отеческих недр отлучился, / в чуждей стране
поселился. / Расточил богатство и дары, / даииыя от отческия слова... /
Приходит глад крепок в стране той, / начат от глада изнемогати, / о бо-
гатстве стал он рыдатн (Бессонов П. Калики перехожие. Вып. 4. М., 1863,
с. 156—157).
Зависимость этого текста от евангельского очевидна, но ин-
тересно, что, заимствуя книжные формулы, народная поэтика
приспосабливает их к привычным языковым формам. Слово
имЬние последовательно заменяется на богатство, мыши — на
юнейший, нЪкии — на некто и т. д., хотя архаические конст-
рукции в общем сохраняются, если они понятны, хотя бы и в
переносном смысле («глад крепок»). Текст расширяется за счет
распространения исходных формул (в выражении «человек
бе... богатый» прилагательное нужно, чтобы обосновать воз-
можность дележа «имения»). Уточнение идет не в виде истол-
кования символического значения притчи, а по линии конкрети-
зации описания и внесения личного чувства в изложение собы-
тий. Народная поэзия никогда не истолковывает, она описывает.
Это создает необходимость в совершенно новых формах языка,
которые и черпаются из разговорной речи, поскольку замкну-
тые традиционные формулы являются отвлеченно отстраненны-
ми и для картинных описаний не годятся. Таков предваритель-
ный результат нашего сравнения.
Однако притча как иносказание и пример потомкам не яв-
ляется целиком церковным жанром. Это вообще жанр народ-
ной и притом демократической литературы, его использовали
некогда в определенных христианских текстах. Популярность
жанра во всех народных культурах объясняется его понятно-
стью и возможностью наложения заимствованных притч на
27
собственные тексты такого же характера. Не составляет исклю-
чения и древнерусская литература. В качестве примера восполь-
зуемся текстом Сказания о смерти Олега:
И живяше йлегъ миръ имъя . ко всЬл странамъ . княжа в Киевъ . И
приспъ осень . и помяну йлегъ конь свои . иже бъ поставил кормити . и не
вседати нань . бь бо преже въпрашал волхвовъ [п] кудесникъ . отчего ми
ес умьрети . И реч ему один кудесникъ: «Княже конь егже любиши . и
Ьздиши на немъ . от тог ти умрети» (Ипатьевская летопись, около 1425 г.
//ПСРЛ, т. 2, 1923, с. 30).
Расхождения в расстановке знаков между Ипатьевским и
Радзивилловским (XV в.) списками выявляют большую дроб-
ность синтагм в Ипатьевском («ко всЬм странамъ», «Ьздиши
на немъ» в Радзивилловском не отделены от предыдущего
текста). Можно сказать, что Ипатьевский архаичнее в отраже-
нии синтагменных отрезков, поскольку совпадает скорее с Ост-
ромировым. евангелием, чем с Чудовским Новым заветом.
Объективность выделения синтагм достаточно велика. Она
определяется как совпадением границ синтагм по различным
спискам одного текста, так и функциональным совпадением
типов синтагм в границах одной рукописи. При этом всегда
представлен ритмически законченный отрезок текста, который
начинается с анафорического союза и. Графически и отдельные
формы в составе синтагмы выделены чередованием букв (оу
или со в начале синтагмы, соответственно у или о в середине
и в конце ее) или выносными согласными внутри синтагм и
ъ или ь на их концах (ср. «всЬлг странамъ».). Ритмомелоди-
ческое единство обозначено также пунктуационно, тогда как
смысловое ограничено графическими средствами выделения.
По-прежнему заметно, что письменная (по существу, графиче-
ская) форма литературной речи подвергается воздействию со
стороны устной, так что по традиции чаще всего именно про-
изношение, а не содержание высказывания определяло рас-
становку знаков препинания.
Как и евангельская притча, текст легенды о смерти Олега
состоит из формульных сочетаний, которые без ущерба мож-
но перенести в другой рассказ о сходных событиях. «Миръ
имЬя ко всЬм странамъ», «княжа в КиевЬ», «и приспь осень»,
«и помяну йлегъ конь свои» и т. д. — этот текст является столь
же составным, как и любой другой древнерусский текст. Раз-
ница только в том, что формулы евангельского текста, заимст-
вованного в цельном виде, будучи извлеченными из него, по-
степенно получали широкое хождение, становясь, например,
идиомами, тогда как формулы славянского происхождения
могли быть использованы для расширения текста при внесении
в него новых подробностей повествования. Отдаленным при-
мером подобного расширения текста можно считать «Песнь
о вещем Олеге», написанную Пушкиным в XIX в., в которой
он использует многие старинные формулы.
28
Текст сказания по летописи достаточно хорошо известен и
и попал во многие хрестоматии. Анализируя его в целом виде,
отмечаем близость к евангельской притче не только по харак-
теру выделения основных единиц текста, пока называемых син-
тагмами-формулами, но и по объему, по структуре. В Притче
о блудном сыне около 260 полнозначных слов и 90 клитик
(союзов и т. п.); в рассказе о смерти Олега около 180 полно-
значных слов и 72 клитики. В евангельском тексте 72 синтаг-
мы, в летописном — 48. В среднем объем синтагмы совпадает:
он равен пяти словоформам, включая непременные клитики.
Таков объем книжной синтагмы, тогда как разговорная не пре-
вышала в то же время двух-трех словоформ.
Текстообразующими элементами в сказании, как и в притче,
являются анафорические союзы, модально-указательные части-
цы, причастные конструкции книжного характера (в том чис-
ле и дательный самостоятельный типа «и пришедшу ему Кие-
ву»), но есть и отличие от евангельского текста. Оно состоит
в наполнении традиционных выражений текста сказания рус-
скими формами; ср.: бяхуть, николи, нЪколико, я, река (прича-
стие настоящего времени) и др. — т. е. такие же формы, как и
в Чудовском Новом завете, но по времени более ранние. В этом
тексте активизируются уточнительно-поясняющие клитики, пре-
жде всего бо-(развивается впоследствии в убо, а затем дает
ибо). Архаичность текста удостоверяется синтагмами прямой
речи: они сохраняют формы указательного местоимения типа
«на нь», «не вижю й боле того» и др.
Основным повествовательным временем является уже аорист,
отсюда обобщенность такой вводящей прямую речь формы, как
рече. Однако синтаксическая перспектива текста создается не
только с помощью причастных форм или чередованием форм
аориста и имперфекта, но также пересечением двух планов по-
вествования — реального и «разговорного» . (последний воспро-
изводит прямую речь героев в том виде, как они «должны бы-
ли говорить» в свое время). Аористу повествования противопо-
ставлен презенс прямой речи, отчего синтаксическая перспекти-
ва углубляется, поскольку зависимым временем становится не
имперфект, а перфект и даже — в зависимости от содержания
отрывка — плюсквамперфект (ср.: умьрлъ есть, бЪхъ поста-
вилъ, бяхуть рекли) или составное сказуемое, призванное заме-
нить перфектную форму «настоящего времени», которой реаль-
но нет в языке (ср.: «идЬже бЪша лежаще кости его»). По
форме и структуре все эти сложные времена равноправны в
употреблении и обладают общей функцией, играя роль перфек-
та. Чрезвычайно важными для данного повествования оказыва-
ются инфинитивные конструкции («иже бЪ поставилъ кърмити
и не всЬдати на нь», «отчего ми есть умрЪти», ср. также «отъ
сего ли лба съмерть было взяти мьнЬ» и др. — вневременное
и насильственное событие, которое связано с общей темой всего
29
сказания — темой судьбы). Итак, основным двойством древне-
русского текста в характере текстообразующих элементов явля-
ется глагольность как структурная особенность этого текста.
Некоторые синтагмы сказания перекликаются с евангель-
ским текстом, хотя они преобразованы и являются уже достоя-
нием славянского литературного языка. Так, выражение из
притчи «въ себЪ же пришьдъ рече» применительно к Олегу пере-
дается иначе: «приимъ въ умЪ си рече». «Не по мънозЪхъ
дьньхъ» из притчи в смысловом отношении совпадает с «пр'Ьбы
нЪколико лЪтъ», «прьбывшу четыре лЪта»; при этом важно
переосмысление характера подачи временного отрезка: сущест-
венно не само время, а субъект, живущий в это время, так ска-
зать, «состояние времени». «Азъ же сьде гладъмь гыбну» соот-
ветствует фразе сказания «а я живъ» — опять-таки в изменен-
ной форме, с отсутствием глагольной связки и другим принци-
пом противопоставления: не противительного (же), а сопоста-
вительного (а). В притче сын «отиде иа страну далече»( отвле-
ченность образований сказочного характера проявляется и в
дальнейшем повествовании), тогда как в рассказе об Олеге все
очень конкретно и точно: «на грекы иде», «и пришедшу ему
Кыеву», «и прииде на мъсто». Не продолжая сопоставлений,
отметим еще одно различие между разными по происхождению
текстами: синтагмы славянского текста всегда лаконично кон-
кретны, тогда как книжные синтагмы перевода отвлеченно обоб-
щенны и уже в силу этого несут в себе переносные значения,
отчасти заимствованные из греческого оригинала и потому не
до конца понятные читателю в первоначальном переводе. Та-
ким образом, даже традиционный текст оставался открытым
для дальнейших импровизаций, он постоянно совершенствовал-
ся и изменялся, одновременно приближаясь к разговорному
языку восточных славян, тогда как принцип развития ориги-
нального славянского текста был несколько иным.
Особого внимания заслуживает рассмотрение двух вопро-
сов, затронутых в приведенных сопоставлениях: о характере
правки традиционного переводного текста и о реальности син-
тагм, отмеченных в древнейших текстах. Поскольку текст ста-
билен, а словоформы варьируются, основным оказывается про-
межуточный структурный элемент текста — синтагма-формула.
Установлено (см.: Осипов, 1978), что древнерусская пунк-
туация не связана со структурой членов предложения, но опре-
деляется принципами актуального членения с упором на клю-
чевое слово текста, оно обычно и выделяется как зрительно —
графически, так и интонационно, что подчеркивается знаком
ударения. Ориентация на интонационные признаки сочетания
показывает важность произнесения текста, который пишется
или читается (о принципах написаний в связи с «внутренним
чтением» см.: Лихачев, 1962, с. 60 сл.; Колесов, 1982, с. 29—33).
Хорошо известно, что границы синтагм, отмеченные разным
зо
способом, в том числе и пробелами между словами, почти пол-
ностью совпадают в разных списках Евангелия, сделанных в
Древней Руси, на примере Остромирова евангелия это показа-
но в упомянутой работе Б. И. Осипова. Зависимость графиче-)
ских обозначений от греческой традиции также ясна (Загре-
бин, 1983). Характер знаков позволяет отграничить в древнем
тексте предикативную единицу (крестом или пробелом отме-
чается граница предложения) от синтагмы (обозначается точ-
кой), тогда как «точка внутри синтагмы — исключительное яв-
ление» (Осипов, 1978, с. 138).
В дальнейшем происходило неуклонное расширение текста
с введением все новых знаков нотации произношения: знаки
долгой паузы . (змейца с XI в.), фразового единства (слогня,
статья, сташица и другие комбинации точки с двоеточием); с
конца XIV в. появляются современные знаки, в том числе и
запятая, точка с запятой — с XV в., хотя на первых порах без
регламентации, поскольку книжники в это время еще только
начали осознавать расхождения между разными типами син-
тагм. Знаки интонации для предикативного единства предложе-
ния появляются в такой последовательности: в XVI в. вопро-
сительный, в XVII в. восклицательный, в XVIII в. многоточие,
которое, будучи соединенным сплошной линией, в конце
XVIII в. под пером Карамзина дало тире («черту»). В «Грам-
матике» А. А. Барсова отмечается тире как «молчанка» (раи-
sa) «для выражения жестокой страсти» или неожиданного из-
вестия.
Зрительный ряд письменного текста расширяется, позволяя
взгляду выхватывать из него важнейшие части. Двуединый
процесс развития текста-образца включает в себя, с одной сто-
роны, дифференциацию смысловых отрезков (от цельного тек-
ста через разной степени длины его частей до отдельного сло-
ва), а с другой — вторжение устной речи в обозначения тради-
ционно книжного текста. Поскольку это происходит начиная с
XI в., особенно усиливаясь к концу XIV в., следует увязывать
данные процессы: расширение текста и преобразование ритми-
ческих структур осуществлялось под напором устной речи, жи-
вой стихии языка, которая корректировала все происходившие
в его системе изменения.
Единственно устойчивым элементом традиционного текста
являлась синтагма, в книжном образце были нормативны сло-
восочетания, а не слова (Верещагин, 1971, с. 119), которые в
силу этого могли варьироваться, не меняя смысла формулы. Со
времен И. В. Ягича заботой славистов было прояснить смысл
и происхождение подобных вариантов. Даже в таком традици-
онно церковном тексте, как Евангелие,’ нет ни одного слова,
которое не подверглось бы какому-либо исправлению или за-
мене; в одном и том же стихе можно найти до двухсот самых
разных изменений (Жуковская, 1976). Лексическое наполнение
31
текста необходимо изучать именно в варьировании и развитии;
это развитие и обогащение текста связано с развитием язы
ка, но языка, конечно, не церковнославянского. Развитие и за-
ключалось в том, чтобы на каждом историческом отрезке вре-
мени преодолеть формальную замкнутость устоявшихся книж-
ных норм.
Сравнение христианской притчи и языческого сказания по-
казывает, что язык их — один и тот же, если, конечно, под
языком понимать изменяющуюся во времени систему различи-
тельных признаков, единиц и категорий (ср. фонологические,
грамматические и лексические совпадения). Однако есть меж-
ду ними и различия; это: 1) разная степень зависимости от
греческих оригиналов, отраженная в канонических текстах ста-
рославянского языка, 2) большая или меньшая свобода повест-
вования и 3) особенно в отношении прямой речи — большая
или меньшая степень архаизации языка; но все это не создает
особого языка. Перед нами противопоставление не языков,
а текстов, если под текстом понимать последовательность се-
мантически выразительных знаков, построенную согласно пра-
вилам данного языка и образующую сообщение, идеологически
важное для данной культуры. Смешение понятий культуры,
языка и текста недопустимо. Например, нет принципиальной
разницы между двумя рассмотренными в этой главе типами свя-
щенных текстов, но поскольку они относятся к разным культу-
рам, их тенденциозно разводят по разным «языкам», хотя, как
восходящие к традиционно народному жанру, оба они, в сущно-
сти, ничем друг от друга не отличаются даже с точки зрения
формульности текста. Текст притчи постоянно изменяется во
времени, приближаясь к народному, однако после XIV в. дела-
ет скачок в сторону максимальной архаизации форм. Текст
сказания понятен почти без перевода, он устойчив во времени,
поэтому именно в нем и видят отражение «народно-разговорно-
го» варианта древнерусского книжного языка. Однако и он со-
стоит из литературных формул, является литературно обра-
ботанным и безусловно с древнейших времен — литературным.
Глава 2
СЛОВО —ПОУЧЕНИЕ
Столь же двузначным, как притча или сказание, было и
«слово» — обращенные к пастве поучение или проповедь. Оно
адресовано, с одной стороны, к «простой чади», а с другой —
к искушенному слушателю, знатоку книжной речи и риторики.
По традиции этот жанр историками языка не изучался, и в ре-
зультате многие подробности исторического развития литера-
турного языка оказались нераскрытыми. «Изучение сочинений
32 - ’ ”
церковников для нас не только необходимо, но представляет и
немалый интерес по целому ряду причин» (Ларин, 1975, с. 109).
В числе этих причин — возможность изучить вырабатывав-
шиеся со временем принципы обозначения отвлеченных поня-
тий, отработку синонимических рядов и сложных синтаксиче-
ских структур, которые развивались на основе риторических
приемов ораторской прозы, постепенное накопление фонетиче-
ских средств, которые так или иначе способствовали разграни-
чению разных «слов». «Старославянская культура’ языка», по
выражению Б. А. Ларина, входила в русский литературный
язык благодаря посредничеству подобных текстов; через нее
мы впервые получили многие понятия античной и средневеко-
вой философии и науки. На основе столкновения двух речевых
стихий — русской и книжно-славянской — происходило «обост-
рение языкового чутья», что способствовало уяснению свойств
и форм родного языка. Особенности родного языка острее вос-
принимаются как раз при сравнении с другими языками, а для
Древней Руси церковнославянский и был таким другим язы-
ком. В результате стихийное осознание нормы, основанное на
объективно существующей системе языка, постепенно сменя-
лось вполне сознательным отношением к литературности язы-
ка и стало причиной кодификации национальных литературных
норм. Без влияния церковнославянского языка развитие рус-
ского литературного языка не было бы столь интенсивным и
быстрым. Однако, изучая церковные тексты, ие следует забы-
вать, что даже в границах церковных жанров существовали та-
кие, которые одной из своих сторон направлены на народную
речь и воплощают ее — хотя бы и в переработанном виде.
Рассмотрим несколько учительных «слов» для «простой ча-
ди», дошедших до нас от XI—XII вв., а также известное «По-
учение» Владимира Мономаха.
«Поучение» Луки Жидяты (30-е годы XI в.)
Не ленитеся къ церкви ходити н на заутреню, и на о&Ьдню и на вечер-
нюю, и въ своей клЬти, хотя спати, богу поклонився — толико на постели
лязи... Любовь имейте со всяцЬмъ человЬкомъ, а боле з братнею, и ие
буди ино на сердци, а ино въ устЬхъ, но подъ братомъ амы не рой, да тебЪ
богъ въ горшаа той не вринеть (ИОРЯС, т. XVIII, 1913, кн. 2, с. 222—223).
«Поучение» Феодосия Печерского (60-е годы XI в.)
Аще бо кто ниву дЪлаеть или виноград, да еже видить плоды проро-
стающа и труда не помнить за радость и къ богу на молитву подвизается,
дабы ему събрати плод; аще ли видить свою ниву иарастъшю терниа многа,
то что створить? Не охабпт ли ся таковаго дЪания? Колико бо лЬтъ мину-
ло, ни единого вижю пришедша къ мнЬ и глаголюща (Чаговец, 1901, с. XX).
«Поучение» Владимира Мономаха (конец XI — начало XII в.)
Куда же ходяще путемъ по своимъ землямъ . не дайте пакости дЬяти .
отроком ии своимъ . ни чюжимъ . ни в селЬх . ии в житЬх . да не кляти
3 Колесов В. в.
33
вас начнуть . куда же пойдете . идеже станете . напоите накормите . уне
ииа . и боле же чтите гость . откуду же к вам придеть . или простъ . или
добръ . или соль . аще не можете даромъ . бращиом . и питьемь . ти бо
мимоходячи . прославить челов-ька по всЪм землям . любо добрым . любо
злымъ (ПСРЛ, т. I, 1926, л. 80 об.).
«Поучение» Моисея (80-е годы XII в.)
Да всякому верному человеку держати той иоровы: похотЬиию время,
а на излишное похотЬние мЬру налагати узду въздержаиия... Колико
больше суть кони, колико ны вышин есть песъ, и коеждо бо от тЬхъ живот-
ныхъ видимъ, Ьдъша или пивша, чересъ сыть ие брегуть... — не убо ли
сихъ и коиь хужьши мы? (ПЛДР, т. 2, 1980, с. 400).
«Поучение» Григория Белгородского (конец XII в.)
Дзъ же, убо в-Ьру имете ми, ужасаю[т]ся, помышляя, како васъ бьси
ликують и сотоиа во васъ играеть и красуеться пьяиьству, во васъ чтему,
яко некоторого бога... И то миите: празиикъ великъ, егда вси лежать, яко
мертви от пьяньства, яко идоли уста имуще и языкъ ие глаголющь, очи
имуще и не видяще, нозЬ имуще и не ходяще... НЬсть человека оканьиее
пьяниц-Ь (Там же, с. 404).
Лаконично, но все же весьма подробно, простыми словами,
в незамысловатой конструкции, в ритмически ладной форме
проповедники пытаются довести до сознания прихожан обыч-
ные заповеди христианства, рисуя при этом образы, распрост-
раняя текст до притчи. В текст вплетаются и евангельские
афоризмы, которые через несколько веков, обкатанные стоус-
тым употреблением, станут пословицами и примут отчасти дру-
гую форму, наполнятся другими словами, йе изменяя сзоего
смысла. Ибо смысл и есть то главное, ради чего множились и
неустанно повторялись проповеди й толкования, приноравли-
вались к обстоятельствам жизни формы их выражения и при-
способлялось к речи звучание слов.
Во всех текстах есть причастия; и хотя в их числе есть книж-
ные и народные формы (ходяще и мимоходячи у Монома-
ха), произношение большинства форм, отраженных в тексте,
безусловно присуще и крестьянину XI в., даже в части древ-
нейших чередований звуков типа л'язи, всяцЬмъ, подвизается,
нозЪ, количество которых к XII в. уменьшится. В этих текстах
нет ничего специфически старославянского, потому что про-
стота синтаксической конструкции и подбор слов (общеславян-
ского фонда) строго предопределены выбором слушателей.
Уже в XI в. начались обработка заимствованных формул
и включение их в оборот русской книжной культуры. При со-
поставлениях поучений с исходными евангельскими текстами
можно видеть, в каком направлении перерабатывал, например,
Феодосий Печерский формульность традиционных сочетаний
(см.: Чаговец, 1901, с. XXVII—XXXIII).
«Слово мое соблюдаеть» Феодосий передает иначе, как
34
«слово мое съхранить». В предложении «Солнце синеть на
злыя и на благые» у Феодосия замена: «на добрыя»; выраже-
ние «дождить на праведня и неправедны* он конкретизирует:
«не токмо на рабы своя, но и на супостаты*. Фраза «Блажен-
нее есть паче даати, нежели приимати» у Феодосия короче и
яснее: «Луче бо даяти, нежели взимати». Выражение «чесо ра-
ди гыбель сия бысть» употреблено в «Поучении» в русской
форме (кстати, утвердившейся впоследствии в русской редак-
ции Евангелия XII в.): «Почто гыбель сиа бысть». Вместо»
«образъ приимше братия моя» у Феодосия «притчю приимЪте»,
поскольку речь идет именно о притче, а не о тропе (образе)..
Фраза «Възьмете иго мое на себЪ... иго бо мое благо» пред-
ставлена в «Поучении» так: «не можемъ ярма его носити на
себЪ благого», т. е. с контаминацией двух формул в одной и
заменой славянизма иго русским словом ярмо и т. д.
Обратим внимание на особенность, вытекающую из всех
фактов упрощения евангельского текста в незамысловатых по-
учениях игумена. В иих всегда предстает перед нами не разго-
ворное слово, не обычный перевод с книжного языка на живую
речь, но столь же высокий, т. е. стилистически книжный, эле-
мент/ хотя и более нейтрального характера, скорее общесла-
вянского, чем восточноболгарского происхождения: соблюда-
ет— сохраняет (с неполногласием), благие — добрые (в про-
тивопоставлении к. злые) и т. д. Конкретизация высказыва-
ния — это тоже прием перевода иа древнерусский язык, ио по-
сле такого авторитетного писателя, как Феодосий, новые фор-
мы могли остаться (отчасти и остались) в упрощенном и бо-
лее понятном виде.
Язык проповеднической литературы раннего средневековья
сливается с народной речью также благодаря близости литера-
турно-книжного и разговорного языков той поры (Ларин,.
1975, с. 111—131). Это относится особенно к языку Владимира»
Мономаха, который хорошо изучен (Обнорский, 1946, с. 32—-
80; Якубинский, 1953, с. 309—320; Ларин, 1975, с. 131—145; и
др.). Задача изучения подобных текстов состоит не в установ-
лении взаимного противопоставления славянизмов и русизмов,,
а в уяснении причин, по которым равнозначные факты языка ста-
ли восприниматься впоследствии как славянизмы, стилистиче-
ски противопоставленные русизмам (ср.: Ларин, 1975, е. 140)..
У Владимира Мономаха это во многом определяется характе-
ром текста, и мы еще вернемся к этой особенности его «По-
учения».
Совершенно иначе организованы Подобные тексты после»
XV в. По структуре и языку они становятся определенно цер-
ковнославянскими (как у Даниила) или намеренно русскими
(как у Аввакума). Социально-культурное расхождение общест-
ва обусловило и расхождение их «языков», точнее — понима-
ние ими степени литературности текста. Сравним эти тексты.
3* 35-
«Поучение» митрополита Даниила (первая четверть XVI в.)
Сего ради молю вас, не, любите скврьннословия и играния, и глумления,
и отступайте от бесЬд душетлКнных, и всяким хранением соблюдайте своя
сердца от нечистых и скврьных помыслов. И сохраняйте свои очи от зрЬния
неполезнаго и от слышания душевреднаго. И бьгайтс, яко от змия, от щап-
ления, и гордости, и зависти, и пианства. Много бо нам предлежит страха
и боязни в настоящем сем житии, и вниманию и трсзвЪнию всегдашнему
потреба (ПЛДР, т. 6, 1984, с. 530).
«Послание горемыкам миленьким» Аввакума (1675 г.)
Любо мне, что вы охаете: «ох, ох, как спастися, искушение прииде!»
Чаю-су, ох, да ладно так, меньше, петь, спите, убужайте друг друга!.. А я
себе играю, в земле той сидя. Пускай, реку, диявол-от сосуды своими пога-
няет от долу к горнему жилищу и в вечное блаженство рабов тех христо-
вых. Павел пишет: «Житие наше па небесех есть» (Житие протопопа Авва-
кума. Иркутск, 1979, с. 179).
У Аввакума основной аргумент «Поучения» — цитата из Пи-
сания— находится в конце тирады и обычно служит знаком
перехода к новой теме. Намеренно разговорная речь с экспрес-
сивными словами (частицами и т. п.) су, петь, от, тех и другими
ритмическими ограничителями синтагм не скрывает, а только
подчеркивает книжный характер минимальных сочетаний, соз-
нательно сюда включенных («искушение прииде», «сосуды пого-
няет», «к горнему жилищу», «вечное блаженство», «рабов хри-
стовых»), Именно постепенное увеличение таких сочетаний и
подводит к прямой цитате, завершающей мысль. Внешнее про-
тивопоставление книжных синтагм и разговорных текстообра-
зующих компонентов не нарушает общего стиля; это — «вя-
канье», но вяканье с традиционными для проповеди смыслом
и задачей.
Изменение формы при сохранении традиционных для текста
синтагм наблюдаем и в «Поучении» Даниила, но для него ха-
рактерны намеренное усложнение языка, насыщение его архаи-
ческими формами, книжными словами, искусственными образо-
ваниями— прежде всего сложными словами (последние испол-
няют ту же роль, что и определения у Аввакума, но одновре-
менно усложнены, как бы удвоены ₽ своем значении: беседы,
растлевающие души, —- «бесЪды душетлЬнные»; слухи, вредные
для душ, — «слышание душевредное»). Усиление распростра-
няется и на сочетания; так, сочетания «в настоящем житии» и
«в сем житии», накладываясь друг на друга и усиливая свой
смысл, дают такое усложнение: «в настоящем сем житии».
Удвоение смысла содержится фактически в каждом обороте,
но выражено это различным способом, например, выражение
«хранением соблюдайте» возникло вместо «храните и соблюдай-
те» (ср. ниже сохраняйте), «вниманию и трезвЪнию» — такой
же плеоназм, как и «нечистых и скверных» и т. д.
Повторяются и перечни пороков, против которых Даниил
предостерегает, потому что все они, по-разному названные, вхо-
36
дили прежде в различные формулы, и все их использовал Да-
ниил, создавая свое «Поучение». В отличие от Аввакума, ко-
торый в результате столкновения стилистически разных смыс-
ловых комплексов создает ускользающий образ «диявольской
потехи», Даниил скован традицией и отваживается только на
поверхностное сравнение («бЪгайте, яко от змия» — это, по-ви-
димому, разрушенное сочетание «змий пианства»). У Даниила
отражены все книжные особенности произношения, у Авваку-
ма — разговорные. Сопоставление этих двух поучений показы-
вает нам, насколько далеко расходятся в XVI в. прежде еди-
ные по своему языку и стилю жанры, даже такие, как «беседа
с простой чадью».
Расходясь по функции и облекаясь в разные формы, прежде
единые жанры церковной литературы делятся надвое в зави-
симости от задачи, которую ставит перед собою автор, и задача
эта определяется не жанром (жанр один), не стилем (он толь-
ко вырабатывается), но принципиальной установкой на обра-
зец: механическое следование старым образцам с ориентацией
на архаизм — или по возможности точное следование развива-
ющемуся живому языку. В художественном отношении именно
«слово» Аввакума скорее можно принять за литературный
текст, тогда как «слово» Даниила — всего лишь жалкое подра-
жание образцам. История языка поставила перед выбором:
либо образец — либо новая форма. Новую форму старый обра-
зец принести с собою не мог.
Это тем более ясно, что и в параллельно существующей
форме торжественного слова одновременно происходили свои
изменения языка и стиля. Первоначально заимствованный
у болгар стиль ораторской прозы был торжественно пышным,
намеренно отстраненным от всех форм разговорной речи, и это
прекрасно воплощено в образцовом сочинении такого рода, хо-
рошо изученном «Слове о законе и благодати» Илариона (см.:
Якубинский, 1953, с. 95—99; Ларин, 1975, с. 111—122; Мещер-
ский, 1981, с. 45—52; Молдован, 1984, с. 38—65; и др.).
В этом тексте поражают витиеватая сложность синтаксиче-
ских периодов, всегда точно согласованных с ритмической гра-
дацией; множество явных заимствований, но при всем том —
полное отсутствие грецизмов; обилие прилагательных и прича-
стий со свойственными им конструкциями, что вообще было
редкостью в русском языке того времени, но впоследствии
становится важным признаком литературно-книжного языка.
Все это свидетельствует о разработанности этого жанра на
славянском языке, так что в дальнейшем его развитие могло
идти только по линии совершенствования языка и стиля.
По справедливому замечанию И. П. Еремина, в середине
XII в. в дополнение к основным, уже известным жанрам по-
вествования— летописному и агиографическому, — «„Слова”
Кирилла Туровского в центральной своей части утвердили в ли-
37
тературе той эпохи еще один тип повествования — риториче-
ского. Резкое ослабление нарративного начала — наиболее ха-
рактерная его особенность» (Еремин, 1966, с. 139).
Сравним несколько отрывков из торжественных слов.
«Иосифу похвала...» Кирилла Туровского (60-е годы XII в.)
Кому уподоблю сего праведника? Како начну или како разложю? Не-
<5омь ли тя прозову, но того свЬтлЬе бысть богочестьемь... Землю ли тя
благоцвЬтущю иареку, но тоя честнЪи ся показа... Апостоломь ли тя име-
цую, ио и тЬхъ вЪрнЪе и крЪпчЪе обр-Ьтеся (Рукописи гр. А. Уварова, т. 2.
СПб., 1858, с. 34).
«Слово» Серапиоиа Владимирского (1270 г.)
Какия казни от бога ие въсприяхомъ? Не плЬиена ли бысть земля
наша? Не взяти ли быша гради наши? Не вскорь ли падоша отци и братья
наша трупнемь иа земли? Не ведены ли быша жеиы и чада наша въ плЬнъ?
Не порабощеии быхомъ оставшеи горкою си работою от пноплеменинк? Се
уже к 40 лЪт приближаеть томление и мука, и дане тяжькыя на иы ис пре-
стянуть, глади, морове животъ иашихъ, и в сласть хл-Ьба своего изъЬсти ие
можемъ, и въздыхание наше и печаль сушать кости наша (ПЛДР, т. 3,
1981, с. 444).
«Слово о житии великого киязя Дмитрия Ивановича»
Епифаиия Премудрого (около 1390 г.)
Кому уподоблю великаго сего князя, рускаго царя?.. Аггела ли тя иа-
реку? Но в плоти суща аггелскы пожилъ еси. Человека ли? Но выше чело-
въчьскаго сущъства дт,ло свершилъ еси. Пръвозданнаго ли тя нареку? — ио
той, приимъ заповЬдь сдЪтеля, преступи, ты же обЪты своа во святомъ кпе-
щении чисто съхрани (ПЛДР, т. 4, 1981, с. 226).
«Слово о внешней мудрости» Аввакума
(из «Книги бесед», около 1670 г.)
Виждь, гордоусец и альмаиашник, твой Платой и Пифагор: тако их же,
яко свиней, вши съели, и память их с шумом погибе, гордости их и уподоб-
ления ради к богу... Виждь, безумной зодийщик, свою богопротивную. гор-
дость, каковы плоды приносите богу и творцу всех, Христу: токмо насыща-
тися, и упиватися. и баб блудить ваше дело (прости—не судя глаголю:
к слову прилучилося). Не ваше то дело, ир бесовское научение. Плаката
о вас подобает, а не ругати (Житие протопопа Аввакума. Иркутск, 1979,
с. 92).
Общая схема «слов» почти совпадает, иногда даже бук-
вально. Расхождения возникают только в субъекте похвалы
или порицания, в языковых особенностях их воплощения
Заметно постепенное усиление архаизующих компонентов
текста, поскольку сам жанр существует с установкой на тор-
жественный стиль речи. Пример из Аввакума дан намеренно':
видно, что разговорные элементы проникают даже сюда, но
еще робко, как бы стыдливо. На самом деле подчеркнутая
грубость слов, переосмысленных уже в разговорной речи (слово
гордыня превратилось в гордоусци, блудити ‘заблуждаться’
,38
стало обозначать конкретный порок), только оттеняет несоот-
-ветствие стиля использованным формам речи. Жанр «слова»,
изживший себя, взрывается изнутри, но происходит это лишь
в XVII в., когда развитие языка уже позволило противопоста-
вить на равных две различные системы, две нормы.
Тем не менее в течение нескольких веков торжественное
красноречие оставалось ведущим жанром литературы и способ-
ствовало развитию культуры слова. Не случайно в последние
годы особое внимание исследователей обращено на изучение
риторики как функционально организованного языка и стиля в
границах данного жанра, например, у Кирилла (Бегунов, 1976)
или у Серапиона (Богерт, 1984). В этом жанре, как и в мо-
литве-плаче (между ними много общего), древнерусская лите-
ратура развивала уже собственно стилистические средства
языка, а характер исполнения (ритмизованная речь) сближал
«слово» с устными формами литературы, вызывал совмещение
некоторых особенностей их композиции и языка.
Обратим внимание на различие вклада Кирилла и Епифа-
ния в развитие жанра торжественного слова. Общая рамка
повествования их произведений одна и та же, они используют
один и тот же риторический прием, только у Епифания он со-
кращен за счет устранения разъясняющей части конструкции
(в тексте Кирилла на месте пропусков даны отточия). Тексто-
образующим у Епифания является перфект в соотношении
с презенсом, а у Кирилла — аорист в соотношении с презенсом.
Значение будущего времени у Епифания проявляется четче,
чем у Кирилла, вдобавок Епифаний может опускать сказуемое
(«человека ли?»), что для Кирилла Туровского немыслимо.
Зато Кирилл тщательно подбирает синонимы, выстраивая по
своему обыкновению градационный ряд усиления (прозову —
нареку — именую). У Кирилла синтаксическая связь слов в со-
четании обязательна (например, творительный при прозову,
именую, но винительный при нареку), у Епифания возникает
книжная форма родительного вместо винительного в сочетании
с этими глаголами, что отчасти меняет смысл выражений (на-
реку аггела, т. е. ‘назову ангелом’, нареку человека — ‘назову
человеком’ и т. д.), это — своего рода синтаксический прием
компрессии речи. Степени святости выражены у Кирилла при-
лагательными, у Епифания наречиями, т. е. косвенно с указа-
нием на глагол, что также типично для Епифания, близко сто-
явшего в своей стилистике к народной поэтической традиции.
У Кирилла словосочетание и ритмическая единица безусловно
совпадают, у Епифания это разнородные компоненты текста,
и слово относительно автономно в контексте.
«Слово» Серапиона построено по той же схеме, но у него
больше разговорной лексики, чем у Кирилла. С Кириллом его
сближает совпадение синтагмы с формулой: все ритмические
единицы, по существу, являются законченными формулами,
39
известными и в других произведениях; иногда прямые цитаты
даны как заключительная формула какого-либо отрывка. Язы-
ковые формы у Серапиона столь же архаичны, как и у Ки-
рилла, этим его текст отличается не только от Аввакума, но и
от Епифания; однако в большинстве своем это архаизмы рус-
ского языка, происхождение некоторых из них обязано ана-
логии (как дане, т. е. данЪ, вместо дани). Текстообразующими
являются настоящее время и аорист, исключительно много в
«Слове» причастий, даже страдательных, что определяется
смыслом высказывания.
Вообще в XI—XII вв. заметно подражание образцам: цели-
ком, «блоками» заимствуются из переводной славянской пись-
менности темы, сюжетные ходы, символы христианского культа.
В четвертом «слове» Кирилла, откуда взят приведенный отры-
вок, автор, не мудрствуя лукаво, использовал несколько таких
«блоков»-картин, смена которых позволяет выстроить сюжет.
Каждый из них имеет свой первоисточник, но он настолько
переработан, что, по понятиям средневековой литературы, пред-
ставляет собою оригинальный текст. И у Серапиона есть перво-
источники, но, в отличие от Кирилла, он воспринимает их це-
ликом, а сюжетные «блоки» создает сам в соответствии с зако-
нами построения публичной речи и исходя из материала, цели
выступления, своей аудитории. Видно, что Серапион владел
всеми тонкими приемами создания такого оригинального текста;
он использует синтаксический параллелизм, углубляя синтак-
сическую (речевую) перспективу за счет вставных конструкций
и придаточных предложений; он знает и широко использует
плеоназм («изобилие») типа «пожигаетъ огнемъ», усиление
(«издрядие») типа «на весь миръ и градъ», метонимию
(въ градъ, т. е. ‘ко всем людям’), сопоставление и т. д. (Богерт,
1984, с. 306—307; здесь дан разбор текста). Подобно Кириллу,
при характеристике бога Серапион делает семантический акцент
на эпитетах, а характеристика с использованием глагольных
форм служит как бы указанием на связь человека с дьяволом.
Выбор слов регулируется риторической последовательностью
тропов и фигур, и автор не вполне -свободен в их употребле-
нии. На основании эмоциональных и логических противопостав-
лений, отмеченных в одном из «слов» Серапиона, можно пока-
зать, как последовательно развертываются все три плана искус-
но построенного текста: эстетический, этический и глубже всего,
как подтекст всего выступления, философский (вернее, теоло-
гический). Противоположность народного (в представлении
Серапиона — еретического) христианскому (т. е. каноническому)
воплощается в словесных оппозициях: огнь—утвердистеся, бе-
зумье — вЪра тверда, безаконие — святъ духъ, вода — умъ, без-
душьное естьство — разумъ божествьнъ, труси — крЪпкодушье,
трость — сръдце, страсть — утроба и т. д. Слова и сочетания в
рамках «слова» получают переносные значения, второй план —
40
только здесь присущую им значимость. Все переносные значе-
ния этих слов древние: твердый ‘крепкий’, трусъ ‘сотрясение,
колебание’ (такое же значение и у слова труси), страсть ‘стра-
дание’, утроба ‘внутренность вообще’, трость ‘стебель’, сръдце
‘глубина’ или ‘душа’ и т. д. Все грамматические формы также
архаичны, много слов отвлеченного значения (вЪра, духъ, умъ,
разумъ, естьство и др. часто соотносятся с греческими эквива-
лентами и понимаются в соответствии с их символическим зна-
чением), но в данном тексте именно такие слова являются клю-
чевыми, поскольку конкретные значения отдельных слов утра-
чиваются в контексте нового смысла. У Серапиона нет синони-
мов, они в таком случае не нужны. Даже известные, изна-
чально синонимические, табуированные выражения Серапион
преобразовывает и представляет как новые (например, «врагъ
наш дьяволъ» у Серапиона — это экспликация хорошо извест-
ного выражения «дьяволъ— врагъ нашъ»). Таким образом,
в подобных текстах нет свободного творчества, их составление
определяется замыслом, и выбор слов символического ряда за-
ранее предопределен жанром и традиционными формулами.
Глава 3
МОЛИТВА — ПЛАЧ
Историки литературы отмечают общность функции литера-
турных «похвал» и устных «слав», которые смыкаются с жан-
ром плача. И по теме и по языку они совпадают, хотя «почти
невозможно в каждом отдельном случае определить: прошла ли
уже живая речь через обработку фольклорной практики преж-
де, чем она достигла летописного рассказа. Задача историков
русского языка — разобраться в этих сложных вопросах обра-
зования поэтической фразеологии старших памятников древне-
русской литературы» (Адрианова-Перетц, 1951, с. ПО—111).
Художественная изобразительность изложения в текстах книж-
ной и устной традиций одинаково вырастает из образности
живого языка, опирается на него.
Плач как жанр древнерусской литературы выделяют часто,
о молитве же говорят неохотно, хотя именно она характерна
для средневековой литературы, будучи в известном смысле
переходным от плача к славе жанром. Незаметность перехода
от плача к молитве и от молитвы к славе создает впечатление
отсутствия переходного этапа в развитии текста.
«Слово о законе и благодати» Илариона (между 1037 и
1050 гг.)—одновременно и плач, и молитва, и слава. «Сло-
во»— конструкция из нескольких жанров, функционально оно
напоминает любой «анфиладный», сборный текст, в котором
группируется несколько конкретных древнерусских жанров-тем.
41
Приведем текст молитвы из «Слова» Илариона, которая
обращена к Владимиру:
И да съблюдеть а господь богъ [от всякое рати и плЪиеииа. от глада.]
и всякое скорби и сътуждениа. Паче же помолися р сын! твоемь. благо-
в’ЬрнЬмь каганъ нашемь Георгии, въ мир-b и въ. съдравии. [пучину житна
прЪплути. и въ прнстанищи небеснааго завЪтриа пристати.' иевр-Ьдно корабль
душевны и вЪру съхраньшу.] и съ богатеством Добрынин дълы. безъ блазна
же богомь даныа ему люди управивыпу (Молдован, 1984, с. 99—100).
Как и в притче, видны швы синтагм, а варианты по спискам
показывают направление последующих уточнений и распростра-
нений текста. Из традиционных формул расширена только одна:
«и от голода, нашествия иноплеменникъ и отъ усобныа рати» —
вместо отвлеченного книжного «от всякоа рати и пл-Ьнениа. от
глада». Это важное уточнение вызвано обстоятельствами поли-
тической жизни, оно имеет вид разговорной формулы. «Безъ
-блазна», как можно судить по другим памятникам, — выраже-
ние, пришедшее из восточноболгарских переводов (всегда соот-
ветствует греческому аа^>алй<; ‘непоколебимо, безопасно’, т. е.
точно передает смысл источника); древнерусский правщик, учи-
тывая характер текста, заменил его на новое «без съблазна»
(воспользовался тем, что слова блазнъ и съблазнъ однокорне-
вые), такой заменой он перевел изложение из политической
сферы в нравственную.
Синтагмы легко восстановить по первоисточникам, поскольку
текст составлен из традиционных формул. Все они известны по
другим памятникам.
Интересно проследить принцип соединения синтагм в «Сло-
ве». Так, выделенный в молитве прямыми скобками мотив из-
ложения можно соотнести с текстами, известными Илариону
по служебным минеям за сентябрь, октябрь и ноябрь (до нас
дошли в рукописях минеи 1096, 1097 гг.; ниже цитируем их по
«Материалам» И. И. Срезневского). В минеях находим также
сочетания: «прЪплу лютую пучину напасти жития» (в перевод-
ных «словах» тема разработана сходным образом: «прЪплу
море сего жития»); «невръдьно приступилъ еси пучину при-
ступления», с переходом к другому ключевому слову в тексте
Илариона: «яко пристанище душь нашихъ», «въ пристанище
божьствьнуму царьствию пристаста», ср. еще «на буряхъ за-
ветрия и пристанища» в «Пандектах Никона» (Срезневский, I,
стлб. 905). «Сего жития» и «напасти жития» собраны вместе и
соотнесены непосредственно со словом пучина, одновременно
при этом как бы раскладывается традиционная формула «пу-
чина моря» (оба слова являются ключевыми в новых синтаг-
мах). Поскольку «се житие» в широком контексте противопо-
ставлено «вечной жизни», уточняющее местоимение оказывается
излишним, а вся синтагма получается исключительно лако-
ничной и емкой по смыслу: «пучину житиа прЪплути». Анало-
гичные замены и сокращения произведены и в отношении дру-
42
гих ключевых слов, но сами эти слова являются книжными,
хорошо известны как раз по тем формулам, в составе которых
они вошли в книжную традицию: пристанище (а не русское
слово отишие), но также и завЪтрие, поскольку эти два слова
обычно встречаются в общем контексте.
В результате перекомпоновок формул в тексте образуется
несколько планов: реальный — сообщение о корабле, преодо-
левшем пучину и достигшем пристанища, и символический,
в словесном выражении как бы раздвоенный. Сначала с по-
мощью имен в форме родительного падежа истолковывается
реальный план как символ (ср.: пучину — житиа,. пристанище—
завЪтриа (в отличие от «Пандектов», где завЪтрие не стоит в
одном ряду с пристанище), корабль — вЪры), а затем с по-
мощью дополнительных определений уточняется образный смысл
символа. Полная ясность символического значения текста до-
стигается в результате уточнений словами небеснааго — завЪт-
риа, невредно — съхраныиу, корабль — душевны. Так же и в
дальнейшем: на корабле богатство — дЪлъ, но дЬлъ— ддбрыхъ.
В источниках-формулах определений нет. Иларион вводит их,
чтобы уточнить смысл символа для тех, кто его не понимает.
Расщепляя исходные формулы на составные части, Илари-
он опирается на ключевые слова, для которых традиция созда-
ла целый набор уточняющих слов. Если известно, что в са-
кральном тексте пристанище непременно означает «пристанище
душ наших» и является «царствием небесным», то выражение
«пристанище небесного зав-Ьтрия» вполне понятно. В новой
форме выражения еще более обобщается сентенция традицион-
ных формул, но одновременно и создается оригинальный образ,
поскольку каждое из слов, хорошо известных по привычным
контекстам, попадая в новое сочетание, тем самым неизбежно
приобретает другое значение. Таким образом, кроме лаконизма,
присущего древнерусской прозе, в подобных вариациях нахо-
дим еще и новую образность. В этом выявляется своего рода
сверхзадача средневекового писателя: не просто создать новый
образ, но и познавательно-логически обнажить сокровенный
смысл высказывания. Такова деловая установка, которая не-
пременно связана с эстетической установкой на красоту изло-
жения.
В древнем тексте употребление слов определенной части
речи всегда строго этикетно. При всех переделках текста менее
всего подвергаются заменам существительные, которые выра-
жают общий смысл высказывания и несомненно являются цен-
тром синтагмы. Именно существительное обычно несет в себе
и символическое значение всего выражения. Оно сикретично
по характеру самого содержания текста, поэтому все окружаю-
щие его слова служат для раскрытия и уточнения его смысла
в каждом данном контексте. Глагольные формы в этом плане
более гибки. При совершенствовании текста одни глаголы чаще
43
заменяются другими, и общая их функция как носителей рус-
ской языковой стихии вполне очевидна. В представленном тексте
нет ни одного специфически «славянского» глагола, и только
форма некоторых из них позволяет догадываться, что они за-
меняют соответствующие слова из старославянского текста: да
съблюдеть, прЪплути, съхраныиу.
Глагол управити по форме менее других похож на славя-
низм, поэтому и в более позднее время он воспринимался как
«русский». Этому способствовала и его особая многозначность
(см.: Срезневский, III, стлб. 1244—1245), позволявшая упо-
треблять этот глагол в разных стилистических сферах. Более
того, многозначность наиболее употребительных глагольных
форм в разных контекстах помогала создавать второй план
изложения, понятный современнику. В нашем примере: древ-
нерусскому слову управити свойственны конкретные значения,
обычно соотносимые с юридическим бытом: ‘постановить’ — ‘вы-
полнить’, ‘устроить’ — ‘поладить’ (в субъектно-объектном отно-
шении’ они амбивалентны и равнозначны для обеих сторон
юридического действия, хотя и с противоположной функцией).
В свою очередь, старославянское слово управити связано с кру-
гом морально-нравственных, весьма отвлеченных установлений:
‘направить’ — ‘дать должное направление’ — ‘наставить’—‘со-
блюсти’—. ‘достичь’ — ‘обуздать’ (тут такая же амбивалентность
нерасчлененных субъектно-объектных отношений, но уже вы-
строенных в характерную для христианской доктрины последо-
вательность развития идеи). Утверждая, что Ярослав Мудрый
«управил» данных ему людей (подданных), Иларион одновре-
менно говорит и о юридической, и о нравственной стороне дела,
не пользуясь при этом никакими другими глаголами. Подобное
положение вообще характерно для древнерусских текстов.
Семантическая гибкость глагола в древнерусских текстах
отчасти обусловлена многообразием его форм. Это многообра-
зие способствует мобильности семантических переходов у гла-
голов, каждый раз уточнявших символически скованное, всегда
представленное в определенной грамматической форме имя су-
ществительное. Но и сам глагол гибок в этом смысле только
потому, что в традиционных текстах, в слагающих их синтаг-
мах, ключевое имя семантически замкнуто и мертво. Создание
или преобразование текста требует форм переменных, и они
являются в виде глагольных форм. В народно-поэтическом язы-
ке (и вообще в русском языке) глагол так и остался важней-
шим средством создания разнообразных поэтических форм.
В книжном языке постепенно стала развиваться другая, столь
же подвижная форма — прилагательное (к которому примы-
кает и полное причастие). По-видимому, расхождение между
народным и книжным типами поэтического языка начинается
как раз в момент становления прилагательного как части речи,
и, будучи более отвлеченным средством выражения признака,
44
оно было воспринято литературным языком, в отличие от раз-
говорной речи, в которой глагол остается важнейшим средством
выражения эксплицированного признака.
Как понимать принадлежность формы к церковнославян-
скому или русскому языку, если в системе образных средств,
т. е. в литературном тексте, важен именно их сплав? Не по-
тому ли историки языка столь неточны в характеристике таких
форм, отдавая предпочтение чисто внешней констатации полно-
гласных /неполногласных форм или вариантов грамматических
флексий, т. е. тех особенностей письменного текста, которые в
наибольшей степени были подвержены подновлениям и нор-
мализации?
В молитве из «Слова» Илариона все такие формы — книж-
ные, церковнославянские, но это ничего не говорит об исходном
тексте. И неполногласие (в отрывке семь неполногласных
форм), и флексия родительного падежа (-а, восходящая к -ьх .
и формы слов типа сътуждениа — все это, разумеется, остатки
нормализаторской деятельности книжников в продолжение дли-
тельного времени. Но и в отношении таких формальных средств
письменного языка можно говорить о первоначально большем
количестве архаичных форм и русских особенностей произноше-
ния, в том числе и флексии -Ф вместо -на в родительном па-
деже, и полногласия (примеры см.: Мещерский, 1981, с. 47—51).
Аналогичный сквозной образ находим и в молитве Нила
Сорского (конец XV в.):
И якоже ггЬснописца писаша: разсЪяннаго ми ума събери, господи,
оляд-Ьвшее ми сердце очисти, яко Петру ми дай покаяние, яко мытарю воз-
дыхание, яко блудницп слезы, да зову ти, помози ми, отъ скверныхъ по-
мыслы избави мя, понеже яко волны морскыа въстаютъ на мя беззаконна
к оа, яко корабль в пучине погружайся помышлении моими; но в тихо при-
станище настави мя, господи, покаяниемъ и спаси мя. Зело бо скорблю за
немощь ума моего, како нс хотя стражду нсволное въ истинну изменение,
сего ради въпию тп (Боровкова-Майкова, 1912, с. 61).
И тут традиционность выражения несомненна, ясны и обыч-
ные, для книжного языка архаичные (к концу XV в.) формы:
и местоименные клитики ми, ти, мя, и союзы но, понеже, яко,
хотя, как и другие вспомогательные слова, они употреблены в
русской форме. В отличие от молитвы Илариона, здесь уже
много причастий и отглагольных имен, значимость которых в
книжном тексте становится все выше, так что и Мелетий Смот-
рицкий выделит их под названием «причастодетия».
Однако старые синтагмы уже разрушены, на их основе
созданы новые, семантически углубленные всей предшествую-
щей традицией. Это видно из сравнения с теми источниками,
какими пользовался Нил Сорский (см.: Боровкова-Майкова,
1912, с. 74—75) и в которых встречаются близкие к приведен-
ным выражения: «слезы умиления», «слезы покаяния, слезы
любовныа, слезы спасительныа, слезы, очищающиа мракъ ума
моего», «иже горкыа воды услади, слезамъ подаждь источникы»,
45
«очию сердечные воды, слезамъ непрестанны дождя», «источю
источники слезъ съ сладостию», «даждь ми слезы теплы... яко-
же древле же нъ гр’Ьшниць» и т. д. Традиция давняя, образ
глубоко разработан и сознается в различных употреблениях
ключевого слова слезы. Все эти варианты сжаты у Нила в одну
синтагму: «яко блудници слезы».
Другие ключевые слова молитвы — сердце, ум, душа — так-
же представлены в образцах-формулах в виде выражений-кли-
ше с распространенными компонентами, но и их Нил сжимает
в новые, отчасти нарушающие традицию сочетания. Новые со-
четания требуют и новых слов, поскольку необходимо оттенить
новый смысл ключевого понятия. В соответствии с древнерус-
ской традицией Нил пользуется глаголом, но теперь в книжном
тексте глагольная форма (в виде причастия) сближается по
своей функции с прилагательным: сердце — олядЪвшее, умъ —
разсЬянный-, основным противопоставлением всего текста явля-
ется не традиционное «сердце (плоть) — душа», а новое, важное
для Нила, «сердце — ум». В древнейших текстах, особенно пере-
водных, слово сердце также имело значения ‘мысль, помысл’ и
‘дух, душа’ (Срезневский, III, стлб. 882); теперь нерасчленен-
ный символ требует словесной экспликации противопоставле-
ния, возникающего в сознании книжника XV в., что и стано-
вится основной темой данного фрагмента текста. Собственно,
антитезе «сердце — ум» посвящены все выражения, составляю-
щие перечисленный ряд, ни одно из них не имеет словесных
совпадений: «ум» порождает «помысл» и растворяется в «по-
мышлении»; сначала употребляется глагол пишу, потом зову,
наконец вопию и т. д. Слова, дублируя друг друга, усиливают
и экспрессивную силу молитвы и ее смысл. Слова-понятия по-
вторяются попарно, семантически дополняя, уточняя друг друга
(помози и спаси, очисти и избави). Традиционные формулы раз-
рушены, поэтому возникает надобность в новых словах. Прин-
цип расшифровки символа у Нила совершенно иной, чем у Ила-
риона, который сталкивал смежные слова, чтобы прояснить
символ посредством углубления семантической перспективы
текста. У Илариона не было никаких сравнений, поскольку
смысл традиционных оборотов он понимал буквально. Нил же
сопоставляет (характерно употребление в его тексте союзов
яко, но, бо), и для него символ корабля, прошедшего море и
оказавшегося в затишье, уже понятен. Он ставит перед собой
другую задачу; не веру сохранить в бурях житейских, но — ду-
шу живу, оставив в стороне «беззаконна», «помышления», «не-
мощь ума» и т. д. Высказывание у Нила ведется не в импера-
тивной форме инфинитивных построений, но как самовыраже-
ние личности — с помощью форм настоящего времени (побуди-
тельные формы у обоих авторов отнесены к адресатам мо-
литвы). Текстообразуюшая роль глагольных форм изменяется,
их становится больше. Причастия чередуются с прилагатель-
46
ными, у них общая функция, и это усиливает предикативность
прилагательного в тексте (волны — морскыа в той же функции,
что и олядъвшее ми сердце). Постоянная смена глагольных
форм, вовлекающих в .свою орбиту и прилагательные, создает
впечатление движения, развитие темы передается не только
чередованием вспомогательных слов или ритмикой всего текста,,
но общим обилием отглагольных основ, а также фактическим
отсутствием подлежащего; толчок этому движению, кругово-
роту задан начальным «я» — и образ автора сливается с чита-
телем или слушателем в последующих определенно-личных
конструкциях, которые одинаково могли принадлежать и са-
мому Нилу, и всякому, кто повторит его слова. В этом смысл
молитвы.
Лаконизм формулы, поддержанный ритмическими установ-
ками, сохраняется, но к началу XVI в. сама формула оказалась
наделенной значениями и символическими подтекстами, так что
создать новый текст на основе традиционных формул станови-
лось все труднее. Утрачивалась первозданность образа, а смыс-
ловое его наполнение отчасти мешало ясности изложения.
Постоянные семантические сжатия все больше усложняли се-
мантику синтагм, и образованность каждого писателя опреде-
лялась между прочим также степенью его начитанности образ-
цов. Выражение «пристанище небеснаго зав'Ьтриа» заменяется
более простым «тихое пристанище», и это сигнализирует не
только о предпочтении, отданном расхожей формуле, но и об
изменении смысла русского слова. Прилагательное тихий соот-
носится с отишье, которое, в свою очередь, имеет то же значе-
ние, что и пристанище-, синтагма «тихое пристанище», по суще-
ству, тавтологична, в ней соединились книжное и разговорное
слова, что опять-таки осложняет семантику сочетания и при-
ближает его к идиоме — окончательному продукту многовековой
деятельности по созданию художественно емкого образа.
Что же изменилось? Изменилось отношение к слову в кон-
тексте. Слово уже относительно свободно в синтагме," перед
нами именно синтаксическая группа слов,- а не застывшая тра-
диционная формула, не подлежащая изменению. Каждое слово
свободно и как таковое может уже связываться в контексте
с любыми другими словами, может получить, например, мета-
форически переносное значение. В отличие от Илариона, ско-
ванного традиционным символом, использующего перифразу в
истолковании смысла этого символа, Нил может прибегнуть и
к живым сравнениям, и к метафорическим сближениям. Правда,
метафора сосредоточена у него пока что в эпитете-определении,
у него встречаются только контекстные метафоры, но метафоры
уже есть, и они обогащают стилистический уровень текста. Как
и Иларион,. Нил прибегает к разговорным1 формам и прежде
всего глагольным (ср., например: олядЪвшее — покрытое ляди-
ной, заросшее сорной травой и кустарником). Текст стал сво-
47
беднее, но и отношение к тексту также изменилось. Поэтиче-
ский текст воплощает одновременно и акт познания; в ритми-
зованной форме в нем представлены для всеобщего пользова-
ния новые, но аналитически осознанные противопоставления:
«ум — «сердце (душа)», «помыслъ-помышление» — «покаяние»,
как «немощь ума» — «сила духа». В «Уставе» Нила Сорского
эта антитеза обнажается яснее: сердце — «иже помыслом хра-
нитель, и умъ — чювьствомъ кормникъ и мысль — скоролЪтя-
щая птица и безстудная» (Боровкова-Майкова, 1912, с. 27).
Все это дает основание для суждений о смысле слов в таком
важном тексте, как молитва. Для идеологии самого Нила мо-
литва— высочайшее проявление души и внутренних чувств в
«беседе с самим собою», это внутренний монолог, в жанровых
рамках которого можно было реализовать не использованные
пока возможности языка. Самозабвенность молитвенного со-
стояния («гдЪ же тогда тЪло — не В'Ьмь», — говорит Нил) тре-
бует особого языка — разработки экспрессивных средств, а так-
же ритмики, являющейся неизменным свойством этого жанра,
который сам Нил именует стихами. По этой причине каждое
слово молитвы должно быть высоким и важным, хотя не обя-
зательно, чтобы это был церковнославянизм. В поисках средств
выражения наиболее типичного в проявлении личного чувства,
самого идеального и вместе с тем максимально абстрагирован-
ного от конкретного индивидуального чувства годится любое
слово — но, становясь в один ряд с другими, высокими, словами,
оно осознается как «церковнославянское».
Явно увеличилось число книжных форм, но таковыми мы
часто считаем обычные архаизмы славянской речи. В обеих
молитвах, например, употреблены непривычные формы пове-
лительного наклонения: да съблюдеть, да зову. Однако вряд ли
это церковнославянизмы обычного типа: характер текста тре-
бует форм 1-го и 3-го лица, а эти формы образовывались ана-
литическим способом одинаково и в книжном, и в разговорном
языке (в последнем они редко употребительны). Важнее дру-
гое: архаические формы повеления употреблены только однаж-
ды, как ключевые, дающие развитие, целому ряду других, уже
вполне обычных форм 2-го лица. Необходимость противопоста-
вить бога и угодника (Владимира) диктует Илариону разгра-
ничение форм 3-го и 2-го лица; у Нила последовательность
форм такова же, поскольку необходимо разграничить разные
субъекты действия, но она служит и для усиления экспрессии
речи: «да зову ти, помози ми» — это соответствует примерно
такому выражению: «взываю к тебе: спаси меня!» Относитель-
ная свобода литературного текста в отношении к формам, по-
степенно архаизующимся, связана с необходимостью большей
гибкости, чем в бытовой речи, при описании различных ситуа-
ций, создании характеристик. Исчезая из разговорной речи,
эти формы тем самым автоматически осознаются как «высокие»,
«книжные» и, постепенно сужая сферу своего применения, ста-
новятся стилистически дифференцирующим средством языка.
Это развитие прямо противоположно семантическому разви-
тию. С изменением контекста изменяется и семантика слова,
семантическая характеристика слова постоянно обогащается
за счет каждого нового контекста. При устранении привычного
контекста форма, наоборот, никак не изменяется и даже утра-
чивает часть своих семантических признаков, зато усиливается
ее роль как стилистически маркированного элемента текста.
Эту особенность следует заметить. Стилистическое обогащение
становится возможным при семантическом обеднении, но оба
процесса связаны, и оба они происходят в контексте. Изменя-
ются не слова и их формы, но контексты, в том числе и быто-
вые контексты.
Между молитвами Илариона и Нила около 450 лет интен-
сивного развития этого жанра. Жанр синкретичен, поскольку
основное его назначение — выразить экспрессию личного чув-
ства, обращенного вовне, к отсутствующему адресату. Отсут-
ствие адресата превращает прямую речь в монолог, а это тоже
определяет все разнообразие используемых языковых средств.
Молитва как жанр и возникла из древнего «слова жалостна»,
как называют плачи древнерусские источники. Раскованность
и самозабвенность в передаче своего чувства исключает наро-
читость и манерность, однако сложный ритуал и последова-
тельность в изложении формул плача требовали (и особенно в
письменной форме) определенного порядка. Из сохранившихся
текстов народных плачей известно, что формулы их были устой-
чивыми в не меньшей степени, чем и все прочие синтагмы лю-
бого древнего текста.
Рассмотрим для начала текст, в котором молитва еще слита
с плачем и представляет собою его продолжение. Это — плач
богородицы в изложении Кирилла Туровского (середина XII в.);
для сравнения дан возможный оригинал-образец из перевода
триодного канона Симеона Логофета (X в.).
Плач богородицы по «Слову» Кирилла Туровского
Тварь съболЪзнует ми, сыну, твоего зрящи бес правды умерыцвения.
Увы мнЪ, чадо мое, свЪте и творьче твари! Что ти ныня въсплачю. Ужас-
нуся небо, и земля трепещеть... солнце померче, и камение распадеся...
Вижю тя, милое мое чадо, нага иа крестЪ висяща, бездушна, безрачьна, не
имуща видения, ни доброты, и горко уязвляюся душею: хотЬла быхъ с то-
бою умрети. Не терплю бо бездушна тебе зрЪти, радость мнЪ отсЪл-b ни-
какоже прикоснется: свЪтъ бо мои и надежа и живот, сынъ и богъ, на
древЬ угасе! (Рукописи гр. А. Уварова, т. 2. СПб., 1858, с. 25—26).
Плач богородицы по канону Симеона Логофета
И рыдаше вся тварь, того видящи висяща иага на древЬ... [солнце
луча сокры, и звезды свЪтъ отложиша, земля же со многимъ страхомъ по-
колебася, п море побЬже, н камение распадеся...] Вижю тя нынЪ, возлюб-
4 Колесов 3. В.
49
ленное чадо и любимое, на крестЪ висяща, и уязвляюся ГорцЪ сердцемъ...
Нын-ь моего чаяния и радости и веселия, сына моего и бога, лишена быхъ;
увы мнЫ болЬзную сердцемъ... Се свЪтъ мои сладкий, надежда и животъ
мой благий, богъ мой угасе на кресгЬ... ХогЬла быхъ съ тобою умрети.
не терплю бо бездушна, мертва тя видъти! (Там же, с. XXVII—XXVIII).
При передаче природных явлений вместо описательных фор-
мул Кирилл вводит динамичные связки с глаголами; ср.: «солн-
це луча сокры» у Симеона — «солнце померче» у Кирилла (так
же в русских летописях, в «Слове о полку Игореве»); «земля
со многимъ страхомъ поколебася» — «земля трепещеть» («тре-
пещуть синии млънии» в «Слове о полку Игореве»), страх уси-
лен до степени ужаса и приписывается небу: «ужаснуся небо —
и земля трепещеть». Противопоставление глагольных форм вре-
мени усиливает риторическую антитезу. Сочетание «камение
распадеся» сохраняется, будучи столь же лаконичным и понят-
ным, как и все замены, но выражение «море побЪже» устра-
няется из текста ввиду сложности образа и потому, что моря в
припятском Полесье нет. После многоточия в тексте плача при-
ведено истолкование образа (данного текста у самого Симеона,
разумеется, нет). Это необходимо потому, что Кирилл пол-
ностью убрал олицетворение, имеющееся в переводе греческого
текста, он описывает явления природы как обычные, кроме, мо-
жет быть, исходного выражения «ужаснуся небо», но слово
небо многозначно, поэтому возможно метонимическое осмысле-
ние его как ‘небесные силы’.
Текст перестраивается и в другом отношении. Несколько то-
чек зрения сменяются одной-единственной: это точка зрения
богородицы, оплакивающей своего сына. Ни небо, ни «вся
тварь» своего голоса в плаче не имеют, они поданы так, как
видит их богородица (ср.: «рыдаше вся тварь» у Симеона —
«тварь съболЪзнует ми» у Кирилла и т. д.).
Текст становится более цельным, он организован с харак-
терным разграничением смысловых (содержательных) и экспрес-
сивных отклонений от исходного образца.
Видны намеренная архаизация, использование слов высо-
кого стиля в описательной части —там, где нужно передать
действие (ср/ замену форм глагола видъти на зрЪти, но в лич-
ной форме сохраняется вижю). Сочетание «радость и веселие»
для Кирилла кажется странным, поскольку речь идет о собст-
венном переживании женщины (это не всеобщее «веселье»,
а именно личная «радость»), и Кирилл оставляет одно слово
радость, причем по значению оно «нерадость», это отрицание
передается описательно; заметим, что синтаксическая конструк-
ция и в данном случае остается высокой книжной, с единст-
венным отрицанием.
Напротив, в экспрессивно-эмоциональной сфере преобладает
не действие, а состояние, точнее — признаки такого состояния,
п замены слов указывают па народно-разговорную речевую
50
сферу. Ср.: «возлюбленное чадо и любимое», «милое мое чадо»,
«душа моя, свет мой!» (восклицание богородицы, уязвленной
не сердцем, а душой). Кирилл намеренно усиливает перечисле-
ние признаков распятого в описании переживаний его матери:
«нага... бездушна, безрачьна, не имуща видЪния, ни доброты»;
каждое слово в этом ряду требует уточнений, потому что зна-
чит не то, что в современном нам языке. Повторение внешне
однозначных слов напоминает позднейшее «плетение словес»,
но это не так. Многозначность каждого из искусственных слов,
представленных здесь, определяется именно их искусственностью
и оттого амбивалентностью. Безрачен— и ‘лишенный зрения’, и
‘невиданный’; видЪние— одновременно и ‘зрение’, и ‘внд’; без-
душный— ‘лишенный души’ (мертвый) и ‘бездуховный’ (в со-
временном смысле); доброта—и ‘сила’, ‘могущество’, и ‘кра-
сота’. Столкновение всех этих слов в их многозначности, под-
держанной тем, что каждое из них имеет разные значения в
народном и книжном языках, совершенно необходимо для пере-
дачи всего того ужаса, который испытывает женщина при виде
бездыханного тела. Перевести всю игру слов на современный
язык невозможно, ее можно только прокомментировать, потому
что не одна многозначность слов, весь контекст подталкивают
к этому. Необходимо подойти к ключевым словам темы с точки
зрения отраженного в них эмоционального переживания: «СвЪтъ
бо мои и надежа и живот, сынъ и богъ, на древЪ угасе!»
Свет, надежда, живот — это символическое изображение зна-
ния, веры и жизни, обычная христианская символика. В про-
должении плача эта мысль варьируется в новой триаде: Ки-
рилл как бы расшифровывает окончательно, возвращаясь к ней
еще раз, в полном наборе традиционных формул: «ныне мое
чаяние, радости же и веселия, сына и бога, лишена
быхъ!» В тексте Кирилла соотнесены русизм надежа и болга-
пизм чаяние, русизм живот с описательной формой выраже-
ния топ же «вечной жизни» в сочетании «радость и веселие»;
и в выражении «свЪтъ и животъ» передаются радость и весе-
лие, но уже в новом ракурсе чувств, и совершенно необходи-
мым оказывается сохранить в тексте оба слова устойчивого вы-
ражения. Описательная позиция («на древЪ угасе») сменяется
заинтересованной («лишена быхъ»), но все точки зрения схо-
дятся на лике богоматери, потому что именно богородица про-
износит эти слова, и никто другой сказать их не может. Плач
одной женщины тут еще не стал молитвой для всех.
Не все тексты дошли до нас в первоначальном виде, мно-
гие отчасти исправлены или значительно дополнены, как пра-
вило, книжными оборотами и цитатами из Псалтыри (основной
источник поступления исходных формул), неоднократно подвер-
гались орфографической правке. В дальнейшем написания типа
моа, скръбь и т. п. не принимаем во внимание, они не имеют
отношения к проблеме литературного языка.
4*
51
Приводим еще один плач, формально сходный с молитвой,
но уже из светского памятника — плач князя Ингваря Ингва-
ревича (в «Повести о разорении Рязани Батыем», XIII в.):
О милая моа братья и господне! како успе, животе мои драгии,
меня единаго оставиша в толице погибели? Про что аз преже вас не умрох?
И камо заидссте [свете] очию моею, и где отошли есте сокровища живота
моего? Про что не промолвите ко миЬ, брату вашему, цвЪты прекрасный,
винограде мой несозр'Ьлый? Уже не подаете сладости души моей! Чему,
господине, не зрите ко мнЪ — брагу вашему, не промолвите со мною? Уже ли
забыли есте мене, брата своего, от единаго огца роженаго, и единые утробы
честнаго плода матери нашей — великие княгини АгрегтЬны Ростиславне,
и единымъ сосцом воздоеных многоплоднаго винограда? И кому приказали
есте меня — брата своего? Солнце мое драгое, рано заходящее, месяци
красный, скоро изгибли есте, зв-Ьзды восточные, почто рано зашли есте?
Лежите на земли пусте, ни ким брегома, чести-славы ни от кого приемлемо!
Изменися бо слава ваша. ГдЪ господство ваше? Многим землям государи
были есте, а ныне лежите на земли пусте, зрак лица вашего изменися во
истлении. О милая моя братиа и дружина ласкова, уже не повеселюся с ва-
ми! Св-Ьте мои драгии, чему помрачилися есте? / [Не много нарадовахся с
вами! Аще услышит богъ молитву вашу, то помолитеся о мнЪ, о брате ва-
шем, да вкупе умру с вами. Уже бо за веселие плач и слезы приидоша ми,
а за угЬху и радость сетование и скръбь яви ми ся! Почто аз не преже вас
умрох, да бых ие видЬл смерти вашея, а своея погибели] /. Не слышите ли
б-Ьдных моих словес, жалостно вещающа? О земля, о земля, о дубравы —
поплачите со мною! (ПЛДР, т. 3, 1981, с. 194, 196).
В этом тексте множество последующих добавлений (они
выделены курсивом или даны в прямых скобках). Обычно
это — разъяснения и дополнения, известные книжные штампы,
попавшие в ту или иную редакцию памятника. Это обстоятель-
ство затрудняет исследование исходной авторской редакции
текста, поскольку всегда возникает сомнение в его исконности.
Сравнение различных редакций показывает характер пере-
работки. Средневековый текст динамичен в том смысле, что
форма и семантика при всех заменах отражают свое время; по-
тому и стало возможным длительное существование некоторых
из них (в течение многих столетий), что сам текст оставался
открытым для переработок.
Характерный для жанра плача цтиль постоянно перебива-
ется книжными реминисценциями, завершается же плач фраг-
ментами летописного характера с прямыми цитатами из Псал-
тыри. В «стрелецкой редакции» плача Ингваря (XVI в.), на-
пример, невероятно много вставок — традиционных книжных
формул, но одновременно из текста устранены некоторые арха-
ические выражения, ср. с приведенным выше текстом:
Где отошли есте сокровища живота? Почто ми ныне не проглаго-
лите слова на утешение в скорби и печали сущу ми о ваю? о цвети
мои прекрасиии, винограда многоплоднаго ветви, и ужели мие не подадите
слова на сладость души моей и сердцу? (ТОДРЛ, т. VII, 1949, с. 367).
В «воинской редакции» появляются поздние по происхож-
52
дению обороты, получившие распространение и в фольклоре
(ср. «о, дуброва зеленая» вместо прежнего «о, дубравы»). Уже
в списках исходной редакции находим множество уточнений
(например: «меня единаго сира оставиша, в толице погибели
суща» — выделенные слова вставлены здесь для восполнения
синтаксических связей «основного слова» высказывания — ме-
стоимения меня).
Этот факт очень важен. С течением времени происходит
постоянное включение в русский текст (предназначавшийся пер-
воначально для устного исполнения) все большего числа книж-
ных формул, призванных как бы заменить обращение к одному
адресату на обращение к другому (к богу). Первоначально
в тексте сосуществуют синтагмы разного происхождения, по-
скольку важно одно — развитие темы при допустимом варьиро-
вании языковых средств, стилистически не противоречащих
друг другу. Затем, при достижении определенного критического
предела варьирования, происходит последовательное замещение
старых форм и формул новыми.
Таким же образом последовательно во всех известных тек-
стах стала употребляться форма драгий вместо дорогой (она
попала и в русские причети прошлого века), это естественная
архаизация в условиях изменившегося значения слова. Образо-
вавшееся расхождение по признаку «конкретное (с полногла-
сием)— отвлеченное (с неполногласием)» требовало и особой
формы для воплощения переносного значения слова дорогой,
т. е. ‘любимый, близкий сердцу’, а не ’высокий по цене1. Столь
же последовательно и по тем же причинам заменяется и форма
один на един (единый и т. д.). Постепенная архаизация отдель-
ных формул текста происходит сама по себе, но внешним про-
явлением этого естественного процесса становится «славяниза-
ция» текста, поскольку всякий архаизм воспринимается как
церковнославянская форма или слово. Дело не в отдельном
слове или форме, а во всей системе языковых средств, которая
(в виде традиционных формул) обслуживает этот текст. Не по-
нимать это — значит упорствовать в утверждении высокой роли
церковнославянского языка даже там, где происходило простое
«устаревание» формул народного текста.
Проверить это положение можно путем анализа известного
нам плача князя по убитым рязанцам. Все грамматические
формы в плаче являются архаическими и точно следуют прави-
лам их употребления в законченном тексте. В протографе, оче-
видно, совсем не было причастных конструкций; формы двой-
ственного и множественного чисел распределены точно, вообще
все формы употребляются согласно древней системе языка.
Некоторые искажения разных форм имени, например цвЪты и
месяци в разной форме для звательного, мене и меня в вини-
тельном-родительном падеже и др., возникли в результате ис-
правления или как следствие естественного развития слов в их
53
свободном употреблении. Иначе обстоит дело в границах син-
тагмы.
Родительные падежи в сочетаниях «смерти вашея, а своея
погибели», «душе моея» отражают книжные формы; «и еди-
ные утробы... великие княгини Агреп1>ны Ростиславне», также
«зв-Ьзды восточные» передают русские флексии, но в столь же
преобразованном виде (-я восходит к -ьх, -е — к -&). Синтагмы
разного происхождения в этом раннем тексте еще как бы ие
притерлись друг к другу, и составляющие их формы механи-
чески сосуществуют рядом. Подобных примеров немало,
в можно было бы поставить вопрос, не значит ли, что в грани-
цах общего текста наблюдается смешение стилей или, наобо-
рот, происходит очень тонкая стилистическая дифференциация
в зависимости от целей повествования? И то, и другое неверно.
Смешения стилей нет, поскольку современное понятие стиля
для XIII — XIV вв. недействительно. Нет и стилистической диф-
ференцнанпи, поскольку намечается постепенная замена форм
живого языка формами книжной речи (в случаях с драгий и
един это уже осуществилось). При истолковании данного текста
вообще следует учесть «автопризнание», вложенное в уста
князя: «Како нареку день той и како воз пишу его?»; как
видим, соединение устного монолога с книжной его обработ-
кой является сознательным намерением автора.
При изучении генетически разных синтагм важно учесть то,
что нормативность внешних форм постоянно изменяется, и это
препятствует точному пониманию стилистической нагрузки от-
дельной синтагмы. Так, в плаче князя и в дальнейшем в дру-
гих произведениях долго сохраняются написания с ж вместо
жд (преже, роженаго и др.); впоследствии это написание свое-
образно лексикализуется: например, у Вассиана Патрикеева и
писателей XVI в. слово нужа во всех формах всегда остается
в таком — русском и одновременно архаическом — написании,
тогда как в других случаях (чаще всего в глаголах) ж заме-
няется на жд.
Неполногласные формы преобладают, и это не случайно.
«Животе мои драгии», «солнце мое драгое», «свЪте мои дря-
гии» — все это разные выражения формулы обращения, много-
значной в зависимости от возможностей своего воплощения:
свет — это в древнерусских текстах и ‘жизнь’, и ‘солнце’, солн-
це— одновременно и ‘свет’, в понятиях язычника также и
‘жизнь’, а живот — древнерусское слово, обозначавшее жизнь и
все, что с нею связано. Последовательность усилительного ряда
не случайна: каждое последующее обращение, хотя оно и отде-
лено вставками, шире по объему и как бы восполняет недоска-
занное в предшествующем фрагменте плача. Троичные повторы,
которых здесь много, выдают в авторе превосходного ритора,
который составлял свой текст, опираясь не только на тради-
цию народной причети. Кстати сказать, здесь можно наглядно
54
видеть совмещение народной и заимствованной форм. Исход-
ный текст «и камо заидесте очию моею», очевидно, испорчен:
в нем пропущен предлог от («от очию»). Это дало переписчи-
кам основание исправить текст, и они использовали трафарет-
ный образ, идущий из византийской традиции: «заидесте свЬте
очию моею», ср. греч. dybakfiiov —буквально: ‘свет
очей мне’, что встречается в древнерусских текстах уже XI—
XII вв. (в «Сказании о Борисе и Глебе», у Даниила Заточника —
см.: Срезневский, III, стлб. 296). Включение слова свет в этом
месте плача нарушает образную последовательность текста и
явно вторично. Автор имел в виду не «свет очей моих», а «свет
мой дорогой».
Выражение «сладость души» также употреблено в перенос-
ном значении, отсюда и неполногласная форма отвлеченного
имени; помрачитися тоже отличается от памороки, как и загра-
жаются, как и храбрый от хоробрый. Полногласная форма хо-
робрый обычна в качестве определения, уточнявшего характе-
ристику воина; отвлеченное субстантивированное имя представ-
лено чаще всего в неполногласном варианте, таково соотно-
шение этих форм и в летописи. Не случайно разъясняется древ-
ний смысл слова храбрый новым словом удалец, это тавтоло-
гия еще для XV в., потому что слово удалец сменило более
раннее храбрый (‘храбрец’). Но это тавтология того же рода,
что и у сложений типа радость-веселье, честь-слава и т. п.,
в которых объемы понятий двух слов не полностью покрывают
друг друга. Узорочье естественно остается в полногласной фор-
ме, поскольку само слово пришло из народной речи и смысл
его вполне конкретен — ‘краса и гордость’.
Вторичность, сборность текста легко определяется как фор-
мулами, так и синтаксической перспективой изложения. Фор-
мулы традиционны и часто встречаются именно в данном
жанре (см. ниже); собственно, набор подобных формул и вы-
зывает жанровое своеобразие текста как плача. Ряд оборотов,
особенно в конце плача, заимствован из Псалтыри.
Синтаксическую перспективу создают строевые слова, поря-
док слов и распределение глагольных форм.
Почти вес причастия плача вторичны: они либо встреча-
ются в традиционно книжных оборотах (роженый, воздоенный
употребляются также и в других плачах — см. ниже), либо яв-
ляются результатом переработки текста (ср. употребление со-
четания рано заходящее в окружении семантически близких
перфектов; в перфектной форме следует восстановить и данный
глагол — заходило). Выражения «ни ким брегома» и «ни от кого
приемлемо» представлены с одним отрицанием, и это выдает их
книжное происхождение. В молитвах причастия также вторич-
ны, полные причастия выполняют обычно роль развернутых
определений-прилагательных.
Личные формы глагола распределяются в своеобразной по-
55
следовательности (см. фрагмент, выделенный с двух сторон
знаками/] в приведенном тексте). Глагольные формы в начале,
или в некоторых вставках в середине повествования — обычный
аорист — это «время» автора, тогда как действительным време:
нем героя является настоящее, которое переходит в перфект в
обращениях героя к погибшим братьям. Семь перфектных
форм представлены в устойчивом сочетании со связкой; она не
опускалась еще и потому, что в форме 2-го лица становилась
нормативной. В других редакциях текста перфекты либо исче-
зают вовсе, либо искажаются, перемежаясь с аористом («уже-
ли есмя забыли» в «стрелецкой редакции»). Соотношение форм
времени настолько забыто, что даже при повторении формул
глагольные формы выравниваются под аорист — архаическое
обобщенное прошедшее время. Голос автора все более и более
подавляет голос героя, стираются все оттенки и подробности
конкретной речи-плача. Сначала остаются отдельные отрывки
первоначальной прямой речи, но постепенно и они заменяются
усредненным книжным «временем», и плач Ингваря приобретает
характер отвлеченной риторики, насыщенной славянизмами.
При такой смене глагольных форм видны швы добавлений,
своего рода отступлений, посредством которых не очень талант-
ливый автор, опираясь на традиционную формулу, пытается
возвысить личное чувство героя до уровня признанных образ-
цов. Повторения формул выдают компилятора: «про что аз пре-
же не умрох?» — «почто аз не преже вас умрох?»; «уже не по-
веселюся с вами!» — «не много нарадовахся с вами!» Оба по-
втора показывают границы вставки-отступления, которое ассо-
циативно связывается со знакомым оборотом радоватися-весе-
литися; формулы честь-слава и радость-веселье идут от народ-
ной традиции (ср. повторение «лежите на земли пусте» и др.).
Архаичны некоторые строевые слова текста: про что потом
заменяется на почто, уже на ужели, камо на како, како на как
и т. д., увеличение числа форм в синтагмах и предложениях
привело к утрате своеобразного речевого ритма, напоминаю-
щего ритмику сохранившихся похоронных причетей. Наложе-
ние книжных образцов на устную речь в ее свободном прояв-
лении привело к созданию искусственных форм, которых до-
вольно много уже в исходной редакции. Книжная традиция
восприняла традиции народные, поскольку последние не про-
тиворечили установкам литературного жанра, однако посте-
пенно переработала текст, в поздних версиях сделав его чрез-
мерно традиционным по языку и совершенно другим в худо-
жественном отношении (архаизация форм идет параллельно
с развитием книжной поэтики).
Рассмотрим принципы последующей переработки текста.
«Лучшее произведение конца XIV в.», по словам А. В. Со-
ловьева (1961, с. 105), — «Слово о житин и о преставлении ве-
ликого князя Дмитрия Ивановича» написано Епифанием Пре-
56
мудрым до 1394 г. В составе «Слова» находится плач вдовы
князя Евдокии. В этом произведении легко выделить три типа
одного и того же жанра: плач «традиционный», состоящий из
формул, ничем не отличающихся от формул плача Ингваря,
плач «народный» — т. е. оригинальная причеть, и, наконец, есте-
ственный переход к молитве. Книжные мотивы свойственны всем
трем уровням, но в «народном» плаче, по крайней мере, боль-
ше таких, которые восходят к народной поэтике.
Како умре, животе мой драгый, мене едину вдовою оставив! Почто азъ
преже того не умрох? Како заиде свЬт от очию моею! Где отходиши, съкро-
вище живота моего, почто не проглаголсшп ко миЬ, утроба моя, к женЪ
своей? Цв-Ьте прекрасный, что рано увядавши? Винограде многоплодный,
уже не подаси плода сердцю моему и сладости души моей! Чему, господине
мой милый, не възриши на мя, чему не промолвиши ко мн-Ь, чему не обра-
тишися ко мнЪ на одрЪ своемъ? Ужели мя еси забыл? Что ради не възри-
ши на мене и на дКти свои, чему имъ ответа не даси? Кому ли мя при-
казывавши? Солнце мое,— рано заходиши, мЬсяць мой светлый, — скоро по-
гибавши, звЪздо веточная, — почто к западу грядеши? (ПЛДР, т. 4, 1981,
с. 218).
ЗвЬри земппи на ложе свое идут, а птиця небесныа к гнКздомь своимъ
летят, ты же, господине, от своего дому не красно отходиши! Кому упо-
доблюся п како ся нареку? Вдова ли ся нареку? Не знаю азъ сего. Жена
ли ся нареку? Остала есмь царя. Старыа вдовы потЪшите мене, а младыя
вдовы со мною поплачите: вдовиа бо бЪда горчае всЪх люди (Там же,
с. 220).
Сопоставление традиционной части плача Евдокии с плачем
Ингваря показывает их близость по форме, теме и набору син-
тагм. Изменяется только словесное наполнение синтагм. Фор-
мам полного перфекта (со связками) соответствует в плаче
Евдокии настоящее время, и это определяется конкретной уста-
новкой текста: князь только что умер. Книжное про что заме-
няется разговорным попто, книжное успе— нейтральным умре,
книжное месяц красный — нейтральным месяц светлый. В од-
ном случае видна рука книжника: глагол промолвити употреб-
ляется в плаче Ингваря дважды, а Епифаний в одном случае
заменяет его книжным проглаголеши, оставляя во втором про-
молвиши.
Другие изменения легко видны при сравнении текстов.
Конец плача Евдокии — это уже прямая молитва, собствен-
но, как речь в прямой речи:
Како ся въеплачю или како възъглаголю: «Великый мой боже, царь ца-
ремь, заступникь ми буди! Пречистаа госпоже богородице, не остави мене,
въ время печали моея не забуди мене!» (с. 220).
Формульность текста очевидна. По содержанию — это про-
стой призыв к заступничеству. Преобладающим является в
нем повелительное наклонение, которого в других частях избе-
гали. Намеренно архаизована форма ряда слов (моея, великый,
написание ъ в приставках), но в отношении категорий наблю-
даются явные новации. Последовательно, например, представ-
57
лена полная форма родительного-винительного личного место-
имения мене, а не характерная для древнего текста клитика
мя, ср. ми в молитве и несколько раз мя в плаче (в препози-
ции к основному слову). В соответствии с требованиями ритма
сохраняется без изменений архаичный порядок слов.
Можно было бы расширить материальную базу сравнения
с текстами Епифания, привлекая, например, плач Евдокии из
«Сказания о Мамаевом побоище» (начало XV в.) или плач
русских жен в «Задонщине» (с реминисценциями из «Слова
о полку Игореве»). Сравнение всех этих текстов показывает,
что возможность расшатать устойчивость традиционной фор-
мулы по-прежнему кроется в вариативности глагольной фор-
мы— постоянного компонента синтагм. Автор «Задонщины» пе-
ревел все повествование в план прошедшего и тем самым унич-
тожил ведущую текстообразующую доминанту плача — гла-
гольную форму настоящего времени; синтаксическая перспек-
тива текста разрушена неоправданным смешением временных
форм глагола и причастия и т. д.
Славянизация исходного текста (плача Евдокии) продол-
жается: сначала включаются книжные формулы, уточняющие
языческое осмысление ритуала, затем устраняются исходные
формулы, но одновременно и исправляется, архаизуется словес-
ное наполнение формул. В обращении Евдокии к богу в тексте
«Сказания» вполне определенно видно сопряжение синтагм из
нескольких источников: из летописи (описание битвы на Кал-
ке), из книжных текстов, как широко распространенных (Псал-
тырь), так и специальных (служебная литература). И только в
самом конце находим слова, которые могла сказать сама кня-
гиня о своих сыновьях.
Мастерство воспроизведения — это и есть форма соавтор-
ства в создании древнего текста. Гибкость языка достигается
за счет возможности варьирования словами и формами в пре-
делах синтагм, сами формулы при этом последовательно оста-
ются неизменными; единственное, что допускалось, — развитие
параллельных формул того же смысла. Смысл — это важная
категория средневекового текста, -значение же не столь
важно, поскольку оно связано с более мелкой структурной еди-
ницей, нерелевантной в данной системе, — со словом. Язык раз-
вивался и изменялся, но это никак не отражалось на тради-
ционности литературных жанров, поскольку формульность и
этикетность текста, принцип организации текста, набор состав-
ляющих его блоков оставались неизменными. Этим также объ-
ясняется гибкая «широта нормы» литературного языка средне-
вековья: происходило варьирование на уровне формы (слова)
в границах синтагмы, а не отдельных самостоятельных, проти-
вопоставленных друг другу форм и слов.
Важно подчеркнуть, что развитие стилистических норм про-
исходило долгое время в границах определенного жанра. Срав-
58
некие можно было бы продолжить за счет текстов других пла-
чей (царицы Анастасии или казанской царицы), приведенных
в «Казанской истории» (XVI в.; см.: ПЛДР, т. 7, 1985, с. 414,
416,420,452). Поскольку текст плача Евдокии стал уже образ
цом жанра, ему подражают, и в «Казанской истории» находим
много формул, общих с его формулами, которые, однако, либо
расширяются, либо видоизменяются в своем словесном выра-
жении. Такова общая установка средневекового текста. Но са-
мое главное — резко отличаются по содержанию и подбору язы-
ковых средств плач татарской и молитва русской цариц.
Прежде амбивалентный жанр «плач-молитва» вполне созна-
тельно подан как два разных жанра, каждый из которых об-
служивается своим набором языковых форм, хотя традицион-
ные формулы в них могут быть общими, и этот текст расши-
ряется за счет включения новых компонентов, не всегда точно
соотнесенных как с темой, так и с общим набором формул.
Незаметно проникают, механически совмещаются друг с дру-
гом как деловые, так и чисто книжные (обычно псалтырные)
формулы. Автору, как и всякому средневековому писателю, хо-
телось разъяснить смысл описываемых событий, потому он при-
бегает к уточняющим «авторским отступлениям», которые услож-
няют текст и лишают его первоначальной художественной силы.
Выражение «како заиде свЬт от очию моею» у Евдокни — это
метафорическое упоминание о князе, князь и есть свет (князь-
свет, свет-князь). В «Казанской истории» всем понятный образ
подробно объясняется: «Почто рано заиде красота твоя от очию
моею под темную землю?» Синкретизм выражения в исходной
формуле (свет померк в очах, свет ушел, князя нет и т. д.)
теперь как бы аналитически раскладывается, причем каждое
из значений исходной синтагмы словесно эксплицируется, т. е.
«красота» (не доброта, как в более ранних текстах) —это свет
царицы, а «свет померк» (и все вообще связанное с освеще-
нием) дано как противоположность «темной земле» (не «чер-
ной», как было бы в народной формуле). Но это не все. В даль-
нейшем тексте, который увеличивается за счет формул-син-
тагм, образ разворачивается и беспредельно распространяется
за счет ненужных подробностей и бытовых деталей, которые
уместны скорее в деловом тексте, чем в художественном произ-
ведении. Завершающие формулы пришли из летописи и несо-
мненно принадлежат автору — очевидцу падения Казани.
На многих примерах хорошо видно, что все большее осна-
щение текста «церковнославянизмами» является оборотной сто-
роной процесса семантического соединения прежде разнород-
ных формул, которые в оригинальном контексте преобразуются
в новые синтагмы. Такие формы не составляют никакой си-
стемы, поскольку это внешние формы уже распавшегося цель-
ного текста. Архаика формы становится единственно реальным
текстообразующим элементом и постепенно выступает на пер-
59
вый план как признак высокого стиля. Стилистические при-
знаки как бы накапливаются в текстах определенного содер-
жания, воплощаясь (каждые в границах своего жанра) в язы-
ковые средства, накопленные языком в процессе его естествен-
ного развития. Так выглядит «намеренная архаизация при не-
умении справиться с требованиями старой грамматики» (Ор-
лов, 1908, с. 361), которой еще предстояло принять закончен-
ные формы.
Дальнейшее сравнение может показать различие между раз-
говорными оборотами в плаче казанской царицы («возму пти-
ну борзолЬтную») и описательно-книжными в молитве Анаста-
сии («кая птица во един час прилетит»). Этот библейский образ
известен по Екклизиасту (X, 20): «Яко птица небесна донесет
глас твои, им!>я криль възлетит слово твое» (Геннадиевская би-
блия 1499 г. — Рукопись: ГИМ, Синод., 915, л. 442). Образ по-
разному разработан стилистически, и теперь уже может опре-
делять стилевые особенности текста. Горький плач — общая до-
минанта и плача, и молитвы; ср.: «и восплакася горце» — гово-
рит русская царица, «горкаго моего плача» — слова казанской
царицы. Но у второй это сквозной образ, он появляется в раз-
личных повторениях, заимствованных из самых разных источ-
ников; ср.: «шла бы тамо не тужаще, но с радостию без пе-
чали», «плач мой утешит и горкия слезы моя утолит» и т. д.
Горесть Анастасии не сгущается в горечь утраты, ее плач окра-
шен надеждой, и оттого это не плач, а молитва.
Плач казанской царицы целиком отнесен в план прошлого
и в неопределенную императивную модальность; вся молитва
русской царицы связана с моментом речи и устремлена в бу-
дущее. Русская царица может сказать о себе «я», казанская же
пересказывает свои переживания как бы со стороны, избегая
личного местоимения 1-го лица. В молитве нет страдательных
причастий, тогда как в плаче их много, и т. д. Однако по форме
представления эти тексты одинаковы: в них много архаизиро-
ванных и старательно культивируемых «славянизмов» самого
разного происхождения.
Амбивалентность плача-молитвы была разрушена как из-
вне— вторжением эпического рассказа о событиях или чисто де-
ловым рядом перечислений (так же в плачах «Задонщины»),
так и изнутри — преобразованием стиля. Если в древнейших
текстах, составленных на Руси, сплетались две традиции — уст-
ная народная и книжная, выросшая на почве библейско-визан-
тийской литературы (Адрианова-Перетц, 1947, с. 135), то
с XVI в. в этот образный мир вторгались и прагматически трез-
вые оценки делового текста, и простодушные рассказы лето-
писи, каждый раз со своим набором сюжетных формул. На
древнерусскую традицию большое влияние оказал жанр вдовь-
его плача, художественно обработанный Епифанием в «Слове
о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича»
60
(см.: Адрианова-Перетц, 1947, с. 144); в плаче органически
сплелись две древнейшие традиции — книжная и народная, но
все остальное, что выходило за его пределы, по необходимости
отрывалось от этой традиции, становилось самостоятельным
жанром. В житии, например, плач неизбежно переходил в по-
хвалу (в XVI в. это стало уже традицией), а в повести — в мо-
литву. Сам плач как жанр раздваивался в зависимости от
объекта причети: о конкретном человеке говорили самым про-
стым языком, русским, но литературно обработанным; обоб-
щенные персонификации все более отвлеченного, идеального
характера требовали высокой речи, и здесь складывался свой
формульный тип.
Примечательно, что простую речь в формах народного пла-
ча литература XVII в. связывает обычно с женщинами, кото-
рые фактически не знали высокого «славенского языка». Тем
ие менее и в их художественно обработанную речь уже по тра-
диции включаются книжные формулы. Другими словами, воз-
можность изменения всегда связывается с теми текстами, ко-
торые по своему характеру не являются каноническими и ко-
торым можно простить отступления от традиции. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно сравнить обширные плачи, которые
в литературных текстах XVII в. приписываются Марии Нагой
(например, плач о царевиче Дмитрии, см.: РИБ, т. XIII, 1909,
стлб. 768—769), с плачем о князе Скопине-Шуйском (Пор-
фирьев, 1897, с. 18). Совмещение делового и книжного стилей
очень заметно, общий тон повествования мало связан с конфес-
сиональными жанрами высокой литературы. Формальная сто-
рона текстов выдает попытки сознательно регламентировать
архаизмы и новые формы, хотя по-прежнему контаминации
слов, извлеченных из разных формул, еще не очень удачны.
Требования ритмики, важные в плаче-молитве, вызывают
к жизни пустые с грамматической точки зрения формы (возо-
пи, востани, сотворяю и др.), ставшие обязательными и в на-
родной поэзии, неограниченные колебания в употреблении пол-
ногласных /неполногласных форм и т. д. Различные редакции
«Повести об азовском осадном сидении», составленные на про-
тяжении XVII в., еще больше разводят языковые формы выра-
жения молитвы и плача, а с другой стороны — свободно смеши-
вают формы делового и поэтического текстов. Происходит пол-
ное разрушение старого жанра в прежнем единстве его стиля.
Каждая формула распространена до предела, сами формулы в
любом наборе могут составить целый текст, ибо принцип нани-
зывания однородных формул бесконечен, структурная рамка не
закрыта и может пополняться.
Таким образом, общее направление в развитии жаира совпа-
дает с тем, что нам известно об этом на примере притчи — ска-
зания.
По мере разрушения исходного синкретизма жанра проис-
61
ходит дальнейшее расхождение текстов по языку и по формулы
ности, что создает постепенно усиливающееся различие по
стилю. Во всех изменениях основным является текст; сначала
изменяется текст и отношение к нему, разведение же языковых
форм (возникающих, новых, живых и остающихся неизмен-
ными, старых, архаических) — всего лишь следствие, вытекаю-
щее из развития текста. По этой причине стилистически нор-
мативным, нейтральным элементом все время остается народ-
ная речь, а маркированная «книжная», постоянно соотносясь
с народной речью, по мере развития живого языка превраща-
ется в условный набор архаизмов, в набор штампов, т. е. ци-
тат, формул и т. д. с соответствующим словесным наполнением.
Выявить на основе подобных отработанных текстов «языковую
парадигму» оказалось просто, потому что тексты ограничены
законченными в развитии типами формул, в то время как раз-
говорный язык продолжал развиваться, и трудно было осознать
его как столь же устоявшуюся систему. Вот причина того,
почему первой грамматикой стала грамматика церковносла-
вянского, а не русского языка.
В свою очередь, расширение формул за счет словесного их
наполнения приводило к увеличению объема самого жанра в
составе общего текста, а это — к искажению границ и объемов
таких сборных текстов, как повести, летописи или «слова». Это,
в свою очередь, вызывало появление новых жанров, которые
теперь не могли быть хранителями стиля. Последовательное
расширение и бесконечное дробление текста уже не могло соот-
носиться с текстами-образцами, образовался тупик для даль-
нейшего развития языка, прежде всего — литературного языка.
Гл а в а 4
ЖИТИЕ—ПОУЧЕНИЕ
Житие — своего рода нравственное поучение, данное в по-
вествовательном описании. Как и все жанры средневековой ли-
тературы, житие — деловой жанр церковно-служебного назна-
чения (Дмитриев, 1973, с. 490;). Его повествовательная форма
сложилась исторически, поскольку на житие большое влияние
оказали и эллинистический роман, и античный миф, и биогра-
фии героев, и воинские повести, и народные легенды. Неуди-
вительно, что житие и стало прообразом романа; в свернутом
виде в нем сохранялась плодотворная форма, в соответствии
с которой совершенствовались многие особенности сюжета, по-
этики и языка. Именно в этом жанре стали работать вес вы-
дающиеся художники слова после XIV в., прежде всего Епифа-
ний и Аввакум.
Исходная направленность жанра па быт и жизнь в земном
62
ее проявлении, а также классические традиции этого жанра
создают противоречие, которое внимательно изучали историки
литературы: помимо идеально-отвлеченных аллегорий и симво-
лов, кроме риторики и абстрактной патетики этот жанр по-
стоянно требовал исторически и реалистически достоверных
описаний. Здесь особенно резко сталкиваются две противопо-
ложные тенденции: строгое следование этикетному канону, тра-
диционным языковым формам и необходимость в образах,
в языке отразить приметы реальной жизни (Дмитриев, 1973,
с. 7). Поэтому на Руси с XI в. обозначилось два направления
в развитии жанра, что видно при сопоставлении текстов, по-
священных одному и тому же лицу, но выполненных по разным
канонам агиографии.
Сначала происходит фиксация необходимого материала,
воспоминания очевидцев записываются как простые «чтения»,
позже памятные записки подвергаются переработке и стано-
вятся «легендарно-биографическими сказаниями» (по выраже-
нию Л. А. Дмитриева), с тем чтобы в дальнейшем при удачном
стечении обстоятельств преобразоваться в законченную форму
жития. Так было в XI—XII вв., когда готовились тексты о Бо-
рисе и Глебе, так было в XV в., когда составлялись тексты, по-
: священные Пафнутию Боровскому или Михаилу Клопскому.
; Так же было и в XVII в., но Аввакум своим отношением к жи-
s тию как к автобиографии исключил возможность дальнейшей
! переработки текста в ритуальный, создавая при этом «первый
I русский роман» (выражение В. В. Виноградова).
i По мере того, как исходный текст «записок» сжимался, по-
I степенно входя в традиционную форму жития, естественно про-
I исходила смена стиля описания, изменялся язык повествова-
ния. Подчас трудно решить, к какой стадии обработки текста
: (представленного к тому же в разных редакциях, от краткой
до обширной) следует отнести те или иные особенности языка
; и стиля. Законченности форм нет ни в одном из вариантов,
г и долгое время это определяется характером самого языка.
5 Изменяются одновременно не все компоненты текста, а только
способные к варьированию. Этикетная формула всегда сохра-
няется. И это создает впечатление неподвижности жанра и
| текста в отношении языка.
i Уже И. С. Некрасов обнаружил во многих древнерусских
житиях глубокое воздействие народно-поэтического языка, а за-
- тем, после XV в., — и разговорного языка определенной мест-
ности (1870, с. 152). Последующие исследования подтвердили
это замечание (Л. А. Дмитриев и др.), которое кажется очень
важным. В отличие от других заимствованных жанров, житие
в своем стремлении впитать формы выражения «реальности»
сначала активно берет их из фольклора, а затем и из де-
ловой речи. Неясно, связана ли такая последовательность
с развитием самих этих форм или объясняется особенностями
63
житийного жанра. Однако важно, что все сформировавшиеся,
уровни литературного языка становятся источником поступле-1
ния новых форм в житие. „ _ ।
Для сравнения воспользуемся только одной темой жития —!
темой обучения будущего подвижника. Вот как она дана в од-
ном из ”
русских переводных житии:
1. «Житие и жизнь Алексея, человека божия» (XI в.)
же бысть время отрочате
вдасти е на первое учение
и навыче всей граматнкые
риторикиа
премудро
Егда
учитися,
грамотЬ,
и церковную строю, и от
мало, и бысть отроча
з-Ьло...
{Адрианова В. П. Жнтие
459).
На подобных образцах возникали русские версии; ср. неко-
торые из них:
оте то vqniov £v xatpw
Oi6ay^; 8e6ii>za\ autov st; t^ypoTtaiSsiav
tij; -pajjipawiTj; v-a'c.-ti;-*
xataataai» xai tij; pTjTOpix.-fji^xipcip.e'Yo;.
flavaoifov ё^е-^ето to naiSiov
Алексея, человека божия... Пг., 1917, с. 458—
2. Нестор. «Житие Феодосия» (конец XI в.)
И хожаше по вся дни въ црковь бжию послушай божствьныхъ кннгъ .
съ всЬмъ въниманиемь, еще же и къ дЬтьмъ играющимъ не приближаше ся
яко же обычаи есть унымъ . нъ и гнушаше ся играмъ ихъ . одежа же его
6Ъ худа и сплатана . о семь же мнргашьды родителема его нудящема и об-
лещн ся въ одежю чнсту . н на игры съ дЬтьми изити . оиъ же о семь не
послушааше ею . нъ паче изводи быти яко едииъ от убогыхъ . къ симъ же
и дати ся на учение бжствьиыхъ киигъ . единому от учитель яко же и
створи . и въскорЬ извыче вся граматикия . и яко же всЬмъ чюдити ся о
премудрости и разумЬ дЬтища . и о скоромь его учении (Успенский сборник
XII—XIII вв. М„ 1971, л. 27г —28 а).
3. Ефрем. «Житие Авраамия Смоленского» (начало XIII в.)
И егда же &Ъ отрочатемъ христовою благодатью въ възрастъ смысла
пришедшу, родителя же его даста и книгамъ учнти. Не бо унывааше, яко
и прочая дЬти, но скорымъ прилежаниемъ извыче, к сему же на игры съ
ин-Ьми не исхожааше, но на боже[с]твеное и на церковное ггЬиие н почитание
преже инЬхъ притекая, яко о семъ родителема радоватися, а инЬмъ чюди-
тися таковому д-Ьтища разуму (ПДРЛ, вып. 1, 1912, с. 3).
4. Епифаний Премудрый. «Житие Сергия Радонежского» (1418 г.)
Сий предобрый и вседоблий отрок нЬ по колицЬх врЬменех пребываше
в дому родителей своих, възрастая и преуотЬваа въ страх божий: къдЬтемь
играющим не исхожаше и к ним не приставаше; иже в пустошь текущим и
всуе тружающимся не вънимаше; иже суть сквернословии и смЬхотворци,
с тЬмн отнудь не водворяшеся. Но развЬ токмо упражпяашеся иа слово-
словие божие и в томъ наслажашсся, къ церкви божии прилЬжио пристоя-
ше, на заутренюю и на литургию и на вечерню всегда исхождааше и святыя
киигы часто почитающе (ПЛДР, т. 4, 1981, с. 286).
5. Пахомий Серб. «Житие Алексия Московского» (середина XV в.)
Устрабившу ему пребываше въ*всяком благочинном възрастЬ, таж вре-
мени бывшу и книжному учению вданъ бысть, прешедшим же 12 лЬтом
дЬтьское еще имущу якож случись простретъ мрежа въ увязеиие пернатым,
64
абие на то внимающу въздремався и успе, и бысть ему глас, глаголя...
(ИОРЯС, т. XIX, 1914, кн. 3, с. 108—109).
6. Пахомий Серб. «Житие Кирилла Белозерского» (середина XV в.)
Устрабивъшужесь отроку и б{о]жественому писанию извыкъшу и прочее,
растущу ему въ всяком бл[а]гоговЪиньствЪ и ч[и]стотЪ и просвЪщеном
разуме, и сего ради от всех любим бывает и почитаем... И тако живяше
прилежа къ ц[е]ркви б[о]жии постом же и м[о]л[и]твами приспевая... Он
аще и миръская иошааше, но вся иноческая дела тому беаху, глаголю же:
постъ, м[о]литва, м[и]л[о]стыня и первие всех къ ц[е]ркви хождение (Яблон-
ский, 1908, с. V—VI).
7. Вассиан Санин. «Житие Пафнутия Боровского» (начало XVI в.)
Живяху же въ селцЪ . по простыхъ речи Кудииово нарицаемо . отъ
отча наследия сие имуще . трею поприщъ разстояиие отъ града Боровъска .
Отъ иихже израсте блаженный . яко от благаго корени садъ священный .
и въ подобный возрастъ навыцаетъ божествеиое писание . и отъ сего прозя-
баше въ иемъ целомудрия присноцвЪтущии плодъ . и прочихъ добродете-
лей виде . ибо во всемъ имыи зело крепокъ смыслъ . яко же ииъ никтоже
о неполезныхъ же и о пустошныхъ ни мало брегии (Кадлубовский А. Житие
Пафнутия Боровского. Нежин, 1898, с. 21—22).
8. Савва Крутицкий. «Житие Иосифа Волоцкого» (1540 г.)
И егда бысть сеи отрокъ седми лЪтъ, родителие его дата иа учение
грамоте во обитель Воздвижения честнаго креста г(о]сп[о]дия старцу чест-
ному, имеиемъ Арсению, пореклу Леженке. Сеи же отрокъ не дошедъ воз-
раста плоти, б[о]ж[е]ственымъ возрасте страхомъ, учашеся разумно н
все.хъ сверстникъ превзыде: единымъ годомъ изучи псалмы давидовы, и на
другой годъ вся бож(е)ственая писаниа навыче. Людие же зря его млада
суща н въ таковЪмъ возрасте свершенъ имуща разумъ и к едииовозраст-
нымъ ие приставаше, якоже обычаи въ детьстемъ разумъ глумитися, ио со
вииманиемъ учася б[о]ж[е]ствеиому писанию (Житие Иосифа Волоколам-
ского. М., 1865, с. 4—5).
9. Василий. «Житие Евфросина Псковского» (1547 г.)
От младых бо ноготъ Х[рист]а възлюби и того яремъ присно на раму
поиесъ въ б[о]голюбивЪи д[у]ши своей и б[о]гоработиою мощью плотью
своею и от самоволных болезней огненых трудовъ его иссушилъ есть паче
уже страстное морс (Серебрянский Н. Житие Евфросина Псковского. СПб.,
1909, с. 19).
10. Аввакум. «Житне» (60-е годы XVII в.)
Рождение же мое в нижегороцкихъ предЪлех, за Кудмою-рекою, в селЪ
Григорове. Отць ми бысть сщнникь Пётръ, мати Мария, йнока Марфа.
Отце мой прилежаше пития хмелнбва, мати же моя постница и млтвеница
бысть, всегда учашс мя страху бжию. Аз же некогда вйдЪвъ у сосЪда ско-
тйну умершу. и в той нощи воставше, предъ образом, плакався доволно о
души своей поминая смерть яко и мне умереть; и с тЪхъ мЪстъ обыкох по
вся нощи молйтися (Пустозерский сборник. Л., 1975, л. 13).
11. Епифаний. «Житие» (60-е годы XVII в.)
Родйлся я в дерёвнЪ. И как скончалися оцъ мой и мати моя. и азъ,
грЪшный, идох вб град нЪкий, зело велик и миоголюденъ, а град блгочестй-
вой, христианской, и пребых в нем седмь лЪт (Там же, л. 116).
5 Колесов В. В. ’ G5
Этикетность выражения в структурной рамке соблюдена;
по традиции говорится о родителях (иногда эта формула опу-
щена), о пристрастии подвижника к службе и почитании книж-
ном, об уклонении от суеты житейской, особенно от развлече-
ний, о первоначальном обучении грамоте. У-Пахомия и Вас-
сиана отсутствует третье (неприятие житейской суеты), у Васи-
лия нет ни первого, ни третьего, а все остальное изложено
максимально отвлеченно. О пренебрежении подвижника своим
внешним видом говорят Нестор и Ефрем, затем такие сведения
(и соответствующая формула) становятся неважными, зато
оказывается необходимым объяснить причину ухода юноши в
монахи; до XIV в. этот поступок казался ясным, теперь же
Епифаний описывает встречу отрока Варфоломея с чудесным
старцем, Пахомий говорит о таинственном гласе с небес во сне;
в других случаях говорят о семейных заветах или традициях —
и так до Аввакума, который, ломая многовековую традицию
отвлеченно-собирательного повествования, объясняет решение
посвятить себя служению богу реалистическими событиями и
возникшим в раннем детстве страхом смерти.
В свою очередь, последние сведения заменяют традицион-
ную формулу об обучении грамоте, которая исчезает с сере-
дины XVI в. Отметим, что общая установка всех формул во-
обще касается несветских лиц. Жития Бориса и Глеба или
Дмитрия Донского совершенно отличаются от этого типа по-
вествования, и Епифаний, описывая жизнь Дмитрия Донского,
постоянно оговаривается: «от юны бо версты бога възлюби и
духовных прилежа дЪлех, аще и книгамь не ученъ бЪаше
добрь, но духовныа книгы въ сердци своемь имяше» (ПЛДР,
т. 4, 1981, с. 214). Перенесение традиционной формулы в но-
вый контекст, не только литературный, но и реальный, не-
ожиданно преобразует смысл выражения, делая его символи-
ческим.
Вместе с тем от текста к тексту развиваются элементы
реально-биографического плана: точное приурочение местожи-
тельства героя, его социальная принадлежность, некоторые
свойства и привычки, а у Аввакума и обычные для него ирони-
ческие формулы (не благочестивые родители, а пьяница-отец)
и т. д.
Комбинация формул повествования показывает отношение
авторов к герою и к языковым средствам, которыми они поль-
зуются для их реализации. Таким образом: 1) текст постепенно
разрастается как за счет этикетных положений, так и благо-
даря расширению традиционных формул; 2) намечается рас-
хождение между двумя основными типами повествования —
конкретно-описательным и абстрактно-поучительным, и каждый
из них начинает обслуживаться собственным набором формул;
3) изменяется и язык житий, причем в первую очередь устра-
6 е
няются явные архаизмы, особенно грамматические (употреб-
ляется его вместо и, е и т. д.). Из примеров ясно, что, при по-
следовательном сохранении композиционной и содержательной
четкости, на уровне синтагмы возможны изменения и замены,
которые связаны с развитием языка.
Со временем происходило постепенное усвоение переводных
формул жития. Буквальный перевод «вдасти и» (oeBuixav aoxov)
еще Нестор соотносит с инфинитивом, т. е. отчасти перераба-
тывает этот синтаксический грецизм; но уже Ефрем исполь-
зует правильную форму аориста в двойственном числе («роди-
теля его даста»), что Савва преобразует в форму множествен-
ного числа, согласуй с подлежащим по смыслу (собирательное
имя «родителие его даша»), поскольку в XVIb. нет категории
двойственного числа. Безличное указание на то, что отрока
учат грамоте, сохраняется и в дальнейшем, для этого авторы
житий пользуются другими синтагмами текста, в которых уже
не упоминаются родители («вданъ бысть», «навыцаетъ» и др.),
обязательно с архаичной глагольной формой.
Сначала в житии говорится о «первом учении грамотЪ»; но
уже Нестор переосмыслил слишком неопределенную формулу,
он уточняет: «хожаше... въ церковь... послушая божествьныхъ
книгъ»; еще короче у Ефрема: «книгамъ учити»; с характер-
ным для русского языка переключением внимания на опреде-
ление у Пахомия: «книжному учению»; это, в свою очередь, ка-
жется недостаточным Вассиану, он предпочитает формулу «бо-
жественое писание»; Савва возвращается к традиционной фор-
муле «на учение грамотЬ» и объясняет, что имеются в виду
именно «божественая писаниа». Формула сохраняется, но во-
площающая ее синтагма постоянно варьируется в поисках наи-
лучших средств образно-идеального выражения мысли.
Ключевыми в этом ряду синтагм являются слова, указы-
вающие на умственные способности отрока: глаголы навыче, из-
выче, извыкъшу, навыцаетъ, обыкох сохраняются постоянно, как
и введенное Нестором распространение «и въскорЪ» (у Ефрема
«скорымъ прилежаниемъ»), у последующих агиографов это ста-
новится основанием для дальнейшего расширения текста (на-
пример, для объяснения того, почему отрок учился успешно и
быстро). Но это уже расширение текста, а не преобразование
формулы, центром которой является глагольная форма с уточ-
няющим наречием. Если можно так выразиться, «моральное
старение» формулы материально воплощается во все большей
архаизации формы ключевого слова; от древнерусской, вполне
разговорной формы навыче — к искусственной форме аориста
обыкох.
Происходят и дальнейшие изменения текста. В византий-
ском житии краткая констатация факта: «и бысть отроча пре-
мудро зЬло»; Нестор развертывает это, вводя новые действую-
щие лица: «всЪмъ чюдити ся о премудрости и разумЪ Д'Ьтища»;
5*
67
Ефрем несколько сокращает разросшуюся формулу, доводя а
до законченной синтагмы: «а инЪмъ чюдитися таковому дЪтищ!
разуму», но он сохраняет самое название юноши: теперь этс
дЪтище — т. е. совсем ребенок, а не отрок (отроча)—тот, кто
приступает к учению вместе со всеми («прочая дЬти»); в позд-
нейших текстах эта формула также распространяется (кал
у Саввы) или полностью исчезает.
К числу традиционных для византийских образцов отно
сится мотив отрицательного примера. Нестор вводит такое опи
сание: «и къ дЪтьмъ играющимъ не приближаше ся.. . и гну-
шаше ся играмъ ихъ», оно заменяется одной синтагмой у Ефре-
ма: «к сему же на игры съ инЬми не исхожааше»; но оконча-
тельный вид мотив получает у Епифания, который соединяет
словесные формы обоих предшественников: «к дЪтемъ играю-
щим не исхожаше и к ним не приставаше». Характерно возвра-
щение к описательной полноте Нестора, но в новой наполнен-
ности синтагм, которые стали лаконичными и вполне нейтраль-
ными по стилю. И в этом случае развитие формулы приводит
к освежению образа посредством новых слов (как у Саввы)
или к устранению из текста оборота, ставшего штампом. На эту
стилистическую особенность житий следует обратить особое
внимание. Строгий автор нетерпим к штампу. Он пользуется
формулой в пределах смысловой границы текста, но избегает
словесного повтора.
То, что смысловая рамка существует, не изменяясь во вре-
мени, показывает сравнение текстов Нестора и Саввы. У Не-
стора отрок гнушается сверстников, и у Саввы говорится о том,
что отрок «не приставааше» к сверстникам, потому что их не-i
вольное, без злого умысла «глумление» может вызвать его
страдания. Такова характерная для поздних текстов особен-
ность агиографии: в них разрушается единство повествователь-
ной линии (только об одном герое), в рассказе появляются и
другие лица. Поскольку это свидетельствует о разрушении
исходных формул, первоначально увязанных друг с другом
грамматической общностью, происходит изменение самих грам
матических форм, уже преобразованных в живой речи.
Наряду с этим текст Епифания Премудрого расширяется за
счет указания на то, что отрок сторонится не только детей, но
и взрослых. Обычное для него троичное усиление включает в
себя и формулу «иже в пустошь текущим и всуе тружающимся
не вънимаше», которую Вассиан доводит до завершенности син-
тагмы: «о неполезныхъ же и о пустошныхъ ни мало брегий»
(с архаическим причастием и синтаксическим грецизмом — от-
сутствие второго отрицания при глагольной форме брегий).
Попытки перестроить повествование были у Епифания и Па-
хомия. Пахомий устранял все, что не касалось непосредственно
героя, в том числе и ’«отрицательные примеры», убирал других
лиц рассказа, умело строил общую его перспективу и потому
68
Нуждался в разработанных синтаксических формах: его текст
переполнен причастными оборотами и придаточными предло-
жениями с архаическими союзами. Епифаний же еще больше
усиливает градации своих оценок, создавая своего рода «сим-
фонию чувств», но делает это посредством стилистических раз-
личий, повторов и т. д. Ему нужны краткие предложения, не
превышающие отдельной синтагмы, и нейтральные синтакси-
ческие средства. Синонимических форм должно быть много,
но в таком случае все они не могут быть одинаково архаич-
ными, поскольку смешение разностильных форм нарушит кра-
соту повествовательных формул в целом. У Пахомия и Епифа-
ния разное отношение к повествовательному времени. Первый
предпочитает план прошлого; Епифаний оживляет действие
формами актуального настоящего; употребляет причастия на-
стоящего времени, сам презенс, использует оттенок длитель-
ности имперфекта; он не декларирует вечные истины, а живо-
писует непостоянство жизни.
Мы не касались пока текстов Василия и Аввакума. В них
прерывается традиция изложения древнерусского жития, при-
чем Василий развивает до логического конца линию Пахомия,
а Аввакум — линию Епифания. Можно было бы сказать, что
таковы две национальные традиции, но, может быть, точнее
видеть в этом разное отношение к языковому материалу и со-
держательной стороне текстов. Импрессионизм Епифания и на-
турализм Аввакума одинаково не подходят под термин «реа-
лизм», однако в противопоставлении другому типу жития общ-
ность их произведений проявляется четко: они предпочитают
живую конкретность той абстрагирующей силе, которая от ча-
стого использования теряет смысл и превращается в формаль-
ный штамп. Как и в других жанрах, в жанре жития начало
структурно-стилистического раздвоения мы наблюдаем в XV в.,
что усиливается в XVI в., а резкая противоположность двух
типов достигается в XVII в.
Идейная и стилистическая установки сказываются на языке
жития. Изменяется синтаксическая перспектива предложения.
В ранних текстах каждая синтагма присоединяется каким-либо
союзом (чаще всего и, а), и это создает последовательный ритм
всего текста. Епифаний, сохранив этот принцип на более высо-
ком уровне фразы, организует ритмическую последовательность
синтагм с помощью однозначных морфем — корней или флек-
сий («не приставаше... не вънимаше... не водворяшеся»); сти-
листически маркированы теперь не начала синтагм, а их завер-
шения. Пахомий в общем делает то же самое, хотя у него мар-
кированными могут оставаться и начала синтагм, напри-
мер причастие начинает синтагму, причастие ее и завер-
шает («устрабивъшу жесь отроку... от всЬх любим бывает и
почитаем», «устрабившу ему... вданъ бысть» и т. п.). Этот спо-
соб двойной грамматической отмеченности синтагмы, будучи
69
избыточно сильным по выражению действия, оказался непро-
дуктивным, в результате чего происходило непроизвольное рас-
пространение синтагмы до фразы; в каждом таком обороте
фраз становилось не менее двух, поскольку было несколько
предикативно важных единиц. Назойливое повторение одина-,
ковых форм утяжеляло слог, и словесный образ исчезающей'
синтагмы превращался в штамп.
У Вассиана и Саввы постоянной формы начал или заверше-
ний синтагм нет, но маркированы несомненно их концы. Имен-
но в конце формулы размещается рема высказывания, для по-
вествования становится важным уже не «данное» (тема),
а «сообщаемое» о теме (т. е. рема). У Нестора одинаково важ-
ны были обе части сообщения: «и хожаше по вся дни въ цер-
ковь бжию послушая божствьныхъ книгъ»; хожаше и послу-
шал равным образом относятся к отроку, церковь и книги —
одинаковые объекты его действий и тоже равноправны в сооб-
щении (в лингвистическом смысле это пример наложения двух
синтагм, которые перебиты вставочной связкой: «и хожаше по
вся дни», «и хожаше въ церковь божию»). Ключевые слова
синтагм неявным образом повторяются в сознании, поскольку и
сами синтагмы в «нормативном образце» реально существуют
как законченные стилистические и смысловые единства.
Принципы «мысленного удвоения» ключевых слов разно-
образны; например, текст «одежа же его бт> худа и сплатана»,
по существу, раскладывается на синтагмы «одежа же его»,
«одежа бт> худа», «худа и сплатана», так что внутреннее их по-
вторение дает общий смысл одежа — худа(я). Ср. также пере-'
бивы синтагм сравнительным яко, противительным нъ, указа-
тельным къ симъ же или о семь же и т. д.
В текстах после Епифания смысловой упор определенно де-
лается на новое, которое и само по себе может быть выражено
формулой; ср. у Саввы, который переносит глагол с начала
или конца высказывания в центр, а ритмической вершиной де-
лает последнее слово: в приведенном отрывке из созданного им
жития это соответственно «седми лЪтъ... на учение грамотЬ»,
«креста господня... именемъ Арсению». Отчасти это связано
с из?ченившейся системой глагольных времен, что разрушило
прежнее единство текста.
В переводных житиях глагольные и причастные формы по
возможности соответствовали греческому оригиналу, и это ясно
из сопоставления первого текста с оригиналом. У Нестора со-
храняется строгое соотношение форм времени, в частности им-
перфект соотносится только с причастием настоящего времени,
аорист же четко противопоставлен по функции имперфекту.
У Ефрема строгое соотношение причастий по формам зремэни
уже нарушено, а имперфект представлен просто как «длитель-
ное» время (в отличие от аориста). Житийный текст вообще
отражает развитие системы времен, и только Епифаний воз-
тл
вращается к строгому соотношению ставших архаичными форм.
Это попытка использовать разрушенную систему в стилистиче-
ских целях, но попытка безрезультатная, поскольку искусствен-
но создать подобную систему долго не удавалось. Достойно
внимания отсутствие дательного самостоятельного, кроме стран-
ного (вторичного или возникшего в результате неловких ис-
правлений) «егда... пришедшу (ему?)» у Епифания. Пахомий
вводит этот оборот как основной структурный компонент житий-
ного текста, хотя при этом создается причудливое смешение
всех наличных глагольных форм; развиваются и увеличиваются
по числу слов конструкции со страдательным причастием, кото-
рое отныне становится ведущим стилеобразующим элементом
литературно-книжных текстов. Исконной последовательности
времен при этом нет, вся система целиком искусственна, цель-
ность текста оформляется по условным правилам, поскольку
Пахомий возвращает имени, имеющему символическое и вооб-
ще образное значение, его основное значение.
Активно развиваются синтагмы с определением. У Нестора
и других они редки и всегда связаны с терминологией хри-
стианства (ср. сочетание «божественные книги» — с полным
прилагательным, но в других случаях краткие прилагательные),
так же и у Ефрема. У Епифания функция полных прилагатель-
ных несколько иная.
Все агиографы после Нестора столь же равнодушны к функ-
циональной последовательности глагольных форм, аорист по-
лучает преимущественное употребление (как у Саввы), а в не-
которых случаях неожиданно проникают и перфекты, ставшие
формой живой речи.
Как обычно, развитие этикетных формул в определенном
жанре косвенно отражает изменения, происходящие в языке. В
частности, увеличение искусственных синтаксических оборотов
восполняет разрушенную систему глагольных времен, поскольку
взамен прежних средств организации цельного текста потребо-
валась столь же четкая и определенная новая его организация.
Высокий стиль повествования заставляет автора Пользоваться
архаическими и заимствованными языковыми средствами, но
искусственность их и некая отрешенность от обычного языка
прекрасно сознаются.
Понятно разрушение этой искусственной структуры текста у
Аввакума и Епифания. Они пишут о самих себе, и употреб-
ление традиционных высоких формул было бы, конечно, не-
скромным, в текстах о себе они не могут претендовать и на воз-
вышенный стиль мартиролога.
Епифаний менее своего «соузника» Аввакума искушен в сло-
везных художествах и говорит ниже: «А что скажу вамъ просто
и вы бога ради собой исъправт'Ь» (Пустозерский сборник, л.
116). У него акцептовано каждое слово в отдельности, и притом
71
намеренно последовательно. Следовательно, и весь текст вос-
принимался как свободно организованный словесный ряд без
прежнего единства традиционных формул. Так оно и есть. Пер-
вые слова отрывка мог бы написать и наш современник, но по-
сле ключевого «азъ грЪшный» происходит незамедлительное
переключение временного плана повествования в безлично про-
шедшее: «идох... и пребых.» Такое переключение не оправдыва-
ется ни содержанием, ни правилами последовательности вре-
мен, перед нами чисто стилистическое переключение, которое в
дальнейшем повторяется не один раз.
У Аввакума больше следов влияния книжной традиции. И'
в составлении текста он не столь свободен, как Епифаний. Ав-
тографы Аввакума показывают акцентовку по синтагмам, а не
по словам, причем ударение обычно выделяет опорное слово
формулы (ср.: «вйдЬвъ у сосъда—скотину умершу»). Если ак-
цептованы два рядом стоящих слова, всегда возникает подозре-
ние, что они относились к разным синтагмам. Ср. такую, каза-
лось бы, странную акцентную последовательность: «мати Ма-
рия инока Марфа»; судя по контексту (содержащему внутрен-
нее противопоставление крестильного и иноческого имен матери
и внешнее добавление к высказыванию об отце), в формуле
сошлись три синтагмы: мати (мне была) —Мария (она же) —
инока Марфа (собственное имя уже не является ключевым сло-
вом синтагмы). Акцентные характеристики синтагм настолько
важны для писателей XVI — XVII вв., что они настойчиво вво-
дят их в текст, несмотря на всю сложность обозначений и доба-
вочный труд. Эта проблема требует специального обсуждения
на основе сплошного обследования акцентованных текстов.
Сопоставление первых синтагм в житиях Аввакума и Епи-
фаппя также поучительно. Аввакум употребляет традиционные
формулы, Епифаний же записывает разговорные фразы. Тем не
менее оба употребляют слова с полногласием, оба безразличны
и к чередованиям полногласных/неполногласных форм, а функ-
циональная близость их формул «рождение же мое» и «родил-
ся я» позволяет вернуться к предыдущим текстам, чтобы про-
верить еще одну особенность языкового воплощения таких фор-
мул. Речь идет об усилении «предикативности» отглагольных
имен. У Нестора употребляется только учение, у Ефрема уже
прилежание, wbHue, почитание, у Епифания славословие, у
Пахомия их все больше: увязение, хождение, и т. д. Увеличение
числа отглагольных имен связано с особой важностью имени
после XIV в. и возникло как возмещение разрушенной системы
глагольных форм. Возникает своеобразная иерархия по степе-
ням глагольности: личная форма — причастие — отглагольное
имя со все большей отвлеченностью смысла, заключенного в кор-
не (основе). Как правило, разные степени отвлеченности соот-
носятся и с различными уточняющими словами, ср.: «Живяху
же въ селцД по простыхъ рЪчи» (Вассиан)—«Рождение же
72
мое в нижегороцкихъ предЪлех» (Аввакум)—«Родился я в
деревнъ» (Епифаний). Перфектная форма глагола соотносит-
ся с диалектным словом.
Лексические, грамматические и фонетические различия от-
четливо видны уже в приведенных отрывках житий. Чем бли-
же к XV в., тем больше искусственно усредненных особенно-
стей нормативного «высокого слога». Нестор пишет (и писец
передает это еще в конце XII в.) на обычном для того времени
языке. Условно «славянскими» можно признать у него только
единъ, единому, облещи ся, все остальные формы либо из живо-
го языка (хожаше, яко, унымъ, одежа, одежю и др., в том чис-
ле изити, изволи, извыче), либо сомнительны как стилистиче-
ские славянизмы (премудрости вместо пр-Ьмудрости). Противо-
поставление русских форм с ж вместо жд (одежа, надежа)
славянским с щ вместо ч (свеща, нощь) характерно и для позд-
нейших текстов и вообще стало нормой литературно-книжного
языка Древней Руси. Усредненно-абстрактный «высокий слог»
как набор бессистемно смешанных архаичных и новых особен-
ностей языка возникает и совершенствуется по мере отдаления
книжного языка от развивающегося русского.
Лексических славянизмов все больше по направлению к
XV в., но одновременно в тексты проникают и русские слова, в
том числе и разговорные, как у Аввакума, даже диалектные
(с гЬхъ мЪстъ ‘с тех пор’).
Но самое удивительное, что постоянно нарастает и набор
синтагм: «яко же обычай есть унымъ», «онъ же о семь не по-
слушааше ею», «яко же всЬмь чюдити ся», «не дошедъ воз-
раста плоти», «въ възрастъ смысла пришедшу», «о семъ родп-
телема радоватися», «пребывайте в дому родителей своих», «и
святыя книгы часто почитающе», «и бысть ему глас, глаголя»,
«трею поприщъ разстояние», «во всемъ имый з!зло крЬпокъ
смыслъ», «божественымъ возрасте страхомъ» и т. д. Их много
особенно у Василия, текст которого состоит только из формул.
Чем традиционнее и выше по стилистическому рангу текст, тем
меньше творческой свободы в отношении языка и стиля, тем
меньше самого творчества.
Глава 5
ХОЖДЕНИЕ - ИСПОВЕДЬ
Хождение — тоже жанр деловой письменности. Путники от-
мечают все необычное, вызывающее удивление, что встретилось
в чужих землях. Благоговейное чувство, связанное с почитани-
ем святынь, невольно заставляет выражаться высоким слогом,
«ибо в Древней Руси в принципе записывалось и облекалось в
литературную форму только лишь религиозно ценное, все же
73
религиозно нейтральное в принципе оставалось предметом не
письменной, а устной литературы» (Трубецкой, 1983, с. 452) —
«записывалось», а не «создавалось». Интересно признание рав-
ноценности литератур устной и письменной, во всем остальном
утверждение спорно: и духовные стихи — устная литература, и
грамоты — литература письменная. Но основное в работе
Н. С. Трубецкого — доказательство того, что хождение — сво-
его рода исповедь об исполненном труда и лишений подвиге,
этот вывод важен. Он подчеркивает основное в жанре, его nc-J
ходную смысловую амбивалентность.
Хождение — не только деловая, но и научная проза. Здесь
излагаются средневековые исторические, географические и дру-
гие сведения о мире. Из описаний ясно, например, что прост-
ранство и время еще не дифференцированы в сознании, по-
скольку отрезки пути до конца XIV в. обозначаются периодами
времени, которое требуется, чтобы их пройти. Синкретическая
нерасчлененность времени и пространства заметна в древней-
ших текстах, ср. у игумена Даниила определение расстояний
формулами: «можетъ дострЪлити добръ стрЪлець» (ППСб.,
т. 3, 1885, с. 63), «можетъ доверечи мужь каменемъ малымъ»
(с. 44), «яко довержетъ» (с. 15), «яко дважды дострЬлити мо-
жетъ» (с. 26); конкретно через действие, движение он одновре-
менно указывает и время, и расстояние. Это народное исчисле-
ние долго сохранялось и всегда было связано с конкретными
указателями на местности (море, гора, долина — для простран-
ства; дни, месяцы — для времени).
Для последующих хождений образцом стало «Хождение»
игумена Даниила, оно же •— наиболее полное по объему произ-
ведение этого жанра. Текст написан мастерски и в своем соста-
ве содержит много оригинальных синтагм, впоследствии утра-
ченных литературным языком. Они не развились в формулу, а
позже не стали штампом. Это подчеркивает авторскую индиви-
дуальность Даниила, одновременно объясняя обилие русизмов
в его произведении.
«Хождение» Даниила игумена (1106—1108 гг.)
Ту бо море Седомское . близь отъ пути того . изходитъ духъ зноснъ
смердишь . зноитъ и попаляеть всю землю ту (ППСб.. т. 3, 1885, с. 42).
/Иорданъ же рЬка течетъ быстро . бреги же имать обопъ полъ прикруть.
а бтсуду пологи; вода же мутна велми и сладка пити . и нЬсть сыти
пиюшс воду ту святую . ни съ нея болЪть . ни пакости во чревЬ челове-
ку . ВсЬмъ же есть подобенъ Иорданъ къ рЬцЬ СновьстЬй — и вширь, и
въглубле, и лукаво течетъ и быстро велми, якоже Сновь рЬка (Там же,
с. 45).
Море же Содомьское мертво есть . не имать въ себь никакоже живот-
на . ни рыбы, ни рака — нисколка, но обаче внесеть быстрость Иорданьская
рыбу въ море то, то не можеть жива быти ни мала часа, но вскорЬ уми-
раетъ; изходитъ бо изъ дна моря того смола черная верху воды тоя, и ле-
житъ по брегу тому смола та много; и смрадъ исходить изъ моря того, яко
от сЬры горяща; ту бо есть мука [мука. — В. К.] подъ моремъ тЬмъ (Там
же, с. 56).
74
Хождение состоит из ряда законченных в смысловом отно-
шении ритмико-синтаксических отрывков (тем), которые по-
строены по принципу рамочной конструкции: начальным словом
(или понятием, словесно варьирующимся) рамка и заверша-
ется. Все три отрывка, взятые для примера, это показывают:
<Ту бо море... всю землю ту», «Иорданъ же рЪка течетъ бы-
стро. .. течетъ и быстро велми, якоже Сновь рЪка», «море же...
подъ моремъ тЪмъ». В этом нет ни намеренности, ни стилисти-
ческого изыска. Каждый фрагмент появляется как законченное
целое в определенный момент путешествия и впоследствии толь-
ко обрабатывается. Не случайно все повествование построено
на формах презенса, формы же аориста очень редки и употреб-
ляются преимущественно в авторских отступлениях о припоми-
наемых событиях (сказахъ, испытахъ и т. д.).
Построение текста отражает свойственное тому времени
представление о законченности как о полном кольцевом оборо-
те. Повествовательная рамка, наполненная рядом синтагм с
определенным лексико-грамматическим набором, должна иметь
завершение, эквивалентное началу; отмечены начала — как у
рамки, так и у синтагмы; завершения либо повторяют марки-
ровку начала (в рамке), либо распределяются в общем смысле
высказывания (у синтагмы). Союзы и частицы создают неус-
тойчивую, но ясную перспективу повествования (ср. чередова-
ние частиц и союзов бо, же, и, а, ни); определенное значение
имеет и употребление склоняемого постпозитивного члена, ко-
торый исполняет роль определенного артикля при повторении
слов или локальном уточнении (ср.: «пиюще воду ту», «вне-
сеть.. . въ море то», «изъ дна моря того», «по брегу тому» и др.).
Постпозитивный член обычно обнаруживается в текстах, близ-
ких к разговорной речи, как впоследствии у Аввакума; он всег-
; да соотносится с определенным прилагательным и дублирует
J его при повторе, а повторение слова или морфемы — важная
; функциональная особенность древнерусского и вообще народно-
; разговорного языка (ср. сначала «море же Содомьское», а за-
. тем постоянно «въ море то», «моря того», «подъ моремъ тъмъ»
; и т. д.; или: «вода же мутна велми» с дальнейшим «соотнесени-
: ем» «воду ту святую»).
В маркированной начальной части высказывания обычно
: стоит имя — в широком, не грамматическом смысле. Для писа-
теля XII в. важно то, о ч е м говорится, а не то, что именно о
нем сообщается; в принципе ничего нового никто сказать не
может, а извечность святыни внушает уважение и трепет. От-
сюда столь поразительное равнодушие к самим формам глаго-
ла. Кажется, у глаголов нет никакой системы и они безразлич-
, но разбросаны по всему тексту. Включение в состав сказуемого
i причастий и прилагательных еще больше ослабляет роль лич-
I ных форм глагола; распространенность форм презенса отража-
i ет ту же синкретичность смысла, которая вообще характерна
75
для этого жанра. Презенс здесь одинаково означает актуальное
настоящее, безразлично постоянное, обычное, длительное и т. д.
действие. Это скорее связка, чем полнозначный глагол, поэтому
он часто чередуется с инфинитивом, основное значение которо-
го— указание на конкретное действие без побочных, для тек-
ста несущественных глагольных категорий. Потому же в пре-
зепсной форме представлены и вспомогательные глаголы имать,
есть, суть и под. И вот в такой семантически «пустой» части
синтагмы как раз и возможно употребление церковнославян-
ских глагольных форм, например формы с префиксом из- для
обозначения удаления (изходить духъ вместо русского выхо-
дить духъ). Полной уверенности в церковно-книжном проис-
хождении этой формы все-таки нет, поскольку сам Даниил «иг-
рает» сочетанием, свойственным древнерусскому языку; напри-
мер, какова приставка при глаголе, таков и предлог после него
при управляемом имени (ис-ходити изъ, въ-ходити въ).
В тексте нет синтаксических славянизмов, сочинительные
конструкции преобладают, а подчинительные союзы служат
главным образом для включения сравнения (яко). Тем не ме-
нее перед нами образец своеобразной научной прозы, и автор
всегда объясняет смысл увиденного. Не символический, как по-
лагалось бы в путешествии по святым м’естам, но реальный.
Делается это путем повторения мысли, но с помощью глаголь-
ных форм; ср. последовательность предложений с опущенным
вопросом: «Изходитъ духъ зноенъ смердящь» — отчего? — ибо
и вследствие того, что «зноитъ и попаляеть всю землю ту»;
«море же Содомьское мертво есть» — отчего?-—ибо и посколь-
ку «не имать въ себъ никакоже животна»; «и смрадъ исходить
изъ моря того» — отчего? — по внешней причине, «яко от сЪры
горяща» — а по сути (известной всякому страннику по святым
местам) «ту бо есть мука [т. е. геенна огненная] подъ моремъ
тЪмъ» и т. д. Такова третья особенность этих текстов — их ло-
гическая нерасчлененность, сжатая в образную характеристику
границами традиционных формул.
И здесь, и далее мы сталкиваемся с доминантной особен-
ностью хождений — с обилием паратаксических сочетаний с
союзами а, и, но, что составляет своего рода принцип «агглюти-
нативного усилия» в последовательном присоединении все но-
вых и новых высказываний, накопленных соответственно попол-
нению информации; возможно, подобные фразы и записывались
одна за другой, последовательно. В таких записях всегда ощу-
щается живая речь их авторов.
В тексте много русизмов, но самое главное — не поддающая-
ся никакой подделке атмосфера разговорной речи, пропитанная
живой интонацией и незаметными на первый взгляд бытовыми
оттенками (ср., например, уменьшительные лавица, оконца, те-
ремець, крестьци, каморка, горница, церквица, клЬтьскы и т. д.),
как будто Даниил описывает не святые места, а усадьбу своего
76
князя; ассоциации с родными местами на чужбине возникают
часто, и даже Иордан напоминает родную речку Сновь.
Постпозиция определенного прилагательного как бы продол-
жает древнейшую последовательность двух равноправных имен:
«смола — черна» то же, что и «смола черная», «море — мертво
(есть)» — позже «море мертвое»; ср. также прилагательные от
собственных имен: «море Содомьское», «быстрость Иордань-
ская», «къ рЬцЬ СновьстЪи» (но: «Сновь ръка»). Сравнение с
другими текстами (например, со «Словом о погибели русской
земли») показывает, что подобные остатки древнейшего поряд-
ка слов в традиционных атрибутивных сочетаниях сохранялись
долго, отражая народное восприятие признака прежде всего
как постоянного признака. Прилагательное может стоять перед
определяемым, но только если отделено от него другим словом:
«худаго моего добыточка».
К древнейшим типам сочетаний относятся и двухсловные
обороты типа стыд и срам; ср.: «но токмо радость и веселье
бываеть тогда въ сердци всякому христианину» — речь идет
здесь об одном человеке, но в собирательном смысле, так что
исходный образ этого оборота несколько теряется. Ср. другие
синтагмы такого типа: «не возносяся ни величаяся», «то его
есть и отчина и родъ», или при описании зданий, «хитро и див-
но исписано» и «дивно и хитро создана», «у камени изсъчени
дивно и чюдно», или совсем развернуто: «установлена отъ бога
дивно и несказанно... утверждены отъ бога нЪкако дивно и
страшно». Слово дивно всегда определяет участие в деле бога,
творческие усилия человека отмечаются словом хитро: «хитро
и несказанно», «хитро и изрядно» и т. д., «[вода] студена зЬло
и сладка велми», «воду сладку и студену», «велико велми и зЪ-
ло красно». Повторения распространяются и на вспомогатель-
ную лексику: «горъ верху написано есть мусиею»; зРло и велми
равнозначны и одинаково служат для усиления качества: «вы-
соко зЪло»— «высоко вельми», «великъ зъло» — «велика вель-
ми». На равных правах сохраняются разновременные по проис-
хождению двучленные обороты «шюю — десно» (как и опреде-
ления «правую — лЪвую»).
В древнем тексте почти полностью отсутствуют сложные по
составу слова, в том числе и суффиксальные: «впреки и вдалъ»,
как и «вширЪ и вглубле», остаток обозначений конкретного рас-
пределения пространственных ориентиров в форме местного па-
дежа; столь же архаичны и конкретны по смыслу другие наречия
(прикруть) и формы типа лиць, на сопъ, лапь, сыть. Имена с
отвлеченным суффиксом типа быстрость или пакость очень ред-
ки в других жанрах, но в «Хождении» Даниила они встречают-
ся часто.
Особого внимания заслуживает традиционный вопрос об
употреблении полногласных/неполногласных форм. В приведен-
ных отрывках отмечаются только неполногласные слова, и на
77
этом основании можно было бы говорить о славянизации тек-
ста; но такое заключение было бы ошибочным. В оригинале
«Хождения» разграничения полногласных и неполногласных
форм еще не могло быть, поскольку процесс фонетической ста-
билизации полногласны?; форм к началу XII в. не завершился
(Колесов, 1980, с. 69 — 75). Многочисленные древнерусские
тексты отражают этот процесс, и в качестве переходных от не-
полногласия к полногласию дают написания типа гродъ иля
злото. Цитируемый список «Хождения» относится к XVI в., а
к этому времени процесс перераспределения полногласной и не-
полногласной лексики завершился уже и семантически. Срав-
нение различных списков «Хождения» показывает большое чис-
ло полногласных форм, причем безусловных словарных русиз-
мов типа болоние, доверена, которые всегда даны именно в
такой форме. Полногласный вариант хотя бы в некоторых спис-
ках дают слова с колебанием ударения или с ударением на
корне. Ср. «на востокъ лиць близъ суть ворота городнаа» с уда-
рением «ворота городнаа» или «ворота городнаа»; одновремен-
но возможно и книжное «отъ вратъ градныхъ». Трудно вос-
становить исходное распределение форм в тексте, использование
неполногласных вариантов в приведенных примерах определя-
ется общими правилами акцентовки синтагм: все такие слова
в составе сочетания не имели ударения на корне, т. е. по брегу,
й смрадъ, бреги же, и сладка пити, во чревр и др. До полного
завершения всех процессов падения редуцированных, т. е. до
конца XIV в., произношение указанных слов в границах син-
тагмы могло сохранять исходное «неполногласие».
Грамматические славянизмы обычно проявляются в виде
фонетически закретенных и возникших много позже искусст-
венных книжных форм: воды тоя, от ерры горяща— на месте
исконного их или древнерусского Р; фонетический русизм на-
ложился на морфологический славянизм, дав усредненно услов-
ную «морфонологическую» норму. Сейчас невозможно решить,
как были представлены подобные формы в первоначальном тек-
сте, но другие памятники предпочитают р. Въ себр при древне-
русском въ собР тоже может быть результатом выравнивания
форм, проявившегося в поздних списках, как и архаическая
форма пмать.
В зависимости от предмета описания изменяется и ритм по-
вествования: раздумчивое, соотнесенное с удлиненными синтаг-
мами, описание Мертвого моря, стремительная смена коротких
синтагм при описании быстрой реки. Неосознанность этой
с'зд’ы ритмов очевидна, но в каждом случае использованы раз-
ные по структуре п объему синтагмы.
Дпевперусский писатель достигал эстетических целей как бы
непреднамеренно, однако современный читатель найдет у него
и первоклассные образы, и живое, овеянное теплым чувством
повествование. Образность рассказа определяется образностью
78
самого слова, часто к тому же сохранявшего древние значения,
теперь уже неясные. Образность и в отдельном слове, и еще
более в сочетании слов, — это образность языка, а не художест-
венная образность. «И нЬсть сыти пиюще воду ту» — не гипер-
бола, а констатация того факта, что пресная вода не утоляет
жажды; «вода же мутна велми», «лукаво течетъ»— не метафо-
ры, потому что слово мутный одновременно означает и ‘стреми-
тельный’ (ср. глагол мятеть), почему и возникло замутненный
-поднимающий пл и песок’, а лукаво — ‘извилисто’ (луко-
морье— залив, излучина моря).
Язык хождений хорошо изучен (Русановский, 1985, с. 123 —
127, тут же литература вопроса).
Сравним несколько текстов из разных хождений, используя
по возможности описания тех же мест, что и у Даниила.
«Хождение» Добрыми Ядрейковича (Антония) (1200—1204 гг.)
У царьскихъ дверей иже есть мЬдянъ романистъ, рекше наровъ [вар.:
наравъ], въ ниже замычють и заключивають райския двери; ту же народъ
накладываютъ у вратъ мужъ и женъ, да аще кто будетъ ядъ змииный
снЬлъ или отравление каково, то не можеть его выняти изо ръта, дондеже
вся злоба изыдетъ слинами изо устъ (ППСб., т. 17, вып. 3, 1899, с. 8).
«Хождение» Стефана Новгородца (1348 г.)
А вь Царьград, аки в дубраву велику в.ч.ити: без добра вожа не воз-
можно ходнти, скупо или убого, не можеши видЬти ни цъловати ни единого
святого, развЬ ш: праздники которого сслтого будеть, то же видЪти и цЪло-
вати (ПЛДР, т. 4, 1981, с. 40).
Единому человЬку въставят [икону. — В. /(.] на плеща встанно, а он
руць распрострет, аки распять, такоже и очи ему запровръжеть, видети
грозно, по буевишу мычет его сЬмо и овамо, велми силно повертывает им,
а онъ не помнит ся, куды его икона носит (Там же, с. 34).
«Хождение» Агрефения (1370-е гг.)
Иордань нее рпка течет в Содомъское море и
моря исходят смола варь, соль садится при брези,
т. 16, вып. 3, 1896, с. 17).
ту сконьчася. Ис тогож
сЬра около его (ППСб.,
«Хождение» Игнатия Смольняннна (1391 г.)
Иердань же река глубока и крутоберега и грозна велми, течетъ же въ
Содомское море. . . Море же Содомское тамо, гдЬ Содомъ и Гоморъ седмь
градозъ, ипыя же земля пожерла есть, а ины грады море пожерло есть,
курит же ся и нынЬ дымомъ изъ моря того, а который грады земля по-
жерла, а тамо не растетъ ничтожъ, толко ctpa горючая, а травы нЬсть
(ППСб., т. 4. вып. 3, 1887, с. 22).
«Хождение» Зоспмы (1-120 г.)
Ерданъ же река быстра и велми глубока, а не широка, бережиста, а вода
въ ней бела; вст5пи[ти] въ нею — ино по кольну. А идетъ съ ноши въ полу-
дна, а идетъ въ Мертвое море, потопило Содома и Гомора. И поидохъ
воз.тЬ 'йергвое море и напдоша на ны злыи араполове и возложиша на мя
раны доволны и оставиша мя въ полы мертза, отъидоша восвояси (ППСб.,
т. 8, вып. 3, 1889, с. 19—20).
79
Для заметок.
Для заметок.
лики сообщают в формах аориста, но в объяснительной часп
употребляют и перфект («а ины грады море пожерло есть» j
Игнатия, «потопило» у Зосимы). В границах жанра постепенно
возникает дифференциация грамматических форм, и пока он:
вполне соответствует распределению глагольных форм време
ни в древнерусском языке, даже в отношении сложных фор.»
(«да аще кто будетъ... снГлъ» у Добрыни).
Все тексты нейтрального стиля имеют слова и формы, общи
для книжных и русских синтагм. Возможные фонетические ела
вянизмы: аще, аки, вин. мн. райския двери, езеро, единого, ш
плеща, седмь градовъ, которыя грады, съ нощи, свЪща, но ия
противостоит большое число столь же условных русизмов: вож
мъдянъ, такоже, язъ, ядъ, с®ра горючая, горячая, мочно и под
Легко заметить разную степень насыщенности текста фонети
ческими и грамматическими славянизмами. В XVII в. это стано
вится настолько обычным, что у Гавриила славянские формь
преобладают, а для текстов Василия и других обнаруживаем
большое колебание по спискам. Происходит, как можно видеть
постоянная славянизация первоначально нейтрального по стили
и языку текста.
Это заметно на увеличении числа неполногласных форм
У вратъ, Царьградъ, при брези, градовъ (всегда в традиционш
книжном сочетании: седмь градовъ), чрезъ (вместо чересъ), н(
только дорогъ, дороги с ударением на корне у Василия; смрад
на, сланое (последнее гиперизм), прелетЬти, по брегу, но j
Добрыни встречаем также у терема и даже обратный гипе-
ризм мороморъ вместо мраморъ; в устойчивых сочетаниях «н<
правой (лЪвой) страна», но в русских словах крутоберега, бе
режиста, у Игнатия вранъ, на лЪвой стран® и гиперизм кора
молниковъ. У Зосимы примеров полногласия еще много, причеь
отчетливо выделяются типично русские слова (перевозъ, хо
рошъ) или слова в составе архаических синтагм («лежит гла
ва» — о святом). У Афанасия в приведенном отрывке семанти-
ческое разведение форм: «ИндЪйскаа страна», но в описанш
человека — волосы и голова; характерно в тексте Гагары: во
лосы и голова дают колебания (например, в других списках
«не станетъ пи брады ни на головй власовъ»); конкретное зна
чение сохраняется у русских полногласных слов, отвлечена
собирательное значение у остальных слов допускает коле
бания.
Сравнение списков демонстрирует широкое расхождение тек
ста как раз во внешней передаче славянизмов и русизмов. Н;
двух примерах покажем неправильность вывода о церковносла-
вянской основе языка хождений даже у таких знатных путеше
ственников, как церковные деятели. Добрыня и Агрефений.
В списке XVI в. еще больше русизмов (Белоброва, 1977)
чем в ранее изданном тексте Добрыни (Антония). Фактичесю
в нем встречаются только полногласные формы, что вообще ха
рактерно для древней новгородской письменности: сторона, пе-
лена, колодязь, постоянно огородъ, огорожено, переходъ, пере-
городъ, в русском городе (но в Царьграде), при переносе, до-
рогой, у ворот и др., хотя в устойчивых сочетаниях великый
праздникъ, глава (святого), только сребро (но это не рефлекс
полногласия), обозначение предметов, сделанных из золота,—
златъ. Мороморъ ранних списков уже непонятно переписчику,
и он искажает слово в морюморъ, хотя есть и написания мра-
моръ и мроморъ. Заметно, следовательно, усиление полноглас-
ных форм, причем возникает дифференциация употреблений в
стилистически разных формулах и специализация их в зависи-
мости от значения слова. В XVI в. представлен тот момент раз-
вития взаимных отношений слова и формулы, когда они расхо-
дятся грамматически, дифференцируя морфологию и синтаксис,
однако это усложняет и распределение морфем с полногласием.
Прежде ясное расхождение между zpadjeopod (в зависимо-
сти от характера сочетания) теперь отчасти расплывается в но-
вом противопоставлении семантики слова — отвлеченное/конк-
ретное.
Та же тенденция отражена во вновь найденном списке хож-
дения Агрефения XVI в. (Прокофьев, 1975). Полногласие рас-
пределяется по тому же усложненному принципу, но неполно-
гласных форм тут больше, хотя русские слова всегда даются в
полногласном варианте: «Галилея гора сторонь Възнесения», «съ
два перестрела», «в три соломяна».
Одновременно происходит изменение текста, из которого при
переписывании устраняются не только высокие архаизмы, но и
ставшие неясными диалектные слова: кошница, ореветъ пашню,
улица в значении ‘коридор’, утлизна, соломяна, на обЪднп
годъ, глызы и под. Иногда признается необходимым пояснение
значений некоторых слов; так, например, в упомянутом списке
хождения Агрефения: «ту варят стипси, а по нашему квасы»,
«протор, по грецки фалаки, а по нашему темница», «по нашему
глаголется клада, а по грецкому клана» и др. (Прокофьев,
1975, с. 138, 140). С конца XIV в. изменяется прежнее указание
на расстояние, ср. у Агрефения: «дострГлити из лука», «на вер-
жение камени» (как у Даниила), а у Игнатия уже отвлеченные
славянизмы: «за два поприща» и т. п. Сохраняется также рус-
ская форма вспомогательных строевых слов, например, токмо
заменяется на точию начиная с текста Познякова и позже.
Таким образом, можно предположить еще большее число ру-
сизмов в исходных текстах хождений, учитывая, что до XIII в.
многие из особенностей еще не устоялись в языке, не только в
норме. Дальнейшее развитие жанра хождений повторяет разви-
тие других жанров древнерусской литературы. С одной стороны,
происходит разделение их по функциональной направленности,
с другой — перераспределение наличных языковых средств по
принципу «русское — церковнославянское». Усиление славяниз-
ь*
83
мов происходит с конца XIV в. при одновременном усилении ру-
сизмов в «параллельном» типе бытового повествования.
Чем ближе к нашему времени, тем отточепней и традицион-
ней текст теперь уже церковнославянского языка. Но тем боль-
ше в подобных текстах штампов, порожденных расхожими
прежде формулами. Перестав варьироваться всеми доступными
способами, они неизбежно превращаются в идиому, если семан-
тически используются в новом контексте, или в штамп — если
формально обслуживают старые контексты.
Глава 6
ПОВЕСТЬ — СКАЗАНИЕ
Поскольку древнерусская литература основывалась на об-
разцах, ей необходимо было выработать свои эталоны повест-
вования, национальную символику текста, привычные формулы,
с помощью которых впоследствии можно было бы «объяснять»
все новые сходные события и факты.
В «Повести временных лет», собственно, представлен набор
самых разных жанров и типов словесного выражения. Этот па-
мятник стал не только родоначальником серии последовательно
сменявших друг друга исторических сочинений (летописец, хро-
нограф, история), но и посредником в распространении сюжетов
и формул традиционных жанров средневековой литературы.
Совмещая все это в границах одного памятника, летописец со-
здавал возможность для столкновения разных формул, смеше-
ния языковых форм и, в конце концов, усреднения стиля, кото-
рый иногда так и называют «средним стилем» древнерусского
языка (Русаковский, 1985, с. 119). Отсюда устойчивый интерес
лингвистов к языку древнерусской летописи (Филин, 1949; Ла-
рин, 1975, с. 194 — 218; Творогов, 1962; Львов, 1975).
В границах летописи вырабатывались свои символы. В ча-
стности, символической аналогией к библейской истории Авеля
и Каина стала история с Борисом и Глебом, злодейски умерщ-
вленными их старшим братом Святополком, названным за это
Окаянным, т. е. проклятым, и также по созвучию с именем
Каин-, в конце концов, книжник мог употребить и слово про-
клятый, что больше соответствовало бы литературному языку
того времени.
Вся русская литература до XVIII в. использовала эти об-
разы национальной истории, которые заслонили их ветхозавет-
ных прототипов; такая же замена происходила и впоследствии,
время от времени историческая необходимость вызывала появ-
ление своих, русских святых; вместо традиционных имен за-
полнялась очередная «пустая клетка» функциональной системы
нравственно-установочных образцов.
84
Точно так же и тексты, описывавшие подобные события,
становились образцами, которым подражали, а формулы, выра-
ботанные в их границах, обогащали литературный язык сред-
невековья. Без Нестора с его «Житием» у нас не было бы
представления о «типе» Феодосия Печерского с характерным
для последнего обликом (и, следовательно, свойственным толь-
ко этому жанру формуляром, во многом заимствованным у
греков); без Епифания с его «Житием» у нас не было бы пред-
ставления о «типе» Сергия Радонежского со столь же своеоб-
разным характером мировосприятия (а в связи с этим и ново-
го образца повествования, в свою очередь пополнившего фонд
литературных формул).
Первоначальный текст приходится восстанавливать по со-
хранившимся редакциям, поскольку все они являются только
вариантами «пратекста». Исследователю никогда не известен
инвариант, поскольку автографы сохранились в считанных
случаях. Так, например, обстоит дело с древнейшим литератур-
ным памятником восточных славян — «Сказанием о Варяге и
сыне его Иоанне» (о событиях 983 или 978 г.).
Этот текст известен в двух стилевых формах — как лето-
писный рассказ-притча и как проложное (краткое) житие.
Последовательное сопоставление двух текстов по сохранившим-
ся спискам (см.: Колесов, 19816) показывает, что переписчики
летописи передавали текст буквально, как записал его соста-
витель Древнейшего летописного свода 1039 г., и так вплоть до
списков XVI в. (только в шести случаях замечены по спискам
незначительные замены слов). Зато переписчики проложной
редакции при неоднократных переписках изменили чуть ли не
каждое слово и уж во всяком случае формы многих слов.
В передаче прямой речи героев почти нет никаких различий,
сделаны лишь некоторые сокращения. Таково уважение к чу-
жим речам: сказанные когда-то слова были сутью действий, а
в этой легенде именно на речах строится все повествование.
Самое начало и самый конец повести различаются по ре-
дакциям. Это определяется общим окружением текста, в кото-
рое он попал, жанром произведения, частью которого наш текст
со временем стал, а также задачей, которую ставил перед со-
бой редактор: хронологическая статья в летописи — и сказание
о страдании за веру в прологе.
В зависимости от жанра находится выбор предлагаемого
традицией варианта. В летописи — русский вариант, в проло-
ге— славянский (ср., например, лексические соответствия ва-
риантов типа треба — жертва, старци — бояре и под.).
Особенно интересны расхождения в формульности выраже-
ний летописи и пролога. Многие синтагмы древнерусского текста
в прологе выражены формулами высокого книжного варианта:
«взя землю» — «побъди» («разъяша дворъ» только в летопи-
си), «жребий на отрока и дЬвицю» — «на сыны и дщери наша»,
85
«бяшеть Варягъ единъ»— «бяше нЬкто человЬкъ божии Ва-
рягъ родомъ», «творяше требу» — «творяше жертву» и др., при-
чем не всегда такие эквиваленты имеются в прологе («стояше
на сЬнехъ», «держаше въ тайнЬ»). Это ие конфронтация двух
литературных «языков», которые непонятны без перевода. Оба
текста литературны, оба содержат почти равное количество
«славянизмов», которыми в наше время условно измеряют сте-
пень литературности древнего текста. Текст пролога в этом
смысле «литературнее», но только за счет архаизмов, хотя те-
перь не ясно, насколько архаичными могли быть подобные фор-
мы с XI по XV в. В составе синтагмы «бяшеть Варягъ единъ»
встречаются фонетический славянизм (единъ) и грамматиче-
ский русизм (бяшеть), а в прологе им соответствуют строго
одностильные славянские варианты. В этом, пожалуй, и отли-
чие: в летописном тексте представлено причудливое смешение
архаизмов и новых форм, разного происхождения слов и т. д„
тогда как пролог — законченно обработанный ритуальный
текст. Стилевые смешения в прологе запрещены; они, по-види-
мому, уже вполне сознаются, особенно в поздних списках.
Единство стиля и создает представление о нормативности тако-
го текста. Однако для истории древнерусского литературного
языка важнее как раз летописный тип, потому что в его гра-
ницах происходит дальнейшее развитие языка и стиля.
Текстообразующие элементы различаются по редакциям, что
доказывает сознательное изменение текста. Повествовательным
временем в летописи являются аорист и имперфект, а в проло-
ге к ним прибавляются формы причастия. В летописи возмож-
ны только согласуемые формы кратких причастий, эквивалент-
ные современным деепричастиям: они сохраняются в составе
формул. В прямой речи обычны настоящее время и перфект.
Эта важная подробность указывает на двуплановость текста:
временная ось повествования не соотносится со временем, вы-
ражаемым в прямой речи. Возникают две параллельные систе-
мы, которые связаны друг с другом только посредством нелич-
ных форм, например, императивом или причастием. Разговор-
ная реплика функционально равнозначна цитате из Писания
в церковных жанрах, это одновременно и композиционный
центр повествования, и движущий действие (размышление) ар-
гумент. Большинство древнерусских текстов является как бы
развитием одной цитаты-фразы, развитием темы посредством
накопления подтверждающих формул-синтагм.
Имеет смысл рассмотреть принцип построения исходного
текста, а также направления в его развитии, чтобы яснее пред-
ставить характер и форму развития средневекового языка в
высоких образцах.
Остановимся на формуле боя — важного компонента после-
дующих воинских повестей, связанных со светской стороной
жизни.
86
Паремийное «Чтение о Борисе и Глебе»
И се ему рекшю, и поидоша противу сему, и покрыта поле Льтьское
обои отъ множьства вой. Бь жь пятъкъ тъгда . въсходящю солнцю
приспК бо вотъ чинъ Святопълкъ с пЪченЬгы . и съступишася обои . и
бысть сЬча зла . якаже не была въ Руси . И за рукы ся емлюще сЬцаху .
и по удолиемъ кръвь тьчаше . и съступишася тришьды и омеркоша биюще-
ся . И бысть громъ великъ и тутьнъ . и дъжгь великъ . и мълния блиста-
яие . Егда же облистаху мълния . и блистахуся оружия в рукахъ ихъ . и
мнози вКрнии видяху ангелы помагающа Ярославу . Святополкъ же . давъ
плещи . поб-Ьжь... Ярославъ же пришьдъ и седе Кыевь . утьръ пота съ
дружиною своею . показан побъду и трудъ великъ . по брату своею
(ПДРЛ, вып. 2, 1916, с. 120—121).
На месте отмеченного многоточием пропуска ср. контекст из
Лаврентьевской летописи (л. 49):
К вечеру же одолЪ Ярославъ, а Святополкъ бЪжа. . . испроверже зяК
животъ свои (ПСРЛ, т. 1, 1926).
Нам неизвестен оригинальный текст, поскольку в самых
древних вариантах находим разночтения, в том числе и в от-
ношении синтагм: они видоизменялись в зависимости от жанра,
в структуру которого входили. В «Сказании о Борисе и Гле-
бе»1, например, такие варианты: «и бысть СЬча зла отинудъ»—
книжное слово заменяет целый перифраз «якаже не была въ Ру-
си»; «и бишася чересъ дьнь вьсь» заменяет более лаконичное
«и омеркоша биющеся». Воинской формулы «давъ плещи
побъжь» нет не только в летописи, но и в «Сказании», но
именно в последнем впервые появляется устойчивый оборот «а
сь оканьный Святополкъ поб-Ьже». Свобода вариации позволяет
сжимать и расширять формулы в зависимости от авторского
замысла, последний же легко понять по характеру изменений,
в том числе и языковых. Так, текст летописи можно считать
формально русским, тогда как паремийные чтения архаизова-
ны и насыщены славянизмами (по всем спискам; следователь-
но, так было и в оригинале); ср.: «за рукы ся емлюще съцаху»,
что в летописи передано как «за рукы емлюче сЪцахуся»; «пои-
доша противу сему» в летописи передается формулой взаимно-
сти: «противу себц» (т. е. друг на друга).
Легко видеть, что весь текст фактически состоит из одних
формул, которые могут группироваться по разным основаниям.
Образность текста создается путем столкновения образного со-
держания формул. «И мълния блистание» порождает новый об-
раз: «егда же облистаху мълния. и блистахуся оружия в рукахъ
их». В «Сказании» также есть образ блистающего оружия, но
1 Это самый ранний памятник древнерусской агиографии (создан около
1071 г.), основанный на тексте первоначальной летописи и на устных леген-
дах; впоследствии (до 1115 г.) возникла переработка Нестора «Чтение о Бо-
рисе и Глебе» (Еремин, 1966, с. 18—27; 1968, с. 17—21); о языке памятника
см.: Мещерский, 1981, с. 52—56.
87
в другой связи: в момент убийства Глеба мечи в руках убиш
«блыцашася акы вода» — т. е. в них отразился блеск вод реки
Они не могли блистать подобно молнии, поскольку действ»
происходило около воды и не во время грозы; в первом случа
оружие не могло блистать подобно воде, поскольку речь идет ।
молнии. Таков реальный план описания. Символический пла;
раскрытия темы углубляет образ, поскольку о мечах убий1
нельзя сказать, что они сверкают подобно молниям: об оружш
праведных, карающих за «окаянство», так сказать не толью
можно, но и нужно, и слово повторяется три раза. В летопиа
этого образа нет, поскольку второй план рассказа снят вовсе
Позднее в руках православных мечи всякий раз будут блистал
«акы млъниа» и уже независимо от реальности; это отвлечен-
ный символ, не связанный с конкретностью данного события,
«Снятый» с реального действия в виде формулы, смысл фор-
мулы консервируется в отвлеченном символе.
В процессе бытования текста как образца и его формул как
литературных клише происходит постепенное обновление фор-
мальной стороны их формы, как бы вслед развивающемуся
языку — неосознанно, и по причинам идеологического характе-
ра, возвышения и стилизации — вполне сознательно.
Рассмотрим ;пличные случаи обноглсппя словесных форм
в традиционной формуле1:
«якаже не была въ Руси» становится архаизмом в связи с
развитием видовых отношений у глагола, с XV в. происходит
заме.ча формы глагола на «не бывала» (Ипат., Радз.), а затем
дальнейшее расширение синтагмы: «не бывала такова» (Ника-,
нор., Никон., Твер. и другие летописи XVI в.);
«яко по удолиемъ крови тещи» — инфинитивный оборот,
книжного происхождения неясен, и он преобразуется: «кровь
течаще» (Ипат.), «кровь течааше» (Воскр.), «кровь ручьемъ те-
чаще» (Твер.); в Радз. сохраняется первоначальная форма, но
в митрополичьем своде она переделана при сохранении грам-
матического смысла книжной формы: «крови текущи» .(Ни-
кок.). Расхождение между двумя типами книжной речи прини-
мает разнообразные формы, но тенденция расхождения всегда
видна. В русской традиции устраняется инфинитив и распро-
страняется формула, эксплицируется при этом важнейшая сема
ключевого слова; в церковной текст архаизуется, по возможно-
сти сохраняется исходная форма, хотя и она приводится в со-
ответствие с развивающимися категориями языка (в данном
случае — видовыми);
1 При сопоставлениях использованы следующие летописи: Воскр.—
Воскресенская XVI в. (ПСРЛ, т. VIII, 1859, с. 326); Ипат. — Ипатьевская
XV в. (ПСРЛ. т. И, 1908, с. 131); Никои. — Никоновская XV! в. (ПСРЛ,
т. JX. 1862, с, 76); Никанор. — Никаноровская XVI в. (ПСРЛ, т. XXVII,
1962, с. 24); Радз. — Радзивилловская XV в (СПб., 1902, л. 82); Твер.—
Тверская XVI в. (ПСРЛ, т. XV, 1863. с. 138—139).
88
«а Святополкъ бъжа» — с XV в. побЪже, а затем побЪжа
как усредненная форма искусственного аориста без осознания
внутренней связи с производящей глагольной основой. Катего-
риальные связи в новом типе книжного языка вообще остаются
нераскрытыми (в этом можно убедиться на многих примерах),
но следование традиционной форме всегда осознается как
главная задача писателя;
«и несяхуть й на носилЪхъ» (в последующем рассказе о стран-
ствиях изгнанного Святополка)— такое же усреднение импер-
фектной формы без строгого соответствия основе и категории
вида: носяху и носяхуть, затем несоша, а после всего и полисе
разрушение сочетания пу:ем внесения аналитической глаголь-
ной формы, характерной для нового литературного языка: «на-
ча й на носилехъ носити».
Для разных редакций и списков летописи отмеченные заме-
ны обычны, но все они показывают, что к ведущим преобразо-
ваниям системы русского языка — категориям вида, залога, оду-
шевленности, числа и т. д. — переписчики относятся как к на-
сущной необходимости исправления старой синтагмы, хотя бы и
книжного происхождения. Зависимость от разговорной речи тем
самым осуществляется на глубинном (категориальном) уровне.
Мы уже отметили, что в русском варианте литературного
языка происходит постоянное расширение текста за счет рас-
пространения синтагм. Возникает обычная для народного со-
знания экспликация основного (идеального) признака путем
выделения его из устаревающей формулы в виде отдельного
слова. Наглядно это представлено в более поздних текстах,
которые не стали нормативным образцом и потому более под-
вержены изменениям. Рассмотрим начальную формулу боя в
«Сказании о Мамаевом побоище», которое имеет множество
не совпадающих по стилистике и формульности редакций-ва-
риантов (Колесов, 1979).
По списку Ундольского1 последовательность появления син-
тагм такова.
«ПриспЪвшу же великому празднику Рожству святыя Бого-
родица, сви-тающю пятку, въеходящу слънцу, бысть же утро
мгляно.»
1 В сопоставлениях использованы следующие списки и редакции «Сказа-
ния о Мамаевом побоище»: Волог.— Вологодско-Пермская летопись (ПСРЛ,
т. XXVI, 1959, с. 328—341); Древн. — Летописец древний (Рукопись: БАН,
31.7.30, т. II. л. 19 сл.); Забел. — Забелинский список (Повести о Кули-
ковс.ко : битве, М., 1959, с. 165—206); Лонд. — Лондонский список (ПСРЛ,
т. XXVI. 1959, с, 328—341); Михайл, — Михайловский вариант Основной ре-
дакции (Русские повести XV—XVI вв. М.: Л., 1958, с. 16—38); Осн.—
Основная редакция (Повести о Куликовской битве, с. 43—76); Печати.—
Печатный список (РИБ, т. III, кн. I. М., 1838, с. 1—68); Погод. — Погодин-
ский список (Повести о Куликовской битве, с. 111 —162); Синод. — Сино-
дальный список (Сб. ОРЯС, т. 81. 1906, с. 3—37); Унд,— Распространенная
редакция по списку Ундольского (Шам бин аг о С. К. Сказания о Мамае-
вом побоище. СПб., 1907).
89
Отрывок этот целиком церковнославянский, но за ним чув-
ствуется исходный текст, который, как полагают (вслед за
А. А. Шахматовым), воплощен в «Слове о Куликовской битве»,
сложившемся в среде участников похода сразу после сражения.
Что это не лишено оснований, показывает сравнение с другими
списками «Сказания о Мамаевом побоище», каждый из кото-
рых значительно отличается от остальных. Расширялся сам
текст и составляющие его синтагмы, сначала обозначилось
смешение формул разного происхождения, а затем произошло
полное замещение исходного текста церковнославянским по
словесному наполнению.
Первый дательный причастия сомнителен при множестве
вариантов: приспЬвшие в Печати., приспЬвши в Осн., прист
в Синод, списках, в Михайл, форма опущена. Повторение же
доказывает вторичность начального оборота, ср. вариант в
Древн.: «Тоя же нощи свитающу мсца сентября в 8 день, на
праздники Рожества пречистыя Богородица и въсходящу солн-
цу и бысть мгла велиа по всей земли, аки тма и до третьаго
часа дни, и потоми пачя убынатп». Таков самый распростра-
ненный текст - - летописный вариант, в который включены про-
межуточные этапы его расширения. В представлении летопис-
ца, чем подробнее рассказ, тем точнее он отражает события,
На пути к созданию такого текста находится несколько ва-
риантов.
Указание на месяц, а затем и день находим в списках
Печати, (только месяц) и Осн. (месяц и день, как в Забел.);
в Михайл., который вообще избегает книжных оборотов и, ви-
димо, точнее отражает исходный текст, сказано просто: «На
утрии же день, на восходе солнца бысть утро мгляно». Это со-
вершенно русская фраза во всех ее синтагмах. Остальные спис-
ки отражают книжное влияние, так как в них постепенно рас-
ширяется текст, касающийся праздника богородицы: он все бо-
лее распространяется эпитетами: «великому празднику и на-
чальному дни спасения роду христианскому Рожеству святЪе
Богородицы, свЪтающеся Христову Воскресению» в Печати.,
так же в Осн., который немного испорчен в этом месте,
Обращает внимание замена форм; пречистыя в Древн. уже в
совершенно церковной формуле, тогда как в исходном тексте
«Сказания» следует предполагать особо распространенное пс
спискам русское сочетание «святЪй Богородицы» с преобразо-
ванием в процессе переписки в церковнославянскую формулу
«.святыя Богородица».
«Свитающю пятку и въсходящу слънцу» в списках Унд., По-
год., Осн., Лонд. с некоторыми орфографическими заменами;
ср. искажение в Печати.: «свътающеся Христову Воскресению
свЬтлому и восходящу солнцу»; вариант Михайл, приведен вы-
ше, а в Забел, «святящю пятку восходящу солнцу» — т. е. ре-
зультат механического воспроизведения первоначальной синтаг-
90
JHM, ее непонимание. Список Осн. идет дальше всех и завершает
.весь фрагмент дательным самостоятельным: «мгляну утру су-
щу». Таков конечный результат последовательных замен искон-
ного текста новыми формулами, «возвышающими» смысл опи-
сываемого события. Четкая синтаксическая перспектива, пред-
ставление о которой дают отчасти Михайл, и Древн. списки,
перекрыта безлично-абстрактным набором нескольких (четы-
рех!) дательных самостоятельных, которые снимают сложность
повествовательного описания, заменяя ее однозначным и тради-
ционно безличным восхвалением. Читатель настраивается на
возвышенное чтение.
Последовательность накопления дательных самостоятельных
в тексте идет от начала фрагмента к концу: «приспЬ же празд-
никъ... приспевъше сентебрия праздники... приспьвшу же ве-
ликому празднику...» и т. д. с постоянным расширением син-
тагмы до самостоятельной и законченной фразы. В процессе
кристаллизации текста определенное значение имеет и заимст-
вованная из «Слова о полку Игореве» праформула с «зара-
пия въ пятъкъ»; можно попять «утру свитающу», но непонятно
«свптающю пятку» — это несомненно реминисценция из того же
«Слова», но одновременно и обращение к традиционной житий-
ной формуле, известной, например, в переводном «Житии Алек-
сея, человека божия»: «свитающю же пятъку.».
Еще один формульный ряд по списку Унд.: «Не бЬ> бо иол-
кома еще видитися, яко утро мгляно толми, земля грозу пода-
вающи... поле же Куликово прегибающеся, рЬкы же отступи-
ша из мЬстъ своихъ».
Сначала расширение текста идет с добавлением формул, ср:
«Полцы же еще не видяться, занеже утро мгляно, но вельми
земля стонет, а ту грозу подает... поле же Куликово прегиба-
ющеся, вострепеташа лузи и болота, рЬки же и озера из мЬстъ
своихъ выступиша» (Печати.); «Поле же Куликово видением
яко прегыбатися, рекы же выступиша из мест своих, яко мно-
гим воем по ним бродимым» и т. д. (Погод.). Образ взволнован-
ного перед битвой поля создается в тексте сравнением с яко
путем описания конкретных масс людей и водоемов. Дальней-
шие добавления касаются уточнений в границах синтагм: «вы-
ступиша из мЪстъ своихъ из бЬреговъ» (Лонд.), «выступиша
из мЬстъ тЪхъ» (Волог.), «кровавые реки выступающе из мЬст
тЬхъ» (Синод.) и вплоть до прямых искажений текста.
Постепенно преобразуется и синтаксическая структура тек-
ста. Исходная формула «полци еще не видяться» заменяется
искусственным оборотом «не бЬ... видитися». Большинство
списков дает русскую синтагму, которая искажается в ходе пе-
реписываний: «полки же еще не видети друг друга» (Михайл.),
«полцы же еще межу собою не видятся» (Забел.), «еще полк
с полком не видится» (Синод.). Трудность состоит в передаче
идеи взаимности, соотнесенности вражеских полков: противни-
91
ки еще не видят друг друга, и бой откладывается до десяти 41
сов утра. Средствами живого языка было еще трудно переда)
такой смысл косвенно-возвратных глаголов со взаимным знач
нием, способы выражения этих отношений постоянно развиваю
ся, и по разным текстам средневековых грамот (так нагляднее
можно восстановить последовательность в отработке формул!
«А то раздЬлиша собЪ братеникъ по жеребью» — «раздел
ста си землю по ДнЪпру» — «розд-Ьлиша с я Максимовы д!
ти земли» — «роздЪлиша промежъ собе землю и села» •
«разделили между собою» (современная конструкция); и
ходная форма прослеживается в «Слове о полку Игорев!
(«трупиа себр дЪляче»), Развитие образа зависит от послед!
ватсльных стадий преобразования грамматически зависимы
слов, служащих для выражения взаимности действия; возник,
ют переходные случаи, как в Забел., но и исходная синтагм
также возможна в «Сказании» XV в. Переосмысление грамм,
тических свойств слова происходит пока в синтагме и завис!
от контекста, но каждая новая переработка традиционного ш
мятника требует, по-видимому, изменений формы синтагмы
соответствии с нормами своего времени. Сначала кардинальна
трудность преодолена путем создания искусственного книжног
оборота с дательным в двойственном числе, взаимность отпоше
ний лаконично показана грамматически в форме ключевого ело
ва синтагмы. Можно сказать, что развитие данной формы :
списках происходит таким образом от Печати, через Михайл. 1
Унд., в котором уже совмещены безличный оборот «не бъ» i
инфинитивная часть «еще не видети друг друга». Искусствен
ность синтагмы — естественный результат долгого ее склады
вания. Книжный характер полученной в результате формул!
определяется и замыслом текста, и намеренным отталкивание!
от характерных для разговорной речи того времени синтагм
«Книжность» литературного текста создается не сразу, она воз
никает как следствие долгой и сознательной работы над тек
стом. Если использовать крылатое выражение, «обработанный
мастерами» вариант наглядно развивается перед нами в прав
ках текста.
Устаревшие слова также заменяются в рамках синтагмы.
Текст «уже бо рускы князи укрЪпишася гласомъ трубнымъ»
(Унд.) имеет варианты по спискам: окрЬпшиася (Осн.), что за-
меняет более раннее окротеша (Погод.), которое стало непонят-
ным в описании воинов, оглохших от рева труб; «труби мнозк
гласитися» (Унд.)—обычное расширение: «трубы великы «
многы» (Лонд.), «трубы ратные многы» (Осн.), «и трубы гла-
сити и арганы бити и многи сурны гласящи» (Забел.) и т. д.
Наряду с заменой более точным словом, чему предшествует под-
бор соответствующего префикса (окротеша — окррпишася —
укррпишася), возможен и другой путь: в описание вводятся но-
вые детали, которых не было, но появление их объясняет смысл
^старевшего слова; в данном случае речь идет о конях: «кони
В: окротЪша от гласъ трубьныхъ» (Лонд., также и Волог., Си-
|од.). Лексические замены в текстах производятся обычно для
Освежения» словесного образа, ставшего неясным. Этим, в
Ьою очередь, вызвано расширение текста. Образность слова
!йимается за счет образности текста, переработка касается как
>аз описательных средств создания образа, ср.: «труби мнози
йаситися» (Унд.), «трубы гласити мнози» (Погод., Михайл.),
гтрубы ратные многы гласити» (Осн.), просто «трубы гласити»
(Забел.)—все эти варианты близки к народной традиции, тог-
la как «начаша гласы трубныя» (Лонд., Печати.), «начата
гласы трубити» (Волог.), «трубы мнози трубити» (Синод.) во-
йодят к книжным синтагмам. «Трубы голосят» — вольное соче-
тание, поскольку глагол уже изменил свое значение; распрост-
ранены также и тавтологические сочетания, и конечным резуль-
татом ряда замен становится новое «трубы трубятъ» (Лонд.);
это вызывает, в свою очередь, перекомпоновку сочетания «гла-
Сомъ трубнымъ».
: Возникает вопрос, важный для понимания художественной
силы средневекового памятника. Вопрос этот связан с перено-
сом словесного образа на синтагму. Пока прямое значение
книжного по форме слова гласити сохраняется (не столь кон-
кретное, как у разговорного голосити; известно гласити ‘испус-
кать звуки’ в русском тексте XI в., см.: Срезневский, I, стлб.
518), не возникает никакой потребности заменять его другим.
Ио как только в результате метонимического переноса гласити
Связывается со значением ‘голосить’ (о человеке), что прежде
всего отразилось в полногласной форме (см.: Сл. РЯ XI —
IXVII вв., вып. 4, с. 68), незамедлительно возникает необходи-
мость заменить другим, но по-прежнему «безобразным»: трубы
трубятъ. Из всех глаголов сохраняется только конкретно номи-
нативный окротеша. Преобразование синтагмы имеет пределы,
фа которыми начинается новый образ, а значит и новая форму-
ла. Вот почему для средневекового писателя художественный
:-образ разлит непременно в тексте.
Подобных лексических замен в тексте «Сказания» много.
Рассмотрим еще некоторые из них. Во время сражения засад-
гный полк, видя поражение русских, «не мог победы тръпити»
(Унд., также Печати., Синод., Погод.). В списках Осн., Волог.
иначе: «падение русскых сынов не мога трьпЬти», а в Лонд.
переход в развитии темы: «падение..-, не могы победы трьпЪ-
ти». Победа — поражение, связанное с бедой, то, что последует
за битвой в случае ее неуспеха; словесный образ понятен и не
раз обыгрывается в тексте (ср. ответ Дмитрия Боброка: «БЪда
велика, княже»). Впоследствии прямое значение слова стало
неясным, его также заменяют другим и опять-таки в результате
вариативности текста: «не мог терпеть победы» — «падения по-
беды»—«падения». В самом близком к народной поэтике ва-
93
рианте обычная для былин синтагма: «великую победу кресть-
янскую» (Михайл.), что напоминает смысл фольклорного «ве-
ликая головушка победная».
Еще ниже «буявии сынове рускые» (Погод.) и рустии в Пе-
чати. заменяются на «сынова же рустии» (Михайл.) или совер-
шенно книжный оборот «мудрии сынове рустии» (Унд.), кото-
рый лишает поэтичности всю речь Боброка, особенно в связи с
одновременным преобразованием традиционного дружинного
оборота «есть вамъ когда и възвеселитися» в «утешитися есть
с кымь». Ср. еще: «отдадимъ въздание противникомъ, толко бо-
га призывайте» (Унд.) заменяется на «въздарие отдати вра-
гомъ нашимъ» (Волог.) с промежуточными вариантами, снача-
ла заменой книжного «воздание» на привычное «воздарие»
(Осн., Печати., Лойд.), в Михайл, только «отдадаимъ воздарие
седмерипею».
«Выехаша изъ дубровы зелены, аки соколы изучены, удари-
шася па многи на жоровины стада» (Унд.) заменяется на «вы-
седоша из дубравы зелены» (Осн.), что древнее по смыслу гла-,
гола, хотя и не сохранилось в народной поэтике; там,судя noi
варианту в Михайл., «поскочиша из дубравы зеленыя». Даль-[
непшая архаизация оборота, искусственная по сути, а оттого!
неправильная по форме, представлена в Лонд.: «выедоша». Спе-
циальное «аки соколы изучены» также становится неясным, и
возникает множество замен: «упоженныя» (Волог.), «искусни»
(Погод.), «искушеныа» (Осн., Лонд.), но в переработках, близ-
ких по языку к былине, и такие уточнения оказываются непо-
нятными, в них возникает иной образ: «соколы отревающеся от
златых колодиц» (Забел.), «аки яспыя соколы» (Михайл.). У
третьего глагола из приведенного текста изменяется только фор-
ма: ударишася — ударилися (Осн.), или глагол отревающеся,
как мало понятный в тексте, устраняется (Михайл.).
И тут словесный образ, данный в исходном глаголе, затем-
няется описательным в книжном сравнении: «аки соколи иску-
шеныа урвалися от златых колодиц» (Осн., также Забел., Ми-
хайл.), хотя в целом сочетание характерно для народной поэзии:
полногласная форма для терминологического слова, неполно-
гласная для постоянного эпитета.
Предпочтение окончательной синтагмы «татары кричат» в
действительности опять-таки — стилистическое усреднение исход-
ной образной формулы: кликънувше заменено на крикнувъше
в Лонд., глаголюще в Погод., одновременно кликнувше и глаго-
люще в Осн. В тексте «уншии бо с нами бранишася, а добрии
все соблюдошася» (Унд.) прилагательное уншии как устарев-
шая форма превосходной степени заменяется на худие (Погод.)
или распространяется в «уншия люди »(Волог.), добрии поэтому
заменяется на доблии в Погод, и Осн., доволнии в Лонд. и т. д.,
а бранишася, получив к этому времени переносное значение,
заменяется на брашася (Лонд., Осн.), биющеся (Погод.) и т.д.
Несовпадение вариантов антитезы по спискам отражает после-
довательность замены в постепенно устаревающем обороте. В
конечных синтагмах каждого фрагмента церковный писатель
дает себе полную волю и добавляет такое количество традици-
онных формул, какое способна выдержать его память, или пока
этот поток не обрывается цитатой: «скрегчюще зубы своими, де-
рущи лица своя» (Унд.).
Сопоставление формул «Слова о полку Игореве» с форму-
лами художественно переработанных текстов (например, в «За-
донщине») может показать направление в развитии этих фор-
мул. Воспользуемся сводным материалом, представленным в
работе В. М. Григоряна (1978, с. 15 — 22).
Замечено, что чаще всего имеет место расщепление исходно-
го образа на две составляющие: «уныли голоси, пониче веселие,
трубы трубятъ Городеньскии»—-«веселие мое пониче и трубы
их не трубят, и уныша гласи их». В текст вводятся малоинфор-
мативные частицы, местоимения или союзы, которые отчасти
смещают синтаксическую перспективу текста, но в целом, вы-
являя синтаксические связи, прежде не выраженные формально,
сохраняют «всю образно-метафорическую структуру источника»
(Григорян, 1978, с. 8). С последним трудно согласиться и по су-
ществу, потому что метафоры как таковой нет в «Слове», для
которого характерен метонимический перенос (Лихачев, 1985, с.
190 сл.): сохраняется не исходная образность, а исходная цель-
ность текста.
Во-первых, устраняются устаревшие слова, уже непонятные
в XV в.: в тексте «сулици своя повръгоша... подъ тыи мечи ха-
ралужпыи» вместо слова сулици — оружие, слово оружие име-
ет определение руское; ср. и другие замены: «мою ладу» —
«моего господина», «пръвыхъ временъ усобиц^» — «первых лЬт
времена», «неготовами дорогами» — «неготованными дорогами»,
«не лЪпо ли ны» — «не лудчи бо», «тугою» — «бИдами и тугою»
(тут как бы глосса к устаревшему слову), «яругы» — «лугы»
и т. д.
Во-вторых, с новой системой обозначений соотносятся все
традиционно символические соответствия, происходит их пере-
вод в иную систему семантических координат, ср.: слово орлы
вместо соколы, словосочетание иные словеса вместо старые сло-
веса, гораздыя персты вместо вЪщие персты, не комони, а кони,
а также не песнь, а поведение; т. е. «начати же ся тъи пъсни
по былинамь» заменяется на столь же развернутую аргумента-
цию, но в ином виде: «начаша ты повЬдати по дЪлом и по бы-
линамъ».
В-третьих, параллельно происходит и перевод словесного
образа с конкретным уточнением, свойственным новому времени:
«пробили еси горы» — «прорыла еси горы»; «а Донъ шеломы
выльяти» — «вычръпати»; «затворивъ ворота» — «замкни (воро-
95
та)»; не «кричать», а «кличет», «что ми звенить» — «гр'Ьмитъ»,
«главу свою приложити» — «головы своя положити» (с повто-
рением), «поля прегородиша» — «поле огородиша», «крычатъ
тьлдгы» — «въскрип-Ьли телегы», «наведе своя храбрыя плъ-
кы» — «уставиша соб-ь храбрыя полъка» (при повторении ис-
пользован глагол поеждяем), «да позримъ синего Дону» — «и
посмотримъ быстрого Дону» и т. д. Такая замена внешне как
будто утрачивает образность, но это образность сочетания, уже
не воспринимаемая в XV в., поскольку и сама синтагма разру-
шилась, и слова изменили свое значение. Автор «Задонщины»
старательно избегает метафоры, как это свойственно и самому
«Слову». Он стремится конкретно и точно сказать о том, что
было: телеги скрипели, а не «плакали» или «рыдали»; поле не
перегородили, а именно оградили, Дон невозможно вылить, но
его можно вычерпать и т. д. Следование логике повествования
в духе делового документа с устранением всякой ложно поня-
той образности — стилевая доминанта древнерусской литера-
туры, и переносные значения многих слов самого «Слова о пол-
ку Игореве» возникли достаточно поздно.
Сюда же относится и несовпадение в четвертой группе схож-
дений— в вариантах постоянных эпитетов. Только немногие из
них повторяются («синии млънии»), другие, как «свЪтъ
овЪтлыи» (последнего нет в «Задонщине») и «чисто поле» или
заменяются (вместо «чръныя тучя» — «великиа тучи»), или
уточняются (вмёсто «златыи шеломы» — «злаченые»), но появ-
ляются также и новые эпитеты типа «с вострого меча», которых
в «Слове» не было.
Морфологические замены уточняют представление о харак-
тере семантических замен. Аористы и перфекты взаимозаменя-
емы в текстах «Слова» и «Задонщины», но предпочтение тех или
иных форм заметно по контексту: «уныли голоси» >в «Слове», но
«уныша гласи ихъ» в «Задонщине», «пом-ьркоста» в форме
двойственного числа преобразуется в перфект «померкло», гла-
гол в синтагме «жены руския въсплакашась» заменяется пер-
фектной формой «восплакалися», фраза о том, что дева обида
«въсплескала лебедиными крылы» видоизменяется в текст с
аористной формой «лЪбЬди крилы въсплескаша», «русская зем-
ля» не «въстона», как в «Слове», а «въстонала» и т. д. Во всех
случаях заметно желание автора в самой грамматической форме
соотнести уровни повествования — либо отвлеченного и высоко-
го, либо конкретного и бытового. Архаические формы безусловно
отвергаются при переработке текста: это особенно заметно при
устранении многих имперфектов, которые заменяются формами
настоящего времени. Неполногласные варианты обычны для вы-
ражения отвлеченных понятий, но в конкретном бытовом описа-
нии справщик текста не останавливается даже перед тем, чтобы
«врани граяхуть» заменить на «вороны грают»; иначе обстоит
дело с наречным словом: «у Курьска напереди» — «напреди
96
твоихъ», однако «стоиши на борони»—«на боронь» (полногла-
сие сохраняется).
Таким образом, «Задонщина» не просто подражание «Сло-
ву». Это своего рода перевод текста на язык XV в., но в соот-
ветствии с текстообразующими установками своего времени.
Переработка распространяется не только на формулы или стиль,
но и на самый сюжет, который должен обновляться так же, как
и язык, и стиль. Одно с другим связано. События Куликовской
битвы нельзя описать в «народной манере» иначе, как используя
традиции образцового текста, таким текстом в данном случае
признается «Слово о полку Игореве». Но повторять его форму-
лы об уже забытом походе князя Игоря было бы нелепо, по-
скольку такой текст не обладал бы никакой информативной цен-
ностью. Между тем прагматические соображения о важности
«поведения» (сказания) все еще остаются главным движущим
мотивом при создании новых текстов.
Одновременно изменяется характер социальной жизни, про-
исходит дифференциация ее форм. Это требует преобразования
художественных форм, тем более, что изменился и язык. Важ-
ной становится общая идея произведения, уже не связанная с
традиционно церковной идеологией. «Народность идеи влечет
за собой и свободное проникновение в книжный рассказ худо-
жественных средств народного эпоса. Так литературное повест-
вование получает фольклорную в узком смысле слова окраску»
(Адрианова-Перетц, 1951, с. 136—137). Но это не все. «У пове-
стей того времени есть еще один характерный признак. Созна-
ние преимущества своей национальности заставляло книжников
не так уже сторониться своей народной песни. И вот ее мотивы
и образы вошли в этикетную речь XVI века» (Орлов, 1908,
с. 346). Прежние формы уже затрудняли восприятие новых сто-
рон жизни, становились тормозом в усвоении духовных, куль-
турных и научных знаний; развитие родного языка достигло та-
ких степеней силы и гибкости, которых уже .не мог дать по-
влиявший на это изменение книжный язык. Новое можно было
понять и объяснить только на новом языке.
Непостоянство, смысловую текучесть средневекового текста,
особенно оригинального, показали А. А. Шахматов, И. П. Ере-
мин, Д. С. Лихачев и другие историки литературы. Современ-
ность решительно вторгалась в традиционный текст, каждая
социальная среда выдвигала собственную версию событий, из-
меняя все, вплоть до жанра. Так происходит, в частности, и
стилевое раздвоение древнерусской воинской повести. Нет еди-
ного и замкнутого «текста», поскольку текст подчиняется поли-
тическим, идеологическим и культурным установкам времени.
Древнерусская литература не застойна, она развивается, но
развивается в рамках освященной традицией темы, композиции
и на основе малых композиционных форм — плача, слова, речи,
рассказа, афоризма, библейской цитаты или воинской формулы
7 Ь'слссов В. В.
97
и т. д. Одновременно, приноравливаясь к системе современного
языка, обновляются и формы литературной речи. \
На пути к синтетической художественной форме, классичф
ской для русской литературы прошлого века, — роману — руй
скал беллетристика прошла сложный путь постоянного столй
новепия двух тенденций: специализации языковых и стилевы!
средств в зависимости от авторской установки на идею текста-^
и сосредоточения этих средств в границах общего жанра (в пер|
вую очередь, жития, поскольку этот жанр допускал последовав
тельное усложнение такого рода). В одном случае тексты былй
одностильными, в другом — намечалось столкновение и усреда
нение стилистических средств, а это последнее — ориентация нй
средний стиль — и оказалось важным в дальнейшей стабилиза^
вии среднего стиля как ведущего стиля нового литературного
языка. В средневековой литературе среднего стиля не было. Erd
роль исполняли нейтральные формы, общие для различных иф
точников и сосредоточенные в пределах синтагмы.
Так, известно несколько последовательно возникавших ре-
дакцпй-текстов «Повести о разорении Рязани Батыем», каждый
из которых, в соответствии с идейным замыслом и породившей
его социальной средой, обусловил выбор художественных’
средств, а также изменения в языке, в частности «обрастание
синтаксических рядов этикетными деталями и уточнениями за
счет новых церковных формул» (Евсеева, 1985, с. 8). Развитий
формул воинской повести, особенно в XV — XVII вв., хорош#
изучено (Орлов, 1902; Орлов, 1908). Можно сделать некоторые-
выводы.
Жития и хождения обнаружили тенденции к архаизаций
языка и усилению традиционной формульности; повести и ска-
зания, больше связанные с бытовыми подробностями изложен
ния, некоторое время соблюдают традиции своего жанра, но все
же обновление языка наблюдается в них за счет включения
разговорных слов и следования новым образцам народной ли-
тературы.
Наглядно последняя тенденция заметна на текстах более
позднего сложения, таких, как «Повесть об азовском взятии» и
«Повесть об азовском осадном сидении». По разным редакциям
этих текстов видно, как от 1637 г. до конца XVII в. усилива-
ются особенности русского языка и народной поэтики в перво-,
начально неопределенном, смешанном по характеру языка тек-
сте (в котором традиционные для повести элементы смешива-
ются с народно-поэтическими и канцелярско-деловыми).
«Повесть об азовско“.1 взятия» (1637 г.)
В то же время в великом донскомъ войску прилучися казак, родом не-
мецкий земли, именем Иван. И атаман Михайло Иванов и все великое дон-
ское войско учали Ивану бити челом, чтобы под тот град Азов под степу
подкоп повел. И тот Иван подкоп под град повел (Орлов, 1906, с. 58).
к ...И в юм диму другь друга не видЪша, и бысть сЬча вглия, другъ
gpyra за руць хваюшс и сЬчахуся и ножами рьзахуся. И бысть от того
Яаса п до зечера зелия и самопалное стрЪляние (Там же, с. 60).
г Первый отрывок — образчик делового текста, второй — тра-
диционно книжного; заметим, что оба они —в составе одного
произведения.
| В варианте Б этого же текста (по изданию А. С. Орлова)
отражено гораздо больше черт народного языка даже в их тра-
диционной трактовке; чаще употребляются полногласные формы,
вводится прямая речь, заменяются неловкие канцеляризмы кос-
венной ее передачи, часто фразы распространяются «как бы для
точнейшего выяснения их смысла» (Орлов, 1906, с. 17), но на
Самом деле обычный прием народной поэтики используется при
Заменах книжных выражений разговорными эквивалентами; при
этом кет специальных оговорок типа «сиречь», «рекше» и т. п.
,(ср.: «да не придутъ» — «хто не будетъ», «пленити» — «в полон
Брати» и подобные). Совмещение книжной и разговорной форм
Происходит без конфликта, и при этом используется типично
народный прием тавтологии с семантическим плеоназмом. Воз-
никают и другие формы разложения традиционных сочетаний,
грамматически разделяются прежде слитные пары; ср.:
: И в тЬ поры у атаманов и у казаков и у всего великаго донского
в запорожского войска бысть великая радость и веселие о государьском
Жаловане и о прибылых людех, и стрелба въ войске была великая из
МЪлково ружя и из болшихъ пушокъ (Там же, с. 66).
Автор не боится повторений, если повторяемые слова—тер-
мины (войско), а навязчивое повторение прилагательного вели-
кий— не просто форма постоянного эпитета, но и грамматиче-
ский признак разложения устойчивых сочетаний. «Бысть ве-
ликая радость и веселие» — второе слово здесь уже
автономно по отношению к новому сочетанию слов, хотя семан-
тические связи их еще сознаются. Словосочетания «стрелба
великая» и «большие пушки» противопоставляются. Поэтому во
втором из них сохраняется старое определение. Разные упо-
требления одного п того же прилагательного дают три грамма-
тически различных формы: постоянный эпитет как общее слово
при прочих определениях («великаго донского войска»), грам-
матический выделитель при сочетании («великая радость») и
предикат («стрелба... была великая»). Грамматическая функ-
ция слова кажется более важным его свойством, чем семанти-
ка, поскольку само слово «опустошено» по смыслу. Великий
здесь такое же вспомогательное грамматическое слово, как связ-
ка быть или союз и.
Изменение жанра отражено и в варианте заглавия произве-
дения. Документальная повесть об осадном сидении
(1641 г.) называется уже не повестью («пэве.тэппем»), а «ска-
занием»; позднее поэтическая ее переработка именуется
«повЪсть сиирЬч история» — теперь это уже не сообщение, а
истолкование, сказ. Документальная повесть — это «списокъсВ
записки съ распросныхъ рЪчей слово въ слово» (тогда как по-
этическая редакция представляет собой переработку первона-)
чального делового текста): \
А оне атаманы и казаки сидели, вкопався въ ямы и здЬлали в земля
тайные дворы. А которыми м-Ьсты турские люди приступали, и под те мЪси
под земляной их вал подвели два подкопа. А таборы их, гдг> турские людй
всякие стояли, толко от града полторы в-Ьрсты (Там же, с. 86). =3
Стиль делового документа здесь господствует, хотя в произ;
ведении слышатся и слова участника событий: протокол доно-
сит до нас живую речь, слегка подправленную книжным син>
таксисом. Все употребления слов терминологические, слова вьц
ступают в прямом значении, традиционных формул малс^
грамматические формы русские. ч
В поэтической повести текст перерабатывается таким обраг
зом, что каждое сообщение делового протокола — это как бы
комментарий, составленный на знании самих событий, пережщ
ваний героев осады (такие комментарии выделены ниже курси-
вом): -
А мы от них сидКли по ямам всЬ, и выглянуть нам из них нелзЪ. И мы
в тЪ поры здЪлали себя покой великой в землЪ под ними, под их валом,
дворы себь потайныя великие подЪлали. Ис тЪх мы потайных своих дво-.
ровъ подвели под них 28 подкоповъ под их таборы, и гЬми мы подкопами^
себъ учинили прямую избаву великую (Там же, с. НО).
Объективность сообщения отчасти перекрыта личными впе-
чатлениями, но включение авторского «мы» потребовало правки
и других частей повести. Прежнее выражение «сидЪли, вкопав-
ся въ ямы» раскрыто путем распространения предложения —;
при переработке сказано просто: «сидЪли по ямам»; поскольку
ясно, где именно казаки «зделали дворы», излишним стано-’
вится сочетание «те мЪста» и т. д. То, что для внешнего наблю-
дателя «тайные дворы», для казаков «покой» и «потайныя дво-'
ры»; общий смысл текста, когда внимание переключается
с внешней описательности на истолкование событий, изменяется
путем замены корректирующих местоимений: вместо «оне»—
«мы». Во второй редакции этой же поэтической повести текст
еще больше расширяется, но уже за счет не добавления пред-
ложений, а корректирующего стиль распространения формулы..
Приводим отрывки первой редакции, чтобы ниже показать не-
которые изменения текста во второй редакции:
Bet наши поля чистые орды наганскими изнасЬяны. ГдЪ у нас была
степь чистая, тут стала у нас однемъ часом людми их многими, что великие
леса темныя. От силы их многия и от уристанья их конского земля у нас
под Азовым потреслася и погнулас, и из реки у нас из Дону вода на береги
выступила от таких великих тягостей, и из м-Ьсгь своих вода на луги
пошла (Там же, с. 98).
100
I* Итак, во второй редакции находим распространения или за-
мены: «великая и непроходимая лЪса темная», «и от силы
?их т у р е ц к и я», «у нас под Азовым городом ъ», «вода на бе-
fper п о к а з а л а с»; есть случаи обновления случайно попавших
в текст традиционных формул: вместо «от уристанья их конско-
го» — т. е. от конской скачки находим «от рыскания коннаго»,
ято, может быть, больше соответствовало принятой у казаков
терминологии. Появляется второе семантически опустошенное
.слово — многие (ср. даже тавтологию: «полатки многия вели-
жия»). Интересно, что постоянные эпитеты еще выполняют пре-
дикативную функцию, поскольку они стоят в постпозиции к оп-
ределяемому имени:
Давно у нас в полях наших хлЬхчютъ орлы сизыя и грают вороны
черныя подлк Дону тихова, всегда воюють звери Ливии, волцы сЬрые, по
горамъ у нас бряшутъ лисицы бурыя, а все то скликаючи, вашего босурман-
ского трупа ожидаючи (Там же, с. 136—137).
Приведенный отрывок — это прямая речь, и она выдержана
в’стиле народного плача. Характерно почти полное отсутствие
причастий, редкие употребления их — в русском произношении
(ср.: «и уста наши кровию запеклис не пиваючи и не Ьдаю-
чи» — с. 145).
Поразительна ритмика произведения. Это былина, хотя по-
этический строй ее еще не сложился в таких законченных фор-
мах, какие свойственны этому жанру в его поздних классиче-
ских образцах.
Глава 7
ПОСЛАНИЕ — НАСТАВЛЕНИЕ
Публицистический жанр возник :в русской литературе в кон-
це XV в. и сначала представлен в виде посланий церковных
писателей. Типологическая особенность послания к «братии»
или «государству» (царю) состоит в обращенности не к конк-
ретному лицу (или личности), а к представляемой им социаль-
ной группе. Постепенный переход от церковной по характеру
публицистики к светской обозначился в связи с полным измене-
нием адресата произведения (оно обращено только к царю'
и последовавшим затем включением светских писателей в публ
диетическую борьбу XVI — XVII вв.
Образцом публицистики XV в. является «Послание на У । ’ • »
Вассиана Рыло, направленное Ивану III около 1480 г. Вот при-
мер текста:
Не послушай убо, государю, таковых, хотящих твою честь в безчестие
и твою славу в беславие преложити, и бьгуну явитися и предателю хри-
стьанскому именоватися (ПЛДР, т. 5, 1982, с. 526).
101
Текстообразующие элементы у Вассиана традиционны-
лие причастий и причастных конструкций, в качестве ш,вес!во|
вательпого времени употреблен аорист, по только при изложЫ
или известных исторических событий; основное повествовател1|
ное время — настоящее и простое будущее, последнее отчастй
пересекается с формами императива. В «Послании» много щй
тат и традиционных формул, плохо понятых аллегорий, которые
неоднократно изъясняются в самом тексте. Ср.: «исходиши прсК
тиву оному окаашюму мыслепу волку, еже глаголю страшливо-;
му Ахмату» (там же, с. 524); «против}... волку» разрослось за='
счет уточняющих определений, но и после этого автор считает
необходимым пояснить аллегорию («мысленый», т. е. вообража-
емый), а затем потолковать, кого он имеет в виду под «мысле-
пым волком».
Некоторые словообразовательные расхождения свидетельст-
вуют о попытке разграничить некогда амбивалентные определе-
ния. Например, страшьный — это и устрашающий’, и ‘боящий-
ся’; в «Послании» освоены книжные образования типа страши-
вый, но в «русской» их форме: страшливый. Смысл приведен-;
ного отрывка: царь Ахмат не страшен Ивану III, наоборот, он
сам боится русского государя.
Пока еще очень редко происходит совмещение в одном со-
четании двух равнозначных слов, пришедших из книжного и
разговорного языков. Во фрагменте «победу над супротивный
ти врагы» слово супротивный подано как определение при тра-
диционно книжном слове, гем самым оно представлено .как сти-
листически нейтральное; но дальше писатель употребляет и бо-
лее понятное царю Ивану выражение: «противитися сопо--
статы» — с однокоренным и тоже нейтральным словом, но в
глагольной форме Характер сочетания еще определяет выбор
нужного слова Устойчивые сочетания не раскладываются на
компоненты, хотя тенденция к этому обнаруживается в тради-
ционном приеме антитезы. В приведенном отрывке оба члена
формулы «честь и слава» разграничены в результате распрост-
ранения каждого из них, однако единство сочетания этим не раз-,
бито смыслу. Вообще Вассиан старается использовать более
знакомое его адресату слово в свободном употреблении: «доб-
рой д у м Р», «въверзи на господа печаль твою» (примеры
и? разных по происхождению синтагм), хотя иногда соединением
разностильных лексем он создает непривычное сочетание, кото-
рое усиливает смысл выражения: «добраго ради совета и ду-
мы», «нынешняя скорби и б'Ьдъ». Вспомогательная лексика
также привязана еще к своим сочетаниям; обычное для текста
русское наречие токмо неожиданно заменяется книжным точию,
но обязательно в традиционном выражении («но точию наших
ради согрешений»).
Русские слова вводятся в текст осторожно и в целом не
противоречат книжной норме, как она установилась в образ-
102
Цах. «Яко бЬгуном скытатися по иным странам» понятно, пото-
му что «бегун» ассоциируется с предателем. Судя по указанию
летописи (Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 1, с. 87), именно Вассиа-
ву принадлежит использование слова б'Ьгунъ в значении ‘пере-
бежчик’.
Глагольные формы в тексте традиционно книжные, однако
противопоставление имени глаголу ощущается на более глубо-
ком уровне; отчасти оно обнаруживается в расхождениях между
сложными именами типа велеумный, каменосердый и глагола-
ми полногласной формы типа оборонити. В целом же вторжения
новых языковых элементов и обновления стиля нет.
Значительное воздействие на развитие жанра послания ока-
зал Максим Грек, принесший из Италии любовь к обсуждению
общественно важных вопросов. Видимо, под его влиянием из-
менялся и стиль посланий. Но еще раньше в пылкой полемике
иосифлян и нестяжателей обозначилось расхождение в фор-
мальном воплощении жанра, которое действительно оказало
воздействие на выработку формул, лексикона и форм для выра-
жения публицистической мысли.
Первые публицисты еще очень зависели от традиционных
формул; церковному писателю трудно отказаться от привычных
: эпитетов, и он довольствуется их перекомпоновкой. Очень уме-
лым писателем такого типа был Иосиф Волоцкий (около 1440 —
-1515 гг.), по этой именно причине и не повлиявший на развитие
,литературного языка. Никаких изменений в традиционном жан-
;ре посланий не замечаем и у других писателей иосифлянского
;толка. Их ориентация на классическую древность и отстаива-
ние феодальных прав церкви диктовали им сохранение форм
церковнославянского языка. Нигде так наглядно не проявился
.классовый взгляд на литературный язык, как в спорах между
иосифлянами и нестяжателями. Последние совершенно иначе
: относились и к проблеме книжного языка, широко включая в
; свои тексты народную речь.
; Желание «общею простою беседою рещи» вынуждало Нила
^Сорского к таким изменениям стиля, которых до него церков-
i ные писатели не допускали. Вообще отношение Нила к языку
f напоминает отношение Епифания Премудрого, и дело истори-
ков показать, как это связано со сходством идеологических по-
; зиций этих писателей средневековья.
? Общий стилистический рисунок текста у Нила традиционен:
Д^лати же дЬла подобаетъ под кровомъ бывающая; аше ли же по
нужи и на яснинт, супруг же воловъ гонити орати, и иная бо.тЬзненая отъ
‘ своихъ трудовъ въ общихъ жптияхъ похвална суть... Стяжания же, иже
; по насилию от чюжихъ трудовъ събираема, вносити отнюдь нЪсть намъ на
j ползу. . . Хотящему с тобою судитися одежу взяти твою, отдаждь п срачи-
? ну, и прочая е.тнка таковая (Боровкова-Майкова, 1912, с. 5—6).
Чередование форм связано с характером лексики: по нужи,
ч одежу, но отдаждь-, ср. также (далее в тексте) въ одежахъ и
въ обущахъ. Архаические чередования согласных в основе ста-
новятся первой приметой высокого слога, они всегда фонетиче-
ски оправданы: мнози, мнозе, мнозихъ, по перед непередним
гласным многа и др., так же у имен: на досцЪ, послушница и
др., что полностью соответствует сохранению архаических форм
в известных флексиях (типа в блазЪмъ образЪ). Это чередова-
ние свойственно некоторым формам глагола, например прича-
стиям и императивам (истоци, не бреземъ, постизающее и др.),
также формам вида (навыцати, пожизает). В результате неосо-
знанного, но важного распределения форм возникают гипериз-
мы типа упразжняется, по иныхъ мЪстохъ или типа отрочатъ
безбродныхъ, брозду, броздою. «Простая беседа» полнее всего
находит выражение у Нила в отборе лексики. Некоторые приме-
ры: «пища, буяющи въ всемъ телеси его», «вся земная по-
пелъ и уметы вменитъ в памяти сей»; неоднократно употреб-
ляется глагол ошаятися вместо обычного в церковном тексте
огребаяся. Архаизм ошаяти и севернорусское шаяти — слова
одного корня, так что разница между ними уже не сознавалась
в их общем противопоставлении к нормативному (в данном со-
четании) глаголу.
Выбор наречий зависит от характера сочетаний, из которых
они пришли (ср.: «не токмо же злато и сребро» — «не царст-
во бо небесное т о ч и ю, рече» и др.)
Причастных оборотов в тексте много; у инфинитивных кон-
струкций наблюдается своеобразное совмещение: книжные и
разговорные варианты сходятся в общем сочетании, в результа-
те чего возникают семантически усиленные выражения; ср.: «во-
ловъ гонити орати», «с тобою судитися одежу взяти твою» и др.
При изложении нравственных установлений Нил избегает поль-
зоваться обычными глагольными формами и прежде всего лич-
ными. Идеал является надличным, надвременным, и выразить
его следует по-особому, используя новые языковые формы. Не-
определенность причастной или инфинитивной структур как
нельзя лучше подходит для этого. Набор грамматических форм
вообще намеренно ограничен, причем уже при первом прочте-
нии возникает ощущение «страдательности» положения подвиж-
ника. Поэтому подбираются такие страдательные причастия,
прилагательные, отглагольные имена, чтобы они передавали
идею «страдательности», «страдания», «страды»; ср., например:
«болЪзная... похвална... стяжания... събираема».
Преемник Нила Вассиан Патрикеев уже вполне сознает про-
тивоположность книжной речи и разговорного языка, умело
пользуется возникшим различием между ними, причем в его
посланиях ведущим стилеобразующим элементом является ри-
торическая фигура (она проявляется и на эмоциональном уров-
не: «о горе!..», «увы!..», «ох» и т. д.), а в простых разгово-
рах— лаконизм реплик. Характерны его ответы в прениях с
Иосифом Волоцким: «Что, Иосифе, много пишешь о сем, акы
104
[ума иступив?» (Казакова, 1960, с. 277); болтливость ритора
воспринимается как неуверенность в аргументах: «учел говорите
[очи на очи, так слово в слово!» (с. 296). В ответ на длинную
обвинительную речь митрополита краткий и полный иронии
ответ Вассиана:
И митрополит спросил: Да ты же, де, Васьян, говорил про чюдотворъ-
:иов: «Господи! что ся за чюдотворцы? Сказывают, в Колязине Макар чюде-
jea творит, а мужик был сельской!» — и Васьяи отвечал: «Яз его знал, про-
стой был человек; а будет ся чюдотворец, ино как вам любо и с ним — чюдо-
дворец ли сей будет, не чюдотворец . . . ино, господине, ведает бог да ты
!со своими чюдотворцы» (Казакова, 1960, с. 297—298).
В посланиях использованы выразительные возможности-
столкновения народных и книжных формул, разностильные ва-
рианты становятся основой построения риторических фигур;ср.:
Евангелие глаголет: «Вослед мене гряди или последуй ми — си-
речь во всех делех и словесех, ибо по стопам его жития ходяща и подо-
бящася ему во всяком известии, таковии воследуют ему» (Там же,
с. 224).
Таков же набор традиционных синтагм, совпадающих по
смыслу и в следующем примере: «Своими руками тружающеся
и хлеб свой ядуще в поте лица своего, по заповеди, а не в
чюже руце возряху» (с. 265). Только в подобных наборах фор-
мул мы и осознаем формульность текста, поскольку одна и та
же мысль образно выражена различными средствами. Образ-
ность их мы воспринимаем и сегодня, поскольку формулы в ви-
де идиом дошли до наших дней: трудиться своими руками, есть
[свой хлеб, в поте лица своего, не смотреть в чужую руку и т. д.
^Именно образ создает единство синтагмы, сохраняя ее цель-
ность несмотря на возможные изменения слов, их форм в ее
[составе.
( Одновременно происходит разложение синтагм: «богатства
ради и славы и чести от всех», «сластем и страстей работати,.
[откуду брани и свары в вас?», «ризы светлы, и поясы пестры»,
:«мног мятеж и свар, и тяжа и суды» и т. ,д. Перед нами—раз-
ные способы разбиения парных сочетаний традиционного те-
ща— и книжных, и народных, которые также отчасти сохраня-
ется в современном языке, ср.: села и имения, или деревнищу
или сребришко, злата и сребра, постом и молитвою, ярости и
гнева, скудным и убогим, мразом и гладом, слезам и рыданиям,
и образу и уставу, плачася и рыдая, съблазняют и рыдают и др.
'Рядом употреблены формулы разного происхождения: «звери
[дивии»— «деревнишку, лошадку, коровку». Столкновение раз-
нородных формул дает возможность образовать и свое, ориги-
.иальное: «своих мест и сел», «нищетою и правдою», «излишное
и неполезное» и т. п. Это еще один способ разрушить принцип
[попарного соединения близких по значению слов, и таких спо-
собов становится все больше. Они постоянно возникают в ра-
[боте с конкретным текстом, потому что искусный писатель, ка-
10=
ким был Вассиан, соединяет устойчивые формулы таким образ
зом, что формулы эти семантически и структурно как бы
вливаются в ближайший контекст. Например, во фразе «и oi
сих неправедне сребро и злато събирати, подобна в мире еще
обращающихся» (Казакова, 1960, с. 255) представлен ряд им-
плицитно вытекающих одно из другого сочетаний, вполне воз-
можных в традиционных книжных текстах и вполне понятны!
средневековому книжнику: и от сих неправедне — неправедна
сребро — сребро и злато — злато събирати — събирати подоб‘
на — подобна г мире — с мире обращающихся. Или при чтений
текста «подобает и нам, от его спасительных заповедей на!
ченшим, иноческаго житиа деланна по ряду изложит!
(с. 256) в сознании возникает цепочка сочетаний: иноческагЛ.
житиа— житиа деланна — деланна по ряду — по ряду изложит^
и т. д.
Искусство создания текста, основанное на приемах ритори-
ки, вместе с тем получает новый импульс со стороны языка;
Текстовых формул накопилось так много, что фактически к аж-
дое ключевое слово обросло синтагменными вариантами, их
можно использовать в новом варианте все того же, одного-един-
ственного, в сущности, текста. Писателю приходится учитывать
традиционные для данных формул фонетические признаки, на-
пример рефлексы древних чередований: грешницы, беззаконно
цы, подвизаемся, мирстии человеци (но: мирских человек), рцем;
любимица (но: любимиче), в гречестем и др., хотя постоянной
русской огласовке употребляются все формы слова нужа,
среди глаголов наряду с утвержаем — с другой основой на-
саждаем и т. д. Сохранение морфонологических маркировок кос)
венно доказывает материальное сохранение единства традициощ
ной синтагмы, поскольку только в ее границах эти чередовав
ния по обычаю и остаются. Однако в отличие от Нила, у Вас-
сиана появляются уже и гиперизмы, не объясняемые истори-
ческими чередованиями звуков (ижденутся во исчежение и др.)•
Подобные сочетания осознаются как неизбежные в высокой ре:
чи архаизмы. Поскольку все преобразования традиций проис-;
ходят на семантическом уровне, форма остается единственно!
приметой «высокого», и ее упорно сохраняют как признак сти-i
диетического различения. В продолжительной тираде однознач-
ного характера Вассиан не затрудняет себя подбором синошГ
мов и прибегает к одному слову (обычно это все же глагол),:
но в отношении форм он неукоснительно архаичен: позван
ecu. . ., зван ecu. .. звал тя есть. ., позвал тя есть. Форма — важ-?
ный признак содержания текста, но теперь она несет и стили-:
стическую нагрузку. -
Зиновий Отенский, как верный ученик Максима Грека/
оставался сторонником высокой славянщины, но и в его вы-
сказываниях находим много оговорок в отношении русского,
языка, поскольку «просто глаголется в нашем языцЪ» (Зин о-1
106
рил и ; е п с к и н. Истины показание к вопросившем о новом
ичепии. Ка/апь. 1366, с. 258). Он невозмутим в отношении To-
go, что ио смыслу речи «еще и первое народную речь потря-
сающе введоша ново, рекуще, еже [например, что] „чаю” не-
азвесау слову быти» (с. 965), и лучше пользоваться народным
жду. Было бы интересно проследить историю слов чаяти —
'усдати б русском языке, чтобы на их примере выяснить, на-
сколько далеко отходило сознание древнерусских писателей от
же художественной практики, и не было ли расхождение
Йежду народным жду и книжным чаю стилистически намерен-
ным раздвоением семантически общей идеи. Самое объемистое
сочинение средневековья «Истины показание» Зиновия Отен-
вского дает материал «ля некоторых размышлений о новой точке
зрения на книжный («культурный») язык XVI в.
Как ни торжествен стиль «Истины показания», это не высо-
кий слог, и в основе произведения не церковнославянский
)язык в его классическом виде. Обстоятельства изложения тре-
буют включения слов и сочетаний, отражающих обстановку,
-мысли и переживания, которые описываются в сочинении. Все
сменяется местами: сели прежде в подобных случаях русский
писатель привлекал славянизмы для усиления важности и тор-
жественности текста, написанного, по существу, на «русском
$1зыке», то теперь он, полагая, что пишет по-церковнославян-
хки, сплошь и рядом привлекает русизмы, потому что они не-
обходимы в рассуждениях о совершенно новых материях. Не
^русский язык обогащается за счет церковнославянского, а, на-
оборот, церковнославянский совершенствуется с помощью рус-
ского языка. Например, в тексте, который насыщен архаизма-
ми типа выну, точию, непщеватись, десятки раз встречается
=слово деревня, именно в таком написании; в XVI в. это — гру-
)бое слово, с диалектным вторым полногласием, употребление
его вместо церковнославянского село кажется странным; и тем
;не менее деревня — употребительное слово з произведении Зи-
новия.
[ Расхождения между двумя типами языка уже сознательно
дифференцированы в стилистическом отношении. Рассмотрим
(фрагменты текста, в которых противопоставляются «стяжате-
ли» иосифляне (к ним относится и сам автор) и «нестяжатели»:
; Брашно же. в них обретаемо, хлеб овеян невеян или класы ржаные
:толченые, и таковая хлебы сухи без соли; питие же воду и варение имею-
щих капустное лпствие, преимеющии же в них аще зелие имеют свеклу и
щепу, овожи же им, егда обретаются, — рябина и калина; о одежи же что и
глаголати?— пскпопаны н вошми посыпаны... [Иных из «нестяжателен» ви-
дели] ядущих же пшеничный хлебы чисты мягки, и икры белые и черные,
и прутие белужие и осетрое, белые рыбицы и иные, и паровые рыбы,
и уха белыя п черныя и красныя; и овощи имутъ смоквы, стапиды, рожцы,
[сливы, вишни, дули, яблока; и зелие имеющих инбирь, перец, корку, шаф-
ран, гвозды. мушкат, сахар; одеяние же имеющих мягка и тепла и легка...
;[К этому добавляются другие характерные противоположности:] хлебы пше-
107
ничны чисты крупитчаты и прочая брашна заслажаемая, многопестротне за
строяемая: коврижки, постилы и иные.. . романию, бастр, мушкатели, реи
ское белое вино.. . [Тогда как иосифляне, как и сам автор, едят] варена!
от листвия капустного и от стеблия свекольного, и каши застроены ово ся
ком избойным, ово же млеком, творящих скорое изсучение и млека промзля
го, и пива чистительного желудку манастырского не пияше (Истины показй
ние, с. 898—899, 900). |
Внешне все формы, за редким исключением (слово дерем
ня), церковнославянские, поскольку всегда осознаются как вьй
сокпе, книжные: брашно, класы, заслажаемая, млеко (неполна
гласные формы при возможных полногласных); питие, варения
листвие, зелие и др. всегда с полным гласным в суффиксу
формы имен чередуются без видимой дифференциации: тако3,
вая хлебы в именительном падеже, но пшеничный хлебы I
икры белые и черные — в винительном (согласно церковнослж
вянской норме должно быть наоборот); безразличное употреб)
ление форм женского рода с русскими (белые, иные, паровые)
и славянскими окончаниями (белыя, черныя, красныя) завией
от устойчивости и традиционности синтагмы. Показательно
предпочтение причастных форм личным формам глагола, прй
чем суффиксы причастий в основном славянские----------ащ, -уЩ.
Известным русизмом можно было бы считать формы с ж вме-
сто жд (одежа, заслажаемая), но эта особенность письма (Я
произношения) характерна для многих церковнославянских
текстов и появляется в более раннее время. 1
Отраженные в тексте фонетические особенности вообще сла-
вянские: ядущих, а не едучих и т. п. Таково безусловное тре-
бование данного жанра, и оно выполняется. Общий фон языко-
вого воплощения синтагм остается прежним — традиционно
книжным, но лексика и словообразование служат для различе-
ния двух уровней описания, когда возникает необходимость в
противопоставлении. Для описания нищенствующей братии ис-
пользуется «народная речь», для показа богатой жизни их
идейных противников употребляются архаизмы: не имеют, i
имутъ-, не одежа, а одеяние и т. д.; ср. также перечисление яств
по двум противоположным полюсам именования, причем в од-
ном ряду преобладают русские слова, в другом — заимствовав
ные (смоквы, стапиды вместо стафиды ‘изюм’ и т. д.). Заим-
ствованные слова подобно архаизмам воспринимаются как сло-
ва высокого ранга. Семантика, скорее всего, для обоих уровне?
совпадает, поскольку сок как ‘зелье', зелье как ‘овощи’ и ово-
щи как ‘фрукты’, по-видимому, на обоих уровнях понимались
одинаково. Сам текст, правила его образования, построение"
синтагм и правила их следования также традиционны; в част-
ности, распространена постпозиция кратких прилагательных
(«пшеничным хлебы чисты мягки» — «хлебы пшеничны чисты)
крупитчаты»), хотя в устойчивых сочетаниях порядок слов
остается традиционным даже для полного прилагательного'
(«уха белыя», но «белые рыбицы»). Однако внутрй
108
Винтагм развивается и вариантность: «варение имеющих», «зе-
Йие имеющих», «одеяние имеющих» и т. д. распространяются
Соответствующими именованиями, которые разграничивают раз-
ные уровни описания. Противопоставление простой пищи (репа,
Свекла, калина и т. д.) заморской еде (бастр, мушкатели и
Др.) показательно также в плане авторской интонации: вклю-
чение иностранных слов создает ироническую ноту, выражаю-
щую сомнение в целесообразности такой еды и питья (своего
рода низкий стиль), только слово смоквы передает традицион-
но высокий (т. е. функционально нейтральный) образ.
- «Валаамская беседа» хотя и приписывается речам Савва-
тия и Зосимы Соловецких, но записана она позже, ее автор
Широко пользуется всеми доступными ему языковыми средст-
вами. Выбор слова зависит от темы высказывания:
Господь повелел царем царство и грады, и волости держати, и власть
вмети с князи и с боляры, и с прочими с миряны, а не с ыноки (Моисеева,
1958, с. 163).
Деловая речь документа часто вторгается в описание и моно-
логи подвижников, но каждый раз форма слова определяется
характером сочетания: власть — и рядом волости, имущест-
во — животы, но сесветное житие, будущее житие и т. д. Вари-
анты слов не просто связаны с известными сочетаниями, но уже
-обладают и самостоятельной семантикой.
- Текстообразующим является перфект — единственное гла-
гольное время в этом обширном тексте. Встречаются и союзы,
но обычно лишь в описаниях иноческого чина людей: «Аще ли
которые иноки не последуют сему, таковые есть не иноки» (там
же, с. 167) — фрагмент, в котором разговорное (и уже, види-
мо, деловое) а которые совмещено с традиционно-книжным
еще.
; Совершенно разговорные конструкции и обороты находим в
Публицистических отступлениях — там, где автор утрачивает
(свойственное ему стремление остаться на уровне книжной
(речи:
Много ли злата и сребра собирали и находили в пустынях? Много-мио-
•жество без счисла злата и сребра, и всякаго узорочия, и бежали, не огля-
даяся, аки от лютаго сесветнаго любителя или от сверепаго зверя, или от
(всякие несказанные злобы (Там же, с. 171—172).
Как бы спохватываясь, автор переходит на речь, привычную
(для клирика, но при этом не замечает, что на самом деле он
;развивает все ту же мысль, облекая ее в другую — книжную
(форму. Разрушение формул заметно в приведенных примерах
т{сверепый зверь, а не велий, дивий, лютый и т. д.).
i В «Валаамской беседе» много повторений, и автор не боит-
ся разговорных слов (собина, на сесь свет и т. д); много полно-
гласных форм, ср. один переводъ и др., но в традиционном обо-
109
роге драгая бршия (возможно, в последнем отражено фониче
ское согласование с именем). Признаки высокого стиля сохра;
няются: во оном веце, ие мозите, мнози, во иноцех и др. поста
янно, однако многа, многие и т. п. только в обычной для ни?
форме. По-видимому, даже написания некоторых слов, особен?
но глаголов, носили символический характер, были связаны <
традиционным смыслом формы, поскольку для «нестяжателей»
обычны написания типа созиждет, зиждущий (в отношении к
богу), го одновременно с тем хуже, пострижем, бружалися и
т. п. =
Сложные слова редки и употребляются не только в церков-
ных сочетаниях, они стали своего рода этическими терминами
(высокоумство, душевредство, смиреномудрие), каждый арха)
изм обязательно поясняется рядом стоящим словом (невегласа
несмыслгные). Основной признак актуализируется в переводе
ставшего неясным слова. Это необходимо учитывать при ре-
шении вопросов о постоянных эпитетах и устойчивых сочета-
ниях: чаще всего глоссирование осуществляется по отношению
к архаизующейся лексике, которая уходит из языка, но сохра-
няется в традиционных формулах старого текста; метод глос-
сирования помогает и объяснить слово, и одновременно вы-
явить основной признак его различения.
То же сайре находим и в обычных парных сочетаниях, ко-,
горые также состоят из слов разного происхождения: в слово-
сочетаниях «глады и морове частые», «всякие трусы и потопы»,
«брани и войны», «смятения и ужасти», «обычай и образ» и
". д. употребляются однозначные слова разного стиля, и вто-
рое имя как бы истолковывает предыдущее, выхваченное из
исходного для него контекста (как, например, в сочетаниях
«глад и жтжа», «трусы и брани и рати», «образ и подобие»),-
Традиционные сочетания извлекаются из контекста и дру-:
гими способами, известными нам по сочинениям Нила и Вас-
сиана. Фраза «на всякую скорбь напрасными б 'Ь д а м и
сгшсатися» получилась в результате разрыва устойчивого со-
ь-етания «скорбь и беда» уточняющими определениями и обра-:
сованием синтаксической перспективы высказывания. Чтобы
такие разрывы прежних семантических отношений становились
вполне ясными, автор использует поодиночке слова устойчиво-
го сочетания в разных местах, но всегда с определением
(«велика скербь», «велика беда», «велика погибель») или ией-_
трализует семантику цельного выражения в третьем слове:
(«беда и скорбь, и погибель»). Возможны также перестановки'
слов в известном сочетании в зависимости от изложения; на-
пример, для сочетания «честь и слава» известны варианты:?
«господу славу и честь», но в речи о мирянах — традиционное*
«от козо чести н славы получали».
Таким образом, развитие традиции в середине XVI в. при-;
зело к семаиткзадии символических написаний, разложению"
ИО
15
|тарых речевых формул, короче—к разрушению цельности
гантагм в связи с большей самостоятельностью отдельного сло-
ва в общем контексте повествования.
Е Постепенно накапливая образы, формулы, отдельные сло-
|а, способные выразить развивающиеся б обществе идеи и по-
нятия., церковная публицистика незаметно переходит в свет-
скую. Пока единственной целью публициста были проблемы
нравственно-исповедальные, обращение к традиционной терми-
нологии казалось необходимым, но при этом формировалась
Своя собственная, с подобным же расхождением между фор-
мой и смыслом высказывания. Слова вещь, болезнь, совесть,
фсизнь, образ и многие другие, пришедшие из книжного язы-
|Ка, настолько изменили свой смысл, наполняясь совершенно
довым содержанием, что считать их словами старославянского
Языка вряд ли можно (подробнее см.: Колесоз, 1975, 1977, 1982,
11985). После XVI в. это определенно русские слова.
7 Качественные изменения в литературном языке происходили
В связи со сменой идей и тем; уже Зиновий и его современни-
ки, другие церковные писатели вводили в свой язык множест-
во бытовых и даже диалектных слов; в изменившихся истори-
ческих условиях необходимость говорить о новых для литера-
туры темах вызывает к жизни многие слова и выражения есте-
ственной разговорной речи. Правда, используют их осторожно,
ле очень часто, иногда объясняя в самом тексте, но число та-
ких слов и синтагм растет. Важно, что с середины XVI в. в цен-
тре внимания писателя — отдельное слово, а не традиционная
формула, и тогда возникает вполне естественный способ вклю-
чения новых слов в книжный текст. Если традиционные соче-
тания «зЪло знати» или «вельми знати» уже и раньше выступа-
ли в вариантах, то включение нового, разговорного, «гораздо
знати» не кажется странным, а смысл выражения ясен из кон-
текста и в сопоставлении с аналогичными сочетаниями.
; Важной особенностью русификации книжной речи является
^предпочтение слов, общих для разнородных формул, кото-
рые вынесены из текстов книжной или народно-разговорной
^ориентации. Возникает игра смыслов, поскольку столкновение
двух тождественных. по форме слов с разным содержанием
признаков немедленно создает переносные значения, особенно
если каждое из таких слов попадает в новый контекст. Так,
правда ‘истина’ и правда ‘суд, установление’ в отвлеченном смы-
сле начинает пониматься как ‘право’; любовь ‘отношение’ и лю-
бовь ‘братство’ или ‘согласие’ вызывает столь же родовое по объ-
ему понятие ‘приязнь’ и т. д. (многочисленные примеры такого
:рода можно извлечь из «Материалов. ..» И. И. Срезневского).
^Без подобного (весьма естественного) столкновения семантики
.слов в литературном языке не возникло бы позднее органиче-
ской традиции метафоризации речи.
i Разговорный характер синтаксиса и грамматики в публи-
111
.диетических текстах не подлежит сомнению; он проявляете
независимо от происхождения автора, потому что отражае
особенности русского языка. Сравним отрывки произведени!
дворянина Пересветова, приказного Котошихина и купца По
сошкова.
Иван Пересветов (текст около 1549 г.)
И говорит Петръ, волоский воевода: «Таковое силное, и славное, и всЪм1
богатое то царьство Московское! Есть ли в том царьстве правда?» Ино 1
него служит москвитинъ Васка Мерцалов, и он того спрашивал: «Ты гораз
до знаешь про то царьство Московское, скажи ми подлинно!» И он ста
сказыватп Петру, волоскому воеводе: «Въра, государь, християнская добр|
веймъ сполна, и красота церковная велика, а правды нйту». К тому Петр!
волоский воевода заплакал и рекъ тако: «Коли правды нЪтъ, ино то и всеП
н-Ьту» (ПЛДР, т. 6, 1984, с. 612). ]
Григорий Котошихин (текст после 1664 г.) J
[О судьях-мздоимцах]. Ни во что их вйра и заклинателство, и наказани!
не страшатся от прелести очей своих, и мысли содержати не могут, и рук)
свои ко взятию скоро допущают, хотя не сами собою, однако по задне!
лЬсниц-Ь чрез жену или дочерь, или через сына и брата, и человЪка; и Я
ставят того себй во взятье посулы, будто про то и не в-Ьдают. Однако чра
такую их прелесть приводитъ душа ихъ, злоиманиемъ, въ пучину огня нега
симаго, и не токмо вреждаютъ своими душами, но и царскою (Котошихин Г
О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1840, с. 93). ;
Иван Посошков (текст 1724 г.) 1
И егда будут в допросах и станут на очной ставке друг друга уличат^
то судье при себе надобно держать та записка, которая записана в контора
в первых же разговорех, и смотрить прилежно, не будет ли ищик или оЕ
ветчик с первыми своими словами разбиватца. Буде станет говорить не та^
как на одине сказал, то во зъименных словах паче перваго надлежит в ела
вах раздробить, чтобы дощупатца самые правды (Посошков И. Т. Книга
о скудости и богатстве. М., 1937, с. 144). ]
Пересветов ничего не говорит о своем отношении к литера
турному языку, Котошихин уверен, что пишет правильно, а Пси
сошков считает необходимым извиняться за свой слог:
Аз весьма мизирен н учению школьному неискусен, и како по надлежа!
щему достои писати, ни следа нет во мне, ибо самый простец есм, но токмо
возложився на его божью волю, дерзнух мнение свое изъяви™ простотньп!
письмом (Книга о скудости..., с. 137).
Между тем именно у Посошкова больше следов церковно
славянского языка, чем у его предшественников. В этом не!
противоречия, если учесть, что «простотное письмо» все-так!
только письмо (текст), а не речь; видимо, сознавая противопо:
ложность между разговорной речью и книжно-письменным язц
ком, Посошков сомневается в правах первой на «письмо», т. е
литературность, и по этой причине пользуется традиционным!
формулами всякий раз, когда обстоятельства изложения тре
буют безлично отвлеченного отступления, привычного трафаре^
112
та мысли («возложився на его божью волю, дерзнух мнение
Свое изъявите»). Особенностью стиля Посошкова является
столкновение книжных формул с русскими пословичными вы-
ражениями того же значения, а в результате и контаминация
их (Бабкин, 1948).
Такие формулы встречаются и у Котошихина (ср.: сот пре-
лести очей своих», «в пучину огня негасимаго» и др.) j их поч-
ти нет у Пересветова, мало знакомого с православной церков-
ной риторикой. Чем ближе к нашему времени, тем больше
элементов церковнославянского языка находим в публицисти-
ческих текстах, но бытование их в новой литературе не всегда
Устойчиво, и это объясняется характером архаизмов. Очень
редко это отдельные слова или формы, обычно и слова и фор-
мы включаются в новый текст в составе традиционных фор-
мул, причем основательно разрушенных, неустойчивых по со-
ставу компонентов. «Азъ нынЪ дръзнухъ се писати», — говорит
Феодосий Печерский, в XVI в. известно выражение «дерзнути
рукою» — оскорбить действием, есть и другие формулы анало-
гичного характера, из которых и выходит у Посошкова его
^дерзнух...» (см. Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 4, с. 227—228).
"Точно так же «изъявите мнение» — внешне новое сочетание
зслов, но опирается оно на длительную традицию употребления
сочетаний типа «изъявите слово», «изъявите решение» и т. д.
Мнение в данный контекст вообще не могло попасть, поскольку
слово обозначало мысль не очень положительного свойства,
это одновременно и подозрение, и самомнение. В церковном
|гексте «выразить мнение» — невозможное сочетание. Расша-
танность традиционных оборотов определяется длительным их
[существованием и постоянной заменой в них их компонентов.
|Гем не менее, традиция книжных сочетаний и тут налицо. По-
рошков вышивает по старой канве, в нем хорошо заметен
^книжный начетчик.
| Все особенности языка у трех авторов в целом совпадают,
р них отражены живые нормы развивающегося русского язы-
^са. Нормативность его, неустановленная сознательно, проявля-
ется в системе и в способах выражения мысли специально в
^литературном тексте.
| Формы имен почти всегда разговорные русские, хотя в тра-
диционных сочетаниях могут сохраняться архаизмы; ср.: «бу-
|дут в допросех», но «в разговорах», «в словах», также «самые
Правды», а не «самыя», как требовала бы кодифицированная
рерковно-книжная традиция. Все наречия также русские: го-
раздо, подлинно, прилежно, а в возможных вариантах высту-
пают обязательно русские эквиваленты, т. е. весьма, а не зело,
Ьокмо, а не точию и т. д.
I Атрибутивные сочетания также разграничены по характеру
Ьочетаемости. У Пересветова в устойчивом сочетании прилага-
тельное употребляется в постпозиции, но не в терминологиче-
Колесов В. В. 113
ском выражении (ср. «царьство московское», «вЬра христиан'
ская», «красота церковная» и др., но «волоский воевода»),
У Котошихина прилагательные вообще редки, как и во всякой
деловом тексте, но там, где они есть, их распределение подчй1
няется традиционной формуле (ср. «задняя лестница» и «огня
негасимаго» — здесь противопоставляются разговорная и книж-
ная конструкции). В развернутом примере из Пересветова
можно наблюдать распределение препозиции и постпозиция
у прилагательных: препозиция носит предикативный характер,
«Таковое сильное и славное и всём богатое то царьство мос-
ковское» на современный язык следует перевести так: «то мос-
ковское царство настолько сильно, славно и всем богато. ..»,
но фраза не закончена, в ней нет второго центра высказыва-
ния. Номинативный характер предложения у Пересветова —
вынужденность конструкции при общей неразработке синтак-
сических структур. Семантический синкретизм прилагательно-
го проявляется в нерасчлененности его синтаксических функ!
ций, а намеренное (намеренное ли?) отталкивание от архаи-
ческих кратких прилагательных лишает возможности провеств
эту дифференциацию. У Посошков-а все атрибутивные сочета-
ния уже терминологизованы и выступают в новой форме (на-
чиная с сочетания «очная ставка» и кончая сочетанием «божьев
воля» вместо «воля божья»).
Усложняется синтаксическая перспектива предложения, на
растает число союзных слов, которые употребляются пока в
предложениях, построенных по старым схемам с семантичесы
нерасчлененной сочинительной связью. У Пересветова предло
жения соединяются союзами и, и он, к тому, но в прямой ре
чи возможно уже и «коли — ино то». У Котошихина наряд)
с и, или, но встречается и хотя, у Посошкова все больше под-
чинительных союзов, но все они только организуются, вычле
няясь из строевых слов предложения: и егда будут—то, 6ydi
станет — то. Достаточно было бы сказать «и будет — то», не
привязка к книжному союзу егда помогает осознать семанти
ческий характер синтаксической связи и одновременно ввесп
в текст русский союз. То же и у Пересветова: ино то — плео
назм, поскольку для сохранения синтаксической связи доста-
точно было бы и одного из этих союзов. Положение здесь то
же, что и при введении в текст новых слов. Внешне новые
всегда поясняются как традиционные слова, и это позволяет
скрыть их необычность, т. е. стилистическую маркировку.
В текстах нет сложных причастных конструкций, причастия
вообще нечасты у этих писателей. Архаические глагольные
формы редки и обычно встречаются в традиционных форму-
лах (ср.: «и рекъ тако», «возложився, дерзнух»); именно арха-
ические глаголы служат основанием, чтобы считать подобные
формулы традиционными. Повествовательным временем явля-
ется перфект (как у Пересветова), а временем публицистиче
114
1им — презенс. Обе формы в сочетании с инфинитивом позво-
1ют актуализировать действие, как бы включая читателя в
Ю действие и тем самым делая его непосредственным участ-
ком событий.
: Таковы особенности «публицистического стиля», который яв-
йется удачным соединением прежде отдельных трех типов:
!ыка — книжного, разговорного и делового. Столкновение раз-
водных формул и составляющих их слов постепенно размы-
1ет границы устойчивых сочетаний. В конфликте между соче-
1нием и словом, между словом и текстом образовывались но-
йе нормы языка, но уже литературно обработанного языка.
= Важнее другое: после XVI в. образное в многозначности и
Энкретное по форме изложение можно было вести только при
амощи русского, в чистом виде — разговорного, языка. От-
меченности церковной риторики уже не могли охватить всего
Иогообразия жизни. Церковнославянский язык в постоянной
стремленности к высшему, к отвлеченному, к отстраненному от
гой жизни, доходя в своем развитии до конечных пределов
цеального, тем самым разрушил сам себя. Национальная ли-
ература не могла допустить разрыва традиции, но и отказать-
S от новых тем не могла тоже.
Глава 8
СУДЕБНИК — ГРАМОТА
: Законодательные и актовые тексты не все историки языка
тносят к числу литературных и поэтому оспаривают принад-
ежность их к литературному языку. На этой логической ошиб-
е основаны многие недоразумения, которые снимаются при
зучении самих текстов. В функциональном, языковом и даже
тилистическом отношении нет никакой разницы между язы-
ом грамоты или поучения, притчи и плача — это литератур-
ый язык эпохи средневековья, отражающий то же видение
[ира, то же отношение к слову и тот же всегда функциональ-
:о оправданный набор речевых формул.
«Правда Русская» (XI в.)
О послушьствъ. На послушьство холопа не складають. но оже не будеть
вободьнааго. то по нужи ти сложити на боярьскаго тиуна, и на ин-Ьхъ не
кладывати. А в мал-fe тяже по нужи сложити на закупа (Карскнн, 1930,
.43).
«Закон судный людей» (X—XIII вв.)
Искати послухь. истиненъ, боящнхъся б[ог]а нарочитъ., и не имущи
ражды никое.я же ни лукавьства. ни мерзости, ни тяжи, прн прн. на него
se гл[аголе]ть. но страха б[о]жиа ради, и правды его. . . Аще ли в кое
ремя обрящются лжюще. не достоитъ же ни въ едину приимати послух, иже
;* 115
будет когда обличени лжюще и преступающе законъ б[о]жии (Закон Си
ный людей краткой редакции. М., 1961, с. 90—91). j
«Книги законные» (XI—XII вв.) 3
О коемждо послусЪ достоить изысковати первЬе: честенъ ли и иепои
ченъ есть или бесчестенъ и укоренъ, имЬющь ли или не имЪющь — яко 1
не прибытка ради что съгр-Ьшить, другъ ли есть ищющаго или врагъ том
на немже ищють.. Внегда послуси... лжепослушьствують, тогда судим
казнить неправыхъ, аще хитростью явятся злобьствующе. Да кленутся пр!
же послушьства послухове (Павлов, 1885, с. 86—88). |
«Псковская Судная грамота» (1467 г.) 1
А кто на кого иметь сачить бою или грабежу по позовници... обыска^
как послухъ, гдЬ будет обьдал и гдЬ начавал, и послухъ изведется иночМ
его... А послух на судЬ ставь, а послухуетъ в тые же рЬчи, иио тот суд
судить на того волю, на коми сочат, хочетъ с послухомъ иа поле лЪзетъ и!
послуху у креста положить, чего искали (Псковская Судная грамота. СГП
1914, с. 5). \
«Судебник 1497 года» j
А кого послух послушествует в бою или в грабежю, или в займех, ив
судити на того волю, на ком ищут; хощет — на поле с послухомь лезет иЛ
став у поля, у креста положит, на нем ищут, и истець бес целованиа св(
возмет... А послушествует послух лживо не видев, а обыщется то onocji
ино на том послухе гибель исцева вся и с убыткы (Судебники XV—XVI в
М.; Л., 1952, с. 26, 29).
«Судебник 1550 года»
А кого послух опослушествует в бою или в грабежу, или в займех, ив
суд на ответчикову волю: хочет — с послухом на поле лезет или, став у п(
ля у креста, на целование ему пли без целованиа даст; а вины в том отве|
чику и пошлин полевых убитых нет; а побыота на поле, и пошлины судны
и полевые взяти по указу на убитом (Там же, с. 145).
«Судебник 1589 года»
А кого послух опослушествует в бою, или в грабеже, или в какове дел
ни буди, ино его повинитп, а с послухами дати ему суд да кресное цело
ванье. А будет послух поцелует крест, ино пошлины взяти на ответчиц
А будет послуха на поле побьют, ино пошлины на убитом же (Там Ж!
с. 379).
«Уложение 1649 года»
А кто крест поцелует или кто кого ко кресту приведет не на правд!
и сыщется про то допряма, и темь людей за то чинить жестокое наказаны
против того, как о том писано выше сего в суде о крестьянех (Соборно
уложение 1649 г. М., 1987, с. 71).
О языке «Правды» имеется много основательных исследова
ний (Обнорский, 1946, с. 9—31; Ларин, 1975, с. 52—94; хМсщер
ский, 1981, с. 56—58). В памятнике отразился «наиболее обоб
щенный тип языка Древней Руси» (Ларин, 1975, с. 64), хот!
иногда отнесение его к разговорному русскому оспариваю1
(Селищев, 1968, с. 130 сл.; Исаиенко, 1980, с. 114). Или пола
116
ают, что в памятнике отразился важнейший этап развития
йтературного языка XI в. — замена в княжеском делопроиз-
Юдстве одного вида языка другим (Якубинский, 1953, с. 294).
Собственно, о том же говорил и А. М. Селищев (1968, с. 133) :
(оскольку не только стиль, но и точность содержания речи бы-
Ш важны в данном случае, обратились к живой народной ре-
й современников; сфера применения регулировала пределы
^потребления такой речи, хотя она все еще оставалась «нели-
«ратурной» («литературным» Селищев признает только старо-
йавянский язык, на общем фоне которого параллельно раз-
бивались на Руси церковнославянский и деловой языки).
1 Действительно, в характере некоторых оборотов и в син-
таксисе находим влияние книжных текстов, но оценить его
Южно по-разному. Можно сказать, что все следы такого влия-
ния—результат позднейших переписок (Обнорский, 1946,
:. 11 сл.), что они связаны с воздействием византийского зако-
Юдательства и попали через переводы (Ключевский, 1918, I,
5. 254 сл.), но точнее все же говорить о раннем взаимодействии
речевых славянских формул обычного права с текстообразую-
Цими элементами книжной речи, к моменту записи «Правды»
^же получившими права гражданства в древнерусской лите-
ратуре.
I Типичные признаки древнерусского языка в тексте «Прав-
ки» налицо и представлены во множестве (есть они и в нашем
Ьтрывке: нужа, холопъ, оже), разговорная лексика терминоло-
гического характера (тиунъ, закупъ, съложити), синтаксиче-
ские конструкции, своеобразные формулы обычного права.
I «Закон судный людей» и «Книги законные» — переводные
Памятники. Первый из них переведен в Моравии в IX—X вв.
^Соболевский, 1910, с. 115—116), второй — на Афоне или на
Руси в XII в. (Дурново, 1969, с. НО), причем по крайней мере
(Одну часть «Книг законных» перевел русский книжник.
Остальные тексты, отрывки из которых даны выше, отражают
Новую традицию судопроизводства, сложились в XV в. и поз-
же и действовали с изменениями вплоть до петровских времен
^известно, что «Уложение» с добавлениями переписывалось в
Петровских коллегиях как свод действующих в России зако-
нов) .
Расхождения между переводными и оригинальными текста-
ми, конечно, существуют. В русских текстах избегают прича-
стий и калькированных синтаксических оборотов, например
дательного самостоятельного; в них нет сложных союзов, соз-
ванных обычно по типу греческих (о коемждо, на немже, на
Ыегоже), в них не сопоставляются части высказывания с по-
мощью союзов (типа аще ли... же, внегда... тогда), не пред-
ставлены облигаторные формулы типа не достоитъ, да кле-
Ыутся.
| Древнерусский текст любого времени строится как описание
117
I
действий, сопровождаемых установленной формулой, и повыя
тельного наклонения в нем, как правило, нет. Текстообразу)
щим является «вневременной» презенс, который способен ва{11
ироваться в зависимости от смысла: то настоящее время, 1
актуальное прошедшее, то время, текстуально связанное с nej
фектом (первоначально с помощью связок), то повелителый
наклонение. л
Лексические и фонетические особенности текстов — востй
нославянские, а диалектные формы постепенно устраняют^
как исчезают в таких текстах и архаические формы. Интере
ным примером является глагол сочити: это одновременно
общедревнерусский архаизм, и псковский диалектизм XVj
Основная установка деловых жанров прямо противоположу
приемам узкокнижных жанров, вокруг формул которых со(Я
рались наиболее архаичные конструкции и формы; в делово
тексте обновление идет за счет разговорных и всем понятна
форм речи. Нельзя говорить, что в этой функциональной onpai
данности данного стиля заключается его «нелитературносты
нет, в этом именно его смысл, и потому развитие жанра устре)
лено только к обновлению форм языка. Прагматические фун)
ции делового жанра иные, чем у служебной литературы.
Первоначально чисто терминологическое назначение форму)
сочетаний в «Русской Правде» показывает обстоятельное от
сание 86 списков текста по разным редакциям (Клепарски!
1968). Формулы не лишены образности и эмоциональной эк,
прессивности, как вообще не лишены этого синкретичные в
смыслу древнерусские слова, но в формульном единстве оя
терминологичны и передают реальное действие (ср.: «гнат
слЬдъ», «головою клепати», «лице взяти» и т. п.). «Сложив
на закупа» или «складати холопа» — это формулы с синкр)
тичным глагольным словом, с неутраченной образностью зна
чения, которую можно истолковать различным образом: это:
'полагаться’, и ‘доверять’, и ‘положить’ (‘определить’), и ‘пра
бавить’, и ‘сравнить’; подобная исходная «многозначности
которая в позднейшее время естественно преобразовалась
строго терминологичное и только для данной ситуации подхс
дящее выражение «целование сложити» (Срезневский, III
стлб. 736—737). которое означает ‘отказаться от клятвы
тогда как другие оттенки значения в процессе разложения ИС
ходного синкретизма породили иные формулы («сложити вс
ней», «сложити голову» и т. п.).
Номинятивность как терминологическое свойство подобны
выражений сильно преувеличена. «Не характеризуясь метафо
ричностью, пеоеносностью значения, трафареты выделяются 1
основном по функциональному признаку, т. е. они употребля
ются обычно в с~рого определенных местах грамот» (Костю
чук, 1968, с. 158), например, «куда топоръ ходилъ и куда ко
са ходила» — всего лишь формула для обозначения грани
118
владения. Формула — не термин в современном смысле слова,
потому что формула эта «снимается» с реального действия и
первоначально такое действие описывает. Со временем, ото-
рвавшись от своего конкретного ритуального действия, форму-
ла становится образом, метонимичным в своей основе.
При сравнении текстов можно наблюдать постепенный пере-
ход слов и формул от одного образца к другому. При этом
«Русская Правда» отличается лаконизмом и синкретизмом вы-
ражения мысли (по-видимому, ее положения всегда комменти-
ровались действием), так что некоторые формулы судопроиз-
водства остались в ней неразработанными. В частности, син-
кретизм глагола съкладати в числе прочих действий подразу-
мевает и розыск, что в последующих текстах передается соот-
ветственно как искати — изысковати— обыскати (в каждом
новом префиксе отразились поиски выражения самого точного
оттенка смысла), а после «Псковской Судной грамоты» фор-
мула «позовници. .. обыскати» исчезает.
В судебных текстах единственным постоянным элементом
является именно формула, ибо она обслуживает судебный
ритуал, который, изменяясь во времени, в основе своей имеет
некоторые общие типологические черты.
Само определение «свидетельства» изменяется (послушьст-
во — послухъ — послуси послушьствують — послух послуху-
етъ — послух послушествуетъ—послух опослушествует) и ис-
чезает в «Уложении». В этих незначительных изменениях от-
ражается, однако, важная последовательность развития судеб-
ной мысли, в результате которой вырабатываются эквивалент-
ные формы выражения; перед нами такая же напряженная ин-
теллектуальная деятельность, как и всякая другая, направлен-
ная на развитие форм социальной жизни общества. Можно бы-
ло бы подробно описать причину замен собирательного послу-
шество на индивидуально-личное и единичное послухъ, а по-
следнего на словосочетание с обязательным глаголом (так как
образовалась необходимость соотнести термин с характером
его деятельности, поскольку исчезла естественная связь терми-
на с ритуалом), причем в вариантах встречается (обычное)
множественное число (вместо собирательного послушество) или
единственное (заменяет индивидуальное послухъ), затем уточ-
нения с помощью приставочного глагола (опослушествует) и
т. д. Истолковать эти замены можно, только зная во всех тон-
костях историю русского языка в каждый данный момент пре-
образования судебной формулы. Грамматическое выражение в
переосмыслении понятия сопровождается варьированием ключе-
вого слова в границах той же синтагмы: видокъ, св'Ьдокъ, зна-
харь, свидетель, как то же послухъ (Брицын, 1962; Коляда,
1967; Ларин, 1975, с. 76).
Характерны также изменения признаков, относящихся к по-
слуху: свободенъ важно для «Русской Правды», истиненъ на-
119
рочитъ— для переводного «Закона», но честенъ и непороченъ-4
для переводных книг с другого языка (греческого). Качеств!
хорошего послуха подробно перечисляются в «Псковской Суд<
ной грамоте», но затем исчезают совершенно, потому что не
свобода человека и не личные его достоинства определяют уже
результат тяжбы, а судебный поединок (то, что передает со-
четание суд божий). Одновременно изменяется и обозначение
судебного испытания: тяжа, тяжа и пря заменяются сочетани*
ем бой и грабеж, а после «Судебника 1589 года» и эта формуй
ла исчезает, поскольку церковь запретила судебные поединки.
Кристаллизация понятия об ответчике также проходи” ряд-
этапов в отработке формулы-термина: в «Русской Правде» его
нет вовсе, но он предполагается в контексте и по ритуалу, за-
тем, начиная с переводных текстов, происходит его развитие:
на него же глаголеть — на немже ищють — на комъ сочат ~
на ком ищут — на ответчикову волю — на ответчике.
Важно отметить, что в переводных текстах отражена неза-
интересованность послуха: и не имущи вражды никоея же ни
лукавьства — или врагъ тому, в «Псковской Судной грамоте»
подробно описывается ситуация, которая препятствует испол-
нению роли послуха (гдъ будет обедал и гдЪ начавал), а за-
тем эта часть статьи исчезает, поскольку ее смысл подразуме-
вается в общем контексте.
Оговорка в лжесвидетельстве также варьируется: лжюще
и преступающе законъ божий — лже послушьствують — а по-
слу хуетъ в тые же рЪчи — и послушествует послух лживо не
видев — не на правду
Из судебной практики выходят новые формулы, вначале
всегда конкретно описывающие ситуацию тяжбы: судить на
того волю, на поле лезет, у креста положит — крестное цело-
ванье — поцелует крест — целование даетъ, обыщется то опо-
еле, а пошлины взяти и др. — или последующее обнаружение
истины: обрящются лжюще — хытростью явяться злобьствую-
ще — а обыщется то опосле — сыщется про то допряма. От
обрящется до сыщется, от лжюще до допряма — таковы после-
довательные этапы развития составных элементов традицион-
ных формул в их русском варианте. Противоположности меж-
ду текстами русским и церковнославянским на уровне прагма-
тически характерного для каждого из них понимания преступ-
ника, закона или вора-татя хорошо изучены (Унбегаун, 1969,
с. 177 сл., 203 сл.; Колесов, 1986, с. 119 сл.).
Этикетность (ритуальность) самого действия определяла
установку на формульность выражения. «Русская Правда» от-
ражает такой период развития деловой речи, когда в обста-
новке действия обычного права синкретизм выражения не пре-
пятствовал смыслу формулы: она сопровождалась еще тем са-
мым конкретным действием, сколком с которого являлась.
120
Только в границах исходной формулы возможна была емкая
я содержательная формулировка законодательного установле-
ния, потому что устное хранение информации требовало посло-
вичного и ритмизованного словесного воплощения. Знамена-
тельно, что переводные формулы «Закона судного» и «Книг
законных» в общем не вошли в русский юридический оборот,
хотя при их обработке учитывалась речевая практика славян
того времени (это особенно видно при сравнении перевода с
греческим оригиналом текста).
; Постепенное усложнение процедуры могло изменить исход-
яып смысл первоначального термина, как в нашем примере: по-
слух как свидетель, как поручитель, как вовсе не нужный в
деле участник (в «Уложении»); изменение функции послуха
мы можем определить не по законченно-цельной формуле, а на
основании широкого контекста, поскольку на каждом этапе
изменений текста выступают разные производные первоначаль-
ного термина — каждый со своим значением, последовательная
смена которых показывает нам развитие первоначальной се-
мантики: послуисество как действие и послушествовати как
деяние в общем противопоставлении к термину послухъ.
; Постоянное развитие языковой формы характерно для ли-
тературного языка, который оттачивает свои функциональные
выразительные возможности. Это развитие происходит осознан-
но, обработанные формы языка соотносятся с уровнем соответ-
ствующей исторической эпохи и потому достигают своей прак-
тической цели. Было бы странно видеть в развитии юридиче-
ских формул приближение к архаическим формам, но и отри-
цать на основании этого их литературность кажется тоже
слишком странным. Все-таки это язык средневековой литерату-
ры, и ему свойственны все особенности литературного языка
того времени: образность, лаконичность, насыщенность форму-
лами-символами и постоянное совмещение в процессе перера-
ботки элементов, традиционно относимых как к народно-раз-
говорному, так и к литературно-книжному типам языка.
В том, что церковнославянский язык с самого начала был
исключен из законодательства и делопроизводства, Б. О. Ун-
бегаун видел парадокс древнерусской культуры (1969, с. 313).
Это неверно, и мнение Д. Ворта, что язык древнерусского пра-
ва развивался в зависимости от церковнославянского, кажется
более точным и обоснованным фактически (1975, с. 69). Не
следует только преувеличивать значение формальных элемен-
тов текста (флексий типа -ого!-аго, полногласия — неполногла-
сия типа полонъ/пленъ), раз уж речь заходит о языке пра-
ва. Особенность последнего состоит в том, что он всегда от-
ражал основные изменения в системе родного языка и намерен-
но уклонялся от архаизмов любого происхождения как в фор-
:ме, так и в семантике. Ориентация на архаизм с древнейших
(времен — каинова печать на церковно-служебном тексте, кото-
121
рый почему-то считают единственно «культурным» текстоа
средневековой Руси. ' 1
По приведенным образцам видно, что идеальная норма за
конодательного акта достигнута к концу XV в., и затем 01
только отшлифовывается в рамках установившейся традиций
Многие элементы такой нормы впоследствии явились осново!
для развития нормы современного литературного языка.
Функциональное разнообразие грамот как жанра могло спо
собствовать расхождению их форм в зависимости от напрай
ленности пожалования. К равноправному обращались так, ка1
это отражено в формулах берестяных грамот, к высшим —ка1
в челобитных (Волков, 1974), к низшим — иначе, и в послед
нем случае высокий стиль заимствованной терминологии стано
вился ритуальной формой воспроизведения мысли и нужно!
информации. Говорят, что деловой язык нелитературен, по
скольку служил для деловых целей (Исаченко, 1980, с. ИЗ)
и потому «для развития современного русского литературной
языка знание древнего делового языка имеет вторичное зна
чение» (там же, с. 117). Тут двойная ошибка. Во-первых, ва
жанры древнерусской письменности служили только для дело
вых целей; проблем эстетических или развлекательных они и
ставили и не решали. Даже «Слово о полку Игореве» — само!
красочное по языку произведение языческой поэзии — при бли
жайшем рассмотрении оказывается чуть ли не деловым отче
том о походе, правда (и это делает текст поэтическим), состав
ленным на языке XII в. Во-вторых, разноаспектность деловоП
текста и его соотнесенность с разными обстоятельствами и ад
ресатами вмещает в себя все возможные жанры средневеково!
литературы: от плача-мольбы до жития. В сущности, «делово!
язык» средневековья в жанровом и стилевом отношениях рав
ноправен с церковно-книжным, но отличается от него характе
ром обозначений и ситуаций. По этой причине кажутся спра
ведливыми слова ученых, которые полагали, что деловой язьп
Древней Руси и есть воспроизведение народно-разговорной ре
чи, но обработанной и отшлифованной веками формулы. «(
изучения именно этих текстов надо начинать историю русскоп
литературного языка» (Ларин, 1975, с. 34).
Этими словами Б. А. Ларин отметил особую важность язы
ка древнейших договоров русских с греками (X в.), сохранив
шихся в составе летописи. В них дана разработанная формуль
ность русского быта, «запись изустного договора»; однако эт)
тексты отражают и литературный язык. В нем, в частностн
много таких компонентов, появление которых впоследствш
стали объяснять влиянием церковнославянского языка. Они да
ны пока рядом — как пришедшие из разных традиций: визав
тийско-болгарская формула «построити мира» равнозначв
русской «положити ряд» (Ларин, 1975, с. 43). Соотносясь дру:
с другом и вызывая в результате замены своих компонента
122
развитие смысловых оттенков слов, подобные пары со време-
нем создают материал для среднего стиля нового литератур-
ного языка. Б. А. Ларин показал также длительную традицию
развития наддиалектных форм обработанной речи в древне-
русских грамотах (там же, с. 94—108), причем словесные фор-
мулы не были случайным созданием книжника: древнерусская
терминология и фразеология делового языка связаны «с на-
родными морально-религиозными воззрениями» (с. 108). Сле-
довательно, и в этом отношении народная традиция развивает
параллельные христианской литературе идеи и образы. Изуче-
ние текстов древнерусских грамот подтверждает заключение
ученого: «Можно говорить об общерусской основе языка и этих
документов» (с. 101).
Великокняжеские канцелярии рано восприняли формуляр
византийского делопроизводства, некоторые формулы попали в
практику актового письма уже в XII в. Примером может слу-
жить известная «Мстиславова грамота» около ИЗО г. В то вре-
мя как обычные грамоты избегают намеренного упоминания
авторского «я», княжеские грамоты с этого местоимения чаще
всего начинают. Ср.:
Се азъ, Мьстиславъ Володимирь с[ы]нъ, дьржа русьску землю, въ свое
княжение повелЬлъ есмь с[ы]ну своему Всеволоду... (Обнорский, Бархуда-
ров, 1952, с. 33).
Фонетические русизмы очень важны при квалификации тек-
ста как русского, однако формульность грамоты заставляет
предполагать книжные источники формуляра. «Даже который
князь», «почьнеть хотЪти отяти», т. е. ‘захочет отнять’, «а б[ог]ъ
буди за тЪмь», «донелЬже ся миръ състоить», «кто ся изо-
останеть въ монастыри», «при животЪ и въ съмьрти» — все это
формулы книжного происхождения, а отчасти кальки с грече-
ского, как изоостанется (ср.: ёх-Хеиг-га&д'. с медиальным окон-
чанием) или състоятися (ср.: оомикгди ‘сосуществовать’) (Иса-
ченко, 1980, с. 117). Последнее из приведенных сочетаний так-
же результат наложения двух культурных формул, поскольку
в древнерусском обиходе до XVI в. были только сочетания «по
животъ», «до живота моего», «по животВ» и др., упоминания
о смерти избегали.
Текстообразующим элементом княжеской грамоты было
личное местоимение, которое определяло характер (стиль) по-
следующего текста. Все княжеские уставы XI—XII в. имеют
формульное начало «Се яз, князь великий, Василей, нарекае-
мый Володимер, сын Святославль, унукъ Игоревъ блаженыя
Ольги. . .» (Древнерусские княжеские уставы XI—XIV вв. М.,
1976, с. 14). Вариант книжного произношения се азъ встреча-
ется редко, обычно сохраняется русский вариант се яз. Изме-
няется отношение к полногласным формам {Владимир вместо
древнерусского Володимер), обновляются формы {сынъ Воло-
123
димеровъ вместо сынъ Володимерь) и т. д., но формула как
признак жанра остается постоянной. Если устав составлен не
великим князем, формула также изменяется: «А се даю. ..»
(с. 141), «А се уставь» (с. 145) и т. п. В домонгольский период
образцом «мег быть язык болгарских царских канцелярий, и
они [русские писцы] переняли оттуда формулу начала княже-
ских грамот „се азъ” с болгарским .личным местоимением 1-го
лица» (Дурново, 1969, с. 94—95). Источник заимствования мог
быть и другой, например некоторые евангельские формулы, хо-
рошо известные книжникам (Зееман, 1985, с. 8); ср.: «се азъ
есмь, егоже вы ищете», «се азъ сълю къ вамъ пророкы» и др.
(Словник, IV, с. 49—50; Остромирово евангелие, л. 215в, Мтф.
23, 34); во всех случаях это перевод устойчивого греческого
сочетания ёуш ‘вот я’, ‘вот послушайте (посмотрите)’ и т.д.
Последующее осмысление заимствованной формулы дало но-
вые формы: сим я. ., настоящим я. . . и т. д., но смысл исход-
ного сочетания оставался неизменным. И в данном случае воз-
никающие расхождения функционально оправданы текстом, а
формулы приспосабливаются к изменяющимся условиям жиз-
ни и развитию языка.
Договорные грамоты пользовались формулами юридического
языка, которые также изменялись. Вот несколько сопоставле-
ний.
Договорная грамота Новгорода с Готским берегом (1189—1199 гг.)
Се язъ, князь Ярославъ Володим-Ьричь, сгадавъ с посадникомь с Ми-
рошкою и с тысяцкымъ Яковомь, и съ всЪми новгородъци, подтвердихомъ
мира старого с послом Арбудомь и съ всЪмч пЪмьцкыми сыны, и с гты, и
съ всемъ латиньскымь языкомь (Грамоты Великого Новгорода и Пскова.
М.; Л., 1949, с. 55).
Договорная грамота Новгорода с Готским берегом (1262—1263 г.)
Се азъ, киязь Олександръ и сынъ мой Дмитрий, с посадникомь Ми-
хаилъмь, и с тысяцькымь Жирославомь, и съ всЪми новгородци докоича-
хомъ миръ съ посломъ нЪмьцькымь Шивордомь. .. и съ всЪмъ латиньскымь
языкомь (Там же, с. 56).
Договорная грамота тверского великого князя с Новгородом (1316 г.)
Се докончалъ великый князь Михайло съ владыкою Давыдомъ и с по-
садникомь и со всимь Новымь городомь, что ся учинило промежи киязя и
Новагорода розратье. Что взято въ княжи волости в замятию, или у на-
мЪстниковъ, или у пословъ.., то вес князь отложилъ (Там же, с. 23)..
«Подтвердити мира» — развитие исходной формулы «пост-
роите мира», которая является, в свою очередь, слишком одно-
значным и весьма дословным переводом византийской форму-
лы. Но и новая формула не закрепляется из-за неустойчиво-
сти и разнообразия союзнических отношений договаривающих-
ся сторон: появляется вариант формулы «докончати миръ»,
а затем терминологизированное (со включением в свое значе-
124
нне слова миръ) «докончати». Аористные формы заменяются
перфектом, устраняются причастия, текст грамот постепенно
наполняется новыми словами, невозможными прежде из-за
узкой формульности изложения. Фонетические и грамматиче-
ские русизмы все шире проникают в грамоты, поскольку функ-
циональное свойство данного типа текстов — конкретность и
понятность — всегда принимается во внимание. При сопостав-
лении грамот видно, как изменения языка диктуют обновление
традиционных форм. Это касается не только перфектов, но и
сочетаний типа «ся учинило», «въ княжи волости» и т. п., еще
возможных в начале XIV в., но затем исчезающих под пером
писца.
Еще нагляднее стремительность языковых перемен осозна-
ется при сравнении различных вариантов одного текста. Ис-
пользуем традиционный пример—«Торговый договор Смолен-
ска с Ригою и Готским берегом» 1229 г.
Вариант А (оригинал): Что ся дКетК по вКремьнемь . то отидето по
вЪрьмьнемь . Приказано будете добрымъ людЬмъ . а любо грамотою
утвЪрдять . како то будьте всемъ вЪдомъ . или кто посль живыи оставать-
ся (Смоленские грамоты XII—XIV вв. М., 1963, с. 20).
Вариант Д (список 1270—1277 гг.): Что ся въ которое в-Ьремя начнеть
дЬяти то утвьржають грамотою . а быша ся не забыли . познайте . на па-
мять держите нынешними . и по сЬмь времечч вудучи (вар.: будучи) (Там
же, с. 35).
Вариант В (список 1297—1300 гг.): Се язъ князь . смоленьскии Олек-
санъдръ . докончалъ есмь . с немьци . по давному докончанью . како то .
докончали отци наши дЬди наши . на техъ же грамотах целовалъ есмь
крестъ . а се моя печать (Там же, с. 25).
Даже философская мысль о времени, которое разрушает
прежние договоры и дела, в конце концов становится непонят-
ной, искажается или устраняется из текста. Стабилизация жан-
ра требует неукоснительной верности процедурным формулам,
которые, в свою очередь, изменяются.
Кроме афоризма о времени, в приведенном отрывке вари-
анта А содержится еще четыре формулы, и все они традицион-
ны. Впоследствии они распределятся по разным грамматиче-
ским классам примерно так, как здесь: «а грамотою утвЪрдять»
дает обобщенное «утвьржають грамотою». То, что прежде про-
сто «докончали», теперь подтверждают целованием креста и
печатью. Все больше конкретизируется изложение докумен-
тальной части: сначала это неопределенное философское обоб-
щение, затем, как бы в развитие той же мысли, настойчивое
повторение, своего рода плеоназм («чтобы не забыли», «на
память держите», «познайте»), наконец, упоминание отцов и
дедов, которые воплощают ту же идею прошлого, что надле-
жит помнить и знать. Происходит также переработка конкрет-
ных формул: «кто посль живыи оставаться» — «и по сЪмь вре-
мени будучи». Это выражает общую устремленность делового
125
текста к точности и ясности изложения, но одновременно и к
устранению слишком разговорных, бытовых конструкций. Уста-
навливается нормативный образец, который должен служить
примером для произведений данного жанра. Одновременно от-
тачиваются свойственные этому жанру языковые особенности.
Больше всего сомнений в «литературности» возникает у не-
которых исследователей относительно новгородских берестяных
грамот; вопрос о «литературности» граффити вообще не вста-
ет, видимо потому, что все такие надписи, произведенные на
сухой штукатурке, не считаются принадлежащими литературе.
Это вторая логическая ошибка, согласно которой материал,на
котором записан текст, признается решающим аргументом при
определении литературности текста. Если текст записан на слу-
чайном куске бересты, необходимо поставить вопрос, что это за
текст, и уже после этого говорить о принадлежности его к опре-
деленному «языку». Между тем отмеченная логическая ошибка
способна привести к важным идеологическим и методологиче-
ским просчетам.
Судя по свидетельству раннесредневековых и средневековых
наблюдателей, дерево для жителя лесных европейских райо-
нов как раз и было основным материалом письма, и наша
беда в том, что сохранилось мало текстов, записанных на дере-
вянных пластинках или бересте, иначе мы давно получили бы
свидетельства о литературности таких текстов, нам не при-
шлось бы реконструировать древнейшие формулы народной
поэзии или обычного права, отражающие наддиалектный (ли-
тературный) язык восточных славян.
Много споров вызвала берестяная грамота № 9, написан-
ная женщиной в Новгороде (XI в.):
От Гостяты къ Васильви . Еже ми отьць даялъ и роди съдаяли . а то
за нимь . А нынЬ водя новую жену . а мъне не въдасть ничьтоже . избивъ
рукы . пустилъ же мя . а иную поялъ . Доеди . добрЪ сътворя (Арцихов-
ский, Тихомиров, 1953, с. 40).
Н. А. Мещерский (1981, с. 61) показал, что многие форму-
лы этой грамоты находят соответствие не только в древнерус-
ских, но даже в переводных текстах XI—XII вв.: «сию пустити
хощетъ, а иную пояти» есть в «Александрии», «юже поять пу-
стивъ первую» — в «Истории» Иосифа Флавия; другие обороты
повторяются в нескольких других берестяных грамотах («доб-
рь сътворя», «еже ми отьць»). Новые находки позволяют уве-
личить число таких дополнений: «въдаль за та» есть в грамоте
№ 231 (XII в.), възми или въдай очень часто встречаются в
берестяных грамотах; в «Уставе Ярослава» находим «аще же
пустить. . .жену. . . за сором ей», «а чим ю паки род окупит»,
«аже муж оженится иною женою, а съ старою не роспустит-
ся. . . молодую поняти в домъ церковный, а съ старою жити»,
126
<кто имет двё, жены водити» и т. д. (Древнерусские княжеские
уставы. с. 86—87).
- Таковы только текстуальные сближения, хотя возможны и
Солее отдаленные связи, например с переводом «Книг закон-
аых». Неверно искажать текст берестяной грамоты № 9, ис-
правляя изби на съби, поскольку ранее XIII в. трудно ожи-
дать озвончения согласного в составе приставки. Даже сло-
варь дает написание «и зби въ рукы» (Сл. РЯ XI—XVII вв.,
вып. 6, с. 98), хотя выражение «избивъ рукы» вполне понятно
л значит ‘расторгнув ряд, уговор’ (ср. современное «бить по
рукам»). Приставка из- употреблена здесь в значении ближ-
пего дейксиса и значит ‘наоборот, обратно’ (равнозначна сло-
вам вон, вне), т. е. буквально: разбив руки, которыми прежде
;били; одновременно это и значение полноты, исчерпанности
^действия, что характерно как раз для древнерусских образо-
ваний с префиксом из- (Ляпунов, 1929).
В результате мы обнаруживаем набор синтагм текста, каж-
дая из которых соотносится с бытовыми формулами Древней
(Руси, имевшими широкое хождение; они использовались даже
в переводах светских текстов, заменяя соответствующие фор-
мулы греческих оригиналов. В берестяной грамоте № 9 нет ни
(одного слова, которое не было бы возможно не только в дело-
ром, но также и в повествовательном («литературном») тек-
ите. Почему же этот текст во всей законченности его формул
(не признать литературным?
Важным свойством берестяных грамот как источника явля-
ется постоянное смешение формул юридических, поэтических
(и бытовых; примеров смешения много, приведем некоторые из
I них:
( Грамота ЛЬ 109, XI в.: Грамота отъ Жизномира къ Микуле. Купилъ еси
; робу Пл-Ьскове. А ныне мя въ томъ яла кънягыни. А ныне ся дружина по
; мя поручила. А ныне ка посъли къ тому мужеви грамоту, е ли у него роба.
=А се та хочу, коне купивъ и къняжь мужь ьъсадивъ, та на съводы. А ты,
[ атче еси не възалъ кунъ техъ, а не емли ничътоже у него (Арциховский,
(Борковский, 1958, с. 40).
( Грамота № 49, XIV в.: Поклонъ от Ностасьи къ господину къ моей къ
I бъратьи. У мене Бориса в животЬ нЪтъ. Какъ се, господо, мною попецалуете
? и моими дЬтми? (Арциховский, 1954, с. 52).
[ Грамота № 10, XV в.: Есть градъ межу нобомъ и землею, а к ному еде
1 посолъ безъ пути, самъ нимъ, везе грамоту непсану (Арциховский, Тнхоми-
I ров, 1953, с. 43).
| В этих текстах все формулы и слова в их составе, безуслов-
I но, литературны, а кроме того, они (это также их особенность)
; отражают разговорный язык своего времени во всех тонкостях
| произношения. Если число отклонений от традиционной орфо-
( графин признать за примету нелитературности, тогда очень
j многие и особенно ноггородские рукописи до конца XV в.
| придется признать нелитературными, в том числе служебные
I минеи, евангелия и особенно прологи. В приведенных текстах
I 127
отражено и сохранение редуцированных (в грамоте XI в.|
и следствия их падения (в грамотах XIV—XV вв.; нобомъ, т.|
нёбом вместо небом), не говоря уж о морфологических русиз?
мах, которых много и в других берестяных грамотах (cpj
смешение ей®, мужеви вм. мужю, коне купивъ, хочу, роба |
др.). Если первые два текста связаны с юридическими формул^
ми, последний представляет собой церковную загадку с отвй
том «Ноев ковчег», хотя записана эта загадка на обычной
разговорном языке, как и формула детского фольклора в гр®
моте 46 (рубеж XIV—XV вв.): «невЪжя писа, недума каза, а
хто се цита. . .» (Арциховский, 1954, с. 48). i
Разумеется, среди текстов, записанных на бересте, есть а
нелитературные в этом узком смысле слова, есть и такие, ко
торые, наверное, писали нерусские люди. Однако большинство
новгородских берестяных грамот безусловно относится к числу
источников русского литературного языка.
Как пример граффити возьмем одну запись, достаточно об-
ширную и безусловно литературной формы, — запись о Боянов
вой земле второй половины XII в. в киевской Софии:
М[е]с[я]ця енаря въ .л. с[вя]т[о]го П[олит]а . крила землю княгини Боя;
ню Всеволожаа . передъ с[вя]тою Софиею пеоедъ попы. А ту былъ попинъ
Якимъ [перечисляется еще 11 имен] . А передъ тими послухы купи землю
княгынн Бояню вьсю. А въдала на ней семьдесятъ гривьнъ соболииа . въ
томь драниць семьсъту гривьиъ (Высоцкий, 1936, с. 61).
В тексте множество русизмов, на основании которых обыч-
но выделяют древнерусские «нелитературные» тексты: полно-
гласие, начальные я (Якимъ, а не Акимъ), тими, а не тЬми,
много остатков слабых редуцированных и т. д. Четко различа-
ются клир (попы) и единичный его представитель (попинъ)-,
архаичные формы (княгыни, Всеволожаа, Бояню — с суффик-
сом [/], сложное числительное) соседствуют с архаичными ело-:
вами, ср. особенно драниць, что переводится как ‘отрезанное
(отделенное от общей суммы в виде десятины церкви)’, и кри-
ла ‘купила’. Древнейшим славянским термином продажи был:
глагол крьнути, купити — новое заимствование из германского:
(см.: ЭССЯ, вып. 12, с. 160—161). Текст представляет собою
повторение одного и того же сообщения, выраженного не-:
сколькими (разными) формулами: «крила землю» — в старин-
ной славянской формуле с перфектом и «купи землю» — в:
новой книжной с аористом; ср. также упоминание о свидете-
лях: «передъ попы» — книжная формула, «передъ тими послу-:
хы» — славянская разговорная; рядом со словосочетанием;
«семьдесятъ гривьнъ» стоит форма «соболина», т. е. количест-
во гривен представлено в натуральном, «меховом», исчислении.:
Наряду с формой драниць мы ожидали бы десятина, но, ви-
димо, в таком соединении эти два слова показались неумест-
128
ыми, поскольку таким образом они попадали бы в одну
витагму.
= Формульность текста подтверждается синтаксически, пото-
!у что общей связкой является синкретичное а, но глагол и
правляемое слово, несмотря на то, что они разделены не-
колькими словами, согласуются формально (въдала... въ
омь).
Редкий для древних источников случай, когда в одном тек-
те совмещены русская правовая формула и ее перевод в виде
Ьвой, церковной, формулы, что оправдывает и соединение кре-
Тильных имен и метонимического названия собора с языче-
ким именем Боянъ. Если бы удалось выявить большое число
Юдобных дублетных формул, это позволило бы наглядно про-
ледить способы наложения культурных текстов и их словесно-
о выражения.
Таким образом, записанные на разном материале, не обяза-
ельно на пергамене, подобные тексты представляют собой
шксацию широко известных в устной практике формул юри-
[ического и бытового характера, которые восходят к давней
радиции и еще живы в XI—XII вв., если их знают женщины,
юторых в условиях раннего средневековья вряд ли допускали
: изучению этой стороны жизни и мало знакомили с торжест-
енным «литературным» языком новой христианской идео-
ют и.
«Движение литературы к документу и документа к литера-
уре представляет собой закономерный процесс постепенного
.размывания” границ между литературой и деловой письменно-
лъю. Процесс этот в литературе был связан с деловой жизнью
>усского государства, со встречным процессом роста й станов-
(ения жанров государственного делопроизводства и появле-
шя архивов. Он был крайне необходим для разрушения ста-
Юй и становления новой системы жанров» (Лихачев, 1972,
25).
Этот важный вывод подтверждается исследованием самых
>азных источников, а массовый статистический подсчет языко-
>ых фактов в соответствии с жанровыми, стилевыми и други-
«и разграничениями средневековой литературы доказывает
>днонаправленность процесса. Например, специально в псков-
:ком, наиболее архаичном в диалектном отношении регионе
:редневековой Руси, весь набор варьирующихся флексий скло-
1ения ясно показывает развитие системы языка (в частности,
унификации по типам склонения и в зависимости от -катего-
)ии числа), а вариации архаичного и нового возникают в рам-
ах определенных лексико-семантических групп
:лов. Собственно диалектным в то время было не наличие/
псутствие той или иной формы (они могли встретиться в лю-
5ом тексте), а степень, количество и качество ее употребления.
Го, что сегодня представляется диалектным в сравнении с ли-
Колесов В. В. 129
тературной нормой, не было таковым в эпоху средневековье
При этом «обращает па себя внимание меньшая архаичном!
[даже] конфессиональных текстов XIV в. в сравнении с такй
ми же текстами XVI в., строгое следование определенным прии
ципам отбора языковых форм в повествовательных текста!
XVI в. . . .Конфессиональные тексты XIV—XV вв. выделяют^
отсутствием многих флексий, отмеченных в летописных и де
ловых текстах. Множество разных флексий в деловых памя*
никах могло быть и следствием отсутствия строгих норм в са(
мом жанре, невосприятия его как особого типа литературной
текста» (Герд, Капорулина, 1984, с. 38—39). Таково состояв®
деловых текстов накануне сложения новых норм; только ad
тексты создавали перспективу развития, поскольку в конфес
сиональных текстах отсутствие варьирования прива
дит к консервации архаичных норм и к созданию церковносла
вянского стандарта.
ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ j
Динамика текстов отражает развитие языка. На основе опа
санных изменений можно представить процессы, происходив'
шие в литературном языке.
При изучении изменений разножанровых текстов древн?
русской литературы обнаруживается диалектическое единстве
первоначально недифференцированных (ни семантически, ш
формально) литературных образцов как переводной, так и на?
родной словесной культуры. Их взаимное сближение в ходе
исторического развития шло по линии темы и смысла, а взай
мопроникновение двух различных символико-мифологических
рядов основывалось, определяя схождения, на общности и сиМ;
волики, и словесных формул, связанных с ритуальной их интер)
претацией. Со временем это приводило к одинаковой дифф?
ренциации жанров и частичному их совмещению, хотя безус-
ловным признаком разграничения письменной и устной литера^
туры на протяжении всего средневековья последовательно
оставалось содержательное противопоставление двух поэтико:
логических возможностей выражения — абстрактно-общего в
конкретно-личного. Однако культурная бивалентность в отно;
шении «стиля жизни», жанров и т. д. не сопровождалась язьь
ковой диглоссией, поскольку столкновение и взаимопроникно)
вение культурных формул происходило не на уровне языков,
а на уровне текстов. ;
Одно и то же слово представлено в различных значениях
в зависимости от происхождения содержащих его формул, в
зависимости от традиции употребления и даже грамматической
формы его воплощения (Колесов, 1985). Домъ в конфессио-
нальном, народно-поэтическом или деловом текстах в предпоч:
тительных сочетаниях с глаголом, местоимением или прилагав
130
гльным развивает несовпадающую сумму переносных значе-
вй и производных имен. Если, например, слово мЪсто в Еван-
уши или летописи употребляется при описании события, в
1итии — лица, в хождении — предметов, в «слове» — места
ействия, в грамоте — объектов действия, ясно, что содержа-
гльный смысл этой лексемы определяется не столько синкре-
азмом ее семантики, сколько прагматикой каждого данного
метания слов. По этой причине на общем для разных типов
екстов предельном уровне в синтагме-формуле происходи-
а постепенная переработка и слов, и форм, и звучания, и са-
вх формул, превращавшихся со временем в синтагмы нового
итературного текста. И когда этот длительный, очень слож-
ый процесс завершился, система языка оказалась окончатель-
0 изменившейся, отпала и надобность в формулах-образцах.
1авершился «славянорусский» период истории литературного
зыка восточных славян и обозначились новые установки на об-
разец, на устный субстрат и на стиль. Раздвоение жанров в сти-
истическом отношении и максимальное расхождение форм в
дух типах литературной речи по времени совпадает с оконча-
ельным сложением собственно русского (великорусского) язы-
а — в конце XIV в. (Образование, 1970, с. 231). Это время так
взываемого «второго южнославянского влияния», а на самом
[еле—внешняя форма выражения происходивших в восточно-
лавянском языке изменений в новых социальных установках
а литературный текст (одно из проявлений Предвозрождения;
м. работы Б. А. Ларина, Д. С. Лихачева, М. И. Мулича и др.).
Статистические выкладки Д. Ворта подтверждают, что в от-
ношении языка и стиля «Москва вернулась к собственному
культурному прошлому» (Ворт, 1983, с. 372), т. е. предпочла
Национальные языковые формы воплощения мысли и переда-
ли информации.
: Изучение древнерусского литературного языка затруднено
h-за сложностей, связанных с установлением образцовых тек-
ггов. Они амбивалентны и по происхождению, и по функции.
С одной стороны, в их основе лежат вполне народные, т. е. по
[уществу своему интернациональные, словесные формы, с дру-
•ой — они подверглись влиянию вполне определенной культур-
10Й формы, которую и впитали в себя. Такое же внутреннее
фотиворечие обнаруживается и при разграничении жанров
(итературы, в средние века мало различаемых как книжные
1 народные. В зависимости от развития темы один и тот же
Каир можно было развернуть в ту или иную сторону, сделав
ЦО либо традиционно-книжным, либо разговорно-народным.
Сложность, стоящая перед современным исследователем, уве-
личивается оттого, что сегодня и народная форма средних ве-
Фв стала для нас столь же традиционной и отмирающей, как
рижная, уступившая ей место раньше. За далью времен мы
утрачиваем перспективу относительной ценности жанров, сти-
I» 131
1
лей и самого языка. Пойти по формальному пути и считав
литературным только «высокие» ипостаси каждой отдельно!
формы — значит совершать насилие над историко-литерату|
ным процессом. I
На всех этапах дифференциация культурных текстов шл)
параллельно с изменением стиля жизни. Так, расхожденй
между книжной и народной культурами соотносится с корей
ным дуализмом средневековой власти — церковной и светско!
духовной и политической. Развиваясь параллельно, они и пре|
ставляемые ими типы культурных текстов предстают снача^й
как функционально равноценные. После утверждения государ
ственной власти и по мере ее укрепления именно светские тек
сты получают наибольшее развитие как воплощающие наций
нальную идею — в этом причина окончательного предпочтений
одного из вариантов.
Синкретизм литературных форм древнерусской эпохи усту
пает место диалектическому их раздвоению, выражающему об
щую устремленность к идеологическому противопоставлению вы
сокого и низкого, небесного и земного, идеального и мирского
отвлеченного и конкретного. Каждая формула литературной
языка в таких условиях подвергалась разнонаправленным вой
действиям: можно было конкретизировать и максимально пол?
но истолковать ускользающий смысл древней формулы, либо
наоборот, еще более зашифровать этот смысл, скрыть его о1
непосвященных, убрать вглубь формулы, так чтобы со сторож
ны она казалась невыразительным штампом. С одной сторд
ны — любая возможность согласовать форму с произошедшими
в самом языке изменениями, с другой — сохранить старый
формы и за ними скрыть глубинные процессы языкового раз-
вития, тем самым создавая еще раз необходимую для тайной
писи двойную перспективу образа. С одной стороны — попытка
развернуть образ в понятные всем метафору или сравнение, с
другой — еще глубже вогнать его в тайные глубины формулы)
сохраняя как символ.
Таким образом, «стиль жизни» диктовал свои условия сти-
лю литературы, а идеологические установки времени опреде-
ляли выбор наличных языковых средств для их воплощения:
Архаические формы словесных блоков обновляются — или оста;
ются старыми, но отчасти видоизменяются в категориальной
смысле (например, чтобы выразить новые видовые отношения,
используют две традиционные временные формы: аорист как
эквивалент совершенного вида в прошлом, имперфект как
эквивалент несовершенного вида). Расширение текста идет зй
счет традиционных же сочетаний (или авторитетных цитат)
или путем раскрытия внутренней структуры и смысла тради-
ционной формулы (в текстах народной ориентации). Возникав
ет совершенно новое качество литературного языка, которопг
прежде не было: переносные значения слова как бы снимают
132
^традиционной формулы, в составе которой они находились
фежде, общий их смысл, что обогащает семантическую струк-
туру отдельного слова, уже освободившегося от влияния кон-
текста с жесткой связью в составе формул.
р Концентрация литературных форм на двух культурных по-
носах происходила только с конца XV в. Народно-поэтический
гип, до того времени еще устный, существовал как самостоя-
тельный и препятствовал сближению или противопоставлению
5ысоких книжных и деловых жанров, оставаясь тем функцио-
нально средним компонентом, который нейтрализовал противо-
положности в их конкретном совмещении (например, он был
сходен по употреблению тропов с литературно-книжным ти-
пом, а по происхождению — с деловым и т. д.) (см. также:
Мещерский, 1981, с. 113). Можно утверждать и обратное: на-
личие подобной нейтрализации препятствовало устранению на-
родно-поэтического типа из системы литературных текстов.
Запись и книжная обработка народно-поэтических текстов с
XV в. поставили этот тип на один уровень с остальными типа-
ми древнерусских текстов, что и привело к растворению его в
двух крайних разновидностях литературной речи — деловой и
конфессиональной.
В отношении же стиля постоянно противостояли друг
другу два варианта, одинаково воплощавшие устную стихию
речи: публицистически ораторский, книжный, восходящий к пе-
реводным образцам. — и собственно народно-поэтический, тогда
как деловая речь в противопоставлении двум указанным вари-
антам оказывалась нейтральной как раз применительно к сти-
лю (отсюда миф о ее «художественной ущербности»). Одно-
значность смысла в деловой речи обусловливается прагмати-
ческой установкой на текст; в таких жанрах раньше
Дроисходит усреднение стиля, снимающего противополож-
ность между художественными жанрами — особенно в мо-
мент развития новых тропов (метафора с XV в., которая, одна-
ко. не развивается в деловых текстах); с XVII в. то же про-
исходит и в публицистике.
Основополагающий признак этого движения состоит в ста-
билизации высокого стиля. Норма как связывающая всех кон-
станта речевой культуры развивается в авторитетном высоком
стиле, а отсюда, между прочим, и глубокая убежденность
современного исследователя в том, будто именно церковносла-
вянский язык, воплощавший этот стиль, в тот период господ-
ствовал и был, по существу, единственным литературным язы-
ком. Политическая, государственная, идеологическая необходи-
мость требовали создания нормы, и основные ее формальные
компоненты были найдены в архаизмах (идеал — в прошлом).
Высокий стиль осознается на фоне нейтральных средств (они
по-прежнему отличаются прагматической установкой), он не
создавался искусственно, а неизбежно складывался в ходе
133
развития языковой системы как функционально оправданны!
набор архаических форм. Социальной основой этого процесс
стало то, что «литературные памятники в XV—XVI вв. стай
вятся достоянием только высших кругов общества (дворяне^
ва, духовенства). В связи с этим они подвергаются „славян^
зации”; язык подделывается под книжный, ученый. Это втй
ричный слой» (Ларин, 1975, с. 189). Развитие стиля определи
лось социальными требованиями времени, но также зависел^
и от развития системы родного языка.
Многие споры вокруг древнерусского литературного язык)
оказываются напрасными в свете рассмотренных фактов; та|
народной (устной) поэтике древнерусские книжники против»
поставили риторику как осознанное знание о художественно!
речи, вполне искусственное, но также корнями своими восх»
дящее к народному творчеству. Нельзя говорить о противоп»
ставленности книжно-письменных традиций церковнославянски
го языка народно-устным, риторические приемы в основе свое!
также имеют устную речь и потому представляют собой запись
устной речи; слово, послание, повесть — все это произносилось,
прежде чем было записано; произносилось если и не точно i
таком виде, то все же составляющие текст формулы, цитаты,
выражения неоднократно воспроизводились и чаще переходилв
устным путем, чем посредством нормативных сводов, словаре!
или грамматик.
Говоря об изменениях функции, жанра, стиля, формировав-
ших литературные нормы, не следует забывать, что для древ-
нерусского периода все эти аспекты воплощения в художест-
венном слове слиты воедино и только последующая история
литературы постепенно дифференцирует их в указанной после-
довательности, разграничивая их специализацию: то, что в
XII в. прагматически — функция, в XV в. — жанр, а в XVIII —
стиль. Многозначность самих терминов затушевывает своеобра-
зие средневековой художественной практики, и это следует
иметь в виду, вычленяя разные аспекты нормы. :
В различные исторические эпохи в качестве типичного лите-
ратурного жанра выступают разные произведения; определя-
ющим в выборе жанров является как раз их типичность для
данного времени, а кроме того и способность к разработке но-
вых языковых средств в границах каждого жанра («смешение
жанров», степень ориентации на разговорную речь и пр.).
Типичным в XVII в. окончательно становится жанр житий.
Многие, казалось бы, обычные особенности этого жанра на
самом деле не столь просты. Например, «вяканье», которым
под видом смиренного самоуничижения так гордился Авва-
кум, — явление весьма пестрое по своему составу.
На всех этапах развития восточнославянского языка вид-,
но, что история так называемого литературного языка есть:
история постепенного развития и преобразования речевого ма-
134
Сериала (текста) под влиянием речевой деятельности (творче-
ских потенций своего времени) и обусловленного ею изменения
Языковой системы. Изменяется и тип образца; теперь важна
система (язык) вместо текста. На основе дифференциации
языковой формы становится возможной большая дифференциа-
ция семантики.
В процессе своего развития национальный язык накопил та-
кое количество вариантов однозначных единиц текста, что
встал вопрос о приведении в порядок наличных форм. В но-
вое время достигнуто понимание того, что компактный способ
хранения информации заключается не в бесконечном накопле-
нии одномерных единиц текста (формул-синтагм), но в иерар-
хии разного рода систем и стилей в соответствии с их функ-
цией, т. е. в стратегическом углублении языковой перспективы.
Тогда и проявилось качественно новое отношение к языку и к
стилю. Возникла необходимость в синтезе новых норм.
Часть вторая J
ЯЗЫК —СТИЛЬ '
Глава 1
СИНТАГМА РЕЧИ И ФОРМУЛА ЯЗЫКА
То, что выше условно называлось синтагмой или формулой
требует обстоятельного обсуждения. Смысл понятия, обозна'
ченного этими терминами, не до конца ясен, поскольку не изу-
чено само определяемое ими явление. Предложенные термина
одинаково отражают только одну сторону явления, важную для
исследователя, но не выделяют его существенного признака.
Правда, синкретичное по существу явление сегодня только я
можно обозначить рядом аналитически представленных тер-
минов.
В самом деле, «заветные формы» Н. А. Добролюбова — с(>
четание, которое выделяет потаенность смысла, принадлежа-
щего другой культуре. Сохраненные от античной культуры тер-
мины «топос», loci communes, как и русские их соответствия —
«общие места», «типические места», — фиксируют отношение
формулы к тексту, а не сами формулы. Вдобавок «текстовые
мотивы», организующие топосы, гораздо шире формул по сбъ-
ему и функции. У Епифания Премудрого можно насчитать до
25 общих топосов, характерных для средневековой письменно-;
сти (Чижевский, 1956, с. 108—НО), и каждый из них состоит^
в свою очередь, из нескольких формул. i
Определения «группа» (В. М. Загребин), «устойчивый ело-
весный комплекс» (А. Г. Ломов), «словесное срагцениеН
(А. Н. Робинсон), «бином» или «блок» (А. Т. Хроленко) чиста
внешне отражают состав словоформ, совместно создающих;
формулу. Термины «колон» (Р. Пиккио) или «период» (от ан-;
тичной традиции до риторик XVII в.) подчеркивают ритмоме-
лодическое единство словесного комплекса, так же как и «син-|
тагма» (Л. В. Щерба) или «синтаксема» (М. М. Копыленко)-
фиксируют синтаксическое, т. е. контекстное его единство. (
Слово формула никогда не употребляется самостоятельно^
но только с уточнениями: «стереотипные формулы, повторяю-)
136
щиеся при однородных случаях» (В. Мансикка), «постоянные
формулы» или «повествовательные формулы» (А. С. Орлов),
«устойчивые формулы» (И. П. Еремин, Н. А. Мещерский). Тер-
мин «формула» с семантическим включением всех подобных
определителей наиболее удачен, он подчеркивает функциональ-
ное назначение словесного комплекса, хотя известны попытки
переосмысления его в лингвистическом плане: «поэтический
фразеологизм» (А. Т.-Хроленко, М. М. Копыленко), «традици-
онное устойчивое словосочетание» и также «традиционная фор-
мула» (О. В. Творогов).
В зависимости от отношения к коммуникативной или поэти-
ческой функции формулы получают другие наименования; с од-
ной стороны, «повествовательные шаблоны» (А. С. Орлов),
«готовый ярлык» (В. В. Виноградов), «готовые стереотипы»
(О. Ф. Коновалова), «речения-штампы» (А. И. Генсьорский),
«трафареты», «трафаретные формулы», «трафаретные выраже-
ния» (Л. Я. Костючук) и т. д., а с другой — «стилистические
формулы» (Н. К. Гудзий), «стилистические трафареты»-
(Д. С. Лихачев), «стилистические шаблоны» (Б. А. Ларин),
«стилистические формулы с ключевыми словами-символами»-
(0. Ф. Коновалова), а в теоретическом осмыслении и описа-
тельно: «минимальный контекст, в рамках которого действует
троп» (Е. Т. Черкасова). Ср. совершенно отвлеченное понимание
того, что мы называем формулой, как минимального контекс-
та—«обработанный для запоминания» (В. И. Ярцева). Такие
наблюдения весьма важны для истолкования смысла формул,
но точный термин для обозначения еще не найден.
Во всех случаях употребление термина с определением не
способствует уточнению понятия: стилистическая мертвенность
штампа, шаблона, трафарета и даже формулы очевидна. Прав
О. В. Творогов, отказываясь от уточнения «стилистический»
Все подобные формулы по происхождению, несомненно, из де-
лового языка и всегда имели терминологическое значение, даже
«их образность... не нарушала терминологичности» (Творогов,
1962, с. 277). Действительно, наше исследование показывает,
что стилистическим средством формулы стали только в момент
их разрушения.
Таким образом, наиболее удачными кажутся два термина:
«синтагма» и «формула». Совместно они отражают пре-
емственность развития речевой последовательности слов в за-
конченную поэтическую формулу с одновременным изменением
и своей функции.
Термин «синтагма», введенный И. А. Бодуэном де Куртенэ,
критически осмыслен и переработан Л. В. Щербой. Сначала
это — всякое парное сочетание слов, члены которого соотно-
сятся как определяющее и определяемое; в широком смысле
признак предикативности также входит в сочетание (путь дер-
жат и) , и для древнерусского языка несущественно современное
137
разграничение между синтагмой и предложением в случаях,;
когда основным свойством предложения является предикатив-
ность. Это уточнение важно, поскольку всю совокупность древ<
нерусских синтагм можно объединить общностью термина; фор-:
мула-синтагма, а не текст и не слово являлись основным эле-
ментом древнерусского литературного языка.
Признаки синтагмы в понимании Л. В. Щербы известны
(см.: Виноградов, 1975, с. ИЗ—114). Представления антично!
и средневековой риторики о ритмическом единстве сочетания:
Л. В. Щерба заменил понятием о семантическом его единстве:
и связал с процессом речи-мысли: синтагма — предельная еди-
ница текста в единстве перечисленных признаков, которая с л у-'
жит для общения и передачи информации. Синтагма появ-
ляется лишь в процессе речи для обозначения сложных поня-
тий, возникающих в процессе мышления, но не имеющих еще
адекватных обозначений; синтагма — всегда результат творче-
ской деятельности человека. Синтагма наполняется смыслом
только в конкретном тексте речи и зависит от смысла целого,;
она меняет свой строй и формальные компоненты в зависимо-
сти от целей коммуникации и особенностей стиля. Такова син-
тагма в современном литературном языке. Однако этот термин:
можно использовать и для описания исторических процессов;
в развитии древнерусского текста. Он противопоставлен тер-1
мину «словосочетание», а тем самым — и парадигматическим;
отношениям в языке, подчеркивает ритмомелодическое и смыс--:
ловое единство сочетания, т. е. грамматическую его цельность.
По-видимому, наиболее строгим было бы такое разграничение:
в потоке речи и в конкретном контексте — синтагма, как язы-
ковая категория — словосочетание, но когда мы говорим о по-;
этической функции синтагмы в связи с ритуалом-действием,!
лучше всего употреблять термин «формула». 1
При изложении материала показаны объем, семантическое!
и грамматическое наполнение, а также внешние границы древ-J
нерусских формул, их терминологическое, поэтическое и рит-1
мическое единство, разные источники возникновения и попол-1
нения их репертуара в древнерусском литературном языке.!
Рассмотрим теперь последовательность развития формул в язы-1
ке и в тексте. ;
Содержательный смысл средневековой литературы — в на-
коплении подобных языковых формул. Прежде чем они под-!
верглись переработке и художественному осмыслению, до того, ;
как в общих текстах столкнулись формулы разного происхож- :
дения, совершалось постоянное развитие все новых речений, !
с помощью которых можно было описать реальность быта иj
истинность бытия.
Древнейшие из известных нам формул народного происхож-
дения охватывают сферу человеческих отношений в семье, об- J
ществе и государстве — это язык права и народных сказаний.!
138
Сначала они ничем не отличаются от обычных оборотов ре-
чи: дати копие, даю копие, далъ есмь копие, дамъ копиемъ
и т. д. Затем сочетание выражает действие по смыслу имени:
дати миръ — помириться, дати отвЪтъ— ответить, дати при-
говора — осудить. Ритуальность действия соотносится с обыч-
ной формулой его обозначения: дати,душу, дати крестъ, дати
правду, дати роту, дати слово — присягнуть; дати лице — опо-
знать, дати полкъ — сразиться, дати животъ — пощадить, дати
на щитъ — разграбить, дати плечи — бежать, дати рядъ — до-
говориться, дати судъ — разобраться. Особенно много подобных
выражений при переходных глаголах типа дати, творити, дЬ-
яти, имЪти, прияти (свыше 1800 сочетаний с 91 глаголом из
числа сохранившихся в текстах — Копыленко, 1967, с. 14—17).
В юридическом, воинском, ремесленном быту такие выражения
сохраняются особенно долго, потому что определенность выра-
жения соединялась в них с точностью смысла: дати плечи —
только ‘бежать’, и ничего больше (многочисленные примеры
см. в работах: Сергеев, 1971, 1972, 1984; Костючук, 1983; и др.).
«Семантическое приращение смысла» (Б. А. Ларин) проис-
ходит за счет столкновения двух компонентов сочетания, их
«растворенность» в целостном значении позволяет в каждом
отдельном употреблении в зависимости от других, соседних,
формул осознать переносный смысл сочетания (Костючук, 1983,
с. 81)—актуализация смысла возможна еще только в кон-
тексте, в сочетании слов, а это, в свою очередь, ведет к возник-
новению образного единства выражения. Когда псковичи гово-
рят: «А не вЪдущи глава, что языкъ говоритъ, и не умЪющи
своего дому строити, а градомъ содержати хощемъ» (там же,
с. 82), — это вполне деловое сообщение, но настолько конкрет-
ное по форме и отвлеченно-обобщенное по смыслу, что в про-
странстве между формой и общим содержанием возникает тот
самый искомый переносный смысл, поэтический образ, который
становится стилистическим материалом в построении художест-
венного текста.
Слово языка копье в определенной социальной среде — дру-
жинной среде — становится термином для обозначения
определенного оружия. Копья бывают разные, они сделаны из
различного материала, не похожи друг на друга по многим при-
знакам. Возникают либо уточняющие определения (самоко-
ванное, булатное и т. д.), либо новые слова (сулица — для обо-
значения короткого метательного копья). Создается ряд тер-
минологически точных слов, смысл которых понятен профес-
сионалу. Все это явления языка, и к «книжной хитрости» отно-
шения не имеют.
Слово, выражающее определенное понятие о реальном пред-
мете, став термином, используется при квалификации различ-
ных, столь же специальных действий, для которых обозначае-
мый им предмет предназначен. Поскольку для называния дей-
139
ствий используются глаголы, теперь они становятся распро-
странителями смысла слова, исходного и обязательного для
всех сочетаний: взяти копьемъ—взять приступом, преломитй
копье — сразиться в поединке, кормитися копьемъ — воевап
(о профессионалах) и т. д. В высказывании о том, что в по-
единке копье обязательно преломится, констатируется реаль-
ное событие; в соответствующем словосочетании еще нет ника-
кого образа. Копье ломают, знаменуя конец какого-то важного
в дружинной среде ритуала. Но поскольку это ритуал (кая
обобщенное в мысли и важное действие), он получает постоян-
ное именование именно по материальному своему проявле-
нию — по изломанному в стычке копью. Слово, обозначающее
такой ритуал, стало термином, и, следовательно, в любом со-
четании типа «преломити копье» оно выражает неопределенно-
общий смысл. При этом зависимость синтагм от обряда-риту-
ала, связанного с «эпохой магического миросозерцания» (Ла-
рин, 1975, с. 173), или со средневековой этикетностью (Лиха-
чев, 1967, с. 84 сл.), или с любыми другими формами культур-
ного поведения в общественной среде, обеспечивает прагмати-
ческую ценность самих синтагм как средства хранения и пере-
дачи информации без всякой поэтической заданности. Подоб-
ные формулы в «Слове о полку Игореве» также вполне реалис-
тичны, и каждая синтагма — «не столько свежий поэтический
образ, сколько отражение точного значения всех природных
условий» (Ларин, 1975, с. 173). Литературные формулы соз-
даются как средство познания, а не предмет развлечения.
Исходные плеонастические выражения типа думу бумаги,
горе горевати, дЪло дЪлати, ряды рядити постепенно диффе-
ренцировались по смыслу и функции, ср. в последнем случае
функционально разные выражения дати рядъ ‘сделать распо-
ряжение’, положити рядъ ‘заключить договор’, переступит
рядъ ‘нарушить договор’, а с другой стороны, суды рядити ‘су-
дить’, туры рядити ‘ставить (крепость)’, грады рядити ‘распре-
делять (волости)’ и т. д. Расхождение смысловых оттенков
между именем и глаголом способствовало осознанию особой
важности имени — своего рода символического понятия о про-
цессе, деятеле и объекте действия одновременно. Переносные,
отвлеченные значения слов сосредоточивались в имени, кото-
рое становилось ключевым словом синтагмы, и уже по новому
кругу замен образовывали синтагмы речи. Естественно, что та-
кие слова сами становились выразителями постепенно склады-
вающихся отвлеченно-общих значений.
Со временем процесс возникновения синтагм усилился в свя-
зи с новыми культурными влияниями. Жизнь требовала новых
терминов. Иногда трудно установить границу между народ-
ным и заимствованным (калькированным, переведенным с гре-
ческого) выражениями; некоторые синтагмы построены по об-:
разцу греческих (заимствуется форма и значение, но характер:
140
самого выражения — славянский (Копыленко, 1973)). Именно
на основе семантического сближения формул разного происхож-
дения осуществлялось создание того единственного варианта,
который стал фактом древнерусского литературного языка. Ср.
в данном случае: калька с греческого oicovat ха уюта дата,
хрьбыъ (в переносном значении ‘показать’ вместо ‘дать’) накла-
дывается на славянское выражение показати плечи в прямом
значении, образуется устойчивая формула дати плечи (плещи)
‘бежать’ с последующим развитием в идиому показать спину.
Переосмысление устойчивого сочетания путем варьирования его
компонентов допускало постоянное развитие формулы.
Общность многих символов (солнце или свет и т. д.),
выражаемых ключевым именем, известное сходство культурных
переживаний подготовили славянский язык к восприятию мно-
гих формул отвлеченного значения. На основе типичных выра-
жений солнце-свет, свет светлый и т. п. Хегко воспринимается
переносное значение в переводных формулах свЪтъ духовный,
свЪтъ разумьный, свЪтъ тихий или солнце праведное, солнце
евангельское (в отношении к Христу, ср.: Срезневский, III,
стлб. 296, 734—735). В самом деле, ключевые слова христиан-
ских символических формул составляют названия частей тела
(Коновалова, 1977, с. 248 сл.), но они же свойственны и народ-
ной поэтике, как и хорошо известные реалии быта: солнце,
:огонь, свет, месяц, еда, питье, пыль, дым и т. д. (Потебня,
1914), и только в самую последнюю очередь, уже как культур-
ный факт, факт нового времени, появляются такие отвлечен-
ные понятия, как присяга, правда, крепость, сила, мудрость
и др. (Сергеев, 1978).
:. Таким образом, единство синтагмы-формулы определялось
(не формальными признаками сочетания слов, т. е. не управле-
нием, не синтаксической валентностью и т. д., а семантикой
(ключевого слова. Познание осуществлялось в ходе накопления
(ключевых слов, включенных в самые разные контексты, в них
•они преобразовывались семантически, создавая образцовые
тексты — норму. На примере глагольных сочетаний это уже
показано. Ключевые слова воинской повести также известны,
как и особый набор слов христианской литературы. Народная
поэтика выработала систему собственных обозначений, но
принцип отображения реальности в ней тот же: координация
формульных выражений постепенно организует ряд основных
; понятийных групп (Адрианова-Перетц, 1947; Евгеньева, 1963).
Это понятие — образ, воплощенный не в слове, а в синтагме.
Понятийные поля сосредоточены в ограниченном круге ядерных
(представлений — образов, с которых «сняты» понятия: человек,
одежда и украшение, жилище и домашнее имущество, пища,
(питье, время, пространство, животный мир — все очень конкрет-
но и легко сопоставимо со словом в составе формулы. Можно
(проследить семантическое развитие формульного ряда, объ-
141
единенного ключевым словом, как сделано это на примере сло-
ва-символа путь (Ефимов, 1948) или на дружинных терминах
(Лихачев, 1985). Столкновение обозначения конкретного про-
странства народно-разговорного и отвлеченно-книжного (а пу-
ти семъ верстъ — пути божия неисповедимы) создает множе-
ство переходных случаев, и в результате возникает необходи-
мость дифференциации их в виде самостоятельных лексем
{счастливый путь, но хорошая дорога).
Длительный процесс наложения двух культур — взаимное
влияние христианской и народной символики — привел к поло-
жительному результату еще и потому, что структурные (языко-
вые) особенности формул, с помощью которых передавалась
необходимая для этого информация, в обеих традициях совпа-
дали. Выразительность и поэтичность синтагм и в том и в дру-
гом случае создавались за счет включения привычного сочета-
ния слов в новый для него контекст — бытовой или символиче-
ский. Поэтому народная формула выходит из устной речи и
в ней сохраняется, а книжная всегда основана на обработан-
ном варианте той же устной — на риторической культуре слова.
Стилистическое равноправие обоих вариантов создается имен-
фо тем, что обычно отрицают историки языка, — одинаковой-
зависимостью от устной речи. Разбор примеров показал, что
после XV в., когда создалась новая традиция с ориентацией на
книжный архаизм, каждый жанр и тип литературного языка
естественно раздвоился, распался на грани, и с этого времени
действительно началось функциональное расхождение «литера-
турно-книжного» и «народно-разговорного» языков.
Таким образом, уже с X в. славяне получали через пере-
воды глаголы с переносным значением, например насадити
в значении ‘утвердить, распространить’: в «Минее» 1096 г.
только добродетели насадити, но затем в русском языке рас-
пространяются аналогичные этому выражения насаждати нра-
вы, насаждати обычаи, теперь говорят: насаждать культуру,
насаждать образованность, грамотность и т. д. Получив прин-
цип, годный для образования многих сходных выражений, сла-
вяне уже сами развернули работу по уточнению и классифика-
ции словесных формул. К XI в. неизмеримо возрастает «фразе-
ологическая самостоятельность литературно-письменного языка
славян, ощутимая уже в переводах Евангелия» (Мещерский,
1964, с. 219). Искушенность славянских переводчиков в этом
способе организации мысли и образа видна на примерах, ко-
гда с помощью формулы переводят отдельное греческое слово:
творити пакость — parcel, пиръ творити — бре'-рзи , божиимъ
гневомъ—j-d 6ео|1т(у'ас, численая хытростъ—ар’.йрг^хт,, звезд-
ный кругъ — -адЗюг/.т;, имеаху гневъ— evaw.cmo, праздникъ
творя — sopr-rjv и др. Разработанность и богатство литератур-
ного языка славян создавались именно такими формулами,
пользуясь которыми книжник мог передать любой чужеродный
142
декст, донося его смысл до сознания славянского читателя. До-
словные переводы греческих синтагм как раз и порождали мно-
жество недоразумений на начальных стадиях становления сла-
вянского литературного языка (примеры см.: Успенский, 1969).
: Слово в синтагме синкретично-многозначно и каждый раз
конкретизуется семантически лишь в сочетании с определен-
ными словами (Колесов, 1985). Символический смысл каждого
нз этих слов создавался, по-видимому, столетиями еще в до-
письменный период, поэтому в любой синтагме искони содер-
жится также и переносное символическое значение. Формулы
столь же синкретичны, что и слова, из которых они создава-
лись; развитие синтагм служило для «разжижения общего
смысла», который специализировался, обрастал новыми значе-
ниями и дробился в бесконечной цепи синтагм. Процесс порож-
дения новых синтагм и есть основной творческий процесс сред-
невековой литературы. Тем самым она исполнила свою истори-
ческую задачу, продолжив дело, начатое в устных литератур-
ных формах и развив текст до современного состояния, т. е.
с автономностью каждого слова и полным освобождением ху-
дожественных средств языка от их языкового субстрата (тропы
«сняты» с языка, как и грамматические парадигмы — со слово-
форм ключевых слов в варьировании синтагм).
Отражая изменения в развитии общества, одна за другой
возникают специальные формулы, которые остаются как тер-
мины социальной или культурной жизни. Однако подобных
сочетаний становится все больше, ключевое слово, которое вы-
ражается именем существительным, все полнее раскрывает
;свой смысл, получая конкретные и всегда определенные значе-
ния, по-прежнему, однако, связанные только со своим сочета-
;нием-формулой. Исходный символ отчасти разрушается, про-
исходит качественное изменение смысла, поскольку полный на-
бор формул образует своего рода семантическую парадигму,
которую формально можно соотнести с грамматической пара-
дигмой ключевого слова. Ср.: отъ лица его (бежали), не къ ли-
цу, лицом къ лицу, ставити въ лицо, прЪдъ лицемь его, суди-
ти на лица, въ лицЪхъ нету и т. д. (Сл. РЯ XI—XVII вв.,
вып. 8, с. 254—257). Эта парадигма расширяется также за счет
новых сочетаний с прилагательными и глаголами, вводящими
все новые признаки, опять-таки уточняющими понятие, выра-
женное ключевым словом. На этом этапе развития формулы
возможны синонимические выражения с различными опреде-
лителями, распространяющими общий смысл исходной форму-
лы; сунути копиемь, ударити копиемъ, побадывати копиемь,
дотчеся копиемь и т. д. — с различными оттенками, которые
теперь уточняются значением глагольных слов, но постепенно
сосредоточиваются и на имени, из неопределенной общности
смысла выявляя собственное лексическое значение слова. На
этом этапе происходит отмеченное в текстах раздвоение уточ-
143
няющих форм: в народном языке признак обычно формируется
и оттачивается в глагольной форме, в литературно-книжных
текстах — в прилагательном. Синтагма развилась до степей?
языковой формулы, т. е. развернутого художественно-языкоз
вого единства, способного выступать в вариантах и развивать
все новые переносные значения, уже не связанные с определена
ным ритуалом, этикетом, действием. Если синтагма не входила
в соответствующие парадигмы, она изолировалась в пределах
текста и превращалась позже, уже в современном литератур-;
ном языке, во фразеологизм. -
Формула, став постоянной, выходит за пределы тех усло-
вий, когда ее употребляли только в профессиональном кругу
лиц, попадает в другие тексты и в новых условиях начинает
пониматься в переносном смысле. Именно прежняя связь фор-,
мулы с ритуалом обеспечила ей позже возможность развить
переносные значения. Ломать копья можно не только в бою, но
и фигурально — в любой схватке или столкновении. Если в мо-
мент образования формулы на основе ключевого слова мы по-
лучали метонимический перенос, определяемый еще свойства-
ми самого языка (копье ‘вид оружия’ преломить копье ‘сра-
зиться’), теперь метонимия распространяется на текст и стано-
вится (опять-таки опираясь на языковые свойства слова в со-,
четании) метонимией-тропом, художественным образом, кото-
рый можно создать в результате намеренного творческого акта..
Формула включается в художественную систему средневековых,
текстов и начинает развиваться уже по собственным законам.
Переносные значения развиваются путем перенесения фор-,
мулы из одного контекста в другой, например из повести в жи-
тие или из плача в молитву. Важно столкновение контекстов,;
и в этом смысле важно также столкновение разных «типов
языка». «Книжный язык», каким бы развитым он ни был, ва-
жен не давлением своим на язык народа, а возможностью об-
разовать питательную среду для взаимных столкновений того,
что в современных терминах можно обозначить как жанр,
стиль, функция, — ни одно из понятий не годится, потому что
неясны прагматические задачи древнерусского писателя, вы-
нужденного прибегать к разностильным формулам при созда-,
нии оригинального текста. В этом смысле «типы языков», став-
шие источником поступления формул, не противопоставлены
друг другу, а наоборот, проникают друг в друга, совместно от-
ражая действительность.
Перенос значения определяется переносом формул по функ-
ции. Оторвавшись от конкретной ситуации, но сохраняя кон-
кретное значение, формула по мере распространения на широ-
кий круг однозначных ситуаций постепенно становится родо-
вым (общим) обозначением совокупности видовых (частных)
явлений. Символизм выражения усиливается благодаря еще
большей отвлеченности в обозначениях реального мира. Прин-
144
филиальная установка на метонимию (Смирнов, 1979; Лихачев,
[1985) отражает важное свойство средневекового сознания:
Средневековая мысль напряженно работает над объемом поня-
тия, скрытого в ключевом слове, и мало внимания обращает
ра признаки различения; ей не нужны ни эпитет, ни метафора.
{Развитие метонимических переносов, близко связанных с фор-
мами самого языка, определяется важностью не сходства,
а общности функции или чисто внешне — смежности (часть как
'целое, род как совокупность видов и т. д.). Метонимия-образ
фождается на основе семантики и внутренней формы самого
^народного слова, прорастает из них, отсюда ясна необходи-
мость постоянного обращения к живому слову, которое посто-
янно проникает в любые средневековые тексты. Так и в даль-
нейшем народная речь всегда остается важным источником
живых художественных образов.
Степень воздействия греческих оригиналов на славянские
литературные формулы сильно преувеличена. Ни формы, ни об-
разности последних заимствования, по-видимому, не нарушали.
Лак, в характерном для славянской поэтики повторении слов
.4! общим значением типа честь и слава, честь и хвала, студ и
срам, радость и веселье, горе и печаль, представленных в при-
веденных нами древнерусских текстах, видели либо «средство
создать новое значение» (Потебня, 1968, с. 433), либо «факт по-
ртики, а не разговорного языка» (Евгеньева, 1963, с. 272), т. е.
факт стилистический, а не семантический. Подобных парных
Есочетаний много, они употребляются уже в древнейших текстах,
на их чередованиях строится иногда действие или описание.
Теперь ясно, что все эти необходимые для литературного языка
^формулы вначале имели чисто прагматическую цель — на ос-
нове сближения частных значений объединяемых слов образо-
вать понятие собирательного смысла, художественная сила ко-
торого возникает из совместимости прежде разнонаправленных
..смыслов: совмещение значений личного переживания субъекта
(студъ, стыдъ) с осуждением коллектива (срамъ, соромъ) (та-
кого же типа сочетания горе и печаль, страхъ и ужасъ, радость
и веселье), совмещение частного и общего (часъ и время), вну-
треннего и внешнего (чудо и диво, чудитися и дивитися) и др.
Повторение сходных по значению именований нужно- не для
:украшательства, это дополнительное семантическое средство
художественной образности в выражении синкретизма миро-
ощущения, некой потаенности образного текста. Сравнение
с греческими оригиналами показывает, что при переводах сла-
вяне использовали разные народные формы для одного слова
или понятия оригинала (другие примеры и сопоставления см.:
: Колесов, 1982в).
Исконный семантический синкретизм славянского слова за-
труднял восприятие перевода в том случае, когда и в греческом
; оригинале соответствующее слово оказывалось многозначным и
- Ю Колесов В. В. 145
значения греческого и славянского слов отчасти совпадал
Стих «Сынъ чловЪчскъ въ сердца земля» (Мтф. 12, 40) нео)
нократно воспроизводился по спискам Евангелия (ср.: Срезнй
ский, III, стлб. 881); выделенное в нем словосочетание соотвй
ствует греческому xapSt'a тт(<; ‘в середине, в глубине, в с)
мой внутренности’, это не образ или метафора, а самое пряИ
значение славянского слова сердце — ‘середина’. Подобна
примеров можно привести много. Важен факт несогласовая
между смыслом переводимого высокого текста и выражавшим
его славянскими словами. Сложность была и в том, что на a
иове пословного перевода в славянскую письменность прия
дили новые, неизвестные до того формулы и обороты, толы
внешним образом совпадавшие с коренными славянскими— в
употреблению слов, по их грамматической связи, по звучанм
Смысл же новых формул был другим, непривычным, его npi
ходилось изъяснять «новым людям» — новопосвященным хри
тианам. Это определило развитие учительной литературы в пе(
вые века христианства на Руси.
Именно в таких текстах совершалось постепенное прибл!
жение книжных формул к обычной славянской речи. Посторо!
ние примеси «иностранного акцента» в употребительных ф°|
мулах церковного обихода устранялись, сочетания как бы сгай
живались в бытовой среде и получали свойственный им поздиа
славянский вид. Уже к XII в. у восточных славян процесс «о(
мирщения» и русификации этих оборотов зашел настолько да
леко, что стала очевидной необходимость либо заново перевеет
традиционные конфессиональные тексты, либо истолковать я
иначе — с применением новых книжных формул. Отсюда и
рошо известные переделки и переработки («русские редакци
XII в.») Евангелия, Апостола, других служебных книг и дай
книг четьих (для чтения), которые в служебной сфере церкв
не употреблялись. В новых редакциях вообще обнаруживаете
меньшая зависимость от греческого оригинала, в них чу|
ствуется глубокое знание родного славянского языка (ср. в:
рианты русских редакций Евангелия в кн.: Жуковская, 1976’
Разнонаправленность в редактировании конфессиональны
текстов отражает разную ориентацию на устные нормы реч!
До середины XIV в. (Чудовской Новый завет) субстрат лип
ратурного языка был соизмерим с устной речью современна
ков, с которой пытаются соотнести все важные тексты, а с XVI
раздвоение жанровых функций и стилистических средств дм
тует выбор архаических книжных форм; они и кодифицируютс
в XVII в. в связи с развитием книгопечатания. Обратным обра
зом этот процесс отлучения устной формы от литературност
проявился в кристаллизации новых литературных форм—уж
на основе народного языка и с помощью тех жанров, которы
сохраняли верность старой традиции прагматически (а н
идеологически) важного текста.
146
I Роль формул в этом процессе значительна, поскольку пре-
дельными элементами текста, в которых сходились смысловые,
формальные и образные признаки слова, были именно фор-
мулы. Если основная единица творческого цикла у язычника —
|то слово-текст (т. е. понятие-образ, восходящее к мифу), для
Христианского писателя, который следует византийской тради-
ции, такой единицей является текст, формально ограниченный
Пределами высказывания-суждения (т. е., строго говоря, сужде-
ние, а не понятие). В результате последовательного наложения
Двух культурных традиций образуется характерное для средне-
вековья явление: основным элементом текста, организующим
йовые тексты, становится синтагма, т. е. минимальное сужде-
Йие-понятие. И слова, и синтаксические конструкции в таком
Случае могут варьироваться, но в этом и причина устойчивости
формул при подвижности как текстовых структур, так и сло-
весного наполнения самих формул. Жанр произведения или
цель высказывания определяли выбор вариантов той или .иной
формулы, своего рода стилистических вариантов, но не больше.
Семантический инвариант формулы, каких бы пределов варьи-
рование ни достигало, держался на символике ключевого слова
В на традиционности этикета. Отсутствие индивидуальной ду-
ховной жизни обусловливает силу традиционных чувств и воз-
зрений, получивших отражение в устойчивых формулах. Специ-
фика и характер древнерусского литературного языка во мно-
гом, если не во всем, определяются допустимыми пределами
варьирования.
i Сказанное объясняет, почему именно в истории русского ли-
тературного языка грамматические формы и категории соотно-
сятся с языковой системой народного языка, развивавшегося
й совершенствовавшегося, а типы и модели синтаксических
Структур и переносные значения слов во многом развивались
под влиянием переводных текстов.
«В настоящее время, когда способы выражения человече-
ской мысли так умножились и развились в связи с изменением
культуры, мы имеем больший запас слов, выражений и обра-
зов, новые идеи дали жизнь новому литературному стилю.
В средние века русской письменности внешность ее произве-
дений была менее богата, мы имели меньше материала для
выражения и поэтому дорожили им — отсюда повторение и не-
которое однообразие схем и формул. Вообще, я думаю, что
пользование стереотипным шаблоном, довольно ограниченным
в объеме и реальным только в первых своих проявлениях, есть
общее свойство средних веков. Только одни национальности
быстрее развивали внешность своих литературных произведе-
ний, другие медленнее отвыкали от привычных традиций. Мед-
лительный характер жизни рассматриваемой литературной
формы зависел отчасти от условий русской жизни до ее реши-
тельной европеизации в XVIII в.» (Орлов., 1.902, с. 50).
10* J4T
Глава 2
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФОРМУЛ В ТЕКСТЕ 1
Внутритекстовое варьирование могло быть уже в сам|
первых переводах с греческого языка, потому что принцип ва|
ирования словесных форм в традиционной синтагме и до та
был важной характеристикой обработанной формулы. Е. М. S
рещагин доказал, что слова, варьирующиеся в одном евангел
ском чтении, без изменений встречаются в соседнем, повтора
щиеся чтения могли переводиться дважды с таким же варй
рованием и т. д. «Памятник один и тот же, следователь!
отпадают аргументы диалектологического характера. Пере!
дится то же самое, следовательно, отпадают аргументы сема
тического плана (поиски „оттенков значений” здесь неумес
ны)» (Верещагин, 1972, с. 55); варьирование объявляется 1
внешней (как результат бытования текстов в культурн!
среде), а «внутренней характеристикой текста» (с. 61), приче
синонимии как таковой в этом типе литературного языка не
поскольку «синонимы» проявляют себя в границах цельной си
тагмы и являются, в сущности, вариантами (с. 61; много пр]
меров варьирования в этой работе, а также в кн.: Жуковска
1976). 1
Трудно согласиться лишь с тем, что «варьирование частич!
Обусловлено отсутствием устойчивых норм языка» — принцип^
«достаточно широкого понимания нормы» (Верещагин, 19^
с. 71). Нормативность литературного языка не могла прой
ляться на уровне отдельного слова, но единство формул nJ
возможности их варьирования, действительно, было «неотъе!
лемой чертой нормы первого литературного языка славян» (та
же, с. 75). Второй закон термодинамики утверждает постоя
ный рост энтропии (т. е. меры необратимости рассеяния эне]
гии) тех материальных систем, которые изолированы от окр]
жающей их физической среды, в итоге наступает «теплова
смерть». Быть может, в переносном смысле это верно и дл
развития литературных языков. Отторженные от своей сред!
поставляющей им материальные средства выражения, они Я
избежно подвергаются омертвлению. Судьбы латыни и стар]
славянского языка хорошо известны. ]
Средством поддерживать «тепловое равновесие» материал
ных сред и была возможность варьирования словесных комй
нентов фразовых формул в тексте. Совершенно прав Е. М. В(
рещагин: «Лексическое варьирование не противопоставляв
памятники друг другу, а, напротив, объединяет их в единое ц!
лое» (1972, с. 75). Сравнивая один и тот же текст в ходе мм
говекового воспроизведения его в списках, мы легко устана!
ливаем направленность языковой обработки текста. |
Переведенный в Восточной Болгарии и переписанный в
148
ie текст «Изборника. 1073 года» воспроизводился неоднократ-
6, и сравнение исходного текста со списками XVI в. показы-
Зет незначительность исправлений в четьей книге. В ней об-
новлялись заведомые архаизмы (от чесо — отчего, о чесомъ —
чемъ, в чесомъ — въ чемъ), формы имен прилагательных й
Ваголов (оунЪ— лучши, горЪ — горши, вЪдЪ— повЪмь, бы —
ысть и др.). Устаревшие слова становятся непонятными, и их
(«принимают ошибочно: тъчию как точенъ, частица нй ли как
трицание нЪст ли, порода ‘рай’ в винительном падеже как со-
ётание по роду и др. Изменяются и формальные признаки
славянизмов»: в оригинале крава, въ полонъ, вереди, а в спис-
зх XVI в. корова, въ плЪнъ, вреди, потому что после XV в. за-
вершился процесс стабилизации полногласных форм (Колесов,
980, с. 75), и, в частности, корова, въ плЪнъ, вреди должны
!ыли произноситься и писаться именно таким образом: лишь
(дно неполногласное слово плЪнъ с XV в. пишется с буквой Ф,
ргда как остальные неполногласные — с е (вреди), а неполно-
весные формы при восходящей интонации корня уже невоз-
можны (только корова, а не крава)-, это соотносится и с семан-
шкой неполногласных форм (отвлеченное по значению вредъ
(конкретное вередъ, только конкретное корова). Таким обра-
юм, именно в данном совпадении написаний всех трех слов нет
(ичего случайного, ио закономерности их распределения уста-
навливаются не только фонетически. Это новая «норма» лите-
ратурного языка, которой подчиняются и старые тексты (см.:
Колесов, 1982, с. 20—25).
; В произведениях, которые предназначались для произнесе-
ния, изменения были значительны независимо от характера
текста. Так, служебные минеи, несмотря на их «высокий стиль»,
постоянно подвергались многочисленным правкам с целью при-
способления их к формам живой речи. Правда, начиная со
списков XV в. можно наблюдать некоторую архаизацию языка,
но в пределах, доступных пониманию современников.
В качестве примера рассмотрим типы вариантов в «Чтении
о Епифании Кипрском».1 II
Принципы правки не зависят от идеологических причин
(обе редакции текста принадлежат к древнему «Студийскому
уставу»), от изменений в оригинале (греческий текст относи-
тельно стабилен) и от перевода, поскольку вторая редакция
несомненно восходит к древнейшей славянской, представлен-
ной в «Путятиной минее». Все исправления определены необхо-
1 Текст сопоставлялся по следующим спискам: I редакция по соб-
раниям: а) ГПБ: Соф. 202, л. 51—51 об. («Путятина минея», с особым
текстом); Соф. 203, XII в., л. 107—ПО об.; Соф. 204, XII в., л. 3—5 об.;
Кирил.-Белоз. 336/593, XV в., л. 57—59; б) ЦГАДА: Тип. 113, XIV в.,
л. 59—61; Тип. 112, XIV в., л. 40—42; Тип. 114, XIV в„ л. 39 об. — 40 об.;
II редакция по рукописям XV—XVI вв.: ГПБ — Кирил.-Белоз. 361/618,
,л. 98 об. — 102; Кирил.-Белоз. 370/627, л. 87 об. — 90; и др.
149
димостью соотнести язык обычно читаемого текста с изменяя!
щимся языком современников и попутно также уточнить ст|
листический ранг его компонентов. |
Формы имен с родительным принадлежности (соотве^
ствуют греческим синтагмам) заменяются на атрибутивный
славянские формулы: конца земли—земльная конца, ebpoti
троиця— etpy троическую, дарование чюдесъ — чюдесный да/П
и др.; сами определения уточняются: божий — божественны^
ересьскую льсть — ересьная попърания и т. д. !
В ходе правок и замен происходит стилистическая дифф!
ренциация слов. Со временем в тексте высокого стиля, оссн
бенно в обращениях к божеству, оказываются невозможным!
слова любъвь, възлюби, одежа, възиде, умрьзЪти, видь, отъ
врьгъ, пришьдъ, явися, богатьство, вместо них появляются со-
ответственно желание, въжделЪлъ ecu, риза, възнесеся, възгкд-
шатися, узрЪ, отвращься, приступль, показася, имение, даже
вместо съсудъ искусственное приятелище и т. п. 1
Перед нами несомненная стилистическая правка, котора!
определялась ориентацией на изменившийся набор синтагм;
В исходном тексте одинаково возможны «законъ письменный»
и «законъ книжьный», в новом только «в законЬписании»; ср;
еще «ига дошьдъ» — «подъялъ еси яремъ», но наоборот: «ярьмы
никомъ страстьное съубивъ устремление» — «игомъ твоим!
страстьное убилъ еси стремление», что показывает равноцей
ность книжного иго и разговорного яремъ, но их взаимозамены
возможны в рамках синтагмы; «любъви давъся божия зако-
на» — «желаниемъ божественного закона объятъ бывъ»; «ущед-
рова изгорящая жаждею на зной» — «ущедрилъ еси тающихъ
въ жажди зноя»; «начиная яко слуга изящьнъ» — «началь-
ствуя яко служитель издряден» и др. Во всех случаях можно
констатировать конкретизацию общего смысла синтагмы с по-
мощью уточняющего слова, но одновременно заметна тенден-
ция архаизировать текст. В новых вариантах неожиданно воз-
никают архаические формы аориста (приятъ, бысть, обрЪтъ
и т. п.), понятные, однако, современникам, хотя иногда они i
похожи на формы причастия, тоже достаточно книжные (по-
этому между ними и не делают различия).; в других случаях
формы аориста, наоборот, устраняются, заменяясь перфектом:
избЬже — избЪглъ ecu, въселися — вселился ecu, ты словомъ
обличи — ты словомъ обличилъ ecu, ты упасе — ты упаслъ еса
и т. д. В некоторых случаях устраняются и формы имперфекта/
заменяясь презенсом: веселяхутся — веселится, ср. радовахуся--
радовахутся и др. В сравнении с такими правками ясно, что;
намеренная архаизация форм типа приятъ является столь же
внешним стилистическим признаком, как и другие служебные
формы текста типа аще или зЪло; конструктивной нагрузка
они не несут, а потому и могут исполнять чисто орнаменталь-
ную роль признаков «высокого текста». ?
150
| Можно предполагать, что первоначально именно вариант-
ность грамматических форм определяла перестроение всей син-
рагмы, что предопределило и замену лексем (каждая из них
была «приписана» к известному набору грамматических форм),
I перестройку грамматических парадигм с вытеснением старых.
I Стилистически изменяются словообразовательные модели.
Во второй редакции они намеренно усложнены и безусловно за-
висят от книжной традиции: первоначальное одежа заменено
словом одЪние, вещество — вещь, дарование — даръ, въпия —
зъзъпия, насл&дьнъ явися— наслЪдитель или наслЪдникъ, про-
гъналъ ecu — отгналъ ecu, мудрость — мудрование и т. п.
Несмотря на значительный объем текста, изменений в нем
не очень много. Особое внимание уделяется ритмической орга-
низации текста, поскольку он входит в состав служебного
сборника; в частности, при всех заменах стараются сохранить
общее число слогов в синтагме, например при последователь-
ной замене префиксов у прилагательных пре- на все- и трь- на
прЪ- (пречестная — всечьстная, трьпЪтая — прЪпетая — см.: Не-
чунаева, 1'984). После XIV в. уточняются семантические харак-
теристики слов, ставших многозначными (примеры см. в рабо-
тах: Аверина, 1975; Нечунаева, 1978; Петрова, 1985). Особенно
часто дифференцируются с помощью различных аффиксов сло-
ва, понимание которых затруднено в силу их многозначности:
заступъ означает и ‘орудие’ и ‘заступник’, позже для выраже
ния первого его значения употребляется по-прежнему слово за-
ступъ, а для второго значения — слово заступникъ; кропля —-
и ‘капля’ и ‘орошение’, позже употребляются кропля и кропле-
ние; немощь — и ‘б'ессилие’ и ‘болезнь’, отсюда немощь и не-
мощство и т. д. Отглагольные имена сами по себе отвлеченны,
но с прибавлением к ним книжного суффикса они переходят
в разряд слов «высокого стиля». Останавливает внимание осо-
бенное развитие отглагольных суффиксальных слов в книжной
речи; видимо, это восполняет отсутствие «глагольности» у гла-
гольных форм, особое пристрастие к прилагательным как вы-
разителю признака.
В изменении формулы важны и причины другого порядка.
;Д. С. Лихачев (1985, с. 216) показывает развитие формулы
«уже мне мужа своего не кресити». Эти слова сказаны Ольгой
в 945 г. после убийства древлянами князя Игоря; затем такую
; формулу отказа от мести за убитого родича повторяют Ярослав
в 1015 г., Ольговичи в 1148 г. и др. С утратой кровной мести
|исчезает и смысл формулы, в переносном (по функции) упот-
реблении она стала выражать «признание невозвратимости
утраты», например, в «Слове о полку Игореве»: «А Игорева
:храбраго полку не крЪсити!» По-видимому, смысл формулы со-
охраняется всегда, даже если и утрачен связанный с нею ритуал.
I Употребление ее в «Слове о полку Игореве» как раз соответ-
ствует общему замыслу произведения с его одобрением скорб-
I 151
ной мести, с призывом к единению «рода» против чужих. Кроме
того, можно вспомнить исходный пункт развития формулы, пт
тому что символика выражения сосредоточена в ключевом слов^
(Потебня, 1914, с. 29): крес— солноворот, кресник— Купало^
солнечный праздник, как и кресити— светить; отсюда харак<
теристики древнерусских князей — красный и светлый, которые
взаимозаменимы, сближение «красоты» с «кресаньем», т. е. вы-
секанием огня. Деэтимологизация и забвение внутренней фор-:
мы слова приводят к распадению старых формул, поскольку:
они не успели еще создать соответствующих культурных пара-
дигм, подобных тем, которые позднее были созданы на основе
синтагм традиционного текста. Языковые причины изменение
слов накладываются на общекультурные, в результате чего;
устраняется вышедшая из употребления формула.
Изменение содержания ритуала также требует замены клю-
чевого слова. Так, формула заключения международного до-
говора последовательно содержала в качестве ключевых такие
слова: написание (Киевская Русь, X в.), урядъ (XI—XIII вв.),
докончание (Московская Русь, конец XIII в. — XV в.), договоръ
(с середины XVI в.), трактат (с 30-х годов XVII в.), соглаше-
ние (с конца XVII в.) (Сергеев, 1984, с. 45). Формула остается,
пока существует ритуал, но содержание понятия, постоянно из-
меняясь, диктует замену ключевых слов, потому что набор по-
следних и определяет данную культурную среду. Нам известны
многие другие изменения формульной этикетности в текстах,
например изменения названий свидетеля (см.: Брицын, 1962;
Коляда, 1967).
Древнерусские писатели постоянно приближают формаль-
ные признаки синтагмы к характеристикам родного языка,
умело оставляя только редкие, как бы намекающие на признак
высокого стиля архаизмы. Даже цитаты из Писания или реми-:
нисценции из старых авторов всегда «подгоняются» к нормам
современного языка, т. е. к той степени развития системы род-
ного языка, которую в данный момент возможно осознать. Так,
Кирилл Туровский, цитируя известный ему перевод Песни пес-,
ней, следующим образом видоизменяет синтагмы: «Да цЪ-.
луеть мя» — «цЪлуй мя», «черна есмь и добра»—:
«смагла, рече, есмь, но добра»; «сильнии вси имуще оружие,
наострени на брань» — «ратоборьци изучени брани, имуще
оружия обоюдоостра» и т. д. Все уточнения характерны и.
плане семантической дифференцированности компонентов текста
и в плане обращения к русским грамматическим формам (пове-
лительное наклонение, причастия и т. д.). Повторяя общие ме^
ста похвалы, заимствованные у Илариона, Епифаний Премуд-
рый учитывает изменения в языке и отражает совершенно дру-
гое отношение к объекту хвалы; ср.: «Хвалит же похвальными
гласы Римская страна Петра и Павла... Асия — Иоана Бого-
слова... учителя и наставника» — «Хвалит бо Римская земля
152
Кою апостолу Петра и Павла, чтить же и блажить Асийская-
Км л я Иоанна Богослова... Вся страны и грады и людие чтуть.
I славять, хвалит и чтит яко апостола, яко учителя, яко вожа,
ко наставника» (Соловьев, 1961, с. 100—161). Слово страны1
заменилось словом земли, синтагма «учителя и наставника»
разрослась, включив в себя и русское слово вожа, тогда как
Признаки похвалы специализированы до предела. У Илариона
жива еще формула честь и слава («чтуть и славять»), и она-
Противопоставлена другой — «хвалят гласы»; Епифаний уби-
рает плеоназм хвалит похвальными и разбивает традиционные-
формулы («хвалит, чтить и блажить», «хвалит и чтит»); по-
средством расширения текста уточняются все характеристики
действующих лиц, в том числе и хорошо известных— апостолов..
Необходимость постоянной правки рукописей, а затем и пе-
чатных книг диктовалась изменением в семантике слов. Прихо-
дилось постоянно обновлять лексическое наполнение синтагм,,
во именно цельность синтагм как строевого компонента текста
В допустимость варьирования как требование нормы позволяло^
делать это безболезненно для смысла текста. Покажем исправ-
ления Ивана Федорова в старопечатном Апостоле (Коляда,
1963). Отрывок из славянского перевода «Блюдете псы, блю-
дете злыа дЪлателя» означает ‘берегитесь, остерегайтесь псов"
(в соответствии со значением греческого pirate и латинского-
videte), а не ‘охраняйте их’, как в конце концов стал пони-
жаться славянский глагол блюдете-, в старопечатном Апостоле-
он заменен на блюдетеся, т. е. ‘приглядывайте, присматривай-
те’. Внутренний образ корня ‘приглядывать, присматривать’
.‘остается; но чтобы точно и однозначно выразить мысль, Иван-
Федоров изменяет грамматическую форму глагола.
В тексте «присно блудят сердцемь» значение глагола также
не отражает уже исконного синкретизма слова блудити эпохи;
его перевода (т. е. ‘ошибаться’, но вместе с тем (и по этой при-
чине) — ‘вести распутный образ жизни’).
Книжные формулы знали наизусть и часто ими пользова-
лись. Со временем в их составе оказались слова и символы,
уже не понятные читателям. Возникла необходимость в их ис-
толковании (Ковтун, 1963), а формульные выражения сохра-
нялись только в том случае, если они разъяснялись (примеры-
см. в работе: Буланин, 1984, с. 136—170). Максим Грек в се-
редине XVI в. толкует выражения типа «мерзость запустения
[символ разрушенного Иерусалима]—без ума в кънечное за-
пустение себе ввергоша», «душевен человек — егда убо деет что
угодно богу», «плотян человек — иже плоти работает», «утвер-
дил ecu на мне руку свою — вижу руку твою належащу и зело
биющу мя», «земля живущих — чаемый живот, акы смерти и
скорби не причастен», «десница господня—ако свыше помощ
и благодетельство», «руце божии — Давид божии промысел гла-
голет», «нощный вран — род птичин есть пустынен, яко обитае-
153:
мых храмин бежащи в пустых и разореных живет; такоже а
воробей [не врабий!] страшива птица сущи, от страха гонит оЦ
себя сон» и т. д. Как и в источнике, которым пользовался Май
сим, — «Лексиконе» Свиды, в толкованиях которого нет ещ|
переносных значений, слово душевный связано с душа, плоц
ской — со словом плоть, нощный — о ночи и нелюдимстве, стра^
шивый — не о том, что страшит, а о том, кто сам страшится]
и т. д. Более того, формулы слишком конкретны по смыслу, псу
этому истолкование их и требует развернутого текста. |
Подведем итог. j
Постоянное обновление формы позволяет сохранить во врё|
мени смысл формулы. По мере омертвления формы разрушав
лась и формула, становясь идиомой и выходя из активно^
употребления. И в языке тоже. В ходе постоянного варьи’рова-
ния создавалась вполне естественная возможность свободных
замен с помощью самостоятельных слов, т. е. готовилось сти-
листическое варьирование в тексте. Окончательное развитие*
этот процесс получил в XVII в., и многие тексты того времен^
показывают, как стилистически изменяются экспрессивные ак|
центы в системе пословного перевода — сначала в текстах «под-,
лого жанра», например в баснях (примеры см. в работе: Тар|
ковский, 1979). С одной стороны, налицо стремление к полнот®
и смысловой точности перевода, но с другой — все чаще можн<?
наблюдать попытки приноровиться к повествовательно-рече-
вым нормам русской письменности, чтобы сохранить перевод;
как литературный текст. При этом используются и традицион-а
ные, в том числе для народной поэзии, формулы типа «стрелок»!
пестрели», «от пития упихся», «мазаша мастию», «гнев и,
ярость», «любовь и дружба», «беда и нужда», «бедный и не-;
щастный», «праздно и суетно» и другие и основанные на них
новые, книжные, выражения типа «ярость и желчь», «ветер Ц
зима», «супротивник и враг», «видение и зрение» и т. д. Фор-
мульность выражения сохраняется, хотя логический и поэтиче-
ский смысл самих формул уже нарушен.
В подобных формулах сохраняется национальная специфика
словесного образа, который искони присущ всему сочетанию —
синтагме. Выражение «сказка про белого бычка» известно мно-
гим народам, в том числе и славянам, но в каждом языке место
«бычка» может занимать какое-либо другое животное. Специ-i
фика отбора ключевого слова и создает неуловимую образ-
ность национальной формулы (Колесов, 19826, с. 73сл). В прин-
ципе, такого рода формулы, объединяясь в инварианте, соз-
дают переход к родовому обозначению, например к слову звЪрь
(животъ в деловых русских текстах, животина в диалектных).
На основе инвариантного родового по смыслу слова происхо-
дит вычленение его самого из исходного контекста, потому что
слово становится слишком объемным по смыслу, чтобы остать-
ся в пределах породившей его синтагМ'Ы. Процесс развития от-
154
|леченных и общих значений в слове и есть процесс постепен-
ного освобождения слова из жестких рамок синтагмы.
Г В развитии культурной синтагмы действует принцип двой-
ного натяжения. Экспликация признаков символа-слова (и сле-
довательно, расширение содержания понятия) происходит по-
средством постоянного семантического дробления ключевого
Слова-имени благодаря включению новых распространителей
^двусторонняя синтаксическая связь):
:гънати
имЪти
йти
казвги
яти(ся)
---------1 ।----► божий
----------------------------- I---------------------------I--------------------------► всякий
----------------------------------------------------------1 путь ’-► ловчий
------------------------------------1 I---------------------------------I I------------------------------► прямой
------------------------------------' I—--г- чистый
и т. д.
ь Семантическое напряжение текста усиливается напряжением
.формальным, т. е. многочисленными вариациями форм глагола,
или наличием/отсутствием модальных распространителей син-
тагма — частиц, местоимений и т. д. Одновременно путем пере-
водов, уточнений, истолкований и т. п. происходит усиление
формульного ряда новыми однозначными синтагмами. В резуль-
тате оказывается, что ключевое слово раскалывает прежнее
^единство синтагмы и приобретает семантическую структуру
^самостоятельного слова, опять-таки выходя за пределы поро-
дившей его синтагмы-формулы. Процесс развития переносных
^значений в слове есть также процесс выделения слова как от-
дельного компонента текста.
Классификация строевых синтагм древнерусских текстов хо-
рошо разработана (ср., например: Ломов, 1969). Вглядываясь
в стилистико-семантический спектр использованных в летописи
.формул, мы легко обнаружим переход от формулы книжной
к формуле разговорной, но никогда не сможем понять причину,
.по которой они столкнулись в одном и том же тексте; с глаго-
лом сътворити, например, образуют синтагмы такие слова:
.грЪхъ, благо, тварь, волю, вещь, плодъ, добро, дЪло, съвЪтъ, из-
мена, память. Обпйгй принцип порождения синтагм препят-
ствует сознательному проведению стилистических границ между
.формулами разного происхождения — они становятся стилисти-
чески отмеченными только в границах более широкого кон-
текста. Это вообще характерно для языка средневековой лите-
ратуры. То, что теперь понимается как стиль, в средние века
^определялось установкой текста: каждая единица текста полу-
, чала свой стилистический ранг исходя из смысла последующего
.уровня: слово — от формулы, формула — от фразы, фраза — от
। текста, но при этом семантическая нагруженность текста, на-
против, каждый раз определялась предыдущим уровнем текста,
fcT. е. смысл текста — смыслом фразы и т. д. вплоть до ключе-
; вого слова, которое определяло смысл синтагмы. И то, что те-
155
перь мы называем «смыслом», в средние века являлось символ
лом и было сосредоточено в значении ключевого слова.
Последнее, о чем следует сказать, касается взаимоотноше-
ния лексического и грамматического в компонентах синтагм.
Грамматические характеристики ключевых слов определяли как
выбор зависимых слов, так и принцип дальнейшего разверты-
вания текста. Хорошо иллюстрирует эту особенность исто-
рия вторых косвенных падежей, которые составляли харак-
терную для древнего синтаксиса особенность—дистантное со-
гласование ключевых слов. Однако уже А. А. Потебня заметил,
что именно «вещественное значение» глаголов определяло выбор
зависимых слов (1958, с. 309).
Г л а' в а 3
РАЗВИТИЕ ИСХОДНЫХ ФОРМУЛ
Характер исходных формул и последовательность их преоб-)
разования удобно проследить на типичных воинских формулах,);
тем более что и А. С. Орлов, собравший их впервые, убеждена
«...в изменении формулы боя наиболее просто и отчетливо ска-:
зывается эволюция стиля» (Орлов, 1908, с. 345; ср.: Творогов,)
1962).1
Кроме уже приведенных формул (на с. 87 сл.) укажем такие,.'
как «трЪсну аки громъ», «и искры их тьма», «не слышати на;
себъ ранъ» и т. п., которые постепенно распространялись до со-
четания нескольких исходных синтагм: «Толико же сЪчаху, дон-;
деже руцъ ихъ и плеща измолкоша, сила ихъ изнеможе, сабли^
ихъ не имуть, острия ихъ притупишася», — выражающих одну
и ту же мысль, аналитически представленную в виде перечис-
ления расхожих ситуаций и формул. Таков заключительный:
этап расширения синтагм, и нужно определить различие между
результатом развития формул и исходными их типами.
В исходных формулах (по-видимому, еще докнижного про-
исхождения) всегда присутствует только один глагол в сочета-
нии с зависимыми словами. Причастие может выполнять функ-
ции сказуемого, но оно становится вспомогательным словом,
как только в тексте появляется личная форма; напротив, вспо-
могательный глагол всегда восполняется именной частью до
«полного сказуемого». Важен, таким образом, не сам глагол как
часть речи, а сказуемое по отношению к имени. Формула — это
сообщение, и в нем всегда должна быть рема; ср. ряд синтагм
из текстов о Борисе и Глебе: «Тогда восходящу солнцу / и
съступишася обои / и бысть сЪча зла, / яже не бывала в Pyct /.
1 В этой главе все примеры воинских формул приводятся по указанно-
му исследованию А. С. Орлова (1908); примеры из других источников взяты
из его работы 1902 г.
156
За рукы ся емлюще сЪчаху /, и по удолиемъ кровь течаше».
В составе ранних формул нет страдательных причастий, в них
представлены только действительные («давъ плещи», «емлюще
еьчаху» и др.), однако с конца XIV в. появляются и страда-
тельные формы как выражение изменившегося взгляда на пред-
мет описания (т. е. не только со стороны самого описываемого
объекта, но и со стороны наблюдателя).
Определения как такового в древнейших формулах нет; ни
одна из 25 синтагм, представленных в текстах о Борисе и Гле-
бе, не включает в свой состав прилагательное-эпитет. Только
в списках с XV в. появляются уточнения с помощью определе-
ния: «и по удолиемъ кровь р у ч и е м ъ течаше», «яко въ время
дождевное» (Орлов, 1902, с. 8). С конца XIV в. и особенно
с XV в. число определений увеличивается, особенно много их
в произведениях куликовского цикла.
Соединяя эти две особенности исходных формул — особую
роль глагола и отсутствие определения, — отметим большую
предикативность ранних и большую описательность позднейших
формул. В XI—XII вв. в формулах подбираются такие имена,
которые способны подчеркнуть действие, т. е. отглагольные,
а с XV в., напротив, все чаще употребляются субстантивиро-
ванные прилагательные; ср., с одной стороны: «И дождь и мол-
нии блистание, и блещахуся оружия въ рукахъ ихъ»,
а с другой: погании, противнии, вррнии, сильные, мертвые и др.
как тема высказывания — то, о чем говорится.
Все грамматические формы в ранних формулах исключи-
тельно архаичны: аорист, имперфект, склоняемые и всегда крат-
кие причастия, как обычно кратки и формы прилагательного
«(чаще в именительном падеже); с XV в. все больше появляются
неправильные грамматические формы, особенно глагольные.
Развитие языка недвусмысленно сказывается на самых сокро-
венных сторонах поэтического творчества — на устойчивых фор-
мулах, которые, являясь образцами-текстами, по идее должны
>были оставаться неизменными.
К XV в. увеличивается объем формулы — за счет определе-
ний и однородных членов. Однако принципы расширения текста
имеют свою логику. Это распространение происходит не по при-
хоти автора, но и не по законам развития определенных син-
таксических единиц в языке. Происходит обычное совмещение
различных способов организации текста, своего рода притирка
их друг к другу. Исходная очень лаконичная формула посте-
пенно обрастает вторичными по происхождению, но обычно за-
имствованными из народной поэтики речевыми формулами:
распространяется либо за счет определения-эпитета, либо за
счет введения парных сочетаний; ср., с одной стороны, выраже-
ния типа сЪча велия, громъ велий, звукъ звонный, градцкие
люди, стукъ зЪльный, звонъ клакольный, курение дымное, ноч-
ная тьма и т. п., а с другой — вопль и кричание, плач и ры-
157
дание, велий и преужасный, небо и земля, стук и звон и т. п|
(все примеры из «Сказания о взятии Царьграда»); в принципе!
набор подобных распространителей достаточно велик и можей
широко варьироваться от текста к тексту, создавая богатые
возможности вполне художественного клиширования типичны!
формул. В текстах XV—XVI вв. создается вторичная по харакс
теру система клише — формул-распространителей, которые бла-)
годаря своей однозначности и явной зависимости от исходной
формулы быстро превращались в штампы, отчасти снижая к
художественную ценность органически связанных с ними ис-:
ходных синтагм. I
При всем том важно было сохранять символический смысл
формулы, иначе она рассыпалась бы как цельность. Ср. курьез-
ные случаи вроде перевода тозаота xapovxe; ‘столь изнемогаю-:
щие’ на славянский язык как «толикъ потъ приимше», что уже:
в «Казанской истории» XVI в. своеобразно уточнено следую-;
щим образом: «утеръ поту лица своего» (Орлов, 1902, с. 4) —
это типичная контаминация с другими формулами, в составе
которых было ключевое слово потъ (и понималось буквально,:
как простое физическое действие).
Вернемся к нашему примеру — к исходной формуле, открыв
вающей описание боя. В «Сказании о Мамаевом побоище» она;
выражена таким образом: «соступишася полки и бысть сЪча:
зла». Со временем в разных списках происходит уточнение по-
следней части формулы путем добавления слов, расширяющих
конец текста: «бысть же сЪча зла и преужасна» (XIV в.)г;
«и бысть сЪча велика и преужасна» (XV в.), и «и бысть сЬча:
зла велика» (XVII в.); литературность формулы постепенно от-j
тачивается в сторону отвлеченного нейтрального сочетания слов;
«зла велика», а все остальное устраняется из формулы как сти-;
диетически маркированное и слишком выразительное. Одновре-;
менно (но уже в летописи) развивается и другой процесс кон-
кретизации описания за счет замены определителей: «бысть сЬча
крЪпка, и одолъ Вячеславъ» (Ипатьевская летопись, 1151 г.),;
«и бысть сЪча зла и велика, и побЪгоша» (там же, 1238 г.), по-
следняя формула становится позже обычной. Распространение
начальной формулы боя за счет одновременного указания на
его завершение (свернутая рамка, без последующих уточняю-
щих характер боя формул) потребовало обобщения смысла, по-
этому возникала необходимость показать хотя бы одним, но вы-
разительным словом, что бой был страшен, велик, крепок (т. е.
ужасный, значительный, с обеих сторон была проявлена твер-:
дость). Таковы истоки позднейшей контаминации распростри-,
нителей типа «зла и велика» из «зла велика, и побъ-
гоша».
Связанность формулы с определенным жанром в случае пе-
ренесения ее в другой жанр вызывает необходимость в распро-
странителях, характерных уже для этого жанра. Особенно за-
158
метно это в произведениях высокой публицистики, которые сна-
чала вообще использовали особенности ряда других жанров:
и беспрестанною молитвою побЪждаемъ их и не дадимъ плещи в р а -
гомъ, аще и тысуща язвъ на всякъ день примемъ отъ нихъ (Нил
Сорский — Боровкова-Майкова, 1912, с. 33).
Семантическое сгущение текста идет по линии компрессии,
сжатия беспредельно расширившихся формул до нового лако-
ничного выражения, которое могло бы включить в себя значе-
ние всей заменяемой фразы. Все более ранние исходные фор-
мулы были, по-видимому, такого же происхождения, чем и объ-
ясняется синкретизм их смысла.
В поэтической речи происходила постоянная борьба между
стремлением расширить текст за счет включения новых слов
(формальная тенденция) и попытками сжать этот текст з'а счет
семантического включения (тенденция к компрессии). Первый
процесс расширял текст, второй создавал новые художествен-
ные средства, столь необходимые средневековой литературе.
Первый отражал творческий процесс каждого отдельного ав-
тора, второй, являясь изменением языковым, порождал новые
формулы из наличного текстового материала.
Вместе с тем усложнение текста происходило и за счет за-
мены опорных его слов. Это определялось уже не только по-
требностью художественного описания, расширением текста и
типическим набором определителей, но и исторически изменяв-
шимся характером описываемых событий (в нашем примере —
боя). СЪча — это рубка в конном строю, она отражает воин-
ский «труд». Достаточно рано возникают другие виды боя, и
это отражается в его именовании. «И съступишася бита [или
супин битъ.— В. Я.], и бывши брани межи ими, одолЪ Свято-
славъ» (Ипатьевская летопись, л. 25об.). Речь идет не о сече,
а именно о битве (бити), причем битве «взаимной» (еъступи-
тися). От простой констатации брани авторы переходят
к развитию уточняющих определений, которые и в данном слу-
чае имеют варианты, являясь целиком авторскими; ср. соеди-
нение двух формул в Летописи Авраамки начала XV в.
(в записи под 1151 г.): «и срЪтостася обои., и бысть имъ брань
люта и сЬча зла». Теперь войска не «соступились», но встрети-
лись, это совершенно иное понимание обстоятельств боя.
Этому описанию боя предшествовал поиск определений: «и
бысть брань крепка» (Воскресенская летопись, 1151 г.), «и ту
бысть межи ими брань крЪпка зЪло», впоследствии еще добав-
лено «яко страшно бо и зрЬти» (Тверская летопись) и т. д. Об-
щие указания на характер боя, т. е. слова сЪча или брань, ока-
зывались недостаточными именно благодаря их специализации,
поскольку это разные формы битвы. В текстах появляется обоб-
щающее слово, поданное вначале в виде глагола, который вы-
ражает действие, наиболее важное в момент «сечи» или «бра-
159
ши»: «и ступишас полци, и бысть сЪца зла, и б и ш а с от nojrt
дне до вечера» (1153 г., Ипатьевская летопись, л. 168) и Д|
В сводах XV в. происходит еще одно семантическое преобрая
вание, в результате которого накопленные в ходе последов|
тельного употребления частные характеристики боя сжимаютй
в новую формулу: «И ступишася, и бысть бой великъ, и пЗ
може богъ Юрию, и побЪди Юрий, а князь великий Изяслая
бЪжа» (1149 г., Тверская летопись, с. 214). Тексты все врев|
одни и те же (хотя и о разных сражениях), но словесное я)
оформление по спискам с течением времени изменяется, пер|
давая развитие и сознания, и языка, отражавших, надо думат!
обстоятельства реальной жизни. Срча— брань—-бой как тер
мины воссоздают последовательные этапы обобщения слова 1
понятия, движение мысли от конкретного ко все более отвлб
шейному. Вместе с тем происходит и устранение стилистичесй
маркированных вариантов; формулы обобщаются как общеру|
ские, уже не связанные с конкретным жанром или со средо!
которая породила исходную формулу. Процесс отбора и отра
ботки формулы также окрашен в нормативно-стилистически
тона, формульность древнерусского текста — это и есть eii
норма. j
Постоянно усложняясь, формула в своем развитии доходй
до известного предела: не более двух определений, причем од|
;из них имеет тенденцию к замене наречием — своего рода граЗ
матическая контаминация, связанная с распространением кра|
ких форм прилагательного и с необходимостью подчеркнув
характер действия, а не признака (ср. «брань крЪпка зЪло)
вместо «крЪпка велика», как в случае с другим именем («ей
зла велика») и т. д.). Действительно, мы имеем дело с синтай
мой, которая никогда не переходит границ минимального
-резка речи, объединенного ритмическими, грамматическими |
смысловыми признаками. |
Но обновление определений путем замены прилагательный
;уже непосредственно связано с изменением языка. Формула^
всегда живая строевая единица текста, она не должна вызы)
вать непонимание; поэтому велия заменяется словом велика,
зла — словами люта, крепка и т. д. \
Так выявляются основные характеристики формул-синтагм^
Являясь ведущим компонентом текста (весь текст может со:
стоять из одной формулы), синтагма постоянно изменяется
в связи с изменением языка, косвенно отражая изменение спо
• собов номинации, передавая в конечном счете изменения в са-
мой действительности. Синтагма как образец не является за-
стывшим общим местом поэтического текста. Происходит по
стоянное перераспределение стилистических характеристик
слов, составляющих синтагму, и самой синтагмы в целом, при-
чем значимость отдельных слов все время повышается, тогда
жак цельная синтагма, если она не подвергается формальном?
460 ,
Обновлению своих компонентов, обращается в штамп. Совре-
)|енная сказительница в новине о Чапаеве использует все тра-
кционные формулы-клише былинного текста, чего не делал
Средневековый художник по отношению к своим современникам.
5н постоянно обновлял словесное наполнение формул, отчего
яма формула сохранялась как структурный компонент текста.
Необходимость в дальнейшем совершенствовании компонентов
Ькста отпала только в связи с усилением языковых парадигм
I выделением отдельного слова в качестве опорного элемента
Секста. В принципе изменился характер текста.
Под напором распространителей в исходных синтагмах про-
исходит также преобразование грамматических форм, что кос-
венно отражает изменившееся отношение к объекту описания.
гОтъ трескоты оружия» в «Житии Довмонта» (XIV в.) и «отъ
фоскоты оружия» в «Сказании о взятии Царьграда» (середина
KV в.), но «отъ оружного стуку» (при описании битвы Шуй-
ского, 1610 г.)—это разные способы характеристики оружия
вли его действия. В подобных изменениях (их также можно
^казать во множестве, и они представлены в материалах
А. С. Орлова) преобразуется смысловая перспектива в общем
развитии текста. Сначала говорилось об оружии, и в сжатой,
Синкретически цельной формуле содержалось многообразие ха-
рактеристик и действий, с ним связанных. Затем происходит
усиление образа: в сочетании «троскота оружия» внимание
сосредоточивается на частном, специфическом для данного мо-
мента действии оружия, хотя вся формула дает представ-
ление одновременно и о самом оружии, и о характере исполь-
зования (грохот). Замена объекта определением («оружный
стук») позволяет совершенно обобщенно говорить о самом
шуме оружия. В общем же контексте описание этого момента
все больше объективируется. Для прежней повествовательной
перспективы одинаково важными были все точки зрения: «солн-
ца» во вступительной синтагме, потом «войска», затем «ору-
жия» и т. д.; по мере наполнения текста синтагмами, каждая
из которых включалась в общее повествование со своей пози-
цией в отношении описываемых событий. Наконец, описание
сосредоточивается вокруг одной-единственной точки зрения —
позиции наблюдателя или рассказчика, которой подчиняются
все привлекаемые по ходу изложения традиционные синтагмы.
Создается большая цельность текста самого по себе, не опосре-
дованно через синтагмы. Текст теперь — не просто собрание
множества равноценных синтагм. Напротив, теперь для текста
синтагмы подбираются или видоизменяются в соответствии
с общим замыслом.
Одновременно уточняются и конкретизируются описания уз-
ловых моментов повествования, в нашем случае — боя; проис-
ходит специализация некоторых выражений, так что известный
^синкретизм древней формулы начинает разрушаться и за счет
Колесов В. В. 161
увеличения числа «видовых» ее вариантов. В исходных форм^
лах речь идет только о сече, только об оружии, только о кров!
и т. д., но затем происходит уточнение типа боя, битвы, сеч!
и т. д., уточняется и характер оружия (сначала это меч !
копье, или копье и сабля, затем пищаль и пушка и т. ф.), г»
ворится не просто и отвлеченно о крови, но о ранах, видах ра-
нения и т. д. Конкретизация синтагм происходит наряду с прй
одолением исходной синкретичности ключевого слова. Синтагм!
превращается1 в формулу по мере сокращения ее «многознач?
ности», но и формула рассыпается, когда число ее варианта!
достигает критического предела. :
Углубляется расхождение между отглагольным именем 1
отыменным определением, прежде объединенными в общую фор
мулу типа ломание копий (восходящую к словосочетанию копь!
ломати) или звук мечей, ср. уже в переводах из Иосифа Фла-
вия: «и бысть видЪти ломъ копейный и скрежтание мечное !
щиты искипани» (Орлов, 1902, с. 13). Характерно, что страдй
тельное причастие оказывается равнозначным функциональна
отглагольному имени — и в старинной его форме ломъ и в но
вой, книжной, скрежтание, но возможность варьирования грам-
матических и словообразовательных форм позволяет создал
дополнительную перспективу высказывания, в которой одно
значность этих форм утрачивается, а стилистическая их опрр
деленность размывается; она не указывает на высокий стиль
одних из них (скрежтание) и нейтральный других (ломъ). Спр
циализация формул в составе цельного текста оказываете!
тесно увязанной со стилистическими поисками этого времен^
но всегда определяется возможностями языковой системы. |
Распространение текста идет дальше, за счет сравнительны!
оборотов или придаточных предложений: «и тресну аки громъ^
«бьяшеся крЪпко и нещадно, яко и земли постонати», «як!
громъ великъ восшумъ, не 6Ъ слышати, что глагола друг дру-
гу», «падаху акы сноповье». Ср. исходную формулу «и бысть.|
яже не бывала въ РусЪ», которая из-за большого количеств!
составляющих ее слов вычленяется из текста в виде самостоя(
тельного предложения «такова же не бывала отъ начала Рус-
скиа земли» (Орлов, 1902, с. 12). Это уже не отдельная синтаг-
ма, а целое предложение; несколько предложений развилось и!
первоначально предикативной формулы. Именно на этом этапе
распространения текста, в сущности, и формируются типы со-
временных словосочетаний. В некоторых произведениях они cos
единяются чисто механически, в простом следовании разнооб-
разных по происхождению формул, иногда создаются гипербо-
лические описания; ср. в «Сказании о взятии Царьграда»: «Съ
забралъ и кровь ихъ течаше, яко р£>кы по стЪнам./ и крови
ихъ, акы потокомъ силным тещи, / и пажушинЪ [заливу] Га:
латцкой и сиирЪчь Ильмену [лиману] всему кроваву быти/
и облизу рвовъ по долинамъ наполнитися крови» (Орлов;
162
902, с. 21)—здесь представлены все формулы с ключевым*
ловом кровь, которые только возможны при описании подоб-
иях бедствий.
- Вернемся к характерным признакам исходной формулы. Ос-
ювным компонентом исходного образа в синтагме было сравне-
гие, которое только на следующем этапе развития образа стало*
шределением-эпитетом; вот как изменялись характеристики*
юинов в бою: «И пободоша ихъ акы звЪри», затем «аки дивии'
вЬри», потом с обновлением определения — «аки дикиа звЬри»-
I, наконец, с обычным для фольклорной традиции эпитетом —-
гаки лютые звЪри» (Орлов, 1902, с. 28). Сложное описание соз-
дается и в результате простого повторения одной и той же не-
годной формулы, но с различными определениями: «и поскре-
кета зубы, аки дивий звЬрь, грозно посвиста, аки страшный
1вЬрь, и ожесточися сердцем на брань, яко левъ ревый, огнемъ-
1ыша, против многих воевъ великого князя с немногими насту-
1ися» (Орлов, 1902, с. 30). Каждый компонент этого описания:
му Махмета, который накаляется яростью перед боем, суще-
лвует и в самостоятельном употреблении, некоторые из компо-
зитов пришли из высоких жанров литературы, но картину соз-
дает только их набор, основанный, к тому же, на риторическом
ювторении трех признаков, за которыми явственно просматри-
даются также различия реальных зверей: рыси — змея — льва.
1л я каждого из них характерен определенный, навсегда ему
фиписанный признак, с которым соотносится аналитически пе-
)едаваемая характеристика противника: скрежещет зубами:
>ысь — издает страшный свист змей — ревет перед боем, опа-
яяя все вокруг своим дыханием, лев.
' О каждой из формул можно повторить все, что сказано*
) развитии исходной формулы воинской повести; по материа-
лам, представленным А. С. Орловым, это легко сделать: и рас-
вространение текста с последующим семантическим включе-
Вием в составе качественно новой формулы, которая, однако,
фодолжает общий поэтический смысл прежней синтагмы, и
госвежение» смысла цельной синтагмы с помощью нового сло-
ва, переводящего уже устаревшее слово на современный язык,,
в т. д. Расширение материала помогает установить исходную*
точку развития образности синтагмы: это всегда сравнение,
включаемое в текст союзом акы. Все последующие изменения’
смыслового содержания и формы синтагмы, которые были вы-
явлены на примере исходной формулы боя, вытекают из этой
исходной формулы и являются ее продолжением; разница лишь
в том, что на языковом материале возникают уже индивидуаль-
ные художественные формы создания образа, определяемые.*
границами текста и содержанием описываемых событий. Вклю-
чаясь в текст сначала в качестве обычного сравнения, формула:
становится органичной частью целого и изменяется по законам:
сочетаемости компонентов в границах этого целого. Можно при-
11*
163s
вести много примеров того, как выбор нового эквивалента в и
менении фврмулы определяется окружающими синтагмами (ся
замену слова сЬча словом брань с включением слов съступЯ
шася или межи собою). Однако, как справедливо замети
А. С. Орлов, «чем дольше образы вращались в литературе, т(Ц
сильнее линяли их краски» (1902, с. 35), а это постоянно вЫ|
зывало «необходимость переработки формы для того, чтом
сохранить смысл формулы, потому что к ним относились кая
к сводам узаконенных литературных приемов» (там же, с. 491
Самый лаконизм формул стал причйной их разрушения, потом
что прежний, чисто механический способ их обновления со вра
менем оказался недееспособным, и ему на смену должен бьи
прийти другой. Однако ценность этого поэтического средству
нельзя преувеличивать. |
Г л а в а 4
РАЗРУШЕНИЕ ФОРМУЛ И РАСШИРЕНИЕ ТЕКСТА |
Развитие формул на основе ключевого слова — творчески|
процесс, обратной стороной которого является разрушение ис|
ходных формул и, как следствие, расширение текста. Семанти|
ческая конденсация в слове приводит одновременно к расшире|
нию формы. J
При сравнении текстов Кирилла Туровского с использовав|
ными им оригиналами легко выявить принцип создания новы|
синтагм: отрывок из славянского перевода греческого «слова!
«НынЬ же ратай рало погружаетъ... и подъ яремъ ведеть вол|
орачь» Кирилл передает синтагмами, поскольку иначе он и н|
может выразить смысл оригинала1: «Нынъ ратай слова сло|
веская уньца къ духовному ярьму проводяще и к р е с т|
ное рало в мысльнехъ браздахъ погружающе» (см. разбор
этого текста: Колесов, 1981а, с. 37). Все синтагмы Кирилл^
по-видимому, авторские, более того, характер их совершеннС)
славянский (только в первом случае использована греческа|
конструкция с родительным имени, все остальные — типична
славянские атрибутивные сочетания), но замена слова синтаз
мой—это общий принцип создания литературного текста, оди<
наковый у славян и в византийской традиции.
Еще одна возможность разрушения исходных формул — их
синтаксическое распространение (в риторике — Figura etymoloj
gica). =
1 Разрядкой даны слова, отсутствующие в греческом оригинале, но пред-
ставленные в переводе на славянский язык; важные в развитии авторской,
мысли переносные значения слов даны в качестве определения, создающего
новую синтагму текста; художественным текст становится только при рас-
пространении синтагм. 1
164
| Плеоназмы типа стрелами стрЪляти, дары дарити, думу ду-
$ати, мосты мостити, воля вольная, горе горькое, свЪтъ свЪт-
fuu и др. представляют собой распространенные словосочета-
ния с выявленным типичным и самым общим признаком имени.
Препозиция имени создает предикативное распространение,
Утверждает данный признак в высказывании, независимо от
|юрмы выражения, в виде прилагательного или глагола. По-
следующее усечение тавтологических сочетаний порождает се-
мантическую компрессию и способствует изоляции слова в кон-
тексте; словосочетание въ вЪкы значит то же, что . и въ вЪкы
вЪковъ или въ вЪкы вбчьныя, множество значит то же, что и
-великое многое множество, и т. п.
Традиционные синтагмы вообще могут заменяться соответ-
ствующим однозначным словом, которое включает в себя также
семантику всех вариантных формул; ср. замены в летописных
текстах: знаменаше крьстьнымъ образомъ — перекрестися, ю и
смерти предаша— умроша, приимаху ицЪленье — исцЪлеваху,
-гнЬвъ имЪти — гн-Ьватися, пояти жену — оженитися, цЪловати
крьстъ — клятися, градъ бЪлъ — бЪлгородъ, еда плече — обра-
тней на бЪгъ — побЪже (Ломов, 1969, с. 14'—15). Отчасти это
связано с наложением книжных оборотов на особенности более
лаконичной русской речи; выражение преставися в небесное
царство, например, заменяется словом умре, и принявши
мнишьский чинъ — словом постригшися, пакости подЪя — па-
костивъ, посадничьство державъ — посадничавъ, отвЪтъ даша —
отъв’бчаша, мыцение творити — мьщати (там же, с. 16—17).
Взаимоотношение фбрмул разного происхождения создает вза-
имообратимую по функции ситуацию, когда сложный оборот
может сократиться до слова или слово развернуться в синтагму.
Контаминации также расширяют текст. «Изнести слово» и
«право слово» дают возможность заменить летописную формулу
«не изнесъ слова» в уточняющую «не изнесъ права слова»;
ср. еще распространения типа «ц'Ьловавъше крестъ» с дополне-
нием «цЬловавъши честный крестъ», поскольку честный
крестъ — также термин формульного происхождения (там же,
с. 17).
Все эти формы распространения текста известны и народ-
ному творчеству, которое отчасти сохраняет древнерусские текс-
товые правила организации целого. Словосочетания «бел го-
рюч» и «серый камешек» могут соединиться в «бел горюч
серый камешек», потому что основа сближения общая — клю-
чевое слово камешек-, «великая сила» и «сила немалая» как
столкновение термина и предикации порождает по тем же при-
чинам оборот «великая сила немалая», ср. и другие словосоче-
тания с распространением ключевого слова: «золотая казна
несчетная», «любимая дочь единая», «стрелила стрелу кале-
ную» и т. д. Простое выражение «с утра до вечера» народная
поэтика раскладывает на составляющие и подает в виде раз-
165
вернутого предложения: «Они бились день до вечера, они темн|
ночь до бела света», — в котором каждая пара слов, в сущн(|
сти, восходит к какому-либо терминологическому обороту.
Уже с XIII в. подобными средствами расширения текст|
пользуются создатели и переписчики воинских повестей и дело|
вых памятников. |
Синтагма радость и веселие в различных текстах показан?
по-разному. В древнерусском переводе «Жития Василия Но-
вого» (XII в.) это просто сопоставления с распространением;
«но с веселиемъ страшным и с радостью и трепетом^
и красотою и веселиемъ невеременнымъ и сладостию и
радостию всеумною преходящею сладостию меда сладкого»
(Вилинский, 1913, с. 591), «и бЪ их благол'Ьпие над сими, и
слава, и радость, и честь, и свЬтлость, и жизнь, и миръ, я
веселие» (с. 591), «ни единого же тамо слова и радость,
и миръ, и веселие, и правда, и жизнь» (с. 611) и др. В гре-;
ческом оригинале представлено только одно из слов сочетания
.(примеры и сопоставления см.: Колесов, 1982в, с. 243), второе
добавлено переводчиком, который помнит о существовании
этого слова в славянском в составе парной синтагмы. То же
относится и к сочетаниям чудо и диво, честь и слава и т. п.
В «Повести о разорении Рязани Батыем» (XIII—XIV вв.) рас-
ширение текста приводит к экспликации заключенной в обороте
антитезы и дополнительно выявляет противоположность
в столкновении антонимов: «Уже бо за веселие плач и слезы
приидоша ми, и за угЬху и радость сетование и скръбь яви
ми ся!» (ПЛДР, т. 3, 1981, с. 196). Внешнее проявление чув-
ства (веселие) объясняется характером внутреннего пережива-
ния (радость)-, с веселием связаны плач и слезы, с радостью —
упреки и скорбь. Аналогично противопоставлены эти компо-_
менты исходной формулы в плаче казанской царицы (по «Ка-
занской истории»), но в нем нет антитезы, т. е. риторического
приема разведения частей синтагмы: «И за радость и за:
веселие плач и слезы горкия постигоша мя, и за царскую
утЪху сетование болЪзненое и скорбныя бЪды обыдоша мя»
(ПЛДР, т. 7, 1985, с. 416); здесь же, в скорбном слове русской
царицы, эти компоненты разведены посредством грамматиче-
ской дифференциации: «свЪтла и весела видЪти и радую-
щ а с я» (с. 452).
Выражая надежду на то, что памятники, подобные «Задон-
щине», недолго будут рассматриваться как подражательные и
займут достойное место в исследовании поэтической техники
своего времени, Д. Ворт показывает различные риторические
приемы, использованные в организации текста «Задонщины»
(1977, с. 241):
Русьстии сынове розграбиша татарьская узорочья,
Жены русьскые въсплескаша татарьскым златом...
Възнесёся слава русьская па поганых хулу.
J66
Синтаксический параллелизм, анафорические вставки, изо-
силлабизм и т. п., в сущности, служат для реализации «проти-
вопоставленных пар» (oppositional pairs). Безыскусность по-
строения определяется банальностью определений, которые по-
вторяются (русские — татарские), редкими синонимами (пога-
ные— татарские). Полного параллелизма все-таки нет, по-
скольку сборность и вторичность текста двупланова: по набору
структурных синтагм текст «Задонщины» зависит от «Слова
о полку Игореве», но он же поддается новому принципу орга-
низации — риторическому, что и создает неорганичное сцепле-
ние исходных синтагм.
Разрастание исходной формулы типично и для деловых
текстов. На примере грамоты 1349—1352 гг. Л. Я. Костючук по-
казала это для синтагмы «миръ держати» (в контексте «Миръ
держати / велми твердо / безо всякоЪ хитрости»); каждое по-
следующее добавление служит для усиления клятвы и никакой
новой информации не несет (1968, с. 79). Одновременно такие
добавления выявляют смысл исконной формулы, развивая мо-
тивы, заложенные в семантике сочетания.
Все типы расширения текста ограничиваются распростра-
нением не более, чем до 6—7 членов. Средняя длина простого
высказывания (в словоформах) постоянно увеличивалась, но
никогда не выходила за эти пределы (см. данные С. А. Рылова
в табл. 1 — 1984,с. 38—39).
Таблица 1
Стрултура простого высказывания (по периодам) Художественно- повествовательные тексты Деловые тексты Среднее количество слов в синтагме
XII—XIII вв. 5,48 3,50 4,5
XV—XVI вв. 6,11 5,80 5,9
XVII в. 7,17 6,66 6,9
XVIII в. 6,76 7,77 7,3
XIX в. 5,84
XX в. 6,66 13,96 10,3
Соотношение числа словоформ в составе простого высказы-
вания колебалось между разными типами речи. После XVII в.
деловые тексты дают резкое увеличение числа словоформ, но
в целом с XVIII начались, продолжаясь до XX в., «упрощение
структуры простого высказывания (предложения) и раздвиже-
ние границ сложного высказывания (предложения)» (Рылов,
1984, с. 36). С конца XVII в. обозначается качественное изме-
нение границ, проходящих между синтагмой и предложением:
расширение текста идет теперь не по линии расширения син-
тагм, члены синтагм расширяются до самостоятельного прида-
ют
точного, т. е. развиваются сложноподчиненные предложенй
Среднее число компонентов синтагмы никогда не выходит 1
пределы семи — таковы естественные границы расширен*
формул, способных нести информацию и в устной своей форй
В «Слове о полку Игореве» наиболее распространены формуй
из 3—4 словоформ, в «Задонщине» — из 7—8, но чем больш
элементов разговорной речи в тексте, тем короче средняя длиЯ
синтагмы: в «Хождении» Афанасия Никитина — 3,91, в «Житий
Аввакума — 4,47 словоформы (по данным С. А. Рылова). S
На примере развития текста в русских травниках покажу
принципы перестроения синтагм *. Травник основан на исхо|
ных формулах заговора или причети, записан довольно поздно
когда исходный текст уже оброс распространениями и уточн^
ниями, а сам текст как устный не имел устойчивой формы,
постоянно изменялся. |
Логика построения сюжета в описании отдельной лечебно!
травы отражает процесс познания целебных ее свойств; есл|
возникает необходимость дополнения, оно присоединяется чист®
механически, точно так же, как делали это авторы средневек^
вых хождений: «И то масло, внутрь приято, немощь сердечнуд
отгонит [это—первое следствие], и сердце укрепляет [втор<й
следствие], страхъ от человека отводит [третье, вполне естё|
ственное следствие «укрепления сердечной мышцы»], и смелое^
подает [как результат]». Происходит постоянное усложнений
образа как следствие его раскрытия; текстовые добавлений
растолковывают многозначность исходного синкретичного об|
раза, в данном случае — «немощь сердечную» (не болезн^
а нездоровье). Последовательность истолкования связана не
только с развитием языковых форм, но и с общими представ!
лениями культуры. Ведь последовательность перечисления в на!
шем случае отражает «отсутствие болезни сердца», затем пока!
зывает «силу сердца», откуда появляется уже «отсутствие
страха» и как вытекающее из предыдущего состояние смелости!
От самого конкретного и притом негативного образ развивает-'
ся к наиболее отвлеченному и притом положительному по
оценке. Постепенно пересматривается и оценка явления. Подоб^
ное растяжение текста из исходного словесного образа можно
увидеть в любом описании (ниже в скобках даны добавления
из других списков, развивающие первоначальную тему; курси-
вом выделены другие добавления):
Вот трава осотъ (осотръ) велми добра: кто ее знает, тотъ человек та-
лантъ зелной приобрящетъ. (А) ростетъ (она) красна (и) светла листочки
кругленки, что денешки, собою (высотою) в пядь, (а) цветъ розный, всякие
узоры на ней. А ростетъ та трава кус(ти) ками по сильнымъ местомъ ра-
менскимъ, ту траву (вар.: эта трава и кому покажетна, а кому и нетъ. И та
1 Цитируются и используются для сопоставлений следующие рукописи
травников XVII—XVIII вв.: БАН, 45. 9. 21; 33. 15. 192; 45. 8. 175; ГПБ,
г. VI. 6.
168
^ава) держати торговым людем (вар.: торговому человеку), что чощека (?),
р>г тя весть. Ту траву носи при себе, где ни пойдешь много добра приобря-
щеши, блюди (и) честь будеть во всякихъ ремеслахъ, пойдет с богомъ с ве-
мкою честью, и от людей честь будет и великою славою тотъ человек воз-
Йсеться. На земли корень той травы (цар.: а корень ея) такоже светлъ,
fro ярой воскъ (ср.: ПЛДР, т. 9, 1987, с. 496).
' В одном и том же кратком и образном тексте неожиданно
Сталкиваются слова и значения, прежде не соединимые: вместо
Нюди находим более отвлеченное человек (т. е. всякий чело-
век), вместо собою более точное высотою; на народный образ
наслаиваются книжные штампы (пойдет с великою честью —
пойдет с богом; бог тя весть — кто знает и др.); прежде по-
нятные слова теперь сопровождаются «постоянными эпитета-
ми»: к слову воск добавляется ярой, к талант — прилагательное
цельной (в значении ‘чрезмерный’, от зЪло); к прилагательному
Нобра добавлено усиление вельми и т. д. Подбор определений
выдает народный характер самого текста. Но только теперь он
(уже не запоминается как устный заговор, а записывается и при
Этом обрабатывается, приобретает все черты «литературности».
(Умелая рука книжника расставляет вспомогательные слова,
Одинаково возможные и в разговорной, и в книжной речи. Он
Выстраивает разорванные прежде синтагмы в логическую после-
довательность: вставляет а, и, также, что, дает обязательное
^уточнение та трава, ту траву, корень той травы и т. п. Усколь-
зающая неопределенность устного описания становится, нако-
нец, четким текстом со строгими переходами мысли от одной
^подробности к другой. Размытые разговорные выражения вроде
«та трава держати» исчезают, хотя старинные слова, входив-
шие некогда в традиционные формулы, все еще сохраняются;
гбытовой характер описания не получил еще вариантов высокого
-слога. Так, словосочетание «места раменские» сохраняет ста-
ринный славянский корень, ср. раменье ‘поле у края леса,
дна опушке’.
Роль технического средства (записи) наглядно видна в ка-
чественном изменении текста от устного к «литературному», но
образцом при этом является все-таки формула. Народная фор-
мула обрабатывается в рамках делового текста (стиля). Столк-
новение формул разного происхождения необходимо, оно ней-
трализуется в архаизмах, которые есть во всех типах языка.
.Словесный образ синтагмы устойчив, поэтому живая трава —
-это не сама она живая, а та, что других оживляет (напри-
мер, подорожник), урочный час означает не время урока, а по-
- ру, когда обычно собирают траву; о траве говорят «такова
. страшна», подразумевая при этом, что не сама она устрашает,
1 а вызывает страх. Каждая былинка одухотворена, но такое
= отношение к миру и природе в народной речевой формуле по-
; дается как присущее самому субъекту описания, т. е. растению
: или цветку. Все состояния больного описываются как отдельно
169
от него существующие, но как живые, такие описания лишевй
отвлеченных признаков книжной речи: «А коли боль не спитЯ
возми семя редьковное, сотри мелко и смеси яичный желтыш^
помаже чело, ино спитъ боль»; точно так же и «слезы ходятъд
а «очи преютъ» и т. д. Здесь видно множество старых слове®
ных форм: не желток, а желтым-, растение чистотел никогда
не называется сложным словом, а конкретно — чистуха ил|
чистяк. Собирательные по смыслу существительные — не рей
кость в травниках, в них употребляются такие слова, как пй
хоти, прели, росчисти, их заменят позже книжные описателй
ные выражения прелые места, ровные места или отвлеченно^
но без собирательности слово пахота. Таинственный мир ска;
зочной неопределенности, обычно увязанной с конкретностьй
места, сменяется общим определением, может быть, и строги^
но не столь образным. Усиление научности стиля идет за счет
уменьшения образности, но в рамках одного и того же текста!
длительное время обрабатываемого усилиями многих. Прежний
текст не сразу заменяется новым, он постепенно им сменяется!
Изменяется и оценочность определений. Певучая женскй
речь (у ведуний) слышится и в выборе уменьшительных суфй
фиксов (они одновременно и ласкательные): у цветочка «рост®
что елочка, листочки долгоньки, маленьки, гладеньки». Имений
таким и должен быть склад народной речи, всегда избегавшей
порицательной или уничижительной уменьшительности. «Ростер
по холмикам, собой маленька, светла и бела, что булавочка^
а цвет — что пыльца белая да желтая, а когда сыщется — рей
стетъ кустиками» — здесь ощущается особая плавная интонацня|
которая помогала запоминать заговор, словно старинный стих|
в перекатах заветных слов. (
Интонация устной речи и образность старых слов в состав®
устойчивых формул долго сохраняют впечатление нелитератур^
ности текста. Но такое впечатление обманчиво. Перед намй
несомненно литературные тексты, но иной культуры, чей
книжная.
Тот же характер упрощений имеет и обработка евангель-i
ских цитат в древнерусском переводе «Пчелы» (XII в.); ср;
контаминацию двух синтагм: «узъка врата и тЪснъ путь, въво-
дяи въ жизнь» (Мтф. 7, 14), что в Остромировом евангелии;
представлено исходным архаичным вариантом «въводяи въ жи-
вотъ», а в «Пчеле» — «узок путь, въводяй въ жизнь» (Семенов,;
1893, с. 1). Контаминированная форма выражения не удовле-
творила позднейших писателей; например, Иван Грозный пере-
фразировал его так: «скорбный путь и уская врата вводяй в;
жизнь вечную» (Послания Ивана Грозного. М.;Л., 1951, с. 259),=
т. е. уточнил первое определение и расширил третью синтагму,
уточняя и ее смысл: под жизнью понимают именно «вечную;
жизнь», и в этом смысл афоризма. Последующую историю вы-
ражения в русской литературе до Ломоносова описал А. Н. Ро-.
170 :
йинсон, особенное внимание он обратил на преобразование
§5того символа у Аввакума: праведные «прискорбным путем и
Йеною дорогою [!] и невозбранно идут до небес», при этом для
Никонианина «узок бо есть и тесен и прискорбен путь, вводяй в
Живот» (1965, с. 441). Намеренная архаизация сочетания (оди-
наково архаичны и живот и путь) противоположна столь же
Сознательной модернизации этого оборота: дорога — до небес,
Жизненный путь осуществляется по скорбной дороге; оба сло-
на— дорога и путь — стилистически разные, соединяются для
того, чтобы углубить общее для них семантическое ядро.
О скорбном пути говорят русские писатели, которые последо-
вательно расширяли или преобразовывали и другие компоненты
формулы, неизменным оставляя только одно: семантику сим-
Нола «путь» — «врата» — «небесная жизнь». Искусство писателя
заключалось в умении не только выстроить текст из набора го-
товых формул, но и приспособить к новому тексту словесное
наполнение использованных им формул. Возникающее при этом
«приращение смысла» могло сохраниться и при всех последую-
щих, основанных на образцах, переработках текста. Историку
остается только найти первое употребление измененного обо-
рота и проследить дальнейшую его судьбу.
Происхождение многих средневековых формул трудно объяс-
нить или истолковать. Так, в текстах Епифания Премудрого
употребляются сложные слова типа волкохищный, горопленный
или выражения тйпа «красны ноты» (символ пришествия, воз-
вращения), которые приписывались вначале самому Епифанию;
теперь установлено, что эти формулы пришли из переводных
текстов (Мещерский, 1978, с. 71). Епифаний вряд ли употребил
бы столь яркое выражение, если бы за синтагмой в ее симво-
лической цельности не стояла длительная традиция употребле-
ния. Символ непонятен как создаваемый в данном тексте —
-это особенно верно для средневековой литературы.
Принципы развития и переработки формул оставались оди-
наковыми на протяжении длительного времени, хотя, попадая
в устную речь фольклорной традиции, подобные формулы
всегда сжимались в лаконичную пословицу или поговорку.
Описательное в «Пчеле» «безумных ни орют, ни сЬют, ни куют,
ни льют, но сами ся раждають», перерабатывается в «Молении»
Даниила Заточника в поэтически цельное выражение «безум-
ных бо ни сьють, ни орють, ни в житницю собирают, но сами
ся родят»; ср. окончательный вариант — в форме поговорки
XVII в.: «дураков ни сЬютъ ни жнутъ — сами родятся» (Фели-
цына, 1969, с. 123; тут же и другие сопоставления). Сжатие
текста вообще следует признать важнейшим требованием в пе-
реработке традиционных формул.
Невозможно в принципе говорить об авторстве того или
иного варианта традиционной формулы применительно к древ-
нерусской литературе. Авторства сознательно избегали, сми-
17!
ренно прячась за самоуничижительными формулами введем
или послесловия. Авторство исключалось не только благода
возможности широко варьировать формулу в ее словесном I
полпенни — основному принципу сложения и бытования св
тагм. Трудно сказать, кто первый употребил тот или иной |
риант, но литературным фактом становилась только пошедш)
з обращение формула. В истории литературного языка ли|
весьма условно можно установить те общие основания, котор|
руководили писателем: дополнения или усечения исходных фО
мул, их словесное и формальное наполнение исходя из шир
кого контекста и т. д. 1
Наиболее устойчивыми из числа переведенных оказались pi
чевые формулы, которые наложились на соответствующие сл|
вянские и постепенно вобрали в себя семантику последнш
Собственно, лексическое наполнение формулы изменялось пд
воздействием славянского сочетания, шлифовалось до идиом!
Есть хороший пример у Н. А. Мещерского (1964, с. 220): в древ
нерусском переводе «Истории Иудейской войны» не раз ветре
чается оборот (и его варианты): «разб-Ьгошася, камо кого о?
несяшета», «разидошася, камо кого нужа злечаше», «бЬжаШ
от цьркъви кто камо ида» (в других списках с обновлений
формой идя-, а в последующих редакциях и просто видя, потом
что для русского языка характерно было именно это сочетаний
ср. «а прокъ ихъ разб'Ьжеся, куды кто видя» — Новгородска
Первая летопись... М.; Л., 1950, с. 65, 1226—1228гг.). Возмой
но было и развитие формулы-г-по пути уточнения и раскрыл!
образа; ср. у Афанасия Никитина: «а тот пошел куды его оч
понесли» (Хождение за три моря Афанасия Никитина. М.; Л
1958, с. 13). Таким образом, на формулу с ключевым слово!
идет наложено типично славянское сочетание с опорным- слово)
видит (ср.: «глядеть во все глаза» и т. п.). Возникает контамй
нация. Отточенное «идти куда глаза глядят» есть завершена
длительной истории поэтической формулы: все компоненты ил)
изменили форму или заменились другим словом, но исходны:
смысл выражения сохранился в исконном виде. «Фразеология^
ская самостоятельность литературно-письменного языка славя®
ош.утимая уже в переводах Евангелия» (Мещерский, 196|
с. 219), постоянно поддерживалась обращением к народно-раз*
говорным эквивалентам. щ
Переход к новым принципам организации текста — не от
формулы, а от слова — совершался долго и не без ущерба для
литературных памятников. С одной стороны, стабилизация изо*
лированных от живого языка формул способствовала превра-
щению их в штампы, полностью утрачивающие смысл. Анализ
текстов показал, что независимо от жанра многие старые син-
тагмы к XVII в. превращаются в чисто стилистическое средство.
Кодификация формулы как опорного элемента текста разру-
шает и нормативность текста, и литературность его содержа;
172
йя. С другой стороны, преждевременные попытки пословного
кревода с других языков, без привлечения традиционных фор-
Вл-синтагм, делали эти тексты невразумительными. Многие
Ифеводы еретиков конца XV — начала XVI в., осуществленные
Удобным образом, оказались неприемлемыми: в конкуренции
^традиционными формами выражения мысли оказались недее-
Йособными важные переводы таких памятников, как «Логика»
Ии «Диалектика». Они опередили свое время, развитие языка
яце не было подготовлено к подобной работе. Литературный
Ьык воздействует на формы разговорного, однако и без под-
держки развитых форм народного языка преобразования в ли-
тературном языке невозможны. Поэтому самым распространен-
ным способом постепенного разрушения старых синтагм и был
йринцип переосмысления их в новых контекстах. Перенесение
формулы в прежде чужеродную среду, использование ее в не-
свойственных ей стилистических функциях оказывались крити-
ческими для самих формул.
В XVI в. синтагмы разного происхождения еще не совмести-
лись в одном тексте путем взаимного проникновения на основе
Общности ключевого слова Или сходства родового понятия. Они
приводятся параллельно, как бы усиливая друг друга в стили-
стическом отношении. Типичный пример такого рода — «Посла-
ние Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь»:
Увы мнъ грешному, горе мнЪ окаянному, охъ мнЬ скверному! Кто есмь
азъ, на таковую высоту дерзати? Бога ради, господне и отцы, молю васъ,
лрестаните от таковаго начинания... А мнЪ, псу смердящему, кому учити и
чему наказати и чЪмъ просвЬтити? . . Но доколе молвы и смущения, доколе
плища и мятежа, доколе рети и шепетання. и суесловия, чесо ради?
ЗлобЬсиаго ради пса Василья Собакина?.. (ПЛДР, т. 8, 1986, с. 144,154).
Иронический подтекст «Послания» обнаруживается в резуль-
тате введения разговорных форм, которые, как эхо, повторяют
то, что сказано высоким слогом. Высокий слог оттеняется
именно включением нейтральных слов; стилистический рефрен
создается нагнетанием синтагм разного происхождения, но об-
щего смысла. Утрачивая в таких условиях собственный объем
понятия, возникающие варианты шире выражают признаки
отношения или качества общего содержания понятия. Стили-
стическое средство текста вырастает из номинативного значе-
ния формулы в результате ослабления в общей последователь-
ности текста теперь уже не существенных ее характеристик.
Стилистика текста органично развивается из самого текста,
а не привносится в него извне. Происходит это постепенно и
иа всех этапах с опорой на систему языка.
Сатирические произведения XVII в. сохраняют глагол исход-
ной формулы, заменяя имя другим, более вульгарным вариан-
том, и при этом расширяют текст за счет уточняющих слов
также бытового характера. Ср. в «Калязинской челобитной»:
173
Да он же, архимарит, приказал старцу Уару в полночь з дубиной
по кельям ходить, в двери колотить, нашу братью будить, велит частб.
к церкве ходить. А мы, богомольцы твои, в то время круг ведра с пивой
без порток в кельях сидим, около ведра ходя, правило говорим, не
успеть нам, богомольцам твоим, келейного правила исправить, из ведре
пива испорознить, не то, что к церкве часто ходить и в книги coeoi
рить. А как он, архимарит, старца к нам присылает, н мы, богомольцы твои,
то все покидаем, ис келей вон выбегаем (Русская демократическая сатире
XVII в. М„ 1977, с. 51). 1
Скоморошина видна и в рифмовке, и в повторениях глагсй
лов, и в краткости синтагм, и в характере глагольных форм
(инфинитив или презенс). Действие происходит в монастыре);
и пародийное переосмысление традиционных формул является
единственным средством создания комического эффекта; все
основано на языке. 1
Перенесение текста в чужеродную среду создает совершенна
невозможное сочетание стилистических и реальных характерна
стик, и синтагмы рассыпаются, утрачивая исконный свой смысл.
Рассмотрим эту ситуацию на известном топосе, издавна вклю-
чавшем в себя набор формул из пророческих книг и Апостола
(варианты см. в книге: Адрианова-Перетц, 1947, с. 105—108).
«Житие» Епифания Премудрого (1396 г.)
.. .препояши истиною чресла своя крепко, акы храбрый воинъ Х[ристо]въ,
вобронися въ все оружие б[оже]ственое, обуй нозе на уготование бл1а]го-
вествования вЪры, облецыся въ броня правды, приими же и щит вЪры, и
шлемъ сп[а]сения, и мечь д[у]ховный, еже есть ел[аго]лъ б[о]жий (Житие
Стефана, епископа Пермского. СПб., 1897, с. 15).
Послание Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский мон. (XVI в.)
Станете убо препоясани чресла ваша истинною, и оболкъшеся во броня
правды, и обувше нозе во уготование благозествования миру, надо всеми
же восприемше щит веры, в нем же возможете вся стрелы неприязнены
разженныя угасити, и шлем спасения приимете, и мече духовный, еже есть
глагол божий (ТОДРЛ, т. VIII, 1951, с. 256).
«Служба кабаку» (XVII в.)
Пьяници на кабаке живут и попечение имут о приезжих людях,
как бы их о б л у п и т и и на кабаке пропита, и того ради приимут раны
и болезни и скорби много... И егда хмель приезжаго человека п р е м о-
ж е т, и разопьеться, и ведром пива голянских напоят, и приимет оружие
пьянства, и ревностию драки, и наложит шлем дурости, н приимет
щит наготы, поострит кулаки на драку, вооружит лице на бой, пойдут
стрелы ис полинниц, яко от пружна лука, и каленьем бывает бьем пьяни-
ца (Русская демократическая сатира XVII в., с. 41—42).
Исходными формулами всех текстов являются: «взложилъ
шлемъ спасения», «облекшись в шлемъ надежды», «далъ щитъ
спасения», «броня правды», «щитъ в'Ьры», «мечь духовный»,
«в броню вЪры и любви», «в шлемъ надежды спасения» и др.,
которые встречаются часто и при этом варьируются от текста
к тексту; ср. у Максима Грека: «препояши истиною чресла
174
рои», «потребил есть безбожных... ревностию божественною
6й)е изострив и щитом веры оградився» (Адрианова-Перетц,
1934, с. 105 сл.). Общая основа подобных выражений — символ-
ами, на которое постепенно наращиваются формулы речевого
Высказывания.
У Епифания уточняющие определения соединяют прежде
Самостоятельные формулы в синтагмы общего текста, этому
Способствуют и сочленения типа «крепко акы», «приими же и».
У Ивана Грозного используется обычное распространение син-
тагм за счет истолковании их символического значения (вво-
димых с помощью еже, в нем же). В сатирическом тексте
«службы» синтагма сохраняется как цельность традиционного
образа, символа, которому противостоит отдельное слово живой
речи. Расширение текста идет за счет имен, а не определений
(выраженных прилагательными, наречиями или глаголами), при-
чем имен столь же отвлеченного смысла, как и ключевые сло-
ва формул (ср. дурость, пьянство и др.). Разговорных форм тут
вообще мало (ср. причастия типа бьем, глаголы типа приимет
и т. п.). Важны не грамматические или стилистические, а се-
мантические столкновения слов, причем ключевое слово фор-
мулы противопоставляется «разъясняющему» его самостоятель-
ному слову распространителя («наложит шлем — дурости»).
Переставлены все компоненты синтагмы кроме ключевого слова,
которое сохраняет символ (ср.: «шлем спасения — приимете»,
но «наложит шлем — дурости»; в первом случае именная
синтагма функционально важнее, во втором же исходной для
организации формулы является синтагма глагольная). Глагол,
как обозначение действия, ближе к разговорной речи, он и
разрушает цельность исходной формулы. Но единство формулы
создает не только ключевое слово, важен и отсутствующий
распространитель, который замещается столь же отвлеченным
именем, в результате чего возникает едва уловимая игра слов:
спасение и надежда — дурость (соотносятся с термином шлем),
вера — нагота (общий термин для которых щит), правда —
пьянство (общий термин оружие), ревность к делу — драка
(общий термин поострить) и т. д. Игра слов возможна только
при условии возникновения переносного значения за пределами
конкретного контекста, она переводит смысл всего текста в
иной стилистический план без всяких потерь для семантики
действия. Возможность варьирования компонентов сочетания
постоянно развивалась. Это расширяло текст с точки зрения его
структуры. Теперь могут соединяться слова разных реальных
контекстов; количественное накопление форм, разрушающих
традиционные синтагмы текста, подвело к возможности варьи-
рования любых без ограничения слов; в результате всего этого
формула разрушается. Она разрушается не только под давле-
нием развивающегося языка, но и как слагаемое художествен-
ного текста.
175
Только у Епифания набор синтагм органично увязан с cgj
держанием текста и соответствует поэтическому заданию (с|
ритмику и троичные повторения типа усиления: оружие^
обувь — броня, затем щит — шлем — меч и т. д.). У Ивана ГроЗд
ного ритмические перебивы текста обусловливаются смеша®
ным характером синтаксических связей. Автор не обращай
внимания на несводимость некоторых средств в одном тексте?
однако пока это противоречие создается только на поверхности
синтаксического текста. Тексту «Служба кабаку» вообще свой)
ственно безудержное наполнение фразы однозначными форму!
лами в искаженной их семантической перспективе. Здесь все
играет: и столкновение формулы со словом, которого она уже
не может переварить ни семантически, ни формально, и столк-
новение отвлеченного и конкретного обозначений, и столкнове?
ние стилистически разных форм выражения мысли. ;
Ближе к началу XVIII в. единство формул разрушается все
больше, каждый текст, в сущности, утрачивает грамматическое
единство, поскольку средствами создания синтаксической пер-
спективы при разрушении синтагм становится книжная фраза
с присущими ей формальными скрепами. Единственным огра;
ничителем распадающегося текста как нормального образца
становится стиль. «Единства этикета в древней русской литер®
туре нет, как нет и требований единства стиля. Все подчиня-
ется своей точке зрения» (Лихачев, 1967, с. 95). Каждый жанр
обслуживался своим набором формул, отражая замкнутость
функциональных действий и ограничений средневекового ми-
ра — деловых, воинских, повествовательных, конфессиональны!
и т. д. Каждая из формул представляет новую точку зрения на
одно и то же явление, событие или качество. Уже в «Задон-
щине» смешение двух стилей — высокого поэтического и дело-
вого прозаического — приводит к комическому впечатлению (см.
там же, с. 193), но в «Сказании о Мамаевом побоище» пре
столь же смешанном характере деловых и поэтических формул
ничего комического уже нет. На некоторое время трудами писал
телей XV в. был найден новый принцип организации текстов
на основе разнородных формул. 1
Однако влияние системы языка с активными изменениями
на всех его уровнях все время подталкивает писателей к быто!
вон речи. «Эта сознательность обращения к бытовой речи чрез*
вычаино важна, — пишет Д. С. Лихачев. — Она доказывает зре-
лость литературного развития. В XVII в. осуществляется по-
беда над деловой письменностью. Многие из форм деловой,
письменности включаются в литературу как уже литературные
явления» (1967, с. 79).
Особенно важна в этом процессе деятельность таких авто|
ров, как Аввакум. г
В новых условиях в языке изменяются прежде всего объем!
характер и следование синтагм. Традиционные формулы факти-j
176
|ески исчезают из текста, который создается на основе грам-
матических правил соединения слов в синтагмы. Последователь-
ность синтагмы также определяется коммуникативным зада-
нием и отражает логические и экспрессивные средства соеди-
нения синтагм в устной речи. Ведущими остаются модальные
Плова и интонация, которая-, однако, варьируется в зависи-
мости от типа высказывания. В чисто информативном сообще-
нии из первоначальной редакции «Жития» протопопа Авва-
Жума, так называемого Прянишниковского списка: «Пять не-
дель мы с женою рекою брели по го[ло]му льду, убивающеся
о лед, гладни и наги; везли на нартах нужную пищу и робят
малых» — сохраняются еще традиционные обороты в их исход-
ной форме («гладни и наги»). Затем текст развивается в рас-
сказ, известный теперь по нескольким вариантам; сравним ис-
ходный (А) и окончательный (В) варианты.
Вариант А
Пять недель . по лду голому . ехали на нартах . МнЪ под робят . и под
рухлишко . даль двъ клячки . а самъ и протопопица брели п'бши . убиваю-
Щися о ледь . Страна варварская . иноземцы немирные . отстать от лоша-
дей не см^емъ . а за лошедми иттй не поспйемъ . голодные и томные лю-
ди . Протопопица бедная бредетъ бредётъ . да и повалйтця . кбльско го-
раздо . Выную пору бредучи повалилась . а иной томной же человЪкъ на
нея набрёлъ . тут же и повалйлъся . оба кричать а встать не могут . му-
•жйкъ кричить . матушька гсдрня прости . А протопопица кричйть . что ты /
\ । i
батко / меня задавилъ? . Я пришблъ / на меня бедная пеняегь / говоря .
Дблъго ли . муки сея / протопбпъ будетъ? И я говорю / Марковна / до
самый до смерти! / Она же вздохни / отв-Ыцала / Добро Петрович ино ещё
побредёмъ (Житие... — Рукопись: БАН, собр. Дружинина, 746, л. 222 об. —
223 об.).
Вариант В
Пять недель / по лду голому / ехали / на нартах. МнЬ под робятъ / и
под рухлишко / дал дв-Ь клячки . А сам и протопопица брелй / п-Ьши . уби-
вающеся о лед. Страна / варваръская . иноземцы / немйрные . отстать от
лошедёй / не смКемь . а за лошедми / иттн / не посп’Ьемъ . голодные / и
томные люди. Выную пору / протопопица / бЪдная / брела / брела / да и
повалилась . и встать не сможет . А иной томной же / тут же взвалился .
Оба / карамкаются / а встать / не смбгутъ. Опбс.тЬ / на меня / бъдиая /
пеняет: / Долго ль де / протопбпъ / сего мучёния будетъ / и я / ей / ска-
зал . Марковна / до самыя до смерти . Она же / протйвъ товб / — Добрд
/ Петрович . И мы еще / побредем / вперед (Пустозерский сборник. Л.,
1975, л. 45—45 об.).
Синтагмы текста выделяются сначала в виде ритмических
единиц — знаком паузы, точкой. Точка сохраняется и в оконча-
тельном варианте, но очень редко. Синтагмы укрупнились до
предложений, в качестве ограничителей синтагм шире стали
использоваться пробелы между словами и наряду с этим вы-
: носные знаки, графически объединявшие на письме словоформы
; 12 Колесов В. В. 177
одной синтагмы (в приведенных текстах показаны вертикал!
ной чертой). Либо ритмические границы устного текста «укру|
нились», и автор стал произносить их на «большом дыханий|
либо качественно изменилось соотношение между разными т|
пами синтагм. Предикативные, организующие предложения сий
тагмы сознаются как более важные, чем все прочие, которы]
остаются как словосочетания. Распределение словоформ («стргй
на — варварская, иноземцы — немирные») по-прежнему пер|
дает интонацию устной речи, но характер соотношения междз
составляющими фразу синтагмами изменился. В этом тексй
нет собственно формул, есть синтагмы речи, полностью соот
ветствующие грамматическим правилам согласования слов 1
речи. Здесь нет ни архаических форм, ни отвлеченных, общи)
значений. Даже знаки ударений теперь определенно выделяю)
логическое ударение в предложении, границы актуального егс
членения. Это также связано со стилистическим, а не конструю
тивным характером членения текста (Осипов, 1985, с. 402—403)1
Исходный текст связан с документальными источниками, важно
объективно изложить хронологическую последовательность соё
бытии. Тексты А и В представляют разные этапы обработку
агиографического текста, с различными установками. Вари;
ант А — это запись устного текста, вариант В — переработка
этого текста как литературного, стилистически обработанной
(Колесов, 1975). 1
Свободная от влияния окружающих слов, словоформа мФ
жет быть подобрана таким образом, чтобы не нарушать стили?
стического единства текста. Подобную переработку и совер?
шает Аввакум от текста А к тексту В. Разговорные слова он
почти последовательно заменяет нейтральными, общими для
разговорного и книжного языка; ср. замещение слов лаять, при-
скочить, кричать, приобрести, бродити, волоча, помчало по реке,
посулили, живет (о снеге), портки, топерва и др. соответствую-
щими словами бранить, приступить, говорить, приехать, ходить,
водя, понесло по реке, сказали, там снегу не бывает, одежда^
ныне. I
К нейтральному стилю устремлены также и формы, вышед-'
шие из традиционных книжных формул. В этой группе приме-
ров кроме глаголов довольно много имен и наречий, добавле-
ние которых разрушает семантическую цельность ключевого
слова. Даже для специально церковных слов отмечается пони-
жение стиля в результате замены их распространенными в
разговорной речи словами; ср.: соборный храмъ заменяется со-
четанием соборная церковь, часто богъ вместо господь, бес
вместо сотона, земля вместо страна (варварская), добрый
вместо благой, класть поклоны вместо творити поклоны, ужасс'я
вместо вострепета, глагол в сочетании на небесная взыде заме-
няется на скончася, появляются чЪпь вместо железа, союз что
вместо многозначного яко и пр. Глаголы реклъ, реченное, гла-
178
Елати почти последовательно заменяются на говорили, писан-
'е, говорят и т. п.
В других текстах XVII в. также обнаруживается много слу-
ев предпринятого уже сопряжения традиционных текстовых
формул с различными по стилистическим признакам словами в
|х составе. Выявление стилистически нейтрального варианта,
йторый в конце концов и становится нормативным, обычно
йределяется наименьшей его связью с контекстом, семантиче-
ким освобождением от традиционной формулы. Механизм
fcoro действия подробно описан в нашей статье (Колесов, 1974).
|ело не ограничивалось только разрушением текстовых фор-
Йул. Поиски нейтрального «среднего» варианта опять-таки
|пределялись развитием грамматической и лексической систем
Языка, на которые опиралось последовательное выявление всех
йементов «среднего стиля». Собственно говоря, Аввакум,
В также писатели его времени и стали использовать этот сред-
ний стиль, привлекая к созданию текста только те элементы и
|юрмы, которые были общими для русского и церковнославян-
ского языков. По-видимому, пока каждое слово как конкретная
Словоформа определялось общим контекстом какой-либо фор-
мулы, никаких стилистических разграничений на уровне слова
|ыть не могло. Освобождение слова от формульного контекста
^вязано со многими обстоятельствами, в том числе и с изме-
нением «стиля жизни» (выражение Д. С. Лихачева), но выбор
Стилистических вариантов определялся все же особенностями
развития разговорного, живого языка. Сложившаяся система
языка становилась субстратом осознанных действий в отноше-
нии нормы — нормализация литературного языка шла при
Ориентации на систему языка (как реальной нормы на пара-
дигматическом уровне).
; Эту главу закончим рассмотрением механизма семантиче-
ских переходов между равнозначными словами, ставшими впо-
следствии синонимами, в границах устойчивых формул; одно-
временно прояснятся и принцип разрушения синтагм, и осво-
бождение лексем от грамматической обусловленности текстом.
' Каждое из слов животъ, житие, жизнь входило в свою син-
тагму, выражая определенный оттенок понятия ‘vita’; происхо-
дило постепенное обобщение множества признаков «жизни»,
рассеянных в самых разных словах конкретного значения, осно-
ванных на общности корня, типа жица, жила, жило, жиръ и др.
(Колесов, 1978, 1986). Литературные контексты, отчасти под
влиянием переводной письменности, были выработаны в рамках
восточноболгарской литературной школы X в., а в философском
и культурном осмыслении новых понятий и терминов большую
роль сыграли труды Иоанна Экзарха (Колесов, 19836, с. 220—
330). В середине XI в. книжники Киево-Печерского монастыря
использовали формулы преславской школы для организации
собственной системы выражения идеологически важных поня-
J2* 179
I
тий (Колесов, 1977), уточняя формульность характерной дед
христианской литературы дифференциацией слов животъ (субъ-J
ект жизни), житие (способ существования) и жизнь (воплощен
ние идеальной «вечной жизни»), В окончательном (современ-)
ном нам) виде жизнь как самое общее слово ряда вошло;
только в русский литературный язык, в других литературных:
славянских языках представлены либо живот (чешский, серб-
ский, болгарский), либо житье (польский, украинский и др.);
семантическое развитие слова жизнь начинается с XV в., т. е.
с момента интенсивного преобразования литературных норм.
В дополнение к сведениям, изложенным в указанных работах,
отметим (в табл. 2) общий объем изученных памятников (коли-
чество их обозначено в скобках) и распределение лексем по
группам памятников средневековья (в процентах; после итого-
вых цифр в скобках дано общее число употреблений каждого
из слов).
Таблица 2
Тексты Лексемы
животъ житие жизнь
Старославянские (16) 46 28 26
Мораво-паннонские (7) 26 67 7
Болгарские оригинальные (5) 28 44 28
Древнерусские оригинальные (28) 41 46 13
Древнерусские переводные (25) 26 61 13
Неопределенные по месту перевода (5) 20 51 29
Средняя величина по всем (86) ис- 30 53 17
точникам (1549) (2742) (920)
Древнерусские оригинальные тексты статистически очень
близки по употреблению слова животъ к рукописям старосла-
вянского канона, что подчеркивает архаичность древнерусской
системы в целом, ее связь с разговорной восточнославянской
лексикой, также отражающей общеславянскую систему. Пере-
водные же древнерусские памятники по употреблению этого
слова совпадают как с западнославянскими, так и с болгар-
скими текстами; использование слова животъ оказывается, та-
ким образом, безразличным к месту перевода, всегда находясь
ниже средней границы употребительности (ниже 30%). Таким
образом, в усредненном церковнославянском языке эпохи ран-
него средневековья эта лексема постепенно утрачивает свою
активность, видимо, в связи с наибольшей ее близостью к на-
родно-разговорным вариантам.
180
Употребительность слова жизнь почти совпадает в рукопи-
сях старославянского канона и в болгарских оригинальных тек-
стах. Это не удивительно, если учесть, что почти все примеры
употребления его в старославянских рукописях можно связать
с восточноболгарскими списками (только в Супрасльской ру-
кописи XI в. их 100 из 130 употреблений этого слова в старо-
славянских текстах). Фактически по отсутствию этого слова не-
болгарские рукописи канона и мораво-паннонские тексты сбли-
жаются между собой: в обеих группах источников около 7% от
общего употребления всех трех слов. Важно подчеркнуть, что
древнерусские источники — и оригинальные, и переводные — в
употреблении слова жизнь ведут себя совершенно одинаково,
и в обоих случаях использование этого слова ниже средней гра-
ницы частотности по всем славянским текстам. Ясно, что оба
типа древнерусских текстов воспринимают слово жизнь одина-
ково — как внешнее по отношению к древнерусской системе
языка, заимствованное незадолго перед тем слово. В болгарских
же оригинальных текстах употребительность слова жизнь почти
на 10% выше, чем в переводных, и одно это показывает важ-
ность данной лексемы для болгарского варианта книжного
языка.
Наибольшая неопределенность, несмотря на особую его ча-
стотность, свойственна слову житие. Оно наименее характерно
для старославянских рукописей канона, что в значительной сте-
пени отражает исходный кирилло-мефодиевский перевод свя-
щенных книг (с преимущественной ориентацией на слово жи-
вотъ)-, в древнерусских оригинальных текстах оно также упо-
требляется наряду со словом животъ-, переводные древнерус-
ские тексты и в этом случае близки к мораво-паннонским и
болгарским (особенно переводным) текстам.
Таким образом, статистические отношения суммарно рисуют
следующую ситуацию. Животъ и житие становятся основными
словами данной группы лексики в книжном языке ранней
поры; «усреднение» редакций в этом отношении особенно за-
метно на переводных текстах — независимо от места перевода
ориентация переводчика на общую литературную норму несо-
мненна. Слово жизнь включается в эту систему первоначально
в восточноболгарских текстах, а затем довольно устойчиво и
равномерно прослеживается в восточнославянских литератур-
ных текстах XI—XIII вв.; косвенным образом это связано
с архаической ориентацией на лексему животъ и с семантиче-
ским отталкиванием от слова житие.
Текстологические наблюдения позволяют уточнить первона-
чальную характеристику слова жизнь. В оригинальных русских
текстах это слово встречается либо в церковных поучениях и
житиях (48), либо в характерных цитатных местах из летопи-
сей (11), либо в измененном, собственно русском значении
слова {жизнь ‘имущество’ в Ипатьевской летописи и в «Слове
181
о полку Игореве»), либо как реминисценция древнеславянскоп|
переводного текста (в различных • редакциях «Моления» Да?
ниила Заточника — в его цитате из «Мудрости» Менандра}!
Слово жизнь встречается, впрочем, чаще, чем это представлен^
в статистической таблице: здесь не указаны многие древнерус-:
ские поучения и «правила», в которых использовано всего одно:
слово, и это слово — жизнь (всегда в заимствованном сочетания-;
вЪчная жизнь). Таким образом, древнерусские оригинальные
тексты начиная с XI в. в употреблении слова жизнь совпадают;
с мораво-папнонскими памятниками: жизнь — только ‘вечная;
жизнь «духа»’. Исключение касается двух собственных именз
Жизномиръ, употребляемое в берестяной грамоте второй поло-
вины XI в. (№109); Жизнобудъ, известное в надписи XII в. на
стене Софийского собора; однако вряд ли это собственно древ-,
нерусские имени. :
На Руси слово жизнь употребляется только в текстах киев-:
ского происхождения (Колесов, 1977), даже переводные тексты
до XIV в. используют его обычно в одном значении — ‘вечная,
бессмертная, небесная и т. д. жизнь’. То же касается и цитат.
Так, вое евангельские афоризмы в переводе «Пчелы» дают
слово жизнь для греческого что изобличает болгарский
перевод, в первоначальном же переводе ему всегда соответст-
вует слово животъ.
Распределение лексем по синтагмам в древнерусских тек-
стах таково.
1. В сочетании со словами духъ, душа употребляется только.
животъ («съ животомъ и душею погибнеши», «о своей души;
или животъ», «прЪдавати животъ и душю» и др.); только во-:
сточноболгарские источники вводят в синтагму слово жизнь, :
слово житие в этом сочетании не известно.
2. Символическое обозначение бога и Иисуса связано только ;
со словом животъ («богъ наш животъ и свЪтъ» и др.); только:
в русских текстах оно использовано для обозначения одновре- 1
мепио земной и небесной жизни («и тако обою животу лихованъ 1
бысть» в «Сказании о Борисе и Глебе» — Успенский сборник'
XII—XIII вв. М., 1975, л. 16а), что подчеркивает семантическую -
универсальность слова. Два других слова никогда не употреб-
ляются в русских памятниках, хотя символическое обозначение
Иисуса словом жизнь в переводных текстах возможно, глав-
ным образом в сочетании вЪчьная жизнь. Слово жизнь стано-
вится ключевым слогом христианской идеологии как обозна-
чение не ограниченного временем и пространством существо-
вания.
3. Архаичным уже. в XII в. является употребление слова
животъ для обозначения земной жизни («в семъ временнЪмь
животЬ» и др.), обычно в списках старых переводов; типично ;
сочетание «смертное (земльное, нынешнее, сущее и т. д.) жи- ;
182 :
1ие» (сотни примеров из разных по содержанию и характеру
памятников). Надежные примеры сочетания сия жизнь нахо-
дим в восточноболгарских текстах и в зависящих от них ран-
них древнекиевских переводах, откуда, видимо, единственный
-пример такого употребления попадает и в Ипатьевскую ле-
топись («огнемъ от жизни сея искушение приемши» — л. 2246).
4. «Животъ мой (нашь, твои, свои)—отчаятися (лишитися,
провожати, дати и т. д.)» — очень продуктивное и устойчивое
сочетание, которое со временем дает и метонимическое значе-
ние (мы встретили примеры и в плаче Евдокии о Дмитрии
Донском: «сокровище живота моего», «животе мой драгый»
и др.); слово житие заменяет исходную лексему лишь в неко-
торых переводных текстах, а жизнь встречается только в во-
сточноболгарских (но при переписывании могло попасть и на
Русь: ср. «Изборник 1073 года» и сочинения Иоанна Экзарха).
5. «Животъ вЪчьный» как исходная формула первоначаль-
ного перевода долго сохраняется в качестве архаизма, особен-
но при цитировании; уже в мораво-паннонских текстах заме-
няется сочетанием «жизнь в'Ьчьная», которое принято в пре-
славской школе и становится обычным и единственным для
книжных текстов Киевской Руси.
6. «Животъ — положите (дати, даровати, просити, лишити
н т. д.)» встречается в текстах всех жанров и разного про-
исхождения; это сочетание со словами житие или жизнь не упо-
требляется.
7. «Животъ свой сконча (испроверже, сверши, гонзну
и т.д.)»— обычное сочетание, которое в переводных текстах
может заменяться описательным типа «от жития преставися»;
по-видимому, это сближение с традиционными «отходити жи-
тия», «остави житие» и т. п. Данное сочетание вначале отно-
сится только к подвижникам и святым; оно, следовательно,
стилистически маркировано в книжных текстах (для монаха
понятия «живот» и «житие», по существу, совпадают), отсюда
и редкие (в «Киево-Печерском патерике») сближения со сло-
вом жизнь («кончати жизньщвою в немъ [монастыре]»).
8. «Конец живота» и его варианты «до кончины живота»,
«преходъ живота» и др. очень редки и встречаются преимуще-
ственно в деловой письменности, в некоторых переводах, хстя
из переводных же текстов приходит и более распространенное
(новое) сочетание «на конець жития».
9. Жизнь в противопоставлении смерти во всех русских текс-
тах передается словом животъ: «яко смьрть луче (паче, лЪпши
и т. д.) живота», «при животР и при смьрти»; в южнославян-
ских источниках сочетания «житье и смьрть», «жизнь и смьрть»
возможны, и древнерусские источники повторяют их в цитатах,
особенно в сборных текстах типа «Пчелы», а также в житиях.
10. Сочетание «будеши стенати до живота своего» (также
!Q 3
«а по княжи животЪ», «по своемь животъ» и др.) является
единственным выражением во всех источниках. 1
11. Сочетание «при своем животЬ» и его варианты
(«въ своемъ животЪ», «во вся дни живота своего» и др.) также
распространены и связаны с деловыми текстами, поддержи-
ваются употреблением их в устной речи.
12. Сочетания «во всъмъ животъ его», «животъ весь свой»
(провел в том или ином занятии) и т. п. тоже связаны с неоп-
ределенностью значения слова при указании на земную жизнь;
поскольку такое употребление слова можно понимать и как ука-
зание на способ существования субъекта, рано возникли замены
слова животъ словом житие (в том числе и в древнерусских
переводах), а у болгар и словом жизнь.
13. «Поживъ лЪтъ живота своего» и т. п. — обычные выра-
жения длительности жизни, откуда метонимический перенос на
сроки жизни («скороминующаго жития», «малолЪтни житиемь»
и др. в отвлеченном значении; эти сочетания не столь частотны,
как сочетания со словом животъ).
14. Живое существо обозначается словом животъ очень
устойчиво, причем в восточноболгарских источниках предпочи-
тается эта исходная форма, а в древнерусских развиваются
также производные животьно(е) и позже животина.
15. Определение животный (-ое, -ая) по отношению к сло-
вам круг, древо, ядь, вода, источник, слово, путь, книга, сила,
река и т. д. восходит к первоначальным формулам обозначения
жизненной силы, но в болгарских текстах это прилагательное
заменяется новым жизньный, что соответствует смыслу замены
сочетания «животъ вЪчьный» на «жизнь въчьная». В противопо-
ставление этому для выражения греческого довольно
рано возникает формула «житийскъ путь (вещь, море, грех,
купля, любовь, сласть, мракъ, похоть, имение, слава и т. п.)».
Противопоставление земного небесному в определениях (жизнь-
ный— житийский) выражается и раньше, и яснее, чем в име-
нах, которые, будучи ключевыми словами традиционных син-
тагм, заменялись реже.
16. Сочетание с отвлеченным определением не встречается
с конкретным словом животъ: «человЪчьская жизнь» известно
в болгарских текстах, для русских характерно только «чловъ-
чьское житие».
17. В значении 'имущество’ также обычно слово житие
(«а житье ихъ поимаша» и т. п.); в северных памятниках дело-
вого характера оно заменяется иногда словом зажитье. В Ипа-
тьевской летописи и в «Слове о полку Игореве» несколько раз в
этом значении использовано слово жизнь («погыбоша жизнь
Даждьбожа внука»), но это значение не привилось.
18. Житие в значении 'образ жизни’ сочетается с прилага-
тельными доброе, непорочное, лучшее, высокое, правое, слав-
ное, честное, чистое, благое и т. д.; в этом значении слово жи-
184
еотъ не встречается, а слово жизнь отмечается очень редко —
В переводах (только Древней Руси), что показывает вторич-
вость такого семантического смещения.
19. Житие в значении ‘отрицательный образ жизни’ сочета-
ется с прилагательными злое, жестокое, лукавое, худое, тьмь-
ное, нечистое, льстьное, суетьное, мирское и даже свиное, хотя
эта формула встречается редко (всего 40 примеров); замен дру-
гими лексемами, в сущности, нет, поскольку образ жизни —
в положительных коннотациях слова.
20. Синтагма «житье да бытье» пришла из болгарских ис-
точников (Иоанн Экзарх) и не изменилась с течением времени.
21. Житие как обозначение формы духовной жизни употреб-
ляется только в сочетании «христианское (вррьное и т. д.)
житие».
22. Противопоставление монашеского жития мирскому пере-
лается сочетанием «инокое (мнишьское, чернечьское и т. д.) жи-
тие», хотя в переводах киево-печерской школы в таких сочета-
ниях возможно и слово жизнь («жизнь подвизания», «чернечь-
скую жизнь»), впоследствии не привившееся. Общим для вы-
ражения любого образа жизни стало слово житие. Сюда же
относится формула «обыцее (купьное и т. д.) житие» в значе-
нии ‘совместное житие’ (преимущественно о монахах; в бытовых
текстах указанное значение выражалось сочетанием с произ-
водным словом: «сужитие имЬти»),
23. Значением ‘образцовая жизнь’ обладает формула
«образъ жития», употребляемая в переводных текстах («не
тъчию словомь, но и житием своимъ», «нравъ и житье»), В пе-
реводных инославянских текстах житие/житье из этих сочета-
ний может заменяться словом жизнь.
24. В других контекстах для понятия об образе жизни также
используется только слово житие («житие строити», «волное
житие», «достояние жития» и т. п.).
25. В контексте «жития святых отець нашихъ» для выраже-
ния форм подвижнической жизни употребляется только слово
житие, со временем получившее значение термина (название
литературного жанра). К нему примыкает и сочетание «почи-
тати жития святыхъ» — т. е. описания подвижнической жизни
святых. В переводах киевской школы XI в. формула встречается
в измененном виде: «чтение жизни святых отьць» — но это
обычное распространение сакрального термина на все сферы
монашеской деятельности, что свойственно писателям этой
школы.
Таким образом, опорными словами в древнерусском литера-
турном языке являются ключевые слова разговорной речи:
животъ как обозначение органической (биологической) жизни
и житие как форма выражения социальной жизни. Этим объяс-
няется устойчивость формул со словом животъ (1, 6—8, 10—
14), возможный метонимический перенос у него (4) и замена
185
слова животъ словом житие на основе метонимии «длительности
существования»-> «продолжительность жизни» (3, 7, 8, 13)1
В древнерусском языке все производные образуются на основе
этих двух корней (животьно, зажитие, изжитие, сужитие и др.);
в чем прослеживается попытка дифференцировать неопределен-
ные по семантике отвлеченные слова. Синкретизм слова
животъ, по-видимому, включал и значения, связанные с фор:
мами духовной жизни, однако развитие христианских текстов
для выражения этих значений потребовало других слов, в ре:
зультате чего и было заимствовано искусственное новообразо-
вание (болгаризм) жизнь. Включенное в XI в. в древнерусскую
книжную традицию, это слово воспринималось вначале как
столь же синкретичное по значению, что и древнерусские (на
самом деле — общеславянские) слова животъ и житие. Един-
ственным отличием от них у слова жизнь признавали обозначе-
ние, связанное с «вечной жизнью». Поэтому тогда же, в XI в.,
была сделана попытка в результате метонимического переноса
распространить новую лексему на формулы 2, 4, 5, 7, 15, 18,
22, 23, 25 (возможно, и 17), чтобы светской жизни и ее формам
противопоставить различные формы посвящения и подвижни-
чества. Учитывая столь развернутый характер переноса, сле-
дует думать о полной аналогии в изменениях слов животъ и
житие в указанном выше смысле. Заимствованное слово подвер-
гается осмыслению в контексте семантических переходов, свой-
ственных народному языку. Никакого давления со стороны
книжных текстов нет, даже в цитатах со словом жизнь оно не
всегда воспроизводится (ср. противопоставление как высшую
форму выражения оппозиции жизни и смерти в формуле 9,
жизни и души в формуле 1).
Итак, семантический спектр значений, выделяемых совре-
менным лексикографическим описанием, в древнерусском,
языке обслуживается тремя лексемами: а) словом животъ — 1):
‘существование, органическая жизнь’, 2) ‘земная жизнь’,
3) ‘состояние человека от рождения до смерти’, 4) ‘характер:
жизни’, 5) ‘живое существо’, 6) ‘отдельная часть тела’ (у рус-;
ских — ‘желудок’); б) словом житие— 7) ‘средства к жизни’;.
8) ‘обитание, жилище’, 9) ‘пропитание, стол’, 10) ‘образ жиз-~
ни’, 11) ‘поведение’; в) словом жизнь — 12) ‘жизнь духовная’/
13) ‘описание подвижнической жизни’, 14) ‘отвлеченно идеаль-
ная (вечная) жизнь’. Семантические сближения в границах син-
тагм возможны по совпадению близких сем, но все значения
слова жизнь устанавливаются (и развиваются) параллельно
с исконными для восточных славян лексемами (ср. значение 14,
которое равно значению 2, исходя из значения 1; значение 12,
равное значению 11, исходя из значения 10).
При этом все слова по своей семантике синкретичны, изме-
нению подвергается целый комплекс значений, семантически,
сдвинутой оказывается одновременно вся синтагма, а не отдель-1
186
вое ее слово (ср. синкретизм выражения человеческой жизни:
одновременно ‘жизнь’, ее ‘длительность’, ‘смерть’ и т. д. — Коде-
ров, 19826, с. 20сл.). Переносы значений осуществляются нд
метонимической основе, т. е. связаны с конкретностью ситуации.
Сначала метонимически развиваются значения в границах дан-
ной лексемы (см. значения 7—11, которые представляют собой
метонимическое развитие темы), затем они распространяются
на соседние слова, изменяя их значения. Заметно, что слово
животъ связано с обозначением временной продолжительности
существования, а слово житие — с пространственным распро-
странением жизни, с процессом. Поэтому при слове животъ
уточняющими распространителями обычно являются глаголы,
при слове житие — прилагательные.
Формула 16 показывает, что в книжной традиции возможно
было существование двух разных источников: западнославян-
ского («житье человеческое») и южнославянского («жизнь че-
ловеческая»), По многим другим фактам можно судить о свое-
образии в оформлении первых древнерусских переводов: они
одинаково ориентированы на оба источника, поставлявшие
книжные формулы в X—XI вв. Многие семантические измене-
ния слова жиеотъ и метонимические переносы у слова житие
совпадают с древними западнославянскими источниками, что
может отражать и общность языковых изменений, и влияние
книжной традиции. Вопрос мало изучен, и только поэтому нель-
зя определенно говорить о степени воздействия другой, небол-
гарской, книжной культуры, но, возможно, это влияние долго
сохранялось в новгородских книжных школах. Во всяком слу-
чае, семантическое развитие формул со словом жизнь на время
приостанавливается, и к этому слову возвращаются только в
XV в., уже в книжных школах Московской Руси.
На протяжении древнерусского периода до XV в,, в составе
формул текста изменялись главным образом зависимые слова,
например, увеличивалось число вариантов глагола или прила-
гательного при ключевом слове. Синтагменное усиление формул
происходило в результате распространения их посредством ме-
стоимения или других уточняющих слов — без ущерба для
смысла (ср.: животъ — мой, свой, нашь и т. д., злЬ, добрЪ и т. д.;
житие — сие, то, наше и т. д., также тамо, зд-b и т. п.). Слово
жизнь уточнений не имело, поскольку подобные распространи-
тели сразу же понижали «степень отвлеченности» слова (ср.:
«жизнь сия» или «наша жизнь», в которых сужено обобщенно-
идеальное представление о жизни, снижен стилистический ранг
идеологически важного слова). Отвлеченность заимствованного
книжного слова зиждется не на его семантическом синкре-
тизме, а па его функции символа.
Дифференциация значений сначала также происходила тек-
стуально в границах отдельной формулы. «До живота своего»
в XIII в. (надежные фиксации с 1286 г. в Ипатьевской лето-
187
писи) сменяется уточняющим оборотом «по своемъ животъ».
Семантическим содержанием этого изменения является пере-
маркировка в оппозиции «жизнь — смерть»: до живота ‘да
конца жизни’, а по животЪ ‘после смерти’. Контекстуально про-
исходит одно из выделений синкретичного по семантике слова
животъ. Для древнерусских памятников характерно именно со-
четание «животъ и смерть», понятно и известное по переводным
текстам сочетание «житие и смерть», но неприемлемо сочетание
«жизнь и смерть», поскольку «вечная жизнь» исключает
смерть.
Постепенное сосредоточение определенным образом марки-
рованных определений в границах традиционной синтагмы
создает известное семантическое напряжение между парными
сочетаниями типа «животъ конча» и «живота лишити», между
«житие доброе» и «житие злое». Уточняющие смысл ключевого
слова определители организуются уже не в рамках конкретной
формулы, а общесистемным противопоставлением «субъект-
объект», «благо — зло» и т. д., т. е. теми коррелятивными при-
знаками, которые и возникают как системно осознанные в ли-
тературном языке (отчасти благодаря включению в образцо-
вые тексты новой лексемы жизнь, маркированной по значению
‘субъект’, ‘благо’ и т. д.). Войдя в тексты со своей формулой
(«вЪчьная жизнь»), слово распространяется на новые формулы,
вытесняя из них прежние лексемы. Длительный процесс этот и
есть процесс культурной перемаркировки. В экспликации всех
подобных признаков и состоит основное значение новых формул.
Дав толчок к развитию новой семантической модели, церковно-
славянский язык на уровне образцовых текстов приспосаблива-
ется к древнерусской лексической системе. Это уже славян-
ское восприятие самого общего понятия о жизни через обозна-
чение идеальной формулы «вечной жизни». Принятое в самом
высоком контексте и с очень узким значением (поскольку узок
объем понятия), слово жизнь начало катализирующий процесс
последовательных совмещений с однозначными словами и впо-
следствии стало литературным словом русского языка. Проис-
ходило это уже в XV—XVI вв., отразившись, в частности, и
в творчестве Епифания Премудрого.
Г л а в а 5
ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ
И «ПЛЕТЕНИЕ СЛОВЕС»
Из сопоставления текстов, из предварительной характери-
стики литературного движения начала XV в. (Лихачев, 1967)
уясняется особая роль Епифания Премудрого в развитии лите-
ратурного языка. Язык и стилистические приемы Епифания хо-
рошо изучены, и теперь мы знаем о его влиянии на создание
188
образцовых текстов позднего средневековья (Лихачев, 1967;
Коновалова, 1963; Антонова, 1979; Бертнес, 1984; особенно по-
дробно Китч, 1976). Риторическая основа в композиции и свя-
занные с нею художественные приемы (тропы и топосы) позво-
лили Епифанию преодолеть известную замкнутость исходных
синтагм с их неопределенной многозначностью, соединив рито-
рику книжного текста с народно-разговорными формами, сло-
вами и выражениями (Дмитриев, 1964, с. 79 сл.); это приво- >
дило к сопряжению личного чувства и отвлеченных принципов
абстрагирования, конкретной однозначности и метафоризации
текста. Переработка традиционных формул-цитат показывает,
что Епифаний даже священные тексты воспроизводил как
«внутренне услышанные», а не написанные (Вигзелл, 1971;
Китч, 1976, с. 123—130; Хольтхаузер, 1967, с. 136). Особого вни-
мания заслуживают замечания о предпочтении Епифанием
средств народной поэтики — подчас не без русской «лукавинки».
Высокое художественное мастерство Епифания известно, стано-
вится понятным и высокий интеллектуальный уровень этого ге-
ния средневековой литературы (Прохоров, 1987, с. 88—122).
Рассмотрим ряд использованных Епифанием стилистических
приемов, которые впоследствии оказались важными для раз-
вития норм литературного языка. Через формальные новше-
ства стиля просматриваются глубоко интеллектуальные сдвиги
в художественном сознании начала XV в. Не забудем, что тер-
мин художьство в понятиях того времени соответствовал грече-
скому елкзгфт] ‘знание; наука’ (Прохоров, 1987, с. 91). «Дело
в том, — писал М. И. Стеблин-Каменский, — что осознание ав-
торства происходит, как правило, через осознание формы...
Поэтому для ранних этапов развития авторского созна-
ния характерна гипертрофия формы. .. стремление исполь-
зовать все возможности... к игре словами, аллитерации» (1978,
с. 141).
Важна идеологическая установка нового писателя, его отно-
шение к самому делу книжного письма. Она изменилась за вре-
мя, прошедшее, скажем, после Кирилла Туровского. Прежде
всего Епифаний Премудрый говорит не о красоте слога и
не об истине повествования (они предполагаются самим ха-
рактером текста и содержанием описания), а о его пользе.
Для Кирилла ключевое слово — истина, историческая задача пи-
сателя его времени — проникновенно и содержательно поведать
об истинности вероучения и стоящих за ним этических прин-
ципов; в этом для него и «добро», и «благо», в этом его основ-
ная цель. Новая художественная программа декларирует благо
как пользу, и даже характерное для нее «извитие словес» —
вовсе не внешняя красивость слога, а некая польза, смысл и
назначение которой нам предстоит уяснить. Сквозным мотивом
повествования о Сергии Радонежском, например, является
польза как благо.
189
Множество синтагм как бы раскрывают смысл «пользы»-*
духовной по содержанию, но все-таки прагматически важно!
категории: «память и польза», «добро и польза», «польза я
даръ», «спасение и польза» и т. д. Такова первая идеологичен
ски важная установка Епифания. =
Вторая особенность этого писателя связана с особенностями
выражения мысли в слове. На основе конкретных по значению
слов он конструирует максимально отвлеченные понятия. Абст-
рагирование у Епифания имеет конечной целью во всем «вре-
менном» и «тленном» увидеть знак вечного, за случайностью
прозреть сущность, это становится стилистическим приемом и,
следовательно, «нравственным принципом» (Лихачев, 1967,
с, 109—110). Поскольку разграничение «слова» и «разума» в
средневековой поэтике связано с противопоставлением художе-
ственно-образной и интеллектуальной сфер языкового общения
(см.: Матхаузерова, 1976, с. 32 сл.; Ковтун, Колесов, 1983,
с. 394—395; Колесов, 1983а, с. 35—37), необходимо разграни-
чить и разные уровни исследования текста. Разумъ как обозна-
чение смысла и глаголъ как конкретизация этого смысла в
определенном слове обеспечивают принцип двойного отражения
действительности в сообщении. Нерасчлененность понятий по-
стоянно ощущается в толкованиях самого Епифания, однако
всегда ясно, что не синкретизм образа-слова, а различные гра-
ни «смысла» находятся в центре его внимания.
В «Житии Сергия»1 Епифаний точно определяет соотноше-
ние между тремя основными понятиями, выраженными словами
глаголъ, слово, беседа. «Не от себе износимь слово» (с. 274),
«въ всю землю изыдет слово о нем» (с. 272) и др. — слово
здесь — и рассказ, и высказывание, и заключительная мысль
(«и уже конечную бесьду реку и потом препокою слово» —
с. 284). Глаголъ у Епифания — всегда изреченное слово («на-
знаменавъ темнц глаголъ» — с. 284). Ср. также: «начнЪмъ же
уже основу слова, имемся по бесЪду, еже положити начало по-
вЬсти»— (с. 264), стараясь при этом «не износити отъ устъ гла-
голъ» (с. 262). Ясно, что слово-лексема — это и есть глаголъ,
тогда как разумъ соединяет в себе и слово, и смысл, которые
проявляются в беседе.
Третья особенность языка Епифания также неоднократно
обсуждалась: у этого автора чрезвычайно много архаизмов,
в том числе и грамматических; он сознательно архаизует язы-
ковую форму, и наша задача дать этому объяснение. Ср. в «Жи-
тии Сергия»: клюся, яси, даси, етеръ, таче, овогда, елма, вЪд-ё
1 В этой главе приняты следующие сокращения для основных произве-
дении Епифания Премудрого: Жит. Серг. — Житие Сергия Радонежского,—
ПЛДР, т. 4, 1981; Жит. Стеф. — Житие Стефана, епископа Пермского.
СПб., 1897.
190
яформа 1-го лица), много раз точию, но токмо в виде исключе-
ния; словосочетания отрокъ... снЪсть сие, пьюще бесчисмени,
рного семантических архаизмов, таких, как доилица ‘корми-
иица’, доити ‘кормить, пить’, връста ‘возраст’ и ‘супруга’, уста-
ревших слов типа весь ‘деревня’ и пр. Поскольку наряду с этим
В тексте находим и вполне народные слова и выражения (смё-
Jue, с всякыя пища тлъстыя ошаявся, нещапливы ризы, начя
'релми верещати (о младенце), следует думать, что выбор арха-
Дзмов преследовал и другую важную цель. Действительно,
Ь иных случаях трудно определить, имеем мы дело с архаизмом
йли с диалектным словом, для начала XV в. это одинаково ве-
роятно. Ср. ответ Варфоломея на уговоры матери отказаться от
Послушничества: «Не дЬй мене, мати моя, да не по нужи пре-
слушаются тебЬ, но остави мя тако пребывати» (с. 286); с од-
ной стороны, это повторение традиционной для русских житий
формулы; с другой же — вполне разговорное выражение, общий
смысл которого можно перевести «не трогай меня, оставь в
покое».
; Главным новшеством Епифания является увеличение объема
синтагм и перераспределение их соотношений. Мало констати-
ровать, что «извитие словес» тяготеет к повторению дублетных
слов или вариантов, это очевидно. Нужно определить причины,
.которые вызвали перестроение элементарных единиц текста.
Размеры рядов-перечислений могли быть значительными
(см., например, с. 306 Жит. Серг.), но с проблемой художест-
венной речи это никак не связано: такие ряды отражали по-
следовательность реалий или реальных действий, которые тре-
бовали для своего выражения соответствующего перечисления
слов; это не синонимы и даже не варианты.
Минимальной синтагмой у Епифания становится «триада» —
однозначные, по-видимому, три слова, которые могут относиться
;к любой части речи (имени существительному или прилагатель-
ному, глаголу или наречию), но слова каждой триады обяза-
'тельно относились к одной и той же части речи. В предпочти-
тельности определенной части речи — объективное указание на
границы триады; смена части речи — момент переключения на
новую триаду. Вот некоторые примеры триад Епифания: «Ни
плакаше, ни стъняше, ни дряхловаше. Но и лица, и сердце.
Н очи весели... Тогда вси видящи, и познаша, и разумъша»
(Жит. Серг., с. 270), «Храняше... непорочно, непотъкновенно
;убо и незазорно» (с. 306). В некоторых случаях ключевые слова
:распространены уточняющими их определениями: «Егда же при-
1иде кончина лЬтъ житиа его, и время ошествия его наста, и
!приешь година преставления его» (Жит. Стеф., с. 81), ср. там
же слова самого Стефана: «Постигнет бо мя кончина и прииде
день, и приближися часъ и приспь година» (с. 82)—не всегда
; ясно, что является основой, а что утком в данном плетении:
[придет — приблизится — поспеет или день — час — година ‘ми-
191
нута’? Важна последовательность предъявления именно данный
слов, поскольку таким образом создается усиление образа в то!Й
смысле, какой находим в перечне этих своеобразных «синонй
мов» (синонимами, разумеется, не являющихся). Приближение’
смерти (передается глаголами) и сгущение времени от дня да
минуты (момента смерти)—тоже последовательность усиления;
Характерно, что герой жития Стефан употребляет иные слова,
чем автор произведения, описывающий состояние героя. У Епи-
фания объем времени шире, и время это подано отвлеченна
(лета-—время — година — т. е. момент). Ключевым содержа-
нием его высказывания является не момент смерти (это трево-
жит Стефана), а сама смерть, описанная так же отвлеченно,
эвфемистично и отстраненно: пришла — кончина... настало оше-
ствие (уход)... приспело преставление-, не случайно текст на-
сыщен отглагольными существительными, к которым тексту-
ально относится и сочетание «кончина житиа его». Перекли-
каясь друг с другом, описывающие одно и то же событие две
синтагмы характеризуют его с различных сторон, оттеняют раз-
ные его стороны. К Стефану кончина приближается постепен-
но, для Епифания градации постепенности нет, данная им по-
следовательность слов выражает возвышенное ощущение уже
состоявшегося события — кончины святого. По-видимому, абст-
рагирование как прием создания психологического образа в
стиле «плетения словес» характерно больше для авторской речи,
как это и видно на данном примере.
Отметим еще одну подробность в сложении триад. При рас-
пространении ключевых слов заключительная, третья, часть
формально выделяется либо союзом, либо уточнением, либо
характерным словом, что является своеобразным кадансом в
ритмической структуре текста. Это еще одно объективное ука-
зание на границу триады, которая осознается только в устном,
исполнении, как факт звучащей речи. Ср.: «И въ всемь всегда;
труждааше тЪло ,свое и иссушая плоть свою, и чистоту душев-
ную и телесншб безъ скверъны съблюдаше» (Жит. Сергу
с. 286). Имперфект и причастие — доминанта этого текста, но
определяемые ими слова сплетаются в содержательную после-
довательность характеристики героя: тело противопоставлено
плоти, но следующая за тем «чистота» уже соединяет их в опре-
делении «телесный», противопоставив «душевному» как новому
компоненту триады. Подчеркнутая развернутость последней
части и есть та ритмическая граница, которая завершает этот
период.
Троичное повторение мысли является типично развернутыми
синтагмами — принципом эха, как удачно назвала этот способ
выражения Св. Матхаузерова. Обращение к триаде не должно
удивлять, если заметим, что в «Житии Стефана» триад меньше,
чем в «Житии Сергия». Троица во втором случае вообще сим-:
вол, поскольку и основанная Сергием обитель посвящена свя-:
192 ;
той Троице; троица — воплощение христианского мировоззре-
ния, ибо и сама обитель «поставлена бысть благодатию бога
отца и милостию сына божиа и поспЬшениемь святого духа»
'(Жит. Серг., с. 296; это еще одна триада). Последняя триада —
образец, эталон, та модель, по которой строятся все прочие
триады данного текста. Как обычно, уже сам градационный
ряд в перечне указывает степень важности, силы, святости тех
или иных частей триады: начинается с важнейшего ключевого,
завершается самым конкретным, наиболее приближенным к зем-
ному. Заметим эту особенность для последующей оценки слов,
входящих в стилистические триады. В этом же тексте находим
и прямое оправдание тернарному принципу сопряжения синтагм:
«поне же убо тричисленое число паче инЪх прочих числъ болши
есть зЪло чтомо. Везд-Ь бо троечисленое число всему добру на-
чало и вина взвЪщению» (с. 272), после чего следует перечис-
ление «троичных событий и образов» с прямым указанием на
святую Троицу (с. 274). Символичны слова Епифания, приве-
денные им здесь же по иному поводу: «Рекъ: „Утройте!”,—
утроиша» (с. 272) —такова стилистико-классификационная уста-
новка автора, который, оправдывая свои реформы, старается
построить стилистический ряд исходя из предлагаемой модели.
Последовательность усиления в подборе слов является, таким
образом, третьим объективным критерием выделения конца
триады.
Другие возможности определения границы триад устанав-
ливаются из контекста.
«Что мя въпрашаеши и въскую мя искушаеши и истязаеши»
(Жит. Серг., с. 294)—при третьем члене отсутствует всякая
маркировка в виде распространения; или, напротив, только тре-
тий член выделяется таким способом: «Ты же, господи, приими
мя, и присвой мя к себЪ, и причти мя къ избранному ти стаду»
(с. 286); на таком фоне формально выразительными оказы-
ваются и равномерные перечислительные ряды: «и то самое
естество преэрЬти”, и преобидЪти, и преодолЪти» (с. 290). Осо-
бенность всех примеров из «Жития Сергия» в повторении гла-
гола, что отличает текст Епифания от книжной традиции. Даже
расширение ряда формально оправдано, сходное выражение от
предшествующих трех может отсекаться вставкой, что создает
своеобразную ритмическую каденцию: «Господь богъ... да ущед-
рит тя, да вразумит тя, да научит тя и радости духовныя да
исплънит тя» (с. 304) с родовым обобщением в синтезирующей
части фразы. Одновременно это и включение в ряд традицион-
ных парных сочетаний типа «приими и присвой», «презрЬти и
преобид-Ьти», «вразумит и научит» и др.
Действительно характерной особенностью триад является
включение в их состав парных противоположностей традицион-
ных для древней литературы сочетаний. Поскольку в целом ва-
жен принцип градации признака, подобный подбор парных
;3 ’’ОЛССОВ В. В. 1ЭЗ
сочетаний не нарушает характера триад. Они остаются, но, обф
тащенные семантикой традиционных и всем понятных сочета|
ний, улучшаются, уточняются: «Аз самь возможна имам иля
доволенъ к таковому начинанию, аще не любовь и молитва пре*
подобнаго того старца привлачит и томит мой помыслъ и при*
нужает глаголати же и писати» (Жит. Серг., с. 260). Состав*
ляющие текст пары не потребовали раскладки их на отдельные
сочетания с выделением особого признака, нуждающегося в спе-
циальном уточнении или истолковании (ср. «возможна и дово?
ленъ», «любовь и молитва», «привлачит и томит», «глаголати &
писати»), причем формальной границей каждой пары являете»
смена части речи или глагольной формы (настоящее время или:
инфинитив), поясняющие слова. В таком тексте триады явля-
ются скрытыми, они существуют как бы в глубине текста, по-:
тому что переход от одной пары к другой содержит в себе эле-1
мент текста, переключающий на новый оттенок содержательно
важного смысла (не только «привлачит и томит», но и «при*
нужает», не только «старец», но и «мой помыслъ», и поэтому
не одна «любовь и молитва», но и «помыслъ», не только «воз<
можнЪ имам или доволенъ.», но также и «начинание» и т. д.)<
Не все триады составлены безукоризненно четко как про-
стое нагнетание признака, качества или свойства, переданное
в разнокорневых словах. Простейшая модель триады сама по
себе не обеспечила бы всей сложности и красоты стиля. ;
Наблюдаются как бы переходы от парных сочетаний к триа-
дам, последовательное смещение перспективы изображения. Это\
заметно и в приведенных примерах. ;
«Обходиста по лесом многа мЪста и послЪди приидоста на
едино мЪсто пустыни въ чащах лЪса, имуща и воду»!
(Жит. Серг., с. 294). Рамочная конструкция создается посред-1
ством повторения слов: по лесом — многа м'Ьста — мЪсто пусты-:
ни — въ чащах лЪса. Это не простое повторение и не «украша-!
тельство»; повторение необходимо для обогащения смысла!
фразы. Единственное отличие от современного принципа поС
строения предложения в том, что мы, развивая мысль, обычно!
не возвращаемся к сказанному. Епифаний делает это, ибо для:
него важна последовательность градации, иначе исчезнет смысл!
высказывания: лес — это бескрайние «места», но места пустын-1
ные, потому что они находятся в лесной чаще. Странное с со-
временной точки зрения сопряжение слов чаща и пустыня здесь =
вполне закономерно: пустынность и заросли не противоречат!
друг другу, наоборот, — только подчеркивают особенность дан-,
ного «места». Самое конкретное слово текста — лес, самое от-;
влеченное — место. Триада дает возможность сопрягать их вме-1
сте и вести повествование несмотря на смысловую несводимость!
их в обычной речи. В развитии этого фрагмента текста каждое!
слово-понятие вводной части распространяется словесно и обы-|
грывается стилистически, тем самым эксплицитно обогащается!
194 I
ввачимость каждого из слов: «мЪсто то» — «възлюбиста, на-
яаста своима рукама лЬсъ сЬщи» и т. д., «лес» — «место» и
|чаща» — «пустыня» постепенно рассредоточивают свои поня-
тийные характеристики, сужая контекстное значение.
I «Из младых бо ногтей яко же сад благородный показася и
^ко плод благоплодный проценте, бысть о т р о ч а добролЪпно
9 благопотребно» (Жит. Серг., с. 290). Все признаки триады
^алицо и не требуют комментария, кроме, может быть, указа-
ний на метафоричность образа (сад —плод— отроча-отрас ль)
к на объединяющие весь текст слова (корень благ- и аористы
$ градации усиления: показася — процвете — бысть). Словесная
«рамка» триады содержит в себе и переменные величины — опре-
деления. Признак дается в виде определения, но само это опре-
деление мало информативно, поскольку «сад — благо-р о д-ный»
'(сад родит), «плод—благо-п л о д-ный» (плодоносит), новую
Информацию несет с собою только последняя часть, описываю-
щая отрока Варфоломея: «отроча — добро-л Ъ п н о» (отрок кра-
сив); отмечаются красота отрока (это красота сада) и польза
:(это польза плода), которые уже были выражены во вводной
засти триады. Композиционно эта краткая характеристика и не
смогла не быть триадой, потому что в заключительной части
^обобщается все сравнение, и определение включает в себя все
признаки, уже развернуто данные в метафорической части опи-
сания.
Проблема сложного слова, которой уделяется такое боль-
шое внимание специально в произведениях, созданных в стиле
«плетения словес», — это проблема нахождения заключитель-
ного слова характеристики, вбирающей в себя уже выявленные
сравнением признаки. Подобные определения обычно созда-
ются искусственно, по случаю, их может быть много (как у Па-
хомия Логофета) и мало (как у Епифания), но все они окка-
зиональны. Они отражают неуверенность писателя, сознательно
разрушающего старые словесные формулы, сознающего семан-
тическую ценность отдельного слова, но привыкшего по ста-
ринке к попарным сближениям одинаково важных в высказы-
вании корней.
Сравнение предшествует основной части, а не следует за
нею, как это обычно для народного текста. С его помощью про-
исходит семантическое насыщение только что созданных слов,
они не остаются семантически пустыми.
Ритмическая организация триад — производное от лексиче-
ского их наполнения. Это хорошо видно на следующем примере.
^Стефан Пермский спорит с язычником-волхвом: «Овъ бо тому
не покоряшеся, ов же сему не повиняшеся, и другый другаго
не послушаше» (Жит. Стеф., с. 40). Видимость «плетения» здесь
^обманчива; все слова даны в точном соответствии с замыслом
высказывания, причем в заключительной части подводится его
'итог. Противительные частицы бо и же выделяют две первые
;13* 195
части, показывая, что «этот тому», а «этот сему» не покорили®
Стефан и его противник даны дифференцированно: «сей» — зн
близкий к нам по вере и убеждениям Стефан, а «тот» — язы|
ник, чужой человек. Поэтому градация степеней «подчинения^
выраженная формами глагола, построена с использованием пй
нижения: Стефан не покорился, волхв не раскаялся, оба они В
послушали друг друга. Можно было бы ограничиться после!
ней частью триады, именно так и поступил бы современны!
писатель. Епифаний строит образ иначе, подражая, между про
чим, и народной поэтике: сначала дается образ действия, ожий
ляющий рассказ, затем на понятийном уровне подводится mot
обогащенный предшествующей антитезой-образом. И здесь за
ключительная часть выполняет функцию понятийного обобщё
ния. Ритмичность описания создается подбором слов и после
довательностью частей речи во фразе. i
Распространение каждого из трех слов может осуществлять
ся также с помощью прилагательных: «О прехвалная връсто
О предобраа супруга, иже таковому д-Ьтищу родителя быстаЬ
(Жит. Серг., с. 264)—о родителях отрока Варфоломея. Пре
хвалная и предобраа — слова искусственные, но они как нель
зя лучше соотносятся со своими понятиями. Кроме обобщена
описательных и метафорических връсто и супруга в родовом J
терминологически точном родителя, получаем еще и стилист!
ческую градацию синонимов, которые накладываются на содер
жательный план высказывания: нейтральным членом синонн
мического ряда является последний — родителя-, предыдущИ
понятия-слова не просто градуируют понижение степеней рё
альной характеристики от абстрактного връсто через высока
отвлеченное, но также и образное супруга к конкретному podi
теля. В то же время косвенно они выражают стилистическй
степени: отвлеченные все связаны с высоким стилем, именй
с них начинается описание данного сгущения «понятий» — отрг
жение неосязаемой, но в сознании христианского писателя впоЛ
не реальной связи. 1
Усложнение триад происходит по разным принципам, н(
всегда в выражении текста имеется нечто общее, объединяю
щее части повествования. Ср.: «Мартъ — начало есть всём ме
сяцемъ и всему лЪту и всЬмъ еже в году временомъ, понеж
бо мартъ есть началный месяць и в началном месяц-Ь началны!
праздник» (Жит. Стеф., с. 24). Последовательное сопряженш
двойных сочетаний (месяць — лЪто) переходит в родовое и об
щее год &р_е_меный\ все остальные характеристики триады такж
налицо. Здесь интересно троичное повторение прилагательной
началный, каждый раз получающего несколько отличное 01
предыдущего значение: ‘первый’ (о месяце, с которого идет от
счет мартовского года) —‘начальный’ (о начинающем ряд меся
це)—‘главный’ (о месяце в начале главного праздника — пас
хи). Здесь соотносятся не синонимы, а семантические характё
196
(встики многозначного слова, готовые распасться на самостоя-
кльные значения.
: «И идолы попра, и кумиры съкруши, богы ихъ раскопа,
Ьке суть болваны истуканныя, изваянныя, издолбеныя, выръ-
Юмъ выр-Ьзаемыя, сия до конца испроверже и топором посЬче
I, и пламенемъ пожже я, и огнем испепели я, и без остатка по-
греби я» (Жит. Стеф., с. 35). В начале этого отрывка — обыч-
ая триада с уяснением стилистически нейтрального слова, ко-
горое одновременно выражает и родовые понятия: богы ихъ на
|юне разных характеристик: кумиры — с позиции язычников,
идолы — с позиции проповедника; варьирование глаголов (по-
ipa — съкруши — раскопа) представляет собой перечисление
щенков одного значения (‘разрушил’), поскольку должен быть
)бъединяющий всю вариацию центр. Но таким же объединяю-
щим является и другое слово: болваны — это также боги (как
идолы, кумиры, боги), но воплощенные в материале, что и вы-
!ывает перечисление способов их изготовления; в результате
сочетание «болваны истуканныя» пополняется аналогичными
характеристиками— «изваянныя», «издолбеныя», «вырЬзомъ
вырезаемый», в которых нет никакой новой информации. После
Всего уточняется способ расправы с «болванами»: мысль воз-
вращается к уже отмеченным операциям с «идолами» или «ку-
мирами», которые теперь описываются в конкретной их после-
довательности; ни один из глаголов не повторяется, хотя все
они — стилистически высокие глаголы: испроверже (до осно-
вания), посЬче (топором), пожже (пламенем), испепели (ог-
Вем), потреби (т. е. уничтожил без остатка). В сущности, эти
действия могли быть и продолжены, если бы с «болванами»
уже не разделались «без остатка». Все три принципа построе-
вия цепей представлены в одном месте: устремленность к ней-
тральному родовому, способы выявления признаков (один из
них является наиболее существенным, но в общем все они рав-
ны) и попарные ряды синтагм, описывающих реальные дейст-
вия. Перед нами, если можно так выразиться, «строфа», опи-
сывающая определенный момент событий.
«Вводка», выявляющая терминологически точное и стили-
стически нейтральное, а при всем том и логически родовое по-
нятие, для дальнейшего текста становится как бы камертоном,
и автор, неоднократно возвращаясь к заданным модуляциям,
восполняет некоторые пропуски, по мере сил варьируя способы
выражения (главным образом — путем присоединения опреде-
лений или создания сложных слов; это тоже своего рода опре-
деления. но субстантивированные, т. е. замкнутые в своей за-
вершенности) .
г Вот рассказ о пострижении Варфоломея, когда он прибыл
«дабы сподобитися аггельскому тому образу и причьстися въ
.иночьскый ликъ... в мнишескый чинъ» (Жит. Серг., с. 300).
^Внутреннее (образъ) и идеальное (ликъ) в преобразовании
197
отрока, сопряженные в общем высказывании о нем, порождай!
синтез: «мнишескый чинъ» — внешнее воплощение. Образе
ликъ, чинъ впоследствии варьируются, последовательно вето
пая в соединение с известными определениями («ипочьскьи
образъ», «новоначальный инокъ» и т. п.), причем определенна
и имя безразлично заменяют друг друга в смене частей речй
Чинъ завершает триаду, это общее именование новопосвящей
ного лица; но тут же, ниже, отталкиваясь от этого синтезирй
ванного понятия, начинается следующий ряд представлений
«некоего старца духовна» — «чином священничьскым украшена^
презвитерьскою благодатию почтена, саном игумена суща» по
имени Митрофан (с. 300). Чинъ — благодать — санъ образуют
столь же стройную триаду, в которой именования внешнего
(чинъ) и внутреннего (благодать) сходятся в определений
слова санъ (об игумене), обозначающего конкретного руковй
дителя известного монастыря, тогда как предшествующие опре-
деления слишком отвлеченны (о священнике и пресвитере);
Чин украшает, благодатью могут почтить, но сан просто есть
в наличии («суще»), это совмещение двух указанных характер
ристик, выраженных опять-таки не в конкретных определения!
или глаголах, а в законченном символическом виде: в сравнен
нии с образом и ликом (как чин) и в совершенно абстрактной
понятии о «благодати». Понятие о новом образуется у нас на
глазах — в показе слагаемых: сначала «чина», а затем «сана>;
однако сами эти признаки не рождаются и не развиваются на
наших глазах, они не доказываются и не уясняются — они данй
изначально, задача писателя — только таким образом располЫ
жить имена существительные, чтобы в результате сравнения
с ними стало ясно, как понимается здесь ключевое понятие
текста. Видимо, в этом и заключается основная творческая
установка подобных текстов: соотнося с реальной действителн
ностью представления о божественном и неизменном, наполнить
их внутренним горением вечного символа. Определения необхо*
димы только в крайнем случае, когда следует расширить содер-
жание понятия, которое вводится в триаду. Ср. на этом фоне/
например, признание Варфоломея: «Азъ бо есмь новоукый, и
новопостриженый и новоначальный инок» (Жит. Серг.,
с. 304), — в котором сам герой повествования раскрывает поня-
тие «мнишескый чинъ». Он говорит о себе, его речь индивиду-
альна, и он может пренебречь терминами, разъясняющими
объем понятия (кто именно и в каком количестве могут под-
ходить под понятия «инок» или «чин»); но свои качества — при-
знаки он указывает обязательно, подчеркивая важность опре-
деления своей сути.
Особенность нового стиля — в принципиальной асимметрии
компонентов, опорные слова текста могут находиться в различ-
ных местах синтагмы, соответственно изменяется и порядок
слов: чин священнический — пресвитерская благодать. Это не
198
«символический параллелизм» более ранних текстов, зависящих
от псалтырных образцов. С помощью чередования грамматиче-
ских форм писатель может варьировать разные оттенки сооб-
щения, выстраивать содержательную перспективу высказывания.
Но относительная свобода слова в сочетании, со своей стороны,
обусловливает высвобождение слова из формульного контекста.
Именно определения в широком смысле (чем бы они ни были
выражены) становятся стилистически маркированными, подго-
тавливая последующий разлом разностильных компонентов; ср.
обычное для Епифания сочетание «высокого» глагола с наре-
чием зЪло и «невысокого» — с велми: «воздивися зЪло и чюдися
велми» (Жит. Стеф., с. 14), «велми печаловаше... и зЪло ту-
жаше» (с. 24) и др. Сохраняются и древние синтагмы, но обыч-
но они функционально распределены, и всегда показан своего
рода переход от одной стилистической грани к другой: «Госпо-
ди! Спаси мя, съблюди мя, убогую си рабу свою, и сего мла-
денца несимаго въ утробЪ моей спаси и съхрани!» (Жит. Серг.,
с. 266—268); замена глаголов съблюди и съхрани связана с ха-
рактером традиционных сочетаний. Несмотря на повторность
двоичных синтагм триада налицо: спаси, съблюди и съхрани.
Особенность Епифания в том, что стилистические характери-
стики текста не выходят еще за пределы грамматических форм
и семантики сочетаний, они взаимно связаны чисто практиче-
ской необходимостью: в градационном ряду признаков раскрыть
потаенный смысл вечной истины.
Насколько осознанно понимает сам Епифаний диалектиче-
ский смысл разложения парных синтагм в результате включе-
ния третьего члена формулы? По-видимому, это делается созна-
тельно, иначе были бы неясными последовательность исполне-
ния и внимание к семантике вводимых в триады слов.
На это указывает близость сопрягаемых в сравнении слов:
образъ и ликъ (подобие), чинъ и санъ, идолы и кумиры, лето —
годъ, верста — супруга и т. п. В текстах Епифания сохранились
почти в целостном виде и реально засвидетельствованные пар-
ные сочетания, хотя и в преобразованном виде (глагол вместо
имени, замена синонимическим словом и т. д.); ср. в «Житии
Стефана»: «аще бо и яростию и гн-Ьвомъ прежде устремишася
на нь» (с. 29), «яко чюдитися многымъ людемъ и дивитися
о толицЪи божии благодати» (с. 76), «и нынЪ нЪсть мнТ> от-
версти устъ поношению и студу» (с. 54 — вместо студ и срам)
и др., и в «Житии Сергия»: «в таковаа времена и лЪта»
(с. 258), «хощу же сказати времена и лЪта» (с. 278), «въ удив-
лении быти и ужасънымь почудитися» (с. 296), «но паче радуй-
теся и веселитеся» (с. 282) и др., — все это уже известные обо-
роты типа ярость и гнев, стыд и срам, радость и веселье, вре-
мена и лета, чудо-диво и др. Как составная часть триады, такие
обороты остаются материалом образного строения текста, но
они уже размыты более широким контекстом самих триад.
199
Много парных оборотов традиционного типа создает и са£
Епифаний; ср. в «Житии Стефана»: «добри суть и милосердие
(с. 46), «то давно бы тя сокрушили и искрятали» (с. 46)|
«сразсудивъ и подумавъ. и порасмотривъ, видЪвъ и слышавъ;
мужа» (с. 61)—с целым набором парных (зависящих друг of
друга) оборотов, уже смещенных благодаря семантическому на-:
ложению их друг на друга; и в «Житии Сергия»: «и сице ожи-
дающу ми... и жадающу ми того» (с. 258), «печяль-жалость*
(с. 262), «и лготу людем многу дарова, и ослабу обЪщася тако;
же великую дати» (с. 290). Став исходным звеном в построении,
стилистических рядов, парные синтагмы остаются носителями
символического значения, которое требует раскрытия путем
уточнений в расширяющемся контексте. Если исходный сим-
вол-слово («рало») Кирилл Туровский расширял до синтагмы,
в виде перифраза («словесное рало»), пользуясь при этом свой-,
ственным русскому языку XII в. метонимическим переносом,
Епифаний уже понимает объем понятия «словесное рало», но
должен уточнить конкретность его разными признаками, экс-,
плицировать содержание этого понятия; вот почему он поль-
зуется самыми разными средствами для обозначения призна-
ка— именем, прилагательным, глаголом, наречием. В его тек-
стах много разных переходных случаев расширения синтагм,,
и все они требуют внимательного изучения.
Столкновение различных по стилю синтагм, выделенных из
«разных реальных контекстов, постепенное вычленение отдель-
! ных компонентов синтагм и последовательно проведенный прин-
, цип разложения парных формул приводят к экспликации сем в’
ключевых словах текста. В сущности, это и есть процесс ра-,
скрытия символа.
Последовательное удвоение вещного мира определяется не,
одним художественным заданием. В восприятии средневекового?
писателя мир действительно раздвоен, так «ся мир состоитъ», к
этот внутренне противоречивый мир невозможно описать одно-?
значно с помощью одного какого-либо слова. Таково восприя--
тие того времени: терминологического значения слова еще не?
существует, слово как образ всегда увязано в контексте, слово=
вообще не многозначно, это всегда символ. Текст создается не
красоты ради — он прежде всего акт познания. Сказать волхв
или кудесник — еще не значит выразить суть человека, который
становится предметом обсуждения, нужно объединить два име-
ни, чтобы максимально точно понять его суть. Так возникает
выражение: «Обративъ же ся к волхву и кудеснику рече...»
(Жит. Стеф., с. 51), — в котором как бы два персонажа, на
самом же деле он один. Один из признаков — реальность, дру-
гой— осуждение или оценка личности; аналогичные структуры?
возможны п в современном языке, но в нем они создаются с по-?
мощью определений (волшебный кудесник или чудесный',
волхв). Более внимательное рассмотрение подобных раздвоений
200
могло бы показать, имеем ли мы дело с полярностью типа
языческой эквиполентности (равнозначности) или — с простым
уточнением. Судя по некоторым примерам самого Епифания,
это столкновение, антитеза, которая несет с собой оценочное
значение: новое слово, дополняя значение основного, создает
значимость его в тексте. «Волшебный ж кудесникъ рече» (Жит.
Стеф., с. 46), «чяродЪивый же волхвъ и тамо побЪжен» (с. 53)
я т. п. — такой способ определения и уточнения понятий уже
знаком Епифанию. Но он не единственный и не главный; при-
знаки в виде повторения семантически близких слов будут
встречаться неоднократно: «научился есть от своего отца вол-
швениемъ и чарованием», «волшвения и кудешения», «обаяния
же и потворы и прочая многы мечты» (с. 54).
Обязательность удвоения являлась единственным средством
установления гиперонима, выявления того родового понятия,
которое по разным причинам не могло быть обозначено словом.
Чаще всего это свойственно глаголам. «Святии мужие, ясно
о теб"Ь проразсудиша и протолковаша, глаголюще» (Жит. Серг.,
с. 296); оба глагола частного значения, они последовательно
обозначают действия — ‘рассудить’ и одновременно ‘истолко-
вать’, которые можно было бы передать одним словом — гла-
голюще. Либо глаголатц уже утрачивал исходный синкретизм
значений, либо смысловое удвоение в образном повторении со-
ставляющих синтагму слов казалось более важным, но факт
налицо. В такой же функции употребляет Епифаний глагол
сказати, но уже в другом контексте. Иногда необходимость уд-
воения не сразу уясняется, однако в самом тексте парная струк-
тура обязательно присутствует: «Въ пустыни съжительствовати
и единьствовати и безмолъствовати» (Жит. Серг., с. 304) —т. е.
собственно «единою безмолъствовати» и «(единою) единьство-
вати» — «съжительствовати».
В процессе познания и последующего обозначения необхо-
димо раздвоить признаки явления, по которым оно именуется.
Однако выразить сущность явления только в парной формуле
невозможно, поскольку традиционная структура синтагмы одно-
значна, здесь необходима триада, которая раскрывала бы
смысл выражения. Таким образом, кроме значения ключе-
вого слова и значимости синтагмы, включение в текст тре-
тьего компонента позволяет создать и общий смысл выска-
зывания.
Разнообразны способы, какими Епифаний раскалывает ис-
ходные парные противоположности, чтобы ввести в них стили-
стически нейтральный или логически обобщающий третий ком-
понент формулы. «Дивлю же ся о семъ... како убо таковый
снятый старець, пречюдный и предобрый» (Жит. Серг., с. 256).
Сочетания чудо — диво или чудитися— дивитися разведены
пространством текста, изменением части речи (глагол дивлю и
прилагательное пречюдный), а также семантически, поскольку
201
слово пречюдный получает переносное значение ‘чудесный’
соедин 'нии с предобрый и в развитие определения снятый
Обычное для триады понижение качества от святый (слово i
своем прямом значении) через пречюдный (слово в переносной
значении изменяет значимость синтагмы) и весьма конкретный;
«земной» смысл слова предобрый. Синтагма сконструирована;
поскольку первое слово определяет подбор двух последующих;
святый требует обозначения высшей степени сопровождающего
качества, и появляются слова высокого стиля пре-чюдный я
пре-добрый.
Впоследствии семантическое распределение слов таким обра-
зом раздвинутого парного сочетания, при постоянном сохране-
нии опорных слов, усложняется, пронизывает весь текст «Жи-
тия Сергия»: «тихое, и чюдное, и добродЪтелное житие его»
(с. 258), «житие его чистое, и тихое, и богоугодное» (с. 262),
«стоящи на мЪстЪ чистТ>, святЪ» (с. 272) и т. п. Слово святой
заменяется определениями тихий, чистый, чюдный и т. д. После-
довательное описание всех замен по позициям могло бы пред-
ставить семантические связи слов, использованных при этом;
в нашем примере выясняется смысл сложного слова «предоб-
рый»— как ‘добродетельный’ и ‘богоугодный’.
«Аще бо... побЪжаеть нашу худость... и помилует мене гру-
баго и неразумнаго» (Жит. Серг., с. 260)—здесь разбито пар-
ное сочетание «худый и грубый», частое в старых текстах; ис-
ходные семы проходят через весь текст: «яко немощенъ есмь,
и грубъ, и неразумиченъ» (с. 262), «да не зазрит ми грубости
моей» (с. 278) и т. д.
Изменяется ключевое слово худость, и рассыпанные по
тексту определения к нему (немощенъ и т. п.) истолковывают
его как ‘нездоровье’, но также и как ‘неспособность’. Формаль-
ные признаки разведения исходной пары те же: пространство
текста (они не стоят рядом), изменение части речи, переосмыс-
ление второго слова и восполнение смысла в заключительном
третьем слове. Важно, что выделение семы, находящейся в фо-
кусе авторского внимания, посредством воплощения ее в при-
лагательном (чюдный, грубый) возможно только по отноше-
нию к одному из компонентов исходного сочетания, тогда как
другой компонент, будучи ключевым, никогда не заменяется
прилагательным. Равным образом третий член триады — это
обычно сложное слово, которое подвержено постоянным заме-
нам, потому что от перемен в комбинации первых двух изме-
няется и общий смысл выражения; ср. в приведенном выше
примере: неразумный — ‘глупый’ и вместе с тем ‘неясный, непо-
нятный’, тогда как неразумиченъ — однозначно ‘глупый’. Любое
преобразование формы корня влечет за собой вариации
смысла — ив этом назначение стиля «извития словес».
Выделение признака может осуществляться в результате
своеобразного «отрицательного уподобления»: двойное отрица-
202
ние создает общий контур смысла, представленного в другой
грамматической форме: «вЪдати не знавшим и не вЪдавшимь
его» (Жит. Серг., с. 258); «и не скрывати и ни таити: тайна бо
царева лЪпо есть таити» (с. 258). В современном тексте это
было бы дано как противопоставление синонимов «ведать —
знать» и «скрывать — таить». Немаркированный член противо-
поставления может заменяться другим, стилистически столь
же немаркированным. Такой способ разложения исходной пары
дает возможность решить, какой из компонентов считался сти-
листически окрашенным; последовательное описание подобных
структур могло бы точно определить маркировку — как в дан-
ном случае, где нейтральные глаголы знати и скрывати проти-
вопоставлены высоким вЪдати и таити (именно последние по-
вторяются в общей части). Вполне возможно, что повторение
маркированных слов вызывается и нежеланием включать в гра-
дуальный ряд просторечные слова, хотя осознанное ощущение
«подлого стиля» в эпоху Епифания вообще спорно. «Извитие
словес» противопоставляет высокий стиль нейтрально-среднему,
а установка на градационный ряд от высокого к низкому
исключала идею «низкого стиля». Каким бы низким по проис-
хождению ни было слово, в стилистическом ряду постепенный
переход к нему снимает с последнего все признаки разговор-
ности.
Способов развития исходной парности в градационный ряд
перечисляемых признаков у Епифания много; задача в том,
чтобы определить каждый раз конкретную причину предпо-
чтения именно данного слова в качестве нового, третьего, ком-
понента формулы. «Телесная смерть маловременнаа есть и мало-
годна и въскорЪ минуема смерть» (Жит. Стеф., с. 26). Разви-
тие синтагмы «время — год» в заключительной части вызывает
описательное выражение, на первый взгляд малопонятное:
«въскоръ минуема» — это скорее о жизни, а не о смерти. Но си-
туация— речь идет о подвижнике — подсказывает, что перенос-
ное значение всего сочетания как раз и отмечает преходящий
характер жизни, а переключение традиционной формулы с име-
ни на определение подчеркивает признаки, оставляя без вни-
мания мысль о течении, продолжительности и вообще о времени
жизни.
«Нападаху на нь съ яростию и съ гнЪвомъ и съ воплемъ»
(с. 25); слова устойчивой формулы ярость и гнев обычно не со-
единялись со словом вопль, которое характерно для других син-
тагм (ср.: плачь и рыдание, печаль и скорбь—Срезневский, I,
стлб. 396); у Епифания это обычно (ср. еще с. 27). Еще при-
мер триады: «Паде на землю от многа страха, и трепетомъ ве-
ликым одръжима сущи, и ужасшися, начя в себъ плакати»
(Жит. Серг., с. 266), ср. ниже: «и сама удивляюся, и вся есмь
въ стрась трепещу», «стояху безмолвиемъ ужасни» и др. В при-
веденных случаях третьи слова выражают результат описывае-
203
мого состояния: сочетание ярость и гнез порождает слово
вопль, страх и трепет — ужас, и т. д. Первоначально, в момент
развития парных сочетаний, их родовое значение подразумева-
лось самим сопряжением двух слов; теперь происходит экспли-
кация этого смысла, с общим указанием на результат, послед-
ствия или цель. При этом возможно выражение обобщающею
слова другой частью речи, чаще всего глаголом — при том, что
в начале триады употребляются прилагательные или причастие,
ср.: «[все людье] въ удивлении быти и ужасънымь почюдитися,
глаголюще» (с. 296).
Необходимость выявить семантические признаки гиперонима
заставляет подчеркнуть любым способом, хотя бы формально,
одно из слов ряда в качестве родового обозначения; ср. в «Жи-
тии Сергия»: «но распытавъ, и услышавъ и увЪдавъ известно»
(с. 258), точно так же и в «Житии Стефана»: «должно есть
взысковати и испытовати и извЪсто ув-Ьдати» (с. 9) —т. е. сна-
чала расспросил и услышал (или исследовал и узнал)—и
только в результате этого достоверно узнал, понял. Семантиче-
I ской однонаправленности разворачивающихся формул от част-
1 ного к более общему сопутствует направленность стилистиче-
ская (от стилистически маркированной лексики к нейтральной):
«и елика своима очима видЪх, и елика от самого устъ слышах,
и елика увЬдах» (Жит. Серг., с. 260), «тогда вен видящи и по-
знаша и разумЪша» (с. 270); четко прослеживается и истори-
ческая смена степеней «свидетельства»: видок, послух и только
после всего свидетель.
Последний топос, к которому Епифаний неоднократно воз-
вращается, является для него программным. Он и сам руко-
водствуется принципом «расспросить (или увидеть)—услы-
шать и — поведать (или понять)», отсюда и постоянные сопря-
жения слов, как бы взаимно выражающих одну мысль: «само-
видцы и памятухи» (с. 258), «самовидци суще и свид-ьтели не-
ложнии» (с. 260), «неложнии свЪдетелии» (с. 300), «мнози бу-
дут слышателие и свидетели сему истинству» (с. 272) и многие
другие. Самовидцы и слушатели сменяют друг друга, но родо-
вое обозначение свидетеля обычно остается как завершающий
общий мотив.
Figura etymologica является важным средством сопряжения
однозначных слов; иногда это просто перифраз, восходящий
к исходной тавтологической формуле типа «житие жити»; ср.:
«Живый в келии своей житие жестоко» (с. 298), «духовъным
житиемь оба купно живяста» (с. 298) и т. д.
В тексте «и уста моя възвЬстят хвалу твою, да исполнятся
уста моя похвалы, яко да въехвалю славу твою и приложу на
всяку похвалу твою... Тако славлю и чту сына Христа» (Жит.
Стеф., с. 3) формула «честь и слава», растворяясь в глагольном
сочетании, заменяется более высоким словом, которое единст-
венно и годится здесь, — хвала-, ср. также усиление ряда: хва-
204
лу — похвалу — славу, каждый раз в зависимости от управляю-
щего глагола: возвестить можно хвалу, но не славу; при соче-
таниях исполниться похвалы или приложить похвалу невозмож-
но словосочетание восхвалить хвалу, однако приемлемо восхва-
лять славу. Семантические изменения возникают в контексте в
результате столкновения обычных речевых синтагм, которые
сохраняются пока как грамматически оправданная цельность.
Точность выбора слов — не результат авторского предпочтения,
это устойчивость синтагмы.
«Игра корневыми словами» возникает там, где не нужны
никакие логические уточнения, а стилистическое усиление со-
здается ради эмоциональной характеристики высказывания; ср.:
«Въскую устрашистеся страхом, ид4> же не 6b страха» (Жит.
Серг., с. 282) — ибо страшно неведомое, «вещь о немь сътво-
рися страшна, странна и незнаема» (с. 282), потому что отро::
Варфоломей встретил «старца свята, странна и незнаема»
(с. 280). Мотив страха, т. е. священного трепета (ср. замену
слова страшна словом свята), связан с вполне определенными
местами жития; понятие страшного еще амбивалентно: и устра-
шает и само страшится.
«Но видЬхом на тебъ знамение благодати и благочестиа, яко
благую чясть избралъ еси, яже не отимется от тебе» (с. 286).
Благодать дается извне, благочестием же оборачивается она
в самом человеке, но это все вместе и есть «благая участь»,
которую, как судьбу, никто не отнимет. Повторение корня в
данном случае необходимо, поскольку никаким другим «про-
стым» словом (честь, дар и т. д.) невозможно выразить выска-
зываемую здесь мысль.
«Тогда родители его видЪша видение, яко мужие благо-
красни и бЪлообразни нарицахут имя ему, и огненными пеле-
нами, повиваху его, и пламы огненый дааху ему ясти» (с. 274).
Зрительный ряд целиком троичен, но внутри него сочетания
представлены попарно, повторяясь в однокорневых словах: ви-
дение — видеша, огненные пелены — пламя огненное.
Космическая картина рисуется минимальным набором слов,
причем раздвоение единого представлено в определенном по-
рядке. Сначала идет «образная часть», которую следует пони-
мать переносно, а затем конкретное уточнение: прекрасны
(благокрасни)—потому что белоснежны (белообразни) (ска-
зано об огненном пламени: огненные пелены). Отвлеченно-об-
разное предшествует конкретно объясненному, и можно счи-
тать, что в данных «парах» нет именно первого члена предпо-
лагаемой триады; но он не нужен, поскольку неявно содер-
жится в ключевой морфеме парного сочетания (бел-/благ- или
огнен-).
Возникает звуковое подобие, которое, в свою очередь, неза-
метно наводит читателя на семантическое сближение связывае-
мых в контексте слов; некоторые слова высокого стиля наме-
205
ренно символичны даже в изображении, ради этого и происхо-
дит формальная архаизация письма: «не дръзняше... азъ, ока-
анный и вседръзый, дръзнух на сие» (с. 256). Одновременно
возможно чередование архаических форм: «Како убо таковую,
и толикую, и неудобь исповЪдимую повЪмь повесть, не
вЪдЪ» (с. 260) — общность корня не препятствует различению
значений: ‘знать’ — ‘рассказать’ — ‘рассказ’. Корневая морфема,
распределенная по различным грамматическим формам, соз-
дает семантическое варьирование, незаметно выявляя оттенки
однокорневых слов: пов'Ьмь — ‘расскажу’, но вЪдЪ — ‘знаю’,
хотя, в сущности, этимологически это одна и та же форма
одного и того же глагола.
«Оного раба лЪниваго (1), скрывшаго талантъ и облЪнив-
шатося (2). Онъ бо добрый старець, чюдный страстотръпець,
без лъности (3) повсегда подвигомь добрым подвизаашеся и
николи же облЪнися (4)... лЬнимся възвЪстити писаниемь (5)»
(с. 262). Ключевое слово текста неоднократно повторяется,
варьируясь по форме и дробясь семантически, что позволяет
отторгнуть каждую словоформу от свойственного ей контекста
для последующего соединения уже «свободных» словоформ.
Задача писателя — найти инвариант значения в таких заменах
с ускользающими оттенками смысла. Это вообще характерная
особенность Епифания.
Извлеченные из разных синтагм с несовпадающим значе-
нием, внешне подобные слова восходят к различным греческим
эквивалентам — в случаях с заимствованными книжными фор-
мулами. В последнем примере повторяющийся корень -лйн-
использован для выражения общего семантического признака
ряда словоформ, каждая из которых приобретает свои семанти-
ческие отличия. В цельном виде сохраняется только начальная
синтагма «рабъ-ленивый», т. е. ‘нерадивый’ (греч. oxviQpo;),
на вариантах в данном же тексте можно проследить семанти-
ческое преобразование от греческого ‘медлительный’ через цер-
ковнославянское ‘нерадивый’ к современному русскому ‘лени-
вый’. Все последующие синтагмы разведены, но знание тради-
ционных формул, в состав которых входили соответствующие
слова, помогает Епифанию умело перебирать смысловые оттен-
ки слова, нигде не повторяясь в значениях: в I-й синтагме го-
ворится о рабе нерадивом, во 2-й — о том, что он нерешителен,
в 3-й — небрежен, в 4-й — не пренебрег чем-то раб (греч.
o/.t-роргю), в 5-й — как равнодушны к... (греч. apskeiv).
Поскольку все значения корня собраны в общей фразе (в каж-
дой синтагме представлено одно из однокорневых образова-
ний), они создают поэтому неуловимую для современного чита-
теля многозначность, которая по-прежнему является контекстно
связанной, но распределенной по разным формам слова; при
этом самое близкое к современному языку значение имеет гла-
гольная форма с префиксом (облЪпитие я— лениться). Если
206
можно, извлекая из текста основной смысл, показать главную
оппозицию на уровне инвариантов, в данном контексте это
опять-таки было бы парное противопоставление: «нерадив»—
«добр».
Теперь нам ясно значение творческой работы Епифания над
словом в границах расширяющейся синтагмы текста. Все, что
накоплено в течение столетий (все тонкости греческого текста,
вынесенные из него формулы, многозначность греческого сло-
ва), стало возможным выразить на славянском языке. Не
только формально, но и на семантическом уровне писатель ра-
ботает не просто с вариантами, но и с оттенками их, а это уже
первый шаг к развитию синонимии в современном понимании
этого явления.
В этом процессе возрастает роль народно-поэтических фор-
мул. Видна зависимость некоторых повторений от народных со-
четаний типа думу думати: «обоняше воню благовонну», «и же-
ланием вжелах сего», «видЪ видЪние», «устрашитися стра-
хомъ», «порадоватися радостию», «благословения благословя-
ху» и др. Возникают и звуковые повторы, текст организуется
ритмически: «Въ едину от нощей / свитающи дневи недели /видь
видение таково / мати его» (Жит. Серг., с. 276).
Только на достаточно развернутых примерах можно уви-
деть принципы собственно «плетения словес», вытекающие из.
этого художественные и смысловые эффекты повествования.
«Из млада и изъ детства вЪрою и чистымь житиемь, и всъ-
ми добрыми дЬлы украшен — сице дЪание и хожение его еже
в миру» (Жит. Серг., с. 298). Каждая часть высказывания
строится в виде парных, внешне как будто дублирующих, но на
самом деле уточняющих сочетаний, причем каждое последую-
щее разъясняет предыдущее и вместе с тем становится основа-
нием для следующей за ними новой пары. Наречное сочетание
из млада в значении ‘с детства’ и поясняющее его конкретное
-уточнение (как прояснение этого значения) изъ детства, син-
таксически распространяющиеся далее (как ответ на вопрос
«а что?») словом вЪрою в значении ‘чистым житьем’ и таким
дке, как в предыдущем случае, конкретным уточнением чистымь
[житиемь, пока еще создают обоснования действию, поэтому до-
бавляется обобщающее сочетание добрыми дЬлы. как итог пре-
дыдущих посылок, типичный завершающий член триады со все-
(ми формальными его свойствами, — и теперь уже можно за-
кончить высказывание глаголом украшен-, поскольку глагол
^отвлеченного значения и входит в состав определенных формул,
следует новое уточнение-—распространение: «украшен — сице
д-Ьание и хожение его» — т. е. делом и действием.
Анализ такого текста, в принципе, может углубляться до
бесконечности, но сегодня нам неизвестны многие символиче-
ские значения использованных форм и даже написаний. Мы
пока вынуждены исходить из формальной характеристики ана-
207
лизируемых слов и накладывать на семантику текста извес^
ные нам по другим текстам значения данных слов. Этого слиш|
ком мало, чтобы получить адекватное действительному пред?
ставление о смысле текста, приходится надеяться, что в далН
нейшем углубленное исследование таких текстов будет продол)
жено, и когда-нибудь наука сумеет «раскрыть» их вполне, кай
это делают, например, археологи и реставраторы-живописцщ
Но начать следует сейчас, не ограничиваясь простой констата)
цией того факта, что искусство слова в подобных текстах дф
стигало вершин или что в стиле «извития словес» «вырабаты-:
валась новая образная система» (Русаковский, 1985, с. 120);
Отделению образа от конкретного слова предшествовало осво-
бождение слова из синтагмы, развитию образа — семантическая
самостоятельность автономного слова. )
Вглядимся в некоторые фразы Епифания под этим углом
зрения. ;
«Но обаче богъ свыше призираше на него [Варфоломея];
(1) посещая его своею благодатию, (2) съблюдаа его и огра^
жаа святыми аггелы своими, (3) и въ всякомь мЪсте съхраняя
его, и во всяком пути его, амо же колиждо хождааше» (Жит.
Серг., с. 298). Опорными словами текста являются глаголы,
общего значения, но разного смысла: призирати— съблюдати —
съхраняти. Возникает обычное для триады понижение ранга
слов в сторону самого конкретного. Внутренние части строк
бинарны, в развернутом образе они передают общий смысл вы*
ражения — ‘везде’, ‘всегда’, ‘в любых обстоятельствах’, поэтому
употребляется не просто съблюдаа, но еще и огражаа, не
только въ мЪсте, но еще и во пути и т. д. -
«Плетение» в данном случае проявляется в распространен
нии каждого члена триады однозначными определителями с не-;
пременным перебивом в заключительной части, которая риг-;
мически и по содержанию отличается от двух предыдущих,)
параллельных и сопоставимых. В заключительной части нет не;
только указания на субъект действия, в ней нет и глагольного)
уточнителя, но зато конкретизировано пространственное разме--
щение объекта действия (конкретность следует понимать весь-,
ма условно, потому что это конкретность собирательного зна-
чения, а не точное указание на что-либо). Ритмика создается
мерным чередованием слов одного грамматического класса и
повторением строевых слов (незаметно, но настойчиво повто-
ряется местоимение с указанием на объект действия — его).
Этому указательному (не личному!) местоимению противопо-'
ставлено относящееся к слову богъ— субъекту действия — при-,
тяжательное свой. Все архаизмы в тексте искусственны, подо-:
браны намеренно, поскольку описание действий требует этого.'
Таких слов нет не только в живой речи, но и в книжной нор-;
ме, которая только еще устанавливается; ср. последовательное)
сохранение съ- в префиксе, написание с жд вместо ж, выделе-)
208 ;
нне слов богъ, аггелы, нестяженную форму имперфекта и ти-
пично рамочную конструкцию, одновременно и стилистически
маркированную, и содержательно выразительную («обаче при-
зираше... амо же хождааше»). Сигналы книжной речи — и союз
л наречие в соединении с личными формами глагола только
в начале и конце фразы; промежуточные глагольные формы
все причастные, архаизмов в строевой лексике нет.
В «Житии Стефана» описывается спор Стефана с волхвом
Памом: «Тягался есть с тобою словесы — и не утягал, но самъ
утяганъ есть; спирался о в^рЪ — и не упрт>лъ, но самъ п р е-
пр'Ьнъ бысть; измогался— да не измоглъ, но и сам побЪжен
бысть и всюду посрамленъ есть, и всячьскы поруганъ
бысть» (с. 56). Все признаки минимального текста налицо: это
триада с потенциальным выходом в новую триаду и с зашиф-
рованным в ней сообщением. Тягался словами, спорил о вере и
как результат—не смог победить. Родовое измогался выбрано
таким образом, чтобы, с одной стороны, объединить в своей се-
мантике, значения двух предыдущих глаголов, а с другой —
сделать возможным смысловой переход к следующему («измо-
гался...—побьжен»), замена слова эквивалентным происхо-
дит незаметно, поскольку никаких семантических различий
у них нет.
Все поэтические средства «плетения» также налицо: в гра-
ницах каждой из трех частей триады представлены однокорен-
ные слова, число вариаций которых доведено до трех (тя-
гался— утягал-—утяганъ). Подбор опорных глаголов также по-
казателен: «тягался... словесы» — «спирался о Bt>pt>» (т. е. спо-
рил)— «измогался» (т. е. пытался одолеть), он отражает не-
обходимую в таких триадах последовательность от отвлечен-
ного до самого конкретного по значению и общего для всех
трех по содержанию отображенного в них понятия; при этом
второй глагол обязательно семантически неустойчив, и его пе-
реносное значение косвенно подчеркивается во вторичных фор-
мах (спирался — упрЪлъ — препрЪнъ). Третий компонент, обо-
гащенный семантикой предшествующего ряда, подобран и как
переход к очередной триаде: развивая тему, одновременно он
вплетает также новый мотив и вводит новые формы его выра-
жения. В нашем примере в описание включены трижды повто-
ряющиеся причастные формы, которые выступают как уточ-
няющие определения, но вместе с тем они отталкиваются се-
мантически от предыдущих описаний: измогался — и побЪженъ,
спирался — и посрамленъ, тягался — и поруганъ, т. е. в обрат-
ном порядке, подводя итог: ничего не вышло, волхв посрамлен!
В тексте важны любые формальные признаки, которые по-
могают раскрыть его смысл. По традиции полагают, будто
стиль «извития словес» злоупотреблял определениями-эпитета-
ми. Вовсе нет: большинство триад построено на «глагольной
основе», поскольку только в последовательной смене глаголь-
14 Колесов В. В.
209
них форм можно было одновременно передать и развитие дей-
ствия, и выделение новых признаков, и отношение к высказы-
ваемому, и символику описания, и стилистическую градацию»
используемых в тексте слов. По-видимому, невозможно на осно-
вании текстов Епифания исследовать «систему глагольных вре-
мен» в русском или церковнославянском языке. Система вре-
мен у него носит явно символический характер. Описание яв-
ляется как бы «вневременным», насыщено неличными фор-
мами глагола. В последнем примере ведущее глагольное вре-
мя— перфект (в отличие от предыдущего примера с импер-
фектами). Первое употребление формы — обязательно со связ-
кой, что необходимо для уточнения; речь идет о волхве по*
отношению к Стефану. Впоследствии связка не нужна, пяты
раз перфект употреблен без связки. Опорная функция исход-
ного компонента проявилась уже в этом: тональность задана,,
и лишних слов не нужно. Устранение всяких избыточных для.
семантико-образной структуры текста слов обычно для Епифа-
ния, и в этом также кроются возможности для дальнейшего»
разведения компонентов прежде единой синтагмы.
Зададимся традиционным для историка языка вопросом: на
церковнославянском или на русском языке составлен анализи-
руемый текст? С одной стороны, в нем предпочитается пер-
фект, но с другой — однородные члены предложения вплетаются
без помощи связки; следовательно, по значению глагольной
формы, в контексте не выражен результат прошедшего дейст-
вия для момента его совершения. Ни по отношению к волхву,,
ни по отношению к Стефану такое результативное значение не:
реализуется, но важна общая результативность высказыва-
ния — как утверждение победы над язычником, и эта победа
абсолютна. Почему же Епифаний не употребил формы аориста?
Перфекту противостоят формы причастия в прошедшем вре-
мени; план прошедшего подтверждается также формой бысть,,
хотя тут же неожиданно находим и есть (это еще одно нару-
шение правил согласования времен, т. е. нарушение системы в;
угоду смыслу текста). В этом контексте также возможно пере-
осмысление форм перфекта как причастных—-это одна из арха-
изующих попыток «оживить» устаревшую форму. Противопо-
ставление тягался — утяганъ в таком случае понятно и ника-
кого содержательного напряжения в тексте не вызывает: это не'
противопоставление пассивного состояния активному действию,-,
поскольку глагольные формы сознательно поданы с возврат-
ным -ся: тягался есть — не утягал— утяганъ есть-, спирался —
не упрЬлъ — препрЪнъ бысть; измогался — не измоглъ — побЪ-
жен бысть. Взаимно-возвратные формы одинаково противопо-
ложны и действительным, и страдательным. Общая мысль во
всех трехчленных формулах одна и та же: «оба спорили» —
«волхв не победил» — но «Пам побежден». Только в противо-
поставлении форм вскрывается их художественная функция, ко-
210
торая вырастает из их грамматической функции. Исходное же
слово, как это обычно для Епифания, и в грамматическом отно-
шении является синкретичным, оно толкуется через следующее
слово, при этом выделяется новый признак различения. Именно
это и порождает возможность переносного значения у второго
слова, а затем (как объяснение первого слова)—однозначно
конкретное третье, последнее. В тексте «се бо ты сиа глаголе-
ши яко мати сущая, яко чадолюбица, яко мати о чадЬхъ весе-
лящися» (Жит. Серг., с. 286) выражена обычная последова-
тельность такого рода: сначала понятие («мати»), затем воз-
никшая на его основе метафора («чадолюбица»), и, наконец,
важный признак понятия и одновременно раскрытие метафо-
ры— конкретное описание («о чадВхъ веселящися»).
В конце концов, поскольку традиционные синтагмы оказа-
лись разрушенными, а их компоненты разнесены по тексту,
стало возможным самостоятельное употребление прежде свя-
занных словоформ. Вокруг них немедленно вырастают много-
численные словообразовательные ряды, поскольку и словообра-
зование как средство пополнения словаря развивается только
в связи с обретением словом самостоятельности. Возможность
варьирования в разных грамматических формах усиливает
словообразовательные (на самом деле — слово- и формообра-
зовательные) потенции каждого корня.
Рассмотрим этот процесс на примерах из «Жития Сергия
Радонежского». Традиционное сочетание «дивитися-чюдитися»
порождает в «Житии» двойной ряд: с одной стороны — «чюдо,
достоит чюдитися», «пречюдный же уноша», «дЬлесы чюдесны-
ми», «чюдна мужа чюдно и житие», «чюднаго сего -мужа чюд-
ны и вещи... чюдно бо», «таковая чюдна мужа чюдно и зача-
тие» и др.; а с другой — «удивляет», «таковая знамения и удив-
ление», «будущая дивна и странна», «таковою благодатию гос-
подь удиви его», «старець удивлься вЪрЬ его» и т. п. Семанти-
ческая автономность каждого из компонентов прежней син-
тагмы-формулы определяется спецификой уточняющих распро-
странителей, в том числе и в отношении грамматической кате-
гории (у Епифания, например, определение выражено обычно
словами с корнем чюд-, а глагол — словами с корнем див-).
В контекстах проясняется, что чюдо связано с внешним выра-
жением необычного действия или признака, непременно зем-
ного и, в общем, обычного, тогда как диво в соответствии со
своим этимологическим значением обычно обозначает воздей-
ствие высшей силы. Неустойчивость самого контекста требует
постепенной стабилизации семантики ключевого слова, что про-
исходит постоянно, но в данном стилистическом ряду в резуль-
тате замен и варьирования: «таковая знамения и удивление», но
«та увЪдавъши и разум-Ьвъши, яже о нем таковое знамение и
проявление и удивление», «с удивлением яви»; распростране-
ние другими словами: «воле, не указание .ли се будет :яв!>, яже
14*
2И
о том послЪди будущая дивна и странна» — т. е. одновременна
и ‘удивительное’, ‘таинственное’ и ‘страшное’, что рассредоточу
вается затем в аналогичных сочетаниях, но уже без данного
слова: «понеже вещь о немъ сътворися страшна, странна в
незнаема», «старца свята, странна и незнаема» и т. д. Дива
проявляется, становится ясным, его могут «увЪдати», чюдо на-
всегда остается чудом; удивление требует раскрытия, все, чта
удивляет, можно объяснить, о чуде так не скажешь, оно оста-
ется чужим, чуждым, чудесным. Дополнительно раскрывая
смысл каждого слова, прежде входившего в пару, такой текст
помогает осознать значение и смысл самих биномов в предше-
ствующую пору развития книжности. Теперь уже нет надоб-
ности в обобщающем родовом именовании посредством реду-
пликации, поскольку возникли новые принципы организации
связного текста.
Мы не ставим задачу исчерпывающе описать все следствия
из выявленного в текстах Епифания принципа порождения но-
вых синтагм. На отдельных примерах покажем только специа-
лизацию лексических значений, которая возникает в резуль-
тате этого.
У Епифания определенно специализируются значения слов
животъ (земная жизнь) и житие (жизнеописание кого-либо),
отличаясь от того, что отражено в сочетании жизнь вечная (не-
бесная жизнь); сочетания типа «живот и смерть», «о жизни
вЪчней», «тлЪнное се житие» и т. п. (в Жит. Стеф.) обычны
для этого автора. Специализация указанных трех слов не яв-
ляется пока фактом литературного языка, поскольку авторское
семантическое распределение их как раз и характерно для
эпохи «распадения синтагм»; это язык литературы, но не ли-
тературный язык в смысле «нормативный язык». В этом языке
сохраняется еще прежняя зависимость значения слова от слово-
формы в составе синтагмы; так, у Епифания слова животъ и-
житие в форме местного падежа совпадают в некоторых значе-
ниях, поскольку эта словоформа еще не вошла в именную пара-
дигму, сознавалась синтаксической (впервые словоформы типа
въ животъ в качестве самостоятельных выявил, очевидно, Мак-
сим Грек, но только Мелетий Смотрицкий в начале XVII в.'
включил их в парадигму под названием сказательного па-
дежа)'.
Другим средством специализации лексического значения к
вместе с тем введения в текст стилистически нового варианта
является дублирование (глосса?); ср.: «Давидьскую пЬснь:
всегда присно въ устЬх имЪяше» (Жит. Серг., с. 302); присно-
означает здесь не только ‘всегда’, но и ‘совершенно, вполне’;
Повторение может оказаться средством разграничения субъ-
ектно-объектных отношений, как в контексте «бес цЪны Ё
предайте, и даром комуждо раздаяше» (Жит. Стеф., с. 76):
и др. ' )
2Г2 i
Проследить процесс начинающегося выделения литератур-
ного. варианта помогает опять-таки метод построения триад.
Это не только универсальный способ подачи неизвестного пу-
тем истолкования его понятным для всех словом, но и стили-
стическое средство «усреднения» книжной формы.
Мать отрока Варфоломея говорит ему: «Никто же бо тако
млад сый, въ ту върсту твою, таковому жестоку посту ка-
сается; никто же от братиа твоея и от свръстник твоих си-
цево стяжа въздръжание, яко же ты... нЪси доспЬлъ в сие
прясло» (Жит. Серг., с. 284). Върста— свръстники — прясло
выстроены в тексте по степени приближения, это указывают и
соответствующие местоимения, наречия ту — твоих и сицево—
сие. Архаизм връста соотносится с таким же по значению
разговорным словом прясло, с помощью их соединения истол-
ковывается книжное свръстники. Именно последнее слово на-
ходится в центре внимания, ради него и создана триада. Как
бы просвеченное с двух сторон — со стороны архаизма и со
стороны бытового слова — именно сверстник становится впо-
следствии литературным словом, вбирая в себя оттенки значе-
ний двух других путем семантического включения, которое ней-
трализует и искусственность его самого. Это слово искусствен-
но по происхождению, форме (которая подчеркивается в напи-
сании) и семантике. Будучи своего рода семантической калькой
с греческого бкбСоуос и обозначая вначале одновременно и
‘союзник’, и ‘супруг’, и ‘сверстник’, слово сверстник соотносится
по смыслу с верста (понятийный центр синтагмы) и истолковы-
вается соотнесением со словом прясло (содержательный центр),
но оно безусловно воспринимается еще и как метафора книж-
ного происхождения. Метафоричность слова подтверждается
также сравнением его с другими словами в рассмотренных
житийных текстах.
Другой пример: «А вся идолы ихъ погуби, а молбища
ихъ разруши, а жертвища ихъ разори, а кумирница ихъ
до конца низложив, испроверже» (Жит. Стеф., с. 36). Все три
выделенных слова (в отличие от идолы) объединены указа-
нием на место проведения языческих служб, но лишь в при-
ближении к последнему из них — к слову кумирница — выяс-
няется, что речь идет о языческих богах; это слово — перевод
греческого vao; в значениях ‘святилище’, ‘изображение бога’
(т. е. болван, истукан, идол). Этим словом фраза замыкается,
но мысль об «идоле» выражена в ней не открыто, она прошла
через предшествующие осмысления. Все три слова — суффик-
сальные имена книжного происхождения, причем молбище и
жьртвище — отглагольные образования. Первые два известны
в устойчивых синтагмах типа «скверное молбище» или «жьрт-
вище идолское», а третье слово обычно используется в противо-
поставлении к слову церковь, но без всяких определений. Мол-
бище— самое общее слово, обозначает место молений; жерт-
213
еище по происхождению метафорично (обозначает место, где
приносят жертву, тем самым молясь), оно по значению уже
(обозначает жертвенник, т. е. алтарь); кумирница дальше су-
жает семантику, разворачивающуюся по мере описания (это и
жертвенник, и сам идол, но одновременно в результате метони-
мического переноса — это и место молений). Круг замкнулся
еще раз, но возвращает нас не к «идолу», а к «кумирнице-мол-
бищу». В содержательном смысле происходит постепенное
уточнение смысла термина, данного в начале, а завершает ряд
родовое по значению слово, потому что кумирница — самое
общее по содержанию признаков обозначение языческого моль-
бища (и место моления, и орудие его, и предмет почитания).
Логическое усиление нарастает так же, как и развитие пере-
носных значений слов данного ряда, но факт самого переноса
определяется именно контекстом. Объем понятия обратно про-
порционален его содержанию, но это приводит к тому, что
именно средний компонент триады становится семантически
наиболее приемлемым. Отсюда предпочтение среднего слова в
дальнейшем развитии литературного языка, хотя не раз воз-
вращались и к более древнему слову жертвенник. Именно
средний компонент становится и стилистически нейтральным.
Нейтральность его подчеркивается словесным окружением,
а также устойчивой связью с широким контекстом в повторе-
ниях типа жертва — жертвище —жертвовати-, ср. более ясный
случай (в препозиции к нужной формуле оказывается отгла-
гольный оборот «насуливался посулы», что делает слово сти-
листически нейтральным): «Не добивался владычества, ни
вертелся, ни тщался, ни наскакивалъ, ни накупался, ни насу-
ливался посулы, не дал бо никомуже ничтоже ни дара, ни по-
сула, ни мзды — н-Ьчего бо бяше было и дати ему» (Жит-
Стеф., с. 62). Особое положение среднего члена в выявлении
стилистически нейтрального компонента видно и в описатель-
ных триадах типа: «Овогдаж убити его хотяху, иногда же
оступиша его оба полы въкруг около его съ ослопы и с ве-
ликими уразы, смерть ему нанести хотяще» (с. 20). Тут,
собственно, среднего члена и нет, он заменен конкретным опи-
санием обстоятельств покушения на Стефана, причем для воз-
мещения среднего члена все характеристики действия созна-
тельно сдвоены (даже упоминание о том, что святого окру-
жили со всех сторон). Поскольку не нашлось равнозначного и
нейтрального по стилю среднего члена, оба синонима остались
в литературном языке (ср.: убить, предать смерти).
Наконец, возможно соотнесение речи автора с прямой
речью героев повествования: «Яко повиненъ есть казни, и по
нашей пошлин^ долженъ есть умрети» (Жит. Стеф., с. 55),
но от автора: «и привести я пакы въ свой давный обы-
чай» (с. 54). Помогая разграничить стилистически разные спо-
собы выражения одного и того же понятия, в этом случае так-
214
же невозможно подыскать нейтральный средний вариант, тер-
минологическая однозначность делает излишним сохранение
'.других членов, и разговорное пошлина уходит из литературного
языка.
Таким образом, с точки зрения словесной техники для ру-
бежа XIV—XV вв. характерна естественная попытка вы-
зваться из синкретичного смысла средневекового «слова-речи»
в момент, когда «построение парадигмы» (т. е. осознание авто-
номности словоформ и их единства в слове, а не в синтагме)
достигло высокого уровня и требовало ясности по отношению
к каждой отдельной лексеме. Грамматическая субстанция еще
сдерживала единство формул, но потребности текста уже влия-
-ли на их распад. Необходимость преодолеть «обычное, расхо-
жее значение слова» (Д. С. Лихачев) в каждом отдельном слу-
чае определяла творческие потенции времени. Мы не всегда
.знаем, каким было «обычное» значение средневекового слова,
в какой мере оно определялось искусственной традицией его
употребления в текстах. Однако требование исихазма наиболее
.адекватно отражать надреальную «сущность» посредством сло-
ва заставило книжников пересмотреть наличный запас тради-
ционных формул и произвести перераспределение слов по сти-
листическим и семантическим рангам. Парадокс состоит в том,
что, занимаясь этим, древнерусские книжники одновременно
-создавали и определенную значимость слова, в том числе и
прежде всего — этическую его оценку и вообще оценку. Анализ
текстов Епифания выявляет процесс распадения исходного
•семантического синкретизма в связи с разрушением синтагм;
оказывается возможным соединение прежде не сводимых в об-
щем контексте стилистически и семантически разных слов. Про-
исходит семантическая специализация, которая, в свою очередь,
порождала необходимость переработки образной структуры от-
дельных слов (происходит развитие метафорических перено-
сов). Своеобразное «приращение смысла» в отдельном слове
определяется семантическими процессами компрессии речи,
сменой стилистических контекстов и взаимовлиянием культур-
но разнородных формул. Во всех конкретных изменениях при
этом обнажается то, что вносит в принципы организации рече-
вых формул новое время. Так, в отличие от Кирилла Туров-
ского, который только разводил в тексте традиционно парные
сочетания, Епифаний окончательно разрушает их семантиче-
ское единство, оставляя в подтексте общее для них родовое
значение (ср. пример устранения слова красна при столкнове-
нии сочетаний красну и добру, красну и хорошу, в результате
чего возникает сочетание добру и хорошу). Именно такие слу-
чаи показывают освобождение слова от синтагмы, что, в свою
очередь, породило активность словообразовательных типов, ко-
торые могли бы нейтрализовать многозначность освобожден-
ных из формул слов.
215
Глава 6
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА J
После сопоставления образцовых текстов по жанрам и исто*
рическим периодам можно приступить к систематическому изу-
чению основных параметров средневекового текста.
Исследование принципов организации текста начнем с рас-
смотрения цельного текста. Каковы приемы его создания и что
является основной компонентой! в этом творческом процессе?
Особенной выразительности средневековые писатели доби-
вались в области языка, обрабатывая безыскусные формы сла-
вянской речи и постепенно создавая национальный литератур-
ный язык. Эта сторона дела и станет предметом последующих
сопоставлений.
В XI в. основной заботой русского писателя было приспо-
собление христианской символики к нуждам возникавшей вос-
точнославянской литературы. За основу брался один текст, ко-
торый истолковывался в поучении. Феодосий Печерский брал
евангельский текст, Иларион использовал сложные символы
Ветхого завета. На основе развернутых сопоставлений, сравне-
ний и комментариев смысл символа доносился до слушателя,
была создана при этом устойчивая традиция собственного рус-
ского содержания (см. с. 43). Перифразом становилось все
произведение в целом.
В XII в. положение изменилось. Развитие литературы до-,
шло до такой степени, когда стало возможным расхождение
между традиционной темой и разрабатываемым на ее основе-’
сюжетом. Типичные тексты такого типа принадлежат Кириллу;
Туровскому, — быть может, он и является создателем этой ма-;
неры изложения традиционных тем. Для примера воспользу-
емся одной из молитв Кирилла (в сравнении с первоисточни-
кам!!):
«Молитва в понедельник»
Кирилла Туровского
К тебь, вседержителю
преч[и]стыи ц[е]с[а]рю,
припадая молюся.
и тружаяся д[у]шею.
и м[и]л[о]сти прошю.
руц-Ь твои створиста
и създаста мя.
и животъ даровалъ ми еси.
Источники
по Геннадиевской библии
Труждаюся душею моею, стеля
испущу на мя глаголы моя, возгла-
голю ихъ, горестию душя моея одер-
жимъ (Иов X, 1 — л. 362).1
Руц-b твои създасгЬ мя и сътвористЬ
мя, потомъ же преложи мя, пора-
зи. .. кожею и плотию мя облече,
костми же и жилами сшилъ мя еси,
животъ же и милость положи . у
мене (Иов X, 8, 12 — л. 362).
1 Листы указаны по Геннадиевской библии 1499 г., (далее: Гейн,
библ.). — Рукопись: ГИМ, Синод, собрание, 915.
216
З.токозныи же врагъ бестудно
яападе на мя.
Зъскрежьта на мя зубы завистью
в стр-Ьлою безакоиия устр'Ьли мя.
тр!>ховымъ же мечемъ
Ш порази мя.
Много же брашася со мною
ш премогоша мя.
(Въпадохъся во сЬти преступления.
гВ акы зв'Ьрь
на убиение уловиша мя.
Помяни, яко перьсть есмь:
взмЬренъ ми животъ.
положена л!>та.
ищетьни же м^Ьсяци.
землю тмы бычьими.
!Ь[сть1 свЬта
:и ч[е]л[о]в['Ь]комъ
Въ п[репо]ловление днии моихъ
не погуби мене,
да не възъвращюся
Въ
гидеже нь[сть] свЬта
(ли жизни ч[ё]л[о]в[-Ь]комъ
[(Сборник XIII в. — Рукопись: Яро-
славский музей, № 15 481, л. 91 б—
:92, 93 6).
ГнЬвень бывъ низложи мя, воскреж-
та зубы на мя, стрелы искусникъ
его' нападоша на мя, стрелами очию
наскака и остриемъ порази мя на
колЬнЬ (Иов XVI, 9—л. 364).
Множицею брашася со мною от юно-
сти моея, ибо не премогоша мя (Пс.
128, 2 —л. 415).
Ловимъ бо есмь акы левъ на убие-
ние, пакы же пр"Ьложь мя, лютЬ
убивааше (Иов X, 16 — л. 362).
Помянулъ ны есть, яко персть есмь
(Пс. 102, 14 —л. 406).
Изочтени же месяцы его у тебе, на
время положилъ еси. а не преступить
(Иов XIV, 5 —л. 363).
Не изведи' мене въ препловление
днии моихъ (Пс. 101, 25 — л. 405).
Даже не иду, отнюду же ся не въз-
вращуся въ землю темну и мрачну,
въ землю тмы вЬчныя, идеже ггЬсть
свЬтъ ни ви.тЬти живота человечьска
(Иов X, 21—22 —л. 362).
i Количество источников молитвы также ограничено, но соот-
ношение различных компонентов этих источников изменилось.
В раскрытии основной темы обнаруживаем ее близость к сте-
наниям Иова многострадального, по структуре текста — зави-
симость от Псалтыри, по идейной направленности — от Еван-
гелия. Свободное заимствование из разных источников позво-
: ляет творчески переосмыслять и самый текст, и основную его
: мысль. Зависимость от источников осознается, более того,
[намеренно декларируется, но изменяется принцип разви-
тия темы. Тема развивается своеобразными кругами, ко-
торые настойчиво возвращают мысль к общей теме: это как
бы песнь на двух нотах, но умело скомпанованная.
Структура текста также изменяется. Здесь нет парных, парал-
лельных сближений, как в Псалтыри с ее «стилистической сим-
метрией» (Лихачев, 1967, с. 170 сл.). Кирилл предпочитает
троичные повторения, которые отличаются разным словесным
наполнением формул. Символика трех уже известна. Иларион
'за сто лет до него, переходя от «бытийной части» к новозавет-
ной, в одном и том же тексте наглядно заменяет попарные
формулы развернутыми триадами. Кирилл, заимствуя мотив из
ветхозаветной Книги Иова, пользуется, однако, поэтикой ново-
го типа. В приведенном отрывке видно различие между древ-
ними текстами Библии и молитвой Кирилла.
Текст Кирилла архаичен (список начала XIII или даже
конца XII в.), однако в нем нет определенных славянизмов ти-
217
на (род. падеж) душя моея, труждаюся и т. п. По возможно-,
-сти Кирилл устраняет и грамматические славянизмы, напри-
мер формы двойственного числа: не създастр и сътвористЬ, а
|формы множественного числа створиста, създаста (при этол
<форм'а аориста все же сохраняется, хотя описание строится не
на аористе). Переход к живым формам глагола осуществляет-
ся всякий раз, когда происходит замена самого глагола (ср.
не преложи, а даровалъ ecu, не помянулъ есть, а помяни и
т. д.).
Текст максимально сокращен за счет устранения повторе-
ний, в том числе и «извитая словес» (ср.: «испущу глаголы...
возглаголю их»). Натуралистическая конкретность описания
:акта творения также утрачена: возникает четкая фраза с за-
имствованием двух первых и заключительной формул (створи-
ста. . . създаста. . . даровалъ). В местах буквального совпадения
с первоисточником видно, что краткость свойственна и самому
источнику, происходит буквальное заимствование (но таких
случаев немного). Устраняются сложные обороты, Кирилл пере-
рабатывает фразу в разговорную, упрощая ее (вместо «испущу
на мя глаголы моя» — «припадая молюся»). Ср. также другие
фразы приведенного текста, особенно заключительную, в кото-
рой видимость одиночного отрицания создается за счет меха-
нического включения в текст двух разных формул (вместо
«идЪже нЪсть свРтъ» — «ни жизни человЬкомъ»); совмещение
двух формул пока не объединено синтаксически, но ничего
«заимствованного» в подобной структуре нет.
Лексические архаизмы намеренно устраняются (стеня, воз-
глаголю и пр.), но свойственное Кириллу различение семанти-
ки слов животъ и жизнь заставляет его заменить во втором
случае слово животъ словом жизнь (когда речь идет о вечной
жизни), ср. «тмы в'Ьчьныя» — жизни вечной. Видно, что в мо-
мент создания текста антитезы воспринимаются сознательно,
но связанность слов с определенными формами в границах
синтагм требует передвижения цельной формулы-синтагмы
(«жизни человЪкомъ»— столь же самобытное сочетание, как и
равнозначное ему, но с прилагательным — «живота человечь-
ска»), Одиако первое больше похоже на древнерусскую форму,
чем книжный оборот с прилагательным.
Уточняется смысл конкретных слов. Текст «акы левъ на
убиение» не годится, потому что в нем нарушена образная струк-
тура, в качестве необходимо отвлеченного избирается слово
звЪрь\ «остриемъ порази мя»-—слишком отвлеченно, поэтому
возникает привычная формула «мечемъ злЬ порази мя», при-
чем именно с формой злЪ, что обычно для русской формулы, и
вдобавок перекликается с источником, где сказано лютЬ
(опять-таки в книжном варианте). Включение наречия в пер-
вую формулу устраняет необходимость в повторном возвраще-
нии к этой теме. «Впадохъся во сЪти преступления» — пара-
:218
фраза апостольского послания (Павла к галатам, VI, 1)
«въшедъ в прегрешение»; замена слова в этом месте также
оправдана необходимостью расширить смысл «прегрешения».
Важно и то, что Кирилл не просто следует поэтике тради-
ционных текстов и не забывает риторических приемов. В прин-
ципе, молитва — жанр устный, тут необходимы устойчивые эле-
менты звучания, способные сохранить текст во времени. Заме-
чательно для всех молитв Кирилла особое внимание к полу-
гласным р, л, н, м, в. Слова и составленные из них синтагмы
подбираются таким образом, что аллитерационное единство
каждого отрезка молитвы сознается вполне определенно; ср.:
«припадая молюся... и милости прошю». Сдержанное рокота-
ние басов все время ощущаешь при воспроизведении текста,
безусловно законченного и тщательно обработанного ав-
тором.
Важно основное свойство текста: перегруппировка смысло-
вых отрывков идет на уровне традиционных (или ставших со
временем таковыми) формул; некоторые лишь здесь и образу-
ются, являясь своего рода раскрытием традиционного для
книжной поэтики символа; ср. «стрелою безакония», «сЬти
преступления», «греховный мечь» и др. При переработке текста
«стрълы искусникъ его нападоша на мя» определение искуси-
телей приобретает привычную славянскую форму — «злокоз-
ный же врагъ бестудно нападе на мя»; вместо «гнева» говорит-
ся о «бестудстве» и все описание переводится в план осудитель-
ный, с точки зрения человека.
В последующей традиции текст молитвы постоянно обнов-
лялся, поскольку воспринимался как устный, требовал посто-
янного приближения к изменявшимся формам живой речи.
Изменялись приемы работы над текстом. Покажем это на
примере «Послания Якова черноризца к князю» (80-е годы
XIII в.):
( 1) Соломонъ бо, се искусомъ приимъ, всЬмъ заповЬда, глаголя:
( 2) Не внимай бо любодЬици: медъ бо каплеть от устъ ея, а послЬже гор-
чае золчи и чемери.
( 3) Не стрЬтаи жены сничавы,
( 4) отврати очи отъ жены красны,
( 5) любодЬянья бо жены во высотЬ очью.
( 6) Да не удолЬеть ти похоть чюжея доброты,
(7) и во сл-Ьдъ ока не идеть сердЦе ти;
С 8) видъ бо любодЬици— стрЬла есть чемерита:
( 9) уязви лицемъ и ядъ въ сердце вложи,
ДО) и мысли аки мухи вязнуть в поставь паучии,
"(11) аки искра, медливши, в половахъ пламеньмь воспалится;
(12) неводъ бо сердце ея, и сЬти уды ея, и узы в руку ея,
(13) и ловление бесЬды ея осилы устенъными заведеть во блудъ,—
(14) аки волъ поверъстъ послЪдуеть ей на заколенье,
(15) аки песъ жажслемъ, •
(16) а не вЬсть, яко отъ души тсчеть.
(17) В доброть бо женьсгЬ мнози заблудишася
219
(18) и пополъзнушася в пагубу, смертию въ адъ: |
(19) жены бо честныхъ мужь душа уловляют (ПЛДР, т. 3, 1981, с 458
458) . ' 1
В сопоставлениях (к каждой строке «Послания» — под тем
же номером) учтем показания источников, по возможности nd
самым древним спискам (источники цитат не указываются, ив
в основном это древнеславянские переводы книг Ветхого заве*
та, «Пандектов Антиоха», поучительных слов и т. д.): :
( 1) «Все это испытал я мудростию»; искусомъ приимеши— -elpav
(Срезневский, I, стлб. 1122).
( 2) Соломон. Не внимай злЪ жен'Ь, медъ бо каплеть от устъ жены любо-
дЪица, аже въ время наслажаеть гортань твою, последи же горни
золчи обрящеши (Семенов, 1893, с. 418). 1
( 3) Не сър’Ьтаи жены, съничавы, еда како въпадеши въ сЬти ея (Срезнев-
ский, III, стлб. 777).
( 4)О тъврати очи твои отъ жены красъны... и духъ твои поплъзнетъся въ
пагубу (Срезневский, II, стлб. 1201).
( 5) Очи же имуще исполнь любо&Ьяниа и не пр-Ьстающа грЪха (Генк;
библ., л. 814).
( 6) Сыне, да не одолеет ти похот туждея доброты, ни уловленъ буди тво-
ими очима (Супрасльский сб. 1507 г. — Рукопись: БАН, 24.4.26, л. 126
об.; далее — Супр. сб.; Гени. библ., л. 4226). т
( 7) И въ слЪдъ ока моего иде сердце мое (Генн. библ., л. 369). ;
(10) якоже н въпадъшая мухы. въ поставъ. паучъ (Сл. РЯ XI—XVII вв,:
вып. 9, с. 316); ' J
(11) якоже искра, врЪмя створши, по половахъ створить пламень, тако па-'
мять жены пръбывающе въжьжеть похоти (Срезневский, I, стлб.:
1118).
(12) ОбрЬтаю азъ то горц-be смерти с женою, якоже есть ловитва и сЪп.
срдца ея и съузъ любви ея рукы ея (Генн. библ., л. 440).
(13) Прельсти же и многою беседою, тенетом устну ея въ блудъ введе if.
(Генн. библ., л. 423), ср. осилы же устьньнъими поведе и (Срезнев-]
ский, II, стлб. 717).
(14) Он же абие последуя ей при томъ, яко волъ на заколение ведется,
(15) и яко песъ на узы. ли яко елень, врежденъ стрелою въ ятра. подви-
зается ж яко птица въ клепцу. ’
(16) не вЪдыи яко о души течетъ (Генн. библ., л. 423; Супр. сб., л. 127).
(17) Въ добротЪ бо женьстЪ мнози заблудиша (Срезневский, I, стлб. 680);'
(18) и духъ твои поплъзнетъся в пагубу (Срезневский, II, стлб. 1201); пу-.
тие адови путие ея. иизведеся въ скровищя тя смьртная (Гейн, библ.,:
л. 423; Супр. сб., л. 127); <
(19) жены мужемъ честным душя улавляет (Генн. библ., л. 4226; Супр..
сб., л. 126 об.).
Особенность приведенного «Послания» XIII в. не в цитировав
нии, а в развитии темы, заданной в первой строке известным!
афоризмом. Яков пользуется самыми разными источниками,!
круг которых расширился. Цитаты, переработанные со време-1
нем в законченные формулы, заимствуются не из первоисточ-|
ника. Вторичность текста определяется и тем, что библейские]
образы уже прошли через обработку в патристической лите-]
ратуре и основательно комментировались. Поэтому многое из]
220 !
заимствуемых текстов Яков может убрать в подтекст, одно-
временно добавляя кое-что от себя.
г Текст построен по принципу «намекающей цитаты». Симво-
лика библейского текста отчасти устранена, поскольку автор
Ьа самом деле, а не риторически предостерегает своего духов-
ного сына от женских чар. Конкретизация значений требует и
тловесных уточнений — такова первая особенность «Послания»,
f Однако вместе с тем происходит и семантическая компрессия
текста: исходные высказывания «сжимаются» в формулы в со-
ответствии с темой послания. К тому же многовековое наращи-
вание текстов в виде пояснений и комментариев к исходным
образцам приводило к варьированию формул, истолковывающих
«праформулу текста». Образовался целый ряд однозначных син-
тагм, каждая из которых выражала определенную мысль. Этот
процесс развивался и дальше, и каждый автор имел право на
словесном уровне предложить свое понимание исходной форму-
лы. Все это Яков учитывает, поскольку знает литературную
традицию сложения текстов на заданную тему.
Устойчивость использованных автором формул подтвержда-
ется и пословицами XVII в. В них до предела сокращен текст,
что неизбежно при устном их бытовании; ср.: «медъ каплетъ
от устъ жены блудницы» (Симони П. Старинные сборники рус-
ских пословиц. СПб., 1899, с. 120)—в этом случае греческому
ropvT] из первоисточника соответствует новое слово, столь же
книжное, как и любодейца, «о не отглагольное и не сложное.
Яков сжимает высказывание (см. строку 2) сравнительно с ис-
ходным, но он еще стремится передать причинно-следственные
отношения между частями высказывания. Он устраняет повто-
рения, но подтекст ясен, поскольку в его время словесный об-
раз «на основе традиционной формулы был разработан основа-
тельно; ср. в Геннадиевской библии: «насыти мя горести, на-
сыти мя злъчи» (л. 5526), метафорическое соединение форм
«горести золъчъ мою помянух» (л. 5526) и парафразы типа
«умышление сердца твоего въ жлъчь бо горести» (л. 790),
однако «коль сладка грътани моему словеса твоя, паче меда
устом моим» (л. 412). Аналогичные соответствия вариантов
можно привести к каждой последующей строке Якова. Общая
система образности у него книжная, библейская, заимствован-
ная, и в центре текста находится символ со многими словес-
ными ассоциациями, постоянно возобновляемыми в определен-
= ных условиях. То, что является для всех них общим, созна-
i ется как известное, и такое основание для сравнения всех одно-
значных формул и сближения повествовательных тем опуска-
= ется (ср. части сопоставлений, не выделенные курсивом, почти
во всех строках текста). Именно их сходство и образует осно-
; ванную на общности образа корреляцию однотемных формул,
• которая, будучи в принципе открытой, постоянно пополняется
• новыми словесными обработками темы.
221
У Якова «горчае золчи и чемери» вместо «горчае золчд^
поскольку горечь полыни и желчи описывается в конкретной
тексте, а двуплановость «чемери» понадобится чуть даль!
ше (см. строку 8). Лексико-грамматическая характеристик^
определения (горчае) отличает текст Якова от первоисточника
(горесть): исчезает метафора (автор ее не сознает’, но уточ|
няется реальный признак (греч. si? yobjv irixpt'a; означав
ет ‘в желчь горечи’, но также и ‘раздражения, суровости’ а
т. д.); формула требует однозначности в каждом контексте. 1
Строки 3 и 4. Съничава(я) соответствует греч. etaiptCoi*ev-^
‘распутная’. Значение прилагательного в сочетании «жена крас-
на» ‘красива’, тогда как красота именуется в «Послании» еще
доброта (стр. 6, 17; ср. греч. xdXZo' ‘красота’). Архаичности
лексики — важная особенность всего текста, он создан «высо-
ким слогом». Другая его особенность: двучленные суждения
сжимаются до одной (обычно — первой) формулы, поскольку^
именно она «напоминает» весь последующий, хорошо извест*
ный текст. Этим вольности Якова не ограничиваются; вторую
формулу он также вводит в текст, но позже (такие формула1
древнего перевода, содержащиеся в стр. 4 и 3, перенесены в
«Послании» в стр. 17 и 12, с изменением и в стр. 11). В дан-
ном случае нет общности сравниваемых частей, поэтому има
можно воспользоваться при варьировании темы. Как обычна
для древнерусских произведений, традиционно близкие частй
текста разводятся, а необходимые для замысла автора новые
сближения соединяются. «Не строгай — отврати очи», «жены
съничавы — жены красъны» — в таких уподоблениях противо-
поставляются разные признаки женщины, и в результате до-
стигается вывод (стр. 5): вся беда в глубине женских глаз.
Сжатие высказывания до трех формул порождает и новый об-
раз, и новую мысль, даже повторение слов подчеркивает един-
ство всех трех строк: везде говорится о «жене».
Строка 5 также имеет значительную глубину образных
ассоциаций, но все они книжного характера. Слово высота
здесь семантически многопланово, поскольку в результате сжа-
тия вбирает в себя несколько образных контекстов, важнейшие
из которых, по-видимому, следующие (по Генн. библ.): «очи
исполнь любодьяниа» и еще «похоть очима и гордыни жи-
тиа» (л. 8156), что остается в подтексте (и в семантике слова
высота), «гордость очей и надменность сердца» (л. 428) и др.
Высота (в Сл. РЯ XI—XVII вв.) — это и ‘устремленность
вверх’, и ‘совершенство’, и ‘величие’, но также ‘высокомерие;
надменность, гордость’ (вып. 3, с. 256); какого-либо из этих
значений в современном их понимании по отношению к упот-
реблению слова высота у Якова нет, а есть цепочка ассоциа-
ций, связанных каждый раз с конкретным каноническим кон-
текстом. Буквально же в анализируемом случае слово высота
можно перевести как «глубина» — т. е. словом совсем другого»
222
Семантического ряда. Ясно, что скрытую за ним реалию цер-
ковный писатель осуждает, хотя и пользуется при этом нейт-
ральным высота, а не книжными высость и др.
Строки 6—7. Тема ока незаметно перешла из предшествую-
щих строк, но остается в подтексте, тогда как тема красоты,
Зашивается в присоединенной к ним очередной формуле (крас-
ны.— доброты). Одновременно автор заменяет слова, приближая
рх к разговорной речи (вместо туждея— чюжея, удолЪеть по
умыслу глубже, чем глагол одолЪет, который не сохраняет ис-
ходного значения подавления, опускания вниз, является древне-
Славянским, ср.: «да не удолТеть ми всяко безаконие» (Срез-
невский, III, стлб. 1154)); грамматические формы также выне-
сены из оригинала (чужея, совпадающее с туждея, а не чю~
|ке-6), поскольку важна цельность формы в конкретной форму-
ле. Изменяется синтаксическая структура, теперь это книжная
повелительная форма (да не удолЪеть... не идетъ)\. единство
[фразы подчеркивается и усилительным ти, и. смыслом выска-
зывания.
s В строке 7 фраза составлена нейтрально в стилистическом
[отношении, с усилительным ти (соотносится с ти в стр. 6 и яв-
ляется текстообразующим элементом), с заменой формы аори-
ста на презенс. Этот стих также имеет длительную традицию
дбразного насыщения; ср.: «Ине съвратити вслЬдъ заповъдии:
своих и всл'Ьд очию вашею имъ же вы съблудисте вслйд их»
ЦГенн. библ., л. 90). Древнейший текст объясняет нам подтекст
(«Послания», которое основано даже не на вторичном для этой
[темы тексте Книги Иова, а на многочисленных и тщательно
[разработанных формулах (толкованиях), например в «Пандек-
'тах Антиоха» и др. (см.: Срезневский, III, стлб. 440). Все бо*-
[лее удаляясь от исходного библейского образа, постоянно обнов-
ляя свой отвлеченно-нравственный смысл в конкретных языко-
вых формах, формула сжимается формально, углубляется се-
[мантически. Возникает несколько равнозначных выражений,
[конкуренция которых и создает необходимую для литератур-
ного языка вариативность формальных средств. «Ходи по виде-
нию очей твоих» (Генн. библ., л. 438) со временем обкатыва-
ется до выражения «куда глаза глядят» (ср. с. 172). В основе
обновления форм несомненна ориентация и на живой язык,,
и на устную форму его воспроизведения.
Для строк 8—9 полного соответствия в древних переводах
найти не удалось. Отчасти это переделка известного, встреча-
ющегося и у Даниила Заточника текста «О злое, острое ору-
жие диаволе и стрела, летящей с чемеремъ!» (Лексика, с. 195),.
ср. также устойчивое сочетание «чемеритъ день»4— т. е. страш-
ный, горестный (Срезневский, III, стлб. 1498 — в переводных
славянских текстах). Много похожих сочетаний в переводе1
Пчелы (Срезневский, III, стлб. 1619: «красны жены лобзания1
блюдися, яко змиина йда злаго»). В целом же- и этом высказы-
223!
вании развивается предшествующий мотив. Оба стиха можнй
соединить, соотнеся их с основным источником Якова; cpj
«блудница с любовью срЪла есмь лице твое» (Генн. библ|
л. 4226), в других списках — стрела, т. е. ‘встретила’. Сама
вероятность описки (стрЪла вместо срЪла) выявляет разньгё
возможности текста, когда высказывание можно соотносите
и со стрелой и со встречей. В таком случае «уязви лицемъ»^
тоже неоднозначная и очень распространенная формула: обо)
значает и ‘поразила внешностью’ (по отношению . к началу;
стр. 8) и ‘поранила снаружи’ (по отношению к концу стр. 8);
Столь же распространена и формула «въложи богъ въ сердце*
(см.: Сл. РЯ XI—XVII вв., вып. 2, с. 228); она может входите
в устойчивые противопоставления типа «лицо — сердце» (т. ег
по принципу «внешнее — внутреннее», «поверхность — сердце-;
вина»); ср. у русских писателей XVI в.: «подобает нам любовь
держати ко всякому не лицеи, но сердцем» (Сл. РЯ, XI—
XVII вв., вып. 8, с. 256).
Строки 10—11. Сравнение (с союзом аки/яко) сопровож-
дается появлением личной формы глагола с вневременным зна-
чением; следовательно, сравнение сознается на уровне выска-
зывания, т. е. в данном тексте; оно не проникает в формулу
извне и никак не связано со значением отдельных слов сочета-:
ния. Оно целиком заимствовано из славянских переводов; ср.г
«обрЪтохъ горчаиши смерти жену, яже ее ловитва и сЪть сер-)
дечная» (Срезневский, III, стлб. 902—903); образ пожигающе-
го пламени вынесен из библейского источника (Генн. библ.,
л. 4226).
В строках 12—13 представлен также широко известны?
образ: «устнЪ его — съть души его» (Супр. сб., л. 131).
В строках 14—15 подтекст создается опущением очень раз-
вернутого сравнения, из которого Яков сохраняет два первых
обычных компонента: вол и пес, но не олень, не птица — обра-’
зы, которые уводят в сторону от конкретного бытового срав-
нения.
Строка 18. «Смертию въ адъ» соединяет несколько выраже-
ний описательного характера; одновременно это и разъяснение
предыдущего («пополъзнушася в пагубу»). Обширный текст,
в котором противопоставлялись бы адские пути «жены» и ко-
нечный их предел — «смертная сень», здесь не нужен, посколь-
ку речь идет не о женах, а об их жертвах. В сущности, эта
объективация описания, перенесение внимания с субъекта
действия на объект и есть авторское начало в «Послании», хотя
Яков и вынужден пользоваться традиционными формулами, ос-;
нованными на противоположной «точке зрения».
Текст «Послания» состоит из формул, в той или иной сте-
пени традиционных. Сохраняя образ и углубляя его понимание,
в накопленных формулах того же значения, каждая синтагма
становится семантически глубокой, поскольку в процессе сжа-
224
тия текста смысл исчезающей части сохраняется в остающейся
формуле. Есть и другой способ компрессии синтагм: традицион-
ное сравнение или устойчивый оборот распространяются новым
для них словом, в результате образуется новая синтагма (ср.:
«и ядъ въ сердце вложи» — стр. 9; «и мысли аки мухи» —
стр. 10; «ловление бесЪды ея» — стр. 13), при этом рема («но-
вое») всегда выведена к началу синтагмы, и эти слова (неред-
ко отглагольные имена) заменяют собой целое высказывание.
Включение «нового» с помощью определений редко, и не толь-
ко в данном послании. Прилагательное еще не стало важным
средством выявления типичного признака ключевого слова и
ведущим компонентом расширяющегося текста (ср.: «любодея-
нья бо жены — во высоте очью» — стр. 5, «стрела есть чемери-
та» — стр. 8 и др.).
Распространение с помощью глагола, как правило, указы-
вает на редактирование текста. Ср. в стр. 14 «волъ поверъстъ
последуеть ей на заколенье» вместо «на заколение ведется».
Здесь два сказуемых, потому что поверъстъ и послЪдуетъ
фиксируют разные моменты действия, а причастие помогает
выстроить их перспективу: вола — повели, и он сам — добро-
вольно—-следует за кем-то на заклание. Ради этого противо-
поставления субъектно-объектных отношений общему действию
и перестроена вся синтагма. В стр. 17 заблудший заменяется
на заблудишася, поскольку последняя форма соотносится с
пополъзнушася, в свою очередь, заменяющим поплъзнетъся. На
уровне грамматических форм формулы должны быть «состы-
кованы» точно, потому что форма глагола — общее текстооб-
разующее средство, выходящее за рамки синтагмы. Ср. еще в
стр. 16 не вЯстъ вместо не вЪдый, поскольку все описание ве-
дется в форме настоящего времени. В стр. 19 форма родитель-
ного множественного («жены бо честныхъ мужь») больше со-
ответствует древнерусской грамматике, чем калькированный
с греческого оборот с дательным множественного («жены му-
жемъ честным») числа. Ср. еще одно перестроение того же ти-
па, но со сосредоточением на субъектном плане описания
(стр. 11): вместо «искра... сътворитъ пламень» — «искра пла-
меньмь воспалится» (т. е. искра вспыхнет подобно пламени,
а не простая констатация возникающего из искры пламени).
Синтагмы Якова по лексическому наполнению древнее тех,
что отмечены в сборниках XV в. Например, в стр. 12 неводъ —
сЪти— узы (как воплощение сердца — тела — рук женщины)
яснее отражают характер описания, чем путаные формулы
Геннадиевской библии или Супрасльского сборника, но при
этом отметим, что «узы в руку ея» у Яков-а скорее всего иска-
жение (вместо «съузъ рукы ея»), так как сердце — сЪти—(и
восстанавливаемое) съузы объединяются аллитерационной иг-
рой начальных согласных; «яко о души течеть» изменено на
«яко отъ души течеть» (стр. 16, смысл которой: не ведает, что
15 Колесов В. В.
225
стремится к погибели); текст Якова, таким образом, исправь
нее. i
Длительная традиция не только множит дублеты формуй
или расширяет их, но в результате бытования постепенно раз-:
рушает их. Разрушая традиционную двучленную структуру^
Яков создает собственные принципы организации текста. Внеш-'
не они тоже бинарные, похожи на символический параллелизм;
Псалтыри, но по смыслу новые структуры отличаются от псал-;
тырных. В новых формулах нет ни противопоставлений, ни па-
раллелизма, но есть нарастающая последовательность описани»
одного и того же — скорее действия, чем лица или объект»
действия.
Каждая строка (стих) имеет то новое (рему), ради чего
она и введена в общий ряд синтагм, одинаково традиционных,
хотя и созданных в разное время. Сравним строки 3—9. Сквоз-
ным образом этого фрагмента являются «очи» — после образа
«уста» и перед образом «сердце». Поэтому уже само повторе-
ние ключевого слова становится текстообразующим средством,
ничего нового в текст не внося, кроме постоянного переключе-
ния внимания с очей красавицы на глаза наблюдающего за
нею. Текстообразующие формы частиц и глаголов также явля-
ются простой вариацией повелительной модальности. Вырази-
тельно каждое последнее слово стихов, которое каждый раз
с помощью нового признака уточняет последовательный ряд
таких смысловых определений: сничава — красива — гордели-
ва — порочна («чюжея доброты») — ядовита — смертельна.
Все эти определения одно за другим с разных сторон характе-
ризуют образ, каждое из них выражено не отдельным словом'
(в изолированном слове нет образа!), в их следовании мы ви-
дим привычное перечисление синтагм.
Каждый новый образ, разворачиваемый в тексте, «рассогла-
совывает» точность определений, логическая конкретность сни-
мается образной многоплановостью, понятие подается расчле-
ненно, аналитически, по отдельным признакам.
Многозначность проявляется и на уровне слова и на уровне
синтагмы. Исходный синкретизм славянского слова отчасти
уже размыт изнутри вариативностью переводных текстов, в ре-
зультате чего и традиционная формула оказалась переполнен-
ной семантическими наслоениями. Так, сочетание «во слЬдъ
идеть» (стр. 7) имеет переносное значение ‘подражает’, но в со-
четании с другими глаголами в складывающейся смысловой
парадигме образуются и другие значения. (Ср.: Срезневский,
III, стлб. 440: «въ слЪдъ прЪложитися» (кому)—повиновать-
ся, «въ слЪдъ гнатися» — преследовать, «въ слЬдъ гнатн» —:
разыскивать и т. д.). Все указанные значения как бы спрессо-
ваны, в традиционном противопоставлении усиливают образную
выразительность слова, которая, конечно же, не беспредельна/
Имя существительное определенно противопоставлено всем
226
другим частям речи, именно имя выражает традиционный сим-
вол, который и раскрывается с помощью второстепенных час-
тей речи. При описании женщины используются слова: око —
уста — сердце, но с другой стороны сердце — стрЪла, лице —
сердце, видъ — лице противопоставлены друг другу и только
в противоположностях выявляют свои символические значения.
Видъ любодейци — это и лицо ее (что мы видим), и созерца-
ние ее, отглагольные имена амбивалентны и разнонаправленны
в отношении к содержанию текста; в этом они близки к глаго-
лам. Текст вообще построен таким образом, что субъектно-объ-
ектные отношения постоянно перетекают одно в другое, и со-
здается это как раз символическим значением ключевых для
данного текста имен (очи, мысли, душа и др. в столь же от-
влеченном значении).
Панхронизм описания, передаваемый «настоящим историче-
ским» временем с добавлением неопределенных форм, подчер-
кивается несколькими планами описания: «авторское настоя-
щее» соотносится с «модально-будущим» адресата, но за ними
стоит бесконечная череда прошлых событий, которая и обеспе-
чивает возможность порождать все новые тексты в том же
стилевом (символическом) тоне. Литературным этот язык на-
зывается потому, что он исходит из традиционных формул, ма-
териально обеспечен ими и поддерживается образцами как
нормой. Глагол, являясь, по существу, текстообразующим эле-
ментом, никогда не становится образным центром синтагмы.
Прилагательное уже важно, поскольку это признак литера-
турной речи, но определение еще связано своей принадлежно-'
стью к жестко фиксированным позициям в синтагме. Эпитет,
как и метафора, еще не является оригинально авторским; пи-
сатель незаметно для себя иногда устраняет эпитеты, словно
ие замечая их ценности. Символически поданное имя по-преж-
нему выступает центром литературного текста.
Отчасти калькированные синтаксические структуры заме-
няются русскими, но морфологические формы слова остаются
славянскими и быстро ветшают в границах традиционной син-
тагмы (ср. род. ед. ея, чюжея, вин. мн. душа — вместо душЪ),
морфонологические чередования застыли в привычных формах
(женьстЪ, мнози). Общая архаичность наполнения синтагм на-
блюдается не только в форме слов, но и'в их подборе.
«Яко песъ на узы» заменяется у Якова на «песъ жажелемъ»
(стр. 15), т. е. вместо узда используется слово, обозначающее
цепь, — слово западно- и южнославянского происхождения, но
достаточно рано проникшее в литературные формулы в отвле-
ченном переносном значении ‘тяжелая обязанность, обуза’
(Фасмер, II, с. 33). Яков часто предпочитает диалектные сло-
ва, может быть потому, что (как в данном случае) они помо-
гают ему построить семантически связанный текст. Ср. также
опущенное в подтекст (стр. 11) из «Пандектов Никона Черно-
227
15*
горца» въжьжеть, что эвфонически соотносится со словом ж<&
желемъ в стр. 15. В другом случае (стр. 12—13) слово ловит-
ва Яков заменяет словом неводъ, поскольку ниже использу-
ется слово ловление-, он убирает тенетом, заменив его словом;
осилы, чтобы в звучании последнего подчеркнуть необходимую;
связь со словом сила-, он играет омонимами стрЪла (сущест-,
вительное) и стрела (глагол ‘встретила’), пользуясь созвучи-
ями в противопоставлениях и др. Возможно, как и у Кирилла,;
это фоническое, основанное на звучании текста; соответствие'
определяет подбор синонимов и характер предпочтенных фор-
мул. Преобладание зубных согласных и сочетаний с ними (ст,
сл, зн и др.) в его тексте несомненно, а это самые определен-
ные в фонетическом отношении согласные для конца XIII в.
^Колесов, 1980, с. 146, 159).
Таким образом, на всех уровнях организации текста и этот
автор конца XIII в. ориентируется не просто на живую речь —
ему важно соотнести свой текст с его произношением, звуча-
нием.
Для последующих наблюдений воспользуемся текстами оди-
накового содержания.
«Повесть об убиении Андрея Боголюбского» (1175 г.)
Тако и сий князь благоверный Андрей и створи церковь сию в память
собъ, и украси ю иконами многоцЪньными, златомъ и каменьемъ драгымъ
и жемчюгомъ великымъ безцЬньиымъ, и устрой Ъ различными цятами и ас-
пидными цятами украси, и всякими узорочьи удиви ю, светлостью же н!
како зрЪти, зане вся церкви бяше золота; и украсивъ ю и удививъ ю сосу-
ды златыми и многоцЬньными, тако яко и всимъ приходящимъ дивитися, в
вси бо видивше ю не могуть сказати изрядныя красоты ея. ..: изъ (о)дну
церкви от верха и до долу и по стЬнамъ и по столпомъ ковано золотомъ,
и двери же и ободвЪрье церкви златомъ же ковано. Бяшеть же и сЬнь
златомь украшена отъ верха и до дЬисиса, и всею добродЪтелыо церковною
исполнена, изьмечтана всею хытростыо. Киязь же Андрей бе городъ Воло-
димЪрь силно устроилъ, к немуже ворота Златая доспЬ, а другая серебромъ
учини. И доспе церковь камену сборъную святыя Богородица, пречюдну
велми, и всими различными виды украси ю от злата и сребра устрой... И
въ Боголюбомъ и въ Володимере городе вЬрхъ бо златомь устрой, и ко-
мары позолоти, и поясъ златомъ устрой, каменьемь усвети, и столпъ позла-
ти, и изовну церкви, и по комаромъ же поткы золоты и кубъкы, и ветрила
золотомъ устроена постави, по всей церкви и по комаромъ около. Посемь
же иныи церкви многы камены постави различныъ, и монастыре многи созда
(ПЛДР, т. 2, 1980, с. 324, 326).
Епифаний Премудрый. «Житие Стефана Пермского» (1396 г.)
Той же основанЬ бывши и поставлен^,
(юже вЪзгради премногою верою и теплотою преизлишняа любви,
Г Iюже въздвиже чистою совестию,
(юже създа горящимъ желаниемъ,
юже украси всякым украшениемъ, яко невесту добру и преукра-
йену,
- н‘ юже исполни исполиениемь ц[е]рковнымъ,
юже с[вя]ща по свершении исполнении с[вя]щениемъ великымъ,
22»
[юже сотвори высоку и хорошу,
111 (юже устрой красну и добру,
(юже изнаряди чюдну въ правду и дивну ...
[Дивна же миогыхъ ради похвалъ,
IV [ многими же похвалами опохваляяся не того ради.
(имиже ч[е]л[ове]чьскыми хытростми утворена
[или мастерскими козньми и умышлении и догады преухорошена,
V •! но преукрашена б[о]жиею славою
(и добродЪтелми предобрсну,
in б[о]ж[е]ствеными славословии преизмечтанну,
и ч[е]л[ове]ческымъ сп[а]сениемъ преупещрену,
и православия лепотою преодЪну,
{в иеи бо великолепны тайны являются,
в ней же с[вя]тая литургиа стваряется,
в ней ж б[оже]ственыхъ таинъ комкание съвершается,
в ней же многыхъ ч[е]л[ове]къ д[у]ши сп[а]саются,
1в ней ж многымъ людемъ прибежище бывает,
’''Н в ней же телесиыя грЪхы кр[е]щением омываются,
в иеи же д[у]шевиыя скверны покаяниемъ и верою остаются
(Житие Стефана, епископа Пермского. СПб., 1897, с. 22).
Текст XII в. традиционен для русской летописи. В нем пред-
ставлены все грамматические русизмы, в том числе и такие
выразительные, как формы имен (им. ед. вся церкви, вин.
йн. монастыря, также прилагательные, местоимения, числи-
тельные: $, троЯ, различный, собЪ, ecu, всимъ, всими, всею),
глаголов (прежде всего вспомогательных: бЪ, но и бяшв, бя-
шеть), и, что важно, в нем отражается фонетическое следст-
вие падения редуцированных (створи, сборъную— без проясне-
ния слабых г). Находим и несколько орфографических нов-
шеств, принадлежащих переписчику текста в начале XV в. (на-
писания типа ея), но они не опровергают общего вывода; текст
написан на древнерусском литературном языке и в нем соблю-
даются все характерные особенности этого языка.
Любопытно распределение полногласных и неполногласных
форм. Тех и других в приведенном отрывке 33, полногласных
из них—19. Нет ни одного корня, употребляемого только в
неполногласной форме, а это значит, что опорными для текста
являются полногласные, тогда как неполногласные маркирова-
ны по какому-либо стилистическому признаку. Однако пред-
почтение полногласных можно отметить лишь в двух случаях:
когда использованы русизмы типа узорочье или когда форма
употреблена в качестве предикатива (бяше золота, поткы зо-
лоты). Морфема с акутовым ударением всегда полногласна
(серебряный, ворота), характер формул также влияет на их
распределение (ср.: «златомъ и каменьемъ драгымъ», но «ка-
меньемъ дорогымъ», «городъ ВолодимТрь», «въ ВолодимЬр-Ь
городЬ» и др.). Препозиция имени обычно отменяет его
229
полногласие («златомъ же ковано», но «ковано золотомъ»,
однако «золотомъ устрой» и «златомъ устрой»). Глагольные
формы особенно безразличны к проявлению полногласия/не-
полногласия (позолоти-—позлати и др.). Корень серебр-,
сребр- в данном тексте ведет себя таким же образом (сребра
и серебра). Сама безразличность в употреблении тех или иных
форм не является случайной — это равноправные варианты в
составе формул-синтагм различного происхождения.
Особо отметим глаголы. Кажется, что все глаголы (28
однородных сказуемых) по сути своего употребления должны
являться семантическими вариантами выражения общей мыс-
ли, уточнять новыми характеристиками постоянно возникаю-
щие по мере описания признаки объекта — церквей, созданных
Андреем. На самом деле ничего подобного нет: из 24 аористов,
однообразно следующих друг за другом, 15 представляют со-
бой формы от одних и тех же глаголов (украси, устрой, позо-
лоти, удиви); никаких содержательных различий смена гла-
гольных корней не несет, поскольку употребление глагола опре-
деляется минимальным контекстом — правилами сочетаемости
с известным именем (по отношению к слову церкви-—створи,
docnt и постави, монастыри — созда, ворота — доспЪ и
учини, тогда как двери, сосуды, амвон (и другие обо-
значения более мелких сооружений, украшений в церкви и
т. п.)—обычно устрой, как и город — устрой). Семантические
пределы текста ограничены правилами сочетаемости и в обо-
значении идеи «украшенности»: церкви украси (иконами, зла-
том и т. д.) и удиви (узорочьем) и просврти (светильниками)
или усвЪти (драгоценностями) — выбор глагола определяется
предметом и назначением украшательства. Принцип организа-
ции текста прежний: последовательность операций передается
последовательным рядом однозначных глаголов, всегда связан-
ных по традиции с данным сочетанием слов; словесные блоки
подключаются к целому по мере возникновения надобности в
обозначении именно данного фрагмента повествования. В ча-
сти, предшествующей приведенному отрывку, как и во всех
последующих, находим устойчивые традиционные сочетания
вроде «городъ каменъ», «отъ млады верьсты», «полату крас-
ну», «добрыми нравы» и т. п.; и в приведенном тексте ряд со-
четаний с одним и тем же определением различный, изрядный,
многый даны как отвлеченные степени разнообразия, множест-
венности и исключительности. Другими словами, там, где про-
являлась авторская индивидуальность, и автор мог учесть свои
художественные вкусы, он ограничивается «общими планами»,
не выходит за границы неконкретного описания. Разнообразие
и выделение признаков дается не глаголом и не именем, а при-
лагательным, но очень однообразно: рядом встречаем «много-
цЬньные иконы», «драгое каменье», «безцЪньный жемчюгь» —
без всякой последовательности в степенях их «силы», даже
230
если драгый и содержит в себе свернутое определение ‘драго-
ценный’. На это указывает безразличие в повторном употреб-
лении тех же определений: «каменьемъ дорогымъ и жемьчю-
гомъ украси ю многоцрньна устрой» и т. д. (уже за предела-
ми нашего текста). Многоценными могут быть иконы, каменья,
жемчуг, сосуды и все остальное, поскольку отвлеченный при-
знак не привязан к определенному конкретному понятию, это
всегда переменная единица текста, но также и «общее место».
Несмотря на последовательность предъявления аористов,
эта грамматическая форма вряд ли играет в тексте ключевую
роль: точнее сказать, в общем перечне воспринимается, скорее,
глагольная основа, необходимая для осмысления семантики
соответствующего словосочетания, но безотносительно к гла-
гольному времени. Как ясно из многих исследований по истории
русского глагола, аорист в древнерусском языке довольно ско-
ро стал формой, выражающей действие, безотносительное ко
времени, но действие завершенное или законченное, действие
«само по себе». По существу, в подовых перечислительных
рядах аорист исполнял функции, впоследствии перешедшие к
деепричастию, но в XII в., еще вполне согласуемые с функци-
ями кратких причастий (аорист и действительное причастие
прошедшего времени постоянно пересекаются в своем значении,
в том числе и в нашем тексте). Реальное глагольное время по-
казано только в самом начале фрагмента: «князь же Андрей
б T, городъ ВолодимРрь силно у строи л ъ», далее — после-
довательность аористов в отмеченной уже функции «чистого
глагольного действия». В предшествующем этому отрывке тот
же временной «ключ»: «Создалъ же бяшеть собв го-
родъ каменъ, именемъ Боголюбый...», но с той разницей, что
фрагмент текста завершается необходимым в таких случаях
соотнесением с традиционным (высоким) прообразом: «подоб-
на тот. Святая Святыхъ, юже бЪ Соломонъ царь премудрый
создалъ». Впоследствии к этому прообразу мысль читателя не-
однократно возвращается, и надобность в заключительной
рамке отпадает. В пределах, ограниченных рамкой, повество-
вание ведется с использованием плюсквамперфекта, поскольку
и Соломон, и сам Андрей для летописца — деятели одинаково
давнего времени. Принцип выделения временных границ пове-
ствования в его отношении к реальному времени действия ва-
жен. Поэтому автор заключительной формулой как бы намеча-
ет. временные пределы повествования, а сами действия в даль-
нейшем не конкретизирует каждый раз специальной формой
плюсквамперфекта. То, что важно для текста в целом, оказы-
вается маловажным для набора традиционных синтагм, кото-
рые теперь уже не варьируются даже на уровне своих пере-
менных компонентов.
У Епифания нет эмпирически поданной последовательности
грамматических форм в зависимости от содержания текста.
231
Этот текст не складывается из группы традиционных формул,
он организуется заново как оригинальная комбинация слов.
Так, для Епифания характерно вполне откровенное соотнесе-
ние по функции «однозначных» грамматических форм: страда-
тельные причастия прошедшего времени соотносятся с возврат-
ными формами настоящего времени, а действительные прича-
стия — с формами аориста (за пределами приведенного от-
рывка). Одновременно в дело включается искусственное «при-
частодетие» — книжное отпричастное имя, так что в распоря-
жении писателя оказывается две «одинаковых формы» само-
стоятельного слова, например в нашем тексте исполни, испол-
нение, исполнена, также исполняется.
В тексте Епифания нет единого временного ключа для со-
отнесения времени действия с реальным временем. У него во-
обще нет реального времени, ибо традиционный текст у него
рассыпался, и старые формы исполняют не текстообразую-
щую, а стилистическую функцию. Зато последовательность
действия всегда подается посредством смены плана повество-
вания, как в данном отрывке: аорист сменяется рядом при-
частий и замыкается настоящим временем. Последователь-
ность знаменует переход от абстрагированного действия (выра-
жено аористом: украси, исполни и др.) к столь же абстракт-
ному результату этого действия (передано причастием: укра-
шено, исполнено и т. д.) и, наконец, к вытекающим из действия-
п результата последствиям, которые выражены формами на-
стоящего времени (съвершается, спасаются'), причем обяза-
тельно в виде новых слов, т. е. не так, как представлено это-
в «Повести».
Трехчастность построения не ограничивается сменой вре-
менного ряда. Троичности степеней повторяются и внутри со-
четаний. При этом троичность сочетаний множится троично-
стью более мелких, еще более «внутренних» сочетаний.
Каждая связка из трех членов объединяется общим смыс-
ловым знаменателем, ради чего и строится этот ряд. В нашем-
примерном переводе ключевого «понятия» по блокам текста
выстраивается такая последовательность: I — личное желание-
соорудить, II — и украсить, III — само создание и IV — похва-
ла созданному, V—за величайшие достоинства (преухороше-
на, преукрашена, предобрена — все три образования общего
типа с переходом в следующий ряд), VI — объяснение дивной-
этой красоты внешними обстоятельствами, VII — результат та-
кого деяния для церкви и VIII — для православных вообще.
В тексте 1175 г. последовательность операций творения по-
чти реально обозначена и неоднократно повторяется, потому
что внимание читателя переносится с одной церкви на другую,
что требует повторений в описании; тут же мы встречаем лишь
обобщенные родовые определения, хотя и созданные на основе-
конкретно-аналитических описаний сходных тем.
232
Важен порядок слов. Одна и та же часть речи в общем'
синтаксическом сочетании выражает разные степени устойчи-
вости признака; ср.: «преукрашена божиею славою» (препо-
зиция причастия) и «добродЪтелми предобрену» (постпозиция}
и «божественными славословии призмечтанну» (перестановка,
определения по отношению к первому члену) и т. д. Это созда-
ет ускользающий ритм, за строгой симметрией расположения,
скрывает разнообразие форм и слов в тексте, формально варьи-
руются равнозначные формулы; чуть снесены в сторону, слег-
ка сдвинуты те или иные формы синтагмы, чтобы в каждой-
новой последовательности можно было оттенить уже другой
член сочетания; ср. в перечисленном ряду: преукрашена — до-
бродЪтелми — божествеными — именно эти слова вынесены
вперед, эмфатически подчеркнуты маркированной частью син-
тагмы, ее началом. В результате в этом мерцающем, искусно со-
тканном словесном ряду дополнительно высвечивается еще одна,
тщательно «упакованная» смысловая единица текста, в созна-
нии возникает новая синтагма, формально не выделенная (этот
прием использовал и Кирилл Туровский, но в риторически
усложненном виде: Колесов, 1981а, с. 44—48).
Сложная риторическая конструкция, выражающая довольно*
простую мысль, опирается на совершенно ясную формулу, впо-
следствии выведенную самим Епифанием: «Но видЬти хотяще-
красоты и доброты и здания церковного» (Жит. Стеф., с. 30).
Реальное восприятие храма в средние века определяется тремя’
координатами: создать — украсить — наполнить; та же после-
довательность воспроизведения постройки свойственна всем-
подобным текстам, но каждый из них выражает эту реальность-
по-разному. Для ориентировки читателя Епифаний разбрасы-
вает в разных местах «Жития Стефана» намекающие слова и*
обороты, непроизвольно возвращающие внимание к основной
теме: «Создати божию святую церковь краснотворну и добро-
лъпну» (с. 24) и т. д., чередованием грамматических форм он-
настойчиво возвращает читателя к той же теме: украси, укра-
шением, преукрашену, красну, краснотворну и др.
Каждая составляющая операции дробится Епифанием на
аналитически выявленные части и предстает как эмоциональ-
ная последовательность; постройка здания совершается на гла-
зах читателя, но не она важна. Описание скрывает за собой не-
что возвышенное, неземное, что на самом деле и понимается'
как единственно достойная внимания реальность. Начало по-
вествования насыщено признаками «личного желания (поже-
лания)», именно оно затем истолковывается как «вера — со-
весть— желание», связанные с божеством, которое и направ-
ляет личное желание. Употребление того или иного глагола уже-
не определяется характером традиционной формулы, привыч-
ные синтагмы рассыпались на составляющие их слова, и ав-
тор, создавая новый текст, волен подбирать их в любой после-
233-
довательности. Так, последовательность глаголов възгради —
въздвиже — създа не определяется соединяющим их именем,
их вполне можно было бы поменять местами, если бы при
этом не возникало конструктивной необходимости выстроить
конкретный ряд усиления или понижения степеней признака.
По мере понижения степеней близости к божеству (не зодчему,
но создателю — истинному творцу) понижается и градация со-
провождающих глаголы ф<?рм, изменяется принцип символиче-
ского воплощения словом «прообраза», «чертежа творетия».
Чем ближе к началу триады, тем выше степень признака, чем
ближе к ее концу — тем конкретнее и реальнее (реалистичнее)
действие или признак, описанный в данном ряду повторений.
Отраженным светом выражает последний компонент идею ис-
ходного члена триады, но только уже прошедшего через разъ-
единяющий их средний компонент.
В отличие от «Повести», Епифаний намеренно убирает все
слова, в которых могли быть чередования полногласных форм
с неполногласными. Можно сказать, что в тексте 9 неполно-
гласных и 2 полногласные формы: възгради и 8 раз пристав-
ка пре- у глаголов, с другой стороны — хорошу и преухорошена.
Однако приставка в таком значении — старая калька с грече-
ского, а славянизм възгради иначе и не употребляется: выбор
слова определяет уже характер словоформы. Употребление лек-
сического русизма, в свою очередь, тоже хорошо определяет ха-
рактер словоформы — с исконным восходящим ударением, что
всегда создает полногласную морфему. В других контекстах из
сочинений Епифания мы увидим то же самое: как бы намерен-
ное уклонение от подобных форм, но там, где они употреблены,
их распределение полностью объясняется авторским выбором
слова. По-видимому, в начале XV в. стилистическое и семантиче-
ское перераспределение полногласных/неполногласных форм за-
вершилось, и использование их в любом тексте подчинялось
строго лексическим, а не фонетическим закономерностям.
Принцип авторского отбора слов наглядно виден на приме-
ре глаголов. В отличие от «Повести», Епифаний ни один из
глаголов не повторяет дважды, синонимический ряд всегда по-
добран с вниманием к общему смыслу описания (в I фрагмен-
те: възгради — въздвиже — създа-, во II: украси — исполни и
свяща; в III: сотвори — устрой — изнаряди-, в IV: утворена (по-
сле опущенного в цитируемом отрывке «Жития», о чем ниже),
но в V: преухорошена — преукрашена — предобрена-, в VI:
преизмечтанну— преупещрену — преодЪну, в VII: являются—
стваряется — съвершается\ в VIII: спасаются — бывает — омы-
ваются — оцЪщаются и т. д.). Определяющие каждый глагол
слова подчеркивают и единство триад, и переход от одного ря-
да к другому.
Переход особенно заметен на пропущенном месте — цитате
из Псалтыри: «юже изнаряди чюдну въ правду и диену.
234
Дивна бо воистину есть, емуж и Давидъ послушествуетъ,
глаголя: „Ста церкви твоя и дивна въ правду”. Дивна же
многыхъ ради похвалъ». Епифаний «вплетает» цитату, поль-
зуясь словесным окружением и повторяя нужные слова (див-
ну... дивна»), но в обязательном обрамлении соседних слов,
которые зеркально преломляются и синтаксически и в смысло-
вом отношении: «въ правду и дивну. Дивна бо воистину есть»,
но конец цитатной части дан иначе: «дивна въ правду. Дивна
же». Изменяется все, вплоть до частиц (бо — же), но скрепы
вставки, сделанной самим автором, всегда видны.
Иначе в тех местах, где можно предполагать правку текста
кем-либо другим и неорганичные для автора вставки. Подозри-
тельно 'такое распространение: «и теплотою преизлишняя люб-
ви», это — нехарактерные для Епифания слова, которые лишь
уточняют уже сказанное о вере. Несомненна глосса и в тексте
«свяща по свершении исполнении священиемъ великимъ».
В рассматриваемом фрагменте въ правду сначала относится к
слову чюдну, в конце — к слову дивна. Перекличка смысловых
мотивов образуется и введением традиционного воистину при
переходе к цитате, это как бы отзвук-эхо для постоянно упот-
ребляемого «русского» сочетания въ правду. В высокой цита-
те употреблено только слово дивна-, в обычном, авторском, тек-
сте — характерная для Епифания пара, входящая в общий ряд:
чюдну и дивну (как высоку и хорошу, красну и добру и т.п.).
Некоторые бинарные сочетания, обычные в языке того вре-
мени, оказываются разнесенными по разным местам текста,
создавая дополнительный «эффект эха», но всегда осознаются
(может быть и неявным образом), поскольку чередованием
корней постоянно поддерживается впечатление близости таких
пар, как красота — лЬпота, любовь — совесть, добро — благо
или добро — хорошо, правда — истина, хитрости — козни, умы-
сел— догад и др. Образуется некий фон, на котором автор пле-
тет свои ряды, — фон, легко осознаваемый благодаря обычности
и известности подобных парных формул. Это отражение реаль-
ной речи в новом, непривычном ее проявлении, субстрат, бла-
годаря которому становится ясной и сложная мозаика автор-
ских формул.
Вернемся к последовательному ряду глаголов. Три ряда
аористов неодинаковы не только по смыслу общего высказыва-
ния, но и по своему стилистическому рангу. В I фрагменте
употребляются глаголы «высокого» стиля (обратим внимание,
что они с приставками съ- и въз-); они одинаково противопо-
ставлены всем последующим глаголам в аористе, которые от-
носятся к «нейтральному» стилю, являются общими для книж-
ной и разговорной форм языка (обратим внимание и здесь на
употребление приставок из-, ис-). В ряду с причастиями по-
вторяется сообщение, в котором употребляются аористные фор-
мы, причем цитата из Псалтыри «и утворена» соответствует
235
фрагменту I, а IV и V фрагменты соотносятся с глаголами II
и III фрагментов; общим, отличающим эти причастия от утво-
рена, является приставка пре- (все три причастия формально
составляют общую триаду). Длинный ряд (он не завершен) из
глаголов в форме настоящего времени переводит описание в но-
вый план, хотя и эта часть изложения является ближайшим
следствием описанного выше. Еще одна подробность: форм-
възгради, въздвиже, исполни, изнаряди нет в «Повести», но*
именно они являются книжными; форм удиви, доспЪ, учини нет
у Епифания, но именно они характерны для разговорной речи,,
хотя возможны и в литературном тексте. С точки зрения тра-
диционного мнения о литературности языка, у Епифания пред-
ставлен более литературный текст; однако, учитывая общую*
историческую перспективу сложения нормы, мы должны за-
дать вопрос, а не творчеству ли писателей XV в. мы и обязаны
сложением подобных норм?
Сравнивая оба текста, находим множество расхождений &
их организации. В «Повести» описываются конкретные пост-
ройки, которые сам автор видел (если не участвовал в их
создании, как предполагают некоторые историки), он говорит
вполне определенно, например «створи церковь сию въ память
собъ». Епифаний же безлично описывает «ту» церковь: она на-
ходится далеко, он ее не видел и вообще не желает описывать
что-либо конкретное. Говоря о церкви, он одновременно упоми-
нает и крещение перми (это тоже «церковь»), и церковную
организацию («Церковь»), и т. д. Многоплановость его описа-
ния не требует деталей, поэтому, в отличие от автора «Пове-
сти», он не конкретизирует описание «изовну» или «изъдну. ..
отъ верха и до долу», изнутри. Епифаний видит церковь как
цельность, и притом в отвлеченно-общем виде. Отсюда и
последовательная отстраненность от деталей описания, даже
обобщенных; ср. в «Повести»: «добродътелью церковною ис-
полнена» — Епифаний говорит иначе: «исполни исполнениемь
церковнымъ» {исполни — наполни), «изьмечтана» под его пе-
ром превращается в «преизмечтанна», «всею хытростью» он
заменяет сочетанием «человечьскыми хытростми», уточняя ха-
рактер строительного мастерства — человек строил, а не бог
создал (вспомним глаголы: възгради — въздвиже — създа, ко-
торые употребляются не только по отношению к человеку, но и
по отношению к богу).
Сравнение показывает, какими признаками гиперболизации
пользуется Епифаний, а каких избегает. Употребление опреде-
лений многий и всякий свойственно обоим текстам. Епифания
они устраивают благодаря своей отвлеченности и неопределен-
ности. Все конкретные определители сверхпредельности Епифа-
нию кажутся излишними. Уточняющие слова все (весь), вели-
кий, велми, силно, различные, изрядные и др. он не употребля-
ет, поскольку все нужные для передачи соответствующего смы-
236
ела элементы он пытается выразить с помощью отдельного сло-
ва, используя, в частности, префикс пре- и взаимно уточняющие
слова. Можно сказать, что, рассеяв прежде единые синтагмы
по тексту, Епифаний одновременно озабочен перенесением кон-
нотативных оттенков слова-образа из сочетания в автономное
слово. Его текст не мозаика из привычных сочетаний, а тща-
тельно подобранные самостоятельно выступающие лексемы, во-
бравшие в себя как бы отраженный свет семантики соседних
слов. Текст сжимается за счет опущения хорошо известных
традиционных обобщающе-уточняющих слов типа указанных
выше.
Важным средством семантической компрессии является и
сложное слово, которое становится многозначным, поскольку
;у Епифания оно соответствует нескольким равнозначным соче-
таниям или включает в свое значение семантику нескольких
слов. Великолепный, например, — прилагательное, которое за-
меняет целую синтагму типа «жемчюгомъ великымъ безцЬнь-
нымъ» или «велика красота» и др. Сложные слова есть в обо-
их текстах, но принцип их создания изменился именно благо-
даря семантической компрессии нового образования. Характер-
но, что Епифаний никогда без нужды не употребляет устарев-
шие вспомогательные слова типа зоне и т. п.; фоновая лексика
у него по возможности нейтральна, и это позволяет особенно
выпукло представить архаическую форму ключевых слов
текста.
Ритм создается повторением строевых слов, но выбор их
также характерен. Повторение юже (9 раз) и в ней же (7 раз)
многозначно, а оттого и дорого автору. С одной стороны, это
указательные местоимения, которые постоянно соотносят опи-
сание с заданным в начале «той»; с другой стороны, это и лич-
ные местоимения, посредством которых автор ограничивает
пределы своего описания одним и тем же объектом. Есть и
третья сторона предпочтения слов: склоняемая форма помога-
ет повествованию разграничить объект (ю) и пространство (на
ней), т. е. сначала показать результат «построения храма»,
а затем и следствие этого действия (что сопровождается так-
же и сменой глагольных форм). Синтаксическое единство со-
здается формальным единством однородных членов, но повто-
рение строевого слова позволяет удержать в сознании такое
единство. В приведенном тексте как бы образуется синтакси-
ческая доминанта: сначала изложение ведется в форме вини-
тельного падежа, затем (результат) — именительного падежа и
завершается (следствие) формой местного падежа. Смена син-
таксических планов обеспечивает перенесение внимания с объ-
екта на субъект, а затем на место действия. Подобные тонко-
сти текста также незаметны при чтении, но они настойчиво
внедряются в сознание и оказывают свое воздействие на его
восприятие.
237
Таким образом, в XI в. Иларион и Феодосий толкуют тра-
диционный (обычно один) текст, пытаясь донести до читателя
(вернее, слушателя) его смысл. В XII в. Кирилл решается
уже на композиционные перестройки, привлекая для сравнения
разные тексты, хотя и общего содержания. В XIII в. Яков (или
Серапион Владимирский — см.: Богерт, 1984) с помощью до-
вольно пестрого набора самых разнородных формул, одинако-
во традиционных, но из разных текстов, пытается создать соб-
ственный текст, сознавая еще единство темы как важную тек-
стообразующую доминанту. Епифаний от всех них отличается
сознательным стремлением к самостоятельному слову, которое
путем последовательного дробления исходных текстов-образ-
цов, наконец, было выявлено в результате «разлома синтагм»
и семантической самостоятельности лексемы; отсюда у него
и многозначность слова, и игра словами. Текст до Епифания
строился по простой схеме: зачин-тема, в роли которого высту-
пала хорошо известная синтагма, становился своего рода аргу-
ментом, который затем в повторениях развивался в результа-
те использования равнозначных формул. Источником такого
зачина определялся и жанр: в посланиях и словах обычно
псалтырный, в житиях — евангельский и т. д. Принцип, следо-
вательно, тот же, что и в служебном пении: по заданному ир-
мосу сочленяют последующие тропари. В содержательном смы-
сле стиль «плетения словес» существовал всегда, но формально
отточенным он стал лишь после того, как отдельное слово
стало автономно использоваться в подобных вариациях на за-
данную тему. Совершил это преобразование Епифаний.
Св. Матхаузерова (1976а) показала различие между древне-
русской и новой в середине XVII в. теориями текста — на при-
мере Аввакума и Симеона Полоцкого. Какое место занимает в
этом процессе Епифаний?
Общая концепция текста — субстанциональная (текст — от-
кровение, его правка невозможна) или релятивистская (крити-
ческая: смысл текста углубляется в соответствии с развитием:
сознания) — для Епифания еще целиком традиционна. Истин-
ность текста он проверяет постоянным повторением общего мо-
тива без обращения к возможному «антитексту», но он же про-
кламирует и творческое отношение к тексту, который можно
видоизменять по форме.
Типы перевода цитат-аргументов — абсолютный перевод по
смыслу или перевод-компенсация (не дословно, а с помощью
славянского эквивалента) — для Епифания уже равноценны,
но форму он все же предпочитает смыслу, поскольку смысл
(если это вообще возможно) передается путем повторения
форм (Китч, 1976, с. 111 —130).
В толковании традиционного текста — истолкование симво-
ла или притча — Епифаний ближе ко второму, что свидетель-
238
ствует о развитии лингвистических средств поэтики в славян-
ском языке.
В оформлении текста — символ или метафора, раздвоение
времени (вечное и земное) или единое «цивилизованное вре-
мя», статическое пространство или иерархия степеней в стрем-
лении к идеалу — Епифаний всюду предпочитает вторую аль-
тернативу, и мы видели это при разборе примеров.
Эстетические категории, и прежде всего категория пре-
красного — идеальная красота, чувствами не постигаемая, или
красота как гармония, соотношение, — понимаются Епифанием
традиционно. Красота для него идеальна и в реальности невоз-
можна, возможно только приближение к ней.
Следовательно, решительно изменяя язык и стиль своих
произведений, разрабатывая форму, в отношении содержания
Епифаний был хранителем средневековых традиций. Подготов-
ляя литературный язык к решительному изменению в будущем,
он остается в прошлом.
Глава 7
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ТЕКСТООБРАЗУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ
Изучение основных текстообразующих элементов начнем
с рассмотрения конкретного примера. Из паремийного «Чтения
о Борисе и Глебе», составленного в XI в., возьмем классически
ясный по древности формул текст:
Слышавъ Ярославъ, яко отьць ему умрЬ, а Святопълкъ седЬ КыевЪ, из-
бивая братию свою: уже бо бъ Бориса убилъ, а на Г.тЬба послалъ, — и пе-
чаленъ бысть велми о отьци и о брате. Уби бо Бориса на ЛтЬ, а ГлЪба на
ДънЪпри, обь сю страну Смольньска. Съжаливъ же си велми и съзва ново-
горъдци и рече имъ: «Отець мои умьрлъ [есть], а Святопълкъ сЪдить КневЪ,
избивая братию свою» — бь бо и самъ {в]о тъ чинъ рагозьнъ с новогородь-
ци, и не хотяху[ть] ему помогати на Святопълка (ПЛДР, вып. 2, 1980,
с. 116—117).
Время и пространство в описании недифференцированны,
время представлено как пространство, а пространство — в дви-
жении героев. Время грамматично и обнаруживается в под-
тексте, пространство лексично и представлено в изложении дей-
ствий. В результате общая семантика текста показывает слож-
ное переплетение пространства, времени и движения. Это
может быть и поэтическая заданность текста, описывающего
событие якобы вневременного характера: Каин и Авель, Свято-
полк и Борис, Святополк и Ярослав — одинаково символиче-
ские фигуры. Важен ритм повествования, который перебивает-
ся сопоставлением с библейскими «прообразами» героев. Рит-
мика выражается и в структуре фразы (повтор, инверсия), в
239
длине слов и формул, постоянно чередующихся, в расположении
-собственных имен, в их символическом осмыслении. Важно,
какие именно определения использованы в тексте, какие груп-
пы глаголов способны принимать форму причастий, какими
словами включаются в текст реплики героев и т. д.
В последовательности аористных форм проявляется сюжет-
ное движение повести, таково повествовательное время текста.
Время здесь вообще синкретично по существу. Глагольные
формы одновременно обозначают и объективное время, связан-
ное с действиями разных лиц, и последовательность времен в
их взаимном отношении, и внутреннюю длительность каждого
действия. Впоследствии в русском языке подобная многоаспект-
ность древнерусского глагола была дифференцирована в фор-
мах вида, времени, способа действия, в формах деепричастий и
разных причастных оборотов. Важнейшим текстообразующим
элементом приведенного отрывка текста является система гла-
гольных форм. Вглядимся в нее внимательно.
Последовательность аористов создает повествовательный
ритм, в изложении — это вехи, привязывающие рассказ к ре-
альности определенного времени (было). Соотношение «слы-
шавъ — умрЪ» объединяется одинаковым указанием на про-
.шедшее время — здесь разные субъекты действия; наоборот
«сЬде — избивая» — один и тот же субъект действия (Свято-
полк), поэтому форма причастия не маркирована по времени
(одновременность действия). Формы аориста умрЪ и перфекта
умьрлъ есть обозначают одно и то же действие в границах од-
ной и той же синтагмы, но переменные элементы синтагм по-
разному привязывают их к тексту. В первом случае описыва-
ется исходное для всех последующих событий действие, во вто-
ром— действие после аориста в прямой речи, вместе с тем оно
предшествует действиям другого героя (о Святополке сказано:
.cide). Таково сложное соотношение между глагольными вре-
менами не только в их последовательности, но и в их привязке
к описываемым событиям. «Уже бЬ. . . убилъ» — «послалъ —
уби» — в обоих случаях для глагола убити объект действия
общий, но соотношение самих действий в системе описания
различно. В первом случае зависимость от аориста сЪде — из-
бивая при том же самом субъекте (Святополк); это предшест-
вующее событиям действие является результатом, и форма
плюсквамперфекта необходима, поскольку здесь не нужно спе-
циально обозначать результат действия, как в перфекте
умьрлъ есть. Во втором случае перед нами разные субъекты:
печаленъ бысть — о Ярославе, но уби — о Святополке, о кото-
ром Ярослав печалится; в водоворот же событий включается
также Глеб, по отношению к которому в предыдущем отрывке
сказано, что Святополк «на ГлЪба послалъ». Действия равно-
ценны не с точки зрения последовательности времен, а с точки
зрения их отношения к действительности. Когда нет внутрен-
240
ней их соотнесенности, по отношению к прошедшему действию
универсальным оказывается аорист; это чистая глагольная ос-
нова без выражения времени, лица или числа.
Бъ и хотяхуть — имперфекты, обе формы русские, в свою
очередь связанные с аористами созва и рече. Они обозначают
длительное действие в прошлом, следовательно,-—настоящее
время в длительности прошлого, обозначенного этими аориста-
ми. Видна их двойственность: согласно смыслу нужно было бы
употребить формы настоящего времени (как это и сделано в
случае с причастием), но это невозможно по формальным пра-
вилам последовательности времен: после аориста для переда-
чи длительности в прошлом используются обычно формы им-
перфекта; поэтому и субъекты действия передаются неопреде-
ленно.
Изменяется иерархия смысловых зависимостей глагольных
форм и усиливается символическое наполнение каждого сле-
дующего повторения формулы (не все они представлены в ци-
тируемом отрывке). Форм будущего времени нет, как и вообще
их нет ни здесь, ни в древнерусских текстах. Настоящее время
также обычно лишь для прямой речи, как и перфект — тоже
своего рода «настоящее время» повествования, «настоящее от-
носительное». Важно заметить, что формы глагола в ориги-
нальном древнерусском тексте занимают около четверти всех
словесных форм.
Какого бы происхождения формулы-клише ни включались
в текст, все они объединяются системой глагольных форм,
свойственных языку, и исходят из этого языка. Синтаксическая
перспектива высказывания организуется с помощью иерархии
морфологических форм и пока не имеет других формальных
единиц, согласующих порядок следования синтагм. Перемен-
ная единица синтагмы, глагол, своими вариациями никак не
обязана книжной традиции, хотя бы потому, что наиболее ти-
пичной для этой традиции является формула с аористом или
презенсом (иногда — с инфинитивом), т. е. с формами «абсо-
лютных» времен. Функциональная же иерархия глагольных
форм усложняется относительными временами (имперфект, за-
тем перфектные формы, описательные формы модально-буду-
щего) и причастиями.
Функциональная система древнерусских глагольных форм
изучена плохо, в литературе вопроса много взаимоисключаю-
щих точек зрения, большинство исследователей исходят из из-
менения форм и не придают значения ни стилистической, ни
функциональной содержательности этих форм (ср. интересные
наблюдения в работах: Припадчев, 1986; Тарланов, 1985).
Раньше всего изменялись вторичные относительные време-
на, т. е. имперфект и плюсквамперфект. В конце XII в. они уже
не подчинялись закономерностям употребления относительных
времен: не имели соответствий с абсолютными, свободно упо-
16 Колесов В. В.
241
треблялись в независимом положении, варьировались по форме:-
(иапример, плюсквамперфект мог употребляться со вспомога-
тельными бЪ, бяше, бяшеть, былъ, иногда независимо от фор-
мы лица и числа). Однако эти две формы по-прежнему четко-
противопоставлены друг Другу по виду: имперфект всегда им-
перфективен, и плюсквамперфект перфективен. По той же при-
чине развивается противопоставление имперфекта как несовер-
шенного вида аористу как совершенному виду. Функциональная
многозначность имперфекта еще. поддерживает его существова-
ние в текстах, особенно в значении итератива, но ясно, что его<
противоположность всем другим формам грамматического вре-
мени уже разрушена.
В «Повести об убиении Андрея Боголюбского» плюсквам-
перфект использован неоднократно в начале описаний как аб-
солютное время. Большинство текстов, составленных на рубеже-
XII—XIII вв., показывают, что намечалось противопоставление-
имперфекта, плюсквамперфекта и перфекта по виду: длитель-
ное — законченное действие в прошлом. Никогда до того и ни-
когда после XIII в. формы плюсквамперфекта не использова-
лись столь часто. Перфект во многом дублирует формы плюс-
квамперфекта, обычно в форме 2-го лица — при обращении к:
адресату. Важно, что с аористом согласуются теперь и формы
причастия прошедшего времени, а с имперфектом и перфек-
тами— причастия настоящего времени. Из этого следует, что-
все формы прошедшего времени, кроме аориста, в сущности,,
связаны с планом «настоящего», и в литературных текстах они’
исполняют функции Praesens historicum.
В «Сказании о Мамаевом побоище» уже-нет преобладания
аориста как единственного повествовательного времени, наряду
с ним функционально важен и презенс. В функции Praesens^
historicum перфектные формы вытеснены презенсом, но выбор-
глагольной формы времени не зависит от выражения реального
времени. Каждый очередной фрагмент повествования в каче-
стве ключевой имеет форму аориста (намекающее указание на
действие в прошлом), за которой следует ряд презенсов в том'
же значении единично прошедшего времени. Только в молит-
вословиях и вообще в торжественных частях «Сказания»-
аорист сохраняется от начала до конца и не разбавляется'
презенсом, это верный знак того, что употребление презенса в-,
данной функции, в общем, не свойственно книжной традиции,
а идет из народной речи. На 550 форм аориста только несколь-
ко форм 1-го лица, только две 2-го лица, большинство же — это
формы 3-го лица. Аорист используется как повествовательное-
прошедшее и выступает с неполной парадигмой.
Имперфект также является формой с неполной парадигмой,
но его не используют ни в 1-м, ни во 2-м лице. Полную пара-
дигму из всех прошедших времен имеет только перфект (плюс-
квамперфект употреблен один раз в самом конце «Сказания»)..
242
В 3-м лице обоих чисел 43 раза встретился перфект (без связ-
ки), в 1-м и 2-м лице — обязательно со связкой (14 раз).
Выбор и вероятность употребления глагольной формы опре-
деляется не жанром памятника, поскольку в XVв. формульность
текста рассыпалась, но и не стилем, потому что стиль только
образуется в столкновении иерархически и генетически разных,
но семантически равнозначных форм. Выбор глагольной формы
определяется теперь конкретным коммуникативным заданием в
границах отдельного текста; постоянно изменяются, чередуясь
в тексте, и типы предложений, и способы описания глагольного
действия. Распространение перфекта именно в форме 2-го лица
связано с тем, что в процессе общения, говоря собеседнику
о прошедшем действии, всегда имели в виду сохранение резуль-
татов прошедшего действия в момент речи; напротив, в 3-м ли-
це связка фактически не нужна, поскольку объект высказывания
в разговоре участия не принимает и, следовательно, ие связан ни
с моментом речи, ни с результатом прошедших действий. Отсут-
ствие логической связи между прошедшим и настоящим делает
эту форму нерелевантной в отношении к многим глагольным
признакам, и сохранение безразличной к ним формы аориста
вполне оправдано для 3-го лица. Жанр определяет коммуника-
тивную целесообразность глагольной формы. В грамотах и за-
конодательных текстах употребление форм 2-го лица достигает
высокой степени частотности, почти равной частотности других
форм парадигмы (Колесов, 1986а); в поучениях и хождениях
преобладает форма 1-го лица, в повествовательных жанрах
предпочитается форма 3-го лица. Материальным воплощением
каждой из этих форм становится определенный жанр средневе-
ковой письменности: деловой типизирует форму перфекта, по-
вествовательный— аориста или имперфекта, жаир поучения —
аориста или презенса.
Интересно, что и первые осознанные парадигмы спряжения
представлены как сборные по составу форм. В «Грамматике»
Мелетия Смотрицкого 1619 г. в качестве образца дана реально
сложившаяся в книжной практике XV—XVI вв. схема: «прешед-
шее» время в единственном числе состоит из форм читахъ, чи-
талъ и читаше, а «преходящее» время — из форм челъ есмь.
челъ ecu и челъ есть. В одном случае исторические формы
аориста, перфекта и имперфекта распределены по лицам, в дру-
гом же полная парадигма состоит из перфектных форм, но обя-
зательно со связкой, чтобы указать отношение к лицу. В этом
распределении находим и другое важное следствие произошед-
ших изменений: парадигма глаголов несовершенного вида вы-
несена из разговорной речи, парадигма совершенного вида
представляет собой сборный стандарт книжного происхождения,
но обе они — условно «русская» и условно «церковнославян-
ская» парадигмы; они неорганичны и не восходят ни к какой
реальной «системе языка», а опираются на традиции жанров.
16*
243
Распределение форм «обобщенно прошедшего времени» пред-
ставляет взгляд со стороны книжника, а не со стороны объекта
или адресата и возникает в результате сближения жанров и
разрушения исходных формул, включавших в себя разнородные
формы глагола. Грамматист не видит еще реальной системы
языка и результаты абстрагирующей работы мысли конструиру-
ет на основе традиционных текстов. В этом, между прочим, и
ответ на некоторые сомнения Ф. П. Филина (1981, с. 116) от-
носительно невозможности аористных форм в русском литера-
турном языке XVI—XVII вв. Такие формы, безусловно, были,
но как реликтовые остатки древнейших текстовых формул; они
сохранились и в составе древних пословиц, однако опять-таки
как формы в составе застывшего оборота. Система языка — не
то же самое, что литературный язык, который всегда отстает от
развития живого языка.
Развитие форм глагольного времени, которое на основании
письменных источников мы приписываем живому русскому язы-
ку, на самом деле определялось историей жанров древнерусской
литературы, изменением восприятия объективного времени и
развитием синтаксической перспективы предложения под давле-
нием заимствованных синтаксических конструкций. Впервые это
заметил Л. П. Якубинский (1953, с. 229—268), показав, что ис-
ходная синкретичность форм глагольного времени по мере раз-
вития синтаксической перспективы дифференцирует множество
новых специальных форм, прежде всего в связи с категориями
вида, залога и определенности. Морфологические формы выра-
жения этих категорий знаменуют собой преобразование всей
последовательности исходных синтагм, которые теперь не при-
кладываются друг к другу формально с помощью в них же
содержащихся переменных компонентов, а связываются содер-
жательно в результате использования специальных формальных
средств — союзов. Отсюда крайнее утверждение Л. П. Якубин-
ского: аорист и имперфект исчезают в русском языке уже в
XI в. Последовательность категориального разрушения тех или
иных форм определялась и системой языка, т. е. прежде всего
преобразованием категорий залога, вида и т. д. — парадигма-
тически, не только в тексте. Аорист сохранялся довольно долго
как действующая категория системы, как «точка отсчета» для
всех других категорий благодаря близости к чистой глаголь-
ной основе и своей семантической четкости (т. е. однозначно-
сти и грамматической немаркированности ни по виду, ни по
времени).
История жанров поддерживала сохранение аориста и им-
перфекта и в стилистических целях, а восприятие времени как
объективной категории зависело от распределения традицион-
ных жанров. Эпические жанры обслуживались перфектными
временами в противопоставление простым претеритам, свойст-
венным деловой речи. Мифологическое мышление вообще
244
нуждается в грамматических формах для выражения спокой-
ного, созерцательного и объективного изложения событий, к ко-
торому не примешивается личное отношение в авторских от-
ступлениях. Эти формы материально обеспечивали старую ли-
тературу — их отмена есть изменение принципа мышления и
способа повествования.
Эта проблема хорошо изучена (Лихачев, 1967; Матхаузе-
рова, 1976). Общий смысл исследований заключается в опреде-
лении смещений восприятия реального времени: замкнутость
сюжетного времени сменяется открытой его перспективой либо
из прошлого в будущее через настоящее, либо (в XVII в.) из
настоящего в прошлое. В древнерусских текстах смешение
форм времени не допускалось даже для поучений. Когда утра-
тилась текстообразующая функция глагольных времен, первое,
что произошло, — это смешение форм аориста и презенса, хотя
на протяжении всего средневековья «авторское начало мешает
исполнительскому художественному времени» (Лихачев, 1967,
с. 285). Развитие жанров создало временную перспективу вы-
сказывания, на это и была направлена творческая сила значи-
тельных писателей средневековья. Отражая в художественных
текстах изменившиеся представления о времени и личности,
классики литературы одновременно готовили важные преобра-
зования литературного языка. Развитие синтаксической пер-
спективы высказывания и есть процесс разрушения традицион-
ных синтагм (формул).
Еще в XVII в. проблема решалась механистически. «Чере-
дование грамматических времен изредка встречается в одной
и той же фразе, где они показывают внезапную смену точек
зрения. Например, у протопопа Аввакума: «Он меня лает, а я
ему рекл: „Благодать в устнех твоих, Иван Родионович, да
будет!”» (Успенский, 1970, с. 97). На то, что кроме временных
форм тут важны еще и видовые противопоставления основ,
указывает и сам Б. А. Успенский, но этим не ограничивается
смысл максимального смыслового и стилевого контраста в тек-
сте Аввакума. Разная степень архаичности глаголов и их форм,
различие в стилистических характеристиках, семантике, окру-
жении и т. д. определяют смысл контраста, а различие времен-
ных форм является еще остатком средневекового принципа
сопряжения разнородных синтагм (каждая из них в «своем
времени»). Синкретизм всех этих средств выражения контраста
определяется как раз неумением или нежеланием автора пере-
рабатывать синтагмы в угоду цельности текста. Текстологиче-
ское изучение списков «Жития» показывает, что сам Аввакум
пытался преодолеть формальный «атомизм» средневекового
текста, в частности, переработал и данный фрагмент: «а я ему
говорю» (Колесов, 1975, с. 215).
Средством переключения синтагм 'в процессе создания тек-
245
ста стали и некоторые группы глаголов, прежде всего — гла-
голы говорения, которые вводили прямую речь в цитаты, увя-
зывая диалогические формы и вызывая вариации переменных
компонентов синтагм (например, повелительных форм глагола
или звательных форм имени). Сравнение памятников XI в.
(Колесов, 1976) с памятниками XV (Колесов, 1979) и особен-
но XVII в. (Колесов, 1974) показывает постепенную дифферен-
циацию глаголов типа речи, глаголати, сказати, говорити, мол-
вити и т. п. сначала в грамматическом, затем в семантическом
и после всего в стилистическом отношении. Греческая включаю-
щая словоформа , например, переводилась сначала аори-
стом рече (или глагола) и только много позже в соответствии
с греческим — презенсом говорит (сказывает). Если бы мы
захотели связать эту простейшую модель литературного текста
с историческим прецедентом, чтобы через него объяснить суть
древнерусского литературного языка, пришлось бы сказать, что
к греческому эквиваленту восходит не книжно-литературная
форма рече, а народно-разговорная говорит, что неверно. Соот-
ношение форм определялось степенью развития грамматиче-
ской системы языка и лексическим наполнением глагольных
форм. В данном случае: замена архаизма рече русской фор-
мой говорит осуществляется параллельно с изменением немар-
кированных форм времени, от безличного в составе формулы
аориста как чисто глагольной основы к презенсу как выраже-
нию момента речи. Изменялись и содержательный смысл кате-
гории в отношении к действительности, и значение отдельной
словоформы в составе формулы.
Интенсивность включения глагола в новую смысловую
структуру предложения вообще определялась принадлежно-
стью глагола к определенной лексико-семантической группе.
Мы уже отметили различие в выборе глаголов в текстах «По-
вести» и Епифания. По направлению к XV в. становится разно-
образнее лексический состав глаголов, которые могут в дан-
ном тексте служить развитию темы, заданной исходной гла-
гольной формой. Предпочтение формы аориста или имперфекта
также определялось семантикой слова, и это заметно уже с
XI в., даже в традиционных (конфессиональных) текстах (Ко-
лесов, 1976). Сравнивая описание боя в «Сказании о Борисе
и Глебе» и в «Сказании о Мамаевом побоище», замечаем ту
же особенность семантического усиления формул, создающих
текст (Колесов, 1979, с. 34—44). Выбор синонима определяется
и установкой автора (по отношению к Мамаю употребляются
достоите и довлеете, по отношению к Дмитрию — подобаете и
т. д.) и стилистическими предпочтениями в описании (грядет,
идет, бредет в зависимости от характера движения). Этот прин-
цип выдержан достаточно строго, поэтому можно определен-
но говорить, что к XV в. формальное варьирование глаголов
в границах синтагм сменилось уже чисто смысловым различи-
246
»ем самих глагольных форм, глагольная форма не является
уже единственным текстообразующим средством.
Включенными в состав синтагм и организующими их по-
следовательный ряд, т. е. текст, являются также частицы,
особенно усилительно-выделительные. Например, идеологиче-
ски важная частица бо, поскольку она полнее других частиц
выражает средневековый принцип подобия, является знаком
символического включения и характеризуется исходным син-
кретизмом значения. 'Семантический синкретизм частиц, их
«полифункциональность» (Шкляр, 1977, с. 14; ср.: Ларин.
1975, с. 44—45, 143—144) показывают, что дело вовсе не в их
значении, а в текстообразующей функции их следования одной
по отношению к другой. Когда после XIV в. потребовалась
специализация значений, эти частицы в силу плеонастического
удвоения стали распространяться до союзных слов и союзов,
'изменяя принцип организации текста, но сохраняясь как текс-
лообразующие элементы (ср.: и-же, и-бо, и-ли, у-бо и т. д., а
•затем е-же-ли, ать-е-ли (аще ли), не-же-ли и т. д.). Расши-
рение синтаксических форм происходило параллельно с рас-
ширением синтагм и текста вообще. Новые степени отвлечен-
ности в семантике форм организуются с помощью удвоения
самих форм; это верно не только при образовании строевых
элементов текста, но и для морфологии (сложные формы вре-
мени), лексики (радость и веселье ‘праздник*, стыд и срам
^совесть’) .или словообразования (соединение суффиксов
-ьств- и ь]- образует новый суффикс -стви](е) и т. п.; см.: Ни-
колаев, 1987, с. 114 сл.).
Семантически синкретизм пространственно-целе-причинно-
• временных союзов Л. П. Якубинский показал на примере раз-
вития союзных слов из исходного предлога (1953, с. 256 сл.);
ср..- за, затем, за-не, еще позже занеже с распределением их
'функций (еще за-то, за-и и др.), аналогичны изменения пред-
логов от и по. При этом возникает нежелательная многознач-
ность, пока что фиксированная в конкретных сочетаниях слов,
которые совместно образуют своего рода «парадигму»: за не-
же (винительный падеж), по неже (дательный), от нелиже
(родительный) и т. д. Понятие причины возникает из понятия
сходства, а «сходство как бы поглощало различия» (с. 258).
Ориентирование сознания на сходства и подобия являлось ос-
новной причиной длительного сохранения исходного синкретиз-
ма формальных средств языка и задерживало развитие тексто-
образующих форм вопреки давлению чужой культуры.
Первоначально безразличие к семантике формулы подчерки-
вается . ритмической характеристикой частиц. Все они были
клитиками, т. е. либо постоянно употреблялись без ударения,
.либо оттягивали на себя ударение с соседних полнозначных
слов, обеспечивая ритмическое единство формулы (полный об-
зор клитических форм и характер их взаимодействия в древне-
247
русских текстах См.: Дыбо, 1976). Специальное исследование
показывает (Шкляр, 1977), что частицы в текстах XI—XIV вв.
распределяются на различные типы: безусловно старославян-
ские (ли, убо, по нЪ, даже и др.), характерные для древне-
русского языка (бо, ти, ажь, оли и др.) и общие для обоих ти-
пов текстов, стилистически нейтральные (и, же, се и др.). Именно
разговорные частицы обеспечивали тексту выражение эмо-
ционального авторского отношения к описываемому, оживляли
повествование экспрессивными оттенками и обычно употреб-
лялись в формулах прямой речи.
По функции к частицам близки были указательные место-
имения, из сочетания которых с частицами впоследствии раз-
вились союзные слова, переключавшие синтаксическую связь с
уровня синтагмы на уровень предложения. Это создавало со-
вершенно новую синтаксическую связь на основе строевого
элемента, стоящего над синтагмой. Путь развития от частицы
через союзное слово к союзу есть путь развития и стабилиза-
ции синтаксической перспективы предложения за счет разру-
шения таких переменных компонентов древнерусских автоном-
ных формул, как частица и местоимение (Лавров, 1941; Коро-
таева, 1964). Одновременно разрушалась и ритмическая цель-
ность формулы-клише.
Характерно также перераспределение частиц (это видно и
на материале рассмотренных текстов). В текстах о Борисе и
Глебе представлена не просто книжная, но вообще архаиче-
ская система: все клитические формы на своем месте и соот-
носятся с остальными формулами данного текста; использова-
ны только исходные (односложные) формы типа и, же, бо, си,
сю и т. д.
В «Молитве» Кирилла простейшие формы преобладают, хо-
тя возможно унаследованное из оригиналов (калькированное) и
распространенное идЪже. В оригинальных текстах, которые
представляют собой переводы на славянский язык и безуслов-
но написаны на старославянском языке, возможны усиленные
формы, выполняющие функции союзов (не только бо, но так-
же ибо, не только же, но и даже), здесь встречаются и другие
соответствия греческому оригиналу, в частности усилительные
притяжательные местоимения (душа моя, руки мои, искус-
никъ его и т. п), чего у Кирилла нет, поскольку формульность
его изложения не зависит от переводных синтагм.
В «Повести об Андрее Боголюбском» преобладает древне-
русский способ увязывания синтагм в тексте—посредством
амбивалентных по функции союза и, а также других союзов и
частиц. Ритмическое повторение союза и служит как для со-
единения компонентов синтагмы (14 раз), так и для соединения
синтагм в текст (26 раз). Исходные частицы налицо и в каж-
дом случае функционально оправданны. Но они не организо-
ваны в художественную последовательность. Одновременно
248
появляются также книжные усилительные формы типа зане,
иже, кънемуже и т. п.
У Якова бо употребляется 8 раз, все употребления соответ-
ствуют первоисточнику, как, впрочем, и остальные строевые
элементы текста (и, а, ти и т. д.). В этом отношении текст ор-
ганизуется не сознательными устремлениями автора, он на-
ращивается за счет повторения сходных формул. Авторское
творчество проявляется особенно наглядно именно в умении
организовать текст.
Епифаний безусловно самостоятелен в отборе синтаксиче-
ских средств организации текста. Все строевые элементы у не-
го автономны от породившей их синтагмы и служат для орга-
низации художественно осмысленного текста. Трехчастность
композиционного строения, несмотря на неполноту приведен-
ного примера, подчеркивается разными словами.- Всегда заме-
тен шов переключения в новый смысловой или стилистический
ряд формул, каждая из которых начинается с юже (9 раз), за-
тем с последующими рядами с и или же и т.д. Вариантность
включений определяется смыслом текста: указание на объект
(юже), соотнесение с другим (же, и), констатация необходимо-
го признака (в нейгже). Независимость синтагм от исходного
порядка содержащихся в них словоформ очевидна и в этом
случае.
Категоричность разграничения «русских» и «славянских»
особенностей языка в средневековых текстах особенно заметна
в синтаксических явлениях. Характер текста диктовал выбор
синтаксических средств: хождение или грамота, как и любой
другой «деловой» текст, избегают подчинительных конструк-
ций, поскольку введение их уничтожило бы осознаваемое «рав-
ноправие» описываемых событий, лиц или действий, поставив
их в иерархически сложные и не всегда существующие в реаль-
ности отношения. Гипотаксис противопоказан таким произве-
дениям не только по идеологическим или содержательным, но
и по формальным причинам (обычно они возникают как уст-
ные и только затем записываются).
Работы по изучению синтаксических структур старославян-
ского и древнерусского языков в их отношении к греческому
делятся на три вида: описание подобных структур на материале
отдельного переводного текста, сводное типологическое сопоста-
вление с ориентацией на современный язык и сравнительно-ис-
торическое исследование в границах славянских литературных
языков.
Первый тип представлен в работах А. В. Исаченко. Рассмот-
рим его аргументацию на разборе Притчи о блудном сыне (на-
чало текста приведено на с. 16) (ср.: Исаченко, 1975, с. 28—34).
Он приводит около 20 языковых особенностей, которые возво-
дит к греческому оригиналу и объявляет грецизмами.
249
В тексте притчи представлены якобы греческий порядок слов
(«чловЪкъ н-Ькый» и др. в постпозиции), а также местоимения
ни другие клитические формы. Необоснованность такого утвер-
ждения показана многими исследованиями (см.: Сравнитель-
ный синтаксис, 1968, с. 61 и сл.). До XV в. постпозиция опреде-
ления была характерна для всех славянских языков, она отра-
жает древнейшее состояние языка, и славянский переводчик
просто согласовывал греческую конструкцию со своей, привыч-
ной ему конструкцией; иногда переводчик преобразовывал со-
четания оригинала, например, во фрагменте «отьць вашь не-
гбесьскый» притяжательное прилагательное на месте родитель-
ного имени греческого текста. Судя по тому, что в сотнях
случаев славяне этот греческий оборот передавали с помощью
притяжательного прилагательного, следует признать подобную
конструкцию славянским эквивалентом греческой, а не калькой
с нее (ср.: «телеса человЬчьска» — ашцата dvSpwrco», «премуд-
фость божия»—aovtav &еоо, позднее различные колебания типа
«въ стегнахъ градьныихъ» и «в стогна града» для греческого
.sv таГ<; TTjc ттб/.есо;). Вообще в этой части у Исаченко до-
статочно «аргументов от отсутствия», поскольку из сравнения
намеренно исключены многие древнерусские тексты, в том чис-
ле и фольклорные или деловые (как «нелитературные»).
Второй «грецизм», по Исаченко, — широкое распространение
причастий, которых в славянском языке якобы не было. Грече-
скому оригиналу обязаны обороты типа «събьравъ вьсе отиде»,
«и шьдъ прилЪпи ся», «въ себъ же пришьдъ рече» и др. Неком-
петентность суждения выявляется в результате простого сравне-
ния с классическими работами (см., например: Потебня, 1958,
с. 186 — 207), в которых показана органичность подобных кон-
струкций для древнего славянского языка, их сохранение до
конца XIV в. (после этого они существуют только в книжных
оборотах). Номинализация причастий как типичный грецизм
(«посълавъшааго мя») также оказывается особенностью всех
индоевропейских языков.
Дательный самостоятельный соответствует в переводах обыч-
но греческой конструкции Genetivus Absolutus, его следует ско-
рее признать специфической особенностью славянского литера-
турного языка, чем грецизмом; именно так полагают специали-
-сты (см. сводку мнений: Сравнительный синтаксис, 1968,
с. 276 — 280); широкое развитие этих конструкций (в Лавренть-
евской и Ипатьевской! летописях их почти 650) и своеобразие
только в древнерусских текстах (они относятся как к одному,
так и к разным субъектам речи) удостоверяют специфичность
конструкции для славянского языка.
Обороты с двойными падежами — прежде всего «двойной ви-
нительный»— также известны славянскому языку, испытали
своеобразное изменение в связи с развитием синтаксической
перспективы предложения (Сравнительный синтаксис, 1968,
‘250
с. 97 сл.). Совпадение с греческими конструкциями только пока-
зывает достаточную древность оборота.
Перифрастические глагольные формы с вспомогательным
«быти» (типа «бЪ уча», «бт, крьстя» и т. п.) также известны сла-
вянскому языку, хотя с XIV в. и становятся сугубо книжными
(их развитие связано с изменением форм имперфекта — см.:
Кунавин, 1985а; здесь же показано, что выбор формы импер-
фекта не соответствует греческому оригиналу, в котором форма
eivai).
Опущение связки в относительном придаточном (типа «свЬтъ
иже въ тебЪ») характерно для греческого и латинского, однако
и в древнеславянском языке подобные конструкции встречаются,
более того, они весьма распространены (Груздева, 1976).
Грецизмом объявляется оборот omnia mea; в русском языке
в выражении все это местоимение стоит в единственном числе,
в греческом — в форме множественного числа, чему и соответ-
ствует сочетание въся моя в старославянском переводе. Прин-
цип конструкции соблюден, но лексическое и грамматическое
его воплощение — греческое.
Целевые и изъяснительные конструкции, образованные с по-
мощью да, которые в церковнославянском передаются конъюнк-
тивом с да (да приидеть), согласно современной точке зрения не
обязаны своим появлением влиянию соответствующих конструк-
ций греческого оригинала (Лесневский, 1977, с. 7).
Синтаксическими грецизмами признаются также отрицатель-
ные местоимения и наречия (типа никътоже, ничътоже, никъде-
же, никакоже) и конструкции с одним отрицанием; однако и
отрицательные наречия, и отрицательные конструкции самого
разного типа были свойственны древнему славянскому языку и
в различных типах развивались на почве славянских языков
(Савельева, 1976; Цакалиди, 1982). Они органично присущи
системе праславянского языка, являясь в нем архаизмами.
То, что переводчики намеренно предпочитали архаизмы, дей-
ствительно, может быть связано с формами и конструкциями,
которые они находили в столь же архаичном греческом тексте,
однако из этого не следует, что сами формы и конструкции на-
вязаны новому литературному языку авторитетом греческого
языка. С самого начала культовый язык (язык средневековой
литературы) был ориентирован на высокий архаизм, который в
разговорной речи уже сменялся новыми формами выражения.
Важнее две другие особенности текста, которые требуют
специального обсуждения. А. В. Исаченко справедливо говорит,
, что «Притча» на самом деле является «теологическим трактатом
известного философского содержания». Символ обозначен как
обычное событие каждодневной жизни, но смысл его требует
истолкования и специальных 'знаний, которыми славянский слу-
шатель и читатель не обладали. Равным образом славяне не
понимали многих переносных оборотов типа «достойна чясть»
251
(т. е. ‘мне принадлежащая часть’), «въ себв же пришьдъ» и
т. п., которых много в евангельском тексте. Даже некоторых
реалий славянский читатель мог не знать, поскольку словом
сапогы переведено греческое слово со значением ‘сандалии’. Все
это верно: поэтический смысл переводных текстов познавался
постепенно, по мере развития поэтических средств самого рус-
ского языка. Но это проблема языка литературы, поэтической
речи, теории стиля, а не литературного языка.
Многие сложные синтаксические структуры, отмечаемые в
тексте перевода, действительно не являются восточнославянски-
ми .и заимствованы из старославянского языка, во многой обя-
заны греческому оригиналу. Из числа указанных А. В. Исачен-
ко сюда относятся конструкции «.аще + действительное прича-
стие» («аще бо съ мудрыими человЪкы бесЬдующе»), «яко+ин-
финитив» в придаточных следствия на месте греческого шаге
с инфинитивом («яко дивитися Пилатови»), «яко + несобствен-
но прямая речь» после глагола говорения при греческом оп
(«рече ему яко братъ твои прииде»); относительные местоиме-
ния иже, яже, еже и наречия ид еже, егдаже, аможе и др. и
вообще обилие союзов, тогда как в разговорной славянской ре-
чи их было мало (как, впрочем, и в современной разговорной
речи: но нельзя считать, что их вообще не было). Перечисля-
ются старославянские союзы типа аще, ако, егда, да, зане, зане-
же, убо и др. в соответствии с греческими si, eav, otsi, orav,
waitep, oti, wats, Зих to, eitei. Обращает на себя внимание
многозначность и обилие греческих эквивалентов, в которых
древнему переводчику трудно было ориентироваться и соотно-
сить их с собственными союзами.
Из перечня грецизмов, который дает А. В. Исаченко, стано-
вится ясным, что многие из них всего лишь архаизмы славян-
ского языка, избранные славянскими переводчиками для пере-
дачи эквивалентных греческих оборотов. Все остальные не
являются особенностями церковнославянского языка, это —
характерные черты перевода данного текста. Древнерусские
книжники знали традиционные тексты, заучивали их, воспроиз-
водили и при этом подвергали постоянной правке в сторону
более знакомых и понятных им выражений и оборотов, посте-
пенно проясняя для себя смысл самих текстов. Искусственность
текстов, ориентированных на архаический пласт славянской
языковой системы, никак не свидетельствует ни о зависимости
литературного языка от греческого оригинала, ни об архаично-
сти этого языка.
Анализ материала показывает неравное положение церков-
нославянских текстов и народно-разговорного языка в их фун-
кциональном смысле. В отличие от создаваемых или переводи-
мых текстов, язык существует как естественная и развивающая-
ся система. И чтобы исходные тексты были осмыслены как
язык, т. е. как «парадигма», должно было пройти довольно мно-
252
го времени. Когда же этот важный процесс конденсации цер-
ковнославянского языка к XVI в. завершился, странным образом
оказалось, что никаких прямых грецизмов в нем не осталось,
все они подверглись переработке в соответствии с законами жи-
вой славянской речи.
Типологическое изучение синтаксических грецизмов обычно
касается именно текстообразующих элементов речи. Так, Р. Ру-
жичка (1958) рассматривает конструкцию косвенного вопроса
с аште (для греческих st, eiv и др.) и введение прямой речи
с помощью яко (для греческих шоте, <1>с, йакгр и др.). Соот-
несенность с самыми ранними греческими союзами славянского
якобы породила омонимию славянских эквивалентов. Однако
такой вывод сомнителен. Если исходить из понимания семанти-
ки славянского союза и это считать отправной точкой рассужде-
ния, можно сказать о том, что исконный синкретизм славянско-
го строевого слова обусловливал возможность перевода с его
помощью самых разных греческих союзов. Последующая диф-
ференциация на базе этой синкреты связана уже, собственно,
с развитием славянской синтаксической системы, хотя направ-
ление семантической специализации могло быть задано грече-
ской системой обозначений. Специализация значений всегда
происходила за счет варьирования и расширения собственно
славянских союзов, союзных слов и организующих эти послед-
ние частиц. Например, яче/аште/аще — всего лишь мягкий ва-
риант ако1яко1Ъко (фонетическая вариативность союзов подчер-
кивает нерелевантность их в древнем синтаксическом тексте),
а славянская частица ать (с последующим суффиксом -je дает
аче/аште) безусловно родственна греческой б-tt, которая была
в соответствующих конструкциях с прямой речью. Таким обра-
зом, даже на уровне форм наблюдается генетическая связь
формальных единиц обоих языков, что позволяет предполагать
и семантическую их зависимость.
Развитие причастных конструкций также кажется «вынесен-
ным из греческого» средством построения синтаксической пер-
спективы предложения (Ружичка, 1958, с. 182—183), однако
вся последующая история причастных форм доказывает, что
развивались только собственно славянские элементы системы,
деепричастия, перфективы типа ушедши в русских говорах и
т. д. Предпочтение причастий соответствующим греческим ин-
финитивам во многих конструкциях (там же, с. 183) также до-
казывает органический характер причастных образований, их
значение в ранней истории славянских языков. Глубоко прав
Е. М. Верещагин, который подвел итог изучению этих вопросов:
«Разительное совпадение синтаксических структур греческих и
славянских текстов объясняется поэтому не воздействием одно-
го языка на другой, не синтаксическим калькированием, а тем
важным психолингвистическим фактом, согласно которому при
двуязычии некоторые языковые модели обеспечивают произве-
253
дение речи на двух языках» (1971, с. 160; ср. примеры на с.
166, 168 и др.)
В других работах обсуждаются грецизмы более конкретного
характера, в них иногда повторяется уже изложенное (см.: Иор-
даль, 1973). Большинство таких работ касается синтаксиса сло-
восочетаний; в одинаковой мере могут быть как греческими,,
так и славянскими оборот Genetuvus Comparationis (типа «она
моложе мужа», «она моложе, чем муж»), бессубъектные со-
четания типа «есть видЪти», сочетания глагольных форм типа
«преста глаголя», относительные местоимения иже, еже, яже,.
для передачи греческих артиклей и т. д.; тут могли быть и ис-
конные соответствия и типологические совпадения (Мещерский,
1978, с. 27; о стилистическом распределении указанных форм в
древнерусских переводах см. на с. 64 — 67, 100—104).
Сравнительно-исторические исследования подтверждают этот
вывод. Л. П. Якубинский (1953, с. 254 и сл.) и Б. А. Ларин
(1975, с. 209 и сл.) прекрасно показали многообразные следст-
вия из возникших в славянском литературном языке вариантов!
союзных конструкций, которые перерабатывались уже в самом;
славянском языке. Исследование синтаксиса (особенно на ма-
териале литературных текстов) требует, чтобы были выявленье
«остатки системы более древней» и «новые, возникающие, на-
рождающиеся в эпоху возникновения памятника синтаксические1
явления» (Ларин, 1975, с. 209); многие явления пришли из раз-
говорной речи и в древнерусском языке преобладали, другие-
развивались, потому что была потребность в них, осознанная:
достаточно поздно.
Конкретность текста исключает неизменяемость формы как.
факта языка, текст отражает современное ему состояние языка,
изменяется же только живой язык. Какие-либо явления, форма,
значение не могут быть теми же самыми в разных системах и:
в разное время; признавая принцип системности языка, следует
признать и следствия из этой системности.
Если две равнозначные конструкции разного происхождения;
использованы в одном тексте, их распределение объясняется не'
особым пристрастием к тому или иному языку-источиику, цер-
ковнославянскому или древнерусскому, зависимому или неза-
висимому от греческого, важны стилистические или функци-
ональные условия выбора. Происхождение структур с позиции-
языка (не текста) не важно; если структуры и восприняты, они:
используются как языковые средства равноценного назначения.
Условная синтаксическая конструкция возможна в двух ва-
риантах: «аще ли ударить мечемь... да вдасть литр се-
ребра» — книжная, старославянская и по мнению многих каль-
ка с греческого; «оже ли себе не мржеть мьстити, то взя-
т и ему...» — русская, восходящая к разговорным конструкциям'
(Якубинский, 1953, с. 298). Косвенно-побудительные предложе-
ния могли быть тоже двух моделей: «молю да приидеши» —
254
старославянский тип, «молю да бы пришелъ» — восточнославян*-
ский тип. Прав Н. А. Мещерский, показавший, что для древне-
русских переводчиков «Истории» Иосифа Флавия и «Хроники»-
Георгия Амартола обе модели — средство стилистической орга-
низации текста, переведенного, кстати сказать, в полном соот-
ветствии со славянскими синтаксическими особенностями без;
калек с греческого (1978, с. 22 — 23); к XII в. синтаксис литера+
турного языка славян даже в письменном своем варианте ока-
зался разработанным настолько, что можно было обойтись без;
синтаксических грецизмов буквального перевода. Более того,,
попав в систему славянских синтаксических форм, первоначаль-
но заимствованный оборот преобразовался и по форме, и no-
значению (от условных — к условно-следственным, более разра-
ботанным в славянском синтаксисе), стал средством перевода
самых разных греческих оборотов (с двойным винительным,,
причастных конструкций и др.) (Лесневский, 1977, с. 9)—дру-
гими словами, опять-таки, получил неопределенную многознач-
ность в соответствии с законами славянского языка. Попав из-
текстов в систему языка, оборот изменялся.
Почти все древние союзы и союзные слова — восточнославян-
ского происхождения, они заменили предшествовавшие нм!
книжные формы, образовались из усилительных частиц и гла-
гольных форм исходной синтагмы (ср. после XV в.: есть ли-
или а(да) буде(ть) вместо древнего аще, первоначально в дело-
вых текстах, поскольку именно эти тексты раньше других отра-
жали новые элементы системы — Лавров, 1941, с. 40 — 50)..
Включаясь в общую синтаксическую перспективу текста, гла-
гольные формы прежде автономных синтагм снижали логиче-
скую и формульную выразительность своего предиката. Именно;
это побледнение глагольных форм и доказывает текстообразу-
ющую их важность в предыдущий период и способность их к.
преобразованию в Новых исторических условиях, когда намети-
лось расширение текста за счет агглютинации ряда последовав
тельных синтагм.
По модели книжных союзов образовывались все новые, соб-
ственно русские, которые и вытеснили прежние формы. С
XV в. заметно постепенное устранение древнерусских ибо, иже,,
егда и др. с заменой их соответственно на потому и потому что,
на который, како или коли, затем на покамест (докамест) в
XVI в. и, наконец, когда с XVII в. (Лавров, 1941; Коротаева,
1964, с. 86; свод материалов см. в кн.: Сравнительный синтак-
сис, 1973).
Необходимость в новых формах возникала по двум прямо
противоположным причинам. Формально последовательная диф-
ференциация исходных синкретических союзов постепенно за-
шла в тупик, потому что агглютинативное расширение союзов
не могло развиваться бесконечно, ср. до-не-ли-же и т. д.; в
конкретном тексте формальные единицы стали довольно значи-
255
тельными, иногда превышая содержательную часть высказыва-
ния (ср. в тексте XII в.: «Того бо ради и благодъть велика,
понеже бЬша чюдьна» — Маркова, 1984, с. 9; здесь шесть (!)
исходных частиц и местоимений). Замены одного многозначного
союза другим столь же многозначным (как или коли вместо
егда) также уже не достигали цели.
Между тем в содержательном плане продолжалось развитие
синтаксических связей между прежде автономными синтагмами.
Сначала довольствовались простыми союзами, которые соеди-
няли однородные члены синтагмы, т. е. а или и. В новгородских
грамотах с XIII в., а в других текстах позже намечается диф-
ференциация между а и и, причем для книжных текстов более
характерно присоединение посредством и, для деловых — сопо-
ставление посредством а (Борковский, 1958, с. 94 сл. с обсужде-
нием литературы вопроса). Простое присоединение уже созна-
тельно противопоставлено подчинительным типам и нуждается в
формальных средствах выражения.
Одновременно происходило углубление синтаксической пер-
спективы с выделением второстепенных частей высказывания
(причастные обороты, деепричастия, разного рода распростра-
нители и т. д.) и созданием единого предикативного центра
(Георгиева, 1968). Все это потребовало перестройки системы
синтаксических средств в их текстообразующей части. В про-
цессе перехода к однозначности формальные средства слишком
усложнились за счет модальных частиц, а не указательных слов
и глагольных, форм. Они оставались внешними по отношению к
структуре высказывания, вынесенными из прежней традиции.
Новые — русские — синтаксические элементы органично прора-
стали из предикативно важных, но в границах синтагмы второ-
степенных строевых элементов, не извне, а закономерно объеди-
няя синтагмы более высокой синтаксической связью «суждения».
Вполне возможно, что развитие мышления наталкивало си-
стему языка на это изменение, и она откладывалась в текстах,
первоначально разных по жанру и стилю (отчего и создается
впечатление, будто подобные новаций языковой системы не бы-
ли в равной мере литературными). Известное искажение исто-
рической перспективы вполне объяснимо, но не оправдывает
тех, кто в таком изменении не видит качественного преобразо-
вания самого литературного языка, его отстранения от обвет-
шавших и многозначных синтаксических форм.
Направление дальнейшего развития многозначного союза
одновременно зависело и от синтаксической связи, которая вы-
работана в тексте и требует выражения, и от стилистических ха-
рактеристик текста. Так, известная нам «многозначимость под-
чинительного союза яко» независимо от происхождения конст-
рукции с этим союзом (в том числе и «грецизмы» —
присоединительные конструкции с прямой речью) изменялась
исходя из первоначального значения слова. Яко выражало в
256
тексте уподобление как способ подачи того, с чем сопоставляли,
с помощью сравнения. Развилось уподобление разных видов:
с дополнением (с помощью союза что), изъяснением (так что),
причиной (потому что), временем (когда), а также и собствен-
но сравнение (как). Дифференцируя различные виды уподобле-
ния, развивающаяся сложносочиненная конструкция могла дать
два возможных типа структур. Первый описан: одно из сочи-
ненных предложений включало в себя союз (яко и его замести-
тели), в результате чего развивалось сложноподчиненное пред-
ложение путем распространения союзов и сохранения личных
форм глагола. Таков русский тип развития структуры. Вторая
возможность возникала в книжном тексте: в главном предло-
жении сказуемое выражалось личной формой глагола, а в при-
даточных— причастием или деепричастием. Так, предложение с
однородными сказуемыми типа «и скопиша вое и выслаша
из города къ воеводЬ» могло дать такие сложноподчиненные:
(1) «и яко скопиша вое и выслаша из города къ воеводЬ»
и (2) «и скопивъ вое и выслаша из города къ воеводЬ».
В обоих случаях выстраивалась синтаксическая перспектива
высказывания, осуществлялась характерная для средневековья
иерархическая последовательность компонентов высказывания.
Но в русском варианте равноценность исходных синтагм сохра-
нялась, а в книжном — нет. В русском литературном языке ос-
новным стал первый тип, второй развивал лишь подобные сред-
ства— причастные и деепричастные конструкции, тогда как
«первый путь развития давал возможность посредством поста-
новки союзов с их дальнейшей дифференциацией и специализа-
цией выразить самые разнообразные оттенки зависимости при-
даточных предложений. Второй путь не давал этой возможно-
сти. Он давал возможность выразить неравноправность двух
входящих в одно сложное предложение, показывал, какое из
этих предложений оказывается зависимым (то, в котором ска-
зуемое выражено причастием), но исключал возможность уточ-
нить характер этой зависимости» (Якубинский, 1953, с. 268).
Таким образом, как раз в русском варианте синтаксические
отношения развивались яснее, чем в церковно-книжном, причем
во втором случае наблюдалось уменьшение выразительности
текста — путем ослабления зависимых компонентов синтакси-
ческого целого; русский вариант, напротив, приводил к усиле-
нию выразительной и одновременно логической цельности тек-
ста— путем увеличения силы зависимых предложений, диффе-
ренциации средств их присоединения и т. д. В церковнославян-
ском приглушается звучание побочных линий изложения, в рус-
ском, наоборот, они усиливаются путем фиксации внимания на
них. Создается иерархически организованная перспектива пред-
ложения, которая в известном смысле заменяет исчезавшую си-
стему глагольных текстообразующих элементов (сложную си-
стему временных форм). Отсюда понятно широкое развитие при-
j7 <'одсс1>в В. В.
257
частных конструкций самого разного типа в церковнославян-
ском языке XV — XVII вв. (Кунавин, 1985). Все они были
искусственными даже по отношению к предполагаемому источ-
нику, откуда они были заимствованы, — к греческому языку.
У каждого своя конкретная функция, восполнявшая отсутствие
глагольных форм и новых структур с русскими союзными сло-
вами. Одновременно они удерживали «на плаву» архаические
формы, используя их как стилистическое средство. Ясно, что
развитие сложноподчиненных структур — это путь интеллекту-
альной прозы, а развитие причастных оборотов сохраняет в за-
стывшем виде сложившуюся иерархию в границах традицион-
ных текстов, задерживает при этом развитие морфологической
системы языка. Кажется важным совпадение момента в раз-
двоении жанров и в аналогичном удвоении всех грамматически
важных средств организации свободного текста.
Происходило также перераспределение порядка слов в пред-
ложении, поскольку изменилась и общая перспектива высказы-
вания, и входящие в него синтагмы.
В одной из наших работ показана авторская правка текста
«Жития», произведенная самим Аввакумом (Колесов, 1975, с.
215 — 220). Активно преобразуется порядок слов в сочетаниях.
Второстепенные члены предложения развертываются в прида-
точные предложения. Однообразные по типу конструкции сжи-
маются в ряд однородных членов предложения. Описательное
составное сказуемое либо уточняется обязательным включени-
ем связки, перед тем опущенной по правилам устной речи, либо
вообще заменяется динамичным и однозначным глаголом. Бес-
союзное нанизывание предложений, также свойственное устной
речи и обычное в деловых текстах, сменяется иерархически по-
строенными придаточными; всегда видны структурные элементы
построения синтаксической перспективы высказывания, причем
обычные для разговорной речи подчинительные союзы заменя-
ются традиционно-книжными (аще ли вместо а буде, егда вме-
сто а как, так вместо ино, таже, тажде вместо потом).
Окончательно стабилизируется у Аввакума свойственный со-
временному литературному языку порядок слов с препозицией
определения к определяемому имени; подлежащее стремится к
соседству со сказуемым; препозиция или постпозиция прямого
дополнения используется явно в стилистических целях. Синтак-
сические связи развиваются из морфологических свойств слов
в составе синтагм, т. е. отражают преобразования, происходив-
шие в живой речи, поскольку вся история развития синтаксиса
словосочетания есть история постоянного осмысления внутрен-
них отношений между вошедшими в новую синтаксическую
связь словами, есть фиксация этих связен на уровне формы.
Синтагма сжимается в законченные словосочетания со своими
новыми синтаксическими связями, которые идут теперь от це-
лого к частям, а не наоборот, как это было в эпоху безраздель-
258
ного господства формул-синтагм. Единственное, что остается у
Аввакума старого, — это сочинительные конструкции, которые
еще широко используются им в ущерб подчинительным.
Постепенность в развитии текстообразующих средств языка,
их последовательность, их формы, как и стилистическая пред-
почтительность в отношении к устной речи, наблюдаются и в тех
текстах, которые мы описывали в предыдущих главах. Разница
только в том, что до XVI в. точкой отсчета был книжный текст,
и на него равнялся писатель в выборе стилистического вариан-
та; с XVII в. вполне определенно точкой отсчета становится
живая речь. Это — внушительное подтверждение той мысли, что
к XVII в. русский язык развил необходимые синтаксические
средства и грамматические формы, а носители языка осознали,
что система родного языка и есть та самая норма, которой над-
лежит следовать.
Г л а в а 8
СЕМАНТИКА СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФОРМ
В ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
При обсуждении материала был затронут ряд проблем, каж-
дая из которых заслуживает специальных монографических ис-
следований. Предварительно выскажем свое отношение к этим
проблемам.
Не соответствует действительности тезис о постепенном про-
никновении русизмов в заимствованный церковнославянский
язык. Вопрос о русификации последнего и создании на его ос-
нове русского литературного языка теперь хорошо изучен на
материале текстов (обзор см.: Чернов, 1984, с. 190— 197). Ос-
новная особенность русизмов или славянизмов в русском лите-
ратурном языке состоит в неорганичности их происхождения,
поскольку в конечном виде ни один из них не восходит ни к
какой конкретной системе языка. Распределение написаний ти-
па одежа/нощь, свойственное древнерусским литературным тек-
стам, не соответствует ни старославянскому (одежда/нощь), ни
разговорному восточнославянскому (одежа/ночь). Постоянное
столкновение формул типа «рабъ божий», но «роба и холопъ»
также вызывало неорганическое соединение форм рабъ/робъ и
др. В столкновении текстов ведущей оставалась форма, которая
косвенно отражала изменение в живом языке. Форма столЪхъ
становится славянизмом, поскольку противопоставлена русиз-
му столахъ, но при этом одновременно сохраняются и формы
рабЬхъ и мЪстохъ, что создавало возможность оперировать ва-
риантами в стилистических целях. В границах формулы проис-
ходили все изменения словоформ, включая и фонетические; ср.
в типичной формуле:
17*
259
а) дуиил Moei.-,\ ради — старославянская форма в сс произ-
носительном варианте,
б) душЪ моеЪ ради — соответствующая древнерусская форма,
в) душа моея ради — типичная для церковнославянского
контаминация,
г) души моей ради — современная литературная форма.
Таким образом, для книжных текстов важна была форма, но
звуковое ее воплощение оказывалось древнерусским (рефлекс
древнерусского произношения ьл); в национальном варианте
литературного языка фиксируется также результат морфологи-
ческого выравнивания, т. е. изменение выходит за пределы кон-
кретной формулы.
Последний пример — логическое завершение предшествую-
щих ступеней развития формы после ее выделения из текста
(она обобщается как свободная словоформа парадигмы), это
этап освобождения не только от контекста, но и от архаической
формы, и от ритуальной формулы. Морфонологические процес-
сы, происходившие в древнерусском языке, позволяют уточнить
эту характеристику. В связи со вторичным смягчением полу-
мягких образовалось противопоставление гласных [ё] и [а]
(обозначавшихся соответственно буквами р и а ), и на стыке
морфем в пределах одного слога перед Ъ оказывался возмож-
ным только мягкий, перед а —только смягченный согласный
(например: идЪахъ-*~идяхъ, но отъ землих-^отъ землъ-, обсуж-
дение вопроса см.: Колесов, 1980, с. 81—83). Таким образом,
до падения редуцированных формы отъ душ\,х и отъ душЪ яв-
лялись вариантами одного и того же языка. Более того, до вто-
ричного смягчения полумягких согласных (завершилось к нача-
лу XII в.) мена Ф/а являлась, скорее, фактом письменной
речи, поскольку произношение слогов не изменялось, т. е.
сохранялся мягкий в /z'eml’a/ и полумягкий в /)ьсГаахъ/. Даже
после XII в. сохранение архаических форм с а (а) вместо Ц
встречается обычно после непарных по мягкости/твердости сог-
ласных (шипящие и ц), т. е. фиксируется орфографически. Уг-
лубленное изучение системы языка постепенно снимает рабочую
гипотезу о церковном произношении в древнерусском языке.
Между прочим, в данном разъяснении содержится и ответ на
вопрос, почему в конфликте между принципами фонетическим
(душр моеЪ) и традиционным (душа моея) русский язык раз-
вил принцип морфологический (ср.; Осипов, 1986). В известном
смысле это компромисс, но он символичен настолько же, как и
традиционен, а именно это и требовалось в средневековом тек-
сте. Норма как искусственный эквивалент системы постепенно
сменяется ориентацией на саму систему.
Для средневековья не характерны попарные оппозиции, иде-
ологически оправданной становится градация градуальности и
функциональная иерархия сходных языковых единиц в грани-
цах отдельного текста в зависимости от высказывания и смысла
260
(ср.: Львов, 1975). Поэтому каждая языковая форма вынужден-
но вырабатывала градационную цепь вариантов, а если не мог-
ла этого добиться, становилась мертвым архаизмом. Важно и
перераспределение альтернативных вариантов: для одних слу-
чаев предусматривались одни из них (норма), а для других слу-
чаев — не другой, а одновременно оба (Осипов, 1986),
что давало возможность для организации градуальных стили-
стических рядов, т. е. готовило почву для создания нового типа
литературного языка (как раз в русском варианте письменной
речи). Неоднократно упоминавшиеся звуковые чередования ти-
па нарЪкати!нарицати указывают на то же: форма становилась
стилистически дифференцирующим средством даже и по отно-
шению к форме грамматической.
Историк церковнославянского языка специально оговарива-
ет, что «только формы являлись общими для всех пользующих-
ся этим языком, тогда как значения таким формам приписы-
вались различные — посредством их дифференциации в различ-
ных языках-посредниках (vehicle languages). Таким образом,
системы, основанные на одном и том же наборе церковносла-
вянских слов и форм, различаются в зависимости от того, каким
языком-посредником пользуются» (Матисен, 1972, с. 108; ср. 12,
412); например, церковнославянское хотяху приимати болгарин
поймет как щаха да приемат, русский — как хотели принять,
серб — xohaxy примата и т. д., хотя на самом деле эта модаль-
ная форма восходит к описательному будущему. Оказывается,
еще и сегодня церковнославянский текст воспринимается раз-
личным образом не только по звучанию, но и по значению.
В категориально-семантическом отношении церковнославян-
ский язык постоянно получал импульсы со стороны русского,
который непрерывно развивался. Неразработанность церковно-
славянского языка в научном отношении мешает указанию со-
ответствий по всему фронту, но ясно, например, что соотноше-
ние глагольных категорий вида и времени в церковнославянском
содержательно зависело от системы живого языка. Ср. времен-
ное соотношение «аорист — имперфект», которое при измене-
нии глагольных основ иногда воспринимается как соотношение
перфектных или имперфектных форм одного и того же глагола.
Во всяком случае, тот факт, что в оппозиции простых прошед-
ших времен современный исследователь «видит» противопостав-
ление по виду, показывает, насколько глубоко новая семантиче-
ская оппозиция вошла в древнейшее противопоставление гла-
гольных форм и разрушила старую систему; в старые мехи
влили новое вино.
И в древнерусских текстах с XVI в. увеличивается число пре-
фиксальных глаголов, что создает причудливое смешение грам-
матических (например, по виду), семантических (выраженных
обычно разными глаголами) и стилистических противопостав-
лений на одном синхронном уровне. Так, глаголы звати — на-
261
звати в XVI в. противопоставлены по виду, звати — прозвати по
значению, назвати— прозвати стилистически, ряды новых обра-
зований с суффиксом типа назвати — называти или прозвати —
прозывати и по виду, и стилистически. Называти и прозывати
близки к разговорным, это вторая ступень несовершенного вида
с суффиксом и префиксом, но и глагол прозвати не является
нейтральным по стилю, ибо от звати отличается не только грам-
матически— по виду (заметим, что не все приставки имели в
XVI в. видовое значение), но и как самостоятельное слово. И
здесь обнаруживается «веерная» градация от звати до прозыва-
ти с последовательными переходами семантики по разным уров-
ням, создающим стилистическое варьирование форм. Так пони-
мал дело и Мелетий Смотрицкий — и по отношению к категории
вида, и вообще применительно к грамматической форме. Напри-
мер, парадигма «небо — небеса» для него неприемлема, и он
фиксирует две параллельные: «небо — неба» и «небесо — небе-
са», причем небо, чюдо, слово у него — формы высокого стиля,
следовательно, они не совпадают с тем, что в действительности
имелось в разговорном языке, а воссозданные по аналогии с кос-
венными формами колесо, небесо, словесо на их фоне казались
более низкими, чем традиционные коло, небо, слово. Даже ви-
жю и молочю для Смотрицкого не русские формы, а тоже цер-
ковнославянские в противоположность «словенским» вижду,
млащу. Действительно, в древнерусских текстах противопостав-
ления типа вижю/нощь весьма распространены с XI в., а воз-
можность фонетической аккомодации книжного морфонологи-
ческого средства подтверждается диалектным произношением
аффрикаты /жд/: дождь, дожгь, дожчь и дож; в качестве обще-
го для них книжного варианта избирается поэтому фонетически
нейтральное дожь. Постепенно такой же принцип отбора орфо-
графического инварианта распространился и на глухую аффри-
кату (ср.: штюждь, щужь, чюжь и т. п. —Колесов, 1981). Пер-
воначальное предпочтение ж при щ в большинстве средневеко-
вых книжных текстов показано при разборе материала, но свет-
ские памятники, по-видимому, имели другую орфографическую
установку (в «Слове о полку Игореве» жд при ч), что подтвер-
ждает искусственность любой первоначальной оппозиции. Эта-
пы генерализации ж и ч — от семантического через стилистиче-
ское к орфографическому — легко проследить на истории одного
текста, например летописи (Устюгова, 1973; Андрейчева, 1981;
и др.).
Несколько факторов социокультурного характера определя-
ют иллюзорность существования двух литературных языков
Древней Руси.
Исторически это на самом деле два «языка», но неравнопра-
вие русского и старославянского состоит в том, что второй пред-
ставлен только в первоначальных переводах, а русский известен
всем как «обычный язык». Отсюда вся проблематика, связанная
2Р2
с устными нормами книжной речи, с маркированностью старо-
славянского (он дан в образцах-текстах) .С одной стороны,
именно старославянский есть литературный язык, поскольку
лишь он дан в универсальной форме «литеры», не имеет устной
формы и не складывается в парадигмы; с другой — именно он
и не язык вовсе: чтобы обосновать его право считаться языком,
а не набором текстов, только в конце XIV в. стали переводить
грамматики, используя примеры таких текстов; грамматики
надписывались авторитетными именами и намеренно архаизиро-
вались по языку. Следовательно, только в конце «славянорус-
ского» периода осознали, что старославянский (или церковно-
славянский) — не язык, а тексты, и попытались изъяснить его
парадигму через греческий образец, как подобие последнего.
Идеологически также вполне реально вычленение двух
«языков». С точки зрения христианской символики небесное
противопоставлено земному при отсутствии среднего, но эта би-
нарная оппозиция на самом деле снимается раздвоением незем-
ных сил на благие и злые и совместной их противопоставлен-
ностью земному человеческому (Колесов, 1984). Сама рели-
гиозно-философская ситуация постоянно изменялась, поскольку
кроме язычества своего, славянского, на мировоззрение славян
влияли идеи античного язычества — через апокрифы и перево-
ды, ставшие важным источником средневекового научного зна-
ния. Апокрифическая литература в центре внимания всех значи-
тельных писателей — от Илариона до Аввакума, в ней и нейтра-
лизуется противоположность «языческий — православный».
Таким образом, и на идеологическом уровне бинарная оппози-
ция, теоретически постулируемая, практически не осуществля-
ется последовательно; это идеал, а не норма.
С этим связана и общекультурная сторона процесса: на та-
кой основе происходит трансплантация византийской культуры
посредством (сначала) восточноболгарского языка. Не извест-
но, что тут является «чужим»: язык или сама культура. Но бы-
ла бы возможна сама трансплантация культуры при непонят-
ности языка? Строгая бинарность культур также оказывается
рассеченной неким медиумом в виде языка «нерусского», но и
«негреческого». Отсюда функциональная двойственность в по-
стоянном восприятии церковнославянского языка на Руси: как
язык культуры он эквивалентен греческому, но как система-
язык — русскому. Форма и содержание как бы перетекали од-
но в другое по степеням силы, двоясь по функции, но не по
происхождению, не по структуре, не по форме.
Гораздо важнее лингвистическое раздвоение формы, возни-
кающее в процессе развития языковой системы: типологической
особенностью языковых форм является их раздвоение с после-
дующим семантическим насыщением на основе возникших в
процессе познания содержательных оппозиций.
Понятно, почему вариантность речи распределяется по се-
263
мантическим полюсам попарно; должна быть организована кон-
трастность форм, способных образовать семантическую корре-
ляцию; тем самым создается модель различений для доступа-,
ющих в язык новых пар, образуемых по тем же принципам. В
плане изучения таких оппозиций исследователю помогает зна-
ние о третьем — нейтральном — члене противопоставления,
который в условиях контрастности не смог стать организатором
новых семантических разграничений литературного языка.
Последнее, следовательно, также не доказывает обязатель-
ной попарной организации наличных вариантов: всегда есть
ряд вариантов, которые подчинены функциональному заданию
языка. Поскольку нас интересует процесс порождения литера-
турных идиом (в широком смысле), а не окончательный резуль-
тат его, всякий нейтральный элемент, не маркированный в раз-
витии модели, должен интересовать нас в первую очередь.
Рассмотрим этот процесс на типичном и традиционном при-
мере — истории полногласных/неполногласных форм.
На первый взгляд кажется, будто употребление полноглас-
ных/неполногласных корней не подчинено никакой закономер-
ности и весьма произвольно. Однако если исходить не из слу-
чайного набора текстов, а из последовательного развития си-
стемы языка, вся эта текстовая неопределенность исчезает.
Полногласные формы последовательно представлены в
устойчивых русских формулах, например в «Русской Правде»
(Клепарский, 1968, с. 226) или в «Слове о полку Игореве»
(Ларин, 1975, с. 163); только в полногласной форме встречаются
«бытовизмы» во всех рукописях XI — XIV вв. (Кандаурова,
1973, с. 67 — 68), всегда в определенных грамматических кон-
струкциях и формулах (Творогов, 1963, с. 214), и, как показы-
вает наш материал, в принципиальных русизмах, список кото-
рых постоянно увеличивается: ср. только оболочи, холопъ,
золотые сосуды у Ивана Грозного (в остальных случаях он
предпочитает неполногласие) и все шире в XVII в. (Тарковский,
1979, с. 101). В устойчивых книжных сочетаниях предпочита-
лось неполногласие, поэтому позже именно с них «снято» от-
влеченное значение модели (ср. лукавый врагъ, бремя грЪховъ,
из младыхъ ногтей и т. д.). Напротив, конкретная ситуация
данного момента стабилизировала полногласный вариант, осо-
бенно в наречии: на болони, не бологомь, не веремя и др.
(Кандаурова, 1967).
При этом, чем древнее по отношению к XV—XVI вв, текст
или его список, тем больше полногласных форм (подсчеты по
летописи см.: Хюттль-Фольтер, 1983, с. 60 сл.), в переводных
текстах они используются шире, чем в оригинальных (данные
по «Успенскому сборнику XII в.» см.: Кандаурова, 1964). Замет-
на соотносительность в употреблении взаимных форм как в
древнерусских текстах, так и в народных былинах: процесс раз-
264
вития оппозиций для обоих источников является общим (Яку-
бинский, 1953, с. 327; Мещерский, 1981, с. 77 — 78).
Действительно, в каждом отдельном случае можно опреде-
ленно говорить о постепенном включении полногласных/непол-
ногласных вариантов в общую семантическую оппозицию дан-
ных форм. Критерии их определения самые разные. Орфогра-
фический критерий: написание слова плЪнъ при общем
устранении 'б в словах типа врЪдъ указывает на то, что проти-
воположность «пЛ'Ьнъ — полонъ» возникла после XIV в. Ак-
центный критерий: изменение ударений время, бремя на по-
стоянное время, бремя при сохранении подвижности у голова,
гбродъ и др. показывает, что первые раньше вошли в семан-
тическую корреляцию русского литературного языка, чем по-
следние. Грамматический критерий: с XII в. употребля-
ется приставка пре- при предлоге передъ (Улуханов, 1968),
наречие всегда, а глаголы предпочтительно употребляются в
полногласной форме, в отличие от имен, которые как раз и нуж-
дались в дифференциации с родственными формами (ср. при-
ставку перед- для образования имен и пред- у глаголов — Улу-
ханов, 1966). Словообразовательный критерий: произ-
водные подчеркивают состоявшуюся дифференциацию форм, ср.
ворогъ ‘противник’, но врагъ ‘дьявол’ и в соответствии с этим
ворожа, ворожить, но враждебный, враждовать и т. д.
Совмещение по семантическому принципу полногласных/не-
полногласных форм при отсутствии предшествующего этому
единства литературного языка доказывает, что сущность нового
литературного языка заключается в синтезе всех исходных
форм, необходимых для реализации новой семантической моде-
ли. При этом основополагающим остается морфологический
принцип совмещения оппозитов (общность морфемы), a-в са-
мой противоположности всегда сознается отмеченная Б. И,. Оси-
повым двоякая оппозиция, т. е. в противопоставлении на одной
из сторон обязательно оказываются оба оппозита-: либо городъ,
с одной стороны, и городъ/градъ — с другой, либо градъ, с од-
ной стороны, и градъ/городъ — с другой.
Это затрудняет однозначное решение вопроса о том, какая
из форм маркирована: полногласная (Хюттль-Фольтер, 1983,
с. 17) или неполногласная (Кандаурова, 1972, с. 89). Марки-
ровки исторически изменялись, но на каждом этапе разверты-
вания дифференцирующей противоположности маркировано то,
что единственно, т. е. в первом случае полногласие, а во вто-
ром—неполногласие. В результате изменялись и стилистиче-
скге маркировки форм по жанрам, но существовали также ме-
стные особенности употребления в зависимости от книжных
школ (Хюттль-Фольтер, 1983, с. 175, 266, 305). Однако сово-
купность фактов распределения показывает, что временные гра-
ницы переходов от одной маркировки к другой совпадают с
началом XIII в. и началом XV в.; следовательно, особенно ин-
265
тенсивно неполногласные варианты распространены в эпоху
ига, до нее и после нее субстратом в развитии данной оппози-
ции является народно-разговорный язык. Хотя этот факт, мо-
жет быть, и внешнего характера, но он важен при оценке яв-
ления в плане формирования нового литературного языка.
В связи с этапами стилистической семантизации (Кандауро-
ва, 1967) происходили следующие перемаркировки членов оппо-
зиции.
Первая: исходная эквиполентность и, следовательно, стили-
стическая равнозначность.
Вторая: выделение книжного варианта как нового в отноше-
нии к русскому полногласию, которое становится маркирован-
ным.
Третья: к XIV в. избыточность пар начинала сокращаться
.либо путем устранения одного из оппозитов, либо в результате
их семантической дифференциации; маркированным становится
неполногласный, который семантически шире по объему. После
XIV в. в литературном языке полногласные появляются лишь
в бытовой лексике, а противопоставление полногласных непол-
ногласным системно организуется только в русском литера-
турном языке, потому что в церковнославянском оба значения
были одинаково свойственны неполногласным формам.
Четвертая: стилистический этап распределения начинается
с XV в., когда даже в традиционные древнерусские тексты вклю-
чаются славянизмы с неполногласием, что отмечается, напри-
мер, в новых списках «Русской Правды» (Клепарский, 1967;
Устюгова, 1973). Образовалась система-модель, хотя за узусом
оставалось право свободного выбора вариантов; усиление сла-
вянизации текстов вызывает совершенно искусственные формы
типа брана, грахъ, драга, клаколи, краль, прагъ и др. вместо
русских борона, горохъ и т. д.
Семантически содержание корреляции объясняли по-разно-
му: как противопоставление слов «конкретного — отвлеченного»
значений или «прямого — переносного» значений, значений «от-
рицательного, пассивного — и положительного, активного», или,
как предлагает понимать Хюттль-Фольтер( 1983, с. 17), «исто-
рически действительного, реального — и отвлеченно-символи-
ческого». Наши материалы показывают, что последовательное
образование коррелятивных пар происходило постепенно, и по-
рядок движения корней на основе градуального перемещения
легко установить и описать (ср.: Якубинский, 1953, с. 274; Ме-
щерский, 1981, с. 55). Только к XIV в., когда завершились все
этапы фонетического изменения неполногласных форм в
полногласные (Колесов, 1980, с. 75), стало сознаваться и раз-
личие между двумя прежде равноценными формами, поскольку
морфонологический состав слов сформировался и стало возмож-
ным оформление также семантического раздвоения. Ни один
из указанных признаков противопоставлений не является ис-
266
ходным, семантика первых парных противоположностей «снима-
лась» с традиционных формул, в составе которых обычно упот-
реблялась полногласная или неполногласная форма; важно бы-
ло именно вхождение нового варианта в смысловое противопо-
ставление прежнему варианту, потому что «неполногласные»
сочетания типа трава вообще-то были свойственны русскому
языку, и чистая форма типа градъ сама по себе ничего не зна-
чила. Все суждения о стилистическом, функциональном или се-
мантическом противопоставлении полногласных/неполногласных
форм до конца XIV в. лишены основания. Учитывая исключи-
тельную важность и взаимную связь двух основных процессов
(фонетических этапов стабилизации параллельных форм и раз-
вития переносных значений как объективного свидетельства вы-
деления словоформы из текста) остановимся на них подробнее.
Материал показывает, что наиболее последовательно полно-
гласные варианты сохранялись в текстах при наличии акутово-
го ударения (на втором слоге морфемы); практическое отсут-
ствие неполногласных форм у них совпадает с длительным
отсутствием переносных значений. Исторические словари пока-
зывают, что метафорический перенос у таких слов возможен
только после XVI в.; ср. болото (в современном языке ‘застой’),
ворона (совр. ‘ротозей’), горох (совр. ‘мелкие крапинки’), доро-
га (с XVI в. ‘поездка’), колода (совр. ‘препятствие’), колодязь,
корова (‘нерасторопная женщина’), короста (совр. ‘отпечаток’),
мороз, порог, солома (совр. ‘о слабовольном, мягком человеке’)
и т. д. Формы же с нисходящим ударением (на первом слоге
морфемы) при широком варьировании полногласных/неполно-
гласных очень рано развивали переносные значения, обычно ме-
тонимические, что как раз и характерно для древнерусского
языка. Поскольку метафорический перенос совпадает с фоне-
тическим ограничением акутовыми корнями, ясно, что это объ-
ективно отражает последующий этап в развитии корреляции
данных форм (после XV в.). Как показывают сопоставления
(Кандаурова, 1967), метонимический перенос у слов типа
власть, враг, время, нрав и др. совпадает с моментом семанти-
ческой дифференциации полногласных/неполногласных форм
(с конца XIV в.); объем понятия сужается обычно у слов в
полногласной форме, но не обязательно только у них. Некото-
рые пары долго оставались семантически несоотнесенными
(Кандаурова, 1967, с. 426), а толкования в исторических слова-
рях показывают, что сначала отвлеченно-переносное значение
вполне могло развиться и у полногласных вариантов (ср. голосъ
или прозорочьный ‘прозорливый’ при прозрачный ‘насквозь ви-
димый’ и т. д.). Корреляция возникла не сразу, на первых по-
рах происходила семантическая поляризация сходных форм,
еще не устоявшихся в виде семантической модели.
При этом мы сталкиваемся с двумя противоположными точ-
ками зрения. С. П. Обнорский полагает, что полногласная фор-
267
на вбирает в себя переносное значение слова, и, следовзлельно,
ела вюричка по происхождению (1946, с. 192), хотя объясняет-
ся это тем, что «полногласная форма [ворота.— В. Д’.] имела
более широкое значение ‘путь, вход, направление’, а врата бо-
лее узкое — ‘двери’» (Соколова, 1969, с. 215). Однако Б. А. Ус-
пенский считает, что «церковные славянизмы отличаются, с од-
ной стороны, более широким, а с другой стороны, более абст-
рактным значением по сравнению с соответствующими русиз-
мами» (Проблемы, 1975, с. 53). Вернее, по-видимому, первое,
поскольку именно конкретные значения предполагают либо
многозначность, либо даже энантиосемию; в частности, при пе-
реводах с греческого язык сам регулирует свои семантические
отношения с греческими эквивалентами, и вначале наблюда-
ется только перенос на метонимической основе; ср. также
семантическое развитие пар типа голова — глава, сторона —
страна, город — град и др. (Виноградова, 1980; Маркарьян,
1967; Соколова, 1976).
Сначала возникает как бы специализация основного значе-
ния слов, метонимически развивается ближайшее переносное
значение неотвлеченного свойства (ср. городъ ‘огород’->град'б
‘крепость, детинец’); раздвоение связано еще с собственным
значением слова и равно семантической редупликации (типа
думу думати). В зависимости от принадлежности к определен-
ной части речи полногласная и неполногласная формы образу-
ют разные степени отвлеченности: глаголы — самую низкую, а
у имен вырабатываются уже некоторые категориальные призна-
ки, хотя они еще увязаны со значением грамматической кате-
гории и не лексичны. Наконец, организуется законченная си-
стемная корреляция современного типа. Последовательное уси-
ление степеней отвлеченности приводит к семантической
корреляции имен, но не ранее XV в. Модель сложилась, и нача-
лось накопление новых пар (в наше время их около двухсот).
Таким образом, в последовательности образования данной
корреляции мы обнаруживаем фонетический этап до XIV в., за-
тем формирование семантической корреляции (на метонимиче-
ской, а потом Метафорической основе) и после всего чисто сти-
листическую дифференциацию оставшихся неиспользованными
форм. Основу изменений и здесь обусловливает устная речь род-
ного языка, а происходящие в нем изменения помогают формаль-
но фиксировать оппозиции, важные для литературного языка.
Развитие литературного языка вызывает последовательное
устранение первоначального синкретизма языковых форм. Про-
исходит спецификация различных уровней языка в отношении
семантики и познания. В известном смысле форма литературно-
го языка -- это результат повышавшейся системности языковой
структуры, стабилизации парадигм (обратная сторона распаде-
ния текстовых формул) как выражение системности,, освобож-
дения слова от контекста и т. д. Обозначившееся противостоя-
ние между живой системой и искусственной нормой постепенно
устранялось, потому что одновременный процесс развития язы-
ковой системы и научного исследования языка приводит к осо-
знанию того, что правильно понятая система языка и есть
норма. С точки зрения научной рефлексии это значит, что
историческая грамматика, которая изучает систему языка в ее
развитии, определяет все поиски и предпочтения тех или иных
форм в истории литературного языка; таким образом, ясно,
что из обработанных форм литературного языка национально
русское постепенно вытесняет все чужеродное, заимствованное
в текстах. Система сжимается и упрощается, при этом расши-
ряются функциональные возможности наличных языковых еди-
ниц, пределы стилистического варьирования, что в конечном
счете бесконечно обогащает русский язык. Системность языка
как формирующая лингвистическое и языковое знание сило
еще в наше время продолжает влиять на выбор стилистических
и функциональных вариантов, и Десятки новейших исследова-
ний показывают, каким образом это происходит. Описанное г-
этой книге разрушение синтагм и принципиальная замена тек-
ста (формулы) самостоятельным словом — основной процесс в
границах литературного языка средневековья.
Последовательное развитие классификационных принципов
членения мира: равнозначность эквиполентности — иерархия гра-
дуальности — строгость привативности — лежит в основе се-
миотической характеристики всех происходивших изменений в
природе, обществе и человеческом сознании. Переход от языче-
ства к христианству есть осознание градуальности наряду с
эквиполентностью (Колесов, 19836); переход к привативному
научному принципу связан с развитием современного научного
знания, которое формируется постоянно, в том числе и на осно-
ве изменений языка (Колесов, 1982; 1984).
Исходный синкретизм грамматических форм, т. е. нерасчле-
ненность их содержания и функций, доказывается многими фак-
тами. В самой эквиполентности заключен синкретизм форм, по-
скольку одна из них равноправна с другой во всей совокупности
признаков, которые еще подлежат аналитическому восприятию.
Синкретизм значения вспомогательных морфем (-ом в форме
столом одновременно указывает па категории рода, числа, паде-
жа и склонения) и все последующие изменения языка (напри-
мер, дифференциация средневековой многозначности в значении
производных — см.; Колесов, 1984) показывают направление в
специализации языковых форм.
Древняя культура синкретична во всех своих проявлениях
(ритуал — действие), слово как синкрета — это понятие, дан-
ное как представление, это слово-вещь, для которого одинаково
важны как объем, так и содержание заключенного в нем поня-
тия.
В древнерусских текстах обнаруживается интерес к объему
понятия и связанному с этим метонимическому переносу (см.:
Смирнов, 1979). Все семантические русизмы, отмеченные
А. И. Соболевским в древнерусских текстах, основаны на мето-
нимии; на то же указывают и примеры в этой книге. Сколько
однородных «вещей» может быть подведено под одно понятие-
слово — вот вопрос, волнующий средневекового книжника.
Трансплантация культуры посредством языка также возможна
только в подобных условиях: подгонка заимствованных понятий
к представлениям собственного быта на основе сходства общих
для обеих культур признаков (содержание понятия) — таков
этот прием культурного заимствования, который Е. М. Вереща-
гин назвал ментализацией, но который лучше определить как
семантическое насыщение.
Слово-вещь имеет название, которое в средневековую эпоху
становится общим знаком выражения однородных сущностей,
т. е. это не имя, а, скорее, «знамя». Синкрета становится про-
стым комплексом однозначных признаков, с помощью которых
именуются однородные предметы. Знаком слово становится в
момент освобождения его от контекста, т. е. к исходу XVII в.
(Колесов, 1983).
Важно, что многозначность развивается посредством перене-
сения образа, но не понятия — метонимически, а впоследствии
метафорически. Отсюда особая роль литературного языка в раз-
витии художественных форм средневекового слова. Многознач-
ность вообще существует скорее в познании, чем объективно,
в онтологическом смысле, поскольку некоторые значения слов
можно собрать в семантические пучки корреляций и истолко-
вать грамматически (Марков, 1981; Руделев, 1984). Постоян-
ное перетекание лексической семантики на семантику словофор-
мы (и наоборот) в соответствии, с изменившимся системным
соотношением составляет основное содержание истории литера-
турного языка. С лексического значения в результате обобще-
ния снимается уже отстоявшаяся грамматически семантическая
корреляция, и процесс этот всегда соотносится с параллельным
усилением словообразовательного моделирования; развитие си-
нонимии — узкостилистическая проблема — первоначально
также являлось средством разрушения возникшей в результате
распадения синтагм многозначности слова (Колесов, 1985).
Таким образом, и в отношении данной проблемы, как она
представлена в анализируемом материале, можно наметить два
хронологических рубежа: к началу XV в. завершился процесс
столкновения языческого синкретизма с христианским симво-
лизмом и происходила стабилизация связанных с их синтезом
языковых форм; к концу XVII в. развиваются новые установки
на язык и стиль, и древнерусский литературный язык претерпе-
вает самые кардинальные изменения.
Из проблем исторической поэтики отметим лишь те, которые
непосредственно относятся к нашей теме. Древнерусский пери-
270
од оказывается временем преимущественного развития метони-
мии в ущерб метафоре, поскольку метонимический перенос яв-
ляется первой возможностью разрушения словесной синкреты
и готовит почву для • развития новых художественных средств
слова.
Метафора многолика, потому что сравнение посредством
языковых форм может происходить самым разным способом —
от эпитета до символа. Однако не метафора в широком смысле,
понимаемая как троп вообще, является предметом изучения
лингвиста. Мы говорим о развитии форм познания средствами
литературного языка, который и сам благодаря этому совершен-
ствовался и обогащался.
Фундаментальность метафоры в теории познания определяет
базовые метафоры данной культуры (Гусев, 1984). Метафора
вообще возникает как потребность открыть новое, еще не на-
званное; это тенденция к обобщению прежде разорванных част-
ных фактов. Если метафору понимать не как всякий троп вооб-
ще, а более узко — как перенос по сходству, то она обычно ока-
зывается связанной с романтическими устремлениями художест-
венных школ, а метонимия — с классическими; метонимия
выражает идею пространства, метафора — времени. Все это в
высшей степени характерно для средневековой книжной культу-
ры — культуры метонимии.
/ Метонимия ближе к символу и разрушает его, предел раз-
вития метафоры, напротив, в создании символа. Символическое
мышление предполагает как бы одновременно существование в
двух мирах, воспринимаемых как единственный; метонимия рас-
калывает этот мир, метафора же расцвечивает его красками.
«Метонимическое мышление, смещающее границу между внут-
ренним миром субъекта и окружающей средой, активизирует
прежде всего установки на запоминание информации, которая
поступает извне» (Смирнов, 1979, с. 188); метафорическое мыш-
ление, наоборот, пресыщено информацией, оно, по словам А. Бло-
ка, жадно «пожирает» цивилизацию — «за ним стоит сама
смерть». Метонимия, разрушая семантический синкретизм сим-
вола, расчищает дорогу метафоре, и в этом смысл «того, что-
когда-то называли поэтичностью, а мы назовем теперь метони-
мичной символикой языка» (Ларин, 1975, с. 60). В результате
возникает многозначность слова — и метафора как продолже-
ние и реакция на такую многозначность; становясь важным
средством семантического словообразования, метонимия кон-
текстна, и чем выше семантический уровень лексической системы,
тем сильнее развивается метафоричность. Метонимия в извест-
ном смысле принудительна, прорастает из традиционного текста,
и образ возникает на базе слова без изменения лексического
значения; метафора — намеренное отклонение от обычного-
употребления слов, тут больше возможностей для индивидуаль-
ного творчества. В отличие от метонимии, метафоричность —
271
не следствие развития текста, а культурная установка, посколь-
ку и создание, и понимание метафоры задаются культурой (Гу-
сев, 1984, с. 120). Можно сказать также, что метонимия подго-
товила развитие метафоры, а метафорическое мышление созда-
ло язык литературы. Таким образом, с XV в. понятия «литера-
турный язык» и «язык литературы» перестали совпадать.
Вообще, по-видимому, только метонимия как образ, выраста-
ющий на семантической основе формулы, могла активно способ-
ствовать сопряжению культурных коннотаций в момент наложе-
ния двух культур, поскольку «более рассудочная» метонимия, в
сущности, ближе к понятию, чем метафора, которая всегда име-
ет национальную форму образа; раздвоение жанров, стилей и
языковых функций с XV в. как раз и связано с усилением наци-
онального русского элемента в порождении словесных образов.
Метонимическое значение только оттеняет основное значение
слова, не уничтожая его, и тем самым постепенно накапливает
семантические ресурсы слова, готового вырваться из контекст-
ного окружения; метафорическое значение в корне уничтожает
исходное, основное, и порождает новые слова. Однако в системе
языка отношения другие: метонимический перенос возможен в
самом слове, тогда как метафора осознается в контексте. Это
противоречие создает семантическое натяжение между значе-
нием и образом в древнерусском литературном языке.
Метонимия психологически и логически проще метафоры, по?
скольку соотнесение по смежности ближе к конкретности явле-
ния при отсутствии обобщения по сущности. Метонимия возни-
кает естественно при сокращении синтагмы (происходит семан-
тическая компрессия); ср. «выпил чашу зелена вина»->-«выпил
чашу», т. е. ‘выпил вино’‘выпил чашу’ (Черкасова, 1968, с.
33). Развитие метонимии на основе сокращения текстовых фор-
мул — весьма характерная особенность древнерусских литера-
турных текстов, тогда как при метафоризации важно не сокра-
щение сочетаний, а перенесение «освобожденного» слова в но-
вый семантический контекст. Епифаний Премудрый создавал
оригинальные контексты, поскольку возникло новое отношение
к словесному образу; и оценочная лексика, и вообще всякая
новая коннотация стали возникать на основе метафоры.
Кроме того, градацию признаков можно построить только с
помощью метафоры, а постоянная устремленность средневеково-
го сознания к идее иерархии настоятельно требует этого — и
метонимия взрывается метафорой. В отличие от метонимии, ме-
тафора всегда неожиданна, оригинальна, свежа. Метафорич-
ность в широком смысле — постоянное свойство языка, но осо-
знание этого факта проходит несколько этапов. Метафора как
художественное средство осознается лишь там, где понимают
различие между мыслью и словом, потому что всякий троп —
это «способ перехода от образа к значению», а «метафора раз-
вивается там, где есть осознание разнородности образа и значе-
272
ния» (Потебня, 1976, с. 420, 434), т. е. там, где есть уподобле-
ние, а не отождествление. Этого, как известно, не было ни в
языческом мифе, ни в ранней средневековой культуре, противо-
поставление абстрактного конкретному, одушевленного неоду-
шевленному, родового видовому еще не обрело языковых форм
до XV в. И только после этого времени в языке возникли воз-
можности для развития новых литературных форм.
ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучены два структурных компонента текста — синтагма и
фраза. Признаки синтагмы — грамматическое, семантическое и
ритмическое единство в соответствии с естественным членением
устной речи. Фраза — своего рода синтаксическая модель, ко-
торая организует ряд синтагм, объединенных общностью сооб-
щения, создает законченный текст. Возникает последователь-
ность: текст — фраза — синтагма, но аналитическое представ-
ление о ней условно, поскольку практически автор может сжать
весь текст до одной синтагмы или беспредельно расширять на-
бор синтагм до большого текста.
Отсюда нерелевантность словоформы в составе синтагмы по
крайней мере до начала XV в. Словоформы не сознавались как
отдельно сопоставимые, самостоятельные единицы и потому
варьировались, при этом возникало множество дублирующих
по словесному оформлению- выражений. Учитывая это принци-
пиальное отличие средневекового текста от современного, для
которого характерна относительная независимость слова от тек-
ста, можно понять и взаимную связанность понятий жанр и
стиль, а также представление о «слишком широком понимании
нормы» в средние века. Ни стиль, ни норма не распространя-
лись на отдельные словоформы, слова или звуки, столь дробных
единиц лингвистического текста до XVII в. просто не знали. Это
легко доказать ссылкой на словарную деятельность средневеко-
вых книжников и на тот факт, что морфема открыта научным
языкознанием только в начале XIX в. (Колесов, 1983, с. 126 —
127). Средневековые словари до конца XVI в., т. е. до создания
«Азбуковника», заняты истолкованием символов, т. е. ключе-
вых слов традиционных формул, вынесенных из книжной речи
(Ковтун, 1963; Колесов, 1984). Таким образом, до начала XV в.
у нас нет «стиля», а до середины XVII в. — и «нормы» в совре-
менном их понимании.
В стилистическом отношении и применительно к композиции
текста формула-синтагма воплощала «мотив» определенного
ритуала (ср., например, формулу «чаша смертная» в повестях
XV в. — Евсеева, 1985); именно принцип отбора и соединения
формул после XV в. создает жанровые ограничения текста. Не
все синтагмы разъяснены и поняты нами, что затрудняет и рас-
18 Колссоз В. В.
273
шифровку древнего текста. Если в синтагме главное — ключе-
вое слово, фраза — это конструкция, т. е. формальная упоря-
доченность группы разнородных синтагм. Такова основная фор-
ма текста, которая может изменяться, постоянно совершенст-
вуясь, особенно быстро путем заимствования продуктивных
типов, например, из переводных текстов (не из системы язы-
ка:). Целое (фраза) не равно сумме частей (синтагм), это диа-
лектически новый уровень текста, и если он создан организаци-
ей синтагм, то образует свое единство и развивается уже по
собственным правилам. Система формул организует сообщение;
ср. тип «плача» в определенном наборе синтагм. Это уже не
попарное соединение слов, а высказывание с признаками преди-
кации и модальности. Безусловно, есть некое сходство между
компонентами текста и логическими категориями: синтагма бли-
же всего соответствует понятию, фраза — суждению, тогда как
цельный текст есть цепочка «силлогизмов» (это сближение ус-
ловно хотя бы потому, что так же распределяются между со-
бой всякие семантически организованные коммуникативные еди-
ницы) .
Происходит постоянное перетекание с одного уровня текста
на другой и связанная с этим зыбкость понятия «жанр» в древ-
нерусской литературе. В сущности, стабилизация жанра в его
единстве со стилевыми средствами происходит после XV в. Это
обратная сторона языкового процесса сгущения в грамматиче-
ские парадигмы разнесенных по формулам словоформ и процес-
са выделения слова.
Характером единицы определяется и его смысловое ядро. У
ключевого слова синтагмы — значение (знак, воплощенный
в имени). У фразы — общее содержание, т. е. смысл, у тек-
ста в целом — идея. Соответственно этому различались и функ-
ции уровней текста и отношение к тексту, и общее представле-
ние о семантическом синкретизме ключевого слова.
Синтагма — единица языковая, и в средние века ее изучала
грамматика; фраза — стилистическая единица, правила ее по-
строения изучала риторика (ритмические характеристики син-
тагм под именем колонов также изучала риторика). Текст же,
связанный с излагаемой, доказываемой или защищаемой идеей,
ближе всего соотносился с жанром (хотя, может быть, лучше
говорить о средневековом синкретизме научного знания). В
рамках средневековой науки этой стороной текста занималась
диалектика, а затем логика. Таким образом, в научном изуче-
нии компонентов текста не было единства, разные составляю-
щие текста изучались самостоятельными дисциплинами. Ясно,
что и в сознании они не сводились еще в общую последователь-
ность порождения и распространения текста. Синтагма, фраза,
текст соединяются только случайным образом и обычно авто-
номны как в творческом процессе, так и в научной рефлексии
о них. Историческое развитие мысли постепенно сближает эти
274
три единицы, сводя их в один семантический фокус по свойст-
венным современному сознанию параметрам: язык — стиль —
норма. В средние века еще не было возможностей для подоб-
ных отвлеченных обобщений (Колесов, 1984).
В средние века текст создавали путем варьирования синтагм
или их распространения. Затем в качестве важного конструи-
рующего элемента выступает фраза-мотив, а позже и отдельно
взятые слова. Идиома в средневековом языке — исключение, а
не правило, поскольку ключевые слова всегда сами себе «подби-
рают» соответствующие смыслу словоформы.
Любопытно, что средневековые манеры перевода, последова-
тельно сменявшие друг друга с X по XVII р., столь же точно
соотносятся с этапами развития связей между тд-кстом и синтаг-
мами: открытый перевод «переводит разумъ», т. е. идею всего
текста; вольный перевод с XII в. переводит смысл (синтагмы);
дословный перевод с конца XIV в. интересуется конкретным
значением отдельного слова; грамматический перевод с на-
чала XVI в. исходит уже из словоформы родного языка, что
указывает на осознание грамматических парадигм (ср.: Мат-
хаузерова, 1976, с. 25 — 55).
Таким образом, функция слова, синтагмы или фразы всегда
определялась степенью развития соответствующего компонента
текста, т. е. в конечном счете системой языка. Взаимозависи-
мость в развитии системы языка и литературных норм сущест-
вует на всем протяжении истории русского языка; литератур-
ная, обработанная, и народно-разговорная формы — разные
стороны одного явления, которые то сближались по структуре и
объему в зависимости от функциональной потребности, то рас-
ходились на время, то влияли друг на друга, то стилистически
отталкивались одна от другой. Развитие литературного языка
как высшей формы интеллектуального общения обусловливало
многие сокращения системы в парадигматическом плане (упро-
щение типов склонения или системы прошедших времен, но рас-
ширение числа структурообразующих форм — союзов, предло-
гов, наречий) или, с другой стороны, — развертывание иерархи-
чески построенной синтаксической перспективы (с увеличением
структурообразующих форм — союзов, наречий, предлогов). На
материале изученных текстов видно разрушение морфологически
связанных сочетаний (словоформ) и развитие синтаксической
перспективы текста. Валентность грамматических слов повыша-
ется по отношению к нашему времени за счет разрушения фор-
мул-синтагм. Дифференциация синтаксических средств и функ-
циональная специализация слова привели к трем решающим
преобразованиям: к автономности лексем в тексте и в системе,
к сгущению парадигм на уровне слова, к последовательному
перенесению категориальных свойств с текста на отдельное сло-
во: залог, вид. определенность, одушевленность и т. д., прежде
разлитые в тексте '’таповятся грамматическими признаками
18*
275
слова. Новые грамматические средства появляются для выра-
жения принципиально новых, только что вычлененных в созна-
нии категорий: не только пространства, но и времени, не только
условия, но и причины, не только модальности, но и цели и
т. д. Это заметно даже на словообразовании, особенно активно
развившемся с XVI в. по новым, вынесенным из литературного
языка моделям. Деривация производных, как показывают по-
следние изыскания (Азарх, 1984; Николаев, 1987), последова-
тельно отразила зависимость от изменявшихся таким образом
категорий рода, числа, падежа и т. д.
Искусственно разрывать в исследовании развитие системы и
развитие нормы нельзя, это неизбежно приводит к просчетам в
оценке литературного языка.
Нельзя также игнорировать соответствия в развитии языка
и стиля — их органическая связь важна в исследовании про-
цесса. Вообще основой сравнения литературно-книжного и на-
родно-поэтического текстов могут стать именно стилистические
категории, которые за дифференциацией внешних языковых
форм несут и семантические различия языка и текста.
В русском литературном языке развитие тропов хронологи-
чески связано с этапами развития жанров, стилей и функций
языка как художественного средства. Более того, параллельно
двум культурным источникам в становлении литературного язы-
ка происходила постоянная конфронтация двух возможностей в
развертывании тропов: (1) метонимия — синекдоха — гипер-
бола — ирония (в XVII в.) как исключительно народное пред-
почтение связей по смежности и (2Д метафорический эпитет —
метафорическое сравнение — метафора как конечный резуль-
тат семантической компрессии и осознания связей по сходству,
т. е. культурное давление со стороны (ср.: Еремина, 1976; исто-
рические формы метонимии и метафоры изучены в классических
трудах А. А. Потебни и А. Н. Веселовского). Именно поэтому
все народные метафоры вырастают на метонимической основе
(примеры см.: Смирнов, 1979, с. 187, 199 и др.). Поступатель-
ное движение в органическом развитии метафоры начинает Епи-
фаний Премудрый, для которого характерен метафорический
эпитет, накладываемый на логическое сравнение, хотя и его ме-
тафора в основе еще метонимична (Коновалова, 1963; Китч,
1976; Бертнес, 1984). Последнее важно, поскольку метонимия
чаще встречается в разговорной речи, а метафору в узком смыс-
ле можно считать достоянием книжной культуры; на многих
примерах мы уже убедились в том, насколько сильно влияет
народная речь на стиль Епифания.
Переход от метонимического мышления к метафорическому
сказывается на всех уровнях литературного языка, включая
принципы организации текста. Так, паратаксические конструк-
ции, характерные именно для устной речи, долго сохраняются
5 текстах как выражение типично метонимических обозначений
>76
(Потебня, 1968). Метафоричность тяготеет к гипотаксису, раз-
рывающему равномерную последовательность изложения. Ассо-
циация по смежности, которая полнее всего проявляется в син-
тагме текста и вообще равнозначна синтагменным связям,—
метонимична; ассоциация по сходству, парадигматичная по
существу, — метафорична и активно развивается только в усло-
виях семантического освобождения слова от контекста. Развитие
метафорического сознания возможно только при условии высо-
кой организации системных связей в языке-основе; в древнерус-
ский период восточнославянский язык к этому еще не был
готов.
Таким образом, культурные метафоры развиваются истори-
чески в результате разнонаправленных процессов развертывания
семантической структуры языка и стабилизации новых форм
языкового сознания — литературного языка. Все проблемы
средневековья связаны с разработкой объема понятия, заклю-
ченного в слове, и потому насквозь метонимичны; это готовит
принципиально важные изменения в отношении к слову, посте-
пенно перенося внимание на содержание понятия, заключенно-
го в нем, — готовя, следовательно, переход к метафоризации, к
стилевому многообразию, к откровенной ориентации на народ-
но-разговорный язык как субстрат развивающегося литератур-
ного языка. Новая — социально и культурно совершенная —
форма национального языка развилась и окрепла, она действу-
ет. Ей предстоит еще много противоречивых изменений и даже
движения вспять, но она есть — и за ней будущее.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В создание старославянских текстов внесли лепту книжники
многих славянских стран, но в качестве образцового варианта
на Руси в середине XI в. была принята обработанная в Восточ-
ной Болгарии так называемая симеоновская редакция этих тек-
стов.
Исходные старославянские тексты постепенно совмещались с
формами живой речи, развивая условные формы книжного
(церковнославянского) языка русского извода; в России этот
процесс завершился к началу XVII в.
Материальной основой совмещения восточнославянского
языка и литературных текстов стали общность художественных
средств (символ) и основных единиц текста (синтагма).
На протяжении тысячелетней истории взаимодействие лите-
ратурных текстов и народного языка было активным, постоян-
ным и взаимным; былина и народная песня содержали не мень-
ше славянизмов, чем любой конфессиональный текст, — преж-
де живых элементов народной речи.
Письменные формы литературы развивались от текста к язы-
ку, устные формы — от языка к тексту.
Для традиционного текста важнее форма, для народного
языка — семантика; для книжного текста важна синтагма, для
языка — парадигма.
В средние века постоянно противостояние двух форм выска-
зывания: публичной (основанной на риторике) и разговорной
(основанной на обычной речи); их конфронтация и взаимная
поддержка составляют основное содержание истории русского
литературного языка — это одинаковые манеры речи (обе в
устной форме), одинаково общепринятые образцы; они норма-
тивны каждая в своей сфере и одинаково литературны, по-
скольку могут быть записаны в случае необходимости. На их
содержательном противопоставлении формируются и перерас-
пределяются возникающие в результате естественного развития
языка варианты и формы.
278
Основным стимулом преобразования литературного языка
являлось развитие восточнославянского языка, в результате че-
го возникала необходимость сохранить единство восточносла-
вянской речи в общей авторитетной форме, ориентированной
поэтому на архаизм; литературные формы постоянно приспосаб-
ливались к разговорному языку. В литературном языке средне-
вековья обнаруживаются три основных сдвига, связанных с воз-
действием устной речи: вторая половина XII в. (Кирилл Туров-
ский), начало XV в. (Епифаний Премудрый), вторая половина
XVII в., т. е. они происходили регулярно каждые 250 лет.
Изучение текстов по типичным жанрам показывает двоякую
линию развития: последовательное расслоение по идеологиче-
скому принципу (духовное — гражданское) и стилистическое
раздвоение к началу XV в. каждого исходного жанра, прежде
объединяемого общностью функции.
В зависимости от функции жанра проявление живого языка
в одних из них начинается раньше, является более устойчивым,
чем в других. Давление со стороны переводных текстов на де-
ловые (типа «Судебника») минимально и к XIV в. фактически
ликвидировано — и так, с уменьшением влияния разговорной
речи, вплоть до евангельской притчи, в обработке которой воз-
действие разговорной речи минимально. Так в течение столетий
в книжных текстах разного назначения образовался широкий
спектр стилистических средств языка.
При общем сходстве моментом различения языковых форм в
древности была их функция, и лишь со временем, при еще боль-
шей дифференциации наличного текстового материала, к этому
присоединяется стилистическая маркированность; разграничение
по жанрам начинается ближе к нашему времени как заключи-
тельный этап выделения из синкретизма «функция — жанр —
стиль». Это объясняет исходную амбивалентность древнерус-
ских «жанров» и их способность соединяться в стилевые блоки
анфиладного типа.
Епифаний открыл высокий стиль на фоне среднего, Авва-
кум —• низкий на фоне среднего, но ни один из них не осознал
значения своего открытия. Каждый сталкивал выделенный им
стиль с нейтрально-общим, и никто не мог создать норму наци-
онального литературного языка: писатели работали на уровне
текста, не выделяя парадигм языка.
В раннем средневековье текст был получен сразу как авто-
ритетный, как образец, который обладал достоинством нормы.
В результате развития языка и аналитического дробления текста
на фразы, предложения, слова и т. д. к началу XVII в. возни-
кает нормативность как результат преобразования системы,
давшей представление о парадигме, т. е. норме на уровне грам-
матики и словаря. Сегодня возникает проблема кодификации,
т. е. сознательного выбора нормативного варианта на основе
выработанных системой и функционально оправданных вариан-
279
тов. В то время, как книжная традиция всегда ориентирована
на формальный архаизм, последовательный выбор нейтрального
среднего члена в исходной стилистической оппозиции — нацио-
нальная традиция.
Преобразование формулы-синтагмы начинается с XV в. под
давлением изменившейся системы языка, поскольку функция
текста другой своей стороной прорастает в стиль; раздвоение
стилей приводит к сознанию того, что архаичное есть высокое,
а обычное (нейтральное) — не высокое.
В средневековой литературе стиль дифференцировался с по-
мощью формы при нетронутости семантики, которая являлась
общей основой обеих культурных форм языка; семантика — то
общее, что соединяло устную и письменную речь как форму
одного языка.
Стабилизация парадигм церковнославянского языка в нача-
ле XVII в. пресекла дальнейшее развитие этой высокой книжной
формы, ибо замкнутые языковые формы омертвляются; посте-
пенно все новые и новые жанры литературы пропитывались
формами книжного языка, воплощая сменявшиеся установки на
текст и на единство литературной формы.
Основой развития литературного языка являлась стабилиза-
ция системы живого языка и последовательное развитие лите-
ратуры, которое, в свою очередь, зависело от изменения усло-
вий и стиля жизни.
Каждая единица/гекста является связанной и в абстрактном
своем воплощении предстает как синкрета; исходный синкре-
тизм текстового наполнения постепенно дифференцировался и
формально (порождая книжные архаизмы) и семантически
(продолжается развитие разговорной речи), но соотношение
между ними постоянно менялось.
Основным содержанием в развитии языка (в его отличии от
текста-образца) являлись кристаллизация грамматических па-
радигм и освобождение слова из формульной синтагмы.
Литературный язык все больше становился языком интел-
лектуальных форм деятельности, поэтому он преображался в
связи с развитием мышления и новых типов деятельности: от
логоса к рацио.
Художественнее формы языка также связаны с интеллекту-
альными потенциями своего времени: имя — понятие, глагол
и прилагательное — признак и т. д. Рема развивается в ущерб
для темы: в информации становится важным то новое, что не-
сет сообщение, а не уже известное. Содержание и объем поня-
тия в слове постигаются последовательно: сначала в метоними-
ческих переносах, а затем в последовательном выявлении приз-
наков объекта (сравнение — эпитет — метафора).
Разрушение исходного семантического синкретизма в ре-
зультате развития многозначности (семантическая парадигма
слова извлекается из множества однородных текстов)—мета-
280
форично. Это открытие Епифания породило развитие словооб-
разовательных типов и моделей, необходимых для устранения
многозначности самостоятельного слова. Семантическая одноз-
начность слова — процесс, обратный стабилизации граммати-
ческой парадигмы его словоформ.
В последовательности развития литературных форм обозна-
чается становление словесного образа; символ — метонимия —
метафора.
Последовательное накопление форм языка создавало неиз-
бежное разнообразие, что позволило «снять» с них все более
высокие уровни абстрактных понятий, выраженных словом или
парадигмой, т. е. выйти за пределы текста, осознать категории
языка, освободить мышление от образца-штампа.
Накопление архаических форм, однозначных в выражении
семантически общего, позволило материализовать единство сло-
ва и совокупность его форм (т. е. парадигму); пока этого не
произошло, невозможно было выделение разных стилей. Писа-
тели средневековья, поняв новый принцип выражения мысли,
по-прежнему воплощали его в старых формах. Положение дел
изменилось после того, как культура стала ориентироваться на
деловой текст в ущерб конфессиональному.
В развитии литературного языка ведущей является семанти-
ка, а не форма, в конечном счете — национальное, а не классо-
вое; форма только обслуживает развивающиеся потребности
общества, и предпочтительность той или иной формы выдает
культурную, социальную и идеологическую позиции средневе-
кового книжника. Народно-разговорный язык на всех стадиях’
важнее книжного, поскольку он порождает новые формы, не
отменяя старых.
Не было принципиальной разницы между «разными языка-
ми» (типами, стилями, формами воплощения языка и т. д.)
Древней Руси: были разные тексты, которые создавались на ос-
нове различных принципов и образцов в рамках одного и того
же славянского языка. Этот древний литературный язык удоб-
нее всего назвать славяно-русским.
«Как материал словесности язык славяно-русский имеет не-
оспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его
была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык
вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, да-
ровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрас-
ные обороты, величественное течение речи, словом — усыновил
его, избавя таким образом от медленных усовершенствований
времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе
заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие
необходимо должно было отделиться от книжного; но впослед-
ствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сооб-
щения наших мыслей» (А. С. Пушкин).
СОКРАЩЕНИЯ
БАН
ВЯ
Г ИМ
ГПБ
ИОРЯС
пдп
ПДРЛ
ПЛДР
ППСб.
ПСРЛ
РИБ
Сб. ОРЯС
Ст.-б.
ТОДРЛ
ЦГАДА
Чт. ОИДР
IJSLP
— Библиотека Академии наук СССР, Л.
— Вопросы языкознания, М.
— Государственный исторический музей, М.
— Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина, Л.
— Известия Отделения русского языка и словесности, СПб.
— Памятники древней письменности, СПб.
— Памятники древнерусской литературы, СПб.
— Памятники литературы Древней Руси, М., 1978 и сл. (по то-
мам) .
— Православный Палестинский сборник, СПб.
— Полное собрание русских летописей. СПб.; Пг.; М. (по томам).
— Русская историческая библиотека, СПб., 1872 и сл. (по то-
мам).
— Сборник Отделения русского языка и словесности, СПб.
— Старобългаристика, София.
— Труды Отдела древнерусской литературы, Л.
— Центральный государственный архив древних актов, М.
— Чтения Общества истории и древностей российских, М.
— International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, The
Hague.
СЛОВАРИ
Лексика — Лексика и фразеология «Моления» Даниила Заточника. Л.,
1981. (
Сл. РЯ XI—XVII вв. — Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975 и
сл. (по выпускам).
Словник — Slovnik jazyka staroslavenskeho. Praha, 1966 и сл. (по то-
мам).
Срезневский — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусско-
го языка. Т. I—III. СПб., 1893—1912.
Фасмер — Ф а с м е р М. Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV.
М„ 1964-1973.
ЭССЯ — Этим олоп:чсский словарь славянских языков. М., 1974 и сл.
(по выпускам).
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
Аверина, 1975 — Аверина С. А. Лингвистическое исследование древне-
славянского перевода «Жития Епифания Кипрского» по русскому спи-
ску XIII в.: Автореф. канд. дис. Л., 1975.
Адрианова-Перетц, 1934 — А д р и а н о в а - П е р е т ц В. П. Праздник ка-
бацких ярыжек. Л., 1934.
Адрианова-Перетц, 1947—Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэти-
ческого стиля Древней Руси. М.; Л., 1947.
282
Адриаиова-Перетц, 1951 — Адрианова-Перетц В. П. Историческая
литература XI — качала XV в. и народная поэзия // ТОДРЛ. Т. VIII.
1951. С. 95—137.
Азарх, 1984 — Азарх Ю. С. Словообразование и формообразование суще-
ствительньбГ в истории русского языка. М., 1984.
Амфилохий, 1883 — А м ф и л о х и й. Четвероевангелие Галичское 1144 г.
[Сличенное с древнеславянскими рукописями евангелий XI—XV вв.]
Т. 1—2. М„ 1882—1883.
Андрейчева, 1981—Андрейчева Н. И. Соотношение церковнославяниз-
мов и русизмов в лексике древнерусской паломнической литературы
// Эволюция и предыстория русского языкового строя. Горький, 1981.
С. 72—79.
Антонова, 1979 — Антонова М. Ф. Некоторые особенности стиля «Жи-
тия Стефана Пермского» // ТОДРЛ. Т. XXXIV. 1979. С. 127—133.
Арциховский, 1954 — Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бе-
ресте (из раскопок 1952 г.). М., 1954.
Арциховский, Борковский, 1958 — Арциховский А. В., Борковский
В. И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953—1954 гг.).
М„ 1958.
Арциховский, Тихомиров, 1953 — Арциховский А. В., Тихомиров
М. Н. Новгородские грамоты па бересте. М., 1953.
Бабкин, 1948 — Бабкин А. М. Фразеология Посошкова (по материалам
«Книги о скудости и богатстве») // Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та
им. А. И. Герцена. 1948. Т. 69. С. 77—96.
Бегунов, 1976 — Бегунов Ю. К. Три описания весны // Зборник исто-
puje кнэпжевности. Кгь. 10. Београд, 1976. С. 269—281.
Белецкий, 1922 — Белецкий Л. Т. Литературная история Повести о Мер-
курии Смоленском. Пг., 1922.
Белоброва, 1977 — Белоброва О. А. О «Книге паломник» Антония
Новгородского // Византийские очерки. М., 1977. С. 225—235.
Бертнес, 1984 — Bortnes J. The function of wordmeanings in the structure
of Epiphanius’ Life of Saint Stephen, Bishop of Perm // Medieval
Russian Culture. Los Angeles, 1984. P. 310—342.
Богерт, 1984 — Bogert R. On the rhetorical style of Serapion Vladimir-
skij // Ibid. P. 280—310.
Борковский, 1958 — Борковский В. И. Синтаксис древнерусских грамот:
Сложное предложение. М., 1958.
Боровкова-Майкова, 1912 — Б о р о в к о в а - М а й к о в а М. С. Нила Сор-
оково «Предание» и «Устав». СПб., 1912.
Брицын, 1962 — Б р и ц ы п ЛА. А. Терминология послушсства у восточных
славян древнерусского периода // Наук. зап. Кам’янец-Подктського
пед. 1Н-ту. 1961 (1962). С. 24—49.
Буланин, 1984 — Буланин Д. М. Переводы и послания Максима Грека.
Л., 1984.
Васенко, 1904 — Басенко П. Г. Повести о кн. Михаиле Васильевиче Ско-
пине-Шуйском. СПб., 1904 (ПДП, т. 156).
Верещагин, 1971—Верещагин Е. М. Из истории возникновения перво-
го литературного языка славян: (Переводческая техника Кирилла и
Мефодия). М., 1971.
Верещагин, 1972 — Верещагин Е. М. Из истории возникновения первого
литературного языка славян: (Варьирование средств выражения в пе-
реводческой технике Кирилла и Мефодия). М., 1972.
Вигзелл, 1971—Вигзелл Ф. Цитаты из книг священного писания в со-
чинениях Епифания Премудрого // ТОДРЛ. Т. XXVI. 1971. С. 232—
243.
Вилинский, 1913 — В ил и некий С. Г. Житие Василия Нового в русской
литературе. Т. 2. Текст. Одесса, 1913.
Виноградов, 1975 — Виноградов В. В. Исследования по русской грам-
матике. М., 1975.
Виноградова, 1980 — Виноградова В. Л. Глава — голова в древнерус-
283
ском языке и в «Слове о полку Игореве» // Древнерусский язык:
Лексикология и лексикография. М., 1980. С. 144—160.
Волков, 1974 — Волков С. С. Лексика русских челобитных XVII века:
Формуляр, традиционные этикетные и стилевые средства. Л., 1974.
Ворт, 1975—Ворт Д. О языке русского права // ВЯ- 1975. № 2. С. 68—
75.
Ворт, 1977 — Worth D. S. On the structure and history of Russian. Mun-
chen, 1977 (Slavistische Beitrage, N 110).
Ворт, 1983 — Worth D. S. The second South Slavic influence in the
history of the Russian literary language//American contributions to
the IXth International congress of Slavists. Columbus, 1983. P. 349—
372.
Ворт, 1984 — Worth D. S. Toward a social history of Russian // Medieval
Russian Culture, 1984. P. 227—246.
Высоцкий, 1966 — Высоцкий С. А. Древнерусские надписи Софнн Киев-
ской. Вып. 1. Киев, 1966.
Георгиева, 1968—Георгиева В. Л. История синтаксических явлений
русского языка. М., 1968.
Герд, Капорулина, 1984 — Капорулина Л. В., Герд А. С. К истории
именного склонения в языке древнего Пскова // Севернорусские гово-
ры. Вып. 4. Л., 1984. С. 17—40.
Горшков, 1983—Горшков А. И. Теоретические основы истории русского
литературного языка. М., 1983.
Горшков, 1984 — Горшков А. И. Теория и история русского литера-
турного языка. М., 1984.
Григорян, 1978—Григорян В. М. Закономерности развития выразитель-
ных средств русского литературного языка XII—XV вв. и соотношение
текстов «Слова о полку Игореве» и «Задонщины». Ереван, 1978.
Груздева, 1976 — Груздева С. И. Заметки о существительном и прила-
Тательном в сказуемом // История русского языка. Вып. 1. Л., 1976.
С. 165—172.
Гусев, 1984 — Гусев С. С. Наука и метафора. Л., 1984.
Динамика, 1982 — Динамика структуры современного русского языка.
Л., 1982.
Дмитриев, 1964 — Дмитриев Л. А. Нерешенные вопросы происхождения
и истории экспрессивно-эмоционального стиля XV в. // ТОДРЛ. Т. XX.
1964. С. 72—89.
Дмитриев, 1973 — Д м и т р и е в Л. А. Житийные повести русского Севера
как памятники литературы XIII—XIV вв. Л., 1973.
Дурново, 1969 — Дурново Н. Н. Введение в историю русского языка.
М., 1969.
Дыбо, 1976 — Дыбо В. А. Закон Васильева-Долобко в древнерусском
(на материале Чудовского Нового завета) // IJSLP. Т. XVIII. 1975.
N 1. Р. 7—81.
Евгеньева, 1963 — Евгеньева А. П. Очерки по языку русской устной
поэзии в записях XVII—XX вв. М.; Л., 1963.
Евсеева, 1985 — Евсеева И. А. «Повесть о разорении Рязани Батыем».
Редакции XVI и XVII вв.: Автореф. канд. дис. Л., 1985.
Еремин, 1966 — Еремин И. П. Литература Древней Руси. М.; Л., 1966.
Еремин, 1968—Еремин И. П. Лекции по древней русской литературе.
Л„ 1968. z
Еремина, 1976 —Еремина В. И. Метонимия и ее формы // Культурное
наследие Древней Руси. Л., 1976. С. 274—280.
Ефимов, 1948 — Ефимов А. И. О фразеологических контекстах слова путь
// Учен. зап. Москов. пед. ин-та. 1948. Т. 56. Вып. 2. С. 123—136.
Жуковская, 1976 — Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших
славянских памятников. М., 1976.
Загребин, 1983 — Загребин В. М. Некоторые наблюдения над просоди-
ческими знаками в средневековых сербских рукописях // Вести. Ле-
284
нингр. уи-та. 1983. Сер. истории, языка и литературы. Вып. 2. С. 69—
75.
Зееман, 1985 — Зееман К. Д. Диглоссията и смесните текстове в Киевска
Русия // Ст.-б. IX. 1985. № 3. С. 3—10.
Исаченко, 1975 — Issatschenko A. Mythen und Tatsachen liber die Ent-
stehung der Russischen Literatursprache. Wien, 1975 (Osterreichische
Akademie der Wissenschaft. Philol.-Hist. Klasse. Sitzungsberichte 298.
Bd 5. Abhandlung. S. 7—52).
Исаченко, 1980—Issatschenko A. Geschichte der russischen Sprache.
Bd 1. Heidelberg, 1980.
йордаль, 1973 — Иордаль К. Греко-русские синтаксические связи //
Scando-Slavica. Т. XIX. Copenhagen, 1973. Р. 143—164.
Казакова, 1960 — Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения.
М.; Л., 1960.
Кандаурова, 1964 — Кандаурова Т. Н. Лексика с полногласными соче-
таниями в корне в Успенском сборнике XII в. // Учен. зап. Моск,
пед. ин-та им. В. И. Ленина. 1964. № 240. С. 204—233.
Кандаурова, 1967 — Кандаурова Т. Н. О характере оппозиций в парах
соотносимых между собой неполногласных и полногласных слов //
Там же. 1967. № 264. С. 375—390 (также с. 391—433).
Кандаурова, 1972 — Кандаурова Т. Н. Ассимиляция маркированных
церковнославянизмов в древнерусских памятниках XI—XIV вв. //
Проблемы общего и русского языкознания. М., 1972. С. 89—103.
Кандаурова, 1973 — Кандаурова Т. Н. О характере семантической со-
относительности слов с неполногласными и полногласными сочетания-
ми в корнях // Вопросы грамматики и лексики русского языка. М.,
1973. С. 65—76 (также с. 76—99).
Карский, 1930 — Карский Е. Ф. Русская Правда по древнейшему списку.
Л., 1930.
Ким, 1985 — Ким Н. Л. Средства выражения залоговых отношений в
древнерусских текстах: Автореф. канд. дис. Л., 1985.
Китч, 1976 — Kitch F. М. The literary style of Epifanij Premudryj: Pletenije
sloves. Munchen, 1976.
Клепарский, 1967—Клепарский Б. E. Полногласная и неполногласная
лексика в «Русской Правде» // Учен. зап. Моск. пед. ин-та им.
В. И. Ленина. 1967. № 264. С. 434—447.
Клепарский, 1968 — Клепарский Б. Е. Устойчивые словосочетания в
«Правде Русской»//Там же. 1968. №292. С. 221—241.
Ключевский, 1918 — Ключевский В. О. Курс русской истории. Т. I—IV.
Пг., 1918.
Ковтун, 1963 — Ковтун Л. С. Русская лексикография эпохи средневе-
ковья. М.; Л., 1963.
Ковтун, 1975 — Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI—
начала XVII в. Л., 1975.
Ковтун, Колесов, 1983 — Ковтун Л. С., Колесов В. В. [Рецензия] //
ТОДРЛ. Т. XXXVII. 1983. С. 391—400. — Рец. на кн.: Св. Матхаузе-
рова. Древнерусские теории искусства слова. Прага, 1976.
Колесов, 1974 — Колесов В. В, Лексическое варьирование в литератур-
ном языке XVII в. // Вопросы исторической лексикологии и лекси-
кографии восточнославянских языков. М., 1974. С. 130—137.
Колесов, 1975 — Колесов В. В. Лингвостилистическая характеристика
автографов Аввакума и Епифания // Пустозерский сборник. Л., 1975.
С. 210—227.
Колесов, 1976 — Колесов В. В. Динамика форм прошедшего времени
в древнерусских памятниках // История русского языка: Древнерус-
ский период. Л., 1976. С. 74—93.
Колесов, 1977—Колесов В. В. Лекшчш швденнорусизми у книжшй
мови Давньо! Pyci // Мовознавство. 1977. № 1. С. 41—49.
Колесов, 1978 — Колесов В. В. К реконструкции общерусской лексиче-
285
ской системы со значением ’vita’ // Диалектная лексика 1975. Л., 1978.
С. 60—75.
Колесов, 1979 — Колесов В. В. Стилистическая функция лексических
вариантов в «Сказании о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. Т. XXXIV.
1979. С. 33—48.
Колесов, 1980 —Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка.
М„ 1980.
Колесов, 1981—Колесов В. В. Заметки по древнерусской фонетике //
Проблемы развития языка. Саратов, 1981. С. 123—131.
Колесов, 1981а — Колесов В. В. К характеристике поэтического стиля
Кирилла Туровского // ТОДРЛ. Т. XXXVI. 1981. С. 37—49.
Колесов, 19816 — Колесов В. В. «Сказание о Варяге и сыне его Иоанне»
// Русская речь. 1981. № 5. С. 101—107.
Колесов, 1982 —Колесов В. В. Введение в историческую фонологию.
Л., 1982.
Колесов, 1982а — К о л е с о в В. В. Гносеологические основы восточносла-
вянской грамматической мысли в эпоху средневековья // Схтдно-слов’-
янськ! граматики XVI—XVII ст. Ки!в, 1982. С. 25—28.
Колесов, 19826 — Колесов В. В История русского языка в рассказах.
М., 1982. i
Колесов, 1982в — Колесов В. В. Из заметок по древнерусской поэтике
И IJSLP.Vol. XXV/XXVI. 1982. Р. 239—245.
Колесов, 1983 — Колесов В. В. К принципам периодизации истории рус-
ского языкознания // Из истории славяноведения в России. Т. II.
Тарту, 1983. С. 122—136.
Колесов, 1983а — Колесов В. В. Имя — знамя — знак // Сравнительно-
типологические исследования славянских языков и литератур. Л.,
1983. С. 24—40.
Колесов, 19836 — Колесов В. В. Семантични промени на думите в про-
водите на йоан Екзарх Български // България 1300. София, 1983.
С. 217—230.
Колесов, 1984 —Kolesov V. Traces of the Medieval Russian Language
Question in the Russian Azbukovniki // /Aspects of the Slavic Language
Question. Vol. II. East Slavic. New Haven, 1984. P. 87—123.
Колесов, 1985 — Колесов В. В. Синонимия как разрушение многозначно-
сти слова в древнерусском языке // ВЯ. 1985. № 2. С. 80—87.
Колесов, 1986 — Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Pvch.
Л., 1986.
Колесов, 1986а — Колесов В. В. Заметки о древнерусской диглоссии //
Литературный язык Древней Руси. Л., 1986. С. 22—41.
Колесов, 19866 — Колесов В. В. Функция и норма в литературном язы-
ке // Функционирование языка и норма. Горький, 1986. С. 3—И.
Колесов, 1987 — Колесов В. В. Статистическое распределение глаголь-
ных форм в древнерусских источниках XI—XIV вв. // Структурная
и прикладная лингвистика. Вып. 3. Л., 1987. С. 115—130.
Коляда. 1963 — Коляда Г. И. Иван Федоров—редактор первопечатного
Апостола // Славянский сборник. II. Самарканд, 1963. С. 139—141.
Коляда, 1967 — Коляда Г. И. Выражения значения ‘свидетель’ в древне-
русском языке // Науч. тр. Ташкент, ун-га. 1967. Вып. 317. С. 3—12.
Коновалова, 1963 — Коновалова О. Ф. Сравнение как литературный
прием в Житии Стефана Пермского, написанном Епифанием Премуд-
рым // Учен. зап. Ленингр. ин-та холодильн. пром-ти. 1963. Каф. язы-
ка: вып. 1. С. 117—137.
Коновалова, 1977 — Коновалова О. Ф. Традиционная метафора в Жи-
тии Стефана Пермского // ТОДРЛ. Т. XXXII. 1977. С. 245—251.
Копыленко, 1967 — Копыленко М. М. Исследование в области славян-
ской фразеологии древнейшей поры: Автореф. докт. дис. Л., 196"7.
Копыленко, 1973 — Копыленко М. М. Кальки греческого происхождения
в языке древнерусской письменности // Византийский временник.
Т. 34. М., 1973. С. 141 — 150.
Коротаева, 1964 — Коротаева Э. И. Союзное подчинение в русском ли-
тературном языке XVII века. М.; Л., 1964.
Костючук, 1968 — Костючук Л. Я. Некоторые наблюдения над словосоче-
таниями, промежуточными между устойчивыми и свободными, в древ-
нерусском языке // Учен. зап. Псков, пед. ин-та.- Л., 1968 № 28.
С. 76—84.
Костючук, 1983 — Костючук Л. Я. Возможности семантических сдвигов
при сочетаемости слов: (К вопросу о становлении устойчивых сочета-
ний на метонимической основе) // Русская историческая лексиколо-
гия и лексикография. Вып. 3. Л., 1983. С. 81—89.
Кунавин, 1985 — К у на вин Б. В. Функциональные характеристики имен-
ных. действительных причастий в древнерусском языке: Автореф. канд.
дис. Л., 1985.
Кунавин, 1985а — Кунавин Б. В. К грамматической характеристике
конструкций типа б'Ь уча в древнерусском языке // Вести. Ленннгр.
ун-та. 1985. Сер. ист., языка и лит-ры. № 9. С. 73—77.
Лавров, 1941 — Лавров Б. В. Условные и уступительные предложения в
древнерусском языке. М.; Л., 1941.
Ларин, 1975 — Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного
языка (X —сер. XVIII в.). М„ 1975.
Лесневский, 1977 — Лесневский В. С. Синтаксический строй сложнопод-
чиненных предложений с союзом да в переводных славянорусских
произведениях XI—XIV вв.: Автореф. канд. дис. Л., 1977.
Лихачев, 1962 — Лихачев Д. С. Текстология (на материале русской
литературы X—XVII вв.). М.; Л., 1962.
Лихачев, 1967 — Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л.,
1967.
Лихачев, 1972 — Лихачев Д. С. Своеобразие исторического пути русской
литературы XI—XVII вв. // Русская литература. 1972. № 2. С. 3—
36.
Лихачев, 1985 — Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура
его времени. Л., 1985.
Ломов, 1969 — Ломов А. Г. Устойчивые словесные комплексы древнейших
русских летописей: Автореф. канд. дис. Самарканд, 1969.
Львов, 1975 —Львов А. С. Лексика «Повести временных лет». М., 1975.
Ляпунов, 1929 — Ляпунов Б. М. Семасиологические и этимологические
заметки в области славянских языков: приставка из- // Slavia. 1929.
VII. Ses. 4. S. 754—765.
Маркарьян, 1967 — Марка рьян Н. Е. Из наблюдений над параллельным
использованием образований страна — сторона в Новгородском и Мо-
сковском летописных сводах XV в. // Вопросы истории, филологин и
педагогики. Вып. 2. Казань, 1967. С. 173—178.
Марков, 1981—Марков В. М. О семантическом способе словообразо-
вания в русском языке. Ижевск, 1981.
Маркова, 1984 — Маркова 3. М. Семантико-синтаксическая характери-
стика местоименных производных в языке памятников XV—XVII вв.:
Автореф. канд. дис. Л., 1984.
Матисен, 1972 — Mathiesen К. Ch. The inflectional morphology of the
Synodal Shurch Slavonic verb. New York, 1972.
Матхаузерова, 1976 — Матхаузерова Св. Древнерусские теории искус-
ства слова. Прага, 1976.
Матхаузерова, 1976а — Матхаузерова Св. Две теории текста в рус-
ской литературе XVII в. // ТОДРЛ. Т. XXXI. 1976. С. 271—284.
Мещерский, 1958 — Мещерский Н. А. «История Иудейской войны» Ио-
сифа Флавия. М.; Л., 1958.
Мещерский, 1964 — Мещерский Н. А. Проблемы изучения славяно-рус-
ской переводной литературы XI—XV вв, // ТОДРЛ. Т. XX. 1964.
С. 180—231.
Мещерский, 1978 — Мещерский Н. А. Источники и состав древней славя-
но-русской переводной письменности IX—XV вв. Л., 1978.
287
Мещерский, 1981 — М е щ е р с к и й Н. А. История русского литературного
языка. Л., 1981.
Моисеева, 1958 —Моисеева Г. Н. Валаамская беседа. М.; Л., 1958.
Молдован, 1984 — М о л д о в а н А. М. «Слово о законе и благодати» Ила-
риона. Киев, 1984.
Некрасов, 1870-—Некрасов И. Зарождение национальной литературы
в северной Руси. Ч. 1. Одесса, 1870.
Нечунаева, 1978 — Н е ч у н а е в а Н. А. Типы словообразовательных раз-
ночтений в древнерусских майских мннеях // Вести. Ленингр. ун-та.
1978. Сер. ист., языка и лнт-ры. № 2. С. 105—114.
Нечунаева, 1984 — Нечунаева Н. А. Вариативность приставочных при-
лагательных в древнерусских списках служебной минеи: (Вариатив-
ность как фактор развития языка) // Проблемы развития языка. Са-
ратов, 1984. С. 119—128.
Николаев, 1987 — Николаев Г. А. Русское историческое словообразова-
ние. Казань, 1987.
Обнорский, 1946 — Обнорский С.. П. Очерки по истории русского лите-
ратурного языка старшего периода. М.; Л., 1946.
Обнорский, Бархударов, 1952 — Обнорский С. П.. Бархударов
С. Г. Хрестоматия по истории русского языка. Ч. 1. М., 1952.
Образование, 1970 — Образование севернорусского наречия и среднерус-
ских говоров. М., 1970.
Орлов, 1902 — Орлов А. С. Об особенностях формы русских воинских
повестей (кончая XX в.). М., 1902.
Орлов, 1906 — Орлов А С. Исторические и поэтические повести об Азове.
М., 1906.
Орлов, 1908 — Орлов А. С. О некоторых особенностях стиля великорус-
ской исторической беллетристики XVI—XVII вв. // ИОРЯС. Т. XIII.
Кн. 4. 1908. С. 344—379.
Осипов, 1975 — Осипов Б. И. Вопросы графики, орфографии и пунктуа-
ции в «Грамматике» Мелетия Смотрицкого // Исследования по слави-
стике и языкам народов СССР. Барнаул, 1975. С. 65—81.
Осипов, 1978 — Осипов Б. И. Древняя русская пунктуация в свете тео-
рии актуального членения предложений // Лингвистический сборник.
Вып. 12. М., 1978. С. 132—139.
Осипов, 1982 — Осипов Б. И. Заметки об орфографии писцов Кирилло-
Белозерского монастыря в XV в. // История русского языка: Иссле-
дования и тексты. М., 1982. С. 287—297.
Осипов, 1985 — Осипов Б. И. К вопросу об орфографии и пунктуации
протопопа Аввакума // ТОДРЛ. Т. XXXIX. 1985. С. 399—403.
Осипов, 1986 — Осипов Б. И. О нормах древнерусской орфографии стар-
шего периода//Литературный язык Древней Руси. Л., 1986. С. 55—
72.
Отвиновска, 1974 — Otwinowska В. Jgzyk— narod — kultura. Wroclaw;
Warszawa; Krakow, 1974.
Павлов, 1885 — Павлов А. С. Книги законные. СПб., 1885.
Петрова, 1985 — Петрова Л. Я. Лингвотекстологическое изучение руко-
писи XI в. «XIII Слов Григория Богослова»: Автореф. канд. дис. Л.,
1985.
Пещак, 1979 — Пещак М. М. СтГчь дмових докуменпв XIV ст. Кшв,
1979.
Пиккио, 1973 — Picchio R. Models and patterns in the literary tradition of
medieval Ortodox Slavdom // American contributions to the Vllth inter-
national congress of Slavists. The Hague, 1973.
Порфирьев, 1897 — Порфирьев И. История русской словесности. Ч. 1.
Древний период. Казань, 1897.
Потебня, 1914 — Потебня А. А. О некоторых символах в славянской
народной поэзии. Харьков, 1914.
Потебня, 1958 — Потебня А. А. Из записок по русской грамматике.
Т. I—II. М„ 1958.
288
Потебня, 1968 —Потебня А. А. Из записок по русской грамматике.
Т. III. М„ 1968.
Потебня, 1976 —Потебня А. А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
Припадчев, 1986 — П р и п а д ч е в А. А. Иерархическая организация син-
таксической системы древнерусского книжного языка XI—XIII вв. Во-
ронеж, 1986.
Проблемы, 1975 — Проблемы славянской исторической лексикологии и
лексикографии. Вып. 1. Славянская историческая лексикология. М.,
1975.
Прокофьев, 1975 — Прокофьев Н. И. «Хождение Агрефения в Палести-
ну» // Литература Древней Руси. Вып. 1. М., 1975. С. 13.6—151.
Прокофьев, 1975а — Прокофьев Н. И. О мировоззрении русского средне-
вековья и системе жанров русской литературы // Там же. С. 5—39.
Прохоров, 1987—Прохоров Г. М. Памятники переводной и русской ли-
тературы XIV—XV вв. Л., 1987.
Робинсон, 1965 — Робинсон А. Н. Социология и фразеология символа
«тесный путь» у Аввакума // Проблемы современной филологии. М.,
1965. С. 438—442.
Руделев, 1984 — Руд еле в В. Г. Слово в лексической системе языка. Там-
бов, 1984.
Ружичка, 1958 — Ruzicka R. Griechische Lehnsyntax im Altslavisch //
Zeitschrift fiir Slawistik. T. III. Berlin, 1958. Hf. 2—4. S. 173—185.
Русановский, 1985 — Русан1вский В. M. Джерела р.озвитку схщно-
слов’янських лДературних мов. Ки!'в, 1985.
Рылов, 1984 — Рылов С. А. Средняя длина простого высказывания в
истории русского языка // Эволюция и предыстория русского языко-
вого строя. Горький, 1984. С. 30—39.
Савельева, 1976 — Савельева Л. В. Мононегативные и полинегатнвные
конструкции в Изборнике 1076 г. // История русского языка: Древ-
нерусский период. Л., 1976. С. 146—156.
Селищев, 1968 — Селнщев А. М. Избранные труды. М., 1968.
Семенов, 1893 — Семенов В. Древнерусская Пчела XIV в. в пергамен-
ном списке. СПб., 1893.
Сергеев, 1971—Сергеев Ф. П. Русская дипломатическая терминология
XI—XVII вв. Кишинев, 1971.
Сергеев, 1972 — Сергеев Ф. П. Русская терминология международного
права XI—XVII вв. Кишинев, 1972.
Сергеев, 1978—Сергеев Ф. П. Формирование русского дипломатического
языка. Львов, 1978.
Сергеев, 1984 — Сергеев Ф. П. Лексика сферы международных отноше-
ний. Киев, 1984.
Смирнов, 1979 — Смирнов И. П. Эпическая метонимия // ТОДРЛ.
Т. XXXIII. 1979. С. 175—203.
Соболевский, 1910 — Соболевский А. И. Материалы и исследования в
области славянской филологии и археологии. СПб., 1910.
Соболевский, 1980 — Соболевский А. И. История русского литератур-
ного языка. Л., 1980.
Соколова, 1969—Соколова М. А. К вопросу о церковнославянизмах //
Вопросы теории и истории языка. Л.. 1969. С. 213'—216.
Соколова, 1970 — Соколова М. А. К истории слов город и град //
Учен. зап. Казан, пед. ин-та. 1970. Вып. 77. Сб. 6. С. 17—22.
Соловьев, 1961—Соловьев А. В. Епифаний Премудрый как автор «Слова
о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя
русьскаго»//ТОДРЛ. Т. XVII. 1961. С. 85—106.
Сравнительный синтаксис, 1968 — Ср авни тельно-исторический
синтаксис восточнославянских языков: Члены предложения. М., 1968.
Сравнительный синтаксис, 1973 — Сравнительно-исторический синтаксис во-
сточнославянских языков: Сложноподчиненное предложение. М., 1973.
Стеблин-Каменский, 1978 — С т е б л и н - К а м е н с к и й М. И. Историческая
поэтика. Л., 1978.
19 Колесов В. В.
289
Тарковский, 1979 — Тарковский Р. Б. Экспрессивно-стилистические ак-
центы в системе пословного перевода в России XVIII в. // ТОДРЛ.
Т. XXXIV. 1979. С. 162—175.
Тарланов, 1985 — Тар ланов 3. К. Текстообразующая роль синтаксиче-
ских конструкций в Житии Аввакума // ТОДРЛ. Т. XXXIX. 1985.
С. 410—416.
Творогов, 1962 — Тв о рогов О. В. Традиционные устойчивые словосоче-
тания в Повести временных лет // ТОДРЛ. Т. XVIII. 1962. С. 277—
284.
Творогов, 1963 — Творогов О. В. К вопросу об употреблении старосла-
вянизмов в Повести временных лет // ТОДРЛ. Т. XIX. 1963. С. 208—
214.
Тот, 1985 — Тот И. X. Русская редакция древнеболгарского языка в конце
XI —начале XII в. София, 1985.
Трубецкой, 1983 — Трубецкой Н. С. «Хождение за три моря» Афанасия
Никитина как литературный памятник // Семиотика. М., 1983. С. 437—
461.
Улуханов, 1966 — Улу ханов И. С. Глаголы с приставкой пред- в древ-
нерусском языке XI—XVII вв. // Лексикология и словообразование
Древнерусского языка. М., 1966. С. 123—133.
Улуханов, 1968 — У л у х а н о в И. С. О судьбе славянизмов в древнерус-
ском литературном языке (на материале глаголов с приставкой пре-)
// Памятники древней письменности. М., 1968. С. 19—71.
Унбегаун, 1969 — Unbegaun В. О. Selected papers on Russian and Slavo-
nic philology. Oxford, 1969.
Успенский, 1969 — Успенский Б. А. Влияние языка на религиозное со-
знание // Тр. по знаковым системам. Вып. IV. Тарту, 1969. С. 159—168.
Успенский, 1970 — Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1970.
Устюгова, 1973 — Устюгова Л. М. Типы лексических разночтений в спис-
ках «Повести временных лет» // Вопросы грамматики и лексики рус-
ского языка. М., 1979. С. 100—115 (также с. 116—133).
Фелицына, 1969-—Фелицына В. П. Сопоставление текстой «Моления»
Даниила Заточника н сборника пословиц XVII в. // Вопросы теории и
истории языка. Л., 1969. С. 119—123.
Филин, 1949 — Филин Ф. П. Лексика русского литературного языка
древнекиевской эпохи. Л., 1949 (Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та
им. А. И. Герцена, т. 80. Каф. русск. яз.).
Филин, 1981—Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного
языка. М„ 1981.
Хольтхаузер, 1967—Holthauser J. Epifanij Premudryj und Gregor von
Nissa // Festschrift fiir Margarete Woltner. Heidelberg, 1967. S. 64—
82. ,
Хроленко, 1981—Хроленко A. T. Поэтическая фразеология русской на-
родной лирической песни. Воронеж, 1981.
Хюттль-Фольтер, 1983 — Hiittl-Folter G. Die tratJtorot-Leneme in den
Altrussischen Chroniken: ein Beitrag zur Vorgeschichte der Russi-
schen Literatursprache. Wien, 1983.
Цакалиди, 1982 — Цакалиди T. Г. Общеотрицательные конструкции в
древнеславянском языке XI—XII вв.: Автореф. канд. дис. Л_, 1982.
Чаговец, 1901—Чаговец В. А. Преподобный Феодосий Печерский, его
жизнь и сочинения. Киев, 1901.
Черкасова, 1968—Ч е р к а с о в а Е. Т. Опыт лингвистической интерпретации
тропов (метафора) // ВЯ. 1968. № 2. С. 28—38.
Чернов, 1984 — Чернов В. А. Русский язык в XVII в. Красноярск, 1984.
Чижевский, 1956 — Cizevsky D. Zur Stilistik der altrussischen Literatu-
ren // Festschrift fiir Max Vasmer. Wiesbaden, 1956. S. 105—112.
Шахматов, 1908 — Шахматов А. А. Курс истории русского языка. СПб.,
1908 (литографированный курс лекций).
Шкляр, 1977 — Шкляр Р. М. Логико-смысловые частицы в древнерусском
и старорусском языках: Автореф. канд. дис. Киев, 1977.
290
Яблонский, 1908—Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические
писания. СПб., 1908.
^кубинский, 1953 — Яку би некий Л. П. История древнерусского языка.
М„ 1953.
УКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова формул и синтагм
бегун 101, 103
беда 57, 93, 95, 102, 110,
154
берег 100
бес 34
беседа 36, 219, 220, 225
бог 33, 38, 42, 49, 50,
51, 66, 105, 173, 197,
208, 209
богатство 27
брань 152, 159, 160, 164
брат(ия) 33, 35, 38, 52,
112, 239, 252
брашно 107, 108
броня 174
ведро 174
век 165
вера 34, 40-43, 112, 114,
150, 174, 175, 207, 208,
229
верста 191, 196, 199, 213
веселье 51, 52, 55, 56, 77,
95, 99, 145, 150, 166,
199, 247
вещь’111, 151, 155, 184
вид 227
вина 116
вино 272
виноград 52, 57, 80
вода 21, 40, 74, 78—81,
107, 184
вождь/вож 79, 153
волны 45, 47
волхв 28, 200, 201
воля 116
ворота/врата 170, 171,
228, 230, 268
воск 169
враг 159, 217, 264, 265,
267
вражда 115, 120
вран 153
вред/веред 149
время 30, 34, 64, 125,
141, 157, 192, 199, 203,
217, 220, 264, 265, 267
высота 219—223, 225
глаза 172, 223
гнев 105, 142, 154, 165,
199, 203, 204, 219
год 196, 199, 203
година 191, 192
голова/глава 118, 268,
283
голод/глад 16, 22, 26,27,
30, 38, 42, 105, ПО
голос/глас 65, 267
горе 104
город/град 38, 40, 66,
79, 82, 83, 98, 109, 124,
140, 165, 228—231,250,
257, 265, 267, 268
грамота 65, 67, 70, 125,
127
грех 184, 264
дар 165, 205
двери 79, 82, 228, 268
двор 100
дело 38, 42, 43, 65, 66,
103, 105, 116, 140, 155,
207
день 16, 18, 30, 54, 191
дерево/древо 49, 184
десница 153
дети 57, 64
диавол 36, 41
диво 145, 166, 199, 201,
211, 212, 228—230, 234,
235
добро(та) 49, 51, 59, 215,
219, 220, 222, 223, 229
дом 57, 64, 126, 130
дорога 80, 267
дума 102, 140, 165, 207,
268
дух 40, 41, 48, 74, 76,
182, 220
душа 26, 46—49, 52, 54,
57, 112, 139, 154, 182,
216—220, 229, 248, 260
дым 79, 80, 141
еда 141
естество 193
желчь/золчь 219—221
жемчуг 228, 230, 231,
237
жена 23, 57, 126, 165,
219____222
жертва 85, 86, 213, 214
живот 38, 49—54, 57, 87,
109, 123, 127, 139, 154,
170—188, 212, 216—248-
жизнь 19, 42, 64, 111,
170, 179—188, 212, 218
жила 21, 179
жилище 36
житие 19, 25, 26, 36, 42,
43, 64, 103, 105, 106,
109, 179—188, 204, 207,
211
закон 150
звезды 49, 52, 57
зверь 109, 154, 163, 217,
218
звон 157, 158
звук 157
зелье 107
земля 33, 34, 36, 38, 49—<
52, 59, 74, 75, 79, 85,
91, 98, 100, 123, 127,
128, 150, 153, 158, 169,
178, 217, 260
змий 37
знамя 270, 286
зной 150
золото/злато 109, 228,
229, 230
иго 35, 150
игра 64, 68
идол 197, 199, 213
имение 16, 19, 21—25,
27, 105, 150, 184
имя 270, 286
искра 219, 220
истинна 45, 189, 235
камень (е) 49, 74, 80,
228—231
книги 64—67, 70, 71,
19*
291
174, 184
колос/класы 107
конь 28, 34, 95, 127, 128
копие 139, 140, 143, 144,
162
корабль 42, 43, 45
корень 65, 169
коса 118
кости 38
красота 59 (215, 220,
222, 223, 229, 233),
228, 235
крес 152
крест 49, 50, 70, 116,
120, 125, 139, 165
кровь 87, 88, 157, 162,
163
круг 142, 184
кудесник 28, 200, 201
кумир 197
лебедь 96
леность 206
лепота 229, 235
лес 100, 101, 194, 195
лето 30, 33, 38, 64—66,
192, 196, 199, 217
лик 197, 198, 199
лице 52, 105, 118, 139,
143, 174, 219, 224, 226
лук 174
любовь 33, 111, 150, 154,
184, 194, 220, 224, 228,
235
люди 42, 57, 65, 99, 100,
168, 169, 177
мгла 89, 90, 91
мережа 65
место 24, 30, 73, 80, 91,
100, 104, 131, 168, 194,
195, 208, 259
месяц 52, 53, 57, 141
меч 162, 174, 176, 217,
218, 254
мир 'вселенная’ 40, 106,
123, 174, 207
мир ‘согласие’ 28, 42, 122,
124, 125, 167
молния 87, 96
молоко/млеко 108
мор 38
море 49, 50, 65, 74—80,
184
(пре) мудрость 65, 67, 73,
141, 151, 250
муж 127, 128
мука 38, 74, 76, 177
мысль 48
наимник 16, 19, 22
небо 18, 36, 38, 49, 50,
127, 128, 262
нива 33
ноги 34, 171, ,174
ноготь 65, 264
нрав/норов 34, 142
нуж(д)а 115, 117
образ 35, 80, 104, ПО,
111, 165, 197, 198, 199
обычай 73, 142, 214
огонь 40, 112, 114, 141
одеж (д) а 64, 65, 70, 73,
103, 104, 107, 108, 141,
150, 151, 259
оружие 152, 161, 174, 175
отец 18, 22, 27, 38, 52
125, 126, 173, 239
отрок/отроча 64—68, 85,
195
очи 34, 36, 52, 55, 57, 59,
79, 112, 113, 172, 217,
219, 220, 222—225, 227
память 155
пес 173
печаль 38, 52, 57, 60, 203
пир 142
писание 65, 67
пища 191
плач 60, 157, 203
плен 149
плечи/плещи 87, 139 141,
155, 157, 159, 165
плод 33, 52, 57, 65, 155,
195-
плоть 65, 192, 216
поле 96, 100, 101, 116
помысл 36, 45, 194
послух 115, 116, 119, 121
посул 112
пот 87, 105, 158
похвала 229
правда 111, 112, 115, 139,
141, 174, 175, 229, 234,
235
правило 174
праздник 142
пристанище 42—45, 47
птица 57, 60, 80, 220
путь 33, 74, 127, 137,
142, 155, 170, 171, 184,
208, 220
пучина 42, 43, 45, 112,
113
раб 22, 35, 36, 206, 259
радость 49—56, 60, 77,
99, 145, 150, 166, 193,
199
разум 40, 41, 64, 65, 67,
190
речь 116
род 98, 126
руки 87, 99, 105, 112,
113, 126, 127, 153, 156,
157, 216, 219, 248
ручей 157
ряд 106, 122, 139, 140,
152
сабля 156
сад 65, 195
свет 20, 49—52, 55, 57,
59, 96, 141, 165, 217,
218, 251
свидетель 119, 204
свиньи 16, 22, 35
сера 74, 79—82
сердце 33, 36, 40, 41,
45—50, 66, 146, 219,
220, 222, 224, 225, 226
серебро/сребро 109, 228,
230 254
сеть 217, 219, 220, 224,
225
сеча 87, 99, 156, 157, 158,
159, 160, 162, 164
сила 100, 141
скорбь ^52, НО, 203
слдва 52, 55, 56, 101, 105,
НО, 145, 153, 166, 184,
229
след 118, 226
слезы 45, 46, 52, 60, 105
слово 27, 34, 35, 38, 52,
95, 105, 112, 113, 139,
150, 164, 184, 190, 195,
209, 262
смелость 168
смерть 29, 65
смола 74, 79, 80
смрад 80
смысл 64, 65, 73, 190
совесть 111, 228, 235
сокол 94
солнце 49, 50, 52, 54, 87,
89, 90, 141, 156
срам/сором 77, 145, 199
старец 174
степь 100
стопа 105
страна 16, 22, 23, 26—
30, 80, 82, 177, 178,
239, 268, 287
страх 65, 115
стрела 165, 174, 217, 218,
224, 226, 228
стыд/студ 77, 145, 199
сын 16, 20, 22, 26, 27,
292
42, 49, 50, 51, 85, 94,
124
тайна 86, 203, 229
тварь 49, 50, 155
тело 250
топор 118
трава 168, 169
треба 85, 86
труба 92, 93
труд 33, 65, 87, 103
туча 96
тьма 156, 157
узда 34', 227
узорочье 55, 109, 166,
228, 229
узы 219, 220, 225, 227
ум 41, 45—48, 105
уста 33, 34, 79, 219, 220,
224, 226
устне 245
утроба 40, 41, 52, 57
хвала 204—205
хитрость 116, 120, 142,
167, 228, 229, 235
хлеб 16, 22, 38, 105, 107,
108
художество 189
худость 202
царство 112
цвет 52, 53, 57, 168
церковь 33, 64, 65, 70,
172, 174, 178, 213, 228,
229, 230, 236
чадо 49, 50, 211
час 191
часть 16, 18, 22
чаша 21, 272, 279
человек 16, 22, 27, 33, 34,
38, 39, 74, 79, 86, 105,
106, 141, 153, 168, 169,
217, 229
честь 55, 56, 101, 105.
НО, 145, 153, 166, 169'
205
чин 87, 197—199, 239
чрево 16, 22, 74, 78
чресла 174
чудо 145, 166, 199, 201,
211, 212, 228, 229, 230,
234, 235, 262
шлем 174, 175, 176
щит 174, 175, 176
яд 79, 219, 223
ядь 184
язык 34, 106, 124
яма 33, 100
ярмо/ярем 35, 65, 150,
164
Тексты
. Аввакума Петрова «Житие» 65, 66,
69, 71—73, 134, 171, 177—179, 238,
245, 258, 263
— «Послание горемыкам милень-
ким» 35, 36, 37
— «Слово о внешней мудрости» 38,
39, 40
Агрефения «Хождение» 79—83
Антония (Добрыни Ядрейковича)
«Хождение» 79—83
Афанасия Никитина «Хожение» 80,
168, 172
берестяные новгородские грамоты
122, 126—128
Валаамская беседа 109, ПО
Василия «Житие Евфросина Псков-
ского» 65, 73
Василия Гагары «Хождение» 80, 82
Василия Познякова «Хождение» 80,
81, 83
Вассиана Патрикеева «Сочинения» 54,
104—106, НО
Вассиана Рыло «Послание на Угру»
101, 102, 103
Вассиана Санина «Житие Пафнутия
Боровского» 65, 66, 67, 70
Владимира Мономаха «Поучение» 33,
34, 35
Гавриила «Хождение» 80, 82
Геннадиевская библия 1499 года 216—
226
Грамоты договорные 124, 125
Григория Белгородского «Поучение»
34
Григория Котошихина «О
царствование Алексея Михайлови-
ча 112—114
Даниила «Поучение» 35—37
Даниила Заточника «Моление» 171,
182
Даниила игумена «Хождение» 74—
80, 81, 83
Диалектика 173
Договор торговый Смоленска с Ри-
гою и Готским берегом 125, 126
Евангелие 20—24, 35, 142, 143, 146,
172
Епифания «Житие» 65—66, 71—73
Епифания Премудрого «Житие Сер-
гия Радонежского» 64, 66—72, 85,
189—215
— «Житие Стефана, епископа Перм-
ского» 171, 174—176, 188—215,
228—239, 246, 249, 272—279
— «Слово о житии великого князя
Дмитрия Ивановича» 38, 39, 40,
56—60, 152, 153
Ефрема «Житие Авраамия Смолен-
ского» 64—68, 70
Житие Василия Нового 166
Житие Довмонта 161
Житие и жизнь Алексея, человека
божия 64, 91
Задонщина 58, 95—97, 166—168
Закон судный людей 115, И' 1^1
293
Запись о Бояней земле 128, 129
Зиновия Отенского «Истины пока-
зание к вопросившем о новом уче-
нии» 106—109, 111
Зосимы «Хождение» 79—82
Ивана Грозного «Послания» 170,
173—176, 264
Ивана Пересветова «Челобитная»
112—115
Ивана Посошкова «Книга о скудости
и богатстве» 112—114
Ивана Федорова «Апостол» 153
Игнатия Смольнянина «Хождение»
79—83
Изборник 1073 г. 148, 149, 183
Илариона «Слово о законе и благо-
дати» 37, 41—45, 46—49, 152, 216,
238, 263
Иосифа Флавия «История Иудейской
войны» 162, 172, 255
Казанская история 59—61, 166
Калязинская челобитная 173—175
Кирилла Туровского «Слова» 37—40,
49—51, 153, 164, 189, 200, 233,
238, 279
— «Иосифу похвала» 38
— «Молитва» 216—219, 248
(ниги законные 116—121
1етопись 151, 156, 157, 159, 160,
172, 181—184, 188, 257, 264, 265
Тогика 21, 173
Туки Жидяты «Поучение» 33
Максима Грека «Сочинения» 153,
154
Телетия Смотрицкого «Грамматика»
24, 243, 262
1инеи новгородские XI в. 42, 142
Тоисея «Поучение» 34
ктиславова грамота ок. ИЗО г. 123,
124
(естора «Житие Феодосия» 64, 66—
68, 70, 71, 73, 85
— «Чтение о Борисе и Глебе» 87,
239
ила Сорского «Молитва» 45—47
— «Устав» 48, 49, 103, 104, 106,
110, 159
'аидекты Никона Черногорца 42, 43,
227, 228
ахомия Серба «Житие Алексия
Московского» 64—70
— «Житие Кирилла Белозерского»
65, 66, 195
лач о князе Скопине-Шуйском 61
лач о царевиче Димитрии 61
овесть временных лет 84, 87
Повесть об азовском взятии 98—99
Повесть об азовском осадном сиде-
нии 61, 98—101
Повесть об убиении Андрея Боголюб-
ского 228, 237, 242, 246, 248
Повесть о разорении Рязани Батыем
52—56, 98, 166
Правда Русская 115—121, 254, 264,
266
Притча о блудном сыне по Остроми-
рову ев. 16—20, 24, 25, 30, 249—
252
— по духовному стиху 27, 28
— по Чудовскому Новому завету
22—29
Псалтырь 51, 52, 55, 217, 235
Псковская Судная грамота 116—121
Пчела 170, 182, 183, 223
Речь философа 20
Саввы Крутицкого «Житие Иосифа
Волоцкого» 65, 67, 68, 70, 71
Серапиона Владимирского «Слова»
38, 39, 40, 41, 238
Симеона Логофета «Канон» 49—50
Сказания о Борисе и Глебе 55, 87—
89, 102, 156—157, 246, 248
Сказание о Варяге и сыне его Иоан-
не 85, 86
Сказание о взятии Царьграда 157,
158, 161, 162, 163
Сказание о Мамаевом побоище 58,
89—95, 158, 242, 243, 246
Сказание о смерти Олега 28—30
Слово о полку Игореве 58, 95—97,
122, 140, 151, 167, 168, 181, 182,
184, 262, 264
Служба кабаку 174—176
Стефана Новгородца «Хождение» 79
Судебники 116—121, 279
Супрасльский сборник 1507 года 220,
224
Травники 168—170
Трифона Коробейникова «Хождение»
80
Уложение 1649 года 116—121
Успенский сборник XII в. 264
Феодосия Печерского «Поучение»
33—35, 113, 216, 238
Чтение о Борисе и Глебе паремийное
87, 88, 239—242
Чтение о Епифаиии Кипрском миией-
ное 149—151
Чудовской Новый Завет ок. 1355 г.
22—26, 146
Якова черноризца «Послание к кня-
зю» 219—228, 249
)4
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение .... ....................3
Часть первая. ТЕКСТ — ЯЗЫК
Глава 1. Притча — сказание..........................16
Глава 2. Слово — поучение...........................32
Глава 3. Молитва — плач.............................41
Глава 4. Житие — поучение...........................62
Глава 5. Хождение — исповедь.....................73
Глава 6. Повесть — сказание......................84
Глав а'7. Послание — наставление . . . .101
Глава 8. Судебник — грамота.....................115
Выводы и результаты..........................130
Часть вторая. ЯЗЫК —СТИЛЬ
Глава 1. Синтагма речи и формула языка . . .136
Глава 2. Преобразование формул в тексте . . .148
Глава 3. Развитие исходных формул . . . .156
Глава 4. Разрушение формул и расширение текста. 164
Глава 5. Епифаний Премудрый и «плетение словес» 188
Глава 6. Принципы организации текста . . .216
Глава 7. Преобразование текстообразующих компо-
нентов ........................................... 239
Глава 8. Семантика стилистических форм в истории
литературного языка................................259
Выводы и результаты..........................273
Заключение.........................................278
Сокращения.........................................282
Словари..............................................—
Литература и источники...............................—
Указатели..........................................291
Ключевые слова формул и синтагм .... —
Тексты . ................................. . 293