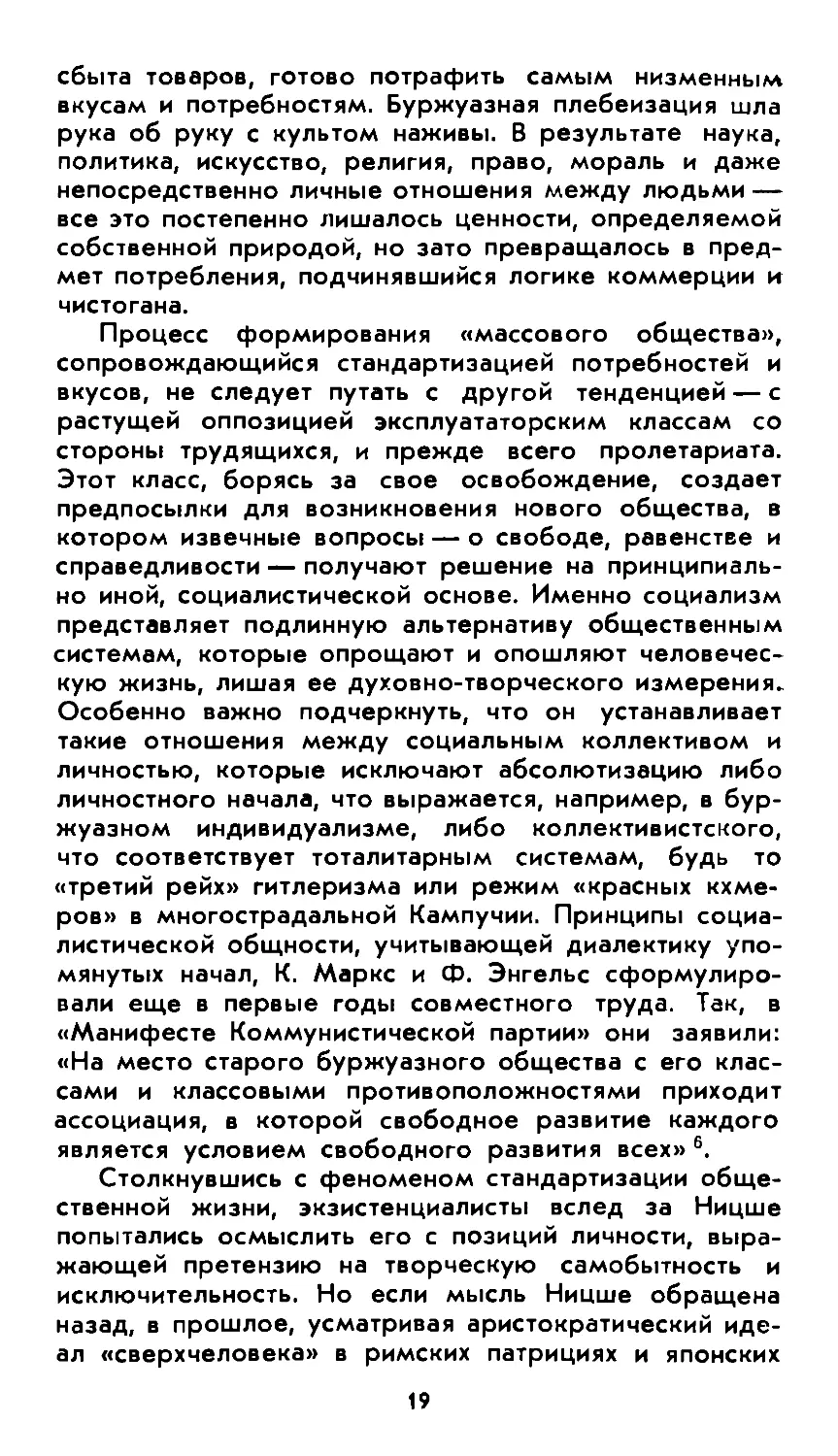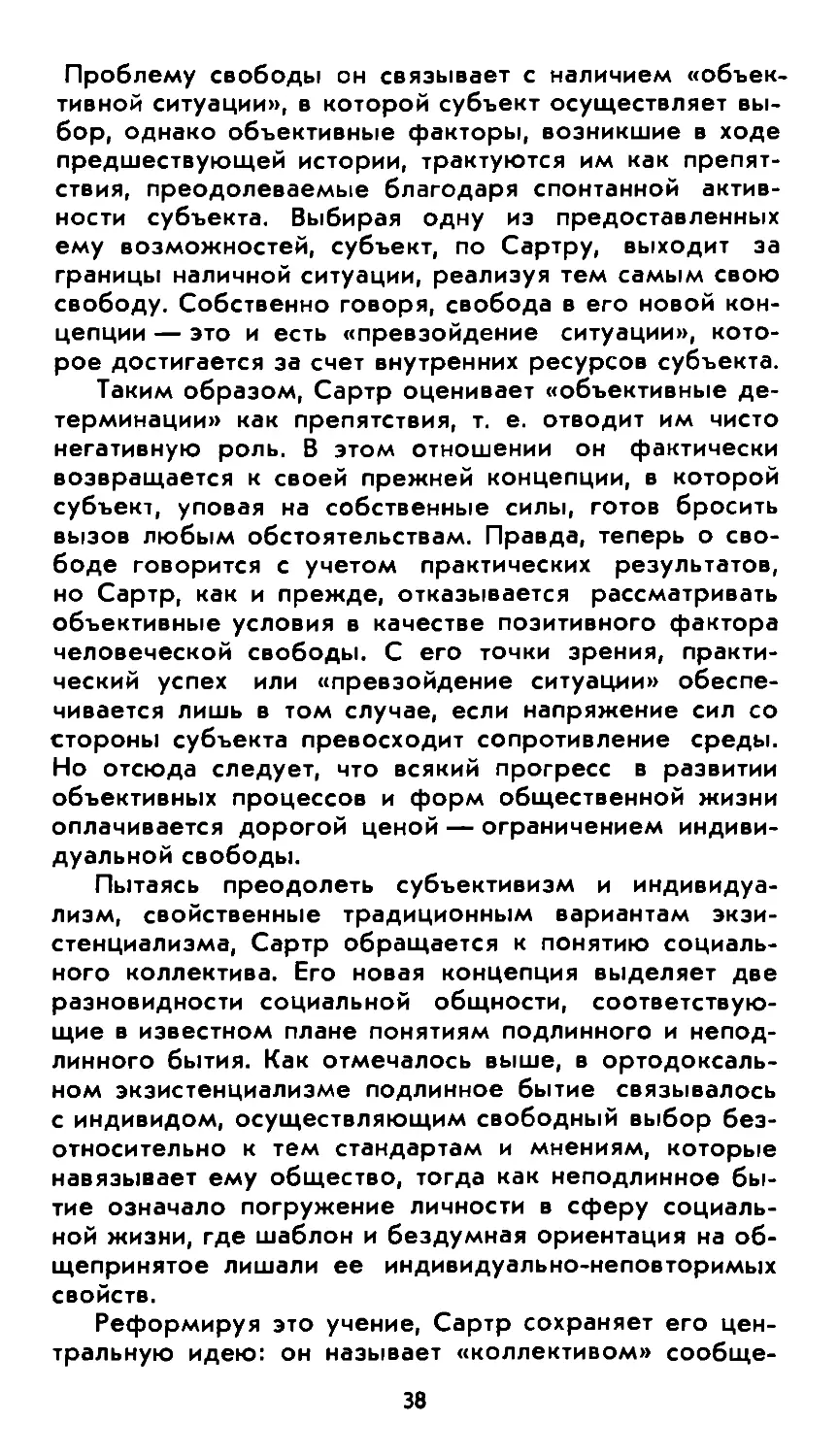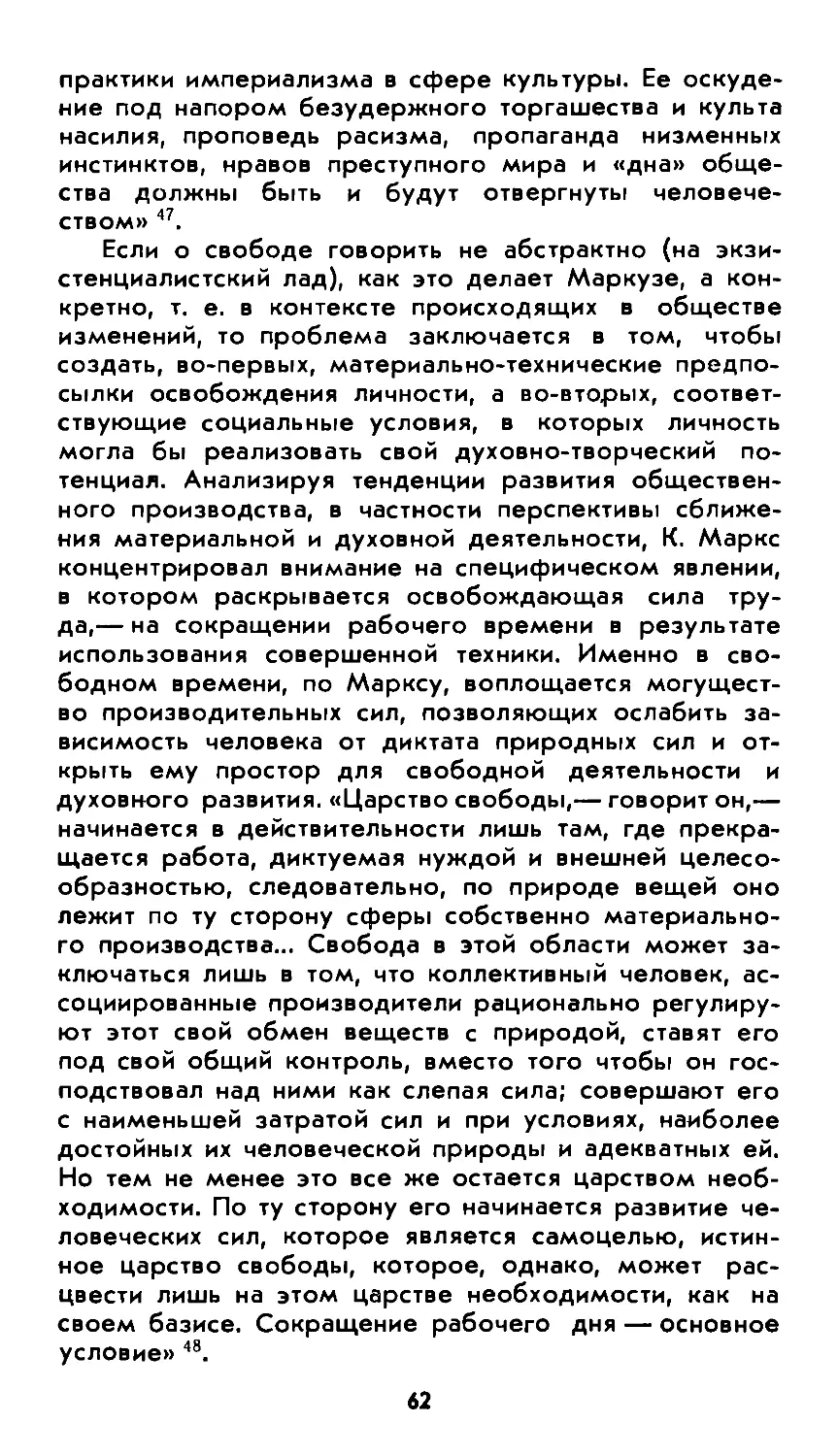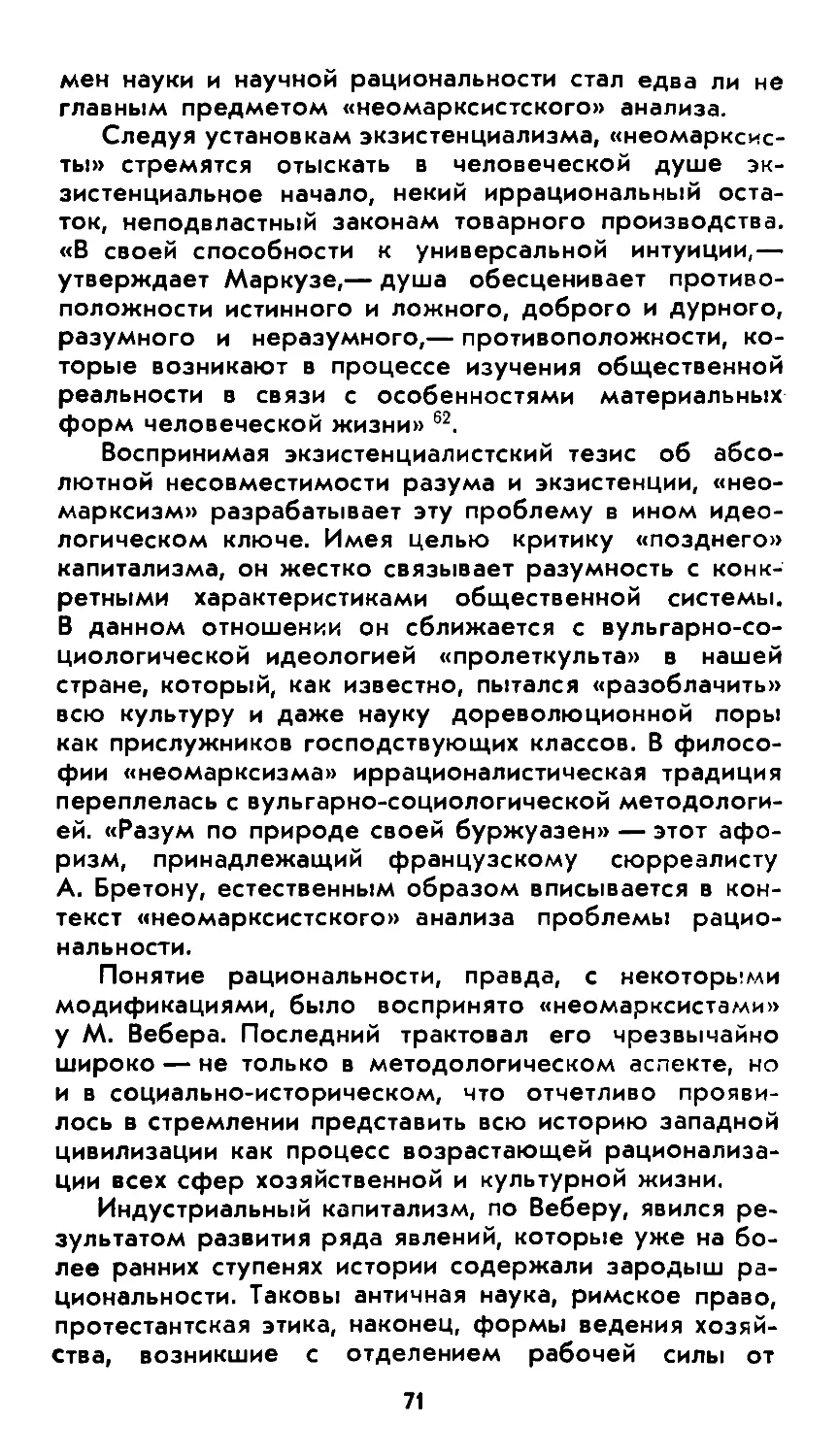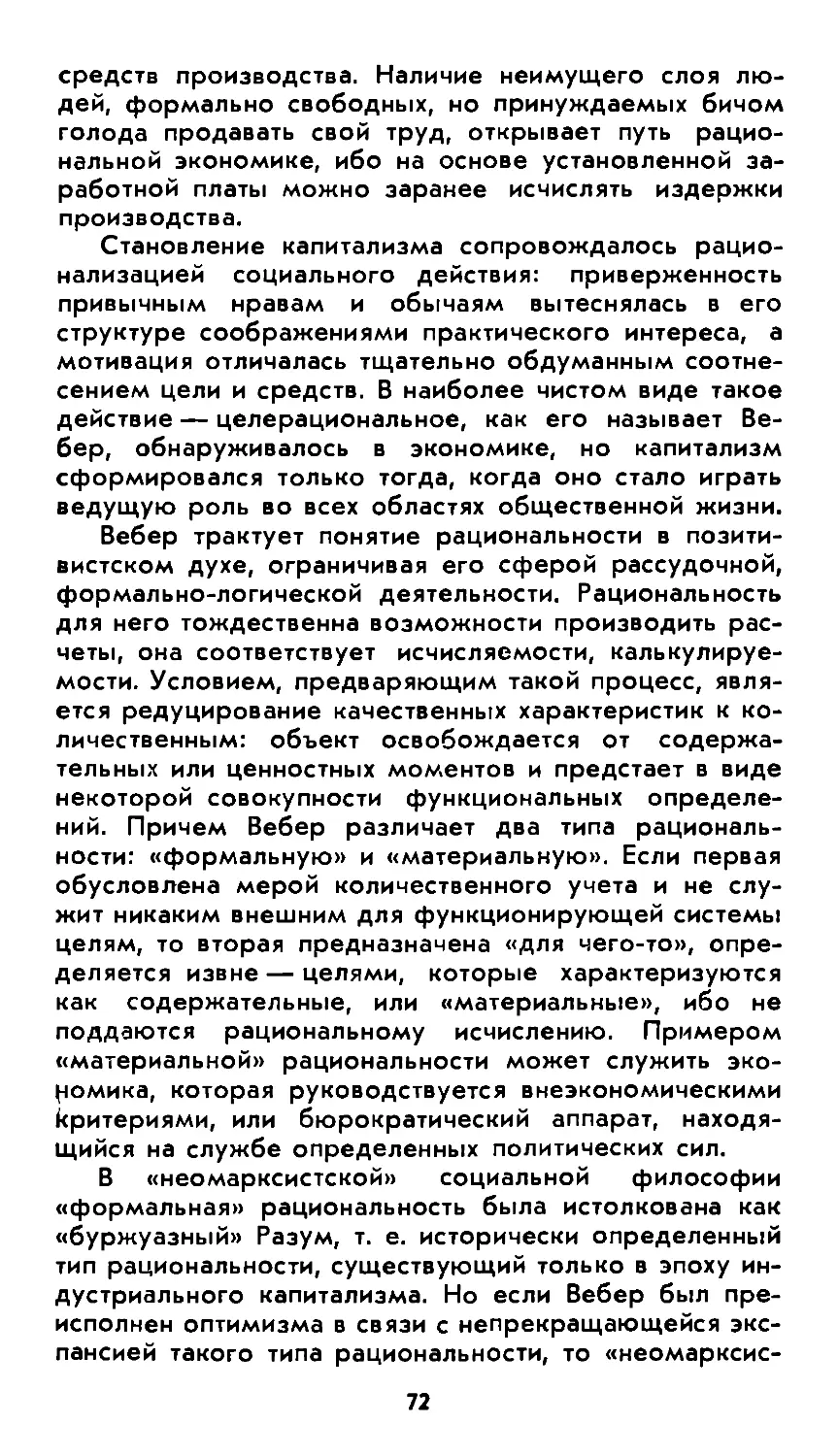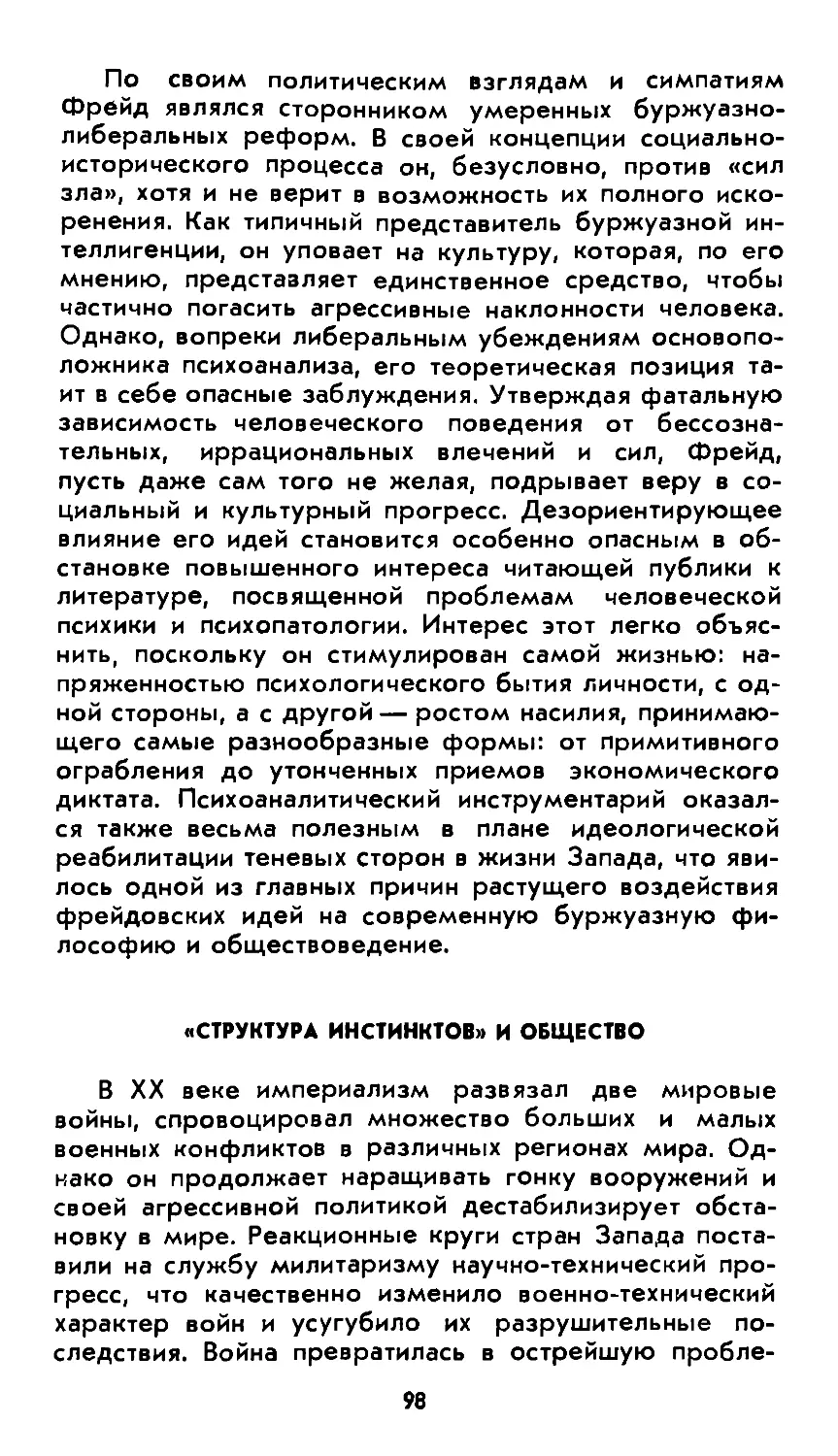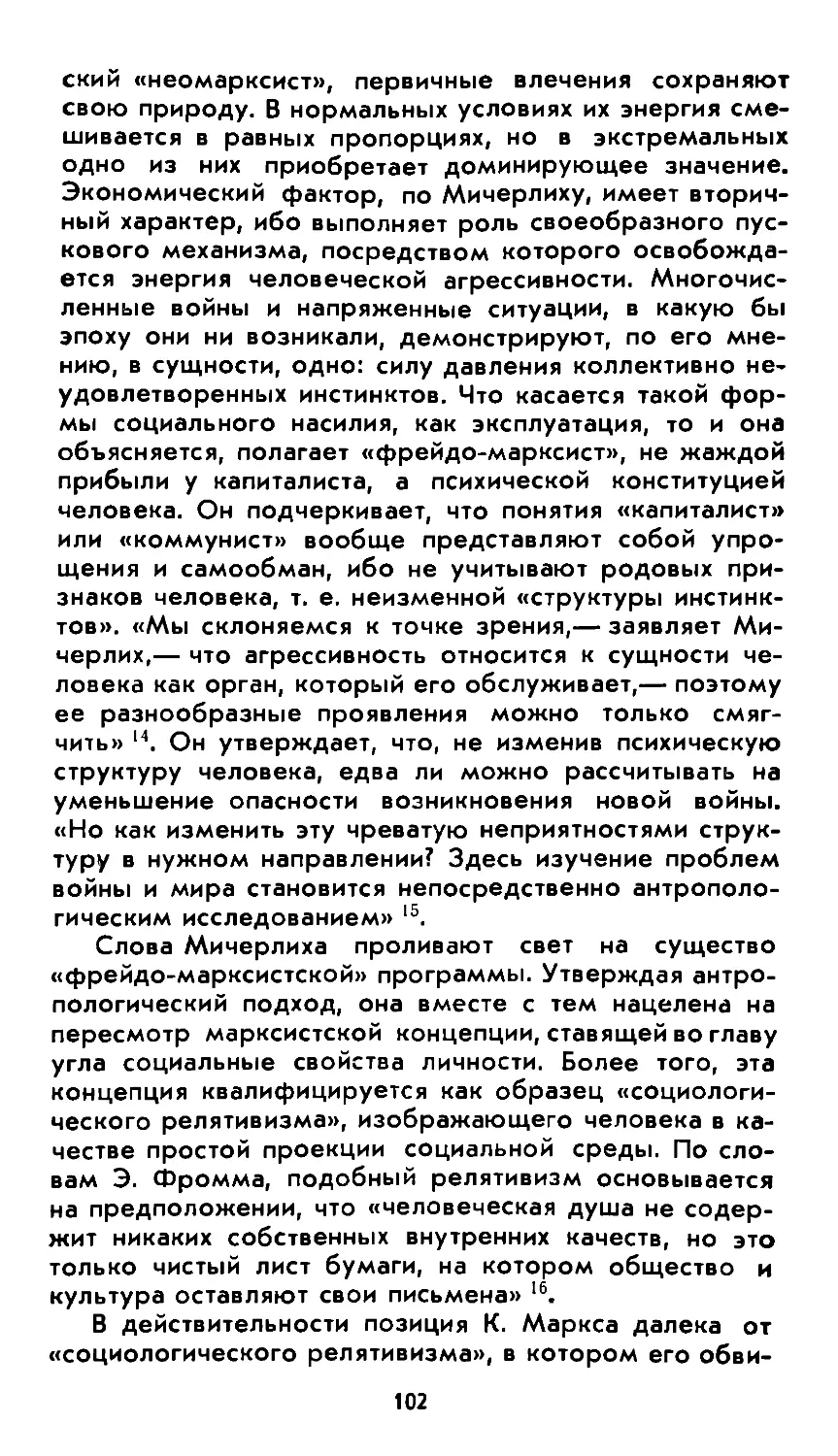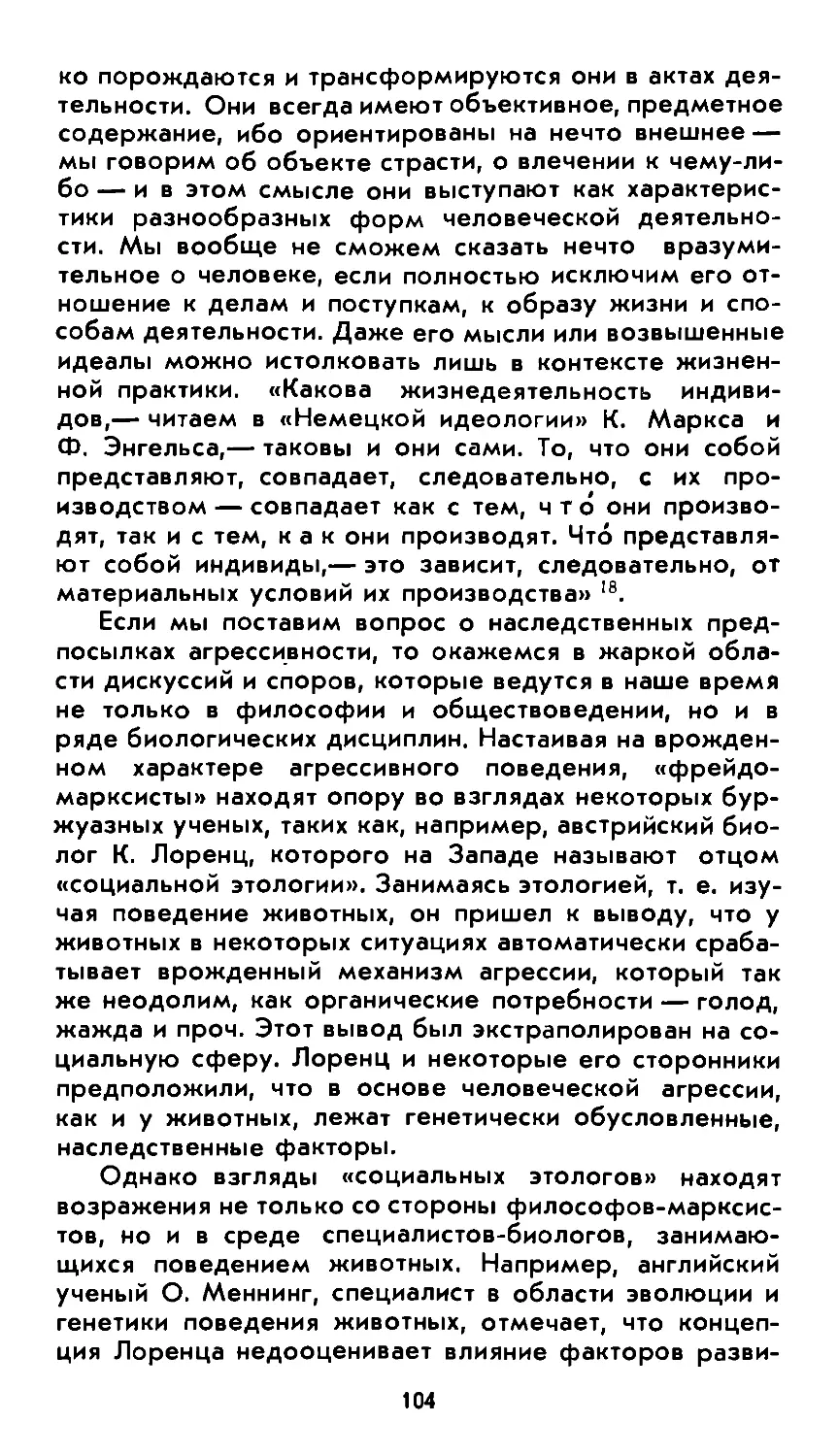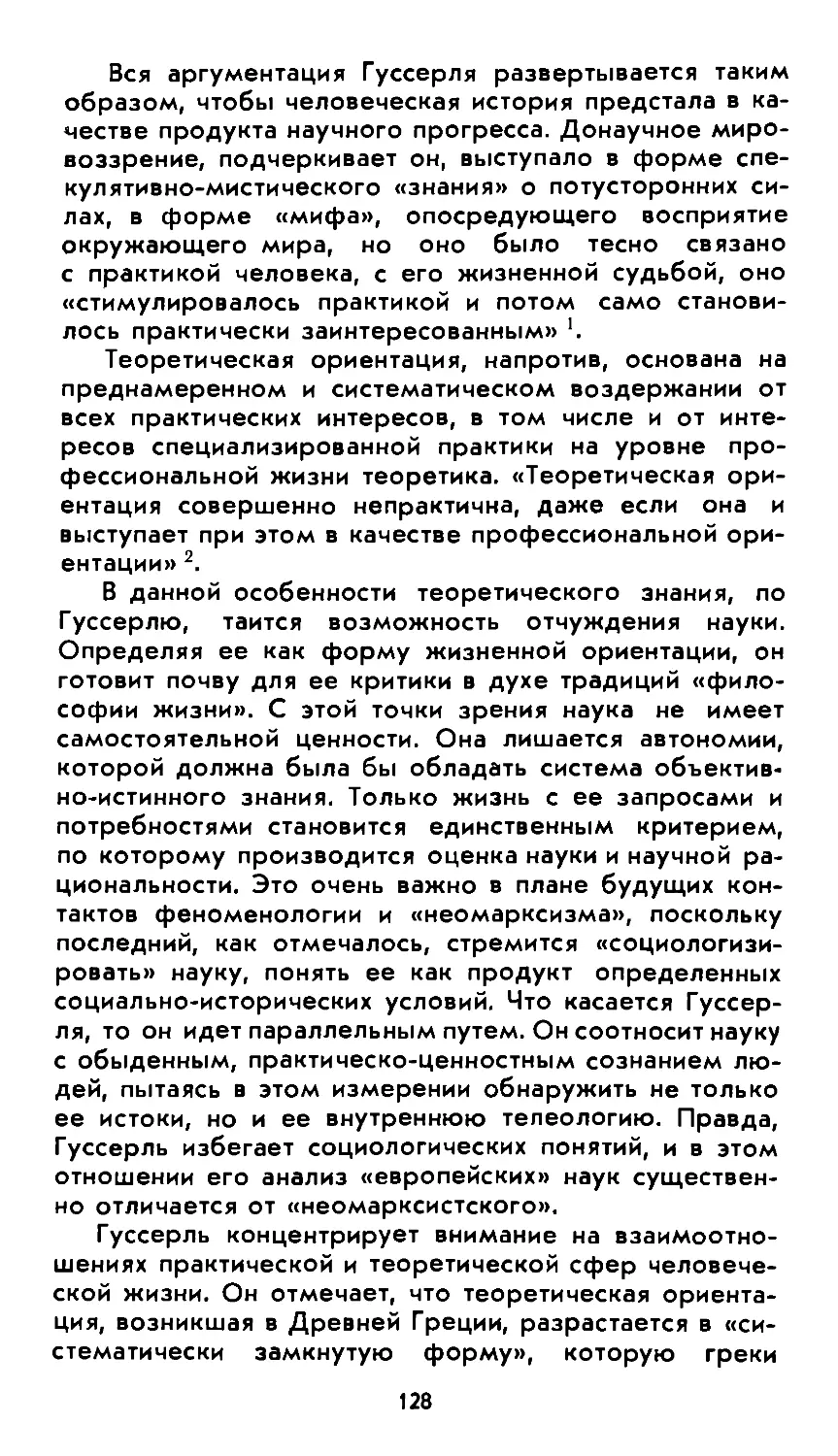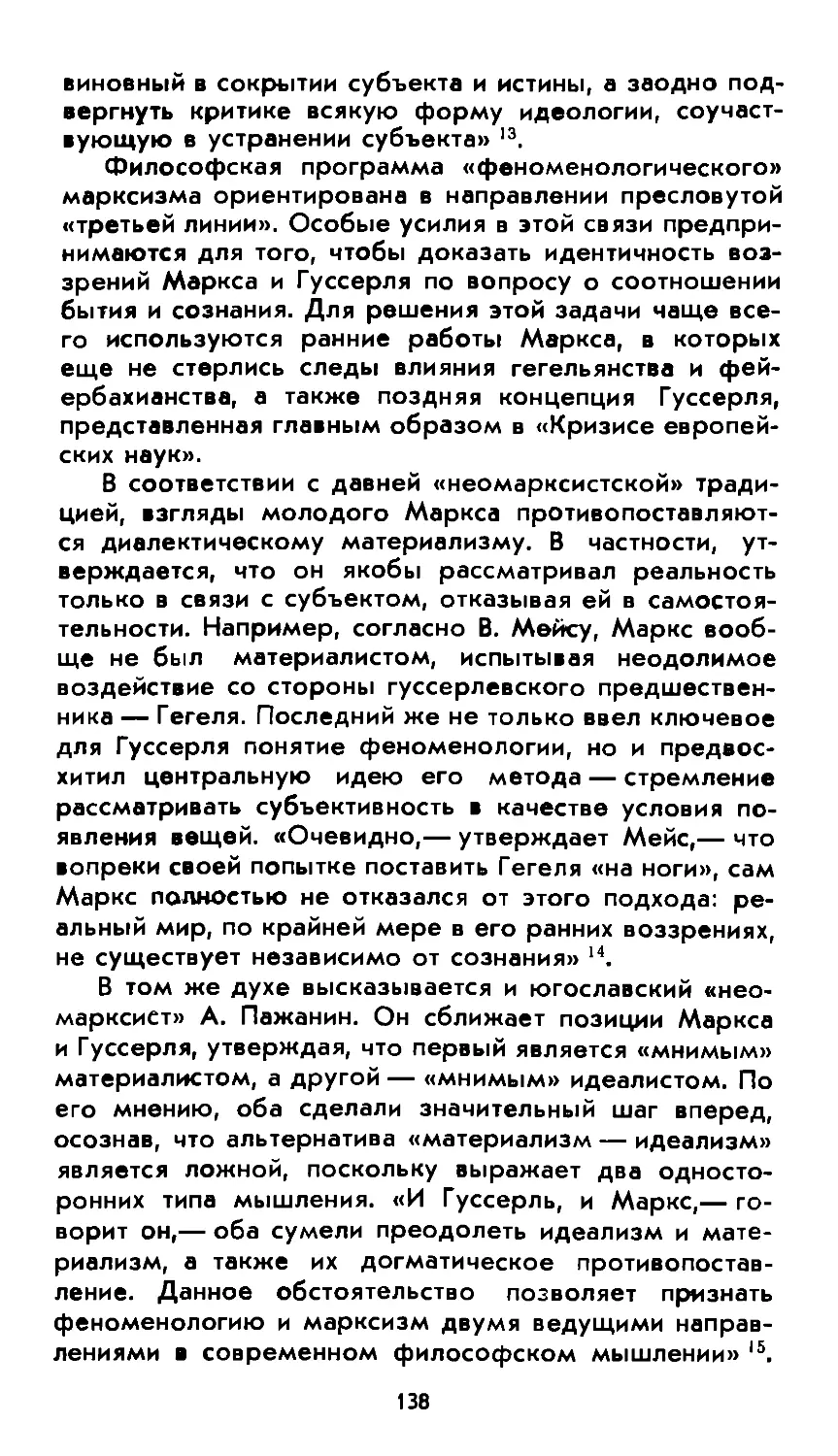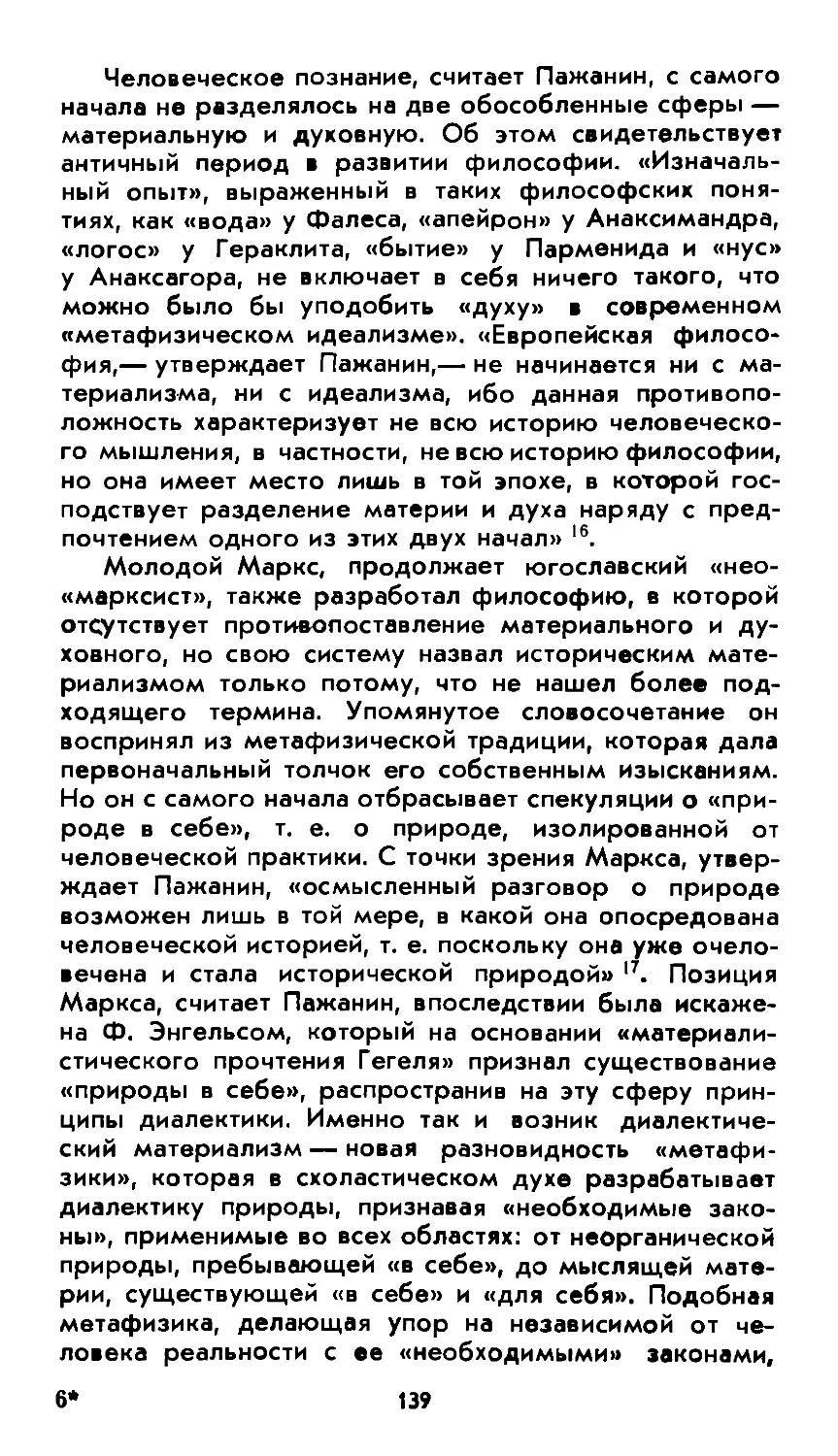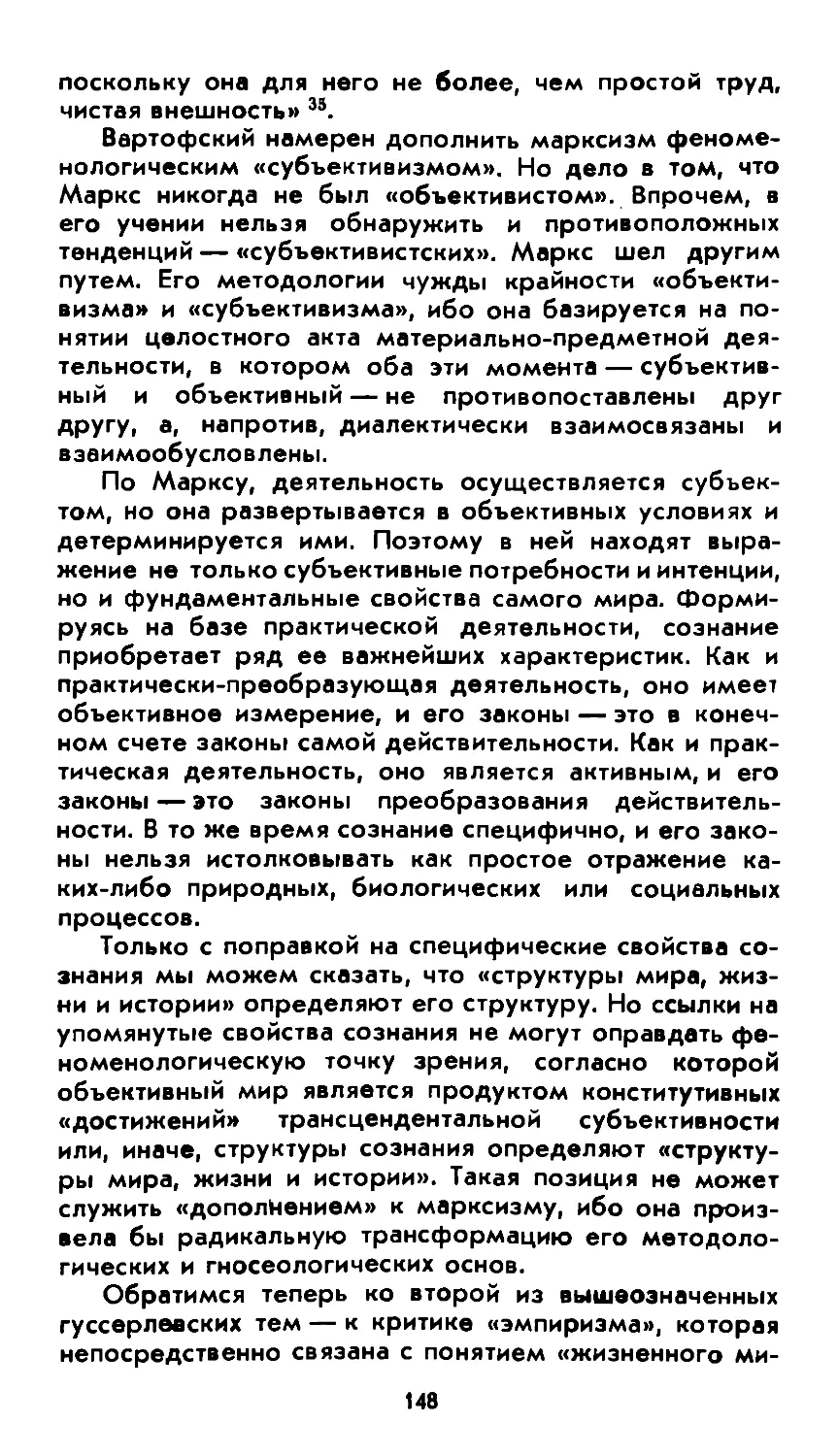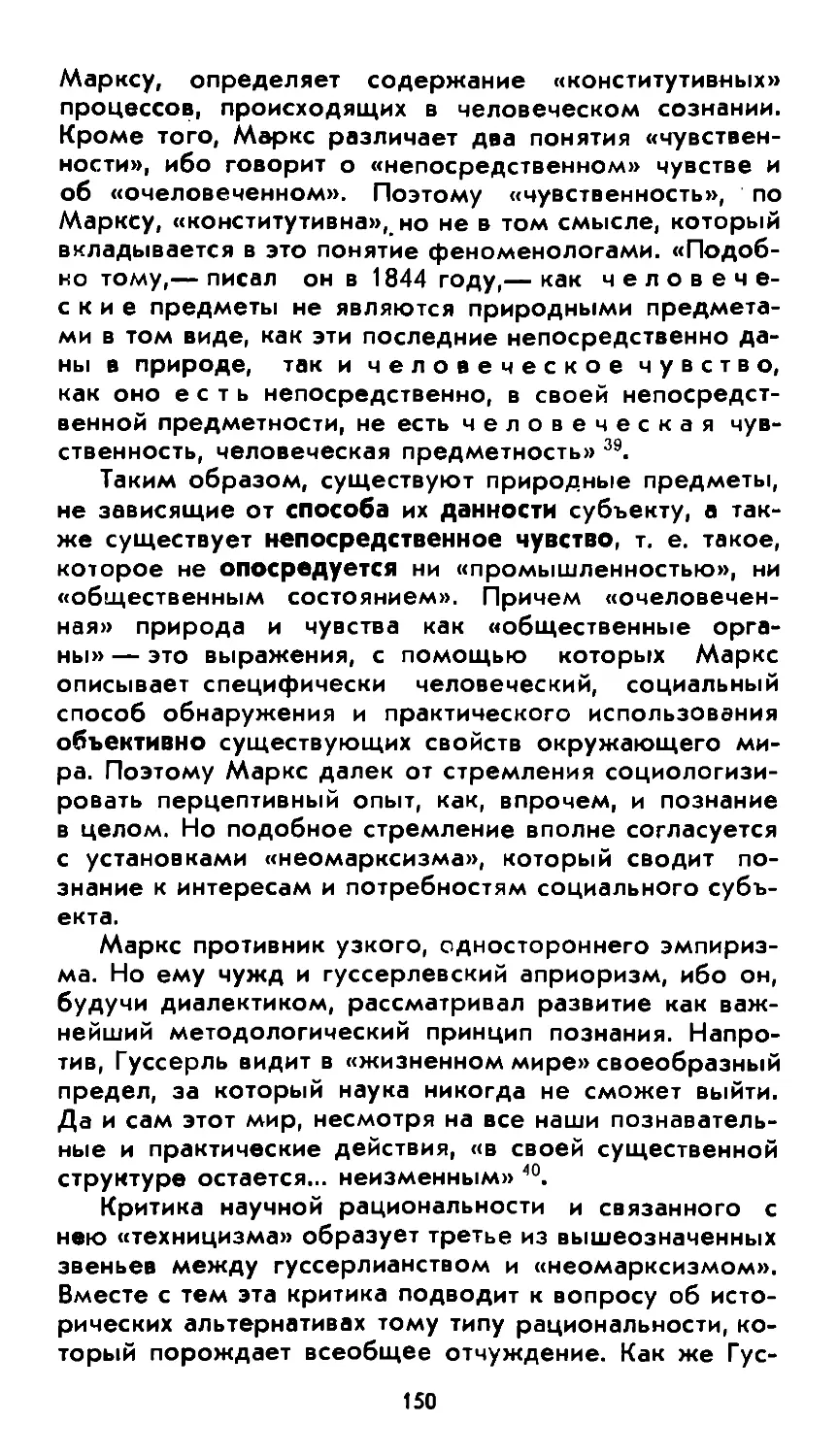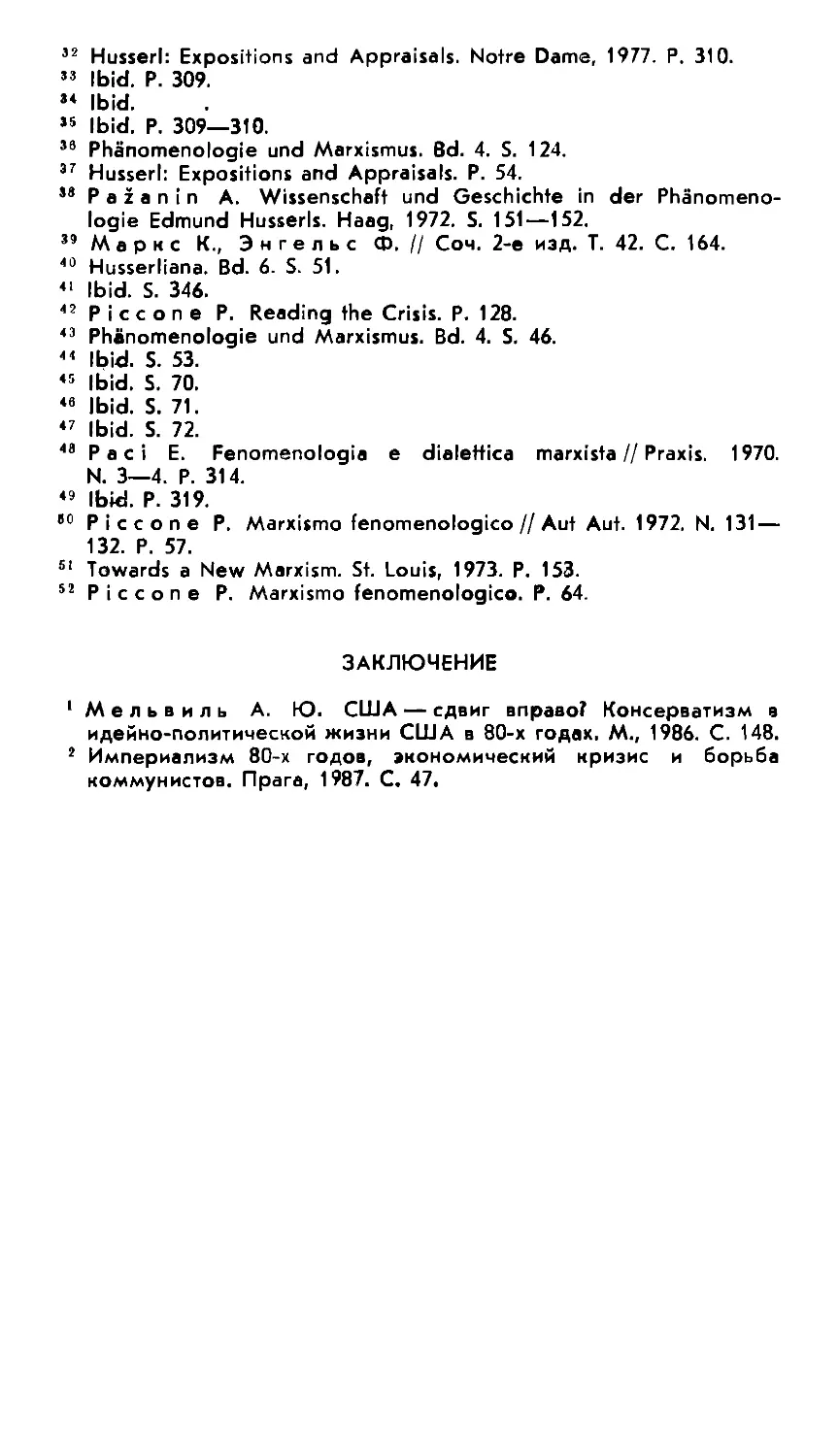Автор: Базилюк А.Ф.
Теги: философские науки философия социальная философия марксизм
ISBN: 5-319-00266-1
Год: 1989
Текст
А.Ф Базилюк
Социальная
философия
«неомарксизма»
КИЕВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
УКРАИНЫ
1989
Серия основана в 1984 году
Рецензенты:
доктор философских наук Г. Г. Майоров,
доктор философских наук Е. Н. Причепий
Базилюк А. Ф.
Социальная философия «неомарксизма».—
К.: Политиздат Украины, 1989.—167 с.— Биб-
лиогр.: 162—166 с.— (Вопр. идеол. борьбы и
контрпропаганды.)
ISBN 5-319-00266-1
В научно-популярной книге критически анализируются
основные направления философской ревизии марксизма,
показывается место «неомарксистской» идеологии в
социально-политической жизни капиталистических стран.
Рассчитана на широкий круг читателей.
ВВЕДЕНИЕ
Научно-техническая революция позволила
современному капитализму мобилизовать внутренние
ресурсы своей системы и добиться определенных
успехов в экономическом развитии. Однако и в новых
условиях сохраняются глубокие противоречия между
трудом и капиталом, усиливается неустойчивость
экономики, растет ее милитаризация, расширяются
масштабы таких негативных явлений, как безработица,
инфляция.
Данные процессы сказываются на социальной и
нравственно-психологической атмосфере стран
Запада, провоцируя у массы людей неуверенность в
завтрашнем дне, внутреннюю неудовлетворенность и
моральную депрессию, отчуждение, скепсис,
беспокойство и страх. В результате широкие слои населения
вовлекаются в оппозицию к существующей системе
идеологических стандартов и ценностей. Массовое
недовольство формирует особую интеллектуальную
и духовную среду, которая питает критическую
рефлексию и пробуждает интерес к альтернативным
идеологическим концепциям.
На волне растущей оппозиции поднялся
«неомарксизм» —течение, которое выразило идеологию
мелкобуржуазной революционности и с этих позиций
стремилось ревизовать марксистскую теорию. Следует
отметить, что название этого течения симптоматично и
заслуживает внимания ввиду таящейся в нем
двусмысленности. Суть в том, что его первая часть — «нео» —
означает по-русски «новый». Возникающий при
переводе эквивалент — «новый марксизм», естественно,
возбуждает ассоциации, связанные с процессом
усовершенствования, творческого развития
марксистско-ленинского учения и т. п. Однако это не так, хотя
на подобный эффект, безусловно, рассчитывают
1*
3
идеологи «неомарксизма». В данном случае «нео»
следует отнести не к марксизму, а к традициям
ревизионизма, ибо только в этой связи «неомарксизм»
представляет собой нечто «новое». Ревизионизм «старой»
формации имел место в период
домонополистического капитализма, когда мелкая буржуазия относилась к
привилегированной части населения и пользовалась
некоторыми свободами и правами в сфере
хозяйственной деятельности. В эпоху крупного капитала
ситуация резко изменилась. Власть монополий не
только ограничила стихию мелкого предпринимательства,
но и в значительной мере дестабилизировала
социальное бытие мелкобуржуазной личности. Протест
этой личности против засилья монополистического
капитала породил ее «революционность», которая и
составляет главное отличие «неомарксизма» от старых
форм ревизионизма. Однако не следует
преувеличивать своеобразие и новизну левобуржуазной ревизии
марксизма, ибо ее «революционность» никогда не
выходит за рамки буржуазных требований и реформ.
Хотя это течение охотно пользуется марксистской
фразеологией, но едва ли не главным врагом для него
является марксизм-ленинизм. Не случайно о нем
часто говорят как о «западном марксизме», ибо в этом
наименовании содержится ясный намек на
идеологическое противостояние «восточному», или
«советскому», марксизму.
Надо признать, что «неомарксизму» удалось
затронуть какие-то струны в душах людей, имевших
основания посчитать себя аутсайдерами общества
«массового потребления». Как правило, это представители
социальных слоев, занимающих неустойчивую,
промежуточную позицию во взаимоотношениях труда и
капитала,— выходцы из так называемых средних
классов, испытавшие в конкретной повседневности все то,
что на языке политической экономии называется
эксплуатацией и гнетом монополий; различные группы
молодежи, ощутившие, что значит быть «слишком
молодым» в обществе «свободной» конкуренции;
наконец, деклассированные элементы —
люмпен-интеллигенты, люмпен-буржуа и прочие, не утратившие
способности размышлять о смысле и способе своего
социального бытия.
Это всегда люди с мелкобуржуазной психологией,
которые в силу неустойчивости и даже двусмысленно-
4
сти социально-экономического положения никак не
могут определить вектор своих идеологических и
политических акций: с одной стороны, они в известной
степени испытывают тягу к мотивом и целям
пролетарской борьбы, а с другой — сама эта борьба и ее
положительный идеал — социализм — воспринимаются
ими сквозь призму мелкобуржуазных представлений
и ценностей. «Радикальные мелкие буржуа,— писал
Ф. Энгельс,— только потому настроены в
социалистическом духе, что они ясно видят свою
предстоящую гибель, свой переход в ряды пролетариата. Не
как мелкие буржуа, владельцы небольшого капитала,
а как будущие пролетарии мечтают они об
организации труда и о перевороте в отношениях между
капиталом и трудом» '.
«Неомарксизм» имеет более чем полувековую
историю. Его своеобразным теоретическим
манифестом стала книга Д. Лукача «История и классовое
сознание», вышедшая в 1923 году. Испытав огромное
влияние Великой Октябрьской социалистической
революции, автор этой книги становится коммунистом, а в
1919 году занимает пост наркома культуры
Венгерской Советской республики. Его взгляды носили
отпечаток крайнего субъективизма и левого сектантства.
Эти же черты в значительной мере характеризуют
идеологическую программу «неомарксизма»,
особенно в период ее становления, хотя сам Лукач со
временем сумел изжить левацкие заблуждения, приобретя
репутацию одного из крупнейших марксистов
нашего века.
Настоящим ядром «неомарксизма» — ив
организационно-практическом, и в идейно-теоретическом
планах — явилась Франкфуртская школа, которая
сложилась в конце 20 — начале 30-х годов на базе
Института социальных исследований при университете
во Франкфурте-на-Майне. В ее состав вошли М. Хорк-
хаймер, Т. В. Адорно, Ф. Поллок, Г. Маркузе, В. Бенья-
мин, Э. Фромм и др. В годы фашизма философы
Франкфуртской школы были вынуждены
эмигрировать за границу. В послевоенные годы Маркузе и
Фромм остались работать в США, тогда как Адорно
и Хоркхаймер возвратились во Франкфурт-на-Майне.
Вскоре в Институте социальных исследований, где они
продолжили свою работу, вокруг них
сформировалось новое поколение сторонников «неомарксизма» —
5
Ю. Хабермас, А. Шмидт, О. Herr, А. Велмер, А. Ми-
черлих и др. Различные варианты этого течения
сложились и в других странах — во Франции, Италии,
Англии, США, Югославии, Венгрии, Чехословакии и др.
Среди «неомарксистов» наиболее популярны имена
французов А. Лефевра и Ж.-П. Сартра,
американского социолога Р. Миллса, итальянца Э. Пачи, польского
ревизиониста Л. Колаковского, югославского
теоретика «праксиса» Г. Петровича, главы чешских
ревизионистов К. Косика и др.
Выдвинув ряд идей, созвучных мыслям и
настроениям мелкобуржуазной личности, «неомарксизм»
добился определенного влияния в сфере политической
практики. Пик его политического влияния приходится
на 60—70-е годы. В этот период «неомарксизм» был
ангажирован «новыми левыми», которые в ряде
крупнейших стран Западной Европы и США затеяли
массовые представления с анархической интригой и
отнюдь не бутафорским реквизитом. Постулаты
«неомарксистов» зачастую использовались максималистски
настроенной молодежью как политические лозунги в
ее непримиримой борьбе со всем миром: с
империализмом и «государственным» социализмом, с
бюрократической властью и традиционной культурой, с
«правыми», со «старыми левыми», или, иначе говоря,
с коммунистами и социалистами, и т. п.
Заметно влияние «неомарксизма» в теоретической
сфере — в социальной философии и общественных
науках. Определенное воздействие с его стороны
испытала доктрина «еврокоммунизма».
«Неомарксистская» трактовка социального познания во многом
способствовала возникновению в последние два десятка
лет новой парадигмы в западной социологии, которая
под разными наименованиями — «диалектической»,
«критической», «рефлексивной» и т. п.— успешно
борется за выживание с традиционной или
академической социологией, инспирированной конформистской
идеологией и философией позитивизма.
«Неомарксистская» идеология непрерывно
усиливает свою экспансию в общественном сознании
буржуазного мира. Если раньше склонность к ней
обнаруживала немногочисленная часть леворадикальной
интеллигенции, то ныне ее установки и принципы, пусть
и с некоторыми коррективами, принимаются
социальными слоями более умеренной политической ориен-
6
тации. Теперь не только «левые» теоретики ищут
опору в традиционных школах буржуазной философской
мысли, но и наоборот, представители академических
кругов все чаще обращаются к «неомарксизму»,
интегрируя его отдельные элементы — проблематику,
способ аргументации и т. п.— в определенную новую
систему и пытаясь тем самым выразить свое
критическое отношение к социальному статус-кво.
В настоящее время «неомарксизм» представляет
собой довольно пестрое течение со многими
ответвлениями, которые отличаются друг от друга как
способом воплощения некоторого общего им всем
теоретического «ядра», так и степенью лояльности по
отношению к буржуазному истеблишменту. Нередко
«неомарксистские» идеи синтезируются таким
образом, что они утрачивают явную склонность к «левому»
экстремизму и анархизму — постоянным спутникам
раннего «неомарксизма». В подобных случаях вместо
радикальных политических акций и экономических
преобразований прокламируются различного рода
суррогаты — революции «в сознании», «в структуре
потребностей», «в инстинктах», «сексуальные» и т. п.
Политическая идеология «неомарксизма» диктует
особенности его социально-философской программы.
Эта программа должна привести доказательство того,
что «развитой» капитализм и «государственный»
социализм порождают механизмы социального гнета и
эксплуатации, а также различные формы «ложного» и
«превращенного» сознания. Отсюда выводится
необходимость «третьего пути», по которому история
начнет свое движение как бы с нуля, отбрасывая ныне
существующие общественные системы.
Поиски «третьего пути», как правило,
сопровождаются нападками на «ортодоксальный» марксизм. Под
огонь критики чаще всего попадает теория и практика
социализма периода культа личности Сталина.
Поэтому многие «неомарксисты» формулируют свою
позицию в качестве альтернативы реальному социализму,
отождествляя последний со сталинизмом. Ими
подчеркивается неприятие «государственного», или
«бюрократического», социализма, утверждается
несовместимость гуманизма и любых форм насилия,
декларируется автономия личности и т. п. Но при этолл они не
учитывают одного важного обстоятельства, которое
позволяет отделить зерна от плевел в реальной исто-
7
рии социализма. Дело в том, что концепция
социализма, связанная с именем Сталина, возобладала в
политике партии не сразу, а лишь с конца 20-х годов.
Эта концепция означала отказ от ленинской стратегии,
поскольку возвела в абсолют принципы «военного
коммунизма» — вынужденной и временной меры, на
которую молодое Советское государство пошло в
экстремальных условиях. Обретя плоть и силу в структурах
бюрократии, «казарменная» философия сталинизма
послужила источником массовых репрессий,
беззакония и трагических просчетов в решающие моменты
истории страны. Созданная в 30—40-е годы
административно-командная система оказывает деформирующее
воздействие на наше общество и сейчас. Демонтаж
этой системы — неотложная задача партии и народа.
На XIX Всесоюзной конференции КПСС
подчеркивалось: «Именно в окостеневшую систему власти, в ее
командно-нажимное устройство упираются сегодня
коренные проблемы перестройки — и экономическая
реформа, и развитие социально-культурной сферы, и
воспитание у людей хозяйски заинтересованного
отношения ко всему происходящему в стране» 2. В связи с
вышеназванным отождествлением реального
социализма со сталинизмом следует отметить еще один
момент. Недооценка объективных экономических
законов, акцент на «силовых» методах управления, прежде
всего политических и военных, расчет на мгновенный
переворот во всех сферах жизни, наконец, стремление
заклеймить прошлое как «буржуазное» и отринуть его
целиком — все эти атрибуты сталинской модели
социализма можно отыскать и в сочинениях ее левобуржу-
аэных критиков.
Основные направления «неомарксистской»
философской программы таковы:
1. Критика общества, которое изначально по своей
сути враждебно личности. С этой точки зрения,
развитие общества приводит к деперсонализации и
отчуждению личности, к ликвидации всего того, что
связано с ее индивидуальностью.
2. Критика науки и научной рациональности как
продукта буржуазного общества. «Неомарксисты»
утверждают, что научная рациональность, воплощая
дух капитализма, пронизывает все сферы социальной
и культурной жизни человека и превращается в
источник социального угнетения.
8
3. Критика позитивизма как философии,
оправдывающей всякую наличную действительность и не
допускающей ее революционного отрицания.
Позитивизм в сфере политики и идеологии оборачивается
конформизмом, а в теоретической области приводит
к плоскому эмпиризму, к «натурализации» человека и
общественных отношений, к утверждению
«ценностной нейтральности» социальных наук по образцу
естественнонаучной методологии и т. д. Позитивизм
служит формой и средством оправдания
утилитарно-потребительского отношения к человеческой личности,
ценностям культуры.
Характеризуя «неомарксизм», нельзя не отметить
такую его особенность, как эклектизм. На протяжении
всей истории этого течения его теоретики
предпринимали многочисленные попытки сочетать учение
К. Маркса с идеологическими установками и
политическими лозунгами «левого» радикализма. Для
решения данной задачи необходимо было произвести
ревизию марксизма по ряду существенных пунктов. В
поисках философского фундамента для такой операции
теоретики «неомарксизма» охотно шли на сближение
с различными школами и направлениями современной
буржуазной философии. В этой связи можно отметить
попытки создания своеобразной амальгамы с
неогегельянством (сведение марксизма к гегельянству,
предпринятое Лукачем в 20-е годы), с различными
вариантами «философии жизни» и экзистенциализмом
(«хайдеггер-марксизм», развитый Маркузе,
«экзистенциальная» ревизия марксизма, предпринятая Сартром
и др.), с фрейдизмом (Фромм, Маркузе и др.), со
структурализмом (Л. Гольдман), с
феноменологической философией (Пачи и др.), с герменевтикой
(Ю. Хабермас) и т. д.
По-разному можно отнестись к подобной
всеядности. Сами «неомарксисты», по-видимому, склонны
оценивать это качество как следствие широты и
гибкости собственной позиции. Однако применительно к
данной ситуации представляется справедливым
афоризм французского поэта прошлого века Ш. Бодлера:
«Эклектик подобен кораблю, желающему, чтобы в
его паруса дули ветры сразу со всех четырех сторон
света». О том, куда приплыл корабль, снаряженный
«неомарксистами», речь пойдет ниже.
Глава 1
«ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ»
РЕВИЗИЯ МАРКСИЗМА
Май 1968 года. Студенческая Франция бурлит.
Баррикады, митинги, демонстрации. Органы массовой
информации захлебнулись от избытка репортажей,
интервью и комментариев. Общественное мнение
взбудоражено: согласно опросам, четверо из пяти
парижан на стороне бунтующих студентов. С каждым
днем движение набирает силу. 13 мая число
участников демонстраций превысило 800 тысяч. Требования
бунтовщиков порой наивны, но радикальны. Призыв к
тотальному неповиновению старшим — родителям и
преподавателям — в одном пакете с гневным
осуждением войны во Вьетнаме и буржуазной системы
в целом.
Французская коммунистическая партия
поддерживает движение, пытаясь направить его в русло
общенациональной борьбы за демократизацию общества.
Однако студенческие лидеры в плену левоэкстремист-
ской идеологии. Движение обретает характер
карнавального шествия, где торжествуют маскарадные
герои, а блеск театрализованного «шоу» затмевает
повседневные заботы о хлебе насущном и прочих
житейских вещах. «Вся власть — Воображению!» — этот
лозунг у всех на устах. Один из вождей студенческого
движения, Д. Кон-Бендит, вспоминая впоследствии о
переговорах с М. Рошем, ректором Сорбонны, так
комментировал свое требование допустить студентов
в закрытый властями университет: «Моя мысль
состояла в следующем: заставить Роша открыть
университет, привести ночью множество оркестров и
организовать во дворе Сорбонны грандиозный праздник,
который длился бы весь уик-энд».
Упомянутый Кон-Бендит сумел разглядеть в
русской революции лишь одну колоритную фигуру —
батьку Махно. Он был не одинок в своих симпатиях к
10
анархизму. Многочисленные группировки «гошистов»,
или «левых», безумствовали по всем канонам этой
одиозной доктрины. Вот картина, типичная для
майских событий. Молодые люди, называющие себя
«бешеными», оккупировали парижский театр «Одеон». На
его фасаде развешаны красные и черные флаги —
цвета революции и анархии. Внутри же перед толпами
любопытствующих аксессуары «новой жизни»:
экстравагантные лохмотья и запах нечистот, марихуана и
длинные лохмы, «революционный» экстаз и
публичный секс.
Майский бунт, не найдя дорогу к рабочему и
общедемократическому движению во Франции,
довольно быстро зашел в тупик. В конечном счете он
оказался на руку силам реакции. Левацкие группировки,
возникшие на его гребне, все больше отрывались от
студенческой массы и, уходя в подполье,
вырождались в террористические формирования. Примерно
то же самое происходило и в других развитых
капиталистических странах — США, Японии, ФРГ, Италии,
Великобритании. В конце 60 — начале 70-х годов там
прогремели взрывы молодежного бунта. Уличные
манифестации, баррикады, сражения с полицией,
грандиозные поп-фестивали и рок-концерты должны были
явить миру новые образцы жизни и культуры.
Однако молодые «мятежники» преуспели только в
одном: в неистовом фанатизме, с которым они
обрушились на традиционные ценности человеческой
культуры. Что касается позитивных результатов их
бурного «мятежа», то здесь их успехи более чем
сомнительны. Они попытались создать «контркультуру»,
альтернативную буржуазно-мещанским установкам и
ценностям, но в действительности произвели
антикультуру, которая обрывает связи с духовным
наследием прошлого, предлагая взамен лишь такие вещи,
как «свободный» секс, рок-музыку и наркотики.
Молодежное движение оказалось необычайно
пестрым по социальному составу участников, а также
по идейно-политическим и
нравственно-психологическим истокам. Безусловно, в нем были и
неподдельный энтузиазм, и искренняя вера, и яростный протест
против лицемерной пошлости буржуазной культуры.
Оно выразило реальную потребность, которую
ощущала не только молодежь, но и другие возрастные
группы населения капиталистических стран,— потреб-
11
ность в коренных социально-экономических и
культурных преобразованиях. К сожалению, этот живой
импульс социальной активности приобрел в молодежном
движении гипертрофированную, извращенную форму.
В хмельном угаре леворадикальной идеологии оно не
сумело обрести разумные и ясные ориентиры, зато в
нем расцвели пышным цветом все атрибуты
мелкобуржуазной «революционности»: стихийность и
анархия, групповщина и тактика «прямого действия»,
трескучая фраза и театрализованная героика.
В головах юных проповедников «новой жизни»
царила кутерьма под стать их буйным
карнавально-революционным акциям. На баррикадах ультралевого
бунта братались «революционеры» всех мастей и
оттенков: троцкисты, маоисты, экзистенциалисты,
фрейдисты и прочие поборники анархических свобод.
Правда, среди молодежи необычайно популярным было
имя Маркса, но его учение трактовалось
односторонне— только как теория насильственного
ниспровержения капиталистической системы. В то же время
Марксова программа социалистической революции, ее
гуманистические идеалы и цели либо полностью
игнорировались, либо прокручивались через мясорубку
буржуазных философских концепций.
Особенно велико было влияние «марксизирован-
ного» экзистенциализма, который внедрял в сознание
«бунтующей» молодежи индивидуалистические
предрассудки, сложившиеся в недрах буржуазного
предпринимательства. Широкое хождение среди
молодежи имели идеи об «экзистенциальном» возрождении
личности, о свободе как «автономии выбора», о
спонтанной самореализации индивида и другие. Эти
продукты экзистенциалистского мышления могли бы
сойти за ярко раскрашенные игрушки в
интеллектуальных забавах, до которых так охочи резвые юноши
из обеспеченных семей. Однако это не так.
Молодежные движения 60 — 70-х годов оказались полигоном,
на котором упомянутые «игрушки» прошли самые
серьезные испытания, взрываясь и обжигая незрелые
души опасным огнем анархизма и левоэкстремистских
действий. Примерно такой же эффект производит
экзистенциализм, особенно в его «марксизированной»
форме, и в наши дни. Он представляет своеобразный
арсенал, из которого черпают идеи различные
леворадикальные группировки на Западе. Чтобы разобраться
12
в механизме экзистенциалистского философствования,
а также в причинах его влияния на различные слои
буржуазного общества, обратимся к эволюции его
основных понятий и принципов.
САБОТАЖ ИСТОРИИ
И ВНУТРЕННЯЯ ЭМИГРАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
В двадцатые годы нашего столетия в Германии
возникла новая философская школа, которая сразу же
привлекла к себе внимание непривычным
наименованием — «экзистенц-философия», а еще более
проблематикой, необычной и странной с точки зрения
академических направлений буржуазной философии. В то
время в университетах Западной Европы наибольшим
авторитетом пользовались такие течения, как
неокантианство, позитивизм, феноменология и другие, в
которых главный герой — познающий субъект,
лишенный каких-либо конкретных жизненных и социальных
характеристик. Напротив, в работах М. Хайдеггера,
К. Ясперса и других экзистенциалистов в центре
внимания оказалась личность, для которой интерес к
познанию заслонили трагические коллизии бытия. Это
была личность, заброшенная в чуждый и враждебный
мир и озабоченная такими вопросами, как смысл
личного существования и выбор себя, свобода, вина и
ответственность, «зов» экзистенции и «пограничные»
ситуации, конечность человеческого бытия и смерть как
мера нашей тоски по «безусловному».
Новая школа имела своих предшественников.
Например, «философия жизни», возникшая в последней
трети прошлого столетия, с самого начала повела
борьбу против «гносеологизма» и «методологизма»
как одностороннего увлечения познавательным
процессом. По словам В. Дильтея, одного из ведущих
представителей этого течения, «гносеологические»
концепции имеют дело с субъектом, «в жилах которого
течет не настоящая кровь, а разжиженный флюид
разума, как голой мыслительной деятельности» '.
Однако «философия жизни» не сумела вдохнуть в
буржуазную философию новую жизнь. Вскрывая
порочность «гносеологизма», она была не менее абстрактна
и бесплодна в отношении к реальной жизни. Ее
центральное понятие — «жизнь» — наполнялось биологи-
13
ческим или психологическим содержанием, а в жилах
субъекта, сконструированного самим Дильтеем, если
и текла «настоящая кровь», то это отнюдь не
облегчало истолкование его жизни в контексте общественного
бытия. В этой связи уместно вспомнить слова Маркса
о том, что сущность личности «составляет не ее
борода, не ее кровь, не ее абстрактная физическая
природа, а ее социальное качество»2.
Экзистенциализм, как и «философия жизни», не
проявил особой склонности к социально-историческим
обобщениям и вообще не ставил каких-либо задач,
связанных с преобразованием общественных структур.
Его выводы и рекомендации адресованы не народам
или правительствам, а обращены к отдельной
личности, стремящейся к обособлению от масштабных
событий истории и противопоставляющей себя любому
массовому движению. Однако в отличие от многих
других буржуазных течений и школ экзистенциализм
более тщательно, а главное, осмысленно, стремится
соотнести продукты философской рефлексии с
конкретными историческими фактами и процессами. Не
будет преувеличением сказать, что он вышел на
арену европейской интеллектуальной жизни с
совершенно определенной целью — осмыслить с позиций
буржуазной интеллигенции трагические события, которые
буквально обрушились на многие европейские страны,
и прежде всего Германию, в первую треть XX века.
Здесь можно отметить следующие обстоятельства и
моменты: 1) социальные конфликты и противоречия,
резко обострившиеся в связи с вступлением ведущих
капиталистических стран в эпоху империализма;
2) первую мировую войну, вызвавшую
многочисленные, а главное, бессмысленные жертвы; 3)
послевоенную разруху и экономические кризисы,
сопутствовавшие периоду восстановления.
Переломная эпоха породила в Западной Европе
настроения отчаяния, моральную депрессию,
глубокий цинизм и упадочничество, которые в Германии —
на родине экзистенциализма — усугублялись ее
поражением в войне. Пессимизм охватил и широкие слои
буржуазной интеллигенции, которая разуверилась в
традиционных ориентирах и ценностях, а в этой связи
очень остро ощущала потребность в новых подходах
к социальным проблемам. Пытаясь удовлетворить
запросы образованной личности буржуазного общества,
14
экзистенциализм на свой лад истолковал причины
послевоенного кризиса. Объяснение данного
феномена оказалось типичным для идеалистических
концепций: не обращая внимания на
социально-экономические условия, в частности на противоречия в сфере
капиталистической экономики, они сделали упор на
особых типах сознания, стремясь в этой плоскости
отыскать механизм, породивший трагические события
в европейской истории. Экзистенциалисты
утверждают, что, во-первых, кризис является расплатой за
слепое, некритическое доверие к науке и ее
достижениям, которое демонстрировали на протяжении
десятилетий довоенной поры целые поколения
образованных людей, а во-вторых, он — следствие их
благодушно-оптимистической веры в неизбежность
исторического прогресса.
Таким образом, философия экзистенциализма
включает критику, предпринятую в двух направлениях:
по отношению к науке и научной рациональности и по
отношению к идее исторической закономерности
общественного прогресса. Существенной особенностью
науки, согласно экзистенциалистской интерпретации,
является ее некоммуникативный характер или, как
выражается К. Ясперс, ее «сокрытость». Парадокс
научной мысли состоит в том, что она имеет абсолютно
ясный и общедоступный характер, оставаясь при этом
совершенно непроницаемой в своих предпосылках.
Это происходит вследствие того, что абстрактное
мышление уводит от субъекта, стоящего у истоков
научной теории, превращая его в нечто случайное и
безразличное с точки зрения объективной истины. В силу
данной особенности наука, по мнению
экзистенциалистов, лишь по видимости выступает средством
человеческого общения, а в действительности образует
почву, на которой произрастает и воспроизводится
отчуждение людей.
Логическим завершением такого взгляда на науку
оказывается изображение техники как социального
продукта, связанного с воплощением «непонятной»
науки и потому совершенно чуждого человеку. Наука
и техника, полагают экзистенциалисты, бесполезны в
мировоззренческом плане, ибо лишь запутывают и
затрудняют поиски смысла человеческого
существования. «Должен обмануться всякий,— пишет Ясперс,—
кто искал в науке основы своей жизни, кто надеялся
15
обрести в ней руководство в своих действиях и в
самом бытии» 3.
Рассматривая идею исторического прогресса,
экзистенциалисты противопоставляют ее
непосредственному нравственному чувству, которое рождается в
глубинах индивидуального «Я». Внедрившись в
массовое сознание, подчеркивают они, идея прогресса
вынуждает индивида соотносить свои действия только с
теми нормами и предписаниями, которые
продиктованы определенной концепцией исторического
процесса. Для многих людей представления о личной
ответственности оказываются смещенными в плоскость
исторических действий, что постепенно приводит к атрофии
непосредственного нравственного чувства. В
результате отдельная личность легко становится жертвой
социальной демагогии, орудующей такими
абстракциями, как «патриотизм», «свобода», «правое дело»
и т. п. Все это послужило причиной того
внутреннего кризиса, который пережила европейская
интеллигенция: воспитанная на идеях «гарантированного
прогресса», она оказалась не готовой к восприятию
таких событий, как первая мировая война. Кровавые и
бессмысленные жертвы, брошенные на ее алтарь,
совершенно не укладывались в
либерально-благодушную схему истории, ведущей в золотой век
человечества. Не видя реального подтверждения своих
исторических ожиданий, рядовой европейский интеллигент
оказался в плену нравственного скептицизма и
отчаяния.
Выход из кризиса экзистенциалисты видят в том,
чтобы вернуть приоритет непосредственному
нравственному убеждению. Индивид должен осознать, что
история — это внешний, чуждый ему процесс, что ей
нет до него никакого дела. Интерес к истории
оправдан лишь постольку, поскольку индивиду необходимо
знать, в какой исторической ситуации он будет
находиться. Однако результаты исторического
исследования, предсказания, которые они инспирируют, не
могут воспрепятствовать главному: какое бы будущее ни
ожидало человечество, в каких бы условиях ни
оказался отдельный индивид, он должен действовать,
отстаивая свое «Я», свое жизненное предназначение,
свою безусловную веру.
Это стоическое требование, которое кратко можно
выразить словами датского мыслителя первой полови-
16
ны XIX века С. Кьеркегора — «Будь самим собой!»,—
образует стержень всех интеллектуальных
хитросплетений экзистенциализма. Обращаясь к личности с
подобным призывом, сторонники этой философии
утверждают позицию воинствующего антиисторизма,
пропагандируют отказ от участия в
социально-исторической деятельности. Эта своеобразная «сидячая
забастовка» против истории выражается и в
центральном понятии, от которого происходит название данной
философской школы, в понятии «экзистенции».
По латыни это слово означает «существование», но
экзистенциалисты вкладывают в него специфическое
содержание. Согласно М. Хайдеггеру, приставка «эк»
должна переводиться как «вне», и тогда «экзистиро-
вать» означает «быть вне себя». Последнее
выражение эквивалентно по смыслу хорошо известному
понятию «экстаз»: находясь в крайней степени восторга,
доходящего до исступления, мы, естественно, теряем
всякое ясное представление о вещах обычных,
будничных, суетных. Примерно так же следует понимать и
выражение «быть вне себя»: оно означает, что
личность выходит за рамки той части своего сознания,
которое несет на себе отпечаток внешней среды,
которое впитало в себя социальные ограничения и
требования. Истолкованный «экстатически» человек
означает, что он способен выводить себя за пределы
непосредственной действительности окружающего мира.
Любой же сущий предмет, кроме человека, есть
только то, что он есть, и ничего больше. Именно потому,
что человек «эк-зистирует», он может понять смысл
«бытия» и «небытия», того, что «есть», и того, чего
«нет», т. е. осознать смысл этих противоположных и
взаимоопределяемых понятий.
Следовательно, «экзистенция» — это нечто
абсолютно внутреннее, это безусловный порыв, который
личность может ощутить в себе как постоянное ядро
в потоке изменчивых настроений, это неясная,
безотчетная, но властная вера, которая, беря начало внутри
личности, обладает тем не менее сверхсубъективным
характером и совершенной прочностью. Данный
переход от внешней, эмпирической, поверхностной сферы
сознания к глубинной, или экзистенциальной, Ясперс
выражает в следующих словах: «Единичная личность...
совершает переход от себя как эмпирической
индивидуальности к себе как самобытной самости» 4.
17
Неумеренное, едва ли не болезненное внимание
экзистенциалистов к внутреннему миру личности, или
к «самобытной самости», отражает весьма
существенные моменты в эволюции капиталистического Запада.
Дело в том, что переход к империализму
сопровождался формированием так называемого массового
общества, или, выражаясь проще, плебеизацией всех
сфер социальной жизни. Впрочем этот процесс был
заметен и раньше, а империализм только ускорил и
углубил его. Еще Ф. Ницше, один из столпов
«философии жизни», во второй половине XIX века не только
зафиксировал этот факт, но и дал ему резко
отрицательную оценку с позиций
элитарно-аристократического сознания. По его мнению, растущая активность
народных масс представляет угрозу «естественному»
течению жизни, в результате которого в социальной
иерархии должно возвыситься наиболее совершенное
существо — сверхчеловек, представитель духовной
аристократии, единственный среди множества
«посредственных», «низших» людей, кто оказывается
способным к творчеству, кто определяет облик целых
исторических эпох и формирует высшие ценности
бытия и культуры. Что касается «масс», то они, как
подчеркивает Ницше, заслуживают внимания лишь в
трояком отношении: как «скверные копии великих людей,
отпечатанные на плохой бумаге со стертых негативов»,
как «противодействие великим людям» и, наконец, как
«орудие великих людей»; «впрочем,—
злобно-саркастически добавляет он,— к дьяволу народные массы, а
заодно и статистику!» 5.
Разумеется, Ницше даже не пытался
дифференцировать различные процессы, связанные с
возрастающей активностью народных масс в XIX веке. Говоря об
этой тенденции, он помещает в один ряд «христиан»,
«социалистов», «англичан», «лавочников», «женщин» и
«прочих демократов». Между тем здесь возникают
разнокачественные явления. Капитализм и в самом
деле придал массовый характер многим социальным и
культурным процессам, породив такие негативные
явления, как стандартизация жизни, социальная
разобщенность, разбухший чиновничий аппарат,
манипуляция общественным мнением, «массовая культура» и
т. п. Причем подлинным фундаментом этих
атрибутов «массового общества» явилось капиталистическое
производство, которое, стремясь расширить рынок
18
сбыта товаров, готово потрафить самым низменным
вкусам и потребностям. Буржуазная плебеиэация шла
рука об руку с культом наживы. В результате наука,
политика, искусство, религия, право, мораль и даже
непосредственно личные отношения между людьми —
все это постепенно лишалось ценности, определяемой
собственной природой, но зато превращалось в
предмет потребления, подчинявшийся логике коммерции к
чистогана.
Процесс формирования «массового общества»,
сопровождающийся стандартизацией потребностей и
вкусов, не следует путать с другой тенденцией — с
растущей оппозицией эксплуататорским классам со
стороны трудящихся, и прежде всего пролетариата.
Этот класс, борясь за свое освобождение, создает
предпосылки для возникновения нового общества, в
котором извечные вопросы — о свободе, равенстве и
справедливости — получают решение на
принципиально иной, социалистической основе. Именно социализм
представляет подлинную альтернативу общественным
системам, которые опрощают и опошляют
человеческую жизнь, лишая ее духовно-творческого измерения.
Особенно важно подчеркнуть, что он устанавливает
такие отношения между социальным коллективом и
личностью, которые исключают абсолютизацию либо
личностного начала, что выражается, например, в
буржуазном индивидуализме, либо коллективистского,
что соответствует тоталитарным системам, будь то
«третий рейх» гитлеризма или режим «красных
кхмеров» в многострадальной Кампучии. Принципы
социалистической общности, учитывающей диалектику
упомянутых начал, К. Маркс и Ф. Энгельс
сформулировали еще в первые годы совместного труда. Так, в
«Манифесте Коммунистической партии» они заявили:
«На место старого буржуазного общества с его
классами и классовыми противоположностями приходит
ассоциация, в которой свободное развитие каждого
является условием свободного развития всех» 6.
Столкнувшись с феноменом стандартизации
общественной жизни, экзистенциалисты вслед за Ницше
попытались осмыслить его с позиций личности,
выражающей претензию на творческую самобытность и
исключительность. Но если мысль Ницше обращена
назад, в прошлое, усматривая аристократический
идеал «сверхчеловека» в римских патрициях и японских
19
самураях, в гомеровских героях и скандинавских
викингах, наконец, в таких исторических персонажах, как
Цезарь, Макиавелли, Цезарь Борджиа и Наполеон, то
экзистенциалисты опираются на современность,
пытаясь воплотить в своих понятиях некоторые реальные
черты интеллигентной личности буржуазного
общества.
Такая личность вынуждена вести двойственное
существование, с одной стороны, следуя диктату
«массового общества», а с другой — повинуясь
непосредственным чувствам и склонностям, которые не находят
выражения в социально регламентированной
деятельности. Данное раздвоение отчасти зафиксировано s
экзистенциалистских понятиях: «эмпирическую
индивидуальность» можно толковать как ту часть сознания
личности, которая погружена в стихию социальной
жизни, а «самобытная самость» — это остаток,
который личность вправе оценивать как свою сокровенную
суть, невыразимую на языке повседневной суетности.
Герой экзистенциалистской философии —
буржуазный интеллигент — не может примириться с тем
варварским способом, каким производится
утилизация его способностей. Сфера духа во все времена
считалась привилегированной в плане самореализации
творческой личности, но в условиях массового
производства и массового потребления даже она
претерпела изменения, угодные капиталу. Субъект духовной
деятельности оказался в ситуации, которую Маркс
называл «самоотчуждением», имея в виду процесс
превращения внутренних потенций труженика во
враждебную ему силу. Характеризуя отчужденный труд
рабочего в капиталистическом обществе, он писал,
что «труд является для рабочего чем-то внешним,
не принадлежащим к его сущности... что он в своем
труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя
не счастливым, а несчастным, не развивает свободно
свою физическую и духовную энергию, а изнуряет
свою физическую природу и разрушает свои
духовные силы. Поэтому рабочий только вне труда
чувствует себя самим собой, а в процессе труда он
чувствует себя оторванным от самого себя» 7.
Капиталистический Молох требует от интеллигента
разнообразных жертв. Главная из них заключается в
том, что его труд лишается социального измерения —
он перестает быть средством формирования личности,
20
способной возвыситься до осознания высших
ценностей человеческой жизни. Самоотчуждение, о
котором писал Маркс, естественным образом
оборачивается социальной разобщенностью. Трудящийся в
капиталистическом обществе не в состоянии
удовлетворить свою потребность в труде, ибо трудится он
исключительно ради удовлетворения всяких других
потребностей, т. е. в процессе труда он принадлежит не
себе, а другому — тому, кто отчуждает в свою пользу
продукты его деятельности. «Непосредственным
следствием того, что человек отчужден от продукта своего
труда, от своей жизнедеятельности...— отмечал
Маркс,— является отчуждение человека от
человека. Когда человек противостоит самому
себе, то ему противостоит другой человек»8.
В обществе, где социальные связи рвутся либо
приобретают внешний, формальный характер, где
господствует конкуренция, приучающая видеть в другом
человеке лишь ограничение собственной свободы,
легко возникает и получает распространение миф об
изначальной враждебности индивида и коллектива, о
безликой толпе, всегда готовой растоптать все
незаурядное и самобытное. Смещая акценты, подобный миф
уводит от конкретных вопросов типа: какая личность
и какое общество противостоят друг другу? что за
система создает и вскармливает такого рода толпу?
какие силы заинтересованы в отчуждении личности?
Совершенно очевидно, что анатомия «массового
общества» становится понятьой только под углом зрения
социально-классовых отношений. Однако
буржуазному интеллигенту далеко не просто осуществить такой
поворот мыслей. Некоторые его социальные интересы
завязаны в один узел с буржуазным способом
жизнедеятельности, он интегрирован тем самым порядком,
который воспринимает как покушение на свою
свободу. Именно поэтому находит у него живой отклик
экзистенциалистская схема, которая воспроизводит
противоречия его социального бытия в форме
абстрактного противопоставления «личности» и
«общества». Правда, существуют и другие причины
популярности экзистенциализма. Нужно отметить, что, уходя
от вопроса о социально-классовом механизме
отчуждения личности, это направление в ряде случаев
использует живой и психологически достоверный
материал, так что западный читатель в мозаике абстрактно-
21
философских понятий может опознать и себя, и свое
окружение, и свои специфические жизненные
проблемы. Росту популярности экзистенциализма
содействовало и то, что некоторые его представители — Г.
Марсель, А. Камю, Ж.-П. Сартр и др.— часто и с немалым
успехом обращались к жанрам драматургии и
художественной прозы.
Переводя проблему взаимоотношения личности и
общества на язык собственной философии,
экзистенциалисты проводят различие между подлинным и
неподлинным способами человеческого существования.
Первый из них они связывают с тем, что индивид
культивирует самобытную «самость», т. е. следует «зову»
экзистенции, тогда как второй способ означает его
отказ от глубинных предпочтений и верований в
пользу забот и нужд повседневности. Неподлинное
существование обусловлено тем, что человек постоянно
взаимодействует с природными вещами и с другими
людьми: это необходимая сторона его жизни, но
именно здесь, предостерегают экзистенциалисты,
таится для него главная опасность. Он проявляет
заинтересованность в вещах, видя в них свое орудие и
средство удовлетворения житейских потребностей — в
пище, одежде и проч. Индивид ощущает также
необходимость сотрудничать с другими людьми, ибо в
одиночку он не смог бы преобразовать природный мир в
человеческий, т. е. подчинить его своим целям и
нуждам. Обремененный заботами, человек незаметно для
себя погружается в пучину предметной и социальной
среды, подчиняясь ее законам и привыкая
рассматривать себя по аналогии с вещами.
Власть вещественно-природного мира достигает
апогея вместе с развитием современной техники.
Открыв возможность технико-технологической
утилизации природного сырья, человек не в силах
контролировать этот процесс: он лишается своей свободы и
превращается в «функцию машины». Отныне его
ценность определяется «деловитостью», т. е. надежностью
функционирования. Он отказывается от притязаний
на индивидуальность и становится «типом», который
легко заменить не только другим человеком, но и
техническим устройством. Его частная жизнь также
механизируется и выступает как продолжение работы.
«Все, связанное с душевными переживаниями и
верой,— подчеркивает Ясперс,— допускается лишь при
22
условии, что оно полезно для цели, поставленной
перед машиной. Человек сам становится одним из видов
сырья, подлежащего целенаправленной обработке.
Поэтому тот, кто раньше был субстанцией целого и
его смыслом — человек,— теперь становится
средством» 9.
Неподлинное существование, как полагают
экзистенциалисты, еще резче проступает в совместном
бытии с другими людьми. «Всякая общность
принижает»,— считал Ницше. Следуя этому афоризму,
экзистенциалистская концепция изображает социальную
сферу как сообщество «усредненных» и отчужденных
индивидов. Спокойствие, безопасность и
уверенность — преимущества, обретаемые благодаря
совместной жизни с другими людьми,— оплачиваются
каждым дорогой ценой: отказом от самого себя.
Ассоциацию обезличенных индивидов, живущих по
принципу «Веди себя так же, как все», Хайдеггер
обозначает как сферу «Man». Данный термин
подчеркивает анонимный характер социальной жизни: не
имеющее русского эквивалента, местоимение «man»
используется в немецком языке в качестве
подлежащего в неопределенно-личных предложениях («знают»,
«судят» и т. п.). Иначе говоря, в обществе безличные,
анонимно существующие авторитеты вынуждают
каждого мыслить и действовать по трафарету, они
навязывают правила, несоблюдение которых влечет за
собой возмездие — обструкцию со стороны
общественного мнения. Все оригинальное и самобытное остается
таковым только в границах индивидуального
творчества, проявляясь же в социальной сфере, тиражиру-
ясь, оно сразу теряет глубину и значительность,
опошляется до уровня, соответствующего массовому вкусу.
В обществе возникает усредненный тип человека:
там действует не живая, самобытная личность, а некая
фикция, заменяющая ее, нечто «среднее» или
«нейтральное», удобное тем, что обеспечивает подстановку
одного вместо другого. Эта одинаковость,
неразличимое и наводящее скуку подобие людей изображается
Хайдеггером в следующих словах: «Пользуясь
общественным транспортом и средствами информации,
например газетой, каждый уподобляется любому
другому. Это совместное существование полностью
растворяет собственное бытие человека в способе бытия
«другого», притом так, что другие ничуть не меньше
23
теряют в своей непохожести и выразительности. В
границах этой неразличимости и неопределенности «Man»
устанавливает настоящую диктатуру. Мы
наслаждаемся и веселимся точно так же, как наслаждаются все;
мы глядим, читаем и судим о литературе и искусстве
так же, как смотрят и судят все; мы даже сторонимся
«больших сборищ», как сторонятся все; мы находим
«возмутительным» все то, чем возмущаются все.
«Man», которое не является чем-то определенным, и
Все, хотя и не в качестве простой суммы,
предписывают способ бытия повседневности» 10.
Выход из-под власти «Man» один — нужно
вырваться из мира повседневности, из мира вещей и людей,
нужно осуществить акт «внутренней эмиграции» и
вернуться к своей неповторимой «самости».
Экзистенциалисты по-разному изображают этот путь. Например,
Хайдеггер утверждает важность осознания
неизбежной перспективы — смерти, которая представляет
сугубо личный акт, помогающий индивиду вырваться из
пут повседневности. С точки зрения Сартра,
подлинное бытие раскрывается в обретении свободы,
существо которой — выбор, не зависящий от окружающей
действительности. Ясперс пытается решить эту
проблему в связи с возможностью «экзистенциальной
коммуникации», т. е. общения с «немногими», которое
основано на взаимной любви и безграничном доверии и
позволяет индивиду оставаться самим собой.
Однако все эти варианты демонстрируют общую
установку: представить социальный коллектив
суррогатом человеческих отношений. Построенная на ряде
противопоставлений: индивидуального —
коллективному, экзистенциального — повседневному,
подлинного — неподлинному, экзистенциалистская схема
ориентирует личность на самоизоляцию, на уход от
сознательного и социально организованного решения
крупных общественных проблем. Данная схема
отстаивает важнейший принцип буржуазного способа
жизнедеятельности — индивидуализм, а вместе с тем
отражает реальность — буржуазные формы социальной
жизни, которые и в самом деле являются сферой
господства «Man». Правда, картина, нарисованная
экзистенциалистами, нуждается в существенном
уточнении: отчуждение личности в буржуазном
псевдоколлективе не является универсально-всеобщим, а
выступает в классово-дифференцированном виде. «В суще-
24
ствовавших до сих пор суррогатах коллективности,—
писали К. Маркс и Ф. Энгельс,— в государстве и т. д.—
личная свобода существовала только для индивидов,
развившихся в рамках господствующего класса, и
лишь постольку, поскольку они были индивидами
этого класса. Мнимая коллективность, в которую
объединялись до сих пор индивиды, всегда
противопоставляла себя им как нечто самостоятельное; а так как она
была объединением одного класса против другого, то
для подчиненного класса она представляла собой не
только совершенно иллюзорную коллективность, но и
новые оковы» ".
В условиях капиталистического производства все
становится товаром. Не избежали этой участи и такие
атрибуты человеческого существования, как свобода,
независимость, творчество и т. п. Однако как
предметы роскоши они достаются далеко не всем. «Массы»
лишены этих благ, на их долю выпадает лишь
повседневный, часто рутинный труд. Экзистенциалистская
схема пытается возбудить подозрительность по
отношению ко всему «обыденному» и «массовому», но
такая установка, в свете вышесказанного, может
квалифицироваться лишь как претензия на социальную
исключительность. В силу социальной разнородности
буржуазного общества эта элитарная установка не
могла пустить корни в средних и низших слоях
населения. Поэтому дальнейшая эволюция
экзистенциализма осуществлялась на основе модификации тех
принципов, которые препятствовали расширению его
социальной базы.
НА БАРРИКАДАХ УЛЬТРАЛЕВОГО БУНТА
Апеллируя к самобытной «самости»,
экзистенциализм воскрешает традиции реакционного романтизма,
который ставит вопрос о высоком предназначении
человека, забывая спросить об элементарных жизненных
условиях миллионов трудящихся. Более того, «масса»
презрительно третируется как совокупность
«взаимозаменяемых» индивидов, а сфера социальных
взаимодействий — как «неподлинный» мир.
Такая элитарная, антидемократическая позиция,
естественно, не могла устроить «неомарксизм»,
социальный адресат которого — мелкая буржуазия, т. е.
25
масса людей, занимающих промежуточное положение
между трудом и капиталом, испытывающая на себе
гнет эксплуатации со стороны крупных
монополистических объединений, масса, явно тяготеющая к
индивидуализму и изоляционизму, но не настолько, чтобы
принять экзистенциалистскую программу «внутренней
эмиграции». Еще менее с политической программой
«неомарксизма» — по форме активистской —
уживалась позиция социального бездействия, которую
навязывала личности экзистенциалистская философия.
В силу отмеченного несоответствия между двумя
течениями теоретические контакты между ними, так
сказать, напрямую, без опосредствующей работы
мысли, были практически невозможны. В самом деле,
хотя «неомарксисты» почти сразу же обратили свои
взоры к работам Хайдеггера, Ясперса и других
«философов существования», серьезного сближения между
ними долго не получалось. Исключением можно
считать так называемый «хайдеггер-марксизм», довольно
неуклюжую попытку сочетать «неомарксистскую»
социальную философию с экзистенциализмом, которую
молодой Маркузе, в свое время учившийся у
Хайдеггера, предпринял в конце 20 — начале 30-х годов.
Дальнейшее сближение двух влиятельных на
Западе течений происходило двояким образом. Во-первых,
благодаря внутренней эволюции экзистенциализма, в
процессе которой различные его представители
предпринимали попытки ассимилировать марксистские
идеи и принципы, а во-вторых, посредством усвоения
«неомарксистами» понятийного аппарата,
разработанного ведущими экзистенциалистами.
Эволюция экзистенциализма происходила, главным
образом, в сторону социального «активизма».
Сторонникам этой интеллектуально-изощренной философии
никак не удавалось отыскать в беспокойной жизни
Европы 30—40-х годов какую-нибудь «экологическую
нишу», в которой можно остаться «самим собой»,
саботируя ход внешних событий и фиксируя по
внутренним часам Время, текущее к «безусловному». Сама
История, которую апологеты самобытной «самости»
так настойчиво выносили «за скобки» подлинной
жизни индивида, весьма бесцеремонно бросала их в
водоворот европейских событий и вынуждала признать
свою «ангажированность» конкретными социальными
силами.
26
Тоталитарные режимы, утвердившиеся в ряде
капиталистических стран (в Германии, Италии, Испании
и др.), резкая поляризация политических сил в Европе
наконец, вторая мировая война, развязанная
фашистскими государствами,— все это подготовило почву
для возникновения реформаторских тенденций внутри
экзистенциализма. Распространив свое влияние за
пределы Германии, это течение дробилось на
различные группировки и школы в соответствии с местными
культурными традициями и социально-политическими
условиями. Особенно сильное воздействие на
эволюцию экзистенциализма оказала мировая война и
растущее движение Сопротивления в таких странах, как
Франция и Италия. Многие экзистенциалисты
примкнули к Сопротивлению, в котором объединялись
люди различных политических ориентации, но
ведущую роль играли коммунисты. Все это оказало
положительное влияние на экзистенциалистские концепции:
они претерпели заметный сдвиг влево, а главное,
наполнились новым содержанием, почерпнутым из
сферы социально-политической борьбы.
Именно в годы войны в Италии набрал силу так
называемый позитивный экзистенциализм (Н. Аббаньяно
Э. Пачи и др.), который стремился развить философию
как «решение», как оптимистическую программу
«упорядоченного и здорового существования» человека в
мире. Сознавая ограниченность идеалистических
предпосылок, некоторые представители этой школы,
например Пачи, обратились к марксизму, пытаясь в нем
отыскать средства для «практической трансформации»
экзистенциализма. Еще выразительнее в этом плане
пример А. Банфи, который в предвоенные годы
сыграл большую роль в пропаганде экзистенциалистских
идей, но участие в партизанской борьбе против
фашистского режима Муссолини и активная деятельность
в качестве члена ЦК Итальянской коммунистической
партии содействовали его превращению в
оригинального и глубокого марксиста-теоретика.
Примерно тот же путь прошли и французские
экзистенциалисты. Сартр в 1943 г. в оккупированном
немцами Париже издал работу «Бытие и ничто», в
которой призвал своих сограждан к борьбе с фашизмом.
Хотя его призыв был выражен в завуалированной
форме абстрактно-философских рассуждений, само
опубликование этой книги, безусловно, было актом
27
гражданского мужества. Другой известный
экзистенциалист — Камю — накануне войны был членом
Французской коммунистической партии, а во время
оккупации активно сотрудничал в подпольной прессе.
Радикализация политических взглядов экзистенциалистов
приводила к тому, что они все чаще обращались к
учению Маркса, хотя интерпретировали его в рамках
буржуазного мировоззрения. Так, создав систему
«экзистенциального гуманизма», Сартр впоследствии
пытался усилить ее с помощью марксистской
аргументации. Итогом этих усилий явился своеобразный
вариант «неомарксизма» — попытка воспроизвести учение
Маркса, «дополнив» его экзистенциалистской
концепцией личности. Стремление ассимилировать
некоторые идеи Маркса или создать свои варианты
«экзистенциального марксизма» обнаружили также М. Мер-
ло-Понти, Ж. Ипполит, Ж. Валь и др.
Наиболее известным вариантом экзистенциальной
ревизии марксизма явилась попытка, предпринятая
Сартром. С одной стороны, эта попытка
свидетельствовала о позитивных сдвигах в его политическом
мышлении: в послевоенный период он выступал
сторонником социалистического преобразования
общества, критиковал капитализм за эксплуатацию,
социальное неравенство и подавление личности,
осуждал колониальную политику империалистических
государств, наконец, неоднократно выражал симпатии к
СССР. Вернувшись из поездки в нашу страну в
середине 50-х годов, он подчеркнул, что встретил там
людей нового типа и что отношения с нашей страной
должны быть дружественными. «Каким бы ни был в
дальнейшем путь Франции,— писал он,— этот путь не
должен резко отличаться от пути, избранного
Советским Союзом» 12.
С другой стороны, Сартр остался в плену
буржуазной идеологии, и это выражалось в том, что его
политические оценки и действия отличались крайней
противоречивостью и непоследовательностью. Он
неоднократно допускал враждебные выпады против
политики СССР и стран социалистического содружества,
смыкаясь по ряду вопросов с самыми реакционными
силами на Западе. Его обращение к марксизму нельзя
отождествить с установкой доброжелательного и
прилежного ученика, совмещающего жажду познания со
стремлением к творчеству: напротив, он определяет
28
свою позицию как «экзистенциалистскую
интервенцию», цель которой — спасти марксизм от
догматизма. Как заурядный захватчик, он не удосужился
вникнуть в проблемы и специфику той территории,
которую пытался оккупировать: навязывая марксизму
образ личности, сработанный по экзистенциалистским
схемам, он сам догматизирует его в духе
буржуазного индивидуализма. Операция по «спасению»
марксизма проводится им с таким размахом и такой помпой,
что в этой связи уместно привести ироническое
замечание английского философа Э. Пивчевича, кстати,
также испытавшего известное влияние со стороны
Маркса: «Сартр выступает как некий марксистский
Лютер, который пытается возродить извращенную к
подорванную бюрократизмом веру» 13.
Обращение Сартра к марксизму явилось, главным
образом, следствием его обостренного интереса к
политическим вопросам. Классические варианты
экзистенциализма, провоцирующие уход от социальных
форм жизни, не могли удовлетворить его новых
теоретических потребностей. Поэтому
«экзистенциальную» ревизию марксизма он дополнял не менее
радикальной ломкой той философской традиции, к
которой ранее принадлежал сам. Например, с позиций
классического экзистенциализма, безусловно, странно
и даже кощунственно звучал призыв Сартра к
созданию философской теории революционного действия.
Столь же мало с позицией «внутренней эмиграции»
вязалась установка на социалистическое
преобразование общественных структур, которую Сартр
заимствовал у марксизма. В соответствии с новыми задачами
он модифицировал и центральное понятие прежней,
концепции — понятие «экзистенции».
Пытаясь проложить путь к теории Маркса, он
подчеркивает значение практики в жизни человека,
говорит о трудовой деятельности как фундаментальной
структуре личности. Экзистенция, по его словам, это
«постоянное созидание самого себя трудом и
практикой...» м. Такой подход открывает для
реформированного экзистенциализма новые возможности: если
традиция предписывала изучение структур «чистого»
сознания, т. е. сознания, функционирующего лишь по
внутренним, имманентно присущим законам, то новая
позиция, связанная с понятием практики, открывала
29
возможность изучения сознания в контексте
материальных условий жизни людей.
Копируя Маркса, Сартр вместе с тем претендует на
оригинальную, самобытную трактовку поднятых
марксизмом проблем. Однако в ряде случаев его
подводит недостаточно глубокое знание марксистской
теории, а главное — груз его старых философских
заблуждений. Это бросается в глаза, как только он
пытается реализовать свои претензии на развитие
марксизма.
Определяя исходную позицию, Сартр
подчеркивает, что его интересует человек как часть природы, как
существо, воздействующее на мир окружающих
вещей практическим образом. Однако, ставя проблему
практики, он предпочитает идти своим путем,
отличным от того, который был разработан марксизмом.
Последний, как известно, конкретизирует понятие
практики путем анализа производственной
деятельности людей, тогда как Сартр избирает другое
направление, стремясь вывести существенные особенности
практики из человеческих потребностей.
Различие этих подходов имеет принципиальное
значение. С точки зрения К. Маркса, потребности
человека исторически изменчивы, а их развитие
определяется материально-производственной деятельностью.
«...Производство,— писал Маркс,— создает
потребление: 1) производя для него материал, 2) определяя
способ потребления, 3) возбуждая в потребителе
потребность, предметом которой является создаваемый им
продукт. Оно производит поэтому предмет
потребления, способ потребления и влечение к
потреблению» 15. Признание общественной, исторической
природы потребностей — азбука марксистской теории, но
именно эту фундаментальную особенность маскирует
и извращает сартровский подход.
Понятие потребности, по Сартру, выявляет
недостаток чего-то, какую-то нужду, требующую
удовлетворения. Трактовка потребности как нужды или
недостатка соответствует обыденному словоупотреблению
и в повседневной жизни может быть признана
достаточной. Однако в теории этого мало. В сартровском
изложении проблемы получается, что недостаток
чего-то побуждает индивида к поиску предмета,
способного удовлетворить нужду. Таким образом, предмет
потребности, найденный индивидом, выступает как
30
цель, которая затем реализуется в практическом
действии, причем обнаружение цели представляется
актом, целиком зависящим от индивидуальной воли.
В этом состоит корень последующих затруднений
Сартра. Он акцентирует внимание на индивидуальном
действии, усматривая его механизм в нужде или
недостатке. Между тем потребность обладает более
сложной структурой, чем это выявляет сартровский
анализ. В понятии потребности следует различать два
смысла или аспекта, соответствующих этапам ее
формирования. На первом этапе субъект ощущает
некоторую нужду, и данное ощущение сопровождается
изменением его внутреннего состояния. Происходит
мобилизация его различных сил и способностей,
сопровождаемая торможением (полным или
частичным) всех процессов, которые не связаны с
переживаемой нуждой. Таковы голод, жажда, скука и прочие
состояния, возбуждающие механизмы деятельности,
но при этом лишенные какого-либо предметного
содержания. Эти потребности — назовем их
беспредметными — предваряют поиск предмета, который
мог бы служить мотивом или целью соответствующей
деятельности.
Поиск предмета — это второй этап в процессе
формирования потребности, этап, который в
изображении Сартра представлен как простая функция
нужды или недостатка. Это было бы так, если бы
действующий субъект оставался изолированной личностью.
Однако в общественной жизни все усложняется. В
условиях разделения труда, без которого, естественно,
не существует общества, два вышеназванных этапа
формирования потребности: переживание нужды,
актуальное или воображаемое, а также нахождение
соответствующего предмета,— могут оказаться
разорванными. В таком случае они опосредуются
некоторым видом деятельности, которая не имеет прямого
отношения к изначальной потребности, но ее
результат — в натуральной или денежной форме —
позволяет отыскать необходимый предмет. Так, в развитом
обществе индивид может посвятить себя
деятельности, которая сама по себе не удовлетворяет его
потребности в пище, одежде и т. п., но созданный
ею продукт, совершив движение на товарном рынке,
возвращается к производителю в форме денег,.
31
лозволяющих опредметить ему разнообразные
потребности.
Поскольку потребности это не только нужда, но и
нахождение соответствующего предмета, постольку
развитие общества оказывает глубокое воздействие
на процесс потребления и характер потребностей.
Конечно, голод, как нужда, переживаемая индивидом в
эпоху компьютеров и ядерной энергии, ничем не
отличается от соответствующей потребности, которую
испытывал наш далекий предок. Однако способ
опредмечивания органических потребностей, таких,
как голод, существенно менялся с развитием
производственных возможностей человечества, с ростом
культуры и совершенствованием общественных
отношений. «Голод есть голод,— писал Маркс,— однако
голод, который утоляется вареным мясом, поедаемым
с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем тот, при
котором проглатывают сырое мясо с помощью рук,
«огтей и зубов» 1в.
Положив в основу практической деятельности
потребности человека, Сартр выводит из этой сферы все
особенности общественной жизни. Потребности, как
алы видели, он трактует не диалектически, не учитывая
их исторического характера и глубокой связи с
производством. Такое понимание наложило отпечаток на
его подход ко всем другим проблемам, в частности,
такой важной, как происхождение социальных
конфликтов и противоречий. Решая эту проблему, он
обращает внимание на то, что в истории человечества
большая часть населения земного шара постоянно
испытывала значительные трудности в удовлетворении
своих потребностей, и отсюда делает вывод об
изначальной враждебности людей по отношению друг к
другу в условиях недостатка или «редкости»
предметов потребления. Данное понятие — редкости — он
считает оригинальным вкладом в марксистскую
теорию, поскольку оно якобы позволяет понять
движущие силы истории и природу социальных конфликтов.
Именно редкость, полагает он, «превращает нас в
индивидов, которые творят именно эту историю и
определяют себя в качестве людей» |7.
Сартровский «вклад» низводит марксизм до
уровня заурядной буржуазной теории, не умеющей и не
желающей разобраться в подлинных причинах
социальной борьбы и конфликтов. Там, где Сартр видит
32
недостаток предметов потребления, марксистский
анализ фиксирует отношения эксплуатации и социальное
неравенство. В этой связи достаточно обратиться к
богатым странам капиталистического мира. О каком
недостатке или редкости предметов потребления может
идти речь в такой стране, как США, где 400 наиболее
богатых семей, свидетельствовал недавно
американский журнал «Форбс», располагают состоянием,
достигшим гигантского уровня — 156 млрд. долларов.
Это только на 2 млрд. меньше валового национального
продукта такой немалой страны, как Мексика. Между
прочим, «Форбс», издаваемый для финансовых
магнатов и промышленных воротил, в этой связи мог бы
добавить и другую информацию: по официальным
данным бюро переписи населения США, в 1985 г. в стране
насчитывалось 33,1 млн. бедняков. Источник
сложившейся ситуации в сартровском анализе завуалирован.
Марксистский подход, напротив, позволяет
констатировать возросший уровень развития
производительных сил США, при котором вполне можно было бы
уничтожить бедность, но главное препятствие в
этом — не с<редкость» предметов потребления, а
капиталистические производственные отношения.
Следует отметить, что в понятии «редкость»
проявляются предрассудки, типичные для буржуазного
сознания. Сартру нельзя не возразить по поводу якобы
неизбежной конфликтности социального бытия в
условиях недостатка предметов потребления. В конце
концов, история человечества не всегда и не во всем
следовала законам конкуренции, навязанным
капиталистическим производством. Она демонстрирует не
только конфликты и сражения, но и постоянный, хотя
и мучительно-трудный, прогресс в развитии форм
человеческой солидарности. Причем сама нужда порою
может пробудить у людей чувство единства,
товарищества и взаимного доверия, содействуя их
объединению для совместной борьбы и труда. Наконец,
дефицит предметов потребления не является таким уж
неизбежным злом — производство в формах гуманного
сотрудничества и справедливого распределения
материальных благ рано или поздно искоренит его. С
Сартром можно согласиться лишь в той мере, в какой он
описывает реалии буржуазного способа
жизнедеятельности: капиталистическая система и в самом
деле не имеет иных возможностей для развития
2 8—187
33
потребления, кроме одной — выжать прогресс,
заключив человека в тиски жесткой конкуренции.
Реформа экзистенциализма, затеянная Сартром,
производится с учетом социально-психологических
особенностей мелкой буржуазии, а также близкой к
ней по ряду признаков интеллигенции. Особенно ясно
это обнаруживается, когда он обращается к
центральной для своей философии теме — свободе личности.
В период, предшествующий марксологическим
изысканиям, Сартр разрабатывал субъективистскую
концепцию свободы, определяя данное понятие как
«автономию выбора». Это значило, что выбор,
знаменующий свободу, оказывался внутренним делом личности,
которая, как подчеркивал Сартр, совершенно
независима от обстоятельств и условий своего внешнего
окружения. Выбор того или иного варианта действий
осуществляется ею спонтанно, он, по существу,
непредсказуем, ибо наличная сущность человека, по
Сартру, не условие, детерминирующее выбор, а его
динамичный результат. Иными словами, человек не
является чем-то сложившимся и определенным до
всякого выбора — своим выбором он выбирает себя,
и этот процесс никогда не обрывается на всем
протяжении человеческой жизни.
Правда, Сартр признавал наличие некоторой
объективной ситуации, которую индивид не выбирает и в
которой он принужден действовать, но это не
выводило его концепцию за рамки субъективистского
рассмотрения свободы. Человек, с его точки зрения, сво*
боден всегда, даже в самых безнадежных ситуациях.
Например, в тюрьме у человека сохраняется
возможность выбора — он может выстоять либо изменить
своим убеждениям: стало быть, он и там не
утрачивает свободы. Он повсюду может искать своего
спасения, и в этом смысле, как говорит Сартр, «даже
пытка не лишает нас свободы» 18.
Столь парадоксальный взгляд на человеческую
свободу объясняется тем, что Сартр абстрагируется
от объективных компонентов той ситуации, в которой
находится индивид, и связывает индивидуальный
выбор только со сферой сознания. «...Так как наше
бытие,— пишет он,— является не чем иным, как
изначальным выбором, то сознание выбора тождественно
сознанию, которое мы имеем о себе. Нужно обладать
сознанием, чтобы выбирать, и нужно выбирать, чтобы
34
быть сознающим. Выбор и сознание — это одно и
то же» 19.
Делая акцент лишь на сознании, Сартр затягивает
проблему в болото субъективизма: свободный выбор,
с его точки зрения, оказывается мистическим,
иррациональным актом, целиком зависящим от личности.
Иначе говоря, существует некая внутренняя сила или
дремлющее в нас до поры до времени убеждение,
которое просыпается в результате воздействия
внешних факторов и, в свою очередь, толкает нас на тот
или иной выбор. «...Сознательное решение...— пишет
Сартр,— у большинства из нас появляется лишь после
того, как человек из себя уже что-то сделал. Я могу
захотеть вступить в партию, написать книгу, жениться,
однако все это лишь проявление более
первоначального, более стихийного выбора, чем то, что обычно
называют волей» 20. Таким образом, выбор, согласно его
концепции, предшествует мотивации, а значит,
всякая ссылка на внешние стимулы или препятствия
должна оказаться лишь уловкой, к которой выбирающая
личность прибегает задним числом. В этом смысле
свобода выводит человека за пределы всякой внешней
необходимости, она представляет собой, по
выражению Сартра, «дыру в бытии», ибо человек, выбирая
поступки, а в конечном счете себя, разрывает цепь
причинных связей, опутывающих весь мир, кроме
человека.
Логическим следствием сартровской концепции
свободы явилось противопоставление одинокой
личности другим людям и обществу в целом, что нашло
выражение в его известном афоризме «Ад — это
другие люди». Однако в годы после второй мировой
войны подобная «мудрость» становилась все менее
популярной. Она имела привкус неуместного и
претенциозного эстетизма, ибо трагические события военного
времени обнажили порочность изоляционистской
позиции личности, подтвердив ленинские слова о том,
что «жить в обществе и быть свободным от общества
нельзя» 21.
В период увлечения марксизмом Сартр пытается
пересмотреть свою позицию. Коррективы, которые он
вносит в прежнюю концепцию, касаются в основном
двух моментов: во-первых, отныне он заявляет, что
поведение человека детерминируется не только
внутренними факторами, но и внешними — экономическими,
2* 35
политическими и т. п., а во-вторых, он акцентирует
внимание на группе, а не на индивиде, подчеркивая,
что последний не в состоянии существовать
изолированно, противопоставляя себя другим людям.
Обсуждая вопрос о внешней детерминации
человеческого поведения, Сартр подчеркивает, что в
процессе своей деятельности люди нередко приходят к
результатам, которые совершенно не входили в их
намерения и даже противоречат им. Например,
пытаясь прокормить себя, они вырубают леса,
распахивают земли, но порой ведут дело так, что вызывают
эрозию почвы, а это влечет за собой неурожай и голод.
То же самое происходит и с другими видами
деятельности. Создавая мир вещей и порождая социальные
структуры, люди попадают в зависимость от
продуктов своей деятельности. Преследуемые цели
превращаются в нечто чуждое человеку — в противоцели, а
практика в целом выступает как негуманная
деятельность, как антипрактика. Иначе говоря, деятельность,
утратившая свою активность, застывшая, угасшая в
созданном ею продукте, образует, по Сартру, «практи-
ко-инертную сферу», которая подчиняет себе
человека, лишает его свободы и самостоятельности. «Прак-
тико-инертная сфера,— говорит он,— есть граница
нашего рабства, но это совсем не абстрактное рабство,
а действительное, реальное порабощение человека
«естественными» факторами, «машинными» силами и
«антисоциальными» структурами» 22. Прежде, до
знакомства с марксизмом, Сартр был убежден, что
человек в любой ситуации абсолютно свободен, ибо важна
только возможность выбора, тогда как практический
успех не имеет никакого значения. Теперь же, под
влиянием марксистской концепции свободы, он вводит
представление о реальном освобождении личности и
практической реализации поставленных целей.
«...Свободного человека,— утверждает он,— нужно еще
освободить, расширяя возможности его выбора. В
некоторых ситуациях возникает единственная
альтернатива — смерть, а надо сделать так, чтобы человек при
всех обстоятельствах мог выбирать жизнь» 23.
Сартровская концепция в ряде моментов
приближается к марксистской. Так можно оценить его
высказывания о том, что материальные условия
существования человека «очерчивают поле его возможностей»,
что в поведении личности большую роль играют «со-
36
циальные детерминации» и т. п. Однако эти параллели
не приводят к ее перерождению, ибо она и о новом
виде сохраняет существенные черты волюнтаризма и
субъективизма. Дело в том, что Маркс, говоря о
материальных предпосылках человеческой свободы,
переводит эту проблему в конкретно-исторический план,
т. е. обсуждает ее в связи с определенным способом
производства и развившимися на его основе формами
социальной жизни. Такие понятия, как равенство и
свобода, по Марксу, это не абстрактные сущности,
имеющие одно и то же значение в любую историческую
эпоху. Напротив, они имеют экономическую основу и,
стало быть, меняют содержание вместе с развитием
производительных сил. Маркс разъяснил, что прямой
принудительный труд, существовавший в античности,
исключал такие формы равенства и свободы, которые
возникли в капиталистическом обществе, т. е. в
условиях товарного производства и обмена меновыми сто
имостями. «...В обмене, покоящемся на меновых
стоимостях,— писал он,— свобода и равенство не только
уважаются, но обмен меновыми стоимостями
представляет собой производительный, реальный базис
всякого равенства и всякой свободы»24.
Марксов подход отличается стремлением связать
ступени зрелости человеческой свободы с
объективными процессами, в первую очередь с развитием
производительных сил общества. Всякая новая
общественно-экономическая формация, по Марксу, открывает
более широкие возможности для свободной
человеческой деятельности, чем предыдущие. В этом плане
даже капитализм, несмотря на его многочисленные
пороки, представляет несомненный шаг вперед на
пути исторического прогресса. «Как фанатик увеличения
стоимости,— говорит Маркс о капиталисте,— он
безудержно понуждает человечество к производству
ради производства, следовательно к развитию
общественных производительных сил и к созданию тех
материальных условий производства, которые одни только
могут стать реальным базисом более высокой
общественной формы, основным принципом которой
является полное и свободное развитие каждого
индивидуума» 25.
Что касается Сартра, то для него объективные
условия, в которых развертывается человеческая
деятельность, скорее путы, чем средство освобождения.
37
Проблему свободы он связывает с наличием
«объективной ситуации», в которой субъект осуществляет
выбор, однако объективные факторы, возникшие в ходе
предшествующей истории, трактуются им как
препятствия, преодолеваемые благодаря спонтанной
активности субъекта. Выбирая одну из предоставленных
ему возможностей, субъект, по Сартру, выходит за
границы наличной ситуации, реализуя тем самым свою
свободу. Собственно говоря, свобода в его новой
концепции — это и есть «превзойдение ситуации»,
которое достигается за счет внутренних ресурсов субъекта.
Таким образом, Сартр оценивает «объективные
детерминации» как препятствия, т. е. отводит им чисто
негативную роль. В этом отношении он фактически
возвращается к своей прежней концепции, в которой
субъект, уповая на собственные силы, готов бросить
вызов любым обстоятельствам. Правда, теперь о
свободе говорится с учетом практических результатов,
но Сартр, как и прежде, отказывается рассматривать
объективные условия в качестве позитивного фактора
человеческой свободы. С его точки зрения,
практический успех или «превзойдение ситуации»
обеспечивается лишь в том случае, если напряжение сил со
стороны субъекта превосходит сопротивление среды.
Но отсюда следует, что всякий прогресс в развитии
объективных процессов и форм общественной жизни
оплачивается дорогой ценой — ограничением
индивидуальной свободы.
Пытаясь преодолеть субъективизм и
индивидуализм, свойственные традиционным вариантам
экзистенциализма, Сартр обращается к понятию
социального коллектива. Его новая концепция выделяет две
разновидности социальной общности,
соответствующие в известном плане понятиям подлинного и
неподлинного бытия. Как отмечалось выше, в
ортодоксальном экзистенциализме подлинное бытие связывалось
с индивидом, осуществляющим свободный выбор
безотносительно к тем стандартам и мнениям, которые
навязывает ему общество, тогда как неподлинное
бытие означало погружение личности в сферу
социальной жизни, где шаблон и бездумная ориентация на
общепринятое лишали ее индивидуально-неповторимых
свойств.
Реформируя это учение, Сартр сохраняет его
центральную идею: он называет «коллективом» сообще-
38
ство людей, которые объединяются с целью
максимального приспособления к существующему
общественному порядку, а стало быть, не проявляют
склонности к самобытным и свободным решениям.
Подлинное бытие личности может проявиться, по Сартру,
лишь тогда, когда группа людей «тотализируется» или
превращается в органическую целостность в ответ на
негативные воздействия социальной среды. Люди
объединяются в такие сообщества не по внешнему
принуждению, а согласно свободному волеизъявлению.
Над ними не довлеют установки массового сознания,
они не подчиняются стандартам, которые поглощают
их творческое начало. Напротив, они оказываются
способными к спонтанному, внутренне определенному
действию, они готовы к поступкам, которые не
укладываются в привычную схему полезного и
целесообразного. «Свободно тотализирующая группа», как
Сартр называет такое сообщество, призвана
осуществить все идеалы экзистенциалистской философии:
личность сумеет вести «экстатическое», свободное
существование, она «самоосуществится», сбросит с
себя путы инертного, косного,
расчетливо-осмотрительного бытия, которое ей навязывает неподлинный
коллектив, более того, она взорвет и уничтожит этот
враждебный мир, построенный на тирании и
фальшивых ценностях. Только все это личность проделает не
в одиночку, не в сфере собственного сознания, как
предполагалось в прежних версиях экзистенциализма,
а в содружестве с другими людьми, также ищущими
морального обновления, в состоянии коллективного
озарения и экстаза.
В новой концепции Сартра явственно проступают
черты анархических представлений о социальной
группе и характере коллективных действий. Он
подчеркивает, что образцом «свободно тотализирующей
группы» является ассоциация революционно настроенных
лиц, которые в политической практике видят способ
адекватного самоосуществления, возможность жить
полной жизнью, возвышаясь над рутиной и косностью
повседневного существования. Революционная группа,
по Сартру, культивирует «прямое действие», а ее
члены объединяются вокруг стихийно выдвинувшихся
лидеров. В «группе борьбы», как ее называет Сартр, нет
и не может быть обезличенных индивидов, ибо
«тотальность», или органическая целостность, образуется
39
лишь путем объединения уникально-неповторимых
личностей: «Каждый обретает себя... в той мере, в
какой один отличается от других, а другие,
соответственно, становятся иными, чем тот» 26.
Небольшие объединения революционно
настроенных людей — «боевые группы» — являются, по
Сартру, подлинным двигателем истории. Именно
небольшие, он это подчеркивает, ибо революционный
энтузиазм участников движения, по его мнению, мгновенно
выдыхается и исчезает, как только мелкие
группировки объединяются, приобретая характер сложных и
разветвленных организаций, в которых личные
контакты подменяются отношениями, построенными на
чисто формальных принципах. Революционность
мелких боевых групп никогда не сможет охватить весь
класс — последний представляет собой «инертную
коллективность», ибо большие массы людей не в
состоянии действовать, не будучи организованными с
помощью аппарата управления и контроля.
Сартровская мысль движется в русле
традиционных схем мелкобуржуазной революционности и
левого бунтарства. Социальные перемены связываются ею
лишь со стихийной энергией мелких и разрозненных
групп, взявших на сооружение методы «прямого
действия». Повседневная реальность человеческой жизни,
в которой вызревают предпосылки всякой подлинной
революции, совершенно игнорируется. Несмотря на
симпатии к Марксу, а также вытекающий отсюда
интерес к социально-исторической проблематике,
философия Сартра (совершенно в духе традиций
экзистенциализма) по-прежнему саботирует историю, взятую
со стороны ее объективированных форм. Развитие
производительных сил, которое, по Марксу, является
фундаментом всех глубоких преобразований в
обществе, квалифицируется Сартром как препятствие на
пути революционных действий пролетариата. В то же
время политическая организованность и дисциплина в
рядах рабочего движения трактуются как поглощение
коллективом или «массой» свободы бунтующей
личности.
Сартр весьма скептически оценивает перспективы
революционного движения в развитых странах мира,
где общество имеет централизованную
экономическую и политическую структуру и где вся жизнь
индивида регламентирована с помощью различных табу и
40
запретов. Он считает, что рабочий класс в этих странах
отрекся от революционной миссии и теперь уже не в
состоянии «штурмовать небо». Надежды Сартра
связаны' с национально-освободительным движением в
странах Азии, Африки и Латинской Америки,
поскольку там материально-производственная жизнь еще не
достигла того уровня, который приводит к застою.
Только нравственная энергия и непосредственные
революционные акции энтузиастов-одиночек в странах
«третьего мира» могли бы, по мнению Сартра,
сообщить некоторый импульс европейскому пролетариату.
Однако настоящий подъем революционного
движения, или «праздник истории», возможен лишь там, где
социальная несправедливость, нужда и бедствия
приобретают особую остроту — стало быть, не в Европе,
достигшей экономической зрелости и мощного
развития общественных структур, а в слаборазвитых,
отсталых и зависимых странах «третьего мира».
Эту идею тщательно разрабатывал Ф. Фанон,
активный участник алжирского Фронта национального
освобождения и видный теоретик антиколониальной
борьбы. Испытав большое влияние со стороны
экзистенциализма и «неомарксизма», он выдвинул учение
о «нациях-буржуа» и «нациях-пролетариях». Призывая
не подражать Европе, которая, по его мнению,
беспрестанно и повсюду «уничтожает человека», он
утверждал, что именно «нациям-пролетариям», или,
иначе говоря, странам «третьего мира», суждено
разрешить те проблемы, в которых окончательно
запуталась европейская цивилизация. Фанон пытался
доказать, что пролетариат в развитых капиталистических
странах «обуржуазился» и лидирующая роль в
мировом революционном движении переходит поэтому к
странам «третьего мира».
Подменяя классово-исторический подход,
отличающий марксистское исследование, вопросом о
взаимоотношениях наций и народов, Фанон выдвинул
тезис о «самоцельности» политического насилия. В
предисловии к его книге «Труженики земли» Сартр не
только поддержал данный тезис, но и признал его
подлинным выражениед1 человеческой свободы.
Ориентация на самодовлеющее насилие привела Сартра к
сближению с левоэкстремистскими группами и
течениями. В частности, он с большим сочувствием
относился к маоистам, заслугу которых видел в том, что
41
те возродили и вернули в массы «идею насилия», чуть
было не испустившую дух под натиском
«реформизма». Сартр утверждал, что революционеру негоже
топтаться на дозволенных властями митингах, ибо его
истинное призвание — нелегальное действие; в этой
связи он с одобрением повторял маоистский лозунг
«Винтовка рождает власть!»
Теоретическое утверждение насилия как
единственной адекватной формы революционной борьбы
Сартр пытался подкрепить практическими действиями.
Он непосредственно поддерживал маоистскую
группировку А. Жесмара, которая называла себя
«пролетарской левой» и пыталась завоевать признание среди
рабочих, ведя кампанию против Французской
коммунистической партии. Когда власти эту организацию
запретили, Сартр взял на себя руководство ее печатным
органом «Дело народа». Пытаясь обеспечить
сплочение левацких сил, он оказывал содействие некоторым
другим изданиям подобного рода. В частности, в
1970 г. он поддерживал некую газету с претенциозным
названием «Чего мь\ добиваемся: всего», которая
декларировала «спонтанность», а проще говоря,
отстаивала анархистские свободы и принцип
вседозволенности. Об ориентации этого издания красноречиво
свидетельствует одно из его начинаний:
«освободительное» движение под названием «гомосексуалист-
ский фронт революционного действия».
Обращаясь к майским событиям 1968 г., Сартр
видит «историческую заслугу» студенческого движения
в том, что оно сумело утвердить «бескомпромиссное
революционное насилие». Однако в то время во
Франции отсутствовала революционная ситуация.
Насилие не самоцель, оно оправданно лишь в
определенные моменты истории. «Насилие,— отмечал Маркс,—
является повивальной бабкой всякого старого
общества, когда оно беременно новым» 27. В период
относительно устойчивого состояния капиталистической
экономики во Франции конца 60-х годов, когда
студенты не были поддержаны массовыми действиями
трудящихся страны, акты насилия, о которых говорит
Сартр, неизбежно вырождались в обыкновенный
терроризм и приносили ощутимый вред всему движению,
дискредитируя его цели в общественном мнении и
провоцируя наступление реакции. Дальнейшие
события, и не только во Франции, подтвердили это. Сту-
42
денческие и молодежные волнения, прокатившиеся по
западному миру в конце 60 — начале 70-х годов,
сообщили мощный импульс левацкому терроризму.
Достаточно назвать такие группировки, как «Фракция
красной армии», известная также под именем «группа
Баадер — Майнхоф»», в ФРГ, «Красные бригады» в
Италии, «Прямое действие» во Франции и др.,
которые зародились в самой гуще студенческих движений,
а затем выродились в малочисленные
военизированные образования, ушедшие в глубокое подполье и
оторванные от массовой борьбы за революционные
преобразования капиталистического общества.
Идеология левого терроризма оказалась весьма
восприимчивой к той интеллектуальной и нравственно-
психологической атмосфере, которая сформировалась
в ходе студенческих выступлений. Она легко
ассимилировала «неомарксистские» идеи, включая
представления о тактике революционной борьбы. Например, в
программу левоэкстремистских акций органично
вписывалось рассуждение Сартра о том, что массы не
способны к самостоятельным действиям и только
небольшие группы молодежи, опираясь на политическое
насилие и партизанские формы борьбы, в состоянии
привести их в движение, «детонируя» тем самым
революцию. В одном из интервью, посвященном
майским событиям 1968 г., он выразил эту мысль
следующим образом. Бунтующие студенты, по его мнению,
«осознали, что им представляются на выбор три пути:
повеситься — от ужаса перед обществом, которое мы
для них создали; продаться, то есть наплевать на все
и — кто знает? — может быть, в результате опять-таки
повеситься через несколько лет; или, наконец,—
объединиться, сохранить свою негативную силу, вести
партизанскую борьбу против стариков, которые ими
управляют, объединиться, как это только станет
возможным, с основными силами трудящихся — главной
движущей силой революции — и взорвать существую-
w w ОД
щии строи» .
Идеология терроризма легко ассоциируется и с
понятием «экзистенция», которое, как отмечалось,
обозначает «экстатически-приподнятое» существование
личности, ее способность выходить за границы
обыденного, социально организованного опыта. В
контексте левоэкстремистской психологии данное
понятие обнаруживало новые и порой неожиданные
43
смысловые оттенки. В частности, будучи
препарированным в головах анархиствующих субъектов, оно
«теоретически» санкционировало элитарную позицию, столь
характерную для мироощущения многих террористов.
Не отсюда ли их надменно-презрительное отношение
ко всем, кто прямо не участвует в низвержении
существующей системы?! Ведь в соответствии с логикой
«левого» терроризма подобные люди подлежат
уничтожению, ибо они молчаливо и преданно служат
господствующим классам. Да и жизнь таких людей,
согласно той же логике, не заслуживает никакого
уважения, поскольку все они «усредненные»,
неразличимо одинаковые в силу того, что облачены в
«униформу», которой их одарила «система». Подобное
отношение ясно выражено в словах известной
террористки Ульрики Майнхоф: «Мы утверждаем, что субъект в
униформе — свинья, а не человеческое существо, и
мы вполне можем покончить с ним. Большая
ошибка — вообще разговаривать с этими людьми, а вот
отстреливать их — вполне допустимо». Наконец, не
созвучно ли подпольное бытие террористов
философским рассуждениям о «внутренней эмиграции» и тоске
по «безусловному»? Во всяком случае, совершая
взрывы и поджоги, убивая ни в чем не повинных
людей, террористы убеждены в абсолютной значимости
своих акций. Отрабатывая бандитские приемы в
учебном лагере, вышеупомянутая У. Майнхоф выразила
свои ощущения в словах, отметающих повседневность
в пользу уголовно-политической «романтики».
«Насколько интереснее,— заявила она,— учиться грабить
банки и выскакивать на полном ходу из машины, чем
сидеть за пишущей машинкой!»
Идеи Сартра о роли политического насилия
получили дальнейшее развитие в трудах его ученика
Р. Дебре, связавшего вопрос о преобразовании
общества с «революционной войной». В основе его
взглядов лежит сартровское представление о «ситуации»,
которая ограничивает свободу субъекта, но во всякое
время может быть «превзойдена» за счет
мобилизации его внутренних ресурсов. В этом же ключе он
трактует и общество в целом: как абсолютно
пластичную реальность, как нечто такое, что можно в любой
исторический момент изменить и «превзойти» путем
мобилизации коллективной воли масс.
44
Дебре опирался также на взгляды Эрнесто Че Ге-
вары, который сражался в Гватемале, участвовал в
освобождении Кубы, а затем героически погиб в
Боливии. Переоценивая субъективный фактор в
революции, Гевара делал упор на герилью, т. е. на
партизанскую войну, которая, по его мнению, должна
пробудить энтузиазм широких масс в странах Латинской
Америки и поднять их на героическую борьбу с
угнетателями. Обобщая его точку зрения, а также
ссылаясь на успех кубинской революции, Дебре утверждал,
что герилья представляет «высшую форму классовой
борьбы» и что любая политическая партия, которая
уклоняется от вооруженной борьбы, является
«нереволюционной». Схема революционных действий,
предложенная им, такова: народная армия — армия ге-
рильи как ее ядро — революционная партия как
передовой отряд или стержень герильи. Центр тяжести в
этой схеме — партизанское движение, героические
действия небольших групп вооруженных людей,
наводящие страх на правящую элиту и рождающие веру
у обездоленных и угнетенных. Тактика, предложенная
Дебре, нашла широкую поддержку среди левых
экстремистов не только в странах «третьего мира», но и
в развитых капиталистических странах, где особую
популярность приобрел лозунг о «партизанской войне в
джунглях больших городов». Политические убийства,
взрывы и поджоги зданий, летящие под откос
поезда — подобные акции, ставшие уже привычными на
Западе, представляют жуткую материализацию лево-
экстремистского мифа о «дестабилизации системы»
путем партизанских действий.
Основываясь на сартровской доктрине о «прямом
действии», Дебре ограничивает роль политической
партии задачами, стоящими перед герильей, а также
выражает сомнения по поводу необходимости
революционной теории. Партизанская война, с его точки
зрения, требует «спонтанной активности», а в этих
условиях теория теряет свое значение и даже
превращается в тормоз. Она представляет собой «догму»,
несущую бесполезный груз чужого опыта, который
относится к событиям прошедшей истории. Полагая,
что всякая новая ситуация уникальна и теоретическому
обобщению не подлежит, он выдвигает требование
«вывести прошлое из игры».
45
Нетрудно понять идеологический подтекст
подобных утверждений. Игнорируя революционный опыт,
накопленный мировым пролетариатом, Дебре
пытается навязать освободительному движению в странах
«третьего мира» мелкобуржуазную идеологию и ле-
воэкстремистскую тактику ведения борьбы. Он не
желает видеть того, что локальные события и процессы,
включая очаги партизанского движения в
развивающихся странах, тысячью нитей связаны с глобальными
противоречиями современной эпохи и включены в
контекст борьбы двух мировых систем. Пример таких
стран, как Вьетнам, Куба, Никарагуа и других, где
освободительная война нередко принимала формы
партизанских действий, не убеждает в том, что успех
был достигнут исключительно за счет героизма
малочисленных вооруженных групп, сумевших
воспламенить массы. Народы этих стран получали и
продолжают получать всестороннюю помощь со стороны
прогрессивных сил всего мира, и в первую очередь со
стороны социалистического содружества. Можно с
уверенностью утверждать, что революционное
движение в упомянутых странах было бы обречено, если бы
оно оказалось наедине с международным
империализмом.
Собственно, так это и бывало в прошлом. Со
времени возникновения капитализма освободительные
движения во многих регионах мира беспощадно
подавлялись силами международной реакции. Роль
жандарма попеременно брали на себя ведущие
капиталистические страны, но, безусловно, наиболее
активными в этом плане были США. Внешнеполитическая
история этой страны представляет непрерывный ряд
военных преступлений против других народов. Эта
история обнажает действительный характер
взаимоотношений капиталистической метрополии и зависимых от
нее слаборазвитых стран «третьего мира». Корея,
Вьетнам, Лаос, Камбоджа — на этих территориях
оставлены зловещие следы американской дипломатии,
обутой в солдатские сапоги. Зажигательные бомбы,
контейнеры с напалмом, химическое оружие — все
это американские интервенты обрушили на страны
Индокитая. В угоду имперским амбициям Вашингтона
там погибло около 60 000 американских солдат и
около 300 000 было искалечено. Уже много лет США
ведут необъявленную войну против Афганистана и Ни-
46
карагуа, осуществляют грубое вмешательство во
внутренние дела Сальвадора, Ливана и других
развивающихся стран. В ряду последних акций американского
империализма — операция по захвату Гренады,
варварская бомбардировка в апреле 1986 года ливийских
городов Триполи и Бенгази, тайные поставки оружия
Ирану с целью разжигания ирано-иракского военного
конфликта, непрекращающиеся попытки Пентагона
превратить войну никарагуанских «контрас» в
вооруженный конфликт между Манагуа и Гондурасом и т. п.
Национально-освободительный процесс в странах
«третьего мира» внутренне противоречив. Он
ослабляется антагонизмами между местной буржуазией,
родоплеменной знатью и остальной частью населения,
большинство которого составляет крестьянская масса.
Экономическая зависимость от капиталистической
метрополии, проводящей неоколониалистскую
политику, неразвитость собственной промышленности и,
как следствие, малочисленность рабочего класса —
все это создает огромные трудности для
революционно-освободительного движения. Но многие страны
Азии, Африки и Латинской Америки находятся в столь
бедственном положении, что это порождает ситуацию,
чреватую взрывом народного гнева. Вот почему ге-
рилья нередко выступает там как эффективное
средство для решения военно-политических проблем
народной революции. В то же время международный
капитал не всегда в состоянии обеспечить свое
господство в этих странах. Как отмечалось на XXVII
съезде КПСС, «военная сила, на которую уповают США,
чтобы сохранить статус-кво, защитить интересы
монополий и военно-промышленного комплекса,
предотвратить дальнейшие прогрессивные преобразования в
освободившихся странах, может только осложнить
положение, породить новые конфликты. Мешки с
деньгами могут превратиться в бочки с порохом» 29.
Однако революция — это длительный процесс,
который не оканчивается военно-политическим
триумфом. Методы герильи не пригодны для решения
разнообразных социально-экономических и культурных
проблем, встающих перед победившим народом, а
империалистические государства, угрожающие с
помощью экономического шантажа и военной силы
задушить революцию, вынуждают ее политическое
руководство сделать выбор в сфере социально-классовых
47
отношений, а также определить место страны в борьбе
двух мировых систем. Страны «третьего мира»
выступают как наиболее слабое звено в цепи
империалистических противоречий, но главной революционной
силой современности является мировая система
социализма. История XX столетия свидетельствует, что
упрочение позиций социализма всегда
сопровождалось возрастающими успехами революционной и
освободительной борьбы в колониальных и зависимых
странах. Пытаясь представить освободительный
процесс в развивающихся странах как главный и
единственный очаг мировой революции, идеологи левого
экстремизма противопоставляют его другим
прогрессивным силам эпохи, и прежде всего
коммунистическому и рабочему движению.
Данная позиция является характерной
особенностью поисков «третьего пути», ведущего в обход не
только монополистического капитализма, но и
реального социализма. Эти поиски отражают своеобразие
экономического положения мелкобуржуазной
личности как в развитых капиталистических странах, так и в
странах «третьего мира». Будучи одновременно и
объектом воздействия, и социальным заказчиком
идеологической программы «неомарксизма», такая личность
не может расстаться с привычными представлениями
о «свободах» мелкого предпринимательства: именно
это препятствует ей в адекватном восприятии
социалистического образа жизни, предполагающего
коллективизм и сотрудничество. Данное обстоятельство
объясняет также, почему экзистенциальная ревизия
марксизма делает упор на индивидуалистически
истолкованном понятии свободы. Вобрав в себя
предрассудки, свойственные левобуржуазному
сознанию, данное понятие образует клеточку, из которой
вырастают основные концепции «неомарксизма». Из
него развивается идеология «левого» терроризма,
детонирующего революцию с помощью бандитских
акций, но из него же произрастают различные варианты
«третьего пути», авторы которого связывают свои
надежды с «революцией-невидимкой», происходящей в
сфере сознания.
48
«ЦАРСТВО СВОБОДЫ» И ТРУД
Представители «неомарксизма» не отрицают того,
что единственная альтернатива капитализму —
социализм, поэтому поиски «третьего пути» камуфлируют
стремлением создать особую модель социализма,
которая радикально отличалась бы от общественных
систем, возникших в ходе социалистического
строительства в СССР и других странах мира.
«Неомарксистские» модели социализма — «гуманного»,
«истинного», «с человеческим лицом» и т. п.—
ориентированы, главным образом, на проблемы, связанные с
положением личности в обществе. Эти проблемы
находятся в центре идеологических дискуссий нашего
времени, и интерес к ним, безусловно, оправдан,
поскольку достоинства общественной системы в
конечном счете воплощаются в особенностях
существования личности — в уровне ее благосостояния, в правах
и обязанностях, в общественной активности и т. п.
Однако здесь возникают вопросы методологического
порядка, ибо личность и ее социальное бытие могут
изучаться с различных точек зрения: со стороны
объективных условий, к которым относятся система
общественных отношений, сферы производства,
распределения и проч., а также со стороны внутренних
особенностей и свойств самой личности, включая ее
собственную интерпретацию своего положения в
обществе.
В марксистской методологии данные подходы
взаимосвязаны и взаимообусловлены, хотя первый из
них — анализ объективных факторов — имеет
безусловный приоритет. Это связано с тем, что внутренний
мир личности является своеобразным отражением и
преломлением общественного бытия, он
формируется в процессе ее жизнедеятельности, основные
параметры которой задаются извне, со стороны
общественных условий, а не конструируются произвольно
самой личностью. Одностороннее рассмотрение
личности, в частности, изолирующее ее от сферы
объективных детерминаций, неизбежно ведет к крайностям
субъективизма. Критикуя народническую
«субъективную социологию», которая акцентировала внимание
на изучении социально-психологических факторов,
В. И. Ленин подчеркивал, что «общественные идеи и
чувства человека» составляют лишь одну сторону
49
целостного общественного организма, что эта сторона
является зависимой, производной от материальных
основ общественной жизни. Ошибка «субъективных
социологов», считал В. И. Ленин, заключается не в том,
что они занимались изучением человеческих идей и
целей, а в том, что они останавливались на этом, не
шли дальше, не умея свести этих идей и целей к
материальным общественным отношениям 30.
Теоретики «третьего пути» также не стремятся
«идти дальше» — к материальным, объективным
факторам, определяющим качественную сторону жизни
отдельной личности. Это облегчает им задачу
дискредитировать реальный социализм, отождествляя его по
ряду внешних и второстепенных признаков с
«индустриальным» капитализмом, а также разработать
программу переустройства общества на базе установок и
принципов леворадикальной идеологии. Вместе с тем
обнаруживается близость методологических
концепций «неомарксизма» и экзистенциализма. Дистанция
между ними сокращается по мере того, как
«неомарксистский» анализ перемещает центр тяжести со
сферы объективной на субъективную или, лучше сказать,
экзистенциальную, поскольку методология «третьего
пути» явно тяготеет к модели личности, предельно
сконцентрированной на внутренних переживаниях.
Экзистенциализм оказался удобным средством для
«неомарксистских» изысканий по ряду причин.
Во-первых, идя по пути, проложенному Хайдеггером и
другими экзистенц-философами, легко исключить или
«вынести за скобки» социально-экономическую
реальность: оставляя наедине с экзистирующей личностью,
эта операция предоставляла широкие возможности
для идеологических спекуляций. Во-вторых, на этом
пути легко осуществлялась «антропологизация»
человеческой истории, т. е. изображение ее в качестве
процесса, в основе которого лежат неизменные и
универсальные характеристики человеческого бытия.
Наконец, с помощью экзистенциалистского
инструментария проблема социальных преобразований легко
переносилась в заоблачные выси человеческого духа и
представала там как «революция сознания». Подобный
способ разрешения капиталистических противоречий,
способ по сути конформистский и утопический,
выступает оборотной стороной мелкобуржуазного револю-
ционаризма. Парадокс находит объяснение в том, что
50
жажда социальных перемен в таком случае только по
форме ориентирована в будущее,— в
действительности же она представляет ностальгическую тягу,
стократно усиленную с помощью романтической
идеализации,— тягу к тем небольшим, но осязаемым личным
свободам, которые существовали в
домонополистическую эпоху.
Экзистенциалистские идеи, сразу же после выхода
в свет работы Хайдеггера «Бытие и время» в 1927 г.,
попали в поле зрения Франкфуртской школы —
теоретического и организационного ядра
«неомарксизма». Начиная с конца 20-х годов Г. Маркузе уже
разрабатывал своеобразный вариант «хайдеггер-марксиз-
ма», который придал мощный импульс его
собственной эволюции, а также породил широкое течение
внутри «неомарксизма», стремящееся каким-либо
образом ассимилировать экзистенциалистские схемы и
принципы. Характеризуя систему взглядов Маркузе,
западногерманский философ-марксист Р. Штейгер-
вальд даже заявил, что «это есть экзистенциализм» 31.
Один из видных теоретиков Франкфуртской школы
А. Шмидт указал на особое значение концепции
истории, которую Маркузе разработал в духе идей «Бытия
и времени». Несмотря на свой «хаотичный и
противоречивый характер», писал он, эта ранняя концепция
Маркузе «явилась неиссякающим источником для
интерпретации не только его поздних работ, включая
«Одномерного человека», но и целого ряда
неомарксистских исследований нашего времени» 32.
Однако отношение теоретиков Франкфуртской
школы к экзистенциализму не было однозначным.
Когда в 1933 г. Хайдеггер стал на путь
сотрудничества с гитлеровским режимом, в частности, приняв
приглашение на должность ректора Фрейбургского
университета, это течение оказалось сильно
скомпрометированным в глазах антифашистов, к которым
относили себя и «неомарксисты». Хотя Хайдеггер,
вскоре разочаровавшийся в фашизме, так и не стал
официальным рупором нацизма, репутация экзистенц-
философии в кругах западноевропейской
интеллигенции восстанавливалась с большим трудом, да и то в
основном благодаря участию в движении
Сопротивления французских представителей этой школы,
входивших в моду в послевоенные годы.
51
Все это не могли не учитывать «неомарксисты»,
включая Маркузе, который хотя и не скрывал своих
философских пристрастий, но все же иногда выступал
в роли критика своего учителя Хайдеггера. В то же
время некоторые из «франкфуртцев», как, например,
вышеупомянутый Шмидт, не эпизодически, а постоянно
и довольно резко возражали против альянса с
экзистенциализмом. Однако чаще всего торжествовала
такая форма «экзистенц-марксизма», которую можно
назвать «стыдливой», когда либо вообще не
указывался источник заимствованных концепций, либо шла
ссылка на А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, В. Дильтея,
С. Кьеркегора и других мыслителей, чьи идеи уже
были основательно переработаны и включены в
контекст экзистенц-философии.
В основе «хайдеггеризации» марксизма лежит
стремление пересмотреть материалистическое
понимание истории путем подмены категории
общественного бытия близким по звучанию, но весьма далеким
по смыслу экзистенциалистским понятием
человеческого бытия. В марксизме общественное бытие
определяется как материальный жизненный процесс,
связанный с производством и определяющий духовную
сторону общественной жизни. «Из того, что вы
живете и хозяйничаете, рожаете детей и производите
продукты, обмениваете их,— писал В. И. Ленин,—
складывается объективно необходимая цепь событий, цепь
развития, независимая от вашего общественно-
г о сознания, не охватываемая им полностью
никогда» 33.
Совсем иначе определяется человеческое бытие в
экзистенциализме. Хайдеггер обозначает его
термином «Dasein», который буквально можно перевести
как «здесь-бытие». Он стремится подчеркнуть, что
человеческое бытие — это такое бытие, которое
всегда с нами, всегда здесь. Только человек является
таким сущим, которое способно поставить вопрос о
смысле бытия: понимание бытия, по Хайдеггеру, есть
фундаментальное свойство «здесь-бытия».
Человеческое бытие равнозначно осознанию бытия: отсюда
следует, что наиболее точным эквивалентом термина
«Dasein» является словосочетание «бытие-сознание».
Как видим, у Хайдеггера нет и речи о том, чтобы из
человеческого бытия, истолкованного в качестве
реального жизненного процесса, вывести сознание. На-
52
оборот, его концепция ставит все атрибуты
человеческой жизни в зависимость от «бытия-сознания», т. е.
переворачивает на идеалистический лад
действительное соотношение бытия и сознания.
Данные особенности хайдеггеровской философии,
естественно, передаются по наследству
«неомарксизму», когда последний перенимает центральный тезис
«Бытия и времени»: «Единственной «субстанцией»
человека,— говорится там,— является не дух как синтез
души и тела, а экзистенция» 34. Это особенно хорошо
видно на примере Маркузе. Свой «синтез» марксизма
и экзистенциализма он называет «диалектической
феноменологией», подчеркивая свое желание в
вопросах методологии следовать за Хайдеггером.
Феноменология — учение о «явлениях» или «феноменах»
сознания; в рамках экзистенциалистской философии она
выступает как совокупность предписаний,
позволяющих изолировать сферу сознания от объективной
реальности. Феноменологический метод Хайдеггер
противопоставляет естественнонаучному: последний
пытается рассмотреть то, что лежит за «явлениями»
сознания, т. е. внешний мир, тогда как первый
интересуется лишь сознанием самим по себе, т. е.
совокупностью его «феноменов», в которых, как считает
Хайдеггер, раскрывает себя человеческое бытие
(вспомним в этой связи о «бытии-сознании»). Такой поворот
к сознанию, оставляющий вне поля зрения
объективный мир и конкретную историю общества, вполне
устраивает Маркузе. Он считает, что именно понятие
«Dasein» — «бытие-сознание» — создает возможность
преодоления «догматической» противоположности
материализма и идеализма. «Старый вопрос,—
заявляет он,— что обладает действительным приоритетом,
что «было раньше», дух или материя, сознание или
бытие,— этот вопрос благодаря диалектической
феноменологии больше не нуждается в разрешении, и даже
его формулировка становится бессмысленной.
Постоянно дано лишь человеческое бытие как историческое
бытие-в-мире, которое в равной мере содержит в
себе дух и материю, сознание и бытие...» 35
Разумеется, претензии «диалектической
феноменологии» на разрешение «старого» философского
вопроса совершенно наивны и построены на чисто
терминологическом основании: сочетание в одном слове
двух понятий — бытия и сознания — отнюдь не устра-
53
няет коренной противоположности материализма и
идеализма, как, впрочем, не может оно скрыть
идеалистическую суть понятия «Dasein». Что касается
попытки Маркузе обнаружить «третью линию» в
философии, то она, безусловно, перекликается с поиском
«третьего пути» в развитии общества.
«Неомарксистская» модель социализма требует принципиального
отказа от материалистического понимания истории,
ибо оно в социалистических преобразованиях
ориентирует на создание материально-производственного
механизма, исключающего привычные для мелкого
буржуа условия хозяйственной деятельности — стихию
рыночной экономики.
Производя ревизию марксизма в указанном
пункте, Маркузе предпринимает анализ труда — одного из
главных понятий в теории исторического
материализма. В специальной статье — «О философских
основаниях экономического понятия труда» — он попытался
выяснить экзистенциальные предпосылки трудовой
деятельности, исходя из процесса ее «овеществления»
или «опредмечивания». В полном согласии с экзи-
стенц-философией он трактует этот процесс как
отягощение труда вещественным содержанием. Труд,
подчеркивает Маркузе, «обременителен», но главная
причина этой особенности не в том, что его
осуществление сопрягается с трудностями социального или
технологического порядка, а в ущемленности
экзистенциальной сферы. Труд — это «бремя», поскольку
он «вводит» человеческое действие в зону чуждого и
взыскательного закона — закона «вещи». Данная
«вещь» имеет иную природу, чем человеческая жизнь,
но именно она занимает в процессе труда
центральное место, оттесняя на задний план самого
работающего, причем это происходит даже в том случае, если
тот не отделяется от производимого им продукта.
«В' труде,— говорит Маркузе,— человек неизбежно
покидает почву собственного бытия и отсылается к
чему-то Другому, он всегда при Другом и ради
Другого» 36.
Превращение труда в вещественную форму — в
продукт — Маркузе характеризует как безусловно
негативный процесс, и в этом отношении он
внимательный ученик Хайдеггера, но отнюдь не Маркса. У
основателя экзистенц-философии «Dasein» со всей
резкостью противопоставляется вещественному бытик
54
или, как он выражается, «сущему». Однако эта
противоположность раскрывается лишь в условиях
«подлинного» бытия. Иное дело, когда человек
сталкивается с фактом бессмысленности и опустошения своей
жизни, а также всего окружающего, когда он
мучается от нарастающих внутренних противоречий и бежит
от себя, погружаясь в пучину вещественного и
социального бытия. «Неподлинное» бытие, по Хайдеггеру,
заключается в том, что человек опредмечивает свою
сущность — экзистенцию, поскольку пытается найти
прибежище в иллюзорном и чуждом для себя мире —
в повседневной практике, включающей хозяйственные
заботы, занятия политикой, наукой и проч. Предметно-
деятельная практика человека несет ему отчуждение,
уводя от главного вопроса — о смысле бытия, об
историчности или конечности экзистенции. «Подлинное»
бытие, по Хайдеггеру, и заключается в способности
признать абсурдность своего появления на свет,
мужественно и стойко перенести «правду» о смертности
существования, несущую освобождение. «Лишь
свободное бытие к смерти,— подчеркивает он,— дает
человеческому бытию безусловную цель...» 37.
Если Хайдеггер считает опредмечивание
негативным процессом, отвлекающим от «свободного бытия
к смерти», то для Маркса оно выступает как
необходимый момент человеческой жизнедеятельности.
Природа, по Марксу, доставляет человеку материал,
который преобразуется с помощью труда. Созданный
таким образом продукт отделяется от производителя,
в нем опредмечиваются его способности и жизненные
силы. Такой процесс, с позиций Хайдеггера,
неизбежно ведет к отчуждению, но Маркс иного мнения, ибо
его анализ не замыкается в проблемном кругу «бытия
к смерти», а стремится выяснить реальные
предпосылки человеческой жизнедеятельности.
К. Маркс показывает, что отчуждение в процессе
опредмечивания труда возникает лишь в том случае,
если условия производства, например
капиталистического, отчуждают от рабочего производимые им
продукты и превращают их в средство его порабощения.
«О тчуждение рабочего в его продукте,— пишет
он,— имеет не только то значение, что его труд
становится предметом, приобретает внешнее
существование, но еще и то значение, что его труд
существует вне его, независимо от него, как нечто
55
чужое для него, и что этот труд становится
противостоящей ему самостоятельной силой; что жизнь,
сообщенная им предмету, выступает против него как
враждебная и чуждая» 38.
В то же время труд, по Марксу, имеет огромный
положительный смысл в плане исторического
прогресса, причем именно потому, что в его разнообразных
продуктах непрерывно опредмечиваются воля и разум
человека, его способности и цели. Природа — это не
просто внешняя сфера существования человека, но
органический элемент его жизнедеятельности.
Опираясь на действие объективных законов самой природы,
человек радикально преобразует окружающую среду.
Практическая деятельность человека, отмечал Маркс,
«всю природу превращает в его
неорганическое тело, поскольку она служит, во-первых, непо-
средственнылл жизненным средством для человека, а
во-вторых, материей, предметом и орудием его
жизнедеятельности» 39.
Отсюда следуют выводы, имеющие важный
методологический смысл. Прежде всего необходимо
подчеркнуть, что жизнедеятельность человека была бы
совершенно иной, если бы он постоянно имел дело с
первозданной, незатронутой его трудом окружающей
природой, как это фактически происходит с
различными видами животных. Преобразованные объекты
природы, особенно орудия и средства труда,
существенно модифицируют последующую деятельность людей,
предоставляя им такие возможности, которые были бы
немыслимы в иных условиях.
«Вторая» природа аккумулирует многообразный
опыт человечества, является его хранилищем или, по
выражению Маркса, «раскрытой книгой человеческих
сущностных сил». В процессе воспитания и
образования всякого нового поколения эта «раскрытая книга»
играет решающую роль, становится главным
руководством в человеческой деятельности. «Очеловеченный»
сектор природы составляет материальную
предпосылку, на которой зиждется всякий новый шаг в
прогрессивном движении человечества. Как подчеркивали
Маркс и Энгельс, окружающий чувственный мир есть
«продукт промышленности и общественного
состояния, притом в том смысле, что это — исторический
продукт, результат деятельности целого ряда
поколений, каждое из которых стояло на плечах предшест-
56
еующего, продолжало развивать его промышленность
и его способ общения и видоизменяло в соответствии
с изменившимися потребностями его социальный
строй» 40.
Маркузе игнорирует историческое значение
процесса опредмечивания труда. Следуя логике Хайдег-
гера, т. е. жестко связав опредмечивание с
отчуждением, он пытается обосновать приоритет духовной
деятельности по отношению к материальному
производству. Решающую роль в его аргументации играет
утверждение, что только в сфере
материально-предметной деятельности господствует необходимость,
опутывающая человека цепями вещной зависимости.
Иную природу, считает он, имеет духовная
деятельность — наука, искусство и т. п., которая ведет в
«царство свободы», ибо, с одной стороны, в ней нет
«бытия, отосланного в чуждую предметность», а с
другой— она осуществляется, исходя из «полноты и
формы человеческого бытия» 41.
Экзистенциальная трактовка труда приводит
Маркузе к выводу о том, что «привязанность всей сферы
человеческого бытия к материальному производству
и воспроизводству овеществляет само это бытие и
отрезает ему переход в измерение свободной
практики» 42. Следующий шаг в рассуждении Маркузе
очевиден: потребность человека в свободе, тождественная
его стремлению к «подлинному» бытию, требует
перевернуть исторически сложившееся
взаимоотношение между материальной и духовной сферами труда.
Приоритет должен принадлежать духовной
деятельности, ибо она «завершает» материальное
производство и придает ему высший экзистенциальный смысл.
«Таким образом,— говорит Маркузе,— практмча в
«области свободы» является подлинной
деятельностью, на которую всякий иной труд направлен как на
свою конечную цель: эта практика есть свободное
развертывание человеческого бытия в его истинных
возможностях» 43.
Устремляясь в «царство свободы», Маркузе
извращает теорию исторического материализма. Однако в
основе его спекуляций лежат важные проблемы,
относящиеся к соотношению материального и духовного
производства в эволюции общества. В современную
эпоху нэ фоне научно-технической революции
необычайно быстро возрастает удельный вес духовной
57
деятельности. Происходит перераспределение
рабочей силы между различными отраслями производства,
в результате которого все большие массы людей
перемещаются в сферы науки, образования, искусства.
Меняется структура производительных сил. Научное
знание — продукт духовной деятельности — становится
непосредственной производительной силой,
овеществляясь в технико-технологических звеньях
материального производства. Существенно возрастает значение
духовных потенций работника сферы материального
производства. Доля непосредственного участия
человека в создании материальных благ постоянно
сокращается: перекладывая эту функцию на технику, он
оставляет за собой общий контроль за
производственным процессом.
Казалось бы, что все эти процессы
свидетельствуют о том же, о чем говорит Маркузе — о возвышении
в сфере производства духовного над материальным.
Однако дело обстоит иначе. В действительности
происходит сближение обеих разновидностей труда,
которое является не чем иным, как возвратом к их
изначальному единству. Всякий процесс труда, пока он
является индивидуальным актом, представляет, с одной
стороны, расходование мышечной энергии, а с
другой — затраты нервно-психических и
интеллектуальных ресурсов. Различие между этими функциями
разрастается до степени противоположности только в
условиях общественного разделения труда. Как
остроумно заметил Маркс, «первоначальное различие
между носильщиком и философом менее значительно,
чем между дворняжкой и борзой. Пропасть между
ними вырыта разделением труда» 44.
Отделение духовного производства от
материального происходит исторически, в силу общественных
причин. В основе его лежит потребность общества в
развитых формах сознания, с одной стороны, для
нужд материального производства — здесь главную
роль играет естественнонаучное знание, а с другой —
для производства общественных отношений. Правда,
не следует думать, что духовное производство —
изначальная причина общественных отношений:
подобный взгляд представляет собой типичное заблуждение
буржуазной социально-философской мысли. Одно из
величайших открытий К. Маркса заключается в том,
что он обнаружил фундаментальное значение мате-
58
риально-производственной деятельности для
формирования общественных связей. Например, в условиях
товарного производства отдельных людей —
товаропроизводителей — связывает в единое целое
производимый ими продукт, т. е. товар. Таким образом,
производя вещи-товары, люди производят свои
отношения, которые по своей природе являются
материальными, ибо складываются помимо сознания и воли
людей.
Духовное производство имеет дело с
общественными отношениями иного рода — с идеологическими или
надстроечными, которые формируются на базе
материальных. Их главная особенность заключается в
том, что они, как отмечал В. И. Ленин, «прежде чем
им сложиться, проходят через сознание людей» 45.
Это определяет общественную функцию духовного
производства, которое призвано развивать формы
сознания, опосредующие, с одной стороны, отношение
к природе (естествознание), а с другой —
надстроечные отношения. Поскольку продукты духовного
производства — мировоззренческие принципы, научное
знание, морально-правовые нормы и т. п.— идеальны по
своей природе, то может возникнуть впечатление,
будто Маркузе совершенно правильно акцентирует
внимание на процессе опредмечивания, различая
таким образом сферы материального и духовного
производства. Однако это не так. Маркузе идет по
ложному пути, поскольку «идеи» — продукты духовной
способности человека — в данном отношении мало
чем отличаются от форм материальной деятельности.
Например, нравственные принципы опредмечиваются
или объективируются в различных способах поведения
людей, а инженерно-конструкторская мысль — в
механизмах или технологических линиях.
Следовательно, всякая деятельность
опредмечивается, а отчуждение возможно в любой сфере.
Последнее происходит в том случае, когда продукты
деятельности отделяются от производителя и
превращаются в средство его социального угнетения либо
физического уничтожения. Подобную ситуацию могут
иллюстрировать научно-технические разработки,
воплотившиеся в атомную бомбу, которая угрожает всему
человечеству, а значит, и своим создателям. Однако
центральное звено всей проблемы — не процесс
опредмечивания, а социальный механизм, порождаю-
59
щий отчуждение. Механизм этот хорошо известен
благодаря марксистскому анализу — это частная
собственность на средства производства, эксплуатация
чужого труда, классовые привилегии и т. п. Но здесь
важно заметить, что духовная сфера не является
каким-либо исключением — это отнюдь не «царство
свободы», если в обществе функционирует
упомянутый механизм. Поэтому рассуждения о ее
приоритете, которые ведет Маркузе, только отвлекают от
вопроса о действительных, а именно
социально-классовых, предпосылках сближения обеих сфер
производства — материальной и духовной.
Духовная деятельность является продолжением
материальной. Она осуществляется лишь на базе
вещественных богатств, созданных материальным
трудом, ибо идеи, как известно, сами по себе не могут
произвести ничего, даже простой карандаш и бумагу.
Когда в процессе формирования классового общества
духовная деятельность превратилась в монополию
эксплуататорской верхушки, стремившейся с помощью
ее продуктов — идей — представить свой
эгоистический интерес как всеобщий, то для трудящегося
большинства, занятого в сфере материального
производства, это явилось не чем иным, как духовным и
идеологическим отчуждением.
Что касается убеждения Маркузе, характерного и
типичного для «неомарксизма» в целом, будто
духовная сфера является «царством свободы», то оно
выступает как явное преувеличение некоторых
особенностей умственного труда в буржуазном обществе.
Дело в том, что продукт материальной деятельности в
условиях капиталистического производства почти
полностью обезличен, он теряет связь с конкретным
производителем в силу того, что его труд сведен к
частичной операции, но что еще хуже — при этом
утрачивается и сознание общественного смысла
совершаемой работы. Несколько иначе обстоит дело с
духовным трудом, поскольку его продукты, как правило,
сохраняют определенную связь с личностью их
создателя. В известной степени это обстоятельство
облегчает самовыражение личности в процессе труда, а
вместе с тем, параллельно, усложняет унификацию его
продуктов — обязательное условие эффективности
социального контроля. В силу указанных особенностей
следует признать некоторую автономию духовной
60
деятельности в условиях капитализма, однако
переоценивать этот момент нельзя.
Свобода духовного творчества существенно
лимитируется нуждами капиталистического производства,
а также конъюнктурой на рынке сбыта производимых
ценностей. Например, весьма затруднительно
говорить об автономии исследовательской деятельности в
условиях интеграции науки и капитала, когда ученые,
испытывая мощное экономическое и идеологическое
давление, вынуждаются к отождествлению своих
профессиональных интересов с потребностями бизнеса.
Политика империалистических государств диктует
перераспределение финансовых ресурсов таким
образом, что это подрывает нравственно-гуманистические
основания познавательной деятельности. В частности,
это проявляется в возрастающей милитаризации
науки: по свидетельству американского еженедельника
»Нью-Йорк ревью оф букс», научные исследования в
военной области достигли в США 28 % от общего
объема научных работ, а на военных предприятиях
занята четвертая часть всех ученых-физиков.
Естественно, что упомянутый процесс отвлекает колоссальные
средства, которые могли бы пойти на нужды
социальной сферы и духовной культуры. Вот некоторые
факты, относящиеся к военной экономике: стоимость
лишь одного современного сверхзвукового
бомбардировщика равна годовой заработной плате 25 тысяч
американских учителей, а на деньги, затраченные на
строительство современного авианосца, можно
было бы финансировать одну тысячу школ 46.
Сугубо коммерческий подход к проблемам
художественной культуры в значительной степени
обесценивает творческий процесс и превращает его в
экономически рискованное предприятие, на которое
отваживаются немногие. Наибольшие гарантии «успеха»
предоставляет так называемая «массовая культура» —
настоящее «царство антисвободы», растлевающее
души своих подданных и серьезнейшим образом
угрожающее культурной экологии Запада. «Сама жизнь
ставит вопрос о сохранении культуры, о защите ее от
буржуазного разложения, от вандализации,—
отмечалось в Политическом докладе ЦК XXVII съезду
КПСС.— Это — одна из важнейших общечеловеческих
задач. Нельзя не думать о долговременных
психологических и нравственных последствиях нынешней
61
практики империализма в сфере культуры. Ее
оскудение под напором безудержного торгашества и культа
насилия, проповедь расизма, пропаганда низменных
инстинктов, нравов преступного мира и «дна»
общества должны быть и будут отвергнуты
человечеством» 47.
Если о свободе говорить не абстрактно (на
экзистенциалистский лад), как это делает Маркузе, а
конкретно, т. е. в контексте происходящих в обществе
изменений, то проблема заключается в том, чтобы
создать, во-первых, материально-технические
предпосылки освобождения личности, а во-вторых,
соответствующие социальные условия, в которых личность
могла бы реализовать свой духовно-творческий
потенциал. Анализируя тенденции развития
общественного производства, в частности перспективы
сближения материальной и духовной деятельности, К. Маркс
концентрировал внимание на специфическом явлении,
в котором раскрывается освобождающая сила
труда,— на сокращении рабочего времени в результате
использования совершенной техники. Именно в
свободном времени, по Марксу, воплощается
могущество производительных сил, позволяющих ослабить
зависимость человека от диктата природных сил и
открыть ему простор для свободной деятельности и
духовного развития. «Царство свободы,— говорит он,—
начинается в действительности лишь там, где
прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней
целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно
лежит по ту сторону сферы собственно
материального производства... Свобода в этой области может
заключаться лишь в том, что коллективный человек,
ассоциированные производители рационально
регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его
под свой общий контроль, вместо того чтобы он
господствовал над ними как слепая сила; совершают его
с наименьшей затратой сил и при условиях, наиболее
достойных их человеческой природы и адекватных ей.
Но тем не менее это все же остается царством
необходимости. По ту сторону его начинается развитие
человеческих сил, которое является самоцелью,
истинное царство свободы, которое, однако, может
расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на
своем базисе. Сокращение рабочего дня — основное
условие» 48.
62
Интересно, что Маркузе, рассуждая о «царстве
свободы», приводит эту длинную цитату из третьего
тома «Капитала» целиком, опустив, однако,
завершающую фразу о свободном времени. Надо думать, что
это не случайность. Разговор о сокращении рабочего
дня не вяжется с целями и установками
«неомарксистского» анализа, поскольку эта тема вынуждает
спуститься с высот экзистирующего бытия на почву
конкретного социально-экономического развития.
Маркузе не интересуется контекстом приводимой
цитаты. Изолируя мысль Маркса, он пытается
опереться на авторитет творца «Капитала» в связи с
утверждением о скачке в «царство свободы», в
котором будто бы обрываются цепи природной
необходимости, а индивид обретает, наконец, «подлинность»
своего существования.
Следует отметить, что Маркузе не одинок в
стремлении сблизить марксистский взгляд на свободу с
экзистенциалистским. Эту установку разделяют
многочисленные поборники «обновления марксизма» от
«франкфуртских» философов до теоретиков
югославского «праксиса» и Будапештской школы. Например,
характерна в этом отношении позиция А. Шмидта,
который ссылками на Маркса пытается доказать, что
свобода ограничивается необходимостью только в
прошлом и настоящем, т. е. в предыстории общества, а в
будущем законы природы, как внешние, навязанные
индивиду силы, исчезнут, разрушенные
рациональными действиями людей. Переиначивая на
идеалистический лад Марксово понятие «очеловеченной»
природы, он утверждает, что нет и не может быть
объективных законов, извне управляющих человеческой
деятельностью. Законы природы, по Шмидту, это
законы отчужденной от человека реальности, созданной
человеческим трудом. «...Если бы люди ничего не
совершали,— говорит он,— то не было бы никаких
законов; не существует чисто объективного закона,
который мы обнаруживали бы как изначально данный,
но есть закон, порожденный нашей деятельностью,
однако он осуществлялся до сих пор поверх наших
голов» 49.
Однако в отличие от своих левобуржуазных
адептов К. Маркс не отрывал человеческую свободу
от «царства необходимости», он был только против
того, чтобы зависимость людей от природы господ-
63
ствовала над ними как «слепая сила». Он стремился
уяснить реальный путь превращения
производственной мощи людей в их духовное богатство. Связывая
эту проблему с сокращением рабочего дня, он
подчеркивал, что капитализм не в состоянии эффективно
использовать свободное время.
Неприятный парадокс для капитала, по Марксу,
заключается в том, что он не знает, как подступиться к
тому, что сам же производит. Между тем его
трудности возрастают в той мере, в какой увеличиваются
запасы свободного времени — этого специфического
продукта, который он, кстати, не умеет даже
оприходовать при калькуляции прибыли. Ближайшее
следствие способности капитала экономить общественно
необходимое время — массовая безработица,
которую болезненно переживают не только те, кто уже
потерял работу, но и все, кому угрожает подобная
перспектива.
Маркс подчеркивал, что в условиях коммунизма
свободное время становится мерилом общественного
богатства. Но для Маркса всякое богатство не
существует изолированно от человека и его деятельности:
даже сохраняя форму «вещи» или
материально-природного процесса, оно всегда выражает
общественные отношения. Отсюда стремление Маркса
определить общественные условия, при которых свободное
время трансформируется в духовную культуру
личности, а труд освобождается от диктата «нужды и
внешней целесообразности».
В «неомарксизме» обнаруживается иная
тенденция: любая проблема здесь толкуется как выражение
фундаментального и вечного конфликта между двумя
враждующими началами: экзистенциальным,
которому, понятно, отдается предпочтение, и общественным.
Иными словами, везде подразумевается
противоположность, с одной стороны, чего-то внутреннего,
сокровенно-личного, уникального, автономного, а с
другой стороны, отчужденно-внешнего, всеобщего,
социально-обезличенного, унифицированного и
несвободного. Например, переводя понятие экзистенции на
язык социально-политической проблематики, Маркузе
в первую очередь подчеркивает несводимость его
содержания к стандартизированным условиям
социальной жизни. «Экзистенциальное», полагает он, следует
истолковать как «существенную противоположность
64
понятию «нормативного», т. е. как нечто такое, что не
сообразуется ни с какими нормами, источник которых
лежит за границами его собственной внутренней
сферы» 50.
Маркузе одним из первых среди «неомарксистов»
поставил проблему соотношения экзистенции и труда.
Его почин имел разнообразные продолжения, в
которых осуществлялась дальнейшая конкретизация
понятий и принципов экзистенц-философии в социально-
экономической сфере. Характерный пример в этом
отношении представляет концепция В. Янке, в
изображении которого позиция К. Маркса выглядит
следующим образом. Человек, живущий в товарном мире,
находится в отчужденном состоянии, поскольку не
может реализовать себя. Он лишен истинно
человеческой сущности именно потому, что живет и трудится.
В условиях частной собственности человек, как
рабочий, сам производит собственное отчуждение.
Бытие — это жизнь, а основная черта жизни — труд.
Поэтому отчуждение труда в первую очередь
сказывается на экзистенции, лишая ее характера
подлинности. В этом Янке усматривает основание для того,
чтобы родословную экзистенциализма вести от Мар-
ксовых «Экономическо-философских рукописей».
«Кажется,— пишет он,— что не только кьеркегоровская
критика отчужденного христианства, но в равной
степени и критика Марксом отчужденного буржуазного
общества побуждает к экзистенциально-критическому
возвращению к подлинной действительности» б1.
Янке пытается доказать, что экзистенциальный
анализ имеет прямое отношение к политэкономической
критике буржуазного общества, причем в этой сфере
является «радикальным в Марксовом смысле».
Политическая экономия, утверждает он, имеет дело с
эмпирическими фактами реальной истории.
Рассматривая извращенный мир капитализма, она отыскивает
причины экономического порядка: ее интересуют
особенности производственной системы, отношения
собственности, динамика заработной платы и т. п. Однако
в конечном счете ее исследование упирается в
экзистенциальные проблемы. Например, столкнувшись с
ситуацией отчуждения, она обнаруживает
ограниченность собственных понятийных средств. Изображение
данной ситуации нуждается в категории подлинного
бытия, которую политическая экономия может отыскать
3 8—187
65
только в экзистенциальном анализе. «Радикальная
критика политической экономии,— делает вывод
Янке,— с необходимостью прокладывает себе дорогу
к экзистенциальным связям в человеческом бытии» 52.
Янке подчеркивает, что экзистенциализм постоянно
обращается к таким настроениям и чувствам, как
боязнь, трепет, скука, отвращение к жизни, страх
смерти и т. п. Этот подход очень часто порождает
обвинения в субъективизме, иррационализме и
антиисторизме, причем марксистская критика охотнее всего
использует оценки подобного рода. Упомянутые
обвинения затрудняют взаимодействие между марксизмом
и экзистенциализмом, утверждает Янке, однако они
построены на недоразумении, поскольку не
учитывают специфики экзистенциальной сферы. Чувства и
настроения, о которых идет речь, вовсе не притязают
на объективность и общезначимость. Они относятся к
человеческому бытию-в-мире, изначально
предшествующему расщеплению на субъект и объект в
мире реальной истории. К подобным чувствам
прибегает всякое объективное исследование, когда
вынуждено обращаться к своей основе — к экзистенциальной
сфере. В этом убеждает и пример самого Маркса,
который источник отчужденного труда находит в
человеческих страстях. В доказательство Янке ссылается
на следующие слова из «Экономическо-философских
рукописей»: «Единственными маховыми колесами,
которые пускает в ход политэконом, являются
корыстолюбие и война между
корыстолюбцами — конкуренция»53.
В рассуждении Янке можно выделить некоторое
рациональное содержание, которое касается
специфики и границ политической экономии. В самом деле,
эта дисциплина не должна отгораживаться глухой
стеной от смежных наук, изучающих человека и
общество. В пределы политэкономического исследования
неизбежно вторгается философия в качестве
методологических и мировоззренческих предпосылок, это
исследование тесно переплетается с системой
ценностей, формирующихся в политической, нравственной
и иных сферах. Наконец, в той или иной степени оно
должно учитывать особенности массовой психологии,
включая пресловутые «чувства» и «страсти», ибо они,
несомненно, оказывают воздействие на
экономическую деятельность людей.
66
Вместе g тем Янке пытается доказать то, что идет
вразрез с марксизмом, в частности с
материалистическим пониманием истории. По его словам, Маркс
рассуждает в духе Кьеркегора, который всякое
отчуждение в конкретной истории объяснял с помощью
категорий, лишенных исторического содержания:
нивелирование личности, зависть, толпа и т. п. Однако
это не так. Маркс никогда не отводил страстям роль
перводвигателя в истории. Что касается цитаты,
приводимой Янке, то она вырвана из контекста, где
критически излагается методология буржуазной
политической экономии, которая склонна рассматривать
эгоизм, зависть, корыстолюбие и прочие страсти как
движущие силы капиталистического производства.
«Политическая экономия,— отмечает Маркс,— исходит из
факта частной собственности. Объяснения ее она нам
не дает. Материальный процесс,
проделываемый в действительности частной собственностью, она
укладывает в общие, абстрактные формулы, которые
и приобретают для нее затем значение законов.
Эти законы она не осмысливает, т. е. не
показывает, как они вытекают из самого существа частной
собственности... Последней причиной является для нее
интерес капиталистов; иными словами, она
предполагает как данное то, что должно быть установлено в
результате анализа» 54.
Тем же путем, с помощью вырванной из контекста
цитаты, Янке стремится доказать, что
фундаментальные перемены в истории общества Маркс объясняет
противоборством страстей. В «Экономическо-фило-
софских рукописях» мы читаем: «Всеобщая и
конституирующаяся как власть зависть представляет
собой ту скрытую форму, которую принимает
стяжательство ив которой оно себя лишь иным
способом удовлетворяет»55. Янке комментирует эти
слова следующим образом: «Зависть и стяжательство
во всемирной истории создают различные формы
власти. В сущности именно они завершают победу
частной собственности над земельной собственностью, ибо
могущественный и деятельный переизбыток
обладания отодвинул в сторону бездеятельную страсть
феодалов к удовольствию» 56.
Между тем слова К. Маркса не дают повода для
такого вывода. Ведь он ведет речь о сторонниках
«грубого», уравнительного коммунизма, которые
а*
67
призывают к упразднению частной собственности,
предлагая взамен обратиться к «неестественной
простоте б е д н о г о», грубого и не имеющего
потребностей человека, который не только не
возвысился над уровнем частной собственности, но даже и
не дорос еще до нееБ7. Именно «грубый»
коммунизм, мечтающий нивелировать все различия между
людьми, мотивируется, по Марксу, завистью,
представляющей форму стяжательства. Это становится
ясным, если продолжить цитату, приводимую Янке.
«Всякая частная собственность,— говорит Маркс,— как
таковая ощущает — по крайней мере по
отношению к более богатой частной
собственности — зависть и жажду нивелирования, так что эти
последние составляют даже сущность конкуренции.
Грубый коммунизм есть лишь завершение этой
зависти и этого нивелирования, исходящее из
представления о некоем минимуме» 58.
Однако Янке, видимо, не слишком заботит
адекватное воспроизведение Марксовых мыслей. Цель у него
другая. Прочитывая Маркса через призму
экзистенциалистских воззрений, он пытается дать набросок
своеобразной теории, включающей два уровня
объяснения: глубинный, экзистенциальный, на котором
завязаны в узел основные проблемы человеческого
бытия, и внешний, эмпирический, который раскрывает
свой истинный смысл лишь в отношении к
экзистенциальной сфере.
Подчиняя социально-экономический анализ
экзистенциальному способу рассмотрения, Янке
изображает противоречия буржуазного общества как результат
извечного конфликта между двумя модусами бытия —
«подлинным» и «отчужденным». «Экзистенциалы
отстраненности и отчуждения,— утверждает он,— имеют
особые последствия во всех сферах социальной и
политической жизни... Маркс определяет их как
реальный мотор буржуазного общества, находящегося
в условиях товарного производства. Он обнаруживает
в них скрытые причины отношений рабства, которые
представляют лишь продукты и модификации
общественного труда, извращенного стяжательством и
конкуренцией. И он отыскал под скорлупой отчуждения
«подлинную», общественную стадию человеческой
экзистенции» 59.
68
В этом же ключе Янке решает и проблему
преобразования буржуазного общества. Он признает
важность социально-экономических мероприятий, но
считает их вторичными по отношению к экзистенциальному
возрождению человека. «Частная собственность,—
рассуждает он,— не является источником
отчужденного труда. Напротив, именно потому, что все
человеческие страсти и всякая деятельность утопают в
стяжательстве, имеется частная собственность и
возникают извращенные общественные силы
конкуренции и зависти. Но если дело обстоит так, тогда
политическая и экономическая эмансипация не достигает
цели. А именно, упразднение частной собственности,
наемного труда, разделения труда, а также
распределение производимого продукта по потребностям,
стирание классовых различий, отмирание государства,
контроль общества над производством и проч.— все
это может устранить лишь последствия, а не
фундаментальную причину извращенного мира» 60.
Отсюда делается вывод, ради которого и
осуществлялась экзистенциальная трансформация
марксизма. «Только эмансипация человеческих чувств,—
утверждает Янке,— несет с собой политическое и
экономическое освобождение от чудовищных
преступлений частной собственности. Она устраняет
неподлинный модус экзистенции — стяжательство, а вместе с
ним и зависть как основное настроение. Она
обеспечивает рабочему человеку подлинное бытие во всем
многообразии физических и духовных форм
жизнедеятельности. Эмансипация от тирании стяжательства
устанавливает свободное отношение к природе и
технике, к искусству и языку, к любви и дружбе, но
важнее всего — к совместному труду. Только она
позволяет привести в действие новые технические и
политические силы общества» 61.
Янке не уточняет, что именно должно подвигнуть
отчужденного индивида буржуазного общества к
радикальному обновлению своих чувств. И это не простая
забывчивость. Программа переустройства общества,
уповающая лишь на внутренние превращения
личности, обречена на бесплодность. Она приобретает
декларативный характер, ибо заранее отказывается
учитывать любое внешнее воздействие на
экзистенциальную сферу. Между тем идея внутренней
трансформации личности не рождается в недрах обособленной
69
души. Она является отражением социальных коллизий
и представляет своеобразную кульминацию в
драматически напряженных взаимоотношениях личности и
общества. Существует сложная диалектика
внутреннего и внешнего, индивидуального и коллективного,
экзистенциально-личного и общественного, диалектика,
без учета которой социальная теория неизбежно
впадает в одну из крайностей: либо
романтически-утопическое обожествление одинокой и автономной
личности, либо торжество идеологии тоталитаризма,
превращающего индивида в простую функцию
общественной системы.
Именно это произошло с «неомарксизмом».
Выступая против теорий второго типа, он
абсолютизирует экзистенциально-личное начало, стремясь
оградить его от действующих в обществе механизмов
опредмечивания и отчуждения. Но данный подход
совершенно обесценивает программу
социально-экономических действий, ибо они до поры до времени не
дают нужного эффекта: их черед наступает лишь
после экзистенциального превращения личности
буржуазного общества. «Неомарксистская» концепция
приобретает абстрактно-утопические черты в силу
радикального противопоставления двух начал:
экзистенциально-личного и социально-безличного. Данная
дихотомия образует методологический стержень в
развитии еще одной «неомарксистской» темы —
соотношения разума и общества.
РАЗУМ ПРОТИВ ЭКЗИСТЕНЦИИ
«Неомарксисты» с необычайным вниманием
отнеслись к переменам, которые были вызваны
стремительным развитием науки и техники. Научно-техническая
революция, которая с середины нашего столетия
охватила многие страны мира и, казалось бы, несла для
всех огромный заряд прогрессивных преобразований,
обернулась для капиталистической системы целым
рядом негативных последствий. Акцентируя внимание на
трудностях и противоречиях научно-технического
прогресса, «неомарксизм» подновил и актуализировал
свою традиционную проблематику, связанную с
господством, эксплуатацией, отчуждением и проч. Фено-
70
мен науки и научной рациональности стал едва ли не
главным предметом «неомарксистского» анализа.
Следуя установкам экзистенциализма,
«неомарксисты» стремятся отыскать в человеческой душе
экзистенциальное начало, некий иррациональный
остаток, неподвластный законам товарного производства.
«В своей способности к универсальной интуиции,—
утверждает Маркузе,— душа обесценивает
противоположности истинного и ложного, доброго и дурного,
разумного и неразумного,— противоположности,
которые возникают в процессе изучения общественной
реальности в связи с особенностями материальных
форм человеческой жизни» 62.
Воспринимая экзистенциалистский тезис об
абсолютной несовместимости разума и экзистенции,
«неомарксизм» разрабатывает эту проблему в ином
идеологическом ключе. Имея целью критику «позднего»
капитализма, он жестко связывает разумность с
конкретными характеристиками общественной системы.
В данном отношении он сближается с
вульгарно-социологической идеологией «пролеткульта» в нашей
стране, который, как известно, пытался «разоблачить»
всю культуру и даже науку дореволюционной поры
как прислужников господствующих классов. В
философии «неомарксизма» иррационалистическая традиция
переплелась с вульгарно-социологической
методологией. «Разум по природе своей буржуазен» — этот
афоризм, принадлежащий французскому сюрреалисту
А. Бретону, естественным образом вписывается в
контекст «неомарксистского» анализа проблемы
рациональности.
Понятие рациональности, правда, с некоторыми
модификациями, было воспринято «неомарксистами»
у М. Вебера. Последний трактовал его чрезвычайно
широко — не только в методологическом аспекте, но
и в социально-историческом, что отчетливо
проявилось в стремлении представить всю историю западной
цивилизации как процесс возрастающей
рационализации всех сфер хозяйственной и культурной жизни.
Индустриальный капитализм, по Веберу, явился
результатом развития ряда явлений, которые уже на
более ранних ступенях истории содержали зародыш
рациональности. Таковы античная наука, римское право,
протестантская этика, наконец, формы ведения
хозяйства, возникшие с отделением рабочей силы от
71
средств производства. Наличие неимущего слоя
людей, формально свободных, но принуждаемых бичом
голода продавать свой труд, открывает путь
рациональной экономике, ибо на основе установленной
заработной платы можно заранее исчислять издержки
производства.
Становление капитализма сопровождалось
рационализацией социального действия: приверженность
привычным нравам и обычаям вытеснялась в его
структуре соображениями практического интереса, а
мотивация отличалась тщательно обдуманным
соотнесением цели и средств. В наиболее чистом виде такое
действие — целерациональное, как его называет Ве-
бер, обнаруживалось в экономике, но капитализм
сформировался только тогда, когда оно стало играть
ведущую роль во всех областях общественной жизни.
Вебер трактует понятие рациональности в
позитивистском духе, ограничивая его сферой рассудочной,
формально-логической деятельности. Рациональность
для него тождественна возможности производить
расчеты, она соответствует исчисляемости, калькулируе-
мости. Условием, предваряющим такой процесс,
является редуцирование качественных характеристик к
количественным: объект освобождается от
содержательных или ценностных моментов и предстает в виде
некоторой совокупности функциональных
определений. Причем Вебер различает два типа
рациональности: «формальную» и «материальную». Если первая
обусловлена мерой количественного учета и не
служит никаким внешним для функционирующей системы
целям, то вторая предназначена «для чего-то»,
определяется извне — целями, которые характеризуются
как содержательные, или «материальные», ибо не
поддаются рациональному исчислению. Примером
«материальной» рациональности может служить
экономика, которая руководствуется внеэкономическими
критериями, или бюрократический аппарат,
находящийся на службе определенных политических сил.
В «неомарксистской» социальной философии
«формальная» рациональность была истолкована как
«буржуазный» Разум, т. е. исторически определенный
тип рациональности, существующий только в эпоху
индустриального капитализма. Но если Вебер был
преисполнен оптимизма в связи с непрекращающейся
экспансией такого типа рациональности, то «неомарксис-
72
ты», напротив, рассматривают данный процесс как
повод для развертывания критики капитализма, а также
и как симптом его неизбежного падения.
Анализируя с позиций «неомарксизма» веберовс-
кую концепцию рациональности, Маркузе
подчеркивает, что в ее основе лежит отвлечение от конкретных
особенностей человеческой личности, а в конечном
счете и от самой жизни. Именно такого рода
отвлечение создает технические условия для
капиталистической переработки человеческого и вещественного
субстрата: организации и осуществления контроля над
промышленными предприятиями и чиновничьим
аппаратом, над трудом, досугом и т. п. «Формальный»,
«абстрактный», или «технический», Разум образует
важнейшую предпосылку, без которой немыслима
рентабельность капиталистического производства:
«Если расчет капитала представить в формальном
аспекте, то его наиболее рациональной моделью
окажется та, в которой человек и его «цели» выступают
лишь в качестве переменных величин для
вероятностного исчисления прибыли и пользы» 63.
Маркузе стремится показать, что «формальная»
рациональность, которая воплощается в
капиталистической экономике, не лишена практическо-ценност-
ных, или «материальных», элементов. В этой связи он
отмечает, что веберовский идеал рациональной
системы хозяйства, основанной на расчетливой
предусмотрительности в отношении конечных результатов,
более соответствует плановой, некапиталистической
экономике, ибо возможности разумной регламентации
хозяйственной деятельности в капиталистическом
обществе существенно ограничены «свободой» рынка и
эгоистическим интересом частного
предпринимательства. Но Вебер утверждает, что всеобъемлющее
планирование явилось бы только тормозом в развитии
экономики, и мотивирует свою позицию тем, что в
современном индустриальном обществе отделение
работника от средств производства обусловлено
технологической необходимостью, а это в свою очередь
предписывает личный контроль над средствами
производства, т. е. требует преобладания в
производственной сфере персонально ответственного лица —
предпринимателя. «Таким образом,— говорит
Маркузе,— сугубо материальный исторический факт
частнокапиталистического предпринимательства становится
73
формальным (в веберовском смысле этого слова)
структурным элементом капитализма и самого
рационального хозяйства» 64.
Разговором о «материальных» допущениях,
просочившихся в веберовскую формально-рациональную
теорию капитализма, Маркузе открывает тему
господства и власти — важнейшую для всей
социально-философской доктрины «неомарксизма». По его мнению,
веберовская диалектика рациональности и господства
находит свое адекватное и логически законченное
выражение в бюрократическом управлении.
«Специфически западная идея Разума,— утверждает он,—
осуществилась в системе материальной и
интеллектуальной культуры (экономике, технике, образе жизни,
науке, искусстве), которая находит свое полное развитие
в индустриальном капитализме, и вся эта система
обнаруживает тенденцию к специфическому типу
господства, который становится судьбой современной
эпохи — тотальной бюрократии» 65.
Данный тип господства в наибольшей мере
соответствует структуре капиталистической экономики, ибо
является формально-рациональным, т. е.
осуществляется на основе специальных знаний, которыми
располагают профессионально подготовленные люди —
чиновники. Особенно важно то, что чиновничий
аппарат так же оторван от «средств управления», как
производители в условиях капитализма оторваны от
средств производства. Это позволяет, как было
подчеркнуто Вебером, реализовать в системе управления
безлично-деловой принцип, когда решения
мотивируются не соображениями личной выгоды, а
исключительно «интересами дела». Наличием данного
принципа бюрократическое управление отличается от других
форм господства, которые рассматриваются в вебе-
ровской социол'огии власти: от «традиционного»,
обусловленного привычкой к определенному типу
социального поведения, и от «харизматического» (греч.
«харизма» — божественный дар), который базируется
на признании необыкновенных способностей
авторитарной личности.
Однако бюрократический аппарат,
функционирующий на основе формально-правовых принципов,
нуждается в содержательной программе, которая,
естественно, задается извне, поскольку система упомянутых
принципов лишена практическо-ценностного содержа-
74
ния. Поэтому Вебер вынужден признать, что
бюрократическое управление неизбежно сопрягается с «не
чисто бюрократическим элементом», т. е. должно
подкрепляться традицией (например, верой в
парламентскую демократию) или иррациональной харизмой.
Фиксируя данную особенность веберовского
понятия бюрократии, Маркузе отмечает, что рациональное
управление выражает всеобщий интерес и как
таковое требует широкого развития демократии, но,
вместе с тем, оно воплощает в себе частный интерес и
вынуждено ограничивать ее. Классическим
обнаружением этого противоречия является плебисцитная
демократия, в которой массы периодически выбирают
себе вождя и определяют его политику, но только при
условиях, которые заданы вождем и тщательно им
контролируются. «Плебисцитная демократия,—
говорит Маркузе,— является политическим выражением
иррациональности, ставшей Разумом» 66.
Такова природа буржуазного Разума, который
оборачивается своей противоположностью —
Безрассудством, и это происходит не только в сфере политики,
но и в любой другой, в частности в экономике, где
удовлетворение жизненных нужд — лишь побочный
продукт той деятельности, которая направлена на
увеличение прибыли. И подоплекой этого процесса
является господство, тотальное, иррациональное по своей
сути господство, которое скрывается под маской
методично рассчитывающего Разума. «Абстрактный
Разум,— констатирует Маркузе,— становится конкретно-
определенным в поддающемся исчислению и всегда
рассчитанном господстве над природой и
человеком» 67.
Таким образом, абстрактный Разум со всеми
своими продуктами, включая науку, технику и проч.,
предстает в качестве идеологии, призванной прикрыть и
узаконить тотальное господство. Он выступает и в
качестве технического Разума, поскольку дает технику
господства, причем технику разнообразную — ив
широком значении слова, т. е. искусство, умение,
мастерство, и в узком, т. е. различного рода технические
устройства, опредмечивающие это искусство.
«Понятие технического Разума,— говорит Маркузе,—
вероятно, само является идеологией. Не только его
применение, но уже сама техника является господством (над
75
природой и человеком), методическим, научным,
рассчитанным и рассчитывающим господством» 68.
Легко заметить, что Маркузе, критически
комментируя веберовскую концепцию «формальной»
рациональности, прибегает к одному и тому же приему: он
стремится доказать, что, вопреки намерениям автора
этой концепции, в любую формально-рациональную
систему (хозяйственную сферу, бюрократический
аппарат и т. п.) органически входят, причем в качестве
важнейших конституирующих элементов,
«материальные», или «ценностные», постулаты. Стремление
«разомкнуть» формальные системы отвечает общей
установке «неомарксизма» — идеологизировать все, что
так или иначе соприкасается с человеком и его
деятельностью, разоблачить всякую идеологию как
маскирующееся господство и тем самым подготовить
сознание читателя к восприятию важнейшей формулы
«неомарксизма» — «Великого Отказа»,
предполагающего безусловное отрицание всего настоящего,
«фактически данного», которое по обе стороны
существующей ныне социально-политической границы (и в
системе «позднего капитализма», и в условиях
«государственного» социализма) одинаково воплощает в
себе процессы возрастающей экспансии отчужденного
от человека технического Разума.
Центральное место в «неомарксистской»
концепции рациональности отводится науке. В согласии с Ве-
бером наука рассматривается как разновидность
формального Разума, причем данная особенность
научного мышления конкретизируется как преимущественно
процесс математизации. Так, Маркузе подчеркивает,
что рациональность в полной мере выражает
следующая тенденция: «Прогрессирующая математизация
опыта и познания — процесс, который свой
первоначальный импульс получил в связи с ошеломляющими
успехами естествознания, но затем в качестве
способности к универсальной квантификации захватывает
другие науки, а также и само существование
людей» 69.
Развертывая аргументацию против научного
Разума, «неомарксисты» пытаются скомпрометировать
его за формальный характер. Так, Хоркхаймер и Адор-
но, авторы «Диалектики просвещения», полагают, что
в эксплуататорском обществе контроль над человеком
достигается за счет отождествления научной рацио-
76
нальности с математикой, ибо дискурсивное
мышление, которое находит наиболее полное выражение в
математике и логике, лишает всякой
самостоятельности индивидуальное начало. В этом они видят связь
отвлеченного мышления с угнетательской функцией
общества: «Всеобщность мысли, как ее развивает
дискурсивная логика, господство в сфере понятийных
форм,— пишут они,— зиждется на фундаменте
господства в сфере действительности» 70.
Просвещенный Разум, как математизированное
мышление, становится формой отчуждения человека.
Овеществляясь в «автоматическом процессе»,
подобном тому, какой имеет место в машине, оно, с одной
стороны, приобретает узко инструментальное
назначение, а с другой — окончательно вытесняется
машиной, которая не менее успешно выполняет все его
функции. Поскольку познание оказывается простым
повторением, а мысль — «чистой тавтологией»,
замкнутой горизонтом отчужденного мира, постольку
просвещение в целом оказывается саморазрушением
Разума: «С отказом от мышления,— говорится в
«Диалектике просвещения»,— которое в овеществленных
формах математики, машин и организаций мстит
людям, предающим его забвению, просвещение
отрекается от собственного осуществления» 71.
Критика науки как разновидности формального
Разума — это только начальный этап «неомарксистского»
анализа. На следующем этапе доказывается, что
формальная рациональность, которая, как мы уже знаем,
укрепляет капиталистический гнет именно потому, что
она такова, т. е. формальна, на самом деле вовсе не
формальна, а точнее, формальность — это только
прикрытие, флёр, тогда как на самом деле наука и по
сути своей — форма господства, т. е. она раскрывает
себя как буржуазный Разум.
Теперь обнаруживается, что познание тесно
связано с интересом, более того, оно всегда
конституируется сообразно с ним. Мы можем предусмотреть
какие-то профилактические меры, чтобы исключить
деформирующее влияние интереса. Во всех областях
науки практикуется применение специальных средств,
предохраняющих познание от субъективных мнений и
оценок. Но подобная практика не в состоянии
контролировать появление интереса на самом глубоком
уровне, который определяется не отдельным индивидом,
77
а объективной ситуацией, в которой оказалась
социальная группа. Поэтому Хабермас, посвятивший
специальную работу этой теме, считает, что
объективность научного познания не только не исключает, но,
напротив, предполагает влияние интереса. «Так как
наука,— пишет он,— должна обеспечить
объективность своих утверждений, освобождая их от давления
и соблазнов частного интереса, она постоянно
заблуждается относительно фундаментальных интересов,
благодаря воздействию которых располагает не
только первоначальным импульсом, но и условием
возможности самой объективности» 72.
Из повседневного опыта известно, что идеи
нередко используются для того, чтобы обеспечить
прикрытие нашим поступкам с помощью «защитного мотива».
Причем то, что на уровне индивидуального действия
называется рационализацией, на другом уровне — в
сфере коллективных, массовых движений — носит
название идеологии. В обоих случаях содержание
соответствующих идей фальсифицируется их внутренней
связью с интересом. Однако осознание подобной
связи, по мнению Хабермаса, ничего не меняет. Если бы
даже познание и перехитрило свой «врожденный»
человеческий интерес, выйдя тем самым за
«трансцендентальный» предел, который он устанавливает ему,
оно бы только обнаружило, что истинное
посредничество между субъектом и объектом продуцируется
именно интересом — естественным базисом познания.
«Наш разум,— говорит Хабермас,— может осознать
этот естественный базис путем рефлексии. Однако
власть этого базиса распространяется даже на логику
исследования» 73.
Подчинив познание интересу, «неомарксисты»
переиначивают концепцию формальной рациональности,
заимствованную у Вебера. Не только техника, но и
сама наука — воплощенная рациональность — не
лишена, с их точки зрения, ценностных оснований. Причем
«ценностные постулаты» оказывают воздействие на
развитие науки не только извне, со стороны
производственной или иной общественной потребности,
определяя, скажем, актуальность темы, степень
концентрации усилий, порядок разработки проблем и т. п., а
также изнутри, органически вплетаясь в саму ткань
теоретических построений. Человеческие ценности и
интересы, утверждает Маркузе, «могут заявить о себе
78
даже в конструкции научных гипотез — в чисто
научной теории» 74.
Предметы окружающего мира, рассуждает он,
существуют объективно, т. е. до всякой интерпретации,
которую им может дать отдельный субъект. Каждый
из этих предметов представляет собой совокупность
качеств, которые, во-первых, соответствуют
физической (естественной) структуре материального мира, а,
во-вторых, зависят от той исторической формы, в
которой коллективная практика человечества
овладевает миром, превращая его в «объект для субъекта».
Два уровня или аспекта объективного мира —
физический и социально-исторический — взаимосвязаны
таким образом, что в принципе не могут быть
изолированы друг от друга: «Социально-исторический аспект
познания никогда не может быть элиминирован
настолько радикально, чтобы перед нами открылись
«абсолютно чистые» структуры физической
реальности» 75.
Наука — результат грандиозного «проекта»,
который реализуется не отдельным индивидом, а
человечеством — подлинным субъектом
разворачивающегося в истории процесса овладения природой. По
замыслу Маркузе, именно этот субъект должен быть
обнаружен, а лучше было бы сказать — «разоблачен», в
самой сердцевине научных теорий, какими бы
рациональными и формальными ни казались они
непосвященному. «Теперь мы можем попытаться,— говорит
он,— более определенно произвести идентификацию
скрытого субъекта научной рациональности и
замаскированных в ее чистых формах человеческих целей.
Представление о безграничном господстве над
природой, которое лежит в основании научного мышления,
продуцирует природу как чисто функциональное
единство, как абсолютно пластичный материал теории
и практики. И только в этом качестве мир объектов
входит в конструкцию технологического космоса —
универсума интеллектуальных и вещественных средств,
орудий в себе. Следовательно, данный мир — это
«гипотетическая» система, зависящая от субъекта,
который верифицирует и санкционирует ее» 76.
Если процедуры обоснования, опровержения и т. п.
имеют место в теоретической сфере, то это не
значит, что они происходят в социальном вакууме,
утверждает Маркузе. Любая система научного знания
79
существенным образом зависит от другой системы —
«универсума» вненаучных целей, ибо в данном
универсуме и только ради него существует наука. «В
конструкции технологической реальности,— делает он
вывод,— не имеется такой вещи, как чисто
рациональный научный порядок: формирование технологической
рациональности есть политический процесс»77.
Наука имеет в обществе стабилизирующую,
консервативную функцию. С одной стороны, ее развитие
обеспечивает все более высокий уровень жизни,
поскольку научное управление социальными
процессами и научное разделение труда значительно повышают
эффективность экономической, политической и
культурной сфер человеческой деятельности. Но прогресс
науки, подчеркивает Маркузе, имеет и другую
сторону. Она выражается в растущем «альянсе»
технических средств и общественных отношений, позволяющих
осуществить «производственную утилизацию людей».
Создается ситуация, в которой «борьба за
существование и эксплуатация людей и природы становятся все
более научными и рациональными» 78.
В «технологическом обществе», подводит итог
Маркузе, индивид является жертвой социальной
организации, которая создает лишь видимость
воплощения в себе разумных принципов. Его интересы служат
завесой, прикрывающей потребности
административных структур. «Мир все больше превращается в
объект тотальной администрации, которая абсорбирует
даже администраторов. Паутина господства
становится паутиной самого Разума, и общество фатально
запутывается в ней» 79.
Как видим, Маркузе стремится социологизировать
и даже политизировать всю сферу науки, включая
естествознание. Казалось бы, этот подход не лишен
некоторых оснований, тем более что он опирается на
известный марксистский тезис о социальной
детерминации научного познания. Однако Маркузе,
выражающий здесь общие установки «неомарксизма», не
учитывает того, что детерминация не тождественна
абсорбции, иными словами, ее нельзя трактовать как
поглощение науки политикой и идеологией.
Аргументация «неомарксистов» определяется той
поправкой, которую они вносят в веберовскую
концепцию рациональности, пытаясь обнаружить
«материальные», или практическо-ценностные, допущения
80
не снаружи, а внутри формально-рациональных
систем. Однако эта инновация, открывающая
возможность вульгарно-социологической критики науки,
построена на очевидном недоразумении.
Природа формально-рациональных систем таком,
что они сохраняют свой методологический статус
лишь до тех пор, пока носят замкнутый характер. Это
означает, что любая процедура, которая
производится в данной системе, определяется исключительно
особенностями ее внутренней структуры. Главная
проблема здесь — различение внешних и внутренних
факторов, ибо то, что является внешним по отношению к
одной системе, может оказаться внутренним в иной.
Но если в какую-либо формальную систему вводятся
дополнительные элементы, т. е. факторам, которые
ранее выступали как внешние, приписывается статус
внутренних, то все равно создается замкнутая
система, хотя и отличная от прежней.
Разумеется, возможности формализации в
известной степени ограничены. Об этом, в частности,
свидетельствуют изыскания австрийского логика и
математика К. Геделя, который в одной из теорем — о
неполноте — показал, что в достаточно богатых
формальных системах имеются истинные суждения,
недоказуемые и неопровержимые в границах данных систем.
Иначе говоря, в подобных системах всегда найдется
некоторый «неформализуемый остаток» —
обстоятельство, иногда используемое как аргумент против
формализации и аксиоматического метода в целом.
Однако теоремы Геделя касаются иной проблемы:
они предостерегают от наивной веры в возможность
полной формализации какой-либо содержательной
области научного знания, скажем, арифметики
натуральных чисел, но их нельзя трактовать в духе отказа
от формальной чистоты и строгости, например,
санкционируя построение формальных систем, в которых
внешние факторы разрушают аксиоматический базис
или правила вывода.
«Неомарксистский» анализ не показывает, каким
образом в процессе социальной жизни людей
создаются и интерпретируются формально-рациональные
системы или, иначе, каким путем осуществляется
формулировка некоторых правил и норм, а затем
определяется область их значения и применения. Здесь
следует отметить, что всякая упорядоченная деятель-
81
ность есть не что иное, как «опредмеченная»
рациональность. Наряду с системой формальных правил
необходимо различать систему соотносимых с ней
объектов — последняя как раз и будет ее своеобразной
практической «интерпретацией». Этот очевидный факт
иллюстрирует следующий пример: «Ученик в школе
во время контрольной работы, решая задачу о
бассейнах, пешеходах и т. д., нимало не сомневается, что он,
не выходя из класса, действительно может решить
эти задачи, однако на самом деле он решает задачу
не относительно бассейнов, а другую — относительно
нахождения неизвестного в уравнении — и затем
интерпретирует ее как задачу о реальной
действительности» 80.
Не претендуя на полное освещение
вышеозначенной проблемы, отметим еще несколько важных
моментов. Прежде всего следует обратить внимание на
относительную самостоятельность формальных
систем, функционирующих по собственным, внутренне
им присущим законам. В частности, это проявляется
в том, что каждая из них может иметь множество
интерпретаций: подобно тому, как аксиомам
формальной арифметики удовлетворяют не только
порядковые натуральные числа, но и любая совокупность
объектов, представляющих прогрессию, так и системы
экономических или правовых норм, взятые в их
формальной чистоте, могут быть реализованы на объектах
различного типа. Так, римский кодекс был положен в
основу буржуазного права, хотя общественные
отношения за полтора тысячелетия мировой истории,
естественно, изменились радикальным образом.
Интерпретация формальных систем всегда носит
частичный характер. Иными словами, в отношении
всякого достаточно сложного объекта можно высказать
такие суждения, которые не выводимы с помощью
средств интерпретируемой формальной системы.
В общем это нормальное явление, если только
принятый формализм выражает существенные свойства
соответствующего объекта. Если же этого не
происходит, то возникает необходимость в дальнейшем
совершенствовании формальных систем. Нужно
отметить, что трудности формализации особенно
возрастают в сфере социальной реальности, ибо ее объекты, с
одной стороны, необычайно сложны, а с другой —
противоречивы. В условиях классово-антагонистичес-
82
ких обществ процесс формализации социальной
жизни приобретает ясно выраженный классовый характер.
В частности, он ведет к нарастанию
формально-бюрократических тенденций, позволяющих паразитическим
классам и группам извлекать максимальную выгоду из
существующей социально-исторической ситуации. Но
только классовый интерес прячется не внутри
формальных систем, а в процедуре их практической
интерпретации. Например, формальные принципы
равенства, заложенные в систему буржуазного
правопорядка, оборачиваются тенденциозностью в
применении законодательства и фактическим неравенством.
С этой же точки зрения следует подойти и к
анализу науки как системы формализованного знания.
«Неомарксистский» подход игнорирует специфику
абстрактно-теоретических систем, не замечая их
внутренней автономии и целостности. Формализация
такого рода систем осуществляется путем отвлечения
от содержательных моментов теоретического
мышления с целью выявления его логической структуры.
Следовательно, только непониманием существа этой
процедуры можно объяснить попытки отыскать внутри
формализма идеологический компонент. Разумеется,
сказанное не означает, что наука функционирует в
социальном и идеологическом вакууме. Включение
формализованных теорий в контекст содержательного
мышления происходит путем разнообразных
интерпретаций, т. е. процедур, в некотором смысле
обратных формализации. Так, эмпирическое значение
абстрактных компонентов физической теории
определяется с помощью множества объектов, именуемых
физической реальностью. Подобная интерпретация —
эмпирическая — лежит в основе других,
неспецифических, процедур, позволяющих соотнести
физическую теорию, а точнее, ее приложения и следствия, со
сферами производства, политики, морали и т. п.
Неспецифические интерпретации могут оказать
известное влияние на дальнейшее развитие исследований,
но они не в состоянии побудить к перестройке
физических теорий согласно идеологическим,
нравственным и иным критериям. Как бы мы ни
интерпретировали физику в целом или ее приложения, все
констатации и утверждения, именуемые физическими,
должны мотивироваться только физической теорией и
соответствующим эмпирическим базисом.
83
Наконец, еще один важный момент, относящийся
к аргументации «неомарксистов». Дело в том, что Ве-
бер направил их по ложному пути в оценке
современного научного мышления, побудив рассматривать
математизацию в качестве его важнейшей
характеристики. Однако математизация современной науки
является стороной другого важного процесса — теорети-
зации, причем этот процесс составляет необходимое
условие достаточно содержательных и продуктивных
интерпретаций формальных систем. Этот же процесс
позволяет избежать превращения научной мысли в
чистую тавтологию, о чем так сокрушаются
«неомарксисты».
Теоретизация современной науки позволяет также
реализовать важнейший принцип познания — принцип
объективности. Поскольку основу всякой
теоретической системы составляют фундаментальные законы,
относящиеся к какому-то уровню или фрагменту
материальной действительности, постольку наличие
непосредственной связи научных суждений с каким-либо
интересом, лежащим за пределами предметной
области соответствующей дисциплины, выражает не
силу, а слабость и несовершенство научной теории.
Связь познания и интереса, науки и практики,
разумеется, существует, но она имеет опосредованный
характер.
Здесь следует различать научное знание, которое
ло своему содержанию не зависит от субъекта и его
познавательных средств, и исторически конкретный
способ, которым это знание производится. Не
разграничивая эти моменты, «неомарксизм» пытается
убедить, будто в недрах научной истины гнездится вне-
научный интерес. Подобный взгляд не может найти
оправдания не только в отношении естествознания, но
и применительно к области социальных наук, хотя
последние, как это признано марксистской теорией, не
являются идеологически нейтральными. Дело в том,
что интерес, какой бы он ни был — общечеловеческий,
классовый или индивидуальный,— не существует в
отрыве от объективной реальности. Его содержание и
структура задаются общественными условиями, а в
конечном счете — законами общечеловеческой
практики, которые объективны в силу единства с законами
окружающего мира.
84
В социальном исследовании возникает
своеобразная методологическая альтернатива, когда
сталкиваются два различных подхода, один из которых
опирается на принцип объективности, а другой — на
интерес. Однако подобная ситуация не является
безысходной. Диалектическое решение проблемы заключается
в том, чтобы ценностные ориентиры познания, в
которых воплощается интерес, были сообразованы не
с устаревшими рутинными формами социальной
жизни, а с исторической перспективой, коренящейся в
объективных закономерностях общественного
развития. Отсюда следует, что базисный уровень познания,
формирующийся как его предпосылка и результат,
неизбежно связан с определением восходящей линии
исторического процесса, а также с поиском
социальных сил, работающих на прогресс.
Попытка же «неомарксистов» утвердить прямую
связь теоретических изысканий с эгоистическим
интересом может нанести по меньшей мере двоякий
ущерб: во-первых, такое убеждение подрывало бы
веру в возможность свободного научного
исследования на базе рациональной критики получаемых
результатов, а во-вторых, оно открыло бы путь для
политических и идеологических манипуляций научной
истиной. Тем самым превращение научного Разума в его
противоположность — формально-бюрократическое
Безумие, против чего справедливо возражают
«неомарксисты», получило бы поддержку и благословение
с самой неожиданной стороны — с точки зрения самой
науки, а точнее, одной из высших ее инстанций —
философской методологии.
Глава 2
СОЦИАЛЬНАЯ
УТОПИЯ «ФРЕЙДО-МАРКСИЗМА»
В начале нашего века в Европе, а затем в США и
других странах мира приобрела известность теория
психоанализа, разработанная австрийским психиатром
3. Фрейдом (1856—1939). Правда, поначалу ее
известность имела в общем скандальный характер. Родона-
85
чальник психоанализа акцентировал внимание в ceoei
теории на роли сексуального фактора, а это шокиро
вало буржуазного обывателя, чьи представления <
грехе и целомудрии сформировались на почве лице
мерной христианской морали. Однако с течением вре
мени это направление в психологии и психиатрии вер
бует все новых и новых сторонников: уже в 20-е годь
его влияние в профессиональной среде, а также и э
ее пределами становится заметным, а после второ!
мировой войны для него наступает эпоха расцвета. П<
мере развития психоанализ расширяет область свои
интересов. Он все больше обнаруживает склонность i
теоретической экспансии, проникая в такие сферы, ко
торые весьма далеки от его первоначального замыс
ла — поиска эффективных методов лечения психичес
ких заболеваний. Идеи и принципы, разработанньп
Фрейдом, стали находить широкое применение в бур
жуазной философии, социологии, этнографии, литера
туроведении, искусствознании и других областя:
науки.
Социальная философия «неомарксизма» испытал,
мощное воздействие со стороны психоанализа. Теоре
тические контакты с этим направлением начались ещ<
с конца 20-х годов, когда Э. Фромм, получивший пси
хоаналитическое образование в Мюнхенском универ
ситете и Берлинском психоаналитическом институте
предпринимает первые попытки реконструировав
учение Фрейда с целью превращения его в инстру
мент социально-философского исследования. Пример
но в это же время В. Райх, австро-американский пси
холог, стремится объединить марксизм и фрейдизм i
рамках программного требования дополнить преобра
зование общества сексуальной революцией. В 40-е го
ды к идеям психоанализа обратились М. Хоркхаймер i
Т. Адорно, а еще позднее, в 50—60-е годы, популяр
ность этих идей среди «неомарксистов» возросла на
столько, что их утилизация в новом теоретическоА
контексте приобрела характер устойчивой и широкс
признанной традиции. Фрейдо-марксистской класси
кой становятся сочинения Э. Фромма и Г. Маркузе, <
наряду с ними приобретает известность литературная
продукция А. Шмидта, А. Лоренцера, А. Мичерлиха
Р. Дучке и др.
Обращение «неомарксизма» к психоанализу имее
глубокие основания в социальной и идеологическое
86
сферах. Одна из главных причин — это существенные
перемены в жизни буржуазной личности, которые
произошли в результате бурного развития
научно-технической революции. Опираясь на ее достижения,
крупный капитал создал общественные условия, при
которых подавляющее большинство классов и социальных
групп утратили стабильность своего существования.
Массовая безработица, как явная, так и скрытая,
беспощадная конкуренция на всех уровнях — начиная с
биржи труда и кончая взаимоотношениями крупных
концернов,— кризис народного образования и
медицинского обеспечения, межнациональные и расовые
конфликты, обострившиеся проблемы городов
(перенаселенность бедных кварталов, дороговизна жилищ,
преступность, наркомания и алкоголизм), а главное,
изощренные, прикрытые законом и традицией, но
всепроникающие формы капиталистической
эксплуатации — все это разобщает и противопоставляет людей
друг другу, сеет среди них подозрительность,
отчужденность и агрессивность. Трудно в истории
цивилизованного человечества отыскать такой период, в
котором человек мог бы почувствовать себя настолько
одиноким и отчаявшимся, как в джунглях
капиталистических городов, где каждый предоставлен самому
себе или объединяется с другими лишь на условиях
совместной погони за прибылью.
Вместе с прогрессом капиталистической
«рационализации» жизни ухудшается психическое здоровье
населения развитых стран западного мира. Огромные
нервные перегрузки, которые испытывает работник в
условиях капиталистического производства,
оборачиваются растущим числом лиц, страдающих от
неврозов и психозов. Как показало масштабное
обследование, проводившееся в США Национальным
институтом психического здоровья, значительная часть
населения страны — 18,7 процента — нуждается в лечении
от какого-либо психического расстройства '. По
данным, приводимым журналом американских
коммунистов, каждый шестой американец пользуется
психогенными препаратами и транквилизаторами, а за один год
в среднем по стране совершается более 27 тысяч
самоубийств 2. Удручающая картина и в других странах.
В Японии ускоренное развитие капиталистической
экономики явилось одной из главных причин не менее
стремительного роста числа душевнобольных: за
87
период с 1955 по 1984 год количество пациентов в
психиатрических лечебницах возросло с 44 тысяч до
330 тысяч 3.
Невротические явления и симптомы, обнаруживая
себя в масштабах многочисленных групп и категорий
людей, приобретают значение, выходящее за рамки
психотерапевтической и клинической практики. Они
возбуждают живой интерес со стороны социальной
философии и комплекса социальных наук, так как в
теоретическом плане завязываются в один узел с
фундаментальными проблемами общественного развития.
Практика изучения человеческой психики, в том
числе и психики душевнобольных, особенно в период
больших социальных потрясений (войн, экономических
кризисов и т. п.), свидетельствовала о том, что корни
патологических отклонений в поведении людей
находятся в социальном окружении. Осознание этого
факта в рамках буржуазной философии оказалось на
руку «неомарксизму», поскольку помогало ему усилить
идеологическую критику «позднекапиталистического»
общества, квалифицируя последнее как «больное»,
«невротическое» и т. п. В поисках теоретического
базиса для подобной критики «неомарксизм» обратился
к психоанализу, видя в нем учение близкое, а в
некоторых отношениях даже родственное собственной
позиции.
В социальной философии «неомарксизма»,
отразившей мироощущение мелкобуржуазной личности в
условиях господства крупного капитала, одно из
центральных мест занимает тема одинокого человека,
который отчаянно, но тщетно пытается обрести себя в
толпе таких же раздавленных и никому не нужных
индивидов. Ситуацию одиночества и отчуждения между
людьми фиксируют социологические исследования,
проводившиеся в различных странах Запада. В
сегодняшней Великобритании никому нет дела до другого,
каждый заботится только о себе — так считают,
согласно одному из опросов, 89 процентов жителей
Британских островов 4.
«Неомарксистский» анализ концентрирует
внимание на этом явлении, обнаруживая тяжелое
расстройство и психологическую деформацию личности в
период «позднего» капитализма. Все, что делает
человек, его занятия и развлечения, он истолковывает ка>
бессознательное стремление заглушить в себе боль
88
которую причиняет ему «свертывание» личного Я,
сужение сферы личных интересов, утрата его
способности «сопротивляться другим», его хрупкое,
ускользающее тождество с самим собой, которое
поддерживается только навязанными извне лозунгами. «Антенна
на каждом доме,— описывает эту ситуацию Марку-
зе,— транзисторный приемник на каждом пляже,
музыкальный ящик в барах и ресторанах,— во всем этом
можно услышать крик отчаяния: не остаться бы
одному, не оторваться от большинства, не оказаться
приговоренным к пустоте или ненависти, к бесплодным
мечтаниям о собственном Я. Этот крик подхватывается
из толпы, и даже те, кто еще имеет или жаждет
собственного Я, приговорены — чудовищная аудитория
лопавших в западню, хотя большинство из них с
восторгом смотрит на крысолова» 5.
Каковы же причины столь бедственного положения
личности в условиях «позднекапиталистического»
общества? Каков механизм деформации и даже утраты
ее собственного Я? Пытаясь разобраться в этом,
«неомарксисты» ставят вопрос о природе человека, о тех
внутренних силах, которые детерминируют его
поведение и характер социальных взаимосвязей.
Экзистенциалистский взгляд на индивида оставлял в стороне
динамику внутренней жизни личности, а точнее,
гиперболизировал лишь одну из ее особенностей —
потребность в осознании смысла собственного бытия. Его
однобокость в этом плане очевидна. Испытывая нужду в
более конкретном и целостном образе личности,
«неомарксизм» обратил свои взоры к психоанализу.
Фрейдистский подход к вопросу о природе и
особенностях психической структуры личности служит для
них, с одной стороны, средством для уточнения и
развития собственной позиции, а с другой — орудием
критики Марксова учения, ибо, несмотря на свои
заверения в симпатиях к основоположнику научного
коммунизма, его буржуазные адепты, как правило,
стремятся отмежеваться от его взглядов в решающих
пунктах.
С самого начала своей философской деятельности,
еще в ранних трудах, К. Маркс подчеркнул
социальную природу личности. «...Сущность человека,— писал
он в 1845 году,— не есть абстракт, присущий
отдельному индивиду. В своей действительности она есть
совокупность всех общественных отношений»в. По
89
Марксу, таким образом, нельзя человека
рассматривать изолированно от общества, вне исторического
контекста практически-преобразующей деятельности
и соответствующих форм культуры. Человек —
продукт общественного развития, его образ и суть
претерпевают изменения всякий раз, когда общество
преобразуется на самом глубоком уровне — в сфере
материального производства. Определяя человека как
продукт общественной истории, Маркс превращает
этот подход в конструктивный элемент своей критики
капиталистической системы. Данная система, именно
она, а не что-то другое — бог, демографические
условия или дурные наклонности людей — ответственна, по
Марксу, за все изъяны и невротические отклонения в
процессе развития буржуазной личности.
«Неомарксисты» совершенно иначе трактуют
вопрос о природе личности. В отличие от Маркса, они
делают упор на ее биологических или психологических
аспектах, полагая, что именно в этой сфере таится
совокупность потребностей, которые, с одной стороны,
отличаются постоянством, т. е. всегда остаются вне
истории и над историей, а с другой стороны,
позволяют произвести оценку любой исторической эпохи —
в той мере, в какой она открывает простор для их
реализации или, напротив, блокирует и подавляет их.
ЭРОС И ТАНАТОС
Обратившись к психоанализу, «неомарксисты»
нашли благодатную почву, на которой уже получили
развитие и даже расцвели пышным цветом многие
предпосылки их собственной теории. Разрабатывая
вышеупомянутую проблему, Фрейд задолго до
появления Франкфуртской школы и других течений
«неомарксизма» сумел выразить — правда, на языке
психологической теории — сокровенную суть буржуазных
представлений о человеке и его благе.
Сформировавшись в условиях капиталистического производства с
его установкой на максимальное извлечение прибыли,
эти представления, естественно, вращаются вокруг
одного ядра — потребления.
Процесс потребления, как показал К. Маркс,
составляет одну из главных пружин в производстве
прибавочной стоимости — конечной и высшей цели капи-
90
тализма. Казалось бы, этот процесс совершенно
исключает другой важный момент капиталистического
производства — накопление, без которого капиталист,
по словам Маркса, перестает быть самим собой, т. е.
воплощением или персонификацией капитала. Ведь
постоянное возрастание вложенного в промышленное
предприятие капитала становится необходимостью,
которую конкуренция навязывает каждому
индивидуальному капиталисту как внешний принудительный
закон. «Она заставляет его,— пишет Маркс,— постоянно
расширять свой капитал для того, чтобы его
сохранить, а расширять свой капитал он может лишь
посредством прогрессирующего накопления» 7.
Накопление, подчеркивает Маркс, помогает
капиталисту завоевать «мир общественного богатства»,
расширяет сферу его прямого и косвенного господства.
Сознавая свое собственное личное потребление как
грабительское посягательство на накопление капитала,
его владелец становится рабом страсти к обогащению
и скупости. Так происходит при исторических зачатках
капиталистического способа производства, а также в
тех случаях, когда отдельный выскочка-капиталист
индивидуально повторяет этот исторический процесс.
Однако с течением времени положение дел меняется,
и крайности накопительства осознаются капиталистом
как пережиток. «С развитием капиталистического
способа производства, накопления и богатства,—
поясняет Маркс,— капиталист перестает быть простым
воплощением капитала. Он чувствует «человеческие
побуждения» своей собственной плоти, к тому же он
настолько образован, что готов осмеивать пристрастие
к аскетизму как предрассудок старомодного
собирателя сокровищ. В то время как классический капиталист
клеймит индивидуальное потребление как грех против
своей функции и как «воздержание» от накопления,
модернизированный капиталист уже в состоянии
рассматривать накопление как «отречение» от
потребления» 8.
На известной ступени развития капитализма
некоторый уровень расточительности становится даже
деловой необходимостью для капиталиста, ибо является
демонстрацией богатства, которое открывает доступ
к кредитам. Роскошь, остроумно замечает Маркс,
входит в представительские издержки капитала. Причем
капиталист без особого труда склоняется к расточи-
91
тельности, поскольку его обогащение происходит не
за счет упорного личного труда, а пропорционально
количеству чужой рабочей силы, которая безжалостно
эксплуатируется им. «Правда, расточительность
капиталиста,— замечает по этому поводу Маркс,— никогда
не приобретает такого bona fide (простодушного)
характера, как расточительность разгульного феодала,
наоборот, в основе ее всегда таится самое грязное
скряжничество и мелочная расчетливость; тем не
менее расточительность капиталиста возрастает с ростом
его накопления, отнюдь не мешая последнему. Вместе
с тем в благородной груди капиталиста
развертывается фаустовский конфликт между страстью к
накоплению и жаждой наслаждений» 9.
Марксов анализ проливает свет на экономические
и социальные предпосылки буржуазного типа
личности. Вместе с тем становится понятной историческая
ситуация, которая детерминировала социальный опыт
самого Фрейда: будучи психологом и психопатологом,
имеющим многочисленную клиентуру из
обеспеченных кругов буржуазного общества, он сумел
почувствовать и оценить ту огромную роль, которую играла
в жизни его пациентов болезненная жажда богатства
и наслаждений. Правда, в силу классового
происхождения его мировоззренческих принципов, он далек
от того, чтобы осознать исторические и социальные
границы психологии буржуа. Разделяя со своими
состоятельными пациентами предрассудки буржуазного
сознания, он интерпретирует жажду наслаждений как
наиболее фундаментальное свойство, изначально
коренящееся в человеческой природе.
Конкретизируя свое понимание личности, Фрейд
разрабатывает ее теоретическую модель,
включающую три взаимосвязанных уровня: Оно (ид), Я (эго) и
Сверх-Я (супер-эго). В качестве основного компонента
рассматривается Оно — сфера бессознательных
влечений и импульсов, которые подчиняются «принципу
удовольствия». Эта сфера является абсолютно
замкнутой, и ее функционирование не сообразуется ни с
какими внешними факторами и условиями.
Естественно, что слепое, безотчетное стремление личности к
получению максимального удовольствия неизбежно
вступает в конфликт с природной и культурной
реальностью. Этот конфликт, по Фрейду, составляет основ-
92
ное содержание всей жизни личности, а в конечном
счете и человеческой истории.
Наряду с иррациональной сферой Оно, в
человеческой психике формируется сознательное,
самоорганизующее начало — эго, или Я, которое стремится
согласовать «принцип удовольствия» с «принципом
реальности», выражающим условия окружающей
природной среды. В то же время Я должно считаться с
давлением третьей инстанции в структуре личности —
со сферой Сверх-Я. Эта сфера является носителем
социальных стандартов и выполняет по отношению к
Я роль морального критика и цензора.
В результате Я, представляющее сознательное,
рассудочное начало, оказывается в необычайно
сложном положении. Сравнивая взаимоотношения Я и Оно,
Фрейд использует образ всадника и лошади: всадник
должен проявить искусство в верховой езде, чтобы
сдержать и направить по нужному пути лошадь, но в
то же время само его движение возможно только
благодаря энергии и силе лошади. Ситуация, в которой
находится сознательное Я, еще сложнее. Неразумные
притязания личности, черпая свою энергию из
резервуаров Оно, властно заявляют о себе, и если Я
уступает им в ущерб «принципу реальности», то это может
привести к самым нежелательным последствиям для
организма человека; если же Я в угоду
бессознательным импульсам и влечениям принесет в жертву
моральные запреты супер-эго, то испытает чувство вины
или укоры совести. «Бедное эго», по Фрейду, пытаясь
согласовать взаимоисключающие требования
бессознательной сферы, внешней реальности и
нравственных норм, испытывает невыносимое напряжение,
которое нередко становится причиной патологических
изменений в человеческой психике.
Центральный вопрос всей психоаналитической
концепции — это характеристика бессознательной сферы,
ибо здесь, в ее темных глубинах, концентрируются,
по Фрейду, основные побудительные силы
человеческого поведения. Сначала Фрейд предположил, что эта
сфера является вместилищем «либидо», или
сексуальной энергии. Позже он дополнил это представление.
Первая мировая война, которая привела к
бессмысленным жертвам, а главное, склонила многих людей к
проявлению жестокости и насилия, не свойственных им
в обычное, мирное время, подсказала Фрейду идею
93
об изначальной склонности человека к деструкции или
разрушению. Отныне он различает в бессознательной
сфере энергию двух сил — полового влечения
(инстинкта жизни, Эроса) и стремления к разрушению
(инстинкта смерти, Танатоса). «В сфере Оно,—
говорит Фрейд,— действуют органические инстинкты,
которые образуются взаимопереплетением в
меняющихся пропорциях двух первобытных сил — Эроса и
Танатоса и которые отличаются друг от друга своим
отношением к телесным органам и их системам. Данные
инстинкты ищут лишь одного — своего
удовлетворения, которое заключается в определенных
изменениях в органах тела благодаря воздействию внешних
объектов» 10.
Фрейд не ограничивается задачами, стоящими
перед психологией и психопатологией, его притязания
простираются значительно дальше, достигая области
философско-исторического исследования.
Соответственно он расширяет границы действия инстинктов
жизни и смерти: их противоборство, по его мнению,
детерминирует не только отдельную личность, но и
всю человеческую цивилизацию. Данная часть учения
Фрейда — одна из наиболее фантастических во всей
его системе. В методологическом плане она восходит
к стандартам и представлениям прошлых веков, когда
единственным принципом объяснения служила модель
механического взаимодействия различных сил.
Причем фрейдовские построения удивительно
напоминают некоторые схемы донаучного мышления,
обремененного религиозно-мифологическими
предрассудками. Так, историческим прообразом его концепции
можно считать картину мира, предложенную еще
древнегреческим философом Эмпедоклом: в этой
картине все живое приводилось в движение
благодаря борьбе двух враждующих начал, попеременно
одерживающих победу,— Филии (Любви) и Нейкоса
(Ненависти).
Главные действующие лица мировой драмы, о
которой повествует психоанализ,— Эрос и Танатос,
конструируются чисто умозрительным путем,
исключающим существование реальных эквивалентов в сфере
психологического наблюдения или исторического
опыта. Внеэмпирический источник возникновения
основных понятий своей концепции отчасти признает и
сам Фрейд. «Исходя из некоторых спекулятивных раз-
94
мышлений о возникновении жизни, а также
параллелей из области биологии,— говорит он,— я пришел к
выводу, что кроме инстинкта, стремящегося сохранить
живую субстанцию и синтезировать ее в более
крупные органические единства, должен существовать и
другой, противоположный первому, инстинкт,
стремящийся разрушить эти единства и возвратить их в
первобытное, неорганическое состояние. Следовательно,
наряду с Эросом существует инстинкт смерти: из
взаимодействия и взаимного столкновения обеих сил
можно объяснить феномен жизни» ".
Непредубежденному человеку, далекому от
эзотерической мотивации психоанализа, очень трудно
принять данную схему. «Инстинкт жизни» еще можно
квалифицировать как поэтическое или
метафорическое (но отнюдь не научное!) выражение естественного
стремления всякого живого существа к
самосохранению и продолжению рода. А вот «инстинкт смерти»
не согласуется ни с какими фактами, исключая
патологию, и подразумевает очевидную нелепость: всякий
организм, в том числе и человеческий, с вожделением
стремится к собственной смерти, причем это не
извращение, а нормальное состояние, находящее
противодействие только со стороны другого инстинкта —
Эроса. Бессознательное влечение «органических
единств» к самоуничтожению вызывает недоумение
еще и потому, что в окружающем мире, как правило,
более чем достаточно враждебных сил, готовых
избавить эти «единства» от всяких забот, связанных с их
превращением в «первобытное состояние».
Принятая Фрейдом схема определяет все
дальнейшее движение его мысли. Пытаясь объяснить
динамику психической и социокультурной жизни человека, он
просто механически сочетает действия первичных
инстинктов. Один из них, по его мнению, может вдруг
оказаться в подчинении у другого или насытить его
своей энергией (причем Фрейд умалчивает о
причинах подобных превращений). Например, садизм или
болезненную страсть к жестокостям он объясняет тем^
что стремление к любви (Эрос) дополняется
стремлением к внешнему разрушению (Танатос), а
противоположное извращение — мазохизм, состоящий в
противоестественном наслаждении собственными
страданиями, оказывается, по его мнению, комбинацией
95
сексуального влечения и направленного вовнутрь
деструктивного инстинкта.
Энергия Танатоса, направленная вовне и
выступающая как агрессивность, может послужить Эросу, в
частности, подчиняя и преобразуя окружающую
природу с целью обеспечить выживание человеческого
рода. Так возникает в психоанализе тема
производительной деятельности, причем эта деятельность, по
Фрейду, не может совпасть с «принципом
удовольствия», доставляя человеку положительные эмоции.
Напротив, она характеризуется как результат
внешнего принуждения, ибо люди, утверждает основатель
теории психоанализа, испытывают врожденную
неприязнь к труду. Не только праздность и лень, но и
все другие бессознательные влечения индивида
должны быть подавлены — иначе, как полагал Фрейд,
нельзя урегулировать отношения людей к природе и друг
к другу. Отсюда следует важнейший для всей
концепции психоанализа вывод: культура и цивилизация как
нынче, так и в прошлом имеют репрессивный
характер, ибо построены на подавлении инстинктов. Само
общество, включая все его подразделения и уровни —
социальные институты и органы власти, моральные
кодексы и различные теории,— это только огромный
аппарат принуждения, посредством которого
антисоциальная энергия отдельных людей направляется в
общественно полезное русло.
Главное назначение культуры, по Фрейду,
заключается в том, чтобы обуздать агрессивность человека
и его страсть к самоистязанию и жестокости по
отношению к другим. Если это удается, то агрессивные
инстинкты меняют свою направленность: они
загоняются вовнутрь, насыщая энергией моральную
инстанцию в структуре личности — Сверх-Я. Однако это
вызывает большие осложнения. Преобразование
агрессивности во внутреннее устремление, имеющее
характер нравственных требований, т. е. в чувство
вины, в угрызения совести и т. п., вступает в конфликт
со сферой бессознательных влечений и создает
психическое напряжение, которое вызывает в ряде
случаев различные неврозы и психозы.
Возникает парадоксальная ситуация: чем большее
развитие получает культура, чем мощнее и
разнообразнее становится совокупность ее предписаний и норм,
тем чаще она провоцирует психические расстрой-
96
ства у отдельных индивидов. По Фрейду, люди платят
самой дорогой ценой за социальный и культурный
прогресс: их бессознательные влечения ущемляются в
угоду моральным требованиям господствующей
культуры, а в результате человек теряет свое психическое
здоровье заодно с надеждами на личное счастье.
Однако, предупреждает Фрейд, это не означает, что
культура как совокупность моральных табу и
запретов — абсолютное зло. Ее ослабление, ее кризис и
обесценение, в свою очередь, чреваты самыми
трагическими последствиями — ведь в подобном случае
вырываются на свободу, сея ужас, несчастья и смерть,
врожденные склонности человека к агрессии и
жестокости.
Данный парадокс, с точки зрения Фрейда,
неустраним, поскольку он является отражением борьбы двух
вечных и неуничтожимых сил — Эроса и Танатоса.
История, раскачиваясь как маятник, порождает эпохи,
отмеченные расцветом культуры, но деструктивная
энергия «коллективных неврозов», накапливаясь и
взрывая их изнутри, кладет начало периодам войн и
социальных раздоров. С этой же точки зрения Фрейд
подходит к анализу современной эпохи, причем
убеждение в том, что склонность к агрессии заложена в
природе человека и полностью изжить ее нельзя,
определяет его скептицизм и пессимизм в оценке
будущего развития исторических событий. Размышляя о
судьбах человеческого рода, он пишет: «Удастся ли
и в какой степени благодаря культурному развитию
справиться с препятствиями на пути совместного
бытия людей, причины которых лежат в стремлении
человека к агрессии и самоуничтожению. В этой связи
именно нынешнее время, вероятно, представляет
особый интерес. Люди в своем господстве над силами
природы продвинулись теперь так далеко, что,
используя их, они легко могут уничтожить друг друга вплоть
до последнего человека. Они это знают — отсюда
значительная доля их нынешнего беспокойства, уныния и
мрачного предчувствия. И теперь нужно надеяться,
что вторая из двух «небесных сил» — вечный Эрос,
предпримет необходимые усилия, чтобы утвердить
себя в борьбе с таким же бессмертным противником.
Но кто может предвидеть, на чьей стороне окажется
победа и каков будет исход?» 12.
4 8-187
97
По своим политическим взглядам и симпатиям
Фрейд являлся сторонником умеренных буржуазно-
либеральных реформ. В своей концепции социально-
исторического процесса он, безусловно, против «сил
зла», хотя и не верит в возможность их полного
искоренения. Как типичный представитель буржуазной
интеллигенции, он уповает на культуру, которая, по его
мнению, представляет единственное средство, чтобы
частично погасить агрессивные наклонности человека.
Однако, вопреки либеральным убеждениям
основоположника психоанализа, его теоретическая позиция
таит в себе опасные заблуждения. Утверждая фатальную
зависимость человеческого поведения от
бессознательных, иррациональных влечений и сил, Фрейд,
пусть даже сам того не желая, подрывает веру в
социальный и культурный прогресс. Дезориентирующее
влияние его идей становится особенно опасным в
обстановке повышенного интереса читающей публики к
литературе, посвященной проблемам человеческой
психики и психопатологии. Интерес этот легко
объяснить, поскольку он стимулирован самой жизнью:
напряженностью психологического бытия личности, с
одной стороны, а с другой — ростом насилия,
принимающего самые разнообразные формы: от примитивного
ограбления до утонченных приемов экономического
диктата. Психоаналитический инструментарий
оказался также весьма полезным в плане идеологической
реабилитации теневых сторон в жизни Запада, что
явилось одной из главных причин растущего воздействия
фрейдовских идей на современную буржуазную
философию и обществоведение.
«СТРУКТУРА ИНСТИНКТОВ» И ОБЩЕСТВО
В XX веке империализм развязал две мировые
войны, спровоцировал множество больших и малых
военных конфликтов в различных регионах мира.
Однако он продолжает наращивать гонку вооружений и
своей агрессивной политикой дестабилизирует
обстановку в мире. Реакционные круги стран Запада
поставили на службу милитаризму научно-технический
прогресс, что качественно изменило военно-технический
характер войн и усугубило их разрушительные
последствия. Война превратилась в острейшую пробле-
98
му, стоящую перед человечеством. Достаточно
сказать, что техническое усовершенствование средств
ведения войны, поставленное на службу милитаризму
империалистических держав, привело к тому, что в
XX веке по сравнению с предшествующим столетием
число жертв за один год войны в среднем выросло
на 1070 %.
Общественное мнение во всем мире необычайно
живо реагирует не только на практические, но и на
теоретические проблемы войны и мира. Вокруг этих
проблем разгорелась острая идеологическая борьба.
Буржуазные теоретики стремятся извратить или
обойти молчанием марксистско-ленинское учение о
социально-классовой природе политического и военного
насилия, пытаются противопоставить ему
псевдонаучные концепции, оправдывающие империалистическую
политику, которая выражается в милитаризме и
государственном терроризме, в расизме и
неоколониализме, в репрессиях против демократических сил и в
бесчисленных военных авантюрах.
В настоящее время во многих странах Запада
созданы многочисленные научные институты и центры,
общественные и международные организации, в
которых интенсивно разрабатываются проблемы
социального насилия, включая вопросы войны и мира.
Едва ли не все ведущие буржуазные философские
школы пытаются выразить свою позицию по данным
вопросам. В результате возникла весьма пестрая и
разнообразная по своим предпосылкам буржуазная
«философия насилия», в которой фрейдистские идеи
о врожденной агрессивности человека играют
заметную роль. Для обеспечения идеологических и
пропагандистских задач, стоящих перед «философией
насилия», эти идеи привлекательны и удобны по крайней
мере в двух отношениях: во-первых, подчеркивая
неизменность человеческой природы, они внушают
мысль о непреходящем характере общественного
статус-кво, предостерегают против попыток путем
глобальных социальных перемен уничтожить войны,
эксплуатацию, преступность, бедность и проч., а
во-вторых, утверждая агрессивность человека, подчеркивая
в нем наличие животного начала, они позволяют
произвести известный теоретический подлог, переключая
внимание с пороков общественной системы на
порочность человеческой природы.
4*
99
Формируя общественное мнением обрабатывая
сознание масс, буржуазный
информационно-пропагандистский аппарат широко использует теории,
подобные фрейдистской, в качестве основы для своей
деятельности. Раскрывая механизм функционирования
средств массовой информации на Западе, известный
американский ученый Г. Шиллер отмечает, что
заправилы в этой области, оправдывая ежедневные
телевизионные программы, в которых на каждый час
приходится с полдюжины убийств, обычно ссылаются на
человеческую природу, которая якобы постоянно
испытывает потребность в сценах насилия и бойни. «Легко
предположить,— пишет он,— что в Соединенных
Штатах теория, подчеркивающая агрессивную сторону
поведения человека, неизменность человеческой
природы, найдет полное одобрение, завладеет многими
умами, ляжет в основу большинства работ и будет широко
пропагандироваться средствами массовой
информации. Несомненно, экономика, основывающаяся на
частной собственности и индивидуальном накопительстве,
поощряющая их и в силу этого подверженная личным
и социальным конфликтам, должна иметь на
вооружении теорию, объясняющую и узаконивающую свои
практические принципы. Насколько спокойнее считать,
что эти конфликтные отношения заложены в самой
человеческой природе, а не навязаны социальными
условиями!» 13.
Следовало бы ожидать, что «неомарксисты», беря
на себя функцию непримиримых судей в отношении
капиталистической системы, немедленно приступят к
обличению буржуазной «философии насилия», и
прежде всего ее ядра — фрейдизма, за участие в
империалистической пропаганде. Однако этого не
происходит. Вопреки своей склонности повсюду видеть
идеологические каверзы и подвохи, «неомарксисты» не
только не обличают фрейдизм, но охотно идут с ним
на сближение, не вдаваясь в детали и тонкости его
идеологических контактов. Более того, в свою
социальную философию они нередко включают как раз
те постулаты психоаналитической теории, которые в
наибольшей мере устраивают империалистическую
пропаганду.
Пытаясь «развить» марксистскую теорию на
фрейдистском фундаменте, «неомарксисты» ставят перед
собой неразрешимую задачу. Уж слишком далеки, а
100
в существенных пунктах диаметрально
противоположны, исходные принципы обоих учений. Строя свои
рассуждения на предпосылках психоанализа,
«неомарксисты» вынуждены вращаться в кругу решений и
выводов, которые определились в трудах самого
Фрейда. В самом деле, можно ли на основе фрейдистских
представлений о человеческой природе произвести
оценку всемирно-исторического процесса,
аналогичную марксистской? Очевидно, что нет, ибо
марксистский анализ — ив этом заключается его радикальное
отличие от психоанализа — не признаёт наличия у
человека бессознательных влечений или инстинктов,
которые, с одной стороны, детерминировали бы
основные формы жизнедеятельности людей, а с другой —
лежали бы за порогом исторической изменчивости.
Например, такое явление, как война, марксизм
объясняет классовыми антагонизмами и отношениями
эксплуатации, а не врожденными инстинктами,
предопределяющими социальную агрессивность. Следуя в
подобных вопросах за Фрейдом, «неомарксисты» либо
вообще отказываются от социально-классового
анализа, либо низводят его до уровня голой фразы.
Так, А. Мичерлих, представитель среднего
поколения франкфуртских «неомарксистов», выделяет два
ряда факторов, которые, по его мнению, наиболее
существенны для изучения проблем войны и мира. Он
полагает, что существуют как
социально-психологические предпосылки возникновения войн,
формирующиеся в общественной истории, так и психологические,
которые свойственны человеку как представителю
определенного биологического вида. Согласно его
замыслу, при анализе первого ряда факторов
необходимо учитывать позицию марксизма, а второго —
психоанализа. Поэтому Мичерлих нередко использует
марксистскую терминологию и даже готов признать, что
агрессивность некоторым образом связана с
экономическими условиями. Однако ориентируясь на
фрейдовскую схему, он признает в человеке два
бессознательных влечения — либидо и агрессивность, которые
истолковываются им сообразно учению об Эросе и
Танатосе как первичные силы, определяющие не
только мотивационную структуру отдельной личности,
но и характер социально-исторических событий.
Как бы ни менялись производительные силы и
производственные отношения людей, считает франкфурт-
101
ский «неомарксист», первичные влечения сохраняют
свою природу. В нормальных условиях их энергия
смешивается в равных пропорциях, но в экстремальных
одно из них приобретает доминирующее значение.
Экономический фактор, по Мичерлиху, имеет
вторичный характер, ибо выполняет роль своеобразного
пускового механизма, посредством которого
освобождается энергия человеческой агрессивности.
Многочисленные войны и напряженные ситуации, в какую бы
эпоху они ни возникали, демонстрируют, по его
мнению, в сущности, одно: силу давления коллективно
неудовлетворенных инстинктов. Что касается такой
формы социального насилия, как эксплуатация, то и она
объясняется, полагает «фрейдо-марксист», не жаждой
прибыли у капиталиста, а психической конституцией
человека. Он подчеркивает, что понятия «капиталист»
или «коммунист» вообще представляют собой
упрощения и самообман, ибо не учитывают родовых
признаков человека, т. е. неизменной «структуры
инстинктов». «Мы склоняемся к точке зрения,— заявляет Ми-
черлих,— что агрессивность относится к сущности
человека как орган, который его обслуживает,— поэтому
ее разнообразные проявления можно только
смягчить» 14. Он утверждает, что, не изменив психическую
структуру человека, едва ли можно рассчитывать на
уменьшение опасности возникновения новой войны.
«Но как изменить эту чреватую неприятностями
структуру в нужном направлении? Здесь изучение проблем
войны и мира становится непосредственно
антропологическим исследованием» 15.
Слова Мичерлиха проливают свет на существо
«фрейдо-марксистской» программы. Утверждая
антропологический подход, она вместе с тем нацелена на
пересмотр марксистской концепции, ставящей во главу
угла социальные свойства личности. Более того, эта
концепция квалифицируется как образец
«социологического релятивизма», изображающего человека в
качестве простой проекции социальной среды. По
словам Э. Фромма, подобный релятивизм основывается
на предположении, что «человеческая душа не
содержит никаких собственных внутренних качеств, но это
только чистый лист бумаги, на котором общество и
культура оставляют свои письмена» 16.
В действительности позиция К. Маркса далека от
«социологического релятивизма», в котором его обви-
102
няют «фрейдо-марксисты». Будучи материалистом, он
подчеркивал природные, биологические основы
человеческого существования, врожденный характер
потребностей и способностей, необходимых для
эффективной адаптации человеческого организма к
окружающей среде. «Ч е л о в е к,— отмечал Маркс,—
является непосредственно природным существом.
В качестве природного существа, притом живого
природного существа, он ...наделен природными
силами, жизненными силами, являясь
деятельным природным существом; эти силы
существуют в нем в виде задатков и способностей, в виде
в л е ч е н и й...» 17 Однако такие задатки и влечения, с
точки зрения марксизма, не имеют ничего общего с
инстинктами жизни и смерти, которые рисует фантазия
Фрейда. Человеческие влечения и способности,
включая высшие, например мышление, не существуют в
отрыве от реального жизненного процесса, который
связывает человека с миром природы и с социальным
окружением, но также ставит его в определенное
отношение к себе, к своим способностям, навыкам и
возможностям. В процессе жизнедеятельности людей
получают развитие их разнообразные задатки,
актуализируются такие качества, которые пребывали ранее
в латентном, скрытом состоянии, наконец, у них
формируются новые потребности и способности,
позволяющие обеспечить высокую степень приспособления
к окружающей природной и культурной среде. В этом
смысле человек, чувственно-предметно, практически
воздействуя на мир и преобразуя его, активно создает
и преобразует самого себя.
«Фрейдо-марксисты» полагают, что страсти и
влечения находятся в недрах бессознательной сферы,
предшествуя всякой деятельности и мотивируя ее
подлинные, хотя и скрытые от сознания цели. Однако
такой подход лишает возможности понять реальный
смысл и назначение разнообразных психических
функций, включая бессознательные процессы. Будучи
относительно самостоятельной, автономной сферой,
человеческая психика самой эволюцией предназначена
для практических целей: она опосредствует
жизнедеятельность субъекта, выполняя функции ориентации и
управления. Разумеется, влечения и страсти имеют
некоторый органический субстрат, определенным
образом связаны с физиологическими процессами, одна*
103
ко порождаются и трансформируются они в актах
деятельности. Они всегда имеют объективное, предметное
содержание, ибо ориентированы на нечто внешнее —
мы говорим об объекте страсти, о влечении к
чему-либо — ив этом смысле они выступают как
характеристики разнообразных форм человеческой
деятельности. Мы вообще не сможем сказать нечто
вразумительное о человеке, если полностью исключим его
отношение к делам и поступкам, к образу жизни и
способам деятельности. Даже его мысли или возвышенные
идеалы можно истолковать лишь в контексте
жизненной практики. «Какова жизнедеятельность
индивидов,— читаем в «Немецкой идеологии» К. Маркса и
Ф. Энгельса,— таковы и они сами. То, что они собой
представляют, совпадает, следовательно, с их
производством— совпадает как с тем, что они
производят, так и с тем, как они производят. Что
представляют собой индивиды,— это зависит, следовательно, от
материальных условий их производства» 18.
Если мы поставим вопрос о наследственных
предпосылках агрессивности, то окажемся в жаркой
области дискуссий и споров, которые ведутся в наше время
не только в философии и обществоведении, но и в
ряде биологических дисциплин. Настаивая на
врожденном характере агрессивного поведения, «фрейдо-
марксисты» находят опору во взглядах некоторых
буржуазных ученых, таких как, например, австрийский
биолог К. Лоренц, которого на Западе называют отцом
«социальной этологии». Занимаясь этологией, т. е.
изучая поведение животных, он пришел к выводу, что у
животных в некоторых ситуациях автоматически
срабатывает врожденный механизм агрессии, который так
же неодолим, как органические потребности — голод,
жажда и проч. Этот вывод был экстраполирован на
социальную сферу. Лоренц и некоторые его сторонники
предположили, что в основе человеческой агрессии,
как и у животных, лежат генетически обусловленные,
наследственные факторы.
Однако взгляды «социальных этологов» находят
возражения не только со стороны
философов-марксистов, но и в среде специалистов-биологов,
занимающихся поведением животных. Например, английский
ученый О. Меннинг, специалист в области эволюции и
генетики поведения животных, отмечает, что
концепция Лоренца недооценивает влияние факторов разви-
104
тия на агрессивную мотивацию. Ссылаясь на
эксперименты, проводимые различными исследователями, он
утверждает, что, воздействуя на животных в раннем
возрасте, можно сильно изменить уровень их
агрессивности. Например, как показали лабораторные
опыты, сравнительно легко научить обычную мышь
всегда нападать на чужака, а другую особь этой же линии
оставаться в подобной ситуации совершенно
спокойной. Переводя обсуждение этой проблемы в другую
плоскость — на человека, английский биолог
заключает: «Поскольку условия выращивания животных столь
четко влияют на уровень агрессии и поскольку данные,
полученные на животных, неоднозначны во многих
отношениях, у нас, по-видимому, нет оснований
соглашаться с тем, что агрессивность человека
неизбежна» 19.
«Фрейдо-марксисты» обвиняют Маркса в том, что
он будто бы недооценивал действие на человека
внутренних иррациональных сил. Однако для Маркса
проблема заключается не в том, чтобы признать или
отвергнуть сам факт существования иррациональных
форм поведения, а в необходимости преобразовать
общественные условия, провоцирующие негативное
воздействие подобных сил на человека. С позиций
марксистского учения, иррациональные побуждения и
силы, включая агрессивность, формируются в
условиях отчужденного существования людей, они
получают импульс к развитию в процессе
жизнедеятельности, протекающей на фоне эксплуатации, насилия и
жестокости.
Подчеркивая роль социальной среды в становлении
и развитии личности, марксизм отнюдь не
переоценивает ее. В отличие от «социологического
релятивизма», он выявляет активность и творческую
самодеятельность человека, который в течение своей истории
созидает социальную и культурную среду,
необходимую для его жизненного процесса. Однако эта среда
не является внешней силой, с фатальной
неизбежностью формирующей внутренний мир человека.
Развивая в себе разумное начало, он оказывается
способным выбирать формы собственной
жизнедеятельности, содействуя появлению и совершенствованию в
структуре своей личности положительных качеств, а
также подавляя и блокируя нежелательные реакции.
105
«Фрейдо-марксисты» уповают на
психоаналитическую технику, которая должна смягчить воздействие
иррациональных компонентов психики на поведение
человека. Понятно, что вмешательство психиатрии в
некоторых случаях и в самом деле необходимо.
Однако любые методы психиатрического воздействия на
личность окажутся бессильными, если социальное
окружение с методическим постоянством будет калечить
исцеленных пациентов.
Тесная связь между капитализмом и возрастающей
агрессивностью буржуазной личности настолько
очевидна, что эту ситуацию в некотором смысле можно
квалифицировать как психиатрический эксперимент,
поставленный самой историей. Например, в США
постоянно возрастает число преступлений, совершенных
с применением насилия. Согласно данным
Федерального бюро расследований, в 1986 г. было
зарегистрировано 35 миллионов различных преступлений,
включая 19 тысяч убийств. Удручающий факт: из них 1311
убийств было совершено подростками. Однако было
бы ошибкой юный возраст преступников связать с
врожденным характером агрессивности, ибо социальные
корни в данном случае очевидны: как показали
социологические опросы, более половины юных убийц из
бедных семей воспитывались без родителей.
Можно ли посчитать ответственным Танатоса
(мифического героя фрейдовских спекуляций) за так
называемый черный феномен — волну самоубийств,
захлестнувшую школы США? Как сообщает
американская печать, за последние тридцать лет число
самоубийств среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет
возросло в три раза и составляет теперь свыше 5
тысяч ежегодно. Причем во много раз больше
названной цифры количество неудавшихся покушений
молодых американцев на собственную жизнь. Чем же
объяснить «черный феномен»? Во всяком случае, не
психоаналитической схемой, сконструированной на базе
«инстинкта смерти». Обратимся к более реальному
источнику. Согласно статистическим данным, в
настоящее время около 13 миллионов юных американцев
живут в условиях нищеты. Их психология и отношение к
жизни формируются под влиянием раннего осознания
бесперспективности собственной судьбы. Социологи
установили, что рост безработицы на один процент
приводит к повышению числа самоубийств на 4,1 про-
106
цента. Очевидно, что для подрастающего поколения
из бедных семей эти проценты — не статистическая
абстракция, а реальность, осязаемая на уровне их
взрослого окружения. Не нужно обладать специальной
подготовкой в области психиатрии или социальной
психологии, чтобы оценить трудности формирования
подростковой психики в условиях разнузданной пропаганды
насилия по американскому телевидению, нередких
случаев жестокого избиения родителями своих детей,
роста алкоголизма и наркомании в молодежной среде,
семейных неурядиц и т. п. В течение года более
миллиона мальчиков и девочек уходят из дома и
скитаются по стране, пополняя «дно» пресловутого
«общества изобилия», причем 50 тысяч из них исчезают потом
бесследно.
Наконец, следует подчеркнуть, что «фрейдо-мар-
ксистская» терапия, связанная со смягчением
воздействия сферы инстинктов, не пригодна потому, что
даже триумфальный успех психиатров не избавит
капиталистическое общество от социальных форм
агрессии— войн, эксплуатации и т. п. Марксов анализ
буржуазного общества проливает свет на данное
обстоятельство. Вскрывая язвы и пороки капиталистической
эксплуатации, Маркс далек от того, чтобы взвалить
всю вину на «природу капиталиста», на его
бессознательные влечения, агрессивность, злую волю и проч.
«...Капитал беспощаден,— писал он,— по отношению к
здоровью и жизни рабочего всюду, где общество не
принуждает его к другому отношению. На жалобы
относительно физического и духовного калечения,
преждевременной смерти, истязаний чрезмерным трудом
он отвечает: как могут терзать нас эти муки, если они
увеличивают наше наслаждение (прибыль)? Но в
общем и целом это и не зависит от доброй или злой воли
отдельного капиталиста. При свободной конкуренции
имманентные законы капиталистического производства
действуют в отношении отдельного капиталиста как
внешний принудительный закон» 20.
Таким образом, процесс капиталистической
эксплуатации осуществляется помимо «злой» или «доброй»
воли предпринимателей. То же самое можно сказать
и по отношению к военным конфликтам, которые
развязывают империалистические круги. Можно
предположить, что президент США Г. Трумэн, утвердивший
приказ об атомной бомбардировке Японии в августе
107
1945 года, не был кровожадным и жестоким в той
степени, которая была бы соизмерима с чудовищной
акцией американской военщины. Очевидно, что
источник моральной деградации лежит не в «структуре
инстинктов», а в характере общественных отношений,
порождающих насилие и возводящих его в ранг
государственной политики.
«ВИТАЛЬНЫЕ» РЫЧАГИ РЕВОЛЮЦИИ
Производя биологизацию и психологизацию
общественной жизни, «фрейдо-марксизм» представляет
этот подход как средство «обновления» исторического
материализма. Идеологическая мотивировка остается
прежней — поиски «третьего пути» в социальном
развитии, причем движение в этом направлении с
фатальной неизбежностью оканчивается тупиками
антисоветизма. В частности, «фрейдо-марксисты» стремятся
доказать, что Октябрьская революция в нашей стране
не уничтожила эксплуатацию, а только преобразовала
ее форму, ибо оставила в неприкосновенности
главное — дегуманизированного человека, психология
которого, как и в прежних общественных системах,
определяется структурой подавленных и угнетенных
инстинктов.
Обосновывая эту точку зрения, Маркузе
утверждает, что во всех революциях прошлого, включая
Октябрьскую, в конечном счете торжествовал принцип
«психологического термидора». Говоря так, он
подразумевает конкретное историческое событие. Как
известно, 27 июля 1794 г.— по республиканскому
календарю 9 термидора — в результате контрреволюционного
переворота была ликвидирована якобинская
диктатура. Тем самым был положен конец Великой
французской революции, которая сыграла выдающуюся роль
в исторических судьбах Европы и мира.
Своеобразным «термидором», или контрреволюционным
мятежом, по Маркузе, неизбежно оканчивается
столкновение традиционной, веками формирующейся
психологии и революционных преобразований,
предполагающих решительный отказ от всяких форм угнетения.
Революционеры не в состоянии сделать последний шаг
на пути освобождения, поскольку находятся в плену
отжившей психологии. Точнее, на уровне бессознатель-
108
но сложившихся стереотипов поведения они
разделяют с прежними угнетателями стремление подавить в
человеке его «витальные», или
инстинктивно-природные начала. Революционная энергия, устремляясь по
старому руслу — против естественных влечений
человека,— обращается тем самым против самого
освободительного процесса: революция перерождается в
свою противоположность — в контрреволюционный
мятеж.
Проблемы классовой борьбы и освобождения
трудящихся от ига капитала Маркузе подменяет
мифологической схемой, в центре которой два основных
инстинкта — Эрос и Танатос, взывающих к сочувствию и
требующих эмансипации. Поворот «фрейдо-марксист-
ской» мысли объясняется особенностями новой
исторической ситуации. Положение и роль пролетариата,
по мнению Маркузе, существенно изменились со
времен Маркса. В XIX веке рабочий класс был
революционной силой, однако в условиях «позднего», или
«развитого», капитализма нынешнего столетия он утратил
эти качества, приспособившись к существующей
системе и пойдя на социальный компромисс с буржуазией.
В современном капиталистическом обществе
буржуазия и пролетариат все еще выступают как основные
классы. «Однако капиталистическое развитие,—
заявляет Маркузе,— изменило структуру и функции этих
двух классов таким образом, что они, по-видимому,
больше не являются агентами исторической
трансформации. Преимущественный интерес в сохранении и
совершенствовании общественного статус-кво
объединяет прежних антагонистов в наиболее
прогрессирующих областях жизни современного общества» 21.
Маркузе утверждает, что традиционная
марксистская теория не в состоянии объяснить метаморфозу,
происшедшую с пролетариатом, в частности его отказ
от своей революционной миссии. А происходит это
потому, что структура инстинктов, мотивирующих
поведение человека, оказалась вне поля зрения Маркса.
Свой вывод Маркузе пытается подкрепить с помощью
фрейдистского анализа труда, причем его новая
концепция не только не противоречит «хайдеггер-маркси-
зму», но, напротив, оказывается его своеобразным
дополнением и уточнением: разница, пожалуй, лишь в
аспектах, поскольку «экзистенциальный» подход
акцентирует внимание на овеществлении и отчуждении, а
109
его фрейдистская параллель стремится проникнуть в
механизм господства и угнетения.
Маркуэе заимствует у Фрейда весь
«джентльменский набор» психоаналитика: Я, Сверх-Я и Оно
образуют структуру личности, а инстинкты жизни и смерти
определяют динамику психической жизни. Подобно
первооткрывателю темных глубин либидо, Маркузе
всемерно расширяет радиус действия сексуального
фактора. Особенный интерес вызывает у него
фрейдовская идея, согласно которой сексуальность не
ограничивается гениталиями, т. е. не связана
исключительно с функцией деторождения. «Необходимо
четко различать,— писал классик психоанализа,— понятия
сексуального и генитального: первое по своему объему
является более широким, ибо охватывает
разнообразные виды деятельности, не имеющие ничего общего
с гениталиями... Сексуальная жизнь включает в себя
функцию получения удовольствия из различных зон
тела, но эта функция с течением времени была
поставлена на службу размножения. Обе функции далеко не
всегда совпадают друг с другом» 22. Отсюда следует,
что все человеческое тело, или сома, является
вместилищем сексуальной энергии. «Не вызывает сомнения,—
разъяснял Фрейд,— что либидо имеет соматический
источник, что оно стекается из различных органов и
участков тела... Наиболее заметные участки тела, из
которых истекает энергия либидо, называются
эрогенными зонами, но правильнее было бы сказать, что все
тело есть такая эрогенная зона» 23.
Анализ труда Маркузе начинает с того, что
констатирует наличие враждебной человеку природы.
Основные инстинкты, Эрос и Танатос, требуют своего
удовлетворения, однако не находят его в силу скудности
окружающей среды. Организм вынужден произвести
модификацию инстинктов, ограничивая или подавляя
их притязания, причем существуют два вида
подавления — «основное» и «дополнительное». Первое из них
принуждает Эрос и Танатос служить целям выживания
организма в борьбе с природой, а второе обусловлено
общественными взаимоотношениями людей. Основное
подавление модифицирует Танатос таким образом, что
его агрессивная энергия служит обществу: будучи
направлена на внешний мир, она преобразует его в
плане органических потребностей человека, а устремляясь
на личность, контролирует ее поведение в форме уг-
110
рызений совести. Подавление Эроса, в согласии с
вышеупомянутой трактовкой Фрейда, Маркузе
изображает как ограничение сексуальности одной
единственной сферой — гениталиями. В результате
сексуальность на протяжении человеческой истории лишилась
самостоятельного значения, подчинившись внешней
для нее цели — воспроизведению потомства. Эта
жертва окупается в практическом плане:
освободившаяся сексуальная энергия направляется на труд,
который, естественно, оказывается отчужденным от
человека, ибо противопоставлен главному стремлению
Эроса — наслаждению. К основному подавлению
присоединяется дополнительное, связанное с классовыми
и групповыми интересами. Маркузе признает, что
общественные условия воздействуют на структуру
инстинктов, но этот аспект анализа отступает у него на
задний план как вторичный и несущественный.
«Фрейдо-марксизм» оказывается тождественным
«хайдеггер-марксизму» в наиболее существенных
моментах: в одной версии труд рассматривается как
результат репрессивного ограничения инстинктов,
жаждущих удовлетворения, а в другой он трактуется как
процесс опредмечивания и отчуждения
экзистенциальной сущности человека. Понятно, что в обоих случаях
труд является тяжким и ненужным бременем: он
совершается только в силу внешнего принуждения —
естественного или социального, и при этом всегда
угнетает основные потребности личности, неважно,
трактуются они как «витальные» или «экзистенциальные».
С учетом данной параллели не следует удивляться, что
фрейдистская версия «неомарксизма» представляет
революцию в сфере инстинктов по той же схеме,
которую выдвинул «экзистенц-марксизм»:
освободительный процесс является следствием выхода человека за
границы материально-производственной деятельности.
Конкретизируя упомянутую схему, Маркузе
связывает надежды с научно-техническим прогрессом,
разделяя тем самым предрассудки технократического
мышления, которое трактует технику как панацею от всех
социальных недугов. Именно совершенные машины
должны произвести переворот в сфере инстинктов,
упразднив основное подавление и обеспечив скачок
из «царства необходимости» в «царство свободы»,
который прокламировался в «хайдеггер-марксизме». В
условиях изобилия, избавляющего человека от произ-
111
водительного труда, основные инстинкты
освобождают свою энергию для собственных нужд. Труд как
таковой исчезает или, точнее, отделавшись от
«принципа производительности», преобразуется в свободную
«игру» внутренних сил и потенций.
Остается еще одна задача, а именно: упразднить
дополнительное подавление, вытекающее из
общественных условий. Решение ее достигается тем же
путем — на базе научно-технического прогресса. По
мнению Маркузе, такая форма подавления —
«сверхрепрессия», как он ее называет,— оказывается излишней в
условиях изобилия, создаваемого техническим
развитием. Правда, здесь еще возникает вопрос об
историческом субъекте, который устранит упомянутое
излишество. Маркузе высказывается на эту тему довольно
редко и не очень ясно. Смысл его рассуждений
сводится к тому, что революционные силы необходимо
искать где-то за границами производственной сферы и
непосредственно примыкающих к ней социальных
структур. Поскольку пролетариат, по его мнению,
пошел на компромисс с буржуазией, а рабочие партии,
благодаря участию в парламентской деятельности,
превратились в опору существующего порядка,
постольку заряжены революционной энергией лишь те,
кто оказался вне «системы». Взгляд Маркузе с
надеждой обращается на интеллигенцию, стоящую в
оппозиции к истеблишменту, на бунтующую молодежь,
преимущественно студенческую, на небольшие группы
социально угнетенных и отверженных людей, а также на
национально-освободительные движения в странах
«третьего мира». Основная масса населения в развитых
капиталистических странах, по его мнению,
безусловно, консервативна, ибо является носителем
«контрреволюционной» структуры потребностей, навязанных
«системой». «Однако,— замечает Маркузе,— ниже
уровня, который образуют консервативные народные
массы, существует слой изгоев и аутсайдеров,
эксплуатируемых и подвергающихся гонениям
представителей иных рас и обладателей иного цвета кожи, тех, кто
временно лишился работы или не имел ее никогда.
Они живут за пределами демократической системы:
сама их жизнь есть настоятельнейшая и реальнейшая
нужда в упразднении невыносимых условий и чуждых
социальных институтов. Поэтому их оппозиция являет-
112
ся революционной даже в том случае, если их
сознание не формируется таковым» 24.
Маркузе подчеркивает, что революционная
энергия, концентрируясь в действиях деклассированных
элементов, легко может превратиться в слепую и все-
разрушительную силу. Когда негры в американских
гетто сжигают свои собственные дома, замечает он, то
это выражает не революционность, а абсолютную
безнадежность. Поэтому нынешних изгоев и
аутсайдеров он сравнивает с варварами, которые боролись
против античного Рима, будучи бесконечно далеки от его
культурных достижений. В наше время надежда
появится только в том случае, если крайности сойдутся и
«варварство» изгоев капиталистического общества
каким-нибудь образом соединится с изощренной
духовностью нынешних «римлян», т. е. интеллектуалов,
которые, как можно догадаться, близки по уровню
самосознания к «неомарксистской» критической теории
общества. «Единственный шанс в нынешний период,—
утверждает Маркузе,— заключается в том, что
исторические крайности могут встретиться вновь: наиболее
прогрессивное в своей гуманности сознание и
примкнувшая к нему наиболее угнетенная сила» 25.
Нетрудно убедиться, что схема исторических
преобразований, предложенная Маркузе, является
оппортунистической, хотя и включает элементы
мелкобуржуазного политического экстремизма. Эта схема
носит умозрительный характер и совершенно лишена
какого-либо эмпирического обоснования. Следует
отметить, что Маркузе слишком уж резко разделяет
изгоев и аутсайдеров, с одной стороны, и
преуспевающие в социальном отношении слои и классы — с
другой. В действительности граница между ними весьма
условна, поскольку даже небольшие диспропорции в
развитии капиталистической экономики открывают
шлюзы, по которым рабочая сила перекачивается на
дно капиталистического общества. Экономические
кризисы и в наши дни не обходят стороной буржуазный
мир. Например, в течение одного десятилетия
западная экономика пережила три кризиса: в 1970—1971,
1974—1975 и в 1980—1982 годах. В середине 80-х
годов налицо неустойчивость и периодические спады
производства. Многие отрасли промышленности в
крупнейших капиталистических странах находятся в
кризисном состоянии. Этот процесс очень сильно бьет
113
по трудящимся, но одновременно он разбивает
иллюзии относительно мирного сосуществования труда и
капитализма. Даже Япония — «экономическое чудо»,
которым так гордится буржуазная пропаганда,—
переживает ныне тяжелые времена. Быстрыми темпами
свертывается металлургическая промышленность, а в
этой связи и угледобывающая отрасль. В 1986—1987
годах произведена денационализация государственных
железных дорог, оставившая без работы целую армию
тружеников — около 100 тысяч. По оценкам японских
экономистов, мрачные тучи сгущаются над
судостроительными, электротехническими,
целлюлозно-бумажными, нефтеперерабатывающими, пищевыми
компаниями. Примерно та же картина и в США, где
глубокий структурный кризис ряда основных отраслей —
металлургической, металлообрабатывающей,
автомобильной и др.— сопровождается свертыванием
производства, сокращением миллионов рабочих мест,
разорением тысяч компаний.
Весьма болезненно сказываются на трудящихся
последствия научно-технического прогресса, который,
если верить прогнозам Маркузе, должен обеспечить
революцию в структуре инстинктов. Внедрение роботов,
роторных машин и вычислительной техники приводит
к тому, что хозяева предприятий выбрасывают за
ворота миллионы рабочих. Пролетарий, а не буржуа,
ощутил на себе, как изменился характер труда. В
результате успехов научно-технической мысли и ее
внедрения в системе капиталистического производства
заметно повышается интенсивность труда, происходит
дисквалификация работников в связи с передачей их
функций автоматизированным системам, меняется
рабочий ритм, сообразующийся не с возможностями
человека, а с режимом функционирования технических
устройств. Например, согласно данным одного из
профсоюзов ФРГ — металлистов, введенные в 1982—
1983 годах технические и
производственно-организационные изменения не облегчили для большинства
работающих условий труда, а привели к дополнительным
нагрузкам. У 77 процентов работающих увеличилась
интенсивность труда, и только у 10 процентов она
снизилась. Монотонность работы возросла у 41
процента, а уменьшилась лишь у 7 процентов 26.
Маркузе делает акцент на изменившейся
исторической ситуации, в которой пролетариат якобы отка-
114
эался от своей революционной миссии. Однако и в
нынешнем капиталистическом обществе, несмотря на
научно-техническую революцию, классовая
поляризация по существу сохраняется в том же виде, в каком
была в прошлом веке. Собственно, сам же Маркузе
признает, что пролетариат и буржуазия продолжают
оставаться основными классами в капиталистическом
обществе. Но говорить об интеграции этих классов на
базе общих интересов, конечно же, нелепо, если
считаешь себя марксистом, пусть даже и особенной
разновидности. Пока средства производства находятся в
руках частных владельцев, а непосредственный
производитель — рабочий класс — лишен возможности
регулировать и контролировать процесс производства и
воспроизводства общественной жизни, до тех пор
ставить вопрос так, как это делает Маркузе, можно
приблизительно с тем же основанием, с каким утверждалось
бы «сотрудничество» в античную эпоху рабов и их
хозяев — рабовладельцев. Другое дело, что в нынешних
условиях усиливаются процессы дифференциации и
стратификации трудящегося населения
капиталистических стран, в результате чего, с одной стороны, в
рабочем классе и в самом деле появляется
привилегированная прослойка, тяготеющая к социальному
компромиссу с буржуазией, а с другой — в масштабах
общества формируются разнообразные социальные
силы, которые становятся союзниками пролетариата в
его борьбе за социализм. Поляризация
«пролетарий — буржуа» включается в контекст множества
новых противоречий, вызывающих подъем массовых
демократических движений. «В капиталистических
странах,— подчеркивается в Программе КПСС,—
углубляется антагонизм между монополиями и громадным
большинством населения. В борьбу против засилья
монополий, реакционной политики правящих классов все
активнее включаются интеллигенция, служащие,
фермерство, представители городской мелкой буржуазии,
национальных меньшинств, женские организации,
молодежь и студенчество. Люди различной политической
ориентации требуют положить конец милитаризации
общества, политике агрессии и войны, покончить с
расовой и национальной дискриминацией, ущемлением
прав женщин, ухудшением положения молодого
поколения, с коррупцией, хищническим отношением моно-
115
полий к использованию природных ресурсов и
окружающей среды» 27.
Особого разговора требует программа
«освобождения инстинктов», которую прокламирует «фрейдо-
марксизм». Можно с уверенностью сказать, что
Октябрьская революция в нашей стране такого рода
«освобождения» не принесла, да и не могла принести,
поскольку «революция в сфере инстинктов» не входит в
марксистскую теорию социалистических
преобразований общества. «Фрейдо-марксизм» не развивает, а
извращает марксизм. Проблему освобождения
инстинктов Маркузе ставит в двух плоскостях: во-первых,
необходимо упразднить их подавление в сфере труда,
а во-вторых, в системе социальных связей и
взаимоотношений. Труд должен превратиться в совершенно
спонтанное действие, в «игру», не детерминированную
никакими внешними силами. Усилия Маркузе
направлены на то, чтобы доказать возможность и
необходимость освобождения труда от принципа
производительности, стало быть, от всякой связи с внешней
реальностью и объективными законами. Однако такой
подход нельзя признать удовлетворительным даже в
отношении к понятию игры. Конечно, в процессе игры
человек выходит за границы непосредственно
практической установки. Игра включает моменты условности
и спонтанной импровизации, однако ее не следует
рассматривать как чисто субъективную деятельность. В
конечном счете игра вплетается в ткань живой
человеческой практики, она приобретает объективное
значение, воспроизводя в той или иной форме реальные
жизненные ситуации. Нет сомнений в том, что с
течением времени труд будет приобретать некоторые
особенности игровой деятельности, поскольку человек
будет менее зависим от внешней природы, но он
никогда не превратится в пустое развлечение или чистое
самовыражение личности. Маркс отмечал такую черту
свободного труда, как привлекательность, но он
никогда не отождествлял его с забавой, не требующей
усилий. «Действительно свободный труд, например
труд композитора,— писал он,— вместе с тем
представляет собой дьявольски серьезное дело,
интенсивнейшее напряжение» 28.
Второй аспект программы освобождения
инстинктов уводит «фрейдо-марксизм» в весьма деликатную
и рискованную область. Речь идет о пресловутой сек-
116
суальной революции, к которой еще в довоенные
годы призывал упоминавшийся уже В. Райх. Позицию
Маркузе по этому вопросу нельзя признать
однозначной. С одной стороны, он провозглашает модель
новой рациональности — раскрепощенного Эроса. Он
призывает объявить войну сексуальным запретам,
разлагая тем самым, как он полагает, основы старой
морали и старых эмоций. Особую роль в осуществлении
моральной революции он отводит студенческой
молодежи, которая наиболее остро переживает сексуальные
табу. С другой стороны, он говорит о волне секса,
захлестнувшей Запад и имеющей реакционный смысл,
поскольку ослабление сексуальных запретов призвано
произвести успокаивающее воздействие на человека и
отвлечь его от борьбы против репрессивного
общества.
Обсуждая эти вопросы, Маркузе многого не
договаривает, уклоняясь, в частности, от подробной
характеристики «сексуальной революции», а будущее
нерепрессивное общество рисуя в абстрактных тонах,
созвучных скорее экзистенциалистским призывам к
свободе, чем фрейдистским установкам на
бессознательные влечения. Объяснение такой его сдержанности
отыскать нетрудно, если учесть, к чему привела на
Западе «свобода нравов»: кризис буржуазной семьи,
широкое распространение так называемых брачных
коммун, проституции, порнографии, венерических
заболеваний и сексуальных извращений. Западный обыватель
с молодых лет воспитывается в духе фрейдистских
представлений об изначальной враждебности
разумного начала и инстинктов, о репрессивном характере
культуры, подавляющей бессознательные импульсы и
влечения, в которых якобы только и раскрывается
свободная личность. Это одна из причин того, что
апология «стадной любви» сочетается с «религией
наркотиков» и «рок-революцией». Основатель «психоделии»,
или «религии ЛСД», американский психолог Тимоти
Лири обобщил опыт потребления наркотиков,
утверждая, что они помогают личности умереть, чтобы
возродиться в чем-то большем, чем наше сознательное Я.
К бессознательным глубинам личности взывают и
адепты «рок-революции». По их мнению, рок-музыка
должна высвободить инстинкты, подавленные
культурой. «Грубая животная рок-энергия горячей струей
пронизывает нас,— заявляет идеолог подобной рево-
117
люции Джерри Рубин,— возбуждающий ритм
будоражит подавленные желания... Рок-н-ролл знаменует
начало революции».
«Фрейдо-марксиэм» оказал заметное влияние на
так называемую контркультуру — идеологию,
выражающую стихийный бунт мелкобуржуазного сознания
против традиций и ценностей «массового общества»
и «массовой культуры». Сторонники контркультуры
выступают за создание свободного, «нерепрессивного»
общества, в котором возникает «новая чувственность»,
насыщенная энергией подсознательных сил и влечений.
Их идеал — естественность и чистота в отношениях
между людьми, и ради достижения этой
естественности они охотно прибегают к таким средствам, как
неформальное общение, наркотики, религиозный экстаз
и мистика и т. п. Идеология контркультуры
критически относится к буржуазному обществу и в этой связи
охотно пользуется «неомарксистскими» аргументами,
мешая их с идеями, заимствованными из разных
источников — ницшеанства, дзен-буддизма,
экзистенциализма, психоанализа и т. п.
Следуя традициям «неомарксизма», представители
контркультуры отождествляют буржуазный Разум с
технической рациональностью. Свое неприятие
капитализма они нередко выражают в терминах историко-ма-
териалистической концепции Маркса, однако
выхолащивают ее революционно-преобразующую суть и не
идут дальше характерных для «неомарксизма»
притязаний на осуществление «революции сознания». Один
из вариантов будущего общества, реализующего
идеалы контркультуры, предлагает Ч. Рейч — профессор
права Йельского университета и ведущий идеолог
движения «новых левых». В своей нашумевшей на
Западе книге «Молодая Америка» он дает анализ
современного американского общества, подчеркивая, что
его наиболее яркой особенностью является
«корпоративное» государство — продукт слияния
монополистических корпораций и политической власти
государства. Возникшее в 60-е годы, в эпоху индустриализма,
оно, по мнению Рейча, воплощает в своих структурах
техническую рациональность — специфическую форму
разумности, которая индифферентна ко всем
вопросам о смысле и ценности человеческого
существования.
118
Данная особенность превращает корпоративное
государство в антигуманную силу. Рациональная, но
вышедшая из-под человеческого контроля «машина»
государственной власти эксплуатирует, подавляет и в
конечном счете разрушает природу и самого человека.
«Организация и бюрократия,— пишет Рейч,— которые
явились только приложением современной технологии
к социальным институтам, неумолимо диктуют нам,
как мы будем жить дальше, навязывая логику
организационных структур, уничтожающих все другие
ценности жизни» 29. Ч. Рейч рисует мрачную картину
кризиса «американских корпоративных штатов», отмечая
распад социальных структур, атмосферу
беспокойства и ужаса, лицемерия, наконец, беззакония, которое
не ограничивается уголовными преступлениями и
уличными беспорядками, но «наряду с коррупцией прони^
зывает все главные институты американского
общества» 30.
В этой картине поражают ужасающая бедность на
фоне изобилия, контрасты и крайности, неизвестные
в других индустриально развитых странах, социальное
неравенство, которое не является случайным или
побочным продуктом «свободной экономики», но
хладнокровно и совершенно сознательно
запрограммировано в законах капиталистического общества: пример
тому — налоговая система, которая «в интересах
частного капитала поощряет производство предметов
роскоши и вооружения, нанося прямой ущерб
обнищавшему народу и без того убогой системе
обслуживания» 31.
Ч. Рейч отмечает крушение демократической
системы и индивидуальных свобод, которые капитулируют
перед гигантскими административными учреждениями
и корпорациями: бюрократическое своеволие
замещает статьи законов. Меняется отношение к труду. Для
многих американцев работа потеряла всякий
жизненный смысл. Индивид не в состоянии найти
отдохновение и в сфере культуры, ибо последняя низведена до
уровня коммерческого предприятия, да и вся
человеческая жизнь становится каким-то суррогатом,
невосприимчивым к подлинным нуждам личности, но
сфабрикованным и навязанным ей извне. Отдавая свою
энергию и большую часть своего времени
деятельности огромных организаций, современная личность
лишается семьи, у которой безжалостно отнято ее
119
подлинное назначение, утрачивает теплоту
человеческого общения и дружбы и, наконец, теряет самое
себя — способность к воображению и творчеству, свое
прошлое и мечты о будущем, свою
неповторимость,— и все это только затем, чтобы
«модернизировать себя в качестве производительной силы
массового технологического общества» 32.
Техника и производство, продолжает Ч. Рейч, могли
бы стать источником растущего благосостояния
человека, но вместо этого превращаются в бесполезные
инструменты: лишенные разумного управления, они
развиваются под действием собственных импульсов.
Более того, приобретают демонический характер и
превращаются в деструктивные элементы
общественной системы. «В нашей стране,— отмечает Ч. Рейч, —
они сокрушают на своем пути все: ландшафт и
естественную среду обитания, историю и традиции,
этикет и нормы культуры, уединенность и социальное
пространство жизни, красоту и хрупкость сущего, и
даже веками сложившиеся социальные структуры,
благодаря которым мы только и связаны друг с
другом» 33.
Воспроизводя реалии американской жизни,
теоретик контркультуры использует некоторые идеи и
подходы, заимствованные из марксистского анализа
капиталистической системы. Так, он отмечает анархию
капиталистической экономики, вскрывает ряд
противоречий, коренящихся в частной собственности на
средства производства и т. п. Но подлинным
фундаментом его концепции будущего выступает
идеалистическое толкование общественной жизни, а также пестрая
смесь разнородных идей: экзистенциалистского
учения о личности, маркузеанской критики техники,
неофрейдистской теории «витальных» потребностей,
некоторых лозунгов и пророчеств «новых левых» и т. п.
Характеризуя будущее общество, Ч. Рейч
обращается к анализу исторически сложившихся форм
сознания. Он выделяет три его формы, соответственно
Сознание I, II и III. Каждая из них, полагает Ч. Рейч,
является отражением устоявшегося образа жизни и
служит целям приспособления людей к окружающей
среде. Начальному этапу в развитии американского
общества соответствует Сознание I — совокупность
взглядов и представлений, которые доминировали
среди большей части населения вплоть до 40-х годов
120
нашего столетия. Иммигранты и колонисты,
пуританские проповедники и ковбои с Запада — все носители
данного типа сознания являются индивидуалистами,
разделяют веру в себя и готовы упорно трудиться, но
не для общества, а ради собственного благополучия.
После второй мировой войны, в период
формирования корпоративного государства, сложился новый
тип — Сознание II. Оно отражало стремление
индустриального общества к организационной
деятельности в масштабах крупных объединений. Носитель
Сознания II отказывается от личной автономии, ибо
ориентирован на такие ценности, как дисциплина и
рациональная иерархия. Он готов подчинить свои цели
общему благу — эффективной и безостановочной
деятельности той организации, к которой принадлежит
и которой служит.
В настоящее время, утверждает Ч. Рейч, в недрах
американского общества складывается Сознание III,
носителем которого пока что является молодежь, но в
перспективе им будет охвачено громадное
большинство населения. Характеристике этого типа сознания
Ч. Рейч придает особое значение, поскольку именно
оно выражает специфику будущего. Основу Сознания
III образуют некоторые моральные заповеди. Их
толкование навеяно экзистенциалистскими мотивами: то
же неприятие социальных форм жизни, якобы
нивелирующих личность, яростный протест против любых
ограничений, которые общество накладывает на
индивидуальный выбор, гипертрофированное внимание к
уникальным качествам личности и т. п. Встречаются,
однако, и довольно абстрактные утверждения, против
которых трудно было бы что-то возразить, если бы
только их моральная сила была обеспечена более
фундаментальными факторами — характером
соответствующих производственных отношений, политическими
и правовыми структурами и проч.
Согласно заповедям Сознания III, индивид
совершает преступление против самого себя, если
превращается в инструмент, предназначенный для достижения
какой-то внешней, чуждой ему цели. Так же
безоговорочно осуждается индивид, пребывающий в
состоянии самоотчуждения, превратившийся в
«расщепленную», «шизофреническую» личность, которая
откладывает на неопределенный срок реализацию подлинного
смысла своего бытия. «Нужно жить со всей возможной
121
полнотой во всякий момент,— комментирует Ч. Рейч,—
но не так, как того требует необузданное «теперь»
рекламного анонса, а в соответствии с понятием
абсолютной целостности, о которой говорит Хайдеггер и
которую можно выразить в заповеди: «Будь верным
себе» 34.
Ч. Рейч рисует идиллическую картину будущего.
Сознание III обеспечивает абсолютную ценность
всякого человеческого существа. Оно не принимает
антагонистическую или конкурирующую доктрину жизни:
«Люди братья, а мир достаточно просторен для
всех» 35. В будущем обществе ни к кому не подходят
с одной меркой, напротив, особенно ценится
уникальность и неповторимость каждого Я. Здесь нет гонений,
и все живут по принципу: «Не суди ближнего». Не
существует превосходства одного человека над другим,
а также исключается классификация людей по их
сравнительным достоинствам: каждый индивид в
состоянии превзойти только самого себя. «Некто может быть
блестящим мыслителем,— разъясняет Ч. Рейч,— но он
мыслит не «лучше», чем кто-то другой, а просто
обладает своим собственным превосходством. Даже та
личность, которая мыслит крайне неудачно, все же
превосходна в своем роде» 36.
Как известно, экзистенциалистские установки
инспирируют анархическую модель общества. Это в полной
мере проявляется в концепции Ч. Рейча. Сознание III,
подчеркивает он, должно устранить всякие отношения
власти и раболепия. Никто не должен повелевать или
выполнять чужие приказы, исключаются принуждение
и манипуляция другими людьми. Устраняются
отношения, которые опосредованы социальной ролью
индивидов, базируются на «безличной функциональности».
«Не может быть ситуаций, в которых кто-то имел бы
право действовать безлично, обращаться с другим
человеком в стереотипной манере: отношения
бизнесмена к клерку, пассажира к кондуктору, студента к
швейцару не должны быть безличными» 37.
Оценивая концепцию Ч. Рейча, следует выяснить,
какие общественные силы способны обеспечить
торжество Сознания III. Ч. Рейч полагает, что этой цели
должен служить особый механизм, не имеющий
ничего общего с теми путями, которые предлагают
либералы и радикалы. Он пессимистически оценивает как
действия «в русле законности», так и революционную
122
тактику, связанную с применением силы. Первые, по
его мнению, оставляют нас в рамках существующей
общественной системы, а вторая в условиях сильного
корпоративного государства обречена на неудачу.
Ч. Рейч ищет другой путь. Проблема для него
состоит в том, чтобы укротить взбунтовавшуюся технику,
а также нейтрализовать антигуманные процессы, котог
рые она породила в американском обществе. «Великий
вопрос нашей эпохи,— утверждает он,— это как жить
в технологическом обществе: какой дух и какой
способ жизни мог бы сохранить гуманность человека и
даже само его существование в условиях господства
тех сил, создателем которых он сам же явился» 38.
Данную проблему он решает в русле
идеалистической методологии, уповая на перемены в сфере
духовной культуры. Его рассуждение строится
следующим образом. Машина или техническое устройство не
действуют самостоятельно, но производят только то,
что отвечает запросам людей. Если происходят
изменения в сфере культуры, то машина вынуждена
функционировать как-то иначе, потому что потребитель
прежней продукции уступает свое место другому, с
изменившимися вкусами и запросами. В этих условиях
машина начинает выпускать новые товары,
удовлетворяющие новые запросы, а, стало быть, рыночная власть
потребителей восстанавливается. «Чтобы добиться
этой власти,— полагает Ч. Рейч,— покупатель должен
изменить свое сознание, освобождаясь от
принудительного воздействия рекламы. Как только он это сделает,
машина немедленно попадет к нему в рабство» 39.
Ч. Рейч убежден, что сознательная перестройка
системы потребностей человека в состоянии подчинить
технику и преобразовать американское общество.
Поэтому естественно, что его внимание переключается
на сферу духовной культуры. «Культура,—
утверждает он,— является совершенно самостоятельной
сферой общества. Вот почему социальные
преобразования начинаются не в дворцах, а на улице» 40.
Подобные преобразования он квалифицирует как
революцию, а переход к будущему мыслит не иначе,
как революционным. Правда, революция эта,
предупреждает он, особенная. Это не та революция, к
которой зовут радикалы. Ее отличие заключается в том,
что она не вторгается в сферу политики и экономики,
ее задача — обеспечить сдвиг в массовом сознании.
123
«Революция должна быть культурной,—
предупреждает Ч. Рейч,— ибо культура управляет экономикой и
политической машиной, а не наоборот» 4I.
Определив подобным образом свою
методологию, Ч. Рейч немедленно запутывается в
противоречиях. Возникает законный вопрос, кто же является
субъектом «культурной» революции? Ясного ответа у
Ч. Рейча нет. Он ограничивается туманными фразами
о «революционном потенциале» американского
народа, о том, что в сегодняшней Америке имеется
«привилегированная элита» и «эксплуатируемая масса», что
«мы все ныне пролетарии» и т. п. Правда, среди
«пролетариев» он выделяет молодежь, которая якобы
опередила все другие слои американского общества и
уже сегодня является носителем Сознания III.
Превосходство молодежи Рейч объясняет изменившимися
условиями жизни. По его мнению, Сознание III
порождается негативными факторами — безработицей,
угрозой ядерной войны и т. п., и позитивными —
материальным изобилием, совершенной техникой и проч.
Старшее поколение, подчеркивает он, тоже
сталкивается с атрибутами новой жизни, но это почти не
меняет его характера и привычек, тогда как молодежь с
самого рождения училась жить под влиянием
упомянутых факторов. «Сознание III,— заключает Рейч,—
черпает энергию из новых источников: из групповой
солидарности, из эротической сферы, из
освобожденной техники, наконец, из неподавленного Я» 42.
Здесь у Рейча возникает логический круг. С одной
стороны, объективные факторы, в частности
«освобожденная» и «отчужденная» техника, порождают
Сознание III, а с другой — упомянутое Сознание III
определяет облик нынешней культуры, которая, как
отмечал сам Рейч, лежит в основе экономических и
политических структур.
Возникающий круг позволяет квалифицировать
концепцию Рейча как утопию. Бросается в глаза
бесконфликтный характер постулируемой «революции»:
молодежь однородна, условия жизни однотипны и т. п.
Несмотря на свой критический запал, Рейч отнюдь не
покушается на устои буржуазного общества. Его
интерес ограничен сферами морали, философии, техники,
экзистенциальных свойств личности, но он обходит
молчанием проблемы классовой борьбы, форм собствен-
124
ности, политической власти и т. д. Очевидно, что
избирательность такого рода не случайна. Она
мотивируется конформизмом, составляющим изнанку
«неомарксистской» фразеологии о «революции сознания».
Глава 3
«ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ» марксизм
В ПОИСКАХ «ТРЕТЬЕГО ПУТИ»
С развитием НТР наука стала превращаться в
самостоятельную и весьма эффективную отрасль
общественного производства. Ее возросший статус вызвал
определенные изменения в способе рассмотрения
традиционных проблем буржуазной философией. Многие
из них — социально-исторический прогресс,
взаимоотношение личности и общества и др.—
рассматриваются теперь сквозь призму социальной роли науки.
Соответственно, на первый план выдвинулись такие
философские концепции, которые по своему
методологическому потенциалу были способны
анализировать научное сознание как специфический феномен,
противостоящий другим типам сознания —
обыденному, религиозному, эстетическому и т. п.
В условиях социальной экспансии науки
огромное влияние на Западе приобрела
феноменологическая философия Э. Гуссерля (1859—1938),
немецкого мыслителя, который разработал метод анализа
«чистого сознания», т. е. внеэмпирических и внеистори-
ческих структур («феноменов»), обеспечивающих
познание во всех его формах и разновидностях.
Изолируя «чистое сознание» от реальной действительности
и материально-предметной, чувственной практики
людей, гуссерлевская методология представила
тщательно разработанный инструментарий, позволяющий
идеалистически истолковывать различные стороны
человеческой жизни. Процедуры феноменологических
исследований получили широкое признание в
современной буржуазной философии, а затем были перенесены
на такие области знания, как социология, этика,
эстетика, психиатрия и др.
Не остался в стороне от процесса ассимиляции
феноменологических идей и «неомарксизм». Его контак-
125
ты с гуссерлевской философией начались еще в
довоенное время, когда Маркузе разрабатывал свой
вариант «хайдеггер-марксизма», но более серьезные и
систематические попытки к сближению
предпринимаются начиная с 60-х годов. Эти попытки привели к
возникновению «феноменологического» марксизма —
своеобразной амальгамы, созданной путем
трансформации гуссерлианства на базе леворадикальной
идеологии. В настоящее время данное направление получило
широкое распространение во многих странах Запада,
а также в ряде социалистических стран, где
феноменология чаще всего используется в целях
реставрации существующего строя в духе мелкобуржуазных
представлений и идеалов. «Феноменологический»
марксизм имеет сторонников в США (Ф. Далмейр,
Дж. О'Нил, П. Пикконе, сотрудники журнала «Телос»),
в Италии (Э. Пачи, П. А. Роватти, сотрудники журнала
«Аут Аут»), во Франции (Тран-Дюк-Тао, М. Мерло-Пон-
ти), в ФРГ (Б. Вальденфельс), в Югославии (А. Пажа-
нин, В. Филипович), в Венгрии (представители
Будапештской школы: М. Вайда и др.), в Польше (Л. Ко-
лаковский, М. Семек), в Чехословакии (К. Косик,
И. Срубар) и др. странах.
«Феноменологический» марксизм стал набирать
силу после того, как в 1954 году было опубликовано
последнее крупное произведение Гуссерля, над которым
он работал перед смертью,— «Кризис европейских
наук и трансцендентальная феноменология». Это
произведение, поднимавшее ряд новых для
феноменологии тем и проблем, вызвало широкий резонанс в
западной философии. Именно идеи позднего Гуссерля
легли в основу нового синтеза, который попытались
осуществить «неомарксисты».
НАУКА И «ЖИЗНЕННЫЙ МИР»
Появление последнего гуссерлевского сочинения —
событие незаурядное в истории феноменологической
философии. В течение долгого времени
феноменология в глазах ее создателя, а также в интерпретации
современников была синонимом учения о феноменах
«чистого» сознания, о типах и формах осознания,
свойственного абстрактному, внеисторическому субъекту.
Теперь же Гуссерль попытался выйти за рамки сугубо
академического, самодовлеющего анализа теоретико-
126
познавательных проблем и исследовать науку как
феномен, возникший в исторических границах
европейской культуры. В связи с новой проблематикой задача
феноменологии рассматривается так, что вопрос о
происхождении и условиях возможности научного
знания становится частным вопросом в контексте
обширной программы преодоления кризиса, поразившего,
по мнению Гуссерля, современную эпоху.
Это изменение в содержании гуссерлевского
мышления объясняется прежде всего причинами
социального порядка. В последний период своей жизни
Гуссерль оказался свидетелем таких событий, потрясших
Западную Европу, как первая мировая война,
послевоенный экономический кризис, фашизация Германии
и т. п. Эти события, несомненно, были восприняты им
через призму личного опыта, выразившегося, в
частности, в потере сына в мировой войне, в
преследованиях со стороны гитлеровских властей, в разрыве с
некоторыми учениками по расовым и политическим
мотивам и проч.
Следует также говорить о некотором
теоретическом тупике, в котором оказалась «чистая»
феноменология и который в какой-то мере был осознан самим
Гуссерлем. Отсюда его стремление рассмотреть
науку в контексте ее связей и взаимопересечений с
человеческой жизнью, что, безусловно, явилось шагом
вперед в развитии чисто созерцательной философии,
которая сознательно отгораживалась от внешней
реальности. Поздний Гуссерль настойчиво проводит
мысль о том, что истоки кризиса нашей эпохи можно
обнаружить только путем анализа той особой роли,
которую играет наука в жизни «европейского
человечества».
Возникновение науки в Древней Греции в VII—VI вв.
до н. э., полагает он, явилось уникальным событием
во всемирной истории, ибо это событие существенным
образом определило специфику духовного облика
«Европы» в сравнении со всеми другими культурами —
китайской, вавилонской, индийской и т. п. Именно в
«Европе» — если это понятие брать в
культурно-историческом, а не в географическом смысле — впервые
пробудился к жизни совершенно новый тип
ориентации индивида — «теоретический», который Гуссерль
противополагает «религиозно-мифической» жизненной
ориентации в неевропейских культурах.
127
Вся аргументация Гуссерля развертывается таким
образом, чтобы человеческая история предстала в
качестве продукта научного прогресса. Донаучное
мировоззрение, подчеркивает он, выступало в форме
спекулятивно-мистического «знания» о потусторонних
силах, в форме «мифа», опосредующего восприятие
окружающего мира, но оно было тесно связано
с практикой человека, с его жизненной судьбой, оно
«стимулировалось практикой и потом само
становилось практически заинтересованным» '.
Теоретическая ориентация, напротив, основана на
преднамеренном и систематическом воздержании от
всех практических интересов, в том числе и от
интересов специализированной практики на уровне
профессиональной жизни теоретика. «Теоретическая
ориентация совершенно непрактична, даже если она и
выступает при этом в качестве профессиональной
ориентации» 2.
В данной особенности теоретического знания, по
Гуссерлю, таится возможность отчуждения науки.
Определяя ее как форму жизненной ориентации, он
готовит почву для ее критики в духе традиций
«философии жизни». С этой точки зрения наука не имеет
самостоятельной ценности. Она лишается автономии,
которой должна была бы обладать система
объективно-истинного знания. Только жизнь с ее запросами и
потребностями становится единственным критерием,
по которому производится оценка науки и научной
рациональности. Это очень важно в плане будущих
контактов феноменологии и «неомарксизма», поскольку
последний, как отмечалось, стремится «социологизи-
ровать» науку, понять ее как продукт определенных
социально-исторических условий. Что касается
Гуссерля, то он идет параллельным путем. Он соотносит науку
с обыденным, практическо-ценностным сознанием
людей, пытаясь в этом измерении обнаружить не только
ее истоки, но и ее внутреннюю телеологию. Правда,
Гуссерль избегает социологических понятий, и в этом
отношении его анализ «европейских» наук
существенно отличается от «неомарксистского».
Гуссерль концентрирует внимание на
взаимоотношениях практической и теоретической сфер
человеческой жизни. Он отмечает, что теоретическая
ориентация, возникшая в Древней Греции, разрастается в
«систематически замкнутую форму», которую греки
128
называли философией. Будучи наукой о мире в целомг
наукой об универсальном единстве бытия, философия
пробуждает интерес к отдельным сферам бытия,
вследствие чего она разветвляется на специальные
науки. Взаимосвязь философии и специальных наук, а
также теоретической и практической сфер была
нарушена с возникновением «галилеевской» физики,
которая впервые произвела «математизацию» природы.
«Галилеевская» наука достигла больших успехов в
формализации математических средств. Широкое
применение этих средств привело к тому, что научные
понятия постепенно утратили свое
«первоначально-интуитивное» содержание, а научное познание
превратилось в чисто техническое «искусство», аналогичное
игре в карты или в шахматы. Чтобы овладеть этим
искусством, достаточно было усвоить «правила игры»,
т. е. научиться оперировать значками, символами,
техническими терминами и т. п.
«Технизация» естественнонаучного мышления
«трансформирует» и «маскирует» смысл всей его
работы, вследствие чего утрачивается представление о
статусе «донаучной» природы, которая дана
эмпирически, в «живой» наглядности повседневного опыта.
«Галилеевская» наука, исходя из своих интересов,
трактует природу как «прикладную математику». Это
приводит к дезориентации в мировоззренческом плане,
ибо не только ученые-профессионалы, но и все
образованные люди начинают воспринимать
«математизированную» природу как «объективно-истинный» мир.
«Наивная» вера в «объективное» существование
мира, а также в возможность его непричастного
созерцания порождает, по Гуссерлю, «объективизм» —
специфически философскую установку, которая
заключается в стремлении интерпретировать научное
познание как объективный процесс, не имеющий
отношения к человеческой «субъективности». Подобная
интерпретация, подчеркивает Гуссерль, составляет
главную предпосылку европейского кризиса, ибо
закрывает путь к осознанию жизненных взаимосвязей
между «реальной» практикой и «чистой» теорией.
Ориентируясь на идеалы «объективизма», наука
утрачивает свой жизненный человеческий смысл и
вырождается в чисто «фактическое» исследование, которое
обходит все вопросы о «разумности» или
«неразумности» человеческого бытия.
5 8-187
129
Очевидно, что и здесь пересекаются пути Гуссерля
и «неомарксистов». Критикуя «объективизм», Гуссерль
подчеркивает его гипертрофированный интерес к
«фактам». Что касается «неомарксистов», то они
связывают позитивистскую ориентацию на «фактически
данное» со стремлением оправдать существующий
порядок вещей. Кроме того, они говорят об
«овеществленном» сознании науки, которая не в состоянии
разглядеть за внешней оболочкой своих продуктов
человека и его живую деятельность. И это перекликается
с гуссерлевской критикой «объективизма», который,
по его мнению, игнорирует человеческую
субъективность.
Возлагая ответственность за отчуждение наук на
«объективизм», Гуссерль стремится обосновать
полярно противоположную позицию — философский
«субъективизм», который представил бы науку как продукт
человеческой деятельности. Он подчеркивает, что путь
к человеческой субъективности лежит через
гуманитарные науки, науки о «духе». В этой связи особое
значение приобретает вопрос об их методологическом
своеобразии, а центр тяжести полемики с
«объективизмом» смещается в иную плоскость.
«Объективизм», по Гуссерлю, лишил
естествознание мировоззренческих ориентиров. Но в этиологии
европейского кризиса он сыграл и другую роль —
выступил в обличье натурализма, который направил по
ложному пути гуманитарные науки. В атмосфере
всеобщего воодушевления, вызванного успехами
математизирующего естествознания, его методология стала
рассматриваться в качестве эталона научной
рациональности. Используя схемы рационального
объяснения, принятые в естествознании, гуманитарные науки
постулируют свойства «духа» по аналогии с
характеристиками «математизированной» природы.
Такое истолкование разделило мир на две
самостоятельные сферы — природы и духа. Но
дуалистическое мировоззрение постоянно испытывало
тяготение к одностороннему физикализму. Поскольку
«натурализованный» дух рассматривался как «придаток»
телесности, постольку объяснение духовных явлений
всегда упиралось в причины физического порядка. Так
возникло убеждение, что «естественнонаучный метод
должен также раскрыть тайны духа» 3.
130
Рассуждения Гуссерля о «натурализме»,
безусловно, созвучны «неомарксистской» критике
«овеществленного» сознания социальных наук. «Неомарксисты»
категорически возражают против подчинения этих
наук естественнонаучной методологии.. Так же
поступает и Гуссерль. Не менее решительно, чем это делали
Маркузе, Адорно и другие «неомарксисты», он
стремится «перевернуть» освященное позитивистской
традицией соотношение социогуманитарных и
естественных наук и первые истолковать как своеобразную
основу и предпосылку вторых.
Натурализм утверждает приоритет «природы» по
отношению к «духу». Между тем самостоятельность
«природы» точных наук — всего лишь видимость,
поскольку своим возникновением она обязана
деятельности «духа». Как феномен духовный, она относится к
сфере культурной истории европейского
человечества, а это значит, что ее действительный статус не
должен определяться средствами самого естествознания.
«Истинная природа, природа в естественнонаучной
интерпретации,— говорит Гуссерль,— является
продуктом исследующего духа, а потому предполагает науку
о духе» 4.
Гуссерль стремится противопоставить
«объективизму» собственное обоснование наук — такое, которое
вскрыло бы генетические и содержательные связи
Между сферами теории и практики. Он подчеркивает,
что научная деятельность является одной из форм
человеческой практики. Исторически она более поздняя,
и понять ее своеобразие можно только на основе
предшествующей деятельности людей. Сказанное
относится и к ее результатам — идеальным «единствам
значения», системам логически взаимосвязанных
«истин в себе» и даже «идеализированной» природе
точных наук — ибо идеальность научных образований
«ничего не меняет в том, что они суть человеческие
продукты» 5.
Разнообразные формы человеческой деятельности,
как практической, так и теоретической, не исчезают
бесследно — их результаты, т. е. разнообразные
предметные смыслы, «осаждаются» в сознании субъекта,
образуя смысловой фундамент всякой актуальной
деятельности. Гуссерль различает две формы
синтетической деятельности сознания — «активный» и
«пассивный» генезис. Первая форма используется в практиче-
5*
131
ски значимых ситуациях — как в повседневной жизни,
так и в теоретическом исследовании, поскольку она
связана с «производством» или «конституированием»
новых предметных смыслов. Но она опирается на
«пассивный» генезис — на смысловой контекст, созданный
предшествующей конститутивной деятельностью.
Например, конституирование «культурного» значения
таких предметов, как молоток, стол или произведение
искусства, предполагает наличное знание
соответствующего предмета на уровне восприятия или
перцептивного опыта. Благодаря тому, что всякий
конкретный акт восприятия имеет позади себя «историю»
конститутивных достижений, происходит опознание
предмета, так сказать, с первого взгляда, а то, что обычно
считается «неизвестным», имеет хотя бы внешние
признаки «известного» — форму «предмета»,
пространственные свойства и т. п.
Конструктивные процессы теоретического
мышления, подчеркивает Гуссерль, специфичны и по
характеру сильно отличаются от «активных» действий,
принятых в повседневной практике. Однако теоретическая
деятельность имеет свои исторические корни,
поскольку опирается, с одной стороны, на «пассивный» синтез,
поставляющий «материал» для всевозможных
«активных» действий, а с другой — на «активные»
достижения повседневной практики, ибо уже простое
восприятие отклоняющейся стрелки на шкале прибора
требует от экспериментатора той же «активности», в
которой нуждается обыденное, «донаучное» наблюдение.
«Объективизм» ошибочно рассматривает
«природу» естественных наук как результат автономной
деятельности научного мышления. Однако он не
учитывает той роли, которую играет в научном исследовании
предшествующий, «донаучный» опыт человечества.
«Природа» наук — это продукт конструктивного
преобразования «жизненного мира», т. е. мира
перцептивного опыта, известного людям задолго до
появления «галилеевской» физики и продолжающего
существовать в эпоху ее триумфального шествия.
«Жизненный мир» определяется Гуссерлем как
«общеизвестное, которое всегда во всей человеческой
жизни является чем-то само собой разумеющимся, во
всех своих формах хорошо знакомым через опыт» 6.
Этот мир является «основой всякого объективного
познания», чем-то «заранее существующим», «почвой»
132
для всей как теоретической, так и внетеоретической
практики7. Его структуру образуют некоторые
«первоначальные очевидности», т. е. предположения,
которые привычны и несомненны для всякого человека,
пребывающего в «жизненном мире». Эти
«очевидности» служат важнейшей предпосылкой научной
деятельности: экспериментальные данные, научные
приборы, взаимодействие ученых, теоретические
утверждения и даже «объективно-истинный» мир науки —
все это приобретает специально научный смысл только
потому, что изначально имеет характер
жизненно-мировых объектов и событий.
Опираясь на концепцию «жизненного мира»,
Гуссерль подвергает критике эмпиризм. В центре его
внимания понятие «непосредственно данного» —
излюбленная тема «неомарксистов». Сторонники
эмпиризма, подчеркивает он, отождествляют базисный уровень
в познании с так называемым чистым опытом,
который якобы непосредственно отражает свойства
объективного мира, так как состоит из ощущений, или
чувственных данных, счастливо избегнувших
предварительных интерпретаций. Но чувственные данные
непосредственно относятся не к миру науки, а к
«жизненному миру». Не следует думать, что эти данные,
изначально обладая каким-то «чистым» смыслом,
образуют первичный источник наших знаний о «жизненном
мире». Напротив, этот мир предшествует
чувственному созерцанию как сфера готовых, упорядоченных и
заранее известных значений. Именно эти значения, или
«очевидности», образующие устойчивые априорные
структуры, позволяют истолковать и наполнить
смыслом пресловутые чувственные данные. Последние вне
связи с априорными «жизненно-мировыми»
структурами вообще лишены всякого содержания и не могут
служить источником, из которого научное мышление
черпает свой смысл.
В соответствии с установками
феноменологического метода Гуссерль исключает все вопросы об
объективном существовании мира и рассматривает проблему
обоснования науки в плане взаимоотношения двух
типов сознания — «жизненно-мирового», органически
связанного с нуждами повседневной практики, и
естественнонаучного, которое лишено непосредственно-
практического значения, так как его продукты —
идеальные истины — очищены от всякой субъективности
133
и обладают «надвременным» смыслом. Определив
таким образом проблему, Гуссерль стремится показать,
что автономность научных истин — только видимость,
и в подтверждение ссылается на исторический
горизонт разнообразных форм человеческой
деятельности, в котором только и может функционировать
научное мышление.
Этот подход позволяет зафиксировать ряд
особенностей, характерных для научно-теоретической
деятельности. В самом деле, научное сознание тесно
переплетается и постоянно взаимодействует с обыденным.
Наука существует в контексте повседневной практики
и даже включает ее в себя как уровень
неспециализированных действий. В процессе создания научной
картины мира используются разнообразные
продукты обыденного сознания: структуры чувственного
опыта, естественный язык, способы членения мира,
свойственные «здравому смыслу», и т. п.
Однако Гуссерль непомерно преувеличивает роль
обыденного сознания. Он не учитывает относительной
автономии науки, ее особого гносеологического и
методологического статуса, а главное, ее специфической
способности к теоретическому мышлению, которое
бесконечно превосходит возможности допредикатив-
ного опыта и простейших концептуальных схем,
принятых в донаучном обиходе. Теоретические
интерпретации «очевидного» и «общеизвестного» порою
оказываются настолько парадоксальными, что полностью
утрачивается смысловая связь между научной и обыденной
эмпирией, а это обстоятельство вынуждает с большой
осторожностью отнестись к заявлению о том, что
обыденное знание образует смысловой фундамент
научных истин. Иное дело, что оно играет необычайно
важную роль на этапе практическо-ценностной
интерпретации научных теорий, в частности, когда они
соизмеряются с потребностями человеческой жизни.
Гуссерль обходит вопрос о социальных
предпосылках отчуждения науки и кризиса «европейского»
человечества. Однако его учение включает ряд идей,
которые оказали большое воздействие на буржуазную
социальную теорию. В частности, понятие
«жизненного мира», истолкованное как сфера обыденных
взаимодействий людей, легло в основу так называемой
феноменологической социологии. Отвергая позитивистскую
методологию с ее претензией на «объективность» и
134
«нейтральность» познания, эта социология делает
акцент на «субъективных» методах, таких, как
«понимание», «вживание» и т. п. Соответственно,
общественная реальность изображается ею в «субъективном»
аспекте, а именно, с точки зрения внутренней мотивации
действующего индивида 8.
В этом же ключе, но с позиций леворадикальной
идеологии, использовали гуссерлевское учение
«неомарксисты». Естественно, что особое внимание они
уделили феноменологическому критицизму, стремясь
не только усилить его, но и придать ему
соответствующую идеологическую окраску. Однако ведущие
представители «неомарксизма» не сразу смогли
распознать в гуссерлианстве оружие против
позитивизма и «объективизма» — их философских врагов,
стоящих на страже господствующего социального
порядка.
«МОЛОДОЙ» МАРКС И «ЗРЕЛЫЙ» ГУССЕРЛЬ
Несмотря на отдельные попытки сближения с
феноменологией, которые и в довоенное, и в
послевоенное время предпринимались такими
«неомарксистами», как Маркузе, Тран-Дюк-Тао и др., в целом гус-
серлевская философия в кругах леворадикальной
интеллигенции долгое время оценивалась весьма
скептически. Считалось, что эта школа является типичным
выражением конформистского сознания, поскольку
она лишена энергии критической мысли и
предпочитает академические баталии на почве отвлеченных
проблем идеологическим конфронтациям и участию в
классовых битвах.
Один из ведущих теоретиков «неомарксизма»
Т. Адорно посвятил анализу феноменологии
специальную работу «К метакритике теории познания. Этюды
о Гуссерле и феноменологических антиномиях». В
работе доказывалось, что гуссерлевское учение
является апологией мира эксплуатации и угнетения, а в
аргументации, развитой по этому поводу, варьировалась
излюбленная «неомарксистами» тема «отчуждения»,
«фетишизации», «овеществления» и т. п.
В духе традиций Франкфуртской школы Адорно
производит социологиэацию различных уровней и
сфер человеческого знания, включая категории логи-
135
ки и теории познания. Но его мнению, источник всех
бед феноменологии заключается в том, что она
рассматривает мышление лишь с одной стороны — в его
«овеществленных» формах. Ее метод пассивно
регистрирует феномены сознания как «непосредственно
данное», например в созерцании так называемых
«сущностей», вместо того, чтобы уделить внимание
спонтанно-творческим процессам мыслительной
деятельности, которые вызывают к жизни упомянутые
феномены.
В актах мышления, подчеркивает Адорно,
элиминируется или выводится за скобки главное — его
творческий характер, что и создает «ситуацию
овеществления». Иными словами, «непосредственно данное»,
на которое нацелено феноменологическое описание,
выступает как «вещь», ибо в ней скрыты механизмы
порождающего процесса. Апологетический характер
феноменологии проявляется в том, что она
замыкается в сфере «данного», «фактически» существующего.
Только обнаружение порождающего мыслительного
процесса позволяет истолковать «данность» как «за-
данность», т. е. некоторую тенденцию, в которой
выражаются общественные отношения и стремление к
классовому господству. В этой связи Адорно проводит
аналогию между гуссерлевским методом и вульгарно-
экономическим мышлением, которое «стоимость
приписывает товарам самим по себе, вместо того чтобы
определить ее как общественное отношение» 9.
Прошло не так уж много времени после появления
в 1956 году книги Адорно, а положение дел сильно
изменилось: феноменология из врага превратилась в
союзника «неомарксизма». «Сегодня,— заявляет
редактор журнала «Телос» П. Пикконе,— когда марксизм
находится в глубоком кризисе, Гуссерль для серьезных
марксистов представляется тем же, чем Гегель в свое
время был для Маркса» |0. Обвиняя «ригидных»
марксистов в нежелании повернуться лицом к
«животрепещущим жизненным проблемам» и обращаясь за
помощью к Гуссерлю, M Вайда риторически
спрашивает: «Почему же нельзя надеяться на то, что
феноменология будет содействовать ренессансу марксизма?» и
Ф. Далмейр отмечает опасные, как ему кажется,
тенденции в развитии марксизма, связанные с его
«официальной интерпретацией»,— намек на диалектический
материализм, составляющий мировоззренческую осно-
136
ву деятельности КПСС. Поскольку марксизм такого
рода, полагает он, движется в русле технократической
традиции, превращаясь в средство «индустриальной
экспансии» и «технологической эффективности»,
постольку оправданно обращение многих западных
«марксистов» к иным философским школам и
традициям. «Феноменология и экзистенциализм,—
утверждает Далмейр,— наиболее предпочтительны в плане
возвращения марксизму человеческого измерения и
целевой перспективы» 12.
Очевидно, что повышенный интерес к гуссерлиан-
ству, пробудившийся у сторонников «неомарксизма»,
имеет под собой прежде всего идеологические
основания. Здесь нужно отметить два момента: во-первых,
«феноменологический» марксизм возникает как еще
один вариант критического преодоления
«ортодоксального» марксизма, а во-вторых, он продолжает
поиски «третьего пути», воспроизводя ход гуссерлевских
мыслей о кризисе «европейского человечества».
Однако попытка синтезировать
«феноменологический» марксизм встречается с рядом трудностей.
Главная из них в том, что идеологическая программа,
мотивирующая философские изыскания «неомарксизма»,
диссонирует с установками феноменологического
анализа. Последний не в состоянии взять на себя
социально-критические функции, ибо «европейское
человечество», о котором толкуют гуссерлианцы, не ведает
социального гнета, а «жизненный мир» не сотрясают
ни революции, ни войны. Естественно, что
«неомарксизм» стремится реформировать это учение, чтобы
приспособить его для своих нужд. Пытаясь разглядеть
за оболочкой трансцендентальных понятий коллизии
буржуазного общества, он ориентирует
феноменологию на решение новых идеологических задач.
Например, один из основателей «феноменологического»
марксизма итальянец Э. Пачи фиксирует внимание на
слабостях гуссерлевского подхода, выдвигая
требование уяснить социальные корни «европейского»
кризиса, а вместе с тем вопросы «рационального
общественного устройства». По его мнению, Гуссерль не
осознал того, что кризис «европейских» наук «является
кризисом их капиталистической утилизации и,
следовательно, выступает как кризис существования
человечества в капиталистическом обществе. Только усвоив
это, феноменология сможет разоблачить капитализм,
6 8—187
137
виновный в сокрытии субъекта и истины, а заодно
подвергнуть критике всякую форму идеологии,
соучаствующую в устранении субъекта» 13.
Философская программа «феноменологического»
марксизма ориентирована в направлении пресловутой
«третьей линии». Особые усилия в этой связи
предпринимаются для того, чтобы доказать идентичность
воззрений Маркса и Гуссерля по вопросу о соотношении
бытия и сознания. Для решения этой задачи чаще
всего используются ранние работы Маркса, в которых
еще не стерлись следы влияния гегельянства и
фейербахианства, а также поздняя концепция Гуссерля,
представленная главным образом в «Кризисе
европейских наук».
В соответствии с давней «неомарксистской»
традицией, взгляды молодого Маркса
противопоставляются диалектическому материализму. В частности,
утверждается, что он якобы рассматривал реальность
только в связи с субъектом, отказывая ей в
самостоятельности. Например, согласно В. Мейсу, Маркс
вообще не был материалистом, испытывая неодолимое
воздействие со стороны гуссерлевского
предшественника — Гегеля. Последний же не только ввел ключевое
для Гуссерля понятие феноменологии, но и
предвосхитил центральную идею его метода — стремление
рассматривать субъективность в качестве условия
появления вещей. «Очевидно,— утверждает Мейс,— что
вопреки своей попытке поставить Гегеля «на ноги», сам
Маркс полностью не отказался от этого подхода:
реальный мир, по крайней мере в его ранних воззрениях,
не существует независимо от сознания» м.
В том же духе высказывается и югославский
«неомарксист» А. Пажанин. Он сближает позиции Маркса
и Гуссерля, утверждая, что первый является «мнимым»
материалистом, а другой — «мнимым» идеалистом. По
его мнению, оба сделали значительный шаг вперед,
осознав, что альтернатива «материализм — идеализм»
является ложной, поскольку выражает два
односторонних типа мышления. «И Гуссерль, и Маркс,—
говорит он,— оба сумели преодолеть идеализм и
материализм, а также их догматическое
противопоставление. Данное обстоятельство позволяет признать
феноменологию и марксизм двумя ведущими
направлениями в современном философском мышлении» 15.
138
Человеческое познание, считает Пажанин, с самого
начала не разделялось на две обособленные сферы —
материальную и духовную. Об этом свидетельствует
античный период в развитии философии.
«Изначальный опыт», выраженный в таких философских
понятиях, как «вода» у Фалеса, «апейрон» у Анаксимандра,
«логос» у Гераклита, «бытие» у Парменида и «нус»
у Анаксагора, не включает в себя ничего такого, что
можно было бы уподобить «духу» в современном
«метафизическом идеализме». «Европейская
философия,— утверждает Пажанин,— не начинается ни с
материализма, ни с идеализма, ибо данная
противоположность характеризует не всю историю
человеческого мышления, в частности, не всю историю философии,
но она имеет место лишь в той эпохе, в которой
господствует разделение материи и духа наряду с
предпочтением одного из этих двух начал» |б.
Молодой Маркс, продолжает югославский «нео-
«марксист», также разработал философию, в которой
отсутствует противопоставление материального и
духовного, но свою систему назвал историческим
материализмом только потому, что не нашел более
подходящего термина. Упомянутое словосочетание он
воспринял из метафизической традиции, которая дала
первоначальный толчок его собственным изысканиям.
Но он с самого начала отбрасывает спекуляции о
«природе в себе», т. е. о природе, изолированной от
человеческой практики. С точки зрения Маркса,
утверждает Пажанин, «осмысленный разговор о природе
возможен лишь в той мере, в какой она опосредована
человеческой историей, т. е. поскольку она уже
очеловечена и стала исторической природой» 17. Позиция
Маркса, считает Пажанин, впоследствии была
искажена Ф. Энгельсом, который на основании
«материалистического прочтения Гегеля» признал существование
«природы в себе», распространив на эту сферу
принципы диалектики. Именно так и возник
диалектический материализм — новая разновидность
«метафизики», которая в схоластическом духе разрабатывает
диалектику природы, признавая «необходимые
законы», применимые во всех областях: от неорганической
природы, пребывающей «в себе», до мыслящей
материи, существующей «в себе» и «для себя». Подобная
метафизика, делающая упор на независимой от
человека реальности с ее «необходимыми» законами.
6*
139
извращает первоначальную концепцию исторического
материализма, в которой Маркс, как считает Пажанин,
исходил «из исторической действительности, несущей
в себе принцип собственного свершения» 18.
Итак, смысл всех претензий к Энгельсу и якобы
созданному им без ведома Маркса диалектическому
материализму заключается в том, что «необходимые»
законы, вытекающие из признания «природы в себе»,
вытесняют «принцип собственного свершения», т. е.
принцип деятельности, для которой существует
единственный «закон» — внутренняя мотивация субъекта.
Таким образом, выясняется, что пресловутая «третья
линия» ведет в обход материалистического
детерминизма к субъективизму и волюнтаризму в
истолковании человеческой свободы. Причем
«феноменологический» марксизм идет по стезе, изрядно истоптанной
его предшественниками. Например, еще Сартр вел
борьбу с концепцией диалектики природы,
утверждая, что если люди подчиняются законам,
действующим помимо их воли и желания, то они неизбежно
лишаются возможности собственного выбора,
превращаясь в пассивный продукт внешних сил. По этой
причине он жаждал освободить марксизм от признания
«неумолимых законов», настаивая на том, что
«диалектика не есть детерминизм» 19.
Следует сказать, что ни «молодой», ни «зрелый»
Маркс не согласился бы с концепцией свободы,
вытекающей из идеалистически препарированной природы.
Даже в «Экономическо-философских рукописях» 1844
года, где он разрабатывает понятие «очеловеченной»
природы, проводится различие между «природой в
объективном смысле» и «природой в субъективном
смысле» 20. Двумя годами позже в «Немецкой
идеологии» Маркс и Энгельс рассуждают о единстве
человека с природой, которое, как они подчеркивают,
«всегда имело место в промышленности», т. е. всегда
было опосредовано производством. Но тут же, как бы
предвидя возможные идеалистические спекуляции
вокруг этого тезиса, они добавляют, что, «конечно, при
этом сохраняется приоритет внешней природы...»21.
Упомянутый «приоритет» выражается в том, что
человек в своей деятельности сообразуется с
естественными, «необходимыми» законами, и даже
воздействовать на природу он может лишь с помощью тех средств,
которые она сама ему предоставляет. К. Маркс
140
детерминист не менее, чем Ф. Энгельс, причем его
позиция органически связана с признанием
объективной реальности. Об этом свидетельствуют даже
работы, предшествующие «Экономическо-философским
рукописям». Например, в 1842 г., обсуждая в газетной
статье один из частных вопросов юридической
практики — проект закона о разводах, 24-летний Маркс
подчеркивает, что в обществе существуют законы,
действующие с естественной необходимостью и
исключающие произвол субъекта. Он пишет: «Законодатель же
должен смотреть на себя как на естествоиспытателя.
Он не д е л а е т законов, он не изобретает их, а
только формулирует, он выражает в сознательных
положительных законах внутренние законы духовных
отношений» 22. К сказанному добавляет, что тот, кто
подчиняется подобным законам, так же мало «творит» и
«изобретает» их, «как пловец — природу и законы
воды и тяжести» 23.
Признание естественной необходимости,
превосходящей волю субъекта, пробивало себе дорогу и в
древнегреческой философии. Конечно,
«первоначальный опыт», на который ссылается Пажанин, сохранял
некоторые черты мифологического мышления — не-
расчлененной формы, не обладавшей способностью
к выделению человека из окружающей его природной
среды. Делая лишь первые шаги на пути к
философскому осмыслению действительности, древнегреческие
мудрецы и в самом деле не противопоставляли
«материю» и «дух» в той универсальной манере, какая была
свойственна, скажем, мыслителям эпохи Шеллинга и
Гегеля. Однако они достаточно четко различали
упомянутые начала в контексте отдельных проблем, в
частности о детерминации человеческого поведения.
Вопреки мнению Пажанина, уже тогда явственно
проступала материалистическая тенденция. К подобному
выводу склоняет, например, следующее изречение
Гераклита Эфесского: «Мышление — великое
достоинство, и мудрость состоит в том, чтобы говорить
истинное и чтобы, прислушиваясь к природе, поступать с
ней сообразною 24.
Столь же неубедительна попытка представить
Гуссерля как философа, превосходящего материализм
и идеализм на уровне «трансцендентальной сферы»,
т. е. в области сознания. Пажанин в этой связи
ссылается на мнение самого Гуссерля, который утверждал,
141
что в феноменологии «без малейших
компромиссов» и «без искусства диалектической аргументации»
получают свое разрешение традиционные
философские противоположности, а именно: «между
рационализмом (платонизмом) и эмпиризмом,
субъективизмом и объективизмом, идеализмом и реализмом,
онтологизмом и трансцендентализмом, психологизмом
и антипсихологизмом, позитивизмом и метафизикой,
теологической и каузалистической картинами мира» 25.
Пажанин довольствуется приведенной цитатой,
чтобы убедиться в продуктивности феноменологических
процедур. Однако нелишне было бы заглянуть в текст,
в котором Гуссерль разъясняет, как все-таки
можно на пути «трансцендентального» анализа устранить
некоторые из вышеназванных противоположностей.
«Субъективизм,— пишет он,— может быть преодолен
только посредством универсальнейшего и наиболее
последовательного субъективизма —
трансцендентального. В этом своем виде он является одновременно
объективизмом, поскольку защищает право всякой
объективности, которая должна обнаруживать себя в
единогласном опыте...» 2б.
Одна противоположность поглощает другую — в
этом смысл гуссерлевского решения, и в самом деле
обходящегося «без всякой диалектики». Выясняется,
что в феноменологической концепции «объективность»
теряет «право» на содержание, независимое от
субъекта. Вместе с тем она превращается в простую
характеристику сознания — в «общезначимость» или
«единогласие опыта», поскольку всякое содержание
создает или «конституирует» сам субъект.
Примерно в этом же духе феноменологический
идеализм поглощает материализм или, выражаясь
несколько иначе, реализм. Здесь нет и намека на
«третью линию», обещанную «феноменологическим»
марксизмом. Сомнения на сей счет рассеивает сам
Гуссерль, четко формулируя свою позицию. «...Всякий
фрагмент объективной реальности,— писал он,— а в
конечном счете и весь мир, который мы признаем
сущим, образует лишь действительное или возможное
содержание наших собственных мыслей...
Следовательно, подлинное бытие для нас — это только
заголовок для актуальных и потенциальных достижений
познания» 27.
142
Ничего не меняет в указанной позиции и поздняя
философия Гуссерля, в частности понятие
«жизненного мира». Правда, здесь возникает некоторая
двусмысленность, с которой необходимо считаться. Ведь
«жизненный мир», согласно Гуссерлю, «дан заранее».
Он изначально известен субъекту в качестве
«горизонта», в котором происходит осознание любой
предметности, и он предшествует всякой деятельности, как
практической, так и теоретической. Создается
впечатление, что речь идет о материальной
действительности, существующей независимо от сознания и
предшествующей ему. Вместе с тем Гуссерль не устает
повторять, что «жизненный мир» имеет субъективные
корни, что он является результатом конституирующей
деятельности «трансцендентального Я». Отсюда
особый статус, которым наделяется в
«феноменологическом» марксизме концепция позднего Гуссерля.
«Жизненный мир,— пишут П. Пикконе и Дж. Хансен,—
является фундаментальным понятием для любой
философии, которая пытается избежать наивного реализма или
идеализма и претендует на адекватный анализ
процесса познания» 2\
Однако «жизненный мир» — это все-таки не
материальная действительность. Это лишь особый тип
сознания, которое формируется исторически на базе
повседневной практики людей. «Жизненный мир»
следует истолковывать как своеобразную матрицу,
которая определяет процессы смыслообразования в
интеллектуальной сфере, обеспечивая искомое
«единогласие опыта». Последнее особенно важно в плане
эволюции самой феноменологии, ибо над ней, как
дамоклов меч, нависает угроза солипсизма — крайней
формы субъективизма. Ведь если индивиды спонтанно
и независимо друг от друга конституируют в сознании
свои «миры», то взаимопонимание между ними
становится едва ли возможным. Постулируя «жизненный
мир» как единый и общий для всех людей тип
сознания, Гуссерль в определенной степени преодолевает
затруднение, которое на языке феноменологии
именуется проблемой «интерсубъективности».
Очевидно, что данная проблема не возникает в
рамках материализма, по крайней мере, в той
осложненной и запутанной форме, в какой она предстает
перед феноменологией. Материальная
действительность — это и есть интерсубъективная основа, которая
143
препятствует превращению сознательной
деятельности в спонтанный и ничем не контролируемый процесс.
С позиций диалектического материализма
безоговорочно осуждается объективизм как его упрощенный,
вульгаризированный дубликат, являющий собой
попытку представить познание как нейтральный,
лишенный каких-либо практическо-ценностных оснований
процесс.
Однако критическое отношение к объективизму со
стороны диалектического материализма и
феноменологии не означает тождественности их
основополагающих принципов. Материализм Маркса — и
«молодого», и «зрелого» — не может сопрягаться с
феноменологическим идеализмом, ибо последний
абсолютизирует в познании роль субъекта. Вознося его над
миром, стало быть, над сферой объективных законов,
он лишает его почвы, на которой, по Марксу, только и
может развертываться разумная и свободная
деятельность людей.
«ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ» путь к социализму
Сторонники «феноменологического» марксизма
выделяют в гуссерлевской концепции несколько
направлений, представляющих для них особый интерес.
Например, Б. Вальденфельс фиксирует в ней наличие
трех главных точек зрения, которые выражаются в
следующих утверждениях: а) все научные понятия
коренятся в сфере первоначального, донаучного
опыта (трансцендентальная точка зрения); б) все они
опираются на определенные сущностные структуры
(эйдетическая точка зрения); в) они ориентированы на
идеи, в которых формулируются цели
(телеологически-генетическая точка зрения).
Каждая из названных точек зрения образует
полярную противоположность по отношению к
соответствующей позиции: а) «объективизма», который
заключается в забвении донаучного опыта как смыслового
фундамента научных понятий; б) «эмпиризма»,
который состоит в забвении «структурно-эйдетических»
предпосылок познания; в) «техницизма», который
выражается в забвении человеческой истории и ее
телеологического смысла29.
144
Обозначенные темы и направления гуссерлевской
критики имеют значение, выходящее за рамки задач
внутреннего развития науки. Именно в этом отношении
они вызывают интерес со стороны «неомарксистов».
Так, основатель феноменологической философии
подчеркнул наличие связи, существующей между
«объективизмом» как методологической установкой науки и
практическим стремлением манипулировать
человеческой личностью. По его мнению, это происходит
потому, что успехи математики и других точных наук
порождают в обществе иллюзию «всезнания», т. е.
благодушной уверенности в достижимости любого
предела в познании мира, а значит, и в расширении сферы
рационального действия. Проникнувшись сознанием
своего интеллектуального могущества, «рационально»
мыслящий человек приобретает также убеждение в
своей возрастающей власти над «миром собственной
практики», над «человечеством», над «судьбой», над
«самим собой» и над «своим ближним» 30.
Гуссерль избегал социологических и политических
интерпретаций «объективизма», и этим он заметно
отличается от «неомарксистов». Однако его
последователи нередко берут на себя функции «марксологов» и
«советологов». Оценивая диалектический материализм
как разновидность позитивизма, виновного во всех
прегрешениях «объективизма», феноменологическая
критика стремится овладеть арсеналом тех средств,
которыми пользовался Гуссерль в анализах
«европейского кризиса».
Нужно отметить, что рассуждения Гуссерля об
«объективизме» содержат некоторый положительный
смысл, если их соотнести с установками буржуазнога
практицизма или, иначе, с рациональностью «грязно-
торгашеской» практики. Но феноменологическая
критика марксизма смещает акценты в нужную ей
сторону, пытаясь обнаружить в самом фундаменте
коммунистической теории стремление лишить отдельную
личность ее спонтанности и свободы. Например,
Л. Ландгребе, один из ближайших сотрудников
Гуссерля, утверждает, что марксисты полностью
разделяют предрассудки «объективизма». Если верить ему,
то марксистский взгляд выражается в убеждении, что
«люди совершенно не ограничены в своих
возможностях контролировать, планировать и организовывать
145
социальную жизнь на основе научного истолкования
диалектических закономерностей ее развития» 31.
Разумеется, в подобных случаях налицо
невероятная путаница, и вместо обсуждения реального
содержания марксистской концепции — условий
гармонизации индивидуального и коллективного, всестороннего
развития личности и т. п.— ее критики выдают какой-
либо суррогат в духе утопий, известных со времен
Платона и предлагающих путь государственной
регламентации всех сторон человеческой жизни. Используя
феноменологическую аргументацию, они, как
правило, действуют избирательно, выражая свое негативное
отношение прежде всего к диалектическому
материализму. В то же время благожелательно
оцениваются ранние концепции Д. Лукача и К. Корша,
«неомарксизм» в его франкфуртской разновидности, так
называемый восточноевропейский, или
«гуманистический» марксизм югославских и чехословацких
ревизионистов и т. п. При этом они исходят из того, что
данные варианты «марксизма» имеют явно
выраженную склонность к разработке «феноменологических»
тем, что могло бы предохранить марксистское учение
от «грубого» позитивизма.
Например, профессор Бостонского университета
М. Вартофский утверждает, что во всех
вышеупомянутых течениях ««активная», или «субъективная» сторона
марксизма, ее «феноменологическая» сторона,
особенно, как она выражена гегельянцем и
фейербахианцем Марксом в «Экономическо-философских
рукописях» 1844 года, эта сторона еще не деградировала до
уровня теоретических схем сциентизма и
детерминизма, которые лишают человека его субъективности и
превращают его в контексте развития истории в
простую марионетку, играющую заданную обществом
роль» 32.
Противопоставление «молодого» и «зрелого»
Маркса в буржуазной марксологии не ново. Пожалуй,
некоторой оригинальностью отличается только
попытка «феноменологического» прочтения «молодого»
Маркса, а именно: стремление доказать, что в
период написания «Экономическо-философских
рукописей» их автор тяготел к субъективизму в его
феноменологической разновидности. Это нужно для
того, чтобы уравновесить «объективизм» марксистской
теории феноменологическим «субъективизмом» и тем
146
самым подчеркнуть активную, творческую сторону
человеческой личности, которая якобы выпадает из
анализов «зрелого» Маркса, а также его
«ортодоксальных» последователей.
Характерно, что в марксологии, как и в буржуазной
философии в целом, существует стойкое убеждение,
будто бы разрешение дилеммы «объективизм —
субъективизм» возможно только путем
сбалансированного, взвешенного сочетания элементов того и другого.
Этот предрассудок образует одну из главных
особенностей феноменологической ревизии марксизма.
Так, Вартофский фиксирует наличие антитезы
между «объективным» марксизмом и «субъективной»
феноменологией. Его не устраивает феноменологический
субъективизм, и он считает феноменологический
подход созерцательным и неисторичным. Достоинство
марксизма, по его мнению, составляет материализм,
который в интерпретации Маркса становится и
историческим, и диалектическим. Но он полагает, что
марксизм, будучи «объективистской» теорией,
рассматривает деятельность субъекта лишь со стороны ее
объективированных форм, со стороны практики, а
следовательно, с чисто внешней стороны. «Несмотря на то, что
Маркс рассматривает труд, производство,
потребление, распределение, обмен и т. п., как деятельность
«субъекта»,— пишет Вартофский,— этот субъект
является простой оболочкой, автоматом. Хотя он может
быть и активным субъектом, но эта активность такова,
что только одно дело активно и даже самоактивно» 33.
Субъект, продолжает Вартофский, лишен
субъективности и обладает лишь таким внутренним
содержанием, которое является простым отражением внешних
условий. Поскольку же «внутреннее» — это то же
самое, что и «внешнее», но «пересаженное» в сознание
субъекта, постольку не может быть и речи о
внутренней активности субъекта. «Конститутивная
деятельность сознания становится в контексте практики не чем
иным, как простым отражением или эпифеноменом
практики» 34. В этом пункте, полагает Вартофский,
феноменология имеет преимущество перед марксизмом,
ибо она «рассматривает структуры мира, жизни и
истории в их существенном отношении к практике
действующего субъекта — к практике самого сознания,
тогда как Маркс опошляет эту разновидность
человеческой практики, эту самосознательную активность.
147
поскольку она для него не более, чем простой труд,
чистая внешность» 33.
Вартофский намерен дополнить марксизм
феноменологическим «субъективизмом». Но дело в том, что
Маркс никогда не был «объективистом». Впрочем, в
его учении нельзя обнаружить и противоположных
тенденций — «субъективистских». Маркс шел другим
путем. Его методологии чужды крайности
«объективизма» и «субъективизма», ибо она базируется на
понятии целостного акта материально-предметной
деятельности, в котором оба эти момента —
субъективный и объективный — не противопоставлены друг
другу, а, напротив, диалектически взаимосвязаны и
взаимообусловлены.
По Марксу, деятельность осуществляется
субъектом, но она развертывается в объективных условиях и
детерминируется ими. Поэтому в ней находят
выражение не только субъективные потребности и интенции,
но и фундаментальные свойства самого мира.
Формируясь на базе практической деятельности, сознание
приобретает ряд ее важнейших характеристик. Как и
практически-преобразующая деятельность, оно имеет
объективное измерение, и его законы — это в
конечном счете законы самой действительности. Как и
практическая деятельность, оно является активным, и его
законы — это законы преобразования
действительности. В то же время сознание специфично, и его
законы нельзя истолковывать как простое отражение
каких-либо природных, биологических или социальных
процессов.
Только с поправкой на специфические свойства
сознания мы можем сказать, что «структуры мира,
жизни и истории» определяют его структуру. Но ссылки на
упомянутые свойства сознания не могут оправдать
феноменологическую точку зрения, согласно которой
объективный мир является продуктом конститутивных
«достижений» трансцендентальной субъективности
или, иначе, структуры сознания определяют
«структуры мира, жизни и истории». Такая позиция не может
служить «дополнением» к марксизму, ибо она
произвела бы радикальную трансформацию его
методологических и гносеологических основ.
Обратимся теперь ко второй из вышеозначенных
гуссерлевских тем — к критике «эмпиризма», которая
непосредственно связана с понятием «жизненного ми-
148
pa». Сторонники «феноменологического марксизма»
очень часто сближают это понятие с марксистской
концепцией общественной практики. Например, И. Сру-
бар, ученик известного чешского ревизиониста К. Ко-
сика, утверждает: «Вероятно, в какой-то степени
утрируя, можно было бы сказать, что сфера
жизненного мира является фундаментальной в марксовой
системе» 36.
Что же является основанием для сближения
позиций Гуссерля и Маркса? Чтобы представить Гуссерля
«марксистом», его обычно изображают борцом
против фетишизации продуктов человеческой
деятельности. Например, в этой связи отмечается важность
гуссерлевского поворота к изучению «предметных
смыслов», или «значений», которые якобы на уровне
чувственного опыта воплощают человеческие
потребности и предшествуют объективным «фактам» и
«вещам». «Подобно тому, как Маркс разоблачил товарный
фетишизм и представил товар как застывший
человеческий труд,— пишет Д. Велтон,— так и Гуссерль
сумел подорвать фетишизм вещей и представил их
значения как достижения человеческого сознания с точки
зрения человеческих интересов» 37.
Чтобы представить Маркса в качестве феноменоло-
га-гуссерлианца, чаще всего используют его раннюю
работу «Экономическо-философские рукописи»
1844 года, в которой вводится понятие
«очеловеченной» природы, а человеческие чувства
характеризуются как «общественные органы». Марксу навязывается
взгляд, будто бы социальная действительность, как и
«жизненный мир» в концепции Гуссерля, дана
субъекту на уровне перцептивного, чувственного опыта,
который воплощает в себе социальные потребности
людей, т. е. является, если использовать выражение
самого Маркса, «продуктом промышленности и
общественного состояния». Например, А. Пажанин
утверждает, что общество, по Марксу, это и есть «истинный
жизненный мир, т. е. допредикативное и дологическое
«пространство» в гуссерлевском смысле, потому что
для него «чувственность» конститутивна» 38.
Легко убедиться, что это не так. 26-летний Маркс
является материалистом и наряду со «второй», или
«очеловеченной», природой признает и «первую», т. е.
объективно существующий мир. Именно этот мир, а
не феноменологически истолкованный субъект, по
149
Марксу, определяет содержание «конститутивных»
процессов, происходящих в человеческом сознании.
Кроме того, Маркс различает два понятия
«чувственности», ибо говорит о «непосредственном» чувстве и
об «очеловеченном». Поэтому «чувственность», по
Марксу, «конститутивна», но не в том смысле, который
вкладывается в это понятие феноменологами.
«Подобно тому,— писал он в 1844 году,— как
человеческие предметы не являются природными
предметами в том виде, как эти последние непосредственно
даны в природе, так и человеческое чувство,
как оно есть непосредственно, в своей
непосредственной предметности, не есть человеческая
чувственность, человеческая предметность» 39.
Таким образом, существуют природные предметы,
не зависящие от способа их данности субъекту, а
также существует непосредственное чувство, т. е. такое,
которое не опосредуется ни «промышленностью», ни
«общественным состоянием». Причем
«очеловеченная» природа и чувства как «общественные
органы» — это выражения, с помощью которых Маркс
описывает специфически человеческий, социальный
способ обнаружения и практического использования
объективно существующих свойств окружающего
мира. Поэтому Маркс далек от стремления социологизи-
ровать перцептивный опыт, как, впрочем, и познание
в целом. Но подобное стремление вполне согласуется
с установками «неомарксизма», который сводит
познание к интересам и потребностям социального
субъекта.
Маркс противник узкого, одностороннего
эмпиризма. Но ему чужд и гуссерлевский априоризм, ибо он,
будучи диалектиком, рассматривал развитие как
важнейший методологический принцип познания.
Напротив, Гуссерль видит в «жизненном мире» своеобразный
предел, за который наука никогда не сможет выйти.
Да и сам этот мир, несмотря на все наши
познавательные и практические действия, «в своей существенной
структуре остается... неизменным» 40.
Критика научной рациональности и связанного с
нею «техницизма» образует третье из вышеозначенных
звеньев между гуссерлианством и «неомарксизмом».
Вместе с тем эта критика подводит к вопросу об
исторических альтернативах тому типу рациональности,
который порождает всеобщее отчуждение. Как же Гус-
150
серль формирует свою
«телеологически-генетическую» точку зрения? Нужно отметить, что он верит в
жизненный смысл рационалистической культуры и
считает, что кризис «европейского человечества»
коренится не в сущности самого рационализма, а в его
извращенных формах, т. е. в «натурализме» и
«объективизме». Акцентируя внимание лишь на внешних,
«телесных» обнаружениях духа, «натурализм», по
мнению Гуссерля, отчуждает от человека его
рациональный жизненный смысл и угрожает низвести
«европейский» мир до уровня бездуховного, варварского
существования.
Подлинный рационализм, который мог бы
прояснить смысл и бесконечные задачи «европейской»
истории, требует, по Гуссерлю, духовного мировоззрения,
ибо человеческий дух в своей универсальности
охватывает сущее любого рода, включая
«объективно-истинный» мир точных наук. Наука относится к сфере
духа, поскольку, с одной стороны, теоретическая
деятельность является разновидностью практики, а с
другой — в субъективно-относительных феноменах
«жизненного мира» находится скрытый источник
обоснования научных истин. Подлинный рационализм — это
задача философии, и он означает такой поворот в
мышлении, когда «философ исходит из собственного
Я, самостоятельно творящего все ценности» 4I.
Позиция Гуссерля не выходит за границы
абстрактных требований философского уразумения
исторического «телоса», или «смысла». Поэтому очень трудно
обнаружить какие-либо содержательные параллели
между нею и концепцией Маркса. Однако сторонники
«феноменологического» марксизма нередко
отваживаются на подобное сопоставление, и тогда гуссерлев-
ские анализы «европейского кризиса» изображаются
едва ли не как новый «Коммунистический манифест».
Например, говоря о последнем гуссерлевском
произведении, Пикконе прямо заявляет, что оно «может
рассматриваться как наиболее адекватный
марксистский текст после «Истории и классового сознания»
Лукача и в качестве такого должно тщательно
изучаться» 42.
Вайда из Будапештской школы сравнивает
концепции Гуссерля и молодого Лукача, полагая, что в
период между двумя мировыми войнами «оба глубоко
осознали кризис буржуазной культуры»43. Вайда
151
настроен против «марксистской ортодоксии»
теоретиков II, а также и III Интернационалов, и поскольку
упомянутая «ортодоксия» обвиняется им в «сциентизме»,
постольку его особенно занимает критика науки,
развернутая Гуссерлем и Лукачем: первым в сочинении о
«кризисе», а вторым в работе «История и классовое
сознание», заложившей теоретические основы
«неомарксизма».
Вайда видит много общего в позиции Гуссерля и
Лукача. Он отмечает, что оба отрицательно относятся
к позитивистскому идеалу наук, т. е. наук,
ограничивающих свою задачу изучением «фактов», ибо они в
таком случае не могут обрести точку зрения
всеобщности или «тотальности», теряют историческую
перспективу и, как следствие этого, вырождаются в
простое искусство «манипуляции». Отсюда, по мнению
Вайды, рассуждения Гуссерля о «запутанном
рационализме», который в условиях «европейского кризиса»
принимает форму «объективизма» и «натурализма»,
отсюда же и толкование Лукачем рациональности как
«калькулируемости», или способности к
механическому исчислению, порождающей в капиталистическом
обществе враждебные человеку
«объективно-рациональные» законы.
Вайда утверждает, что для того и другого анализ
науки не самоцель: кризисные явления в этой
области позволяют им обнаружить экзистенциальный
кризис человечества. Оба стремятся утвердить
подлинный рационализм, обнаружить историческое
измерение человеческой жизни и открыть «телеологию»
европейской истории. Для Лукача решение этих
вопросов связано с миссией пролетариата, тогда как
Гуссерль возлагает надежды на философское мышление.
Вайда отмечает, что гуссерлевское решение едва ли
удовлетворило бы Лукача, поскольку оно не выходит
за сферу действия «духа». Ведь сам Лукач
связывает развитие науки с прогрессом общественного
производства и человеческих форм общения, т. е.
выступает за реальные преобразования.
Однако феноменологическая концепция, считает
Вайда, не лишена смысла и в определенном
отношении деже более предпочтительна, чем точка зрения
Лукача. Чтобы понять это, нужно отказаться от
упрощений в оценке гуссерлевского идеализма. С одной
стороны, «дух» с позиций феноменологии — опреде-
152
ляющий фактор истории. Но ведь есть и другая
сторона вопроса, поскольку этот «дух» каким-то образом
обнаруживает себя в сфере реального человеческого
действия. «Если бы упомянутый дух,— говорит
Вайда,— не охватывал различные
эмпирически-конкретные способы ориентации людей, которые определяют
во всякой исторической ситуации конкретные действия
и акты познания, то вся феноменология была бы не
только внутренне противоречива, но и
бессмысленна» 44.
Следовательно, гуссерлевский идеализм позволяет
осуществить в некотором роде реальное «обращение»
современного человека, когда достигается сознание
того, что «полная изоляция буржуазного индивида и
связанная с нею объективистская картина мира есть
только видимость» 45. «Обращение», подчеркивает
Вайда, не должно быть «тотальным», поскольку всякая
«тотальность» приводит к подавлению личности, а
преодоление кризиса, в котором находится современное
общество, возможно лишь в том случае, если
сохраняется в неприкосновенности человеческая
индивидуальность.
Правда, гуссерлевская позиция, говорит Вайда,
также связана с признанием некоторой «тотальности»,
но эта «тотальность» имеет форму философии, в
которой воплощается «эмансипированный интерес
человечества». В данном отношении позиция Лукача более
уязвима. Возводя в абсолют пролетарскую точку
зрения, она становится разновидностью «объективизма»,
ибо пролетарский «элитаризм» в конечном счете
приводит к «террору общего». В «элитаризме», по
мнению Вайды, заключается и «ложное сознание
большевизма», а именно, «вера в то, что обладающая
самосознанием партийная элита может и должна
олицетворять не только класс, но и все человечество» 4в.
Однако Вайда не в состоянии противопоставить
пролетарскому «элитаризму» более или менее
развернутую программу социалистических преобразований. Его
собственный анализ не идет дальше абстрактного
требования «гармонического сочетания различных
индивидуальностей» 47. Причем данный тезис не включает
даже намека на марксистское обоснование. В
частности, не уточняются классовая принадлежность
тяготеющих друг к другу «индивидуальностей», тот
способ, которым достигается вышеозначенная гармония,
153
и, наконец, общественная сила, которая могла бы
возложить на себя «элитарное» бремя, связанное с
переустройством общества.
Наиболее авторитетна среди
«феноменологических» марксистов концепция Э. Пачи. Ученик видного
деятеля итальянского коммунистического движения,
члена ЦК ИКП А. Банфи, он хорошо ориентируется в
теоретическом наследии классиков марксизма. Его
мышление избежало деформирующего влияния
антисоветизма и часто выбивается из наезженной колеи
«неомарксизма». Так, он негативно оценивает расхожую
концепцию «двух Марксов», утверждает общность
позиций К. Маркса и Ф. Энгельса, признает диалектику
природы и т. п.
Отсюда колебания и противоречия в его
собственных взглядах. В тех случаях когда ему удается
сохранить дух марксистских идей, феноменологический
анализ в его трудах обесценивается. Порой от него
остается лишь специфическая терминология — довольно
экзотичная на фоне чуждого для нее содержания.
В то же время попытка Э. Пачи сочетать
феноменологические принципы с собственной теорией
оборачивается для последней патологическими изменениями,
прежде всего, нарастанием в ней субъективистских
тенденций.
Сказанное наглядно проявилось в стремлении Пачи
отождествить марксистскую концепцию труда с гус-
серлевским понятием «жизненного мира». Известно,
что марксизм рассматривает труд как важнейший
фактор человеческой истории. Фундаментальна его роль
в антропосоциогенезе, т. е. в зарождении человека и
общества. Труд преобразует окружающую среду и
обеспечивает непрерывность культурной истории
человечества. Наконец, в труде находятся исторические
корни познания. Именно в этой сфере формируется
пр'актическо-ценностное сознание — важнейший
уровень осмысления мира, без которого
научно-теоретическая деятельность лишилась бы человеческого
компонента, обратившись в некую разновидность
«машинного мышления».
Отдавая отчет в той роли, которую труд играет в
жизни и познании, Пачи тем не менее пытается
сблизить феноменологический и марксистский подходы.
В его концепции «трансцендентальный субъект»
превращается в рабочего, труд — в «трансцендентальную
154
деятельность», составляющую предпосылку познания,
а «жизненный мир» — в сферу производства и
фундаментальных потребностей людей. «В наиболее общем
смысле,— утверждает он,— субъект является
рабочим. Но если это так, то жизненный мир, охватывая
сферу субъективной деятельности и ее продуктов,
является не чем иным, как сферой труда» 4Ô.
Однако у Гуссерля речь идет о деятельности
«трансцендентального субъекта», т. е. об «актах» или
«переживаниях», благодаря которым конституируется
«мир» как феномен сознания. Причем феноменология
абстрагируется от внешних условий и ограничений
познания, рассматривая его как самодовлеющий процесс.
Между тем в марксизме речь идет о материально-
предметной деятельности, которая сообразуется с
внешней необходимостью. Стало быть, субъективная
мотивация, согласно этому подходу, не является
результатом спонтанного выбора, а строится с учетом
объективных компонентов ситуации.
Пачи выступает за «субъективный» анализ, но в то
же время видит свою задачу в том, чтобы избавиться
от ошибок «субъективизма». Отчасти это ему удается,
но лишь ценой отказа от феноменологической
методологии. Например, в отличие от Гуссерля,
растворявшего объективное в субъективном, он рассматривает
диалектику этих понятий. Его позиция характеризуется
утверждением, что объективная ситуация, в которой
действуют субъекты, неизмеримо богаче их
рефлексии. Отсюда следует, что неспособность понять
закономерности, связанные с «материальным аспектом»
человеческой деятельности, оборачивается
схематизмом, т. е. разновидностью субъективизма. В качестве
исторического примера Пачи ссылается на полемику
В. И. Ленина с меньшевиками о характере
революционных преобразований в России в 1917 году. Исходя из
абстрактной формулы «феодальный — буржуазный —
пролетарский», меньшевики отрекались от
социалистической революции. Они уповали на февральскую
революцию, призванную, по их мнению, покончить с
царским феодализмом и развить в России
капиталистические отношения. Политическому схематизму
меньшевиков, подчеркивает Пачи, В. И. Ленин
противопоставил объективный анализ, опиравшийся на
диалектику исторических событий. Именно это позволило ему
осознать, что «революционная ситуация, возникшая в
155
то время в Петрограде, представила для рабочей
организации уникальный случай» 49.
Теоретический компромисс с феноменологией
выхолащивает своеобразие марксистского анализа и
приводит к субъективизму. В этом убеждает позиция
некоторых учеников Пачи, которые более
последовательны в реализации гуссерлевской методологии.
Например, П. Пикконе, переехавший из Италии в США,
опирается на концепцию своего учителя, стремясь
превратить ее в орудие субъективистской модернизации
марксизма. «Где Маркс,— разъясняет он свою
позицию,— материалистически интерпретировал Гегеля,
там критический и феноменологический марксизм
должен материалистически интерпретировать Гуссерля,
рассматривая экономическую структуру как
жизненный мир и рабочего как трансцендентальную
субъективность именно в той мере, в какой оба понятия в
овеществленной форме входят в «ортодоксальный»
марксизм и бездействуют в нем, вместо того чтобы
объяснять социальную динамику» 50.
Деятельность рабочего, полагает Пикконе,
составляет трансцендентальное условие, определяющее
«жизненно-мировой» опыт или обыденное сознание
людей. Рабочий как «трансцендентальный субъект»
стремится установить «жизненно-мировые»
отношения с объектом труда, чтобы «обращаться с ним
творчески», однако в современных условиях этому
препятствует «дирекция», ибо она формирует
«категориальные структуры», не дающие ему выполнить
«трансцендентальную функцию».
Не будучи в состоянии исполнить свое назначение,
продолжает Пикконе, рабочий принимает
потребительскую модель жизни. С этим смирился и
«ортодоксальный» марксизм, который предлагает концепцию
социализма как версию усовершенствованного
американского общества, где каждый рабочий усваивает
жизненный стиль капиталиста. К идеалу
«потребительского общества» устремлены теперь надежды
рабочего класса в СССР и других социалистических
странах. «Феноменологический» же марксизм притязает на
обоснование иного пути к социализму: через
«жизненный мир», в котором обнаруживаются подлинные
потребности личности рабочего. «Революция,—
заявляет Пикконе,— вызывается потребностью в
становлении подлинно трансцендентального субъекта, т. е.
156
реального человека, а коммунистическое общество
можно определить как систему, в которой
трансцендентальные субъекты могут, наконец,
функционировать как таковые» 51.
Итак, вместо предписаний «дирекции» рабочий
должен стремиться обнаружить себя в качестве
«трансцендентального субъекта» в сфере «жизненного
мира». Этот «левый» поворот в гуссерлевском
мышлении выдается за творческий синтез, позволяющий
преодолеть заблуждения «старых левых», или
«ортодоксальных» марксистов. «Хотя «новые левые»,—
утверждает Пикконе,— преуспели в развертывании
политической критики «старых левых», они до сих пор не
представили теоретической критики, которая была бы
в состоянии произвести переоценку оснований
марксизма. Феноменологический марксизм представляется
зарождением подобной теоретической критики» 52.
Очевидно, что «феноменологический» марксизм
остается в границах «неомарксистской» традиции,
предписывающей «третий путь» в качестве
альтернативы реальному социализму в СССР и других странах
социалистического содружества. Этим объясняются
постоянные рецидивы антисоветизма в различных
вариантах «неомарксизма». Вдохновляясь идеями
Гуссерля и его школы, «феноменологический» марксизм
вносит некоторые уточнения и добавления в
методологический базис концепции «третьего пути». Однако
идеологическая подоплека этих новаций остается
прежней. Характерной особенностью
«неомарксистских» вариаций на эту тему является то, что они
разрабатываются в духе мелкобуржуазных представлений:
революционные изменения предписываются в любой
сфере — в системе «экзистенциальных» потребностей, в
«структуре инстинктов», наконец, в «жизненном
мире», но только не в системе капиталистических
производственных отношений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Почти два десятилетия минуло с тех пор, когда на
гребне студенческих мятежей, накативших на страны
Запада, вспенились «неомарксистские» лозунги,
высвечивая радужным цветом имена Маркузе, Сартра,
Адорно и других леворадикальных мыслителей.
Однако политическая слава тех лет имела непрочную
основу — она питалась главным образом социальным
инфантилизмом и экстремизмом многих участников
бурных событий конца 60 — начала 70-х годов.
Естественно, что волна бунтарских настроений и акций,
схлынувшая к середине 70-х, унесла с собой и
значительную долю политических амбиций «неомарксизма».
Показательны в этом отношении события,
происходившие во Франции в конце 1986 г., когда
консервативное правительство пыталось навязать парламенту
«закон Деваке». Закон предусматривал реформу
национального образования, включающую такие меры,
как повышение платы за обучение, создание
привилегированных университетов и коллежей для подготовки
правящей элиты и т. п. Эти антидемократические планы
вызвали отпор со стороны студентов и лицеистов. По
массовости их действия вполне сопоставимы с
парижским Маем-68: только 4 декабря по улицам Парижа
прошла манифестация, достигавшая, по некоторым
оценкам, миллиона участников. Но если прежде в
студенческой среде тон задавали экстремисты, то спустя
неполных двадцать лет положение изменилось.
Троцкистские и другие ультралевые группки, пытавшиеся
спровоцировать беспорядки и столкновения с
полицией, не нашли почти никакой поддержки.
Эти недавние события отражают некоторые
изменения в общественном сознании Запада, происшедшие
за последние два десятилетия. В течение этого
времени резко упало влияние идеологии экстремизма — как
158
левого, так и правого. Маоистские, троцкистские и
другие левацкие формирования оказались в изоляции,
растеряв многих молодых поборников анархистских
свобод. Левое движение в целом окрепло.
Молодежные и студенческие организации приобрели
некоторый опыт массовых действий, избавившись от ряда
симптомов «детской болезни левизны». В новой
атмосфере изрядно поблекли и повыцвели знамена
ультрареволюционного авангарда «неомарксистского»
течения.
Однако есть и другая причина падения курса
политических акций «неомарксизма». Она связана с так
называемой консервативной волной — мощным
наступлением с середины 70-х годов политической
идеологии, которая выражала стремление правящих кругов
капиталистических стран стабилизировать
существующую социальную структуру за счет сглаживания
имеющихся противоречий. Не только «неомарксизм», но и
другие леворадикальные течения, а также либералы
всех мастей, о «левизне» которых можно говорить с
большими оговорками,— все испытали немалые
трудности в связи с политической экспансией
консервативных сил. Выражением этого процесса явилось
избрание на высшие государственные посты Р. Рейгана в
США, М. Тэтчер в Великобритании, Г. Коля в ФРГ. Во
многих странах консерваторы теснили левобуржуаз-
ных конкурентов. Например, с 1976 г. по 1982 г.
одиннадцать социал-демократических партий в Западной
Европе утратили правящие позиции.
Конечно, не следует преувеличивать масштабы и
успехи консервативного наступления. Его последствия
оказались заметными в экономической сфере, а
также во внешней и внутренней политике
империалистических государств, однако оно не произвело какого-
то решительного переворота в массовом сознании
буржуазного общества. Это можно сказать даже в
отношении США, в которых, без сомнения, находится
эпицентр «консервативной контрреформации». Об этом
свидетельствуют опросы общественного мнения,
произведенные службами Гэллапа и Харриса в разные годы.
Как заметил советский исследователь А. Ю. Мельвиль,
«большинство американцев сейчас вообще не
склонно причислять себя ни к консерваторам, ни к
либералам. И что бы ни говорили сами консерваторы,
сколько-нибудь заметного роста числа сторонников консер-
15?
вативных убеждений среди масс американцев просто
не наблюдается» '.
Можно сказать, что «консервативная волна» гаснет
на подступах к массовому сознанию. Причем это
естественно, поскольку общество «всеобщего
благоденствия» — только миф, созданный идеологами правящей
верхушки капиталистических стран. Пока большинство
населения, находящегося под гнетом монополий,
будет ощущать необходимость перемен, консерваторам
не следует переоценивать свои успехи, а также
рассчитывать на долговременную поддержку своей
линии снизу. Иными словами, пока в странах Запада
сохраняются глубокие противоречия, до тех пор будет
накапливаться недовольство, питающее многими
ручейками леворадикальные течения
социально-философской мысли.
Поэтому нет ничего экстраординарного в том, что,
несмотря на явные сбои в сфере политической
практики, «неомарксизм» добивается все новых успехов в
области теории, оттесняя академические школы и
уверенно располагаясь среди них в качестве
полноправного партнера и жизнеспособного конкурента. Правда,
упомянутые перемены в политической конъюнктуре
Запада не могли обойти стороной «неомарксистское»
движение. Особенно явственно эти процессы
отразились на судьбе Франкфуртской школы. В конце 60-х
годов, когда отошел от дел Хоркхаймер и умер Адор-
но, между ее сторонниками резко обострились
разногласия. В результате произошел идейный и
организационный разрыв между ультралевым крылом
школы, куда относились О. Негт, Ю. Краль, Р. Дучке и др.,
и ее правым крылом, в котором Ю. Хабермас,
опекавший А. Вельмера, К. Эгера, К. Оффэ и др., стал
ориентироваться на политический союз с
социал-демократами. Правда, в это же время от Франкфуртской
школы отпала и третья группа — ряд теоретиков,
входивших в состав Социалистического немецкого
студенческого союза, перешли на позиции
марксизма-ленинизма и вступили в ГКП или в марксистский
студенческий союз «Спартак».
Судьба Франкфуртской школы весьма характерна
в плане дальнейшей эволюции «неомарксизма».
Обретя приверженцев почти во всех развитых странах
Запада, а также в ряде стран социализма, он
обнаруживает тенденцию к размежеванию идеологических по-
160
зиций по трем указанным линиям. В настоящее время
наблюдается заметный спад активности ультралевых
теоретиков, хотя они отнюдь не ушли с арены
идеологических противоборств. Их ослабление
сопрягается с ростом влияния правого крыла, явно или скрытно
ориентированного на реформистскую социальную
доктрину. Третья возможность — сближение с
марксизмом-ленинизмом — решающим образом зависит от
идеологических установок того или иного теоретика,
в частности от его отношения к реальному социализму
и СССР. Например, Д. Лукач, преодолевший
«неомарксистские» заблуждения ранних лет и ставший
крупным теоретиком-марксистом, принимал личное участие
в социалистических преобразованиях в своей стране.
Наоборот, антисоветизм часто становился синонимом
антикоммунизма и отбрасывал за пределы марксизма
(Р. Гароди) и даже «неомарксизма» (М. Мерло-Понти).
По оценкам советских и зарубежных марксистов,
так называемая новая консервативная эпоха может в
ближайшем будущем подойти к своему концу,
поскольку нынешние правительства ведущих западных
держав не смогли решить наболевшие проблемы
капиталистической экономики. Если это произойдет, то
наиболее вероятным последствием будет усиление
«левой волны». Анализируя особенности капитализма
80-х годов, видный западногерманский марксист
X. Юнг приходит к выводу, что «в последнее время
выявилась ограниченность внутренних и внешних
возможностей для проведения консервативного курса.
Происходит перегруппировка социальных и
политических сил, которые порождают возможность
центристской переориентации или сдвига влево»2.
Уже наблюдаются признаки значительных перемен
в идейно-политической жизни Запада: подписание
важных соглашений между СССР и США по вопросам
ограничения вооружений, результаты президентских
выборов во Франции в мае 1988 года, на которых
внушительную победу одержал кандидат «левых» сил
Ф. Миттеран, и т. п. Следует предположить, что
процессы революционной перестройки, происходящие в
нашей стране и оказывающие мощное воздействие на
всю обстановку в мире, упрочат позиции «левых»
движений на Западе. Все это, несомненно, ускорит
эволюцию «неомарксизма» и его размежевание по трем
вышеуказанным направлениям.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
Введение
Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 6. С. 607.
Горбачев М. СО ходе реализации решений XXVII
съезда КПСС и задачах по углублению перестройки: Докл. на
XIX Всесоюэ. конф. КПСС, 28 июня 1988 г. М., 1988. С. 39.
Глава 1
«ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ» РЕВИЗИЯ МАРКСИЗМА
1 Dilthey W.//Gesammelte Schriften. Leipzig, 1925. Bd. 1.
S. XVIII.
2Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 1. С. 242.
3 Jaspers К. Existenzphilosophie. Berlin, 1964. S. 7.
4 Jaspers К. Philosophie. Berlin, 1948. Bd. 1. S. 40.
B Nietzsche F. // Werke: In 3 Bd. München, 1966. Bd. 1. S. 273.
e Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 447.
7 Там же. Т. 42. С. 90.
8 Там же. С. 94.
9 Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 144.
10 Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1967. S. 126—127.
"Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 75.
11 Цит. по: В u г n i е г М.-А. Les existentialistes et la politique. Paris,
1966. P. 99.
13 Pivcevic1 E. Von Husserl zu Sartre. München, 1972. S. 195.
14 Sartre J.-P. Critique de la raison dialectique. Paris, 1960. T. 1.
P. 95.
,ь Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1. С. 29.
16 Там же. Т. 12. С. 718.
17 Sartre J.-P. Op. cit. P. 201.
18 Sartre J.-P. L'être et le néant. Paris, 1943. P. 607.
19 Ibid. P. 539.
20 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм. M., 1953.
С. 9.
21 Л е н и н В. И. // Поли. собр. соч. Т. 12. С. 104.
12 Sartre J.-P. Critique de la raison dialectique. T. 1. P. 369.
23 Sartre J.-P. Situations 2. Paris, 1948. P. 28.
24 M a p к с К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1.
С. 191.
85 M а р к с К. Капитал. Т. 1 // Там же. Т. 23. С. 605.
26 Sartre J.-P. Critique de la raison dialectique. T. 1. P. 313.
27 M a p к с К., Капитал. T. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е
изд. Т. 23. С. 761.
162
28 Цит. по: Караганов А. Художник в сложном мире //
Иностр. лит. 1969. № 10. С. 237.
29 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии
Советского Союза. М., 1986. С. 18. (Далее: Материалы XXVII съезда
КПСС).
30 См.: Ленин В. И. // Поли. собр. соч. Т. 1. С. 138.
31 Штейгервальд Р. «Третий путь» Герберта Маркуэе. М.,
1971. С. 67.
,г Marcuse H., Schmidt A. Existentialistische
Marx-Interpretation. Frankfurt a/M., 1973. S. 141.
33 Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн.
собр. соч. Т. 18. С. 345.
34 Heidegger M. Op. cit. S. 117.
35 M a г с u s e H., Schmidt A. Op. cit. S. 78.
39 Marcuse H. Kultur und Gesellschaft. Bd. 1—2. Frankfurt a/M.,
1970. Bd. 2. S. 19.
37 Heidegger M. Op. cit. S. 384.
"Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 88—89.
39 Там же. С. 92.
40 Там же. Т. 3. С. 42.
41 Marcuse H. Op. cit. S. 39.
42 Ibid. S. 45.
43 Ibid. S. 39.
44 M^a p к с К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 4. С. 149.
45 Ленин В. И. // Полн. собр. соч. Т. 1. С. 137.
46 См.: Кокорев А. А. Силовая «дипломатия» Вашингтона:
(расчеты и просчеты). М., 1985. С. 183.
47 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 19.
49 M а р к с К. Капитал. Т. 3. Ч. 2 // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. 2. С. 386—387.
49 Karl Marx: (1818—1968). Bad Godesberg, 1968. S. 118.
50 Marcuse H. Kultur und Gesellschaft. Bd. 1. S. 44.
51 Janke W. Existenzphilosophie. Berlin, 1982. S. 60.
32 Ibid. S. 67.
"Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 87.
54 Там же. С. 86—87.
56 Там же. С. 114.
58 J a n k e W. Op. cit. S. 69.
57 Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 115.
58 Там же. С. 114—115.
89 J a n k e W. Op. cit. S. 72.
и Ibid. S. 70—71.
81 Ibid. S. 71.
82 Marcuse H. Kultur und Gesellschaft. Bd. 1. S. 81.
83 Marcuse H. Op. cit. Bd. 2. S. 116.
84 Ibid. S. 117.
85 Ibid. S. 109.
96 Ibid. S. 123.
97 Ibid. S. 111.
88 Ibid. S. 127.
89 Ibid. S. 110.
70 Horkheimer M., Adorno Th. W. Dialektik der Aufklärung.
Frankfurt a/M., 1969. S. 20.
71 Ibid. S. 47—48.
12 Habermas J. Knowledge and Human Interests. Boston, 1971.
P. 311.
163
" Ibid. P. 312.
74 Marc use H. One-Dimensional Man. London, 1970. P. 183.
" Ibid. P. 174.
76 Ibid. P. 136—137.
17 Ibid. P. 137.
78 Ibid. P. 121.
" Ibid. P. 137.
80 Г p я э h о ■ Б. С. Логика, рациональность, творчество. М.,
1982. С. 74.
Глава 2
СОЦИАЛЬНАЯ
УТОПИЯ «ФРЕЙДО-МАРКСИЗМА»
1 За рубежом. 1984. 19—25 окт. С. 21.
2 Political Affairs. 1983. N. 2. P. 20—21.
3 Le monde aujourd'hui. 1984. 8—9 juillet. P. 5.
4 Правда. 1987. 20 янв.
6 Marc use H. Kultur und Gesellschaft. Bd. 2. S. 92.
1 Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 262.
7 Маркс К. Капитал. Т. 1 // Там же. Т. 23. С. 606.
8 Там же. С. 607.
* Там же.
10 FreudS. Abriss der Psychoanalyse. Das Unbehagen in der Kultur.
Frankfurt a/M., 1965. S. 53.
11 Ibid. S. 107.
12 Ibid. S. 128—129.
13 Ш и л л e p Г. Манипуляторы сознанием. М., 1980. С. 30.
14 Mitscherlich A. Die Idee des Friedens und die menschliche
Aggressivität. Frankfurt a/M., 1970. S. 80.
15 Mitscherlich A. Aggression ist eine Grundmacht des
Lebens//Der Spiegel. 1969. N. 42. S. 209.
16 Fromm E. The Sane Society. London, 1963. P. 13.
,7Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 162—163.
>8 Там же. Т. 3. С. 19.
19 Мвннинг О. Поведение животных. М., 1982. С. 163.
20 Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е
изд. Т. 23. С. 279—280.
31 Marcuse H. One-Dimensional Man. P. 11.
22 Freud S. Op. cit. S. 15.
ï3 Ibid. S. 14.
84 Marcuse H. One-Dimensional Man. P. 200.
25 Ibid. P. 201.
26 Правда. 1986. 2 сент.
27 Материалы XXVII съезда КПСС. С. 134.
28 Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. 2. С. 110.
29 Reich С h. A. The Greening of America. N. Y., 1971. P. 6.
30 Ibid. P. 4—5.
81 Ibid. P. 5.
32 Ibid. P. 8.
83 Ibid. P. 5—6.
84 Ibid. P. 242.
85 Ibid. P. 243.
86 Ibid.
164
87 Ibid. P. 245.
38 Ibid. P. 16.
39 Ibid. P. 330.
40 Ibid.
41 Ibid. P. 329.
42 Ibid. P. 251.
Глава 3
«ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ» МАРКСИЗМ
В ПОИСКАХ «ТРЕТЬЕГО ПУТИ»
'Husserl Е. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die
transzendentale Phfinomenologie // Husserliana. Den Haag, 1962.
Bd. 6. S. 330.
2 Ibid. S. 328.
3 Ibid. S. 341.
4 Ibid.
« Ibid. S. 133.
« Ibid. S. 126.
I Ibid. S. 145.
8 См.: И о h и h Л. Г. Понимающая социология: Ист.-крит.
анализ. М., 1979. Гл. III.
9 Adorno Th. W. Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Studien
über Husserl und phänomenologischen Antinomien. Stuttgart, 1956.
S. 75.
•° Piccone P. Reading the Crisis//Telos. 1971. N. 8. P. 128.
11 Individuum und Praxis. Positionen der „Budapester Schule".
Frankfurt a/M., 1975. S. 33.
12 Phenomenological Sociology: Issues and Applications. N. Y., 1973.
P. 305.
13 P a с i E. Funzione délie scienze e significato dell'uomo. Milano,
1963. P. 338,
14 Phenomenology and Philosophical Understanding. Cambridge, 1975.
P. 249—250.
15 Phénoménologie und Marxismus. Frankfurt a/M., 1977. Bd. 1. S. 106.
'• Ibid. S. 106—107.
17 Ibid. S. 117.
18 Ibid. S. 111.
'9 Sartre J.-P. Search for a Method. N. Y., 1963. P. 73.
20 Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 164.
II Там же. Т. 3. С. 43.
22 Там же. Т. 1. С. 162.
23 Там же.
24 Материалисты древней Греции. М., 1955. С. 51.
23 H u s s e г I E. Phânomenologische Psychologie // Husserliana. Den
Haag, 1962. Bd. 9. S. 253.
28 Ibid. S. 253—254.
27 Ibid. S. 329.
18 Цит. по: Phenomenological Sociology: Issues and Applications.
P. 332.
29 Phänomenologle und Marxismus. Frankfurt a/M., 1979. Bd. 4.
S. 18—19.
80 Husserliana. Bd. 6. S. 67.
81 Husserl und das Denken der Neuzeit. Haag, 1959. S. 218.
165
32 Husserl: Expositions and Appraisals. Notre Dame, 1977. P. 310.
33 Ibid. P. 309.
34 Ibid.
15 Ibid. P. 309—310.
39 Phénoménologie und Marxismus. Bd. 4. S. 124.
37 Husserl: Expositions and Appraisals. P. 54.
38 P a z a n i n A. Wissenschaft und Geschichte in der
Phénoménologie Edmund Husserls. Haag, 1972. S. 151—152.
"Маркс К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 164.
40 Husserliana. Bd. 6. S. 51.
41 Ibid. S. 346.
42 P i с с о n e P. Reading the Crisis. P. 128.
43 Phénoménologie und Marxismus. Bd. 4. S. 46.
44 Ibid. S. 53.
45 Ibid. S. 70.
46 Ibid. S. 71.
47 Ibid. S. 72.
48 P а с i E. Fenomenologia e dialettica marxista//Praxis. 1970.
N. 3—4. P. 314.
49 Ibid. P. 319.
50 Pi ce one P. Marxismo fenomenologico//Aut Aut. 1972. N. 131 —
132. P. 57.
51 Towards a New Marxism. St. Louis, 1973. P. 153.
52 P i с с о n e P. Marxismo fenomenologico. P. 64.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
'Мельвиль A. Ю. США — сдвиг вправо? Консерватизм в
идейно-политической жизни США в 80-х годах. М., 1986. С. 148.
2 Империализм 80-х годов, экономический кризис и борьба
коммунистов. Прага, 1987. С. 47.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Главе 1
«Экзистенциальная» ревизия марксизма 10
Саботаж истории и внутренняя эмиграция личности ... 13
На баррикадах ультралевого бунта 25
«Царство свободы» и труд 49
Разум против экзистенции 70
Глава 2
Социальная утопия «фрейдо-марксиэма» 85
Эрос и Танатос 90
«Структура инстинктов» и общество 98
«Витальные» рычаги революции 108
Глава 3
«Феноменологический» марксизм в поисках «третьего
пути» 125
Наук? и «жизненный мир» 126
«Молодой» Маркс и «зрелый» Гуссерль 135
«Трансцендентальный» путь к социализму 144
Заключение 158
Библиографические ссылки 162
На/чно-популярное издание
Вопросы идеологической борьбы и контрпропаганды
БАЗИЛЮК Александр Филимонович
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
«НЕОМАРКСИЗМА»
Киев
Издательство
политической литературы
Украины
1989