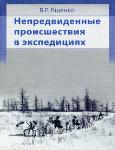Автор: Ахтамзян А.А.
Теги: всеобщая история история очерки истории
ISBN: 978-5-91501-019-1
Год: 2010
Текст
А. Ахтамзян
А. Ахтамзян
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЯ
Очерки
Библос консалтинг
Москва
2010
Ахтамзян A.A.
Объединение Германии. Обстоятельства и последствия.
Очерки. - М: Библос консалтинг, 2010. - 384 с.
ISBN 978-5-91501-019-1
Очерки профессора А. Ахтамзяна написаны по свежим следам
события, имевшего значительные последствия для судеб нашей
страны. Уже в первых публикациях автора после завершения про-
цесса объединения Германии наметилась концепция историка. За
прошедшее со времени события время стали известны такие факты
и документы, свидетельства современников-участников события,
которые подтвердили оценки историка. Особенно ценны свиде-
тельства советских дипломатов, таких, как В. Фалин, О. Квицин-
ский, В. Терехов, И. Максимычев, О. Гриневский и другие, мнени-
ем которых пренебрегли высшие руководители правившей партии.
В данной книге учтены мемуары германских авторов и исследо-
вателей, в частности, многотомные документальные публикации, а
также публикации «фонда Горбачева».
Автор не склонен претендовать на окончательные оценки или
тем более выдвигать обвинения против М. С. Горбачева и его спод-
вижников. Он приглашает читателя ознакомиться с фактами и сви-
детельствами, чтобы сделать обоснованные объективные выводы
относительно обстоятельств и особенно последствий «личной ди-
пломатии» М. Горбачева, Э. Шеварднадзе, выявить упущения и
ущерб, нанесенный горе-политиками интересам нашего народа, в
ходе «окончательного урегулирования» германского вопроса.
Книга адресована новому поколению соотечественников, буду-
щим историкам и юристам, чтобы помочь им извлечь полезные
уроки из исторического опыта. Автор считает, что дипломатия -
это наука и искусство, это деятельность, которая приносит пользу,
а не вред Отечеству.
©
ООО «Библос консалтинг», 2010
Издательство «Библос консалтинг»
Репродуцирование данного издания любым способом
без договора с издательством запрещается
От издательства
Книга российского историка, профессора Московского Государ-
ственного Института Международных Отношений - Университета
МИД России А. Ахтамзяна вышла в свет в 2008 году небольшим ти-
ражом и привлекла внимание научной общественности как строго
документированное, правдивое исследование проблем решения гер-
манского вопроса в конце XX столетия. Одним из первых отклик-
нулся на выпуск книги опытный дипломат, доктор политических
наук, свидетель многих событий того времени, выступивший в «Не-
зависимой газете» (19 июня 2008) под псевдонимом Игорь Федоров.
«Несомненное достоинство книги состоит в том, - отметил он, - что
при объективности анализа фактов, маневров, скрытых намерений, а
также позднейших откровений инициаторов и просто участников
грандиозного события, стоявшего в центре внимания руководителей
всех ведущих государств мира, автор ни на секунду не упускает из
виду национальные интересы СССР - России». Многие читатели
отмечают обоснованность критической оценки личной (не государ-
ственной) политики и дипломатии Горбачева - Шеварднадзе, кото-
рые принимали решения, игнорируя мнение опытных дипломатов-
германистов В. М. Фалина, Ю. А. Квицинского, И. Ф. Максимычева
и других.
Доктор исторических наук, профессор В. А. Трофимов опубли-
ковал в академическом журнале «Новая и новейшая история»
(№1, 2009) развернутую рецензию на монографию, отметив много-
плановый анализ последствий объединения Германии для геострате-
гической ситуации в Европе. Рецензент, в частности, отметил осо-
бенность научной работы: «В процессе изложения материала исто-
рик-патриот А. А. Ахтамзян постоянно держит в центре внимания
вопрос о том, в какой мере политика Горбачева - Шеварднадзе отве-
чала национальным интересам советского, российского народа,
интересам европейской безопасности». «Упущенные возможности»
окончательного урегулирования в отношении Германии (с точки
3
зрения соблюдения интересов России) отмечены многими наблюда-
телями. Исследователь приводит множество не известных широкой
общественности фактов и эпизодов, таких, как операция западных
разведслужб под кодовым названием «Жираф», детали операции
разрушения Берлинской стены или обстоятельства вывода Западной
группы войск. Не упущены из поля зрения особенности дипломатии
перестроечного безвременья, когда согласие с требованиями парт-
неров давалось кивком головы. Оправданием серьезных уступок ве-
ликой державы представителю бывшей вражеской страны служили
ссылки на личные качества партнера, типа «Геншер - хороший че-
ловек»
Автор монографии изучил и хорошо знает германские источни-
ки - воспоминания основных участников переговоров и дипломати-
ческих акций, которые не без гордости повествуют, как им удалось
решить германскую проблему всего за 329 дней, без особых затрат и
без заключения собственно мирного договора. В отклике на книгу
доктора исторических наук чрезвычайного и полномочного посла
России А. И. Степанова под названием «Научный путеводитель по
германскому вопросу» книга названа энциклопедией по германской
проблеме.
«Фонд Горбачева» имеет возможности для публикования боль-
ших по объему, но не полных по содержанию томов, оправдываю-
щих деяния главы фонда. Восполнить пробелы в памяти полезно для
выяснения исторической правды. Нам представляется, что книга бу-
дет интересна для широкого круга читателей.
Генеральный директор
издательства «Библос консалтинг»
В. А. Пономарев
ПРЕДИСЛОВИЕ
Среди приоритетов внешней политики России, по крайней мере
в течение двух столетий, центральное место занимают ее отношения
с Германией. Мирные, хотя и не всегда гармоничные, в период от
наполеоновских войн до первой мировой войны - «золотой век» в
истории отношений двух народов - давали основания для уверенно-
сти в том, что всегда так будет. Однако опыт XX века с его двумя
мировыми войнами, невиданными в истории жестокими блокадами
и сражениями, огромными жертвами и разрушениями с обеих сто-
рон, казалось, говорил о непримиримости жизненных интересов
двух стран. Во всяком случае, он изменил сложившееся в отношени-
ях между двумя европейскими державам понятие «общности судь-
бы» и создал устойчивый стереотип - образ врага: Фрица, с одной
стороны, и Ивана - с другой. Правда, в промежутке между двумя
войнами оказалась целая полоса взаимовыгодного сотрудничества,
экономического и даже военно-технического, получившая наимено-
вание «рапалльской эры». Именно в этот период, как отмечал один
из германских дипломатов того времени, в сознании среднего немца
сложилось убеждение, что дела в Германии идут хорошо, когда у
нее хорошие отношения с Россией.
В большой политике, к сожалению, не всегда действуют сообра-
жения простого человеческого здравого смысла. Над «большими»
политиками чаще довлеет демония власти, стремление к расшире-
нию сферы власти и даже к господству. Говорят, что в этом суть по-
литики: в борьбе за расширение сферы владения материальными
ресурсами, в первую очередь, землями и недрами. Во всяком случае,
нацистская Германия совершила нападение на Советский Союз 22
июня 1941 г. с целью осуществления заранее разработанных планов
расширения жизненного пространства и вытеснения славян по
«Плану Ост» из Европы, а в конечном счете с целью уничтожения
России.
5
Попытки современных псевдоисториков, и германских, и «рус-
ских по крови», представить нападение гитлеровского вермахта как
превентивную атаку или упреждающую «другого агрессора» войну,
поставив на одну доску двух диктаторов - Гитлера и Сталина, столь
же безнравственны, как и отрицание ответственности Германии за
развязывание второй мировой войны. А такие попытки были пред-
приняты в ФРГ во второй половине 80-х годов в ходе «дискуссии
историков» по поводу «релятивации нацизма», точнее, реабилита-
ции нацизма, а в последнее время в форме, подготовленной на Запа-
де и выпущенной огромным тиражом и на русском языке книги
«Ледокол», подписанной псевдонимом В. Суворов.
Мои размышления как российского историка имеют целью вы-
яснить для современников значение и возможные последствия того
решительного поворота в политике, который произошел на рубеже
90-х годов и который призван положить начало новой эре не только
в отношениях между двумя великими европейскими нациями, но и в
истории Европы. Если мы хотим строить отношения между двумя
странами действительно на новой основе, то фундамент надо закла-
дывать не из фальсификаций, а из установленных фактов и истин.
Германия в конце XX века - это третья по своему экономиче-
скому, промышленному и финансовому потенциалу держава мира.
Это страна, которая после двух мировых войн за передел мира в тре-
тий раз на протяжении XX столетия выдвигает далеко идущие пре-
тензии на ведущую роль в мировой политике. Претензии Германии
основаны на том, что страна смогла за десятилетия, прошедшие по-
сле второй мировой войны, не только выйти из кризисного состоя-
ния, но и достичь такого могущества, что она может позволить себе
с чувством глубокого удовлетворения называть себя мировой дер-
жавой, а Россию - «региональной державой», с благоговением взи-
рать на могущественного партнера - США. Германия сегодня -
держава, которая вместе с другими индустриальными державами
активно участвует в разделе богатств России, растаскивании некогда
великой державы. Германия совершает в конце XX века экономиче-
скую, политическую и культурную экспансию в Европе. Происходит
расширение сферы влияния германского капитала в Европе в вос-
точном направлении. Каковы причины такого рода успеха Герма-
нии, потерпевшей сокрушительное поражение во второй мировой
войне? Каковы факторы германского чуда, свершившегося за полве-
ка после второй мировой войны?
Ответ на эти вопросы ищут исследователи не только в нашей
стране, но и в других странах мира. В данном очерке предпринята
6
попытка внести лепту в изучение германского феномена, опираясь
на исследования германских авторов, на германские источники, а
также на личные наблюдения во время неоднократных за истекшие
десятилетия поездок в страну.
В историю навсегда занесен факт: в ночь с 8-го на 9 мая 1945 го-
да военные представители Германии подписали в Карлсхорсте (Бер-
лине) безоговорочную капитуляцию. Формула безоговорочной ка-
питуляции, выработанная совместно союзниками по антигитлеров-
ской коалиции, означала полную ликвидацию Германского рейха.
Иначе говоря, на территории Германии с этого момента до 1949 г. не
существовало никакого государства. Всю полноту власти на герман-
ской территории взяли на себя военные органы оккупирующих дер-
жав - победителей: СССР, США, Великобритании и Франции. Безо-
говорочная капитуляция была подкреплена Декларацией о пораже-
нии Германии, а затем решениями Потсдамской конференции союз-
ников, состоявшейся в июле-августе 1945 г. В период с мая 1945 го-
да до образования двух германских государств в 1949 году союзные
военные власти управляли зонами оккупации, принимали законы,
постановления, распоряжения, которые имели обязательную силу
для немцев. Законность всех решений оккупационных властей была
подтверждена и при окончательном урегулировании в отношении
Германии в 1990 году.
В период с 1945 по 1949 гг. германский вопрос был одним из
главных вопросов мировой политики. Суть вопроса сводилась к по-
иску приемлемого мирного урегулирования, закрепления итогов
второй мировой войны. Однако из-за отказа западных держав от вы-
полнения уже принятых в Потсдаме решений не удалось достичь
мирного урегулирования с Германией. Экономическое и социально-
политическое развитие в западной и восточной частях страны пошло
различными путями, что привело к расколу Германии и образова-
нию в 1949 году двух германских государств - ФРГ и ГДР. Мирного
урегулирования с Германией в целом не удалось достичь и к 1955
году, когда два германских государства вошли в противостоящие
военные союзы: ФРГ в НАТО под эгидой США, ГДР в Варшавский
пакт во главе с СССР.
Безоговорочная капитуляция Германии в мае 1945 г. стала от-
правной точкой послевоенной истории и началом т.н. германского
вопроса, который на протяжении десятилетий был основной причи-
ной напряженности и конфликтных ситуаций в центре Европы. И
вот эта острейшая проблема получила решение в конце столетия.
Окончательное урегулирование с Германией в 1990 году следует
7
признать чудом, особенно если иметь в виду его темпы и итоги.
Трудно не согласиться с германским исследователем Карлом Кайзе-
ром, который по свежим следам так оценил события: «Объединение
Германии и выработка связанного с ним международного урегули-
рования представляют собой величайший триумф дипломатии по-
слевоенного времени, оно означает для Федеративной Республики
величайшее и успешно выдержанное испытание на надежность со
времени ее основания»1. Примечательно, что оценка единения нем-
цев как триумфа удивительно совпадает с оценкой президентом
США окончания холодной войны как победы Запада над «империей
зла». Действительно, в Европе произошли изменения тектонических
масштабов. При этом удовлетворение немцев, естественно, вызыва-
ет мирное течение событий, за что они бесконечно благодарны
«лучшему немцу года» М. Горбачеву и «мастеру компромиссов»
Э. Шеварднадзе: «Изменение произошло ошеломляюще: без трений,
быстро и, что важнее всего, без кровопролития».
Сразу после событий 1990 года публицисты и исследователи в
Германии начали осмысливать успешный опыт решения националь-
ной проблемы, равно как и в России были предприняты серьезные
попытки составить цельную картину развития событий и итогов
германского урегулирования. Следует отметить, что советские дея-
тели не стали утруждать себя даже подобием отчета перед общест-
вом, перед народом о своих деяниях. На это, очевидно, просто не
хватило времени. Что касается самовосхвалений в виде печатных
изданий за рубежом, то это стало чем-то вроде старческой болезни
бывших лидеров «коммунистического движения». Радетели обще-
человеческих ценностей почему-то умалчивают о главном: каков
результат их деятельности для интересов своего народа?
Книга воспоминаний М. С. Горбачева2 представляет собой весь-
ма примитивную, но едва ли популярную попытку оправдаться пе-
ред историей, но, к сожалению, не перед своей страной. Примеча-
тельно, что она вышла сначала на немецком языке в Германии, а по-
том на русском языке в России. Заслуги М. С. Горбачева перед За-
падом уже давно получили признание в виде солидной денежной
премии, а премией имени И. Канта отмечены и заслуги «большого
философа» эпохи, его сподвижника Э. А. Шеварднадзе. Однако, ес-
1 Karl Kaiser Deutschlands Vereinigung- Bergisch Gladbach. 1991. S .16.
Die Vereinigung Deutschlands im Jahr 1990. Eine Dokumtntation. Bonn. 1991 -
2 Горбачев Михаил. Как это было. Объединение Германии. - М., 1999.
8
тественно, возникает вопрос: каковы их заслуги перед нашей стра-
ной, как позаботились они о соблюдении интересов нашей страны?
Издательская аннотация к книге «Президента Советского Сою-
за» представляет книгу М. Горбачева, допустившего развал великой
державы, как «свободное от предвзятых суждений и домыслов сви-
детельство из первых уст о том, почему именно на рубеже 90-х го-
дов произошло объединение Германии, о том, какие возможности
процесс примирения и сближения двух стран открывает для их на-
родов». Ссылка на многочисленные факты и материалы не спасает
мемуариста.
Весьма многочисленные факты и свидетельства из вторых уст, в
том числе имевших отношение к процессу объединения, например
В. М. Фалина, Ю. А. Квицинского, В. П. Терехова, В. И. Кочемасо-
ва, И. Ф. Максимычева, а также X. Модрова, Г.-Д. Геншера,
X. Тельчика, Г. Коля и других, весьма существенно не только до-
полняют, но и меняют внешние впечатления о процессе объедине-
ния Германии, точнее, присоединения ГДР к ФРГ, а главное - отно-
сительно реальных последствий поспешности Майкла Горби. Толь-
ко сопоставление всей совокупности фактов и документов может
дать полное представление о причинах и следствиях «тектонических
сдвигов» в положении Германии и России на европейской арене.
Полагаю, что общественность вправе требовать и отчета, и отве-
та на этот вопрос. Во всяком случае, потребовать публикации доку-
ментов и свидетельств о процессе «урегулирования», в ходе которо-
го происходило решение открытого германского вопроса и целена-
правленное разрушение одной из держав-победителей - Советского
Союза. Для оправдания своей капитулянтской дипломатии т.н. Фонд
М. Горбачева подготовил и выпустил спустя полтора десятилетия
два тома записей помощников и сподвижников бывшего генсека
компартии: «В Политбюро ЦК КПСС... По записям Анатолия Чер-
няева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова (1985-1991)». - М.
2006 и «Михаил Горбачев и германский вопрос. Сборник докумен-
тов. 1986-1991. - М., 2006. Два внушительных тома общим объемом
почти в сто печатных листов, к сожалению, не раскрывают не только
«всей правды», но и малой толики существа проблемы. Исследова-
телям предстоит большая работа по выявлению подлинных причин
и мотивов скоротечной деятельности генсека на дипломатическом
поприще, итогом которой была не только сдача позиций великой
державы, но и ее развал.
В этой связи необходимо учитывать свидетельства современни-
ков событий как с одной, так и с другой стороны. Особую ценность
9
представляют собой четыре тома фундаментальной публикации
германских авторов под общим названием «История германского
единства»: том 1 - Карл-Рудольф Корте, том 2 - Дитер Гроссер, том
3 - Вольфганг Егер, том 4 - Вернер Вайденфельд1. Личные записи и
версии интересны для историков, однако исследования обычно ба-
зируются на документах и достоверных фактах.
В результате объединения немцев и решения германского вопро-
са возникла новая европейская проблема - проблема единства рус-
ской нации. Объединение немцев в едином государстве, конечно,
продиктовано интересами экономического развития индустриаль-
ных стран Европы. Мы можем только радоваться вместе с немцами
тому, что их жизненные условия будут улучшаться. Однако за сорок
лет сотрудничества СССР с ФРГ и ГДР сложились не только эконо-
мические и научно-технические связи, но и чисто человеческие кон-
такты, которые были в одночасье разорваны по воле «титанов»
большой политики.
Для Германии вторая мировая война окончилась без заключения
мирного договора в собственном смысле. Это, конечно, уникальный
случай в истории: потерпевшая поражение в большой войне страна
уклонилась от заключения всеобъемлющего договора, ограничив-
шись договорами и соглашениями об урегулировании, заключенны-
ми с разными державами в разное время. Единый мирный трактат, в
котором была бы зафиксирована ответственность Германии за раз-
вязывание мировой войны, обязательство платить репарации, т.е.
средства на восстановление разрушений и возмещение ущерба
жертвам агрессии, а также территориальные изменения, включая
уступки территорий другим государствам, мировая держава Герма-
нии не подписала. Почему и как все это происходило? Задача дан-
ной книги состоит в том, чтобы проследить развитие отношений
между Германией и Россией после второй мировой войны: от созда-
ния ялтинско-потсдамской системы межгосударственных отноше-
ний в Европе до полного уничтожения ее.
Первые выводы и обобщения относительно «идеальной» дипло-
матии М. Горбачева были сделаны многими политиками и публици-
стами по свежим следам событий еще в начале 90-х годов прошлого
века. Последующие события и реальные результаты деятельности
М. Горбачева и его ближайших помощников, а также свидетельства
участников событий вновь и вновь подтверждают не только пра-
вильность первых критических оценок, но и альтернативных пред-
1 Geschichte der deutschen Einheit in vier Banden - Bd. 1-4 , Stuttgart, 1998.
10
ложений решения германского вопроса, особенно с точки зрения
соблюдения интересов нашей страны.
Автор данной книги очерков наблюдал развитие событий как со-
временник и историк-германист, изучавший германскую проблему
на протяжении нескольких десятилетий до судьбоносных событий.
Основная канва событий, если угодно, хроника, получила отражение
в публикациях в прессе тогда же, в частности, в монографической
работе «Объединение Германии или аншлюс ГДР к ФРГ» (ч. 1-2, М.,
1994), а затем в очерках «Германия и Россия в конце XX столетия»
(М., 2000 г.). Ставшие ныне известными документы и свидетельства
существенно дополняют наши представления о процессе объедине-
ния Германии и позволяют объективно оценить последствия быст-
ротечного процесса объединения Германии при активном содейст-
вии М. Горбачева «со товарищи».
Разумеется, автор не претендует на исчерпывающее освещение
этого исторического события. Многое сказано в публикациях отече-
ственных, а также зарубежных авторов1. Многое еще скрыто от глаз
общественности в правительственных сейфах, а также в донесениях
закулисных деятелей. Однако многим политикам, особенно в стане
победителей, неймется рассказать о своей важной роли в победе над
«империей зла». Цель данной публикации в том, чтобы внести су-
щественные дополнения и уточнения в сложившуюся концепцию
решения германского вопроса в конце XX столетия.
1 Alexander von Plato Die Vereinigung Deutschlands - ein weltpolitisches
Spiel Berlin 2002. Александр фон Плато. Объединение Германии - борьба
за Европу. - М., 2007;
Vernon A Walters Die Vereinigung war voraussehbar. Die Aufzeichnungen
des amerikanischen Botschafters. Berlin. 1994;
Philip Zelikow. Condoleezza Rice. Germany Unified and Europe Trans-
formed. Cambridge. 1995.
Глава I
ГЕРМАНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1. От безоговорочной капитуляции
к образованию двух германских государств
«Акт о военной капитуляции» Германии, подписанный в ночь с 8
на 9 мая 1945 г. в Берлине (точнее, в здании бывшего военно-
инженерного училища в районе Карлсхорст), стал точкой отсчета в
истории не только немецкого народа, но и других народов Европы.
Наиболее достоверным источником информации об этом событии
(по крайней мере, для российских историков) служит глава в «Вос-
поминаниях и размышлениях» Маршала Советского Союза Г. К.
Жукова, одного из главных участников великой эпопеи. Подлинник
собственно акта безоговорочной капитуляции хранится в архиве
Министерства иностранных дел России. Документ подписан от име-
ни германского верховного командования генерал-фельдмаршалом
Кейтелем, генерал-полковником Штумпфом и адмиралом флота фон
Фридебургом. Акт подписан по полномочию Верховного Главноко-
мандования Красной Армии маршалом Г. Жуковым и по полномо-
чию верховного командующего Экспедиционными силами союзни-
ков главным маршалом авиации Теддером в присутствии «в качест-
ве свидетелей» командующего стратегическими воздушными сила-
ми США генерала Спаатса и главнокомандующего французской ар-
мией генерала Делатр де Тассиньи. Формула безоговорочной капи-
туляции означала не только прекращение военных действий вермах-
та, но и возможность предъявления союзниками определенных ус-
ловий и требований, даже принятия карательных мер в случае необ-
ходимости, особенно в случае продолжения сопротивления со сто-
роны немцев.
В Берлине, гарнизон которого капитулировал неделей раньше (2
мая), советские войска под командованием первого коменданта го-
рода Э. Берзарина немедленно приступили к восстановлению нор-
мальной жизни, занялись обеспечением электроэнергией, водой,
продовольствием, расчисткой руин, что позволило избежать эпиде-
мий и голода оставшегося в городе населения. По материалам совет-
ских властей прослеживается, что в дни штурма Берлина большая
12
часть населения покинула город (оставалось не более миллиона че-
ловек, главным образом на окраинах). Однако уже через неделю по-
сле окончания сражения миллион жителей безбоязненно и беспре-
пятственно вернулся в город. К концу мая в городе было уже 3 мил-
лиона жителей («едоков»).
Безоговорочная капитуляция Германии означала ликвидацию
нацистского рейха и всех его органов власти. Декларация о пораже-
нии Германии, опубликованная командующими оккупационными
войсками четырех держав (СССР, США, Великобритании и Фран-
ции) 5 июня 1945 г., объявила, что державы-победители «берут на
себя верховную власть в Германии». Командующие союзных войск
осуществляли всю полноту власти в соответствующих зонах окку-
пации. Для контроля за выполнением условий безоговорочной капи-
туляции был создан Союзный Контрольный Совет, который в пери-
од с июня 1945 по декабрь 1946 г. издал 95 законов, приказов, инст-
рукций не только военного и хозяйственного свойства, но и админи-
стративного и политического характера. В числе актов были меры в
целях ликвидации нацистских учреждений, конфискации их имуще-
ства, отмены нацистских законов. Союзный Контрольный Совет за-
седал в одном из зданий Берлина, куда войска союзников вошли
лишь через несколько недель по соглашению с советскими военны-
ми властями в связи с выводом американских войск из районов Тю-
рингии, куда они вошли «в наступательном порыве», не предусмот-
ренном союзными соглашениями.
Общественная и политическая жизнь самих немцев возрожда-
лась постепенно путем легализации прежних партий и создания но-
вых партий, которые, вполне понятно, могли действовать только с
разрешения оккупационных властей и в сотрудничестве с ними. Так,
ведущую роль в западных зонах взяла на себя ХДС, которую вскоре
после образования возглавил К. Аденауэр, а в восточной зоне - об-
разованная в апреле 1946 г. коммунистами и социал-демократами
СЕПГ, лидерами которой были В. Пик и О. Гротеволь, известные
как последовательные противники нацистского режима.
Социальное и экономическое развитие в западной (большей по
потенциалу) и в восточной частях Германии было неодинаковым: в
западных зонах преобладало влияние США, в восточной исключи-
тельное влияние и воля СССР. Решающее слово по всем политиче-
ским делам оставалось в руках Генералиссимуса И. В. Сталина и его
ближайшего окружения. Почтительное отношение (и даже зависть)
лидеров западных держав к «маршалу Сталину», по крайней мере, в
течение всего времени войны, вплоть до конференции в Потсдаме,
13
да некоторое время после нее, остается историческим фактом. Нет
необходимости поклоняться тени Сталина, но нельзя не признать,
что он был главной фигурой в коалиции, сокрушившей гитлеров-
ский рейх. Попытки некоторых деятелей взять «реванш в мемуарах»
и предстать перед общественностью, особенно перед новым поколе-
нием, титаническими борцами против диктатора, будь то
У. Черчилль или А. Солженицын, совершенно несостоятельны.
Уже в мае 1945 г. в повестку дня отношений между союзниками
был поставлен вопрос об учреждении Контрольного совета по
управлению Германией «в целом». Западные державы сообщили по
дипломатическим каналам, что они назначают в этот орган как сво-
их представителей генерала Д. Эйзенхауэра (США), фельдмаршала
Монтгомери (Великобритания), генерала Делатр де Тассиньи
(Франция). В 20-х числах мая И. Сталин вызвал в Москву Г. К. Жу-
кова и сообщил ему, что назначает его Главноначальствующим по
управлению Германией и поручает ему создание Советской Военной
Администрации в Германии, а также представительство СССР в
Контрольном совете. По предложению Г. Жукова его заместителем
по военной администрации был назначен генерал В. Д. Соколов-
ский. С мая 1945 по апрель 1946 г. маршал Жуков возглавлял СВАГ
и вместе с представителями западных держав в Контрольном совете
решал сложные вопросы денацификации и демилитаризации, управ-
ления оккупированной страной. Ни о каком, даже «малом» сувере-
нитете немцев в период с 1945 по 1949 гг. не было речи.
Одним из первых вопросов межсоюзнических отношений встал
вопрос о размещении союзнических войск в Берлине, взятом совет-
скими войсками в результате гигантского сражения. Размещение
войск союзников в городе ставило вопрос о поддержании коммуни-
каций (наземных и воздушных) через советскую зону. Проблема бы-
ла решена по инициативе Г. Жукова в прямой увязке с очищением
от американских войск территории Тюрингии, которая входила в
советскую зону оккупации. Некоторое время в Контрольном совете
даже сложные вопросы взаимодействия союзников решались, как
отмечал Г. К. Жуков, «сравнительно гладко». Однако вскоре воз-
никли политические проблемы, связанные с нежеланием западных
держав полностью распустить некоторые формирования нацистско-
го времени, нежеланием западных властей допустить советских
офицеров к допросам германских военных преступников, интерни-
рованных в западных зонах, наконец, нежеланием западных властей
способствовать репатриации советских граждан (военнопленных,
перемещенных лиц), оказавшихся на территории западных зон. Ви-
14
димо, именно нежелание продолжать сотрудничество в духе союз-
нических отношений периода совместной войны против нацизма
побудило западные державы отозвать своих видных военачальников
из Германии. В этой связи в Москву был отозван в апреле 1946 г. и
маршал Г. Жуков. Советская Военная Администрация, возглавляе-
мая В. Д. Соколовским, а затем В. И. Чуйковым, сосредоточила свои
усилия на сотрудничестве с общественными силами антинацистской
ориентации, прежде всего с коммунистами, социал-демократами,
либеральной интеллигенцией, в восточной части страны.
Первой крупной акцией СВАГ (Советская Военная Администра-
ция в Германии) весной 1945 г. была «тыловая» работа по подготов-
ке территории и помещений в Потсдаме и Бабельсберге для приема
высших представителей держав-победительниц на первую послево-
енную конференцию. В ходе подготовки к конференции военные
проделали сугубо мирную работу: в Цецилиен-Хоф на клумбах в
парке было высажено десять тысяч различных цветов, отделаны
апартаменты: для американского президента в голубом цвете, для
британского премьера - в розовом, а для советской делегации - бе-
лый зал. Очевидно, по прямому указанию И. Сталина были пред-
приняты усилия, чтобы в зале заседаний установить большой круг-
лый стол, чтобы по английской традиции обеспечить равенство уча-
стников встречи. Однако в Германии не удалось найти подходящий
стол. Большой круглый стол был срочно доставлен в Потсдам из
Москвы, где он был изготовлен на фабрике «Люкс».
На встрече «Большой тройки» в Потсдаме с 17 июля по 2 августа
1945 г. были приняты решения, которые должны были обеспечить
«права и ответственность держав в отношении Германии как цело-
го». Союзники поставили цель: искоренить нацизм и милитаризм,
чтобы не допустить впредь агрессии со стороны Германии. Формула
Потсдама была ясной: никогда впредь с германской земли не должна
исходить война. Потсдамские решения определили политику держав
в отношении Германии, с которой предстояло, однако, заключить
мирный договор.
Крупной совместной акцией четырех держав было проведение
международного трибунала в Нюрнберге в период с октября 1945 по
октябрь 1946 г. В итоге более чем 400 заседаний суд вынес обосно-
ванный суровый приговор по делам главных военных преступников,
чья преступная деятельность не была связана с каким-либо одним
географическим районом. Многие другие военные преступники бы-
ли судимы в тех странах, где они совершили преступления против
человечности: Франции, Италии, Советском Союзе.
15
Уже в 1946 г. США отказались от выполнения Потсдамских по-
становлений, исходя из того, что они якобы выгодны только Совет-
скому Союзу, закрепляют его позиции в Европе. Они поставили под
сомнение окончательный характер территориальных изменений в
Европе, в частности, линии Одер-Нейсе, а также воспрепятствовали
изъятию оборудования из западных зон оккупации для удовлетворе-
ния репарационных требований СССР и Польши. Советский Союз
демонтировал и вывез более 600 промышленных предприятий из
восточной части Германии, что позволило сократить сроки восста-
новления промышленности и народного хозяйства в СССР.
На Потсдамской конференции летом 1945 г. союзники приняли
решения в отношении Германии, известные в литературе как план
«4-х де»: демилитаризация, денацификация, демократизация, декар-
телизация. Имелись в виду меры полной ликвидации германской
военной машины - вооруженных сил, генерального штаба, военных
училищ и учреждений, полное уничтожение и запрещение нацист-
ской партии и ее учреждений; демократизация означала разрешение
деятельности различных политических партий; декартелизация при-
звана была лишить власти монополии, которые несли ответствен-
ность и за передачу власти нацистам в 1933 г., и за развязывание аг-
рессивной войны в 1939 г. Западные державы понимали под декар-
телизацией дробление крупных фирм, устранение конкурентов в
лице германских монополий. Советское правительство толковало
понятие по-своему: как национализацию крупных предприятий, соз-
дание «народных предприятий», а также смешанных обществ, кото-
рые позже в 1953- 55 гг. советские власти передали правительству
ГДР.
В конце второй мировой войны в США был выработан план де-
индустриализации Германии, превращения ее в сплошное «карто-
фельное поле». Проект получил название по имени инициатора про-
екта министра финансов США «План Моргентау». Однако после
войны американские монополии изменили свое отношение к гер-
манской промышленности, получив в свое распоряжение герман-
ские активы и ценные бумаги, а затем начали широкое инвестирова-
ние капиталов в восстановление германской индустрии под своей
эгидой. США оказали большую помощь Западной Германии по пла-
ну Маршалла, а затем прямыми капиталовложениями в германскую
промышленность. Можно сказать, США сыграли решающую роль в
восстановлении германского промышленного потенциала в первые
послевоенные годы.
16
Социально-политическое развитие в двух частях Германии в пе-
риод с 1945 по 1949 гг. происходило по разным путям. В Западной
Германии возобновили свою деятельность политические партии
«веймарского периода», правда, большей частью под иными назва-
ниями: создана партия клерикального происхождения ХДС (Хри-
стианско-Демократический Союз), преемница партии католического
Центра, которую возглавил К. Аденауэр. Дочерняя партия в Баварии
приняла название ХСС (Христианско-Социальный Союз). Оформи-
лась либеральная партия под названием Свободная Демократическая
партия. Возобновила свою деятельность Социал-Демократическая
партия Германии /СДПГ/. Легализовалась Коммунистическая
партия.
В Восточной Германии была разрешена деятельность антинаци-
стских демократических партий. В то же время поддержку получили
партии рабочего класса - коммунистическая и социал-
демократическая, которые весной 1946 года создали партию нового
типа - Социалистическую Единую партию Германии, которая при
поддержке советских властей подготовила и - осуществила 7 октяб-
ря 1949 г. создание государства рабочих и крестьян - Германской
Демократической Республики.
В Западной Германии политические партии, организовавшие
Парламентский совет во главе с почтенным старцем Конрадом Аде-
науэром, подготовили создание сепаратного (отдельного) государст-
ва на территории Западной Германии. 23 мая 1949 г. была деклари-
рована, одобренная западными державами, конституция создаваемо-
го нового государства - Основной закон Федеративной Республики
Германия. Этот день стал днем национального праздника ФРГ и ос-
тавался таковым вплоть до объединения Германии в 1990 г. Основ-
ной закон ФРГ исходит из трех фундаментальных положений: га-
рантии права частной собственности, установления свободного пар-
ламентарного строя, признания свобод и прав человека. Конститу-
ция ФРГ основана на концепции формирования правового государ-
ства и предусматривает федеративную структуру государства, а
также созыв представительного органа - нижней палаты парламента
- бундестага, избираемого раз в четыре года на всеобщих выборах, и
бундесрата - верхней палаты парламента, состоящего из представи-
телей земель пропорционально численности населения. Федераль-
ное собрание избирает президента федерации один раз в пять лет,
причем не более чем на два срока. Бундестаг после очередных выбо-
ров выбирает федерального канцлера, который определяет направ-
17
ления внутренней и внешней политики государства в течение легис-
латурного периода.
В период с 1945 по 1949 гг. в Германии шел процесс размежева-
ния по социально-политическому принципу. Раскол Германии стал
результатом полярно противоположной политики СССР и США,
поддержанных двумя западными державами. Итогом острого проти-
воборства, в том числе вокруг германской проблемы, а также соци-
ально-экономических преобразований в западной и восточной час-
тях страны, стало образование двух германских государств в 1949 г.
ФРГ и ГДР. Затевать сегодня спор, какое из двух германских госу-
дарств было более легитимным, а какое менее легитимным - едва ли
было бы результативным. В конечном счете оба были признаны как
суверенные государства мировым сообществом. ФРГ образовалась
под эгидой трех западных держав, заключивших с ней в мае 1952 г.
«общий договор», а к маю 1955 г. принявших ее в Североатлантиче-
ский союз и в военную организацию НАТО. ГДР была создана в
сфере влияния Советского Союза и включена в военный союз госу-
дарств Варшавского договора, правда, с «оговоркой Гротеволя»:
ГДР входит в военный союз, но лишь до момента возможного объе-
динения немцев в едином государстве.
Отношения СССР с двумя германскими государствами склады-
вались неодинаково: провозглашенная 7 октября 1949 г. ГДР была
тотчас признана СССР и его союзниками. Советский Союз пошел на
признание и установление дипломатических отношений и с ФРГ в
сентябре 1955 г. К этому моменту ФРГ официально обрела полный
суверенитет. Тогда же в сентябре 1955 г. СССР заключил с ГДР пер-
вый государственный договор, предоставивший республике воз-
можность обрести суверенитет в полном объеме. Размежевание двух
германских государств стало в 1955 г. свершившимся фактом и в
международно-политическом отношении: они оказались в двух про-
тивостоящих военных блоках. Таков был итог первого послевоенно-
го десятилетия, определивший политические реалии на десятилетия
конфронтации и сосуществования в Европе.
Заключение Государственного договора о восстановлении суве-
ренитета и независимости Австрии при участии СССР, США, Вели-
кобритании и Франции в мае 1955 г. давало хороший пример урегу-
лирования и для Германии. Однако эта возможность не была ис-
пользована тогдашними лидерами политики ФРГ, более того, она
была высокомерно отвергнута от имени «всех немцев», которые
якобы не желали нейтралитета. Правящие круги ФРГ предпочли
единство с Западом единству с немцами в «советской зоне оккупа-
18
ции», отложив серьезные переговоры с Москвой до того момента,
когда ФРГ сможет опереться на внушительный экономический и
военный потенциал.
Сосуществование двух германских государств в условиях «хо-
лодной войны» было чревато кризисами и конфликтами, которые
могли вовлечь всю Европу в осложнения. Так было во время суэцко-
го и венгерского кризисов 1956 г., так было позже в 1958-61 гг., ко-
гда международные осложнения были связаны с напряженностью
вокруг статуса Западного Берлина. В итоге изнурительной конфрон-
тации в 1961 г. возникла Стена в Берлине, разделившая не только
немцев, но и другие народы Европы.
2. Германское экономическое чудо - предпосылка
политической стабильности
Первым федеральным канцлером ФРГ в течение 14 лет с 1949 по
1963 г. (более трех легислатур бундестага) был Конрад Аденауэр, а
потом в течение весьма кратких сроков (менее одной легислатуры
бундестага) - его преемники Людвиг Эрхард (1963-1966) и Курт Ге-
орг Кизингер (1966-1969). Политическая стабильность в ФРГ опре-
делялась успешным экономическим развитием: быстрым восстанов-
лением довоенного уровня производства, постепенным улучшением
жизненного уровня населения, а затем и бурного экономического
подъема на основе концепции социального рыночного хозяйства.
Немалую роль сыграла экономическая помощь, оказанная Западной
Германии со стороны США.
Непрерывное динамичное развитие промышленного производст-
ва и всего народного хозяйства ФРГ обеспечило не только полити-
ческую стабильность, но и решение основной национальной задачи
немцев после поражения во второй мировой войне - создание еди-
ного федеративного германского государства. За короткий срок по-
сле окончания мировой войны уже к 1950 году Западная Германия
восстановила довоенный уровень, а также мощь банковских групп -
«Дойче Банк», «Дрезднер Банк» и «Коммерцбанк», вокруг которых
группировались промышленные монополии и фирмы, быстро пре-
одолевшие последствия декартелизации, фактического разделения
на дочерние фирмы и предприятия. Наглядным примером такой де-
картелизации считается разделение печально известного концерна
«И. Г. Фарбениндустри» на концерны «БАСФ» (Бадише Анилин унд
Сода-Фабрикен), «Байер АГ» и «Хехст», каждый из которых очень
19
быстро превзошел мощность прежней монополии. Высокий темп
роста промышленного производства с 1950 по 1960 г. (средний темп
прироста валового продукта составил за те годы 9,6 процента), за-
ставил экономистов всего мира, прежде всего американских, при-
знать, что свершилось «экономическое чудо», и заняться выявлени-
ем секрета быстрого экономического роста страны, потерпевшей
сокрушительное поражение в войне.
Ретроспективно оценивая «германское чудо», следует прежде
всего отметить благоприятные для ФРГ внешние обстоятельства:
«холодная война» против влияния Советского Союза побудила
США оказать массированную экономическую помощь ряду стран
Европы по плану Маршалла (Западная Германия получила товаров
на 4 миллиарда долларов), а затем и крупные инвестиции преиму-
щественно американского капитала (до 40 млрд. долларов) в герман-
скую индустрию. Во время корейской войны американские фирмы,
естественно, были заняты обеспечением всем необходимым своей
военной машины, а германские фирмы конкурентоспособно вышли
на мировые рынки промышленной продукции, особенно на рынки
машиностроительной, химической и текстильной продукции. Разу-
меется, внутренние резервы, особенно воссозданные к этому време-
ни основные фонды, резервы квалифицированной рабочей силы,
которая долгое время довольствовалась скромным вознаграждением,
но повышала свой профессиональный уровень под давлением на
рынке труда, имели немаловажное значение. Динамичный рост про-
изводства и успешное освоение внешних рынков обеспечили ста-
бильность немецкой марки и накопление золотовалютных запасов. К
этому следует добавить сравнительно небольшие до вступления в
НАТО расходы на военные цели, а также выгоду от использования
труда иностранных рабочих.
Не претендуя на полное выяснение причин и факторов динамич-
ного роста экономики ФРГ, мы должны отметить в числе решающих
факторов процветания экономики Западной Германии своевремен-
ный правильный выбор концепции развития. Обычно считают «от-
цом» экономического чуда министра экономики в правительстве
К. Аденауэра профессора политэкономии Людвига Эрхарда, кото-
рый действительно много сделал для либерализации частнопред-
принимательской деятельности при налаженной системе регулиро-
вания хозяйственной деятельности со стороны государства1. Однако
'Эрхард Л. Благосостояние для всех. - Карлсруэ, 1960. (Примечательно,
что западногерманское издательство еще в 1960 г. выпустило книгу на рус-
ском языке).
20
часто в тени остаются действительные авторы концепции социаль-
ного рыночного хозяйства, идеи которых позволили верно опреде-
лить не только основное направление, но и методы модернизации
капиталистической системы, причем при непременном условии ак-
тивной регулирующей роли государства, создания системы соци-
альной защиты населения, выравнивания доходов разных слоев на-
селения. Государственное регулирование экономики по этой кон-
цепции должно осуществляться не только через кредитно-денежную
систему, через финансы, но и административными мерами регули-
рования рынка рабочей силы, инвестиций, условий сбыта и т.д. Тео-
ретическое обоснование концепции социального рыночного хозяй-
ства выполнили уже в первые годы после войны ученые экономисты
В. Ойкен1 и А. Мюллер-Армак. Последний был статс-секретарем
при министре экономики Л. Эрхарде. Российские публицисты и по-
литики, которые много пишут и говорят про внедрение концепции
рыночного хозяйства, игнорируют не только исторические условия,
внешние факторы германского опыта, но и важные составные части
самой концепции, которая отнюдь не сводится к беспредельной сво-
боде на стихийном рынке, но предусматривает баланс интересов
различных слоев общества. Германские экономисты, продолжающие
обобщать позитивный и негативный опыт своей страны, выявляют
характерные черты и дефекты системы социального рыночного хо-
зяйства, которая и в Германии не служит автоматически как «веч-
ный двигатель». Научная концепция (не имеющая ничего общего с
законами бутырского или тишинского рынков в Москве, или рынка
торговли тюльпанами, выращенными не руками торговца) строится
как теория общенационального рынка-хозяйства, цель которого не в
беспредельной наживе, а в обеспечении потребностей общества и
нации.
Успешный опыт применения концепции социального рыночного
хозяйства в Германии вовсе не дает универсальную возможность
перенесения его на любую почву, тем не менее, он представляет и
общий интерес, но при условии его всестороннего изучения и ком-
плексного применения с учетом всех составляющих его частей, а не
отдельных, вырванных из контекста положений. Во всяком случае,
германский опыт предполагает строгое соблюдение определенных
условий формирования национального рыночного хозяйства: созда-
1 Ойкен В. Основы национальной экономики. - М., 1996 (перевод с 9-го
немецкого издания под общей редакцией и с предисловием д.э.н.
B.C. Автономова и к.э.н. В. Гутника).
21
ние условий свободной экономической конкуренции, обеспечение
действительной самостоятельности предприятий, ценообразования
через спрос и предложение, свободу предпринимательской деятель-
ности и объединений, социальное обеспечение работающих по най-
му, свободу выбора для потребителей и защиту прав потребителя,
право работающих на предприятии на соучастие в управлении про-
изводством, наконец, реальное обеспечение свободы выбора рабоче-
го места1.
Два десятилетия (с 1949 по 1969 гг.) блок ХДС и ХСС в коали-
ции с либеральной партией Св. ДП, а затем на короткое время в
«большой коалиции» с СДПГ, бессменно управлял Западной Герма-
нией. Стабильность режима обеспечивалась прежде всего тем, что
соотношение сил или баланс сил в Федеральном собрании позволя-
ли избирать приемлемого для коалиции федерального президента
(глава государства избирается не прямым голосованием на всеобщих
выборах, а на собрании в составе бундестага и представителей зе-
мель). Первым президентом ФРГ в течение двух сроков полномочий
(с 1949 по 1959 г.) был свободный демократ Теодор Хойс, затем
также в течение двух пятилетних сроков (с 1959 по 1969 г.) - хри-
стианский демократ Генрих Любке.
В последующие периоды федеральными президентами на один
пятилетний срок избирались в 1969-74 гг. Густав Хайнеман при
поддержке социал-демократов, в 1974-79 гг. лидер Св. ДП Вальтер
Шеель, затем в 1979- 84 гг. деятель ХДС Карл Карстенс.
Экономическое чудо не означало, что германские фирмы полу-
чили свою прибыль и почивали на лаврах. Полученные капиталы
пошли на расширение и модернизацию промышленных предпри-
ятий, особенно экспортных отраслей индустрии. Непрерывное на-
ращивание экспорта товаров сопровождалось увеличением золото-
валютных резервов и инвестициями в перспективные отрасли про-
изводства: машиностроение, химическую и текстильную промыш-
ленность. Особо следует отметить развитие производства военной
техники, которую сложившийся военно-промышленный комплекс
поставлял сначала бундесверу, затем союзникам по НАТО, а позже и
за пределы НАТО. Экспорт товаров на мировые рынки стал мощным
стимулом развития германской промышленности.
Linke Н., Portner D. So leben und arbeiten wir morgen-neun
Entwicklungsprognosen. Bonn 1987, S. 7-8.
22
Стабильность политической власти, несомненно, основывалась в
50- 60- х гг. на успешной реализации программ экономического раз-
вития, улучшения условий жизни и обеспечения благоприятных
внешних условий в тесном союзе с западными державами, прежде
всего США. Именно в период становления ФРГ полностью и окон-
чательно определилась внешнеполитическая ориентация западно-
германского государства: в 1952г. ФРГ заключила т.н. общий дого-
вор с США, Англией и Францией, в 1957 г. - Римский договор для
создания «общего рынка» шести европейских государств (взяв тем
самым курс на всестороннюю интеграцию стран Западной Европы),
наконец, она вступила в Североатлантический союз (НАТО), полу-
чила легальную возможность создания своего военного потенциала,
кроме оружия группы ABC. В 1955 г. ФРГ пошла на установление
дипломатических отношений с Советским Союзом. Эра Аденауэра
увенчалась заключением Елисейского договора с Францией
(1963 г.), а также присоединением к договору о запрещении ядерных
испытаний в трех средах. Однако кризис социальной программы
ХДС и жесткий курс восточной политики привели к тому, что изби-
ратели на выборах 1969 г. отдали предпочтение социал-либеральной
коалиции СДПГ во главе с В. Брандтом и Св. ДП во главе с В. Шее-
лем. Последовавший 12-тилетний период, когда правительство воз-
главляли лидеры социал-демократической партии Вилли Брандт
(1969-74 гг.), а затем Гельмут Шмидт (1974-82 гг.) вошли в историю
как период успешного претворения в жизнь новой восточной поли-
тики и упрочения положения ФРГ как крупнейшей среди средних
держав. Крупнейшими акциями социал-либеральной коалиции сле-
дует признать заключение договора между ФРГ и СССР в 1970 г. и
последующее урегулирование не только «берлинской проблемы», но
и отношений ФРГ со странами Восточной Европы, а также с ГДР.
Несомненным успехом ФРГ в тот период было одновременное с
ГДР вступление в ООН.
3. Установление дипломатических отношений
между ФРГ и СССР
Германский вопрос оставался наиболее острым вопросом миро-
вой политики не только в 1945- 49 гг., но и потом в течение 4-х де-
сятилетий. Более того, он был периодически причиной опасных обо-
стрений в международных отношениях, приводивших к грани воен-
23
ного конфликта. Так было в период берлинского кризиса в 1948 го-
ду, затем - в 1958-60-гг., хотя нить дипломатических контактов и
переговоров между бывшими союзниками на основе признания прав
и ответственности за Берлин и Германию в целом не обрывалась.
Уже первый берлинский кризис обнажил противоположные позиции
держав, особенно СССР и США, хотя каждый раз после этого при-
ходилось искать и находить компромиссные решения. Еще до обра-
зования двух германских государств в 1949 г. известную роль со-
трудника оккупационных держав в Западной Германии играл быв-
ший бургомистр Кельна Конрад Аденауэр, переживший годы наци-
стского режима в своем доме в Рендорфе на Рейне и получивший
после войны в прессе восточного блока нелестную оценку амери-
канской марионетки. Было хорошо известно, что он возглавил пар-
ламентский совет по выработке конституции сепаратного западно-
германского государства и успешно выполнил задачу.
Принятие Основного закона 23 мая 1949 г. и образование ФРГ, а
затем 7 октября 1949 г. и ГДР под эгидой СССР было в известном
смысле действительно поворотным пунктом в истории Европы (по
определению И. В. Сталина). В течение четырех десятилетий не
только немецкий народ, но и другие народы Европы жили разделен-
ные не просто демаркационной линией, но и государственными гра-
ницами, которые западная пресса с легкой руки У. Черчилля назы-
вала не иначе, как «железным занавесом». В момент образования
ФРГ и правительства во главе с 73-х летним деятелем Христианско-
демократической партии Конрадом Аденауэром была определена не
только концепция, но и программа нового федеративного государст-
ва, провозгласившего себя единственным легитимным государством
на германской земле.
Правительство К. Аденауэра объявило, во-первых, претензию
представлять весь немецкий народ, во-вторых, позицию непризна-
ния законности правительств ряда стран Восточной Европы. Отме-
тим, что это имело место через четыре года после безоговорочной
капитуляции Германского рейха. Конечно, это оказалось возмож-
ным только благодаря поддержке ФРГ со стороны западных держав,
особенно США, которые диктовали даже федеративное устройство
государства. ФРГ не получила полный суверенитет и не могла еще
самостоятельно определять не только внешнюю политику, но и от-
ношения с отдельными странами. Тем не менее, в программном за-
явлении К. Аденауэра было подчеркнуто, что не может быть и речи
о «дружественном» отношении к Советскому Союзу. Даже эконо-
мическое сотрудничество, не говоря уже о выполнении репарацион-
24
ных обязательств перед СССР и Польшей, было отклонено под
предлогом нежелания содействовать укреплению военного потен-
циала Советов. Инициативы советской дипломатии по мирному уре-
гулированию, предпринятые еще в 1952 г. при жизни И. В. Сталина,
а затем после его смерти, в 1954 г. (проект мирного договора) не по-
лучил понимания ни у западных держав, ни у ФРГ. Известно, в ис-
ториографии еще и сегодня продолжается спор по поводу этих ини-
циатив: не был ли тогда упущен шанс мирного урегулирования и
воссоединения Германии?
Как же оценивали политику правительства К. Аденауэра в совет-
ской (эта была по преимуществу российская) прессе, в обществен-
ном мнении и официальных кругах в период до 1955 г.? Надо ска-
зать, политику К. Аденауэра оценивали в СССР и ГДР сугубо отри-
цательно как политику возрождения милитаризма и вовлечения ФРГ
в военные блоки Запада. Атмосфера «холодной войны», пожалуй,
больше всего ощущалась именно вокруг Германии. В центральной
печати России, естественно, выражавшей сугубо официальную точ-
ку зрения, публиковались статьи и памфлеты отнюдь не доброжела-
тельного содержания. Одна из статей, опубликованная в газете
«Правда» за подписью Максимилиан Шеер, имела заголовок: «Кон-
рад Аденауэр - враг немецкого народа». Полагаю, что нет необхо-
димости воспроизводить оценки и обобщения, так сказать перцеп-
цию федерального канцлера того времени. Однако так это было в
истории, и историки помнят об этом.
После смерти И. В. Сталина произошел заметный поворот в по-
литике Советского Союза к смягчению курса и к разрядке напря-
женности. Наметился поворот и в германском вопросе. Определен-
ного успеха удалось достичь уже в 1955 году. Этот год, как нам
представляется, еще не получил должной оценки в историографии,
хотя теперь появилась возможность введения в научный оборот но-
вых ранее неизвестных архивных документов, в частности, из Архи-
ва внешней политики МИД РФ. Российские историки продолжают
исследование этого периода истории и опубликовали монографии по
этой проблематике.1
Принятие ФРГ в НАТО в 1955 году означало полное признание
западногерманского государства со стороны западных держав не
1 Филитов A.M. Германский вопрос. От раскола к объединению. - М.
1993; Родович Ю.В. Германская проблема в 1945-1955 гг. и позиция СССР.
Концепция и историческая практика. - Тула, 1997. Он же: Германская про-
блема в 1955- 1962 гг. и позиция СССР. - Тула, 2006.
25
только суверенным, но и равноправным союзным государством. Пе-
ред внешней политикой ФРГ открылись новые возможности. Пер-
вым министром иностранных дел ФРГ с 1951 по 1955 гг., когда про-
водилась активная деятельность по вовлечению ФРГ в военный со-
юз с западными державами, как известно, был по совместительству
федеральный канцлер К. Аденауэр. В мае 1952 г. был подписан об-
щий договор трех держав (США, Великобритании и Франции) с
ФРГ, а также договор о создании европейского оборонительного
сообщества. Национальное собрание Франции не ратифицировало
договор о ЕОС, и вступление в силу комплекса соглашений затяну-
лось. Понадобились новые переговоры и выработка новых соглаше-
ний, подписанных в октябре 1954 г. в Париже. Боннский договор и
парижские соглашения вступили в силу после их ратификации 5 мая
1955 г. С этого момента ФРГ стала полноправным членом НАТО,
формально полностью суверенным государством.
Советский Союз прилагал усилия с целью не допустить включе-
ния ФРГ в НАТО и одновременно готовил создание военного союза
стран Восточной Европы с очевидной антигерманской направленно-
стью. Благодаря инициативе Советского правительства весной 1955
г. удалось за короткий срок завершить разработку и заключить Го-
сударственный договор для Австрии. Этот договор дал возможность
Австрии принять статус постоянного нейтралитета и получить ин-
тернациональное признание этого статуса. Одновременно договор
стал примером восстановления суверенитета страны на определен-
ных, приемлемых для сторон, условиях, главное из которых - вывод
иностранных войск с территории страны.
Однако правительство ФРГ отклонило даже рассмотрение авст-
рийского варианта урегулирования как в принципе неприемлемое
из-за «аморальности» нейтралитета в холодной войне. ФРГ твердо
держала курс на вступление в НАТО. Известно, что К. Аденауэр
признал тогда, что он - единственный канцлер в германской исто-
рии, который предпочел единство Запада единству немцев. Он соз-
нательно отодвинул единство немцев на более поздний срок - на
время, когда возросшая экономическая и военная мощь ФРГ при
поддержке Запада даст возможность говорить с Советским Союзом
на ином языке: с позиции силы. Несмотря на все это, советское пра-
вительство предприняло в начале 1955 года дипломатические шаги с
целью нормализации отношений с ФРГ. 15 января 1955 г. было
опубликовано заявление ТАСС, в котором была ясно выражена ини-
циатива по нормализации отношений между СССР и ФРГ (точнее, с
ГФР, как тогда по английской кальке называли ФРГ). 25 января был
26
издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О прекращении
состояния войны между Советским Союзом и Германией». Это оз-
начало снятие ограничений в отношении германских граждан. В ап-
реле 1955 г. было принято решение Советского правительства о воз-
вращении немецкому народу в лице ГДР сокровищ Дрезденской
картинной галереи, обнаруженных в конце войны советскими воен-
ными властями в сырых шахтах и спасенных советскими искусство-
ведами и художниками-реставраторами. Летом 1955 г. в Москве и
Ленинграде были проведены выставки культурных ценностей, воз-
вращаемых в Германию. (См. каталог «Дрезденская галерея». - М.,
1955 и «Мировые сокровища дрезденской коллекции: спасение и
передача. К 50-й годовщине возвращения коллекции Дрезденской
галереи 1955- 2005». - М., 2005).
Ясно, что это были попытки предотвратить вхождение ФРГ в
НАТО. Однако со стороны правительства ФРГ не последовало адек-
ватных встречных шагов. Нейтралитет и нормальные отношений с
СССР правительство К. Аденауэра отвергало в принципе, хотя в
германском общественном мнении были иные, альтернативные мне-
ния, например, позиция бывшего рейхс-канцлера Германии Йозефа
Вирта, выходца из той же партии католического Центра, из которой
вышел и давний его соперник - Конрад Аденауэр. Йозеф Вирт от-
кликнулся на инициативу Советского Союза одним из первых в
Германии, считая, что дружественные отношения с Россией отвеча-
ют национальным интересам немцев.
Вступление в силу боннских (1952 г.) и парижских (1954 г.) со-
глашений означало отмену Оккупационного статута, который огра-
ничивал суверенитет ФРГ в области внешних связей. Парижские
соглашения /статья 1/ определили, что ФРГ будет пользоваться
«полными правами суверенного государства в своих внутренних и
внешних делах». Вместе с отменой оккупационного статута была
упразднена Союзническая Верховная Комиссия и должности вер-
ховных комиссаров в землях. Правда, державы не отказались от осо-
бых прав в отношении Германии, вытекавших из межсоюзнических
соглашений конца второй мировой войны.
Инициатива установления нормальных отношений с ФРГ при-
надлежала, бесспорно, советскому правительству. Она была ясно
выражена в ноте от 7 июня 1955 г., переданной правительству ФРГ
советским посольством в Париже через германского посла фон
Мальцана (был ли это потомок барона Аго фон Мальцана, инициа-
тора Рапалльского договора и установления дипломатических отно-
шений в 1922 г., в российской историографии не выяснено). Совет-
27
ское правительство исходило из того, что установление дипломати-
ческих отношений позволит приступить к урегулированию проблем,
касающихся всей Германии, а также наладить взаимовыгодные эко-
номические связи. Правительство ФРГ, судя по мемуарам К. Аде-
науэра, также понимало необходимость нормальных отношений со
странами Восточной Европы, прежде всего с СССР, но хотело обу-
словить нормализацию согласием советского правительства на про-
ведение «свободных выборов» во всей Германии, а в качестве пер-
вого шага хотело добиться освобождения «из плена» германских
граждан. Канцлер К. Аденауэр по-своему истолковал предложение
Советского правительства как подтверждение правильности его кур-
са: сначала усиление позиций и достижение согласия с западными
державами, потом переговоры с позиций силы с Москвой. В совет-
ской ноте 7 июня было высказано приглашение федерального канц-
лера в Москву для переговоров. 9 июня в интервью агентству ЮПИ
К. Аденауэр заявил о готовности к встрече с советскими представи-
телями, но после предварительного обмена мнениями и выяснения
некоторых вопросов.
Исследователи истории дипломатии отмечают, что канцлер К.
Аденауэр оказался перед дилеммой: принять приглашение и добить-
ся успеха, или отказаться от приглашения и предстать перед немца-
ми в роли «слабака», упустившего реальный шанс. Позже К. Аде-
науэр вспоминал: «Если бы я не поехал в Москву...». Что ехать в
Москву необходимо, это стало ясно канцлеру довольно скоро, более
того, у него сложилось твердое убеждение в этом. Но дипломаты
долго взвешивали: когда это лучше предпринять? Было решено по-
ехать в Москву после встречи 4-х держав на высшем уровне в Жене-
ве.
Западные державы пошли на совещание в Женеве в июле 1955 г.
с целью приглушить резонанс на предложения СССР по сокраще-
нию вооружений и смягчению напряженности. Советская диплома-
тия, естественно, хотела закрепить послевоенный статус-кво и до-
биться признания ГДР. С июня по сентябрь в течение трех месяцев
германская дипломатия имела возможность не только взвесить все
«за и против» поездки в Москву, но и программу переговоров. Про-
грамма переговоров в Москве имела два ключевых требования: ре-
патриации германских граждан и свободных выборов в Германии.
Для согласования линии поведения с западными державами
канцлер отправился прежде всего в США, где обстоятельно обсудил
ситуацию с госсекретарем Дж. Ф. Далесом. План действий был по-
строен на предпосылке, что система европейской безопасности мо-
28
жет быть создана только после воссоединения Германии, что ней-
трализация Германии абсолютно неприемлема. В беседе с президен-
том Д. Эйзенхауэром канцлер ФРГ получил заверения, что в Женеве
Москва не получит никаких поблажек. На обратном пути канцлер
остановился в Лондоне и провел беседу с премьер-министром А.
Иденом. Так была согласована дипломатическая линия.
Ответную ноту правительство ФРГ направило советскому пра-
вительству лишь 30 июня. В ноте выражено согласие на обсуждение
вопроса об установлении дипломатических, торговых и культурных
отношений между обеими странами, правда, с оговоркой, что необ-
ходимо уточнение некоторых вопросов и выяснение последователь-
ности их рассмотрения. Нота была весьма лаконичной, можно ска-
зать, лапидарной: всего 12 строк. В США нота получила позитивную
оценку как образец дипломатии перед лицом «потенциально опасно-
го советского приглашения» («Нью-Йорк Таймс»).
Женевское совещание 17-23 июля 1955 г. было использовано
германской дипломатией для зондажа позиций СССР. По просьбе К.
Аденауэра А. Иден поставил перед главой советского правительства
вопрос об освобождении немецких военнопленных. Ответ был соот-
ветственно кратким: в СССР нет теперь военнопленных, а лишь
осужденные в соответствии с союзными договоренностями на дли-
тельный срок военные преступники. Дело в том, что еще 5 мая 1950
г. советское правительство объявило, что возвращение немецких
военнопленных, исключая больных и осужденных, закончено. Здесь
следует отметить, что в мае 1955 г. советское правительство денон-
сировало англо-советский договор 1942 г. и союзные отношения
между СССР и Великобританией стали историей.
В ходе обмена нотами в августе 1955 г. между правительствами
СССР и ФРГ были намечены сроки проведения переговоров: конец
августа - начало сентября. Советская сторона предложила в повест-
ку дня следующие вопросы: 1. согласование документа об установ-
лении дипломатических отношений; 2. выработка и заключение тор-
гового договора; 3. налаживание культурных связей на основе спе-
циальной конвенции. Особо следует отметить, что советская дипло-
матия подчеркнула, что было бы целесообразно не выдвигать ника-
ких предварительных условий «ни той, ни другой стороной». На со-
ветскую ноту от 3 августа правительство ФРГ ответило 12 августа,
предложив начало переговоров на 9 сентября. Не называя свои
предложения предварительными условиями, германская сторона,
тем не менее, высказала пожелание обсудить вопрос о националь-
ном единстве немцев, освобождение немцев, которые еще удержи-
29
ваются на территории «или в сфере влияния» Советского Союза.
Она рассматривала эти вопросы как «элемент» нормализации отно-
шений.
Мотивы готовности к переговорам взвешивала и та, и другая
сторона. Из суждений советских участников событий того времени
представляет интерес мнение первого посла СССР в Бонне В. А. Зо-
рина. В беседе с исследователем темы А. И. Степановым (позже по-
слом РФ в Швейцарии) В. А. Зорин выделял не только соображения
международного положения ФРГ, но и экономические потребности
СССР. Установление отношений с СССР было для ФРГ одним из
факторов уверенного выхода на мировые рынки и в конечном счете
- экономического чуда, поскольку обеспечивало ФРГ стабильность
в Европе.
Особенность ситуации перед переговорами в Москве заключа-
лась в том, что именно в июне 1955 г. К. Аденауэр сложил с себя
исполнение обязанностей министра иностранных дел и назначил 7
июня на должность министра иностранных дел Хайнриха фон Брен-
тано (1904 г. рожд.), бывшего до этого лидером фракции ХДС/ХСС
в бундестаге. Для него подготовка к переговорам в Москве стала
первым значительным делом в дипломатическом ведомстве. Тактику
на переговорах в Москве он наметил в письме канцлеру удивительно
просто: выслушать советские предложения, но отклонить немедлен-
ные решения. Ведь переговоры тем и отличаются от бесед и обмена
мнениями в ходе визитов, что они имеют повестку дня и должны
увенчаться конкретными решениями. Это лучше нового министра
иностранных дел понимал канцлер. Ему нужен был конкретный ре-
зультат. X. фон Брентано рекомендовал составить небольшую деле-
гацию и, по возможности, из лиц, которые не обладают большим
политическим весом. И эту делегацию должен был возглавить сам
канцлер! Именно по этим соображениям в делегацию не был вклю-
чен министр экономики Л. Эрхард: чтобы отодвинуть решение эко-
номических вопросов на время ... после воссоединения Германии.
Совершенно ясно, если бы К. Аденауэр не поехал сам, а поручил
делегацию Брентано, переговоры были бы безрезультатными.
В конце августа К. Аденауэр провел совещание с лидерами
фракций бундестага, чтобы заручиться их поддержкой. Публично
Аденауэр заявил, что целью поездки в Москву он считает освобож-
дение немцев из заключения. При этом в прессе обсуждались планы
освобождения «сотен тысяч» немцев. В списки подлежащих осво-
бождению включили всех пропавших без вести. Между тем в ноте
19 августа советское правительство согласилось со сроками прове-
30
дения переговоров, начиная с 9 сентября, и выразило готовность к
«обмену мнениями» по вопросам национального единства немцев,
равно как и по другим вопросам, интересующим германское прави-
тельство. Темы переговоров и темы обмена мнениями были, таким
образом, ясно обозначены. В самом конце августа в Бонн пожаловал
помощник госсекретаря США Л. Мерчэнт с целью получения ин-
формации о намерениях канцлера на переговорах в Москве. Между
тем, полной ясности в этом отношении не было у самого канцлера.
В советском дипломатическом ведомстве тщательно готовились
к встрече делегации во главе с К. Аденауэром, взвешивая не только
политические, но и протокольные моменты. Протокольный отдел
МИДа, возглавляемый Ф. Молочковым, учел все существенные по-
желания германских дипломатов, за исключением одного - остано-
вить на три дня движение на улице, прилегающей к стоянке спецпо-
езда на путях Ленинградского вокзала. Группа германских экспер-
тов во главе с фон Чиршке, побывавшая в Москве 23-24 августа 1955
г., согласовала все до деталей относительно прибытия и пребывания
делегации ФРГ. Предусмотрительность проявлена (отметим это) до
установления дипломатических отношений. Если официальная деле-
гация в известном составе насчитывала примерно 20 человек, вклю-
чая сопровождающих лиц, то дипломатическая миссия в целом на-
считывала 140 человек. Заранее были согласованы детали не только
прибытия официальной делегации в аэропорт Внуково на двух са-
молетах: один - с министром X. Брентано на борту в 16.15, второй -
с К. Аденауэром в 17 часов, но и стоянка специального поезда на
Ленинградском вокзале, размещение сопровождающих лиц в гости-
нице «Советская» и т.д. По понятиям традиционной российской ди-
пломатии прибывало «великое посольство» еще не признанного, но
суверенного государства. Дипломаты действовали, не ущемляя ни-
как интересы и даже амбиции германской стороны в лице ФРГ. Со-
ветская сторона не ставила вопроса признать или не признавать
ФРГ, признав ее как бы априори. К. Аденауэр через своих предста-
вителей уведомил, что не выедет из Бонна до тех пор, пока не полу-
чит программу пребывания.1
В указаниях к переговорам, проект которых готовился в МИД
СССР, исправленный вариант которого находится в АВП СССР, в
качестве главной задачи определено установление дипломатических
отношений как «важный шаг» к взаимопониманию и сотрудничест-
1 АВП СССР. Фонд 082. Секретариат министра, Опись № 14, Пор. №
202, Папка № 14, л. 15.
31
ву. Намечена форма установления дипломатических отношений -
обмен идентичными письмами глав правительств. По вопросам раз-
вития торговых отношений предусмотрен обмен мнениями.
Рекомендовано высказаться за сотрудничество в области культуры,
науки и техники. Инструкция предписывала: «В случае, если деле-
гация ГФР не согласится на установление дипломатических отно-
шений, а предложит создание комиссии из представителей ГФР
и СССР для рассмотрения неурегулированных вопросов, - откло-
нить это предложение, заявив, что оно может быть понято как вы-
движение каких-то предварительных условий для установления
дипломатических отношений, с чем советская сторона не может
согласиться» /л. 25-26/.
Предусмотрена была и такая возможность: «В противовес по-
пыткам делегации ГФР превратить обмен мнений по вопросу о вос-
становлении единства Германии в основную тему переговоров по
общеполитическим вопросам выдвинуть на обсуждение вопрос о
создании системы коллективной безопасности в Европе, руково-
дствуясь при этом предложениями СССР, выдвинутыми на Женев-
ском совещании Глав Правительств четырех держав» /л. 29/.
В Архиве Внешней политики СССР, в Фонде, относящемся к пе-
реговорам между СССР и ФРГ, имеется «Политическое письмо к
вопросу о позиции Англии в связи с поездкой Аденауэра в Москву»,
подписанное советским послом в Лондоне Я. Маликом 31 августа
1955г. В записке1 отмечено, что в Бонне исходят из того, что англи-
чане потеряли интерес к объединению Германии; в то же время
Англия вместе с США обещают Аденауэру поддержку в требовании
возвращения германских граждан и даже возвращения «бывших
германских территорий, расположенных к востоку от линии Одер-
Нейссе» /л. 43/. Обе державы, по мнению советского посла в Лондо-
не, не желают позитивного исхода переговоров в Москве. Доказа-
тельством этого служили высказывания Д. Эйзенхауэра и Д. Ф. Дал-
леса 24 и 25 августа 1955 г. В «Политическом письме» отмечено, что
в последние дни британская пресса особенно упорно подчеркивает
мысль: в московских переговорах Аденауэр поставит нормализацию
отношений между ФРГ и СССР в зависимость от того, будет ли дос-
тигнут прогресс в вопросе объединения Германии. Обмен послами
означал бы для Бонна признание разделения Германии на два госу-
дарства на длительное время. Западные державы полагали, что пре-
1 АВП СССР. Фонд 082. Секретариат министра. Опись № 14, Пор. №
203, Папка № 14.
32
дотвратить нормализацию отношений между ФРГ и СССР можно
выдвижением на первый план вопроса об объединении немцев, сде-
лав это условием создания системы безопасности в Европе.
Позиция Великобритании была выражена в выступлении А.
Идена 27 августа в Варвикшире: «Английское правительство по-
прежнему придерживается того мнения, что в Европе не может быть
обеспечена безопасность, пока Германия остается разделенной. Рос-
сия придерживается другой точки зрения; но если стороны напра-
вятся в Женеву с намерениями попытаться достигнуть урегулирова-
ния, то я уверен, что они смогут сблизить позиции» (Цит. по
«Таймс» от 29.08.1955). Советский посол сообщал в Москву: «По
последним сведениям, полученным мною 31 августа, наибольшее
беспокойство английское правительство проявляет по поводу того,
что Аденауэр имеет намерение предложить в Москве неограничен-
ные поставки Советскому Союзу продукции тяжелой индустрии Ру-
ра» /л. 45/. Англичане опасаются, что немцы «перехватят» возмож-
ности экспорта товаров. Над англичанами витает «дух Рапалло».
Они будут пытаться помешать достижению соглашения между ФРГ
и СССР. Англичане, по мнению советского посла, будут обещать
Аденауэру не только полное равноправие в Североатлантическом
союзе, но и доступ на британские рынки. Все это предназначено для
того, чтобы помешать достижению согласия между Советским Сою-
зом и Западной Германией /л. 46/. Оценивая позиции ФРГ, посол Я.
Малик отметил в Политическом письме от 31 августа: «Аденауэр
стремится усилить свою позицию в предстоящих переговорах путем
обеспечения себе поддержки не только правительственных, но и оп-
позиционных партий, тем самым надеясь снять с себя личную ответ-
ственность в случае неудачи переговоров» /л. 41/.1
В Лондоне, как и в Бонне, понимали, что осуществление нацио-
нальных стремлений к объединению Германии зависит от СССР.
Шансы на успех Аденауэра в Москве были значительными, если он
не связывал себя с выдвижением нереальной задачи немедленного
решения проблемы единства немцев. Газета «Айриш Таймс» 12 ав-
густа 1955 г. отметила: «Отказ от поездки в Москву вызвал бы бурю
протеста и мог бы привести к падению Аденауэра».
В справке, составленной в МИД СССР перед приездом делега-
ции ФРГ и предназначенной для политических руководителей стра-
ны, отмечены деловые и личные связи федерального канцлера: лич-
1 АВП СССР. Фонд: Референтура по Германии. Опись № 43, Пор. № 16,
Инв. № 111, Папка 303, л. 41-46.
33
ная дружба с банкиром Пфердменгесом, родственные связи с вер-
ховным командующим американскими войсками в Западной Герма-
нии генералом Маклоем, наконец, деловые отношения с банкирски-
ми домами Шредера и германо-американским домом Варбург. Лич-
ные качества Конрада Аденауэра выражены кратко, но ясно: «Аде-
науэр - властолюбив, самоуверен и настойчив, пользуется большим
влиянием и поддержкой среди парламентских и деловых кругов. Не-
смотря на преклонный возраст, деятелен и вынослив». Как бы между
прочим, вскользь отмечено, что почти 80-летний канцлер вдов и
имеет от двух браков 7 детей: 4 сына и 3 дочери.
Хотя на переговорах К. Аденауэр заверял, что не выдвигает ни-
каких предварительных условий, дипломатам в Москве было хоро-
шо известно, что говорил канцлер в момент вступления в НАТО и
непосредственно перед переговорами в Москве. Так, 13 мая 1955 г.
он высказался достаточно четко: «...Воссоединение Германии
должно означать не только присоединение Восточной Германии, но
и исконных немецких земель, расположенных к востоку от линии
Одер-Нейссе». В конце июля (21 июля 1955 г.) федеральный канц-
лер твердо высказался за продолжение милитаризации ФРГ: «Гер-
мания никогда не будет участвовать ни в каком соглашении, вклю-
чая соглашение о разоружении, если оно будет основано на расколе
Германии».
Советской стороне было известно, что из первоначального спи-
ска германской делегации по воле канцлера был исключен министр
экономики Л. Эрхард. Это было воспринято как нежелание обсуж-
дать вопросы экономического сотрудничества, хотя в советскую де-
легацию был включен министр внешней торговли И. Г. Кабанов.
Германская делегация во главе с К. Аденауэром прибыла на вну-
ковский аэродром 8 сентября 1955 г., где ее встречали члены прави-
тельства и дипломаты; среди них Н. А. Булганин, В. М. Молотов и
другие. На следующий день, 9 сентября, переговоры открылись в
особняке МИД на Спиридоновке. Протокольно точно рассказывать о
дипломатических конференциях бывает интересно по свежим сле-
дам события. Историки, естественно, останавливаются на некоторых
существенных моментах, имевших политические последствия. В
данном случае имели значение некоторые моменты. После вступи-
тельных заявлений глав правительств с советской стороны было
сделано предложение передать тексты заявлений для публикаций в
прессе. Опытный политик К. Аденауэр тотчас усмотрел в этом воз-
можность безрезультатного исхода переговоров, во всяком случае.
34
предположил, что другая сторона предусматривает такую возмож-
ность.
Собственно переговоры, которые вели делегации, конкретно
В. М. Молотов и X. фон Брентано, происходили в довольно напря-
женной атмосфере. Хотя К. Аденауэр и подчеркнул, что не выдвига-
ет предварительных условий, выдвижение им на первый план под
видом нормализации воссоединения немцев и освобождения плен-
ных, причем при подчеркнутой претензии говорить от имени всех
немцев, конечно, насторожила советских представителей. Министр
иностранных дел ф. Брентано, полагавший, что переговоры идут
«скорее плохо», высказал сомнения в возможности достичь догово-
ренности. 12 сентября германские дипломаты предложили текст за-
явления, в котором переговоры названы первым шагом к дальней-
шим усилиям по нормализации отношений. Советская сторона отка-
залась обсуждать такого рода заявление и поставила вопрос так: оз-
начает ли предложение германской стороны, что установление ди-
пломатических отношений откладывается на неопределенный срок?
В ответ Брентано заявил буквально следующее: «Ход переговоров
до настоящего времени не дает возможности для быстрого установ-
ления дипломатических отношений». Наступательная тактика гер-
манской дипломатии натолкнулась на бетонную позицию советских
представителей.
Глава делегации одобрил поведение министра, заметив, что тот
якобы сказал, что невозможно установить дипломатические отно-
шения «здесь и сейчас». В духе традиционной западной дипломатии
у германской делегации был запасной вариант: установить «ограни-
ченный контакт через дипломатических агентов», но не обменивать-
ся послами. На заседании 12 сентября, во второй половине дня, К.
Аденауэр все еще в наступательном стиле и требовательном тоне
говорил об освобождении немцев из заключения. Он хотел получить
уступки до установления дипломатических отношений, используя
метод давления. После резких высказываний с советской стороны
канцлер удерживал себя от того, чтобы не встать и не покинуть зал
заседаний. Более того, он распорядился в конце дня подготовить са-
молет к отлету на следующий день, 13 сентября, т.е. на день раньше
срока.
Вечером 12-го и утром 13-го сентября шел интенсивный обмен
мнениями и поиски компромисса. Дилемма канцлера могла полу-
чить драматический исход: «Что же будет, если мы разъедемся, не
придя к соглашению?». Во время прогулки в садике у особняка,
канцлер выслушивал своих советников и взвешивал аргументы про
35
и контра. Вернуться домой ни с чем было бы серьезным политиче-
ским конфузом. Надо было найти компромисс. На встрече минист-
ров иностранных дел, наконец, были согласованы краткие идентич-
ные заявления, обмен которыми означал бы установление диплома-
тических отношений. Была найдена приемлемая формула: диплома-
тические отношения устанавливаются в форме обмена письмами, а
советская сторона положительно рассмотрит вопрос о выезде гер-
манских граждан из СССР. В тот же день посол США Ч. Болен пе-
редал канцлеру личное послание президента Д. Эйзенхауэра, кото-
рый выразил понимание доводов федерального канцлера. Между
прочим, среди доводов канцлера существенное место занимали не
только непризнание ГДР, но и границы по линии Одер-Нейссе.
Хотя была согласована компромиссная формула, на заключи-
тельном заседании канцлер положил на стол совершенно иной текст.
Советская сторона после короткой, но острой дискуссии вернула
бумагу немцам. Что значил этот жест канцлера?
На втором заседании переговоров 10 сентября глава советской
делегации Н. А. Булганин заявил: «Вопрос о военнопленных феде-
ральный канцлер г-н Аденауэр выдвинул в качестве первого вопро-
са. По нашему мнению, здесь имеет место недоразумение. Никаких
немецких военнопленных в Советском Союзе нет. Все военноплен-
ные освобождены и отправлены на родину. В Советском Союзе на-
ходятся лишь военные преступники из бывшей гитлеровской армии,
осужденные советским судом за особо тяжкие преступления против
советского народа, против мира и человечности. Действительно, та-
ких еще осталось на 1 сентября в нашей стране 9 626 чел.» (л. 21).
Опытный политик Аденауэр прежде всего отметил, что он не
выдвигает никаких предварительных условий, не выступает с «по-
зиции силы», а главное - он говорил не о военнопленных, а о задер-
живаемых Советским Союзом немцах.
Активную роль на переговорах играл Н. С. Хрущев, внося пе-
риодически в ход переговоров оживление своими репликами при-
мерно такого рода: «Вы, возможно, приехали в Москву с представ-
лением, что здесь едят капиталистов... без соли». Отвечая на выска-
зывание депутата бундестага К. Шмида, который призвал советских
руководителей проявить великодушие и отпустить удерживаемых
немцев, Н. С. Хрущев заявил: «Я - человек простой, в дипломатии
не искушенный, хотя это очень хорошая наука и занятие, но хочу
сохранить свою простоту и по-простому объяснить и поставить во-
прос». Он напомнил, что не Советский Союз напал на Германию,
что немцы совершали преступления на советской земле и осуждены
36
по советским законам. ФРГ вступила в НАТО, которая направлена
против СССР, а теперь просит у него великодушия. Главная мысль
Н. С. Хрущева в его выступлении, однако, сводилась к желательно-
сти для СССР налаживать экономическое сотрудничество с ФРГ.
Для историка остается загадкой зафиксированный в стенограмме
факт: во время выступления Н. С. Хрущева министр В. М. Молотов
подал реплику: «Утешаешь?», а затем - «Все это утешение?». Воз-
можно, что эти реплики были продолжением разговора в ходе под-
готовки к переговорам.1
Искушенный в дипломатии В. М. Молотов, а не Н. А. Булганин,
был настоящим партнером К. Аденауэра на переговорах в Москве.
Правда, между советскими руководителями роли были распределе-
ны четко: Н. А. Булганин играет роль гостеприимного хозяина,
В. М. Молотов ищет компромиссные пути к главной цели - установ-
лению дипломатических отношений «с сего дня», Н. С. Хрущев
временами демонстрирует твердость державы-победительницы, пе-
ремежая серьезные заявления экстравагантными репликами. С гер-
манской стороны, очевидно, все нити были в руках К. Аденауэра.
Предварительное распределение ролей тоже, видимо, имело место,
однако ни один из членов германской делегации не проявлял ника-
кой инициативы и самостоятельности, действуя только по указанию
канцлера. Он чаще давал слово статс-секретарю В. Хальштейну, чем
министру иностранных дел X. фон Брентано, который был назначен
на должность министра за три месяца до переговоров. Наиболее
острые ситуации складывались в результате вмешательства Н. С.
Хрущева. Когда К. Аденауэр попытался заверить, что германская
армия создается не для войны, Н. С. Хрущев резко ответил: «Диви-
зии создаются не для того, чтобы из них борщ варили».
Кульминацией переговоров было заседание в «узком составе»:
Н. А. Булганин, Н. С. Хрущев, В. М. Молотов и В. С. Семенов - с
советской стороны, К. Аденауэр, X. фон Брентано, В. Хальштейн - с
германской стороны (в бумагах отмечено, что стенограмму этой
встречи не вели). Это произошло 13 сентября с 10 ч. до 11.45. Еще и
после этого совещания Н. А. Булганин ставит вопрос о советских
перемещенных гражданах на территории ФРГ («лиц без гражданст-
ва»), называя их число: свыше 100 тысяч. В. М. Молотов ставит во-
прос: в воздушное пространство нашей страны прилетают с запада
воздушные шары, которые мешают полетам самолетов.
1 Архив внешней политики СССР. Фонд 082. Секретариат министра.
Опись № 14. Пор.№ 206, Папка № 14, л. 21.
37
Ситуацию накалил до предела Н. С. Хрущев, заявивший, обра-
щаясь к гостям, что если у вас нет готовности обсуждать основной
вопрос - установление дипломатических отношений, то «тогда най-
дите другую аудиторию, чтобы здесь не утруждать нас». К. Аденау-
эр мгновенно реагировал на это заявление: «Это последнее пригла-
шение подыскать себе другую аудиторию не является особенно
вежливым»/л. 88/. Однако К. Аденауэр проявил выдержку и прими-
рительно сделал оговорку: для установления дипломатических
отношений ему надо получить согласие бундестага. Похоже, перего-
воры вошли в свое русло после решающего заявления Н. С. Хруще-
ва.
Настаивая на немедленном установлении дипломатических от-
ношений, Н. С. Хрущев сделал встречный шаг, заявив: «Мы вам да-
ем джентльменское слово, что всех заключенных (Вы их называете
военнопленными, мы их называем военными преступниками) мы
освободим или по амнистии, как мы договорились, или же передаем
вашему правительству как преступников, а ваше правительство, со-
гласно вашей совести, согласно вашим законам, поступит с ними
так, как найдет нужным» /л. 92/.
После того, как между В. М. Молотовым и В. Хальштейном бы-
ло согласовано, что тексты писем об установлении дипломатических
отношений будут идентичными и формула простой: «устанавлива-
ются дипломатические отношения» (без слова «немедленно» или «с
сего дня»), на столе переговоров появился «третий» документ - за-
явление федерального канцлера К. Аденауэра, который гласил: «1.
Установление дипломатических отношений между Правительством
Федеративной Республики Германии и Правительством Советского
Союза не является признанием территориального состава обеих сто-
рон. Окончательное установление границ Германии предоставляется
мирному договору. 2. Установление дипломатических отношений с
Советским Союзом не означает никакого изменения правовой точки
зрения Федерального правительства относительно его полномочия
представлять германский народ в международных делах и что каса-
ется политических отношений в тех германских районах, которые в
настоящее время находятся вне его эффективного суверенитета»
(см. К. Adenauer. Erinnerungen, S. 550).
Советская сторона отклонила этот документ. Н. А. Булганин зая-
вил: «Мы не можем приложить руки к этому заявлению. Поэтому я
бы очень просил Вас, г-н Федеральный канцлер, взять это заявление
обратно, и если Вы считаете нужным выступить на пресс-
конференции у себя дома, когда Вы прибудете к себе в Бонн, - это
38
Ваше дело» . В протокол внесена заметка: «Булганин возвращает
Аденауэру текст его заявления». Аденауэр бросает реплику: придет-
ся провести пресс-конференцию...
В завершение переговоров В. Хальштейн предлагает составить
«маленькое сообщение для печати». На это К. Аденауэр в полушут-
ливом тоне говорит: «Я согласен, но только при условии, чтобы гос-
пода министры были заперты в этой комнате до тех пор, пока они не
выработают коммюнике». Н. С. Хрущев на это: «Двери можно запе-
реть. От нас, - добавляет он, - Громыко и Семенов. Пощадим мини-
стра Молотова». В последний момент К. Аденауэр говорит: «Я дол-
жен добавить оговорку о согласии нашего парламента». Н. А. Булга-
нин: «Мы добавим об утверждении в Верховном Совете». Н. С.
Хрущев уточняет: «В Президиуме Верховного Совета». К. Аденауэр
также уточняет: «Согласие бундестага и кабинета». Заседание окон-
чено в 20.30. Подготовка окончательных текстов поручена диплома-
там. В 21 ч. 10 мин. 13 сентября Н. А. Булганин и К. Аденауэр под-
писали письма и обменялись ими. В 21 ч. 14 мин. переговоры закон-
чились.
По смыслу бумаги Аденауэра делалась оговорка, что установле-
ние дипломатических отношений не означает признания территори-
ального состава обеих сторон, что неизменной остается правовая
точка зрения: федеральное правительство представляет в междуна-
родных делах всех немцев, весь германский народ. Эта претензия не
получила признания. Московские переговоры увенчались принятием
заключительного коммюнике и обменом идентичными письмами
между главами правительств.
На пресс-конференции 14 сентября канцлер К. Аденауэр сделал
заявление и передал текст своего заявления на заключительном за-
седании переговоров прессе. В соответствии с договоренностями,
соглашение об установлении дипломатических отношений в форме
обмена письмами было представлено на утверждение законодатель-
ными органами сторон. Бундестаг одобрил соглашение по представ-
лению федерального правительства 23 сентября, а Президиум Вер-
ховного Совета СССР - 24 сентября 1955 г. Затем состоялся обмен
дипломатическими представителями в ранге послов. Первым послом
СССР в ФРГ был назначен опытный дипломат В. А. Зорин. Первым
германским послом ФРГ в Москве стал Вильгельм Хаас.
1 АВП СССР, Фонд 082, Опись № 14, Пор. N 206, Папка № 14, л. 11,
119-120.
39
Характерно, что К. Аденауэр исходил из того, что установление
дипломатических отношений с СССР еще отнюдь не означает уста-
новление дружественных отношений, закрепленных в договоре. Из-
вестно, что уже вскоре правительство объявило о введении в дейст-
вие т.н. доктрины Хальштейна, которая предусматривала опреде-
ленные санкции в отношении тех государств, которые пошли бы на
признание ГДР. Советский Союз через неделю после встречи в Мо-
скве с представителями ФРГ заключил первый государственный до-
говор с ГДР (20 сентября 1955 г.), открывший перед ГДР перспекти-
ву полного восстановления суверенитета.
Советский Союз выполнил свое джентльменское слово: 28 сен-
тября 1955 г. Президиум Верховного Совета СССР постановил дос-
рочно освободить и отправить на родину 8 877 германских граждан,
отбывавших наказание за военные преступления в годы войны, а 749
граждан, совершивших особо тяжкие преступления, были переданы
правительствам ГДР и ФРГ в зависимости от места жительства до
войны. При этом отмечалось, что Советское правительство учло
просьбу президента ГДР, а также просьбу правительства ФРГ. В на-
чале октября 1955 г. возвращенцы стали прибывать в Германию. В
лагере «Фридланд» /ФРГ/ их принимали весьма радушно, используя
гуманный акт Советского правительства для всплеска антисоветских
настроений, для восхваления несломленного «германского духа».
Визит старого канцлера в Москву и установление дипломатиче-
ских отношений с СССР был, несомненно, успехом, хотя и не три-
умфом К. Аденауэра. Налаживание экономических отношений шло
весьма медленно. Лишь в 1958 г. удалось заключить торговый дого-
вор между ФРГ и СССР. Во второй половине 50-х гг. правительство
ФРГ проводило курс на создание военного потенциала (введение
всеобщей воинской обязанности, формирование бундесвера) и укре-
пление своих позиций в НАТО. Конечно, нормализация отношений
с СССР способствовала укреплению международных позиций ФРГ.
Основным оппонентом К. Аденауэра, по существу (и по возрас-
ту, и по опыту ведения дипломатических переговоров), были не Н.
Булганин и не Н. Хрущев, а В. М. Молотов, хотя формально он был
на втором плане, а в непосредственный контакт входил с X. Брента-
но и В. Хальштейном. Дипломатическая команда СССР была, ко-
нечно, посильнее команды ФРГ, на которой заметен был отпечаток
провизориума и начинающей свое восхождение дипломатии. В. М.
Молотов имел большой опыт не только политического выживания в
окружении И. В. Сталина, но жесткой, суровой государственной
деятельности. В 1929-39 гг. он - глава советского правительства,
40
затем с 1939 по 1953 г. - глава дипломатического ведомства. Моло-
тов имел весьма значительный опыт ведения переговоров, в том
числе с А. Гитлером и И. Риббентропом, с У. Черчиллем и Ф. Руз-
вельтом, наконец, с американскими деятелями, типа Г. Трумена и
Дж. Ф. Даллеса. Он был участником создания послевоенной систе-
мы международных отношений - Ялтинской и Потсдамской систе-
мы. Известно, как воспринимал Потсдам К. Аденауэр: как кошмар
(«альпдрук»).
Если германская делегация готовилась к переговорам под руко-
водством самого канцлера, который до июня 1955 г. был одновре-
менно и министром иностранных дел ФРГ, то советская делегация,
конечно, под контролем партийного руководства, но в дипломатиче-
ском ведомстве под руководством В. Молотова, который после
смерти И. В. Сталина и А. Я. Вышинского вновь возглавил МИД.
Уже на подготовительной стадии, при выработке позиции на пере-
говорах, В. М. Молотов определял задачи и даже тональность на пе-
реговорах. За три дня до приезда германской делегации в Москву,
когда на стол министра положили подготовительные материалы,
выработанные с участием знатоков германских дел, в частности, В.
Семенова и Г. Пушкина, предложивших направить материалы пар-
тийному и государственному руководству, В. М. Молотов собствен-
норучно синим карандашом сделал 6 сентября многозначительную
пометку «Главу [справки] зап. г. [западногерманская] печать о пере-
говорах в Москве следует поправить, т.к. она уклончиво реагирует
на агрессивные планы Аденауэра на переговорах в Москве, не давая
должной ориентировки»1. В. Молотов завизировал свою записку в
краткой, как бы небрежной, спешной форме «В. Мо.».
Дипломатический опыт В. М. Молотова был востребован, когда
переговоры, казалось, зашли в тупик, и понадобилось проведение
совещания в узком кругу и без протокольной записи, где, видимо, и
возникло «джентльменское слово» Н. С. Хрущева, воспроизведен-
ное затем на заседании делегации. Между тем, В. Молотову при-
шлось разъяснять X. ф. Брентано, что означает в международной
практике нормализация отношений. X. ф. Брентано еще утром 12
сентября продолжал настаивать на обсуждении вопроса о «задержи-
ваемых немцах» и даже о «единстве немцев» вместо делового обсу-
ждения главного вопроса - установления дипломатических отноше-
ний, точнее, способа или формы документа об этом. Он предложил
1 АВП СССР, Фонд 082, Опись № 14, Пор. № 202, Папка № 14, л. 1-3.
41
рассматривать переговоры в Москве как «первый шаг» к дальней-
шим «усилиям по сближению позиций» и поручить продолжение
переговоров новым делегациям, которые стороны должны для этого
образовать. В. Молотов отклонил тезис о «первых контактах» с
представителями немецкого народа, сославшись на наличие полных
дипломатических отношений с ГДР: «Мы рассматриваем вашу деле-
гацию как представителей западной части Германии, а не всей Гер-
мании в целом» /л. 10/. Он подчеркнул, что откладывание установ-
ления дипломатических отношений на какой-то неопределенный
срок, а тем более назначение каких-то новых делегаций для совет-
ского правительства неприемлемо, резонно аргументируя это тем,
что если такие авторитетные делегации, какие встретились в Моск-
ве, не решат основной вопрос - установление дипломатических от-
ношений, то что смогут сделать менее авторитетные делегации. В.
Молотов был довольно категоричен: «Мы можем обойтись и без ди-
пломатических отношений с ГФР, если она считает это несвоевре-
менным» /л. 23/. Настаивая на непременном обсуждении вопроса об
«удерживаемых немцах», X. фон Брентано допустил некоторую оп-
лошность, сказав, что готов обсуждать этот вопрос с участием пре-
мьера ГДР О. Гротеволя1, а потом объяснял, что это не предложение,
а лишь его личное мнение.
Упорство в достижении поставленной цели В. М. Молотов про-
явил и за столом переговоров со статс-секретарем В. Хальштейном.
Стенограмма совещания от 13 сентября /с 17.30/, когда задача со-
стояла в том, чтобы за короткий срок выработать заключительное
коммюнике, зафиксировала скрупулезный разговор по формулиров-
кам коммюнике. Многоопытный советский дипломат неустанно
вникал во все нюансы обсуждаемого документа вплоть до последне-
го момента. В итоге этого заседания В. Хальштейн /не Брентано/
позволил себе высказать суждение о партнере по переговорам.
В. Хальштейн: «Я знаю, что с Вами трудно вести переговоры,
Вы - очень «жилистый партнер» в переговорах».
В. Молотов: «Я замечаю, что Вы не менее «жилистый».
В. Хальштейн: «Это - комплимент».
В. Молотов: «Вот мы и обменялись комплиментами. Коммюнике
будем давать?»2
1 АВП СССР. Фонд Секретариата министра. Опись № 14, Пор. « 207,
Папка № 14, Дело ГФР-110, л. 10, л. 23. АВП СССР, Фонд 082, Опись №
14, Пор. №202, Папка № 14, л. 1-3.
2 АВП СССР. Фонд 082, Опись № 14, Пор. № 207, Папка № 14, л. 25.
42
Хальштейну ничего не оставалось, как внести предложение: при-
гласить глав делегаций прервать прогулку по парку у особняка на
Спиридоновке и вернуться в зал заседаний для завершения работы.
В Архиве внешней политики СССР сохранилась запись «ответ-
ного слова» канцлера Аденауэра с бокалом в руке, очевидно, на
приеме 13 сентября. На бумаге сделана заметка от руки: «Утвержде-
но т. Молотовым» (конечно, имеется в виду подтверждение пра-
вильности записи). Согласно записи, федеральный канцлер выразил
удовлетворение переговорами, прежде всего искренностью, откро-
венностью, а иногда и резкостью высказываний, особенно со сторо-
ны некоторых советских руководителей: «Мой сосед справа, госпо-
дин Хрущев, очень откровенно высказывает то, что думает, и на это-
го человека можно положиться».1
«Джентльменское слово» Хрущева, видимо, умиротворило канц-
лера: «Мы вернемся на родину с убеждением, что посещение Моск-
вы было полезным делом и оставило у нас много приятных впечат-
лений. Заметив не без ехидства, что дипломаты не всегда бывают
лучшими друзьями, почтенный канцлер поднял бокал, провозгласив
здравицу: «За здоровье советского и германского народа». Он бла-
годарил Н. Булганина за превосходную организацию пребывания
германской делегации в Москве, но даже не упомянул В. М. Моло-
това. Тост, естественно, был встречен аплодисментами. В записи
напечатано «Бурные аплодисменты», однако слово «бурные» вы-
черкнуто, очевидно, по указанию министра, «утвердившего» этот
текст речи К. Аденауэра.
Одним из первых откликов на итоги переговоров в Москве было
суждение корреспондента агентства ТАНЮГ Чулича, высказанное в
беседе с Юрием Жуковым на аэродроме 15 сентября. По его сведе-
ниям, в западных посольствах не ожидали положительного исхода
переговоров в Москве. Симптоматичным считали послание Д. Эй-
зенхауэра в критический момент переговоров, которым он поддер-
жал жесткую линию К. Аденауэра. Чулич сказал Ю. Жукову: «Для
Даллеса это очень тяжелый удар, так как он считал Аденауэра са-
мым верным своим союзником. Кроме того, это очень затруднит его
позицию в Женеве, поскольку Аденауэр фактически согласился с
разделом Германии и теперь будет трудно» /л. 86/.
Когда мы говорим об итогах Московских переговоров, то долж-
ны иметь в виду, что уже тогда первым среди европейских полити-
ков К. Аденауэр готовился пустить в ход такой щекотливый аргу-
мент, как все более выявлявшееся соперничество между СССР и
1 АВП СССР. Фонд 082, Опись № 14, Пор. № 207, Папка № 14, л. 107.
43
КНР. Было ли это результатом собственной информированности или
подсказано более информированными американскими лидерами, все
еще остается нераскрытой темой, во всяком случае, в российской
историографии. Дело в том, что еще в июле 1954 г. федеральный
канцлер на заседании внешнеполитического комитета бундестага
высказал мысль, что наперед невозможно сказать, останется ли
«красный Китай длительное время в советском блоке и относится ли
к нему в настоящее время на все сто процентов». Тогда было решено
занять позицию внимательного зрителя, терпеливо выжидающего
развития событий. Весной 1955 г. канцлер сделал себе заметки, что
«давление русских» в Европе надо ослабить, обратив их внимание
на восток, в сторону «желтой опасности», которая им действительно
угрожает, а именно в сторону «красного Китая». В ходе бесед с со-
ветскими руководителями К. Аденауэр пытался выяснить отноше-
ние советских руководителей к Китаю. Он сделал вывод, что для
Москвы это - «самая большая проблема». К. Аденауэр записал: «Я
подумал про себя: дорогой друг, однажды ты будешь очень доволен,
если отпадет необходимость держать войска на Западе».1 Позже по-
литики из ХДС и ХСС не раз взвешивали китайский фактор как
средство давления на русских, однако приходилось учитывать инте-
ресы и позицию США. Оппозиция в лице СДПГ склонялась к жела-
тельности установления дипломатических отношений с Китаем по
экономическим соображениям, однако до этого дело дошло лишь в
70-х гг. Еще и в апреле 1958 г. во время переговоров по экономиче-
скому договору К. Аденауэр «предупреждал» А. И. Микояна об
опасности со стороны Китая.
Изменился ли имидж канцлера Аденауэра в глазах русских, со-
ветских граждан после установления дипломатических отношений?
Несомненно, да. Однако образ канцлера складывался под сильным
влиянием официальной политики. Даже самим советским руководи-
телям не вполне ясен был облик старого немца, которого Н. С. Хру-
щев назвал в узком кругу «Старый хрен».
После заключения торгового договора 1958 г. Н. С. Хрущев за-
теял новый тур нормализации положения в Европе, поставив на сей
раз вопрос о нормализации статуса Западного Берлина, что привело
к обострению ситуации, к очередному кризису в 1960 г., а в конеч-
ном счете к возведению Стены в Берлине в августе 1961 г. В опреде-
ленном смысле акции Н. С. Хрущева были реакцией на активизацию
военных кругов ФРГ, на их планы приобщения ФРГ к ядерному
оружию.
1 Установление дипломатических отношений. - М., 2005. - С. 233.
44
Какие представления преобладали в Москве относительно поли-
тики Конрада Аденауэра? Бывший с 1991 по 1997 гг. послом России
в Стокгольме О. Гриневский (начинавший свою дипломатическую
карьеру в середине 50-х гг. и ставший потом профессором Стэн-
фордского университета в США /Калифорнии/), выпустил свои вос-
поминания под названием «Тысяча и один день Никиты Сергеевича»
/М., 1998/, в которой, очевидно, со слов коллег по службе рассказы-
вает об отношении Н. С. Хрущева к Конраду Аденауэру в главе, на-
званной «Старый хрен».
По оценке же А. Громыко, К. Аденауэр был «худой, высокий
старик, аккуратный и педантичный, сверхпедантичный». «Выглядел
он величаво, хотя и старомодно, всегда в темном костюме, жилетке
и тщательно повязанном галстуке, продолжает автор повести. - Ши-
рокое скуластое лицо, изборожденное глубокими морщинами, об-
рамляла короткая «прусская» стрижка - так гигиеничнее. Однако
выдающиеся скулы и чуть раскосые проницательные глаза придава-
ли ему монгольский облик. Как-то Хрущев, рассматривая его фото-
графию, спросил: «Он что, татарин?» Окружение было повергнуто в
смятение... Никто не мог дать вразумительного ответа. После неко-
торых изысканий Хрущеву доложили, что это следствие автомо-
бильной аварии в 1917 году!
Известно, что Конрад Аденауэр не просто долгожитель, но и
деятель, проявлявший необыкновенную трудоспособность. Он вста-
вал рано и работал по 18 часов в сутки. «В общении вежлив и точен,
он умеет держать людей на расстоянии». Он не был лишен чувства
иронии, скажем, называл пруссаков славянами, забывшими свое
происхождение и т.п. Историк, разумеется, понимает, что объектив-
ные оценки деятелям выносит сама история. В то время позитивные
оценки не попадали в средства массовой информации, а записи ди-
пломатов относятся к разряду «лестничной мудрости». Объективные
оценки К. Аденауэра в российской историографии еще предстоит
дать.
В откликах мировой прессы того времени отмечалось, что с точ-
ки зрения дипломатии успеха добилась советская сторона, отверг-
нувшая предварительные условия и настоявшая на установлении
дипломатических отношений. Берлинская «Тагесшпиегель» 14 сен-
тября лаконично отметила: «Советская точка зрения одержала верх
по всем пунктам». Наблюдатели того времени делали и далеко иду-
щие выводы из опыта московских переговоров. Они сводились к
следующим пунктам: 1. Объединенная Германия не должна входить
в военные блоки. 2. Воссоединение Германии будет возможно, толь-
45
ко если представители ФРГ и ГДР сядут за один стол и обратятся к
великим державам совместно. Переговоры с Советским Союзом с
позиции силы (угроз и давления) не дадут позитивных результатов
(«Нойе Рейн-Цайтунг»). Лондонская «Таймс» обратила внимание на
то, что, имея дипломатические отношения и с ФРГ, и с ГДР, совет-
ская дипломатия получает широкое поле для маневра в европейской
политике.
Еще в ходе переговоров в Москве К. Аденауэр подчеркнул, что
географическое положение Германии - важный аргумент в пользу
налаживания отношений с Россией. В то же время он не ставил пе-
ред собой задачу изменить образ жизни другой стороны: «Главное -
надо попытаться сотрудничать и уживаться друг с другом. Я не об-
ращу вас в свою веру, а вы меня. Этого мы и не будем пытаться сде-
лать». Это было, по существу, признанием принципа мирного сосу-
ществования.
В связи с 50-летием установления дипломатических отношений
между СССР и ФРГ в нашей стране был проведен ряд научно-
практических конференций, международных симпозиумов и круг-
лых столов, которые дали возможность существенно расширить на-
ши представления об этом событии, особенно благодаря введению в
научный оборот новых, ранее неизвестных документов и свиде-
тельств. Они получили отражение в ряде документальных публика-
ций. Это прежде всего выпущенный в 2005 году сборник докумен-
тов и материалов «Установление дипломатических отношений меж-
ду СССР и ФРГ», подготовленный в МГИМО (Университете) МИД
России, с предисловием ректора университета члена-корреспондента
РАН А. В. Торкунова. Сборник содержит стенограмму переговоров
в Москве, полный текст которой хранится в Архиве МИД России, а
также опубликованные ранее официальные документы. Почти одно-
временно, но несколько позже вышел подготовленный при под-
держке Фонда Аденауэра сборник документов и материалов «Визит
канцлера Аденауэра в Москву (8- 14 сентября 1955 г.)», в который
включены документы на русском языке и материалы на немецком
языке из дипломатического архива ФРГ. Ценность источника ин-
формации по проблемам развития отношений между двумя государ-
ствами имеет также публикация Агентства печати Новости под не-
сколько необычным названием «Взгляд назад в будущее». Бывшие и
действующие послы двух стран выразили свои представления о про-
блемах и перспективах развития дипломатических отношений меж-
ду двумя странами.
46
Германский вопрос оставался основным вопросом европейской
политики, да и мировой политики, на протяжении нескольких деся-
тилетий после второй мировой войны, в которой нацистский рейх и
его сателлиты потерпели тотальное поражение. Мирное урегулиро-
вание с Германией оказалось сложнейшей проблемой, И эту слож-
нейшую проблему мировой политики пытались решить умудренные
жизненным опытом государственные деятели.
Сложность германской проблемы была обусловлена тем, что
противоречия между Советским Союзом и западными державами,
выявившиеся уже на исходе второй мировой войны, не дали воз-
можности заключить с побежденной Германией нормальный мир-
ный договор, как это было принято на протяжении столетий в Евро-
пе. Камнем преткновения оказалось признание территориальных
изменений, ранее согласованных между союзниками.
При поддержке западных держав, особенно со стороны США,
Западная Германия уклонилась от выплаты средств на репарации,
т.е. на восстановление разрушенного на территории Советского
Союза в результате германской агрессии в 1941 году. Восточная
Германия возместила часть ущерба за счет старого промышленного
оборудования предприятий, демонтированных и вывезенных СССР
в счет репараций.
В итоге второй мировой войны четыре союзные державы -
СССР, Великобритания, Франция и США - взяли на себя всю пол-
ноту власти на территории Германии, права и ответственность за
Германию в целом. Именно это правовое положение позволило под-
держивать мирные условия и урегулировать ситуацию в регионе,
вступая в переговоры в кризисные моменты, как это было в 1948-49
гг., в 1953 году, затем в 1958-61 гг. Конфликтные ситуации возника-
ли в связи со статусом Западного Берлина на территории ГДР.
4. Новая восточная политика - нормализация
отношений со странами Восточной Европы
В итоге послевоенного развития политика «с позиции силы», ко-
торую правящие круги Западной Германии проводили в самом тес-
ном партнерстве с США, оказалась в конце 60-х годов в состоянии
кризиса. В условиях наметившейся к середине 60-х годов тенденции
к разрядке международной напряженности продолжение линии ФРГ
на усиление конфронтации с социалистическими странами, прежде
всего с СССР, ПНР и ЧССР, означало идти на риск международной
47
изоляции. Обострение опасности военного конфликта ради удовле-
творения реваншистских претензий ФРГ отнюдь не отвечало нацио-
нальным интересам европейских стран, в том числе и входящих в
НАТО.
Вследствие кризиса политического курса правительств, возглав-
ляемых лидерами ХДС/ХСС, в декабре 1966 года впервые в истории
ФРГ было сформировано правительство «большой коалиции»:
ХДС/ХСС и СДПГ. В кабинет во главе с канцлером К.-Г. Кизинге-
ром (ХДС) вошел в качестве вице-канцлера и министра иностран-
ных дел лидер социал-демократической партии В. Брандт, который
провозгласил новую «восточную политику». В действительности
новые шаги в духе реалистической политики в период совместного
правления ХДС и СДПГ декларировались, но не предпринимались.
Отношения Советского Союза и других социалистических стран с
ФРГ оставались в период с середины и до конца 60-х годов в не-
удовлетворительном состоянии.
В течение 1967- 1969 годов между правительствами СССР и
ФРГ происходил обмен мнениями по вопросу о заключении согла-
шения об отказе от применения силы во взаимных отношениях. Ди-
пломатическое ведомство ФРГ вручило 7 февраля 1967 г. послу
СССР в Бонне проекты соответствующих документов, которые, од-
нако, не могли рассматриваться в качестве основы соглашения, так
как оставляли «спорными» такие вопросы, как нерушимость суще-
ствующих границ в Европе, существование суверенного государства
ГДР, недействительность Мюнхенского соглашения и даже отказ
ФРГ от обладания ядерным оружием. 12 ноября 1967 г. советский
посол передал министру иностранных дел ФРГ В. Брандту советские
проекты соглашения об отказе от применения силы. В них преду-
сматривалось закрепление сложившихся в Европе государственных
границ, отказ ФРГ от претензий представлять «всех немцев», снятие
ядерных притязаний и объявление Мюнхенского соглашения недей-
ствительным. Существенной основой соглашения между СССР и
ФРГ об отказе от применения силы должен был стать учет коренных
проблем европейской безопасности, подведение черты под итогами
второй мировой войны, отказ ФРГ от применения силы в отношени-
ях не только с СССР, но и с другими социалистическими государст-
вами, в том числе с ГДР. В результате дальнейшего обмена памят-
ными записками в декабре 1967 - июле 1968 года Советское прави-
тельство сделало вывод: «Правительство ФРГ по-прежнему ставит
перед собой такие внешнеполитические задачи, решение которых
представляет угрозу применения силы или использования силы».
48
Из-за позиции, занятой правительством К.-Г. Кизингера по жизнен-
но важным вопросам европейской безопасности, в 1968- 1969 годах
не удалось достигнуть какого-либо соглашения между СССР и ФРГ.
Конструктивные переговоры стали возможны лишь в результате
политических изменений, происшедших в ФРГ после выборов в
бундестаг в сентябре 1969 года и сформирования нового правитель-
ства ФРГ из представителей СДПГ и СвДП. Сформированное после
выборов правительство во главе с канцлером В. Брандтом и вице-
канцлером, министром иностранных дел В. Шеелем взяло на себя
обязательство перед избирателями найти пути к решению проблем
«восточной политики».
В правительственном заявлении, с которым канцлер В. Брандт
выступил в бундестаге 28 октября 1969 г., была подчеркнута преем-
ственность политики социал-либерального правительства ФРГ. Вме-
сте с тем В. Брандт заявил о готовности добиваться взаимопонима-
ния с СССР, ГДР, ПНР и ЧССР. Такая позиция могла рассматри-
ваться как приемлемая основа для начала дипломатических перего-
воров социалистических стран с ФРГ, поскольку теперь правитель-
ство ФРГ исходило из факта существования двух германских госу-
дарств, хотя и ставило признание международного статуса ГДР в
зависимость от решения «германского вопроса». Правительство В.
Брандта - В. Шееля предложило вступить в обмен мнениями с пра-
вительством Советского Союза и ПНР; объявило решение ФРГ при-
соединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Представители стран Варшавского союза на совещании 3-4 де-
кабря 1969 г. в Москве оценили результаты выборов в ФРГ и обра-
зование нового правительства как проявление среди части общест-
венности ФРГ тенденций к реалистической политике сотрудничест-
ва и взаимопонимания между государствами с различным социаль-
но-экономическим строем. Правительственное заявление канцлера
В. Брандта 28 октября 1969г. и подписание 28 ноября 1969 г. в Мо-
скве представителями ФРГ Договора о нераспространении ядерного
оружия были первыми конкретными действиями правительства
ФРГ, которые могли рассматриваться как поворот к разрядке и реа-
лизму в «восточной политике».
Дипломатические переговоры СССР с ФРГ начались как обмен
мнениями в декабре 1969 года и проходили в несколько этапов до
августа 1970 года. В итоге сложной и напряженной дипломатиче-
ской работы был решен круг вопросов, касавшихся отношений ФРГ
с СССР, с другими социалистическими странами. Для переговоров в
Москву с января 1970 г. приезжал статс-секретарь Э. Бар. В период
49
пребывания в Москве с 27 июля по 7 августа 1970 г. министра ино-
странных дел ФРГ В. Шееля переговоры были завершены парафи-
рованием договора. Для подписания договора в Москву прибыла
делегация ФРГ во главе с канцлером В. Брандтом.
Договор между СССР и ФРГ был подписан 12 августа 1970 г.
главами правительств и министрами иностранных дел. Заключение
договора положило начало решительному повороту в отношениях
между двумя государствами от напряженности к разрядке, от кон-
фронтации к взаимовыгодному сотрудничеству. Договор открыл
перспективы для решения проблем безопасности в Европе и для на-
лаживания общеевропейского сотрудничества.
Преамбула договора провозглашала стремление сторон содейст-
вовать упрочению мира и безопасности в Европе и во всем мире,
желание в договорной форме выразить свою решимость к улучше-
нию сотрудничества между двумя государствами. Основное содер-
жание договора состояло в признании сторонами существующего в
Европе положения: нерушимости границ европейских стран и в от-
казе от угрозы силой и от ее применения в отношениях между госу-
дарствами. Правительства СССР и ФРГ заявили, что «рассматрива-
ют поддержание международного мира и достижение разрядки на-
пряженности в качестве важной цели своей политики» и выразили
стремление содействовать нормализации обстановки в Европе и раз-
витию мирных отношений между всеми европейскими государства-
ми. Договор обязывал стороны решать свои споры исключительно
мирными средствами. В договоре указывается, что «мир в Европе
может быть сохранен только в том случае, если никто не будет пося-
гать на современные границы». СССР и ФРГ взяли на себя обяза-
тельства неукоснительно соблюдать территориальную «целостность
всех государств в Европе в их нынешних границах» и заявили, что
не имеют каких-либо территориальных претензий к кому бы то ни
было и не будут выдвигать таких претензий в будущем. Таким обра-
зом, правительство ФРГ в международно-правовом порядке отказа-
лось от реваншизма.
Закрепление в договоре принципа нерушимости государствен-
ных границ в Европе имело весьма важное международное значе-
ние: оно относилось к границам всех европейских государств «сей-
час и в будущем», в том числе к границе между ГДР и ФРГ, а также
к линии Одер - Нейсе. Договор СССР и ФРГ создал также предпо-
сылки для урегулирования отношений ФРГ с ГДР и ПНР.
В ходе переговоров между СССР и ФРГ была достигнута «дого-
воренность о намерениях сторон» по решению общеевропейских
50
проблем, отношений ФРГ с ГДР, ПНР, ЧССР и других проблем.
Правительство ФРГ взяло обязательство уважать целостность и са-
мостоятельность ГДР, вступить в переговоры с правительством ГДР
и заключить с ним межгосударственный договор. Оно заявило о на-
мерении признать недействительность Мюнхенского соглашения
1938 года, однако не пошло тогда на признание формулы недействи-
тельности договора «с самого начала». Далее были согласованы ме-
ры, содействующие приему в ООН ФРГ одновременно с ГДР.
«Письмо о германском единстве», направленное министром ино-
странных дел ФРГ В. Шеелем «обычной почтой» его коллеге А.
Громыко в день подписания договора в Москве 12 августа 1970 г.,
хотя и не создавало международно-правовых норм, оказалось весьма
действенной оговоркой с точки зрения и внутренней, и внешней по-
литики. Письмо В. Шееля содержало всего одну фразу: подписание
договора не означает отказа от национальной цели - единства нации,
германское правительство намеревалось содействовать такому со-
стоянию мира в Европе, при котором германский народ вновь обре-
тет свое единство. В итоге сложной дипломатической игры Совет-
ское правительство должно было признать наличие такой точки зре-
ния на самоопределение нации.
Процесс ратификации договора в ФРГ сопровождался острой
политической борьбой между правительственными партиями СДПГ
и СвДП и оппозиционными партиями ХДС и ХСС, размежеванием
политических сил. Это затянуло вступление договора в силу почти
на два года. В ходе политической борьбы в ФРГ предметом острых
дискуссий стали вопросы «германского единства» и «удовлетвори-
тельного урегулирования» для Западного Берлина. Реалистическая
тенденция в конечном счете возобладала в политических кругах За-
падной Германии. После достижения четырьмя державами соглаше-
ния по Западному Берлину бундестаг ФРГ 17 мая 1972 г. при 248
голосах «за», 10 - «против» и 238 воздержавшихся одобрил Москов-
ский договор. Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал
договор СССР с ФРГ 31 мая 1972 г. Договор вступил в силу после
обмена ратификационными грамотами в Бонне 3 июня 1972 г. Со-
ветский Союз последовательно выступал за введение в действие и
выполнение заключенного договора.
Московский договор между ФРГ и Советским Союзом внешне
простой, краткий, но строго сбалансированный документ. По сути -
это договор об отказе от применения силы во взаимных отношениях
на основе признания нерушимости государственных границ в Евро-
пе. «Договоренность о намерениях сторон» (составная часть дого-
51
ворного проекта) предопределила урегулирование ФРГ с Польшей,
Чехословакией, ГДР и даже одновременное принятие ГДР и ФРГ в
ООН. Умелая увязка правительством В. Брандта договоренностей
СССР и ФРГ с удовлетворительным урегулированием по Берлину,
получившая обозначение термином «юнктим», оказалась также
удачной. Во всяком случае права и ответственность четырех держав
за Берлин и Германию в целом не только не были затронуты, но да-
же «не были предметом переговоров». Восточные договоры, вклю-
чая договор о ничтожности мюнхенского соглашения 1938 г. в от-
ношении Чехословакии, рассматривались как единое целое, что по-
зволило каждой из стран Восточной Европы максимально реализо-
вать свои интересы. Значение урегулирования 70-х гг. для сосущест-
вования государств в центре Европы следует помнить, если мы хо-
тим правильно понять успешное объединение Германии в 90-х гг.
Советско-западногерманские соглашения создали хорошую ос-
нову для дальнейшего углубления и развития политических и иных
отношений между двумя странами; они способствовали нормализа-
ции отношений других государств социалистического содружества -
ПНР, ГДР, ЧССР, ВНР, НРБ - с ФРГ. 7 декабря 1970 г. был подпи-
сан Договор между ФРГ и ПНР об основах нормализации их взаим-
ных отношений. Правящие круги Западной Германии после второй
мировой войны не шли на нормализацию отношений с социалисти-
ческим польским государством, не хотели признать установленную
потсдамскими решениями государственную границу ПНР.
Переговоры между ФРГ и Польшей стали возможны только то-
гда, когда Советский Союз вступил в переговоры с ФРГ с целью вы-
работки условий урегулирования отношений ФРГ со странами Вос-
точной Европы, в феврале 1970г. Они увенчались выработкой дого-
вора и его подписанием в Варшаве. Преамбула договора деклариро-
вала желание обоих государств «создать прочные основы для мир-
ного сосуществования и развития нормальных и хороших отноше-
ний», для упрочения мира и безопасности в Европе. Основным ус-
ловием мира признана была нерушимость государственных границ и
уважение территориальной целостности и суверенитета всех госу-
дарств в Европе. Статья I констатирует, что «существующая погра-
ничная линия, прохождение которой было установлено в главе IX
решений Потсдамской конференции от 2 августа 1945 года, от Бал-
тийского моря непосредственно западнее Свиноустья и отсюда
вдоль реки Одры до места, где впадает Ниса Лужицкая и вдоль Ни-
сы Лужицкой до границы с Чехословакией, является западной госу-
дарственной границей Польской Народной Республики».
52
ПНР и ФРГ обязались соблюдать территориальную целостность
государств, подтвердить нерушимость их границ сейчас и в буду-
щем, заявив, что не имеют никаких территориальных притязаний
друг к другу и не будут выдвигать такие притязания в будущем. В
вопросах, затрагивающих европейскую и международную безопас-
ность, а также во взаимных отношениях они обязались воздержи-
ваться от угрозы силой или применения силы и решать все споры
исключительно мирными средствами. Стороны выразили намерение
предпринимать дальнейшие шаги с целью полной нормализации и
развития взаимных отношений, расширения сотрудничества в эко-
номической, научно-технической и культурной областях. Прави-
тельства двух стран договорились установить дипломатические от-
ношения.
Вокруг ратификации польско-западногерманского договора в
ФРГ в 1970-1972 годах проходила не менее острая политическая
борьба, чем вокруг Московского договора. Он был одобрен бундес-
тагом в мае 1972 года также 248 мандатами СДПГ и СвДП при 17
против и 231 воздержавшемся.
Осуществленные правительством ГДР в августе 1961 года меро-
приятия по установлению строгого контроля на границе с Западным
Берлином существенно ограничили возможности подрывных дейст-
вий западных спецслужб против ГДР. Однако, прибегая к различ-
ным уловкам, западногерманские органы власти продолжали свою
деятельность в городе, расположенном вне границ ФРГ, на террито-
рии суверенного государства ГДР. Советское правительство неодно-
кратно обращало внимание правительств США, Великобритании и
Франции на эту деятельность западногерманских властей в Запад-
ном Берлине и требовало уважать союзнические соглашения, опре-
делившие особый статус Западного Берлина, и соблюдать суверен-
ные права ГДР при урегулировании проблемы коммуникаций. В ус-
ловиях начавшейся общей разрядки международной напряженности
США, Великобритания и Франция пошли на открытие переговоров с
СССР с целью найти урегулирование одной из острых проблем ев-
ропейской политики.
Переговоры четырех держав по вопросам, относящимся к Запад-
ному Берлину, начались 26 марта 1970 г. Переговоры с послами
США, Англии и Франции в ФРГ вел посол СССР в ГДР П. А. Абра-
симов. Завершились переговоры в Берлине подписанием 3 сентября
1971 г. четырехстороннего соглашения между правительствами
СССР, Франции, США и Великобритании по вопросам, относящим-
ся к Западному Берлину.
53
Это соглашение явилось результатом длительного поиска при-
емлемых решений данной проблемы, основанных на признании по-
литических реальностей, сложившихся в центре Европы, и имело
целью устранить серьезный очаг напряженности, который приводил
не раз к опасной конфронтации и международным кризисам.
Постановления, относящиеся к западным секторам Берлина, со-
держали положения о том, что связи между западными секторами
Берлина и Федеративной Республикой Германии будут поддержи-
ваться и развиваться с учетом того, что эти сектора «не являются
составной частью Федеративной Республики Германии и не будут
управляться ею и впредь». Правительство ФРГ было представлено в
Западном Берлине перед властями трех западных держав и сенатом
постоянным органом по связям.
Соглашение определяло порядок представительства интересов
Западного Берлина и его жителей в международных контактах.
Представительство интересов Западного Берлина в международных
делах оставалось прерогативой трех западных держав. Что касается
ФРГ, то ей была предоставлена возможность консульского обслу-
живания постоянных жителей Западного Берлина за границей, пред-
ставительства интересов города в международных организациях и
конференциях, совместного участия в международных обменах и
выставках.
В соответствии с четырехсторонним соглашением Советский
Союз учредил в Западном Берлине генеральное консульство, аккре-
дитованное при органах власти трех держав, открыл бюро внешне-
торговых организаций, а также представительства Аэрофлота и Ин-
туриста. Четырехстороннее соглашение вступило в силу 3 июня
1972 г. Одновременно вступило в силу соглашение ГДР и ФРГ по
транзиту, а также ГДР и сената Западного Берлина по посещениям
жителями и об обмене анклавами.
Отношения между двумя германскими государствами - ГДР и
ФРГ оставались крайне напряженными в течение всего периода их
существования вплоть до конца 60-х годов. Причина этого состояла
в откровенно враждебной позиции возглавлявшихся ХДС/ХСС пра-
вительств ФРГ в отношении социалистической ГДР, в стремлении
милитаристских кругов ликвидировать ГДР под видом «воссоедине-
ния немцев». Уже к середине 60-х годов полностью выявилась несо-
стоятельность претензии ФРГ на единоличное представительство
«всех немцев», стало очевидным банкротство «доктрины Хальштей-
на». В период нахождения у власти правительства «большой коали-
ции» в политических кругах в Западной Германии все более усили-
54
валась тенденция к признанию реального факта существования дру-
гого германского государства. С другой стороны, во многих странах
усилились настроения в пользу признания ГДР и установления с ней
нормальных отношений вопреки реваншистским доктринам ФРГ.
Правительство В. Брандта - В. Шееля в своем программном за-
явлении 28 октября 1969 г. выразило готовность вступить в двусто-
ронние переговоры с ГДР «без всякой дискриминации на правитель-
ственном уровне в целях согласованного в договорном порядке со-
трудничества». Канцлер В. Брандт, однако, подчеркнул, что ФРГ и
ГДР не являются друг для друга «заграницей», что отношения меж-
ду ними должны быть отношениями «особого рода», поскольку
главная задача - «единство нации». В новом подходе правительства
ФРГ важен был ключевой момент - признание: «существуют два
государства».
После подписания Московского договора и договора ФРГ с ПНР
сложились благоприятные условия для продолжения контактов ГДР
с ФРГ. В результате этих контактов в декабре 1971 года было под-
писано Соглашение о транзитном сообщении гражданских лиц и
грузов между ФРГ и Западным Берлином. Затем 26 мая 1972 г. за-
ключен Транспортный договор, регулирующий взаимные и транзит-
ные перевозки между двумя государствами по железным, автомо-
бильным дорогам и водным путям. Наконец, 21 декабря 1972 г. в
Берлине был подписан Договор об основах отношений между ГДР и
ФРГ, который регулировал взаимоотношения двух германских госу-
дарств, имеющих различный социальный строй, на принципах мир-
ного сосуществования.
В этом договоре стороны заявили об установлении отношений
друг с другом на основе равноправия, суверенного равенства госу-
дарств, уважения самостоятельности, территориальной целостности
и нерушимости границ, самоопределения каждого из них, отказа от
дискриминации, а также на основе, других принципов международ-
ного права, включая отказ от применения силы и решение всех спо-
ров мирными средствами. Статья 4 договора содержала принципи-
ально важное положение: «Германская Демократическая Республика
и Федеративная Республика Германия исходят из того, что ни одно
из обоих государств не может представлять другое в международ-
ных отношениях или действовать от его имени». Это обязательство
сняло окончательно притязания ФРГ на исключительное право
представлять всех немцев. Договор предусматривал нормализацию и
развитие отношений в областях экономики, науки, техники, почты,
культуры, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды, а
также учреждение на основе взаимности постоянных представи-
55
тельств. Такие представительства (посольства) были открыты в Бон-
не и Берлине в июне 1974 года.
Берлинский договор об основах отношений между ГДР и ФРГ
натолкнулся на активное сопротивление консервативных кругов в
Западной Германии, которые попытались отвергнуть его конститу-
ционно-правовыми оговорками. Однако эти попытки не дали им же-
лаемых результатов. Договор был ратифицирован в июне 1973 года.
По нормализации взаимоотношений между ГДР и ФРГ отпали
последние препятствия для установления государствами мира ди-
пломатических отношений с ГДР. При энергичной поддержке дру-
гих социалистических государств, прежде всего СССР, дипломатии
ГДР удалось полностью преодолеть дипломатическую блокаду со
стороны Запада. После установления дипломатических отношений
между ГДР и рядом стран Азии и Африки в 1969- 1971 годах на ус-
тановление полных дипломатических отношений с ГДР в 1972-1973
годах пошло большинство государств Европы и Америки. Если в
1971 году дипломатические отношения с ГДР имели 27 стран, то в
мае 1976 года эти отношения имело уже 121 государство. ГДР уста-
новила дипломатические отношения практически со всеми государ-
ствами мира.
После нормализации отношений между двумя германскими го-
сударствами получили широкое развитие экономические связи и
взаимные посещения граждан ГДР и ФРГ.
В процессе нормализации отношений между двумя германскими
государствами был согласован вопрос об их одновременном вступ-
лении в ООН. 9 ноября 1972 г. СССР, США, Великобритания и
Франция опубликовали согласованное заявление, которым подтвер-
дили готовность поддержать заявления двух германских государств
о приеме в ООН. При этом было подчеркнуто, что это «никоим об-
разом не должно затрагивать права и ответственность четырех дер-
жав и соответствующие, относящиеся к этому четырехсторонние
соглашения, решения и практику». Генеральная Ассамблея ООН 18
сентября 1973 г. приняла ГДР и ФРГ в члены ООН.
Договор о взаимных отношениях между ЧССР и ФРГ был под-
писан 11 декабря 1973 г. и вступил в силу в июле 1974 года. Преам-
була договора провозгласила стремление сторон подвести черту под
прошлым и обеспечить прочный мир новому поколению. В статье 1
говорится, что стороны рассматривают Мюнхенское соглашение от
29 сентября 1938 г. как «ничтожное». Этот юридический термин оз-
начает недействительность Мюнхенского соглашения. В договоре
определены правовые последствия, вытекающие из признания сто-
56
ронами недействительности Мюнхенского соглашения. Статья 4 за-
крепила нерушимость границ и территориальную целостность обоих
государств. Стороны заявили, что не имеют в отношении друг друга
никаких территориальных претензий и не будут выдвигать таковые
и в будущем.
Заключение договоров и установление нормальных отношений
социалистических государств с ФРГ, а также подписание четырех-
стороннего соглашения по Западному Берлину означали создание
если не системы, то целого ряда договоров, которые создали благо-
приятные условия для дальнейшей нормализации обстановки в Ев-
ропе и налаживания общеевропейского сотрудничества. 21 декабря
1973 г. были установлены дипломатические отношения ФРГ с Венг-
рией и Болгарией.
Одним из важных факторов, позволивших постепенно нормали-
зовать отношения между социалистическими странами и ФРГ в те-
чение 1970-1974 годов, наряду с изменением политической атмо-
сферы в Европе вследствие успехов политики разрядки, в условиях
общего экономического спада в странах капиталистической системы
следует считать заинтересованность ФРГ в развитии торгово-
экономических отношений. Развитие экономического сотрудничест-
ва между государствами с различными социально-экономическими
системами, естественно, тесно переплеталось с улучшением полити-
ческих отношений.
В мае 1974 года произошли изменения в правительстве ФРГ.
Президентом ФРГ был избран В. Шеель. Канцлером ФРГ стал за-
меститель председателя СДПГ Г. Шмидт, вице-канцлером и мини-
стром иностранных дел стал лидер СвДП Г.-Д. Геншер. Новый ка-
бинет провозгласил преемственность политического курса и про-
должение политики разрядки в отношении социалистических стран.
По приглашению Советского правительства в Москву с официаль-
ным визитом в октябре 1974 года прибыла делегация ФРГ во главе с
канцлером Г. Шмидтом.
В середине 70-х годов СССР стал одним из крупнейших покупа-
телей западногерманского промышленного оборудования, ФРГ за-
няла первое место среди западных партнеров СССР. Долгосрочная
перспектива развития взаимного экономического, промышленного и
технического сотрудничества, принятая СССР и ФРГ 18 января 1974
г., наметила сотрудничество в машиностроении, цветной металлур-
гии, энергетике и нефтехимии. Характерная особенность советско-
западногерманского экономического сотрудничества - реализация
крупномасштабных проектов. Наиболее крупными сделками между
57
фирмами ФРГ и советскими организациями были контракты о по-
ставках природного газа из СССР в ФРГ взамен труб большого диа-
метра и оборудования для магистральных трубопроводов. Крупно-
масштабные проекты предусматривали строительство электроме-
таллургического комбината под Курском, а также поставки из ФРГ в
СССР комплектных химических предприятий, значительного коли-
чества грузовых автомобилей, другие сделки и проекты. За время с
1969 по 1977 год товарооборот между СССР и ФРГ увеличился при-
мерно с 0,5 млрд. до 3 млрд. рублей в год. К 1978 году товарооборот
между двумя странами возрос по сравнению с 1973 годом в 2,5 раза,
а по сравнению с 1970 годом - в 5,5 раза.
В целях дальнейшего содействия экономическому сотрудничест-
ву, создания материального фундамента взаимовыгодного сотруд-
ничества стороны заключили 6 мая 1978 г. Соглашение о развитии
долгосрочного сотрудничества в области экономики и промышлен-
ности, которое значительно расширило области сотрудничества,
вплоть до широкого обмена экономической информацией, сотруд-
ничества в модернизации промышленных комплексов, разработки
отдельных видов оборудования, в развитии энергетики, в разработке
сырьевых источников и т.д. Соглашение рассчитано на 25 лет и оп-
ределяло, таким образом, перспективу сотрудничества до начала
следующего столетия.
Социал-либеральная коалиция оказалась не в состоянии преодо-
леть социально-экономические проблемы, особенно такие, как за-
медление темпов роста. Более того, в 1980 году произошло даже со-
кращение валового национального продукта на 1 процент. Тревож-
ным сигналом был рост количества безработных трудоспособных
граждан. Все это имело место на фоне нарастания международной
напряженности из-за планов размещения по настоянию США ядер-
ных ракет средней дальности на территории ряда стран Европы, в
том числе на территории ФРГ.
Смена правительства в октябре 1982 г., как показал историче-
ский опыт, оказалась действительно судьбоносной. Приход к власти
правоцентристской коалиции ХДС во главе с Гельмутом Колем и
СвДП во главе с Г.-Д. Геншером, последующее подтверждение ман-
дата на управление страной, полученное партией Г. Коля на выборах
1983 и 1987 гг., создали предпосылки не только для укрепления ме-
ждународных позиций ФРГ как динамичного мощного в торгово-
финансовом отношении государства, но и для решения националь-
ной задачи и цели - объединения нации в едином государстве.
Глава II
ВНУТРИГЕРМАНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОЦЕССА ОБЪЕДИНЕНИЯ
1. Правоцентристская коалиция у власти
Ресурс первоначально разработанной и внедренной теории соци-
ального рыночного хозяйства оказался небеспредельным. Уже Люд-
вигу Эрхарду, когда он стал канцлером после К. Аденауэра, не уда-
лось эффективно «выжать» из теории стимулы экономического рос-
та. Социал-демократы вместе с либералами, признав действенность
концепции рыночного хозяйства, приняли меры для усиления соци-
альной функции государства, в частности, для решения проблем за-
нятости, создания новых рабочих мест, расширения сотрудничества
в рамках европейской интеграции и освоения рынков в странах
третьего мира. Однако социал-либеральная коалиция не нашла ме-
тода преодоления именно социальных проблем в рамках примене-
ния оправдавшей себя экономической теории. За время пребывания
ХДС/ХСС в оппозиции с 1969 по 1982 гг. деловые круги и их эко-
номисты не сидели сложа руки. Они искали способы обеспечения
экономического роста, рассматривая пути перехода от «двухфазной
модели» (экономический рост - увеличение занятости) к «трехфаз-
ной модели» (увеличение прибыли - рост инвестиций в структурные
изменения - увеличение занятости). В условиях научно-технической
революции передовые страны, и среди них ФРГ, сделали упор на
разработку наукоемкой продукции, что потребовало усиления науч-
ной подготовки специалистов, повышение уровня высшего образо-
вания, увеличения расходов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки. В 80-х гг. затраты на НИОКР достигли
в ФРГ 2,7 процента от валового национального продукта, тогда как в
США - 2,8 %, в Японии - 2,9 % от ВНП.
К 80-м гг. почти одна треть промышленной продукции ФРГ шла
на внешние рынки. Такого уровня не достигла ни одна другая инду-
стриальная держава мира, в т.ч. Япония и США. В середине 80-х гг.
ФРГ стала самым крупным по стоимости экспортером товаров, при-
чем следует иметь в виду увеличение не только качественной про-
дукции машиностроения, в том числе автомобилестроения, но и
59
наукоемкие виды техники, приборостроение, электроника. Объем
внешней торговли ФРГ в середине 80-х гг. превысил 342 млрд. дол-
ларов, в т.ч. экспорт 183,9 млрд. долларов. Золотовалютные запасы
ФРГ оценивались в это время суммой свыше 40 млрд. долларов, а
запас золота в слитках достиг почти 3 тысяч тонн (1989 г.).
Укреплению экономической мощи служат достижения научно-
технического плана, прежде всего в машиностроении и энергетике.
После мирового энергетического кризиса середины 70-х гг. прави-
тельство приняло меры для разработки альтернативных источников
энергии: расширение сети атомных электростанций, проектирование
и строительство высотных ветряных электростанций, создание сол-
нечных батарей и т.п. Имея весьма разветвленную сеть автобанов и
шоссейных дорог (свыше 11 тысяч километров) федерального и зе-
мельного уровня, широко применяя авиационное сообщение не
только на зарубежных линиях, но и на внутренних трассах, страна
содержит в отличном состоянии государственные железные дороги,
в частности, линии «Интерсити», которые связывают многие города
европейских стран. Вместе с тем, разрабатываются проекты скоро-
стных поездов на магнитной подушке, в частности, проектируется
строительство линии Берлин-Гамбург (к 2005 г. планировалось дви-
жение поездов со скоростью 400 км в час).
В середине 80-х гг. ФРГ утвердила свое положение третьей по
экономической мощи державы в мире после Японии и США. Если
доля США в мировом промышленном производстве составляла
примерно 34 процента при населении около 240 миллионов человек,
Японии - примерно 17 процентов при населении около 120 миллио-
нов человек, то ФРГ имела 12,4 процента при населении в 60 мил-
лионов человек. Что касается позиции ФРГ в Европе, то можно ис-
ходить из того, что уже в 80-х гг. она обеспечила себе доминирую-
щие позиции не только экономическими достижениями, но и актив-
ной дипломатической деятельностью, особенно на поприще евро-
пейской интеграции. Германская дипломатия на протяжении деся-
тилетий последовательно выступала за расширение Европейского
Экономического Сообщества за счет включения в него Великобри-
тании и других европейских государств, за углубление интеграции
вплоть до создания единой валютной системы и политической инте-
грации. ФРГ принимала активное участие в подготовке и проведе-
нии прямых выборов в Европейский парламент. Дипломатия ФРГ
содействовала созданию «единого рынка» стран ЕС, выработке и
подписанию Единого Европейского Акта, Шенгенского соглашения,
а затем и Маастрихтского договора. Одним словом, благожелатель-
60
ная позиция не только союзников, но и соседей ФРГ в отношении ее
усилий по присоединению к ней «другой части» Германии была
подготовлена и экономически, и дипломатически, хотя большинство
внешних наблюдателей не ожидали, что это может произойти столь
быстрыми темпами и в ближайшие годы.
Возросшая экономическая мощь и укрепление мировых позиций
ФРГ позволили правящим кругам выдвинуть далеко идущие поли-
тические цели, прежде всего в решении главной национальной про-
блемы: создания единого германского государства. В конце 80-х гг.
правящие круги Западной Германии поставили перед правительст-
вом ФРГ конкретную цель - поглощение ГДР. По существу, была
использована концепция социал-демократов: «изменение через
сближение», а не через конфронтацию. Для этого использовали
прежде всего экономические рычаги воздействия на ГДР, предоста-
вив крупные кредиты и расширив экономическое сотрудничество.
Важным фактором психологического и идеологического воздейст-
вия стали средства массовых коммуникаций, особенно благодаря
тому, что географическая близость, историческая общность языка и
культуры обеспечивали непосредственное каждодневное влияние на
население ГДР. В этом контексте внимание и уважение к председа-
телю Госсовета ГДР Э. Хонеккеру во время его официального визи-
та в ФРГ в сентябре 1987 г. предстает как подготовка к присоедине-
нию ГДР к ФРГ.
Собственно объединение Германии или, точнее, присоединение
ГДР к ФРГ произошло в короткий срок: всего за 329 дней, как отме-
тили в своих дневниковых записях германские участники акции, в
частности, статс-секретарь в ведомстве федерального канцлера
Хорст Тельчик1. Внешнеполитический и дипломатический аспект
процесса объединения Германии получил отражение как в герман-
ских документальных публикациях, так и в российской историогра-
фии2. В данном очерке предпринимается попытка осветить и дипло-
матический, и внутриполитический (внутригерманский) аспект про-
цесса объединения Германии, его социально-политические и эконо-
мические последствия.
1 Teltschik Н. 329 Tage. Innenansichten der Einigung. Berlin, 1993. S. 29.
Die Vereinigung Deutschlands im Jahr 1990. Eine Dokumentation. Bonn 1991.
2 Кузьмин И.Н. Крушение ГДР. Заметки очевидца. - М, 1993; Кузьмин
И.Н. Крушение ГДР. История. Последствия. - М., 1996; Максимычев И.
Крушение. Реквием по ГДР. В книге: Последний год ГДР. - М., 1993; Мак-
симычев И.Ф. «Народ нам не простит». - М., 2002; Павлов Н.П. Объедине-
ние Германии. - М., 1993; Ахтамзян А. Объединение Германии, или ан-
шлюс ГДР к ФРГ. Ч. I- 2. - М., 1994.
61
На выборах в бундестаг в январе 1987 г. ХДС во главе с
Г. Колем, в блоке с ХСС и в коалиции с Св. ДП, получила подтвер-
ждение мандата избирателей на управление государством в период
до конца 1990 г. Основной итог парламентских выборов сводился к
тому, что правоцентристская коалиция ХДС/ХСС и Св. ДП получи-
ла большинство мест в бундестаге (269 мест). СДПГ получила всего
186 мест в бундестаге. Партия «зеленых» (экологистов) второй раз
после выборов 1983 г. добилась успеха на федеральных выборах,
получив 42 мандата. Итоги выборов 1987 г. вызвали критические
голоса как в рядах оппозиционной партии социал-демократов, так и
внутри правящей партии ХДС, особенно в адрес федерального канц-
лера Гельмута Коля.
Приходится признать, что Гельмут Коль (1930 года рождения) -
импозантная фигура не только благодаря своей представительности
и солидности (гигант ростом в 192 сантиметра), но и уникальному
качеству, которым должен обладать политический деятель: полити-
ческому чутью, неустанному приспособлению к обстоятельствам.
Возглавив партию христианских демократов в 1973 г., Г. Коль не
добился успеха на выборах 1976 г., а на выборах 1980 г. уступил ме-
сто кандидата в канцлеры лидеру ХСС Францу-Йозефу Штраусу,
который также не обеспечил успех христианским демократам. В
итоге выборов 1980 г. канцлер Шмидт остался канцлером, а Штраус
остался Штраусом. Гельмут Коль стал федеральным канцлером не в
результате победы на выборах, а в результате парламентской ком-
бинации и вступления в коалицию с либералами, конкретно с Г.-Д.
Геншером, в кризисной ситуации в сентябре 1982 г. В результате
досрочных выборов (впервые досрочные выборы в бундестаг провел
В. Брандт в ноябре 1972 г.) в марте 1983 г. партия федерального
канцлера Г. Коля получила свой первый мандат на четыре года, а
затем обеспечила подтверждение доверия избирателей на выборах в
январе 1987 г. События конца 80-х гг., казалось, не предвещали
канцлерского долголетия. Однако ситуация в Европе, да и в мире
существенно изменилась вследствие начавшегося с «перестройки» в
СССР кризиса социализма как системы. Одним из первых верно
оценил ситуацию партнер по коалиции и многолетний (с 1974 по
1992 гг.) министр иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншер, который
склонен был оценивать смысл горбачевской перестройки не по сло-
вам, а по делам. Подход Г.-Д. Геншера к изменениям в СССР и Ев-
ропе получил даже нарицательное обозначение «геншеризм». ФРГ
продолжала диалог с СССР и использовала изменение стратегиче-
ской ситуации (из-за одностороннего отказа советских лидеров от
62
опоры на военный потенциал) с огромной выгодой для себя,
опираясь на промышленную и финансовую мощь «экономического
гиганта» - «политического карлика», как называли ФРГ еще в нача-
ле 80-х гг.
Экс-министр иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншер в своих воспо-
минаниях, опубликованных в 1997 г., несколько приоткрывает зана-
вес, за которым шла подготовительная работа по инициированию
кризиса в ГДР при молчаливом согласии тогдашних советских руко-
водителей внешней политики и дипломатии М. С. Горбачева и
Э. А. Шеварднадзе: «Еще осенью 1988 года я высказал в беседе с
советским министром иностранных дел Шеварднадзе в Нью-Йорке
ожидание, что следующим летом в ГДР дело дойдет до демонстра-
ций протеста, если к этому времени не будет реформ»1. Очевидно,
что такое предупреждение, отнюдь не предположение - «ожида-
ние», сделанное перед официальным визитом канцлера Г. Коля в
Москву в конце октября 1988 г., было составной частью начавшейся
операции «День Икс». Последовавшее «открытие границы» со сто-
роны Венгрии в мае 1989 г. и демонстративное устранение колючей
проволоки на границе Венгрии и Австрии министрами иностранных
дел этих стран Хорном и Мокком 27 июня того же года были, ко-
нечно, заранее согласованными с ФРГ шагами по подготовке акции,
направленной против правительства ГДР, с которым у Венгрии бы-
ли соглашения по регулированию въезда и выезда туристов - граж-
дан ГДР. Германский экс-министр считает этот день историческим
днем, хотя он был понят вначале лишь немногими. Преподнесенный
ему кусочек колючей проволоки Г. Д. Геншер хранит как реликвию
в своем кабинете - библиотеке. Но самым памятным днем своей
жизни экс-министр считает 30 сентября 1989 г., когда он срочно
прибыл в Прагу, чтобы решить проблему выезда из Чехословакии в
ФРГ граждан ГДР, не пожелавших возвращаться домой. Отметим в
скобках, что 30 сентября - действительно историческая дата в отно-
шениях между Германией и Чехословакией: 30 сентября 1938 г. в
Мюнхене нацисты навязали западным державам «соглашение» о
расчленении Чехословакии. Действительно, история повторяется.
Осенью 1988 г. неожиданно для широкой общественности феде-
ральный канцлер Г. Коль пожаловал с визитом в Москву по пригла-
шению М. С. Горбачева, которого он еще незадолго до того нелест-
но сравнивал с Геббельсом. В итоге официального визита в Москву
в октябре 1988 г. был подписан пакет соглашений, имевших взаимо-
1 Hans - Dietrich Genscher. Erinnerungen. Berlin, 1997, S. 13.
63
выгодный характер. Весьма встревоженные чернобыльской катаст-
рофой 1986 г. германские представители пошли на выработку со-
глашений с целью своевременного оповещения в случаях ядерных
аварий. Стороны пошли на сотрудничество с целью предотвращения
инцидентов вне пределов территориальных вод1. Германская сторо-
на выразила готовность предоставить кредиты, содействовать мо-
дернизации предприятий легкой и пищевой промышленности в
СССР, поощрять культурное сотрудничество и общественные кон-
такты. Германская сторона, идя на благоприятные для СССР согла-
шения, не выдвигала до поры до времени никаких политических ус-
ловий. Даже принятие какой-либо политической декларации было
отложено до ответного визита М. С. Горбачева в ФРГ. Такой ответ-
ный визит состоялся в июне 1989 г. и имел далеко идущие полити-
ческие последствия, открыв для ФРГ перспективу начать объедини-
тельный процесс, а для ГДР получить наказание за отказ от «пере-
стройки».
В итоге визита М. С. Горбачева в июне 1989 г. было принято со-
вместное с Г. Колем заявление, в котором записаны общие положе-
ния относительно желания улучшить отношения между двумя госу-
дарствами. Однако ключевое значение приобрела одна фраза, вклю-
ченная в коммюнике: «Безоговорочное соблюдение принципов и
норм международного права, в частности, уважение права на само-
определение народов»2. Лично М. С. Горбачев приобрел большую
популярность в Германии как человек, который во имя общечелове-
ческих ценностей готов пойти на великодушные решения и уступки
со стороны Советского Союза, впрочем, не спрашивая мнения граж-
дан Советского Союза на этот счет и даже не советуясь с ближай-
шим окружением, например, хотя бы с председателем Совета мини-
стров Н. Рыжковым. Немцы, выходившие приветствовать высокого
гостя, от души скандировали имя Горбачева: «Горби! Горби! Гор-
би!» Далеко не случайно, одна из немецких газет позже определила
М. С. Горбачева как «лучшего НЕМЦА года».
В ГДР исподволь назревал политический кризис, усугублявший-
ся недовольством значительных слоев населения республики не
столько жизненным уровнем, сколько ограничениями на выезд за
рубеж, особенно на поездки в другую часть Германии. В разгар ту-
1 Визит в Советский Союз федерального канцлера ФРГ Г. Коля. (24-27
октября 1988 г.). - М., 1988. - С. 60-61
2 Визит Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Верховного
Совета СССР М.С. Горбачева в ФРГ (12-15 июня 1989 г.). - М., 1989. -
С. 32-33.
64
ристического сезона 1989 г., когда тысячи граждан ГДР выехали в
соседние Польшу, Чехию и Венгрию, недовольство вылилось в мас-
совое стремление после отдыха выехать на запад, точнее, в ФРГ.
Власти Венгрии первыми открыли свою границу для выезда не в
ГДР, а в ФРГ в нарушение имевшихся соглашений с правительством
ГДР. Эта массовая акция стала началом широкого движения протес-
та в форме митингов и демонстраций в городах против политики
правительства ГДР.
В такой наэлектризованной атмосфере правительство Э. Хонек-
кера организовало 7 октября празднование 40-летия республики, в
котором приняла участие и советская делегация во главе с М. С.
Горбачевым; последний публично бросил упрек и предостережение:
того, кто опаздывает, наказывает жизнь, - фразу, прозвучавшую
почти как древнее заклинание: Карфаген должен быть разрушен.
«Союзники» холодно распрощались в тот же день, а через неделю
соратники отправили старого Эриха в отставку. Но это не спасло
режим: продолжалось обострение ситуации. В конце октября в
Лейпциге вышли на демонстрацию протеста 300 тысяч человек, а в
начале ноября в Берлине на улицу вышел миллион горожан. В нояб-
ре 1989 г. полиция ФРГ зарегистрировала с начала года 225 тысяч
переселенцев из ГДР. Под давлением мощной волны протеста, под-
хлестываемой западными средствами массовой информации, была
открыта (без какого-либо официального разрешения) сначала грани-
ца в Берлине, а затем и в других местах. В ночь на 9-е ноября нача-
лось разрушение ненавистной Берлинской стены при созерцатель-
ной позиции представителей Москвы, откуда в ответ на запросы по-
ступила мудрая установка: как идет, так пусть и идет. Советское ру-
ководство как бы переложило ответственность за Берлин и «Герма-
нию в целом» на «новые власти» ГДР, как если бы вообще не суще-
ствовало Четырехстороннего соглашения. Это вытекало из решения
советских руководителей не вмешиваться во «внутренние дела»
ГДР. Советские войска получили указание при всех обстоятельствах
оставаться в казармах, о чем было сообщено в первую очередь по-
чему-то западным властям, в частности, обер-бургомистру Западно-
го Берлина.
Выезд граждан ГДР в ФРГ из Чехословакии германские дипло-
маты осенью 1989 г. еще обсуждали и согласовывали с Шеварднад-
зе, который, по наблюдениям Г.-Д. Геншера, к этому времени уже
освободился от идеологических предрассудков и даже от преслову-
того «государственного резона». Германский экс-министр уверен,
что Шеварднадзе помнил предупреждение, сделанное за год до дра-
65
матических событий. В ответ на согласие с акцией германских вла-
стей Г.-Д. Геншер пожал руку Шеварднадзе: «Я взял его правую ру-
ку обеими руками».
Позже Г.Д. Геншер цинично отмечает, что уже в конце сентяб-
ря 1989 г. он исходил из того, что пришел конец ГДР и что предсто-
ит крушение стены в Берлине. Решающим событием германский
экс-министр считает свою миссию в Прагу и вывод переселенцев в
ФРГ по территории ГДР в сопровождении чиновников федерального
правительства. Европа должна знать своих героев.
Разрушение Берлинской стены стало первым актом отказа ГДР
от суверенитета, хотя осенью 1989 г. присоединение ГДР к ФРГ не
стояло в повестке дня европейской политики: ни СССР, ни Франция,
ни Великобритания. Даже США и ФРГ еще не были готовы к ско-
рому решению этой сложной проблемы. Сдержанная позиция пра-
вительства ФРГ получила выражение в «Десяти пунктах» канцлера
Г. Коля, объявленных в бундестаге 28 ноября 1989 г. Как отдаленная
цель рассматривалось постепенное сближение ФРГ и ГДР и созда-
ние конфедеративных структур.
Период с конца ноября 1989 г. по середину февраля 1990 г. еще
долго будет занимать историков-исследователей внешней политики
СССР. Ибо именно в этот период в политике советской верхушки во
главе с М. С. Горбачевым произошел поворот от реализма к фата-
лизму, позволивший Г. Колю при поддержке США перейти к фор-
сированию процесса объединения немцев, не прибегая к силовым
методам: М. С. Горбачев вместе с Э. Шеварднадзе сами сдавали од-
ну позицию за другой.
Процесс объединения Германии оказался удивительно быстро-
течным, причем это произошло в соответствии с пожеланиями пра-
вящих кругов ФРГ при активном участии и содействии советских
руководителей, прежде всего М. С. Горбачева и Э. А. Шеварднадзе.
Мотивы поспешности канцлера Г. Коля естественны и понятны. Что
касается торопливости советских лидеров, то это еще остается за-
гадкой истории, разгадка которой долго будет храниться в герман-
ских и американских сейфах. Сам М. Горбачев после событий
1991 г. довольно бодро заверил соотечественников, что всю правду
он все равно никогда не скажет.
2. Кризис политической системы ГДР и позиции держав
Кризис правящей СЕПГ и правительства ГДР был вызван воз-
мущением жителей республики ограничениями прав человека в
66
ГДР. Непосредственным поводом для нарастания недовольства гра-
ждан ГДР существующим режимом стали ограничения их права вы-
езжать на Запад, в частности в ФРГ, хотя туристические поездки в
страны Восточной Европы никак не ограничивались. В начале мая
1989 г. из Венгрии поступили сообщения о намерении снять всякие
ограничения на выезд в Австрию. Туристы из ГДР решили восполь-
зоваться этим каналом для выезда на Запад. В конце июля неофици-
альная статистика зафиксировала безвизовый выезд 150 граждан
ГДР через Венгрию, а к середине августа поток увеличился в 10 раз
и достиг 1600 человек. «Исход» из ГДР стал приобретать массовый
характер: сотни немцев обратились в представительства ФРГ не
только в Будапеште, но и в Праге, и в Берлине за разрешением на
выезд в ФРГ. Группа граждан ГДР (661 человек), приехавшая на ме-
роприятия «Панойропа-Унион» в Венгрии, выехала в Австрию, а не
в ГДР. Спустя пять дней еще 108 человек с документом Междуна-
родного Красного Креста выехали из Венгрии в Австрию. К началу
сентября 1989 г. оказалось, что 3500 граждан ГДР задерживаются в
Венгрии, чтобы выехать на Запад. Власти Венгрии, у которой были
определенные соглашения с ГДР относительно порядка взаимных
поездок, приняли 10 сентября без консультаций с ГДР решение про-
пустить всех желающих выехать без каких-либо ограничений. На
следующий день это решение вступило в силу. В итоге к концу сен-
тября 1989 г. количество граждан ГДР, покинувших республику,
достигло 25 тысяч человек. Еще тысячи немцев, не желающих воз-
вращаться в ГДР, оказались в Праге и в Варшаве. Власти ГДР выну-
ждены были согласиться на транзит своих граждан из Польши и Че-
хословакии в ФРГ: 800 человек из Варшавы и 5500 из Праги.
Совершенно очевидно, что без предварительной подготовки да-
же такое богатое государство, как ФРГ, не смогло бы принять такое
количество «беженцев», тем более, что каждому выезжающему нем-
цу в первый же день вручали определенную сумму «гостевых де-
нег». Внутри ГДР все передвижения, разумеется, не остались без
последствий: в ряде городов ГДР, в особенности в Лейпциге и Дрез-
дене, произошли массовые митинги и демонстрации, которые явно
были нежелательны властям, особенно накануне 40-летия «государ-
ства рабочих и крестьян». Оппозиционно настроенные немцы вы-
ступили как организованная политическая сила: в частности, «Но-
вый форум» к началу октября 1989 г. насчитывал не менее 10 тысяч
участников. В октябре 1989 г. число выехавших из ГДР достигло 200
тысяч.
67
В этой напряженной обстановке правительство ГДР сумело ор-
ганизовать празднование 40-летия республики, причем с участием в
торжествах М. С. Горбачева, который заверил, что вопросы, касаю-
щиеся ГДР, решаются не в Москве, а в Берлине. Мировую прессу
обошел фотоснимок «братского поцелуя» двух лидеров и фарисей-
ский намек, сделанный лично Э. Хонеккеру: «Кто опаздывает, того
наказывает жизнь». Тотчас после праздника в Берлине, 9 октября
1989 г. произошла 100-тысячная демонстрация в Лейпциге под ло-
зунгом: «Мы - народ», который вскоре обрел и иное звучание: «Мы
- единый народ». От возмущения режимом СЕПГ массовое движе-
ние повернулось к лозунгу единства немцев - объединения Герма-
нии.
Развитие событий в ГДР и в Берлине в октябре-ноябре 1989 г.
отражено в нескольких публикациях советских и германских пред-
ставителей. Особо отметим публикации тех, кто был внимательным
наблюдателем, участником, свидетелем событий в ГДР осенью 1989
г. - зимой 1990 г., в частности, советника-посланника СССР в Бер-
лине И. Ф. Максимычева. Важным источником информации служат
воспоминания политического деятеля ГДР, ставшего в ноябре 1989
г. премьер-министром, Ханса Модрова1, а также дневниковые запи-
си бывшего руководителя разведслужбы ГДР Маркуса Вольфа, осу-
жденного в ФРГ в 1993 г. за «измену государству» и злоупотребле-
ние служебным положением.2
Бывший посол СССР в Бонне Ю. А. Квицинский в своих воспо-
минаниях, вышедших в ФРГ в 1993 г., делает серьезную попытку
осмыслить быстротечность процесса объединения Германии, точнее,
аншлюса ГДР к ФРГ, критически оценивая действия не только от-
дельных стран и их правительств, но и конкретных действующих
лиц, особенно советских руководителей. Исходная позиция дипло-
матического ведомства в отношении Германии еще летом 1989 г.
оценивается довольно реалистически: присутствие советских войск
на территории ГДР считали достаточным основанием для того, что-
бы питать иллюзии, что если и пойдет дело к объединению немцев,
то, во всяком случае, на условиях СССР. Более того, еще твердым
было мнение, что можно добиться выхода ФРГ из НАТО и образо-
вания конфедерации двух германских государств. Не исключалась
1 Последний год ГДР. М. 1993. Ханс Модров. Я хотел жить в новой
Германии. - М., 2000.
2 Маркус Вольф. По собственному заданию: признания и раздумья. -
М., 1992.
68
возможность нахождения компромиссного варианта сближения ме-
жду ФРГ и ГДР в соответствии с концепцией германских социал-
демократов. Во всяком случае, объединение немцев мыслилось как
составная часть проектов создания системы коллективной безопас-
ности в Европе. К тому же в политических кругах и в общественно-
сти Союза еще теплилась надежда получить от Германии солидные
суммы в качестве репараций. Консервативные силы в СССР еще
считали возможным сохранить ГДР как социалистическое государ-
ство и члена Варшавского Договора, а демократы полагали, что зо-
лотой дождь твердой валюты оплодотворит почву для рыночного
хозяйства не только в ГДР, но и в СССР.
Визит М. С. Горбачева в ФРГ в июне 1989 г., ставший ответом
на визит Г. Коля в СССР осенью 1988 г., несомненно, послужил от-
правной точкой для движения к объединению Германии, началом
кампании нажима на ГДР, на режим Э. Хонеккера. В эту кампанию
охотно включились правительственные круги Венгрии, которые на-
деялись получить свою долю за услуги Г. Колю.
Руководители СЕПГ и ГДР с самого начала перестройки скепти-
чески отнеслись к инициативе М. Горбачева. Сначала дали понять,
что «смена обоев» в доме соседа не может давать повода для пере-
стройки другого дома. Потом власти ГДР приняли меры для ограни-
чения контактов и обмена информацией между ГДР и СССР, запре-
тив ввоз некоторых изданий из СССР. Между тем, популярность
реформ М. Горбачева росла в странах Европы и особенно в ГДР, где
разного рода ограничения, в частности ограничения на выезд в ФРГ
и даже в Западный Берлин вызывали недовольство и возмущение
населения.
Когда весной 1989 г. Э. Хонеккер направился на торжества по
случаю 60-летия закладки Магнитогорского металлургического
комбината, в которой он участвовал в 1929 г. как молодой герман-
ский интернационалист, он сделал остановку в Москве. Во время
беседы с гостем М. Горбачев в дипломатичных выражениях, но дос-
таточно ясно дал понять, что если руководители «братской респуб-
лики» будут затягивать реформы, то ответственность за последствия
они берут на себя, что они не могут рассчитывать на поддержку во-
енными силами в случае внутренних осложнений. Э. Хонеккер при-
знал, что перестройка, видимо, необходима в Советском Союзе, но
копирование ее в ГДР неприемлемо.
В советском руководстве понимали, что в ГДР надо «выпустить
пар из котла», тем более, что, по свидетельству Э. Шеварднадзе
(правда, не конкретизированному), ГДР была «списана» советским
69
руководством «где-то» еще в 1986 г. Естественно, возникает при
этом вопрос: кого имел в виду Э. Шеварднадзе под советским руко-
водством? Ведь в 1988 г. М. Горбачев в своем «эпохальном» сочи-
нении «Перестройка и новое мышление» ясно заявил: «Есть два не-
мецких государства с разным социально-политическим строем. У
них свои ценности. Оба они извлекли уроки из истории, и каждое
может вносить свой вклад в дела Европы и мира. Что будет через
100 лет - решит история»1. Попытки подвергнуть сомнению «сло-
жившиеся реальности» генсек считал «поджигательскими спекуля-
циями», проигнорировав редакционную поправку, предложенную В.
Фалиным: вычеркнуть указание на время, когда история решит гер-
манскую проблему.2
Когда было получено приглашение М. Горбачеву от Э. Хонекке-
ра принять участие в праздновании 40-летия ГДР, то в Москве взве-
шивали целесообразность поездки и решили, что надо принять при-
глашение, чтобы иметь возможность встретиться не только с Э. Хо-
неккером, но и с другими руководителями ГДР.
В первые дни октября 1989 г. М. С. Горбачев прибыл в Берлин.
Было бы исторически неточно говорить о том, что М. Горбачев по-
ехал в Берлин, чтобы поддержать Э. Хонеккера, скорее, целью его
было предупредить руководителя «братской» партии, что он не мо-
жет рассчитывать на поддержку от Советского Союза, если срочно
не перестроится.
Уже по пути от аэродрома Шенефельд в резиденцию в Нидер-
шёнхаузен в р-не Панков советская делегация имела возможность
видеть демонстрантов под выразительным лозунгом: «Горби, Гор-
би!». В это время в ГДР поднималась все выше волна протеста гра-
ждан против ограничений на выезд, особенно против «берлинской
стены».
Между делом, выступая после возложения венка жертвам на-
цизма и милитаризма на Унтер-ден-Линден, М. Горбачев счел уме-
стным адресовать престарелому антифашисту, отбывшему в моло-
дости 10 лет в нацистском концлагере, простые, но ясные слова:
«Того, кто опаздывает, наказывает жизнь». Имелось в виду, конечно,
опоздание не к столу яств и не на «поезд германского единства» (на
который никто не предлагал билета). Старый Эрих должен был по-
1 Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и
для всего мира. - М., 1988. - С. 209.
2 Falin Valentin. Politische Erinnerungen. München, 1993, S. 483-484.
70
торопиться перестроиться, изменить своим убеждениям и жизнен-
ным принципам или поспешно уйти с исторической сцены.
По программе пребывания состоялось возложение венков в
Трептов-парке, затем парад, наконец, встреча с руководителями во
Дворце республики, беседа с Э. Хонеккером. М. Горбачев проду-
манно и четко говорит собеседнику о роли ГДР в социалистическом
содружестве, в Европе и даже в мире, подчеркивает суверенность
ГДР и независимость СЕПГ в решении своих проблем, а в заключе-
ние - всего одна фраза, стимул для размышлений: «Кто опаздывает,
того наказывает жизнь». Э. Хонеккер поддерживает тезис, что в ГДР
виднее, что ей подходит, а что неприемлемо; трудности, конечно,
имеются, но они имеют привходящий характер, привнесены извне.
Затем М. Горбачев выступил перед руководителями ГДР, опти-
мистически рассказал о преобразованиях в СССР. Почти часовая
речь гостя была вновь увенчана фразой: «Того, кто приходит слиш-
ком поздно, наказывает жизнь». Наступила мертвая тишина, кото-
рую, по воспоминаниям участников встречи и очевидцев, нарушил
слабый голос Э. Хонеккера, который поблагодарил за информацию
о советском опыте и поделился впечатлением от недавней экскурсии
членов немецкой делегации по городу Магнитогорску: «Когда они
вернулись (с экскурсии), они рассказали, что в магазинах нет даже
соли и спичек». Обмен мнениями состоялся. М. Горбачев в узком
кругу сотрудников сделал вывод: «Что было возможно, мы сделали.
То, чего от нас хотят, - поддержка Э. Хонеккера с позиции силы -
этого не будет»1.
Прощание Э. Хонеккера с М. Горбачевым в банкетном зале
Дворца республики произошло в холодной атмосфере. Окружаю-
щим было ясно, что лишенный поддержки «режим Хонеккера» от-
праздновал последнюю годовщину, что дни Хонеккера сочтены.
Эгон Кренц, один из ближайших сподвижников Эриха Хонеккера,
прощаясь с советской делегацией, обронил: «Ваш сказал все, что
должно быть сказано. Наш ничего не понял». Через неделю сорат-
ники отправили Э. Хонеккера в отставку.
Спустя несколько дней после торжественного празднования 40-
летия ГДР с участием и «братскими» лобызаниями М. С. Горбачева,
прибывшего для этого в Берлин, состоялось смещение Э. Хонеккера
с должности генерального секретаря ЦК СЕПГ. На драматическом
заседании политбюро 18 октября 1989 г. предложение об отстране-
нии генсека внес председатель совета министров ГДР В. Штоф. Но-
1 Falin V. op. cit., S. 486-487.
71
вым (а по существу, временным) генеральным секретарем СЕПГ
был избран один из сотрудников Э. Хонеккера Эгон Кренц, который
попытался под лозунгом обновления удержаться в высоком кресле.
Между тем, смена фигур и декораций не уменьшила ни количества
желающих выехать в ФРГ, ни массовости митингов. В демонстра-
ции в Лейпциге 30 октября приняли участие около 300 тысяч чело-
век. Демонстрация в Берлине 4 ноября собрала уже около 1 млн..
граждан.
В Москве еще раньше было принято твердое решение: какой бы
оборот ни получили дела, до тех пор, пока они будут иметь «внут-
ренний характер», советские вооруженные силы остаются вне собы-
тий. Об этом было сообщено западным представителям еще в конце
сентября. Валентин Фалин пишет, что 30 сентября он передал пра-
вящему бургомистру Берлина (Западного) Вальтеру Момперу: «Со-
ветские войска не будут вмешиваться во внутренние политические
дела ГДР».
Валентин Фалин полагает, что последовавшее 9 ноября «безого-
ворочное» открытие границ ГДР означало «самороспуск восточно-
германского государства». «С этого момента Федеративная Респуб-
лика вела себя так, как если бы она была освобождена от всех обяза-
тельств в отношении ГДР, и диктовала громким голосом свои усло-
вия».
Развитие событий в Берлине в ночь на 9 ноября 1989 г., которое
привело к падению «берлинской стены», определялось нарастанием
социальной напряженности в ГДР, начавшейся с движения протеста
против ограничений выезда граждан на Запад, в ФРГ. В ноябре 1989
г. полиция ФРГ зарегистрировала 225 тысяч беженцев из ГДР с на-
чала года. Если в сентябре граждане ГДР в массовом масштабе вы-
ехали через Венгрию, то к 3 ноября в Праге скопилась группа нем-
цев численностью 1300 человек, пожелавших выехать в ФРГ. В суб-
боту и воскресенье 4 и 5 ноября через границу ЧССР и ФРГ выехали
23200 граждан ГДР, а к 8 ноября - 45 тысяч человек.
Вечером 7 ноября министр иностранных дел Оскар Фишер при-
гласил к себе советского посла Кочемасова, чтобы запросить мнение
советского руководства относительно ситуации в ГДР, в частности,
по вопросу о либерализации выезда граждан в ФРГ. Из Москвы был
дан ответ, что если «друзья» считают это возможным, то из Москвы
возражений не последует.
На совещании руководящих сотрудников посольства 8 ноября
участники пришли к выводу, что суверенная ГДР должна сама ре-
шить этот вопрос, однако руководство ГДР, видимо, желало разде-
72
лить ответственность. В правительстве ГДР возникла идея устройст-
ва «лазейки» для желающих выехать, однако в ходе разработки по-
становления исполнители распространили разрешение выезда на все
границы, даже на границу с Западным Берлином, режим которой
установлен был соглашением четырех держав. Проект постановле-
ния был оглашен на пленуме ЦК СЕПГ 9 ноября. На вопрос, согла-
совано ли решение с советскими товарищами, последовало как бы
между прочим однозначное «да».
Было ли согласовано открытие границ ГДР, в частности, пропу-
скных пунктов в Берлине, с советскими руководителями? Версия И.
Максимычева, советника-посланника в Берлине именно в это время,
свидетельствует, что в советском посольстве не было полной ясно-
сти на сей счет. Версия В. Фалина, находившегося в Москве в то
время, - это «реконструкция», возможно, по памяти или по доку-
ментам.
Посол В. Кочемасов сообщил в МИД СССР: «Руководство ГДР
желает посоветоваться о возможностях облегчения пограничного
сообщения с Западным Берлином». Первый заместитель министра
иностранных дел А. Ковалев дал ответ В. Кочемасову по телефону:
«Регулирование режима границ - дело самой ГДР». Посол попросил
письменно подтвердить позицию Советского правительства. Ответ
последовал только через три или четыре дня: «Регулирование режи-
ма границ - внутреннее дело ГДР».
В этой версии остается невыясненным: от чьего имени отправле-
на в Берлин телеграмма? От ответа на этот вопрос зависит важное
международно-правовое обстоятельство: открытие границы с вос-
точной стороны следовало согласовать с союзниками по Варшав-
скому Договору, скажем, с Польшей, а открытие границы с западной
стороны не столько с властями Западного Берлина или ФРГ, сколько
с США, Англией и Францией, то есть сигнатариями четырехсторон-
него соглашения.
В конце ноября 1989 г. В. Фалин спросил Г. Модрова и Э. Крен-
ца: «Кто принял решение об открытии границы?». Ответ был уклон-
чивым: «Так вышло».
Вечером 9 ноября на встрече с прессой член ПБ Гюнтер Шабов-
ски объявил о принятом решении, хотя сам не присутствовал на
пленуме, причем, отвечая на вопрос о сроках вступления его в силу,
заявил, что решение вступает в силу немедленно: «Граница откры-
та». Уже через полчаса, в 19:30, правящий бургомистр Западного
Берлина В. Момпер по телевидению объявил, что все граждане ГДР
73
отныне могут приехать в гости в Западный Берлин и в ФРГ, скажем,
на метро или на электричке.
Советское посольство, естественно, поразило сообщение, что
решение, касающееся Западного Берлина, принято властями ГДР.
Там полагали, что руководители ГДР согласовали это с Москвой,
минуя дипломатическое представительство. Фактически в ночь с 9
на 10 ноября контроль на пропускных пунктах на границе с Запад-
ным Берлином был снят после того, как в 22:30 по I каналу ТВ ФРГ
объявили: «Поездки на Запад свободны. Ворота в стене распахнуты
настежь». Шлагбаумы были теперь подняты и толпы людей двину-
лись посмотреть «Ку-дамм» - на Курфюрстендамм. «Ночь свида-
ний» превратилась в ликование немцев, которые потоками устреми-
лись в западную часть города. Дипломатическое ведомство ГДР пы-
талось постфактум объяснить посольству СССР, что открытие гра-
ницы с Западным Берлином - мера вынужденная. Вечером 10 нояб-
ря послу пришло поручение из Москвы от М. С. Горбачева устно
передать Эгону Кренцу: «Все сделано совершенно правильно. Так
держать и дальше - энергично и уверенно». Только наивные люди
могли не понимать, что это было одобрение шага на разрушение не
только берлинской стены, но и первого в истории рабоче-
крестьянского государства. Э. Шеварднадзе в разговоре по телефону
с послом В. Кочемасовым подтвердил, что посольству надлежит
вести себя соответственно: «Никаких действий не предпринимать».
Шеварднадзе высказал опасение: «Военные что-то шевелятся». Од-
нако опасения не имели оснований: войска Западной группы войск
получили указание: «замереть» и «уйти в себя», то есть сидеть в
своих казармах, не показываться вообще на людях.
«Берлинская стена» рухнула, таким образом, 9 ноября 1989 г.
Власти ГДР были вынуждены отменить всякие ограничения на вы-
езд граждан. Начался фактически демонтаж государственной грани-
цы в Берлине, укрепление которой было осуществлено в августе
1961 г. по совместному решению правительств стран Восточной Ев-
ропы, разумеется, при участии ГДР и СССР. Известие об открытии
границы в Берлине застало канцлера ФРГ Г. Коля в Варшаве, где он
находился с официальным визитом. После некоторых раздумий и
колебаний, продиктованных дипломатическими соображениями, Г.
Коль принял решение прервать визит, чтобы принять личное уча-
стие в событиях, которые разыгрывались в Берлине. Канцлер заявил,
что настал момент, когда и на Востоке, и на Западе наблюдатели
смогут воочию убедиться, извлекли ли немцы уроки из истории. Он
74
дал понять, что начинается новая глава в германской истории, бро-
сив фразу: «Теперь пишется мировая история»1.
Вместе со своей командой Г. Коль 10 ноября пополудни отправ-
ляется через Гамбург (отсюда на военном самолете США) в Берлин,
где принимает участие в двух митингах подряд, причем если на ми-
тинг перед Шёнебергской ратушей явилось сначала не более 5 тысяч
берлинцев, а потом число участников возросло до 20 тысяч, то на
митинг у Гедехтнис-кирхе в Западном Берлине собралось до 200 ты-
сяч человек. Ближайшее окружение канцлера отметило, что осто-
рожная речь канцлера, да и Г.-Д. Геншера, вызвала меньше энтузи-
азма, чем выступление В. Брандта, который заявил: «Берлин будет
жить, а стена падет». Уже во время митинга канцлеру сообщили, что
через посла в Бонне Ю. Квицинского М. С. Горбачев просит не разо-
гревать настроения, не обострять ситуацию на митинге, чтобы не
довести дело «до хаоса»2.
Канцлер выразил в своей речи благодарность американским,
британским и французским «друзьям» за поддержку свободы Бер-
лина и особое уважение М. Горбачеву. В критический момент 9- 10
ноября 1989 г. канцлер Г. Коль получил вновь заверения М. Горба-
чева, что он рекомендовал верхушке СЕПГ обеспечить «мирный пе-
реход» в ГДР. Г. Коль был уверен, что в Германии не может быть
«китайского решения», и все-таки еще одно заверение М. Горбачева
придало ему решимости действовать, не упуская из своих рук кон-
троля над событиями. Количество желающих выехать из ГДР дос-
тигло к началу ноября 1989 г. высшей точки: если к этому моменту
выехали так или иначе 200 тыс. граждан ГДР, то за неделю в начале
ноября почти 50 тыс. человек, а 8 ноября, за один день, 11 тысяч че-
ловек.
После прямого телефонного разговора Г. Коля с М. Горбачевым
11 ноября 1989 г. федеральное правительство получило полную уве-
ренность в том, что СССР не будет вмешиваться «во внутренние де-
ла ГДР», что решения должны быть достигнуты исключительно
мирными средствами. Никаких предостережений из Москвы не по-
следовало, кроме одного: действовать осмотрительно. Единство
Германии еще не поставлено в повестку дня. Западные партнеры
ФРГ еще проявляют сдержанность в отношении темпов перехода к
1 Horst Teltschik. 329 Tage. Innenansichten der Einigung. Berlin, 1993, S.
19-20.
2 Julij A. Kwizinskij. Vor dem Sturm. Erinnerungen eines Diplomaten.
Berlin, 1993, S. 15.
75
объединению, особенно Франция в лице ее президента, который
планирует (и в декабре 1989 г. осуществляет) визит в ГДР. Однако
после разговора по телефону с М. Горбачевым Гельмут Коль на
пфальцском наречии говорит с улыбкой своему ближайшему окру-
жению: «Груша очищена» («De Birn is g'schlt»). Сотрудник канцлера
Хорст Тельчик пишет в этой связи: «Мы знаем в этот момент, что
Горбачев не станет вмешиваться во внутреннее развитие ГДР». На
пресс-конференции с журналистами Г. Коль ведет себя решительно,
воинственно, агрессивно, самоуверенно, как «борец за свободу»1.
3. «Десять пунктов» Г. Коля
Многотысячные демонстрации протеста жителей ГДР привели к
возникновению политических движений и организаций типа «Круг-
лый стол», «Новый форум», «Демократический прорыв». События в
октябре - ноябре 1989 г., особенно бурные в Лейпциге и Дрездене,
привели к падению правительства Э. Хонеккера, а затем и его пре-
емника Э. Кренца. Массовое демократическое движение выдвинуло
в качестве премьер-министра ГДР довольно популярного и трезвого
политического лидера X. Модрова, который вступил в переговоры с
канцлером ФРГ Г. Колем с целью урегулирования прежде всего во-
просов выезда из ГДР в ФРГ. Канцлер Г. Коль воспользовался пред-
ставившейся возможностью не только для переговоров с правитель-
ством ГДР, но и для выступлений в различных городах ГДР, прежде
всего в Дрездене.
На события в ГДР осенью 1989 г. правительство ФРГ во главе с
канцлером Г. Колем реагировало не только быстро, но и весьма ак-
тивно. Тотчас после смены правительства в ГДР, открытия границы
в Берлине, смещения Э. Хонеккера, а затем и Э. Кренца еще в нояб-
ре Г. Коль выдвинул программу из десяти пунктов2, которая, как
выяснилось вскоре, не была согласована не только с союзниками по
НАТО, но и с парламентскими партиями в самой ФРГ. Канцлер ФРГ
провозгласил начало нового этапа в германской политике, не только
в германской, но и европейской истории, обещал поддержку оппо-
зиции в ГДР и готовность создать «договорное сообщество», «кон-
1 Horst Teltschik. 329 Tage. Innenansichten der Einigung Berlin, 1993, S.
29.
2 Bulletin. Presse und Informationsamt der Bundesregierung. Nr. 134, Bonn,
den 29 Nov. 1989, S. 1141-1148.
76
федеративные структуры» и т.п. «Мы не имеем никакого права опе-
кать граждан ГДР, - заявил канцлер ФРГ. Процесс немецкого еди-
нения исключительным образом связан с процессом объединения
Европы». Одновременно он выдвинул ряд требований к ГДР: устра-
нение монополии СЕПГ на власть, ликвидация «бюрократического
планового хозяйства», создание условий для рыночного хозяйства
как условия для капиталовложений. Примечательно, что формула
германского единства - обеспечение такого состояния мира, при ко-
тором немецкий народ в условиях свободы и самоопределения дос-
тигнет национального единства - выдвигалась в сочетании с лозун-
гом и политикой единства Европы.
Правительство ФРГ вступило в переговоры с правительством
ГДР, возглавляемым X. Модровым. Одновременно канцлер Г. Коль
активно включился в политическую борьбу на территории ГДР и
начиная с декабря 1989 г. несколько раз приезжал и выступал там на
массовых митингах в городах. Одновременно была оказана матери-
альная поддержка ряду партий. Были обещаны материальные блага
населению ГДР, если они отдадут предпочтение правым партиям.
Это, конечно, предопределило ход и исход политической борьбы в
ГДР.
Позже, в конце лета 1990 г., Г. Коль вспоминал на страницах
американского журнала «Тайм»: «Когда в ноябре прошлого года я
обнародовал в бундестаге программу объединения из десяти пунк-
тов, я начинал в совершенно иных временных рамках. Я полагал,
что в 1990 г. у нас будет какое-то сообщество с Восточной Германи-
ей на контрактной или договорной основе, а в 1991 или 1992 году
мы создадим конфедеративные структуры. Я думал также о плане
Европейского сообщества: объединить внутренние рынки к концу
1992 г. И только тогда, думал я, где-нибудь в 1993 или 1994 году мы
пойдем на объединение».
Примерно так рассуждали многие политические наблюдатели в
странах Европы. Однако развитие событий быстро вскружило голо-
ву Г. Колю. Опьяненный первыми шумными митингами на террито-
рии ГДР, например, в декабре 1989 г. в Дрездене, он вскоре отбро-
сил свою собственную программу и забыл о своем обещании пре-
мьер-министру ГДР X. Модрову совместно разработать «конфедера-
тивные структуры». Он цинично включился в политическую борьбу
в ГДР и нашел средства для щедрого финансирования своих по-
клонников в ГДР.
Ближайший помощник М. С. Горбачева оценивает события в
ГДР в 1989 г. реалистически, можно сказать, цинично как пересмотр
77
итогов второй мировой войны мирными средствами. Речь шла, от-
мечал А. С. Черняев, не о завершении «целого этапа» в истории со-
циализма, а о конце эры Ялты, об отказе от «сталинского наследия»
в Европе, о пересмотре «самой историей» итогов «разгрома гитле-
ровской Германии», причем закавычивание последней фразы
А. С. Черняевым, видимо, должно поставить под сомнение сам факт
победы СССР над Германией в 1945 г. Неизбежность воссоединения
Германии, свидетельствует А. С. Черняев, М. С. Горбачев «нутром
чувствовал» (но не разумом - А. А.).
«Тот факт, что крутой поворот, символом которого стало объе-
динение Германии, совершился сравнительно мирно, - заслуга не
только самих немцев, а также чехов, венгров, поляков, но прежде
всего Горбачева и Буша», - твердо заявляет А. Черняев, раскрывая
истину, но не всю истину1. В этой оценке заслуг любимых героев
истории почему-то нет места ни для русских, ни для украинцев, ни
для белорусов, ни для других народов великой державы, которые
мирно и смиренно согласились с аннулированием итогов величай-
шей войны в истории человечества. Объявлять ликвидацию ялтин-
ских и потсдамских соглашений путем закулисного сговора, без уча-
стия народа-победителя и без заключения полновесного мирного
договора - это надругательство над памятью миллионов погибших в
войне против нацизма, это ядовитая соль на раны ветеранов Великой
Отечественной войны.
Через день после падения «берлинской стены», 11 ноября
1989 г., имел место разговор М. Горбачева с Г. Колем по телефону, в
ходе которого генсек КПСС призывает канцлера ФРГ к «продуман-
ным шагам» по отношению друг к другу: «Мне думается, в настоя-
щее время происходит исторический поворот к другим отношениям,
к другому миру. И нам не следовало бы неуклюжими действиями
допустить нанесение вреда такому повороту». Канцлер ФРГ в ответ
сообщает, что только что закончилось в Бонне заседание правитель-
ства: «Если бы вы на нем присутствовали, вы бы, возможно, удиви-
лись, как совпадают наши оценки»2.
Выступление канцлера Г. Коля в бундестаге в конце ноября с
программой из 10 пунктов было полной неожиданностью не только
для М. Горбачева, но и для лидеров партий в ФРГ, и для союзников
ФРГ в Европе. Однако больше всех возмутился именно М. Горбачев,
1 Черняев А. С. Шесть лет с Горбачевым. По дневниковым записям. -
М.,1993.-С. 304.
2 Черняев А. С. Цит соч. - С. 305.
78
так как Г. Коль проявил, дескать, недоверие к нему. Свои чувства и
суждения М. Горбачев излил в беседе с Г.-Д. Геншером 5 декабря
1989 г. в Москве. В этой беседе, которую М. Горбачев начал с пре-
дупреждения, что будет говорить «прямо, без обиняков», дана суро-
вая оценка позиции Г. Коля: «Прямо скажу, что не могу понять фе-
дерального канцлера Коля, выступившего со своими известными
«десятью пунктами», касающимися намерений ФРГ в отношении
ГДР. Следует прямо заявить, что это ультимативные требования»1.
Возмущение и даже негодование М. С. Горбачева можно понять,
если иметь в виду, что у него с Г. Колем была достигнута ранее до-
говоренность о согласованных действиях.
М. С. Горбачев в декабре 1989 г. высказывает министру ино-
странных дел ФРГ Г. Д. Геншеру свое возмущение поведением
канцлера Г. Коля: «Или федеральному канцлеру все это (?!) уже не
нужно? Он, видимо, уже считает, что играет его музыка, мелодия
марша, и сам начал под нее маршировать. Не думаю, что такие шаги
будут содействовать укреплению доверия и взаимопонимания, вно-
сить вклад в наполнение жизнью достигнутых между нами догово-
ренностей. О каком «европейском строительстве» можно говорить,
если будут так поступать?».
Для истории весьма важно знать, какие именно «достигнутые
между нами договоренности» имел в виду М. С. Горбачев? Ведь к
этому времени политическое согласие между СССР и ФРГ было вы-
ражено только в форме совместного заявления, в котором, однако,
не просматриваются обязывающие стороны договоренности. Может
быть, были еще какие-то договоренности, которые сегодня не из-
вестны историкам? Это особенно важно знать, если рассматривать
последующие события и результат деятельности М. С. Горбачева. В
самом деле, о каком «европейском строительстве» с участием СССР
можно вести разговор, если дело завершилось уничтожением одного
из участников строительства «общеевропейского дома»?
В ноябре-декабре 1989 г. М. С. Горбачев очень разумно излагал
позицию, достойную великой державы, несущей ответственность не
только за ГДР, но и за Германию в целом. Он, естественно, возражал
против поспешных «практических шагов» германского канцлера,
которые расходятся с договоренностями и с заверениями самого
канцлера: «Идет общеевропейский процесс, мы хотим строить но-
вую Европу, общеевропейский дом. Для этого нужно доверие. В
1 Там же. - С. 306- 307.
79
этих рамках и должны развиваться отношения между двумя немец-
кими государствами».
Объединение двух германских государств не поставлено в пове-
стку дня общеевропейского процесса. Речь шла об адаптации отно-
шений между ними к общеевропейскому процессу и о постепенном
сближении, создании конфедеративных структур. Перед Г.-Д. Ген-
шером М. С. Горбачев, похоже, упражнялся в риторике: «... Вчера
канцлер Коль, ничтоже сумняшеся, заявил, что поддерживает идею
конфедерации. Что же дальше? Что означает конфедерация? Ведь
конфедерация предполагает единую оборону, единую внешнюю по-
литику. Где же тогда окажется ФРГ? В НАТО, в Варшавском Дого-
воре? Или, может быть, станет нейтральной? А что будет значить
НАТО без ФРГ? И вообще, что будет дальше? Вы все продумали?
Куда тогда денутся действующие между нами договоренности?»1.
Запись беседы М. С. Горбачева с Г.-Д. Геншером представляет
собой ключевой документ, который дает представление о позиции
генсека КПСС на конец 1989 г. Он проявляет больше заботы о бу-
дущем НАТО и ФРГ, чем сам германский канцлер. Но самый глав-
ный вопрос, который возникает при изучении этой записи: какие
договоренности с канцлером ФРГ так волнуют М. С. Горбачева?
Этот вопрос особенно важен в свете последующих событий, в част-
ности интенсивных публичных выступлений Г. Коля на митингах на
территории ГДР, а затем его приезд в Москву в феврале 1990 г.
Министр иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншер объяснил М. С.
Горбачеву, что канцлер выдвинул не ультиматум, а всего лишь
предложения, которые спокойно восприняли Польша и Венгрия и
даже Модров. Об этой из ряда вон выходящей дипломатической бе-
седе общественность тогда не узнала ровным счетом ничего. При-
сутствовавший на беседе и записавший ход ее А. С. Черняев сохра-
нил для истории важное свидетельство того, что М. С. Горбачев
прекрасно понимал, на какую сделку он идет: «Он предвидел, какая
сильная оппозиция может возникнуть в Советском Союзе против
объединения Германии вообще, если это будет обозначать расшире-
ние и укрепление НАТО за счет самого сильного после СССР звена
в Варшавском Договоре».
«В «десяти пунктах» он усмотрел попытку форсировать события,
а значит, и опасность срыва его, Горбачева, «кунктаторской» такти-
ки в «германском вопросе»«, - пишет А. С. Черняев.
1 Черняев А. С. Цит. соч. - С. 307.
80
Свои «десять пунктов» Г. Коль провозгласил без всяких кон-
сультаций с союзниками в Европе и, как оценивала М. Тэтчер, враз-
рез с духом парижской встречи в верхах. В Лондоне обратили осо-
бое внимание на пункт 5, где выражено намерение развивать «кон-
федеративные структуры» с целью создания федерации, а также на
пункт 10, где поставлена задача «возрождения государственного
единства Германии».
Позиция США по вопросу об объединении Германии была вы-
сказана госсекретарем Джеймсом Бейкером лаконично в четырех
пунктах:
1) целью политики Запада остается самоопределение немцев не-
зависимо от последствий;
2) Германия остается членом НАТО и Европейского сообщества,
причем «в условиях постоянно усиливающейся интеграции» (против
чего была решительно настроена Англия);
3) процесс объединения двух германских государств должен
происходить «мирно и постепенно»;
4) нерушимость границ, предусмотренная Заключительным ак-
том 1975 г., должна соблюдаться.
После встречи с М. Горбачевым на о. Мальта президент Дж.
Буш, выступая перед главами государств и правительств стран НА-
ТО в Брюсселе в декабре 1989 г., подтвердил именно такой подход к
объединению Германии. Говоря о «будущей архитектуре Европы»,
президент США сделал акцент на европейской интеграции, давая
понять, что сильная федералистская Европа желательна как партнер.
Мнением «железной леди» пренебрегли не только в Москве, но и в
Вашингтоне, явно выразив готовность иметь дело с «черным вели-
каном» Г. Колем. Особенно болезненно воспринимали в Лондоне
признаки того, что «особые отношения» между США и Великобри-
танией заменялись США на партнерство с Германией, которая ста-
новилась основной опорой янки в Европе.
В ходе подготовки и осуществления планов объединения Герма-
нии особые позиции занимали среди западных держав Великобрита-
ния и Франция. Они не хотели быстрого превращения Германии в
доминирующую силу в Европе, тем более превращения ее в великую
державу, поэтому склонны были притормозить движение поезда
германского единства, резонно полагая, что целесообразно содейст-
вовать демократизации ГДР и сближению, но не слиянию двух гер-
манских государств. В воспоминаниях премьер-министра Велико-
британии Маргарет Тэтчер, отрывок из которых опубликовал гер-
манский журнал «Шпигель» осенью 1993 г., обстоятельно изложены
81
мотивы сдержанной позиции Великобритании в отношении усиле-
ния ФРГ. Англичан особенно тревожила претензия ФРГ на ведущую
роль в Европе и ее экономическая экспансия. М. Тэтчер считала, что
объединенная Германия будет «слишком велика» и могущественна,
чтобы «довольствоваться статусом одного из игроков на европей-
ском поле». Она видела в Германии скорее дестабилизирующий, чем
стабилизирующий фактор в европейской структуре. «Противовесом
могуществу немцев может служить лишь военная и политическая
активность США в Европе, а также тесные связи двух сильных госу-
дарств Европы - Великобритании и Франции»1.
Глава британского правительства прекрасно понимала, что пове-
дение руководителей Советского Союза определяется отнюдь не
соображениями большой политики, а готовностью «продать немцам
воссоединение за скромную цену небольших финансовых инъекций
в их захиревшую экономику». Она полагала, что интересам Совет-
ского Союза отнюдь не отвечает возрождение могущественной Гер-
мании, тем более воссоединенной на условиях Запада, что заветная
цель - создание нейтральной, свободной от ядерного оружия Герма-
нии - вполне обоснованная цена за воссоединение немцев.
Еще в сентябре 1989 г., когда назревал политический кризис в
ГДР, М. Тэтчер по пути с конференции в Токио остановилась с
кратким рабочим визитом в Москве, чтобы объяснить М. Горбачеву
- любимцу «Горби» - свой подход к германскому единству. «Я со-
вершенно открыто заявила ему, что, хотя мы по традиции в НАТО и
подтверждаем свою приверженность идее немецкого воссоединения,
но на самом деле такая перспектива нас беспокоит». «Железная ле-
ди» призналась, что это не только ее личное мнение, но и «другого
ведущего политика Запада», имея в виду, но не называя, президента
Миттерана. По воспоминаниям М. Тэтчер, М. Горбачев заверил, что
Советский Союз тоже не желает германского воссоединения. Рас-
сказывая о беседе М. С. Горбачева с М. Тэтчер 23 сентября 1989 г.,
А. С. Черняев почему-то забыл упомянуть об этом. (А. С. Черняев.
Шесть лет с Горбачевым, с. 298-299). Главная цель - «разрушение
тоталитарного монстра» - в центре внимания. Национальные инте-
ресы страны имели для команды М. Горбачева второстепенное зна-
чение. «Это еще больше укрепило меня в решении притормозить
развитие событий, которое уже набирало бурный темп», - вспоми-
нает «железная леди». Во всяком случае, в послании Дж. Бушу по-
сле падения «берлинской стены» британский премьер не преминула
1 За рубежом.- 1993.-45 (1710). - С. 14.
82
отметить, что германское единство не может быть «темой, которую
следует обсуждать сегодня». Президент Буш по телефону сообщил,
что на встрече в Кэмп-Дэвиде он сможет вместе с леди, «положив
ноги на стол», поговорить по душам.
В беседе с М. Горбачевым премьер-министр Великобритании
М. Тэтчер откровенно высказалась за то, чтобы не торопиться с объ-
единением Германии, отметив при этом, что она говорит не только
от своего имени, но и от имени еще одного западного лидера. Она
имела в виду Ф. Миттерана. Их позиция сводилась к поддержке
«демократизации» Германской Демократической Республики, т.е. к
сохранению другого германского суверенного государства. Аргу-
ментом в пользу замедления темпов продвижения ФРГ к поглоще-
нию ГДР служило пожелание соблюсти интересы соседних с ФРГ
государств и не допустить изменения границ государств.
Позже «железная леди» вспоминала, что она еще в сентябре
1989г. во время полета от Токио до Москвы в самолете MC-10 тща-
тельно продумала все стороны германской проблемы. Во время лан-
ча в московском аэропорту она объяснила М. Горбачеву, что Вели-
кобритания как член НАТО на словах поддерживала всегда стрем-
ление немцев к единству, однако на практике придерживается «ос-
торожной позиции». «Г-н Горбачев подтвердил, что Советский Союз
также не желал воссоединения Германии», - вспоминала М. Тэтчер.
«Десять пунктов» Г. Коля в конце ноября 1989 г. также вызвали,
мягко говоря, сдержанное отношение двух западных лидеров.
М. Тэтчер полагала, что потребуется несколько лет для демократи-
ческих преобразований в странах Восточной Европы. Очевидно, на
смягчение позиции М. Тэтчер оказала влияние встреча с президен-
том США Дж. Бушем в Кэмп-Дэвиде 24 ноября. Особую озабочен-
ность железная леди проявила уже в тот момент в судьбе «Майкла»,
предвидя неизбежное сопротивление политике М. Горбачева в Со-
ветском Союзе. Она понимала перестройку в Европе масштабнее и
глубже, чем ее подопечный, разумеется, со своих британских пози-
ций.
Фактически в начале декабря 1989 года М. С. Горбачев отказался
от взаимодействия с двумя западными державами в германском во-
просе, несмотря на их предложения. Позиция М. Тэтчер в отноше-
нии немедленного объединения Германии была выражена достаточ-
но четко сразу после разрушения стены в Берлине. Когда Г. Коль
позвонил М. Тэтчер 10 ноября, чтобы сообщить ей об этом, премьер
посоветовала ему узнать у М. Горбачева, почему об объединении
Германии не может быть и речи. Через неделю на саммите Европей-
83
ского сообщества М. Тэтчер ясно заявила: воссоединение немцев не
стоит в повестке дня. На официальном обеде Г. Коль, вопреки обы-
чаям, произнес 40-минутную речь. Он сослался на резолюцию Сове-
та НАТО, принятую аж в 1970 году, чем вызвал раздражение леди.
Канцлер позволил себе не без пафоса воскликнуть: «Даже Маргарет
Тэтчер не сможет помешать немецкому народу идти по пути, ука-
занному судьбой». Германские дипломаты отметили: «Вне себя от
ярости, она затопала ногами и выкрикнула: «Это вам так кажется!».
Реплика М. Тэтчер не была случайным проявлением эмоций. Это
была продуманная твердая позиция правительства одной из держав-
победительниц, одной из четырех держав, взявших на себя ответст-
венность за судьбу Германии. В мемуарах «Годы на Даунинг-стрит»,
опубликованных в Лондоне в 1993 году, М.Тэтчер подтвердила
свою точку зрения. Она исходила из того, что Советский Союз ре-
шительно выступит против появления мощной Германии на евро-
пейском поприще, особенно, если это произойдет на условиях гер-
манского канцлера. Ликвидацию ГДР она оценивала как «дискреди-
тацию коммунизма». Она полагала, что в объединенной Германии к
власти может прийти правительство «левее центра», т.е. социал-
демократическая партия. Что левые будут добиваться нейтрализации
Германии и ее безъядерного статуса, британские политические кру-
ги понимали так, что советские руководители «готовы продать вос-
соединение за скромный финансовый вклад Германии в их разру-
шающуюся экономику».
На совещании глав правительств стран Европейского сообщест-
ва 18 ноября 1989 г. в Париже Миттеран поставил под вопрос, стоит
ли обсуждать проблему границ в Европе. В ответ канцлер Коль воз-
разил, что вопрос о границах не стоит в повестке дня, но немцы
должны иметь право на самоопределение. М. Тэтчер определенно
выразила свое мнение: «Ни о каких изменениях границ не может
быть и речи, необходимо по-прежнему соблюдать положения За-
ключительного акта Хельсинки». Она полагала, что воссоединение
Германии может оказаться равнозначным открытию ящика Пандо-
ры, поскольку в Европе имеются и другие спорные границы. Леди
высказалась за сохранение не только НАТО, но и Организации Вар-
шавского Договора.
Позиция, занятая президентом Франции Ф. Миттераном в ноябре
1998 года в отношении скорого объединения Германии, заслуживает
внимания: «Я не боюсь воссоединения /Германии/», - заявил он 3
ноября. Стремление немцев к национальному единству он считал
вполне понятным и законным, однако выражал некоторые опасения:
84
Во-первых, полагал он, необходимо согласие четырех держав, осо-
бенно Советского Союза. Во-вторых, в переговорах двух германских
государств не допустимо навязывание своей точки зрения другому и
какое-либо обострение ситуации в Европе. Через две недели после
падения берлинской стены на саммите стран Европейского сообще-
ства 18 ноября Ф. Миттеран ясно дал понять немцам, что торопиться
не надо, что воссоединение должно проходить не в ущерб европей-
ской интеграции, тем более, европейской безопасности, что они
должны уважать права и ответственность четырех держав.
Десять пунктов Г. Коля вызвали раздражение не только
М. Горбачева, но и Ф. Миттерана, хотя и по разным причинам. На
встрече с М. Горбачевым в Киеве 6 декабря президент Франции по-
пытался склонить М. Горбачева к совместным шагам с целью уме-
рить рвение Г. Коля, например, поехать вместе в Берлин, чтобы ока-
зать поддержку новому правительству ГДР во главе с X. Модровом.
Однако М. Горбачев уклонился от этого. Не использовать предло-
жение президента Франции для согласованных дипломатических
акций, было, конечно, не просто тактической ошибкой, а стратеги-
ческим просчетом, если иметь в виду также четкую линию
М. Тэтчер. Ведь совместные действия СССР с Великобританией и
Францией могли сохранить ведущую роль четырех держав в герман-
ском урегулировании. М. Горбачев почему-то предпочел слушать
Дж. Буша. Похоже, что Ф. Миттеран не получил достаточной ин-
формации и о результатах встречи на Мальте. Президент Франции
отправился в Берлин, где на официальном обеде 21 декабря сказал,
что Франции и ГДР еще предстоит многое сделать вместе. Он исхо-
дил из того, что ГДР останется суверенным государством. Это от-
нюдь не противоречило проектам конфедерации или договорного
сообщества. Позже французские дипломаты попытались предста-
вить позицию своего президента как желание обеспечить благопри-
ятный климат в переходный период, не допустить «нейтрализации»
ГДР. На встрече с Г. Колем 4 января 1990 г. Ф. Миттеран еще убеж-
дал собеседника, что «русские не уступят», что торопливость
Г. Коля может привести к падению М. Горбачева, что судьба
М. Горбачева больше зависит теперь от Г. Коля, чем от его против-
ников в Москве. Беседа президента с канцлером происходила во
время прогулок по пляжу близ дома Миттерана под г. Бордо.
Быстрого воссоединения Германии не хотели союзники ФРГ по
НАТО - ни англичане, ни французы, ни итальянцы. Это видно из
материалов тех переговоров, которые имели место в эти недели у
85
них с Горбачевым. Позицию этих сторон обобщил Дж. Буш на
Мальте.
Президент США Дж. Буш сообщил М. С. Горбачеву в декабре
1989 г. во время встречи на Мальте: «Коль знает, что некоторые за-
падные союзники, на словах выступая в поддержку воссоединения,
если того захочет народ Германии, встревожены этой перспекти-
вой».
М. Горбачев ответил Бушу: «Но, в отличие от ваших союзников
и вас, я говорю открыто: есть два германских государства, так рас-
порядилась история. И пусть она же распорядится, как будет проте-
кать процесс и к чему он приведет в контексте новой Европы и но-
вого мира».
Ссылки М. С. Горбачева на историю должны были, видимо, с
одной стороны, поднять принимаемые решения до уровня историче-
ских, а с другой - оправдать их фатальной неизбежностью воссо-
единения немцев. Конечно, спустя почти полвека после окончания
войны ограничивать суверенитет культурной европейской нации и
обременять ее жизнь присутствием иностранных войск было бы не-
справедливо и нереалистично. Однако при окончательном урегули-
ровании полагалось подумать всерьез не столько о том, как оценят
на Западе собственную персону, сколько о том, чтобы обеспечить
жизненные интересы своей страны. Приходится отметить, что, кро-
ме немедленного получения кредитов, никакие другие желания не
появились в воображении генерального секретаря КПСС.
Дж. Буш как прагматик оказался ближе к жизни. Он заметил:
«Мы не пойдем на какие-либо опрометчивые действия, попытки ус-
корить решение вопроса о воссоединении... Как ни странно, в этом
вопросе вы в одной лодке с нашими союзниками по НАТО».
Однако М. Горбачев предпочел уже вскоре сесть в одну лодку с
Г. Колем, хотя ему было ясно, что западные державы не пойдут на
какие-либо резкие шаги ради ускорения объединения. В ближайшем
окружении генсека позиция западных держав была истолкована как
желание притормозить процесс объединения, но руками Горбачева.
Для наглядности своей позиции и показа своей осторожности
Дж. Буш в германских делах применил понятие «стена», имея явно в
виду «берлинскую стену», перед которой его предшественник Р.
Рейган произносил горячие речи: «Я не собираюсь прыгать на стену,
потому что слишком многое в этом вопросе поставлено на карту».
М. Горбачев реагировал не без юмора: «Да, прыгать на стену - это
не занятие для президента».
86
Все эти детали беседы Дж. Буша и М. Горбачева на Мальте важ-
ны для понимания ситуации к началу 1990 года. Ситуация в ГДР
сама по себе, сколь бы напряженной она ни была, не могла с фа-
тальной неизбежностью вылиться в изгнание советских войск. Про-
цесс объединения двух германских государств вполне можно было
направить в русло урегулирования международного статуса Герма-
нии с участием не только четырех держав, но и других заинтересо-
ванных государств, особенно соседей Германии. Во всяком случае
формула «четыре плюс два» давала для этого широкие возможности.
Почему же М. Горбачев предпочел действиям вместе с западными
державами совместную с Г. Колем акцию при игнорировании не
только руководителей ГДР, но и воли населения ГДР, которому еще
предстояло сделать выбор 18 марта 1990 г.?
Через неделю после начала демонтажа границы - стены в Берли-
не, 15 ноября 1989 г., М. С. Горбачев, выступая на молодежном фо-
руме в Москве, заявил: «Дискуссии об объединении означали бы
вмешательство в дела Западной Германии и Германской Демократи-
ческой Республики». Это высказывание в речи было распространено
в сообщении ТАСС № 101 вечером того же дня. Однако оно не поя-
вилось в советских газетах. Находившаяся с рабочим визитом в
Москве в те дни председатель бундестага Рита Зюсмут спросила у
М. С. Горбачева, почему это высказывание не напечатали москов-
ские газеты. На этот вопрос М. С. Горбачев дал ясный ответ: ис-
правление в текст внес он лично, поскольку объединение Германии
не стоит в повестке дня.
В середине октября находившийся в Москве Вилли Брандт в
итоге важных бесед вынес четкое впечатление, что «советское руко-
водство не намерено в одностороннем порядке сокращать свое во-
енное (называемое «стратегическим») присутствие в ГДР». «Гер-
манский вопрос обсуждался по многим аспектам, - писал В. Брандт
позже, - но четкая позиция не вырисовывалась»1. Какие соображе-
ния определяли позицию советского руководства? Оставались в силе
вполне резонные аргументы и интересы: не допустить срыва про-
мышленных поставок из ГДР; добиться признания послевоенной
границы между Германией и Польшей окончательно; сохранить ГДР
в составе Варшавского Договора. «О выходе ГДР из Варшавского
пакта никто и думать не хотел. Однако каждый, в том числе и в
высших эшелонах советского руководства, рассчитывал на то, что
оба германских государства установят между собой более тесные
1 Брандт В. Воспоминания. - М., 1991. - С. 508.
87
взаимоотношения. То, что западные державы-гаранты независимо
друг от друга и с некоторыми нюансами сообщили советской сторо-
не, по довольно злорадным слухам, якобы содержало больше огово-
рок»1.
Таким образом, в ноябре 1989 г., когда «берлинская стена» рух-
нула с великодушного согласия М. С. Горбачева, который не счел
нужным даже спросить руководителей союзной ГДР, что они дума-
ют по поводу дальнейшего, у советского руководства не созрело ни-
каких конструктивных предложений, скажем, относительно поэтап-
ного (постепенного) сближения двух германских государств и объе-
динения их в более или менее отдаленном будущем. Во всяком слу-
чае, до декабря 1989 года вопрос о немедленном объединении двух
германских государств не стоял в повестке дня европейской или ми-
ровой политики. Что произошло в декабре 1989 года, что заставило
М. С. Горбачева сделать крутой поворот?
4. Поворот к фатализму в Москве
(февраль 1990 г.)
В конце 1989 г., после провозглашения программы Г. Коля, ко-
торая, ставя политической целью обретение Германией государст-
венного единства в будущем, в качестве реалистической задачи вы-
двигала концепцию конфедерации германских государств в рамках
общеевропейского процесса, казалось бы, было бы разумным имен-
но в этом ключе с учетом интересов страны и сформулировать, ска-
жем, в обстоятельном меморандуме позицию Советского правитель-
ства. Однако М. С. Горбачев и Э. А. Шеварднадзе предпочитали
высказываться в плане личной дипломатии, правда, еще считаясь
с преобладавшим в стране мнением о незыблемости послевоенно-
го устройства в Европе. На пленуме ЦК КПСС 9 декабря 1989 г.
М. С. Горбачев заявил: «Мы со всей решительностью подчеркиваем,
что ГДР в обиду не дадим, это наш стратегический союзник и член
Варшавского Договора. Необходимо исходить из сложившихся по-
сле войны реальностей - существования двух суверенных герман-
ских государств - членов ООН, отход от этого грозит дестабилиза-
цией в Европе»2.
1 Брандт В. Указ. соч.
2 Правда - 1989. - 10 декабря.
88
Позиция великой державы, обеспокоенной возможной дестаби-
лизацией в Европе, выражена достаточно ясно. Вопрос заключался в
том, на какой срок рассчитана эта стратегия. В действительности
прошло всего два месяца, в течение которых ФРГ продолжала
курс на дестабилизацию на только в ГДР, но и в Европе, но позиция
М. С. Горбачева кардинально изменилась. Какие события с декабря
1989г. по февраль 1990 г. повлияли столь быстро на изменение по-
зиции руководителя СССР в жизненно важном вопросе европей-
ской, да и мировой политики?
Выступая в политическом совете Европарламента 19 декабря
1989 г., Э. Шеварднадзе изложил в семи пунктах предпосылки для
решения германского вопроса: создание политических, юридиче-
ских и материальных гарантий для того, чтобы германское единство
не нанесло ущерб безопасности других стран; признание европей-
ских границ и отказ от каких бы то ни было территориальных притя-
заний; решение вопроса об участии или неучастии германских госу-
дарств в военно-политических блоках; определение военного потен-
циала, военной доктрины и структуры вооруженных сил Германии,
даже возможности демилитаризации и установления нейтрального
статуса; приемлемое решение вопроса о присутствии союзнических
войск на германской земле, увязка объединения Германии с мирным
урегулированием в Европе и с хельсинкским процессом.
В период, когда Г. Коль проявил особую активность, готовя фор-
сирование процесса объединения Германии, Москва и Берлин про-
водили обмен мнениями, в частности М. С. Горбачев беседовал с X.
Модровым. Судя по ряду фактов, в январе 1990 г. в позиции М. С.
Горбачева произошел поворот не только по глобальным проблемам,
но и по германскому вопросу. (Видимо, это связано с фактическим
прекращением деятельности политбюро ЦК КПСС). Один из близ-
ких к правительственным кругам деятелей Хорст Тельчик сделал в
конце января такое умозаключение: «Если эти высказывания (име-
ются в виду высказывания Горбачева) действительно соответствуют
истине, то они доказывают, что Горбачев начинает склоняться к
германскому единству. Это было бы сенсацией. Со времени откры-
тия стены не прошло еще и трех месяцев»1.
В воспоминаниях Э. Шеварднадзе ситуация осенью 1989 г. по-
лучила такое отражение: «После того как рухнула Берлинская стена,
в обоих германских государствах начала набирать силу тенденция
1 «Der «Spiegel», 1991, N 40, S. 126. Н. Teltschik. «De Birn is geschalt»
(«Груша очищена»).
89
блицвоссоединения. И благо бы эйфория охватила только население
- не обошла она отчасти и некоторые довольно влиятельные круги в
ФРГ. Несмотря на суровые политические реальности, они от призы-
вов к «самоопределению» ГДР довольно быстро перешли к советам,
близким к предписаниям, - как и в какие сроки ей изменять свой
государственный строй. При этом явно игнорировались законные
интересы СССР, других европейских государств, просматривался
расчет решить германский вопрос путем односторонних действий и
явочных шагов»1.
В конце 1989 г. министр иностранных дел СССР Э. Шеварднад-
зе, очевидно, на основе учета информации и концепций, сложив-
шихся в дипломатическом ведомстве, совершенно верно понимал
триединую задачу урегулирования германской проблемы как созда-
ние гарантий безопасности в Европе:
1) реальное сокращение вооружений в Европе, включая Герма-
нию;
2) сочетание процесса строительства германского единства с
формированием общеевропейских структур безопасности;
3) реформация НАТО и новые отношения между союзами.
Собственно германское урегулирование требовало конкретиза-
ции ряда обязательств государств Европы, в частности, со стороны
Германии необходимо было получить гарантии того, что:
- германское единство не создаст угрозы национальной безопас-
ности других государств и в будущем;
- объединенная Германия признает существующие в Европе
границы неизменными, во всяком случае нерушимыми;
- международный военно-политический статус определяется с
участием держав-победительниц и других государств;
- процесс объединения Германии должен идти синхронно с об-
щеевропейским процессом, ведущим к преодолению раскола Евро-
пы.
Когда речь шла о статусе Германии, то естественно было ставить
вопрос об оформлении его в полновесном мирном договоре, кото-
рый мог бы не только закрепить границы, но и обязательства по де-
милитаризации, сокращению ее вооруженных сил до уровня обо-
ронной достаточности, о правах и ответственности четырех держав,
об условиях пребывания иностранных войск на германской земле, о
четырехстороннем соглашении по Берлину.
1 Шеварднадзе Э. Мой выбор. - М, 1991. - С. 229.
90
Многие из этих вопросов почему-то исчезли из повестки дня, в
особенности вопрос о мирном договоре. Как говорят, их сняла сама
жизнь, но по желанию германских дипломатов.
Тем временем к началу 1990 г. в Москве был по инициативе
В. Фалина создан при М. Горбачеве «кризисный штаб», в котором
приняли участие А. Яковлев, Э. Шеварднадзе, Д. Язов, В. Крючков,
A. Черняев, Г. Шахназаров и В. Фалин. На первом заседании вопрос
поставлен так: что можно предпринять, но без применения войск?
Д. Язов, естественно, слушает и молчит, полагая, видимо, что из 400
тысяч военнослужащих и членов их семей никто даже не подумает
воспользоваться открытой границей. Советники генсека полагали,
что ГДР надо оставить наедине с ее судьбой и примириться с тем,
что объединенная Германия входит в НАТО. Обеспокоенный
B. Крючков сообщает, что партии ФРГ развертывают свою актив-
ность в ГДР, как у себя дома. Э. Шеварднадзе ограничился замеча-
ниями типа «внимательно следить за развитием», установить кон-
такт с французами, избегать обязывающих заявлений и т.п.
Этот «штаб» практически был собран еще только один раз. Где в
дальнейшем обсуждались и решались вопросы, связанные с Герма-
нией, не может сказать ведущий эксперт-германист В. Фалин: «Я не
в состоянии сообщить вам, как и где разрабатывались директивы для
Шеварднадзе, почему аргументы Министерства обороны, не говоря
уже о разработках нашего отдела, были оставлены без внимания».
Оставаясь на позициях реализма, нужно отметить, что, конечно,
в той обстановке, которая складывалась в центре Европы, не было
политических сил, собиравшихся не допустить объединения герман-
ских государств. Весь вопрос заключался в том, чтобы объединение
произошло постепенно и исключительно мирным путем, без ущерба
интересам государств Европы и не в последнюю очередь интересам
Советского Союза. Разумная концепция решения германской про-
блемы выражена В. Фалиным в формуле: «Объединение - да, ан-
шлюс - нет».
В конце января 1990 г. М. С. Горбачев проводит «узкое» сове-
щание по германскому вопросу, на котором первым предоставляет
слово А. С. Черняеву, который рассказывает: «Я выступил первым и
предложил взять твердую ориентацию на ФРГ, потому что в ГДР у
нас уже нет никакой опоры, чтобы влиять на ход событий. Причем
конкретно в ФРГ ориентироваться на «взаимопонимание» с Колем, а
не с СДПГ. Социал-демократы превращают объединение в объект
избирательной борьбы, а Коль, во-первых, твердо держится идеи:
воссоединение в рамках общеевропейского процесса; во-вторых,
91
повязан союзниками по НАТО; в-третьих, «более верный» в личных
отношениях с Горбачевым - человек слова. Я высказался против
приглашения в Москву Модрова, тем более против встречи
М. С. Горбачева с Гизи - с партией, «которой уже фактически нет и
не будет»1
После осторожных высказываний других участников этого со-
вещания (В. Фалина, А. Н. Яковлева, Э. Шеварднадзе, В. Крючкова
и Н. Рыжкова) М. С. Горбачев все же подвел итог, отличавшийся от
предложений А. Черняева, который задним числом себе приписыва-
ет выдвижение идеи «шестерки» («два плюс четыре»). М. С. Горба-
чев согласился с формулой «шестерки», одобрил «ориентацию на
Коля», но высказался против игнорирования социал-демократов;
Модрова и Гизи все же решено пригласить в Москву. Маршалу Ах-
ромееву поручено готовить вывод войск из ГДР, при этом проблема
представлена как «больше внутренняя, чем внешняя: 300 тысяч, из
них 100 тысяч офицеров с семьями куда-то надо девать!».
Особым «меморандумом» А. С. Черняев поставил под сомнение
компетентность членов политбюро, поскольку они-де, «не зная всей
информации» (а он, помощник генсека, располагает, разумеется,
всей информацией), не могут правильно решить вопрос: быть ли
Германии в НАТО. Однако, как свидетельствует тот же А. Черняев,
еще в начале мая М. С. Горбачев был решительно против участия
объединенной Германии в НАТО. А его всезнающий помощник ка-
тегорически не соглашался с тем, что это будет означать приближе-
ние НАТО к границам Союза: «Это чушь. Это уровень рассуждений
1945 года. Это лжепатриотизм толпы. Ведь все равно Германия бу-
дет в НАТО, и нам опять придется догонять поезд» (с. 347-348).
А. С. Черняев пытается подменить тактическими уловками глав-
ное в германском урегулировании - обеспечение жизненно важных,
в том числе имущественных, интересов нашей страны. Политбюро
завалило-де подписание документа, который предусматривал безус-
ловное включение объединенной Германии в НАТО. «Коль и Бейкер
этим быстро воспользовались. Встреча «2+4» была объявлена ими
«исторической», после которой, мол, «никаких препятствий к объе-
динению нет» (слова Коля). Мемуарист, видимо, сознательно не на-
зывает даты «исторической» встречи, имея в виду, наверное, встречу
в мае в Бонне. Между тем, Коль заявил об отправлении поезда гер-
манского единства уже в феврале 1990 г., после встречи в Москве.
1 Черняев А. Цит. соч. - С. 346.
92
С конца 1989 г. начались интенсивные контакты и обмен мне-
ниями между ГДР и ФРГ, Берлином и Бонном, Берлином и Москвой,
а также между Москвой и Бонном, наконец, начались встречи и бе-
седы между представителями четырех держав (СССР, США, Англии
и Франции).
Спустя полгода после контактов с X. Модровым, летом 1990 г.,
Г. Коль обвинил в нарушении обещаний премьера X. Модрова, ко-
торый якобы отказался от «либерализации экономической системы»,
но принял решение возродить службу государственной безопасно-
сти. «Это вызвало к жизни в ГДР психологические процессы катаст-
рофического характера», - утверждает Г. Коль, имея в виду усилив-
шийся поток переселенцев из ГДР в ФРГ: в январе 1990 г. из ГДР в
ФРГ перешли 220 тыс. человек (ремесленники, программисты, вра-
чи, химики). Этот поток переселенцев наряду с потоком немцев из
Польши, Румынии и СССР власти ФРГ восприняли как «стихийное
бедствие», которое угрожает захлестнуть процветающую ФРГ.
Именно в этой связи канцлер Г. Коль решил ускорить поглощение
всей ГДР, выдвинув в январе идею экономического и валютного
союза. «Не сделай я этого и не проведи мы 18 марта выборы в Вос-
точной Германии, у нас здесь было бы 600 тысяч беженцев или око-
ло того». Таким образом, Г. Коль откровенно признает, что полити-
ческие силы и правительство ФРГ провели выгодные им выборы в
ГДР. Они привели к власти угодное и удобное им правительство в
другом германском государстве. Характерная деталь в воспомина-
ниях Г. Коля: Лотар де Мезьер выезжал-де в Западный Берлин, что-
бы позвонить Г. Колю, так как... у него не было служебного телефо-
на. Вот какие «трудности» приходилось преодолевать сторонникам
Г. Коля на территории ГДР.
Г. Коль обещал за три-четыре года превратить пространство в
границах Восточной Германии в процветающую землю. Нет основа-
ний сомневаться в том, что германский финансовый капитал распо-
лагает такими возможностями, а поднятие уровня развития и жизни
отвечает интересам населения восточной части страны. Хотя много
говорится о плачевном состоянии предприятий в ГДР, но на деле
имеется уверенность в том, что ФРГ приобретает несравнимо боль-
ше, чем намерена вложить.
Избранный 13 ноября 1989 г. председателем совета министров
ГДР X. Модров (1922 г.р.) в итоге рабочего визита в Москву 30 ян-
варя 1990 г. высказался за сближение двух германских государств в
рамках общеевропейского процесса и за создание «договорного со-
общества», конфедерации германских государств. С советской сто-
93
роны было выражено понимание такой позиции и солидарность
СССР с ГДР. Во время встречи М. С. Горбачева с председателем
Партии демократического социализма, организованной из бывших
членов СЕПГ, Г. Гизи 2 февраля 1990 г. было выражено понимание
стремления немцев к сближению и взаимодействию. И в этой встре-
че подчеркнуто, что вопрос о немецком единстве может найти свое
решение в рамках европейского процесса, создания «общего дома» в
Европе. При этом стороны исходили из того, что процесс сближения
германских государств будет происходить постепенно, поэтапно.
Существенный поворот в германском вопросе произошел в пер-
вой декаде февраля 1990 года в итоге встреч и бесед М. С. Горбачева
и его ближайших помощников с госсекретарем США Дж. Бейкером
и с канцлером ФРГ Г. Колем, имевших место в Москве. В самом на-
чале встречи глава госдепа высказал мнение, что процесс герман-
ского урегулирования «идет гораздо быстрее, чем кто-либо мог
ожидать в прошлом году, даже в декабре прошлого года». Госсекре-
тарь подчеркнул, что перед приездом в Москву он встречался с ми-
нистрами иностранных дел Великобритании, Франции и ФРГ и вы-
яснил, что они того же мнения. Далее Дж Бейкер, исходя из неиз-
бежности объединения немцев, изложил по сути сценарий развития
событий, можно сказать, четкий график движения поезда германско-
го единства: «18 марта народ ГДР проголосует на выборах. Подав-
ляющим большинством он выскажется за объединение, изберет ру-
ководителей, которые поддерживают идею объединения Германии.
Вскоре два германских государства начнут обсуждение внутренних
аспектов объединения, таких вопросов, как объединение прави-
тельств, парламентов, общая столица, общая валюта, экономический
союз. Все это уже происходит де-факто». Далее госсекретарь пред-
ложил создать механизм «2+4» для выработки условий урегулиро-
вания. На робкое замечание генсека, что он думает о формуле «4+2»,
госсек твердо ответил, что его формула «лучше». По существу гос-
секретарь диктовал программу действий, правда, проявил понима-
ние озабоченности Советского Союза участием объединенной Гер-
мании в НАТО: «Мы считаем, что консультации и обсуждения в
рамках механизма «2+4» должны дать гарантии того, что объедине-
ние Германии не приведет к распространению военной организации
НАТО на Восток» . М. Горбачев и Э. Шеварднадзе не возражали.
Они приняли план Дж. Бейкера к исполнению.
1 Михаил Горбачев и германский вопрос. - М., 2006. - С. 332-334.
94
Уже на следующий день 10 февраля 1990 г. произошел заметный
сдвиг в сторону ускорения процесса германского объединения в ре-
зультате приезда федерального канцлера ФРГ Г. Коля в Москву и
его встречи с М. С. Горбачевым. В соответствии с ранее достигну-
тыми договоренностями и совместным заявлением от 13 июня
1989 г., стороны отметили, что германский вопрос может быть ре-
шен в контексте общеевропейского процесса с учетом безопасности
и интересов как соседей, так и других государств Европы и мира.
В официальном сообщении о встрече 10 февраля 1990 г. было
отмечено: «М. С. Горбачев констатировал - и канцлер с ним согла-
сился, - что сейчас между СССР, ФРГ и ГДР нет разногласий по по-
воду того, что вопрос о единстве немецкой нации должны решать
сами немцы и сами определять свой выбор, в каких государственных
формах, в какие сроки, какими темпами и на каких условиях они это
единство будут реализовывать»1.
На встрече министров иностранных дел СССР и ФРГ в тот же
день (10 февраля 1990 г.) были обсуждены внешнеполитические ас-
пекты германских дел, в том числе необходимость учитывать права
и ответственность четырех держав в германских делах, в частности,
в отношении Западного Берлина. В итоге встречи министров была
признана необходимость создать гарантии, что с немецкой земли
никогда больше не будет исходить угроза новой войны, что проис-
ходящие изменения не приведут к ломке существующего баланса
сил в Европе. Запись беседы М. С. Горбачева с Г. Колем «один на
один» (на этой встрече 10 февраля присутствовали с германской
стороны X. Тельчик, с советской стороны А. С. Черняев) - не менее
важный исторический документ, чем запись беседы с госсекретарем
Дж. Бейкером. Надо отдать должное канцлеру Г. Колю, он не укло-
нялся от обсуждения острых вопросов, обладая информацией о по-
ложении в ГДР. Он сообщил, что за истекший год из ГДР в ФРГ пе-
решло 380 тысяч человек, в том числе 200 тысяч человек моложе 30
лет. Он хорошо представлял себе хозяйственные трудности на тер-
ритории ГДР и даже имел сведения о готовящихся процессах над
бывшими руководителями ГДР. Собеседник, похоже, воспринимал
все это как внутреннее дело немцев. А ведь в силе еще оставался
договор о взаимной помощи с союзной ГДР. Что касается внешних
аспектов урегулирования, то камнем преткновения оставался вопрос
об участии ФРГ в военном блоке. Канцлер решительно заявил: «Че-
го мы не хотим, так это нейтралитета. Это была бы историческая
1 Правда. - 1990. - 11 февраля.
95
ошибка. Такая ошибка уже была совершена после 1918 года. Для
немцев тогда был определен специальный статус. Смысл Рапалло
заключался в том, чтобы выбраться из этого специального статуса.
Оставим историкам для размышлений концепцию «специального
статуса». Для нашей темы важно заверение со стороны ФРГ: «Мы
считаем, что НАТО не должна расширять сферу своего действия.
Надо найти здесь разумное урегулирование Я правильно понимаю
интересы безопасности Советского Союза и отдаю себе отчет в том,
что вы, г-н Генеральный секретарь, и советское руководство должны
будете доходчиво объяснить происходящее населению СССР»
(с. 345) «Господин» генеральный секретарь, видимо, не хотел пони-
мать то, что понимал федеральный канцлер «бывшего вражеского
государства». Со стороны М. С. Горбачева не последовало пожела-
ние найти «разумное решение»,но высказано заверение: «Наверное,
можно сказать, что между Советским Союзом, ФРГ и ГДР нет раз-
ногласий по вопросу о единстве немецкой нации и что немцы сами
решают этот вопрос. Короче, в главном исходном пункте есть пони-
мание: сами немцы должны сделать свой выбор. И они должны
знать эту нашу позицию» (с. 348). Мнения русских и других граждан
Советского Союза, как известно, никто не спрашивал.
На пресс-конференции в Москве 10 февраля 1990 г. канцлер Г.
Коль сообщил, что позиция советской стороны была изложена не-
двусмысленно: немецкий народ имеет право решать, желает ли он
жить в едином государстве, и если он примет такое решение, то
СССР будет уважать это решение. Канцлер Г. Коль сделал для себя
вывод: «Дело немцев найти приемлемые сроки и конкретные пути к
единству». Он упомянул также, что необходимо учитывать «сущест-
вующие реалии» и что решение германского вопроса должно учиты-
вать «общеевропейскую архитектуру». Хотя канцлер понимал, что
немцы должны действовать с «осмотрительностью и чувством меры
возможного», он тотчас дал сигнал «поезду немецкого единства»
двинуться на высокой скорости. Он истолковал ситуацию таким об-
разом, что никаких препятствий на пути нет.
На брифинге в пресс-центре МИД СССР по итогам визита Г. Ко-
ля 12 февраля 1990 г. было обращено внимание на некоторую одно-
сторонность в оценках итогов визита, которые высказаны в ФРГ.
Радиостанция «Немецкая волна» сообщила, в частности, что якобы
«Москва не упомянула ранее высказанные ею сомнения...», но зая-
вила, что «немцы сами должны решать, как и когда произойдет объ-
единение». Советская сторона в лице начальника управления ин-
формации МИД СССР Г. И. Герасимова официально пояснила, что
96
немцы сами должны определить «сроки, темпы и условия», однако
этим дело не кончается. «Вопрос не закрывается, потому что гер-
манский вопрос существует не изолированно, а в политическом, ис-
торическом, географическом и даже психологическом контексте -
ибо мы не можем забыть, откуда пришла к нам война».
Канцлер Г. Коль в заявлении в бундестаге 15 февраля 1990 г. вы-
делил в сообщении о встрече с М. С. Горбачевым только ту часть,
где говорится, что сами немцы вправе определять условия объеди-
нения. В «Послании ко всем немцам» федеральный канцлер ФРГ
Г. Коль истолковал итоги встречи с генсеком М. С. Горбачевым в
том смысле, что получено согласие с тезисом: исключительное пра-
во принять решение о том, желает ли он жить совместно в едином
государстве, принадлежит самому немецкому народу. Советский
Союз тем самым полностью освободил путь для процесса объедине-
ния немцев, - говорится в официальном отчете внешнеполитическо-
го ведомства ФРГ1.
Ключевым вопросом движения к германскому единству остался
вопрос об отношении объединенного германского государства к во-
енно-политическим союзам. Западные державы поставили условием:
включение единого германского государства в НАТО, очевидно, в
расчете, что на это никогда не пойдет Советский Союз. Вместе с тем
осталась необходимость урегулировать вопрос об отказе германско-
го государства от пересмотра послевоенных границ в Европе, а за-
тем об отказе держав-победительниц от прав и ответственности за
решение германского вопроса.
В Заявлении Советского правительства 12 февраля 1990 г. было
отмечено, что Советский Союз проводит в одностороннем порядке
сокращение Западной группы войск, расположенной на территории
ГДР, что дальнейшие шаги будут возможны в рамках достижения
договоренностей на переговорах, в частности, относительно обяза-
тельств четырех держав по итогам второй мировой войны.
В ответах на вопросы корреспондента «Правды» 21 февраля
1990 г. М. С. Горбачев пояснил, что в германском вопросе имеются
два аспекта: «Первый - это право немцев на единство. Мы никогда
не отрицали этого права». Однако «объединение Германии касается
не только немцев». Второй, международный, аспект затрагивает ин-
тересы других государств: незыблемость сложившихся после второй
мировой войны границ; права и ответственность четырех держав;
международная безопасность, т.е. недопустимость нарушения воен-
1 Auswärtiges Amt, 1990. S. 10.
97
но-стратегического баланса между военно-политическими союзами
в Европе.
На встречах в Москве М. С. Горбачева с X. Модровым, а затем и
с Г. Колем взвешивалась возможность использования для решения
внешних аспектов германского вопроса переговоров двух герман-
ских государств с четырьмя державами. На встрече министров ино-
странных дел в Оттаве в феврале 1990 г. была принята процедура
консультаций по формуле «два плюс четыре». Внешние аспекты
процесса объединения германских государств стали предметом ди-
пломатических переговоров в рамках механизма «2 + 4» в прямой
связи с общеевропейским процессом и переговорами межу держа-
вами-победительницами.
В итоге встречи М. С. Горбачева с правительственной делегаци-
ей ГДР во главе с X. Модровым 6 марта 1990 г. было сообщено:
«Принципиальные аспекты германского единения, включая военно-
политический статус Германии, отметил советский руководитель,
могут найти окончательное решение в рамках мирного урегулирова-
ния, которое станет важным элементом складывающихся на конти-
ненте новых структур безопасности, а с точки зрения международ-
ного права поставит Германию в равное положение с другими чле-
нами мирового сообщества»1.
В интервью корреспондентам ТАСС, телевидения ГДР и ФРГ
М. С. Горбачев дал ответ на прямо поставленный вопрос. «Вопрос.
Каково отношение Советского Союза к какой-либо форме участия
объединенной Германии в НАТО? Ответ. На это мы не можем дать
согласия. Это абсолютно исключено»2.
Между тем, дипломатия ФРГ по конфиденциальным каналам
получает информацию, что в телефонном разговоре с Бушем в по-
следний день февраля М. Горбачев не проявил категоричности в от-
вете на вопрос о полном членстве объединенной Германии в НАТО .
В Бонне, конечно, внимательно следили за высказываниями в
Москве, в частности, анализировали выступление М. С. Горбачева в
«Правде». В ведомстве федерального канцлера отметили, что в этом
первом после встречи с Г. Колем публичном выступлении М. Горба-
чев вдруг вспомнил о «мирном договоре», о необходимости опреде-
лить статус Германии в общеевропейском контексте и т. п. Эти вы-
сказывания явно были предназначены для внутреннего потребления
1 Правда. - 1990. - 7 марта
2 Известия. - 1990. - 7 марта.
3 Teltschik H. S. 165.
98
или, иначе говоря, для введения в мир иллюзий собственных граж-
дан. Главное, что отметили в столице ФРГ как вдохновляющий
факт: «Ни одного слова Горбачев не сказал о нейтралитете, демили-
таризации или о принадлежности к НАТО»1.
Ближайший сотрудник канцлера Хорст Тельчик выступил в те
дни в Бонне с докладом, который вызвал скандал, так как он рас-
крыл некоторые замыслы Бонна. Например, показательны рекомен-
дации поведения в отношении М. Горбачева: «Нельзя ставить Гор-
бачева в положение, когда он должен будет объяснять поражения
великой державы, но сможет говорить об успехах исторического
процесса в Европе»1. Очевидно, что разговоры об «общеевропей-
ском доме», разоружении были словесным прикрытием истинных
целей М. Горбачева, причем прикрытием от общественности своей
страны. Что касается германской стороны, то она еще шла на обе-
щания, что экономические обязательства ГДР перед СССР будут
выполняться объединенной Германией, правда, с оговоркой «на-
сколько это возможно», сводящей на нет обязательства.
Германские политики и наблюдатели подчеркивают, что ре-
шающее значение для форсирования объединения Германии имело
катастрофически обострявшееся положение в ГДР. Однако не сле-
дует умалять и значение повышенной политической (и дипломати-
ческой) активности ФРГ, в особенности лично канцлера Г. Коля.
Именно в январе ему пришла в голову гениальная идея (навеянная,
видимо, беседами с промышленниками и банкирами) предложить
населению ГДР перейти на твердую валюту - марку ФРГ.
Поворотным пунктом в движении к германскому единству стал
экстренный визит канцлера Г. Коля в Москву 10-11 февраля 1990 г.,
проведение которого было согласовано только 2 февраля, то есть за
неделю до срока проведения. Судя по всему, именно в этот момент
стратегическая инициатива перешла в руки «большого канцлера».
Историки получили от Хорста Тельчика уникальную возможность
по свежим следам выявить (хотя и не до конца) и закулисную сторо-
ну сделки века - согласие М. С. Горбачева на безоговорочную капи-
туляцию перед Г. Колем. В записях, объединенных под названием
«329 дней» или «Груша очищена», опубликованных частично жур-
налом «Шпигель» в № 40 за 1991 год, а затем в виде книги, пред-
ставлена фактическая картина сходки «черного великана» и «лучше-
го немца» 1990 года.
1 Teltschik H. op. cit., S. 155.
2 Teltschik H. op. cit., S. 156.
99
Сначала состоялся зондаж в форме вопросов и ответов. «Вслед
за этой игрой в вопросы и ответы Горбачев наклонился над столом и
произнес решающие слова: между Советским Союзом, Федератив-
ной Республикой и ГДР нет никаких разногласий во мнениях отно-
сительно единства и права людей стремиться к нему. Им самим надо
решить, по какому пути они хотят идти. Немцы на Востоке и Западе
уже доказали, что они извлекли уроки из истории и что с немецкой
земли никогда больше не будет исходить война»1.
Канцлер Г. Коль охотно поддержал этот тезис, сформулирован-
ный еще в потсдамском решении (отнюдь не М. Горбачевым), одна-
ко канцлер сдержанно реагировал на выложенные на стол козыри.
Более эмоционально реагировал Хорст Тельчик: «Напротив, моя
рука взметнулась, чтобы точно записать каждое слово, ничего не
прослушать и не упустить, что было бы существенно или могло
привести позже к недопониманию. Внутри ликовало: это - прорыв!
Горбачев соглашается с объединением Германии. Триумф для Гель-
мута Коля, который войдет в историю как канцлер германского
единства»2.
Что же получил взамен президент М. Горбачев? Для своей стра-
ны ровным счетом ничего, кроме обещания Германии сохранять
мир, как будто СССР вновь вернулся в 1941 год. М. С. Горбачев, как
великий государственный деятель, солидно добавляет, что для него
фундаментальным вопросом остается вопрос о границах, «канцлер
должен это учесть». Канцлер Г. Коль снисходительно подтверждает,
что остается на своей известной позиции, что «вопрос о границах
будет решен в день «икс» (?!).
Если учесть, что отказ от применения силы и принцип неруши-
мости границ государств Европы (между СССР и Германией нет го-
сударственных границ) закреплены еще в 1970 году в Московском
договоре, то дипломатическое мастерство каждого из двух партне-
ров очевидно.
Было бы несправедливо сказать, что М. Горбачев не понимал,
какой шаг он совершает. Он предоставил канцлеру Г. Колю полную
свободу рук в объединении Германии, точнее, в присоединении ГДР
к ФРГ взамен признания нерушимости государственных границ в
Европе. (Но между СССР и Германией нет общей границы!). Он со-
гласился с тем, что нейтралитет был бы для объединенной Германии
унизителен (?!). «Дипломатическое искусство» генсека проявилось в
1 Teltschik H., op. cit., S. 137-146.
2 Teltschik H. 329 Tage. Innenansichten der Einigung. Berlin 1993, S. 140.
100
том, что он, поблагодарив за присланную пфальцскую колбасу, по-
просился в гости к Г. Колю в Пфальц. Что касается статуса объеди-
ненной Германии, то как бы между прочим было замечено, что
можно будет найти решение. Тельчик отметил, что никакого намека
на какие-либо требования со стороны СССР не было, цена за уступ-
ку не назначена. Канцлер решительно отверг даже мысль о возмож-
ности определения статуса Германии на конференции четырех дер-
жав. В тон ему М. Горбачев воскликнул: «Ничего без канцлера!». На
этой встрече впервые по инициативе М. С. Горбачева введена в обо-
рот согласованная с Дж. Бейкером формула «два плюс четыре».
На чем были основаны победные реляции эрзац-министра ино-
странных дел (шефа отдела внешней политики в ведомстве феде-
рального канцлера) X. Тельчика - останется загадкой для историков.
Однако приходится признать, что они имели какое-то серьезное ос-
нование. М. С. Горбачев пошел на уступки, судя по всему, даже не
поставив в известность своего министра иностранных дел относи-
тельно деталей договоренности, достигнутой в итоге переговоров с
Г. Колем. В самом деле: Г. Коль заявил, что поезд германского
единства пошел на большой скорости, а в Советском Союзе никто
этого не хотел видеть, кроме М. С. Горбачева. Эрзац-министр
X. Тельчик через две недели после возвращения из Москвы заявил:
«Федеральный канцлер взял ключ (к германскому единству) с собой.
Он находится теперь в Бонне». Министр Э. Шеварднадзе робко за-
метил в те дни, что германское единство «потребует по меньшей
мере несколько лет». X. Тельчик, отбросив дипломатию в сторону,
бросает фразу: «Шеварднадзе еще удивится»; «лишь в нашей компе-
тенции» определять, в каком темпе пойдет объединение.
Через две недели после визита Г. Коля в Москву, 24 февраля, со-
стоялась его встреча с президентом США Дж. Бушем в Кэмп-
Дэвиде. Впервые за десятилетия в эту резиденцию американских
президентов приглашен германский канцлер. Здесь в узком кругу
близких к президенту людей и в теплой домашней обстановке были
обсуждены ключевые вопросы германского урегулирования. Феде-
ральный канцлер изложил президенту США свою позицию: Герма-
ния откажется от вооружений группы «ABC» и останется членом
НАТО; однако подразделения НАТО не будут размещаться на тер-
ритории ГДР; относительно пребывания советских войск на герман-
ской территории будет найдено решение «переходного» порядка.
Канцлер поставил также вопрос о ядерном оружии малой дальности
на германской территории, которое рассматривалось немцами как
опасное именно для них.
101
В ответ Дж. Буш заявил, что членство объединенной Германии в
НАТО весьма важно для США, которые намерены оставить свои
войска в Германии на будущее. Он сообщил также Г. Колю, что за
час до его приезда в Кэмп-Дэвид он говорил по телефону с Маргарет
Тэтчер, что «железная леди» одобряет курс на объединение Герма-
нии, хотя еще три месяца назад она была не готова к этому.
Статс-секретарь Дж. Бейкер заверил канцлера, что Москва дела-
ет первые ходы в шахматной игре. «В конце этого матча Советский
Союз определенно согласится с членством (Германии) в НАТО. Там
знают, что присутствие США в Европе действует стабилизирующе,
а НАТО - это предпосылка для этого», - записал X. Тельчик ход
мысли (по сути, сценарий) Дж. Бейкера, по которому и развивались
события в 1990 г.
Дж. Буш и Г. Коль договорились, что именно из Кэмп-Дэвида
они дают ясный сигнал: объединенная Германия будет членом
НАТО.
За месяц до первых (и последних) свободных выборов в ГДР, ко-
гда еще не был ясен исход голосования (он и на самом деле был не-
ожиданным) для большинства участников этой большой политиче-
ской игры, которую авансировали политические партии, в том числе
правительственные партии, другого германского государства, в Мо-
скве состоялась сделка между Г. Колем и М. Горбачевым за спиной
законного правительства ГДР - «стратегического союзника» СССР.
Горбачев сказал «да» канцлеру ФРГ Г. Колю, а не премьер-министру
ГДР X. Модрову. Непосредственный участник встречи, ближайший
в тот момент сотрудник канцлера ФРГ Хорст Тельчик записал в
своем дневнике: «Да» Горбачева (спустя всего лишь три месяца по-
сле падения стены) показывает небывалую динамику процесса объе-
динения. Горбачев не встал на пути, напротив, он быстрее, чем ожи-
далось, приспособился к реальностям. Он сдержал свое слово в от-
ношении немцев и не вмешался во внутренние дела обоих герман-
ских государств, что он обещал Колю еще на их встречах в 1988 и
1989 гг.»1
У историков, естественно, возникнет вопрос: чьим «стратегиче-
ским союзником» был М. С. Горбачев? Судя по фактам, решения,
которые принимались М. С. Горбачевым по германским делам, были
настолько самостоятельными, суверенными, что не согласовывались
ни с партийными, ни с государственными органами. Дипломатиче-
ское ведомство во главе с Э. Шеварднадзе все еще пыталось сохра-
1 Тельчик X. - Указ. соч. - С. 144.
102
нить лицо великой державы, обеспечив интересы СССР в вопросах
не только границ в Европе, но и принадлежности к военным блокам,
подчеркивая необходимость рассматривать германское урегулиро-
вание в контексте общеевропейского процесса.
Уже 14 февраля 1990 г., после возвращения Г. Коля из Москвы,
министр иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншер на заседании кабинета
изложил представления дипломатов на конференции в Оттаве по
поводу проблем германского урегулирования. В Оттаве Э. Шевард-
надзе еще излагает в качестве варианта решение проблемы урегули-
рования с Германией, которое не исключает «некоторую роль» и в
НАТО, и в Варшавском договоре. «Идеальным решением», однако,
была бы «нейтральная объединенная Германия».
5. Кампания за присоединение ГДР к ФРГ.
«Свободные выборы» в ГДР (18 марта 1990 г.)
После визита канцлера ФРГ в Москву федеральное правительст-
во активно включилось в избирательную кампанию в ГДР. Для «бы-
строго реагирования» на изменение ситуации в ГДР кабинет выде-
лил на своем заседании 2 млрд. марок. Участники заседания не ви-
дели в этом ничего чрезвычайного. Очевидно, это было не первое и
не последнее выделение средств для достижения своих целей в ГДР.
Между тем, в самой ГДР политические движения, в частности
«Круглый стол», выступают еще в пользу «демилитаризованного
статуса» объединенной Германии и отклоняют намерение правящих
кругов ФРГ присоединить ГДР на основе статьи 23 Основного Зако-
на ФРГ.
Канцлер Г. Коль выступил 20 февраля в Эрфурте на предвыбор-
ном митинге, который собрал 150 тысяч человек. Он высказал
мысль, что «безумный режим» в ГДР обманывает людей относи-
тельно «плодов их труда», и обещал «создать здесь за короткое вре-
мя процветающую страну».
После триумфального предвыборного выступления в Хемнице,
где собралось до 200 тысяч человек, Г. Коль выразил недовольство
тем, что пресса не воздает ему почестей: «Мы делаем суперполити-
ку, однако не можем пробиться».
Вечером 6 марта Г. Коль выступил на митинге в Магдебурге, где
его слушали 130 тысяч граждан ГДР. В федеральной канцелярии с
удовлетворением отметили, что полмиллиона жителей Восточной
103
Германии охвачены предвыборной агитацией канцлера Западной
Германии.
В среду 7 марта 1990 г. сотрудники канцлера беспокоят по теле-
фону своего шефа, находящегося в этот день у себя дома в Люд-
вигсхафене, чтобы срочно информировать о необычной пресс-
конференции президента Франции Ф. Миттерана совместно с Яру-
зельским и Мазовецким. На пресс-конференции накануне (6 марта)
президент Франции изложил позицию Франции в связи с герман-
ским урегулированием. Он считал, что необходимо ясное и оконча-
тельное решение вопроса о границе по линии Одер-Нисса еще до
объединения Германии, участие Польши в переговорах «два плюс
четыре», причем четыре державы должны дать что-то вроде гаран-
тий международно-правового урегулирования западной границы
Польши; парафирование договора о западной границе Польши до
объединения Германии, причем договора по уровню и ценности
равного мирному договору между Германией и Польшей, заключен-
ного при участии четырех держав; общегерманский парламент дол-
жен будет ратифицировать этот договор.
Шеф внешнеполитического отдела ведомства федерального
канцлера Хорст Тельчик отметил, что Франция заявляет о поддерж-
ке Польши всякий раз, когда возникают проблемы с Германией, что
Буш и Тэтчер удовлетворены резолюцией бундестага, даже Москва
в принципе не выражает недовольства, а Миттеран выступает как
защитник интересов Польши. Г. Коль огорчен и разочарован таким
поведением Ф. Миттерана: видимо, дружба тоже имеет границы.
Лишь через неделю после пресс-конференции Ф. Миттеран по теле-
фону откровенно обсудил с Г. Колем свою позицию в отношении
Польши. «Гельмут Коль черпает силы в этот момент собственно
лишь на предвыборных митингах в ГДР, которые посещают сенса-
ционно хорошо - вчера вечером (9 марта 1990 г.) в Ростоке вновь
120 тысяч участников», - отметили в ведомстве канцлера. Через два
дня на митинге в Котбусе (ГДР) - 120 тысяч участников митинга с
участием канцлера ФРГ. Общее число прямых поклонников Г. Коля
приблизилось к миллиону. Шестое (и последнее) выступление канц-
лера ФРГ на предвыборном собрании в Лейпциге (ГДР) стало сенса-
цией за три дня до выборов: 320 тысяч пришли на митинг, чтобы не
только послушать, но и приветствовать канцлера-объединителя.
В дипломатическом плане самой сложной проблемой оставалась
проблема упразднения прав четырех держав в отношении Германии:
федеральное правительство не желало мирного договора, но хотело
одностороннего заявления четырех держав об отказе от этих прав.
104
Оставление советских войск, да и западных, на территории Герма-
нии требовало новых соглашений.
Выборы в Народную палату ГДР 18 марта 1990 г. - первые и по-
следние «свободные выборы» - дали неожиданный как для их уча-
стников, так и для наблюдателей итог. Ожидали, что большинство
получит социал-демократическая партия, во всяком случае левые
силы, движение которых «Новый форум», «Круглый стол» сделало
возможными изменения в политических настроениях и в самом ре-
жиме. Однако победителем на выборах оказался так называемый
«Альянс за Германию», сложившийся за несколько недель до выбо-
ров из правых партий: ХДС (Христианско-демократического союза),
так называемого Демократического порыва и Христианско-
социального союза, получивших прямую финансовую и активную
политическую поддержку от соответствующих партий ФРГ. Осо-
бенно мощной была поддержка от правящей партии ХДС во главе с
канцлером Г. Колем, который лично принял участие в ряде массо-
вых митингов в городах ГДР и дал жителям ГДР весьма щедрые
обещания на случай достижения немецкого единства. Он не обещал,
что жители ГДР станут уже на другой день после введения единой
денежной единицы жить одинаково хорошо, однако заверил, что
никто в ГДР не будет жить хуже, чем прежде. Обещания ввести не-
мецкую марку в ГДР оказалось достаточным, чтобы выбор был сде-
лан в пользу присоединения к ФРГ. Западногерманская газета «Рай-
нишер Меркур/Крист унд Вельт» 23 марта 1990 г. не без оснований
заявила, что подлинным победителем на выборах в ГДР следует
признать канцлера ФРГ Г. Коля: «Вотум избирателей ГДР отдал от-
ветственность за все в руки канцлера Федеративной Республики.
Гельмут Коль хотел этого». Газета сделала логический вывод из
итогов выборов: «Будущему правительству ГДР остается, как ни
жестоко это звучит, в лучшем случае, исполнительная функция. Ре-
шения принимаются в Бонне».
Выборы прошли при довольно высокой активности граждан
ГДР: в них приняли участие 11,5 млн. человек (93,22% от имеющих
право голоса). Официальные подсчеты бюллетеней показали, что
консервативный «Альянс за Германию» получил более 48% голосов,
СДПГ - 21,84%, ПДС - 16,33%, «Союз свободных демократов» -
5,3%, Гражданское движение «Союз-90», «Новый форум», «Демо-
кратия - сейчас» - 2,9%, «Союз партия «зеленых», «Независимые
женщины» - около 2% 1.
1 Известия. - 1990. - 20 марта.
105
В итоге выборов места в Народной палате ГДР (400 мандатов)
распределены были следующим образом: «Альянс за Германию»
получил 193 места, СДПГ - 87, «Союз свободных демократов» (блок
либеральных сил) - 21 место. Партия демократического социализма,
организованная из бывших членов СЕПГ, получила 65 мандатов,
остальные партии - 34 места, в том числе «Союз-90» - 12 мест, «зе-
леные» - 8.
Поскольку «Альянс за Германию» получил менее половины мест
в парламенте, ему пришлось пойти на коалицию не только с либера-
лами, но и с социал-демократами, чтобы иметь квалифицированное
большинство, необходимое для изменения конституции. Новое коа-
лиционное правительство возглавил лидер ХДС Лотар де Мезьер
(1940 г.р.). Из 24 министерских портфелей ХДС получил 11, социал-
демократы - 7, либералы - 3, «Немецкий социальный союз» - 2, Де-
мократический прорыв - 1. Министром внутренних дел и заместите-
лем премьера стал представитель НСС П. М. Дистель, а министром
разоружения и обороны представитель партии «Демократический
прорыв» (имеющей 4 места) Райнер Эппельман.
Тотчас после образования коалиционного правительства в ГДР
правительство ФРГ вступило с ним в переговоры о заключении го-
сударственного договора, который был выработан за весьма корот-
кий срок. 18 мая 1990 г. министры финансов двух германских госу-
дарств (Т. Вайгель и В. Ромберг) подписали в Бонне Договор об
экономическом, валютном и социальном союзе1, который вступил в
силу 1 июля 1990 г., т.е. в ГДР введена денежная система ФРГ. По
существу, ГДР с этого момента утратила свой суверенитет, согла-
сившись принять ряд законов ФРГ для регламентирования всей эко-
номической деятельности на территории ГДР. Первые результаты
обмена марок ГДР на марки ФРГ были восприняты населением ГДР
как благоприятные. Однако более отдаленные последствия для зна-
чительной части населения ГДР оказались не столь однозначно по-
ложительными. В результате хлынувшего потока товаров и продо-
вольствия из ФРГ в ГДР, а также административных мер уже в пер-
вые два месяца был закрыт ряд предприятий в ГДР, сотни тысяч че-
ловек потеряли работу, нанесен ощутимый удар не только по про-
мышленности, но и по сельскому хозяйству в ГДР.
Разделение германского вопроса на две части - внешнеполити-
ческую и внутригерманскую - оказалось выгодным для дипломатии
1 Bulletin. Presse-und Informatonsamt der Bundesregierung. Nr.63/S. 517,
Bonn, den 18 Mai 1990.
106
ФРГ и для ущербной концепции Горбачева. Отказав в поддержке
правительству союзного государства в критический для него мо-
мент, еще до волеизъявления граждан ГДР, М. Горбачев отдал в ру-
ки Г. Коля (канцлера государства-правопреемника бывшей враже-
ской страны) «бразды правления» внутригерманскими отношения-
ми. Используя цинично свою финансовую и экономическую силу,
правительство ФРГ навязало свои условия объединения другому
германскому государству. Сразу после выборов в ГДР Г. Коль стал
обращаться с премьером ГДР Л. де Мезьером совсем не по-братски.
Ни о какой финансовой поддержке населению ГДР до завершения
процесса присоединения к ФРГ не было и речи. Лотар де Мезьер
еще в апреле говорил своим согражданам: «Самое важное для нас -
это с достоинством провести процесс объединения». Оппозиция
внутри ГДР, сокрушившая режим СЕПГ, еще возлагала надежды на
великодушие Г. Коля, Многие из них исходили из того, что они
вступят в единое германское государство как полноправные члены
семьи, примут новую конституцию и, возможно, сделают карьеру,
хотя бы на земельном поприще.
В правительственных кругах ФРГ к этому времени уже отброси-
ли идею договорного сообщества, а из планов объединения исклю-
чили даже понятие «байтритт», т.е. вступление ГДР в федерацию, и
сделали ставку на «аншлюс», т.е. присоединение ГДР к ФРГ в соот-
ветствии со статьей 23 Основного закона ФРГ. И это несмотря на то,
что четко представляли себе негативный оттенок этого понятия со
времен Версальской конференции и присоединения Австрии к рейху
в 1938 году. В апреле 1990 г. М. Горбачев еще высказывается против
присоединении ГДР к ФРГ на основе конституции ФРГ. Однако
вскоре отказывается от разумной позиции с легкостью необыкно-
венной.
В обстановке неуверенности в будущем и социальной неста-
бильности правительство ГДР продолжило переговоры с правитель-
ством ФРГ и согласилось на присоединение к ФРГ на основе статьи
23 Основного Закона ФРГ. В договоре о подготовке и проведении
общегерманских выборов в германский бундестаг, подписанном
между ФРГ и ГДР 2 августа 1990 г. в Берлине, было объявлено о же-
лании установить государственное единство в соответствии со
статьей 23 Основного Закона ФРГ. Договор предусматривал распро-
странение избирательного закона на земли, образуемые на террито-
рии ГДР: Мекленбург - Передняя Померания, Бранденбург, Саксо-
ния - Ангальт, Саксония и Тюрингия. Приложение к договору опре-
делило избирательные округа на этой территории за номерами с 257
107
по 328. Статья 23 Основного Закона ФРГ в редакции того времени
определяла его сферу действия: называла земли, входившие в состав
ФРГ. «В других частях Германии, - говорилось в тексте, - вступает
в силу после их вступления». Вот и все основание для объединения
двух суверенных государств, точнее, для присоединения одного к
другому. Что означали слова «в других частях» не определено.
Тогда же были определены две даты: день объединения двух
германских государств, точнее, день присоединения ГДР к ФРГ - 3
октября 1990 года и день общегерманских выборов - 2 декабря
1990 г.
Одним из важных вопросов германского урегулирования был
вопрос о собственности на территории ГДР. В этой связи Советское
правительство опубликовало 28 марта 1990 г. заявление, в котором
подчеркнуло необходимость соблюдать законность и защитить со-
циально-экономические права и интересы миллионов граждан ГДР:
«Это предполагает, что оба германских государства в процессе их
сближения и объединения будут исходить из законности мер в об-
ласти экономики, осуществленных в 1945- 1949 годах советской
военной администрацией в Германии». Осуществленные в эти годы
меры в рамках программы демилитаризации и денацификации, а
также декартелизации промышленности существенно изменили от-
ношения собственности как в промышленности, так и в сельском
хозяйстве. В результате экспроприации имущества военных пре-
ступников и нацистов в собственность народу передано 9281 пред-
приятие.1 Жизненно важное значение для земледельцев имела зе-
мельная реформа, которая перераспределила 2852000 гектаров зем-
ли, конфискованной у военных преступников, в частности, у прус-
ских юнкеров.
В середине 1990 года, особенно в связи с введением марки ФРГ в
землях ГДР, стало ясно, что ГДР перестала существовать как само-
стоятельное государство. Оказывается, это было ясно еще раньше
Эдуарду Шеварднадзе, но не было столь ясно для председателя Со-
вета министров СССР Н. Рыжкова. Еще в Оттаве в феврале того же
года Э. Шеварднадзе, очевидно, с согласия М. Горбачева, исходил из
того, что ГДР уже не участвует в игре. «Для Советского Союза, -
делает вывод немецкий автор А. фон Плато, - ГДР практически
больше не существовала, хотя министр иностранных дел ГДР и уча-
ствовал в принятии решений в Оттаве»2. Политическая философия
1 Известия. - 1990. - 28 марта.
2 А. фон Плато. Цит. соч. - С. 254.
108
Э. Шеварднадзе, несомненно, достойна премии великого немецкого
философа: небольшая кавказская нация имеет право иметь свое го-
сударство, да еще претендовать на управление иными нациями, а
сложившаяся культурная нация лишается права иметь два жизне-
способных государства по сговору других.
Правительство ГДР в лице министра иностранных дел Маркуса
Меккеля еще попыталось использовать структуру Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, чтобы достойно вступить
в федерацию. Однако М. Горбачев и Э. Шеварднадзе не пожелали
использовать этот путь, хотя он давал и Советскому Союзу допол-
нительный ресурс. Они безропотно выполняли все пожелания Буша
и Коля, которые диктовали не только общее направление движения,
но и темпы движения к единству Германии и к развалу Советского
Союза.
Народная палата нового созыва приняла 22 июля решение об ад-
министративном делении государства на пять земель, которые и
должны были вступить в федерацию. В августе была окончательно
оформлена ликвидация ГДР. Премьер ГДР Лотар де Мезьер вынуж-
ден был «пойти в Каноссу»: 2 августа он явился к Г. Колю как к папе
в местечке Вольфгангзее. После этого визита процесс движения к
единству был ускорен. В конце месяца 31 августа был подписан до-
говор об «установлении единства» ФРГ и ГДР. Согласованы сроки
формального акта объединения и даже дата первых общегерманских
выборов в бундестаг.
Какие последствия ожидались для экономической жизни на тер-
ритории бывшей ГДР? Прежде всего, предполагалось закрытие ряда
предприятий как неконкурентоспособных и нерентабельных; многие
предприятия должны были сократить число занятых процентов на
25-30. Количество оставшихся без работы граждан могло достигнуть
3 млн. из примерно 9 млн. самодеятельного населения. Такие отрас-
ли, как металлургия и автостроение, не могли якобы конкурировать
с соответствующими отраслями в странах ЕЭС, поскольку металл
обходился в 3 раза дороже, чем в ФРГ, а автомашины типа «Тра-
бант» не отвечали современным нормам. Однако было бы непра-
вильно представлять ситуацию таким образом, что экономика ГДР
находилась в полном упадке. Целый ряд крупных предприятий ма-
шиностроения, особенно производство полиграфических машин,
приборостроение, вполне отвечали мировому уровню. Например,
мировое признание имели станкостроительные и инструментальные
заводы объединения «Фриц Геккерт» в Хемнице и «7 октября», при-
боростроительные предприятия «Карл Цейс-Йена», предприятия по
109
изготовлению полиграфических машин «Планета», «Циркон»,
«Бремер», «Перфекта», «Пламаг».
Присоединение ГДР к ФРГ означало увеличение численности
населения на 25%, а валового национального продукта на 10%. Раз-
личия в уровне экономического развития двух германских госу-
дарств, казалось, могут быть преодолены в краткие сроки, скажем,
за три-четыре года, поскольку ГДР имела значительные основные
фонды и высококвалифицированных специалистов, особенно в об-
ласти машиностроения, приборостроения, химии.
Начало процесса объединения, естественно, вызвало в общест-
венном мнении вопросы: во что обойдется для ФРГ присоединение
ГДР? Каковы будут экономические последствия поглощения ГДР?
Есть основания полагать, что банки и крупные фирмы ФРГ давно
провели инвентаризацию предприятий в ГДР и точно подсчитали,
что в итоге они получат «щедрый подарок». Общая стоимость на-
ционального достояния ГДР оценивалась в 1990 году суммой в 1,4
триллиона марок, включая государственную собственность на 980
млрд. марок1.
Крокодиловы слезы банкиров ФРГ по поводу жертв, которые
они приносят на алтарь национального единства, - это, конечно, ис-
кусно поставленная сцена. На самом деле поглощение ГДР - это вы-
годное для германского капитала дело. Иначе монополии и банки не
брались бы за это, тем более, если бы экономика ГДР действительно
была в катастрофическом состоянии.
Фактически происходит экспансия на естественный хинтерланд
динамичного и, несомненно, эффективного германского капитала,
которому тесно в границах собственно ФРГ и который уже завоевал
в конкурентной борьбе довольно широкий плацдарм на мировом
рынке. Собственно, германский капитал восстанавливает свою
мощь, получая вновь свое жизненное пространство, хотя и не в
«границах 1937 года».
Еще до подписания договора об экономическом, валютном и со-
циальном союзе в ФРГ взвесили финансовые потребности. Феде-
ральные власти совместно с земельными создали фонд финансиро-
вания германского объединения, который должен был предоставить
до 1994 года в общей сложности 115 млрд. марок. Министр финансов
ФРГ Т. Вайгель пояснил, что федеральное правительство выделит
фонду 20 млрд. марок за счет экономии, а 95 млрд. марок должны
быть мобилизованы за счет кредитов (под 10% годовых), которые
1 Известия. - 1990. - 15 февраля.
110
будут погашены в течение 20-30 лет. Основным источником полу-
чения средств для погашения кредитов землями стал все-таки «налог
с оборота», или, как его называют в ФРГ, «налог с прибавочной
стоимости» (Mehrwertsteuer). Дефицит своего бюджета земли быв-
шей ГДР должны были восполнять на одну треть за счет получения
кредитов сами. Этот дефицит оценивался в 1990 г. суммой 33 млрд.
марок, а в 1991 г. - 53 млрд. марок. Фонд «Германское единство»
предоставлял для ГДР в 1990 году 22 млрд. марок; в 1991 г. земли,
создаваемые на территории ГДР, получали 35 млрд. марок, в 1992 г.
- 28 млрд. марок, в 1993 г. - 20 млрд. марок, наконец, в 1994 г. - 10
млрд. марок.
Самый компетентный финансист президент Немецкого феде-
рального банка ФРГ К.-О. Пёль отмечал в июне 1990 г., что реали-
стическая оценка процесса объединения обязывает признать, что это
будет «дорого стоить». «Созданный федеральным правительством
фонд «Германское единство» с капиталом 115 млрд. германских ма-
рок порождает порой ложные надежды на решение всех проблем.
Финансовое бремя затронет всех, если не искать пути экономии
средств. Один из них - сокращение военного бюджета»1.
Позитивные изменения в международных отношениях дали воз-
можность сократить, по крайней мере, на 2% расходы ФРГ на воен-
ные цели: с 53 млрд. 687,5 млн. марок в 1990 г. до 52 млрд. 600,0
млн. в 1991 г.
Одной из острых социальных проблем в ФРГ стала хроническая
безработица, хотя общая численность безработных и доля от общего
количества самодеятельного населения заметно сократилась с сере-
дины 80-х годов, когда число безработных в ФРГ достигло
2. 304. 000 человек и составляло 9,3% от общего числа работоспо-
собных людей.
Объединенная Германия стала самым крупным по экономиче-
скому потенциалу государством в Западной Европе, значительно
превзойдя Англию и Францию по численности населения (78 млн.
человек, тогда как Англия и Франция соответственно 57 и 56 млн.);
по валовому национальному продукту: Германия - 1077 млрд. долл.,
Англия - 755 млрд. долл., Франция - 762 млрд. долл. По валовому
национальному продукту Германия прочно заняла место после Япо-
нии, СССР и США (1758 млрд. долл. - Япония, 2535 млрд. долл. -
СССР, 4864 млрд. долл. - США). Германия закрепила за собой веду-
щее место как самый крупный экспортер промышленных товаров в
1 Известия. - 1990. - 16 июня.
111
Европе: общий объем экспорта в 1989 г. - 354 млрд. долл., тогда как
Франция - 168 млрд. долл., Англия - 145 млрд. долл.
Правда, ФРГ пришлось инвестировать в землях ГДР капиталы на
модернизацию предприятий; значительная часть экспорта капиталов
и товаров стала составной частью «внутригерманской» торговли.
Объединенная Германия взяла на себя погашение внешнего долга
ГДР, который в значительной части приходился на ФРГ. На конец
1989 года внешний долг ГДР исчислялся суммой 20 млрд. 600 млн.
марок, или, по оценкам, примерно 12 млрд. долларов.
В парламентах ФРГ и ГДР 21 июня 1990 г. состоялось довольно
бурное обсуждение договора о валютном, экономическом и соци-
альном союзе и одобрение его большинством депутатов. Федераль-
ный канцлер Г. Коль заявил в бундестаге, что государственный до-
говор заключен в интересах всех немцев, в целях германского един-
ства, что никому «не будет хуже» в новом государстве, напротив,
многим станет лучше. Он подчеркнул, что в объединенной Герма-
нии будет соблюдаться завет 1945 года: «Никогда больше война,
никогда больше диктатура».
Внешнеполитические аспекты объединения Германии содержат
ряд проблем: признание суверенитета единого государства в полном
объеме; отмену прав и ответственности четырех держав за Берлин и
Германию как целого; урегулирование отношений со всеми (много-
численными) соседями Германии, особенно с теми, которые постра-
дали от нацистской агрессии, в частности с Советским Союзом и
Польшей.
Бундестаг ФРГ и Народная палата ГДР приняли 21 июня 1990 г.
идентичные резолюции относительно окончательного характера
границы между объединенной Германией и Польшей и закрепления
ее в международно-правовом договоре. При этом были перечислены
соглашения и договоры, которые уже определили и закрепили за-
падную государственную границу Польши: Згожелецкое соглашение
ГДР и Польши от 6 июля 1950 г., акт о маркировке границы от 27
января 1951 г., договор Польши и ФРГ об основах нормализации
отношений от 7 декабря 1970 г., наконец, соглашение между ГДР и
Польшей от 22 мая 1989 г. о разграничении морского пространства в
бухте реки Одер.
Резолюция содержит формулу будущего договора: «Обе стороны
подтверждают нерушимость существующей между ними границы
теперь и в будущем и взаимно обязуются без ограничений уважать
их суверенитет и территориальную целостность. Обе стороны заяв-
112
ляют, что они не имеют никаких территориальных претензий друг к
другу и не будут выдвигать таковых и в будущем»1.
В ходе обсуждения резолюции в бундестаге ФРГ не обошлось
без сетований со стороны лидеров «Союза изгнанных» на «тоталь-
ное разбазаривание» «германских восточных областей», повторение
требований «права на родину» (Херберт Чая - председатель «Союза
изгнанных»). Имели место высказывания о возможности свободного
возвращения немцев в западные районы Польши, где они жили до
1945 г. (председатель ХСС, министр финансов ФРГ Т. Вайгель), соз-
дания в западных областях Польши «свободной суверенной терри-
тории» и т. д.
Для финансирования объединительного процесса в ФРГ, как от-
мечено выше, был создан фонд «Германское единство», который
сосредоточил средства для кредитования так называемых дополни-
тельных потребностей (Mehrbedarf) в ГДР. Этот фонд в 115 млрд.
марок рассчитывал воспринять в течение четырех с половиной лет
до 95 млрд. марок в качестве кредитов. Федерация выделяла в этот
же срок 20 млрд. марок. Предполагалось, что при 8% годовых пол-
ное погашение задолженности возможно к 2015 году. Представляя
проект бюджета на 1991 г. бундестагу, правительство ФРГ уверенно
заявило: «Федеративная Республика Германия хорошо подготовлена
к объединению Германии с точки зрения финансовой и экономиче-
ской политики».
Одним из факторов обеспечения деловой активности и экономи-
ческого роста в ФРГ с 1982 года эксперты считали политику сниже-
ния налогов. Власти ФРГ не предполагали отказа от этого курса и в
условиях объединения германских государств. «В повышении нало-
гов для финансирования германского объединения нет необходимо-
сти», - говорилось в правительственном документе. Источники фи-
нансирования должны быть обеспечены за счет дальнейшего роста
валового социального продукта: в 1990 г. ожидался прирост при-
мерно в 4%, а среднегодовой прирост до 1994 г. предполагался в 3%,
причем власти ФРГ исходили из того, что собственно в ФРГ уровень
безработицы будет снижаться.
В процессе формирования единого германского государства пра-
вительство ФРГ в лице федерального канцлера Г. Коля дало Совет-
скому Союзу заверения, что немцы помнят о миллионах жертв и
опустошениях, нанесенных народам СССР в результате нападения
Германии на Советский Союз и ужаснейшей войны; что немцы из-
1 Bulletin N 79/S. 677, Bonn, den 22 Juni 1990, S. 684.
113
влекли уроки из истории и прониклись «историческим сознанием
ответственности», что отныне они исполнены решимости открыть
новую эпоху в двусторонних отношениях с Советским Союзом и
повторяют вновь: «С германской земли должен исходить только
мир».
Канцлер Г. Коль упорно отстаивал тезис, что членство объеди-
ненной Германии в НАТО будет отвечать интересам Советского
Союза, повышая стабильность и безопасность в Европе. В качестве
предпосылок доверия и безопасности в будущем Г. Коль признал
преобразование военных союзов в организации сугубо политическо-
го характера; достижение соглашения по контролю и сокращению
вооружений в Европе и соглашения в рамках общеевропейского
процесса; экономическую кооперацию единой Германии с восточ-
ными и юго-восточными соседями, особенно в хозяйстве, науке и
технике.
Что касается Советского Союза, то правительство ФРГ выразило
готовность поставить политические отношения объединенной Гер-
мании с ним на солидную договорную основу. Правительство ФРГ
объявило 22 июня 1990 г. о предоставлении банковского кредита
Советскому Союзу в размере 5 млрд. марок сроком на 15 лет. Бан-
ковский консорциум во главе с «Дойче Банк» и «Дрезднер Банк»
взяли на себя реализацию кредита, а федеральное правительство -
определенные гарантии. Имея в багаже такого рода позитивную
программу, канцлер Г. Коль в середине июля 1990 г. (через две не-
дели после введения немецкой марки на территории ГДР) направил-
ся в Советский Союз на встречу с президентом М. С. Горбачевым.
В итоге переговоров между президентом СССР М. С. Горбаче-
вым и канцлером ФРГ Г. Колем в июле 1990 г. достигнуты догово-
ренности относительно регулирования отношений двух стран в свя-
зи с достижением германского единства1. Ключевым моментом уре-
гулирования стала выработка и заключение всеобъемлющего дого-
вора СССР с Германией, а также выработка условий вывода совет-
ских войск с немецкой территории в течение 3-4-летнего переходно-
го периода. Согласие Советского Союза на признание суверенитета
германского государства в полном объеме было истолковано как
примирение с намерением объединенного германского государства
оставаться в НАТО. Однако важным условием этого было обяза-
тельство не размещать на территории бывшей ГДР войска под фла-
1 Вестник МИД СССР, №15 (73), 15 августа 1990 г. - С. 5-14.
114
гом НАТО, т.е. по существу территория ГДР стала бы пределом рас-
пространения западного военного блока в восточном направлении.
Присоединение ГДР к ФРГ было подготовлено мерами финансо-
вого и экономического свойства. Достигнув рекордного уровня
15,5 млрд. марок в 1985 году, товарооборот ГДР с ФРГ стал заметно
снижаться во второй половине десятилетия, причем в 1986 году он
резко упал на 8% в сравнении с предыдущим годом.1 Если в общем
гигантском объеме внешнеэкономических связей ФРГ доля ГДР не
имела существенного значения, то для ГДР ФРГ была крупнейшим
экономическим партнером. В условиях резкого уменьшения эконо-
мического значения СССР и ослабления экономических уз с ним,
зависимость экономики ГДР от поставок из ФРГ приобрела особое
измерение. К концу 1989 года внешняя задолженность ГДР, причем
главным образом перед западногерманскими банками, достигла
внушительной суммы в 50 млрд. марок. Совершенно очевидно, что
ухудшение экономического положения государства и, следователь-
но, материального положения населения, особенно молодежи, усу-
губляло недовольство жесткой политикой СЕПГ и стимулировало
тягу на Запад.
1 Максимычев И. Крушение. Реквием по ГДР. - М, 1993. - С. 21.
Глава HI
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЯ
1. Курс правительства ФРГ на аншлюс ГДР
и позиция советских руководителей
После выборов в парламент на территории ГДР (18 марта
1990 г.), когда выявилось преобладание сторонников ХДС и присое-
динения к ФРГ, на пути к объединению оставались «внешние фак-
торы», среди которых главным было согласие советского руково-
дства на поглощение ГДР, где продолжала оставаться 400-тысячная
Советская армия, и на включение объединенной Германии в НАТО.
Исследователь Александр фон Плато в итоге тщательного анали-
за процесса объединения Германии пришел к обоснованным выво-
дам о состоянии дела в феврале 1990 года, т.е. до проведенных в
марте того года выборов в ГДР. На этих выборах граждане ГДР мог-
ли выразить свою волю, однако подверглись массированному воз-
действию не только со стороны властей другого германского госу-
дарства, но и непосредственно со стороны политических партий За-
падной Германии. Именно к февралю 1990 г. свершился поворот в
политике М. Горбачева в германском вопросе: «Встреча Горбачева с
Модровом, Бейкером и, наконец, с Колем привели к успеху объеди-
нительной политики канцлера и всех тех, особенно в Германии, кто
стремился к объединению. Успехом увенчалась также и американ-
ская политика НАТО. Если же рассматривать ситуацию с советской
точки зрения, то тут возникает вопрос, почему Горбачев почти ниче-
го не сделал для защиты советских интересов: он не поставил вопрос
об одновременном выводе американских и советских войск из Цен-
тральной Европы, о том, чтобы новая Германия стала нейтральной
(обсуждение этой проблемы он перенес), об общеевропейской сис-
теме безопасности как части переговоров по объединению или хотя
бы не попытался использовать СДПГ против Коля, как он это пред-
варительно намечал на встрече советников»1. У германского иссле-
дователя возник ряд вопросов к М. Горбачеву, ответы которого,
1 Александр фон Плато. Объединение Германии - борьба за Европу. -
М. 2007. -С. 252.
116
возможно, были приемлемы для него, однако едва ли могут быть
удовлетворительны для сограждан генсека. Тем более, что сограж-
дане не имели голоса при решении судьбоносных для них проблем.
Судя по всему, и германский гражданин усматривает в деяниях ген-
сека не только двойственность, но и двуличие.
М. Горбачев и Э. Шеварднадзе в период с февраля по июль
1990 г. как бы играли на расстроенном рояле в четыре руки. В бесе-
дах с Г. Колем и Дж. Бушем М. Горбачев брал двойственные обяза-
тельства, а Э. Шеварднадзе играл в дипломатию не столько с ино-
странными партнерами, сколько с общественным мнением в стране,
которую они оба представляли и интересы которой должны были
защищать. В самом деле, М. Горбачев в феврале дает «зеленый свет»
германскому единству, свободу рук Г. Колю в определении не толь-
ко пути, но и темпов движения. В то же время Шеварднадзе (явно
под влиянием ведомственной, а по сути государственной концеп-
ции) еще пытается объяснить западным дипломатам, что присоеди-
нение ГДР к ФРГ на основе параграфа 23 Основного Закона ФРГ
исключительно «опасный путь», т.к. означает ликвидацию суверен-
ного государства - ГДР. С одной стороны, Э. Шеварднадзе оценива-
ет требование полного членства Германии в НАТО как «бестакт-
ность», очевидно, в отношении Советского Союза, а с другой, одно-
временно он в специальном письме участникам переговоров «два
плюс четыре» умоляет не делать необдуманных выводов из пред-
стоящих еще выборов в ГДР. М. Горбачев и Э. Шеварднадзе совер-
шенно предали забвению не только интересы, но и еще остающиеся
в силе права и ответственность державы-победительницы, которая
еще не вывела свою 400-тысячную армию из Германии. Вместо то-
го, чтобы удерживать инициативу в своих руках и действительно
«поэтапно», на основе взаимных уступок, осуществлять мирное уре-
гулирование, представители великой державы действуют под дик-
товку того, кто заказывает музыку у заокеанского покровителя: сна-
чала отказываются от мирного договора с «бывшей вражеской стра-
ной», а затем принимают условия безоговорочной капитуляции для
победителя, чтобы потом задним числом выпрашивать подачки на
бытовое устройство офицеров армии-победительницы. Именно по-
зиция советских руководителей М. Горбачева и Э. Шеварднадзе име-
ла решающее значение для выбора пути и темпов продвижения к
германскому единству.
Встречи М. Горбачева и Г. Коля в Москве 10 февраля, затем в
Москве и на Северном Кавказе 14-16 июля, наконец 9-10 ноября
1990 г. в ФРГ - это важные вехи на пути оформления внешних ас-
117
пектов статуса Германии, которыми отмечены, однако, успехи...
германской дипломатии. Если к этому добавить 14 встреч
Г.-Д. Геншера с Э. Шеварднадзе в течение 1990 г., то будет понятна
интенсивность диалога представителей этих двух государств (при
значительно меньшем, если не сказать нулевом, внимании СССР к
своему недавнему верному союзнику ГДР в ходе того же самого
процесса «объединения» двух германских государств). Совершенно
очевидна также эффективность действий германской дипломатии -
дипломатии ФРГ и полной беспомощности и несостоятельности ди-
пломатии «2-х У» (улыбок и уступок), которая характерна для
М. Горбачева и Э. Шеварднадзе.
Главным внешнеполитическим препятствием на пути к герман-
скому единству весной 1990 г. стал вопрос: останется ли Германия
членом НАТО? Исходя из преобладавших в СССР настроений, со-
ветские руководители с осени 1989 г. заявляли совершенно опреде-
ленно, что участие объединенной Германии в НАТО абсолютно не-
приемлемо для Советского Союза. Более того, среди советских ди-
пломатов в ходу была оброненная в то время М. Горбачевым фраза:
«Если мы потеряем ГДР, народ нам этого не простит». Это высказы-
вание М. Горбачева свидетельствует о том, что он прекрасно знал
настроение народа, который, разумеется, понимал, что включение
ГДР в ФРГ и заодно всей Германии в НАТО отнюдь не отвечает ин-
тересам страны.
Когда и как произошел отказ М. Горбачева и его приближенных
от позиции, учитывавшей жизненные интересы страны? Именно
весной 1990 г. М. Горбачев и его команда, не прислушиваясь к мне-
ниям военных и внешнеполитических специалистов, сдали позиции
державы-победительницы, отказавшись и от «потсдамской системы»
соглашений в отношении Германии, особенно от прав и ответствен-
ности в отношении Германии, и от заключения мирного договора, не
говоря уже об идее нейтрального статуса Германии. Последняя воз-
можность обеспечить надежно интересы безопасности и имущест-
венные права страны оставалась перед «окончательным урегулиро-
ванием» в согласии или несогласии с требованием включения объе-
диненной Германии в НАТО. Эта последняя возможность была без-
дарно упущена М. Горбачевым, Э. Шеварднадзе и компанией. Роль
М. Горбачева должна получить справедливую оценку: он лично
принимал решения «на ходу» или за чашкой кофе.
Через три дня после выборов в парламент на территории ГДР, в
итоге которых «партия Г. Коля» одержала верх, 22 марта 1990 г. фе-
деральный канцлер принял посла СССР в Бонне Ю. Квицинского и
118
просил тотчас и непосредственно информировать М. Горбачева о
положении в Германии. Канцлер воспользовался случаем, чтобы
сделать ряд заверений относительно будущего:
1. в итоге объединительного процесса отношения между Герма-
нией и Советским Союзом будут не хуже, но лучше, чем сегодня, он
не хотел бы умножать проблем М. Горбачева, все решится внутрен-
ними силами в ГДР;
2. будущий статус Германии, конечно, должен будет определять-
ся ограниченным по времени присутствием советских войск на тер-
ритории «нынешней ГДР»; германские войска не будут в течение
определенного времени размещаться там;
3. федеральное правительство готово взять на себя экономиче-
ские обязательства ГДР в отношении СССР.
Одновременно канцлер информировал как о внутреннем деле
Германии относительно земельных выборов в ГДР, намеченных на
декабрь 1990 года выборов в бундестаг и общегерманских выборов в
конце 1991 г. (отметим, что не на 1990 г., а на 1991 г. намечались
общегерманские выборы).
Советский посол Ю. Квицинский еще обсуждает с канцлером
проблему членства Германии в НАТО, поскольку оно неприемлемо
для СССР по внутриполитическим соображениям. Может быть сто-
ит взвесить возможность создания демилитаризованной зоны шири-
ной в 100- 150 км вдоль границы между ФРГ и ГДР? Канцлер реши-
тельно отклоняет подобного рода проекты. Ю. Квицинскому не ос-
тается ничего, кроме как напомнить, что экономические обяза-
тельств ГДР закреплены в 3 600 договорах и соглашениях с СССР,
что было бы неплохо, если бы федеральное правительство сделало
по этому поводу заявление. Однако канцлер возразил, что надо-де
сначала познакомиться с этими соглашениями1.
Тем временем своему единомышленнику в ГДР де Мезьеру
канцлер дает рекомендации быстро подготовиться к подписанию
договора об экономическом и валютном союзе, к принятию статьи
23 Основного Закона ФРГ как основы объединения, наконец, назна-
чить министром иностранных дел человека «нашего доверия»2.
В марте 1990 г. канцлер Г. Коль уже чувствовал себя на коне по-
бедителя: 23 марта он гневно отчитывал Г.-Д. Геншера за неосто-
рожное высказывание, допускающее возможность изменения роли
НАТО или даже упразднения военного блока. Министр иностран-
1 Teltschik H., op.cit., S. 180.
2 Op.cit., S. 182.
119
ных дел пытался объяснить сложности дипломатической ситуации:
Шеварднадзе все еще пытается доказать необходимость мирного
договора и увязки урегулирования с общеевропейским процессом.
Однако воля канцлера передается через Г.-Д. Геншера: надо взять
большой карандаш и пройти по Потсдамскому соглашению, пере-
черкнуть пункт за пунктом, чтобы Советский Союз понял, что Пот-
сдам преодолен окончательно.
В конце марта разговоры с Хорстом Тельчиком от имени
М. Горбачева ведет сотрудник аппарата ЦК КПСС Н. Португалов.
Он также демонстрирует «гибкость» позиции власть имущих в Моск-
ве, в частности, по вопросу применения статьи 23 Основного Закона
ФРГ в отношении ГДР, по вопросу о членстве ФРГ в НАТО и т.д.
Однако он все еще проигрывает пластинку относительно мирного
договора: он называет участников мирной конференции (10- 15 го-
сударств), подчеркивает их готовность торжественно отказаться от
претензий на репарации и подписать мирный договор в знак оконча-
тельного урегулирования. Однако, как отметил X. Тельчик, канцлер
Г. Коль принимает во внимание только гибкость позиции и готов-
ность к компромиссу М. Горбачева, напуганного политическим по-
ложением на территории ГДР. Между тем канцлер вплотную занял-
ся формированием правительства для ГДР, отдает распоряжения на
сей счет отделу кадров своего ведомства - ведомства федерального
канцлера ФРГ. Не только нюансы, но и главные проблемы диплома-
тической тактики его просто не интересуют. В самом деле, ведь он
договорился с М. Горбачевым в Москве.
Однако остается одна существенная международная проблема -
участие объединенной Германии в НАТО или нейтральный статус?
На встрече с М. Тэтчер в конце марта на Даунинг-стрит Г. Коль еще
раз заверяет «железную леди», что он отнюдь не намерен добиваться
единства нации любой ценой, особенно идти на путь нейтралитета
Германии (в отношениях между Западом и Востоком Европы).
Федеральный канцлер Г. Коль в интервью газете «Известия»
(6 апреля 1990 г.) решительно отклонил возможность подписания
Германией мирного договора и принятие статуса нейтрального го-
сударства: такое урегулирование не отвечало бы достигнутому
уровню отношений обоих германских государств с четырьмя держа-
вами. Германская дипломатия ожидала намеченного на конец мая
визита М. Горбачева в Вашингтон, где и должен был произойти
«прорыв». Запись о ключевой роли этого визита X. Тельчик сделал в
своем дневнике еще 6 апреля 1990 года.
120
Тем временем дипломаты Бонна отмечают, что Э. Шеварднадзе
по-прежнему отклоняет полное членство Германии в НАТО, выдви-
гая проект участия объединенной Германии одновременно в двух
военных союзах, и подчеркивая стремление политиков Москвы к
компромиссу. Госсекретарь Дж. Бейкер назвал такую постановку
вопроса проявлением шизофрении. Такая оценка состояния ума
партнера, не менее хлесткая, чем сравнение с Геббельсом, должна
была насторожить другую сторону. Однако на деле она стала стиму-
лом для дальнейших уступок. Если участие одного государства од-
новременно в двух противостоящих военных блоках, действительно
абсурдно, а нейтральный статус унизителен для Германии, то поче-
му неприемлемо предложение об одновременном выводе советских
и американских войск из Германии? На вопрос, почему М. Горбачев
отказался от одновременного вывода войск из Германии, высший
советский руководитель ответил без обиняков: «Когда она (Герма-
ния) быстро стала превращаться в единое государство, то наличие
иностранных войск на его территории относилось уже к суверените-
ту этого независимого государства»1. Немецкий исследователь ина-
че оценивает ситуацию: «Большинство немцев, включая ГДР, в это
время были уже за объединение, но не поддерживали присоединение
к блоку НАТО - по всей видимости - были также против присутст-
вия иностранных войск...Но Горбачев даже не попытался использо-
вать данное противоречие»2.
Спустя месяц после выборов в ГДР, в апреле 1990 г., посол
СССР в ГДР В. Кочемасов вручил премьер-министру де Мезьеру
меморандум, о чем премьер суверенного государства в тот же день
доложил в Бонн, оценив этот документ как «non paper»: советское
руководство подтверждало вновь, что объединение - дело самих
немцев. Важно, чтобы объединение Германии не уменьшило безо-
пасность какого-либо государства, чтобы не был игнорирован прин-
цип - «договоры должны соблюдаться». Проблемы, которые СССР
считал необходимым решить, сводились к следующему: Германия
не должна быть членом НАТО, временное или даже постоянное ис-
ключение территории ГДР из сферы ничего не меняет; выходом из
положения может быть создание общеевропейской системы безо-
пасности; Советский Союз не может согласиться с присоединением
ГДР к ФРГ на основе статьи 23 Основного Закона ФРГ; урегулиро-
1 А фон Плато. Цит. соч. - С. 253.
2 А фон Плато. Цит. соч. - С. 253.
121
вание с Германией, вырабатываемое в ходе переговоров «2+4»,
должно быть адекватно заключению мирного договора.
Одним словом, в документе изложена нормальная позиция вели-
кой державы в ходе переговоров по урегулированию сложной про-
блемы. Однако в течение последующих трех месяцев от этой пози-
ции остались только смутные воспоминания. Кто и когда развалил
основы достойного урегулирования? Ответ на этот вопрос может
дать рассмотрение конкретных фактов.
Хорст Тельчик в своем дневнике записал 19 апреля 1990 г., что
от венгерского министра иностранных дел Г. Хорна узнал об эпизо-
де на совещании министров иностранных дел государств Варшав-
ского Договора в Праге: Э. Шеварднадзе публично выступил против
членства объединенной Германии в НАТО, однако, когда министры
Венгрии, Чехословакии и Польши высказались против такой твер-
дой позиции, сердечно благодарил их за это, ссылаясь на нетерпимо
сильное давление на него консерваторов и военных в своей стране.
Как следует понимать такое поведение министра великой державы?
Что это - большая политика или участие в транснациональном заго-
воре против своей страны?
Поведение и Э. Шеварднадзе, и М. Горбачева в 1990 г. свиде-
тельствует или о полной неспособности понять интересы своей
страны в этот ответственный момент, или о сознательном участии в
разрушении Потсдамской системы договоров без какого-либо наме-
рения обеспечить долговременные интересы своей страны. Третьего
не дано. Налицо пренебрежение национальными интересами держа-
вы. По существу основы Советского Союза подточены еще в 1990г.,
а в конце 1991 г. лишь составлен Беловежский акт о ликвидации
державы-победительницы во второй мировой войне.
В конце апреля 1990 г. (точнее, 23 апреля во второй половине
дня) канцлер Г. Коль пригласил к себе посла СССР Ю. Квицинского,
чтобы выразить свое недоумение по поводу советского демарша в
связи с появившимися в прессе сообщениями относительно содер-
жания Договора ФРГ и ГДР о валютном, экономическом и социаль-
ном союзе. Канцлер ФРГ предложил еще до объединения подгото-
вить к подписанию двусторонний всеобъемлющий договор в духе
«великих исторических традиций», включая элементы Московского
договора 1970 г. и Совместного заявления 1989 г. Чтобы успокоить
партнера в Москве относительно экономических последствий при-
соединения ГДР к ФРГ, канцлер заверил, что обязательства ГДР пе-
ред СССР будут выполнены. Более того, он уверял, что по мере уг-
лубления интеграции Западной Европы перспективы экономическо-
122
го сотрудничества ФРГ с СССР будут все более широкими. В Бонне
считали, что своим предложением канцлер Г. Коль взял инициативу
в свои руки.1
После победы его сторонников на выборах в ГДР канцлер
Г. Коль взял курс на аншлюс ГДР к ФРГ, во всяком случае, занял
твердую позицию относительно условий объединения Германии: он
решительно отверг саму возможность мирной конференции с уча-
стием государств-членов антигитлеровской коалиции и выработки
мирного договора; он отклонил обсуждение вопроса о нейтральном
статусе объединенной Германии, настаивая на полном суверенитете
и равноправии с другими державами, что предполагало упразднение
прав и ответственности четырех держав в отношении Германии. В
ходе переговоров по формуле «2+4» и предстояло решить эту про-
блему.
Военно-политический статус Германии стал главным вопросом
на пути к окончательному урегулированию с Германией. Если бы
советская дипломатия сделала неучастие объединенной Германии в
НАТО или в военной организации этого блока непременным усло-
вием объединения двух германских государств, то не только запад-
ные державы, но и немцы должны были серьезно подумать и,
конечно, пойти на приемлемый для СССР компромисс. В книге,
вышедшей в ФРГ в 1993 г., бывший посол СССР в ФРГ
Ю. Квицинский подчеркнул: «Я и сегодня еще верю, что Германия
вышла бы из НАТО или, по крайней мере, из ее военной организа-
ции, если бы немецкий народ решительно поставили перед выбором:
национальное единство или НАТО»2.
Великобритания склонялась к этому, возможно, чтобы остаться в
НАТО главным партнером США. Франция сама не участвует в во-
енной организации НАТО, выравнивание своих позиций с ФРГ спо-
собствовало бы дальнейшему укреплению двусторонних отноше-
ний. Решающее слово было за Советским Союзом. Однако советские
руководители пошли по стопам США навстречу пожеланиям ФРГ.
На вопрос, почему он не был последовательным в вопросе о членст-
ве Германии в НАТО, М. Горбачев в духе «нового мышления» и
личной дипломатии заявил: «Представлять дело так, будто я мог
этому воспрепятствовать, значит недооценивать мой собственный
выбор, который опирался на мораль, демократические принципы и
1 Teltschik Н., op.cit. S.205-207; J.Kwizinsky, Vor dem Sturm.
Erinnerungen eines Diplomaten. Siedler-Verlag. Berlin, 1993, S. 19-20.
2 Kwizinskij J., op. cit. S.22.
123
учитывал перспективные интересы собственной страны, включая
добрые и взаимовыгодные отношения с немецкой нацией, с Герма-
нией». Что ни слово, то фальшь. Немецкий автор развенчивает на-
думанный аргумент и игру в словечки генсека: «Идея создания «об-
щеевропейского дома» с включением Советского Союза развали-
лась, Варшавский Договор распался, и ему не было замены, не было
европейской системы безопасности - в чем же тогда состояли совет-
ские интересы безопасности?»1
Ссылки М. Горбачева на интересы и волю немецкого народа аб-
солютно несостоятельны хотя бы потому, что поворот в его полити-
ке произошел до выборов в ГДР. Мнение действующего премьер-
министра ГДР X. Модрова было проигнорировано в критический
для ГДР момент. Мольба о помощи оставлена без внимания. После
встречи с Колем 10 февраля М. Горбачев вместо обстоятельной ин-
формации сообщил X. Модрову о высокомерии Г. Коля и пожелал
премьеру ГДР успеха в предстоящих переговорах с ним. X. Модров
написал об этом телефонном разговоре:
«Он (Горбачев) сказал мне, что важно выдержать последова-
тельный курс, пожелал мне успехов и положил трубку. Я был оше-
ломлен»2.
2. Встречи министров иностранных дел «шестерки»
(«два плюс четыре»)
Международные аспекты германского урегулирования стали
предметом обсуждения уже через два дня после получения в Москве
Г. Колем и Г.-Д. Геншером карт-бланш на форсирование процесса
объединения Германии, точнее, на присоединение ГДР к ФРГ. На
совещании министров иностранных дел стран Атлантического сою-
за и Варшавского Договора 13 февраля 1990 г. в Оттаве было согла-
совано коммюнике, в котором выражена готовность начать обсуж-
дение внешних аспектов установления германского единства, а так-
же вопросов безопасности соседних с Германией государств. В
дальнейшем переговоры должны были происходить на равноправ-
ной основе в рамках формулы «два плюс четыре», т.е. ФРГ и ГДР
плюс США, СССР, Англия и Франция. Отметим, что относительно
1 А фон Плато. Цит. соч. - С. 254.
2 Модров Ханс. Перестройка: как я ее вижу. - М. 1999. - С. 90-91.
124
соседних с Германией государств больше речи не было, видимо, по-
тому, что их «слишком много».
Именно желанием создать надежные «структуры европейской
безопасности» Э. Шеварднадзе пытается объяснить стратегию и так-
тику германского урегулирования: «Поэтому желали оформления
объединения Германии в процесс, достаточно протяженный во вре-
мени, необходимый, ко всему прочему, и для формирования в совет-
ском общественном мнении понимания объективного характера
предстоящего события. Поэтому столь долго не соглашались на
членство объединенной Германии в НАТО. Поэтому искали взаимо-
приемлемое решение, дававшее гарантии против ремилитаризации
Германии и возобновления политики «Дранг нах Остен». Где же эти
структуры европейской безопасности?
Подмена формулы «четыре плюс два» формулой «два плюс че-
тыре» во время конференции по режиму открытого неба в Оттаве
11-12 февраля произошло отнюдь не с общего согласия европейских
государств. Когда Г.-Д. Геншер стал настойчиво добиваться призна-
ния ведущей роли ФРГ в решении проблем европейской безопасно-
сти, министры иностранных дел Италии и Нидерландов наряду с
министром иностранных дел Франции Дюма попытались робко по-
дать свой голос. Разумеется, не меньше оснований для участия в
мирном урегулировании и создании системы безопасности было
у Польши и Чехословакии, однако ФРГ не склонна была отвлекать-
ся на частные случаи. Когда министр иностранных дел Италии
Джанни де Микелис весьма корректно заметил, что проблемы
европейской безопасности стоило бы рассмотреть вместе, в том чис-
ле и германское урегулирование, ему весьма резко возразил
Г.-Д. Геншер. Министр Италии: «Это касается будущего Европы.
Мы должны сидеть вместе с вами за этим столом». Министр ФРГ
обрывает итальянца: «Вы не участвуете в игре».
Министр иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе объясняет по-
спешность, с которой в Москве принимали ответственные решения,
тем, что «события в ГДР принимали такой характер, что надо было
срочно предпринимать какие-то меры». В воспоминаниях
Э. Шеварднадзе «скоростная дипломатия» в германских делах про-
слеживается, начиная с конференции по проблемам «открытого не-
ба», которая состоялась в Оттаве в середине февраля 1990 г.: «Мы
начинали долгий, как тогда казалось, путь. Начинали скоростным
формированием механизма «два плюс четыре» (с. 226). В качестве
исходного пункта оказалось достаточным заверения Г.-Д. Геншера,
что немцы стремятся не к «германской Европе», а к «европейской
125
Германии». О «европейской России» не было речи. Это заверение
Г.-Д. Геншера предназначалось не для России, а для западных дер-
жав, которые, конечно, не могли даже предположить, что Советский
Союз пойдет столь поспешно на свертывание европейских позиций.
Формула «два плюс четыре» родилась 13 февраля 1990 г. По об-
разному выражению Э. Шеварднадзе, повивальной бабкой «шестер-
ки» стала Оттава. Из его повествования можно понять, что при рож-
дении дитяти он присутствовал как заинтересованный участник та-
инства. Как была принята формула «2+4» вместо формулы «4+2» -
тема отдельного разговора при оценке дипломатического мастерства
Э. Шеварднадзе.
После интенсивных многосторонних дипломатических контак-
тов (примерно в течение трех месяцев) 5 мая 1990 г. в Бонне состоя-
лась первая встреча министров иностранных дел по формуле «два
плюс четыре». Согласованный порядок дальнейших переговоров
предусматривал урегулирование следующих вопросов: 1) вопрос о
границах; 2) военно-политические вопросы под углом зрения созда-
ния структур безопасности в Европе; 3) проблема Берлина (очевид-
но, вопрос о пребывании там иностранных войск); 4) окончательное
международно-правовое урегулирование и упразднение прав и от-
ветственности четырех держав. Общим фоном для германского уре-
гулирования считали общеевропейский процесс, о котором, впро-
чем, вскоре забыли.
На встрече в Бонне, естественно, председателем был Г.-Д. Ген-
шер. Он заявил, что налицо признание воли немцев к единству, что
вопросы границ будут решаться с участием Польши. Оценивая во-
прос о военно-политическом статусе Германии как камень преткно-
вения на пути к германскому единству, министр иностранных дел
СССР Э. Шеварднадзе призывал других участников шестерки с по-
ниманием отнестись к «внутренним трудностям» советского руко-
водства: «Если нас попытаются поставить в стесненное положение в
делах, затрагивающих нашу безопасность, то это приведет к ситуа-
ции, - говорю об этом откровенно, - когда степень нашей политиче-
ской гибкости будет круто ограничена, ибо возрастет кипение эмо-
ций внутри страны, на передний план выйдут призраки прошло-
го...»1.
Исходная позиция «скоростной дипломатии» и ее результаты
были ясны главному действующему лицу: «с самого начала нам бы-
ло ясно, что мы не станем противиться объединению Германии»,
1 Шеварднадзе Э. Мой выбор. - М., 1991. - С. 234.
126
однако... «стартовая наша позиция существенно отличалась от фи-
нишной», - констатирует Э. Шеварднадзе.
«Изначально мы задавались вопросом: какая Германия больше
отвечает нашим интересам - расчлененная, копящая горькие и по-
тенциально взрывоопасные обиды, опасный комплекс своей уни-
женности, столь не соответствующий ее духовно-интеллектуальному,
экономическому, культурно-творческому потенциалу, или объеди-
ненная, демократическая, по праву, добытому в реализации своей
миростроительной миссии, обретающая место в ряду других сувере-
нов собственной судьбы», - пишет Э. Шеварднадзе . Кто станет
спорить, что спустя полвека после окончания войны германский на-
род в свободном самоопределении должен был обрести свое единст-
во. Но у проблемы германского урегулирования был и другой ас-
пект: обеспечение интересов Советского Союза, в том числе сохра-
нение и развитие экономических связей с предприятиями ГДР и
имущественные права на территории Германии. «Скоростная ди-
пломатия» пренебрегла этими интересами.
Уже в 1991 г. Э. Шеварднадзе считал нужным объясниться с об-
щественностью по поводу «уступчивости»: «Что касается уступчи-
вости, то стоит сказать, что у нас было не так уж много реальных
вариантов. Строго говоря, два»2. Всего два. Первый: окончательное
урегулирование внешних аспектов немецкого единства, которое от-
вечало бы интересам нашей безопасности, делу стабильности в Ев-
ропе; второй вариант: «использовать наши полумиллионные войска
в ГДР для того, чтобы блокировать объединение».
Если окончательное урегулирование в отношении Германии по
германскому рецепту действительно полностью отвечало интересам
Советского Союза, то почему возник сам вопрос об «уступчивости»?
Если глава дипломатического ведомства видел только два варианта:
односторонние уступки или блокирование, - то естественно возни-
кает вопрос о его профессиональной подготовленности. На деле был
только один разумный вариант: основательные переговоры и дости-
жение соглашения на основе взаимного учета интересов и взаимных
уступок. Это элементарное правило дипломатии было просто проиг-
норировано «скоростниками».
По сути дела переговоров по формуле «два плюс четыре» не бы-
ло. Был обмен мнениями между министрами в связи с последова-
тельными уступками со стороны Советского Союза и пожеланиями
1 Шеварднадзе Э. Цит. соч. - С. 22.
2 Там же. - С. 228.
127
со стороны Германии. Встречи министров в Бонне, Берлине, Париже
фиксировали достигнутые немцами успехи. До встреч в Лондоне и
Вашингтоне, как было предусмотрено, дело не дошло: «переговор-
ный процесс» был закончен в Москве в сентябре 1990 г.
Еще накануне встречи министров иностранных дел канцлер
Г. Коль принимает в Бонне поочередно Дж. Бейкера и
Э. Шеварднадзе, приехавших на переговоры по формуле «2+4». В
центре внимания беседы был проект «общего договора» и возмож-
ная новая встреча М. Горбачева и Г. Коля «вне Москвы», скажем, в
июле. Г. Коль исходил в тот момент из того, что процесс объедине-
ния немцев завершится до 31 декабря 1992 г., а до этого надо прила-
гать усилия по интеграции и созданию «единого рынка». В конце
беседы министр иностранных дел СССР в очередной раз намекнул
на желательность новых кредитов, подчеркнув, что Советский Союз
- «богатая страна» и кредитор не несет никакого риска. В Бонне
сделали вывод из бесед с Э. Шеварднадзе, что в Москве готовы
и к новым «компромиссам», точнее, к односторонним уступкам, в
том числе и в вопросе полного членства объединенной Германии в
НАТО.
Канцлер просил представителей «Дойче Банк» и «Дрезднер
Банк» Хильмара Коппера и Вольфганга Реллера изучить возможно-
сти предоставления новых кредитов Советскому Союзу, который
хотел бы получить 20 млрд. марок на 5-7 лет, причем в условиях,
когда платежеспособность все более и более снижается. В прави-
тельстве ФРГ решено направить доверительную секретную миссию
в Москву с целью ознакомления на месте с реальным финансовым
положением СССР, возможно, на встрече с Н. Рыжковым.
Западные исследователи считают, очередные уступки со сторо-
ны М. Горбачева определялись ожиданием финансового кредита от
ФРГ. В начале мая Э. Шеварднадзе прилетел в Бонн на встречу ми-
нистров. Пользуясь случаем он просил у канцлера кредит в 5 милли-
ардов марок. Строго говоря, так профессиональные дипломаты не
поступают.
На встрече министров иностранных дел по формуле «2+4» в
Бонне 5 мая 1990 г. Э. Шеварднадзе от имени СССР выдвинул пред-
ложения, суть которых сводилась к тому, чтобы суверенитет объе-
диненной Германии (при создании единого парламента и правитель-
ства) все же был ограничен определенными международными обяза-
тельствами. В переговорах с Г.-Д. Геншером Э. Шеварднадзе отме-
тил возможность компромисса, который должен учитывать внут-
реннюю ситуацию, скажем, в Советском Союзе. Как свидетельству-
128
ет тот же X. Тельчик, советский министр дал понять, что «резкое
ограничение пространства для политического маневра» может дове-
сти до критической точки «эмоции» внутри СССР. В то же время
было высказано пожелание получить солидный финансовый кредит
в германских марках. Германская сторона быстро отреагировала на
компромиссное предложение, которое явно легло на подготовлен-
ную почву. Уже через неделю представители финансовых кругов по
поручению канцлера, без лишней рекламы отправились в Москву.
Канцлер поручил финансистам выяснить конкретно международную
задолженность и платежеспособность великой державы. Деликат-
ную миссию канцлер поручил Хорсту Тельчику, статс-секретарю
своего ведомства.
Подробности этой миссии общественность узнала позже от са-
мого X. Тельчика и ставшего в те дни заместителем министра ино-
странных дел Ю. А. Квицинского. Германская делегация прибыла в
Москву на самолете бундесвера, пилоты которого не знали, кого они
везут.
Представители двух крупнейших банков - X. Коппер от «Дойче
Банк» и В. Реллер от «Дрезднер Банк», а также представитель канц-
лера X. Тельчик прибыли 13 мая в Москву с конфиденциальной
миссией. «Это был сенсационный день, - сообщает X. Тельчик. Мы
в этот день увидели все советское руководство: Горбачева, премьер-
министра, министра иностранных дел, главу Центрального банка,
министра финансов, министра экономики - все они вели переговоры
об этом кредите»1. Сенсацией следует признать не сам факт встречи
лично с М. Горбачевым и другими, а признание X. Тельчика в том,
что по поручению канцлера «не прямо», но достаточно ясно, он дал
понять М. Горбачеву, что «мы тоже хотим кое-что получить». Уже
полученного до мая 1990 года Бонну было не достаточно, чтобы
дать денег в долг. В интервью Александру фон Плато статс-
секретарь открыл великую тайну: «То, что мы сказали, этот кредит -
та цена, которую мы платим за членство в НАТО». Яснее не ска-
жешь. Однако не слишком ли дешево, господин генеральный секре-
тарь коммунистической партии? Исследователи не могут не отме-
тить, что в советском протоколе от 14 мая 1990 года об этом ничего
не сказано. М. Горбачев опровергает как вымысел увязывание кре-
дита с членством Германии в НАТО. Но у X. Тельчика аргументом
служат факты: уже через две недели, 31 мая на встрече с президен-
том США М. Горбачев признал «право немцев» на участие в воен-
1 А.фон Плато. Цит соч. - С. 313.
129
ных блоках по своему усмотрению. Почти одновременно он пригла-
сил Г. Коля к себе на родину, так сказать, «на дачу» для дружеской
встречи. Согласно формальной логике, «после этого» не означает «по-
этому». Однако остается открытым вопрос: почему М. Горбачев дал
теперь свое великодушное согласие на участие Германии в НАТО
без каких-либо оговорок? Ради чего ломался столько времени?
Переговоры о кредите сбросили на Н. Рыжкова, которому через
Э. Шеварднадзе была сообщена готовность канцлера взять на себя
экономические обязательства ГДР перед СССР «настолько, насколь-
ко это возможно». «Одновременно, - сообщает X. Тельчик, - я разъ-
яснил, что мы понимаем подобную поддержку как составную часть
общего пакета, который позволит решить германский вопрос. Ше-
варднадзе, смеясь, выразил согласие»1.
В ходе бесед между германскими представителями и представи-
телями советского правительства во главе с Н. Рыжковым обсуж-
дался один вопрос: кредиты германских банков Советскому Союзу.
Согласно записи X. Тельчика от 14 мая 1990 г., Н. Рыжков выразил
пожелание получить финансовый кредит в 1,5-2 млрд. руб. для
поддержания платежеспособности и долгосрочный кредит в размере
10-15 млрд. руб. на льготных условиях: выплата кредита начнется
через 5 лет, а срок выплаты 10-15 лет. (В тот момент официальный
обменный курс рубля по отношению к немецкой марке был один к
одному). Германская сторона потребовала данные о задолженности,
что и было предоставлено: ФРГ - 6 млрд. долл.; Япония - 5,2 млрд.;
Италия - 4,3 млрд.; Франция - 3,1 млрд.; Австрия - 2,6 млрд.; Вели-
кобритания - 1,5 млрд. По свидетельству Н.И.Рыжкова, золотой
запас страны на 1 января 1990 г. составлял 784 тонны, а иностран-
ные банки отказывали в кредитах, хотя им было хорошо известно,
что добыча золота в стране достигала 300 тонн в год2.
За один день германские представители встретились с высшими
должностными лицами страны: Н. Рыжковым, М. Горбачевым,
Э. Шеварднадзе. Из политических и дипломатических вопросов они
отметили в беседах, что рассматривают кредиты в контексте реше-
ния германской проблемы, что канцлер придает значение личной
встрече с М. Горбачевым (возможно, как знак «сближения», на его
родине на Северном Кавказе) и заключению двустороннего договора
ФРГ с СССР. В то же время канцлер Г. Коль перед отправкой своего
1 Spiegel, 1991 а., N 40, n. 132.
2 Рыжков Н. Перестройка: история предательств. - М.,1992. - С. 234.
130
представителя X. Тельчика в Москву подчеркнул, что не должно
быть и речи о заключении мирного договора.
Из итогов поездки финансистов в Москву канцлер Г. Коль сде-
лал вывод, что на пятимиллиардный кредит советские руководители
отреагировали «эйфорически».
В день подписания правительствами ФРГ и ГДР соглашения об
экономическом и валютном союзе 18 мая 1990г. госсекретарь США
Дж. Бейкер представил в Москве план, который должен был облег-
чить советским руководителям согласие на единение Германии.
План состоял из 9 пунктов: 1) обещание продолжить переговоры по
общеевропейскому процессу в Вене (СБСЕ); 2) начало переговоров
по SNF (стратегические ядерные силы) после подписания договора
СБСЕ; 3) обязательство Германии отказаться от производства и вла-
дения оружием типа ABC; 4) пересмотр потребностей НАТО в
обычных и ядерных системах и приспособление стратегии к изме-
нившимся условиям; 5) отказ от размещения сил НАТО на террито-
рии ГДР в «переходный период»; 6)согласие Германии на ограни-
ченное по времени стационирование советских войск в Восточной
Германии; 7) обязательство Германии объединиться в пределах гра-
ниц ФРГ, ГДР и Берлина; 8) «усиление» процесса СБСЕ; 9) согласие
ФРГ так регулировать экономические проблемы (очевидно, эконо-
мические связи ФРГ и особенно ГДР с СССР), чтобы экономически
поддержать перестройку.
Дипломатия ФРГ, лично канцлер Г. Коль, использовала вопрос о
предоставлении краткосрочного и долгосрочного кредита в качестве
приманки и «уступки» советским руководителям, подчеркивая, что
рассматривает возможные кредиты в «одном пакете» с урегулирова-
нием по Германии. В конце мая 1990 г. Г. Коль сообщил
М. Горбачеву о возможности кредита в 5 млрд. марок под гарантию
ФРГ.
Именно в этот момент канцлер Г. Коль отверг публично как
«старое мышление» требование нейтралитета Германии, демилита-
ризации и отказа от участия в военных блоках. Германское единство
представало как «краеугольный камень» стабильности и мирного
порядка в Европе (т.е. не будет единой Германии, значит не будет
мира в Европе!). Участие в НАТО правительство ФРГ отстаивает
как свое суверенное право, правда, заверяя одновременно, что ха-
рактер деятельности блока изменится.
В воспоминаниях Ю. Квицинского содержится (наряду с извест-
ной оценкой способностей и политического опыта Э. Шеварднадзе)
весьма примечательное признание. После того, как правительство и
131
парламент ГДР после выборов 18 марта в основном уже высказались
за аншлюс к Федеративной Республике, германская марка была вве-
дена в оборот и начато создание валютного и хозяйственного союза,
нам осторожно дали понять, что воссоединение состоится, если не-
обходимо, и без согласия Советского Союза, что немцы могут под-
писать договор и с тремя западными державами.1
Иными словами, дипломатия ФРГ весной 1990 г., получив сво-
боду рук по воле М. Горбачева, который довольствовался обеща-
ниями германских кредитов, взяла инициативу в свои руки и начала
«осторожно» диктовать свои условия: договор об урегулировании
«без излишних деталей», закрепление границ, равно как и большой
договор с Советским Союзом и даже условия пребывания в пере-
ходный период советских войск только после объединения Герма-
нии. Наличие советских войск на территории ГДР было сброшено со
счетов.
Советские дипломаты в спешке подготовили проект текста дого-
вора «Основные принципы окончательного международно-
правового урегулирования с Германией»2, который был рассмотрен
партийными инстанциями и внесен на рассмотрение министров ино-
странных дел шести государств 22 июня 1990 г. в Берлине. Наш до-
кумент был воспринят Западом весьма холодно, констатировал
Ю. Квицинский. Западные державы не хотели выводить свои войска
из Германии - ни одного солдата, в том числе (и особенно) из Бер-
лина. Одной из важных проблем «окончательного урегулирования»
с Германией и условием объединения Германии еще летом 1990г.
оставалось признание границы Польши по Одеру и Нейсе. Польское
правительство во главе с Мазовецким настаивало на том, чтобы ме-
ждународно-правовое оформление границы было подтверждено до
объединения Германии; декларация бундестага считалась недоста-
точной. В Польше к тому же считали, что Германия должна выпла-
тить полякам репарации в сумме 200 млрд. марок. В Германии не
все примирились с границей по линии Одер-Нейсе, особенно болез-
ненно тосковали по потерянным землям землячества немцев, в част-
ности, выходцы из Силезии. Канцлер Г. Коль еще в июне 1990 г.
публично убеждал немцев, что признание территориальных реалий -
это условие объединения Германии, поэтому надо не упускать исто-
рический шанс, пойти на примирение.
1 См. Квицинский Юлий. Время и случай.Заметки профессионала. - М,
1999.-С. 37-44.
2 Kwizinskij J., op.cit., S.39.
132
В разгар дискуссий относительно германского единства и окон-
чательного признания границ государств в Европе появился весьма
симптоматичный проект мирного изменения границ взамен нейтра-
литета единой Германии. Такой проект разработал Т. Швейсфурт,
работавший в Институте гражданского и общего права в Гейдель-
берге (ФРГ).
Суть проекта состояла в том, чтобы Германия, Польша и СССР
заключили трехсторонний договор о границах, добрососедстве и
сотрудничестве, по которому Германия получает Щецин (Штеттин)
и создает «автономные районы» на «исторических землях», где ус-
танавливается особый режим совместного владения; Польша полу-
чает под свой полный суверенитет Калиниградскую (Кенигсберг-
скую) область - «северную часть бывшей прусской провинции Вос-
точная Пруссия до реки Мемель», а кроме того, Львовскую область
с «восточной границей по линии, обозначенной в Рижском договоре
от 21 марта 1921 года, и с северо-восточной границей, совпадающей
с линией государственной границы между Австрией и Россией 1914
года». Советский Союз получил бы по этому проекту обещание со-
хранить мир на условиях, диктуемых Германией.
Правительство ФРГ, конечно, действовало по реалистическим на
данный момент проектам, особенно с учетом позиций западных
держав относительно границы Польши с Германией1.
На совещании министров иностранных дел в Берлине 22 июня
1990 г. участники приняли к сведению и одобрили идентичные ре-
золюции бундестага ФРГ и народной палаты ГДР от 21 июня 1990
г., которая призвана окончательно закрепить границу между Герма-
нией и Польшей. Именно в этот момент, как считает германская ди-
пломатия, состоялся доверительный обмен мнениями с министром
иностранных дел СССР по всем вопросам, которые оставались на
пути к «окончательному урегулированию».
3. Участие объединенной Германии в НАТО -
ключевой вопрос окончательного урегулирования
Встреча М. Горбачева с президентом Дж. Бушем в Белом Доме в
конце мая - начале июня 1990 г. имела значение «поворотного пунк-
та» в истории германского урегулирования. По свидетельству
1 Schweissfurth Т. Fahrplan für ein neues Deutschland. Bonn, Wien. 1990,
S. 163.
133
В. Фалина, оба президента исходили из того, что скоро с политиче-
ской карты исчезнет государство Германская Демократическая Рес-
публика (субъект международного права, член ООН и участник
Варшавского Договора). Естественно, самым важным вопросом стал
вопрос: каков будет международный статус объединенной Герма-
нии? Советский Союз еще взвешивает две, скорее теоретические,
возможности: участие двух германских государств одновременно в
двух военных блоках или объединенная Германия «вне блоков».
Однако дипломатия США отвергает обе возможности. Вся Германия
в НАТО - вот их требование, ибо без Германии нет НАТО.
В конце мая, за неделю до визита М. Горбачева к Дж. Бушу,
имела место встреча М. Горбачева с президентом Франции
Ф. Миттераном, который был озабочен увязкой германского урегу-
лирования с общеевропейской безопасностью. Он поставил вопрос
так: Что мог бы Советский Союз предложить немцам в качестве аль-
тернативы членству в НАТО? Ничтоже сумняшеся М. Горбачев от-
ветствовал: «Присутствие будущей единой Германии одновременно
в двух блоках». Ф. Миттеран тактично назвал такое предложение
разумным, но добавил, что он лично высказался бы за «постепенную
ликвидацию военных блоков». Во всяком случае, он считал целесо-
образным увязывать решение германского вопроса с переговорами и
соглашениями по разоружению. Одновременно Ф. Миттеран выска-
зал предположение, что Дж. Буш сочтет предложение об одновре-
менном участии Германии в двух блоках «несуразным»1. На самом
деле, госсекретарь Дж. Бейкер счел саму идею проявлением шизоф-
рении.
Совещание в Белом доме с участием советской делегации 31 мая
1990 г., несомненно, историческое событие. По версии «Фонда Гор-
бачева», во второй встрече участвовали с советской стороны наряду
с М. Горбачевым и Э. Шеварднадзе, С. Ф. Ахромеев, А. Ф. Добры-
нин, В. М. Фалин, А. С. Черняев. По версии А. фон Плато, присутст-
вовали также А. А. Бессмертных, Ю. В. Маслюков, А. А. Обухов,
Е. М. Примаков.
Во время официальной беседы двух президентов М. Горбачев
запиской просит В. Фалина пояснить юридические, политические и
военные соображения против участия Германии в НАТО. На той же
записке В. Фалин отвечает: «Я готов». Кивком головы он побуждает
В. Фалина изложить свои соображения. Однако американские уча-
стники встречи относят кивок на счет согласия М. Горбачева с
1 Сборник документов 1986 - 1991. - М. 2006. - С. 460.
134
Дж. Бушем, а высказывания В. Фалина интерпретируют как расхож-
дение с М. Горбачевым После возвращения в резиденцию
М. Горбачев говорил В. Фалину: «Мы оба были правы, когда не по-
слушали Эдуарда (Шеварднадзе). Трудно рассчитывать, что кон-
кретно получится, но у американцев имеются запасные варианты
или также варианты членства Германии в НАТО»1.
В. Фалин не упоминает в этой связи свидетельство Кеннета
Уолша, опубликованное вскоре после встречи в Вашингтоне в жур-
нале «Ю. С. Ньюс энд Уорлд рипорт». Это свидетельство показыва-
ет, что именно во время этой встречи в июне 1990 г. М. Горбачев
сказал Дж. Бушу, что согласен на участие объединившейся Герма-
нии в НАТО.
Для выяснения момента, когда произошло изменение позиции
советского руководства в вопросе о принадлежности объединенной
Германии к западному военному блоку, конечно, существенное зна-
чение имеет свидетельство Кеннета Уолша. Он сообщил, что в июне
1990 г. во время визита М. Горбачева в США, за чашкой кофе в ка-
бинете президента США, в присутствии советников обоих президен-
тов и глав дипломатических ведомств «советский лидер заявил, как
бы мимоходом, что он согласится признать членство объединенной
Германии в НАТО, если этого захочет немецкий народ». Американ-
ский наблюдатель засвидетельствовал следующую картину: «При-
сутствующие были ошеломлены, воцарилось молчание. Ровно месяц
назад Горбачев отверг именно эту идею. Буш посмотрел Горбачеву в
глаза. «Я бы хотел услышать это снова, еще раз», - сказал прези-
дент. - Вы говорите, что не возражаете, если немцы захотят быть в
НАТО». Горбачев повторил:»Если они захотят быть в Варшавском
Договоре - прекрасно. Если они захотят состоять в НАТО - тоже
прекрасно. Буш, заметив, что даже Шеварднадзе выглядел смущен-
ным, попросил Горбачева повторить все еще раз. Горбачев повто-
рил, Буш и его помощники были потрясены»2 . Официально об из-
менении позиции советской стороны стало известно в середине ию-
ля, после встречи М. Горбачева и Г. Коля на Северном Кавказе.
В опубликованном теперь документе из архива «Горбачев-
Фонда» под названием «Из второй беседы М. С. Горбачева с Дж.
Бушем» от 31 мая 1990 года получила отражение часть обмена мне-
ниями, в ходе которого Горбачев пытается представить дело так, что
Буш тянет Германию в НАТО, а он М. Горбачев предоставляет са-
1 Falin Valentin. Politische Erinnerungen. München, 1993, S.493.
2 За рубежом.- 1991. -№ 29 (1618). - С. 9.
135
мой ФРГ решать вопрос, в каком союзе ей участвовать: «Пусть она
сама решает, в каком союзе ей состоять». М. С. Горбачев предложил
сделать по итогам переговоров публичное заявление: «Значит, так и
сформулируем: Соединенные Штаты и Советский Союз за то, чтобы
объединенная Германия по достижении окончательного урегулиро-
вания, учитывающего итоги второй мировой войны, сама решила,
членом какого союза ей состоять». В ответ Дж. Буш (старший) зая-
вил: «Я бы предложил несколько иную редакцию: США однозначно
выступает (так в тексте) за членство объединенной Германии в НА-
ТО, однако, если она сделает другой выбор, мы не будем его оспа-
ривать, будем уважать». М. Горбачев в тот же миг заявляет: «Согла-
сен. Беру вашу формулировку»1.
Основной итог этой встречи Дж. Буш зафиксировал в своей па-
мяти навсегда. «Я никогда не забуду встречу в Белом доме, совсем
недалеко от того места, где мы сейчас беседуем, - сказал он в интер-
вью с А. фон Плато. И тогда Горбачев сказал в первый раз: «Пусть
немцы решают сами». После этого мне подали записку: «Пусть он
повторит это еще раз. Убедитесь в том, что мы это правильно поня-
ли. Выясните, думает ли он так на самом деле». И я подошел к нему
еще раз и сказал: «Михаил, мне хотелось бы быть уверенным в том,
что я вас правильно понял. Вы верите в то, что у Германии есть пра-
во самостоятельно принимать решение об объединении?». И он ска-
зал: «Да». Прямо-таки библейский стиль. Дж. Буш оценил соответ-
ственно исторический момент: «Драматический и захватывающий
момент в Белом доме»2.
Если бы речь шла о научной дискуссии за круглым столом отно-
сительно суверенных прав государств, то ответ М. Горбачева можно
было бы считать учтивым. Но в этом случае спор шел об условиях
урегулирования с бывшим вражеским государством, именно об ус-
ловиях урегулирования, которые должны быть равнозначны мирно-
му договору. И генсек, и его министр, конечно, понимали, что уча-
стие бывшего вражеского государства в противостоящем военном
союзе абсолютно не соответствует интересам страны-победителя. И
в этот момент еще было не поздно сделать оговорки со стороны Со-
ветского Союза: объединенная Германия не участвует в военной ор-
ганизации Североатлантического союза, подобно Франции, сфера
действия НАТО не будет расширена в восточном направлении, т.е. к
границам СССР (России) ни на один «инч», т.е. дюйм, как предлагал
1 Михаил Горбачев и германский вопрос. - М., 2006. - С. 466- 476.
2 А. фон Плато. Цит. соч. - С. 330.
136
госсекретарь США. Почему М. С. Горбачев не сделал таких огово-
рок в интересах своей страны, остается загадкой. Западные наблю-
датели говорят, что он проявил наивность. Ой ли?! Впрочем, остает-
ся открытым вопрос: какой государственный, или хотя бы партий-
ный орган, дал полномочия генсеку принимать единолично реше-
ния, определившие судьбу народа. Где был хваленый «коллектив-
ный разум»?
Во время визита в США 31 мая - 3 июня 1990 г. М. Горбачев,
таким образом, сообщил Дж. Бушу свое согласие снять последнее
препятствие на пути к германскому единству - членство Германии в
НАТО. Затем последовала дружеская встреча М. Горбачева с
Г. Колем в Ставрополье, в Архызе, где окончательно наметился
«компромисс», который было бы правильнее назвать капитуляцией
М. Горбачева. Английский журнал «Экономист» иронически назвал
соглашение в Ставрополе «Ставрапалло». Журнал «Шпигель» отме-
тил, что без всякой борьбы Москва уступила «первое рабоче-
крестьянское государство в германской истории» за сходную цену:
«почти даром»1.
Элементарное правило дипломатии обязывало М. Горбачева зая-
вить от имени своей страны: СССР однозначно выступает за неуча-
стие объединенной Германии в военных блоках.
В итоге встречи с Дж. Бушем М. Горбачев публично заявил:
«Естественно, в центре внимания в связи с этим внешние аспекты
объединения Германии. Как мы понимаем, должны завершиться два
процесса: окончательное урегулирование итогов войны и решение
внутренних вопросов превращения двух частей Германии в одно
государство. Это составляет содержание переходного периода,
окончание которого будет означать, что теряют силу права четырех
держав-победительниц, появившиеся, кстати, не в результате раско-
ла Германии, а непосредственно по итогам войны, и что возникает
суверенное государство»2.
Между тем, германская дипломатия держала курс на поглощение
ГДР, аншлюс ГДР к ФРГ, а отнюдь не на создание нового суверен-
ного государства.
После визита М. Горбачева в США 15 июня 1990 г. состоялось
заседание комиссии ЦК КПСС по вопросам международной полити-
ки под председательством А. Н. Яковлева. На этом совещании про-
1 Spiegel, 1990, N 30, n. 16, N 40, с. 44.
2 Государственный визит Президента СССР М.С. Горбачева в США. -
М., 1990.-С. 74.
137
исходил обмен мнениями с участием тех, кто действительно разби-
рался в германских делах, - В. М. Фалиным и А. Г. Ковалевым, пер-
вым заместителем министра иностранных дел СССР. Они оба пони-
мали, что действия вышестоящих лиц - М. Горбачева и Э. Шевард-
надзе - наносят ущерб национальным интересам страны, однако вы-
разили это понимание с разной степенью профессиональной смело-
сти. В. М. Фалин особо выделили статус ГДР в связи с предстоящим
вступлением в силу договора о валютном и экономическом союзе,
что означало уже фактически слияние воедино двух германских го-
сударств. Однако от того, в какой правовой форме это произойдет,
зависело соблюдение интересов нашей страны. «Что же происходит?
- ставил вопрос В. М. Фалин. - Объединение Германии или погло-
щение более сильным государством менее сильного? Будет ли объе-
диненная Германия расширенным изданием ФРГ или наследницей
двух германских государств и, соответственно, третьего рейха со
всем объемом обязательств? Ход мысли у тех, кто хотел бы видеть
ФРГ в расширенном составе, незамысловатый. Они, западные нем-
цы, дескать не несут ответственности за грехи рейха, они отвечают
лишь за то, что выборочно полагают выгодным признать для своей
нынешней политики. Эта позиция вряд ли может нас устроить». Со-
вершенно ясно, что линия, которую проводили М. Горбачев и
Э. Шеварднадзе, не отвечала государственным интересам СССР.
В. М. Фалин как аналитик и практик своевременно предупредил:
Если будущая Германия станет наследницей ФРГ, то, значит, ничего
не нужно пересматривать в условиях участия объединенной Герма-
нии в НАТО. Эти условия были определены Боннским и Парижским
договорами 1952-1954 гг.
Кроме того, по этим договорам у трех держав остается множест-
во прав, тогда как наши права фактически будут исчерпаны, т.е. воз-
никла бы совершенно «косая пирамида». Видимо, М. Горбачев по
итогам встречи с Дж. Бушем сообщил даже ближайшему окружению
не все, что обещал Западу. Об этом, видимо, не были информирова-
ны и эксперты по германским делам. Между тем, канцлер Г. Коль
получил своевременно информацию из Вашингтона и стал готовить-
ся к поездке на родину М. Горбачева, чтобы закрепить очередную
уступку. Заместитель министра иностранных дел СССР
А. Г. Ковалев на совещании 15 июня 1990 г. вел линию на оправда-
ние деятельности М. Горбачева.1 При решении германского вопроса
М. Горбачев предпочитал пользоваться советами писарчука
1 Известия ЦК КПСС. - 1990. - № 10. - С. 104.
138
A. Черняева и сомнительного профессионала Э. Шеварднадзе, а не
опытных дипломатов.
Перед встречей М. Горбачева с Г. Колем на Северном Кавказе в
июле 1990 г. В. Фалин составил «энергичный» меморандум, полагая,
что эта встреча - последняя и решающая возможность отстоять
«наши интересы», по крайней мере, по ряду принципиальных вопро-
сов. М. Горбачев в связи с ХХVIII съездом КПСС был занят и не мог
уделить 10-15 минут, которые просил В. Фалин, чтобы в дополне-
ние к меморандуму объяснить президенту хотя бы три момента1.
Секретарь ЦК КПСС В. М. Фалин отстаивал принципиально, что
необходимо обеспечить именно объединение двух суверенных гер-
манских государств, но не аншлюс, т.е присоединение одного гер-
манского государства к другому. Объединение Германии полагалось
проводить в соответствии с нормами международного права, уста-
вом ООН и рекомендациями Заключительного акта Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе, а не по примитивной схе-
ме Черняева. Не используя механизм СБСЕ и соглашаясь на членст-
во Германии в НАТО, М. Горбачев упускал не только возможность
нейтрализации Германии, но и создания надежной системы безопас-
ности в Европе.
«Меморандум Фалина» - серьезный ответ на вопрос, который
возник у общественности вскоре после завершения германского уре-
гулирования: неужели специалисты по германским делам не обрати-
ли внимание руководства на пренебрежение интересами Советского
государства? Этот документ, фрагменты из которого изложил
B. Фалин в книге воспоминаний, говорит о том, что разумные аргу-
менты были доведены до сознания М. Горбачева:
1. «Нам навязывают аншлюс». Присоединение ГДР к ФРГ может
иметь тяжелые последствия для сотен тысяч граждан ГДР, посколь-
ку перенесение законов одного государства на почву другого госу-
дарства ставит деятельность людей на протяжении 40 лет как бы вне
закона. ГДР создана и развивалась под эгидой СССР, который несет
ответственность за моральные и политические издержки. Механиче-
ское слияние разных экономических структур едва может произойти
безболезненно.
2. «Неучастие объединенной Германии в НАТО». Самое малое,
на чем можно было бы настаивать до конца, это неучастие Германии
в военной организации НАТО по примеру Франции. «Минимум ми-
1 Falin V., op.cit., S. 494.
139
ниморум» - неразмещение ядерного оружия на всей территории
Германии. Это отвечало бы интересам самих немцев.
3. Все вопросы, которые касаются нашей собственности, особен-
но в ГДР, должны быть урегулированы до подписания политических
решений. Не только дипломатический опыт, но и элементарный
здравый смысл подсказывали, что политические, экономические,
военные и политические проблемы и претензии надо было решать в
едином пакете и одновременно.
В. М. Фалин терпеливо ждал приглашения к серьезному разгово-
ру с генсеком. Лишь поздно ночью, на исходе дня перед встречей
М. Горбачева с Г. Колем последовал телефонный звонок В. Фалину.
М. Горбачев: «Что ты хотел мне сказать?». В. Фалин настойчиво пы-
тался пояснить, что присоединение ГДР к ФРГ превращает сотни
тысяч граждан ГДР в потенциальных подсудимых по законам ФРГ,
которые вводятся в землях ГДР. М. Горбачев: «Понял. Дальше».
Второй пункт - неучастие Германии в военной организации НАТО,
хотя бы по модели Франции, и отказ от размещения ядерного ору-
жия на территории Германии. Этого требовала большая часть насе-
ления Германии, особенно ГДР. Наконец, для оценки экологическо-
го ущерба от пребывания войск необходимо было выслушать своих
экспертов относительно ущерба, нанесенного нашей стране в ре-
зультате германской агрессии. Ответ М. Горбачева был кратким:
«Сделаю, что смогу. Только боюсь, что поезд уже ушел». Поезда в
тот год почему-то уходили по немецкому расписанию и только в
одну сторону. М. Горбачев многое не сделал из того, что мог бы
сделать в интересах своей страны.
В ходе разработки окончательного урегулирования для Герма-
нии в 1990 г. западные дипломаты на первый план то и дело выдви-
гали привлекательные проекты благоприятного для СССР решения
общеевропейских проблем («архитектурные» проекты европейского
дома и «общеевропейского процесса») и даже обещания изменения
характера деятельности Североатлантического союза. Как выдаю-
щееся достижение дипломатии Э. Шеварднадзе было преподнесено
заявление Совета НАТО в Лондоне летом 1990 г. относительно того,
что страны Восточной Европы, в том числе и СССР, больше не счи-
таются врагами. Визит генерального секретаря НАТО Манфреда
Вернера в Москву и его беседы с Э. Шеварднадзе 14 июня должны
были иметь многообещающие последствия, поскольку западный во-
енный дипломат великодушно отводил СССР достойное место в ар-
хитектуре новой Европы, заверяя, что без СССР вообще невозмож-
ны безопасность и сотрудничество в Европе. Однако вскоре был
140
реализован план ликвидации Организации Варшавского Договора, в
то же время шло укрепление НАТО. Таким образом, для решения
германского вопроса не понадобился ни общеевропейский, ни ат-
лантический контекст. Ускорение процесса урегулирования проис-
ходило по желанию германской дипломатии, которая не хотела от-
кладывать дело даже на несколько недель. Темпы переговоров об
окончательном урегулировании диктовал канцлер Г. Коль.
После встречи с М. Горбачевым в Москве и на Северном Кавказе
14-16 июля 1990 г. Г. Коль публично заявил: объединенная Герма-
ния может сама свободно решать вопрос, в какой союз она входит.
Что касается советских войск, то они должны быть выведены до
конца 1994 г., что подлежало дополнительному регулированию от-
дельными соглашениями.
На этом фоне в Париже 17 июля 1990 г. была проведена третья
встреча министров иностранных дел, на которой завершено обсуж-
дение проблем урегулирования. С участием министра иностранных
дел Польши Скубишевского рассмотрен вопрос о границе. Здесь,
как полагают германские дипломаты, было выяснено, что мирного
договора не будет, но будет заключительный международно-
правовой документ, который не оставит открытым какой-либо во-
прос.
В середине июля 1990 г. Г. Коль приезжал в СССР, чтобы в ус-
коренном темпе решить германский вопрос, используя неотразимый
аргумент: парламент ГДР торопится присоединиться к ФРГ. В бесе-
де с глазу на глаз (не считая переводчиков и советников с обеих сто-
рон А.Черняева и X. Тельчика) 15 июля 1990 г. в Москве
М. Горбачев и Г. Коль достигли взаимопонимания по ряду вопросов:
Советский Союз признает «полный суверенитет» Германии, выво-
дит все свои войска с территории Германии в определенный срок,
соглашается на членство Германии в НАТО взамен обещания в бу-
дущем заключить двусторонний договор о партнерстве и сотрудни-
честве. Главное обязательство Германии при этом сводилось к обе-
щанию не нападать на Советский Союз, несколько ограничить чис-
ленность бундесвера и не оснащать его оружием типа «ABC» (т.е.
атомным, химическим и бактериологическим). М. Горбачев пытался
сделать оговорку относительно того, что сфера действия НАТО не
распространится тотчас на территорию ГДР, однако Г. Коль не кон-
кретизировал это обязательство.
Ключевой вопрос - участие Германии в НАТО - был решен на
этой встрече без всякого обсуждения. Германский участник встречи
свидетельствует: «Очень спокойно и серьезно Горбачев соглашается
141
на то, чтобы Германия продолжала оставаться членом НАТО. На это
поразительное заявление канцлер реагирует без какого бы то ни бы-
ло видимого волнения...»1. Канцлер Г. Коль, как бы давая понять,
что Дж. Буш своевременно сообщил ему, как М. Горбачев сдал по-
зицию еще в Вашингтоне, попросил повторить высказанное только
что согласие на членство Германии в НАТО. М. Горбачев выполнил
это пожелание и преподнес «второй сюрприз» - согласие на ликви-
дацию прав и ответственности четырех держав при «окончательном
урегулировании».
На следующий день после встречи в Москве 16 июля 1990 г. де-
легации сторон сошлись на совместном заседании в местечке Архыз
на Северном Кавказе. В германской делегации находился министр
по особым поручениям, представитель правительства ФРГ по связям
с общественностью Ханс Кляйн, который уже в 1991 г. выпустил
целый том с описанием этой встречи, снабдив его 117 исторически-
ми фотодокументами. Книга эта вышла под названием «Это нача-
лось на Кавказе. Решающий шаг к единству Германии». Свидетель-
ство X. Кляйна дополняет деталями общую картину капитулянтской
дипломатии М. Горбачева.
В центре внимания был будущий «большой» договор, однако ка-
ких-либо конкретных обязательств Г. Коль даже не называл, ссыла-
ясь на «юридические и психологические» сомнения относительно
права говорить от имени «всей Германии». Он лишь заметил, что
большой договор «не должен повторять прежние договоры», что
целью переговоров по формуле «два плюс четыре» он считает «ус-
тановление полного суверенитета в ходе воссоединения», что будет
обеспечено четкое урегулирование вопроса о границе с Польшей.
Г. Коль и Г.-Д. Геншер объяснили М. Горбачеву, что означает та
или иная формулировка. Тезис М. Горбачева о «нераспространении
военных структур НАТО на территорию ГДР» рассматривался нем-
цами как неожиданно «обнаружившийся» подводный камень. Одна-
ко Г. Коль пояснил М. Горбачеву: «Полный суверенитет - это сво-
бода решения о принадлежности к союзам». Г.-Д. Геншер заметил,
что структуры НАТО не будут развертываться на территории ГДР
до тех пор, пока там находятся советские войска, а потом... Потом
полный суверенитет Германии и размещение любых войск, которые
она пожелает.
1 Klein Hans. Es begann im Kaukasus. Der entscheidende Schritt in die
Einheit Deutschlands. Ullstein. Berlin, 1991, S. 255-261.
142
Вопрос о выводе советских войск, об условиях их ограниченного
по времени пребывания обсуждался, но не был согласован даже в
общих чертах. Чтобы не в спешке, а достойно вывести 400 тысяч-
ную армию требовалось, по крайней мере, 5-7 лет, если учесть нали-
чие не только огромной массы людей, техники и боеприпасов, не
говоря уже о недвижимом имуществе (дома, склады, аэродромы,
ангары и т.п.). По примерным оценкам, необходимо было перемес-
тить до 2,5 млн. тонн грузов, т.е. примерно 7 тысяч эшелонов по 60
вагонов. Однако немцы весьма категорично заявили, что дают не
более 4 лет, что желательно убраться в течение 3 лет. Но они любез-
но согласились помочь с валютой на время пребывания войск, на
транспортировку войск по их территории, наконец, в обустройстве
офицеров с жильем при возвращении на родину. Конкретные цифры
не были названы. Это удалось лишь после нескольких месяцев пере-
говоров в соглашениях, подписанных в октябре 1990 г. При этом
М. Горбачев не выдвинул никаких возражений и пожеланий в связи
с германским планом «окончательного урегулирования».
Германские представители отметили, что у них сложилось впе-
чатление, что М. Горбачев «далеко не всегда согласовывал» со
своими сотрудниками те или иные уступки или действия. Особенно
это проявилось, когда немцы поставили важный вопрос: «Могут ли
гарантии НАТО по ст. 5 или ст. 6 договора о союзе распространяться
на территорию нынешней ГДР сразу после объединения Германии»?
Очевидно, даже не вникая в суть, М. Горбачев «просто кивнул го-
ловой». «Мы были поражены, хотя, конечно, не подали вида», - от-
метил X. Кляйн1. Между тем, не надо быть юристом или диплома-
том, чтобы понять, что такие гарантии могли получить силу после
полного вывода советских войск, а не в момент объединения.
М. Горбачев «поторговался» по вопросу о сокращении армии
ФРГ: уже после согласования уровня в 370 тыс. для бундесвера,
М. Горбачев неожиданно для немцев бросил: «Итак, 350 тыс. чело-
век». Г. Коль, озадаченный всерьез, возражает: «Для меня это не-
приемлемо. Мы назвали цифру 370 тысяч». После некоторого заме-
шательства М. Горбачев заявил: «Ну ладно - 370 тысяч... Разницу в
20 тысяч мы берем на себя (?!)». Если такой пример торга в перего-
ворах войдет в учебники по дипломатии, то только как пример лег-
комыслия и верхоглядства.
В итоге «рабочего визита» федерального канцлера Г. Коля в
СССР 15 - 16 июля 1990 г. и переговоров его с президентом
1 Klein Hans, op.cit., S. 259.
143
М. Горбачевым были достигнуты договоренности, определившие
дальнейшие шаги по пути германского урегулирования. Стороны
отметили свое стремление использовать уникальный шанс для ре-
шения крупных вопросов мировой политики. Канцлер Г. Коль заве-
рил, что объединение Германии происходит не на основе противо-
поставления ее другим странам, а в согласии с соседними народами,
«со всеми, кого оно затрагивает». Практическое решение проблем
урегулирования поставлено в контекст общеевропейского процесса,
а также существенных изменений в характере деятельности НАТО и
ОВД. В ходе переговоров по внешним аспектам объединения Гер-
мании была достигнута большая степень взаимопонимания относи-
тельно военно-политического статуса германского государства, пре-
делов численности его вооруженных сил, недопустимости распро-
странения военных структур НАТО на территории ГДР. Предметом
обсуждения были условия пребывания советских войск на герман-
ской территории после объединения ГДР с ФРГ, а также финансо-
вые вопросы, связанные с введением с 1 июля 1990 г. марки ФРГ в
ГДР. Концепция всеобъемлющего договора между СССР и Герма-
нией, охватывающего политические, экономические, культурные и
гуманитарные аспекты отношений, обсуждена в широком контексте
двусторонних отношений в будущем.
На итоговой пресс-конференции Г. Коль изложил основные до-
говоренности в семи пунктах:
«Во-первых, объединение Германии охватит ФРГ, ГДР и Берлин.
Во-вторых. Когда объединение состоится, права и ответственность
четырех держав будут полностью отменены. Таким образом, единая
Германия к моменту своего объединения получит полный и неогра-
ниченный суверенитет». В дальнейших пунктах канцлер пояснил,
что Германия будет сама решать, «будет ли она входить в какой-
либо блок, и если будет, то в какой». Одновременно он уверенно
заявил, что единая Германия будет членом Атлантического союза. В
четвертом пункте отмечено намерение единой Германии заключить
с СССР двусторонний договор о выводе войск из ГДР в течение 3- 4
лет, а также временного соглашения по финансовым вопросам.
«В-пятых. До тех пор, пока советские войска будут еще размещаться
на бывшей территории ГДР, структуры НАТО не будут распростра-
няться на эту часть Германии». Это означало, что на территории
ГДР будут размещены подразделения территориальной обороны.
Войска западных держав по просьбе ФРГ будут оставаться в Берли-
не в течение всего времени пребывания советских войск.
«В-шестых. Федеральное правительство заявляет о своей готовности
144
уже в ходе проходящих сейчас венских переговоров сделать заявле-
ние о своем обязательстве сократить вооруженные силы объединен-
ной Германии за 3-4 года до 370 тыс. человек». Седьмой пункт заяв-
ления Г. Коля содержит важное для будущего обязательство: «Объ-
единенная Германия откажется от производства, владения и распо-
ряжения атомным, биологическим и химическим оружием и оста-
нется членом договора о нераспространении ядерного оружия».
Со своей стороны М. Горбачев подтвердил значение достигну-
тых договоренностей: «Мы исходили из того, что через заключи-
тельный документ международно-правового характера выходим на
прекращение прав и ответственности четырех держав, которые вы-
текали из соответствующих международно-правовых решений по
итогам войны. То есть объединенная Германия получает полный
суверенитет. Она вправе распорядиться этим суверенитетом, сделать
свой выбор. Это касается и социального развития, и в каких союзах
она захочет участвовать, какие связи поддерживать, с кем будет на-
лаживать или обновлять отношения. Это все признаки полного су-
веренитета, который получает государство». М. Горбачев недву-
смысленно подтвердил, что объединенная Германия будет присутст-
вовать в НАТО, если таков выбор ее народа. Что касается отноше-
ний между двумя народами, то в заключение своего заявления
М. Горбачев сказал: «Нашим народам надо осмыслить уже происхо-
дящее на новом уровне и с ориентацией на новую эпоху оформить и
закрепить соответствующими международно-правовыми докумен-
тами».
В еженедельнике «Ди Цайт» 20 июля 1990 г. Роберт Лейхт так
охарактеризовал итоги встречи Г. Коля с М. Горбачевым в СССР в
середине июля: «В канун дня, когда 45 лет назад началась Потсдам-
ская конференция, Михаил Горбачев окончательно «списал» в исто-
рический архив систему Ялты. Вторая мировая война, наконец, дей-
ствительно окончилась. Советский Союз заключил свой мир с Гер-
манией. И не только это: отказываясь от своих прав победителя в
Германии, СССР отдает последний оставшийся залог своего бывше-
го империального владычества в Восточной Европе, оставаясь дер-
жавой в Европе, но не над Европой».
В результате встречи были устранены три препятствия, остав-
шиеся на пути к оформлению германского единства: вопрос об
окончательном признании границ Германии, вопрос о вхождении
Германии в один из военных союзов; ограничение численности гер-
манских вооруженных сил. Объединенная Германия должна вклю-
чать территорию собственно ФРГ и ГДР, включая Берлин. Это -
145
«отечество немцев». Она не будет выдвигать больше никаких терри-
ториальных претензий ни к одному государству.
Встреча в Архызе подтвердила, что Советский Союз, огромная
армия которого в течение четырех с половиной десятилетий находи-
лась на территории Германии, не вмешивается во внутренние дела
германских государств и в их взаимные отношения. Поэтому канц-
лер ФРГ Г. Коль свободно определял, как будет происходить объе-
динение Германии.
В итоге интенсивной работы правительственного аппарата ФРГ
был подготовлен обстоятельный документ - Договор об установле-
нии единства Германии. Этот договор был подписан 31 августа 1990
г. в Берлине во дворце «Унтер ден Линден», причем за ФРГ доку-
мент подписал министр внутренних дел В. Шойбле, а за ГДР Гюнтер
Краузе. Договор представляет собой весьма объемный документ,
который в 9 главах и 45 статьях определяет все правовые аспекты
создания единого германского государства, дает толкования отдель-
ных статей и положений в протоколе и многочисленных приложе-
ниях. Договор столь большой по объему и столь «внутригерман-
ский», что лишь немногие дипломаты, видимо, познакомились с его
содержанием, разве что по долгу службы. Во всяком случае можно
усомниться , что была предпринята попытка нашей дипслужбы
представить начальству перевод на русский язык, поскольку «дета-
ли» их уже не интересовали.
Преамбула договора лаконично определила мотивы объедине-
ния. Существо договора выражено в 1-й статье: «С осуществлением
вступления Германской Демократической Республики в Федератив-
ную Республику, согласно статье 23 Основного закона, 3 октября
1990 г. земли Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Сак-
сония, Саксония-Анхальт и Тюрингия становятся землями Федера-
тивной Республики Германии». В этой же статье установлено, что 23
района Берлина образуют «землю» Берлин, который является глав-
ным городом (столицей) Германии. Вопрос о пребывании парламен-
та и правительства должен был решаться особо.
Узловыми проблемами процесса присоединения ГДР (в виде пя-
ти земель) к ФРГ были вопросы сохранения сложившихся за 40 лет
социальных институтов, выгодных для населения, справедливое ре-
шение вопросов собственности, особенно собственности крестьян на
землю, применения пресловутого «запрета на профессии» к гражда-
нам ГДР.
Внешние международно-правовые условия процесса объедине-
ния германских государств были предметом дипломатических пере-
146
говоров по формуле «два плюс четыре». В итоге этих переговоров
решался вопрос о правах и ответственности четырех держав, выте-
кавших в отношении Германии из итогов второй мировой войны, а
также определенных ограничений для объединенной Германии в
отношении вооружений и вооруженных сил. Государства Европы
приняли к сведению заявление вице-канцлера и министра иностран-
ных дел ФРГ Г.-Д. Геншера и премьер-министра ГДР Л. де Мезьера
на пленарном заседании переговоров в Вене 30 августа 1990 г. отно-
сительно сокращения личного состава бундесвера объединенного
германского государства до 370 тысяч человек. После этого, счита-
ли, что можно подписывать основной договор.
4. Договор об окончательном урегулировании
в отношении Германии
Переговоры министров иностранных дел СССР, США, Велико-
британии и Франции, а также ФРГ и ГДР по формуле «два плюс че-
тыре» происходили после совещания в Оттаве 13 февраля 1990 г. в
форме встреч и обменов мнениями. Итоги обмена мнениями подво-
дились периодически: в Бонне 5 мая, в Берлине 22 июня, в Париже
17 июля, наконец, в Москве в сентябре 1990 г. Первоначально мини-
стры условились, что встречи их будут происходить поочередно в
столицах государств - участников переговоров, причем предполага-
лось, что переговоры потребуют довольно много времени. Однако
по желанию германской дипломатии темп переговоров увеличивал-
ся, и до встреч в Лондоне и Вашингтоне очередь не дошла.
После достижения договоренностей в Архызе в середине июля,
на очередной встрече Э. Шеварднадзе с Г.-Д. Геншером 17 августа
было решено завершить разработку договора об окончательном уре-
гулировании в течение кратчайшего срока и подписать его 12 сен-
тября в Москве. Одновременно предстояло завершить разработку
«большого договора» СССР с ФРГ и согласовать основные положе-
ния соглашения об условиях временного пребывания и вывода со-
ветских войск с территории Германии. Задача подготовки этих важ-
ных документов была возложена на профессиональных дипломатов,
в частности, на А. П. Бондаренко и Ю. А. Квицинского, которые на-
правились в Бонн, чтобы провести консультации с представителем
правительства ФРГ Дитером Каструпом.
Германские дипломаты, развивая успех наступательной опера-
ции 1990 года, дали понять и на этой заключительной стадии, что
147
они не хотели бы включать военные ограничения для Германии в
договор, чтобы не создавать впечатления дискриминации Германии.
Они желали ограничиться декларацией германской стороны и при-
ложением к договору. Позицию советских представителей, настаи-
вавших на включении этих положений в договор наряду с условия-
ми вывода советских войск, поддержали французские дипломаты,
лично Роланд Дюма, который элегантно, но категорически рекомен-
довал точно и полно зафиксировать в тексте договора военно-
политические обязательства Германии. Министр иностранных дел
ФРГ Г.-Д. Геншер выразил пожелание, чтобы права и ответствен-
ность четырех держав теряли силу тотчас после подписания догово-
ра, то есть еще до ратификации договора и до заключения соглаше-
ния об условиях пребывания советских войск в Германии. Это озна-
чало бы, что Западная группа советских вооруженных сил осталась
бы на территории Германии без всякого международно-правового
статуса. До последнего момента предметом переговоров оставались
и сроки вывода советских войск. Генштаб СССР полагал, что для
планомерного вывода войск и вывоза имущества требуется, по
крайней мере, 5 лет. Германская дипломатия отводила от 3 до 4 лет,
не более.
Разработка «большого договора» между СССР и ФРГ шла па-
раллельно с переговорами по окончательному урегулированию и по
условиям пребывания и вывода советских войск. На исходный про-
ект договора, переданный советскими дипломатами германским 15
июля 1990 г., был дан ответ 28 августа в виде контрпроекта, в кото-
ром оказались ослабленными статьи, относившиеся к проблемам
безопасности. Германские дипломаты вычеркнули из проекта ряд
положений под тем предлогом, что они не создают качественно но-
вых правовых обязательств для сторон. Между тем, советский про-
ект исходил не только из норм Устава ООН и Заключительного акта
Хельсинки, но и конкретизировал обязательства. Стороны не долж-
ны предпринимать какие-либо действия, которые могут угрожать
безопасности другой стороны. Они должны исключить использова-
ние территории партнеров для агрессивных актов против другой
стороны. Они брали обязательство не оказывать содействия агрессо-
ру, если нападение направлено против одного из участников догово-
ра. Соответственно они должны были перестроить свои вооружен-
ные силы на сугубо оборонительные задачи.
Экономические, финансовые и научно-технические положения
советского проекта также были существенно урезаны, в частности,
исключены такие сферы сотрудничества, как коммерческое исполь-
148
зование космоса, энергетика и транспорт. Однако германская сторо-
на выдвинула на первый план содействие немцам, живущим в
СССР, и т.п.
Представителям СССР пришлось в сжатые сроки провести
сложные переговоры и в конкретных вопросах отстаивать интересы
своей страны. Однако общие рамки достигнутых на высшем уровне
договоренностей и жесткие сроки исполнения ставили, конечно, их
в трудное положение. Как видно из документов и воспоминаний,
германская дипломатия выжимала из достигнутых вверху догово-
ренностей максимум вплоть до последнего момента, тогда как со-
ветским дипломатам было предписано укладываться в отведенные
сроки, причем в рамках «от и до».
Понимание ответственности за выполняемую работу не покида-
ло дипломатов, тогда как политические руководители М. Горбачев и
Э. Шеварднадзе, очевидно, имели гипертрофированное представле-
ние о своих полномочиях решать «судьбоносные» вопросы и после-
довательно сдавали позиции великой державы, не получая взамен
никакой компенсации.
Бывший тогда заместителем министра иностранных дел СССР
Ю. Квицинский в воспоминаниях, вышедших в Германии осенью
1993 г., отмечал: «Дитер Каструп никогда не был удобным партне-
ром. Я уверен, что он то же самое думает обо мне. Это не мешало
нам, однако, хорошо понимать друг друга. Мы оба защищали инте-
ресы своих государств и поэтому питали друг к другу взаимное ува-
жение; в то же время мы знали, что было необходимо эти интересы
увязать и согласовать, при этом не погрязнуть в спорах по частно-
стям»1.
Германская дипломатия, настаивая на том, чтобы на встрече в
Москве был подписан договор об окончательном урегулировании,
полагала, что для этого достаточно уломать советское руководство.
Однако дипломаты трех западных держав припасли сюрприз: при
последнем «проходе» текста договора вечером 11 сентября неожи-
данно обнаружились шероховатости в формулировке военно-
политического статуса территории ГДР после вывода советских
войск. Дело в том, что в Архызе договорились определенно: в пери-
од, когда советские войска находятся на германской территории, там
не должны размещаться никакие подразделения, интегрированные в
НАТО, а лишь германские соединения территориальной обороны;
1 Kwizinskij Yulij, op. cit., S. 59-60.
149
после вывода советских войск бундесвер, естественно, размещался в
новых восточных землях, однако без ядерного оружия.
Накануне подписания договора западные дипломаты дали такое
толкование, что они вправе вводить свои войска на территорию вос-
точных земель, скажем, для проведения маневров. Особую настой-
чивость, схожую с давлением, проявил британский представитель.
Советскому представителю пришлось констатировать, что документ
не готов для подписания. Он предложил прервать заседание. Прие-
хавшие для участия в торжественном акте подписания договора ми-
нистры тотчас были информированы, что подписание не может со-
стояться в назначенный час. Представителям прессы дали понять,
какие возникли трудности.
Первым энергично реагировал Г.-Д. Геншер, который ни в коем
случае не мог допустить откладывания подготовленного договора.
Несмотря на поздний час, он пожелал срочно поговорить со статс-
секретарем Джеймсом Бейкером, который, как сообщили его со-
трудники, уже изволил отдыхать после принятия порции снотворно-
го. Тогда Г.-Д. Геншер выразил решимость в течение получаса
приехать в посольство США и лично разбудить Дж. Бейкера, чтобы
переговорить с ним о сложившейся ситуации и не допустить срыва
церемонии. Геншер договорился с Бейкером. Утром 12 сентября ми-
нистры иностранных дел четырех государств (ФРГ, США, Велико-
британии и Франции) собрались на совещание во французском по-
сольстве. Геншер поставил вопрос ребром перед Р. Дюма и добился
своего. Проблема была решена в форме письменного приложения,
которым правительство ФРГ брало на себя интерпретацию термина
«стационирование» войск. С таким решением согласились все шесть
министров. Препятствие на пути к подписанию было устранено бук-
вально перед самым торжественным актом.
В итоге интенсивной дипломатической работы был разработан
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии,
который и был подписан в Москве 12 сентября 1990 г.
Торжественное подписание договора состоялось в холле гости-
ницы «Октябрьская», позже переименованной в «Президент-отель».
Один из наблюдателей церемонии отметил: «Геншер подписал дого-
вор первым и некоторое время задумчиво крутил ручку с золотым
пером. Его сосед из Восточного Берлина (Л. де Мезьер) вначале то-
же не знал, что делать со своей ручкой. Геншер наклонился к нему и
указал на Дюма. Французский министр улыбнулся и потянулся к
внутреннему карману пиджака. Он уже спрятал свою ручку. У каж-
150
дого из подписавших будет теперь сувенир на память о том дне, ко-
гда открылся путь в новое будущее».
Юлий Квицинский, оказавшийся во время церемонии рядом с
присутствовавшим в зале М. Горбачевым, отметил, что тот изволил
изречь историческую фразу: «Здесь свершилось нечто весьма важ-
ное»1.
Выступивший после подписания договора министр иностранных
дел Э. Шеварднадзе характеризовал этот исторический документ
так: «Это весомый и цельный документ. В его основе лежат учет и
сбалансированность законных интересов всех участвующих сторон.
Это нацеленный в будущее документ». Договор, по существу, опре-
деляет международный статус единого германского государства,
который следует рассматривать в связи с крупными сдвигами в со-
отношении экономических сил в Европе за последние десятилетия.
Международные политические реалии названы в преамбуле догово-
ра. Что касается мотивов подписания и учета интересов каждого из
участников договора, то они были названы в выступлениях подпи-
савших договор министров.
Советский министр Э. Шеварднадзе, отмечая широко распро-
страненные опасения относительно того, как бы не пострадали ин-
тересы нашей страны, особенно интересы ее безопасности, подчерк-
нул: «Мы учитывали эти опасения при разработке Договора об
окончательном урегулировании в отношении Германии, а также все-
го аспекта двусторонних договоренностей с объединенной Германи-
ей. Представляется, что нам удалось получить все необходимые га-
рантии и обязательства, отвечающие реальным условиям и обста-
новке в Европе».
Министр иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншер подчеркнул, что в
короткий срок после «мирной революции» в ГДР оказалось возмож-
ным объединение Германии, которая в соответствии с договором
обретает суверенитет над своими внутренними и внешними делами:
«Мы воспринимаем этот суверенитет как обязанность перед Евро-
пой, - заявил Г.-Д. Геншер. - ...Немцы хотят, чтобы их новое един-
ство служило миру»2. Германский министр, естественно, подчерк-
нул, что с установлением германского единства теряют силу права и
ответственность четырех держав в отношении Берлина и Германии
как целого3. Выражая удовлетворение договором, открывающим
1 Kwizinskij Julij, op. cit., S. 62.
2 Genscher H.-D. Unterwegs zur Einheit, S. 270.
3 Genscher H.-D. op. cit., S. 270.
151
путь к созданию единого германского государства, подписавший
договор премьер-министр ГДР Л. де Мезьер заявил: «Я связываю
свои надежды [на новую Европу] с тем, что объединенная Германия
еще более интенсивно и энергично станет развивать отношения со
своими соседями в Восточной Европе».
Статс-секретарь США Дж. Бейкер отметил значение опыта и ус-
пеха переговоров по формуле «два плюс четыре» для международ-
ных отношений во всем мире, для перехода от конфронтации, сек-
ретности и антагонизма к сотрудничеству, открытости и партнерст-
ву. Министр иностранных дел Великобритании Д. Хэрд заявил по-
сле подписания договора: «Справедливо, что соглашение, оконча-
тельно регулирующее все внешние аспекты германского единства,
было подписано в Москве. Советская политика «нового мышления»
была ключом к решению этой проблемы». Министр Франции
Р. Дюма подчеркнул значение договора для сотрудничества народов
Европы в их продвижении к конфедерации.
Договор об окончательном урегулировании в отношении Герма-
нии, политическая преамбула которого отмечает не только между-
народно-политические реалии, но и цели договора, закрепил также
положения о том, что «немецкий народ, свободно осуществляя пра-
во на самоопределение, изъявил волю к строительству государст-
венного единства Германии», стремление к тому, чтобы стать рав-
ноправным и суверенным участником объединенной Европы; что
объединение Германии в государство с окончательными границами
является значительным вкладом в дело мира и стабильности в Евро-
пе; что вместе с окончательным урегулированием с Германией и
объединением Германии «теряют свое значение права и ответствен-
ность четырех держав в отношении Берлина и Германии в целом».
Десять статей договора четко определяют статус объединенного
германского государства, его территорию, границы, права и ответст-
венность, а также обязательства других участников договора1. Ста-
тья 1 определяет территорию объединенной Германии и оконча-
тельные внешние границы в пределах территории ФРГ и ГДР «со
дня вступления в силу настоящего договора». «Подтверждение
окончательного характера границ объединенной Германии является
существенной составной частью мирного порядка в Европе». В ча-
стности, договор предполагает, что германское государство и Поль-
1 Текст договора от 12 сентября 1990 г. см. в «Сборнике международ-
ных договоров СССР и Российской Федерации», выпуск XI. - М, 1994. -
С. 94- 97.
152
ша подтверждают существующую между ними границу, что имеет
обязательный характер в соответствии с международным правом».
Пункт 3 статьи 1 договора содержит постановление: «Объединенная
Германия не имеет никаких территориальных претензий к другим
государствам и не будет выдвигать таких претензий также в буду-
щем». Германские власти берут на себя обязательства исключить из
конституции такого рода претензии, в частности, по статьям 23 и
146 Основного Закона ФРГ.
Статья 2 закрепляет провозглашенный обоими германскими го-
сударствами тезис, что «с немецкой земли будет исходить только
мир». В соответствии с этим, конституция объединенной Германии
будет рассматривать «действия, могущие и преследующие цель на-
рушить мир между народами, в особенности подготовку к ведению
наступательной войны», как наказуемые действия. «Объединенная
Германия никогда не применит оружие, которым она располагает,
иначе как в соответствии с ее конституцией и Уставом Организации
Объединенных Наций».
Статья 3 четко определяет отказ германского государства от
«производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и
химическим оружием». Объединенная Германия берет на себя это
обязательство, равно как права и обязательства по договору о нерас-
пространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. Участники до-
говора приняли к сведению заявление правительств ФРГ и ГДР от
30 августа 1990 г. об обязательстве сократить в течение 3-4 лет воо-
руженные силы объединенной Германии до 370 тыс. человек. (В
1990 г. бундесвер ФРГ насчитывал 495 тыс. человек, а армия ГДР
170 тыс.).
Статья 4 зафиксировала намерение СССР и ФРГ урегулировать в
договорном порядке условия и сроки пребывания советских войск
на германской территории, а также порядок вывода их к концу 1994
года во взаимосвязи с выполнением обязательств о сокращении гер-
манских вооруженных сил.
Статья 5 договора определила, что вплоть до завершения вывода
советских войск с территории ГДР и Берлина на этой территории
могут размещаться исключительно «немецкие формирования терри-
ториальной обороны, не интегрированные в союзнические структу-
ры». Войска других государств не будут в течение этого периода
размещаться на этой территории или осуществлять там другую во-
енную деятельность. Войска западных держав, по согласованию с
германским правительством, остаются в Берлине, но в количестве,
не превышающем численность на момент заключения договора, и с
153
обязательством не вводить туда новые категории оружия. После вы-
вода советских войск на территории прежней ГДР могут быть раз-
мещены немецкие войска, входящие в военные союзнические струк-
туры, но «без носителей ядерного оружия». «Иностранные войска и
ядерное оружие или его носители не будут размещаться в данной
части Германии и развертываться там».
Вопрос о том, в какой форме будут проводиться учения воору-
женных сил НАТО на территории прежней ГДР после вывода совет-
ских войска, оставался предметом споров вплоть до дня подписания
договора. Еще накануне обсуждение вопроса зашло в тупик, и в день
подписания министрам вновь пришлось вступить в переговоры по
этому отнюдь не первостепенному вопросу. «Советы больше уст-
раивало бы, если бы в маневрах участвовали только военный ор-
кестр и джип с экипажем из двух военнослужащих», - пошутил де
Мезьер. Великобритания заняла непреклонную позицию и потребо-
вала полной свободы передвижения для войск НАТО». Г.-Д. Геншер
проявил инициативу в поисках компромисса и в конечном счете ста-
тья 5 дополнена пунктом, согласно которому ядерное оружие не
может размещаться на этой территории и после 1994 года, а толко-
вание понятия «размещение», или «развертывание», оставлено на
усмотрение германского правительства.
Статья 6 лапидарно и своеобразно зафиксировала признание су-
веренных прав германского государства, в частности право на уча-
стие в союзах: «Право объединенной Германии на участие в союзах
со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами на-
стоящим договором не затрагивается».
Четыре державы заявили, что прекращается действие прав и от-
ветственности в отношении Берлина и Германии, четырехсторонних
соглашений и всех соответствующих органов. «В соответствии с
этим, объединенная Германия обретает полный суверенитет над
своими внутренними и внешними делами» (ст. 7).
Статьи 8- 10 определили порядок ратификации и введения в си-
лу договора, сдачи на хранение ратификационных грамот, а также
депонирования подлинного текста договора на английском, немец-
ком, русском и французском языках.
Одновременно к заключительной встрече по формуле «два плюс
четыре» в Москве были подготовлены и 13 сентября парафированы
проекты соглашений между СССР и ФРГ. Согласно договоренности
между М. С. Горбачевым и Г. Колем, на содержание и вывод совет-
ских войск до конца 1994 года германское правительство обязалось
154
выплатить Советскому Союзу компенсацию в 12 млрд. немецких
марок.
Парафированный текст всеобъемлющего «большого» договора
Советского Союза с Германией был призван подвести черту и окон-
чательно урегулировать двусторонние отношения. По настоянию
договорно-правового управления МИД СССР парафирование исто-
рического документа произошло по всем правилам: инициалы мини-
стров были поставлены на каждой странице текста, а не на одном
только листе, как хотели первоначально упростить процедуру орга-
низаторы церемонии.
Объединение Германии происходило в ускоренном темпе. Внут-
ренние и внешние аспекты урегулирования получили международ-
но-правовое закрепление в следующих основных документах: Дого-
вор о валютном, экономическом и социальном союзе ФРГ и ГДР,
вступивший в силу 1 июля 1990 г.; Договор о становлении государ-
ственного единства, заключенный 31 августа 1990 г.; Договор об
окончательном урегулировании в отношении Германии 12 сентября
1990 г.
Договор от 31 августа 1990 г. о присоединении ГДР к ФРГ еще в
силу не вступил в день торжественного акта присоединения 3 октяб-
ря 1990 г., поскольку он подлежал одобрению четырьмя державами
и объединенной Германией, точнее, ФРГ. Однако 1 октября 1990 г.
четыре державы сделали в Нью-Йорке заявление, что их «права и
ответственность за Берлин и Германию в целом» теряют свою дей-
ственность с момента объединения Германии, то есть еще до вступ-
ления в силу Договора об окончательном урегулировании в отноше-
нии Германии. Для Советского Союза это означало отказ от прав в
отношении Германии еще до заключения соглашения об условиях
временного пребывания и условиях и сроках вывода его войск из
Германии. Советская дипломатия полагалась на великодушие и
щедрость правительства ФРГ, не получив никаких гарантий соблю-
дения прав на свое имущество на территории Германии, на компен-
сацию ущерба жертвам нацистского режима, да и возмещения ва-
лютных расходов на транспортировку войск из Германии в Россию.
5. Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудниче-
стве между СССР и ФРГ от 9 ноября 1990 г.
В ночь на 3 октября 1990 г. в 0 часов 00 минут перестала сущест-
вовать Германская Демократическая Республика, провозглашенная 7
октября 1949 года. Народная палата ГДР, избранная 18 марта 1990 г.
155
и принявшая за короткий срок 164 закона и 93 постановления, на-
правленные на присоединение ГДР к ФРГ, провела 2 октября 1990 г.
в Берлине свое последнее заседание, на котором было объявлено о
ликвидации ГДР и вхождении пяти земель бывшей территории ГДР
(Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония - Ан-
гальт, Саксония и Тюрингия) в Федеративную Республику Герма-
нию. В «Шаушпильхауз» вечером был дан праздничный концерт, на
котором была исполнена Девятая симфония Бетховена. На Марктп-
лац в Бонне на сцене перед ратушей оркестр и хор исполнили бетхо-
венскую «Оду радости». Торжественные шествия в тот вечер были
проведены в Берлине, Бонне и других германских городах.
Накануне торжеств по случаю объединения Германии Федераль-
ный конституционный суд в Карлсруэ принял решение об отмене
избирательного закона, оформленного в конце августа 1990 г. в виде
договора и принятого парламентами обоих германских государств.
Этот закон давал возможность большим партиям - ХДС и СДПГ
использовать в своих интересах соотношение сил и ситуацию, сло-
жившуюся в новых землях: партиям на территории собственно ФРГ
достаточно было бы получить 6% голосов, чтобы попасть в бундес-
таг, а партиям на территории ГДР необходимо было бы получить
24% голосов. Не только партия «зеленых» и ПДС, но и республи-
канцы решительно протестовали против неравенства шансов партий
на выборах. Министр внутренних дел ФРГ В. Шойбле высказался
за раздельное применение пятипроцентной оговорки для ФРГ и
ГДР. Судьи «в бордовых мантиях» высказались за применение
пятипроцентной оговорки для партий по их землям. Федеральный
конституционный суд признал антиконституционной единую для
всей территории Германии пятипроцентную оговорку. В соответст-
вии с этим решением был пересмотрен избирательный закон, дав-
ший в новом варианте определенные шансы партиям в ГДР провести
своих депутатов в общегерманский парламент.
На второй день после объединения Германии, 4 октября 1990 г.,
в здании рейхстага в Берлине состоялось заседание общегерманско-
го парламента, в который наряду с членами бундестага были вклю-
чены 144 депутата Народной палаты ГДР. На этом заседании пять
министров без портфеля, включенных в федеральное правительство
из числа бывших депутатов Народной палаты, приняли присягу. Фе-
деральный канцлер Г. Коль выступил с правительственным заявле-
нием, в котором выразил благодарность «всем, кто способствовал
процессу объединения Германии», особенно президенту М. С. Гор-
бачеву, признавшему право немцев на выбор своего пути. «Без
156
войны, без насилия, без кровопролития, в полном согласии с наши-
ми соседями и партнерами мы смогли восстановить единство Гер-
мании в условиях свободы», - заявил Г. Коль. Он подчеркнул труд-
ности преодоления «глубокого психологического, экономического и
экологического кризиса, который оставил нам в наследство социа-
лизм и коммунизм». Канцлер подтвердил принадлежность Германии
к Атлантическому союзу и уверенность в том, что объединение Гер-
мании будет способствовать общеевропейскому «мирному поряд-
ку». Что касается Советского Союза, то глава правительства ФРГ
отметил, что на переговорах с М. С. Горбачевым в Ставрополье бы-
ли созданы предпосылки качественно новых отношений между дву-
мя государствами, что получает отражение в подготовленных дого-
ворах и соглашениях.
Затем 5 октября 1990 г. собрался на рабочее заседание общегер-
манский парламент в составе 305 депутатов ХДС/ХСС, 56 депутатов
СвДП, 225 депутатов СДПГ, 49 депутатов партии «зеленых». На
правительственных скамьях заняли места 5 министров по особым
поручениям, представлявшие бывшую ГДР. На этом заседании был
принят значительным большинством избирательный закон, по кото-
рому пятипроцентный барьер должен применяться для партий раз-
дельно на территории ФРГ и ГДР. Общегерманский парламент
одобрил Договор об окончательном урегулировании в отношении
Германии, подписанный 12 сентября 1990 года.
В воскресенье 14 октября 1990 г. в новых (восточных) землях,
образованных на территории бывшей ГДР, были проведены выборы
в земельные парламенты - ландтаги. Итоги выборов в четырех из
пяти земель были в пользу христианских демократов и либералов. В
одной земле - Бранденбурге добился успеха кандидат социал-
демократов церковный деятель Манфред Штольпе. СДП получила
36 мандатов в ландтаге (38,3% голосов). Партия демократического
социализма получила от 9 до 14% голосов в ландтагах земель, что
ниже, чем на выборах в Народную палату ГДР в марте, но выше, чем
предсказывали со стороны.
В итоге довольно скрупулезных переговоров в Бонне 9 и 12 ок-
тября 1990 г. были подписаны соглашения между правительствами
ФРГ и СССР относительно «переходных мер» и условий временного
пребывания и планомерного вывода советских войск с германской
территории1. Соглашения, подписанные советским послом в Бонне
В. П. Тереховым с министром финансов ФРГ Т. Вайгелем и минист-
1 Bulletin. Presse und Informationsamt der Bundesregierung. Bonn, den 17.
October 1990, S. 1281-1300.
157
ром иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншером, предусматривали
условия пребывания и вывода советских войск в период с 1991 по
1994 гг.
Соглашение о переходных мерах от 9 октября 1990 г. определяет
район или «территорию пребывания» советских войск (федеральные
земли Бранденбург, Мекленбург, Саксония, Саксония - Ангальт и
Тюрингия, а также районы земли Берлин) в период с 1991 по 1994
годы. В соответствии с соглашением, создан и передан в распоряже-
ние советской стороны специальный фонд для обеспечения расхо-
дов, связанных с пребыванием советских военнослужащих и членов
их семей, а также для обеспечения вывода войск до 1994 года. Пре-
дусмотрена сумма в 3 млрд. марок на период с 1991 по 1994 гг., в
том числе 1,2 млрд. марок на 1991 год; на транспортные расходы
при поэтапном выводе советских войск выделен еще 1 млрд. марок.
Сумма в 7,8 млрд. марок выделена на специальную программу
строительства «под ключ» жилых домов под контролем германской
стороны в европейской части Советского Союза для семей совет-
ских военнослужащих, выводимых из Германии. Выделенная сумма
в 7,8 млрд. марок предназначалась для сооружения 36 тысяч квар-
тир, тогда как потребность составляла примерно 50 тысяч квартир.
Объявлено, что бюджет Министерства обороны Российской Феде-
рации предусматривает финансирование строительства 22 тысяч
квартир для своих офицеров. Программа определяла сооружение 4
домостроительных комбинатов, каждый из которых мог бы созда-
вать 100 тыс. кв. метров жилья в год.
В течение 1990 г. ФРГ оказала Советскому Союзу ощутимую
помощь: федеральное правительство оплатило поставки продоволь-
ствия на сумму в 200 млн. марок; поставки были осуществлены из
резервов на случай кризиса в Берлине. Оно выразило готовность вы-
полнить обязательства ГДР в связи с пребыванием советских войск в
сумме 1,25 млрд. марок в 1990 г. ФРГ пошла на обмен накоплений
советских военнослужащих в марках ГДР на марки ФРГ.
Договор об условиях временного пребывания и возможностях
планомерного вывода советских войск с территории Федеративной
Республики, подписанный министром иностранных дел ФРГ
Г.-Д. Геншером и послом СССР В. Тереховым 12 октября 1990 г.,
определяет в 27 статьях и 4 приложениях международно-правовые
аспекты пребывания и вывода советских войск из Германии1.
Договор регламентирует общие правила временного пребывания
советских войск в землях ФРГ, их планомерного вывода, примене-
1 Bulletin , Bonn, den 17. October 1990, S. 1281-1283.
158
ние мер контроля над вооружениями и мер доверия, обучения совет-
ских войск, регулирует воздушное сообщение, использование
средств связи и радиочастот, проблемы охраны окружающей среды,
здравоохранения, снабжения, таможенного контроля, юрисдикции,
правовой помощи и т.п.
Заключенные в октябре 1990 г. соглашения создали серьезную
правовую базу не только для обеспечения дальнейшего пребывания
советских войск на германской территории, но и для организованно-
го планомерного вывода их в установленные сроки.
Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между
СССР и ФРГ, парафированный министрами иностранных дел 13
сентября 1990 года в Москве, был подписан М. С. Горбачевым и
Г. Колем 9 ноября 1990 г. в Бонне. Преамбула и статья 1 договора
провозглашают общие цели и принципы взаимных отношений двух
государств, причем стороны подтвердили свою приверженность по-
ложениям Устава ООН, Заключительного акта общеевропейского
совещания. Сделав ссылку на Договор об окончательном урегулиро-
вании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, стороны да-
же не упомянули Московский договор от 12 августа 1970 года. Ста-
тья 2 закрепила обязательство сторон уважать территориальную це-
лостность «всех государств в Европе в их нынешних границах». Два
государства заявили, что «не имеют каких-либо территориальных
претензий к кому бы то ни было и не будут выдвигать их и впредь»,
что они рассматривают сейчас и в будущем как нерушимые границы
всех государств в Европе, как они проходят на день подписания на-
стоящего Договора.
Договор окончательно решил в четкой политической и юридиче-
ской форме вопрос о восточной границе по Одеру и Нейсе: объеди-
ненная Германия включает территории собственно ФРГ и ГДР - «не
больше и не меньше». «Тем самым, - как отметил заместитель ми-
нистра иностранных дел СССР Ю. А. Квицинский в интервью кор-
респонденту ТАСС, - окончательно решается и вопрос о Калинин-
градской области как неотъемлемой составной части территории
СССР»1.
Основные положения договора, состоящего из 22 статей, можно
свести к следующим пунктам.
1. Отказ от применения силы или угрозы силой, решение споров
исключительно мирными средствами, обязательство не применять
первыми своих вооруженных сил друг против друга или против
третьих государств. По существу, стороны взяли обязательство о
Известия. - 1991. - 15 февраля.
159
ненападении. «В случае если одна из сторон станет объектом напа-
дения, другая сторона не будет оказывать нападающему какой-либо
военной помощи или иного содействия и примет все меры к улажи-
ванию конфликта с использованием принципов и процедур Органи-
зации Объединенных Наций и других структур коллективной безо-
пасности» (статья 3). Это положение можно считать равным обяза-
тельству соблюдать нейтралитет в случае нападения на одну из сто-
рон.
2. Обязательство сторон проводить регулярные консультации с
целью дальнейшего развития сотрудничества и согласования пози-
ций по международным вопросам (статьи 6 и 7).
Объединение Германии ставилось в прямую связь с общеевро-
пейским процессом, созданием новой системы европейской безо-
пасности и реализацией достигнутых договоренностей. В частности,
парижские (1990 года) договоренности предусматривали сокраще-
ние войск и вооружений в Европе и определенные меры доверия,
основанные на предпосылке: государства, входящие в блоки НАТО
и ОВД, больше не рассматривали себя противниками.
3. Обеспечение двустороннего сотрудничества в области эконо-
мики, транспорта, науки и техники, охраны окружающей среды на
долговременной основе, на основе соглашения о научно-
техническом сотрудничестве от 22 июля 1986 г., соглашения по ох-
ране окружающей среды от 25 октября 1988 г.
4. Развитие общеевропейского процесса, развитие единого пра-
вового, экономического, культурного и информационного простран-
ства, соблюдение принципа оборонной достаточности, контроля над
вооружениями.
Германия взяла обязательство не иметь ядерного, химического и
бактериологического оружия, сократить бундесвер до уровня в 370
тысяч человек, то есть в два раза в сравнении с суммарным количе-
ством вооруженных сил ФРГ и ГДР по состоянию на 1990 год (соот-
ветственно 495 тыс. и 170 тыс.).
Отдельно следует отметить, что для пяти германских земель (на
территории бывшей ГДР) установлен особый статус: после вывода
советских войск там не должно быть никаких иностранных воору-
женных сил и никаких носителей ядерных зарядов.
5. Гуманитарное сотрудничество между двумя странами преду-
сматривает сохранение памятников культуры, содействие культур-
ным обменам. Правительство ФРГ заявило, что сооруженные на не-
мецкой территории памятники советским гражданам - жертвам вой-
ны и тирании будут находиться под защитой немецких законов. Со-
160
ветское правительство взяло обязательство обеспечить доступ к
могилам немцев на советской территории, их сохранение и уход за
ними.
Договор предусматривает сотрудничество двух стран в самых
разных сферах: от правовой помощи в гражданских и семейных де-
лах до борьбы с организованной преступностью и незаконным об-
ращением с наркотиками. Он заключен на 20 лет с автоматическим
продлением на последующие пять лет, если нет заявления одной из
сторон о денонсации за год до истечения срока действия договора.
Тогдашний заместитель министра иностранных дел СССР Юлий
Квицинский вместе с командой, конечно, выполнил сложную рабо-
ту, подготовив в сжатые сроки «большой договор». С профессио-
нальной точки зрения у него были основания написать в мемуарах,
что завершилась большая глава истории и открылась новая глава
истории советско-германских отношений. Он подчеркивает: «Мы
работали для будущего». Однако с исторической точки зрения эта
глава советско-германского сотрудничества оказалась весьма крат-
кой: развал Советского Союза в течение последующего года привел
к тому, что проблема сузилась до отношений усилившейся Герма-
нии с ослабленной Россией. В этом смысле сохранение достигнутых
договоров и соглашений, развитие отношений между Россией и
Германией на достигнутой тогда базе, но в новых условиях, конеч-
но, отвечает интересам Российской Федерации. В новой ситуации
Россия не сможет получить лучших условий, чем можно было обес-
печить в 1990 году. Будущее России можно надежно обеспечить
только на основе применения позитивного опыта сотрудничества со
всеми государствами Европы и Азии, в том числе и с Германией.
Именно поэтому из опыта окончательного урегулирования с Герма-
нией необходимо извлечь уроки, особенно в части, касающейся
упущенных возможностей в развитии экономического, научно-
технического и культурного сотрудничества.
Видимо, не было случайным, что уже осенью 1990 г. обществен-
ное мнение в стране критически оценило деятельность Э. Шевард-
надзе в качестве министра иностранных дел СССР. «Консерваторы»
и «демократы» скептически отнеслись к победным реляциям мини-
стра с «советско-германского театра», особенно в связи с тем, что
весь мир оказался перед свершившимся фактом - присоединением
ГДР к ФРГ. Между тем, до 3 октября 1990 г. оставался в силе союз-
ный договор между СССР и ГДР, подписанный 7 октября 1975 года.
Каковы международно-правовые последствия объединения Гер-
мании путем включения ГДР в германскую федерацию? ГДР пере-
161
стала существовать как государство, утратив свою правосубъект-
ность. Это, однако, не означает, что автоматически потеряли силу
все заключенные ею ранее договоры и соглашения, особенно эконо-
мические обязательства. ГДР была самым крупным экономическим
партнером Советского Союза. За 40 лет в общей сложности заклю-
чено примерно 400 договоров, соглашений, протоколов, которые
регулировали отношения сотрудничества не только между прави-
тельствами, но и многочисленными отраслями, учреждениями и
предприятиями. При урегулировании отношений ФРГ и СССР сто-
роны договорились, что в течение полутора лет после вступления в
силу Договора о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве бу-
дут проведены переговоры по судьбе всех указанных соглашений.
Объявленная цель переговоров состояла в том, чтобы сохранить и
использовать положительный опыт и сложившиеся связи, чтобы
общий объем экономического и научно-технического сотрудничест-
ва «восточных» земель с Советским Союзом в ближайшие годы был
увеличен. «Двусторонние договоры или соглашения между СССР и
ГДР не будут в одностороннем порядке, то есть без предваритель-
ных консультаций, расторгаться или пересматриваться», - заявил
заместитель министра иностранных дел СССР Ю. А. Квицинский,
ссылаясь на состоявшийся 9 ноября 1990 г. обмен письмами между
МИД СССР и иностранным ведомством ФРГ.
Посольство ГДР в Москве еще 3 сентября 1990 г. сделало пред-
ложение советскому правительству прекратить действие союзного
договора от 7 октября 1975 г., поскольку один из партнеров принял
решение прекратить свое существование. Однако простой деклара-
ции одной стороны было явно недостаточно: в свое время договор
был ратифицирован парламентами обоих государств. Требовалось
решение еще существующего Верховного Совета СССР. Предложе-
ние поставить вопрос о договоре в Верховном Совете было положе-
но на стол М. С. Горбачева, но, похоже, оказалось в долгом ящике.
Председатель Верховного Совета А. Лукьянов поставил 1 октяб-
ря 1990 г. на обсуждение вопрос о договоре с ГДР на пленарном за-
седании. Депутаты не удовлетворились информацией заведующего
отделом МИД СССР А. П. Бондаренко и потребовали отчета более
высокого чина. Сам министр оказался в поездке. В парламент явился
первый заместитель А. Ковалев. Был вызван на заседание внешне-
политического комитета еще один заместитель министра Ю. Кви-
цинский, несмотря на то что был болен. Состоялись «слушания», в
ходе которых критике подверглась вся политика в отношении Гер-
мании. Лишь к 4 октября в Верховном Совете выработана резолю-
162
ция, которая констатировала факт: договор потерял силу. Секретарь
ЦК КПСС депутат В. Фалин дал при этом свою оценку деятельности
МИД СССР.
12 октября 1990 г. Э. Шеварднадзе выступил во внешнеполити-
ческом комитете Верховного Совета СССР с изложением всего па-
кета договоров по германскому урегулированию, затем обсуждение
состоялось на совместном заседании обеих палат.
С самого момента завершения германского урегулирования обо-
значились две точки зрения не только среди практиков, но и публи-
цистов по вопросу о том, что предопределило присоединение ГДР к
ФРГ: внутренний фактор - нестабильность экономического и соци-
ального положения ГДР или внешний фактор - позиция, занятая ру-
ководителями СССР. Ю. Квицинский как участник процесса урегу-
лирования с Германией, естественно, убежден, что дипломаты дей-
ствовали правильно и в сложившейся ситуации «вопреки всему дос-
тигли наилучшего результата». Однако историку трудно согласиться
с объяснением одного из участников урегулирования, которому по-
ручали дипломатическое оформление принятых решений и достиг-
нутых договоренностей, что принятие решений в ущерб интересам
СССР было неотвратимо. Особенно это очевидно, если учесть, что
ряд решений и уступок М. Горбачев предпринимал до наступления
решающего момента, скажем, до исхода выборов в ГДР или до по-
становки вопросов об уступках ФРГ западными державами и т.д.
Вскоре после заключения «большого договора» между СССР и
ФРГ Э. Шеварднадзе заявил в Верховном Совете 20 декабря 1990 г.
о своей отставке. Очевидно, среди мотивов такого решения было и
осознание несостоятельности его деятельности на германском на-
правлении или обида за непризнание его «титанических» усилий.
Он, видимо, надеялся, что М. Горбачев не примет такую жертву, по-
просит остаться, чтобы вместе продолжать начатое дело. Однако М.
Горбачев, похоже, не склонен был к сантиментам. Министром ино-
странных дел СССР был назначен карьерный дипломат А. Бес-
смертных, выросший в дипломатическом ведомстве, знающий не
только отношения с США, но и имеющий широкую дипломатиче-
скую подготовку, а главное, понимающий, что такое субординация в
дипломатической службе. Отныне М. Горбачеву нужен был в МИД
СССР не политический деятель, а исполнительный статс-секретарь.
Глава IV
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
1. Завершение процесса объединения Германии. Итоги
выборов в Германский бундестаг 2 декабря 1990 г.
В 1991 году истекал срок полномочий Германского бундестага
(XI-й легислатуры), избранного в январе 1987 года. Первоначально
предполагалось, что в установленные сроки будут проведены выбо-
ры в высший законодательный орган собственно ФРГ. Объедини-
тельный процесс начался как бы внутри ГДР, по инициативе населе-
ния подлежащего ликвидации государства. Параллельно усилиями
правительства ФРГ и созданного на скорую руку правительства ГДР
происходили переговоры по регулированию внешних аспектов гер-
манского объединения. Создание валютного, экономического и со-
циального союза, а затем принятие законов ФРГ для территории
ГДР подготовили включение ГДР в состав ФРГ на основе статьи 23
Основного Закона ФРГ. Общегерманские выборы были назначены
на 2 декабря 1990 года, и, таким образом, стали завершением про-
цесса объединения и его легализации, а не форумом для объедине-
ния двух германских государств и создания нового государства. В
центре внимания общегерманских выборов 1990 г. оказались не со-
циально-экономические программы политических партий, а резуль-
таты политики правоцентристской коалиции за истекший 1990 год.
Как представили парламентские партии свои достижения и про-
граммы?
Христианские демократы во главе с Г. Колем уверенно постави-
ли на первый план в предвыборных декларациях два существенных
фактора: успехи своей экономической политики и объединение Гер-
мании. «Вдохнув новую жизнь в социальное рыночное хозяйство,
мы сумели вывести Германию из кризиса 1982 года и заложить ос-
новы для самого длительного за всю послевоенную историю страны
периода экономического подъема», - говорилось в предвыборном
заявлении ХДС. «Делая ставку на социальное рыночное хозяйство,
ХДС берет курс на второе немецкое экономическое чудо, на этот раз
в объединенной Германии»1.
1 «Inter Nationes» Sonderdienst. SO-12, 1990, S. 34.
164
Либералы сделали, естественно, упор на то, что именно СвДП
обеспечила успешную внешнюю политику ФРГ и достижение не-
мецкого единства: «Вот уже более двух десятилетий министры ино-
странных дел из рядов либеральной партии проводят политику ра-
зума, мира, свободы и прогресса. Мы хотим продолжить успешную
политику Вальтера Шееля и Ганса-Дитриха Геншера. Объединенная
Германия, демократическая и мощная экономически, должна внести
решающий вклад в дело стабильности, прогресса и благосостояния
во всей Европе и в мире. Сотрудничество вместо соперничества и
равноправие вместо гегемонии должны стать ключевыми понятиями
90-х годов». Либералы конкретно сформулировали свой подход к
Европе: «Цель СвДП - развитие Европейского сообщества (ЕС) в
Европейский союз, то есть федеративное государство на основе де-
мократической конституции. Мы считаем, что Европейский парла-
мент должен быть наделен широкими законодательными полномо-
чиями. Он должен избирать Комиссию ЕС в качестве Европейского
правительства. Следует, как и предусмотрено, завершить к 31 декаб-
ря 1992 года создание внутриевропейского рынка» .
Социал-демократы сделали основной упор на наличие у них про-
граммы из 100 пунктов на будущее, в разработке которой принял
заметное участие О. Лафонтен. Им не удалось перехватить у ХДС
инициативу в процессе объединения Германии, однако в течение
1990 года они внесли коррективы в свою «германскую политику»:
«Мы стоим на пороге новой эпохи. Завершилось послевоенное вре-
мя, преодолено разделение Германии. Объединились две части не-
разрывного целого. Немцы снова живут в едином государстве. Те-
перь на очереди улучшение условий жизни людей. Это основная за-
дача ближайшего будущего».
«Зеленые» признавали, что они не хотели объединения обоих
германских государств, во всяком случае, «в форме аншлюса» ГДР к
ФРГ. Они исходили при этом из того, что мощное государство с на-
селением в 80 миллионов человек в центре Европы несет угрозу уг-
нетения своих менее крупных соседей: «... Мы не хотим превраще-
ния Германии в мировую державу»2. «Германская политика «зеле-
ных» направлена теперь на две цели, - говорилось в предвыборном
заявлении. - Во-первых, по возможности ограничить ущерб для на-
селения ГДР в экономической и социальной областях, во-вторых, в
соответствии с требованием добиться замены Основного Закона
1 Ibid., S. 50.
2 «Inter Nationes», 1990, SO-12, S. 56.
165
Конституцией, опирающейся на легитимацию со стороны населения.
«Зеленые» поддержали «Союз-90», в котором объединились перед
выборами в марте 1990 г. правозащитные движения на территории
ГДР: «Новый форум», «Демократия сейчас», «Инициатива за мир и
права человека», а также «Независимый женский союз».
По существу, водоразделом в получении одобрения со стороны
избирателей на общегерманских выборах 1990 г. стал вопрос об от-
ношении к объединению Германии. Отмечая свой вклад в этот про-
цесс, происходивший в ускоренном темпе. Г. Коль и Г.-Д. Геншер
предстали в глазах немцев в роли ведущих поезд германского един-
ства на высокой скорости, а О. Лафонтен и другие деятели в роли
созерцателей, сомневающихся в успешном движении к намеченной
цели. И в 1990 году, как это бывало всегда в германской истории,
«средний немец» с его здравым смыслом отдал предпочтение ус-
пешной политике сегодня (в 1990 году - это твердая немецкая марка
и единый фатерланд), а не привлекательным социальным проектам
на будущее.
«Правая партия республиканцев» во главе с Шёнхубером полу-
чила возможность вести свою предвыборную агитацию и на терри-
тории бывшей ГДР, где она считалась запрещенной. Влияние партии
на общефедеральном уровне заметно ослабло за год с осени 1989
года: численность ее упала с 30 тыс. человек в 1988 г. до 12 тыс. че-
ловек в 1990 г. Это и понятно: мог ли Шёнхубер предстать большим
выразителем национальных интересов, чем сам канцлер Г. Коль -
объединитель всех немцев?
Выборы в германский бундестаг 2 декабря 1990 года впервые
проводились в 328 избирательных округах, охвативших не только
все земли ФРГ (248 округов), но и пять новых земель и Берлин. В
выборах принимали участие примерно 60 млн. избирателей, в том
числе 48 млн. избирателей западных земель и 12 млн. избирателей
восточных земель. В соответствии с избирательной системой ФРГ в
общегерманский бундестаг предстояло избрать персонально 328 де-
путатов прямым голосованием и 328 депутатов по партийным спи-
скам, так сказать, вторыми голосами избирателей, подаваемыми за
ту или иную партию. В общей сложности в предвыборной кампании
участвовали 40 партий, однако к цели пришли только пять.
Убедительную победу на выборах одержал «канцлер для Герма-
нии» Г. Коль, блок ХДС/ХСС, получивший 44,1% голосов избирате-
лей, 319 мандатов из 656. Партнер по коалиции - СвДП получил
11% голосов избирателей, 70 мест в бундестаге. Несомненно, это
следует отнести за счет позитивной оценки немцами умелой, гибкой
166
дипломатии Г.-Д. Геншера, успехам которого содействовал Эдуард
Шеварднадзе. СДПГ получила 33,5% голосов избирателей, 230 ман-
датов в бундестаге. Оскар Лафонтен - кандидат социал-демократов
не смог убедить большинство избирателей в настоятельной необхо-
димости новой экономической и экологической политики. «Союз-
90/зеленые» - своеобразное общефедеральное объединение избира-
телей («Союз-90» образовали перед выборами в ГДР в марте 1990 г.
правозащитные движения: «Новый форум», «Демократия сейчас»,
«Инициатива за мир и права человека», а также «Независимый жен-
ский союз») - получил 5,2% голосов и 8 мест в бундестаге. Партия
«зеленых» как таковая, имевшая в прежнем бундестаге (1987 г.) 42
места, получила 4,8% голосов (т.е. не преодолела пятипроцентный
барьер) и не смогла провести в бундестаг ни одного из своих пред-
ставителей. Особенно проблематичными были шансы Партии демо-
кратического социализма (ПДС) во главе с Г. Гизи провести своих
депутатов в общегерманский бундестаг. ПДС, насчитывавшая в
1990 г., по официальным данным, 350 тыс. членов, получила при-
мерно 2% от общефедерального числа избирателей, однако 10% от
числа избирателей в пяти землях на территории бывшей ГДР. Это
обеспечило ей 17 мест в бундестаге, что следует признать большим
успехом партии, если учесть, в каких сложных политических и пси-
хологических условиях ей пришлось вести борьбу за выживание в
течение года. Следует также отметить, что праворадикальная партия
республиканцев не смогла пробиться в бундестаг, что свидетельст-
вует о том, что правоцентристские партии ХДС и ХСС удерживали
за собой правый фланг политического ландшафта ФРГ.
В Берлине одновременно с выборами в бундестаг 2 декабря
1990 г. были проведены выборы в городское собрание депутатов -
парламент города. Своеобразие выборов в Берлине состояло в том,
что на 200 мест в городском собрании был выдвинут 1271 претен-
дент. И здесь ХДС получил относительное большинство голосов и
соответствующее число мест. На втором месте социал-демократы, а
на третьем - Партия демократического социализма, за которую в
Восточном Берлине голосовали 23% избирателей. «Зеленые» вместе
с «Союзом-90» и «Независимым женским союзом» образовали еди-
ную фракцию. Свободные демократы получили 7% голосов. Ульт-
раправым, в том числе республиканцам, не удалось провести своих
людей в городское собрание Берлина.
Первое заседание Германского бундестага, избранного 2 декабря
1990 г., состоялось в здании обновленного рейхстага в Берлине
20 декабря. Его открыл старейший депутат, почетный председатель
167
СДПГ Вилли Брандт. Депутаты избрали председателем бундестага
Риту Зюсмут, члена ХДС с 1981 г. (она была председателем бундес-
тага в период с 1987 по 1990 год). На место председателя бундестага
рассчитывал последний премьер-министр ГДР Лотар де Мезьер, од-
нако из-за отвергнутых, но не опровергнутых обвинений в сотруд-
ничестве под кличкой «Черни» со службой безопасности ГДР «Шта-
зи» он был вынужден сойти с политической арены. После оформле-
ния сделки с канцлером Г. Колем по присоединению ГДР к ФРГ
осенью для Лотара де Мезьера была специально учреждена долж-
ность заместителя председателя партии ХДС, предоставлено место
министра по особым поручениям в правительстве ФРГ, взвешива-
лась возможность избрания его в число руководителей бундестага...
По установленному в бундестаге порядку фракции могут создавать
только партии, имеющие не менее 5% мест в бундестаге, то есть не
меньше тридцати четырех. Это означало, что депутаты не только
«Союза-90/зеленых», но и ПДС не могли получить статус парла-
ментской фракции. На середину января 1991 г. - время после рожде-
ственских каникул - было назначено заседание бундестага для ре-
шения вопросов организации бундестага и состава правительства.
Избрание Г. Коля СвДП считала проблематичным, если он не согла-
сится включить в программу введение «пониженного налога» в но-
вых (восточных) землях, на чем настаивала СвДП (О. Ламбсдорф).
СвДП, полагавшая, что именно ее успешная внешняя политика
обеспечила германское единство, чувствовала себя уверенно после
выборов в бундестаг и претендовала на свою долю в разделении
правительственной ответственности на ближайшее время. В социал-
демократической партии, насчитывавшей 900 тыс. членов, исход
выборов в бундестаг углубил кризис. Почетный председатель В.
Брандт сделал вывод, что в предвыборной кампании не надо было
делать акцент на «цене единства», подчеркивать социальные из-
держки германского единства. Через день после выборов в бундес-
таг председатель СДПГ Х.-И. Фогель высказался за то, чтобы О. Ла-
фонтен возглавил фракцию в бундестаге и стал председателем пар-
тии. Оскар Лафонтен предпочел остаться премьер-министром земли
Саар и заместителем председателя партии. Таким образом, предсе-
дателем фракции остался Х.-Й. Фогель, а баллотироваться на место
председателя партии согласился премьер земли Шлезвиг-Гольштейн
Бьерн Энгхольм.
Избрание федерального канцлера общегерманским парламентом
затянулось более чем на месяц. До середины января продолжался
торг внутри коалиции об условиях формирования нового кабинета.
168
На заседании бундестага 17 января 1991 г. Г. Коль значительным
большинством голосов был избран федеральным канцлером. Из 644
депутатов за Г. Коля отдали свои голоса 378 депутатов, против - 257
при 9 воздержавшихся.
В новый кабинет вошли министры прежнего состава правитель-
ства, при этом сохранили свои портфели министры иностранных
дел, внутренних дел, обороны, финансов, технологии, труда, почты,
экологии, сельского хозяйства. Особенность формирования коали-
ции заключалась в том, что ХСС получил четыре места в правитель-
стве (на одно место меньше прежнего), а СвДП - пять мест (на одно
больше прежнего); из политических деятелей, представляющих вос-
точные земли, три стали министрами в федеральном правительстве.
Поздравляя Г. Коля с избранием на должность федерального
канцлера 18 января 1991 г., президент СССР М. С. Горбачев выразил
пожелание успешной реализации возможностей, которые открыло
объединение Германии. Президент и канцлер подтвердили в ходе
беседы по телефону свою решимость следовать в отношениях между
СССР и Германией достигнутым договоренностям и соглашениям,
«несмотря на неизбежные трудности во внутренних делах».
2. Роль советской дипломатии
(свидетельства современников)
Окончательное германское урегулирование - сюжет столь ост-
рый для нашей страны, да и для других стран Европы, что, конечно,
уже сразу после события последовал целый ряд и политологических,
и исторических исследований этого сюжета. Однако и спустя почти
два десятилетия со времени этого урегулирования, не только в Гер-
мании, но и в России продолжаются поиски ответа на вопросы отно-
сительно реальных последствий объединения Германии, высказы-
ваются и апологетические, и критические оценки. Официальная до-
кументальная версия хода урегулирования дополняется публици-
стическими и мемуарными публикациями вслед за отдельными вы-
сказываниями участников и свидетелей событий.
Задача исследователей заключается, на наш взгляд, в том, чтобы
не только воссоздать цельную картину событий, но и дать объектив-
ную оценку итогов развития, чтобы можно было извлечь уроки из
недавнего политического опыта и строить внешнюю политику госу-
дарства и новую систему международных отношений в Европе на
основе научного осмысления и использования и позитивных резуль-
татов, и негативных последствий этого опыта.
169
Урегулирование «германского вопроса», который на протяжении
более четырех десятилетий после второй мировой войны был основ-
ной причиной международной напряженности не только в Европе,
но и в мире, можно считать чудом, особенно если иметь в виду его
темпы и итог. Правительства стран и Западной, и Восточной Европы
имели основания поздравить правительство ФРГ, особенно феде-
рального канцлера Г. Коля и вице-канцлера, министра иностранных
дел Г.-Д. Геншера с блистательным осуществлением идеи герман-
ского единства и достижением мирными средствами стратегической
цели - объединения двух германских государств, точнее, присоеди-
нения ГДР к ФРГ.
Экономический, социальный и политический кризис в странах
Восточной Европы, особенно в СССР и ГДР, представляется глав-
ной причиной изменения соотношения сил. Ослабление позиций
Советского Союза в Европе - вот коренная причина и обстоятельст-
во, которое использовала германская дипломатия для реализации
своей национальной цели. Следует отметить исторический факт:
ослабление военных позиций России в Европе равнозначно усиле-
нию Германии. Так это было в XIX веке, когда после поражения
России в Крымской войне Германия объединилась, выиграв войну с
Францией при нейтральной позиции России. В XX веке этот фактор
дважды имел значение в итоге первой и второй мировых войн.
Немецкий исследователь Карл Кайзер так оценивал событие:
«Объединение Германии и выработка связанного с ним междуна-
родного урегулирования представляют собой величайший триумф в
дипломатии послевоенного времени и означает для Федеративной
Республики величайшее и успешно выдержанное испытание на на-
дежность со времени ее основания»1. Произошло коренное измене-
ние расстановки сил. Изменения в Европе рассматриваются как тек-
тонического масштаба крушение послевоенного международного
порядка.
К. Кайзер воздал должное прежде всего личностям и идеям по-
литических деятелей - президента Дж. Буша и его статс-секретаря
Дж. Бейкера, которые умело использовали рычаги власти США для
воздействия на партнеров по урегулированию. «В Советском Союзе,
- отмечает германский политик, - у власти стоял в лице Михаила
Горбачева президент, который был полон решимости даже вопреки
большой оппозиции внутри страны отойти от застарелого комму-
1 Kaiser Karl. Deutschlands Vereinigung. Die internationalen Aspekte.
Bonn, 1991, S. 16.
170
низма, отказаться от сохранения империи, которую невозможно бы-
ло сохранить, и принципиально заново построить отношения с Запа-
дом. На его стороне в лице Эдуарда Шеварднадзе - министр ино-
странных дел, который оказался, пожалуй, первым из глав этого ве-
домства, понявшим дипломатию как искусство компромисса»1.
Примечательно, что оценка единения немцев как триумфа уди-
вительно совпадает с оценкой президентом США окончания холод-
ной войны как победы Запада над «империей зла». Действительно, в
Европе произошли изменения тектонических масштабов. При этом
удовлетворение немцев, естественно, вызывает мирное течение со-
бытий, за что они бесконечно благодарны «лучшему немцу года» М.
Горбачеву и «мастеру компромиссов» Э. Шеварднадзе: «Изменение
произошло ошеломляюще: без трений, быстро и, что важнее всего,
без кровопролития».
В России главные «герои» не стали утруждать себя даже подоби-
ем отчета перед обществом, перед народом о своих деяниях. На это,
очевидно, просто не хватило времени. Что касается самовосхвале-
ний в виде печатных изданий и мемуаров, изданных за рубежом, то
это стало чем-то вроде детской болезни бывших лидеров бывшей
великой державы. Радетели «общечеловеческих ценностей» почему-
то умалчивают о главном: каков результат их деятельности для ин-
тересов своего народа? Историки не оставят без внимания основной
факт истории: решение германского вопроса создало предпосылки
для целенаправленного разрушения одной из держав-победительниц
- Советского Союза. В результате «тектонических» сдвигов в Евро-
пе возник новый вопрос - разделение русской нации и других рус-
скоговорящих граждан, развал единого экономического и культур-
ного пространства в одной шестой части мира.
Архитектором германского единства по праву считают министра
иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншера, который последовательно вы-
ступал за продолжение диалога между Западом и Востоком Европы,
исходя из того, что германское единство осуществимо только в ус-
ловиях разрядки напряженности, в условиях мира. В концепции
Г.-Д. Геншера существенное место занимала взаимосвязь герман-
ского единства с единством Европы.
1990 год стал годом немцев, годом Германии. Объединение Гер-
мании - это событие не только года и десятилетия, но и событие
второй половины XX столетия. Оно изменило политический ланд-
1 Kaiser Karl. Deutschlands Vereinigung. Die internationalen Aspekte.
Bonn, 1991, S. 22.
171
шафт в Европе и отразило изменение финансовых и экономических
сил. Однако уменьшило ли это значение факторов военных, страте-
гических и даже геополитических? Какими будут последствия этих
коренных изменений соотношения сил?
Как оценивать роль Советского Союза в форсированном объеди-
нении Германии? Германские политики и исследователи воздают
должное политике перестройки в СССР и лично М. С. Горбачеву. В
России с самого начала «новой эры» раздаются голоса-упреки в его
адрес.
Главный упрек заключается в том, что М. С. Горбачев принимал
жизненно важные для страны решения без коллегиального обсужде-
ния, что интересы безопасности СССР и материальные интересы
(компенсация за ущерб жертвам нацизма, за имущество на террито-
рии Германии) не были оговорены заблаговременно.
Различные точки зрения на пакет договоров и соглашений СССР
с ФРГ выявились особенно остро осенью 1990 г., перед обсуждени-
ем их в Верховном Совете СССР. Народный депутат СССР полков-
ник Н. С. Петрушенко выступил с критическими оценками содержа-
ния договоров и соглашений, а также методов их выработки, осо-
бенно «кулуарных» методов дипломатии, которая не получала пол-
номочий законодательного органа на далеко идущие уступки в на-
рушение национально-государственных интересов. Он, в частности,
подчеркнул, что предлагаемые договоры и решения «фактически
закрепляют ревизию итогов второй мировой войны, наносят нема-
лый ущерб внешнеполитическим позициям Советского Союза, фак-
тически подрывают его статус военной державы и державы-
победительницы» 1.
Главные аргументы оппозиции заключенным договорам своди-
лись к следующим моментам, касающимся национальных интересов
Советского Союза:
- Сохранение и даже некоторое усиление военного потенциала
Германии на определенный срок, недостаточность гарантий безо-
пасности СССР; отказ от репараций - возмещения ущерба, нанесен-
ного Советскому Союзу в результате германской агрессии. Один
лишь ущерб советской культуре и искусству, нанесенный герман-
ской агрессией и оккупацией в годы войны, оценивался в 23 млрд.
золотых руб. в ценах 1941 года. Отмечалась недостаточность ком-
пенсации в связи с выводом советских войск из Германии и непри-
емлемость сжатых сроков вывода войск и боевой техники и гигант-
1 Советская Россия. - 1991. - № 44. - 2 марта.
172
ской массы боеприпасов. Н. Петрушенко подчеркивал, что одна
взлетная полоса обходилась в полмиллиарда рублей! А сколько их
было построено на территории ГДР?
- Предоставление полного суверенитета Германии без оговорок
и отказ от прав и ответственности четырех держав означали отказ от
международно-правовых гарантий соблюдения прав граждан быв-
шей ГДР, членов СЕПГ, государственных служащих, а также от тре-
бования о недопущении возрождения нацизма и реваншизма.
Критические оценки деятельности дипломатии СССР были вы-
сказаны не только военными (полковниками Н. Петрушенко и В.
Алкснисом, генералом А. Макашовым), но и общественными и по-
литическими деятелями. Народный депутат СССР Е. Лигачев (быв-
ший член Политбюро ЦК КПСС) в своих воспоминаниях дал крити-
ческую оценку политики М. Горбачева и Э. Шеварднадзе в отноше-
нии стран Восточной Европы - политики, которая привела к развалу
содружества, роспуску Варшавской оборонительной организации и
ликвидации СЭВ. Особенно острой критике он подверг политику
уступок, которую выполнял Э. Шеварднадзе в качестве министра
иностранных дел СССР. В опубликованном в августе 1991 г. отрыв-
ке из воспоминаний Е. Лигачев подчеркивал, что вопросы урегули-
рования с Германией решались в узком кругу и без основательного
взвешивания интересов Советского государства: фактически приня-
ты условия Запада, точнее, ФРГ.
Бывший министр обороны СССР маршал Д. Т. Язов, давая пока-
зания на судебном процессе по «делу ГКЧП», напомнил, что М. С.
Горбачев по пути из Вашингтона в Москву в декабре 1987 г. остано-
вился в Берлине, куда были приглашены политические и военные
руководители стран Варшавского Договора. Здесь М. С. Горбачев
заверил руководителей социалистических стран, что сокращение
ракетно-ядерного потенциала не подорвет безопасности государств
Восточной Европы. «Все это оказалось обманом. Вскоре пала «бер-
линская стена», был изменен пограничный режим на границе ГДР и
ФРГ. Стало ясно, что судьба послевоенного порядка, существовав-
шего в Европе 45 лет, предрешена. В течение буквально 2- 3 недель
была расстроена экономика ГДР (а ведь она входила в десятку наи-
более развитых государств мира!)».
Итоги политики уступок, особенно роспуска Организации Вар-
шавского Договора, маршал Д. Т. Язов оценивал с точки зрения во-
енной безопасности страны: «Новое мышление, политическая прак-
тика как бы отменяли то, что когда-то было завоевано ценой огром-
ной крови и миллионов жизней. На смену приходило доверие между
173
Западом и Востоком в основном за счет уступок Советского Союза.
Запад пошел на некоторые уступки, но (!) Запад сохранил военную
организацию в Европе, сохраняет там военное присутствие, а что
будет представлять собой объединенная Германия, как она поведет
себя по отношению к России в будущем, - это предмет серьезного
беспокойства»1.
Политические оценки, естественно, всегда субъективны. Они
очень сильно зависят от судьбы политических деятелей, от того со-
циального положения, в котором они оказываются на исходе поли-
тической борьбы, однако не в меньшей мере они, разумеется, отра-
жают настроения определенных кругов и слоев общества. Субъек-
тивными остаются версии и оценки событий самих участников со-
бытий. Характерно для мемуаристов, что при позитивном исходе
дела они хорошо помнят свое участие в принятии ответственных
(разумеется, смелых) решений, непременно в условиях невероятных
трудностей, а при негативных последствиях деятельности вовремя
забывают детали и мелочи, от которых, в конечном счете, многое
зависит.
Выше мы видели, как быстро реагировали участники и наблюда-
тели германской стороны. Они буквально по свежим следам вписали
в историю свои имена на фоне победных реляций.
Еще в 1991 году успел изложить (явно с оправдательным укло-
ном) свои впечатления от собственной дипломатической деятельно-
сти экс-министр Э. Шеварднадзе2. Особо следует отметить критич-
ные и самокритичные записки Председателя Совета Министров
СССР того периода Н. И. Рыжкова . С некоторым запозданием, но
довольно обстоятельно рассказал о своей деятельности рядом с
М. С. Горбачевым его сподвижник А. С. Черняев4.
В книге «Мой выбор. В защиту демократии и свободы» Э. Ше-
варднадзе писал, что оппоненты его утверждают: «Вы - развалили
геополитическую структуру в Европе; лишили страну союзников и
разорвали внешний пояс ее безопасности; приблизили пределы
влияния противостоящего военно-политического блока к рубежам
державы и устранили противовес ему, существовавший в виде Ор-
1 Советская Россия. - 1994. - 25 января.
2 Шеварднадзе Э. Мой выбор. - М., 1991.
3 Рыжков Н. Перестройка: история предательств. - М, 1992.
4 Черняев А. С. Шесть лет с Горбачевым. - М, 1993.
5 Шеварднадзе Э. Цит. соч.. - С. 201.
174
ганизации Варшавского Договора; - содействовали объединению
Германии...».
Как контраргумент одного из архитекторов перестройки следует
воспринять тезис: «И в те дни, и сегодня я думаю, что внешняя по-
литика, как и политика внутренняя, не может защитить дело, кото-
рое в принципе незащитимо». В связи с этим «аргументом», естест-
венно, возникает вопрос: зачем же Вы, г-н экс-министр, не являясь
профессиональным дипломатом, взялись за решение неразрешимой
проблемы? Может быть, ради того, чтобы покрасоваться на мировом
поприще?
Концепция Э. Шеварднадзе удивительно проста: «Берлинская
стена рухнула в ноябрьскую ночь 1989 года. Спустя год, в ноябре
1990 года, в Париже была подписана «Хартия для новой Европы».
Можно в виде комментария заметить: «В огороде бузина, а в Киеве -
дядька». Возможно, Э. Шеварднадзе не мог предвидеть, но истори-
ческий факт состоит в том, что еще через год, в 1991 году, была раз-
рушена великая держава - Советский Союз. Это стало возможным
вследствие деятельности прорабов «перестройки».
Историческая оценка деяниям М. С. Горбачева во внутренней и
внешней политике Советского Союза с апреля 1985 года по август
1991 года едва ли будет однозначно положительной или однозначно
отрицательной. Декларированные цели перестройки, конечно, могли
вдохновить не только партию, но и широкие слои народа. Кто же
отказался поддержать усилия, направленные на ускорение прогресса
страны или, попросту говоря, на улучшение жизни народа? Особен-
но привлекательны были идеи либерализации общества и демокра-
тизации государства, создания справедливого общества по ленин-
ской модели социализма, отмежевания от сталинских методов
управления государством. Разумеется, приверженность общечелове-
ческим ценностям тоже не вызывала возражений. Все это хорошие
идеалы и ради их реализации стоило работать и даже бороться. Од-
нако на деле, в жизни все это оказалось риторикой, не подкреплен-
ной реальными делами. Если не трагедия, то драма М. Горбачева
заключается в том, что он стал жертвой своего красноречия или
краснобайства. Он явно любит себя в политике, но не политику в
себе. Провозгласив желание сделать политику нравственной, он не
позаботился о том, чтобы нравственная политика пошла на пользу
не в одностороннем порядке кому-то там «за бугром», а народу в
своей стране. Желание понравиться «цивилизованному» Западу явно
взяло верх над соблюдением реальных интересов своей страны. Ни
один лидер в какой-либо стране мира не сделал ни единого шага,
175
чтобы преподнести на блюдечке с голубой каемочкой реальные ус-
тупки или реальную помощь Советскому Союзу во имя общечело-
веческих ценностей или хотя бы ради элементарного соблюдения
целостности Советского Союза.
В политике, конечно, судят об успехе по результатам деятельно-
сти. Главный результат деятельности М. Горбачева как генерального
секретаря коммунистической партии - ликвидация КПСС, а как пре-
зидента СССР - развал Советского Союза. В самом деле, что пред-
принял М. Горбачев в 1991 году ради сохранения Союза? Мы, со-
временники, должны честно признать: нам не известны даже попыт-
ки президента М. Горбачева сохранить единство федерации респуб-
лик, применить все законные средства для сохранения территори-
альной целостности государства, главой которого он себя считал.
«Писарчук по внешнему ведомству», как себя величает «сорат-
ник генсека» А. С. Черняев в воспоминаниях с большим апломбом
рассказывает, какие он давал советы по уничтожению той самой
партии, на средства которой существовал большую часть своей жиз-
ни. Он критикует своего идола за то, что тот терпел оплеухи «от
черни» (от делегатов партийного съезда), не отгородился от критики
«всяких шавок» и т.д. Помощник генсека в записках называет съезд
партии «скопищем обезумевших провинциалов и столичных демаго-
гов». Он «подбрасывает» своему кумиру упрек: «Вы зубами вцепи-
лись в высший пост во враждебной вам партии. А Ельцин плюнул ей
в лицо и пошел делать дело, которое вам надо бы делать». В ответ на
такого рода упреки кумир фамильярно отвечал своему, мягко ска-
жем, сотруднику, который старше его лет на десять: «Знаешь, Толя...
все уговаривают бросить генсекство. Но пойми: нельзя эту парши-
вую взбесившуюся собаку отпускать с поводка». Слуга не может
простить своему хозяину слишком долгой приверженности «социа-
листическому выбору»!
Воспоминания А. С. Черняева - выдающееся по цинизму произ-
ведение. Это политический стриптиз второстепенного аппаратчика,
который вползает в историю даже не по пути Герострата. Тот сжег
всего лишь один храм, а этот восхищен разрушением не только пар-
тии, но и державы. В целом книга А. С. Черняева хотя и выпущена
на русском языке, явно рассчитана на западного взыскательного чи-
тателя, который должен оценить вклад А. С. Черняева в разрушение
Советского Союза.
Поездка М. С. Горбачева в США в мае-июне 1990 года представ-
ляется мемуаристу «светлым пятном» на мрачном фоне «у нас в
стране», особенно если сравнить встречу с интеллигенцией США и
176
участие в съезде Российской компартии: «Тут в стране, перед лицом
открытой враждебности им правил инстинкт страха за все свое дело.
И выход он искал по принципу «с волками жить - по-волчьи выть»1.
Советник М. Горбачева А. Черняев вполне последовательно дает
апологетическую оценку своего кумира: «Горбачев скорее подходит
под тот тип лидерства, которое связывают с понятием «praxis», обо-
значающим, между прочим, соединение политики с моралью. Ду-
маю, это главное, что отличает Горбачева как личность в политике.
В этом - величие Горбачева, но в этом же и истоки его личной дра-
мы. Ибо для слишком большого влияния морали на политику время
еще не наступило, а у нас - тем более»2.
В этой оценке ловко обойден вопрос об ответственности полити-
ка за результаты своей деятельности. Что скажет правосудие, на-
пример, о враче, если он применил негодное средство для терапии
пациента, который ему доверился? Что скажет научная экспертиза
по поводу неверного расчета инженера, из-за которого, скажем, рух-
нул мост? Как оценит общество конструктора летательного аппара-
та, если по его проекту построены «летающие гробы»? М. С. Горба-
чев, несомненно, историческая личность. Но отметят ли историки
будущего поколения этого деятеля, создавшего предпосылки для
ликвидации великой державы, знаком величия, то это весьма сомни-
тельно.
Откровенность сподвижника-«писарчука», конечно, достойна
того, чтобы войти в историю - историю политического двурушниче-
ства. По его мнению, М. Горбачев был нерешителен и нерасторопен
в выполнении дела, за которое взялся. Он вечно опаздывал с реши-
тельными мерами. Вот квинтэссенция всех шести лет работы прора-
бов перестройки: «Все внешнеполитические условия были налицо,
чтобы политически порвать со старым строем, именно тогда - в
конце лета и осенью 1990 года. Порвать с партией, с социалистиче-
ской идеологией, с прежним порядком осуществления власти, на-
значить выборы в новый парламент, отказаться от Советского Союза
и начать в этот момент (а не через полгода) «новоогаревский про-
цесс». Иначе говоря, признать, что перестройка - это революция,
означающая смену строя» . Комментарии излишни как с россий-
ской, так и с общечеловеческой точек зрения. Остается только один
1 Черняев А. Цит. соч.. - С. 351.
2 Цит. по «Международная жизнь». - 1993. - № 7. - С. 53.
3 Черняев А. Цит. Соч. - С. 351.
177
вопрос: кто вы такой, г-н Черняев, чтобы распоряжаться судьбой
России?
Именно с учетом этого «бэкграунда», видимо, следует воспри-
нимать версию А. С. Черняева по германскому урегулированию. Ис-
торики, очевидно, отметят, что «помощник генсека» дал свою тен-
денциозную версию, которая умалчивает не только о существенных
деталях, но и о деликатной подоплеке судьбоносных решений.
Так или иначе, полная (а не половинчатая) истина будет посте-
пенно выявляться на основе других свидетельств и документов. Уже
сегодня мы можем сказать, что выявляются многие существенные
стороны и общеевропейского процесса, и «процесса» германского
урегулирования, которые показывают отнюдь не величие, а провин-
циальную ограниченность кумира-реформатора.
Иные оценки и акценты содержат «Политические воспомина-
ния» Валентина Фалина, бывшего послом СССР в ФРГ в 1971-1978
гг., а затем увенчавшего в 1991 г. свою деятельность на политиче-
ском Олимпе в качестве секретаря ЦК КПСС, представляющие со-
бой серьезный документ современности. Воспоминания опытного
дипломата и аналитика содержат критическое освещение событий
нескольких десятилетий. Особый интерес вызывают не только кри-
тические оценки, но и сообщаемые автором факты, о которых знали
до сих пор немногие. Особенно ценны впервые ставшие известными
взаимосвязи событий периода «перестройки», в частности, в процес-
се объединения Германии: автор был и остается одним из больших
знатоков не только «германского вопроса», но и мировой политики.
Для В. Фалина характерна четкость оценок, опирающихся
на знание фактов. Вот пример такого рода обобщения: «15 января
1986 г. Горбачев выступил с эпохальным заявлением о поэтапном
ядерном разоружении на земле. Авторство этой идеи принадлежало
тогдашнему начальнику генерального штаба Сергею Ахромееву и
первому заместителю министра иностранных дел Георгию Корниен-
ко. Маршалу это стоило в конечном итоге жизни, дипломату - его
поста»1.
Непосредственным следствием этой инициативы была, как из-
вестно, встреча М. Горбачева с . Рейганом в Рейкьявике. Отдален-
ные последствия бурной деятельности М. Горбачева в течение пяти
1 Falin Valentin. Politische Erinnerungen. Droemer Knaur. München, 1993,
S. 469. См. также: Ахромеев С., Корниенко Г. Глазами маршала и диплома-
та. М., 1992.
178
последующих лет были действительно судьбоносными, можно ска-
зать, роковыми для страны и народа.
Если говорить о «величии» М. Горбачева в сфере внешней поли-
тики и дипломатии, то придется констатировать, что он, скорее, внес
элемент дипломатии в свою совесть, нежели элементы совести в ди-
пломатию. Если действия М. Горбачева были обусловлены незнани-
ем или невежеством, то еще можно найти оправдание результатам
такой деятельности, но если он сознательно пренебрегал рекоменда-
циями профессионалов в области дипломатии, сдавая одну позицию
великой державы за другой без всякой, даже «моральной» компен-
сации, то этому не может быть ни нравственного, ни правового оп-
равдания. Современники и историки, конечно, помнят не только
обязательства одностороннего разоружения страны, но и конкрет-
ные территориальные уступки, скажем, обширной зоны в Беринго-
вом проливе или признание незаконного отделения прибалтийских
республик от Союза, положившее начало развалу федерации.
Может ли фаталистически понимаемая формула «поезд ушел»
или «процесс пошел» оправдать бездеятельность государственного
мужа? Конечно, нет, тем более что ответственные решения в 1990—
1991 гг. принимались М. Горбачевым единолично, без всякого даже
обсуждения представительными коллегиальными органами государ-
ства. Опытный дипломат и политик В. М. Фалин в книге воспоми-
наний делает вывод: «Под каким бы углом зрения ни рассматривать
действия Горбачева и Шеварднадзе, они не выдерживают критики:
ни с точки зрения законности, ни с точки зрения соблюдения взятых
на себя элементарных обязательств».
Трудно оспорить вывод знатока проблем европейской безопас-
ности В. Фалина: «Выпадение ГДР означало конец Варшавского До-
говора и разрушение всех инфраструктур нашей обороны в Европе».
Несмотря на обещания атлантистов пересмотреть доктрины и даже
структуру НАТО в связи с очевидным изменением не только соот-
ношения сил, но и субъектов политического противостояния, ничто
не изменилось в сторону смягчения противостояния НАТО Союзу
ССР, а затем и Российской Федерации. Более того, после развала и
Варшавской организации, и Союза ССР атлантисты впервые за че-
тыре десятилетия существования НАТО и после окончания второй
мировой войны пустили в ход вооруженные силы и боевую технику
на Европейском континенте. Это произошло в так называемой «се-
рой зоне», которую натовцы объявляли в свое время зоной защиты
от коммунистической агрессии - в Югославии. Они использовали в
качестве предлога для вмешательства внутренние беспорядки в
179
федерации, признанной не только всеми европейскими государства-
ми, но и общеевропейским форумом. «Гуманитарная помощь» по-
средством бомбовозов НАТО - это, конечно, новое слово в между-
народных отношениях в Европе, причем интервенция в Югославии
происходила при активном участии вооруженных сил объединенной
Германии.
Бывший посол СССР в ФРГ В. М. Фалин еще в июне 1990 г. за-
свидетельствовал на заседании комиссии ЦК КПСС по вопросам
международной политики, что М. С. Горбачев рекомендовал руко-
водителям ГДР понять, что «перемены неизбежны». Во время по-
следней беседы с Э. Хонеккером 7 октября 1989 г., сначала в узком
составе, а затем с участием всех членов политбюро ЦК СЕПГ в от-
вет на аргументы М. С. Горбачева, что надо брать инициативу в свои
руки, чтобы не пришлось принимать решения под топот ног, руко-
водитель ГДР нашел один контраргумент: «Не учите жить, когда в
ваших магазинах нет даже соли». Вот и вся мудрость. Практически в
тот же вечер неофициальный Берлин вышел на улицу, дав старт к
развалу ГДР.1
Здесь уместно отметить, что в оценке причин и обстоятельств
развала ГДР и одновременно всей системы послевоенного устройст-
ва Европы уже теперь выявились, по крайней мере, две точки зре-
ния. Специалисты, близкие к официальным кругам того периода,
склонны подчеркивать, что внутри ГДР осенью 1989 г. сложилась
весьма напряженная обстановка. Она заставила де советских руко-
водителей занять жесткую позицию в отношении правительства
ГДР, с которой у СССР были весьма тесные союзнические отноше-
ния, но существовали весьма неприязненные личные отношения
между лидерами. Это побудило к поиску компромисса с другим
германским государством - ФРГ. Более объективные наблюдатели
видят и другую сторону начавшегося процесса: отсутствие у то-
гдашних советских руководителей конструктивной и реалистиче-
ской программы стабилизации положения в центре Европе. Главное
же заключалось в отсутствии если не программы, то хотя бы кон-
цепции урегулирования отношений между двумя германскими госу-
дарствами с учетом жизненных интересов своей страны - Советско-
го Союза, который еще мог воспользоваться «правами и ответствен-
ностью», вытекавшими из последствий второй мировой войны.
Особенно наглядно видно пренебрежение элементарными нор-
мами морали и совести в политике на примере отношения к Э. Хо-
1 Известия ЦК КПСС. - 1990. -№ 10.-С. 103.
180
неккеру. По свидетельству Вилли Брандта, федеральный канцлер Г.
Коль по своей инициативе предложил Горбачеву в «процессе» объе-
динения (видимо, в середине 1990 года) обозначить круг лиц в руко-
водстве ГДР, против которых не стоит предпринимать мер уголов-
ного преследования. Советский президент дал ясный ответ: пусть
сами немцы разберутся в этой проблеме. Германские деятели поза-
ботились больше о «чистой совести» бывшего генсека, чем он сам.
После исторической встречи М. Горбачева и Г. Коля на Север-
ном Кавказе внимательные наблюдатели отметили для себя, что
окончательное урегулирование с Германией и для Германии пред-
решено. На переговорах по формуле «два плюс четыре» оставалось
оформить безоговорочную капитуляцию великой державы. М. Гор-
бачев поспешил объявить, что это триумф здравого смысла, а гене-
ральный секретарь НАТО Манфред Вёрнер без обиняков заявил, что
НАТО достигла всех своих целей без единого выстрела.
Достигнутые в Архызе договоренности подверглись горячему
обсуждению в кулуарах Верховного Совета и в комитете по ино-
странным делам и обороне. Голоса скептиков не были услышаны.
Оптимисты заверяли несведущих, что якобы достигнуто наибольшее
из возможного.
Концепция В. Фалина, которую он излагал тогда и обобщенно
изложил в воспоминаниях, сводилась к следующим моментам: соци-
ально-экономический статус единой Германии должны определить
сами немцы; внешние условия - военно-политический статус -
должны определить международные соглашения, выработанные при
участии четырех держав и обоих германских государств, но еще до
объединения ФРГ и ГДР. Все преобразования в Германии должны
происходить в мирных условиях. Применение силы или угрозы си-
лой недопустимо ни в какой форме. При решении всех вопросов
должен действовать принцип баланса интересов. Советские войска
покидают Германию как дружественные силы в условиях гарантии
их безопасности. В итоге объединения Германии стратегическое по-
ложение в Европе не должно было измениться в ущерб какому-либо
государству1.
Ключевое значение при решении внешнеполитических аспектов
объединения Германии имел вопрос о демонтаже Потсдамской сис-
темы послевоенного устройства Европы, а в международно-
правовом плане - отказ от прав и ответственности четырех держав
за Берлин и Германию в целом. Именно поэтому было принципи-
1 Falin V., op. cit., S. 490.
181
ально важно в ходе окончательного урегулирования держаться фор-
мулы «четыре плюс два», то есть СССР, США, Великобритания и
Франция плюс ФРГ и ГДР. Это было важно и с точки зрения пра-
вильного выделения приоритетов: обеспечение мира в Европе, нако-
нец, учет интересов Советского Союза. Именно поэтому министру
иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе было дано строгое указание
придерживаться формулы «4 плюс 2» на переговорах министров
иностранных дел шести стран.
Однако после возвращения со встречи министров Э. Шеварднад-
зе как бы между прочим предложил включить в заявление для печа-
ти, что отдано предпочтение формуле «2 плюс 4». В. Фалин приво-
дит свидетельства, что от М. Горбачева официально исходило толь-
ко одно указание - формула «4 плюс 2» как основа урегулирования.
Каковы же были мотивы министра иностранных дел СССР, согла-
сившегося с изменением исходной базы переговоров? Ответ Э. Ше-
варднадзе нельзя назвать даже дилетантским: «Геншер очень об
этом просил, а Геншер - хороший человек». Да, несомненно, Ген-
шер - хороший человек и опытный дипломат, но в политике и ди-
пломатии обычно руководствуются не личными симпатиями, а ин-
тересами своей страны. Действия Э. Шеварднадзе не были дезавуи-
рованы. Это и понятно: ведь он принял участие во встрече минист-
ров в Оттаве, зная об итогах встречи М. Горбачева с Дж. Бейкером и
Г. Колем в Москве 9-го и 10-го февраля 1990 г., во время которой
германский канцлер получил уже свободу рук. Разделение внешних
и внутренних аспектов процесса объединения Германии означало,
что два аспекта единого процесса могут решаться независимо один
от другого или, иначе говоря, немцы получили возможность решить
все проблемы между собой, независимо от «окончательного урегу-
лирования» международных проблем. Формула «2 плюс 4» вступила
в силу. По моему убеждению, Советский Союз попал в безвыходное
положение... Finita la comedia а ля Шеварднадзе, - заключает В. Фа-
лин.
Понимал ли все это М. Горбачев? Несомненно, понимал, более
того, именно он поощрял министра на быстрые шаги... в тупик.
В. Фалин свидетельствует, что накануне встречи с Г. Колем, в июле
1990 года, когда он пытался по телефону высказать пожелания,
М. Горбачев сухо закончил разговор словами: «Боюсь, что поезд уже
ушел»1.
1 Falin V., op. cit., S. 492.
182
3. Новая роль Германии в Европе и в мире
на рубеже 90-х годов
Германия обрела единство, полный суверенитет и свободу дей-
ствий на мировой арене. Это вполне естественно спустя полвека по-
сле завершения самой кровопролитной войны, развязанной именно
Германией. Главное для нас, россиян, - это осознать новую реаль-
ность, найти пути для новых отношений с объединенной Германией.
Предпосылкой для построения новых отношений между двумя стра-
нами, конечно, было преодоление старых стереотипов, особенно ос-
нованных на тяжелом опыте прошлого образа врага. Весьма важно
показать людям, каковы позитивные результаты окончательного
германского урегулирования, в частности, касательно соблюдения
экономических интересов России. К сожалению, следует констати-
ровать, что отцы-основатели «европейского дома» с российской сто-
роны в ходе этого урегулирования проявили не только полную не-
компетентность в международных делах и дипломатическом искус-
стве, но и полное нежелание видеть долговременные экономические
интересы своей страны. Они не обеспечили надежного технологиче-
ского сотрудничества с самой мощной индустриальной державой
Европы, которое позволило бы вывести страну из трясины. Именно
в ходе переговоров по урегулированию, а не после них, следовало
государственным мужам думать об обеспечении экономических и
имущественных интересов страны, о действительных гарантиях со-
хранения и развития экономического сотрудничества с предпри-
ятиями в восточных землях объединенной Германии, приемлемых
формах взаимных расчетов. Беда России состояла в том, что на
гребне мутной торгашеской волны российский корабль не имел гра-
мотного капитана или хотя бы штурмана. А капитаны корабля на
рубеже 90-х годов действовали явно по принципу: после нас хоть
потоп.
Что касается собственно присоединения ГДР к ФРГ, то оно было
в значительной мере детерминировано экономическими факторами:
экономический гигант ФРГ, укрепившая свои позиции на мировом
поприще, отнюдь не оставляла без внимания другую часть Герма-
нии. Торговый оборот ФРГ с ГДР в 80-х годах достиг рекордного
объема: в 1985 г.- 15,5 млрд. немецких марок, и во второй половине
80-х годов неуклонно сокращался за счет уменьшения импорта из
ГДР. Соответствующим образом был использован финансовый ры-
чаг - крупномасштабные кредиты.
183
Урегулирование с Германией и объединение Германии были
восприняты в Советском Союзе отнюдь не однозначно. Если офици-
альные круги представили весь пакет договоров по германским де-
лам с удовлетворением, то вне правительства, даже среди депутатов
законодательных органов, высказывалась неудовлетворенность. Од-
ним из поводов отставки министра иностранных дел СССР Э. А.
Шеварднадзе, очевидно, было недовольство итогами его деятельно-
сти по германскому урегулированию.
Какие аспекты окончательного урегулирования с Германией
следует признать удовлетворительными с точки зрения общеевро-
пейского процесса? Какие элементы неудовлетворенности остались
в общественном сознании в Советском Союзе? Полагаю, что ответы
на эти вопросы следует рассматривать под углом зрения:
- долговременных интересов безопасности в Европе, в частности
интересов стран Восточной Европы;
- окончательного признания итогов второй мировой войны, осо-
бенно территориального статуса и территориальной целостности
государств;
- компенсации ущерба, понесенного странами Восточной Евро-
пы в результате второй мировой войны.
Присоединение ГДР к ФРГ давало последней огромный матери-
альный выигрыш не только в виде увеличения территории и населе-
ния. ФРГ получала не пустошь, а развитые промышленные земли.
Накопленные ценности в виде предприятий, жилых домов и соци-
ально-бытовых сооружений, путей сообщения и транспорта, нако-
нец, научно-технического потенциала в присоединяемых землях ис-
числялись суммой в 1 триллион 400 млрд. марок, не считая военной
техники и вооружений армии ГДР на сумму в 90 млрд. марок. Часть
этой техники, по сообщениям печати, вскоре попала на мировой ры-
нок вооружений, а самые современные самолеты МИГ-29 взяты на
вооружение бундесвера как трофеи.
И в это время полагалось подумать о признании имущественных
интересов России на территории Германии как условии вывода
войск. Не унизительное выпрашивание средств на строительство
жилья для офицеров своей армии, а юридически обоснованное тре-
бование компенсации за имущество и сооружения, которыми владе-
ет СССР на территории Германии. Даже приблизительная суммар-
ная оценка стоимости имущества не была представлена, не говоря
уже о выработке соглашения о компенсации ущерба жертвам нациз-
ма. Кстати, сумма в 12 млрд. марок, обусловленная соглашением об
условиях временного оставления и сроках вывода 400-тысячной ар-
184
мии в октябре 1990 г. (когда объединение Германии уже стало
свершившимся фактом), сопоставима с суммой единовременной вы-
платы правительством ФРГ на операцию «Буря в пустыне» союзни-
ков против Ирака. Она составила 17 миллиардов марок.
Договор от 9 ноября 1990 года следует признать высшим дости-
жением дипломатии М. Горбачева и Э. Шеварднадзе. Он содержит в
более чем 20 статьях ряд положений и постановлений общего харак-
тера, однако не равноценен мирному договору. Для Российской Фе-
дерации, объявившей себя правопреемницей ликвидированного
Союза ССР, осталась актуальной потребность уточнить и конкрети-
зировать взаимные обязательства двух крупнейших государств Ев-
ропы путем заключения новых договоров и соглашений, что частич-
но и сделано в 1991-1992 гг., в частности, во время визита
Б. Н. Ельцина в ФРГ в ноябре 1991 г. и ответного визита Г. Коля в
Москву в декабре 1992 г.
В новой ситуации для России, сложившейся в результате безот-
ветственной политики М. Горбачева и развала Союза ССР, осталась
необходимость выработать новую концепцию отношений с Герма-
нией. Уровень экономического и научно-технического сотрудниче-
ства не отвечал потребностям и возможностям обеих стран. До сере-
дины 80-х годов ФРГ и ГДР были крупнейшими экономическими
партнерами СССР. Германия осталась важнейшим партнером для
России, хотя общий объем товарообмена значительно снизился.
Серьезной проблемой на пути расширения экономического и техно-
логического сотрудничества стала задолженность России по креди-
там. Она, как известно, взяла на себя значительную долю долгов из
общей суммы кредитов, полученных республиками СНГ. На середи-
ну 1993 года эта сумма превышала 80 млрд. марок.
Очевидно, что российской стороне с самого начала новой эры
следовало разумно использовать заинтересованность Германии в
получении энергоносителей, в бесперебойных поставках природного
газа, а также потребность германской промышленности в некоторых
видах сырья, особенно в редких металлах. Разумеется, что к пробле-
мам двусторонних отношений принадлежал полный вывод всех
войск в обусловленные сроки.
Каков реальный материальный выигрыш Советского Союза? Ес-
ли взять чисто внешние контуры финансового вклада ФРГ, то это
довольно внушительная картина: на конец 1991 года сумма всех фи-
нансовых усилий ФРГ составила 86 млрд. марок.1 Однако следует
1 Известия. - 1992. - 18 января.
185
учитывать, что большей частью это кредиты, которые надо возвра-
щать с процентами. Кредитные обязательства перед германскими
банками составили к началу 1992 г. 33,2 млрд. марок.1 В марте
1992 г. к этой сумме добавлен кредит в 10 млрд. марок для конвер-
сии военной промышленности2. Из общей суммы финансовых вли-
ваний на разрушение Советского Союза безвозмездная помощь за-
ключалась в сумме, которая выделена на вывод советских войск из
Германии и устройство жилья для офицеров на родине, а также гу-
манитарные поставки.
При урегулировании отношений ФРГ и СССР стороны догово-
рились, что в течение полутора лет после вступления в силу Догово-
ра о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве будут проведены
переговоры по судьбе всех соглашений между СССР и ГДР. Объяв-
ленная цель переговоров состояла в том, чтобы сохранить и исполь-
зовать положительный опыт и сложившиеся связи, чтобы общий
объем экономического и научно-технического сотрудничества «вос-
точных» земель с Советским Союзом в ближайшие годы был увели-
чен. Однако на деле произошло резкое падение товарооборота с
землями и ФРГ, и бывшей ГДР. «Двусторонние договоры или со-
глашения между СССР и ГДР не будут в одностороннем порядке,
то есть без предварительных консультаций, расторгаться или пере-
сматриваться», - заявил заместитель министра иностранных
дел СССР Ю. А. Квицинский, ссылаясь на состоявшийся 9 ноября
1990 г. обмен письмами между СССР и ФРГ.
Правительство ФРГ получило в свое распоряжение значитель-
ный военный потенциал в наследство от ГДР, особенно в виде воен-
ной техники советского производства: 400 реактивных истребите-
лей, в том числе 32 машины новейшего типа МИГ-29; вертолеты
огневой поддержки в количестве 52 штук; 2500 артиллерийских
орудий, 2350 танков, 7500 бронетранспортеров, 1 млн. 200 тыс. еди-
ниц стрелкового оружия, 300 тысяч тонн боеприпасов.
Национальная Народная Армия ГДР была расформирована: 90
тысяч военнослужащих, в том числе 32 тысячи офицеров (95 про-
центов которых состояли в СЕПГ) поступили под командование 53-
летнего генерал-лейтенанта бундесвера Йорга Шёнбома, стоявшего
во главе отдела планирования Министерства обороны и назначенно-
го 3 октября 1990 г. командующим сухопутными войсками, флотом
и авиацией на территории бывшей ГДР. Он прибыл немедленно в
1 Süddeutsche Zeitung 16 Jan. 1992.
2 Известия. - 1992. - 6 марта.
186
штаб ННА под Берлином, а вместе с ним 1200 офицеров и 300 ун-
тер-офицеров бундесвера, добровольно отправившихся в новые зем-
ли, по существу, для разоружения армии ГДР.
Уже к январю 1991 г. две трети офицеров ННА были уволены,
особенно старшие чины в возрасте старше 50 лет. Общая числен-
ность офицеров сокращена в течение трех месяцев с более чем 30
тысяч до 10500 человек. Оставлены на службе чины от майора и ни-
же, из них 6500 получили контракт на два года. После сокращения
бундесвера до 370 тысяч, то есть после 1994 года, на территории
бывшей ГДР могли проходить службу не более 50 тыс. военнослу-
жащих, в том числе 4500 командных должностей, для занятия кото-
рых младшие чины должны выслужиться перед новыми властями.
Уже к середине 1991 года миссия Шёнбома закончилась. «Переход-
ное» командование в восточных землях упразднено и войска пере-
шли в прямое подчинение Министерства обороны ФРГ.
Изменение политического статуса Германии не осознано сразу в
полной мере наблюдателями на Востоке и на Западе Европы. Прави-
тельство ФРГ было занято решением проблем интеграции «восточ-
ных земель», проблем выравнивания экономических уровней в двух
частях страны и не проявляло видимой настойчивости в утвержде-
нии нового статуса Германии в европейских и мировых делах. Воз-
державшись от активной роли в конфликте в Персидском заливе в
1991 году (правда, внеся солидный финансовый вклад в общее дело
западных держав), правительство ФРГ сделало серьезную заявку на
повышение своей роли в ООН - роли «средней мировой державы», а
затем активно включилось в «наведение порядка» в Югославии.
Признание независимости республик Боснии и Хорватии со стороны
ФРГ существенно повлияло на судьбу федеративного государства,
определило распад Югославской федерации.
Глобальный (не только европейский) статус Германии сущест-
венно изменился прежде всего в геополитическом отношении: тер-
ритория государства увеличилась с 248 тыс. кв. км до 357 тыс. кв.
км, а численность населения - с 63,5 млн. человек до 80 млн. чело-
век. Геополитическое положение Германии претерпело изменение за
счет экспансии (расширения) в восточном и северо-восточном на-
правлениях, а также за счет увеличения морского побережья на Бал-
тике. Очевидное изменение геополитических позиций Германии в
Европе в сочетании с гигантской промышленной и финансовой мо-
щью вновь поставило Германию в ряд мировых держав. Если в 70-х
годах экономический гигант не хотел оставаться политическим кар-
ликом, то можно уверенно сказать, что в 90-х годах свершилось вто-
187
рое германское чудо: в центре Европы встал на ноги во весь рост
экономический и политический гигант (не чета Франции и Англии),
который будет стремиться надежно обеспечить свое будущее в ог-
раниченном «жизненном пространстве», но в неограниченном гло-
бальном пространстве.
Нет сомнений в том, что экономический гигант использует свой
финансовый и промышленный потенциал прежде всего для освое-
ния восточных земель, хотя на этом поприще в первые два года со-
вместной жизни «весси» и «осси» уже обнаружились определенные
сложности. Как говорят сами немцы, взамен «берлинской стены»
возникли «новые стены» в отношениях между немцами: экономиче-
ские, социокультурные и даже психологические. Полагают, что по-
требуется время жизни по крайней мере одного поколения немцев,
чтобы переварить «новые реальности». Темпы промышленного рос-
та, очевидно, несколько снизятся, однако совокупный «брутто-
социаль-продукт» вырастет.
Германский исследователь Христиан Хакке пессимистически
оценивал положение страны накануне 1993 года: «Германия строит
сегодня с психологической, политической, экономической и финан-
сово-политической точек зрения на зыбком фундаменте». Немцам,
разумеется, виднее, особенно когда речь идет о внутренних пробле-
мах развития. Однако, объективно говоря, Германия обладает доста-
точно крупным потенциалом, чтобы преодолеть отмеченные труд-
ности (если не бурного роста, то прироста). Другое дело, доверит ли
германский избиратель дальнейшее управление страной правитель-
ству во главе с канцлером-объединителем Г. Колем. Финансовые
тяготы для жителей Западной Германии, в частности повышение
налогов, конечно, влияли на политическую атмосферу в стране. Ос-
кар Лафонтен - соперник Г. Коля на выборах 1990 года - говорил о
желательности более мягкой интеграции двух частей страны. Одна-
ко избиратели не судили строго победителя Г. Коля. В связи с быст-
рым и бескровным объединением Германии, точнее, присоединени-
ем ГДР к ФРГ, естественно, возник вопрос: каковы главные факто-
ры, которые обусловили этот исторический сдвиг, и каковы наибо-
лее существенные последствия, которые неизбежны для роли объе-
диненной Германии в Европе и в мире?
Германские исследователи отмечают, что ни социал-либеральная
коалиция (с 1969 по 1982 гг.), ни христианско-либеральная коалиция
(с 1982 по 1989 гг.) не ставили перед собой как реальную задачу
объединение Германии в ближайшей перспективе. Вопрос о герман-
ском единстве, однако, не снимался с повестки дня, оставался «от-
188
крытым», хотя его решение отодвигалось до лучших времен. Пола-
гают, что признание статус-кво и политика малых шагов дали не-
ожиданно быстрый результат1.
Главным фактором, который обусловил быстрый сдвиг в отно-
шениях между двумя германскими государствами, считают лавино-
образное нарастание общественного движения протеста против ре-
жима СЕПГ в ГДР. Внутренний кризис в ГДР был, несомненно,
важным фактором в изменении атмосферы в Европе. Однако не ме-
нее важным фактором было, конечно, международное положение
ФРГ и ГДР в Европе. Западные державы оказали дипломатическую
поддержку правительству ФРГ в реализации национальной цели,
тогда как союзники ГДР, и не в последнюю очередь Советский Со-
юз, отказали в поддержке правительству ГДР, несмотря на сущест-
вовавшие договоры. Варшавский Договор, главной силой в котором
был СССР, оказался в состоянии банкротства. Ближайшие соседи
ГДР (Польша, Чехословакия и Венгрия) отдали предпочтение ФРГ, а
не бескорыстной солидарности «братьев по классу».
Последствия объединения Германии не осознаны в полной мере
не только в России, но и на Западе, однако реалистический подход
перемежается с определенными иллюзиями. Во Франции полагают,
что объединенная Европа сможет надежно держать под контролем
рост потенциала Германии, забывая, что Германия становится веду-
щей державой Европы; в США считают, что объединенная Европа
под эгидой Германии позволит американцам сократить свои расхо-
ды на военные цели в Европе; в Великобритании скепсис в отноше-
нии Германии стимулирует настроения против слишком глубокой
интеграции, особенно с вовлечением в нее стран Восточной Европы.
Реалистически мыслящие политики в Европе, взвешивая потен-
циал объединенной Германии, резонно задаются вопросом: не при-
ведет ли увлечение идеей создания «европеизированной Германии»
попросту к германизации или онемечиванию Европы? Именно тако-
го рода сомнения удерживают часть англичан от поспешного конст-
руирования политического союза в Европе. Тем не менее, поезд ев-
ропейского единства двинулся вперед вместе с вступлением в силу
Маастрихтского договора и провозглашением Европейского союза,
1 Hacke Chistian. Deutschland und die neue Weltordnung «Aus Politik und
Zeitgeschichte», 6. November 1992, S. 3. Matthias Zimmer. Nationales Interesse
und Staatsraison. Zur Deutschlandpolitik der Regierung Kohl (1982-1989).
Paderborn, 1992, S. 239.
189
в котором Германия, конечно, будет играть не роль опекаемого го-
сударства, но всесильного опекуна.
Отношения между ФРГ и Российской Федерацией основаны на
Договоре о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, заклю-
ченном между СССР и ФРГ 9 ноября 1990 г., а также на Договоре об
окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сен-
тября 1990 г. Правительство ФРГ одним из первых после объявле-
ния Российской Федерацией себя правопреемницей Союза ССР зая-
вило о признании Российской Федерации продолжателем бывшего
Союза. В итоге обмена официальными визитами президента РФ
Б. Н. Ельцина и канцлера ФРГ Г. Коля в 1991 - 1992 гг. были приня-
ты совместные заявления, в которых определены общие направле-
ния сотрудничества между двумя государствами на ближайшие го-
ды. Достигнутые договоренности предусматривали «нулевое реше-
ние» по имуществу Западной группы войск на территории Герма-
нии, досрочный вывод всех российских войск из Германии до 31
августа 1994 г., выплату дополнительной суммы в 550 млн. марок на
обустройство выводимых военнослужащих, а также отсрочку на 8
лет задолженности по сальдо торговли СССР и ГДР (на 6 млрд. пе-
реводных рублей), содействие со стороны ФРГ «реструктуризации»
внешнего долга СССР на льготных для России условиях. 30 марта
1993 г. вступило в силу межправительственное соглашение, которое
предусматривает компенсации для лиц, пострадавших от нацистов
на территории России, Украины и Беларуси (в сумме до 1 млрд.
марок).
Между ФРГ и Российской Федерацией заключен ряд соглаше-
ний, которые регулируют сотрудничество в области культуры, та-
моженных служб, ухода за воинскими захоронениями, взаимной по-
мощи при стихийных бедствиях и крупных авариях, в области авто-
мобильного и воздушного сообщения, а также оказания содействия
России в ликвидации ядерного и химического оружия. В июле 1993
г. имел место рабочий визит премьер-министра Российской Федера-
ции В. С. Черномырдина в ФРГ. В сентябре 1993 г. в Бонне было
подписано соглашение о консолидации внешнего долга Российской
Федерации, по которому ФРГ предоставила России отсрочку на 10
лет выплаты долга в 8,5 млрд. марок. К началу 1994 г. около 90%
воинского контингента ЗГВ были выведены из Германии. Заверше-
ние вывода всех российских войск в августе 1994 года, естественно,
открыло новую главу в отношениях между двумя народами.
190
4. Геостратегические последствия
Объединение Германии протекало как единый процесс, деление
которого на внешний и внутренний аспект весьма условно. Ясно од-
но: внутреннее напряжение в Германии, особенно в ГДР, было дос-
таточно высоким, что должны были учитывать советские руководи-
тели. Но если иметь в виду менталитет немцев (склонность к соблю-
дению порядка), то приходится сделать вывод, что советские лидеры
действовали не компетентно, игнорируя реальную ситуацию в Гер-
мании, а самое главное - интересы своей страны. В самом деле, как
можно было пойти на открытие границы, если сотни тысяч твоих
граждан в солдатской форме оказываются на этой границе. Или как
было возможно поспешное подписание Договора об окончательном
урегулировании в отношении Германии, если еще не завершено об-
суждение вопроса о государственном имуществе, которое остается
на германской земле после ухода войск, причем даже не ставить во-
проса о возмещении за это имущество, но ждать унизительной по-
дачки на строительство жилья для своих офицеров? Наконец, как
можно было безразлично воспринимать решение о введении марки
ФРГ на территории ГДР, даже не вспомнив, что в тот же день нужно
платить жалование своим военнослужащим, находящимся на этой
территории?
Почему задолженность СССР по торговым операциям с ГДР при
ликвидации этого государства «повесили» на Россию? Наконец, как
новая советская военная техника в весьма значительных масштабах,
поставленная для армии ГДР на льготных условиях, оказалась в ру-
ках одной из стран противостоящего военного блока? Почему эти
вопросы не были решены до подписания «окончательного урегули-
рования», в то же время оказалось возможным для Германии поста-
вить вопрос о реституции - возвращении культурных ценностей, а
имущественные претензии России на германской земле свести к ну-
лю? Как видим, при поспешном урегулировании почему-то вне поля
зрения остались жизненно важные для России вопросы, но хорошо
учтены германские интересы. Урегулирование проходило в полном
согласии с германскими интересами.
В начале 1990 года канцлер Г. Коль ненавязчиво предложил гра-
жданам ГДР перейти на единую германскую валюту, разумеется, на
марку ФРГ. После этого канцлер отправляется в Москву, чтобы, как
бы между прочим, в интимной беседе с М. С. Горбачевым 10 февра-
ля получить «карт-бланш» на решение «дела самих немцев», как ес-
191
ли бы ГДР уже была ликвидирована. Затем при активном участии
федерального канцлера в предвыборной борьбе в другом герман-
ском государстве (Г. Коль выступил, по крайней мере, на шести
массовых митингах на территории ГДР) 18 марта проведены выборы
в Народную палату ГДР, где, естественно, одержал верх «Альянс за
Германию», который получил поддержку (причем не только мо-
ральную) правящих в ФРГ партий. Сформированное после таких
выборов правительство ГДР имело откровенно декоративный харак-
тер и призвано было подготовить ликвидацию республики и присое-
динение «новых земель» к ФРГ на основе статьи 23 Основного зако-
на ФРГ. Это правительство во главе с Лотаром де Мезьером подпи-
сало 18 мая 1990 г. с правительством ФРГ соглашение о социальном,
экономическом и валютном союзе, чтобы с 1 июля 1990 г. отказать-
ся от своей денежной системы (одного из признаков суверенности
государства) и принять марку ФРГ. После этого последовало приня-
тие целого пакета законов ФРГ для «новых земель» и решение На-
родной палаты ГДР о ликвидации республики. 31 августа между
ФРГ и ГДР был заключен договор об установлении единства путем
присоединения «новых земель» к ФРГ. Одновременно была опреде-
лена дата торжественного присоединения новых земель к ФРГ -
3 октября 1990 г. и принято решение провести первые общегерман-
ские выборы в бундестаг еще до конца года, внеся изменения в из-
бирательный закон ФРГ.
Итак, Договор об окончательном урегулировании в отношении
Германии был подписан в Москве 12 сентября 1990 г. как итог пере-
говоров по формуле «два плюс четыре», хотя первоначальный замы-
сел состоял в реализации формулы «четыре плюс два», т.е. СССР,
США, Великобритания и Франция должны были провести перегово-
ры с двумя германскими государствами и заключить с ними дого-
вор. Собственно переговоров не было. Имел место ряд встреч мини-
стров иностранных дел, на которых министр иностранных дел ФРГ
Г.-Д. Геншер запросто высказывал пожелания по быстрому и выгод-
ному для ФРГ урегулированию. При этом урегулирование между
ФРГ и СССР было отодвинуто на второй план: подписание «боль-
шого договора» и соглашений об условиях пребывания и выводе
советских войск было отсрочено «на потом». Оно произошло только
в октябре и ноябре, когда выдвигать какие-либо пожелания и усло-
вия со стороны СССР было поздно и бессмысленно.
Договор об окончательном урегулировании в отношении Герма-
нии четко определил статус объединенного германского государст-
ва, его территорию, границы, права и ответственность. Объединение
192
двух германских государств произошло на базе Основного закона
одного из них - ФРГ (статья 23). В Европе не образовалось новое
государство, но расширилось существовавшее государство - член
НАТО за счет присоединения ГДР. Внешние границы объединенной
Германии (граница ГДР и ФРГ) были объявлены окончательными,
что получило закрепление в соответствующих документах ФРГ с
Польшей и Чехией. Германия взяла обязательство не выдвигать ни-
каких территориальных претензий к другим государствам и в буду-
щем. Она провозгласила в договоре тезис, что с ее территории будет
исходить только мир, что она не допустит действий, ведущих к на-
рушению мира между народами, в особенности подготовку к насту-
пательной войне. Весьма важное значение имеет закрепленное в до-
говоре обязательство Германии по статье 3, которая определяет от-
каз от «производства, владения и распоряжения ядерным, биологи-
ческим и химическим оружием». Кроме того, было принято к сведе-
нию участников договора, что бундесвер в течение 3- 4 лет будет
сокращен до 370 тысяч военнослужащих. (Это условие было выпол-
нено ФРГ в срок).
Хотя вопросы взаимоотношений между ФРГ и СССР были выне-
сены, так сказать, за рамки данного урегулирования в отдельный
«большой договор», тем не менее, статус территории ГДР во время
пребывания и после вывода советских войск определен в статье 5
договора. До вывода советских войск здесь могли размещаться
только германские войска территориальной обороны, не интегриро-
ванные в союзнические структуры, а после вывода войск могли раз-
мещаться германские войска, входящие в НАТО, но «без носителей
ядерного оружия»: «Иностранные войска и ядерное оружие или его
носители не будут размещаться в данной части Германии и развер-
тываться там», - записано в международном договоре. В результате
оживленных дипломатических дискуссий статья 5 была пополнена
пунктом, по которому ядерное оружие не будет размещаться в но-
вых землях и после 1994 г., причем толкование терминов «размеще-
ние» и «развертывание» взяла на себя ФРГ. Договор не затронул
право объединенной Германии на участие в союзах, т.е. подтвердил
участие ФРГ в НАТО. Однако по смыслу договора территория ГДР
фактически признана пределом распространения НАТО на восток.
Объединенная Германия обрела полный суверенитет не только во
внутренних, но и во внешних делах в результате отказа четырех
держав от всех своих прав и «ответственности в отношении Берлина
и Германии в целом», от четырехсторонних соглашений по итогам
второй мировой войны. Таким образом, договор шести государств
193
(ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании и Франции) от 12 сентяб-
ря 1990 г. окончательно ликвидировал Ялтинско-Потсдамскую сис-
тему соглашений в отношении Германии, оставив в силе территори-
альные постановления. Развал системы послевоенного устройства в
Европе имел далеко идущие последствия: не только разрушение
системы союзов стран Восточной Европы (роспуск Организации
Варшавского Договора), но и развал Советского Союза.
В связи с подписанием Договора об окончательном урегулиро-
вании в отношении Германии 12 сентября 1990 г. министр ино-
странных дел ФРГ Г.-Д. Геншер и премьер-министр ГДР Л. де Мезь-
ер направили четырем державам-сигнатариям договора совместное
письмо. Они сообщили, что еще 15 июня 1990 г. между ФРГ и ГДР
достигнуто согласие по проблемам собственности на территории
Германии. Совместное заявление ФРГ и ГДР содержит ясное поло-
жение: «Меры по изъятию имущества, предпринятые на основе прав
и верховенства оккупационных властей» (с 1945 по 1949 гг.) явля-
ются необратимыми. Правительства Советского Союза и Герман-
ской Демократической Республики не видят никакой возможности
пересмотреть принятые тогда меры. Правительство Федеративной
Республики Германия перед лицом исторического развития прини-
мает это к сведению. Оно придерживается точки зрения, что буду-
щему общегерманскому парламенту должна быть предоставлена
возможность окончательного решения относительно государствен-
ной компенсации». Эта договоренность стала составной частью До-
говора об установлении единства Германии от 31 августа 1990 г., а
также Договора об окончательном урегулировании в отношении
Германии от 12 сентября 1990 г.
Признание «нерушимости» границы между Германией и Поль-
шей было непременным условием урегулирования в Европе еще в
1970 - 72 гг. Однако соглашение о границе по линии Одер-Нейсе
Польша имела, естественно, с ГДР, а не с ФРГ. Чтобы взять в свои
руки урегулирование с Польшей, дипломатия ФРГ сделала на сессии
ГА ООН в конце сентября 1989 г. заявление: «Польский народ стал
пятьдесят лет назад жертвой развязанной гитлеровской Германией
войны. Он должен знать, что его право жить в безопасных границах
нами, немцами, ни теперь, ни в будущем не будет поставлено под
вопрос выдвижением территориальных претензий. Колесо истории
не будет повернуто назад. Мы хотим работать с Польшей ради луч-
194
шей Европы в будущем. Нерушимость границ - основа мирного со-
жительства в Европе», - заявил министр иностранных дел ФРГ1.
Известно, что гарантом нерушимости границ в Европе, в том
числе и польских, на протяжении всего послевоенного времени вы-
ступал Советский Союз, что получило отражение в «восточных до-
говорах» 1970 года. Однако теперь германская дипломатия перево-
дила вопрос в плоскость отношений между Польшей и Германией,
еще не осуществившей восстановление государственного единства.
И эта, и последующие дипломатические акции говорили о плано-
мерной подготовке к «прорыву», который демонстративно был на-
чат сломом Берлинской стены.
Германская дипломатия ловко использовала сделанную при под-
писании Московского договора в августе 1970 г. оговорку в виде
«Письма о германском единстве», направленного В. Шеелем мини-
стру иностранных дел СССР А. Громыко. Письмо от 12 августа 1970
г. зафиксировало сохранение за немцами права на «свободное само-
определение» и на единство нации. Как обращался министр ФРГ с
министром иностранных дел ГДР (члена ООН) уже осенью 1989 г.,
сам Г.-Д. Геншер откровенно рассказывает в воспоминаниях (S. 17-
18). Отношения с ГДР были отнесены к компетенции не дипломати-
ческого ведомства, а ведомства федерального канцлера ФРГ.
Подписание договора о добрососедстве, партнерстве и сотруд-
ничестве между ФРГ и СССР 9 ноября 1990 г., равно как и заключе-
ние в октябре того же года соглашений об условиях пребывания на
германской территории и вывода советских войск, были следствием
«окончательного урегулирования». Поэтому они не могли возлагать
на Германию какие-либо обязательства перед СССР, скорее наобо-
рот. После развала Союза ССР этот договор сохранил юридическую
силу и обрел большую ценность для Российской Федерации - пра-
вопреемницы СССР. Окончательное урегулирование с Германией не
было равнозначно заключению мирного договора в собственном
смысле слова, поскольку не затронуло всех аспектов взаимоотноше-
ний между государствами в итоге самой большой в истории челове-
чества войны, особенно это касается международно-правовой ответ-
ственности за развязывание второй мировой войны - возмещения
материального ущерба, возвращения культурных ценностей. Оно
осуществлено вместо заключения всеобъемлющего мирного догово-
ра, о котором представители Германии не хотели даже говорить.
1 Hans Dietrich Genscher. Erinnerungen, S. 15.
195
5. Баланс интересов или уравнение
с несколькими неизвестными?
Объединение немцев в едином государстве после четырех деся-
тилетий раздельного существования, конечно, было исторически
неизбежным. Экономические, следовательно, жизненные интересы,
некогда единой нации предопределяли тенденцию к объединению
политическому. Существо вопроса сводилось к тому, когда и в ка-
кой форме произойдет сближение и слияние ГДР и ФРГ, развивав-
шихся в разных условиях и с различными социальными приорите-
тами. Речь не шла о присоединении процветающей большей части
нации к вполне благополучной (но не самой богатой в Европе)
меньшей части нации. Можно было думать о слиянии двух частей
нации в едином новом государстве, для начала, возможно, конфеде-
ративном, тем более, что такой вариант был приемлем для соседей и
союзников обоих государств. Однако реализован был иной вариант:
присоединение меньшего по потенциалу государства ГДР к про-
мышленному и финансовому гиганту ФРГ. Правда, немцам было
обещано, что никому в результате не будет хуже. Так ли это на са-
мом деле - остается спорным.
Присоединение ГДР к ФРГ, если судить по темпам и средствам
организации процесса, может показаться удачной импровизацией.
Однако изучение предпосылок этого акта убеждает в том, что объе-
динение было подготовлено не только всем ходом событий на про-
тяжении многих лет, но и продуманной целенаправленной деятель-
ностью правительства ФРГ, особенно в условиях кризиса ГДР в
1989- 90 гг. Усиление позиций ФРГ на мировых рынках товаров и
капиталов, увеличение индустриальной и финансовой мощи круп-
нейшего из «средних государств», фактическая экономическая зави-
симость ГДР от ФРГ, сложившаяся в результате многолетних фи-
нансовых вливаний, беспошлинной торговли, приобщения к твердой
валюте - все это исподволь подготовило условия для усиления у
части населения ГДР тенденции к сближению с родственниками в
другой части страны. Эта тенденция получила непосредственное
выражение в настроениях молодого поколения, склонного к переме-
не мест, особенно в желании увидеть своими глазами, как живут
люди на и за Курфюрстендам.
Процесс объединения Германии имел как бы два аспекта: внут-
ригерманский, т.е. урегулирование между ГДР и ФРГ, и внегерман-
ский, т.е. определение международного статуса объединенной Гер-
мании. Если бы определяющим аспектом стал внегерманский, а пе-
196
реговоры проходили по формуле «4 плюс 2» (причем именно пере-
говоры с соблюдением правил процедуры), то процесс был бы более
продолжительным, но зато могли быть учтены все вопросы между-
народного характера. По существу же переговоров в собственно ди-
пломатическом смысле не было: имели место периодические встре-
чи представителей шести государств по формуле «2 плюс 4» (5 мая в
Бонне, 22 июня в Берлине, 17 июля в Париже), на которых участни-
кам процесса сообщали о достижениях германской дипломатии,
точнее, об итогах дружественных встреч Г.-Д. Геншера с Э. Ше-
варднадзе.
Важной вехой на пути урегулирования внешнего аспекта объе-
динения стала поездка Г. Коля и Г.-Д. Геншера в Советский Союз
14-16 июля 1990 г. Это не была поездка в Каноссу и даже в Рапалло.
Это была блестящая акция германской дипломатии. В итоге встречи
на высшем уровне в Архызе близ Ставрополя определилось содер-
жание договора об окончательном урегулировании в отношении
Германии, в частности, к этому моменту М. С. Горбачев своим «во-
левым решением» снял возражения против включения объединен-
ной Германии в НАТО. В широком контексте была достигнута дого-
воренность, правда, устная, «джентльменская», что земли бывшей
ГДР будут пределом распространения НАТО, что за эти пределы
НАТО не пойдет.
Усилия дипломатов увенчались досрочным подписанием 12 сен-
тября 1990 г. в Москве договора об окончательном урегулировании
в отношении Германии, который отменил «права и ответственность»
четырех держав в отношении «Германии в целом». ФРГ взяла на
себя определенные ограничения в военной области, в частности, по
ограничению численности вооруженных сил и по полному отказу от
вооружений класса ABC. Территориальный статус объединенной
Германии был определен исторически сложившимися реалиями, но
в целом достаточно благоприятно для Германии. ФРГ пошла на за-
ключение соглашения с Польшей и подтвердила нерушимость суще-
ствующей государственной границы.
Внутригерманский аспект процесса объединения играл решаю-
щую роль, особенно в определении форм и темпов процесса. Под-
робное рассмотрение внутригерманского урегулирования еще будет
предметом изучения историками, хотя оценка итогов может быть
предметом обсуждения, поскольку речь шла об объединении двух
суверенных государств-членов ООН. После выборов на территории
ГДР в марте 1990 г., в которых приняли непосредственное участие
не только различные партии ФРГ, но и лично федеральный канцлер
197
(причем участие не только личное, но и финансовое), довольно бы-
стро были разработаны соглашения между ФРГ и ГДР, вплоть до
полной интеграции, присоединения (аншлюса) ГДР к ФРГ на основе
статьи 23 Основного закона ФРГ.
Объективный историк должен признать, что германская дипло-
матия успешно решила национальную задачу, умело используя воз-
росшую экономическую и финансовую мощь государства и кризис-
ное состояние ГДР. В российской историографии дается критиче-
ская оценка дилетантской деятельности М. С. Горбачева и Э. Ше-
варднадзе по строительству «общеевропейского дома». Достаточно
отметить, что важные документы двусторонних отношений СССР с
ФРГ - соглашение об условиях пребывания и вывода советских
войск, а главное «большой договор» и проблемы экономического
сотрудничества были отложены на время после «окончательного
урегулирования». Дело в том, что оба германских государства были
крупнейшими торговыми партнерами СССР на протяжении десяти-
летий. Ликвидация ГДР означала разрыв сложившихся связей между
сотнями предприятий. Между СССР и ГДР имелись десятки и сотни
соглашений, которые «повисли в воздухе», причем не по вине гер-
манской стороны. Экономическое сотрудничество СССР с объеди-
ненной Германией на перспективу не было обеспечено новыми со-
глашениями или договоренностями. В закрытой записке Председа-
теля Совмина СССР Н. Рыжкова в ЦК КПСС от 29 июня 1990 г., на-
пример, ставился вопрос: чем оплачивать пребывание войск на тер-
ритории ГДР, где с 2 июля вводилась марка ФРГ, как продолжать
хозяйственное взаимодействие с предприятиями ГДР.
Определенная неудовлетворенность итогами германского урегу-
лирования в России связана не только с фактическим разрывом сло-
жившихся хозяйственных связей, но и налаженных научных, куль-
турных и чисто человеческих контактов с немцами в восточных зем-
лях. Главное в размышлениях российских граждан заключается в
том, что советские руководители не обеспечили долговременные
интересы страны, а о применении полученных от ФРГ кредитов ни
перед кем не отчитались.
Российская Федерация - правопреемница или продолжательница
СССР, отказалась от политических традиций, но не от наследства.
Свои отношения с объединенной Германией она, естественно, стро-
ит на договоре об окончательном урегулировании в отношении Гер-
мании от 12 сентября 1990 г. (вступившем в силу 15 мая 1991 г.) и на
договоре о партнерстве, добрососедстве и сотрудничестве от 9 нояб-
ря 1990 г. Россия хотела бы развивать свои отношения с ФРГ на но-
198
вой равноправной основе, насколько это возможно между должни-
ком и кредитором, уравновешивая своим потенциалом и былым ве-
личием реальную финансовую мощь партнера.
Официальные отношения между правительствами ФРГ и Рос-
сийской Федерацией оценивались как вполне удовлетворительные и
«почти дружеские». Особое значение имели визиты Б. Ельцина и Г.
Коля в 1991-1994 гг. В итоге достигнутых договоренностей (в т.ч.
относительно «нулевого баланса» по российскому имуществу на
территории Германии и дополнительной выплаты 550 миллионов
марок ФРГ на обустройство возвращаемых на родину российских
войск) российские войска были выведены досрочно к 31 августа
1994 г., что способствовало успеху Г. Коля на выборах в ноябре
1994 г.
Финансовые усилия ФРГ, оцениваемые германской стороной
суммой в 86 млрд. марок, помнят в России. Однако проблема задол-
женности может решаться только на основе расширения взаимной
торговли. В продолжении и расширении экономического сотрудни-
чества заинтересована прежде всего Россия. Именно поэтому она
особенно заинтересована в создании и поддержании атмосферы
взаимопонимания и доверия.
Как произошел отказ от требования неучастия Германии в НА-
ТО? Уже через две недели после визита канцлера в Москву его
статс-секретарь X. Тельчик записал: «Федеральный канцлер взял
ключ (к германскому единству) с собой. Он находится теперь в Бон-
не». Когда министр Э. Шеварднадзе робко заметил в те дни, что
германское единство «потребует, по крайней мере, несколько лет»,
X. Тельчик, отбросив дипломатию в сторону, бросил фразу: «Ше-
варднадзе еще удивится», «лишь в нашей компетенции» определять,
в каком темпе пойдет объединение.
Было бы неверно полагать, что М. Горбачев не понимал, какой
шаг он совершает. Он предоставил канцлеру Г. Колю полную свобо-
ду рук в объединении Германии, точнее, в присоединении ГДР к
ФРГ, якобы взамен признания нерушимости границ в Европе. Но
между СССР и Германией нет общей границы, как, впрочем, не бы-
ло и перед второй мировой войной. М. Горбачев согласился с тем,
что нейтралитет был бы для объединенной Германии унизителен.
После того, как канцлеру Г. Колю был вручен ключ к герман-
скому единству и снято возражение против членства объединенной
Германии в НАТО, на переговорах «два плюс четыре», а фактически
с этого времени - «канцлер плюс четыре», осталось лишь оформить
199
окончательное урегулирование, точнее, полный отказ от потсдам-
ских соглашений, от прав и ответственности в отношении Германии.
Еще в 70-х годах по инициативе ФРГ началось массовое воссо-
единение семей, и сотни тысяч лиц немецкого происхождения вы-
ехали из СССР, в том числе из России. Похоже, германская сторона
устала принимать родственников на постоянное жительство и хотела
бы позаботиться об их обустройстве не только в местах их компакт-
ного проживания (в Казахстане или Киргизии), но и на «новых зем-
лях» (на Волге). Если мыслить долговременными историческими
категориями, а не категориями сиюминутной относительной выго-
ды, например, получения денег в долг, то следует ясно представлять
себе, что обустройство своих граждан, тем более массовое добро-
вольное переселение людей, по всем нормам международного права
остается внутренним делом России. Превращение внутренней про-
блемы России во внешнеполитическую, интернациональную, в про-
блему отношений между Россией и Германией может иметь непред-
сказуемые последствия для России. Соглашение о поэтапном реше-
нии вопроса о немецком государстве на Волге нуждается в тщатель-
ной проработке и общественном внимании.
В этой связи целесообразно взвесить следующие соображения:
Россия не имеет средств для массового переселения людей, а тем
более целых хозяйств (именно к этому сводится вопрос о воссозда-
нии республики немцев в Поволжье), осуществление же такого рода
акции за счет иностранного капитала едва ли будет совместимо с
суверенитетом России; в местах нынешнего компактного прожива-
ния лицам немецкой национальности, разумеется, должны быть пре-
доставлены все права субъекта федерации; Среднее Поволжье - это
жизненное пространство нескольких наций в течение нескольких
столетий, и большого количества пустующих земель в этом регионе
не зарегистрировано, сгонять кого-либо с земель нет оснований:
немцы в России и их предки никогда не были гражданами собствен-
но Германии, а в России до ленинского декрета и сталинской авто-
номизации немцы не имели своей государственности, если не счи-
тать династические связи царского двора; следовательно, восстанов-
ление республики немцев в Поволжье было бы восстановлением на-
ционально-территориального устройства сталинского времени; на-
конец, желание Германии оказывать покровительство немцам в Рос-
сии, особенно в Поволжье, ставило бы другие нации в неравное по-
ложение.
В корреспонденции А. Михайлова из Берлина (газета «Правда»
17 марта 1998 г.) обстоятельно рассказано об очередном сенсацион-
200
ном выступлении бывшего генсека и президента СССР М. С. Горба-
чева в Международном конгресс-центре с лекцией на тему: «Совет-
ский Союз и немецкое единство». Тема эта до сих пор представляет
интерес не только для немцев, но и для граждан нашей страны. Од-
нако примечательно, что в Германию все еще приглашают «быв-
ших», а не объективных исследователей, которые могли бы более
правдиво поведать, как оценивают в России плоды деятельности
«лучшего немца» на мировом поприще. Судя по всему, М. С. Горба-
чев был приглашен одной из сторон в разгоревшемся в Германии
споре по вопросам земельной собственности в восточных землях
страны. И в свой лекторский портфель он взял лишь односторонние
аргументы и весьма тенденциозные сведения.
Примечательно, что М. С. Горбачев опровергал (фактически
уличал во лжи) своего недавнего друга, канцлера Гельмута Коля -
главное действующее лицо в германском объединительном процес-
се. Канцлер Г. Коль вполне обоснованно уверял немцев, что без при-
знания законности всех имущественных решений советских властей
в Восточной Германии в 1945-1949 годах не было бы молниеносного
объединения в 1990 году, что без признания земельной реформы в
восточных землях и сложившейся системы земельных отношений
Советский Союз не согласился бы на его (Г. Коля) условия объеди-
нения немцев за короткий срок: всего за 329 дней!
М. С. Горбачев в Берлине публично, с наигранной наивностью
уверял немцев, что «никогда на высшем уровне» не обсуждался во-
прос о земельной реформе в восточных землях Германии.
Естественно, возникает вопрос: кому выгодно такое утверждение
бывшего президента СССР? Оно, оказывается выгодным бывшим
крупным землевладельцам в Восточной Германии и их наследникам,
которые хотят, опираясь на такое авторитетное свидетельство, полу-
чить в собственность конфискованные в свое время земли или на
худой конец солидное возмещение за счет налогоплательщиков
ФРГ. Естественно также поставить вопрос: неужели Советское пра-
вительство согласилось на быстрое объединение и одновременно
поставило под сомнение законность мер, принятых в первые годы
после окончания войны в порядке реализации потсдамских решений
по демилитаризации и денацификации Германии, причем при согла-
сии со своими западными союзниками?
М. Горбачев отстаивает свое заблуждение с упорством, достой-
ным лучшего применения. Напомним, что в сентябре 1994 года гер-
манская, да и европейская общественность была шокирована пози-
цией бывшего коммуниста. На вопрос английского историка Норма-
201
на Стоуна: правда ли, что Москва ставила в процессе объединения
вопрос так: либо признание земельной реформы в восточной зоне,
либо никакого объединения, - он ответил лаконично: «Нет, это не
так». За четыре с лишним года можно было силами знаменитого
фонда выяснить истину. Между тем в Германии всегда была полная
ясность на этот счет. Канцлер Г. Коль еще в январе 1991 года заявил
в бундестаге: «Советский Союз поставил условием объединения со-
хранение в силе мер, принятых в 1945-1949 годах».
Какова же историческая правда? В самом начале процесса объе-
динения, точнее 1 марта 1990 года, т.е. еще до встреч по формуле «2
плюс 4», правительство ГДР, возглавляемое в тот момент Гансом
Модровом, приняло решение, что все постановления советской во-
енной администрации по вопросам собственности в Восточной Гер-
мании, прежде всего земельная реформа, приняты законно и будут
иметь силу впредь. Очевидно, правительство ФРГ приняло к сведе-
нию такое решение суверенного государства. Да и сам Горбачев го-
ворил тогда, что внутригерманское урегулирование - это «дело са-
мих немцев». Разумеется, подтверждение законной силы реформ на
германской территории - прерогатива германских властей.
Однако в тот момент, когда Советский Союз наряду с другими
державами сохранял еще за собой права и ответственность за Гер-
манию в целом, конечно, имела значение, причем решающее, пози-
ция СССР. Странно, что Горбачев не знал этого или забыл об этом.
Позиция Советского Союза была выражена в Заявлении Совет-
ского правительства, датированном 27 марта 1990 года. И канцлер Г.
Коль принял к сведению это серьезное заявление, опубликованное в
связи с постановлением правительства ГДР от 1 марта 1990 года.
Заявление Советского правительства было опубликовано 28 марта
1990 года. Это был обстоятельный документ. Он напомнил, что в
1945-1949 годах было конфисковано имущество нацистов и круп-
ных землевладельцев, которые служили нацистскому режиму.
Земельная реформа была проведена в советской зоне оккупации
сразу после окончания войны, когда крупные землевладельцы бежа-
ли, а малоземельные и безземельные земледельцы должны были по-
лучить землю до весенней посевной кампании 1946 года. Уже в кон-
це 1945-го - начале 1946 года было конфисковано и распределено
2852 тыс. гектаров земли. В определенном смысле проведение зе-
мельной реформы было необходимо для выживания населения вос-
точных земель и для восстановления социальной справедливости.
Вместо того, чтобы внести ясность по вопросу, который волнует на-
селение ФРГ, «лучший немец» вносит смуту. В этой связи следует
202
напомнить некоторые положения из Заявления Советского прави-
тельства: «С учетом своих прав и ответственности в германских де-
лах Советский Союз выступает за соблюдение законности отноше-
ний собственности в ГДР, против попыток поставить имуществен-
ные отношения в ГДР под вопрос в случае создания валютного сою-
за и экономического сообщества с ФРГ, а также в случае возникно-
вения единой Германии».
Советское правительство предусмотрело возможность ситуации,
которая сложилась позже в Германии: «Совершенно неприемлемы-
ми были бы попытки, если бы они имели место, оспаривать права
нынешних собственников земли и другого имущества в ГДР, приоб-
ретенные в свое время с согласия или по решению советской сторо-
ны, которая руководствовалась при этом декларацией о поражении
Германии, Потсдамским соглашением и другими четырехсторонни-
ми постановлениями и решениями».
Если М. С. Горбачев на своем «высшем уровне» не обсуждал
этих вопросов, то это не означает, что Советский Союз не выдвигал
справедливого требования уважать и считать необратимыми закон-
ные меры, принятые в 1945-1949 годах. Может быть, земельная ре-
форма не была единственным условием, но то, что это было услови-
ем объединения, следовало бы знать М. Горбачеву. Ведь он по обра-
зованию юрист.
Незнание - не аргумент. В дискуссии, затрагивающей герман-
ское общество сегодня, прав не только канцлер Г. Коль, но и экс-
премьер Г. Модров, который в ответ на выступление М. Горбачева
1 марта 1998 г. адресовал ему открытое письмо, где говорится: «Ва-
ши высказывания представляют собой вмешательство во внутренние
дела ФРГ. Конституционный суд в Карлсруэ объявил соответст-
вующие положения договора «2 плюс 4» законными. Ваши действия
являются посягательством на это решение».
Некоторые немецкие газеты усматривали в высказываниях М.
Горбачева возможную корыстную подоплеку. Мы, российские гра-
ждане, - люди доверчивые и, как говорили в старину, гоним от себя
даже предположение такого рода. И все-таки напрашивается вопрос:
почему бывший президент СССР считает нужным выступать с
сомнительными тезисами перед немцами, а не перед своими сооте-
чественниками, причем на тему «Советский Союз и немецкое един-
ство»?
В Государственную думу РФ в марте 1998 г. поступило письмо
бывшего премьер-министра ГДР Ганса Модрова, который просил
представительный орган РФ дать оценку заявлению М. С. Горбачева
203
в Берлине, поскольку оно искажает позицию Советского Союза,
правопреемницей которого является Российская Федерация. Депута-
ты Госдумы РФ, в частности Н. И. Рыжков, председатель Совета
Министров СССР в 1985- 1990 годах, и А. И. Лукьянов, председа-
тель Верховного Совета СССР в 1990-1991 годах, заявили в этой
связи, что решительно осуждают попрание элементарных требова-
ний человеческого достоинства и исторической правды со стороны
бывшего президента страны.
Поведение некоторых тогдашних партийных руководителей еще
будет предметом исследования в отечественной историографии.
Уже теперь выявились, по крайней мере, две точки зрения на право-
мерность решения ряда ключевых для нашей страны вопросов при
окончательном урегулировании в отношении Германии.
В данном контексте можно отметить одно весьма важное обстоя-
тельство: в советском руководстве не было не только единства в
подходе к германскому урегулированию, но и более или менее об-
стоятельного обсуждения проблем урегулирования со специалиста-
ми, знающими весь комплекс германских дел1, да и с членами Со-
ветского правительства, которые должны были не только выполнять
принятые решения, но и нести свою долю ответственности за них.
Одним из доказательств этого утверждения служит секретный доку-
мент Совмина СССР за подписью Н. И. Рыжкова, выявленный в
Российском Центре хранения современной документации.2
Председатель Совета министров СССР Н. И. Рыжков направил в
ЦК КПСС 29 июня 1990 г. за три дня до введения германской марки
(валюты ФРГ) в обращение на территории ГДР, где расположена
была 400-тысячная Западная группа войск СССР, секретную запис-
ку, в которой ставил вопрос о серьезных последствиях этой «внут-
ригерманской» акции. Прежде всего, возник вопрос, где взять день-
ги на зарплату офицерам и солдатам своей армии на германской
земле. Очевидно, плановое хозяйство совсем не предусматривало
такие непредвиденные валютные расходы. Судя по всему,
Н. И. Рыжков не был даже информирован о принятых М. С. Горба-
чевым и ниже с ним решениях относительно судьбы ГДР. Он исхо-
дил из того, что экономическое сотрудничество с ГДР будет про-
1 Falin Valentin. Politische Erinnerungen. München, 1993. S. 490-492; Фа-
лин B.M. Без скидок на обстоятельства. Политические воспоминания. - М.
1999; Kwizinsky J. Vor dem Sturm; Erinnerungen eines Diplomaten. Berlin,
1993. S. 22.
2 Российский Центр хранения современной документации. Фонд 89,
оп. 8. дело 77.
204
должаться, а войска еще несколько лет будут оставаться на герман-
ской земле. Смена денежной системы в ГДР имела и другие серьез-
ные для СССР последствия: расчеты по торговому сальдо с ГДР и
прочее. Совет министров был озабочен и «защитой имущественных
интересов СССР в связи с наличием на территории ГДР значитель-
ного недвижимого имущества Западной группы войск, а также гра-
жданского имущества, приобретенного советскими организациями
или переданного нам в пользование властями ГДР». Судьба проек-
тов газопровода Ямбург-Западная граница, эксплуатации АЭС, свер-
тывания акционерного общества «Висмут» и другие дела, похоже,
вовсе не интересовали бывшего президента СССР.
Введение марки ФРГ на территории ГДР с 1 июля 1990 г. имело
как отдаленные (стратегические) последствия - поглощение ГДР со
стороны ФРГ), так и непосредственные последствия для СССР. Пе-
ред правительством прежде всего встал вопрос, как финансировать
пребывание Западной группы войск и как вести торгово-
экономические расчеты с предприятиями ГДР. За два дня до вступ-
ления в силу соглашения ГДР и ФРГ о валютном, экономическом и
социальном союзе Совмин СССР направил в ЦК КПСС за подписью
Н. И. Рыжкова записку по этому вопросу. Анализ этого документа
показывает, что Советское правительство было озабочено непосред-
ственными последствиями вступления в силу валютного, экономи-
ческого и социального союза между ГДР и ФРГ (Российский Центр
хранения современной документации (ЦХСД). Фонд 89, опись 8,
дело 77, лл. 4-10).
Между СССР и ГДР имели место контакты и переговоры в связи
с разработкой соглашения о валютном союзе. Еще 29 апреля 1990 г.
во время пребывания премьера Де Мезьера в Москве договорились,
что образуют семь рабочих групп для урегулирования возникающих
проблем. Со стороны ГДР было дано заверение, что обязательства
по соглашениям с СССР будут соблюдаться, что ГДР готова к расче-
там в свободно конвертируемой валюте. Однако был ли готов к это-
му Советский Союз? После заключения соглашения между ГДР и
ФРГ (18 мая 1990 г.) из Москвы в Берлин был направлен замести-
тель Председателя Совета Министров СССР С. А. Ситарян для уре-
гулирования вопросов финансирования расходов на содержание За-
падной группы войск. Главным итогом переговоров 1920 июня 1990
г. была договоренность о льготных условиях обмена наличных денег
- личных сбережений военнослужащих ЗГВ (один к одному, хотя
официально было объявлено об обмене в соотношении один к двум).
205
Одновременно выявилось, что уже во второй половине года рас-
ходы на содержание советских войск придется выплачивать в запад-
ных марках. Это означало, что Советское правительство должно
изыскать дополнительно, по крайней мере, 250 млн. переводных
рублей. Такой вариант был неприемлем, что и было сообщено Де
Мезьеру 22 июня 1990 г. Немедленно 26 июня в Москву прибыл из
Берлина статс-секретарь Г. Краузе. К этому моменту посольство
ФРГ в Москве (в лице Х.-В. Лаутеншлагера) довело до сведения Со-
ветского правительства, что на содержание ЗГВ во втором полуго-
дии правительство ФРГ выделяет 1. 250 млн. марок (что было равно
250 млн. переводных рублей). 29 июня 1990 года советский предста-
витель Э. Обминский подписал в Берлине межправительственное
соглашение с ГДР об условиях финансирования ЗГВ во втором по-
лугодии. Германская сторона (ГДР или ФРГ) не взяла, однако, ника-
ких обязательств по финансированию и в 1991 году. Уже это можно
было использовать как повод для того, чтобы притормозить перего-
воры по окончательному урегулированию.
Примечательный факт: ключевое положение записки от 29 июня
1990 года о необходимости увязать урегулирование по экономиче-
ским и финансовым вопросам с общим урегулированием, во всяком
случае, не отделять от всего комплекса политического урегулирова-
ния, решительно (твердой рукой) очевидно того, кто подписал доку-
мент, вычеркнуто, чтобы, видимо, не осложнять размышления пар-
тийных боссов М. Горбачева и Э. Шеварднадзе. Между тем этот аб-
зац - свидетельство того, что увязка финансового урегулирования с
политическим, конечно, отвечала интересам нашего государства.
Вычеркнутый (но так, чтобы можно было прочитать) абзац гласил:
«При этом очень важно, чтобы МИД СССР при проведении перего-
воров по военно-политическим аспектам объединения Германии, в
том числе и в рамках группы «2+4», увязывал их с обсуждением
экономических и финансовых аспектов пребывания ЗГВ в ГДР и в
1991 году и в последующий период. Такая взаимосвязь существует
объективно и в тактическом отношении выгодна нам, усиливая на-
ши позиции по всему комплексу вопросов германского объедине-
ния».
Именно эта «выгодная нам» взаимосвязь вопросов по всему
комплексу германского урегулирования и была разрушена весной и
летом 1990 года дилетантской, легкомысленной дипломатией
М. Горбачева и Э. Шеварднадзе. В результате экономические и фи-
нансовые вопросы долговременного значения, равно как и т.н.
большой договор были отодвинуты на время после окончательного
206
урегулирования. После же окончательного урегулирования позиция
ФРГ существенно изменилась, а стратегический союзник ГДР уст-
ранен с арены. «Тактическая выгода» не была использована свое-
временно, и это обернулось стратегическими потерями. С точки зре-
ния не только дипломатического искусства, но и элементарного
здравого смысла весь комплекс политических, экономических (осо-
бенно долговременных интересов), включая финансовые проблемы,
следовало обстоятельно (не в два-три дня) обсудить и подготовить
«выгодное нам» решение до того, как поспешно была поставлена
«историческая» подпись под окончательным урегулированием.
Судя по анализируемому документу, руководители СССР, даже
те, кто был озабочен интересами государства, настолько были заня-
ты текущими делами и заботами, что уже в ближайшее время, не
говоря уже о перспективах, даже не заглядывали. В так называемых
рабочих группах рассматривались вопросы перехода в торгово-
экономических отношениях между СССР и ГДР с 1 января 1991 года
на расчеты в свободно конвертируемой валюте в мировых ценах. Из
этого можно сделать вывод, что с советской стороны скорая ликви-
дация ГДР не предусматривалась. Более того, предполагали в бли-
жайшие три месяца выполнить перерасчет «нашего долга ГДР» с
переводных рублей в СКВ (вместо того, чтобы ставить вопрос о по-
гашении или списании долга). В результате, как известно, этот долг
повесили на правопреемницу СССР - на Россию. Речь шла о сумме в
1,7 - 1,8 млрд. рублей. Добросовестные сотрудники Совмина СССР
искали благоприятный коэффициент пересчета «нашего долга» ГДР
в СКВ, выражая готовность начать выплаты после 1995 года. Со
стороны ГДР в середине 1990 г. планировали поставки в СССР това-
ров на сумму примерно в 3 млрд. рублей в 1991 году, давали гаран-
тии поставок товаров.
Советское правительство в середине 1990 г. продолжает перего-
воры с ГДР по ряду проектов, в частности, по строительству объек-
тов на территории СССР, в их числе: Ямбургский газовый комплекс,
газопровод Ямбург-Западная граница СССР, Криворожский горно-
обогатительный комбинат. Наивно для государственной бумаги зву-
чат ныне слова в записке Совмина: «ГДР выразила готовность дове-
сти до конца начатые на указанных объектах работы». Еще продол-
жалось обсуждение проектов нескольких АЭС и реконструкции теп-
ловых электростанций. Вскоре, как известно, АЭС по советским
проектам были поставлены под сомнение и остановлены.
В тот момент были приняты и реалистические решения: «На пе-
реговорах по вопросам совместного акционерного общества «Вис-
207
мут» достигнута договоренность о прекращении его деятельности в
связи с отменой дотаций со стороны правительства ГДР. Из-за со-
кращения наших потребностей в уране мы также не заинтересованы
в продолжении его импорта», - говорилось в документе. Попутно,
как бы между прочим, отмечено, что в переговоры включаются
фирмы ФРГ, что в рекультивацию земель в ГДР Советский Союз
внес за годы эксплуатации месторождения урана 900 млн. рублей.
Надо отдать должное Н. Рыжкову, который, по крайней мере,
ставил вопрос о необходимости позаботиться об имуществе госу-
дарства на территории Германии: «Необходимо обратить внимание
на вопросы правовой защиты имущественных интересов СССР в
связи с наличием на территории ГДР значительного недвижимого
имущества Западной группы войск, а также гражданского имущест-
ва, приобретенного советскими организациями или переданного нам
в пользование властями ГДР», - говорится в записке. Однако факти-
чески имущественные права страны на территории Германии не бы-
ли рассмотрены до окончательного урегулирования, что несомненно
было упущением для нас, ибо после урегулирования германская ди-
пломатия умело привела к нулевому решению, по крайней мере, по
имуществу ЗГВ.
В середине 1990 года представитель ГДР Г. Краузе сообщил со-
ветским властям, что форсируется подготовка «второго государст-
венного договора о политическом объединении ГДР и ФРГ». Однако
о «добровольном вхождении» ГДР в ФРГ не было речи. Таким обра-
зом Советское правительство в конце июня 1990 года (после визита
М. Горбачева в США, но до его встречи с Г. Колем в Архызе) пре-
бывало в иллюзии, что СССР сохранит свои экономические связи с
ГДР. Долговременные экономические интересы страны не решался
ставить даже премьер-министр, видимо, понимая, что может «по-
пасть под поезд» германского единства.
По существу озабоченность правительства СССР решением те-
кущих, неотложных проблем была столь велика, что о перспективах
экономического сотрудничества с объединенной Германией некогда
было думать. Некоторые германисты, ставившие еще за полгода до
этого вопрос о необходимости полновесного мирного договора,
предполагали поэтапное сближение германских государств и после-
довательное движение сначала к конфедерации, а потом к федера-
ции. Интересам Советского Союза, конечно, отвечало установление
нейтрального статуса объединенной Германии или хотя бы невхож-
дение Германии в НАТО по примеру Франции. Наконец, необходи-
мость учета позиции германских социал-демократов по вопросу об
208
объединении была просто проигнорирована. В записке В. Фалина,
например, ставился вопрос о недопустимости аншлюса ГДР, кото-
рый нанесет ущерб интересам Союза ССР. Летом 1990 года прави-
тельство исходило из того, что произойдет объединение двух гер-
манских государств, каждое из которых выполнит свои обязательст-
ва перед СССР. Канцлер Г. Коль заверял советских руководителей,
что экономические отношения СССР ни в коем случае не пострада-
ют. Своими обильными кредитами он подтвердил свои заверения.
Однако в нашей стране граждане до сих пор не услышали от прави-
тельства внятного ответа на вопрос: куда ушли миллиарды марок?
Такова постановка вопроса о финансовых и экономических аспектах
окончательного урегулирования. Возникла проблема задолженности
России, которая ждет своих исследователей.
Глава V
ГЕРМАНИЯ ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
1. Социально-экономическое развитие
объединенной Германии
Социально-экономическое развитие и интеграция новых земель,
вопреки оптимистическим прогнозам, оказались довольно сложным
делом, которое потребовало больше времени и средств, чем ожида-
лось, хотя подъем экономики новых земель начинался отнюдь не с
нуля. Накопленное достояние ГДР оценивалось в сумме в 1 трилли-
он 400 млрд. марок: основные фонды предприятий, жилые дома, со-
циально-бытовые и медицинские учреждения, пути сообщения и
транспорт, научно-технический потенциал и другое перешло в рас-
поряжение федерального правительства. Оно образовало ведомство
по опеке («Тройханданштальт»), которое взяло под контроль около
8 тысяч предприятий на предмет санации и приватизации. Следует
иметь в виду, что далеко не все предприятия ГДР находились на
грани банкротства даже в условиях коренной ломки системы хозяй-
ствования. Среди предприятий ГДР, особенно в отраслях приборо-
строения, оптики, химии, специального машиностроения, скажем,
полиграфического или текстильного, имелся ряд предприятий миро-
вого уровня, а самое главное - они имели квалифицированные науч-
но-технические кадры. Фонд Германского единства (115 млрд. ма-
рок) был призван обеспечить финансирование модернизации произ-
водства. Однако жизнь требовала несравнимо больших финансовых
усилий всей ФРГ: до 1998 г., по оценкам, ФРГ пришлось вложить
около 1 триллиона марок в оздоровление экономики новых земель.
Цифра, несомненно, внушительная, хотя такая паушальная сумма,
очевидно, имеет целью оправдать дополнительные налоговые тяго-
ты для населения всей ФРГ, сохранение довольно высокого уровня
военных расходов, а также определенную сдержанность правитель-
ства ФРГ при предоставлении новых внешних займов и кредитов:
все, дескать, уходит, как в бездонную бочку, в новые земли.
Одним из тяжелых последствий крутой ломки экономической
системы в новых землях стала массовая безработица, которая, впро-
чем, была запланирована с самого начала. Если число безработных в
210
собственно ФРГ в середине 1990 г. составило 1,8 млн. человек (6,9
процентов от числа трудоспособного населения), то в середине 1997
г. в объединенной Германии имелось 4,3 млн. безработных (квота
13%), а в начале 1998 г. - 4,6 млн. человек, причем преимуществен-
но в новых землях. За 5 - 7 лет после объединения не удалось вы-
ровнять жизненный уровень населения в двух частях одного госу-
дарства. Дело, видимо, не только в менталитете представителей од-
ной и той же нации, или в психологической несовместимости «осси»
и «весси» (жителей восточных и западных земель), но и в резком
изменении социальных условий жизни, потере социальных учреж-
дений в медицине, образовании, социальном страховании и т.п.
В результате объединения двух германских государств, конечно,
увеличился экономический потенциал ФРГ. Дело не только в том,
что увеличилось количество населения и трудоспособных квалифи-
цированных работников. Если территория ФРГ увеличилась с 248
708 кв. км. до 356 957 кв. км., то общая численность населения со-
ставила 78,7 млн. человек в 1990 г. и возросла до 81 млн. человек в
1997 г., из которых 64,07 млн. живут в западных землях, а 15,91 млн.
- в восточных землях. Экономический потенциал страны прирастает
увеличением валового национального продукта, исчисляемого в
ФРГ как «брутто-социаль продукт». Если в 1990 г. БСП ФРГ состав-
лял 2425,5 млрд. марок, то в 1991 г. уже в объединенной Германии -
2826,6 млрд. марок. В дальнейшем БСП почти непрерывно возрастал
на 2-2,5 процента (исключение составил 1993 г.) и достиг к середине
90-х гг. (1994 г.) 3321 млрд. марок в текущих ценах или 2978,3 млрд.
марок в ценах 1991 г. В 1995 и 1996 гг. прирост составлял примерно
2% в год, что представляется хорошим ростом, если иметь в виду
уже достигнутый уровень БСП. Объединенная Германия уверенно
удерживала первое место в Европе и третье место в мире после
США и Японии по объему валового внутреннего продукта. Доля ее
в мировом ВНП составляла восемь процентов, доля в мировой тор-
говле достигла 25 процентов, а доля в валовом производстве стран
ЕС - 28 процентов. Германия остается одним из самых крупных
экспортеров промышленных товаров на мировой рынок.
В 1995 г. Германия вывезла на мировой рынок товаров на сумму
506,4 млрд. долларов, что составило свыше 10% мирового экспорта
(второе место после США - 11,6%); прирост экспорта в сравнении с
предыдущим годом составил 21%, в то же время Германия импорти-
ровала товаров на сумму 441,7 млрд. долларов, получив активное
сальдо почти в 65 млрд. долларов. В 1996 г. Германия вывезла това-
ров за рубеж на сумму в 800 млрд. марок при общем объеме товаро-
211
оборота в 1636 млрд. марок. Если в 1996 г. экспорт товаров возрос
на 3,5%, то в 1997 г. ожидался рост на 6%. Германия - страна, кото-
рая за счет активного торгового сальдо постоянно пополняет свои
золото-валютные резервы: если в августе 1996 г. они составили 89,8
млрд. долларов (или примерно 120 млрд. марок), то к началу 1997 г.
они достигли суммы 124,6 млрд. марок, причем собственно золотой
запас страны оценивался почти в 13 млрд. марок1.
Из краткого обзора экономических позиций Германии видно, на
чем основано желание ее правящих кругов играть большую роль в
мировой политике, взяв на себя значительную ответственность за
решение глобальных проблем, в том числе в миротворческих опера-
циях, в принятии ответственных решений в ООН, в европейской по-
литике в рамках ЕС и НАТО. В конце XX века она представляла од-
ну из самых мощных индустриальных стран мира. Валовый внут-
ренний продукт, т.е. стоимость всех произведенных за год товаров и
оказанных услуг в начале 90-х гг. составлял 2613,8 млрд. марок, к
середине 90-х гг. (1994 г.) достиг 3321,8 млрд. марок в текущих це-
нах, а в 1997 г. стоимость валового внутреннего продукта составила
рекордную сумму 3642 млрд. марок2. Это означало, что в среднем на
душу населения приходилась доля в 45 200 марок в год, а доход
среднестатистической семьи в месяц составил сумму свыше пяти
тысяч марок. Если измерять историческим масштабом, то следует
отметить, что реальная ценность валового внутреннего продукта за
25 лет, начиная с 1970 г. к середине 90-х гг. удвоилась, а за 40 лет
увеличилась в пять раз. Страна, не имеющая сколько-нибудь значи-
мых природных ресурсов, смогла добиться непрерывного экономи-
ческого роста и благосостояния благодаря правильному определе-
нию своего места в международном разделении труда и исключи-
тельной творческой энергии народа, выражающей высокий уровень
культуры производства, уровень научно-технических знаний и их
применения, должному вниманию общества и государства к науке и
образованию. Система хозяйствования на основе концепции соци-
ального рыночного хозяйства в Германии доказала свою действен-
ность благодаря безотказному функционированию законов правово-
го государства.
Причина долголетнего сохранения власти правительства во главе
с Г. Колем заключалась в том, что оно в новых исторических усло-
1 Tatsachen über Deutschland. Bonn, 1995. S. 216.
2 50 лет Федеративной Республике // ж. «Deutschland» (Германия) -
№ 6/98. (приложение). - С. 22.
212
виях - перед лицом новых вызовов глобального порядка сумело мо-
дернизировать не только концепцию, но и конкретные подходы к
экономике, отнюдь не отказываясь от регулирующей роли государ-
ства. Государство призвано создавать условия для свободного раз-
вития экономики, рыночных отношений, но в определенных рамках,
устанавливаемых законом. Секрет политического долголетия Г. Ко-
ля заключался в том, что он достойно представлял интересы и тре-
бования крупных предпринимателей как общенациональные интере-
сы, обеспечивая тем самым баланс социальных интересов, хотя и не
в полной мере. Одной из крупнейших социальных проблем на про-
тяжении всего периода правления ХДС/ХСС оставалась проблема
занятости трудоспособного населения. Процветание экономики при
огромной массе безработных можно считать вторым изданием «гер-
манского чуда», особенно если иметь в виду одновременное исполь-
зование примерно такой же массы (примерно 4,5 млн. человек) ино-
странных рабочих.
В Германии идет процесс концентрации капитала в больших
масштабах. В середине 80-х гг. произошло огромных масштабов
увеличение финансовой и производственной мощности концерна
«Даймлер-Бенц», который включил в свою сферу предприятия элек-
тротехнической фирмы «АЭГ», машиностроительной фирмы
«МТУ» (Моторен унд Турбинен-Унион), а также аэрокосмической
фирмы «Дорнье». В 1988 г. при содействии правительства «Дайм-
лер-Бенц» добился присоединения мощного аэрокосмического кон-
церна «МББ» (Мессершмидт-Белков-Блом). Таким образом, сложил-
ся мощный машиностроительный концерн, из доходов которого уже
в конце 80-х гг. поступало в казну 10 процентов всех налогов с кор-
пораций. Этот концерн стал самым крупным со времен второй ми-
ровой войны военно-промышленным концерном в Германии.
Крупные предприятия (с числом занятых свыше тысячи человек)
дают примерно половину оборота промышленных предприятий. Ав-
томобилестроительная промышленность ФРГ способна выпускать
более 5 миллионов машин в год. Основную массу продукции в 90-х
гг. выпускают такие гиганты, как «Даймлер-Бенц» (с резиденцией в
Штутгарте) - число занятых в концерне 375 тысяч человек, оборот -
94,6 млрд. марок; «Фольксваген» (Вольфсбург) 265 тыс. чел., оборот
- 77 млрд. марок и «БМВ» (Мюнхен) - число занятых - 75 тыс. чел.,
оборот - 30 млрд. марок. В общем машиностроении одной из круп-
ных фирм остается фирма «Тиссен» (Дуйсбург), производящая стан-
ки и стальные изделия и имеющая почти 150 тысяч работников при
обороте 36,6 млрд. марок.
213
В электротехнике, которая поставляет свою продукцию не
столько для быта, сколько для промышленности, в том числе для
автостроения, определяющую роль играют такие гиганты, как «Си-
менс АГ» (400 тысяч занятых, 73 млрд. марок оборот), «Бош АГ»
(150 тысяч занятых, 35 млрд. марок оборот), наконец, названный
выше «Даймлер-Бенц», поглотивший «АЭГ». В сфере телекоммуни-
каций, включая федеральную почту, занято 250 тыс. человек, а пер-
вую скрипку держит компания «Телеком», имеющая оборот более
43 млрд. марок
Преемники «И. Г. Фарбениндустри» хозяйствуют в химической
отрасли и фармацевтике не только в стране, но и далеко за предела-
ми Германии: самым крупным из них является «Хехст АГ» (рези-
денция во Франкфурте-на-Майне) с числом занятых 180 тыс. чел. и
оборотом 47 млрд. марок, «БАСФ» (Людвигсхафен) с числом заня-
тых 130 тыс. чел. и оборотом более 46 млрд. марок, а также «Байер
АГ» (Леверкузен) с числом занятых 160 тыс. чел. и оборотом 42
млрд. марок. К перечню гигантов германской индустрии следует
добавить энергетические предприятия, которые обеспечивают элек-
тричеством промышленность и обозначаются не очень броскими
аббревиатурами «ФЕБА» (Дюссельдорф) с оборотом 60 млрд. марок
и «РВЭ» (Эссен) с оборотом 50 млрд. марок. В сознании европейцев,
по преданиям, когда речь идет о германской промышленности, все
еще возникает картина Рурского региона с его дымящимися трубами
и отравленной атмосферой. Между тем, вместе с уменьшением роли
металлургии и возрастанием роли высокоточных технологий и нау-
коемких производств, в т.ч. военной и аэрокосмической техники,
основное производство современной продукции переместилось к
югу от р. Майн, в Баден-Вюртемберг, Баварию. По стоимости про-
дукции ведущие места занимают предприятия авиакосмической и
компьютерной техники, где существенную роль играют и средние
предприятия, нашедшие свое место в технологической цепи. Если
учесть, что общее число предприятий ФРГ в начале 90-х гг. состав-
ляло 46 700, то очевидно, что хозяйственный ландшафт определяет-
ся большим количеством средних предприятий, которые тесно свя-
заны с крупными, имея свою специализацию и получая заказы от
них.
Дальнейшее развитие экономики страны тесно увязывается с
развитием передовых технологий и производства наукоемких изде-
лий, включая военную технику. Европейская научная программа
разработки технологий, известная как «Эврика», включает, как из-
вестно, более 200 тем, во многих из них германские учреждения и
214
институты играют ведущую роль (более 60 программ). Разработки
ведутся с целью использования солнечной энергии и ветровых элек-
трогенераторов, применения технологии «рециклинга» - использо-
вания мусора для производства энергии (фирма «Ролль»), меньшего
расходования сырья и энергии на единицу продукции и т.д. Имеется
большая программа очищения питьевой воды и иные экологические
программы, которые дают свои положительные результаты, напри-
мер, известен опыт очистки воды Рейна после катастрофических
сбросов вредных веществ. Чистая вода - предмет особой заботы
немцев еще и потому, что из чистой воды изготавливаются лучшие
сорта пива, а их количество едва поддается учету, хотя статистика
точно зафиксировала в июле 1990 г. рекорд по изготовлению пива в
Германии: один миллиард литров пива за месяц!
Германия играет ведущую роль в процессе экономической и по-
литической интеграции стран Европы. При выработке и заключении
Маастрихтского договора, происходившего постепенно, как бы по
этапам, это получило наиболее полное выражение. Объединенная
Германия с ее возросшим потенциалом, естественно, заняла цен-
тральное место в формируемом союзе. Уже к декабрю 1991 года был
подготовлен по решению глав государств и правительств стран ЕЭС
проект договора 12 государств. 7 февраля 1992 г. состоялось предва-
рительное подписание договора в голландском городе Маастрихт, а
затем состоялось и «формальное подписание» 7 декабря 1992 г.
Маастрихтский договор заключен в развитие Римского договора
1957 г. и предусмотрел коренную реформу интеграционной системы
- создание Европейского Союза. Договор определил цели объедине-
ния: обеспечение экономического роста во всех странах-участницах
с учетом социальной сферы, утверждение идентичности участников
на международном поприще, защита прав и интересов граждан пу-
тем введения «союзного гражданства», сотрудничество в правовой
политике, сохранение и повышение их благосостояния. Договор
предусмотрел упрочение политического союза и закрепление эко-
номического и валютного союза созданием единой валютной систе-
мы к 1 января 1999 г. Новые постановления расширили сферу дея-
тельности Европарламента и поставили в повестку дня европейскую
политику обороны. Маастрихтский договор, видимо, отвечает об-
щим национальным интересам немцев, что получило отражение в
представительном органе. Германский бундестаг принял 2 декабря
1992 г. закон о ратификации этого договора преобладающим боль-
шинством в 586 голосов при 17 против и восьми воздержавшихся, а
18 декабря 1992 г. бундесрат одобрил договор. Одновременно бун-
215
дестаг и бундесрат приняли решение о восьми изменениях в Основ-
ном законе ФРГ, чтобы обеспечить внутригосударственные предпо-
сылки международной интеграции. Суть изменений в Основном за-
коне сводится к расширению прав земель (через бундесрат) при
принятии решений по договорам, соглашениям и мерам, связанным
с деятельностью Европейского Союза, а также компетенции в во-
просах гражданства, избирательных прав, деятельности Европейско-
го центрального банка. Эти изменения вошли в текст Основного За-
кона в качестве статьи 23 (взамен потерявшей силу статьи 23 преж-
ней редакции Основного закона), а также дополнениями к другим
статьям. Ратификация договора в других странах встретилась с
большими трудностями. В некоторых из них потребовались повтор-
ные опросы населения (референдумы). В конечном счете 1 ноября
1993 г. Маастрихтский договор о создании Европейского Союза
вступил в силу.
Европейская интеграция основана на признании государствами-
членами «четырех свобод»: свободного (беспошлинного) распро-
странения товаров, перелива капиталов, предоставления услуг, на-
конец, перемещения рабочей силы. В ЕС создан единый внутренний
рынок, однако обеспечение свободы перемещения людей потребо-
вало дополнительных соглашений. Формально соглашение о безви-
зовом перемещении граждан - членов союза и общей визы для гра-
ждан других стран было достигнуто еще 14 июня 1985 г. на встрече
представителей пяти государств в люксембургском местечке Шен-
ген. Однако соглашение введено в действие лишь спустя десять лет
- 26 марта 1995 г. (в день ввода летнего авиарасписания в европей-
ских странах), да и то не всеми странами. На конец 1997 г. из 15
стран-участниц Европейского Союза к Шенгенской конвенции о
единой въездной визе присоединились 10 государств. Понятие
«шенгенская виза» вошло в обиход европейских стран, причем не
только тех, которые присоединились к этому соглашению. Герман-
ская дипломатия была одним из инициаторов обеспечения свободы
передвижения людей, равно как и воссоединения семей1.
В развитие ранее заключенных договоров и соглашений по инте-
грации европейских государств Германия вместе с другими страна-
ми Европейского Союза подписала 2 октября 1997 г. новый договор.
«Амстердамский договор о Европейском Союзе, об изменении дого-
1 См.: Хакке Кристиан. Великая держава поневоле. Внешняя политика
ФРГ. - Берлин, 1993. - С. 185; Шелген Грегор. Страх перед силой. Немцы и
их внешняя политика. - М., 1994.
216
воров о создании европейских сообществ, а также связанные с этим
правовые акты»1 содержит 314 статей и предусматривает реформи-
рование и совершенствование сообщества. «Обобщенная редакция
договоров о создании европейских сообществ» подтвердила и за-
крепила подписи под Римским договором (1957 г.).
В Европейском Союзе официально с 1 января 1999 г. введена
общая для 11 стран из 15 Европейская валютная система. С этого
момента Европейский центральный банк, устроенный по германской
модели и расположенный во Франкфурте-на-Майне, взял на себя
исключительное право печатания и выпуска (эмиссии) банкнот но-
вой денежной единицы евро, регулирование курса валюты, стабиль-
ности цен, осуществления операций с ценными бумагами. До 1 июля
2002 г. евро было расчетной единицей в безналичных расчетах и
лишь позже стало наличной денежной единицей. Страны-участники
единой валютной системы передали в распоряжение Европейского
центрального банка часть своего золотого и валютного запаса на
сумму примерно в 40 млрд. евро, причем к 1 января 1999 г. в виде
золотых слитков на 6 млрд. евро (15%), а остальную сумму вносят в
виде валюты. На первых торгах на мировых валютных биржах 4 ян-
варя 1999 г. зафиксирован курс евро, равный одному доллару 20
центам (при намеченном курсе в 1,1 доллара).
Полагают, что альтернативная валюта будет обслуживать при-
мерно 20 процентов расчетов на мировом рынке и составит серьез-
ную конкуренцию американскому доллару, не говоря уже об анг-
лийском фунте и японской иене. Финансовые круги в Германии
молча гордятся тем, что они сконструировали евровалюту как на-
следницу марки.
В конце XX столетия Германия утвердила свое положение одно-
го из самых крупных экспортеров промышленных товаров, в том
числе наукоемкой продукции, и имеет из года в год возрастающее
активное сальдо во внешней торговле. В 1996 г. внешнеторговый
оборот ее составил 1470,81 млрд. марок, в т.ч. экспорт - 784,19
млрд. м., импорт - 686,62 млрд. м. (сальдо 67,57 млрд. м.), в 1997 г.
общий товарооборот - 1653 млрд. м., в т.ч. экспорт - 887,5 млрд. м.,
импорт - 765,5 млрд. м. (сальдо 122 млрд. м.).
Основные партнеры ФРГ - это, естественно, страны Европейско-
го Союза прежде всего ближайшие соседи (Австрия, Франция, Ни-
дерланды), а вне Европы - США, Япония, Китай. На этом фоне эко-
номическое взаимодействие Германии и России представляется
1 Der Vertrag von Amsterdam, Brüssel, 1997.
217
весьма скромным. Оно не отвечает возможностям и потребностям
двух крупнейших европейских стран, особенно если учитывать ис-
торический опыт.
Ведущая роль ФРГ в расширении сферы деятельности Европей-
ского экономического сообщества, а теперь и Европейского Союза,
получила выражение в активном вовлечении в экономическое со-
трудничество не только стран Европы, но развивающихся стран
Азии, Африки и Латинской Америки. Начиная с середины 70-х гг.
ЕС заключал с этими странами соглашения, которые называли по
месту выработки и подписания первого и последующих документов
(в столице Того - Ломе). Конвенция Ломе, которая оценивается как
«самая благоприятная модель кооперации» ЕС с более чем 70 стра-
нами т.н. третьего мира с населением около 600 млн. человек. Эти
соглашения обеспечивают некоторые таможенные льготы, участие в
программах развития, помощи развивающимся странам. Поэтому
эти страны охотно пошли на продление соглашения, срок которых
истек в феврале 2000 г. И здесь мы видим ведущую роль Германии в
реализации масштабных проектов международного сотрудничества,
свидетельствующей о действительно глобальной ответственности,
которую берет на себя Германия.
В соответствии с Основным Законом ФРГ, Президент объеди-
ненной Германии был избран в мае 1994 г. Федеральным собранием,
состоявшим из 622 депутатов бундестага и такого же числа делега-
тов земель, определяемых ландтагами, т.е. земельными парламента-
ми. Новым федеральным президентом на пятилетний срок избран
Роман Херцог (1934 года рождения), член ХДС с 1970 г., юрист
высшей квалификации, бывший с 1987 г. до избрания на пост прези-
дента председателем Федерального конституционного суда. Обра-
щаясь к жителям Берлина по случаю избрания его президентом 23
мая 1994 г., Р. Херцог заявил: «Я говорю людям в новых федераль-
ных землях: вы должны понять, что вы для нас не обуза, а приобре-
тение. Вы несете с собой бесконечно большой опыт, которого не
было у нас на Западе, опыт совершенно другого мира, где многое
было более гуманным, чем у нас, многое было совершенно иначе»1.
Президент исходил из того, что Германия должна играть свою
роль в мире, но ... «не скаля зубы». Для вступающего на ответст-
венный пост государственного деятеля было принципиально важно
дать (подобно Рихарду фон Вайцзеккеру за десять лет до того) свой
ответ на вопрос, который до сего дня волнует немцев: чем было для
1 Речи Федерального Президента Германии Романа Херцога. - С. 2.
218
Германии 8 мая 1945 г. - катастрофой или освобождением? Роман
Херцог нашел ответ в виде формулы: 8 мая 1945 г. было днем, когда
для Германии открылись «ворота в будущее». Хорошо понимая роль
президента как представителя нации на международной арене, Р.
Херцог в марте 1995 г. заявил: «Мы находимся в начале новой фазы
германской внешней политики, которую я охарактеризовал как гло-
бализация внешней политики Германии. Мы еще только приступаем
к тому, чтобы создать культуру внешней политики»1.
Перед выборами 1994 г. ХДС вынуждена была признать, что
правительству не удается решить самую главную социально-
экономическую проблему, каковой, по ее признанию, является
«слишком высокий уровень безработицы». ХДС пыталась объяснить
причины этого тем, что ситуация на внешних рынках изменилась
неблагоприятно для Германии: «Товары из Германии далеко не все-
гда превосходят продукцию из других стран». Это заявление сдела-
но в том самом году, когда экспорт товаров увеличился на 21 про-
цент за год. В то же время правительство записало в свой актив:
«ХДС создал и развил социальное государство в Германии». ХДС
полагает, что Германия подает теперь пример в области охраны ок-
ружающей среды, где было занято к середине 90-х гг. до 700 тысяч
человек. Германия выступает инициатором введения «единых эко-
логических норм» для всех европейских стран, введения ограниче-
ний на эмиссию (выброс) двууглекислого газа, налога на потребле-
ние энергии, чтобы избежать «тепличного эффекта» в глобальном
масштабе.
Новая концепция внешней политики прозвучала в программном
заявлении ХДС: «Восстановление государственного единства Гер-
мании и ее полный суверенитет принесли с собой и новую ответст-
венность Германии за судьбы Европы и всего мира»2.
Партнер ХДС по коалиции (Св. ДП) делал основной акцент на
успехи во внешней политике, которую с 1969 г. обеспечивали либе-
ральные министры (В. Шеель, Г.-Д. Геншер, К. Кинкель). Особенно
убедительно звучал своего рода отчет дипломатии относительно ев-
ропейской интеграции и создания Европейского Союза при ведущей
роли ФРГ.
Главная оппозиционная сила СДПГ, естественно, поставила в
центр внимания проблему борьбы против массовой безработицы, за
1 Речи Федерального Президента Германии Романа Херцога. - С. 22.
2 Специальный выпуск: выборы в бундестаг. Процедуры. Программы.
«Интер Национес», 1994. - С. 26.
219
экономический рост без ущерба для экологии. Она противопостави-
ла правительственной программе свое видение путей преодоления
сложных проблем современности. Правда, кандидат в канцлеры от
СДПГ Рудольф Шарпинг (1947 года рождения), политолог, не сумел
убедить избирателей в своей способности справиться с этими про-
блемами.
Партия Союз-90/зеленые1, созданная как предвыборное объеди-
нение еще в 1990 г., смело выступила за роспуск НАТО и за демили-
таризацию отношений между государствами. Еще радикальнее
сформулировала свои требования ПДС (Партия Демократического
Социализма), выступающая против системы наживы и господства
капитала, против возрастающих претензий ФРГ на статус «великой
державы». Оценивая объединение Германии, ПДС видит и позитив-
ные, и негативные следствия этого процесса: вместо объединения
двух равноправных государств и обновления основ демократическо-
го устройства единого государства произошло присоединение ГДР
к ФРГ с утратой социальных достижений жителей восточных зе-
мель. Партия решительно выступает за то, чтобы объявить примене-
ние военной силы вне закона, не допускать войны, где бы то ни
было2. На этом фоне несомненных внешнеполитических успехов
правительства ХДС/ХСС и Св.ДП 14 октября 1994 г. были проведе-
ны очередные выборы в Германский бундестаг 13-й легислатуры
(созыва).
Чтобы представить себе наглядно итоги голосования в бундестаг
в 1994 г., можно воспользоваться следующей сводкой:
Партия
Действительные
голоса
Процент
Число
депутатов
ХДС 16089491 34,2 244
ХСС 3427128 7,3 50
Св.ДП 3257864 6,9 47
СДПГ 17141319 36,4 252
Союз-90/зеленые 3423091 7,3 49
ПДС 2067391 4,4 30
Всего 45406284 672
1 Parteien in der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg. Alf
Mintzel/H.Oberreuter. Bonn, 1992.
2 Специальный выпуск: выборы в бундестаг. «Интер Национес», 1994.
-С. 70-71.
220
Выборы проходили при сравнительно высокой активности изби-
рателей: из 60,2 млн. граждан, имеющих право голоса, в выборах
приняли участие 45,4 млн. человек, т.е. 79,1 процента избирателей.
В 328 округах было открыто более 80 тысяч участков, которые об-
служивали 600 тысяч добровольных сотрудников. Уже по предвари-
тельным данным было ясно, что ХДС и ХСС добились успеха, полу-
чив 41,5 процента голосов, правда, потеряв 2,3% своих избирателей
в сравнении с 1990 г. Партнер по коалиции Св.ДП получил 6,9 про-
цента голосов, потеряв 4,1% избирателей. Оппозиционная СДПГ
увеличила число своих сторонников на 2,9 процента и получила
36,4% от общего числа принявших участие в голосовании бундес-
бюргеров. Несомненный успех обеспечили себе «зеленые» с «Сою-
зом-90», получив 7,3 процента голосов, что на 2,3% больше, чем на
выборах 1990 г.
Как видим, в целом итоги выборов свидетельствовали о некото-
ром отрезвлении избирателей от объединительного головокружения
в новых землях. Об этом свидетельствовали результаты Партии Де-
мократического социализма, которая увеличила число своих сто-
ронников. Однако теперь успех зависел не от действия или исклю-
чения пятипроцентной оговорки, а от получения прямого мандата
хотя бы двумя кандидатами партии. ПДС удалось провести своих
кандидатов по четырем округам в Берлине. Прямые мандаты полу-
чили Г. Гизи, К. Луфт, М. Мюллер и известный немецкий писатель
(81 год) Стефан Хайм. Это означало, что, благодаря депутатам по
округам, не будут «потеряны» голоса, поданные за ПДС по партий-
ному списку. Значительное число голосов ПДС получила в восточ-
ной части Берлина и пограничной полосе на востоке. В итоге места в
Германском бундестаге 1994 г. распределились следующим обра-
зом: ХДС/ХСС - 294, а Св.ДП только 47. Таким образом, коалиция в
сумме получила 341 мандат из 672, т.е. на 10 мандатов больше поло-
вины. Оппозиция в лице СДПГ получила 252 места, Союз-
90/зеленые получил 49 мандатов, а ПДС - 30. Хотя перевес коали-
ции не был значительным, деятельность правительства была облег-
чена отсутствием единства в левых рядах.
При окончательном определении международного статуса в
1990 г. Германия взяла обязательство сократить свои вооруженные
силы до 370 тысяч человек. В день объединения страны Националь-
ная Народная армия ГДР (насчитывавшая до 170 тысяч военнослу-
жащих) была объявлена распущенной. Вооружение и техника армии
ГДР оказалась в распоряжении правительства ФРГ. Материальная
221
ценность «трофеев», главным образом техники советского произ-
водства, доставшейся в наследство, была достаточно большой. Одно
перечисление видов вооружений и технических средств в округлен-
ных цифрах производит неизгладимое впечатление: 2300 танков,
9000 боевых бронированных машин, 5000 зенитных и артиллерий-
ских установок, 700 транспортных и боевых самолетов, в том числе
десятки совершенных МИГ-29, и вертолетов, около 200 судов, кроме
того 85 тысяч автомашин, 1,2 млн. единиц стрелкового оружия,
главным образом автоматов Калашникова, 295 тысяч тонн боепри-
пасов и 4,5 тыс. тонн ракетного топлива. У российского читателя,
естественно, может возникнуть вопрос: куда же «ушла» эта совре-
менная боевая техника? По сведениям мировой печати германские
власти распорядились по-хозяйски. Это вооружение лишь частично
представляло интерес для бундесвера, поэтому избытки были на-
правлены «дружественным» режимам ближе к границам России, а
значительная часть отправлена в районы, где в оружии есть потреб-
ность, в первую очередь на Средний Восток. Не исключено, что
трофейными боеприпасами убивали российских новобранцев в кон-
фликте на Северном Кавказе.
Сама Германия, выполняя взятое на себя обязательство, сократи-
ла свои вооруженные силы до уровня даже ниже обусловленного:
уже к 1995 г. сухопутные силы сокращены до 238 тысяч человек;
военно-воздушные силы - до 74 тысяч человек, а военно-морские
силы - до 28 тысяч, т.е. в целом - до 340 тысяч человек. Изменение
стратегического положения Германии в благоприятную сторону по-
зволило планомерно сокращать расходы на военные цели. Если в
1990 г. бюджет 1 предусматривал на военные цели 53,365 млрд. ма-
рок, а в 1991 г. - 53,605 млрд. марок, то уже в 1992 г. - 52,758 млрд.
марок, в 1993 г. - 49,602 млрд. марок, в 1994 - 48,481 млрд. марок, а
в 1997 г. - 46,5 млрд. марок, в 1998 г. более 47 млрд. марок. В реаль-
ном исчислении расходы на военные цели в 90-х гг. были даже ниже
названных цифр.
Глобализация внешней политики Германии в 90-х гг. означает
стремление правительства этой страны не только укрепить достиг-
нутые рубежи, но и расширить стратегические плацдармы, укрепить
позиции мировой державы. После вступления ФРГ в ООН прошло
много времени (почти четверть века), и фактически утратили силу
положения статьи 107 Устава ООН относительно «бывших враже-
1 Weissbuch zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Bonn, 1994.
S. 17.
222
ских государств». Германская дипломатия, естественно, хотела бы
не только навсегда вычеркнуть эту статью из Устава универсальной
всемирной организации, но и закрепить новый статус Германии. По-
этому вполне понятно стремление германской дипломатии получить
место постоянного члена Совета Безопасности ООН. Дело, разуме-
ется не в технической трудности внести изменения в Устав ООН, но
в наличии других претендентов на такое же место в сообществе ми-
ровых держав: скажем, Индии, Японии, Бразилии, Нигерии. Как бу-
дут решать вопрос представители 190 государств - членов ООН, в
том числе ныне действующие в Совете Безопасности великие дер-
жавы (они же - ядерные державы), это вопрос, который будет зани-
мать и волновать германскую дипломатию как практический, а от-
нюдь не теоретический вопрос.
Основные направления не только внутренней, но и внешней по-
литики страны в течение 16 лет определял, в соответствии с консти-
туцией, федеральный канцлер Г. Коль, а также единственный вице-
канцлер, министр иностранных дел Клаус Кинкель, сменивший
Г.-Д. Геншера на дипломатическом поприще в мае 1992 г. 1.
Европа остается, естественно, главным приоритетным направле-
нием внешней политики государства, что вполне понятно, если
иметь в виду центральное место Германии на континенте и ее эко-
номические интересы. Новую архитектуру европейского дома гер-
манская дипломатия определяет на основе договора о Европейском
Союзе и в тесном контакте (союзе) с США, рассматривая НАТО как
базу не только своей безопасности, а Организацию по безопасности
и сотрудничеству в Европе как своего рода «модус вивенди» для
поддержания связей с государствами СНГ, в т.ч. с Россией. «Осно-
вополагающий акт» НАТО и России 1997 г. германская дипломатия
рассматривала как «промежуточное» решение, как способ «институ-
ционального сближения России с европейскими и атлантическими
структурами». Какая судьба уготована при таких комбинациях Ор-
ганизации Объединенных Наций, остается загадкой нового века.
Кинкель Клаус (1936 года рождения) - юрист по образованию, начал
свою карьеру в Федеральном ведомстве гражданской обороны, а в 1970 г.
стал главой бюро Министра внутренних дел Г.-Д.Геншера, затем в 1974 г.
возглавил его же секретариат, но уже в Министерстве иностранных дел, где
вскоре стал главой штаба планирования; с 1979 по 1982 гг. служил в каче-
стве шефа «БНД» - Федеральной разведывательной службы, с 1982 по 1991
гг. - статс-секретаря в Министерстве юстиции. Лишь в 90-х гг. К.Кинкель
стал членом Св.ДП, а в октябре 1994 г., уже будучи министром иностран-
ных дел, избран депутатом бундестага.
223
Германия, взявшая перед СССР обязательство не размещать
ядерное оружие НАТО в восточных землях, не высказывает сомне-
ний по поводу расширения НАТО на Восток и приема в НАТО не-
посредственных соседей России и Белоруссии, отодвигая таким об-
разом возможный театр военных действий и развертывания ракетно-
ядерных систем почти на 1000 километров восточнее своей террито-
рии. Крупнейшее в истории надувательство России со стороны За-
пада налицо. Одновременно ФРГ по-прежнему активно выступает за
разоружение и контроль над вооружениями (не натовскими, разуме-
ется), за модификацию договора об обычных вооруженных силах в
Европе, которое вообще потеряло смысл из-за изменившихся стра-
тегических обстоятельств. В отношении государств СНГ Германия
проводит хитрую политику создания «региональных противовесов»
России по принципу «разделяй и властвуй», чтобы не допустить
восстановления утраченного Россией влияния в постсоветском про-
странстве. Уделяя главное внимание «незалежной» Украине (как
пример - визит канцлера в Киев в сентябре 1996 г.), германская ди-
пломатия смотрит не только далеко вперед, но и далеко на восток,
вплоть до Центральной Азии, а заодно и на юг - Грузию и Азербай-
джан. Само собой должно восстановиться традиционное германское
влияние в Балтии. Никакого «дранга нах Остен», разумеется, не
провозглашается, но экспансия далеко за пределы долин Дуная и
Вислы очевидна. В годы после объединения Германии проявилось и
другое направление ее забот в Европе: наряду с «дрангом нах Ос-
тен» - «Sehnsucht nach Süden» - «тоска по Югу» и повышенная ак-
тивность в отношении устройства южных славян, очевидно, не
только ради выполнения дейтонских соглашений.
Из глобальных проблем Германию привлекает больше всего
проблема коммуникаций и доступа к нефтяным источникам на
Среднем Востоке. Германия не осталась в стороне от конфликта в
Персидском заливе, выделив солидную сумму на поддержку опера-
ции «Буря в пустыне», сумму, сравнимую со средствами на вывод
российских войск из Германии и на жилье российским офицерам. С
середины 90-х гг. германская дипломатия ужесточила позицию в
отношении Ирака, настаивая на безусловном выполнении резолю-
ции ООН о контроле над Ираком. В то же время военные круги, в
частности, министр обороны Ф. Рюэ не исключал возможности при-
менения силы далеко за пределами зоны НАТО и участия в них бун-
десвера. В октябре 1998 г. бундестаг прежнего состава принял ре-
224
шение, позволяющее применение бундесвера в возможных операци-
ях в Косово, на территории суверенного государства, члена ООН
Сербии.
2. Отношения Германии и Российской Федерации
в 90-х годах
Еще до начала 90-х годов во внешнеполитических приоритетах
ФРГ отношения с Советским Союзом, а затем и с Россией занимали
центральное место. Однако после окончательного урегулирования
германской проблемы, в которой представители СССР сыграли су-
щественную (благоприятную для ФРГ) роль, акценты в политике
ФРГ стали постепенно смещаться. А после развала Союза ССР они
были смещены окончательно. Правда, германское правительство
одним из первых среди крупных государств признало Россию пра-
вопреемником (или, точнее, «продолжателем») Союза ССР, имея в
виду не столько права и ответственность державы, сколько ее обяза-
тельства перед другими странами, особенно долговые.
Официальные отношения между Россией и Германией в первой
половине 90-х годов развивались внешне успешно. Федеральное
правительство продолжало линию на углубление политических и
экономических связей с Россией, в частности, предоставляло новые
кредиты. Но, конечно, при этом имелись в виду свои собственные
интересы, в особенности проходивший тогда вывод российских
войск с германской территории. После объединения Германии за-
метно изменилась ее роль не только в европейских, но и в мировых
делах. ФРГ, обладающая мощным экономическим и финансовым
потенциалом, стала ведущей силой в интегрированной Европе, мо-
тором объединительного процесса в созданном осенью 1993 года
Европейском Союзе. Германская дипломатия изменила оценку своей
страны как крупнейшей «средней державы», стала утверждать роль
мировой (хотя и не великой) державы. Новые отношения между
Германией и Россией имеют таким образом целый ряд особенностей
при новом соотношении экономических и финансовых сил на гло-
бальном уровне. Причем особенности эти не во всем благоприятны
для России.
Объективно говоря, серьезные политические силы в Германии,
пожалуй, единодушны в понимании необходимости дальнейшего
развития и упрочения отношений сотрудничества и даже взаимодей-
ствия с Российской Федерацией. Однако важны мотивы и цели тако-
225
го сотрудничества. Парламентские партии ФРГ высказываются за
сотрудничество с Россией ради стабильности в Европе, видя в Рос-
сии важный фактор, по крайней мере, европейской безопасности.
Правительственная коалиция (ХДС/ХСС и Св.ДП) стремилась ак-
тивно содействовать процессу реформирования не только экономи-
ческой, но и политической системы в России, искусно балансируя на
грани вмешательства в наши внутренние дела. Германская диплома-
тия живо реагирует на события в пространстве, которое Россия счи-
тает по-прежнему сферой своих жизненных интересов. Интерес
Германии к России понятен: кредитор искренне заботится о здоро-
вье не только должника, но и его возможных наследников. Оппози-
ционные силы, в частности социал-демократы, конечно, имеют соб-
ственное видение взаимоотношений с Россией.
Роль личных контактов между ведущими политиками, несо-
мненно, важна, особенно когда они имеют деловой характер. В про-
шлом серьезные политики, если между ними складывались друже-
ские отношения, не спешили оповещать об этом весь мир. В совре-
менных условиях, когда телевидение способно транслировать «ис-
кренние чувства» на большие расстояния, политики все больше ста-
новятся если не актерами, то позерами. Многие помнят, что между
Колем и Горбачевым тоже была «общность интересов», и общались
они, хотя, может быть, в менее фамильярной форме, но все-таки с
обращением на «ты» и не иначе как по имени. Нет оснований сомне-
ваться в искренности канцлера Г. Коля, когда он проявлял трога-
тельную заботу о здоровье российского президента Б. Ельцина. В
политике личный фактор иногда приобретает особое значение, осо-
бенно когда надо найти простое решение сложного вопроса. Серьез-
ные политики обычно ставят на первый план не личные симпатии, а
интересы своей страны.
Более четверти века Германия остается самым крупным эконо-
мическим партнером России. После временного спада, вновь наблю-
дается оживление активности. Начиная со сделок, известных как
сделки трубы за газ, заключенных впервые еще в 70-е годы, жизнен-
но важные интересы двух стран тесно переплетены. Поставки при-
родного газа из России в Германию достигли рекордного уровня.
Намечено расширение объемов поставок российского газа в Европу
в результате реализации грандиозного проекта - строительства по
территории Белоруссии и Польши газопровода «ЯГАЛ» или Ямал-
Европа. Кооперация «Газпрома» и «Винтерсхалл» усиливает взаи-
мозависимость экономики двух стран.
226
Конечно, такие проекты и сделки должны радовать сторонников
развития сотрудничества между Россией и Германией. Однако мы
должны отдавать себе отчет, что строить партнерство только на вы-
качивании энергоресурсов и сырья Россия не может. Только разви-
тие промышленности и экспорт готовых изделий, особенно науко-
емких, может обеспечить достойное будущее державы. Вот здесь,
боюсь, наши интересы и интересы германских промышленников
кардинально расходятся. Они ни в коем случае не допустят выхода
российской промышленности на европейские рынки машинострои-
тельной продукции, по крайней мере, в обозримом будущем.
Нельзя забывать и о том, что более половины полученных Рос-
сией из-за границы кредитов предоставлены германскими банками.
Доля германских концернов в инвестициях в России также значи-
тельна. И не вина ФРГ в том, что реализовано не так много проек-
тов. Правда, уже достигнута определенная степень «усталости» гер-
манских деловых кругов от российской ненадежности и нестабиль-
ности.
Почему же наши ожидания инвестиций так и остаются ожида-
ниями? Ну, во-первых, из-за занятости германского капитала освое-
нием «новых федеральных земель» (бывшей ГДР), куда ежегодно
вкладывались гигантские суммы (до 180 млрд. м.). Во-вторых, на
очереди близлежащие рынки стран Восточной Европы. И лишь, в-
третьих, в той мере, в какой возрастает потребность в сырье и энер-
гоносителях, немцев будет интересовать Россия. Деловые круги от-
кровенно говорят, что они пока не видят у нас гарантий для своих
инвестиций. К тому же нет уверенности в политической стабильно-
сти в этой загадочной стране. Слова русской классики: «Умом Рос-
сию не понять...» особенно охотно и оживленно интерпретируются
в немецкой аудитории.
Честно говоря, при всем обилии средств массовой информации в
ФРГ о каком-либо едином образе России или даже единой тенден-
ции в его формировании говорить невозможно. В целом из разных
газет и телепередач, судя по моему личному опыту, можно соста-
вить мнение о том, что происходит в России. Однако при всем про-
фессионализме и даже мастерстве многих немецких журналистов
они, конечно, не могут дать точную картину состояния нашего об-
щества и государства. Дозирование информации, как известно, со-
ставляет суть умения формировать общественное мнение. И даже
манипулировать им. В этом германские средства информации боль-
шие мастера.
227
Наряду с симпатиями к бывшим диссидентам в средствах массо-
вой информации ощущается настороженно-скептическое отношение
к «консерваторам» - людям старшего возраста. Вот, мол, наивные,
не понимают своей же пользы, тоскуют по утраченному Советскому
Союзу и не хотят поверить, что германское правительство искренне
желает возрождения святой Руси. Нетрудно представить себе, какой
образ России складывается у добропорядочного бундесбюргера, всю
жизнь прожившего по законам своей страны, регулярно получающе-
го достаточно высокую зарплату, столь же регулярно оплачивающе-
го счета. И вот он узнает, что в России даже в год президентских
выборов зарплату не выдают по полгода, а германская фирма
«Даймлер-Бенц» в то же время отмечает, что наибольшее число за-
казов на новейшую модель «Мерседеса» получено именно из Рос-
сии. Таковы штрихи, формирующие образ России в сознании нем-
цев. Станут ли после этого бизнесмены средней руки вкладывать у
нас свои кровные? К тому же сдержанность германских деловых
людей определяется не только сообщениями СМИ, но и личным
опытом. По их логике лучше иметь дело с чехами, венграми, на ху-
дой конец с поляками... Но с русскими?
Прогнозы? Уже сегодня можно констатировать, что германская
экспансия в Восточной Европе (экономическая и культурная) будет
продолжаться. Составной частью этой политики является диффе-
ренцированный подход к отношениям со странами СНГ, а также
сдержанная, но уверенная линия на расширение НАТО за счет
включения в военный блок соседних с Россией государств. Отвечает
ли это интересам России? Едва ли. В отдаленной перспективе, осо-
бенно в условиях дальнейшего ослабления позиций России, могут
возникнуть проблемы и более серьезные: выплата долгов по креди-
там и извлечение больших выгод из статуса Калининградского ре-
гиона, который немцы называют не иначе, как Кёнигсберг и «хин-
терланд».
Перспективы развития отношений партнерства и сотрудничества
между Россией и ФРГ, конечно, будут зависеть от нашего «разумно-
го поведения». Если мы смиримся с ролью поставщика сырья для
германской промышленности и не будем претендовать на роль ве-
дущей силы в реинтеграции государств СНГ, то можно рассчиты-
вать на новые кредиты и, может быть, даже на инвестиции. Ни о ка-
ких особых отношениях между Россией и Германией речь не идет и
идти не будет. Принципы политики правительства ФРГ в отношении
развивающихся стран могут получить на исходе XX столетия иде-
альное воплощение в отношениях с Великороссией.
228
Отношения между Германией и Россией надлежит рассматри-
вать в контексте не только европейской, но и глобальной политики.
После полного демонтажа ялтинско-потсдамской системы две дер-
жавы как бы поменялись местами и ролями: если раньше Россия,
опираясь на соглашения с западными державами, проводила свою
политику в отношении Германии и несла свою ответственность, то
теперь Германия, опираясь на соглашения с западными державами,
проводит свою политику в отношении России.
Правовой основой отношений между «мировой державой» Гер-
манией и «региональной державой» Россией служит прежде всего
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии
от 12 сентября 1990 г. и Договор о добрососедстве, партнерстве и
сотрудничестве, заключенный 9 ноября 1990 г. между ФРГ и СССР.
Важным продолжением, но не заменой служит Совместное заявле-
ние президента России и канцлера ФРГ 21 ноября 1991 г. (т.е. в пе-
риод «междуцарствия» в России, положившего начало новым отно-
шениям Германии и России). Правда, после «закрытия» германской
проблемы, остались «открытыми» некоторые вопросы. Такие вопро-
сы взаимных отношений были рассмотрены и решены в ходе визита
канцлера Г. Коля в Москву в декабре 1992 г. Совместное заявление
президента России и канцлера Германии от 16 декабря 1992 г. опре-
делило «нулевое решение» по взаимным претензиям: с российской
стороны - на недвижимое имущество России в Германии, в частно-
сти, имущество Западной группы войск, а с германской стороны на
возмещение ущерба природной среде в местах дислокации войск.
Длительное пребывание советских, а затем российских войск на
германской территории было следствием второй мировой войны, в
ходе которой германские войска на нашей территории отнюдь не
улучшали природную среду. Российская сторона выражала удовле-
творение достигнутыми договоренностями относительно переноса
на восемь лет сроков выплаты долгов по торговым операциям между
СССР и ГДР. Досрочный вывод российских войск был стимулиро-
ван дополнительной выплатой 550 млн. марок на обустройство воз-
вращающихся на родину военнослужащих. Вывод российских войск
был завершен к 31 августа 1994 г., что позволило канцлеру-
объединителю немцев предстать перед соотечественниками на вы-
борах 1994 г. еще и в тоге государственного мужа, досрочно выпро-
водившего русских восвояси после полувекового пребывания их на
германской земле.
За прошедшие годы вопросы взаимных отношений между Гер-
манией и Россией решались в духе взаимопонимания, особенно ме-
229
жду президентом Б. Ельциным и канцлером Г. Колем. Официальные
визиты (Б. Ельцина в ФРГ в ноябре 1991 г., в мае и августе 1994 г.,
а также Г. Коля в РФ в декабре 1992 г. и в феврале 1996 г.), а
кроме того, многочисленные рабочие встречи (а их было за пять лет
с 1992 г., по крайней мере, 13) создавали атмосферу доверия и спо-
собствовали решению текущих и перспективных вопросов взаимных
отношений.
Вместе с тем. следует отметить, что имеется ряд проблем ла-
тентного характера: они могут дать о себе знать через какое-то вре-
мя. В числе таких проблем - задолженность по весьма многочислен-
ным и солидным кредитам, (общая сумма задолженности России
достигла к середине 1998 г. 75 млрд. марок). К этому добавляют по-
ложение этнических («исторических») немцев на территории Рос-
сии, которые большей частью выехали в Германию (свыше 500 ты-
сяч человек), а частью хотели обрести государственность на брегах
матушки Волги. После «окончательного урегулирования» герман-
ские дипломаты все еще озабочены возвращением (реституцией)
германских культурных ценностей, забывая о том, что это возможно
исключительно в отношении незаконно вывезенных ценностей и на
взаимной основе. Для России имеет существенное значение реали-
зация крупных хозяйственных проектов, таких, как прокладка газо-
провода Ямал-Германия, расширение товарообмена. В свое время (в
1990 г.) товарооборот СССР с ГДР и ФРГ достигал 46 млрд. марок в
год, потом он существенно сократился из-за российских трудностей
и разрыва прежних кооперативных связей с восточными землями,
затем он снова стал постепенно увеличиваться за счет вывоза сырья
из России.
В 1992 г. он составил 18,6 млрд. марок и лишь в 1995 г. вырос до
24 млрд. марок опять же за счет интенсивного вывоза из России сы-
рья, главным образом энергоносителей, что дало России активное
сальдо. Товарооборот ФРГ с Россией в 1995 г. составил: экспорт
10,3 млрд. марок, импорт - 14,2 млрд. марок при положительном
торговом сальдо России в 3,9 млрд. марок. Существенно (на 22%)
увеличился взаимный товарооборот между Германией и Россией. В
1996 г. он достиг суммы 26,9 млрд. марок, а в 1997 г. - суммы в 33,5
млрд. марок. В 1998 г. товарооборот снизился до 30,5 млрд. марок,
причем экспорт России составил 14,5 млрд. марок, а импорт 16
млрд. марок, т.е. Россия имела отрицательное сальдо. При этом сле-
дует иметь в виду, что Россия вывозит сырье и энергоносители (90%
экспорта) по довольно низким ценам, а Германия - качественные
готовые изделия (около 80% экспорта) по довольно высоким ценам.
230
Если доля России в огромном товарообороте Германии составляет
всего 2%, то в скромном товарообороте России на Германию прихо-
дится до 14%. Если в России в 90-е годы активно действовали при-
мерно 800 германских фирм, то в Германии всего 160 фирм с рос-
сийским участием.
Дальнейшее развитие экономического сотрудничества зависит от
экономического состояния и платежеспособности России. В Герма-
нии с пониманием относятся к реформам и проблемам России. В
феврале 1997 г. заключено соглашение о всеобъемлющей реструк-
туризации задолженности. Однако объем германских накопленных
инвестиций в российскую экономику оставался сравнительно
скромным. Он составлял около 1,4 млрд. долларов, тогда как инве-
стиции США (4,95 млрд. долларов), Великобритании (2,2 млрд. дол-
ларов) и даже Нидерландов (2,3 млрд. долларов) и Швейцарии (2,7
млрд. долларов). Для обсуждения проблем взаимного возвращения
культурных ценностей была образована совместная комиссия, кото-
рая начала было работу в 1994 году, однако вскоре оказалась в тупи-
ке. В августе 1997 г. образована комиссия по изучению новейшей
истории российско-германских отношений. Позже, в 2003 году,
Фонд Крупа и Фонд «Цайт» учредили Германский исторический
институт в Москве, который начал свою деятельность в контакте с
академическими учреждениями России.
Отношения между Германией и Россией остаются важным фак-
тором стабильности ситуации в Европе. Визит президента ФРГ Ро-
мана Херцога в Москву в начале сентября 1997 г. был уникальным в
своем роде событием, не только потому, что было объявлено, что
это - единственный визит в данную страну за все время президент-
ского срока, но и потому, что с российской стороны было автори-
тетно объявлено, что в отношениях между Россией и Германией нет
«неразрешимых проблем», но имеются «рабочие вопросы». Особен-
ность статуса президента ФРГ заключается в том, что он принципи-
ально не занимается текущими делами и на внешнем поприще вы-
полняет представительские функции. Предметом обсуждения двух
президентов стало положение немцев России (а их численность
вследствие массового выезда в Германию сократилась примерно на
500 тысяч, до 110 тысяч человек). Положение российских граждан
немецкого происхождения в известной мере облегчается при финан-
совой поддержке со стороны германского правительства. Особенно
беспокоил германского президента принятый в России закон о сво-
боде совести и религиозных объединениях, который якобы ущемля-
ет права и интересы немцев, сохраняющих свои традиционные веро-
231
вания католического и евангелического толка. Собеседники затраги-
вали и вопрос о возвращении культурных ценностей, в частности,
возможность возвращения в Россию обнаруженных фрагментов
знаменитой Янтарной комнаты, похищенной нацистами и вывезен-
ной в годы второй мировой войны. В итоге бесед с президентом
ФРГ Б. Н. Ельцин сделал лаконичное заявление: «Договорились
полностью».
Существенным элементом взаимоотношений двух стран являет-
ся экономическое сотрудничество: полторы тысячи немецких фирм
проявляют интерес к России, более половины из них имели в 90-
годы свои представительства в Москве. Текущие и перспективные
вопросы стали предметом обсуждения во время кратковременного
рабочего визита («блиц-визита») канцлера Г. Коля в Москву, точнее
- в Завидово в декабре 1997 г. Германский канцлер полагал, что
возможно ассоциированное членство России в Европейском Союзе
наряду с образованием своеобразного «треугольника» с острыми
углами: Париж-Берлин-Москва. Российский президент вновь пред-
стал перед высоким гостем в роли просителя финансовой помощи
(строго говоря, не президентское это дело). Германский канцлер ве-
ликодушно обещал обсудить просьбу с другими западными прави-
тельствами.
Масштабным проектом, рассчитанным на долговременное со-
трудничество Германии и России, стало строительство гигантского
газопровода от месторождений Ямала до Германии, общая длина
которого составляет 4200 километров. Общая стоимость проекта
оценивается в 36 млрд. долларов. Концерн «Винтерсхалл», входя-
щий в «БАСФ», заключил с «Газпромом» соглашения о совместной
транспортировке и сбыте природного газа в 18 странах континента
Европы. Россия намерена к 2010 году довести ежегодный экспорт
газа до 200 млрд. куб. метров. Сотрудничество между ФРГ и СССР
началось в этой отрасли, как известно, еще в 70-х гг. Наша страна
получала не раз крупные кредиты германских банков под газовые
проекты. Нынешние проекты имеют для России отнюдь не частное,
а общенациональное значение.
3. Операция «Жираф» и реабилитация
военных преступников
В период между визитом президента ФРГ в Москву и рабочей
поездкой канцлера в Завидово в германской прессе имела место
вспышка не только антироссийской шпиономании, но и разоблачи-
232
тельные в отношении самой ФРГ публикации. Журнал «Шпигель»
(«Зеркало») опубликовал сенсационные сведения со слов герман-
ских анонимных разведчиков. Речь идет о масштабной операции
секретных служб ФРГ - «Бундеснахрихтендинст» под экзотическим
кодовым названием «Жираф», предпринятой в отношении Западной
группы войск вскоре после заключения Договора о партнерстве и
добрососедстве между ФРГ и СССР (от 9 ноября 1990 г.). Результа-
ты этой шпионской акции ошеломили европейскую общественность
не только масштабами операции, но и циничностью действий «быв-
шей вражеской страны». Опытные специалисты тайных операций из
Пуллаха провели в отношении выводимой с германской территории
армии беспрецедентную вылазку. В итоге этой операции были до-
быты в качестве трофеев и «сувениров» новейшие образцы лазерных
приборов, шифровальных машин и коды, опознавательные системы,
секретные документы «легендарной и непобедимой» армии, и даже
танк Т-80, правда, по частям. В каждом конкретном эпизоде выпла-
чен сущий пустяк - суммы, достаточные для приобретения подер-
жанной «Лады». Вербовщики действовали с немецким высокомери-
ем: «Ищешь танк, предложи «Ладу». Как известно, из Германии вы-
водили 338800 солдат и офицеров, среди которых германские служ-
бы без особых усилий нашли предприимчивых в духе времени де-
ляг, а заодно приютили несколько сот (до 500) дезертиров, которые
в конечном счете получили убежище в ФРГ без громких протестов с
российской стороны. Официальные отношения не пострадали от
эпизодов и рецидивов психологической войны: лес рубят - щепки
летят. Встречи на высшем уровне, видимо, не были омрачены и
скандальными разоблачениями агентов Москвы на территории Гер-
мании. Именно в 1997 г. между правительствами двух стран была
достигнута договоренность проводить регулярные взаимные кон-
сультации по текущим делам.
Парадокс (или логика) операции «Жираф» германских спец-
служб заключался в том, что она проводилась по графику, представ-
ленному российской стороной в порядке информации партнеров о
том, когда какая часть или соединение в соответствии с договорами
и соглашениями о «переходных» мерах покидает гостеприимную
страну. Именно по этому графику «БНД» направляла свою агентуру
под личиной торговцев подержанными автомобилями или бытовой
техникой в места расположения российских войск, чтобы заполу-
чить сувениры сначала в виде фуражек, ремней или хотя бы звездо-
чек, затем и личного стрелкового оружия «TT» или Макарова, а по-
233
том и образцов новейшей военной техники и секретных документов.
Взамен непринужденно предлагались сначала угощения, потом
всякая мелочь, вплоть до детских игрушек, а потом (по деловому)
наличные, хотя и в не очень больших размерах, но за большие сек-
реты.
Германская спецслужба БНД ФРГ и представители командова-
ния армии США в Европе подписали 7 мая 1991 года секретный до-
кумент «Меморандум о понимании», по которому и развернули
свою разведывательную деятельность в отношении советских (рос-
сийских) войск. Это была вербовка военнослужащих армии, которая
временно оставалась на территории Германии в соответствии с меж-
дународно-правовыми договоренностями, т.е. на основе междуна-
родного права. Западная пресса утверждает, что за все время это бы-
ла первая совместная операция, которую спецслужбы ФРГ и США
проводили на равноправной основе и даже расходы делили ровно
пополам. «Бюро в Далеме», где работали несколько десятков про-
фессионалов, возглавлял сотрудник БНД подполковник Эрнст Ас-
сингер. Из центра в Пуллахе операцию контролировал полковник
Курт Гигл, начальник отдела по России Вольберт Смидт, Фолькер
Ферч и, очевидно, другие чины. В качестве мелких агентов были
привлечены переселенцы из стран Восточной Европы, в том числе
из России, пребывавшие в то время в лагерях Цирндорф и Лебах.
Эти агенты выполняли роль не только «добровольных помощников»
спецслужб, но и платных сотрудников. Премией могла быть облег-
ченная процедура оформления гражданства на исторической родине.
В местах расположения воинских частей была развернута сеть «по-
среднических бюро», куда российские военнослужащие могли обра-
титься лично или по телефону со своими деловыми предложениями
в любое время дня и ночи. Это были своего рода бюро «рационали-
заторских предложений». Естественно, возникает вопрос, чем были
заняты и куда смотрели в это время российские «органы»?
Реальные результаты операции «Жираф», как говорят, превзош-
ли ожидания даже видавших виды опытных разведчиков. Предло-
жения превышали спрос. Масштабы торговли секретами армии-
победительницы были поистине беспримерными: германские спец-
службы заполучили сотни секретных документов и конкретных об-
разцов вооружений, вплоть до секретных стратегических разработок
генштаба, сведений о личном составе, данных об офицерах и гене-
ралах. В числе документов - технические данные и инструкции по
боевому применению новейших приборов и видов оружия, систем
управления новейшими видами вооружений. В перечне трофеев, т.е.
234
оружия, оставленного спешно уходящей армией на плацдарме при
попутном ветре - ветре в спину, германская сторона отметила не
только технические сведения о вооружении самой мощной группи-
ровки российских войск. Ведь даже получение общего представле-
ния о потенциале уходящей армии имело неоценимую разведыва-
тельную ценность, не говоря о конкретных образцах новейшей во-
енной техники. В списке добычи германских спецслужб, в частно-
сти, на счету группы «12 V-A» значатся бортовые компьютеры ис-
требителей МИГ-29, приборы опознавания на вертолетах МИ-24,
наконец, танк Т-80, который удалось заполучить лишь по частям,
поскольку у заказчика не оказалось подходящего транспорта для
перевозки танка целиком. В качестве примеров называют также ос-
настку танка лазерным управлением типа 9К 116Ми9М 117, оп-
тические приборы, особенно приборы ночного видения, авиацион-
ные приборы опознания «свой-чужой» или «друг-враг». Особенно
ценными для БНД оказались данные, полученные в Вюнсдорфе, где
находился штаб ЗГВ. Там были добыты шифровальные коды и таб-
лицы, данные о шифровальной технике. После этого вся шифрован-
ная переписка генштаба со штабом ЗГВ происходила вплоть до
31 августа 1994 г. под бдительным оком БНД.
Германские разведчики, достойные наследники службы Шел-
ленберга и Гелена, торжественно, очевидно, не одним бокалом шам-
панского отметили успех операции «Жираф». Многие участники
этой операции, проведенной без особого для них риска, были отме-
чены германскими и американскими орденами, наградами «за вы-
дающиеся достижения». Российская общественность, к сожалению,
мало информирована не только о масштабах нанесенного стране
ущерба, но и выявлении предателей. Известно, что в России удалось
выявить или засветить лишь двух агентов. Имя одного из них назы-
вают: это майор Владимир Лаврентьев, приговоренный в 1995 г. к 10
годам тюрьмы. Другой агент до сих пор скрыт под именем «Кюс-
теннебель» («Береговой туман» или под номером «У-77848). Судьба
его не до конца известна даже посвященным. Говорят, что бывший
капитан радиотехнической службы сумел скрыться вместе с семьей
по сигналу тревоги. Итак, один капитан и один майор на сотни эпи-
зодов предательства. Похоже, что высшие офицеры вообще не име-
ли никакого отношения к планомерному выводу своих подчиненных
или были озабочены какими-то совсем иными делами. Германские
власти очень переживают за судьбу своих новых друзей и склонны
ходатайствовать о гуманном отношении к ним со стороны россиян.
235
Германские спецслужбы, с одной стороны, имеют основания для
торжества, с другой, имеются и издержки операции. Оказывается,
некоторые их сотрудники были нечистыми на руку, хотя в неболь-
ших масштабах. Речь идет не об обсчете продавцов, не о недоплате
или списании на туземцев казенных средств, но о том, что некото-
рые добытые секреты они сбывали союзникам по сходным ценам, в
частности, о незаконной передаче за соответствующую мзду рус-
ских секретов британской службе МИ-6.
Федеральная прокуратура выдвинула еще в 1995 году обвинения
против трех сотрудников Федерального ведомства по военной тех-
нике и поставкам, которые передали за небольшую плату «совер-
шенно секретные» документы, полученные в ходе операции «Жи-
раф», британским спецслужбам. При этом в соответствии с жанром
уместной оказалась пресловутая формула: «Шерше ля фам!» -
«Ищите женщину!». Германские разведчики взяли деньги за оказан-
ные услуги у представительницы прекрасного пола, но одновремен-
но и британской разведки по имени Розалин Шарп - заместителя
резидента МИ-6 в Берлине. Обвиняемые отрицали свою вину. Гер-
манская Фемида стала склоняться к тому, чтобы рассматривать эту
аферу как банальный случай - корыстное использование служебных
материалов.
В августе 1998 г. в Мюнхене завершился судебный процесс по
делу трех сотрудников БНД, которые продавали секреты. Имена
осужденных публике не сообщили, но объявили, что некий старший
фельдфебель получил семь месяцев условного заключения и отде-
лался штрафом в 25 тысяч марок. А другой анонимный обвиняемый
отделался штрафом всего в 3,5 тысячи марок за незаконные опера-
ции.
Успех операции «Жираф» принес президенту БНД Конраду
Порцнеру не столько лавров, сколько неприятностей. Его представ-
ление на увольнение со службы двух сотрудников (Смидта и Ферча),
замешанных, по его убеждению, в неблаговидных делах, не получи-
ло понимания правительства. В итоге шеф БНД был вынужден по-
дать в отставку. «Дело Ферча» тогда не состоялось...
Германский журнал «Фокус» опубликовал в номере 49 за 1996
год материал под лаконичным названием «Оправдание вермахта».
Подзаголовок поясняет, что документы из секретных советских
архивов якобы подтверждают: тысячи немецких солдат были
несправедливо осуждены как военные преступники.
236
Российские граждане, во всяком случае, широкие круги
общественности, не ведают, что в Москве в генеральной
прокуратуре РФ усилиями команды по реабилитации иностранных
граждан за короткий срок достигнут феноменальный рекордный
результат или, как отмечает автор материала, Ян фон Флокен,
ошеломляющий результат. Группа под командованием «полковника
юстиции» Леонида Копалина проверила и «обработала» 6500 дел
немецких военных преступников и объявила 5100 из рассмотренных
дел недействительными или незаконно принятыми. Результат
действительно ошеломляющий, особенно если иметь в виду, что
реабилитированы не просто солдаты, а высшие чины вермахта, и
даже войск «эсэс», которые в свое время были объявлены мировым
сообществом преступной организацией.
Напомним, что решения о наказании германских военных
преступников были приняты державами антинацистской коалиции
во второй половине мировой войны и стали нормой международного
права. Мировое сообщество выразило свою решимость найти
военных преступников даже на краю света и наказать их за
злодеяния против человечества. При этом юридически точно было
определено, что главные германские военные преступники, чья
деятельность связана не с одним географическим районом,
предстанут перед международным трибуналом, а военные
преступники, действовавшие в конкретных районах, предстанут
перед судом соответствующих стран. Эти международные
постановления, хотя и не в полном объеме, были выполнены в
первые послевоенные годы. Таким образом, сама законность суда
над военными преступниками не подлежит сомнению, даже за
давностью лет. Какие же основания могут быть для массового
пересмотра приведенных в исполнение приговоров?
Почему бы российским юристам не рассказать российской
общественности, в частности ветеранам войны, о своем новейшем
опыте, если речь идет о действительном торжестве справедливости.
Если бы дело было только в выявлении юридических ошибок,
случаев, когда действительно невиновные люди попали на скамью
подсудимых по недоразумению, то было бы понятно рвение
юристов страны - «бывшего противника», но германская сторона
сегодня торжествует в связи с признанием бывшим противником,
что тысячи немцев были наказаны несправедливо. Рассмотрим
некоторые из случаев реабилитации.
Наиболее яркий пример посмертной реабилитации - это дело
генерал-лейтенанта нацистского вермахта Хельмута фон Паннвитца.
237
Уроженец Верхней Силезии, лихой кавалерист командовал в годы
войны конным корпусом «русских казаков», которых германское
командование использовало для уничтожения партизан и мирных
жителей в оккупированных странах. Такие войска, как хорошо
известно не только историкам войны, но должно быть известно и
военным юристам, находились в непосредственном подчинении
эсэсовского командования и под недреманным оком ведомства
Гиммлера. В мае 1945 года «русские казаки», присягнувшие
фюреру, сдались в плен к англичанам, которые, в соответствии с
международными соглашениями, выдали их советским властям.
Благородный генерал, дескать, решил разделить судьбу своих
подчиненных и «добровольно» пошел вместе с ними в плен к
русским. В итоге показательного процесса генерал X. фон Паннвитц
был осужден как военный преступник и повешен в Москве 16
января 1947 года. Через почти полвека российские юристы выносят
оправдание: «нет никаких доказательств, что Паннивитц или
подчиненные ему соединения совершали зверства и насилия над
мирными жителями и взятыми в плен красноармейцами». Это
записано в акте генеральной прокуратуры РФ от 23 апреля 1996
года, как сообщает германская пресса. Очевидно, авторы этого акта
исходят из того, что каждый из 35 тысяч карателей-наемников под
командованием фон Паннвитца должен был дать расписку о
совершенных злодеяниях или что казаки занимались
благотворительной деятельностью на оккупированной нацистами
земле, а командующий корпусом генерал всю войну был занят
культурным досугом иностранных наемников, служивших рейху.
По той же логике российских юристов можно поставить вопрос:
а где у них доказательства невиновности генерала нацистского
вермахта? Во всяком случае, общественность России имеет право
знать, на основании какого закона проведена массовая реабилитация
германских военных преступников. Хотелось бы, конечно, узнать,
как относятся законодатели нашей страны к по сути незаконной
реабилитации военных преступников. В кратком обзоре нет
возможности рассмотреть другие примеры реабилитации военных
преступников, скажем, судьбу отмеченного гитлеровскими
орденами генерала-десантника Эриха Вальтера или повешенных в
Харькове в декабре 1943 года нацистских преступников, которых
германская пресса представляет сегодня как мучеников сталинского
режима. Однако еще один пример следовательской деятельности
Л. Копалина достоин упоминания. Это реабилитация «подчистую»
майора люфтваффе Эриха Гартмана, «лучшего летчика-истребителя
238
всех времен», «летчика без нервов», сбившего якобы 342 самолета.
Гитлеровский ас был дважды (в 1949 году и в 1951 году) осужден на
25 лет советскими судами в г. Иваново и на Дону. Теперь
оказывается, что он был осужден «без оснований» с точки зрения
российских юристов. И хотя советские власти отпустили его в 1955
году «во свояси», сегодняшние юристы относят его к «жертвам
политических репрессий».
Участие в агрессивной войне и даже принадлежность к
преступной организации (НСДАП и «СС») отныне не служит
основанием для судебного преследования и осуждения. Германская
пресса ссылается на изданные в России декреты о реабилитации
жертв политических репрессий. Но каким образом дела военных
преступников подводят под эти документы, остается тайной.
Примечательно, что в самой Германии в обществе преобладает
осуждение нацистских преступлений, в том числе военных
преступлений, а реабилитации подлежат жертвы нацизма и
участники сопротивления нацизму. Где черпают вдохновение
российские юристы и каков стимул их деятельности? На этот
вопрос, очевидно, может дать ответ только генеральный прокурор.
Кампания, которая имела место в германской прессе, имеет для
России и иную сторону. После того как не без усилий германской
дипломатии сведена к нулю статья 107 Устава ООН относительно
«бывших вражеских государств», понятие «бывший противник»
стало применяться в отношении России, причем делается это в
контексте претензий к России. Выстрелы в прошлое, якобы в
Сталина, бьют по площадям на территории России, причем после
«окончательного урегулирования» в отношении Германии. Участие
в освободительной войне народа, в Великой Отечественной войне
подвергается в России инфляции. В то же время участие в
агрессивной войне против России возведено в Германии до уровня
защиты фатерланда, до уровня освободительной борьбы против
большевизма и сталинизма.
В ФРГ в 80-е гг. была проведена кампания по «релятивации»
нацизма, в ходе которой историки уверяли обывателя, что ничего
особенного и преступного в нацизме не было, разве технические
новшества вроде «душегубок» и т.п. Массовая реабилитация
германских военных преступников ведет к оправданию не только
вермахта, но и захватнической войны. Странно, что в этой кампании
активное участие приняли представители российских
правоохранительных органов.
239
В ноябре 1996 года самая солидная и влиятельная газета в ФРГ
«Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» напечатала материал на тему о
невинно осужденных в СССР немцах. Автор материала Маркус
Венер сообщил: «Около 30 000 немецких военнопленных были
осуждены в 1942-1950 годах в Советском Союзе как так называемые
военные преступники. Сотни смертных приговоров были приведены
в исполнение, большинство осужденных было послано (или
сослано) на принудительные работы в лагеря Воркуты». Следует
описание невыносимых погодных условий и мучений немцев,
большинству из которых все же удалось выжить.
Если в германской солидной прессе считают своевременным
заняться выяснением судеб военнопленных, то можно привести в
порядке ответа на обвинения в адрес нашей страны весьма важный
аргумент, который почему-то склонны забывать поборники
справедливости в Германии: объединенные против нацизма нации
возложили международно-правовую ответственность за
развязывание агрессивной войны на Германию со всеми
вытекающими из этого последствиями: наказание военных
преступников, использование германского труда для восстановления
разрушенного и т.д.
Что касается количества жертв войны со стороны державы-
победителя и со стороны побежденной нации, то по сведениям
германских исследователей Советский Союз потерял в войне в три
раза больше своих граждан, чем Германия. И произошло это не
потому, что немцы умели воевать, а русские не умели, а потому, что
вермахт занимался массовым уничтожением мирного населения на
оккупированных территориях, что и квалифицируется как военное
преступление, а нацистские власти уничтожали советских
военнопленных без всякого суда и даже следствия. По германским
данным, из 3.155 тысяч попавших в советский плен германских
солдат выжили и вернулись домой более 2 миллионов, т.е.
большинство. В то же время из 5.700 тысяч советских солдат, по тем
же германским данным, погибло в германском плену 3.300 тысяч
человек.
Таким образом, в советском плену абсолютное большинство
немцев выжило, несмотря на погодные условия в России, тогда как в
германском плену большинство советских пленных погибли;
независимо от несравнимо более благоприятных погодных условий
в Германии.
Германская сторона считает, что во время войны, главным
образом от бомбардировок, погибли 3.600 тысяч немцев. Тяжелые
240
потери. Однако германские исследователи признают, что на
оккупированных нацистами территориях СССР уничтожены 10
(десять!) миллионов мирных жителей. Совершенно очевидно, что
после победы никаких сравнимых по масштабам массовых
репрессий со стороны СССР на германской земле не было.
Наказание военных преступников происходило на основе
международного права, будь то в Нюрнбергском трибунале или в
отдельных странах: не только в России, но и во Франции, Польше,
Нидерландах, Италии, Бельгии и др. Если германская сторона
настаивает на подведении итогов, то, очевидно, официальным
органам России следовало заниматься не поисками аргументов для
реабилитации военных преступников, а обоснованием претензий
жертв нацизма на компенсации.
Попытки германского журнала «Фокус» и газеты «ФАЦ»
превратить публикацию сенсационных материалов в кампанию
против России очевидны.
Глава VI
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
ФРГ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Объединение Германии, точнее, присоединение ГДР к ФРГ на
основе статьи 23 Основного закона ФРГ, коренным образом измени-
ло не только соотношение сил в Европе, но и стратегическое поло-
жение Советского Союза - России. Германия после 1990 года окон-
чательно утвердила себя как самое сильное государство Европы,
если иметь в виду промышленный и финансовый капитал, внешне-
торговый потенциал. Экономический потенциал ФРГ, можно ска-
зать, приближается к потенциалу Франции и Англии вместе взятых.
К середине 90-х годов ФРГ инвестировала в реструктуризацию эко-
номики «новых», восточных земель значительную сумму - пример-
но в 600 миллиардов марок, что должно было дать соответствующий
эффект во второй половине 90-х годов, т.е. реальное увеличение
экономического потенциала и выход Германии «в полный рост» на
мировое поприще. В конце 90-х годов сумма инвестиций в развитие
новых земель превысила 1,5 триллиона германских марок. Укрепляя
свои позиции на мировых рынках, Германия стала оказывать все
возрастающее влияние на решение глобальных проблем и претендо-
вать на контроль над источниками сырья, в частности, в России.
Сдача территории ГДР другому германскому государству совет-
скими горе-политиками, а затем полный вывод российских войск с
германской территории (в сочетании с выводом контингентов из
всех стран Восточной Европы, включая Прибалтику) коренным об-
разом изменило не только геополитическое положение, но и страте-
гические возможности России. В результате развала Советского
Союза не только военный, но и экономический потенциал державы
сократился в 2 - 4 раза. Российская Федерация, вопреки периодиче-
ски повторяемому тезису о «мировой державе», была поставлена в
положение «региональной державы», вынужденной заниматься про-
блемами в южном геополитическом пространстве (Северный Кавказ
и Средняя Азия), тогда как жизненные интересы нарушены прежде
всего в европейской части бывшей супердержавы.
242
Как складываются отношения России и Германии (бывшего вра-
жеского государства) в условиях коренного изменения геополитиче-
ской и стратегической обстановки в Европе?
Демонтаж всей системы послевоенного устройства Европы, от-
мена ялтинских и потсдамских соглашений (кроме территориаль-
ных), окончательное урегулирование в отношении Германии прове-
дены без заключения мирного договора. Договор по формуле «два
плюс четыре» (ФРГ и ГДР плюс США, СССР, Великобритания и
Франция) заключен 12 сентября 1990 г., т.е. до провозглашения су-
веренитета России. Договор между уже объединенной Германией и
Союзом ССР также заключен до провозглашения суверенитета
бывших союзных республик. В результате потребовалось признание
России «продолжателем» Союза ССР теперь уже со стороны Герма-
нии, что она великодушно сделала. Именно эти два договора соста-
вили не очень широкую правовую базу отношений между двумя
крупнейшими государствами Европы. Германия одной из первых
признала Российскую Федерацию «продолжателем» прав и обяза-
тельств бывшего Союза. Собственно Россия не получила полновес-
ного договора с Германией. Но в период с 1991 по 1994 г. между
ФРГ и РФ был достигнут ряд договоренностей и соглашений, кото-
рые имеют целевой характер и определенные временные рамки.
Наиболее существенное значение имели договоренности, дос-
тигнутые между канцлером ФРГ Г. Колем и президентом РФ Б. Ель-
циным в декабре 1992 г. в Москве. Договоренности предусматрива-
ли «нулевое решение» относительно имущества России на террито-
рии Германии. Имущество оценивалось по-разному, но, несомненно,
могло составить в сумме несколько миллиардов марок: жилые дома,
взлетные полосы, коммуникации и т.п. Однако такое невыгодное
для России решение компенсировалось выплатой 550 миллионов
марок на обустройство выводимых досрочно (к 31 августа 1994 г.)
российских войск. Эта договоренность была выполнена в указанный
срок, что способствовало избранию в 1994 г. канцлера Г. Коля на
новый срок. Ведь он предстал перед немцами как канцлер, который
не только объединил Германию, но и очистил страну от русских
досрочно. Российская сторона получила «уступку» в виде отсрочки
на восемь лет (но не списания) долга СССР перед ГДР по торговым
операциям до 1990 г. ФРГ обещала великодушно оказать содействие
реструктуризации внешнего долга России, в частности, в Париж-
ском клубе кредиторов, который занимается государственными дол-
гами, составившие в сумме 38 млрд. долларов.
243
Кредитно-финансовые обязательства государств обычно не рек-
ламируются и не обсуждаются широко на публике, особенно не ог-
лашаются подробности условий и сроков выплаты. Однако герман-
ская сторона полагает, что в разных формах (в форме долгосрочных
кредитов сроком до 15 лет, с отсрочкой начала выплаты, гарантий
банкам по кредитам, а также в форме гуманитарной помощи, без-
возмездных выплат и т.п.). ФРГ затратила 80 миллиардов марок уже
к 1993 г. В последующие три года сумма долгов возрастала незави-
симо от ежегодных выплат по процентам. По данным германской
печати, в 1994 году ФРГ как кредитор пошла на реструктуризацию
долга на сумму 4,2 млрд. марок, в конце 1995 г. заключено соглаше-
ние на сумму 4,8 млрд. марок, а в начале 1996 г. Германия предоста-
вила российскому правительству «под выборы» новый кредит в 3
миллиарда марок, мотивируя это необходимостью поддержки рос-
сийских реформ.
Почему германский капитал поддерживал реформы в России?
Очевидно, что не с целью увеличения промышленного потенциала
страны. Основной итог т.н. реформ очевиден: разрушение россий-
ской промышленности (под видом оздоровления) более чем на 50
процентов. Россия стала одним из крупнейших должников мира,
причем из примерно 130-140 млрд. долларов задолженности России
до 60 процентов приходилось на банки ФРГ. Одним словом, задол-
женность России после развала Союза не уменьшалась, а возрастала.
Это означало, что возрастает финансовая зависимость России от ин-
дустриальных держав, в особенности от Германии. В этой связи не
только общественность - граждане России, но и национально ориен-
тированные предприниматели в особенности заинтересованы в по-
лучении полной информации относительно использования получен-
ных Россией кредитов. Проедены или инвестированы в производст-
во гигантские суммы? Кто будет платить долги?
В свое время, до объединения Германии, канцлер Г. Коль обещал
содействовать модернизации 200 предприятий легкой и пищевой
промышленности. Где эти предприятия? Почему-то не называют
конкретных фактов такой модернизации. Судя по всему, получен-
ные кредиты израсходованы бесконтрольно узким кругом лиц, до-
пущенных к рычагам власти, однако долги легли тяжелым бременем
на законопослушных граждан, их детей и внуков.
В самой Германии вызывает недоумение тот факт, что страна-
должник является самым крупным в Европе заказчиком новейших
моделей автомобилей «Мерседес», который относят к предметам
роскоши даже в самых благополучных странах.
244
Дипломатические отношения между Россией и Германией скла-
дываются внешне весьма благоприятно, а на высоком и высшем
уровне даже как дружеские. Некоторые наблюдатели на этом осно-
вании склонны считать, что в отношениях между Россией и Герма-
нией «нет проблем». Так ли это?
В ряду проблем, кроме возрастающей задолженности российско-
го государства, находятся проблемы не только латентного свойства,
которые дадут о себе знать в дальнейшем, - статус этнических нем-
цев в России, особая зона в Калининградской области. Некоторые
проблемы стали предметом обсуждения на дипломатическом уров-
не. Например, выговор, сделанный послом ФРГ устроителям худо-
жественной выставки в Музее изобразительных искусств в Москве
летом 1996 г., постановка вопроса о реституции - возвращении
культурных ценностей «на родину» после т.н. «окончательного уре-
гулирования» - это весьма показательный симптом, который может
повлечь за собой рецидив старой болезни: жажду пересмотра итогов
второй мировой войны. С правовой точки зрения ни о какой рести-
туции речи быть не может. Российская сторона вправе ставить во-
прос о репарациях, т.е. о восстановлении разрушенного, или о ком-
пенсации похищенных в годы германской оккупации российских
культурных ценностей, а не о вывезенных по решению законных
органов власти с территории Германии в период с 1945 по 1949 г. Во
всяком случае при решении вопроса о возвращении культурных
ценностей должен соблюдаться принятый в международной практи-
ке принцип взаимности. Этот вопрос - предмет отдельного рассмот-
рения.
Итак, официальные отношения между Россией и Германией раз-
виваются благоприятно для правительств. Но будет ли так в буду-
щем? Взаимные визиты, эпизодические встречи на высшем уровне
стали обыденным явлением. Начиная с официального визита прези-
дента РФ Б. Ельцина в ФРГ в ноябре 1991 г., а затем ответного визи-
та канцлера Г. Коля в Москву в декабре 1992 года - за пять лет про-
изошли десятки деловых встреч главы одного государства с главой
правительства другого государства, не говоря уже о регулярных бе-
седа по телефону между ними.
Важным рубежом в отношениях между двумя странами стал ви-
зит Б. Ельцина в Берлин (в августе 1994 г.) в связи с полным оконча-
тельным выводом российских войск с территории Германии. Гер-
манская сторона после этого заметно изменила тональность взаим-
ных отношений: тон вежливого клиента сменился на тон уверенного
в себе патрона. Главное достижение сторон - поддержание регуляр-
245
ных экономических связей. Германия остается самым крупным тор-
говым партнером России. В сентябре 1993 г. в Бонне заключено
межправительственное соглашение о консолидации российского
долга: правительство ФРГ дало отсрочку на 10 лет по долгу в разме-
ре 8,5 миллиарда марок.
Доля России в обороте ФРГ всего 2%, а в обороте России доля
Германии около 157%. Среди стран Восточной Европы первое место
в торговле ФРГ заняла Польша, второе - Чехия.
Торговый оборот между двумя странами будет расширяться
главным образом за счет увеличения поставок российского сырья в
Германию. Рекордного уровня достигли поставки на германский
рынок российского природного газа. Германская промышленность
проявляет повышенный интерес к цветным металлам и редким (ле-
гирующим) металлам, добываемым в районах с тяжелыми условия-
ми жизни и труда в России. Россия покупает в Германии машины,
однако преобладают в закупках пока не наукоемкие изделия. Про-
мышленный потенциал России в принципе позволяет выйти на ев-
ропейские, в том числе на германские рынки с готовыми изделиями.
Но допустят ли это германские промышленники? Скорее всего они
этого не допустят. Дай Бог, если не будут мешать выходу россий-
ской промышленности в страны Азии, в частности, в Индию и Ки-
тай.
Зависимость германской промышленности от внешних рынков
весьма велика: примерно одна треть промышленной продукции,
особенно машиностроения и химической индустрии идет на экс-
порт; соответственно велика роль Германии на мировых рынках. Ни
одна из индустриальных стран мира не достигла такого уровня - ни
Япония, ни США, не говоря уж об Англии и Франции.
Ориентация германской экономики на вывоз готовых изделий
(овеществленного труда), высококачественной продукции машино-
строения, электротехники, химии и текстильной продукции взамен
простых и дешевых сырых продуктов или полуфабрикатов - основа
благополучия страны, насчитывающей свыше 80 миллионов населе-
ния, значительная часть которого (работоспособного населения) не
занята на производстве. Германские промышленники, естественно,
стремятся закреплять и расширять свои позиции на мировом рынке,
свое положение крупнейшего экспортера, чтобы не допустить кон-
курентов, в частности российских, особенно, если они станут конку-
рентоспособными. Разве это не серьезная проблема для российских
промышленников, рассчитывающих на будущее?
246
Серьезной проблемой в отношениях между промышленниками
России и Германии остается производство энергии на ядерных реак-
торах и соответственно контроля над ними и ядерным сырьем. Как
известно, власти объединенной Германии немедленно отказались от
эксплуатации пяти АЭС, построенных советскими специалистами в
восточных землях. Тотчас отказались от сотрудничества другие
страны Восточной Европы, где 26 реакторов были построены по со-
ветским проектам. Из чернобыльской аварии германские специали-
сты сделали далеко идущие выводы в отношении российской ядер-
ной энергетики, а главное - в отношении атомного машиностроения.
Германские спецслужбы не прочь установить свой контроль не
только над распространением ядерных материалов, но и над источ-
никами ядерного сырья на территории России и других стран СНГ,
конечно, в первую очередь по соображениям безопасности, но и по
соображениям конкуренции.
Каждая из обозначенных проблем заслуживает отдельного уг-
лубленного изучения. Развитие отношений между Россией и Герма-
нией, конечно, будет определяться не протокольными улыбками и
дружескими беседами по телефону, а реальными материальными
интересами сторон, в особенности интересами защиты и поощрения
своей промышленности, контроля над источниками сырья и энерге-
тическими ресурсами.
1. Поставки природного газа из России в Германию -
долговременный фактор экономического сотрудничества
Первые попытки наладить сотрудничество между СССР и ФРГ
на основе сделки на поставку труб большого диаметра в СССР отно-
сятся к началу 60-х годов. Тогда взаимовыгодная сделка не состоя-
лась, т.к. правительство ФРГ по стратегическим соображениям за-
претило поставки труб большого диаметра в Советский Союз. В
конце 60-х гг. переговоры о поставках труб для строительства газо-
провода были возобновлены. Еще до подписания политического до-
говора об отношениях между СССР и ФРГ от 12 августа 1970 г. бы-
ло достигнуто соглашение - сделка, известная в обиходе под назва-
нием «трубы-газ». 2 февраля 1970 г. в присутствии министра внеш-
ней торговли СССР Н. С. Патоличева и министра экономики ФРГ К.
Шиллера было подписано первое соглашение по поставкам метал-
лических труб из ФРГ в обмен на природный газ из СССР. С совет-
ской стороны «Союзнефтеэкспорт», «Промсырьеимпорт», а также
247
Внешторгбанк заключили соглашение с германской стороной в лице
«Рургаз АГ», «Маннесман», а также «Дойче Банк». По этому согла-
шению германская сторона в 1970-1972 гг. предоставила кредит на
сумму 1,2 млрд. марок ФРГ для приобретения металлических труб
большого диаметра для газопровода объемом в 1,2 млн. тонн. Совет-
ская сторона взяла обязательство, начиная с 1973 г. в течение 20 лет
поставить в ФРГ 52 млрд. куб. метров газа.
В октябре 1973 г. начаты поставки газа в ФРГ. Газопровод был
проложен из СССР, как известно, по территории России, Украины и
ряда европейских стран. Тогда же достигнуто новое соглашение о
расширении контракта. По второму соглашению «трубы-газ» закуп-
ка труб увеличена до 2,4 млн. тонн, а поставки газа за 20 лет - до
120 млрд. куб. метров. Третье соглашение «трубы-газ», заключенное
29 октября 1974 г., предусматривало увеличение объема поставок
труб из ФРГ в СССР до 3,7 млн. тонн (соответственно кредита до
4 млрд. марок), а дополнительные поставки газа в ФРГ на 60 млрд.
куб.метров. Таким образом, в середине 70-х годов, когда разразился
мировой энергетический кризис, ФРГ имела гарантированные по-
ставки природного газа из СССР. Это давало ей не только дополни-
тельно энергетическое сырье (причем экологически чистое), но и
дополнительную загрузку производственных мощностей. Сделка
оказалась столь выгодной, что концерн «Маннесман» увеличил свои
производственные мощности в 2 раза, построив еще один трубопро-
катный завод.
Конкурирующие фирмы США пытались сорвать выполнение
контрактов, выдвигая фантастические проекты поставок газа в бал-
лонах на подводных лодках. Позже были предприняты попытки со-
рвать сделку, отказав в поставках оборудования компрессорных аг-
регатов. В германских средствах массовой информации достаточно
громко звучали скептические голоса и сомнения: не перекроет ли
СССР в минуту плохого настроения вентили газопровода? Однако
проекты и соглашения оказались не только взаимовыгодными, но и
жизненно важными для обеих стран. В ноябре 1981 года перед оче-
редным визитом на высшем уровне был заключен новый (четвертый
по счету) контракт, который предусматривал поставки не только
труб в обмен на газ, но и соответствующее объему поставок и про-
тяженности газопровода количества компрессорных станций, от-
дельные узлы которых действительно технологически сложные уст-
ройства. Попытки правительства США закрыть их поставки в СССР
не дали желаемого результата. В ноябре 1982 г. США сняли запрет
на поставку в СССР нефтегазового оборудования.
248
Германская промышленность в конце 70-х годов отправляла в
СССР две трети производимых в ФРГ труб большого диаметра. Зна-
чительную загрузку получили в ФРГ предприятия «АЭГ-Канис»,
производящие газопроводное оборудование. Начиная с 1980 г. еже-
годные поставки природного газа из СССР в ФРГ по газопроводу
Уренгой-Ужгород достигли 10 млрд. куб. метров, а общий объем
поставок газа в ФРГ намечен в 275 млрд. куб. метров.
Этот исторический экскурс доказывает, что к середине 80-х го-
дов в СССР был реализован гигантский проект на иностранные кре-
диты под гарантию правительства, благодаря соответствующим тру-
довым, техническим и материальным усилиям общегосударствен-
ных масштабов. Вот почему в современных условиях гигантское
газопроводное хозяйство в целом, не говоря уже о природных ре-
сурсах, не может быть частным приватизированным предприятием.
«Газпром» по законам любой формации (социалистической, капита-
листической и даже феодальной) должен оставаться общенацио-
нальным достоянием и священной коллективной собственностью
народа.
Как развивается сотрудничество по поставкам энергетического
сырья в ФРГ из РФ в современных условиях?
Поставки природного газа из России в Германию, начатые в 1973
г. с 0,4 млрд. кубов, достигли в 1980 г. 10,9 млрд. кубов, в 1990 г. -
20,1 млрд. кубов, а в 1995 г. - 32 млрд. кубометров в год.
Председатель «Винтерсхалл АГ» (Кассель) Г. Детхардинг в фев-
рале 1997 г. так оценил значение для Европы поставок российского
природного газа: «Вот уже 25 лет Россия доказывает, что она явля-
ется абсолютно надежным поставщиком - так же, как и Голландия».
Что собой представляет РАО «Газпром»? Кратко - «открытое»
акционерное общество, ведущее предприятие ТПК (топливно-
энергетического комплекса1). В начале XXI века владеет лицензия-
ми на разработку 88 газовых и газоконденсатных месторождений,
140 тысячами километров магистральных газопроводов (три с поло-
виной раза можно опоясать земной шар по экватору); 40% акций
РАО принадлежит государству; 20% валютной прибыли страны дает
РАО «Газпром». Только в созданной в 1993 году службе безопасно-
сти занято 20 тысяч человек, в том числе 500 в центральном аппара-
те. По оценкам, «Газпром» обеспечивает добычу примерено 600
млрд. куб. метров природного и попутного газа, из которых пример-
1 Российская газовая энциклопедия. Гл. ред. Р.И. Вяхирев. - М., 2004. -
С. 114- 117.
249
но 400 млрд. (т.е. 2/3) куб. метров потребляется в стране. В середине
90-х годов «Газпром», имеющий 36 предприятий, в которых, по
оценкам, занято 340 тысяч работников, поставлял природный газ в
18 стран Европы (до 27% потребления). Однако главным потребите-
лем остается Германия, а главным партнером - группа «Винтерс-
халл», входящая в мощный химический концерн «БАСФ» (Бадише
Анилин унд Сода-Фабрикен).
Российская фирма «Газпром» и германская фирма «Винтерсхалл
АГ» создали в 1993 г. совместное предприятие «Вингаз», которое
уверенно вышло на европейский рынок энергоносителей.
«Винтерсхалл» - крупное по масштабам предприятие (с рези-
денцией в г. Кассель), общий оборот которого достиг 4,6 млрд. ма-
рок. Оно располагает трубопроводом в 1228 км. на территории Гер-
мании и газохранилищами объемом до 4,2 млрд. кубометров. Общая
сумма инвестиций «Вингаз» в 1995 г. уже достигла 4,5 млрд. немец-
ких марок. В 1996 г. германская сторона выделила Газпрому кредит
в 1 миллиард марок для «первых шагов» по строительству газопро-
вода от Ямала до Западной Европы. Председатель компании Герберт
Детхардинг оценивал «Газпром» как «фантастического партнера» и
выражал готовность к долговременному сотрудничеству.
Грандиозный проект создания системы газопроводов включает
ряд узлов. На германской территории - это системы газопровода
«Ягал» (Ямал - Газ - Анбиндунгс - Ляйтунг) и «Мидал» (Миттель
- дойче Анбиндунгс - Ляйтунг). На территории Польши до грани-
цы Белоруссии сооружение газопровода взяло на себя польское го-
сударственное предприятие «Европолгаз». Наиболее крупные мас-
штабы и трудности имеет, конечно, газопроводная система на тер-
ритории России. От полуострова Ямал до станции в Торжке проло-
жены три «нитки» на протяжении 400 км по вечной мерзлоте и 600
км на болотистых местах. Протяженность газопровода от Ямала до
Германии составляет 4. 200 км, причем на этой дистанции нужны 29
компрессорных станций. Общая стоимость проекта оценивалась в 36
млрд. долларов.
Новый проект и новая сделка вызвала недовольство прежнего
кредитора «Газпрома» фирмы «Рургаз АГ» как невыгодную для са-
мой России, которая идет на то, чтобы «русский газ» (по старым
сделкам) конкурировал с «русским газом» (по новым сделкам) и та-
ким образом сбивалась цена на русский газ. К этому прибавлялась
конкуренция с британскими, норвежскими и алжирскими поставщи-
ками. Основным фактором, который остается в руках России, явля-
ются масштабы ресурсов. По оценкам специалистов, только в За-
250
падной Сибири, на шельфе Карского и Баренцева морей, находятся
более 1/3 мировых запасов природного газа.
Потребность в использовании экологически более чистого энер-
гетического сырья, чем нефть, в странах Европы возрастает. Газовые
проекты имеют долговременный характер как по срокам реализации,
так и по эффективности. Предприниматели исходят из долговремен-
ных планов. Когда делают расчеты до 2010 года, то оказывается, что
при возрастающих потребностях ямальский газ будет составлять в
потребляемом объеме весьма умеренную долю: 50 млрд. кубов из
520 млрд. кубов, которые будет потреблять Западная Европа в 2010
году, даже при том, что из других источников в России будет посту-
пать в Европу до 30 млрд. кубов.
Некоторую нервозность проявляют политики в странах Восточ-
ной Европы, особенно в Чехии, Венгрии и Словакии, опасаясь зави-
симости от поставки российского газа. Западные фирмы используют
это для того, чтобы рекомендовать этим странам получение газа из
альтернативных источников. При этом германские фирмы, конечно,
будут использовать свое центральное положение в Европе, чтобы
заниматься перепродажей (реэкспортом) газа как с востока, так и с
запада. Скажем, германским фирмам выгоднее поставить британ-
ский или голландский газ в западные земли ФРГ, а российский про-
дать восточным соседям.
«Вингаз» дает возможность наладить сотрудничество с конку-
рентами. В мае 1996 г. «Газпром» заключил соглашение с голланд-
ской фирмой «Газюни» относительно поставок с 2001 года 4 млрд.
кубов российского газа ежегодно в течение 20 лет (проект оценива-
ется в 6,5-7 млрд. долл.). Бывший тогда президент РАО «Газпром»
Р. Вяхирев заявил по этому поводу: «Для нас это соглашение очень
важно, поскольку мы боремся за возможность работать в Европе».
В конце 1996 г. (21 декабря) Совет директоров Газпрома принял
весьма важное решение о реорганизации структуры РАО: с 1 января
1997 г. решено разделить продажу газа внутри страны и на внешнем
рынке, отделить транспортировку газа и его продажу. Создано пред-
приятие, получившее условное название «Фирма Никишина».
Как сказалась эта реформа на позициях Газпрома на европей-
ском рынке газа? Внешне это выглядело как уменьшение мощи Газ-
прома на международных рынках. На деле новая фирма полностью
была под контролем Газпрома, а по масштабам продаж превзошла
многократно западные монополии. Если «Рургаз», «Газ де Франс» и
«Газюни» поставляют на европейский рынок менее 100 млрд. куб. м,
то новая российская фирма в составе «Газпрома» поставляла в сум-
251
ме около 400 млрд. куб. м в год. Российские поставщики преуспели
в добыче и транспортировке, однако не имеют совершенно опыта
продажи своей продукции. Прогнозируемый объем газовой выручки
может составить 15-20 млрд. долларов. Это означает, что фирма мо-
жет быть отнесена к пяти крупнейшим промышленным компаниям в
России, но с выходом на мировой рынок через «Газэкспорт» в соста-
ве Газпрома.
Реорганизация Газпрома проводилась по требованию «финансо-
вого блока» правительства РФ и под влиянием условий, выдвигае-
мых Международным валютным фондом. Требование МВФ продик-
товано интересами конкуренции крупных транснациональных неф-
тегазовых корпораций, которые не хотят видеть на европейском
рынке мощного монополиста. Удовлетворит ли эта реорганизация
конкурентов - сказать нетрудно: едва ли. Однако для россиян важно,
чтобы маневры Газпрома на европейском рынке отвечали нацио-
нальным интересам страны.
Сотрудничество Газпрома с германскими концернами важно для
обеих сторон. Как заявил председатель «Винтесрхалла»
Г. Датхардинг: «Если Газпром очень важен для России с макроэко-
номической точки зрения, то неразумно было б ослаблять его...Я
думаю, что не в интересах Западной Европы ослаблять Газпром,
иначе скоро нам придется сидеть на континенте в темноте и
холоде».
Таким образом, налаженное в течение четверти века сотрудниче-
ство между Россией и Германией в строительстве и использовании
магистральных газопроводов остается долговременным фактором.
Далеко не случайно, что Германия остается самым крупным эконо-
мическим партнером России, самым «щедрым» кредитором и самым
солидным клиентом в получении сырья из России. Однако с этим
связаны и соответствующие риски. Внутрироссийский аспект дея-
тельности Газпрома не менее важен для благосостояния россиян.
Пока по терпимым ценам потребители в России получают электро-
энергию и по сравнительно низким ценам бытовой газ. Отделение
внешней выручки от внутренних расчетов неизбежно скажется на
внутреннем потребителе. Конечно, реализация нового проекта Ямал-
Германия отвечает долговременным интересам России, если запасы
природного газа в действительности таковы, как их прогнозируют
геологи и газовики. Однако бремя финансирования такого грандиоз-
ного проекта, очевидно, должно соизмеряться с реальной пользой,
которая придется на душу многострадального населения России.
Если выручка от продажи российского газа будет уходить на гран-
252
диозный проект, то зачем он нужен ныне и так скудно живущим
россиянам.
2. Реституция или возвращение незаконно вывезенных
культурных ценностей
После «окончательного урегулирования» в отношении Германии
«спонтанно», по инициативе «новых друзей» Германии в России
началось обсуждение необходимости возвращения германских куль-
турных ценностей из России в Германию. Особенно обострился во-
прос к середине 90-х годов в связи с 50-летием окончания войны в
Европе. Сначала отдельные, а затем и десятки малоизвестных и из-
вестных деятелей культуры в России, занятых в музейном, библио-
течном и просто бюрократическом деле публично предложили свои
услуги немцам в обнаружении и выдаче германских культурных
ценностей, хранящихся в российских государственных запасниках.
Официальные органы ФРГ воспользовались этим для того, чтобы
поставить перед правительством Российской Федерации вопрос о
возвращении «незаконно вывезенных» из Германии культурных
ценностей.
В качестве основания германская дипломатия использовала
статью 16 договора между СССР и ФРГ, подписанного 9 ноября
1990 года, после заключения выработанного по формуле «два плюс
четыре» Договора об окончательном урегулировании в отношении
Германии от 12 сентября 1990 года. В тексте Договора от 9 ноября
1990 года статья 16 предусматривает возвращение культурных цен-
ностей, незаконно вывезенных в годы второй мировой войны. Меж-
дународно-правовые нормы, возникшие в итоге второй мировой
войны, в результате подписания Германией акта о безоговорочной
капитуляции, принятия державами антинацистской коалиции ялтин-
ских и потсдамских решений о репарациях (и реституциях), а также
решений Нюрнбергского трибунала об ответственности Германии за
агрессию, недвусмысленно обязывали Германию восстановить раз-
рушенное и возместить уничтоженное или похищенное на оккупи-
рованных территориях стран, подвергшихся агрессии. В соответст-
вии с этими международными постановлениями, военные власти
держав-победителей в период с 1945 по 1949 год осуществляли
управление оккупационными зонами, принимали законы, постанов-
ления, распоряжения по всем вопросам культурной и хозяйственной
жизни, включая вопросы собственности.
253
При окончательном урегулировании с Германией министры ино-
странных дел ФРГ и ГДР особым письмом от 12 сентября 1990 года
уведомили министров иностранных дел четырех держав (СССР,
США, Великобритании и Франции), что Германия отказывается от
претензий любого характера к этим государствам в силу акта о безо-
говорочной капитуляции. Очевидно, что такое заявление было усло-
вием окончательного урегулирования и стало составной частью
мирного урегулирования. В заранее согласованном заявлении ФРГ и
ГДР от 15 июня 1990 года совершенно ясно выражена правовая точ-
ка зрения: «Меры по изъятию имущества, принятые на основе прав
и верховенства оккупационных властей (за 1945- 1949 гг.), являются
необратимыми...». Российская сторона естественно и обоснованно
исходит из того, что все перемещенные ценности, вывезенные на
территорию Российской Федерации, являются ее собственностью и
обеспечивают ее право на компенсацию утраченного, т.е. на рести-
туцию.
Ущерб, нанесенный Советскому Союзу, главным образом Рос-
сии, Белоруссии и Украине, в результате германской агрессии в го-
ды второй мировой войны, составил по самым сдержанным оценкам
несколько сотен миллиардов долларов, не считая невозместимую
ценность миллионов человеческих жизней, в том числе некомбатан-
тов (т.е. мирного населения: женщин, детей, стариков). Сумма
ущерба, нанесенного нашей стране, по современным оценкам, не
может быть покрыта паушальной суммой в 1,3 триллиона долларов.
В результате вторжения германских армий на территории СССР
разрушено 3 тысячи городов с их историческими ценностями и не-
повторимостью, разорено 427 музеев, похищено 180 млн. книг, ут-
рачены или похищены германскими оккупантами 564.700 художест-
венных произведений. Германская сторона, не желающая нести от-
ветственность за преступления нацизма, тем не менее, дает понять,
что российская сторона должна точно сообщить, где находятся
культурные ценности, вывезенные из России. Между тем, сведения
об этом вернее было бы искать в германских архивах, точнее, в ар-
хивах ведомства Гиммлера и А. Розенберга. Особый вопрос - воз-
мещение ущерба разоренным немцами культовым учреждениям:
1670 церквей, 532 синагоги и 237 костелов на занятых нацистами
землях. Западная Германия, как известно, Советскому Союзу репа-
рации не платила, хотя международные соглашения предусматрива-
ли репарации.
Требование реституции, т.е. возмещения собственности, в т.ч.
культурных ценностей, утраченных в результате агрессии, приме-
254
нимо исключительно к Германии, но не к России. Что касается воз-
вращения «незаконно вывезенных» культурных ценностей Герма-
нии, то необходимо точно указать и доказать не только конкретные
сведения, но и законного владельца или претендента на имущество.
Речь может идти не обо всех культурных ценностях, вывезенных в
Россию, но лишь о некоторых, которые оказались в России «неофи-
циально». Примером такого рода (и то условно) можно считать кол-
лекцию рисунков Гойи, Ван Гога, Рубенса, Дюрера, Рембрандта, Ве-
ронезе, которые «случайно» оказались в чемодане Виктора Балдина,
который по службе в 1945 году оказался в местечке Кайритц, где и
нашел или выкупил коллекцию, а затем хранил ее в запасниках Го-
сударственного музея архитектуры, директором которого он стал
после войны. Такие исключительные случаи возможны, но малове-
роятны, если учесть, что в те времена такая самодеятельность была
чревата весьма нежелательными последствиями.
«Новые друзья» Германии из числа энергичных публицистов и
посредников, а иногда и государственных служащих, которые обя-
заны хранить культурные ценности, а не торговать ими, почему-то
забывают или, может быть, не ведают, что Советский Союз давно
вернул по доброй воле большую и самую ценную часть культурных
ценностей немецкому народу в лице ГДР. Весной 1955 года Совет-
ское правительство приняло решение передать ГДР неоценимые со-
кровища Дрезденской картинной галереи после экспонирования ми-
ровых шедевров в Москве и Ленинграде. В следующем году из
СССР в ГДР переданы 320 тысяч книг, среди них раритеты, напри-
мер, уникальный экземпляр первой печатной русской азбуки. В 1957
году Государственная библиотека им. Ленина передала ГДР 15 ты-
сяч ценных рукописей и архивных фондов, в т.ч. архивы Александра
и Вильгельма Гумбольтов. В 1959 году были переданы германские
дипломатические архивы, часть которых хранилась в СССР, а также
документы государственных архивов и личные архивы германских
политических и государственных деятелей, включая редкие доку-
менты-акты XII века.
В период с 1957 по 1958 гг. из СССР в ГДР отправлены 300 ва-
гонов с предметами, представляющими ценность для германской
культуры. Всего возвращено 1. 569. 176 единиц хранения.
Когда в договоры и соглашения СССР и России с Германией
включали пункты о возвращении «незаконно вывезенных» культур-
ных ценностей, то ни разу не уточняли, о каких конкретно коллек-
циях или предметах идет речь, более того, не указано национальное
происхождение культурных ценностей. Так что каждая из сторон
255
вкладывала в понятие «незаконно вывезенные» культурные ценно-
сти свое понимание, причем у советской (российской) стороны
больше оснований ставить вопрос о незаконно вывезенных ее куль-
турных ценностях, нежели у германской, поскольку союзники по
антигитлеровской коалиции приняли десятки решений и заключили
десятки соглашений, которые создали международно-правовую ос-
нову для реституции (возвращения) культурных ценностей, выве-
зенных именно нацистскими оккупантами из многих стран Европы,
а также для возмещения ущерба, нанесенного жертвам агрессии.
Постановка вопроса о возвращении германских культурных цен-
ностей в 90-х гг., после объединения Германии, изначально не имеет
международно-правовых оснований, кроме ссылки на Договор меж-
ду СССР и ФРГ от 9 ноября 1990 года, в котором в общем виде без
конкретизации сказано о возвращении «незаконно вывезенных»
культурных ценностей.
В ходе обсуждения вопроса о возвращении культурных ценно-
стей, развернувшегося в первой половине 90-х гг. как в Германии,
так и в России, на передний план были выдвинуты германские куль-
турные ценности, «застрявшие» в России: оставленная в России
часть «Готской библиотеки», большая часть которой уже возвраще-
на в Германию в 1956 году, художественная коллекция Кенигса-
Гитлера, «Чемодан В. Балдина» и другие коллекции, каждая из ко-
торых должна рассматриваться отдельно. И, конечно, особо стоит
вопрос о принадлежности «Золота Шлимана» или «Золота Трои», на
которое выдвигают свои претензии не только Германия, но и Турция
(по месту нахождения) и Греция (по историческому происхожде-
нию, кстати сказать, легендарной версии).
«Готская библиотека»1 представляет собой уникальное собрание
книг, в том числе старонемецких, первопечатных изданий, которые,
несомненно, имеют высокую степень ценности для германской
культуры. Еще в 1956 году вслед за отправкой картин Дрезденской
галереи в ГДР были возвращены 320 тысяч или, по другой версии,
390 тысяч книг. Совершенно очевидно, что решение о возвращении
книжных сокровищ немецкому народу в лице ГДР было продикто-
1 Понятие «Готская библиотека» не раскрыто достаточно полно даже в
немецких изданиях. Надо полагать, что сложившаяся на основе дворцовой
библиотеки коллекция в момент изъятия и перемещения ее была не нацио-
нальной собственностью, а частным владением штандартен-фюрера (пол-
ковника) СС герцога Саксен-Кобург-Готского; она конфискована на закон-
ном основании и стала национальным достоянием, только после возвраще-
ния в ГДР в 1956 г.
256
вано гуманитарными и политическими соображениями, сомнений в
ценности этой коллекции не только для германской, но и для евро-
пейской, мировой культуры, разумеется, не было; причем ни в мар-
ках, ни в долларах Дрезденская картинная галерея и Готская биб-
лиотека, насколько нам известно, никогда не оценивалась: это бес-
ценные сокровища.
Почему же в 90-х гг., после окончательного урегулирования с
Германией, вновь возник вопрос о судьбе Готской библиотеки?
Дело в том, что через 16 лет после возвращения собственно Гот-
ской библиотеки в Германию среди книг Фундаментальной библио-
теки АН СССР при преобразовании ее в Институт научной инфор-
мации по общественным наукам были обнаружены в хранилищах
две тысячи книг из этой коллекции, а примерно столько же книг
оказались складированными в менее благоприятных условиях в
церкви села Узкое на окраине Москвы. Как свидетельствуют биб-
лиографы, всего в Москве обнаружено 5815 «задержавшихся» или
задержанных книг, в том числе 1500 изданий XVI - XVIII вв., глав-
ным образом исторических, философских и теологических сочине-
ний. Ряд изданий имеет ценность источников по истории стран Ев-
ропы, но особенно ценны для Германии издания, отражающие исто-
рию Реформации. Среди раритетов - издания Альдов, Плантена,
Эльзевиров. Эксперты отмечают, что т.н. альдины - это уникальные
экземпляры.
Особую ценность в Готской коллекции представляют прижиз-
ненные издания сочинений Мартина Лютера, Жана Кальвина, Эраз-
ма Роттердамского, Фрэнсиса Бэкона, Томазо Кампанеллы, Гуго
Гроция и Вольтера. Даже простое перечисление имен говорит об
исключительной ценности этой части коллекции не только для гер-
манской, но и для мировой культуры. Небрежно брошенная минист-
ром культуры России фраза, что ценность коллекции для России со-
мнительна, свидетельствует либо о дремучем невежестве, либо о
предвзятости позиции чиновника, но почему-то не в пользу своей
страны. Если оставленная в России часть коллекции имеет ценность
для Германии, то значит ли это, что она безусловно должна быть
немедленно возвращена в Германию?
В международных отношениях действует наряду с правилом -
договоры должны соблюдаться, также принцип взаимности. После
окончательного урегулирования (вместо полномасштабного мирно-
го договора) особенно мало остается места для односторонних усту-
пок. Эти раритеты, возможно, оставлены и сохранены именно для
того, чтобы они служили залогом возвращения или возмещения
257
культурных ценностей, утраченных или похищенных германскими
оккупантами на российской земле. Российские культурные ценности
вывозили не только зондеркоманды Гиммлера и Розенберга, но ча-
стным образом офицеры карательных органов Германии. Сохрани-
лись также свидетельства «цивилизованного» изъятия ценностей на
российской земле: настоятель Псковско-Печорского монастыря Н.
Македонский получил расписку при изъятии имущества церкви,
включая три ящика золотой и серебряной посуды: «Ризница остается
собственностью монастыря. При благоприятных условиях будет
возвращена».
Российские культурные ценности не сохранились в казенных
хранилищах рейха, они распродавались и расходились по всему ми-
ру, в том числе и за океан, особенно после окончания войны. По-
верженная страна-агрессор, подписавшая безоговорочную капиту-
ляцию, была обязана восстановить разрушенное и возместить утра-
ченное, но не выполнила свои обязательства сполна, а теперь требу-
ет одностороннего возвращения сохраненных ценностей. Требова-
ние академических кругов России («Письмо 92 ученых» от 29 апре-
ля 1994 года) об эквивалентном возмещении российских культурных
ценностей продиктовано не только здравым смыслом, но и обосно-
вано соображениями исторической справедливости.
Профессор Хайнрих Фогель, возглавлявший Федеральный ин-
ститут по изучению стран Восточной Европы и международных
проблем в Кельне, выступил в журнале «Дойчланд» за октябрь
1996 г. с обзором отношений между Германией и Россией за по-
следние пять лет, в котором между прочим, отмечен как позитивный
факт - открытие выставки «Москва-Берлин» в марте 1996 года, вы-
сказал довольно ясно односторонние претензии к России: «На такое
позитивное развитие событий в области культурных связей накла-
дывает тень проблема возвращения германских культурных ценно-
стей. Позиция, занятая в Москве, наталкивается на растущее непо-
нимание как раз тех граждан Федеративной республики, которые
хорошо относятся к новой России: тем более, что германские пре-
тензии на возвращение культурных ценностей, перемещенных в ре-
зультате второй мировой войны, обоснованы как по существу, так и
в юридическом плане». Так ли это на самом деле бесспорно с юри-
дической точки зрения?
Эксперты Института государства и права РАН по запросу прави-
тельственных органов подготовили заключение по юридическому
аспекту проблемы. В этом документе от 9 марта 1994 года под на-
званием «О правовых основах решения вопросов, относящихся к
258
культурным ценностям, перемещенным из СССР в результате вто-
рой мировой войны», на основе более чем двух десятков норматив-
ных источников доказана обоснованность российских требований о
реституции. В то же время сделаны выводы относительно законно-
сти перемещения культурных ценностей из Германии в СССР: «Все
культурные ценности, перемещенные в СССР по приказам ГК
СВАГ, изданным во исполнение постановлений (распоряжений)
компетентных органов Советского Союза, находятся на территории
России на законных основаниях. Поэтому каких-либо обоснованных
претензий по поводу материального ущерба бывшим собственникам
к России предъявлено быть не может». Относительно дальнейшего
режима сохранения культурных ценностей в Российской Федерации
юристы также высказали ясное определение: «Поскольку послево-
енное регулирование со всеми бывшими неприятельскими государ-
ствами в Европе завершено (последнее - в отношении Германии До-
говором от 15 марта 1991 г.) дальнейшее тотальное содержание пе-
ремещенных культурных ценностей, представляющих большой ин-
терес для отечественной и мировой науки и культуры, в закрытых
или иных недоступных хранилищах утратило всякий смысл».
Что касается возможной передачи культурных ценностей другим
странам, то это может происходить только в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (за полную стоимость или в об-
мен на равноценные предметы).
В 1993 году имел место символический акт-передача министру
иностранных дел К. Кинкелю пяти книг из Готской коллекции Это
было истолковано германской стороной как сигнал российского
правительства, как проявление серьезных намерений выполнить
обещание по возвращению всех книг. Однако российский парламент
выразил иной подход: возвращение культурных ценностей должно
происходить на взаимной основе. Государственная Дума приняла
постановление о моратории (отсрочке) возврата германской стороне.
Правда, в июне 1996 года Совет Федерации принял благоприятное
для немцев решение (смягчил позицию). Стороны приступили к об-
стоятельным переговорам еще в 1994 году.
Весной 1994 г., когда в российской прессе вновь оживились дис-
куссии по поводу возвращения в Германию остатков «Готской биб-
лиотеки» (и одновременно появились сообщения, что книги уже
упакованы и вот-вот будут отправлены) официальные лица в рос-
сийских министерствах всячески уклонялись не только от объясне-
ний, но даже от разговоров на эту тему.
259
Первое заседание Совместной российско-германской комиссии
по взаимному возвращению культурных ценностей состоялось в
Москве 23-24 марта 1994 года. Сопредседателями совместной ко-
миссии стороны определили министров: с российской стороны -
министра культуры Е. Сидорова, а с германской стороны - министра
иностранных дел К. Кинкеля.
В мае 1994 г. заместитель министра культуры РФ М. Швыдкой
сообщил общественности, что государственная комиссия по рести-
туции приняла решение о возвращении «застрявших» в нашей стра-
не немецких книг, учитывая, что возвращаемые книги описаны и
микрофильмированы, а германская сторона передала в фонды биб-
лиотеки ИНИОН РАН книги и издания для ее пополнения, и, кроме
того, библиотечное оборудование на сумму 1 млн. германских ма-
рок. «Разве это недостаточная компенсация за пять тысяч староне-
мецких книг, не представляющих особой ценности для российской
духовной жизни?!» - риторически и патетически восклицал М.
Швыдкой, то ли оправдываясь перед россиянами, то ли обращаясь к
немцам.
Очевидно, что позиция Министерства культуры РФ подвергалась
серьезному воздействию со стороны общественности страны, преж-
де чем получила определенные очертания: государственная комис-
сия по реституции заявила, что все вывезенное из России во время
войны германской стороной было вывезено незаконно; вывоз же
художественных ценностей из Германии в Россию был «по преиму-
ществу законным», что каждый конкретный спорный случай требует
правовой экспертизы.
В конце июня 1994 г. в Бонне состоялось заседание совместной
российско-германской комиссии по взаимному возвращению куль-
турных ценностей. Российские представители передали германской
стороне три тома материалов о культурных ценностях, утраченных
Россией в результате германской агрессии и оккупации. Документы
включают перечень 39. 588 предметов, утраченных в результате ра-
зорения трех российских музеев: Орловского музея, Павловского
музея-дворца, а также Екатерининского дворца-музея, включая «Ян-
тарную комнату». Германская сторона вручила тогда же в Бонне
встречный список претензий, включающий 200 тысяч предметов-
музейных экспонатов, 2 миллиона книг и «три километра» архивов.
С этого момента, можно сказать, проблема возврата культурных
ценностей официально поставлена в плоскость взаимного возвраще-
ния, а также компенсации утраченного имущества.
260
Как обстояли дела в действительности? Летом 1994 года ми-
нистр культуры РФ Е. Сидоров заявил в прессе: «Меня как предсе-
дателя комиссии обвиняют, что мы только и занимаемся тем, что все
время что-то отдаем или хотим отдать Германии, хотя мы не только
ничего не отдали, но все время занимались составлением как можно
более полных списков наших потерь - музейных, архивных, библио-
течных». Министр заверил, что возврат германских культурных
ценностей будет происходить только на основе компенсаций. Меж-
ду тем в прессе были сообщения о фактах передачи без каких-либо
компенсаций и без всяких условий следующих фондов и коллекций:
В 1990 г. передан Берлинский архив фонограмм (т.н. Планткам-
мера) в количестве 16 тысяч единиц хранения. Тогда же из России в
Германию вывезены Прусская и Саксонская библиотеки. В 1991 г.
из Петербурга в Гамбург отправлена Нотная коллекция из Ленин-
градского фонда музыкальных рукописей. В 1991 г. директор ИНИ-
ОН акад. В. Виноградов объявил о передаче остатков Готской биб-
лиотеки (стоимостью в 11 млн. долларов) при условии оплаты выво-
за. В том же году ректор МГУ А. А. Логунов направил письмо гер-
манскому правительству и выразил готовность передать ему «Биб-
лию Гутенберга» (оцениваемую в 25 миллионов долларов). В 1992 г.
по дипломатическим каналам было сообщено канцлеру Г. Колю, что
ему будет передана как подарок «Библия Гутенберга». Б. Ельцин
подтвердил: «Библию Гутенберга, конечно, отдадим».
В 1993 г. Е. Сидоров заявил, что культурные ценности, вывезен-
ные из Германии в СССР, не являются российской собственностью и
не рассматриваются как компенсация за нанесенный германской аг-
рессией ущерб. Тогда же министр культуры ФРГ Р. Момин сооб-
щил, что российская делегация обещала скоро вернуть Германии не
только «Библию Гуттенберга», остающуюся часть Готской библио-
теки и 200 тысяч томов Дрезденской библиотеки, но и «Золото
Шлимана».
Вопрос о культурных ценностях рассматривался специально на
международной конференции в Нью-Йорке (19- 21 января 1995 г.).
Конференция имела выразительное название: «Военная добыча.
Вторая мировая война и ее последствия: утраты, обретения и воз-
вращения культурной собственности». В итоге конференции с уча-
стием специалистов по хранению культурных ценностей и юридиче-
ски грамотных «посредников», несмотря на явную ангажирован-
ность многих участников, юридически обосновать требование воз-
врата Россией германских культурных ценностей не удалось.
261
Какова позиция Российской Федерации по вопросу о возвраще-
нии германских культурных ценностей. К сожалению, она не отли-
чалась однозначностью. Дело в том, что пока продолжались затяж-
ные переговоры России и Германии, Государственная Дума разрабо-
тала и 5 июля 1996 г. приняла закон «О культурных ценностях, пе-
ремещенных в Союз ССР в результате второй мировой войны и на-
ходящихся на территории Российской Федерации». Этот закон был,
однако, отклонен Советом Федерации 17 июля 1996 г. Тогда в фев-
рале 1997 г. Государственная Дума приняла закон повторно, учтя
замечания и Совета Федерации, и администрации Президента. Од-
нако Президент отказался поставить свою подпись под повторно
принятым законом со ссылкой на международно-правовые сообра-
жения. Вето Президента было преодолено Государственной Думой 4
апреля 1997 г., а Советом Федерации 14 мая того же года. Б. Н. Ель-
цин вернул текст закона в парламент без рассмотрения. Обе палаты
Федерального собрания в июне 1997 г. вновь направили закон Пре-
зиденту на подпись, однако 24 июня он снова отказался подписать
закон о реституции. По запросу парламентариев Конституционный
суд рассмотрел прецедент и 6 апреля 1998 г. принял решение: глава
государства «не вправе не подписать отклоненный закон после его
повторного одобрения» в течение семи дней и «обязан обнародовать
закон». Иное дело: он вправе поставить вопрос о соответствии этого
конкретного закона Конституции РФ.
Ключевое значение в этом законе имеет статья 6 «О праве собст-
венности Российской Федерации на перемещенные культурные цен-
ности», которая определяет: «Все перемещенные культурные ценно-
сти, ввезенные в Союз ССР в осуществление его права на компенса-
торную реституцию и находящиеся на территории Российской Фе-
дерации... являются достоянием Российской Федерации и находятся
в федеральной собственности». В российских средствах массовой
информации имели место дискуссии по этому вопросу, в частности,
в передаче на телевидении весной 1997 г. в программе «Националь-
ный интерес», в которой принял участие посол ФРГ в Москве фон
Штудниц и во время которой имел возможность высказать свои ме-
ждународно-правовые соображения и автор данного очерка.
Общий вывод из рассмотрения проблемы возвращения культур-
ных ценностей можно сделать следующий:
Наличие германских культурных ценностей на территории Рос-
сии и официальное признание этого факта не может означать обяза-
тельства России немедленно и безусловно вернуть их в Германию.
262
Возвращение возможно только на взаимной основе, на основе
эквивалентного обмена или возмещения за утраченные ценности
российской культуры.
Германские культурные ценности, находящиеся на территории
России, вывезены на законных основаниях и могут быть возвращены
в Германию только в соответствии с российским законодательством,
но не по решению отдельных чиновников.
Для принятия взвешенных решений и законов необходимо глас-
ное проведение общественных слушаний с целью выявления всех
возможных претензий на возмещение утраченных российских куль-
турных ценностей, включая общественное, частное и конфессио-
нальное достояние.
3. Статус Калининградской области
Российской Федерации (реалии и перспективы)
Международный статус бывшей германской территории Восточ-
ной Пруссии, Кенигсберга и «хинтерланда», определен в итоге вто-
рой мировой войны решениями союзников по антигитлеровской
коалиции: в принципе вопрос о передаче Советскому Союзу Ке-
нигсберга и прилегающего района решен на международной конфе-
ренции в Потсдаме в июле-августе 1945 г., а затем окончательно
юридически оформлен решением Совета министров иностранных
дел четырех держав в Москве в 1947 году.
Главным аргументом советской дипломатии был стратегический
фактор - необходимость для советского (российского) флота иметь
незамерзающий выход в Балтийское море с целью предотвращения
германской экспансии в восточном направлении, «дранга нах Ос-
тен», который всегда был сильнее «стремления на Юг», хотя по-
следнее получает также воплощение в интервенции в Югославии.
В течение всего послевоенного времени с германской стороны
не было получено однозначного подтверждения передачи Кенигс-
бергского региона Советскому Союзу. На геополитических картах
ставилась на этом месте пометка: «под советским управлением». В
отношениях СССР с Восточной Германией (ГДР) вопрос о принад-
лежности Кенигсберга, естественно, никогда не возникал, поскольку
считался решенным раз и навсегда соглашением держав-
победительниц. При установлении дипломатических отношений
СССР и ФРГ в 1955 г. вопрос о принадлежности Кенигсберга также
не ставился, хотя канцлер К. Аденауэр пытался сделать оговорку,
что установление дипломатических отношений не означает призна-
263
ния «территориального состава» сторон. В ходе переговоров и
заключения Московского договора между СССР и ФРГ в августе
1970 г. достигнута договоренность о нерушимости границ госу-
дарств в Европе, включая границы ГДР и ПНР, что означало по тол-
кованию германской дипломатии отказ от насильственного измене-
ния границ при сохранении возможности изменить их мирным пу-
тем на основе международного права. В процессе окончательного
урегулирования с Германией по формуле «два плюс четыре» в 1990
г. вопрос о принадлежности Калининградской области Советскому
Союзу не подвергался сомнению ни одной из стран-участниц.
В Договоре об окончательном урегулировании в отношении
Германии от 12 сентября 1990 г. четко обозначены пределы объеди-
ненной Германии: они определены государственными границами
ФРГ и ГДР на момент урегулирования, причем граница ГДР по ли-
нии Одер-Нейсе, принятой на Потсдамской конференции и закреп-
ленной соглашением между ГДР и Польшей в 1950 г. Советская ди-
пломатия в лице тогдашнего заместителя министра иностранных дел
Ю. А. Квицинского сочла необходимым дать публичное разъясне-
ние, что Калининградская область остается в составе Союза ССР.
Это было необходимо, поскольку в Германии не только публицисты,
но и юристы высказывали суждения, что между СССР и Германией
нет мирного договора в собственном смысле, равно как нет и акта о
передаче территории германским государством Советскому Союзу.
Развал Союза и разрушение территориальной целостности госу-
дарства, провозглашение независимости - отделение от Союза и от
России трех прибалтийских республик - коренным образом измени-
ли геополитическую ситуацию в регионе. Военные и морские базы
СССР (Российская Федерация объявила себя правопреемницей
(продолжательницей) Союза ССР) приобрели еще большее оборон-
ное значение, особенно после полного вывода российских войск с
территории прибалтийских республик, разрушения гигантской стан-
ции ПВО. Россия лишилась ряда удобных для обороны стратегиче-
ских позиций на Балтике, что усугубило ее стратегическую уязви-
мость. Коммуникации, соединяющие российские базы с большой
землей, остались в распоряжении другого государства. Калинин-
градская область в результате поистине тектонических сдвигов,
произошедших при преступном бездействии советских, а затем и
российских, официальных лиц, стала оторванным от материка полу-
анклавом (поскольку имеет выход в море), статус которого пытают-
ся поставить под вопрос различные силы. С российской точки зре-
ния не существует вопрос о Кенигсберге, однако на протяжении
264
многих лет не затихает обсуждение планов и проектов «улучшения»
положения Калининградской области, ее развития как европейского
(не обязательно российского) полуанклава, принадлежность которо-
го якобы еще может быть и пересмотрена.
За несколько лет после окончательного урегулирования с Герма-
нией имели место многочисленные попытки поставить под сомне-
ние и политический, и правовой статус Калининградской области,
причем такие попытки предпринимаются не только германскими
официальными представителями, но и политиканами стран Восточ-
ной Европы: участница «вышеградской группы» Чехия делала заяв-
ления (министр обороны), что выдвинутые на запад мощные военно-
морские базы России представляют собой угрозу для Европы;
Польша решительно отклонила даже планы создания транзитных
путей для связи России и Белоруссии с калининградскими портами;
Литва пропускает на определенных условиях транзитные транспор-
ты, однако выдвигала свои притязания на территории, входящие
в РФ.
Калининградская область, как известно, в течение всего послево-
енного времени (до конца 80-х годов) была закрытым для иностран-
цев регионом. Теоретически с 1945 года ни один немец или немка
(иностранцы) не ступали на российскую территорию даже для того,
чтобы поклониться могиле и памяти великого Канта, могила которо-
го находится у знаменитого кафедрального собора. Первым визитом
из Германии была поездка по специальному пропуску весной 1989
года (в преддверии великих перемен), которую предприняла извест-
ная публицистка, главный редактор еженедельника «Цайт» Марион
Денхоф, которая доставила «на родину» бюст Канта, а затем высту-
пила с публикациями, цель которых сводилась к тому, чтобы вновь
открыть Кенигсберг для европейцев.
Проект европеизации региона предполагает прежде всего куль-
турную экспансию и экономическое освоение вроде бы ничейного
края - «янтарного берега России». Дальнейшие планы предусматри-
вают автономию области и создание автономной республики с соб-
ственной валютой, ориентированной на евровалюту, кооперацию с
Литвой, Латвией и Эстонией, а затем и с Германией в целях просве-
щения и экономического развития, чтобы сделать излишним даль-
нейшее пребывание российских войск «далеко от Москвы». М. Ден-
хоф без обиняков высказалась за создание такой «республики», ко-
торая будет самостоятельно принимать решения, не обращаясь в
«далекую Москву». Этот план милой дамы был опубликован в жур-
нале «Международная жизнь» и не встретил возражений.
265
В 1991 г. открыты ворота не только с востока, но и с запада, не
говоря уже о морском побережье. При этом с самого начала прояви-
ли особую активность германские предприниматели. За пять лет ко-
личество германских граждан и фирм на территории Калининград-
ской области быстро превзошло количество литовцев и приближает-
ся к количеству белорусов. По примерной оценке, число немцев,
нашедших себе нишу в Кенигсберге, превысило 30 тысяч человек.
Видимо, такой прорыв ободрил германские власти, если они решили
направить в эту провинцию в качестве эмиссара чиновника Мини-
стерства внутренних дел. Случился дипломатический казус: по тре-
бованию российского МИД чиновник был отозван, пришлось здесь
открыть германское консульство. Совершенно ясно - это была соз-
нательная акция германских властей, своего рода пробный шар.
Дальнейшее проникновение возложено на деловых людей, кото-
рые своей активностью, очевидно, не без поддержки и гарантий вла-
стей, должны обеспечить продвижение германского капитала и
обеспечение его интересов в регионе. Есть сведения, что германские
власти стимулируют активность германских граждан, в частности из
новых восточных земель, т.е. бывшей ГДР, чтобы они нашли себе
занятие в этом не принадлежащем Германии регионе, т.е. не следует
исключать, что в Калининградской области уже действует опреде-
ленное число подставных фирм.
В начале 1996 года предметом обсуждения стал масштабный
проект некоего Майстельмана - сделка о сдаче в аренду на 49 лет
(хорошо, что не на 99 лет) германскому предпринимателю Вислен-
ской (Балтийской) Косы уникального природного заповедника пло-
щадью в 1230 гектаров. При этом проект имел в виду в дальнейшем
уступить ему в бессрочное пользование эту российскую территорию
за сходную цену. Проект Майстельмана заслуживает внимания пра-
воохранительных органов: ведь речь идет о приобретении россий-
ских земель, стратегически важных пунктов на побережье, измене-
нии пограничной полосы. Такая сделка в принципе недопустима,
даже если будут обещаны «златые горы» за янтарные россыпи.
Текст предложенного соглашения - свидетельство не очень высокой
компетентности авторов не только с деловой точки зрения, но и с
международно-правовой.
Как интерпретируют местные и федеральные власти особое по-
ложение Калининградской области? Судя по проектам и решениям,
тенденция официальных властей сводится к тому, чтобы «тащить и
не пущать»: с одной стороны, ссылки на особое положение исполь-
зуются для того, чтобы вырвать у России особые права и привиле-
266
гии, с другой стороны, заверять, что это делается для того, чтобы
закрепить «неотъемлемость» этого эксклава, т.е. «внешнего кусоч-
ка». Почему вообще ставился вопрос об «отъемлемости»? Не явля-
ется ли это проявлением сепаратизма и желанием подороже продать
себя?
Реальная ценность этой территории отнюдь не в 90 процентах
мировых запасов янтаря, а в стратегических позициях на Балтике.
Население области, по данным переписи населения СССР в 1989 г.,
состояло из более чем 680 тысяч русских, далее шли белорусы (око-
ло 74 тыс.), украинцы (около 63 тыс.), а также литовцы (более 18
тысяч). Всего к началу 90-х годов население области насчитывало
871. 159 человек. В момент выдачи пресловутых ваучеров выяви-
лось 956 тысяч получателей, из которых только 686,7 тыс. реализо-
вали свои ваучеры на месте, остальные ваучеры мигрировали. Таким
образом, исходной точкой для оценки численности населения можно
считать примерно миллион жителей. Можно ли считать эту цифру
оптимальной, если иметь в виду, что площадь эксклава составляет
15 тысяч кв. км? Достаточно ли такой численности, чтобы обеспе-
чить самостоятельность эвентуальной республики? Едва ли, особен-
но с учетом не поддающегося учету контингента военнослужащих и
членов их семей. Любые проекты «а приори» будут исходить из не-
обходимости участия в экономике доноров, желательно для местных
деятелей иностранных инвесторов, поскольку российских явно не-
достаточно.
Калининград мог бы стать рентабельным регионом, если бы
имел развитую инфраструктуру и налаженное производство. Одна-
ко, по оценкам, структура населения скорее потребительская, чем
производительная. Естественно, стоит вопрос: кто будет обеспечи-
вать снабжение едоков на военно-морских базах? Ответ один: феде-
ральный бюджет. А кто будет получать доходы от товарооборота,
который не подлежит в «особой экономической зоне» администра-
тивному контролю? Тоже ясно: иностранный капитал, который, ко-
нечно, может «отстегивать» управленцам, которые призваны будут
обеспечивать порядок за воротами и у ворот стратегически важных
пунктов. Вот где будет раздолье для западных спецслужб, особенно
германских. Экономические последствия открытия особой зоны в
этом регионе должны стать предметом отдельного исследования.
Рассмотрим, какие нормативные акты регулируют процесс соз-
дания особой экономической зоны?
Еще в сентябре 1991 г. Совет министров России принял «Поста-
новление о зоне свободной торговли в Калининградской области».
267
Однако результаты либерализации были не очень эффективными,
хотя приватизация проведена быстро. На 1 мая 1994 г. более 770
предприятий вовлечены в сотрудничество с иностранным капита-
лом. Однако всего около 6 млн. долларов составили инвестиции.
Сумма совершенно незначительная, если иметь в виду общеевро-
пейские масштабы (сотые доли процента). На 1 сентября 1994 г. за-
регистрировано 885 предприятий с иностранным капиталом, причем
239 из них на 100% иностранные. Что это дает России? Пока ничего.
В конце 1994 г. началось обсуждение законопроекта в Государ-
ственной Думе «Об обеспечении суверенитета Российской Федера-
ции на территории Калининградской области». Цель - закрепить
«неотъемлемость» Калининграда от России. 15 ноября 1995 г. Госу-
дарственная Дума приняла закон «Об особой экономической зоне в
Калининградской области». Уже 5 января 1996 г. закон одобрен Со-
ветом Федерации, а 22 января 1996 г. он подписан президентом. За-
кон вступил в силу 31 января 1996 г., после официальной публика-
ции. Почти одновременно шел другой «процесс»: 12 января 1996 г.
президент РФ и премьер РФ подписали с «сувереном» - главой ад-
министрации Калининградской области и председателем областной
думы - «Договор о разграничении полномочий» между органами
государственной власти федерации и области, который вступил в
силу одновременно с названным законом. Шла подготовка норма-
тивных актов, которые могли стать шагом к обретению государст-
венности небольшим полуанклавом и возможному провозглашению
независимости от «далекой Москвы».
Особая экономическая зона в Калининградской области создава-
лась по принятым в международной практике нормам. Киотская
конвенция 1979 года определяет «особую зону» как часть террито-
рии государства, выведенную за пределы таможенных границ, в ко-
торой любое движение товаров и денег не подлежит администра-
тивному контролю. Приток иностранного капитала стимулируется
освобождением его от налогов на добавочную стоимость, налоговы-
ми льготами (или «каникулами») лет на 5-10, полностью или час-
тично от налога на прибыль, на недвижимость, собственность, на
доходы иностранного персонала компаний и даже на вывоз капита-
ла. Не надо быть хозяйственным или юридическим гением, чтобы
понять, что правила «свободной зоны» - это рай для иностранных
капиталов, независимо от их происхождения и природы их капита-
лов. Можно предположить, что одновременно это гигантская брешь
в таможенном барьере на западе страны. Капитал, инвестированный
268
в этой зоне, не будет повышать производство на материке, напротив,
будет действовать против национального капитала, особенно если
учитывать «островной» характер полуанклава и отдаленность от
густо населенных районов страны.
Международная практика знает огромное количество свободных
зон. Они имеются в 100 странах. Они, конечно, дают выгоду странам
с развитой сложившейся рыночной структурой экономики. Не слу-
чайно США имеют до 200 таких зон. Однако для России, находя-
щейся в кризисном состоянии и имеющей разваленную экономику,
еще одна свободная, да еще особая зона (в добавок к 20 имеющимся
зонам) будет еще одной раной на теле. До сего дня страна не полу-
чает реальной выгоды от имеющихся свободных зон, будь то «Вы-
борг», «Находка» или теперь, так сказать, «Царь-град». Местные
«суверены» хотели бы видеть в статусе свободной зоны преимуще-
ственно корыстную сторону, но отнюдь не обеспечение общерос-
сийских национальных интересов, хотя бы в отдаленном будущем. В
данном случае к этому следует добавить опасность сепаратизма,
стимулированного извне.
Особого внимания предпринимателей (национально ориентиро-
ванных) заслуживает деятельность акционерного общества закрыто-
го типа «Никойл» (формально не связанного с «Лукойл»), «Балтк-
ран», но больше всего масштабная деятельность германского капи-
тала в этом регионе, который уже несколько лет назад превысил
40% от суммы вложений. Даже местные предприниматели призна-
ют, что постоянно ощущают присутствие немцев уже сегодня, а
иногда и длинную руку германских спецслужб, которые держат курс
на «бескровную оккупацию» и возвращение Кенигсберга без войны:
путем скупки важных объектов, предприятий и земли (долгосрочная
аренда их уже не устраивает). Судя по всему, германская политика
сводится к тому, чтобы приобретать собственность в регионе и по-
ставить в один прекрасный момент (далекий или недалекий - не бу-
дем спорить) Москву перед свершившимся фактом. Купить область
с миллионным населением германскому капиталу вполне по карма-
ну, после чего русские окажутся там безработными.
Местные власти подчеркивали, что их не волнует политика (этим
де пусть занимается правительство в Москве), но им нужна большая
экономическая свобода: меньше налогов и таможенных платежей в
федеральный бюджет, обеспечение гарантий для иностранного ка-
питала федерацией, право продавать землю иностранцам, для начала
участки, на которых стоят купленные иностранцами предприятия
269
и т.д. Местные власти взвешивали уже возможность изменения на-
звания региона якобы в согласии с русскими традициями: поскольку
прежнее немецкое название города Кенигсберг - «Королевская го-
ра», а польское - Крулевец, литовское - Караляучис, то можно-де
согласиться на переименование в Княжгород. Какого князя? По ка-
кому праву? Все это не имеет значения. Однако после этого можно
вернуть и латинское название края - Боруссия. Уж тогда не будет
никаких сомнений, кому должен принадлежать не только город, но и
земля.
Наряду с планами европеизации региона появились и более
масштабные проекты интернационализации «особой зоны», глоба-
лизации территориального статуса субъекта Российской Федерации.
В феврале 1994 г. Европейский парламент, отложив в сторону
свои собственные дела, рассмотрел «проблему» Калининграда. Суть
резолюции из 23 пунктов сводилась к необходимости разработать
особый международный статус этой территории, как ежели это ни-
чейная территория. Создавались предпосылки для образования на
этой территории отдельного, конечно, «независимого» государства.
В 1996 г. конгрессмен-республиканец в США по имени Кац вы-
двинул проект резолюции с требованием передать управление Ка-
лининградской областью (Кенигсбергским регионом) в ведение спе-
циального международного органа, выведя все российские войска из
«зоны» и превратить ее в демилитаризованный регион. По существу
это проект не только пересмотра итогов второй мировой войны, но и
нарушения территориальной целостности Российской Федерации.
Выводы из анализа фактического развития проблемы особой зо-
ны в 90-е годы были весьма тревожными. Особый статус региона
мог эволюционировать в обособленность от федерации в условиях
овладения иностранным капиталом его потенциалом, а самое глав-
ное, землями в регионе. Тенденция к европеизации и интернациона-
лизации региона таила в себе опасность сепаратизма по экономиче-
ским соображениям.
Стратегическое значение баз на балтийском побережье за время
после вывода российских войск из европейских стран не уменьши-
лось, а возросло.
Официальная политика в этом вопросе претерпела дрейф от кон-
цепции «неотъемлемости» к признанию особости и даже самостий-
ности полуанклава. В политике местных властей наблюдался силь-
ный крен в сторону Запада. Ожидание инвестиций вводит в заблуж-
270
дение относительно целей инвесторов. Германский капитал не будет
заказывать марши для российских баз, скорее следует ожидать зака-
за иных маршей, наряду с требованием вывода войск и демилитари-
зации. Полагаю, что статус региона необходимо тщательно наблю-
дать и изучать. Политика федерального правительства в период пре-
зидентства В. Путина заслуживает отдельного рассмотрения. Она
существенно иная в этом вопросе, если сравнивать с предыдущим
периодом.
Глава VII
ГЕРМАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
1. Последствия объединения двух германских государств
Объединение Германии, точнее, присоединение к Федеративной
Республике Германия другого суверенного, признанного междуна-
родным сообществом государства, члена ООН - Германской Демо-
кратической Республики в 1990 году, имело огромные геополитиче-
ские, стратегические и экономические последствия: оно изменило
соотношение сил в Европе не только между государствами с раз-
личными социально-экономическими системами, но и в ущерб на-
циональным интересам России.
Присоединение одного германского государства (ГДР) к другому
германскому государству (ФРГ) на основе Основного закона по-
следней произошло в рекордно короткие сроки (всего за 329 дней)
при активном содействии генерального секретаря ЦК КПСС, прези-
дента СССР М. С. Горбачева и министра иностранных дел СССР
Э. А. Шеварднадзе. Мотивы и тем более подоплека столь усердного
и поспешного содействия политике одного германского государства
в ущерб интересам другого, союзного германского государства и
совершенно очевидного пренебрежения интересами своего народа
еще не выяснены в полной мере и по прошествии почти двух деся-
тилетий. Такая политика М. Горбачева и Ко. вызвала недоумение
даже у таких консервативных европейских деятелей, как М. Тэтчер
и Ф. Миттеран, однако получила восторженные оценки со стороны
правоконсервативных кругов Германии: канцлера Г. Коля и иже с
ним.
Мотивирование политики демонтирования послевоенной систе-
мы международных отношений, отказа от ялтинско-потсдамской
системы соглашений соображениями сохранения общечеловеческих
ценностей, как это делал М. Горбачев, не выдерживает серьезной
критики, тем более, что другая сторона, более заинтересованная в
изменении статус-кво, отнюдь не проявила готовности идти на ка-
кие-либо встречные шаги во имя «общечеловеческих ценностей». В
политике имеют силу реальные геополитические и материальные
272
интересы народов и государств, а не благотворительные идеалы
отдельных деятелей. В этом отношении в выигрыше оказались,
вне всяких сомнений, правящие круги ФРГ. Главный итог деятель-
ности М. С. Горбачева и иже с ним - развал великой державы -
Союза ССР.
Ссылки на финансовые жертвы с германской стороны и финан-
совые выгоды, якобы полученные Советским Союзом, абсолютно
несостоятельны. Германская сторона пошла на весьма скромное фи-
нансирование только вывода войск, причем в сроки, установленные
фактически в соответствии с пожеланиями дипломатии ФРГ. Фи-
нансовый вклад ФРГ отнюдь не компенсировал не только матери-
альных потерь советского народа в результате германской агрессии,
но и вынужденного, обусловленного интересами безопасности своей
и своих союзников, оставления войск в Восточной Европе в течение
почти 50 лет. Не говоря уже о потере Советским Союзом самого
значительного экономического партнера в Восточной Европе,
т.е. ГДР.
Весьма характерно, что против излишней поспешности в про-
цессе окончательного урегулирования в отношении Германии пре-
дупреждали главы правительств бывших союзников по войне про-
тив нацистской Германии премьер-министр Великобритании
М. Тэтчер и президент Франции Ф. Миттеран, а также представите-
ли государства Израиль, возникшего, как известно, после разгрома
гитлеровской Германии. Они высказывались против неоправданно
высоких темпов в процессе дипломатического и политического уре-
гулирования, на которых настаивала ФРГ при поддержке США.
Реалисты в политике исходили из необходимости всестороннего
и тщательного взвешивания всех последствий быстрого и резкого
увеличения экономического и военного потенциала Германии. В
результате присоединения ГДР правительство ФРГ получило в свое
распоряжение не только территорию и квалифицированные научные
и трудовые ресурсы, но и накопленные богатства, которые по самым
скромным оценкам достигали полутора триллионов марок.
По существу ФРГ финансировала в объеме 10-12 млрд. марок
только временное пребывание и вывод советских (российских)
войск с германской территории. Что касается выделенных порциями
в три, пять и даже 15 млрд. марок кредитов, то они, судя по всему,
пошли не на производительные цели, а на поддержание режима,
обеспечившего полное очищение германской территории от совет-
ских (российских) войск. На протяжении почти двух десятилетий
после объединения Германии Россия несла бремя выплаты не только
273
кредитов, но и процентов по этим кредитам, т.е. оплачивала собст-
венно процесс объединения Германии. При этом на Россию была
«повешена» задолженность, возникшая в торговле между СССР и
ГДР до объединения Германии и ликвидации самого крупного эко-
номического партнера СССР, а затем и ликвидации самого Союза
ССР.
Советские руководители пошли на окончательное урегулирова-
ние в отношении Германии без выработки и заключения мирного
договора в его классической дипломатической форме. Окончатель-
ное урегулирование проведено так, как если бы вообще не было
германской агрессии и самой второй мировой войны. Величайшая в
истории и самая кровопролитная война в истории человечества
окончена без мирного договора по воле и по вине бывших советских
руководителей. Они пошли на полный демонтаж ялтинско-
потсдамской системы по своей воле, не спрашивая предварительно
мнения ни представительных, ни партийных органов своей страны.
Германская сторона диктовала условия урегулирования, отказав-
шись даже обсуждать возможность мирного договора и репараций,
не говоря даже об ответственности Германии за развязывание вто-
рой мировой войны.
Горби и Ко совершили антинациональный акт, пойдя на уничто-
жение послевоенной системы соглашений и не закрепив в междуна-
родно-правовом порядке даже те посулы и обещания, которые дава-
ли партнеры по переговорам и сделке до окончательного урегулиро-
вания. Наиболее существенным было обязательство, которое США и
ФРГ готовы были взять на себя: не продвигать позиции НАТО на
восток «ни на один дюйм». Почему такое обязательство не было
прямо включено в договор или хотя бы в протокол? Ведь до июня
1990 года даже включение объединенной Германии в НАТО остава-
лось под вопросом, пока М. С. Горбачев не сдал позицию державы,
даже не спросив не только граждан, но и военных специалистов и
опытных дипломатов. В феврале 2007 года перед бывшим президен-
том СССР М. С. Горбачевым был поставлен вопрос, волнующий до
сих пор не только историков, но и общественность: почему в свое
время не закрепили международно-правовым актом обязательство
не расширять НАТО? Ответ звучал довольно просто, если не сказать
примитивно: «А по поводу нераспространения НАТО на Восток, -
заявил М. С. Горбачев, в то время предлагать такое соглашение еще
при «живом» Варшавском договоре?! Это абсурд». (АиФ №8, 2007)
А одновременный роспуск Варшавской оборонительной организа-
274
ции без встречных шагов по роспуску НАТО не был абсурдом? Мо-
жет быть, это совсем «другой вопрос»?!
Усилиями дипломатов в договоре от 12 сентября 1990 г. четко
обозначены пределы распространения НАТО: территория ГДР, да и
то после вывода советских войск, при условии отказа от размещения
на этой территории ядерного оружия. Включение Польши, Венгрии
и Чехии в НАТО со ссылкой на их суверенное право участвовать в
союзах и коалициях следует рассматривать как нарушение условий
германского мирного урегулирования.
Изменение стратегического положения в Европе в ущерб инте-
ресам России - самое тяжелое последствие «окончательного урегу-
лирования» с Германией. В результате включения в НАТО Польши
возможный театр военных действий передвинут стратегами НАТО
на 800 километров от пределов Германии и придвинут к Бресту на р.
Буг. А это - исходная позиция германской агрессии в 1941 г. Как
сказали бы дипломаты, это «статус кво анте беллум». В результате
тактическое оружие обретает (в случае его размещения по усмотре-
нию штабов НАТО) качества оперативно-стратегических сил, угро-
жающих жизненным центрам СНГ, особенно Беларуси и России. В
сочетании с ликвидацией наземных ядерных средств средней даль-
ности на территории России это создает максимально благоприят-
ные условия безопасности для Германии и создает угрозу безопас-
ности России. Вековая мечта германских экспансионистов - оттес-
нить Россию в ее этнические, «исторические» пределы получает во-
площение.
Другим весьма существенным последствием усиления позиций
Германии не только в Центральной, но и в Восточной Европе в ре-
зультате расширения «жизненного пространства» после проигран-
ной войны и увеличения численности населения и экономического
потенциала стало беспрепятственное расширение Европейского
Союза, в котором Германия играет все более влиятельную роль.
Страны Восточной Европы, как уверяют германские публицисты,
«сами просятся» и в Европейский Союз и в НАТО, поскольку готов-
ность к такому участию служит условием не столько предоставле-
ния кредитов, сколько вообще экономического сотрудничества.
Германия все более утверждается в роли доминирующей в Евро-
пе мировой державы, которая великодушно позволяет России по-
ставлять энергетическое сырье (газ и нефть) на выгодных для нее
условиях, однако не склонна допускать на свои рынки российские
промышленные товары ввиду их «неконкурентоспособности», яко-
бы из-за того, что они не выдерживают конкуренции. А когда они
275
способны выдержать конкуренцию, то, как известно, появляется об-
винение в демпинге.
Дамоклов меч долговых обязательств был подвешен над головой
«дорогих россиян». Даже долг по торговым операциям СССР и ГДР
(двух ликвидированных государств) был несколько лет предметом
торга между Германией и Россией.
Позиция М. С. Горбачева в отношении объединения Германии
имела решающее значение не только для инициирования процесса
урегулирования, но и для определения формы и темпов дипломати-
ческих переговоров, выработки основных документов и последова-
тельности их подписания и т.д. Профессиональные дипломаты фак-
тически были безропотными исполнителями указаний генерального
секретаря. Еще действовала традиционная ленинская установка: на-
ша дипломатия подчинена ЦК и «никогда не сорвет наших успехов».
Мнение специалистов, знатоков всего сложного комплекса герман-
ских проблем, таких как В. М. Фалин, который в то время был сек-
ретарем ЦК по международным вопросам, фактически не принима-
лось во внимание. Аргументы со стороны М. С. Горбачева были не-
отразимы: «Процесс пошел...» или «Валя, поезд уже ушел...». Ди-
пломаты помнят наставления, которые еще осенью 1989 г. давал на
словах глава партии: «Если мы потеряем ГДР, народ нам этого не
простит!» (См. Дневник советника-посланника посольства СССР в
Берлине И. Ф. Максимычева «Народ нам не простит». - М., 2002.)
В стороне был оставлен и глава правительства Н. И. Рыжков, ко-
торого противники пытались оскорбить, называя «плачущим боль-
шевиком». Одним из доказательств того, что Н. И. Рыжков оставал-
ся в неведении относительно масштабов того, какие уступки уже
были сделаны М. С. Горбачевым к концу полугодия 1990 г., может
служить документ, хранящийся в «Архиве президента» (точнее, в
архиве ЦК КПСС). Это служебная записка Н. И. Рыжкова от 29 ию-
ня 1990 года, за три дня до введения германской марки (марки ФРГ)
на территории ГДР, где еще стояла почти 400-тысячная Западная
группа советских войск. Н. И. Рыжков в известной степени наивно
ставил вопрос об условиях продолжения экономического сотрудни-
чества с ГДР, а самое главное - был озабочен проблемой выплат в
конвертируемой валюте на содержание советских войск на террито-
рии Германии. Германская дипломатия (уже не ГДР, а ФРГ) тотчас
реагировала предоставлением некоторых сумм на содержание этих
войск, при условии их скорейшего вывода, а также предоставлением
кредитов.
276
Какие мотивы приводит М. С. Горбачев в оправдание своей ус-
тупчивости в отношении нараставших требований канцлера Г. Коля
и его вице и министра иностранных дел Г.-Д. Геншера при полном
пренебрежении мнением главы правительства союзной ГДР? При-
мечательно, что свои соображения и аргументы бывший президент
СССР предпочитал обстоятельно излагать в немецкой аудитории,
будь то перед журналистами или перед деловыми людьми. Видимо,
не случайно в немецкой прессе он был назван «лучшим немцем го-
да». Это было в конце 1990 г.
Примечательно, что почти десять лет спустя вышла книга
М. С. Горбачева «Как это было. Объединение Германии», сначала на
немецком языке и лишь затем на русском, как если бы она была на-
писана на немецком, а затем переведена на русский. Очевидно, что
для него важно, как оценивают его деятельность за границей, а не в
России. Историки имеют основания сказать по поводу титульного
названия книги: Не так это было. В 2006 году увидела свет подборка
документов под названием «Михаил Горбачев и германский во-
прос», составленная А. Галкиным и А. Черняевым, которые написа-
ли и предисловие-апологию, умалчивая о многих существенных
особенностях «личной дипломатии» генерального секретаря. По су-
ществу сборник представляет собой версию А. Черняева - помощ-
ника М. С. Горбачева. Солидный по объему том, к сожалению, не
раскрывает и половину фактического хода событий.
Через пять лет после объединения Германии имела место встре-
ча с Нобелевским лауреатом в редакции немецкого журнала «Дойч-
ланд». В узком кругу симпатизантов М. С. Горбачев откровенно из-
лагал свою версию. Ему был задан вопрос о событиях осени 1989
года, когда произошло крушение Берлинской стены. Высший руко-
водитель державы, подписавшей Четырехстороннее соглашение
вместе с США, Великобританией и Францией, следовательно,
имевший не только права, но и ответственность за Берлин и Герма-
нию в целом, простодушно, как обыватель, рассказал немцам, что в
ночь на 9 ноября 1989 года в Кремле остались только дежурные: «Я
закончил работу в десять часов, уехал на подмосковную дачу и лег
спать. Утром мне сообщили, что произошло. Но знаете, к этому вре-
мени уже было ясно, что процесс пошел».
В советском посольстве в Берлине в ту ночь многие не спали:
они ждали указаний из Москвы относительно дипломатических ша-
гов вместе с другими сигнатариями Четырехстороннего соглашения
по Берлину. Ведь ни ГДР, ни ФРГ не были участниками Четырех-
стороннего соглашения, а ответственность четырех держав еще ос-
277
тавалась в силе. Дело в том, что по каким-то (на деле по вполне оп-
ределенным) полуофициальным каналам М. С. Горбачев уведомил
обер - бургомистра Западного Берлина о том, что советские войска
останутся в казармах при любом развитии событий. Советские ди-
пломаты в Берлине получили из Москвы устную инструкцию: «Как
идет, так пусть и идет!» Их настойчивые попытки получить более
внятное официальное указание увенчались «успехом» лишь через
несколько дней, когда, как говорится, первый этап процесса был за-
вершен: Берлинская стена разрушена.
Ближайший сотрудник генсека А. С. Черняев, очевидно, отражая
настроение «кабинета», сделал в своем дневнике 10 ноября 1989 го-
да такую запись: «Рухнула Берлинская стена. Закончилась целая
эпоха в истории «социалистической системы».
За ПОРП и ВСРП пал Хонеккер. Сегодня пришло сообщение об
«уходе» Дэн Сяопина и Живкова. Остались «наши лучшие друзья»:
Кастро, Чаушеску, Ким Ир Сен, ненавидящие нас яро. Но ГДР, Бер-
линская стена - это главное. Ибо тут уже не о «социализме» речь, а
об изменении мирового соотношения сил, здесь конец Ялты, финал
сталинского наследия и разгрома гитлеровской Германии... Вот что
«наделал» Горбачев. Действительно, оказался велик, потому что
учуял поступь истории и помог ей войти в «естественное русло»1.
В этой записи изложено весьма четкое понимание ситуации и
позиция многолетнего сотрудника высшего органа компартии. Во-
прос заключается только в том, на какой стороне эта позиция. Стиль
историка предельно ясен: «велик», «учуял», «помог»... Итог: конец
Ялты... Остается лишь вопрос: Кто Вы, доктор Черняев? Не Вы ли
как член редколлегии «Вопросов истории» учили историков партий-
ному подходу к истории?
Немецкие журналисты задали М. С. Горбачеву в 1995 году во-
прос: «Согласовывали ли Вы в какой-то мере с руководством ГДР,
что падение стены произойдет именно в эту ночь?» На этот вопрос
М. С. Горбачев дал абсолютно ясный, однозначный ответ: «Нет».
Ему, любителю фактов, как он подчеркивает в своих воспоминани-
ях, не приходит в голову даже мысль, что он был обязан подумать о
том, что там, на территории ГДР в тот момент находились сотни ты-
сяч советских граждан, в том числе граждане в солдатском обмун-
дировании, которые могли отныне путешествовать без виз. Сотни
военнослужащих, как известно, воспользовались этим, чтобы пере-
менить место жительства, а некоторые сумели прихватить с собой
1 «Михаил Горбачев и германский вопрос. - М., 2006. - С. 247.
278
некоторые полезные в военном деле вещи. Горбачев убедительно
говорит об уважении к мнению и настроениям немецкого народа,
почему-то идентифицируя его исключительно с личностью канцлера
Г. Коля, но ничего не говорит о своем уважении к настроениям и
живым воспоминаниям советского народа, к интересам граждан
ГДР. Он убежден, что состоявшееся решение германского вопроса
было единственно верным, более того, оно было «идеальным». «Я
считаю, что мы развязали этот узел идеально». С такой оценкой
трудно согласиться, если не считать идеальным местом пребывания
целой, точнее, развалившейся на части, державы долговую яму на
задворках Европы.
Западные державы «корректно» выполнили свои обязательства
перед М. С. Горбачевым лично: для наглядности этого факта доста-
точно сопоставить две даты: 3 октября 1990 года ликвидирована
ГДР, «новые земли» присоединены к ФРГ на основе Основного за-
кона ФРГ, а 15 октября президенту М. С. Горбачеву присуждена
Нобелевская премия мира.
В промежутке между этими двумя датами были подписаны со-
глашения о переходных мерах в связи с пребыванием советских
войск на германской территории до конца 1994 года. И лишь в нояб-
ре 1990 г. с нобелевским лауреатом подписан т.н. «большой дого-
вор» между СССР и ФРГ. Не надо быть профессиональным юристом
или большим политиком, чтобы понять, что все соглашения по гер-
манскому урегулированию полагалось подписать в «одном пакете»,
а не по частям, в разное время и в разных местах. Определение ста-
туса единого германского урегулирования требовало единого акта,
подписания единого комплекса документов.
Ключевым вопросом германского урегулирования в 1990 году
еще в середине года оставался вопрос о членстве объединенной
Германии в НАТО. Германские дипломаты и слышать не хотели о
нейтралитете Германии, считая это ущемлением суверенитета госу-
дарства. Советская сторона могла еще поставить на обсуждение
возможность французского варианта: участие в Североатлантиче-
ском договоре, но не в военной организации НАТО. На вопрос не-
мецких журналистов, чем он руководствовался, когда согласился на
членство Германии в НАТО, Горбачев, не моргнув глазом, ответст-
вовал: принципом нового мышления. Он признал, что в «перегово-
рах» с президентом Бушем (старшим) «мы» согласились, что объе-
диненная Германия сама должна решать этот вопрос. Однако ди-
пломатами были сделаны существенные оговорки: до вывода совет-
ских войск на территории «новых земель» не будут размещаться
279
войска НАТО, а после их вывода не будет размещаться ядерное
оружие. Но самое главное - западные державы готовы были взять
обязательство не расширять НАТО. «Скажу больше, - признавал
М. С. Горбачев, - существовала устная договоренность, что в буду-
щем сфера действия НАТО не распространится на Восток»1. Почему
эта устная договоренность не была зафиксирована на хорошей бума-
ге, остается загадкой для историков. Каждый студент юридического
или исторического факультета не раз слышал сентенцию диплома-
тов: «То, что не положено на ноты, музыкой не считается». Чего
стоят не только устные, но и письменные обязательства некоторых
держав, дипломированный юрист М. С. Горбачев должен был знать
из элементарного курса истории права.
«Идеальное решение» привело, как известно, через год после за-
вершения процесса объединения Германии к развалу Советского
Союза. В процессе урегулирования вопрос о компенсации матери-
ального ущерба, нанесенного Советскому Союзу в результате гер-
манской агрессии, даже не обсуждался, как не решался и вопрос об
имуществе Советского Союза на территории Германии. «Германия
должна была нести затраты в связи с выводом советских войск, раз-
мещенных в ГДР, их обустройством на родине», - свидетельствует
бывший президент.
Западные наблюдатели, подводившие итоги процесса объедине-
ния Германии, естественно, с позиций соблюдения своих интересов,
тем не менее, отмечали, что линия М. С. Горбачева в германском
урегулировании не обеспечила интересов России. Лондонская газета
«Гардиан» в феврале 1997 г. напечатала статью своего московского
корреспондента Дэвида Хёрста, который уверенно заявил, что де-
монтаж ялтинской системы лишил Россию статуса великой держа-
вы. Причину невыгодных для России изменений он усматривал ре-
зонно в «бездумных уступках» М. С. Горбачева в пользу ФРГ в 1990
году. В этой связи представляют не только исторический, но и поли-
тический интерес записи бесед М. С. Горбачева с госсекретарем
США Джеймсом Бейкером 9 февраля 1990 г. и запись беседы Горба-
чева с федеральным канцлером ФРГ Г. Колем на следующий день -
10 февраля 1990 г.
Как гласит запись беседы, Д. Бейкер настаивал на присутствии
войск США в Европе и после вывода советских войск из Германии.
При этом он выразил понимание необходимости дать определенные
гарантии: «Если Соединенные Штаты будут сохранять в рамках
1 Германия. - 1995. - № 4. - С. 6.
280
НАТО свое присутствие в Германии, то не произойдет распростра-
нение юрисдикции или военного присутствия НАТО ни на один
дюйм в восточном направлении». От имени правительства США
госсекретарь заверил: «Мы считаем, что консультации и обсуждения
в рамках механизма «два плюс четыре» должны дать гарантии того,
что объединение Германии не приведет к распространению военной
организации НАТО на восток». Запись беседы, в которой участвова-
ли также Э. А. Шеварднадзе и А. С. Черняев, хранится в Архиве
Горбачев-Фонда (Фонд № 1, опись № 1) как доказательство личной
дипломатии тогдашнего президента. Остается открытым вопрос,
входило ли в компетенцию президента ведение такого рода личной
дипломатии.
Выписка из записи беседы М. Горбачева с Г. Колем содержит
такие же заверения: «Мы считаем, что НАТО не должна расширять
сферу своего действия. Надо найти здесь разумное урегулирова-
ние» .
Бывший посол США в Москве Джек Мэтлок свидетельствовал,
что в ряде документов было зафиксировано это условие и догово-
ренность не расширять НАТО на восток. Он полагал, что это обяза-
тельство не было юридически оформлено из-за «наивности»
М. С. Горбачева. Правильнее было бы сказать из-за некомпетентно-
сти или халатности, если рассматривать вопрос с точки зрения госу-
дарственных интересов России. Джек Мэтлок, выступая 5 декабря
1996 г. в Бруклинском институте говорил, что расширение НАТО
является «стратегической ошибкой» Запада, основанной на «непо-
нимании менталитета русских». Подтверждая факт, что и США, и
ФРГ дали заверения не расширять НАТО после объединения Герма-
нии, дипломат заявил: «Я был свидетелем этого, и тогда мы обману-
ли русских». Правда, позже он пояснил, что он не говорил слово
«обманули».
Государственный секретарь США Джеймс Бейкер III (Третий,
как он подписывал официальные документы) пытался по-своему
объяснить поведение М. Горбачева во время переговоров по герман-
скому урегулированию. Особенно странным было внезапное согла-
сие Горбачева на участие объединенной Германии в НАТО, вызвав-
шее недоумение президента Буша (старшего) во время беседы в
овальном зале Белого дома в начале июня 1990 года. Позже Дж.
Бейкер говорил: «Позволив Германии принадлежать к НАТО, Гор-
1 НГ. - 1997. - 22 января и НГ. - 1997. - 19 марта. (Последнее со ссыл-
кой на Архив внешней политики России).
281
бачев хотел продвигаться вперед как можно быстрее с тем, чтобы
завоевать полное доверие немцев, которые отныне будут доминиро-
вать в Европе»1.
Еще и весной 1991 г. со стороны Запада давали заверения, что
расширения НАТО не будет. Министр иностранных дел
А. Бессмертных информировал правительство о своей беседе с ми-
нистром иностранных дел Великобритании Дугласом Хэрдом 26
марта 1991 года: «Д. Хэрд заявил об отсутствии в НАТО планов
присоединения стран Восточной и Центральной Европы к Североат-
лантическому договору в той или иной форме» Совершенно очевид-
но, что даже оговорки при ратификации договора об окончательном
урегулировании в отношении Германии и ссылки на «устные дого-
воренности», о которых говорит М. С. Горбачев, было бы достаточ-
но, чтобы позже использовать их как международно-правовые обя-
зательства Запада. Но для такого предвидения высшее должностное
лицо в государстве должно обладать государственным подходом и
не проявлять излишнюю в политике наивность и поспешность, уме-
стную в иной ситуации.
2. Место объединенной Германии в процессе глобализации
Одним из основных факторов решения германской проблемы и
быстрого присоединения к ФРГ другого германского государства
ГДР было динамичное развитие экономики ФРГ на протяжении не-
скольких десятилетий (с некоторыми незначительными спадами) и
особенно успешное преодоление экономических трудностей во вто-
рой половине 80-х годов, после передачи власти в руки коалиции
ХДС/ХСС с Св. ДП и модификации концепции социального рыноч-
ного хозяйства в новых исторических условиях. Тревожный для
германского финансового капитала сигнал - спад темпов прироста
внутреннего валового продукта в 1982 г. всего на один процент -
стал причиной смены правительства без проведения выборов в бун-
дестаг. Благодаря мерам правительства правоцентристской коали-
ции во главе с Г. Колем уже в 1983 году удалось вновь обеспечить
устойчивый прирост ВВП. Сначала в скромных масштабах, всего в
1,9%, а затем в 1984 г. в более значительном объеме в 3,1%, в после-
дующие годы темп прироста несколько замедлился: в 1985 г. он со-
1 Международная жизнь. - 1993. - № 9. - С. 25. Михаил Горбачев и
германский вопрос. - М, 2006. - С. 345.
282
ставил 1,8%, в 1986 г. - 2,2%, а в 1987 г. всего 1,5%. Правда, следует
иметь в виду, от какого уже достигнутого уровня исчислялся этот
скромный процент. В 1987 году внутренний валовый продукт, назы-
ваемый в ФРГ брутто социаль-продуктом, достиг отметки в 2 трил-
лиона марок в текущих ценах.
В годы, предшествовавшие объединению страны, экономика
ФРГ развивалась небывало высоким для 80-х годов темпом: в 1988 г.
прирост составил 3,7%, в 1989 г. - 3,8%, а в 1990 г. - 4,5%. В это
время М. С. Горбачев разъезжал по стране и произносил речи об
«ускорении», «перестройке» и т.п. вместо принятия реальных мер по
развитию экономики и повышению жизненного уровня народа.
Внутренний валовый продукт ФРГ в 1990 году превысил 2,4
триллиона марок в текущих ценах. Если иметь в виду объем ВВП в
текущих ценах, то он увеличился за 80-е годы почти на триллион
марок. Это было, конечно, солидной экономической подготовкой к
инициированию процесса объединения мирными политическими и
дипломатическими средствами.
Уже в 1988 г. германская дипломатия стала готовиться к кризису
в ГДР, о чем министр иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншер предуве-
домил министра иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе. Это
произошло во время открытия сессии ООН в сентябре 1988 г. К это-
му времени западногерманские банки взяли на учет балансы всех
крупных предприятий на территории ГДР, а главное - имеющиеся
на территории ГДР материальные ценности. По самым приблизи-
тельным оценкам, накопленное достояние республики составляло не
менее 1,5 триллионов марок.
В результате присоединения ГДР к ФРГ экономический потен-
циал объединенной Германии, естественно, увеличился, хотя в пер-
вые годы после объединения темп прироста внутреннего валового
продукта несколько замедлился. Во всяком случае валовый соци-
альный продукт Германии в 1992 году составил более 3 триллионов
марок в текущих ценах.
Присоединение ГДР к ФРГ увеличило жизненное пространство,
т.е. территорию, и количество населения, т.е. трудовые ресурсы. Ес-
тественно, расширился внутренний рынок для промышленной про-
дукции. Если площадь собственно ФРГ составляла около 249 тысяч
квадратных километров, то после присоединения ГДР (108 тысяч кв.
км) общая площадь составила почти 357 тысяч кв. км. Население
собственно ФРГ составляло в конце 80-х годов примерно 62 млн.
человек, включая иностранцев. В результате воссоединения оно уве-
личилось до 79 млн. человек. Начавшийся немедленно переезд мо-
283
лодых людей в «старые земли» стал фактором некоторых изменений
в социальной и демографической картине.
Правда, количество населения увеличилось также за счет переез-
да этнических немцев на постоянное жительство в Германию из рес-
публик СНГ, особенно из России и Казахстана, а также из других
стран Восточной Европы. Только в 1990 г. в Германию переехали
400 тысяч человек. За 90-е годы численность населения Германии
возросла до 82 млн. человек, включая иностранцев. Если к началу
90-х годов количество иностранцев в Германии оценивалось в 5 млн.
человек, то в конце 90-х годов оно составило примерно 7,3 млн. че-
ловек. Плотность населения на территории Германии остается до-
вольно высокой: около 230 человек на квадратный километр в сред-
нем, а в отдельных регионах, таких, как Рейнско-Рурский район,
достигает 1100 человек на квадратный километр. Более плотная
численность населения, чем в Германии, отмечается еще только в
трех странах Европы: в Бельгии, Нидерландах и Великобритании.
Не только по промышленному и финансовому потенциалу, но и
по численности населения ФРГ стала в результате присоединения
ГДР самым крупным государством Европы, уступая пока по чис-
ленности населения только такой евразийской державе, как Россия.
Объединенная Германия заняла сравнительно прочные позиции
в Европейском Союзе, созданном в соответствии с Маастрихтским
договором в 1993 г. Другие европейские государства явно уступают
Германии конца XX столетия не только по промышленной и финан-
совой мощи, но и по численности трудовых ресурсов. Из государств,
входивших в «Группу семи» наиболее развитых индустриальных
держав, в конце XX века насчитывали: Италия - примерно 57,6 млн.
человек, Франция - 59,3 млн. чел., Великобритания - 59,5 млн. чел.,
Германия - 82,8 млн. человек.
Соединение экономических и людских потенциалов 27 стран в
Европейском Союзе (при все более возрастающей роли Германии)
стало существенным геополитическим фактором, который будет
определять соотношение сил и международные отношения в новом
столетии. Германия занимает центральное положение в Европе, в
пространстве между Балтикой и Средиземноморьем, и претендует на
роль мировой державы, не обладающей ядерным оружием, отводя
России роль региональной державы, имеющей ядерное оружие.
Серьезным фактором экономического роста и экспансии Герма-
нии остается производство товаров на экспорт, особенно продукции
машиностроения, высокотехнологичных машин и наукоемких при-
боров, электротехники и химических товаров высокого качества.
284
Если учесть численность населения в крупнейших индустриаль-
ных странах и сравнить объемы экспорта промышленных изделий
на мировые рынки, то становится совершенно очевидным, что Гер-
мания - это один из самых значительных экспортеров товаров, осо-
бенно по доле вывозимых на внешние рынки изделий промышлен-
ности. На вывоз идет свыше четверти промышленной продукции
объединенной Германии. Ни одна другая промышленная страна в
мире не вывозит столь значительную часть производимых товаров -
ни Япония, ни США - крупнейшие индустриальные страны.
Объем экспорта США в 1995 году составил около 584 млрд. дол-
ларов, а импорт - свыше 770 млрд. долларов, экспорт Германии -
более 506 млрд. долларов, а импорт почти 442 млрд. долларов; экс-
порт Японии составил 443 млрд. долларов, импорт - 335 млрд. дол-
ларов. Для сравнения отметим, что Россия вывезла в то же время
товаров, главным образом энергетическое сырье (нефть и газ)
на сумму около 65 млрд. долларов, а ввезла товаров на 38 млрд. дол-
ларов.
В середине 90-х годов Германия занимала второе место в мире
по экспорту и импорту товаров после США и третье место в миро-
вом промышленном производстве после США и Японии, тогда, как
Россия в 1995 г. находилась на 20 месте по экспорту и на 26 месте по
импорту товаров. По итогам 2000 года, разумеется, изменились
цифровые показатели, однако соотношение показателей тридцати
основных участников мирового товарооборота осталось примерно
таким же, как в середине 90-х годов, с теми или иными «подвижка-
ми». Товарооборот Германии с другими странами составил в 2000
году сумму 2231,6 млрд. м., по вывозу товаров - 1167,3 млрд. м., по
ввозу- 1065,3 млрд. м.
Прирост внутреннего валового продукта Германии во второй по-
ловине 90-х годов составлял от 1,4% до 3,1% ежегодно, достиг в
1999 г. объема в 3. 730,7 млрд. марок и в 2000 г., по оценкам, при-
близился к отметке в 4 триллиона (3. 982,0 млрд.) марок или 2,680
млрд. долларов (в ценах и по курсу 1995 г.).
Экспорт товаров из Германии вырос в 2000 г. по сравнению с
1999 г. на 17% - с 997,5 млрд. марок до 1167,3 млрд. марок, а им-
порт на 23% - с 869,9 млрд. м. до 1064,3 млрд. м. Активное сальдо
составило таким образом 103 млрд. марок. Самым крупным эконо-
мическим партнером Германии на рубеже веков оставалась Фран-
ция. В первую пятерку партнеров Германии входили также США,
Великобритания, Италия и Нидерланды.
285
В Европейском Союзе Германия играет ведущую роль благодаря
существенной доле в промышленном производстве стран союза. До-
ля стран Евросоюза в совокупном ВВП этой группы стран, по дан-
ным «Бизнес уик», выражается в достаточно ясных показателях.
Вклад Германии составляет 24%, тогда как три следующих за ней
крупных государства вместе вносят вклад в два раза больший: Вели-
кобритания - 18%, Франция - 16,5%, Италия - 13,6%. Остальные
одиннадцать членов союза все вместе давали в конце XX столетия
примерно столько же, сколько одна Германия. Среди них выделя-
лись сравнительно большим вкладом в совокупный ВВП три стра-
ны: Испания (7,1%), Голландия (4,7%) и Швеция (3%). Остальные
семь стран (Бельгия, Австрия, Дания, Финляндия, Греция, Португа-
лия, Ирландия) производили от 1,2% до 2,9% от суммарного ВВП
стран Евросоюза. Замыкал таблицу Люксембург с его 0,03%, однако
с одним из первых мест по доле ВВП на душу населения. Там рост
ВВП определяется не столько материальным производством, сколь-
ко наличием финансовых ресурсов: имеющий много множит богат-
ство свое. Важнейшими торговыми и экономическими партнерами
ФРГ на рубеже веков стали развитые индустриальные страны и
ближайшие соседи, но отнюдь не далекие развивающиеся страны в
Азии, Африке или Латинской Америке. Экспорт промышленной
продукции из Германии идет главным образом в европейские стра-
ны, прежде всего в страны Европейского Союза. Из общей суммы
стоимости экспорта в 1. 167,3 млрд. марок вывоз товаров на рубеже
веков составил: во Францию 133,3 млрд. м., в Великобританию 97,1
млрд. м, в Италию 88,4 млрд. , в Нидерланды 75,2 млрд. м, в Авст-
рию 62,0 млрд. м, в Бельгию 59,1 млрд. м, в Испанию 53,0 млрд. ма-
рок. Особо следует отметить экспорт германских товаров в США и
Японию. Если экспорт в США достиг 119,8 млрд. м., то вывоз това-
ров в Японию был сравнительно невелик: он составлял 25 млрд., т.е.
столько же, сколько в соседнюю Чехию, и в два раза меньше, чем в
Швейцарию (50,1 млрд. м.). Сравнительно невелик был экспорт то-
варов из Германии в Китай (18, 4 млрд. м.), ниже, чем экспорт в
Венгрию (20,1 млрд. м.).
Почти такая же картина с импортом товаров из-за рубежа. Прав-
да, торговый баланс с основными партнерами складывался положи-
тельно для Германии. Она привезла товаров из Франции на 101,7
млрд. м., из Нидерландов на 93,7 млрд., из США на 90,9 млрд., из
Великобритании на 74,0 млрд., из Италии на 70 млрд. марок. Иное
соотношение экспорта и импорта в торговле с Японией и Китаем:
импорт из этих стран по стоимости почти в два раза превышает экс-
286
порт в эти страны (соответственно: 52 млрд. и 36 млрд.), т.е. Герма-
ния шла на пассивный баланс в торговле с этими странами. В списке
крупнейших торговых партнеров не значатся развивающиеся стра-
ны, из которых поступает главным образом сырье, стоимость кото-
рого далеко не достигает уровней стоимости товаров, ввозимых из
развитых стран. Особо отметим, что импорт из стран Восточной Ев-
ропы был сравнительно невелик по германским меркам, но имел
существенное значение для этих стран. Так, Чехия экспортировала в
Германию товаров на 25,2 млрд., а Польша на 23,3 млрд. Для срав-
нения скажем, что Россия, вывозя огромные объемы энергоносите-
лей (газ и нефть), выручала за это почти столько же, сколько Поль-
ша и Чехия каждая, а именно 28,5 млрд., правда, имея активное
сальдо, так как меньше ввозила германских товаров.
Структура экспорта промышленных товаров из Германии отра-
жает картину развития отраслей индустрии. В вывозимой на внеш-
ние рынки продукции транспортные средства составляли по стоимо-
сти наибольший объем: примерно 160 млрд. марок, станки и обору-
дование - 150 млрд., химические товары около 150 млрд., электро-
техника свыше 110 млрд. марок.
Развитие экспортных отраслей определяет увеличение финансо-
вой мощи крупных фирм и концернов, укрепление их позиций на
мировом поприще. Еще в 80-х годах увеличил свою мощь концерн
«Даймлер-Бенц», поглотивший ряд крупных германских фирм, а в
90-х годах объединившийся с автостроительным концерном
«Крайслер». Укрепил свои позиции и автомобильный концерн
«Фольксваген», вышедший на третье место среди крупнейших гер-
манских концернов. Германский авиастроительный концерн «Аэро-
бус» во второй половине 90-х годов потеснил своих конкурентов на
мировом рынке, даже таких мощных гигантов, как «Боинг», получив
в 1998 году 460 твердых заказов на строительство самолетов: от
«Люфтганзы» на 147 машин, от «Эр Франс» на 160 машин и даже от
«Ю. С. Эйер» на 124 машины и другие1. Однако в марте 2007 года
страны Европы были поражены сообщением о том, что концерн
«Эрбас» намерен сократить на 10 тысяч человек персонал своих
предприятий, в том числе в Германии более, чем на 4 тысячи. Объ-
явленная причина такой акции - неудача с разработкой новой моде-
ли пассажирского самолета, под которую получены большие авансы.
Ведущую роль в экономике Германии играют крупные концерны
в отраслях автомобилестроения, электротехники и авиационной
1 Дойчланд. - 1998. - № 6. Приложения. - С. 4-5.
287
промышленности. В первую тройку по объемам годового оборота
входили такие концерны, как «Даймлер-Бенц» (с резиденцией в
Штутгарте), ставший во второй половине 90-х годов транснацио-
нальным концерном «Даймлер-Крайслер», годовой оборот которого
в 1995 году превысил 100 млрд. марок, а число занятых при этом
уменьшилось с 375 тысяч человек до 310 тысяч человек. На второе
место вышел электротехнический концерн «Сименс» (резиденция в
Мюнхене), годовой оборот которого составил 88. 763 млн. марок
при снижении числа занятых с 402 тысяч человек до 373 тысяч. На
третьем месте - акционерное общество «Фольксваген» (резиденция
в Вольфсбурге), которое при снижении числа занятых с 266 тысяч
до 242 тысяч человек увеличило годовой оборот с 77 млрд. до
88. 119 млн. марок. Далее в таблице крупнейших акционерных об-
ществ идут две энергетические фирмы «Феба» и «РВЭ», затем два
химических концерна «Хёхст» и БАСФ с годовым оборотом по 50-
60 млрд. марок каждый. В первую десятку наиболее крупных фирм
входят также БМВ, «Байер АГ», а также холдинг «ФИАГ» (резиден-
ция в Мюнхене). В число крупнейших концернов входят также фир-
ма Тиссен и «Бош». Развитие указанных фирм свидетельствует, что
в Германии идет процесс концентрации капитала в руках крупных
фирм, хотя в индустриальном ландшафте численно преобладают
средние предприятия.
Темп роста внутреннего валового продукта, несомненно, являет-
ся важным показателем эффективности экономической политики
государства. В данном контексте мы рассматриваем этот показатель
для определения экономических последствий присоединения одного
германского государства к другому, т.е. объединения двух госу-
дарств, имеющих общую историю и культуру, общий литературный
и деловой язык, но имевших в течение четырех десятилетий разные
социально-экономические системы. В 1991 году, первом году совме-
стной жизни весси и осси, ВВП собственно ФРГ увеличился в теку-
щих ценах с 2425,5 млрд. марок в 1990 г. до 2631, 2 млрд. марок, а с
учетом новых земель до 2826,6 млрд. марок, т.е. вклад новых земель
оценивался почти в 200 млрд. марок. В следующем 1992 году ВВП
ФРГ составил 2774,9 млрд. марок в текущих ценах (прирост равен
2,2%, а с учетом новых земель 3021,8 млрд. марок в текущих ценах,
т.е. вклад новых земель составил почти 250 млрд. марок. Однако в
1993 году официальная статистика отметила спад ВВП на 1,1%.
Очевидно, это был спад, связанный с крутыми мерами в отношении
предприятий в новых землях. Похоже, что общий прирост в старых
землях не мог покрыть спад «переходного» периода. В 1994 году
288
прирост составил 2,3%, а в 1995 - 1,7%. Однако в 1996 г. отмечено
уменьшение прироста до 0,8%, а начиная с 1997 г. вновь наблюдает-
ся прирост ВВП: в 1997 г. на 1,4%, в 1998 г. на 2,1%, в 1999 г. на
1,6%, наконец в 2000 г. на 3,1%. В среднем ежегодный прирост ВВП
в 90-е годы составил в Германии 1,8%. Этот среднегодовой прирост
был выше, чем прирост ВВП во Франции (1,6%), но ниже, чем в Ве-
ликобритании (2,0%). При этом следует иметь в виду, что если в
Германии в 1999 г. объем ВВП в долларовом исчислении составил
2112 млрд. , то во Франции 1434 млрд. долл., в Великобритании
1423 млрд. долларов. В конце XX столетия Германия (ВВП около 3
трлн. долл.) утвердила свое положение ведущей державы в Европей-
ском Союзе и в Европе вообще и третье место в мире после США
(ВВП в 2000 г. - 9,6 трлн. долл., а в 2005 году - 12,5 трлн. долл.) и
Японии (ВВП в 2000 г.= 2,8 трлн. долл., а в 2005 году - 4,5 трлн.
долл.). Таким образом, не только по темпам роста ВВП, но и по его
абсолютному объему Германия уверенно удерживает ведущую роль
в Европе. Однако по общему объему ВВП на третье место в мире,
занимаемое Германией с ее населением в 82,5 млн. человек, выдви-
гается Китай с его населением численностью почти в 20 раз
большим.
Каково отношение Германии к процессу глобализации? Герма-
ния вовлечена в процесс глобализации и занимает в нем лидирую-
щие позиции. Официальная точка зрения, изложенная в Интернете
на сайте федерального министерства экономики и технологии, сво-
дится к следующим основным положениям.
Глобализация - это давно известное явление, это выход хозяйст-
венных отношений за пределы национальных границ, т.е. интерна-
ционализация хозяйственной жизни, при которой вывоз и ввоз това-
ров определяет экономическое развитие и благосостояние страны.
Федеральное правительство с удовлетворением отмечает, что на ру-
беже столетий превышение вывоза товаров над ввозом из других
стран составило сумму почти в 125 млрд. марок. Германия - одна из
самых мощных стран-экспортеров промышленных товаров. «Гер-
манская экономика за последние 50 лет в особой мере извлекла вы-
году в результате слияния национальных рынков в интернациональ-
ные рынки, особенно в результате европейской интеграции хозяйст-
ва, благодаря притоку иностранного капитала и перемещению рабо-
чей силы», - говорилось в официальном комментарии.
Предприятия, инвесторы и хозяйственные системы вовлечены в
интенсивный международный процесс конкурентной борьбы. Среди
благоприятных условий для этого германская концепция глобализа-
289
ции выделяет четыре фактора: возрастающую либерализацию миро-
вого хозяйства с «открытыми» национальными рынками, рыночный,
хозяйственный курс стран, которые прежде имели государственную
торговлю, стремление «пороговых стран» не отставать в этой гонке,
наконец, новые информационные и коммуникационные технологии.
Германские экономисты-глобалисты подчеркивают также, чем
не является с их точки зрения глобализация: это не спор вокруг бла-
гополучия, это не игра с нулевой суммой. В процессе глобализации,
полагают они, будут неизбежно не только выигравшие, но и проиг-
равшие. Опасение оказаться среди проигравших порождает скепсис
в отношении процесса глобализации. Риск действительно велик, но
чтобы быть среди выигравших, надо просто понять и принять шансы
структурной ломки. Концепция глобализма не терпит протекцио-
низма, ибо всякие барьеры отделяют-де от благополучия. Иначе го-
воря, если не понимаешь и не принимаешь правил поведения, кото-
рые диктует транснациональный финансовый капитал, то ты обре-
чен быть среди проигравших. Так что: «Рус, сдавайся!» Ну а как
быть с Китаем и Индией? Они не могут ступить на порог?
Германские исследователи Г. П. Мартин и X. Шуман в книге
«Западня глобализации», выпущенной в свет в 1996 г., связывают
начало реализации политики глобализма с событием, которое до сих
пор остается незамеченным не только в нашей историографии, но и
в средствах массовой информации: совещание «мировой элиты» в
отеле «Фермонт» в Сан-Франциско в сентябре 1995 года. На этом
собрании «избранных», как сообщают немецкие публицисты, пред-
седателем был бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, бывший
президент СССР М. С. Горбачев, который к тому времени не пред-
ставлял никого из России, кроме фонда своего имени. Он был из-
бран председателем этой встречи 500 самых умных политиков по
рекомендации сильных мира сего (или того!) Маргарет Тэтчер,
Дж. Буша-старшего и Дж. Шульца. Он приветствовал «мировую
элиту» от имени фонда, созданного богатыми американцами и
имевшего штаб-квартиру на территории бывшей военной базы к югу
от Золотых Ворот, недалеко от Силиконовой долины.
Богатые прагматики приняли концепцию «новой цивилизации»,
согласно которой для «нормального» (обеспечивающего сохранение
накопленных богатств, т.е. выгодного для «элиты») функционирова-
ния мировой экономики достаточно 20 процентов населения земли.
Прочее население - это лишние едоки. К формуле «20:80» было до-
290
бавлено введенное Зб. Бжезинским понятие «титтитейнмент»1, кото-
рое определяет судьбу большинства жителей земли, для которых
достаточно простейшего «грудного» питания и кое-каких развлече-
ний («титс» - грудь, дающая молоко, энтертейнмент - развлечение).
Эта циничная концепция мирового развития (не только корыстная,
но и расистская по существу) предполагает, что малая, но «самая
умная» от рождения часть человечества, имеет право владеть всеми
ресурсами земли, лишив большую часть человечества не только
принадлежащих им природных ресурсов, но и самой возможности
своим трудом обеспечивать продолжение жизни на земле.
Реальный результат развития мировой экономики в конце XX
века дает основания для беспокойства большей части народов земли.
Уже в конце XX века государства, имеющие 20% населения, распо-
ряжаются 85% мирового валового продукта и такой же долей капи-
талов, В начале 90-х годов на международной конференции в Рио-
де-Жанейро выявилось, что процветающие 20% стран используют
70% вырабатываемой энергии, 75% обработанных металлов, 85%
потребляемой древесины. Такой уровень потребления, который
обеспечивают себе 20% населения, не может быть достигнуто боль-
шинством человечества никогда - ни теоретически, ни практически.
Модель государства всеобщего благоденствия не может быть
воплощена во всех странах мира. О равномерном распределении
земных благ не может быть и речи. Германские наблюдатели исхо-
дят из того, что «американская модель» не может быть реализована
не только во всех странах, но даже не во всех тех, что причисляют
себя к благополучным. Чтобы сохранить свое благополучие евро-
пейские страны объединились в союз, провозгласив своей целью
обеспечение равного благополучия членам союза. Авторы указанно-
го исследования сделали вывод: «Когда исчезла угроза диктатуры
пролетариата, все силы были брошены на построение диктатуры
всемирного рынка» (цит. соч., с. 27).
Одним из реальных последствий глобализации экономики явля-
ется не только рост потребления меньшинства за счет обнищания
большинства, но и разрушение природной среды даже в этих самых
благополучных странах, а в конечном счете всюду на земле и в ат-
мосфере. Чего стоит забота США о благополучии человечества, сви-
детельствует отказ правительства США от выполнения обязательств
по соглашению, достигнутому в Киото. Экологические проблемы
1 Мартин Г.-П., Шуман X. Западня глобализации. Атака на процветание
и демократию. Пер. с нем. - М., 2001. -С. 17-18.
291
возникают не только из-за истощения ресурсов земли, но главным
образом за счет загрязнения природной среды. Насилие над приро-
дой лишает ее возможности восстановить свои жизненные силы.
Германское общество серьезно занимается проблемами охраны
природной среды, причем на научной основе. В Германии взвеши-
вают и оценивают ущерб, наносимый промышленными выбросами
воздушной среде, водным ресурсам, почве; исчислен даже ущерб
здоровью людей от промышленных и бытовых шумов.
Из блага для 20% населения увеличения количества автомашин,
следуют катастрофические последствия для всех ста процентов на-
селения земли. В конце XX века на ходу имелось примерно 500
миллионов автомобилей, главным образом в богатых странах, в та-
ких, как Германия, Великобритания, Франция, США. В этих странах
один четырехместный автомобиль приходится на двух персон,
включая младенцев. В ближайшие два десятилетия «золотой милли-
ард» будет обладателем миллиарда автомобилей. Если исходить из
того, что каждый автомобиль сжигает как минимум полторы-две
тонны горючего в год, то легко себе представить, какое количество
нефти надо выкачивать из недр и какой ущерб наносит атмосфере
быстрая езда, передвижение индивидов. Естественно возникает во-
прос: куда идет, точнее, куда едет человечество? К этому следует
добавить выбросы промышленных предприятий, создающих «бла-
гополучие» развитых стран, а также загрязнение воздушного про-
странства самолетами. И обеспокоенность «зеленых» в густонасе-
ленной ФРГ становится вполне понятной.
Не менее жестоким следствием глобализации следует признать,
как это делают исследователи, массовую безработицу в самих разви-
тых странах при одновременном использовании дешевой рабочей
силы, труда мигрантов из бедных регионов мира. В Германии ино-
странцы составляют более семи миллионов человек при четырех
миллионах безработных собственных граждан. Для таких густо на-
селенных стран, как Германия, использование труда иностранных
рабочих в случае кризиса может обернуться непредсказуемыми по-
следствиями. Стремление расширить «жизненное пространство»
вновь может быть поставлено в повестку дня мировой политики,
особенно, если третьи страны решатся ограничить доступ к своим
природным ресурсам или хотя бы к коммуникациям. Именно поэто-
му, видимо, поощряются теории преодоления (аннулирования) суве-
ренитета других государств при желании сохранить свой собствен-
ный, отрицания принципа самоопределения наций как устаревшего
и нереального принципа.
292
Сокращение рабочих мест не только в сфере производства това-
ров, но даже в банковском деле именно вследствие глобализации и
компьютеризации представляет собой одну из серьезных проблем
современной социальной жизни в Германии. Глобализация эконо-
мики уже к концу XX века дала такую степень разделения труда,
при которой большинство изделий на мировом рынке включает
компоненты (узлы), произведенные во многих странах. Скажем,
электрооборудование, произведенное в Венгрии, сбывается вместе с
автомобилем, собранным в Германии. Отметка «Мейд ин...» теряет
свой смысл.
Одна из особенностей развития экономики Германии, впрочем,
как и других стран, заключается в том, что при сокращении числа
работников объем продукции и оборот капитала не сокращается, а
увеличивается. Долларизация экономики стран мира сопутствует
процессу глобализации. Вместе с тем наблюдается тенденция ряда
стран сделать свою валюту резервной валютой мирового рынка.
Германия последовательно выступала за введение единой европей-
ской валюты и добилась своей цели. Какие непосредственные и от-
даленные последствия будет иметь введение единой денежной еди-
ницы стран Европейского Союза ЕВРО, остается загадкой даже для
опытных финансистов. Во всяком случае английские финансисты и
правительство предпочитают пока оставаться на позиции сторонне-
го наблюдателя.
Одним из серьезных последствий глобализации по-американски
следует признать обострение проблем сохранения природной среды.
Для Германии, как и для других стран Европы, проблема экологиче-
ской безопасности имеет большую актуальность.
В июле 2001 г. в тогдашней столице ФРГ - Бонне была проведе-
на 6-я конференция стран-участниц «рамочной» конвенции об изме-
нении климата земли. Как известно, представители 180 государств
подписали в 1997 году Киотский протокол об ограничении выброса
парниковых газов. США отказались от выполнения взятых обяза-
тельств, ограничивающих их свободу рук. Япония и Канада поста-
вили свое участие в мерах мирового сообщества в зависимость от
позиции США. Участники Боннской конференции пытались выра-
ботать компромиссное решение для «спасения» Киотского соглаше-
ния, которое предусматривает сокращение выброса промышленных
газов в индустриальных странах в период с 2008 по 2012 гг. мини-
мум на 5% по сравнению с 1990 годом. Федеральный канцлер
Г. Шрёдер оценил итог конференции как успех германской дипло-
матии и лично федерального министра окружающей среды Юргена
293
Триттина. Вступление в силу Киотского протокола после ратифика-
ции его, по крайней мере 55-ю странами, на долю которых прихо-
дится 557с выброса газов в индустриальных странах, могло бы стать
важным шагом к сотрудничеству государств мира по сохранению
природной среды. Министр ФРГ Ю. Триттин выразил надежду, что
скорое вступление в силу Киотского протокола возможно: «Я подго-
товлю все необходимые шаги для того, чтобы Германия вместе с
другими странами ЕС смогла быстро ратифицировать Киотский
протокол»1, - заверил германский министр.
Из краткого обзора экономических позиций Германии видно, на
чем основано желание ее правящих кругов играть большую роль в
мировой политике, взяв на себя большую ответственность за реше-
ние глобальных проблем: участие в миротворческих операциях, в
принятии ответственных решений в ООН, в европейской политике в
рамках ЕС и НАТО. В конце XX столетия Германия утвердила свою
роль ведущей державы в Европе, роль мировой державы со всеми
вытекающими из этого последствиями.
Германия конца XX века представляла собой одну из самых
мощных индустриальных стран мира. Валовый внутренний продукт,
т.е. стоимость всех произведенных за год товаров и оказанных ус-
луг, в 90-х гг. составлял в среднем на душу населения сумму 45 200
марок в год, а доход среднестатистической семьи из 4-х человек в
месяц составил сумму свыше пяти тысяч марок.
3. Социально-политические проблемы
Население Германии в конце XX столетия не сокращалось, как
это имело место в других странах (например, в России - на 800 ты-
сяч в год), а увеличивалось. Это происходило не только за счет есте-
ственного прироста, но и за счет притока из-за границы переселен-
цев из Восточной Европы и из других стран. Приезд иностранцев на
временное проживание в стране и переселение этнических немцев
на постоянное место жительства шло главным образом по экономи-
ческим причинам. Эмигрантов привлекает прежде всего сравнитель-
но высокий уровень жизни, хотя для мигрантов он оказывается ни-
же, чем для коренных жителей вследствие естественно-
исторических причин. Приезжают пролетарии в древнем классиче-
ском смысле слова, т.е. люди, имеющие руки для труда и способные
1 Дойчланд. - 2001. - № 4. - С. 8.
294
дать потомство. Они сохраняют свою культуру и верования, обычаи
и образ жизни, не претендуя на активное участие в общественно-
политической жизни, на какое-либо влияние на культуру страны
пребывания, не говоря о политике.
Приток эмигрантов создает ряд социально-политических про-
блем, связанных не только с необходимостью обеспечить основные
условия для временного проживания людей, но и с интеграцией
эмигрантов в живой организм страны пребывания: изучение языка
страны, образование детей, смешанные браки и т.п. К таким про-
блемам относятся также признание двойного гражданства или прин-
ципов предоставления гражданства, определяющих приобретение
германского гражданства. Если исторически сложившийся принцип
германского гражданства основан на факте рождения в немецкой
семье, где мать и отец этнические немцы или хотя бы один из роди-
телей немецкого происхождения (принцип «крови»), то в современ-
ных условиях приходится применять и принцип «почвы», т.е. опре-
делять гражданство в зависимости от места рождения детей ино-
странных граждан. Родившиеся в Германии дети турецких граждан,
например, могут обрести германское гражданство по рождению. Ус-
ловием обретения германского гражданства становится признание
«свободного демократического строя» по Основному закону ФРГ.
Фактически серьезным ограничителем получения гражданства, даже
въезда в страну для проживания остаются соображения не расового,
а возрастного характера. Предпочтение отдается здоровым ино-
странным гражданам трудоспособного и репродуктивного возраста.
Эти соображения рассчитаны на перспективу. Уже через полтора-
два десятка лет после приезда и натурализации молодых эмигрантов
это станет серьезным экономическим фактором. Можно предполо-
жить, что если имеющиеся тенденции сохранятся, за два десятиле-
тия количество немцев с учетом немецкого населения Австрии и
Швейцарии, может приблизиться к количеству населения России. В
перспективе вполне реальна актуализация проблемы «жизненного
пространства» и жизненно необходимых ресурсов. Индустриальная
страна-экспортер промышленных товаров не может существовать
без сырьевой базы, которой она распоряжается. Дело не только в
энергоносителях, но и в доступе к источникам редких металлов,
особенно легирующих металлов, а также к промышленным алмазам.
Жизненный уровень, если оперировать средними статистиче-
скими показателями относительно семьи из четырех человек, повы-
сился за годы существования ФРГ существенно. В итоге экономиче-
ского чуда доход среднестатистической семьи превысил в 1964 г.
295
900 марок в месяц, а к 1995 году в единой Германии месячный доход
такой семьи достиг 5. 350 марок, т.е. увеличился номинально почти
в 6 раз. Доход семьи из 4-х человек (с учетом детских пособий и
иных социальных выплат) в начале XXI века превысил (брутто)
6 тысяч марок.
В 90-х гг. в Германии происходили изменения не только в на-
циональном составе населения, но и в социальной структуре обще-
ства. Из примерно 82 млн. населения, по данным Федеральной ста-
тистической службы, работающими по найму числились 36 млн. че-
ловек, из них 16 млн. - служащие, 13 млн. - рабочие, а 3,4 млн. че-
ловек самостоятельные предприниматели; 2,5 млн. занято на госу-
дарственной службе. Очевидна тенденция к увеличению числа слу-
жащих, что объясняется изменением характера труда в результате
компьютеризации и экспортной ориентации промышленности.
Сравнительно большое число предпринимателей отражает наличие
большого числа средних и мелких предприятий, которые, конечно,
заняты выполнением заказов крупных предприятий или действуют в
сфере услуг.
Анализ занятости по отраслям и по месту работы показывает
тенденцию к увеличению количества занятых в офисах и сфере ус-
луг: в офисах заняты 4,5 млн. человек, в учреждениях здравоохране-
ния до 2 млн., в торговле примерно 1,5 млн. человек и в социальной
сфере, включая управление и консалтинг, до 1 миллиона. Иностран-
ные рабочие заняты главным образом на трудоемких производствах,
на конвейерах автомобильных заводов, в шахтах, на химических
вредных производствах, а также в сфере услуг, не требующих высо-
кой грамотности на немецком языке (в гостиничном хозяйстве, в
ресторанах, на кухне, на мойке посуды в вечернее и ночное время,
уборке мусора и т.п.). Наряду с 3-4 млн. иностранных рабочих, так
сказать временного «текущего» контингента (хотя многие из ино-
странных рабочих находятся в стране по несколько лет), за 90-е го-
ды число безработных немцев возросло до более чем 4 млн. человек.
Если в благословенном 1990 году в собственно ФРГ в старых землях
на 28 миллионов работающих приходилось более 1830 тысяч безра-
ботных, а уровень безработицы составлял 7,2%, то в 1995 году на
примерно 35 миллионов работающих приходилось 3 млн. 600 тысяч
безработных, а уровень безработицы был около 9,5%. Число безра-
ботных в объединенной Германии увеличилось главным образом за
счет трудящихся бывшей ГДР, где было уволено большое число го-
сударственных служащих, а также работников предприятий, под-
296
вергшихся «санированию» и искусственному (произвольному) бан-
кротству из-за «нерентабельности» и конкурентных соображений.
Социальное отчуждение немцев в двух частях единого государ-
ства усугублялось ликвидацией многих общественных организаций,
где были заняты на основной работе многие квалифицированные
служащие, а также увольнением и досрочной отправкой на пенсию
многих профессоров и доцентов высших учебных заведений, без
конкурсов или каких-либо обоснований. Этот метод освобождения
от работы был назван непереводимым и не очень понятным даже
немцам термином «абвиклунг». Нет основания говорить, что все
уволенные бедствуют и голодают, однако ущемление прав граждан
бывшей ГДР очевидно. Это получило выражение как бы в спонтан-
ном делении граждан единой ФРГ на две категории: жителей «ста-
рых» земель стали величать «весси», а бывших граждан ГДР «осси».
Социальная несправедливость и ущемление прав человека заключа-
ется, однако, не только в таком условном делении, но и неравной
оплате труда на совершенно одинаковых должностях и при одина-
ковой квалификации. Различие наблюдается не только по землям
или предприятиям, но и в одном и том же учреждении в «новых»
землях: приезжий «весси» получает зарплату выше, чем его коллега
«осси» на одной и той же должности, причем разница в зарплате со-
ставляет от 18 до 30 процентов. Положение «осси» осложняется
также тем, что теперь они вынуждены платить за свое старое жилье
квартплату в несколько раз большую, чем платили прежде. Правда,
идет модернизация жилья новыми хозяевами жилых кварталов, ко-
торые были скуплены крупными банками и фирмами в начале 90-х
годов, а теперь продаются по ценам, недоступным не только для
безработных и пенсионеров, но и для работающих «осси». Скром-
ные дачные участки за городом также стали проблемой для «осси»,
причем не только из-за претензий прежних землевладельцев нацист-
ского времени, но из-за непомерно высоких налогов, которые введе-
ны новыми властями.
Квота безработицы в восточных землях значительно выше тако-
вой в западных землях, в некоторых районах она достигает 16-19
процентов. Все эти и некоторые другие обстоятельства и являются
причиной того, что в течение более десяти лет не достигнуто «внут-
реннее» единство немцев как граждан единого государства, не гово-
ря уже о морально-политическом единстве. Во второй половине 90-х
годов проблема занятости продолжала оставаться главной социаль-
ной проблемой, имевшей принципиальное значение в избирательной
кампании 1998 года. Несмотря на значительные инвестиции, в но-
297
вых землях ФРГ количество безработных в стране в целом и новых
землях в особенности продолжало увеличиваться: в 1996 г. оно со-
ставляло 3 млн. 550 тысяч человек, в 1997 г. уже 4 млн. 380 тысяч, а
в 1998 году достигло рекордной цифры 4 млн. 420 тысяч человек. За
время правления красно-зеленой коалиции удалось несколько сни-
зить количество безработных: на сентябрь 2001 г. оно составило
3. 740 тыс. чел. Однако дальнейшее снижение уровня безработных
представляется весьма проблематичным. Сторонние наблюдатели
иногда предлагают такое простое решение: отправить всех ино-
странцев по домам, на свою родину, а немцам предложить их рабо-
чие места. Однако это примитивное суждение неприемлемо для со-
временной индустриальной страны, если она не намерена оказаться
в состоянии хаоса и кризиса. Простое решение в условиях Германии
невозможно. Безработными сегодня в Германии оказались или ква-
лифицированные работники, или подрастающие образованные лю-
ди, которые хотят получить работу по полученной специальности.
Государство выплачивает пособие по безработице тем, кто работал
и потерял работу, чтобы они могли приобрести другую специаль-
ность.
Правительство ФРГ во главе с федеральным канцлером
Г. Шрёдером получило в 1998 году в наследство большую проблему.
В течение двух лет после прихода к власти, в 1998-2000 гг. оно пы-
талось решить проблему созданием новых рабочих мест. Некоторые
сдвиги имели место, однако проблема не была решена.
Было бы неверно считать, что ФРГ, присоединив к себе ГДР или
«новые» земли, не предприняло мер для модернизации экономики и
подъема жизненного уровня. Однако первоначальные предположе-
ния и публичные обещания превратить новые земли в процветаю-
щий ландшафт не оправдались. Многие наблюдатели полагали, что
для такой мощной экономики, какой обладает ФРГ, будет достаточ-
но пяти лет, чтобы выровнять и уровень развития, и жизненный уро-
вень населения. Этого не удалось достичь и за десять лет даже ценой
больших финансовых вложений. Одна из основных причин такого
развития заключается, очевидно, в том, что новые власти пошли не
по пути улучшения работы имеющихся предприятий, а по пути лик-
видации работающих предприятий и соответственно рабочих мест,
можно сказать, массовой приватизации, и лишь затем создания но-
вых рабочих мест. Это стало причиной массовой безработицы в но-
вых землях. Если к 1990 г. в промышленности ГДР было занято
2 млн. 800 тысяч человек, то к середине 90-х гг. (1994 г.) количество
занятых составило всего 640 тысяч человек. В сельском хозяйстве
298
число занятых сократилось с 800 тыс. до 160 тыс. человек. К этому
времени количество безработных в Германии в целом достигло
4-хмиллионной отметки. Только по мере инвестирования в предпри-
ятия новых земель создавались рабочие места уже новыми хозяевами.
Ведомство по опеке, созданное сразу после объединения властя-
ми ФРГ для санации и приватизации предприятий на территории
ГДР, действовавшее до 31 декабря 1994 г. под руководством
Д. Роведдера, осуществило довольно крутые меры в отношении взя-
тых на учет 8 тысяч предприятий в новых землях. Хотя первона-
чально правительство Г. Коля заверяло бундесбюргеров, что повы-
шения налогов из-за присоединения ГДР не произойдет, тем не ме-
нее уже вскоре жители старых земель ощутили последствия объеди-
нения в виде «взносов солидарности», что стало одной из причин
социальной напряженности, отчуждения в отношениях между «вес-
си» и «осси». Правительство направило на нужды новых земель уже
в 1991 г. 133,5 млрд. марок, в 1992 г. - 162 млрд., в 1993 г. - 178,5
млрд., в 1994 г. - 180 млрд., наконец в 1995 г. - 194 млрд. марок. Ра-
зумеется, эти средства направлялись не на потребление, не на про-
едание, а на развитие экономики, в значительной части на строи-
тельство в Берлине. В последующие годы суммы вложений в «Ауф-
бау Ост» - строительство на востоке несколько уменьшились, а по-
том вновь возросли и достигли в 1999 году почти 200 млрд. марок. В
общей сложности освоение и интеграция новых земель потребовала
за 10 лет от правительства ФРГ изыскания крупной суммы в 1 трил-
лион 569 млрд. марок. Что означала на этом фоне сумма на вывод
российских войск и даже вся сумма кредитов Советскому Союзу и
России, нетрудно себе представить, особенно если иметь в виду, что
в 1990 г. основные фонды ГДР в виде предприятий, жилых домов,
социальных учреждений, транспорта составляла не менее 1 трил-
лиона 400 млрд. марок. 1
«Строительство на востоке» в 90-е годы имело существенные
масштабы не только в Берлине, который был объявлен столицей в
итоге объединения, но и в других землях. Бюджет ФРГ предусмат-
ривал ежегодно по десять миллиардов марок на строительство авто-
дорог, в частности в новых землях, на модернизацию линий связи и
расширение телефонной сети (количество абонентов в новых землях
увеличилось почти в четыре раза) с 1,8 млн. единиц до 8 млн., на
обновление железных дорог (модернизировано около 5 тысяч кило-
метров дорог). Наконец, модернизировано до 5 миллионов квартир,
1 Дойчланд. - 1999. - № 5. - С. 8.
299
что, правда, имело следствием существенное повышение квартирной
платы, особенно в Берлине. Приватизация имела действительно мас-
совый характер: если в ГДР насчитывали около 10 тысяч частных
предприятий, то к концу 90-х годов в новых землях имелось до 500
тысяч мелких частных предпринимателей. Известный публицист
Тео Зоммер отметил в конце 90-х годов: «Всемирная история не
знала более масштабной программы помощи, чем та, которая ис-
пользуется для подъема экономики на востоке Германии»1.
В 90-х годах имела место заметная внутригерманская миграция
населения. Многие молодые жители новых земель переехали в за-
падные города в поисках благополучия и счастья. В результате за
90-е годы численность населения в ГДР уменьшилась на 800 тысяч
человек (с 16 млн. в 1990 г.). Казалось бы, при столь значительных
вложениях должен измениться быстро в лучшую сторону и жизнен-
ный уровень населения. Оценки властей и граждан, естественно,
расходятся. Власти оценивали жизненный уровень жителей востока
к 1990 г. примерно в 40% от западного уровня, что, конечно, было
занижением реального уровня, если иметь в виду существовавшую в
ГДР систему социальных учреждений, медицинского обслуживания,
образования. Официальные власти утверждают, что им удалось в
течение 90-х годов поднять жизненный уровень до 80% от среднего
западного. Однако осси считают, что это не соответствует действи-
тельности, т.к. не учитывает изменение структуры расходов. Если
средний уровень доходов средней статистической семьи из 4 чело-
век в собственно ФРГ в 90-х годах превышал 5 тысяч марок, то до-
ходы семей в новых землях, по оценкам, не достигли 4 тысяч марок.
Официально признано, что средняя заработная плата работающих по
найму в новых землях на 30 процентов ниже оплаты работников та-
кой же квалификации на западе. Правда, если на чашу весов благо-
состояния условно положить автомобиль, то представление о благо-
получии немцев и на востоке может измениться. Количество авто-
мобилей в новых землях почти удвоилось (с 3,9 млн. авто оно уве-
личилось до 7 млн. штук) при заметном повышении качества. К
концу 90-х годов при общем количестве автомобилей в личном
пользовании и владении почти в 43 миллиона (42840 тысяч) единиц
(более 500 авто на тысячу жителей) в новых землях на дорогах пре-
обладали не «Вартбурги», а «Фольксвагены», «БМВ», «Опели» и
«Порше».
1 Романов С.Л. Новые федеральные земли в зеркале германского един-
ства. - М., 2000. - С. 13-19.
300
В результате объединения Германии расширился внутренний
рынок для западногерманских фирм и, казалось бы, должен умень-
шиться их интерес к «единому рынку» Европейского Союза. На деле
эти процессы идут параллельно. К тому же вклад новых земель в
ВВП увеличивает экспортный потенциал, особенно новых отраслей
промышленности: полупроводники, информатика, биотехнологии, а
также традиционных отраслей - машиностроения, химии, оптики, в
частности, всемирно известной фирмы «Цейс».
Политические круги ФРГ сетуют на то, что за десять лет не уда-
лось достичь «внутреннего единства» немцев на западе и на востоке
Германии. Если до объединения западногерманская пресса часто
напоминала, что 14 миллионов бундесбюргеров имеют родственни-
ков в другой части страны, то после объединения органы юстиции
ФРГ стали выявлять агентов «штази» - секретных служб ГДР и от-
кровенно подвергать судебному преследованию государственных
служащих, партийных и общественных деятелей ГДР, не ограничи-
ваясь увольнениями и досрочным назначением пенсии военнослу-
жащим, дипломатам, просто служащим. По данным на конец 2000
года, обвинения в «измене родине» выдвинуты против почти 7 ты-
сяч сотрудников разведки ГДР. По сотням из них вынесены обвини-
тельные приговоры, вплоть до 12 лет тюремного заключения. Ре-
прессивные меры против служащих пограничной охраны начали
применять еще с сентября 1990 г. Сотни из них осуждены на тюрем-
ное заключение, большие денежные штрафы и должны были опла-
чивать даже судебные издержки.
Общественность Германии возлагает ответственность за массо-
вые репрессии против граждан ГДР на бывших советских руководи-
телей, которые не стали даже ставить вопрос о «правах человека»,
правах граждан ГДР в ходе переговоров об условиях объединения.
В ходе переговоров об окончательном урегулировании с Герма-
нией в 1990 г. федеральный канцлер Г.Коль по своей инициативе
поставил перед М. С. Горбачевым вопрос о том, как быть с функ-
ционерами ГДР после включения республики в состав ФРГ: может
быть у советских руководителей имеются пожелания относительно
судьбы их друзей? Можно было понять Г. Коля в том смысле, что
власти ФРГ учтут пожелания советской стороны и не станут подвер-
гать уголовному преследованию государственных и партийных ра-
ботников ГДР. Такой разговор имел место, в частности, во время
бесед Г. Коля с М. Горбачевым в Ставрополье в июле 1990 г. Каза-
лось бы, если речь шла об объединении двух суверенных госу-
дарств-членов ООН, ответ должен быть один: с гражданами другого
301
германского государства надлежит обращаться в соответствии с ме-
ждународным правом, т.е. договорами между государствами и уста-
вом ООН, а также в соответствии с законами того государства, гра-
жданами которого они являлись до момента вхождения в состав
другого германского государства. Однако, как свидетельствуют
многочисленные источники (см., например, журнал «Шпигель» за
1993 г., № 39), М. Горбачев ответил на прямо поставленный вопрос
в том смысле, что немцы - «цивилизованная нация» - сами разбе-
рутся в этом деле.
Между тем, дело касалось судьбы сотен тысяч государственных
служащих ГДР и десятков тысяч сотрудников специальных служб,
так называемых «штази», которые действовали в интересах своего
государства в тесном контакте с советскими специальными служба-
ми. Одна зарубежная сеть сотрудников главного управления «А» -
внешней разведки насчитывала 38 тысяч агентов, в том числе и гра-
ждан ФРГ. В центральном аппарате работали более 4 тысяч сотруд-
ников, а всего в спецслужбах ГДР на конец 1989 года работали 102
тысячи человек. Лишь некоторые операции разведслужб ГДР стали
известны в результате громких провалов, в частности «дело Гийома»
и его супруги Кристель, а также «дело Габриэлы Гаст», которая,
внедрившись в БНД в 1973 г., работала на ГДР бескорыстно, по
идейным мотивам. Как квалифицированный аналитик она составля-
ла сводки разведданных для самого канцлера Г. Коля, была выявле-
на и осуждена в декабре 1991 г. на 6 лет и 9 месяцев тюрьмы. Много
лет разведку ГДР возглавлял легендарный Маркус Вольф-Миша,
один из сыновей известного антифашиста, кинорежиссера Фридриха
Вольфа, жившего в эмиграции в Москве и снявшего известный в
предвоенные годы кинофильм «Профессор Мамлок». После объеди-
нения ГДР и ФРГ Маркус Вольф написал несколько книг, в том чис-
ле о причинах кризиса в ГДР: книгу «По собственному заданию.
Признания и раздумья», изданную в Москве в 1992 году на русском
языке.
Служба безопасности ГДР прекратила свою деятельность еще в
конце мая 1990 г., т.е. до «окончательного урегулирования» и акта
объединения. Военная разведка ГДР дала своим агентам сигнал «от-
бой», хотя на территории ГДР еще до августа того же года продол-
жали действовать 250 агентов ЦРУ и РУМО США, а также до четы-
рех тысяч агентов БНД. После объединения Германии спецслужбы
ФРГ и США провели на территории бывшей ГДР операцию «Жи-
раф», которая стоила многих потерь Западной группе войск Совет-
ского Союза.
302
Уже в 1990 г. в Берлине была учреждена «Специальная прокура-
тура», которая приступила к преследованию должностных лиц ГДР.
По обвинению в «измене родине» были возбуждены уголовные дела
в отношении почти семи тысяч сотрудников разведки, а также про-
тив высших офицеров пограничных войск. С сентября 1990 по сен-
тябрь 2000 гг. возбуждено судебное преследование против 500 по-
граничников, большинство из них были признаны виновными в ги-
бели людей при нелегальном переходе государственной границы.
Среди репрессированных генерал-полковник К. Баумгартен, генера-
лы К. Леонхарт, Г. Лоренц, X. Тиме, Д. Тайхман и другие. Правовая
несостоятельность судебного преследования граждан, служивших
по законам другого государства, очевидна. Курьезно выглядит ре-
шение германской Фемиды, которая к 10-летию объединения Гер-
мании освободила от наказания бывшего партийного функционера в
Берлине Гюнтера Шабовски, который объявил в ноябре 1989 г. об
открытии границы в Берлине. Одновременно власти ФРГ направили
в тюрьму в Плётцензее Эгона Кренца, который председательствовал
на заседании политбюро, на котором было принято то самое истори-
ческое решение.
При окончательном определении международного статуса в
1990 г. Германия взяла обязательство сократить свои вооруженные
силы до 370 тысяч человек.
Выполняя взятое на себя обязательство, ФРГ сократила свои
вооруженные силы до уровня даже ниже обусловленного: уже к
1995 г.
4. Выборы в бундестаг 1998 года и создание
«красно-зеленой» коалиции
Политические партии Германии начали подготовку к очередным
выборам в бундестаг заблаговременно, по крайней мере, за год до
намеченного срока выборов - 27 сентября 1998 г. Правящая партия
ХДС провела свой съезд в октябре 1997 г. в Ганновере. Обе круп-
нейшие партии, реально оценивая социально-экономические про-
блемы страны, особенно самую болезненную из них - массовую
безработицу, достигшую к началу 1998 г. почти 4,5 млн. уровня,
разрабатывают проекты решения проблем не сегодня, а в будущем.
Лозунг обновления и перемен на пороге XXI века обе политические
силы использовали как опытные прагматики, пытаясь внушить из-
бирателям, что именно их партия способна решать масштабные за-
дачи.
303
ХДС делал ставку на реальные достижения 16-летнего правле-
ния, особенно на исторический факт объединения нации, стабиль-
ность сложившейся системы, неуклонный экономический рост и со-
ответствующее качество жизни без социальных потрясений, даже в
новых землях, куда вложены уже немалые средства. Г. Коль загодя
объявил о своем намерении выставить свою кандидатуру на пост
канцлера на новый срок, не преминув упомянуть под одобрение ау-
дитории, что хотел бы видеть своим преемником тогдашнего главу
фракции в бундестаге Вольфганга Шойбле. Дело в том, что в рядах
партии усиливались настроения в пользу смены лидера к 2000 г. В
частности, глава земельной организации ХДС в Гамбурге Оле фон
Бойст откровенно предлагал Г. Колю не засиживаться в канцлерском
кресле. Такие же настроения высказывал давний оппонент канцлера
- заместитель главы фракции в бундестаге Хайнер Гайслер. Наблю-
датели размышляли о том, не является ли заявление Г. Коля такти-
кой предвыборной борьбы, сводящейся к тому, чтобы, победив на
выборах, передать бразды правления в руки представителя своей
партии, или он всерьез, побив рекорд К. Аденауэра, который стал
канцлером в 73 года и оставался в кресле 14 лет, намерен установить
свой рекорд.
Социал-демократы, находясь в оппозиции полтора десятилетия,
имели время думать о будущем и разрабатывать проекты, которые
носят конструктивное содержание, причем лидеры СДПГ должны
были учитывать интересы своего социального базиса и в то же вре-
мя понравиться финансистам и промышленникам. Экономическая
концепция социал-демократов предполагала увеличение инвестиций
в развитие науки и современных технологий с целью повышения
конкурентоспособности товаров германской индустрии на мировом
рынке. В то же время СДПГ выражала готовность содействовать
развитию средних и мелких предприятий, которые дают добрую по-
ловину промышленной продукции и обеспечивают занятость значи-
тельной части работающих по найму.
Начав съездом в Ганновере предвыборную кампанию, социал-
демократы, однако, не назвали своего кандидата в канцлеры. Пред-
седателем партии тогда был Оскар Лафонтен - популярный оратор,
образованный политик, политический «внук» Вилли Брандта, пре-
мьер-министр «малой земли» Саарланда, автор книги «Общество
будущего. Политика реформ в изменившемся мире»1. Он уже пробо-
1 Лафонтен Оскар. Общество будущего. Политика реформ в изменив-
шемся мире. Пер. с немецкого. - М., 1990.
304
вал свои силы в 1990 г. в соревновании с Г. Колем, но не смог одо-
леть корпулентного соперника. Большие шансы имел другой попу-
лярный в партии политик, премьер-министр отнюдь не самой круп-
ной, но и не самой малой земли Нижней Саксонии Герхард Шредер
(1944 года рождения), которому предстояло предварительное испы-
тание уже весной 1998 г. на очередных выборах в своей провинции,
на выборах в земельный парламент - ландтаг.
На «зимней конференции» Св. ДП, состоявшейся в январе 1998
г. в Штуттгарте, внутри либеральной партии выявились критические
настроения в отношении «богатых дядюшек», заправлявших делами
в правительстве, не очень считаясь с мнением партнера по коалиции.
Некоторые наблюдатели, например, из фракции Союз-90/зеленые,
усматривали в итогах съезда либералов «панику», а христианские
демократы упрекали партнера по коалиции в «авантюризме» и «про-
вокациях», имея в виду выступления отдельных представителей
этой партии. Было трудно сказать, имеются ли серьезные расхожде-
ния между партнерами по коалиции или это всего лишь торг перед
выборами. Но ХДС имела в виду и партнерство с СДПГ, с которой,
однако, не удалось достичь компромисса по вопросу о реформе на-
логовой системы.
Что касается радикальных оппозиционных партий в левых рядах
парламента, то они, как это часто было в германской истории, не
могли достичь единства, выработать общую платформу ни между
собой, ни с оппортунистической социал-демократией. Что касается
шансов зеленых, то они в значительной степени понижались в силу
того, что правительство учитывало критику и настроения избирате-
лей, принимало меры для охраны природной среды родного фатер-
ланда, для предотвращения загрязнения природной среды (атмосфе-
ры, воды и земли). «Весси» все еще подтрунивали над наследниками
опыта СЕПГ, что они хотели бы «жить как на Западе, а работать как
на Востоке», что они не хотят клеймить тоталитарное прошлое, хотя
на самом деле в ПДС остались люди, верные идеалам не бюрократи-
ческого, а демократического социализма. Лидеры СДПГ были
склонны видеть в ПДС не потенциального союзника, а конкурента в
борьбе за влияние на широкие слои избирателей, особенно в восточ-
ных землях.
Численный состав парламентских партий в Германии в конце 90-х
годов выглядел следующим образом. Количество членов правящей
клерикальной партии ХДС уменьшилось в сравнении с лучшими
временами: с 735 тысяч в 1983 г. (год получения от избирателей
мандата на власть) до 685 тыс. в 1997 г. Правда, численность дочер-
305
ней организации в Баварии сохранялась на достаточно высоком
уровне: 185 тыс. членов в 1983 г. и 178 тысяч членов в 1997 г. Воз-
главлял ХСС министр финансов в коалиционном правительстве Тео
Вайгель. Партнер по коалиции - либеральная Св. ДП - после из-
вестных потерь в 1983 г. и позже (спад до 65 тысяч в 1987 г.) увели-
чила свою численность к 1995 г. до 94 тысяч членов. В июне 1995 г.
(после отказа К. Кинкеля баллотироваться на пост председателя из-
бран В. Герхардт - деятель менее известный не только в Европе, но
и в Германии. Партия Союз-90/зеленые, опиравшаяся на молодую
интеллигенцию, насчитывала примерно 40 тысяч членов, но оказы-
вала большое влияние на студентов, на молодежь вообще. Что каса-
ется ПДС, то в ее рядах остались бывшие члены СЕПГ, правда, чис-
ленность партии существенно сократилась: в 1997 г. она насчитыва-
ла 135 тысяч членов, главным образом или почти исключительно в
восточных землях. Партия образовала в бундестаге парламентскую
группу, которую возглавил Грегор Гизи. Председателем партии стал
Л. Виски. Такова объективная картина численного состава парла-
ментских партий. Каково их реальное влияние на избирателей (а оно
зависит не только от численности самой партии), получило отраже-
ние в результатах очередных выборов в бундестаг 14-й легислатуры
в сентябре 1998 г.
Выборы в Германский бундестаг 14-й легислатуры (созыва) 27
сентября 1998 г. показали существенные изменения в настроениях и
ожиданиях «осси» и «весси» в объединенной Германии. Это были
третьи общегерманские выборы в законодательный орган страны и
проходили при довольно высокой политической активности населе-
ния, которая вообще характерна для этой страны. Из 60,7 миллионов
граждан, имеющих право голоса, в выборах 1998 г. приняли участие
82,2% избирателей, что на 3,3% больше чем на предыдущих выбо-
рах в 1994 г. Исход выборов в Германии в конце столетия заметно
изменил политический ландшафт правового государства.
Партия ХДС во главе с Г. Колем, баварская партия христианских
демократов ХСС во главе с Т. Вайгелем и их партнер по коалиции
либеральная партия крупного капитала Св. ДП во главе с
В. Герхардтом понесли существенные потери голосов и соответст-
венно мандатов в бундестаге. Блок ХДС/ХСС получил лишь 35,1%
голосов и 245 мест в бундестаге, потеряв 6,2% голосов в сравнении с
1994 годом. Многолетний партнер по коалиции Св. ДП получил
6,2% голосов от общего числа голосовавших, что дало партии 43
места в бундестаге. Общего числа мандатов этих партий оказалось
306
далеко не достаточно, чтобы претендовать на формирование коали-
ционного правительства.
Социал-демократическая партия Германии, выдвинувшая канди-
датом на место федерального канцлера 53-летнего премьера земли
Нижняя Саксония, добилась внушительного успеха, получив 40,9%
голосов избирателей и 298 мандатов в бундестаге. Однако и такой
несомненный рост доверия не дал этой партии легитимной основы
для формирования в одиночку федерального правительства. В этой
ситуации приобрела заметную роль небольшая по численности, но
весьма активная партия, или точнее, избирательный блок под назва-
нием «Союз-90/зеленые», которая на фланге левее центра стала иг-
рать роль общественно-политического баланса, дающего новой пра-
вительственной коалиции перевес, по крайней мере, в 21 голос. Чис-
ло сторонников этого блока возросло на 4,5%, и он получил 6,7% от
общего числа голосовавших в общефедеральном масштабе. «Зеле-
ные» получили в бундестаге 47 мест.
Несомненного успеха добилась на выборах Партия демократиче-
ского социализма, наследница и преемница СЕПГ. Ей удалось не
только провести четырех депутатов (как это было на выборах 1994
г.) с «прямыми» мандатами от берлинских округов, но и преодолеть
пятипроцентный барьер в общефедеральном измерении: 5,1% изби-
рателей ФРГ отдали свои голоса этой партии «регионального» мас-
штаба, которая, однако, в свой партийный список включила канди-
датов в депутаты и из западных земель. ПДС получила в новом со-
ставе бундестага 36 мест и право формирования отдельной фракции.
Успех ПДС объясняется тем, что она последовательно выступает в
защиту прав не только жителей «новых» земель, но и жизненных
интересов людей труда. Видимо, не случайно, в числе депутатов от
ПДС более 20 женщин.
Драматическое поражение христианских демократов во главе с
Г.Колем после 16 лет успешного управления страной некоторые
наблюдатели склонны были считать нелогичным. На первый взгляд
это действительно так. Ведь канцлерство Г. Коля было довольно ре-
зультативным и с точки зрения экономического роста, укрепления
позиций страны на мировом поприще в итоге окончательного мир-
ного урегулирования, восстановления полного суверенитета в ре-
зультате вывода иностранных (российских) войск с германской тер-
ритории. Однако германские избиратели, терпеливо ждавшие вы-
полнения обещаний канцлера германского единства в течение двух
легислатурных периодов (1990-1994 гг. и 1994-1998 гг.), ясно вы-
разили свою неудовлетворенность тем, что так и не были выполне-
307
ны обещания превратить новые земли в «цветущий ландшафт», су-
щественно улучшить условия жизни и, самое главное - обеспечить
граждан работой.
Необходимость кардинальных экономических и социальных пе-
ремен, осознанная и ясно выраженная молодым перспективным по-
литиком Герхардом Шредером, получила поддержку большинства.
Основная задача, которую было намерено решать новое федераль-
ное правительство, заключается в обеспечении экономического рос-
та, создания новых рабочих мест для немцев, уменьшение безрабо-
тицы, выравнивание уровней благосостояния граждан на всей тер-
ритории Германии. В области внешней политики, в том числе в от-
ношениях Германии с Россией, видимо, наряду с преемственностью
курса можно было ожидать инициатив по использованию тенденций
к интеграции и к общеевропейскому сотрудничеству.
Германский бундестаг нового созыва (14-й легислатуры) 27 ок-
тября 1998 г. избрал федеральным канцлером 54-летнего Герхарда
Шредера. Из 666 депутатов, принявших участие в голосовании, 351
голосовали за нового (седьмого в истории ФРГ) канцлера. Герхард
Фриц Курт Шредер - «человек из народа», родился в 1944 г. и вырос
в Нижней Саксонии, где он, рано начав свою трудовую деятель-
ность, зарекомендовал себя как энергичный и перспективный поли-
тик. Еще будучи студентом, он активно включился в работу органи-
зации «Молодые социалисты» («Юзос»), а затем, став профессио-
нальным адвокатом, стал известным своими выступлениями в защи-
ту интересов людей труда и даже радикальных одиночек. Как дея-
тель социал-демократической партии, он добился успеха в земле
Нижняя Саксония, средней по величине земле (7,8 млн. жителей в
конце 90-х гг.). В течение восьми лет с 1990 г. он возглавлял земель-
ное правительство и в марте 1998 г. вновь добился успеха на зе-
мельных выборах. За время его активной политической деятельно-
сти происходили заметные изменения не только в его семейном по-
ложении (недавно он женился в четвертый раз), но и в жизненных
воззрениях в рамках реформистской идеологии. Особо следует от-
метить его тесное сотрудничество с концерном «Фольксваген», ко-
торый в последние годы добился больших успехов не только на гер-
манском, но и на мировом рынке автомобилей.
В правительство во главе с Г. Шредером вошли преимуществен-
но социал-демократы, прежде всего такие, как Оскар Лафонтен (ми-
нистр финансов), Рудольф Шарпинг (министр обороны), Отто Шил-
ли (министр внутренних дел). Однако три места были выделены и
для представителей партнера по коалиции «Союза-90/зеленые», в
308
частности должность вице-канцлера и министра иностранных дел
предоставлена Йошке (Йозефу) Фишеру. Зеленым вполне логично
предоставлены министерства по охране окружающей среды и здра-
воохранения. Из 15 министерских кресел пять заняли женщины. Это
новое явление в жизни ФРГ.
Программа нового правительства предусматривала в первую
очередь решение социально-экономических проблем: создание но-
вых рабочих мест, улучшение условий жизни, особенно в новых
землях, меры по оздоровлению экологической обстановки. Было
объявлено о решении постепенно отключить и загасить 19 «атомных
котлов» АЭС на территории ФРГ. Особо следует отметить намечен-
ные инициативы в области внешней политики: наряду с продолже-
нием курса на интеграцию европейских стран, вплоть до создания
единой валютной системы, было намечено основательное регулиро-
вание положения иностранных рабочих в Германии, вплоть до при-
знания двойного гражданства. Намечались и иные далеко идущие
инициативы. Например, на сессии Совета НАТО в Брюсселе в де-
кабре 1998 г. министр иностранных дел ФРГ Й. Фишер ясно пред-
ложил членам союза внести изменение в ядерную доктрину союза,
которая предусматривает возможность нанесения первого ядерного
удара другим странам.
На съезде СДПГ в конце ноября 2001 г., проходившем под деви-
зом «Обновление. Ответственность. Сотрудничество», руководство
партии во главе с Г. Шрёдером подтвердило верность Североатлан-
тическому союзу, включая поддержку курса на расширение НАТО,
решимость укреплять атлантическую солидарность. В то же время
резолюция съезда содержит заверения в готовности развивать отно-
шения с Россией и Китаем.
Основной социально-экономической проблемой Германии к на-
чалу XXI столетия осталась проблема занятости трудоспособного
населения. Данное социал-демократами обещание сократить безра-
ботицу до уровня в 3,5 миллиона человек, казалось, выполнено, но
удержать на этом уровне и тем более понизить его не удалось. Рост
ВВП в 2001 г., по оценкам, снизился до 0,7%, хотя желательный
уровень роста намечался в 1,5-2%. Вновь усилилась тенденция к
увеличению числа безработных. В зимний сезон число безработных
превысило 4-х миллионную отметку. В год выборов это, конечно,
дало оппозиции выигрышный аргумент против политики СДПГ.
Во время визитов федерального канцлера Г. Шредера в Москву
были обозначены контуры и перспективы развития отношений меж-
ду ФРГ и Российской Федерацией. Стороны наметили новые пути
309
расширения делового сотрудничества. Самый крупный междуна-
родный проект Газпрома предусмотрел строительство новой маги-
страли газопровода от Ямала до Германии. В декабре 1998 г. гер-
манский концерн «Рургаз» приобрел за 660 млн. долларов долю ак-
ций в 2,5% российского Газпрома, что дало доходной части бюджета
РФ примерно 13 млрд. рублей. Поставки сырья и энергоносителей из
России в Германию непрерывно расширялись. Проблема для России
заключалась в том, чтобы наладить обмен готовыми изделиями или
хотя бы полуфабрикатами. Основные контуры намеченной про-
граммы правительства красно-зеленой коалиции получили отраже-
ние в «Коалиционном соглашении между СДПГ и «Союзом
90/зеленые», заключенном 20 октября, а затем в правительственной
декларации 27 октября 1998 г.1
Во время визита федерального канцлера Г. Шредера в Москву в
ноябре 1998 г. были обозначены контуры и перспективы развития
отношений между ФРГ и Российской Федерацией. Стороны проду-
мывают новые пути расширения делового сотрудничества. Самый
крупный международный проект «Газпрома» предусматривал
строительство новой магистрали газопровода от Ямала до Германии.
В декабре 1998 г. германский концерн «Рургаз» приобрел за 660
млн. долларов долю акций в 2,5% российского «Газпрома», что дало
доходной части бюджета РФ примерно 13 млрд. рублей. Поставки
сырья и энергоносителей из России в Германию непрерывно расши-
ряются. Проблема заключается в том, чтобы наладить обмен гото-
выми изделиями или хотя бы полуфабрикатами. Для будущего Рос-
сии это имеет жизненно важное значение.
В развитие ранее заключенных договоров и соглашений по инте-
грации европейских государств Германия вместе с другими страна-
ми Европейского Союза подписала 2 октября 1997 г. новый договор.
«Амстердамский договор о Европейском Союзе, об изменении дого-
воров о создании европейских сообществ, а также связанные с этим
правовые акты». Он содержит 314 статей и предусматривает рефор-
мирование и совершенствование сообщества. «Обобщенная редак-
ция договоров о создании европейских сообществ»2 подтвердила и
закрепила подписи под Римским договором (1957 г.).
1 Autbruch und Erneuerung - Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert.
Koalitionsvereinbarung zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
und Bündnis 90/Die Grünen. Bonn, 20 Oktober 1998.
2 Der Vertrag von Amsterdam, Brüssel, 1997.
310
В Европейском Союзе официально с 1 января 1999 г. введена
общая для 11 стран из 15 Европейская валютная система. С этого
момента Европейский центральный банк, устроенный по германской
модели и расположенный во Франкфурте-на-Майне, взял на себя
исключительное право печатания и выпуска (эмиссии) банкнот но-
вой денежной единицы евро, регулирование курса валюты, стабиль-
ности цен, осуществления операций с ценными бумагами. До 1 июля
2002 г. евро служила расчетной единицей в безналичных расчетах и
лишь позже стала наличной денежной единицей. Страны - участни-
ки единой валютной системы передали в распоряжение Европейско-
го центрального банка часть своего золотого и валютного запаса на
сумму примерно в 40 млрд. евро, причем к 1 января 1999 г. в виде
золотых слитков на шесть млрд. евро (15%), а остальную сумму вно-
сят в виде валюты. На первых торгах на мировых валютных биржах
4 января 1999 г. зафиксирован курс евро, равный одному доллару 20
центам (при намеченном курсе в 1,1 доллара). Полагают, что аль-
тернативная валюта будет обслуживать примерно 20 процентов рас-
четов на мировом рынке и составит серьезную конкуренцию амери-
канскому доллару, не говоря уже об английском фунте и японской
иене. Финансовые круги в Германии молча гордятся тем, что они
сконструировали евровалюту как наследницу марки.
Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в интервью
журналу «Дойчланд» (№ 1/99 февраль-март), выходящем на русском
языке, после ста дней своего канцлерства, уверенно обрисовал пер-
спективы как внутренней, так и внешней политики ФРГ накануне
нового столетия и тысячелетия. Неотложной задачей страны канц-
лер считал снижение уровня безработицы путем создания новых ра-
бочих мест, особенно для молодых граждан; в перспективе повыше-
ние эффективности производства путем удорожания не рабочей си-
лы, а потребления энергии при одновременном постепенном умень-
шении доли атомной энергии в энергетическом балансе страны.
Главная проблема внутреннего развития заключается в завершении
процесса «внутреннего единства» нации. В области внешней поли-
тики на первом плане было расширение Европейского дома не толь-
ко в экономическом, но и в социальном и политическом отношении
путем введения единой валюты евро. Германское правительство на-
мерено было использовать свои функции председателя в Европей-
ском совете в первой половине 1999 года для завершения перегово-
ров по «Повестке 2000» - пакету реформ аграрной и структурной
политики в рамках Европейского Союза. Внутренний рынок евро-
пейских стран на основе евро должен обеспечить сравнимость цен и
311
услуг в пределах ЕС, обеспечить стабильность на континенте. В ус-
ловиях интеграции предполагается усиление роли и значения феде-
ральных земель: обеспечить экономический подъем в новых землях,
укрепить суверенитет земель в области культуры, наконец, удвоив
инвестиции в научные исследования и образование, подготовить
Германию к «Европейскому обществу знаний».
Федеральное правительство придавало особое значение фунда-
ментальным наукам наряду с прикладными исследованиями, стре-
мясь остановить отток ученых за границу. «Вузы должны стать цен-
трами поиска и решения проблем», - отметил Г. Шредер. Во время
официального визита в Москву в феврале 1999 г. федеральный
канцлер ФРГ высказался в пользу поиска новых путей сотрудниче-
ства между Германией и Россией, а также вовлечения ее в междуна-
родные усилия по преодолению кризисных ситуаций в Европе. Ак-
тивность Германии на международном (европейском и глобальном)
поприще на исходе XX столетия показывает ее готовность не только
взять на себя роль мировой державы, но и нести международную
ответственность.
Глава VIII
ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ - МЕСТА И РОЛИ В МИРОВОЙ
ПОЛИТИКЕ
1. Внешняя политика и дипломатия ФРГ
Основные направления внешней политики страны до 1998 г. оп-
ределяли (по конституции) федеральный канцлер Г. Коль и единст-
венный вице-канцлер, министр иностранных дел Клаус Кинкель,
сменивший Г.-Д. Геншера на дипломатическом поприще в мае 1992
г. После выборов 1998 года изменился партийно-политический со-
став правительства и соответственно персональный состав. Это не
привело к резким изменениям во внешней политике, хотя попытки
внести некоторые коррективы во внешнеполитический курс страны
имели место.
Европа остается, естественно, главным приоритетным направле-
нием внешней политики государства, что вполне понятно, если
иметь в виду центральное место Германии на континенте и ее эко-
номические интересы. Новую архитектуру европейского дома гер-
манская дипломатия определяет на основе договора о Европейском
Союзе и в тесном контакте (союзе) с США.
Политика Германии в отношении Югославии имеет глубокие ис-
торические корни не только со времен Священной Римской империи
германской нации и многовековой тевтонской «тяги на юг», к теп-
лым морям, но и в истории XX века. Югославия сложилась как са-
мостоятельное южнославянское государство после первой мировой
войны, в которой Австро-Венгрия вместе с Германией потерпела
поражение и вынуждена была признать самостоятельность народов
Югославии. Во второй мировой войне Югославия подверглась аг-
рессии со стороны Германии и оказала отчаянное сопротивление
нацистским оккупантам. Партизанское движение в Югославии было
важным фактором поражения Германии и Италии во второй миро-
вой войне. Югославия была освобождена благодаря разгрому наци-
стского вермахта Советской армией. Политика неприсоединения к
военным блокам, которую проводила Югославия после войны, дала
повод стратегам НАТО считать Югославию «серой зоной»: вне
влияния Советского Союза.
313
Объединение Германии и развал Советского Союза, особенно
вывод советских (российских) войск из стран Восточной и Цен-
тральной Европы изменили не только соотношение сил, но и страте-
гическую ситуацию в Европе, в том числе на Балканах. Страны НА-
ТО подготовили и осуществили разрушение Югославской федера-
ции - многонационального и многоконфессионального государства.
Германия сыграла в этом деле не последнюю роль. Еще в период,
когда К. Кинкель возглавлял секретные службы ФРГ - БНД («Бун-
деснахрихтендинст») на территории ФРГ были подготовлены кадры
для новых независимых государств, которые в 90-х гг. выделились
из состава югославской федерации.
Первыми провозгласили свою независимость Словения и Хорва-
тия, входившие в состав Австро-Венгрии до 1918 года, равно как и
Босния и Герцеговина. Словения и Хорватия объявили о своей неза-
висимости 23 июня 1991 года, а 25 июня 1991 г. ФРГ первой среди
европейских держав признала независимость республик, отдав
предпочтение принципу самоопределения наций, а не признанной
международной нормы - уважения территориальной целостности
федерации - члена ООН. Аналогичная установка действовала затем
в политике Германии в отношении Боснии и Герцеговины. ФРГ ис-
пользовала в этом регионе и «католический фактор» и «исламский
фактор», например, в Косово и Македонии.
Политический кризис и военное противостояние в Югославии
стали фактом не без участия стран НАТО, в том числе Германии и,
конечно, не могли остаться вне внимания ООН. В период с 1991 по
1995 гг. в ООН принято 27 резолюций по Югославии. Совет Безо-
пасности ООН принял 25 сентября 1991 г. резолюцию № 713 с тре-
бованием прекратить военное противоборство, а 21 февраля 1992 г.
резолюцию № 743 о формировании миротворческих сил ООН для
использования в Югославии. На этой стадии югославского кризиса
Германия приняла участие в гуманитарных поставках, направив 4
июля 1992 г. два самолета по воздушному «мосту» в Загреб и Сарае-
во. С 15 июля 1992 г. Германия включилась в активные действия,
направив свои силы для участия в операциях НАТО в средиземно-
морском регионе. По соглашению в Вашингтоне в марте 1994 г. об-
разована «мусульмано-хорватская федерация». В конце 1995 г. в Па-
риже подписано соглашение по Боснии. Это соглашение от 14 де-
кабря подписали за Сербию С. Милошевич, за Хорватию
Ф. Туджман, за Боснию и Герцеговину А. Изетбегович. «Контактная
группа» своим участием (от США - Б. Клинтон, от Франции -
Ж. Ширак, от Великобритании - Дж. Мейджор, а также от ФРГ
314
Г. Коль и присоединившийся к ним от России В. Черномырдин) в
качестве свидетелей легализовали расчленение Югославии. Во вто-
рой половине 90-х годов участие держав в полном развале Югосла-
вии происходит как бы по мандату ООН, но силами НАТО. Герман-
ский бундестаг принял 11 декабря 1996 г. решение о применении
бундесвера (контингента до 3 тысяч солдат) в бывшей Югославии в
составе сил НАТО. За это решение в бундестаге голосовали 499 де-
путатов, против - 93 при 21 воздержавшемся, а 16 октября 1998 г.
бундестаг принял решение об участии в операциях НАТО в связи с
кризисом в Косово. Тот же «старый» состав бундестага, избранный в
1994 г., принял это решение: 500 - за, 62 - против, 18 воздержав-
шихся. Выполняло это решение уже новое правительство, сформи-
рованное по итогам выборов в бундестаг в октябре 1998 г.
События в Югославии породили ряд проблем для международ-
ного сообщества, кроме огромных расходов (примерно 9 млрд. дол-
ларов). Особенно болезненная проблема - страдания мирного насе-
ления (в регионе около 55 миллионов населения, из которых 2 млн.
оказались беженцами). Ущерб, нанесенный военными действиями,
особенно воздушными налетами, оценивалась суммой до 180 млрд.
марок. Каждый день пребывания войск НАТО на территории Юго-
славии обходился странам НАТО в 130 миллионов марок. Тем не
менее, германский бундестаг нового созыва в середине июня 1999 г.
одобрил увеличение численности германских войск в составе КФОР
с 5 тысяч солдат до 8,5 тысяч человек. Германия взяла на себя со-
держание 350 тысяч беженцев из Югославии, приняв их на своей
территории (к маю 2000 г. 300 тысяч из них вернулись на родину).
Массированные бомбардировки Югославии (Сербии) авиацией НА-
ТО, при участии США и ФРГ, весной - летом 1999 г. вызвали воз-
мущение и протесты во многих странах не только Европы. Кризис в
Косово и Македонии - это продолжение югославской трагедии, фи-
нал которой затянулся усилиями западных держав.
Германская дипломатия, выступившая в апреле 1999 г. с «Пла-
ном стабильности для Юго-Восточной Европы», последовательно
выдерживала курс на утверждение своего статуса мировой державы,
берущей на себя глобальную ответственность еще до обретения мес-
та постоянного члена Совета Безопасности ООН. У объективного
наблюдателя естественно возникает вопрос: неужели у цивилизо-
ванных государств в начале XXI века нет иных способов урегулиро-
вания конфликтных ситуаций, кроме массированных бомбардировок
и вооруженной интервенции - так называемого «принуждения к ми-
ру»? Тем более, что это делается под флагом утверждения прав че-
315
ловека, гуманитарных принципов и справедливости, правда, при иг-
норировании основополагающих принципов международного права:
суверенного равенства государств, территориальной целостности,
самоопределения наций, закрепленных в Уставе ООН.
Из глобальных проблем Германию привлекает больше всего
проблема коммуникаций и доступа к нефтяным источникам на
Среднем Востоке. Германия не осталась совсем в стороне от кон-
фликта в Персидском заливе, выделив солидную сумму на поддерж-
ку операции «Буря в пустыне», сумму, сравнимую со средствами на
вывод российских войск из Германии и на жилье российским офи-
церам. С середины 90-х гг. германская дипломатия ужесточила по-
зицию в отношении Ирака, настаивая на безусловном выполнении
резолюции ООН о контроле над Ираком. В то же время военные
круги, в частности, министр обороны Ф. Рюэ не исключал возмож-
ности применения силы далеко за пределами зоны НАТО и участия
в них бундесвера.
В процессе объединения Германии, еще до завершения перего-
воров по формуле «два плюс четыре» и до заключения договора ме-
жду двумя германскими государствами, федеральное правительство
подготовило законопроект о дипломатической службе. В предвиде-
нии нового международного статуса Германии и расширения задач
внешней политики и дипломатии «мировой державы» власти ФРГ
разработали и обстоятельно изложили в едином документе новые
цели и принципы поддержания отношений с другими государствами
и установили регламент для своей дипломатии. «Закон о внешней
службе» был принят бундестагом 30 августа 1990 г., за день до за-
ключения договора об установлении единства Германии, и вступил в
силу с 1 января 1991 года. Этот закон представляется уникальным
явлением в современной дипломатической практике.
Закон определяет не только общие задачи поддержания и разви-
тия отношений Германии с другими государствами в условиях гло-
бализации, но и специфические, конкретные задачи германской ди-
пломатии на новом этапе ее истории. Большое внимание уделено
«справедливому порядку в Европе», соблюдению «нерушимых и
неотъемлемых» прав человека, сохранению естественных жизнен-
ных условий, защите культурного наследия человечества, уважению
и развитию норм международного права, сохранению единства гер-
манской нации.
Конкретные задачи дипломатической службы определены об-
стоятельно, можно сказать, с немецкой аккуратностью. Они сводят-
ся к следующим обязанностям: представлять интересы ФРГ за ру-
316
бежом, поддерживать отношения с другими государствами во всех
сферах жизни, информировать федеральное правительство об усло-
виях жизни и событиях за границей, оказывать помощь и содействие
германским гражданам за рубежом, сотрудничать с другими госу-
дарствами в развитии международно-правовых институтов, коорди-
нировать деятельность государственных органов и общественных
учреждений ФРГ за границей, выполнять функции, предусмотрен-
ные консульским законом.
Закон подробно определяет структуру и функции органов ди-
пломатической службы и зарубежных представительств, нормы по-
ведения и социального обеспечения персонала дипломатической
службы, вплоть до амбулаторного лечения и детских «гнезд».
По прошествии 10 лет после объединения Германии и вступле-
ния в силу закона о дипломатической службе коалиционное прави-
тельство во главе с Г. Шредером пришло к выводу о необходимости
реформирования дипломатической службы. При этом оно исходило
из того, что глобализация и интенсивная информатизация междуна-
родной жизни ставят под вопрос эффективность традиционной ди-
пломатии, что «элитарная дипломатия» переживает кризис. Внеш-
ние связи перестали быть делом только дипломатических предста-
вительств. Различные ведомства самостоятельно выходят на между-
народное поприще. Министр иностранных дел и вице-канцлер ФРГ
Йошка Фишер, признавая, что он не считает себя профессиональ-
ным дипломатом, намечал в течение двух лет провести преобразова-
ния с целью отбросить пережитки прошлого, выработать новое са-
мосознание. На совещании «всех послов» Германии в конце сентяб-
ря 2000 г. он призвал дипломатов стать более «инновативными».
Одновременно была поставлена задача сократить расходы на ди-
пломатию (в 2000 г. они сокращены на 5% или на 172 млн. марок).
Сокращено количество консульств в других странах, например, из
14 консульств ФРГ в США оставлено только 8.
Всего в 2000 г. Германия имела за рубежом 141 посольство, 51
генеральное консульство, 28 иных постоянных представительств. В
дипломатической службе страны было занято 8200 сотрудников.
Для сравнения можно отметить, что британский Форин офис и
французская служба на Кё де Орсе имеют по 15 тысяч служащих.
Возможно, что это связано с несколько иной структурой дипломати-
ческих служб этих стран.
На совещании послов ФРГ в сентябре 2000 г. федеральный канц-
лер Г. Шредер призвал дипломатов быть готовыми к «восприятию
нового», считать себя адвокатами германских интересов за рубежом,
317
заниматься обстоятельнее экономикой. При этом он отметил как не-
сомненное достоинство германских дипломатов такие качества, как
дисциплинированность, прилежание и выдержка. Развернувшаяся в
начале 2001 г. скандальная дискуссия вокруг личности И.Фишера
вновь привлекла внимание к вопросу о личных качествах диплома-
тов «мировой державы».
Министр иностранных дел и вице-канцлер в правительстве Гер-
харда Шрёдера - Йозеф Мартин Фишер родился 12 апреля 1948 г. в
городке Герабронн в Баден-Вюртемберге в семье выходцев из Венг-
рии и, как полагают, именно поэтому он предпочитает называть себя
уменьшительным именем Йошка. В свои 20 лет, не обретя какой-
либо профессии, он принял активное участие в бунтарских демонст-
рациях молодежи в 1968 г. и поэтому считает себя «революционе-
ром», борцом за свободу, ставшим убежденным «демократом». В
начале 2001 года, более чем через два года после назначения на
должность министра иностранных дел, вокруг Йошки Фишера
вспыхнул и разгорелся скандал, связанный с его бурной молодо-
стью. Дело дошло до серьезного обсуждения в бундестаге в связи с
опубликованными фотографиями уличных сцен 60- 70-х годов, на
которых видно, что Йошка принимал участие в столкновениях с по-
лицией, а также в связи с показаниями в суде в качестве свидетеля
по делу о покушении на сотрудников представительства ОПЕК в 70-
х годах. Высокопоставленный германский дипломат выразил сожа-
ление по поводу своего прошлого, сделав ряд признаний:
- Я не был тогда демократом, а был революционером, однако с
претензиями на свободу.
- Я был воинствующим человеком, я швырял камни. Я подвер-
гался избиениям, однако и я бил полицейские чины.
- Я совершал тогда неправовые действия и должен принести
свои извинения за это.
В свое оправдание министр привел неотразимый аргумент: «Я
кидал камни просто в воздух, да, это так», - заявил он в бундестаге в
час ответа на вопросы.
На заседании суда министру как свидетелю задан был вопрос:
«Ваше имя, пожалуйста, подлинное имя». Ответ: Йозеф Мартин.
Возраст 52 года. Профессия? Ответ: министр иностранных дел. Пуб-
лика реагировала тотчас: министр - это не профессия, это долж-
ность. Подобно Швейку, Йошка не получил дипломатического обра-
зования, как впрочем, не получил вообще никакого профессиональ-
ного образования. Это не мешало политику решать глобальные про-
318
блемы и участвовать в «регулировании» конфликтных ситуаций та-
ких, как ситуация в Чечне.
Политическая карьера Йозефа Мартина Фишера после отхода от
бунтарей складывалась довольно удачно: в 1982 г. он примкнул к
партии зеленых, образовавшейся из законопослушных экологистов
еще в конце 70-х годов. На досрочных выборах 1983 г. он оказался
избранным в Германский бундестаг от партии зеленых, которые
впервые прорвались тогда в парламент ФРГ. Однако до истечения
срока полномочий состава депутатов, через два года в марте 1985 г.,
видимо, по принципу «ротации» депутатов от партии зеленых, он
сложил полномочия депутата, но не остался без работы. В декабре
1985 г. он назначен государственным министром по окружающей
среде и энергетике земли Гессен и становится заместителем члена
бундесрата, где подвизался до февраля 1987 г. После выборов в
бундестаг 1987 г. он вновь действует на земельном уровне. В 1987-
91 гг. он член Гессенского ландтага и председатель фракции зеле-
ных. После объединения Германии он вновь востребован в качестве
государственного министра по окружающей среде, энергетике и де-
лам федерации земли Гессен. Одним словом, Йошка Фишер вырос в
земле Гессен, в протестном движении экологистов, очевидно, сумев
наладить отношения сотрудничества не только с земельными, но и с
федеральными властями. Во всяком случае, тогда власти не вспоми-
нали о бурной молодости перспективного политика. С апреля 1991 г.
по октябрь 1994 г. он государственный министр по окружающей
среде и энергетике, а после выборов в бундестаг в 1994 г. он стано-
вится спикером фракции «Союз-90/зеленые» в Германском бундес-
таге.
На выборах 1998 г. СДПГ и «Союз-90/зеленые» выступили в
единой коалиции, а лидеры, очевидно, заключили соглашение о вза-
имной поддержке. Видимо, лидеры социал-демократов высоко ценят
в Йошке Фишере умение работать с массой избирателей, в том числе
в новых землях, его качества убедительного оратора и демагога. Фе-
деральный канцлер Г. Шрёдер выступил в 2001 г. в защиту «чести и
достоинства» своего партнера по коалиции, заявив, что Й. Фишер не
будет предан «проклятию» со стороны политических противников.
Бытует мнение, что Й. Фишер до того, как стал министром ино-
странных дел, никогда не посещал Советский Союз или Россию по
принципиальным соображениям, скорее, чтобы не испортить свою
карьеру. Однако, став министром, Й. Фишер не раз бывал в России.
В новой, сложившейся в результате объединения Германии об-
становке германская дипломатия сочла возможным поставить во-
319
прос о своей готовности взять на себя большую ответственность за
судьбы мира и безопасности не только в Европе, но и на других кон-
тинентах. Такая заявка вскоре получила подтверждение в виде го-
товности ФРГ принять участие в реформировании универсальной
международной организации безопасности - ООН. В сентябре 1992
г., выступая в ООН, министр иностранных дел ФРГ Клаус Кинкель
заявил публично: «Так же, как и другие страны: Япония, Бразилия,
Нигерия, Индия, мы высказываем наше желание получить место в
Совете Безопасности». 1 Это желание получить место постоянного
члена Совета безопасности не раз подтверждалось официальными
представителями Германии и, конечно, было предметом обсуждения
по дипломатическим каналам. Однако за десять лет вопрос не полу-
чил желательного для германской дипломатии решения и был ос-
тавлен в наследство новому правительству.
В коалиционном соглашении между СДПГ и «Союзом-
90/зеленые», заключенном в октябре 1998 года, было подчеркнуто
значение Организации Объединенных Наций для решения междуна-
родных проблем, особенно в конфликтных ситуациях. Подтверждая
свою готовность содействовать финансовому укреплению и рефор-
мированию этой организации, а также участвовать в миротворче-
ских операциях, Германия заверила мировую общественность в при-
верженности целям и принципам ООН.
В 90-х годах Германия впервые за послевоенные годы стала ис-
пользовать свои вооруженные силы вне национальных границ, а за-
тем и вне сферы ответственности НАТО, сначала по мандату ООН, а
затем и без мандата ООН. Правительство Г. Шрёдера - Й. Фишера
заявило: «Участие вооруженных сил Германии в мероприятиях по
соблюдению мира и международной безопасности полностью соот-
ветствует нормам международного права и конституционного права
ФРГ». Федеральное правительство высказалось за то, чтобы сохра-
нить монополию ООН на применение силы в международных отно-
шениях и укрепить роль Генерального секретаря организации.
Как говорится, не прошло и года, как германский бундестаг при-
нял решение о возможности применения бундесвера вне пределов
собственно Германии, а затем германские войска вместе с контин-
ентами других стран НАТО совершили агрессивные акции, вплоть
до бомбардировок, в отношении Югославии. Страна, претендующая
на место постоянного члена Совета Безопасности, приняла участие в
действиях, не предусмотренных решениями этого единственно ком-
1 Бюллетень № 109. - 1992. - 14 сентября. - С. 1009.
320
петентного органа международной безопасности. Между тем, в коа-
лиционном соглашении желание получить место постоянного члена
Совета Безопасности и было увязано не с атлантической солидарно-
стью, а с приверженностью принципам ООН: «Германия и впредь, -
говорилось в документе от октября 1998 г., - будет использовать
любые предоставленные ей возможности занять место постоянного
члена Совета Безопасности, если реформа Совета Безопасности за-
вершится принятием решения о введении принципа большего ре-
гионального пропорционального представительства...». Бомбарди-
ровки одного из суверенных государств, являющегося членом ООН,
едва ли согласуются с большим «региональным представительст-
вом».
В сентябре 2000 года имела место активизация германской ди-
пломатии в отношении проблем ООН. Во время «Саммита тысяче-
летия» федеральный канцлер Г. Шрёдер в пятиминутном выступле-
нии заявил: «Что касается неизменной ключевой задачи ООН -
обеспечения мира и безопасности, то на первый план все больше
выдвигается предотвращение кризисов. Мы должны сделать необ-
ходимые выводы из последних успешных, а также неуспешных ми-
ротворческих миссий. Сюда следует отнести в первую очередь ре-
формирование Совета Безопасности. Он должен стать более эффек-
тивным и представительным. При расширении круга постоянных
членов Совета Безопасности Германия готова взять на себя должную
ответственность».
Постоянный представитель Германии в ООН Ханс Хайнрих
Шумахер тогда же заявил о готовности Германии расширить сферу
своей ответственности за принятие решений в ООН. Выступая за
реформирование ООН, германская дипломатия не выступает с ини-
циативами, полагая, что в одиночку она не добьется успеха и заявля-
ет, что она не собирается «ни на кого давить и выдвигать требова-
ния», однако исходит из того, что «нынешний состав членов Совета
Безопасности более не отвечает требованиям времени».
Германские дипломаты подчеркивают, что они не рассчитывают
получить наряду с Японией место постоянного члена Совета Безо-
пасности, хотя эти две державы вместе с США выплачивают в бюд-
жет ООН «львиную долю» (превышающую 55%) общих взносов в
бюджет ООН. Германия настаивает на коренной реформе ООН, ко-
торая будет учитывать не только финансовый вклад, но и соотноше-
ние сил в мире, при котором все регионы договорятся о том, кого
они хотят видеть в составе Совета Безопасности. Предложение Ита-
лии иметь общего представителя Европейского Союза в СБ, как из-
321
вестно, не встретило понимания и одобрения. Через неделю после
выступления федерального канцлера его министр иностранных дел
Й. Фишер сосредоточился на обеспечении «миротворческих опера-
ций» по мандату ООН, на процессе глобализации, который должен
якобы принести большие выгоды развивающимся странам, в частно-
сти, благодаря «кёльнской инициативе» по прощению долгов разви-
вающихся стран, по облегчению долгового бремени. Германия
взвешивает возможности создания структуры «глобального управ-
ления», используя для этого ООН.
На совещании дипломатических представителей ФРГ в конце
сентября 2000 г. федеральный канцлер Г. Шредер совершенно ясно
высказал претензию ФРГ получить место постоянного члена Совета
Безопасности ООН. Он заявил, что Федеративная Республика Гер-
мания в соответствии со своей величиной, а также внеевропейской
ролью заинтересована в получении ответственности в Совете Безо-
пасности».
Таким образом, претензия Германии выходит за рамки получе-
ния места в Совете Безопасности. Речь идет о глобальной роли Гер-
мании и полном изменении характера и функций универсальной
международной организации, каковой являлась до сих пор ООН, в
соответствии не только с размером финансового вклада в бюджет
ООН, но в соответствии с глобальным соотношением финансовой и
индустриальной мощи, т.е. не по численности населения и истори-
ческим заслугам в создании этой организации или военного потен-
циала. Германия претендует на ведущую роль в мире наряду с США
и Японией в противовес одряхлевшим державам - Франции, Вели-
кобритании и России. США вносят в бюджет ООН до 25% общей
суммы. Япония более 20%, а Германия около 10%, тогда как Россия
наряду со Швецией, Бельгией, Южной Кореей примерно 1%. Речь
пока не идет о пересмотре целей и принципов Устава ООН, однако
претензии на соответствующую финансовому вкладу роль ФРГ в
ООН выражены достаточно ясно.
Маастрихтский договор заключен в развитие Римского договора
1957 г. и предусмотрел коренную реформу интеграционной системы
и создание Европейского Союза. Договор определил цели объедине-
ния: обеспечение экономического роста во всех странах-участниках
с учетом социальной сферы: утверждение идентичности участников
на международном поприще, защита прав и интересов граждан пу-
тем введения «союзного гражданства», сотрудничество в правовой
политике, сохранение и повышение благосостояния стран-
участников союза. Договор предусмотрел упрочение политического
322
союза и закрепление экономического и валютного союза созданием
единой валютной системы к 1 января 1999 г.
Новые постановления расширили сферу деятельности Европар-
ламента и поставили в повестку дня европейскую политику оборо-
ны. Маастрихтский договор, видимо, отвечает общим национальным
интересам немцев, что получило отражение в представительном ор-
гане. Германский бундестаг принял 2 декабря 1992 г. закон о рати-
фикации этого договора преобладающим большинством в 586 голо-
сов при 17 против и восьми воздержавшихся, а 18 декабря 1992 г.
бундесрат одобрил договор. Одновременно бундестаг и бундесрат
приняли решение о восьми изменениях в Основном законе ФРГ,
чтобы обеспечить внутригосударственные предпосылки междуна-
родной интеграции. Суть изменений в Основном законе сводится к
расширению прав земель (через бундесрат) при принятии решений
по договорам, соглашениям и мерам, связанным с деятельностью
Европейского Союза, а также компетенции в вопросах гражданства,
избирательных прав, деятельности Европейского центрального бан-
ка. Эти изменения вошли в текст Основного закона в качестве ста-
тьи 23 (взамен потерявшей силу статьи 23 прежней редакции Ос-
новного закона), а также дополнениями к другим статьям. Ратифи-
кация договора в других странах встретилась с большими трудно-
стями. В некоторых из них потребовались повторные опросы насе-
ления (референдумы). В конечном счете 1 ноября 1993 г. Мааст-
рихтский договор о создании Европейского Союза вступил в силу.
Европейская интеграция основана на признании государствами-
членами «четырех свобод»: свободного (беспошлинного) распро-
странения товаров, перелива капиталов, предоставления услуг, на-
конец, перемещения рабочей силы. В ЕС создан единый внутренний
рынок, однако обеспечение свободы перемещения людей потребо-
вало дополнительных соглашений. Формально соглашение о безви-
зовом перемещении граждан членов союза и общей визы для граж-
дан других стран было достигнуто 14 июня 1985 г. на встрече пред-
ставителей пяти государств в люксембургском местечке Шенген.
Однако соглашение введено в действие лишь спустя десять лет - 26
марта 1995 г. (в день ввода летнего авиарасписания в европейских
странах), да и то не всеми странами. На конец 1997 г. из 15 стран-
участниц Европейского Союза к шенгенской конвенции о единой
въездной визе присоединились 10 государств. Понятие «шенгенская
виза» вошло в обиход европейских стран. Германская дипломатия
была одним из инициаторов обеспечения свободы передвижения
людей, равно как и воссоединения семей.
323
Ведущая роль ФРГ в расширении сферы деятельности Европей-
ского экономического сообщества, а теперь и Европейского Союза
получила выражение в активном вовлечении в экономическое со-
трудничество не только стран Европы, но и развивающихся стран
Азии, Африки и Латинской Америки. Начиная с середины 70-х гг.
ЕС заключала с этими странами соглашения, которые называли по
месту выработки и подписания первого и последующих документов
(в столице Того - Ломе). Конвенция Ломе оценивается как «самая
благоприятная модель кооперации» ЕС с более чем 70 странами т.н.
третьего мира с населением около 600 млн. человек. Эти соглашения
обеспечивают некоторые таможенные льготы, участие в программах
развития и помощи развивающимся странам, поэтому эти страны
пожелали продлить соглашения, срок которых истекал в феврале
2000 г. И здесь мы видим ведущую роль Германии в реализации
масштабных проектов международного сотрудничества, свидетель-
ствующей о действительно глобальной ответственности, которую
берет на себя Германия. Новое соглашение стран ЕС и развиваю-
щихся стран обеспечивает продолжение традиционного сотрудниче-
ства.
На террористический акт 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Ва-
шингтоне правительство ФРГ, как союзник США, реагировало не-
медленно и адекватно. Вместе с другими членами НАТО Германия
заявила, что будет действовать вместе с США в соответствии со
статьей 5 Североатлантического договора, рассматривая нападение
на одного из членов союза как нападение на альянс, хотя государст-
во-агрессор было определено по усмотрению США. Таким государ-
ством был объявлен Афганистан в связи с тем, что там якобы нахо-
дился предполагаемый организатор террористического акта пресло-
вутый Бен Ладен. Однако решимость правительства ФРГ принять
участие в антитеррористической операции своими вооруженными
силами вызвало скептическую реакцию не только в оппозиционном
общественном мнении, но и рядах правительственной коалиции, в
особенности в партии «Союз-90/зеленые». Для скепсиса, конечно,
были основания: террористический акт совершен террористами-
смертниками из разных стран, а не отдельным государством. Для
применения вооруженных сил Германии - бундесвера - вне преде-
лов собственно территории страны, т.е. не в оборонительных, а в
интервенционистских целях, требуется решение законодательного
органа бундестага, часть депутатов которого выразила сомнения в
правомерности и целесообразности участия бундесвера в войне в
Афганистане. Разногласия в коалиции СДПГ-Союз 90/зеленые мог-
324
ли привести к правительственному кризису за год до очередных вы-
боров. Однако кризис был предотвращен. Правительству Г. Шрёдера
удалось уломать строптивых зеленых депутатов и незначительным
большинством принять резолюцию, разрешающую применение час-
тей бундесвера на стороне «антиталибской коалиции», на деле в
поддержку акции США. Резолюция принята 336 голосами депутатов
(при необходимом для принятия ее числе в 334, т.е. с превышением
нужного количества в два голоса), причем на чашу парламентских
весов пришлось бросить аргумент о доверии правительству
Г. Шрёдера. Контингент бундесвера, переброшенный по воздуху 26
ноября 2001 г. на базы НАТО в Турции, включился в антитеррори-
стическую акцию в Афганистане. Общая численность германского
контингента вскоре превысила пять тысяч солдат. В прессе про-
мелькнули сообщения о готовности бундесвера действовать и с
авиабаз на территории Узбекистана.
Дипломатическая активность ФРГ, в свою очередь, увенчалась в
конце ноября 2001 г. созывом в Бонне под эгидой ООН междуна-
родной конференции с участием представителей различных полити-
ческих сил из Афганистана, но без участия талибов. Задача конфе-
ренции ООН сводилась к тому, чтобы определить состав временного
(«переходного») правительства в Афганистане после завершения
операций против талибов. Однако умиротворение талибов оказалось
не столь простым делом. Миротворческая операция при решающей
роли воздушных операций США и наземных действий «Северного
альянса» - сторонников номинального главы государства Б. Раббани
затянулась на несколько лет. Известно, что западные страны некото-
рое время лоббировали возвращение к власти престарелого монарха
Захир-шаха. Раббани маневрировал, надеясь на поддержку арабских
стран. Временное правительство Афганистана возглавил удобный
для западных стран человек. Появление германских солдат в горя-
чем регионе, хотя и в иной униформе и под иным флагом, чем преж-
де, вызывает в памяти историков воспоминания не только о планах
трех «Б» (Берлин-Бизанциум-Багдад), но и о военных планах про-
никновения и закрепления в регионе в годы второй мировой войны.
Когда США стали готовить вторжение в Ирак, министр ино-
странных дел ФРГ И. Фишер в интервью журналу «Шпигель» зая-
вил: «Нет доказательств того, что Усама бен Ладен имеет что-то
общее с режимом в Ираке». Примечательно, что такое утверждение
было подкреплено ссылкой на сведения от шефа БНД Августа Хан-
нинга.
325
2. «Восточная политика» Германии - новые рубежи
«Восточная политика» Германии после завершения процесса
окончательного урегулирования и объединения страны, в ходе на-
чавшегося развала Советского Союза претерпела заметную активи-
зацию. Сигналом для активизации германской дипломатии послу-
жили выступления внутренних центробежных сил в союзных рес-
публиках, и прежде всего в России, после безуспешной попытки
ГКЧП предотвратить распад Советского Союза. Отделение от Союза
ССР прибалтийских республик было воспринято германскими пра-
вящими кругами как естественное явление и с определенным (сдер-
жанным) выражением удовлетворения торжеством «исторической»
справедливости, тем более, что провозглашение независимости этих
республик сопровождалось демонстрацией не только проамерикан-
ской, но и прогерманской ориентации.
Уже в конце сентября 1991 г. в Германии был принят официаль-
но председатель Верховного Совета Беларуси С. Шушкевич, став-
ший через два месяца одним из соучастников сговора в Беловежской
пуще. Затем в ходе трехдневного визита (16-18 октября 1991 г.) в
СССР министр иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншер успел встретить-
ся с председателем Верховного Совета Казахстана Н. Назарбаевым,
принять участие в открытии дней немецкой культуры в Киеве и про-
вести встречу с председателем Верховного Совета Украины
Л. Кравчуком, еще одним из соучастников последующего беловеж-
ского «саммита». Нетрудно представить себе, о чем шла речь на
этих встречах, какие варианты развития обсуждались и какие заве-
рения были даны со стороны новой «мировой державы». Герман-
ский министр польстил собеседнику, подчеркнув вклад Украины в
европейскую культуру, и заявил: «Мы уважаем право народов на
самоопределение и их решения в том виде, в каком они их прини-
мают». Он отметил целесообразность сохранения «единого хозяйст-
венного пространства», не преминув подчеркнуть приоритетность
«единства Европы».1 К этому следует добавить, что в конце ноября
в Германии побывал тогдашний министр иностранных дел Армении
Р. Ованесян. В этот момент правительство ФРГ еще не ставило во-
проса о возможном отделении республик от Союза ССР и от России,
однако благосклонное отношение к независимым деятелям было
1 W.-D.Genscher. Erunnerungen, Berlin, 1997, с.990.
326
проявлено. Дипломатия ФРГ в лице государственного министра
МИД Г. Шефера вела зондирующие беседы с представителями Рос-
сии, стран Балтии и других республик и тщательно готовилась к ис-
торическому событию - ликвидации Советского Союза.
Немедленно после объявления в Беловежской Пуще тремя офи-
циальными лицами Б. Ельциным, Л. Кравчуком и С. Шушкевичем о
расторжении Союза (об этом первым получил сообщение с места
события президент США) МИД ФРГ 26 декабря 1991 г. заявил, что
переносит дипломатические связи с Союза ССР на Россию, признав
ее «продолжателем» (но не правопреемником) Союза ССР. В тот же
день Германия признала «незалежную» Украину в качестве незави-
симого государства. Другие бывшие союзные республики (Армения,
Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдова, Туркменистан и Узбе-
кистан) были признаны в качестве независимых государств 31 де-
кабря 1991 г.
В «восточной политике» Германии в 90-е годы особое внимание
уделялось Украине как наиболее крупной по численности населения
и по военно-промышленному потенциалу республике, что получило
отражение в факте одновременного признания России и Украины,
что означало не только признание раскола союза, но и расчленения
русской нации: на территории Украины оказалось примерно 12 мил-
лионов этнических русских. Уже в первой половине 1992 года то-
гдашний президент Украины Л. Кравчук дважды побывал в Герма-
нии и был принят президентом, федеральным канцлером и минист-
ром иностранных дел. В дальнейшем в течение 90-х годов между
Германией и Украиной поддерживались интенсивные дипломатиче-
ские контакты, в результате которых был подписан ряд соглашений,
причем не только в хозяйственной, но и в военной области. В 1993 г.
Германия заключила с Украиной двусторонний договор о содейст-
вии ликвидации ядерного оружия на территории Украины. Фактиче-
ски германская сторона взяла на себя контроль над этим процессом,
используя новейшие природоохранные средства, особенно при
уничтожении шахтных пусковых установок. В 1995 году работы бы-
ли начаты, а в 1996 г. после вывоза ядерного оружия в Россию унич-
тожены пять пусковых установок. В итоге Украина стала неядерным
государством, ратифицировав договор СНВ-1 (февраль 1994 г.) и
присоединившись к договору о нераспространении ядерного оружия
(ноябрь 1994 г.). Германия, будучи неядерным государством, оказа-
ла Украине не только финансовую, но и технологическую помощь в
процессе устранения советского ядерного оружия с украинской тер-
ритории. В итоге визита министра обороны ФРГ Ф. Рюэ в Украину
327
16 августа 1993 г. было подписано соглашение о военном сотрудни-
честве, которое охватывало различные стороны политики безопас-
ности: от военного планирования и подготовки кадров до военной
медицины и даже военной музыки. В апреле 1994 г. в Германии по-
бывал министр обороны Украины генерал Радецкий.
Официальные отношения между Германией и Украиной получи-
ли заметное развитие вплоть до обменов визитами на высшем уров-
не: в августе 1995 г. Германия принимала президента Украины
Л. Кучму, а в сентябре 1996 г. федеральный канцлер Г. Коль посетил
Киев. В течение 90-х годов Германия оказала содействие экономи-
ческим реформам в Украине, выделив существенные суммы на тех-
нологические и экологические программы, в особенности на обеспе-
чение безопасности АЭС, в частности, на ликвидацию последствий
чернобыльской катастрофы. Большое внимание Германия уделяет
программе «Трансформ». Уже в середине 90-х гг. число германо-
украинских совместных предприятий превысило 200. При оконча-
тельном урегулировании ФРГ выделила 8,35 млрд. марок на строи-
тельство жилья для выводимых из Германии военнослужащих. В
счет этой суммы на территории Украины к концу 1996 г. возведены
четыре городка, где сдано в эксплуатацию 5170 квартир. Значитель-
ная часть средств, которые Германия выплачивала жертвам нацизма,
приходится на долю граждан Украины.
Политика Германии в отношении Беларуси в большей степени
обусловлена политическими веяниями с запада и даже из-за океана.
США откровенно рекомендуют европейским государствам не толь-
ко сдержанность в экономическом сотрудничестве, но воздействие
на внутреннюю политику республики, учитывая тенденции различ-
ных политических сил: в сторону сближения и интеграции с Россией
или ориентации на запад. В период, когда президентом Беларуси
был С. Шушкевич, германская сторона шла на расширение эконо-
мического сотрудничества, которое достигло высшей точки к 1995
году: на Германию приходилось около 5% белорусского импорта и
почти 7% белорусского экспорта. В октябре 1995 г. в Беларуси на-
считывалось более 180 совместных германо-белорусских предпри-
ятий. В отношении Беларуси применялась программа «Трансформ»,
а также ряд гуманитарных и экономических программ, в частности,
в области сельского хозяйства, подготовки кадров, экологии, разви-
тия малого бизнеса и т.п. Однако в 1996 г. под предлогом начавше-
гося свертывания рыночных реформ в Беларуси германская сторона
сократила некоторые программы. Произошло явное охлаждение от-
328
ношений, поскольку германские политики сочли сохранение регу-
лирующей роли государства в экономике неприемлемым для себя.
Правительство ФРГ весьма критически оценило состояние дел с со-
блюдением прав человека в республике. Между тем, геополитиче-
ское положение Беларуси имеет большое значение, как для Герма-
нии, так и для России, не говоря уже о соседней Польше, вступив-
шей в НАТО, а также для стран Балтии. Эти страны и Беларусь
имеют особое значение для поддержания коммуникаций между
Германией и Россией: кратчайший шоссейный и железнодорожный
путь, газопровод через территорию Польши. Весьма важное значе-
ние имеет проект модернизации автомагистрали между Берлином и
Москвой. Проблема была предметом обсуждения на конференции в
Москве, проведенной по инициативе Лиги российско-германской
дружбы. В январе 1995 г. в Берлине состоялось подписание деклара-
ции о намерениях четырех стран: Германии и Польши, России и Бе-
ларуси. Тогда в 1995 г. удалось достичь соглашения о взаимодейст-
вии Германии и Беларуси в борьбе против организованной преступ-
ности. Очевидно, что германская дипломатия рассматривает отно-
шения с Беларусью под углом зрения отношений с Россией.
Интерес Германии к странам Закавказья имеет исторические
корни и обусловлен в XX веке наличием в регионе нефтяных ресур-
сов, особенно на Каспии. В политическом плане Германия уделяет
особое внимание Грузии. Германская дипломатия откровенно отме-
чает заслуги Э. Шеварднадзе в деле быстрого объединения Герма-
нии в 1989-90 гг., когда тот был министром иностранных дел СССР.
Благоприятная для германской стороны деятельность Э. Шевард-
надзе была, как известно, отмечена в Германии премией великого
немецкого философа И. Канта, надо полагать, без намека на место
рождения И. Канта (Кёнигсберг). Дипломатические отношения меж-
ду Германией и Грузией были установлены в апреле 1992 г. в ходе
визита министра иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншера в Тбилиси. В
июне 1993 г. Э. А. Шеварднадзе посетил Германию с официальным
визитом в качестве президента Грузии.
В 90-х гг. Германия оказала грузинскому правительству во главе
с Э. Шеварднадзе существенную финансовую и техническую по-
мощь, в частности, для развития энергетики, здравоохранения и т.д.
В середине 90-х гг. Грузия стала крупнейшим торговым партнером
Германии в Закавказье: с 1993 по 1996 гг. товарооборот между дву-
мя сторонами увеличился в пять раз. Если иметь в виду скромные
329
экспортные возможности Грузии, то можно предположить, что пла-
тежный баланс складывается за счет увеличения государственной
задолженности Грузии. Попытки грузинского правительства при-
влечь иностранные силы для урегулирования отношений с Абхазией
не привели к конкретным результатам.
Менее интенсивно, чем с Грузией, развивались отношения Гер-
мании с Арменией и Азербайджаном. Очевидная причина меньшей
активности германской политики в отношении этих стран Закавка-
зья заключается, во-первых, в наличии очага напряженности в На-
горном Карабахе, во-вторых, в необходимости учитывать позиции
союзника по НАТО Турции в отношении Армении. Германия заин-
тересована в получении доступа к азербайджанской нефти. К сере-
дине 90-х гг. германские фирмы, в том числе такие фирмы, как «Си-
менс», «Хёхст», «Даймлер-Бенц», учредили 50 своих представи-
тельств в республике, где учреждены совместные предприятия с
«Азгернефтью», «Азгером» (по утилизации металлолома) и «Азвир-
том» (дорожные машины). Объемы торгового оборота Германии с
Азербайджаном, как и с Арменией, сравнительно невелики, хотя
германские предприятия оказывали содействие в реконструкции
электростанций, модернизации авиасообщения и т.п. Например, в
1995- 96 гг. германская сторона выделила 25 миллионов марок на
реконструкцию аэропорта в Баку. Гуманитарная помощь оказывает-
ся для обустройства лагерей беженцев в обеих республиках. В этом
регионе германская дипломатия действует осторожно, учитывая ин-
тересы и позиции не только России и Турции, но и США.
Развитие отношений между Германией и такими странами Цен-
тральной Азии, как Казахстан и Кыргызстан, обусловлено тем об-
стоятельством, что именно здесь в момент распада Советского Сою-
за проживали более миллиона этнических немцев, выселенных в го-
ды войны из европейской части страны: 950 тысяч в Казахстане и
100 тысяч в Кыргызстане. Регулирование потока переселенцев из
этих республик в Германию стало одной из задач германской кон-
сульской службы. Одновременно было уделено внимание к налажи-
ванию долговременного экономического сотрудничества с этими
республиками, особенно с Казахстаном, который обладает значи-
тельными сырьевыми ресурсами (цветные металлы, нефть и газ).
Определенную роль играли в налаживании отношений с Германией
лично бывший президент А. Акаев и президент Н. Назарбаев, кото-
рые уже в 1992 г. посетили Германию (соответственно в апреле и
330
сентябре). Были установлены не только дипломатические отноше-
ния, но и личные контакты с президентом ФРГ Р. Херцогом и феде-
ральным канцлером Г. Колем. Затем последовали встречи минист-
ров этих стран с германскими представителями. В апреле 1995г.
президент ФРГ Р. Херцог нанес визит в Казахстан. Особенность по-
литики ФРГ в отношении Казахстана и Кыргызстана заключается
еще и в том, что они рассматриваются как развивающиеся страны и
на них не распространяется программа «Трансформ». Экономиче-
ское содействие со стороны Германии в отношении Казахстана име-
ет существенные масштабы. К середине 90-х годов между Германи-
ей и Казахстаном было достигнуто соглашение о содействии по-
следней в деле подготовки военнослужащих.
В 90-х годах республики Туркменистан и Таджикистан не пред-
ставляли приоритетного значения для Германии ни в экономиче-
ском, ни в военном отношении. Поэтому техническое содействие
имело скромные масштабы, нежели масштабы сотрудничества с Ка-
захстаном или с Узбекистаном. Эти малые страны со своей стороны
не могут предложить масштабных поставок сырья, даже если будут
ориентироваться на монокультурное производство и экспорт хлопка.
В середине 90-х гг. хлопок составлял в экспорте Таджикистана свы-
ше трех четвертей его экспорта в Германию.
В Центральной Азии самым значительным партнером Германии
в 90-х годах постепенно стал Узбекистан, имеющий наибольшую
среди стран региона численность населения (примерно 25 млн. чел.)
и солидные запасы полезных ископаемых (нефти, газа и золота).
Республика была и остается крупным производителем хлопка, обла-
дает также определенным потенциалом обрабатывающей промыш-
ленности. Германские фирмы постепенно осваивают узбекский
рынок.
В 1993-95 гг. имел место обмен визитами на высшем уровне.
Президент Узбекистана И. Каримов дважды посетил Германию, с
ответным визитом побывал в Узбекистане президент ФРГ Р. Херцог.
С середины 90-х гг. активно развивается военное сотрудничество, в
частности в подготовке военных кадров. В мае 1996 г. Узбекистан
посетил министр иностранных дел ФРГ К. Кинкель, а в июне 1996 г.
в Германии побывал военный министр Узбекистана генерал-
полковник Р. Ахмедов.
Масштабы технической помощи, содействие реконструкции
Ташкентского аэропорта, модернизации водоснабжения в районе
331
Арала и др. свидетельствуют, что Германия делает серьезную ставку
на Узбекистан, занимающий стратегически важное положение в ре-
гионе.
3. Отношения Германии и России
В контексте не только европейской, но и глобальной политики
надлежит рассматривать отношения между Германией и Россией.
После полного демонтажа ялтинско-потсдамской системы две дер-
жавы как бы поменялись местами и ролями: Германия взяла на себя
ответственную роль лидера в Европейском Союзе такую же, при-
мерно, какую имела Россия в Советском Союзе. Быть лидером в
Союзе более чем двух с половиной десятков государств - нелегкая
задача. Однако, как показал опыт председательства Германии в ЕС в
первой половине 2007 года, обладающая третьим по величине фи-
нансово-экономическим потенциалом держава в состоянии успешно
выполнить такую дипломатическую миссию.
Правовой основой отношений между «мировой державой» Гер-
манией и «региональной державой» Россией служит прежде всего
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии
от 12 сентября 1990 г. и Договор о добрососедстве, партнерстве и
сотрудничестве, заключенный 9 ноября 1990 г. между ФРГ и СССР.
Важным продолжением, но не заменой служит Совместное заявле-
ние президента России и канцлера ФРГ 21 ноября 1991 г., положив-
шее начало новым отношениям, «но оставившее» некоторые вопро-
сы.
Приход к власти нового коалиционного правительства во главе с
Г. Шредером и Й. Фишером в Германии и досрочная отставка пре-
зидента Ельцина и избрание президентом В. Путина в России от-
крыли новую страницу в летописи дипломатических отношений
двух государств. Канцлер ФРГ Г. Шредер уже во время первого ви-
зита в Москву в ноябре 1998 г. заявил об отказе от «банной дипло-
матии» в отношениях с Россией, что, видимо, должно было означать
переход к строго официальным отношениям. Уже в итоге первого
после избрания визита президента В. Путина в Германию 15-16 ию-
ня 2000 г. были сделаны многообещающие заявления с обеих сто-
рон. Поводом для визита послужила 3-я по счету германо-
российская консультация. Эта встреча в верхах с целью личного
знакомства ознаменовала новый этап строительства отношений «на
базе общих интересов». Из конкретных результатов этой встречи
332
следует отметить официальное заявление канцлера о том, что пре-
доставление гарантий по страхованию кредитов будет возобновлено.
Дело в том, что общество «Гермес», которое обеспечивало стра-
хование германским экспортерам и инвесторам в России с 1949 г.,
приостановило в 1998 г. предоставление гарантий для ведения дел в
России, поскольку последняя не смогла обслужить три кредита в
размере 600 млн. марок. В середине 2000 г. федеральное правитель-
ство выделило на страхование рисков 1 млрд. марок, что должно
было стимулировать торговые сделки. Однако германская сторона
отклонила пожелание России относительно списания долгов. На се-
редину 2000 г. долг России крупнейшему кредитору Германии оце-
нивался в 40 млрд. марок.
Деловые круги Германии продолжают проявлять интерес к эко-
номическим проектам в России, однако проявляют сдержанность в
инвестировании капиталов. Германские фирмы «Винтерсхал», «Рур-
газ», «Зальцгиттер» и «Феррошталь» выразили намерение принять
участие в освоении арктических месторождений нефти, продолжить
сотрудничество в строительстве газопроводов и нефтепроводов. По-
сле визита В. Путина федеральный канцлер Г. Шредер в интервью
редактору российской «Независимой газеты» заявил: «Германия
может и хочет играть важную роль в намеченном президентом Пу-
тиным процессе модернизации России... Он (В. Путин) произвел на
меня впечатление политика, который четко высказывается по суще-
ству, одновременно проявляя реалистический и прагматический
подход, а также интерес к волнующим нас темам, и с которым я не-
сомненно буду долго и хорошо сотрудничать». 1
Экономическое сотрудничество между Германией и Россией
развивалось в 90-х годах преимущественно в форме торгового обме-
на товарами. Торговый оборот между двумя странами, составил в
1995 г. 24 млрд. марок, в 1996 г. - 26,9 млрд., в 1997 г. - 33 млрд.
марок (вывоз в Россию составил 16 млрд. марок, вывоз из России 17
млрд. марок). Это был самый высокий уровень за 90-е годы. Однако
в последующие годы, после дефолта 1998 г., торговый оборот сокра-
тился до уровня ниже 1995 года. В 1999 г. он составил всего лишь 23
млрд. марок. Однако по итогам 2000 г. можно было говорить о но-
вом резком увеличении товарооборота. По данным бывшего мини-
стра экономического развития и торговли России Германа Грефа,
оглашенным в Берлине 12 февраля 2001 г., объем взаимной торговли
в 2000 году увеличился на 55% по сравнению с 1999 годом и достиг
1 Независимая газета. - 2000. - 18 июля.
333
рекордного уровня за все истекшее десятилетие - 40,5 млрд. марок.
Доля Германии во внешней торговле России достигает 14%. Россия
поставляет в Германию энергоносители и разного рода сырье. 30%
потребности Германии в нефти и газе покрываются российскими
поставками. Как отметил российский министр, «это больше, чем по-
ставки стран-членов ОПЕК вместе взятых».
Одной из самых сложных проблем взаимоотношений двух стран
стала проблема выплаты долгов, которая получила неожиданное
обострение в начале 2001 года. Еще летом 2000 г. канцлер
Г. Шредер ясно заявил: «В отношении государственной задолжен-
ности России германская позиция такова: Россия не бедная разви-
вающаяся страна, а мировая держава. Ваша страна располагает не-
обходимыми человеческими и материальными ресурсами для того,
чтобы самостоятельно справиться со своими финансовыми обяза-
тельствами. Только таким образом она может доказать свою креди-
тоспособность». 1 После дружеской неформальной встречи в Кремле
в сентябре 2000 года, отвечая на вопрос об отношении к свободе
слова и деятельности российской телевизионной компании НТВ, как
бы невзначай, Г. Шрёдер обронил фразу: «Сделанные долги надо
возвращать».
На исходе 2000 года, XX столетия, накануне нового года запад-
ные финансовые институты решили не просто напомнить, но на-
стойчиво потребовать от России выплаты долгов. К активности,
проявленной Международным валютным фондом и Парижским
клубом кредиторов с присущей ему энергией присоединился канц-
лер Г. Шредер. В ответ на робкие намеки российских представите-
лей на новую реструктуризацию и даже списание части долгов фе-
деральный канцлер поставил на обсуждение возможность погаше-
ния государственных долгов в процессе «инвестиционного сотруд-
ничества» или, иначе говоря, путем уступки Германии акций рос-
сийских предприятий, причем не по выбору России, а по выбору
Германии. Ей нужны не всякие акции, а акции «достойных предпри-
ятий», скажем, стратегически важной отрасли - топливно-
энергетического комплекса. Будучи премьер-министром России,
М. М. Касьянов восторженно оценил идею Шредера как «прорыв» и
тотчас призвал и другие 17 стран-кредиторов последовать примеру
Германии.
Однако даже в самом правительстве России были высказаны со-
мнения и проявлена сдержанность. В самом деле, передача акций
1 Независимая газета. - 2000. - 18 июля.
334
«Газпрома» и РАО ЕЭС в иностранные руки означала бы полную
потерю экономической независимости России. Германии принадле-
жат 40% долга России Парижскому клубу. Отдать Германии акции
рентабельных предприятий значило отказаться от самостоятельного
определения не только цен на энергетическое сырье, но и от нацио-
нальной государственной политики в этой отрасли. Если к этому
добавить превращение территории России в свалку ядерных отходов
других, «цивилизованных» стран, неизбежное ограничение развития
собственной атомной энергетики, то можно считать, что путь не
только к экономической, но и экологической катастрофе в России
намечен твердо. Что касается выплаты долгов, то, как известно, Рос-
сия успешно решает эту проблему. Она даже предложила ряду стран
досрочно погасить долги, однако встретилась с возражениями: кре-
диторы не хотят упускать свою выгоду.
Германия не торопится инвестировать капиталы в производст-
венную сферу, в промышленность, которая могла бы стать конку-
рентом для европейских стран. Прямые инвестиции германского
капитала в России составляли на конец 2000 года около 2 млрд. ма-
рок. Германия занимает третье место среди иностранных инвесто-
ров. В гигантском объеме германской внешней торговли доля Рос-
сии составляла всего лишь 1,4%, хотя более трех тысяч германских
фирм имеют свои интересы в стране и свои представительства.
По данным Российской государственной регистрационной пала-
ты, в конце 1998 г. германские фирмы были представлены почти в
1600 коммерческих организациях в России с уставным капиталом в
10 млрд. 243 млн. рублей. Большая часть этой суммы (до 7 млрд.
руб.) вложена в 460 фирм со стопроцентным германским участием.
Германскую деловую общину в Москве возглавляла энергичная,
элегантная дама - Андреа фон Кнооп. Деловая община охватывает
примерно 940 представительств и более тысячи совместных пред-
приятий, дочерних фирм и филиалов со стопроцентным германским
капиталом.
В Германии экономическими делами в России постоянно зани-
мается Восточный комитет союза германской экономики, который с
50-х годов до 2000 года возглавлял потомственный партнер России
Вольф фон Амеронген, а затем возглавил д-р Клаус Мангольд (1943
г. рождения), член правления концерна «Даймлер-Крейслер». Его
представления о глобализации и месте России в этом процессе, не-
сомненно, представляют интерес. «Глобализация - не какой-нибудь
субъективный процесс, - говорит он. - Поэтому нельзя выбирать -
принимать или не принимать в нем участие. Вопрос скорее заключа-
335
ется в том, как использовать шансы, предоставляемые глобализаци-
ей? Где найти свое место в этом процессе, чтобы не оказаться «на
рельсах тупика»? Он видит Россию не только как поставщика сырья,
хотя Россия не интегрировалась еще в мировое хозяйство и шансов
на конкурентоспособность у нее не много. Однако он видит пер-
спективу России в оказании услуг другим странам и в экспорте рос-
сийского ноу-хау. Высоко оценивая уровень подготовленности рос-
сийских инженеров и техников, германский бизнесмен считает, что
Россия имеет большие шансы занять место в экспорте информаци-
онно-технологического характера. Очевидно, что Запад заинтересо-
ван в том, чтобы Россия вывозила не готовые изделия промышлен-
ности и даже не полуфабрикаты, а сырье и технологические идеи.
«Политика и экономика в Германии, - уверенно говорит д-р Клаус
Мангольд, - вместе выступают за поддержку России на пути к демо-
кратическим условиям и структурам рыночного хозяйства». 1 Отве-
чает ли такая концепция национальным интересам России - это от-
дельный вопрос.
Германия после завершения процесса объединения «всех нем-
цев» в едином государстве на принципах и букве Основного закона
ФРГ за сравнительно короткий срок интегрировала «новые земли»,
вложив в модернизацию экономики огромные средства - суммы,
сопоставимыми с накопленным к 1990 г. богатством ГДР, её основ-
ным фондом. Модернизация коснулась не только промышленных
предприятий, но и всей системы коммуникаций: транспорта, связи и
т.д. В то же время не удалось преодолеть определенного отчуждения
между «весси» и «осси», а также существенных различий в социаль-
ном положении и материальном благополучии граждан в Западной и
в Восточной Германии.
Особенно болезненной проблемой социально-экономической
жизни страны в 90-е годы оставалась массовая безработица среди
коренных жителей при наличии в стране весьма значительного ко-
личества иностранных рабочих. При достаточно высоком уровне
внутреннего валового продукта темпы прироста ВВП не оправдали
ожиданий, а в начале нового столетия даже опустились ниже обыч-
ного уровня. Германия, утвердившаяся на третьем месте после США
и Японии по промышленному производству, остается одним из са-
мых крупных экспортеров промышленной продукции, особенно
продукции таких отраслей, как машиностроение (станки и средства
транспорта), электротехника, химическая индустрия. Германия -
Независимая газета. - 2000. - 22 ноября.
336
одна из крупнейших стран-держателей валютных и золотых запасов,
крупный кредитор и инвестор капиталов и т.д.
Следует признать, что, взяв на себя международные обязательст-
ва, Германия сократила численность своих вооруженных сил и су-
щественно сократила расходы на военные цели. Это оказалось воз-
можным в результате улучшения стратегического положения страны
и стабильности ситуации в Европе. В то же время военная реформа,
проводимая в стране, направлена на повышение мобильности со-
единений бундесвера, на оснащение современными видами воору-
жений, за исключением вооружений класса «ABC», а также на по-
вышение готовности вооруженных сил к применению не только в
пределах действия Североатлантического договора, но и вне зоны
ответственности этого союза.
Это все происходит в условиях глобализации не только эконо-
мических процессов, но и других сфер международных отношений.
Германия заявила о готовности нести большую ответственность за
состояние всеобщего мира, принять участие в реформировании уни-
версальной всемирной организации безопасности, наконец, полу-
чить место постоянного члена Совета Безопасности ООН. В соот-
ветствии с новой концепцией внешней политики ФРГ принимает
активное участие в т.н. миротворческих миссиях, в акциях по при-
нуждению к миру, в урегулировании конфликтных ситуаций.
Особенно значительную, все возрастающую роль Германия иг-
рает в Европейском Союзе, который в 90-х годах идет на расшире-
ние состава участников и углубление интеграции в экономической,
политической и даже военной сферах. Большим достижением ди-
пломатии ФРГ следует признать разработку и введение единой ва-
лютной системы европейских государств, создание Единого евро-
пейского банка по германской модели, наконец, введение единой
валюты - евро и введение ее с 1 января 2002 года в наличный оборот
в 12 из 15 стран Европейского Союза.
Глобализация внешней политики ФРГ означает выход на миро-
вое поприще мировой державы, готовой нести ответственность за
состояние мира на планете наряду с великими державами. Вместе с
ростом влияния ФРГ в ЕС возрастает роль ФРГ в решении проблем
мировой политики, причем с учетом того, что Германия, как и Япо-
ния, остается неядерной державой.
В европейском и глобальном масштабе важное место во внешней
политике ФРГ занимают взаимоотношения с Россией и другими
странами СНГ. Вопрос о расширении НАТО на восток вплоть до
включения в нее республик, входивших ранее в Союз ССР, конечно,
337
не может способствовать укреплению доверия и общеевропейской
безопасности, тем более, что в ходе переговоров по германскому
урегулированию с западной стороны были даны заверения, что НА-
ТО не продвинется на восток «ни на один дюйм». Договор об окон-
чательном урегулировании в отношении Германии, подписанный в
1990 г. и вступивший в действие в 1991 г., сохраняет свою силу в
полном объеме. Выдвижение каких-либо претензий к России после
«окончательного урегулирования» не имеет никаких правовых осно-
ваний.
Очевидно, возрастающая роль Германии в европейских и миро-
вых делах и особенно необоснованные амбиции будут встречать
сдержанное отношение к ней не только в России, но и в других
странах, например, в Италии, Франции, Великобритании. В этих ус-
ловиях для германской дипломатии будет особенно актуально про-
явление здравого смысла и чувства меры, чего временами так не
хватало Германии в первой половине XX века.
4. Глобализация и политика Германии
В конце XX века сначала в прессе, а затем и в научной литерату-
ре стали все чаще употреблять понятие «глобализация» для обозна-
чения процесса экономической, политической и военной интегра-
ции, который, якобы, уже охватил весь земной шар. Понятие «гло-
бализация» отражает, прежде всего, взаимную связь развития не
только стран и регионов, но и всех континентов. Это объективный
естественно-исторический процесс интернационализации, прежде
всего экономической жизни стран мира, а вместе с тем политиче-
ской и культурной жизни народов. Процесс глобализации давно стал
предметом изучения и научных исследований, однако общезначи-
мой концепции еще нет. Общепринятого определения, раскрываю-
щего существо и все стороны этого процесса, пока не выработано.
Появились не только публицистические, но и научные описания от-
дельных аспектов глобализации.
Максима XIX века вновь обрела силу после развала Советского
Союза, ядром которого была Россия: «Россия не сердится, она со-
средоточивается». Правда, процесс сосредоточения явно затянулся.
Выступление президента России В. Путина на совещании глав госу-
дарств и правительств 40 государств по проблемам безопасности в
Мюнхене в феврале 2007 года представляется определенным рубе-
жом на этом этапе сосредоточения. Процесс глобализации интересу-
ет Россию как страну, расположенную и в Европе, и в Азии.
338
Развитие науки и техники в индустриальную эпоху, развитие
средств транспорта и связи (локомотивы и железные дороги, авто-
мобили и самолеты, металлические океанские, межконтинентальные
корабли, телеграф, телефон, радио и телевидение, а теперь и компь-
ютер) изменили радикально условия общения между странами, кон-
тинентами и даже между индивидуумами.
В конце XX века человечество в глобальном измерении вступило
в эпоху информационной техники и технологии. Объективный ха-
рактер процесса глобализации означает его необратимость. Вернуть
человечество в пещеры может только ядерная война. Человечеству
стало тесно на земле. Гипотеза Мальтуса стала для некоторых дея-
телей практической политикой.
Мастер капитулянтской дипломатии Э. Шеварднадзе, как мы
помним, провозгласил отказ от идеологии во внешней политике. Его
шеф и покровитель М. Горбачев мотивировал свою политику «но-
вым мышлением» и уважением к «общечеловеческим ценностям».
Это была модель разрушения интернационального государства, ин-
тегрированного многонационального государства. Одновременно с
развалом Советского Союза на наших глазах возник Европейский
Союз. У них интеграция - это хорошо, у нас интеграция - это плохо.
Почему?
Глобализация означает, прежде всего, возрастание экономиче-
ских факторов в жизни государств и народов, если угодно, экономи-
зацию политики. Известная формула «политика - это концентриро-
ванная экономика» получает универсальный характер. К факторам
экономического развития в эпоху информационных технологий не в
меньшей мере относятся проблемы сырья для промышленности,
прежде всего сырья для энергетики, транспорта, проблемы экологии,
использование ресурсов Мирового океана и другие.
В решении глобальных проблем все большую роль обретает по-
литика ведущих государств мира, объединившихся в Группу-8, но
оставляющих в стороне такие державы, как Китай и Индия с более
чем миллиардным населением в каждой стране. Следует помнить,
что, имея миллиард триста миллионов населения, КНР по объему
ВВП вплотную подошла к ведущим странам США, Японии и Гер-
мании, население которых в пять, десять, пятнадцать раз меньше,
чем в Китае. Диспропорции очевидны. Асимметрия в процессе гло-
бализации тоже. Китай по объему ВВП поднялся до третьего места в
мировой таблице, которое до 2007 года занимала Германия. Правда,
это касается общего объема ВВП, а не доли на душу населения. Для
339
сравнения этих показателей надо пройти еще дистанцию огромного
размера.
Одним из признаков достигнутой стадии глобализации, несо-
мненно, является господство крупного финансового капитала, на-
циональная принадлежность которого не поддается определению.
Транснациональные корпорации доминируют в большей части ми-
ровой экономики. Они диктуют условия «игры» на мировых рынках
не только промышленной продукции, но и сырья. На биржах основ-
ных финансовых центров устанавливаются цены не только на акции
предприятий, цены на промышленную продукцию, но и цены на сы-
рье, которое добывается не в индустриальных странах.
Экономисты отмечают уменьшение роли производительного ка-
питала, средних и мелких производителей материальных ценностей,
доминирование финансового спекулятивного капитала. Модерниза-
ция производства, внедрение информационных технологий умень-
шают количество рабочих мест не только в конторах, но и в произ-
водственных цехах. Рост ВВП происходит при одновременном со-
кращении занятых в предприятиях. Проблема занятости перестала
быть проблемой внутренней жизни стран и стала глобальной.
Глобализация создает благоприятные условия не только для пе-
ремещения капиталов, взаимного проникновения капиталов, но и их
слияния в единые транснациональные корпорации. В качестве при-
меров слияния в единые корпорации за последнее время можно при-
вести следующие новообразования: ИБМ и Сименс, Даймлер и
Крайслер, Дойче Банк и Морган Траст. Идет процесс интернациона-
лизации «элит», для которых не только путешествие без виз не явля-
ется проблемой, но и выбор места жительства.
Европейские страны, объединившиеся в Союз после развала Со-
ветского Союза, не меньше озабочены сырьевыми ресурсами других
стран. Следует помнить, что и первая мировая война и вторая, были
развязаны именно с целью передела мира, колониальных владений,
богатых природными ресурсами. В начале XXI века постиндустри-
альные страны озабочены доступом к сырьевым источникам и га-
рантированным получением энергетического сырья, по существу
хотят расширения своего жизненного пространства, правда, пока
европейские страны действуют исключительно мирными, главным
образом финансово-экономическими средствами, в отношении Рос-
сии, однако не останавливаются и перед применением политическо-
го давления в бывших союзных республиках СССР. Красная черта,
виртуально проведенная ельцинской дипломатией, в 90-х годах пре-
одолена. Рубикон преодолен: не только Украина, но и Грузия и
340
Молдавия тяготеют к Северной Атлантике. На саммите в Сочи в мае
2006 г. представители Европейского Союза цинично поставили во-
прос о доступе к энергетическим ресурсам России и даже о безвоз-
мездном использовании ее воздушного пространства для пролета
своих лайнеров, сжигающих за один рейс несколько тонн горючего
и кислорода.
Особые отношения в области энергетики складываются между
Россией и Германией в рамках отношений России с Европейским
Союзом. Почти два десятка стран Европы получают газ (до 30 про-
центов потребления) из России. Проект строительства Североевро-
пейского газопровода по дну Балтики от Выборга до Грейфсвальда
протяженностью в 1187 км и стоимостью в 5 млрд. евро, для транс-
портировки примерно 55 млрд. кубометров газа в год вызвал бурную
реакцию некоторых прибалтийских стран, хотя предназначается для
поставок газа в страны Европейского Союза. Особенность отноше-
ний России и Германии в сфере энергетической безопасности за-
ключается в взаимных долговременных расчетах. Наряду с финан-
совыми переплетениями об этом свидетельствуют и такие факты,
как назначение денежного содержания бывшего канцлера Германии
Г. Шредера в качестве председателя наблюдательного совета газо-
вой корпорации. Ему назначен оклад в 250 тысяч евро в год - сумма,
равная окладу действующего канцлера ФРГ. Финансовые перепле-
тения, видимо, столь тесные, что германские монополии уже чувст-
вуют себя хозяевами на российских просторах. Во время визита пре-
зидента России В. Путина в Китай в марте 2006 года он высказал
ряд соображений относительно сотрудничества с КНР в энергетиче-
ской области, в частности, о проектах строительства двух газопро-
водов из России в Китай. Одним из первых откликнулся на эти пла-
ны России председатель правления компании «Винтерсхалл» (одно-
го из двух крупнейших германских партнеров «Газпрома») Райнир
Свисерлоот: «Путин предложил Китаю целых два газопровода. При-
чем предполагается, что первый газопровод будет качать газ с ме-
сторождений в Западной Сибири, которые традиционно предназна-
чались для Европы. Это же наш газ», - воскликнул германский
бизнесмен. Хотелось бы знать, с каких пор газ Западной Сибири
принадлежит «Винтерсхаллу». Известно, что «Винтерсхал» первая
компания, получившая доступ к добыче газа в России на Уренгой-
ском месторождении. Там «Газпром» и «Винтерсхал» имеют по 50
процентов акций. После 1 апреля 2006 г., предположительно, там
началось бурение.
341
В Европу Россия до 2007 года поставляла природный газ по 250
евро за тысячу кубов. А на европейских рынках цена доставленного
газа для потребителя достигает и даже превышает тысячу евро за
тысячу кубов. Логично было бы поделиться и доходами на месте
потребления: Это же наш газ. Допустит ли Европа Россию столь же
щедро на свой потребительский рынок - это большой вопрос.
Какие процессы наблюдались в Европе во второй половине XX
века переросшие в процесс глобализации в конце века?
Процесс интернационализации экономической жизни на протя-
жении всего XX века в первой половине столетия прерывался двумя
мировыми войнами за передел колоний-источников сырья, за захват
чужих территорий в целях эксплуатации, наконец, за мировое гос-
подство. Чем закончились обе войны нам, историкам, хорошо из-
вестно. Главными актерами на мировой арене были колониальные
державы - Великобритания и Франция и вышедшие на мировую
арену Япония и Америка - США, с одной стороны, Германия и Ав-
стро-Венгрия, их союзник - Османская империя, а также Болгария -
с другой. Россия понесла наибольшие потери и материальные и
людские, и в первой, и во второй мировых войнах,
Во второй половине XX века потерпевшие тотальное поражение
Германия и Япония при поддержке США, Англии и Франции вос-
становили свои позиции в мире экономическими средствами. Гер-
мания как бы оседлала объективный процесс интернационализации,
активно реализовала концепцию интеграции, сначала в форме объе-
динения угля и стали (1951 г.), затем Европейского экономического
сообщества (Римский договор 1957 г.), наконец, в виде Европейско-
го Союза (с 1993 г.) - Маастрихтский договор 1992 г. плюс Амстер-
дамский договор 1997 г.
Глобализация - это новая ступень процесса интернационализа-
ции первоначально региональных процессов интеграции. Интегра-
ция в Европе, охватившая 27 стран Западной и Восточной Европы,
началась с создания «общего рынка» шести стран, через снятие та-
моженных барьеров увенчалась созданием единого внутреннего
рынка и политического союза. Четыре направления интеграции ока-
зались эффективными путями для свободы движения товаров и ка-
питалов. Более сложной оказалась проблема перемещения рабочей
силы. «Польский водопроводчик» оказывается персоной нон грата в
Париже, хотя турки в Германии или алжирцы во Франции сыграли
свою созидательную роль в процессе интеграции.
В «Лексиконе Майерса» на 2006 год дано лапидарное определе-
ние понятия «глобализация»: «Сильно увеличивающаяся интерна-
342
ционализация торговли, капиталов, а также рынков продукции и ус-
луг, быстро растущее переплетение народных хозяйств, идущие с
90-х годов XX века». Критики глобализации отмечают как главные
признаки и предмет протеста такие проявления глобализации, как
расширяющийся разрыв между бедностью и богатством, между
Югом и Севером, разрушение окружающей среды, а главное - страх
перед лицом войн из-за источников сырья. Антиглобалистов не вол-
нуют конкретные проявления этого процесса, но волнует общая тен-
денция: погоня за прибылями транснациональных корпораций не
сдерживается никакими демократическими формами контроля со
стороны отдельных государств. Государства не в состоянии выдер-
жать давление ТНК с целью снижения уровня оплаты труда, умень-
шения социальных расходов, минимизации норм охраны окружаю-
щей среды.
Незначительный прирост ВВП Германии в 2005 году (всего 0,9
процента) при пяти миллионах безработных граждан немедленно
привел к правительственному кризису. В 1982 году поводом для
правительственного кризиса было сокращение ВВП на один про-
цент. В XXI веке в условиях глобализации и членства в Европей-
ском Союзе требования правящих кругов к социал-демократам ста-
ли, как видим, строже.
Социал-демократы в Германии пытались выдвинуть какие-то ар-
гументы против анонимной власти, против политики ТНК, направ-
ленной исключительно на получение прибылей за счет сокращения
рабочих мест. Например, в апреле 2005 года такую попытку пред-
принял председатель СДПГ Франц Мюнтеферинг, что вызвало бур-
ную дискуссию, критику со стороны правых партий, выражающих
интересы крупного капитала. Уже в мае 2005 года федеральный
канцлер Г. Шредер вынужден был поставить вопрос о доверии его
правительству, получил «конструктивный вотум» недоверия, что
повлекло за собой проведение досрочных выборов в бундестаг в
сентябре того же года. Коалиции социал-демократов и партии зеле-
ных не удалось получить большинства, достаточного для формиро-
вания правительства. Однако и правым не удалось получить вместе
с либералами абсолютного большинства. Пришлось пойти на ком-
промисс и создать правительство «большой коалиции», приемлемое
для крупного капитала, который получает немалые выгоды от про-
цесса глобализации.
В итоге длительной паузы после выборов в бундестаг удалось
достичь компромисс двух крупных партий - ХДС и СДПГ - и сфор-
мировать правительство «большой коалиции», в котором социал-
343
демократы взяли на себя бремя не самых легких министерств, в том
числе Министерство труда, которое возглавил тот же Ф. Мюнтефе-
ринг. Смена правительства в Германии, таким образом, произошла
вследствие того, что «красно-зеленая» коалиция оказалась не в со-
стоянии преодолеть главное последствие глобализации - проблему
безработицы.
Проблема занятости трудоспособного населения страны - ост-
рейшая социальная проблема ряда стран Европы. Она является про-
явлением и следствием процесса глобализации, перемещения рабо-
чей силы из стран с низким уровнем заработной платы в страны с
достаточно высоким уровнем жизни и оплаты труда наемных работ-
ников, где рост ВВП происходит при одновременном уменьшении
числа работников.
Рынок труда в Германии в результате завершения процесса объ-
единения ФРГ и ГДР, или присоединения ГДР к ФРГ, расширился,
однако проблемы занятости населения усугубились. Почему же
расширение рынка труда в Европейском Союзе должно иметь иной
эффект?
Из опыта Германии следует, что экономический рост шел всегда
за счет увеличения и самодеятельного населения, и за счет инвести-
ций, создания новых рабочих мест. Но пришло время, когда круп-
ные предприятия, увеличивая производство, уменьшают число на-
емных работников. Парадокс ситуации в объединенной Германии
заключается в том, что в пределах Европейского Союза, в одном из
крупных государств-членов возникло два разделенных рынка труда:
в западных и восточных землях с разными «квотами» безработицы.
Можно считать установленным, что интеграция в рамках Европей-
ского Союза и единого рынка дала германскому капиталу опреде-
ленные выгоды, прежде всего расширение не только рынка сбыта,
но и сферы влияния. В то же время свобода перемещения рабочей
силы имеет и негативные социальные последствия. Правительство
«большой коалиции» нашло общий язык с крупным капиталом, ко-
торый выделил средства для преодоления экономического спада.
Уже в 2006 году прирост ВВП в Германии достиг 2,5 процента. Од-
нако хроническая болезнь капиталистической системы - безработи-
ца трудоспособного населения страны в условиях глобализации - не
получает удовлетворительного решения. Это, видимо, главная при-
чина стремления капитала к экспансии, к решению внутренних со-
циальных проблем за счет расширения сферы господства.
На выборах 2002 года коалиция СДПГ и «Союз-90/зеленые» до-
билась успеха не только потому, что критиковала политику США в
344
отношении Ирака и не послала свои войска в поддержку Д. Буша в
Ирак, но и потому, что твердо обещала решить социальные пробле-
мы, но не выполнила обещания. Как известно, замысел ставшего
министром финансов лидера партии Оскара Лафонтена по выполне-
нию обещаний избирателям не получил поддержку не только дело-
вых кругов, но и в самом правительстве. О. Лафонтен, подавая в от-
ставку уже через несколько месяцев после избрания парламента и
образования коалиционного правительства обронил фразу: «Мое
сердце бьется слева!».
Из сказанного выше следует вывод: глобализация приносит
крупным концернам Германии обильные плоды. Однако гражданам
в обеих частях страны так и не воссоединившихся весси и осси ос-
тавляет социальные проблемы, хотя государство обеспечивает посо-
биями и пенсионеров и безработных. Может возникнуть вопрос: за
чей счет это возможно? Видимо, за счет плодов, растущих в других
странах и поступающих в страну по каналам глобализации. Герма-
ния экспортирует 25-30 процентов своей продукции по достаточно
высоким ценам и импортирует главным образом сырье по приемле-
мым для нее низким ценам.
Многопартийная парламентская система в Германии, несомнен-
но, дает возможность миллионам граждан выразить свое отношение
к политике правительства и программам партий. Однако подлинны-
ми хозяевами и в политике на деле остаются представители крупно-
го капитала. Хотя средние и мелкие предприятия играют весьма зна-
чительную роль в экономике Германии, они все же не в состоянии
выходить на орбиту большой политики, где определяющую роль
играют крупные концерны, особенно в энергетике, машинострое-
нии, электротехнике, химической индустрии. Концерны, объединен-
ные в несколько промышленно-финансовых групп, определяют по-
литический курс страны и имеют самые тесные партнерские отно-
шения с крупным капиталом других стран, особенно США. Они
включены в процесс глобализации, в систему ТНК, они определяют
политику Германии.
В энергетике Германии главную роль играют фирмы «ФЕБА
АГ» с центром в Дюссельдорфе и с персоналом примерно 117 тысяч
человек, «РВЕ АГ» с центром в Эссене и персоналом в 145 тысяч
человек. Эти фирмы обеспечивают электроэнергией промышленные
предприятия и население на 33 процента за счет АЭС, но большей
частью за счет тепловых электростанций, работающих на 40% на
минеральном сырье, на 13% на угле (в 1950 г. доля угля составляла
345
73%). Определенную долю энергии получают немцы от солнечных
батарей и от ветряных вышек.
В машиностроении, в том числе транспортном машиностроении
(авто и авиа), доминируют «Даймлер-Крайслер» (Штутгарт, 441. 500
занятых), «Фольксваген» (Вольфсбург, около 300 тыс. работников),
«БМВ» (Мюнхен, 120 тыс. работников).
В электротехнике и электронике: «Сименс АГ» с центром в
Мюхнене (с числом работников 416 тысяч человек, «Роберт Бош
ГмбХ» с центром в Штутгарте (число работников около 190 тысяч).
В химической индустрии определяющую роль играют наследни-
ки «И. Г. Фарбен»: «Байер АГ» (Леверкузен) - 145 тысяч сотрудни-
ков, «БАСФ» (Людвигсхафен) - около 106 тысяч сотрудников, и
«Хёхст» (Франкфурт) - около 100 тысяч сотрудников.
Из высказываний представителей фирм следует, что они считают
себя карликами в сравнении с гигантами, где правит бал американ-
ский или транснациональный капитал.
В третий раз за всю историю ФРГ, но впервые в объединенной
Германии в сентябре 2005 года проведены досрочные выборы в
Германский бундестаг. Выборы до окончания лигислатурного срока
были инициировны действующим канцлером Г. Шрёдером с целью
получить в результате досрочных выборов не только мандат на но-
вый срок, но и главным образом мандат для проведения непопуляр-
ных реформ и выхода из тупика, в который зашла социальная и эко-
номическая политика социал-демократического руководства. Высо-
кий уровень безработицы - почти 5 миллионов человек из 36 мил-
лионов трудоспособного населения - и падение темпов экономиче-
ского роста (ВВП) - главные проблемы социально-экономической
ситуации 2005 года.
За семь лет после прихода к власти в 1998 году правительство
красно-зеленой коалиции провело ряд мер в социальной сфере, та-
ких как создание новых рабочих мест, и проявило определенную
самостоятельность во внешней политике. Оно поддерживало тесные
отношения с Францией и Россией и воздерживалась от поддержки
вторжения США в Ирак, хотя направило по желанию США части
бундесвера (примерно 5 тыс. чел.) в Афганистан в качестве миро-
творческих сил.
Особо следует отметить, что, имея достаточно прочные позиции
в Европейском Союзе, ФРГ столкнулась все же с проявлениями не-
довольства со стороны новых членов ЕС, таких, как Польша, кото-
рые склонились к тому, чтобы взять на себя роль партнеров и про-
водников политики США и на Среднем Востоке, и в Европе. Однако
346
в предвыборной кампании 2005 года вопросы внешней политики не
вышли на первый план, хотя имели место попытки правых сил разы-
грать «российскую карту», особенно ситуацию в Чечне. Правые ста-
вили под сомнение пользу «слишком тесных» отношений с Россией,
особенно дружбу между Г. Шредером и В. Путиным.
Выборы в бундестаг 18 сентября 2005 года проведены, как
обычно, при большой активности избирателей. Особенность ситуа-
ции заключалась не только в том, что СДПГ сама устроила кризис
доверия к правительству, но и в том, что от СДПГ отошла значи-
тельная часть левого крыла электората. Левые объединились в блок
с ПДС - Партией Демократического Социализма, имеющей автори-
тет в «новых землях».
Разумеется, позиция действующего канцлера Г. Шрёдера была
предпочтительнее позиций «новенькой» в политике дамы Ангелы
Меркель, проявившей свои способности лишь в период объединения
ФРГ и ГДР, когда она вступила в ХДС и за короткий срок обрела
популярность.
Уже предварительные итоги выборов убедительно показали, что
СДПГ не достигла поставленной цели - получения большинства го-
лосов: вместо 38,5 процента голосов, полученных в 2002 году, пар-
тия получила 34,3%. Тогда как ХДС получила вместе с ХСС 35,4
процента. Правда, этот блок тоже потерял более трех процентов в
сравнении с результатом 2002 года (38,5%). Потенциальные партне-
ры для формирования коалиции получили различные оценки изби-
рателей: либеральная Св. ДП увеличила число своих сторонников на
2,4%, получив 9,8 процента голосов, тогда как «Союз-90/зеленые»
потерял полпроцента, получив 8,1%. Левая партия стала по итогам
выборов четвертой партией в федеральном масштабе, получив 8,7%
голосов.
Соотношение сил сложилось так, что обе крупные партии ни в
одиночку, ни в коалиции с одной из малых партий не могли сфор-
мировать дееспособное правительство. Возникла своего рода пауза -
со дня выборов до формирования правительства. Поговаривали даже
о возможности проведения новых выборов. Пауза оказалась не-
обычно продолжительной: два месяца вместо одного. Партии взве-
шивали свои реальные возможности, проводили зондаж позиций
других партий. СДПГ не желала иметь дело с Левой партией. Блок
ХДС/ХСС не мог вместе с Св. ДП создать дееспособную коалицию.
Привлекать четвертого участника - партию зеленых, потерявшую
часть своих сторонников, представлялось, видимо, не солидным.
Оставалось искать компромисс с СДПГ. В итоге напряженных пере-
347
говоров был достигнут компромисс и заключено соглашение о соз-
дании «большой коалиции», т.е. коалиции двух больших по числен-
ности и по весу в бундестаге партий. Текст коалиционного соглаше-
ния составил почти 200 страниц. Это означало, что программа пре-
дусматривает не только общие принципы сотрудничества, но и кон-
кретные пункты для решения социальных и экономических общена-
циональных проблем.
Первое заседание бундестага нового созыва состоялось ровно
через месяц после выборов - 18 октября 2005 года. Председателем
бундестага избран представитель фракции ХДС Норберт Ламмерт,
его заместителями стали председатели фракций бундестага. В их
числе председатель фракции Левой партии ПДС, председатель пар-
тии Лотар Биски. Состав бундестага обновился, но не значительно:
из 614 депутатов впервые избраны в федеральный парламент 161
депутат, половина депутатов избрана в третий и даже в четвертый
раз. Таким образом, обеспечивается не только преемственность, но
повышается профессиональный уровень законодателей. Обычно но-
вый состав бундестага начинал свою работу с избрания федерально-
го канцлера, который формировал правительство. Однако на этот
раз процесс формирования правительства затянулся.
Места в бундестаге XVI легислатуры (созыва) распределились
следующим образом: ХДС/ХСС - 225 мест/плюс 1), СДПГ - 222
места. Св. ДП. - 61 место. Левая партия - 54 места, «Союз-
90/зеленые» - 51 место. Всего в бундестаге XVI созыва 614 мест.
Коалиционное соглашение предопределило голосование в бундеста-
ге. Как отметили журналисты, за Ангелу Меркель голосовало «явное
большинство».
Впервые в истории Германии главой правительства была избра-
на женщина, вопреки скептическим прогнозам в период предвыбор-
ной борьбы и даже после выборов.
Ангела Меркель (1954 г.р.) из семьи священника, выросла в Вос-
точной Германии, обладает аналитическим мышлением, получила
образование на физическом факультете Берлинского университета в
ГДР. В политику вовлечена в процессе объединения ФРГ с ГДР, со
вступлением в ХДС. Довольно быстро она получила признание в
ХДС, была избрана в бундестаг и в правительстве Г. Коля была на-
значена сначала министром по делам семьи и молодежи, а потом в
1994— 98 гг. была министром по охране окружающей среды. После
ухода Г. Коля с должности председателя партии ХДС Ангела Мер-
кель избрана лидером партии как политик, умеющий вести за собой
348
людей. Дело, видимо, не только в ее личных способностях, но и в
поддержке, которую обеспечивают ей деловые круги.
Если Г. Коль был связан изначально с концерном БАСФ, а
Г. Шрёдер был выдвиженцем крупнейшего концерна земли Нижняя
Саксония «Фольксваген», то новая «канцлерин» не вызвала возра-
жений деловых кругов, крупного капитала. Если бы этого не было,
то не было бы и исторического феномена - избрание женщины,
только что пришедшей в политику, главой правительства в непро-
стой (кризисной) ситуации, когда требуется закаленный в баталиях
муж.
На должность министра иностранных дел назначен Франк-
Вальтер Штайнмайер, молодой член кабинета (48 лет). Он юрист по
образованию, бывший глава ведомства федерального канцлера при
Г. Шрёдере и одновременно уполномоченный по делам спецслужб,
координатор деятельности правительства.
Программа большой коалиции предусматривает сокращение
безработицы за счет оживления экономической жизни, создания но-
вых рабочих мест, оздоровление финансов. Это, разумеется, воз-
можно, только на основе солидной инвестиционной программы. Де-
ловые и финансовые круги вряд ли обещали найти капиталы для
красно-зеленой коалиции, чтобы поддержать такую программу. Те-
перь ситуация изменилась. Новое правительство рассчитывает реа-
лизовать инвестиционную программу объемом в 29 миллиардов ев-
ро в течение четырех лет. Как говорится, не было ни гроша да вдруг
алтын. Со своей стороны правительство обещает коренную реформу
налогообложения в 2008 году: введение единой системы налогооб-
ложения акционерных обществ, снижение налогов с предприятий.
Федеральное правительство намерено уделять больше внимания
науке и образованию. Если ранее на эту сферу выделяли из бюджета
2,5 процента от ВВП (при среднем уровне в два процента в странах
Европейского Союза, то в ФРГ к 2010 году предполагается выделе-
ние из бюджета до трех процентов от ВВП на науку и образование.
Не оставлены без внимания и другие области: выравнивание эконо-
мического уровня в новых землях и в старых, меры социальной за-
щиты, финансовая поддержка семей, имеющих детей, охрана окру-
жающей среды. Намечена реформа федерации, реформа социальной
системы с целью решения демографической проблемы, которая за-
ключается в сокращении работоспособного населения.
В программном заявлении Ангелы Меркель сформулированы
пять основных целей реформ:
349
- уменьшение государственного долга, совершенствование фе-
деративного устройства, упорядочение рынка труда (до 4 млрд. евро
на улучшение рынка труда), содействие инновациям и новым техно-
логиям, новые меры в социальной сфере: родительские пособия до
1800 евро, налоги до 45 процентов на доходы свыше 250 тысяч евро
в год (прежде - это налог в 42 процента).
Партнеры по коалиции согласовали между собой и приоритеты
во внешней политике: на первом месте европейская интеграция и
атлантическое партнерство. Коалиция обещает обеспечить преемст-
венность внешней политики, правда, с некоторыми коррективами,
особенно в сфере безопасности.
Нового министра иностранных дел назвали человеком «без не-
достатков». «Берлинер Цайтунг» дала такую характеристику новому
министру: «Франк-Вальтер Штайнмайер может все, знает все, реша-
ет любую проблему. Он предупредителен, умеет слушать и способен
молчать о том, о чем не следует говорить». Словом, обладает тради-
ционными, классическими качествами дипломата. Он никогда не
говорит «Я», всегда говорит «Мы». Сын столяра, получивший выс-
шее юридическое образование, смолоду состоит в социал-
демократической партии, но никогда не занимал руководящих по-
стов. Он прагматик, выросший в аппарате Герхарда Шрёдера, кото-
рый однажды сказал о своем сотруднике: «Этот человек мог бы
стать канцлером».
Министерство иностранных дел, называемое в Германии «Ино-
странное ведомство», насчитывает в 2005 году 6 600 сотрудников.
Приход нового министра должен, с одной стороны, обеспечить пре-
емственность внешнеполитического курса, с другой, тонко и точно
внести коррективы, которых жаждет ХДС. Качества нового минист-
ра должны бы импонировать опытным профессиональным диплома-
там. В первые недели и даже месяцы новый министр не делал экст-
равагантных заявлений, как это делал Йошка Фишер на потеху пуб-
лике. Первые шаги на дипломатическом паркете предприняла Анге-
ла Меркель лично: первый заграничный визит нанесен в Париж,
второй - в Лондон, затем - Брюссель и другие европейские столицы.
В январе 2006 года состоялся полет за океан в США, а после этого в
Москву. Для нас наибольший интерес представляют изменения во
внешней политике, которые обозначены уже в первые два года
канцлерства А. Меркель. Однако эта тема достойна отдельного рас-
смотрения.
Ведущий германский эксперт по России и СНГ А. Pap в январе
2006 года дал такой прогноз: «Вероятное расширение НАТО на Ук-
350
раину и Кавказ в ближайшие пять лет станет новой геополитической
катастрофой для России»1. Это следует воспринять как серьезное
предупреждение из Берлина. Во всяком случае, нам советуют забыть
не только об оси Берлин-Париж, но и о геометрической фигуре Па-
риж-Берлин-Москва. Еще госсекретарь Пауэл рекомендовал России
забыть Украину.
1 Независимая газета. - 2005. - 19 декабря.
Вместо эпилога
За полтора десятилетия после объединения Германии опублико-
ваны десятки документальных исследований и сотни публицистиче-
ских статей по проблеме германского единства. Для нас представ-
ляют интерес, прежде всего, свидетельства и версии, предложенные
самими участниками события: М. С. Горбачевым, Э. А. Шеварднад-
зе, А. Черняевым. Особый интерес представляют два тома докумен-
тов из Фонда Горбачева: «В Политбюро ЦК КПСС...» и «Михаил
Горбачев и решение германского вопроса» (М., 2006). Однако для
объективной оценки результатов политики Горбачева имеют значе-
ние публикации мемуарного и одновременно исследовательского
характера таких дипломатов германистов, как В. М. Фалин, В. Ко-
чемасов, И. Ф. Максимычев, Ю. А. Квицинский, В. П. Терехов, а
также О. А. Гриневский и другие.
Германские политики и дипломаты не замедлили с выпуском
своих воспоминаний и дневников. Наряду с публикацией докумен-
тов были выпущены книги Г. Коля, Г.-Д. Геншера, X. Тельчика.
Внесли свой вклад в освещение истории объединения Германии и
другие западные деятели, такие, как посол США в ФРГ Вернон Уол-
терс. Свое особое мнение выразили в форме воспоминаний премьер-
министр Великобритании М. Тэтчер и президент Франции Ф. Мит-
теран.
Ценными источниками информации о процессе объединения
Германии стали немецкие публикации: К. Кайзера, К-Р. Корте, В.
Вайденфельда. Особо следует отметить фундаментальное исследо-
вание германского исследователя Александра фон Плато «Объеди-
нение Германии - борьба за Европу», которая вышла в Бонне в 2003
году, а затем в переводе на русский язык в Москве в 2007 г. Особен-
ность этой публикации заключается в использовании целого пласта
документов, а также интервью с более чем 80 участниками процесса
объединения Германии, полученных лично автором. Преимущество
исследователей перед участниками событий заключается в том, что
они могут свести воедино многочисленные документы и свидетель-
352
ства и сделать объективные выводы, воссоздать более полную и
правильную картину хода событий, приведших одних политиков к
успеху, а других к банкротству.
В числе вопросов, которые возникли к М. Горбачеву с немецкой
стороны, весьма существенным представляется именно такой: евро-
пейская система безопасности как предпосылка немецкого единства
или наоборот? Задним числом и М. Горбачев и его «писарчук» А.
Черняев дали очень примитивные ответы со ссылкой на большие
внутренние трудности, на «кризис перестройки» и падение шансов
Горбачева. А ларчик просто открывался: надо было прислушиваться
не к мнению «писарчука», а к мнению весьма сильного тогда ди-
пломатического ведомства, имевшего огромный опыт дипломатиче-
ской борьбы за создание европейской системы безопасности именно
в увязке с германской проблемой. Создание надежной системы
безопасности с использованием норм, выработанных по инициативе
и при активном участии советской дипломатии, был отдан фактиче-
ски на откуп прожженным политикам. Где тот европейский дом, ко-
торый обещал Горбачев? Где обещанные отдельные квартиры каж-
дой советской семье?
Разумеется, М. С. Горбачев феноменальная личность. Фактор
личности М. Горбачева еще долго будет занимать историков. В ди-
пломатии, как отмечают западные политики, он проявил «наив-
ность». Юрист по образованию как бы не заметил простой истины:
политическая практика знает, что то, что не положено на ноты, му-
зыкой не считается. Как оценивать тот факт, что обещание не про-
двинуть НАТО на восток ни на один дюйм или сантиметр или
«инч», зафиксированное в протоколах бесед, не было оформлено в
международно-правовой форме? В соответствии с «новым мышле-
нием», во имя общечеловеческих ценностей уникальный дипломат
своей эры, т.е. периода правления, как бы играл в популярную в
России игру под названием поддавки. «Он редко давал резкий отпор
и очень редко формулировал свою позицию или проводил четкую
линию. Эта манера поведения вела не только к недопониманию, но и
к фальши и к неискренности, когда речь шла о позициях и интере-
сах, которые не могли быть разрешены совместными усилиями, как
например, это имело место при его встрече с Модровом»1, - отметил
А. Плато.
Западные наблюдатели отмечают своеобразие дипломатии
М. Горбачева и Э. Шеварднадзе, выделяя такие «дипломатические»
1 А. Плато. Указ. соч. - С. 267.
353
приемы, как двусмысленный ответ, недомолвки, неуместная по-
спешность, несуразность аргументации и т.п. Такой подход к жиз-
ненно важным для народа проблемам приводил к тому, что вплоть
до последнего дня, до дня подписания основного договора, и даже в
день подписания договора, оставались невыясненные до конца тол-
кования положений договора, чем воспользовались западные ди-
пломаты, чтобы оговаривать выгодные для себя формулировки.
Особенно эффективно использовал эти слабости генсека Г.-Д. Ген-
шер, в частности, в вопросе о признании суверенитета Германии, в
вопросе дисклокации вооруженных сил под флагом НАТО на гер-
манской территории, неразмещения ядерного оружия на территории
Восточной Германии.
Двусмысленности возникали вплоть до заключительной стадии
переговоров. Это получило отражение в протоколах и записях бесед
сторон. Исследователи выявляют различия в записях сторон. Ска-
жем, в немецкой записи сказано, что М. Горбачев согласился «кив-
ком головы», а в советской записи такой жест вообще не отражен.
Германский автор книги об объединении Германии А.фон Плато
полагает, что снижение роли СССР в Европе было целью политики
США. Президент США Дж. Буш старший выразил свою оценку дея-
тельности М. Горбачева и его вклад в историю так: «Теперь некото-
рые в России скажут: он лишил нас Союза. Он лишил советских
граждан национальной гордости. Но я думаю, еще важнее этой на-
циональной гордости советских граждан то обстоятельство, что
Германия получила право на то, чтобы объединиться»1. Один из
ближайших советников президента США счел уместной такую по-
хвалу президенту М. Горбачеву: это «великий... проигравший».
Кондолиза Райс, ставшая позже госсекретарем США и считающая
себя одной из победительниц в битве против «империи зла» по по-
воду подписания договора в Москве (об объединении Германии)
выразилась лаконично: «Германия стала частью Запада, частью со-
общества государств. Но для Советского Союза - это было одно-
значным поражением»2. К поражению нас привел «великий пораже-
нец». Это дано нам взамен национальной гордости.
В данном исследовании рассмотрены факты и свидетельства,
раскрывающие суть решения германской проблемы в конце XX сто-
летия. У германских политиков и дипломатов (от времен
К. Аденауэра до «эры» Г. Коля) имеются основания испытывать
1 А. фон Плато. Цит. соч. - С. 379.
2 А.фон Плато. Цит. соч. - С. 380.
354
удовлетворение от того, что менее чем за полвека удалось без войны
свести на нет результаты второй мировой войны. Немцы, несомнен-
но, извлекли уроки из прошлого, преодолели негативные последст-
вия нацистского периода. От безоговорочной капитуляции - от часа
нуль в германской истории - до триумфа 3 октября 1990 года нем-
цами пройден нелегкий путь. Этот путь - путь экономического чуда,
непрерывного экономического роста, эффективной организации
экономики, выход на мировые рынки с конкурентоспособными ка-
чественными товарами, постоянного улучшения благосостояния ра-
ботающих граждан. Федеративная Республика Германия при под-
держке США стала третьей державой мира по промышленному и
финансово-экономическому потенциалу, одним из крупнейших экс-
портеров промышленных товаров. Последовательное антифашист-
ское государство - Германская Демократическая Республика, воз-
никшая и развивавшаяся при содействии СССР в менее благоприят-
ных исторических условиях, не выстояла в неравной схватке с эко-
номическим гигантом. В критический, кризисный момент истории
ГДР не получила поддержки от союзной державы, которая и сама
оказалась в состоянии политического коллапса.
Советский Союз, вынесший на своих плечах тяжелое бремя ос-
новного участника антинацистской коалиции и потерявший более 25
миллионов своих граждан, также не выдержал исторического состя-
зания с мощными индустриальными державами, которые вышли из
второй мировой войны с несравнимо меньшими потерями и сплоти-
лись в военно-политический блок во главе с США. Развал Советско-
го Союза был главной целью политики США после 1945 года. Пока
в Восточной Европе стояла миллионная группировка вооруженных
сил под эгидой СССР, всякая попытка изменить статус-кво была
чревата войной.
Американская доктрина «сдерживания» коммунизма, затем «от-
брасывания» коммунизма, были лишь идеологическим прикрытием
экспансии США. Реальной политикой США была гонка вооруже-
ний, особенно ракетно-ядерной техники под лозунгами «гибкого
реагирования». США ставили своей целью экономически измотать
Советский Союз, вплоть до истощения его ресурсов. В 70-х годах
было достигнуто «примерное» стратегическое равновесие. США
вынуждены были вести переговоры о сокращении ракетно-ядерных
потенциалов и даже заключать и соблюдать договоры и соглашения
с СССР.
Стратегическое равновесие обеспечивало сохранение ялтинско-
потсдамской системы и территориальной целостности всех госу-
355
дарств, что получило отражение и в Заключительном акте в Хель-
синки в 1975 году. Во всяком случае, пока существовала Варшавская
оборонительная организация и в Восточной Европе стояла полумил-
лионная группировка советских войск, ни на один город в Европе не
упала ни одна бомба.
Изначально концепция «нового» мышления имела вполне благо-
родные цели: взаимное сокращение ракетно-ядерных потенциалов и
даже их ликвидацию. Однако на деле оно обернулось в политике
М. С. Горбачева в одностороннее разоружение Советского Союза.
Начиная с соглашения о ликвидации ракет средней дальности Со-
ветский Союз существенно сократил свой ракетно-ядерный потен-
циал. Однако США и другие западные державы не уменьшили свой
военный потенциал. Именно этой ситуацией - ослаблением потен-
циала СССР и воспользовалась ФРГ, чтобы приступить к решению
своей национальной проблемы.
Факты и документы, приведенные в данном исследовании, сви-
детельствуют о том, что со стороны ФРГ все действия были проду-
маны заранее. Дипломатия выполняла заранее составленный план. К
сожалению, судя по всему, особенно судя по ходу событий, у
М. С. Горбачева не было не только коллективно выработанного пла-
на действий, но даже концепции решения германского вопроса.
Опытных дипломатов, в том числе компетентных германистов в
лучшем случае выслушивали. Но решения принимались без учета
здравых суждений опытных дипломатов.
Дипломатия имеет исполнительные функции. Тем не менее, при
принятии ответственных решений руководители государства обяза-
ны прислушаться к мнению специалистов, посвятивших свою жизнь
защите интересов своей страны и знающих партнеров зарубежных
стран не по телеграммам, не понаслышке, не по трехдневным визи-
там в страну, а по многолетнему опыту непосредственного общения,
а главное - по знанию политики государства-партнера. Между про-
чим, само назначение на ответственную должность министра ино-
странных дел великой державы провинциального партдеятеля
Э. А. Шеварднадзе вызывало тогда же недоумение. Ветераны госу-
дарственной службы задавались вопросом: неужели в МИДе СССР
нет знающих свое дело профессионалов? Конечно, внешнюю поли-
тику великой державы определяет ее внутриполитическое состоя-
ние, особенно экономический и военный потенциал. Министр ино-
странных дел представляет вне страны, в отношениях с другими го-
сударствами именно эти два потенциала государства: экономиче-
скую силу и военный потенциал. Ни того, ни другого
356
Э. А. Шеварднадзе не представлял априори. Близость Грузии к
Ставрополью или очаровательная улыбка кандидата не могли быть
определяющими факторами назначения. Очевидно, имела значение
общность замыслов. Каковы они были на деле, выявилось позже.
Германский вопрос оставался ключевой проблемой европейской
политики Советского Союза на протяжении десятилетий. Герман-
ский фактор, особенно сама возможность пересмотра итогов второй
мировой войны имели жизненно важное значение также для Польши
и Чехословакии. Советский Союз был по существу гарантом терри-
ториальной целостности государств Восточной Европы. ФРГ все
послевоенное время оставалась фактором нестабильности, выдвигая
претензии на изменение территориального статуса-кво. В урегули-
ровании отношений ФРГ с государствами Восточной Европы 70-х
годов СССР сыграл ведущую, решающую роль. Это дало сохране-
ние мирного сотрудничества в Европе в течение двух десятилетий.
Между прочим, урегулирование 70-х годов было проведено с прави-
тельством социал-либеральной коалиции, в которой главную роль
играл лидер социал-демократов Вилли Брандт. В конце 80-х годов
М. С. Горбачев пошел на тесное сотрудничество и сближение с пра-
воцентристской коалицией во главе с Гельмутом Колем, представ-
лявшим крупный капитал. Западные наблюдатели отмечают, что
М. С. Горбачев рассчитывал на крупные кредиты на благоприятных
условиях. Однако надежды на трехзначные суммы не оправдались
даже после раскрытия золотого запаса.
Первые попытки установить деловой контакт с
М.С.Горбачевым администрация США предприняла весной 1984
года, т.е. примерно за год до судьбоносного апрельского пленума
ЦК КПСС. По поручению вице-президента Дж. Буша (старшего),
который ранее был шефом ЦРУ и представителем США в ООН в
1971-73 гг., посол Льюис Филдс, представитель США в ООН, после
консультаций в Вашингтоне в марте 1984 года, обратился к предста-
вителю СССР на Женевской конференции по разоружению
В. Л. Исраэляну встретиться в неофициальной обстановке на «ней-
тральной почве».
Такая встреча состоялась. Посол Л. Филдс сообщил в приватной
обстановке, что вице-президент Дж. Буш хотел бы установить серь-
езный деловой контакт с советским руководством во время своего
пребывания в Женеве в апреле 1984 г., что встреча должна иметь
конфиденциальный характер. Советский дипломат, естественно,
спросил, с кем именно хотел бы встретиться вице-президент. В ответ
он услышал неожиданный ответ: Дж. Буш хотел бы встретиться с
357
М. С. Горбачевым как наиболее вероятным будущим лидером стра-
ны. В тот момент руководителем КПСС после смерти
Ю. В. Андропова был К. Черненко. Взвесив соображения за и про-
тив, В. Л. Исраэлян решил воздержаться от немедленного сообще-
ния в Москву об инициативе Л. Филдса.
Когда Дж. Буш прибыл в Женеву, он пригласил В. А. Исраэляна
на встречу при посредничестве известного в мире деятеля Садруди-
на Ага Хана. Такая встреча состоялась 17 апреля 1984 г. Дж. Буш
подтвердил, что он давал поручение Л. Филдсу подготовить неофи-
циальную встречу, на которой можно обсудить любую тему. «В ка-
честве своего собеседника как будущего советского лидера, - запи-
сал В. Л. Исраэлян, - он назвал только одну фамилию: Вашим сле-
дующим лидером будет Горбачев», - уверенно заявил он. Эти слова
врезались мне в память. Я обещал Дж. Бушу доложить в Москву о
его предложении». Посол В. Исраэлян сообщил о предположении
Дж. Буша лично А. А. Громыко. Какие выводы сделал А. А. Громы-
ко из этого сообщения, В. Исраэлян не ведал, однако: «Ведь именно
он предложил избрать генеральным секретарем ЦК КПСС
М. С. Горбачева». Этот дипломатический эпизод В. Л. Исраэлян
предал гласности в 1991 году с согласия Дж. Буша. Роль Дж. Буша
(старшего) в налаживании отношений с советскими руководителями
в середине 80-х годов еще нуждается в выяснении, однако примеча-
тельно, что он последовательно приезжал как распорядитель совет-
ского наследства на похороны Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова,
К. Черненко, а затем и Б. Н. Ельцина в 2007 году.
Прогноз Дж. Буша (старшего), видимо, имел серьезные основа-
ния, а интерес к каждому очередному преемнику генерального сек-
ретаря ЦК КПСС едва ли имел случайный характер. И выбор пал на
следующего лидера, до «очередного» апрельского пленума, видимо,
тоже не случайно.
Председатель Совета министров СССР в 1985-1990 гг. Н. И.
Рыжков в книге воспоминаний «Трагедия великой страны» (Москва,
2007) обстоятельно рассматривает события тех лет, выявляет причи-
ны и инициаторов развала Советского Союза. Этот том воспомина-
ний существенно дополняет картину, представленную им по свежим
следам событий в публикации «Перестройка»: история преда-
тельств» (Москва, 1992 г.). В связи с темой данного исследования
вызывают интерес его свидетельства о дипломатической деятельно-
сти М. Горбачева: «Начало сотрудничества Горбачева с Западом бы-
ло положено его, рядового члена Политбюро, встречей осенью 1984
358
года с премьер-министром Великобритании М. Тэтчер» . Известно,
что встреча была организована при содействии тогдашнего посла в
Канаде А. Яковлева и имела место в загородной резиденции в Чек-
керсе, где обычно проводятся доверительные беседы с особо важ-
ными иностранными представителями. В итоге встречи с М. Горба-
чевым М. Тэтчер сделала вывод: «С этим человеком можно иметь
дела... Ему можно доверять»2. Чем заслужил М. Горбачев доверие
«железной леди»? Н. Рыжков приводит свидетельство участника той
встречи А. Н. Яковлева по книге «Омут памяти». Во время встречи
М. Горбачев неожиданно для М. Тэтчер развернул перед нею карту
генерального штаба со всеми грифами секретности, на которой изо-
бражены направления ракетных ударов по Великобритании. Леди не
могла сразу понять, что означает этот ход «рядового члена Полит-
бюро»: розыгрыш или шантаж. Затянувшуюся паузу прервал М.
Горбачев: «Госпожа премьер-министр, со всем этим надо кончать, и
как можно скорее». Леди кратко сказала «Да». Какие полномочия
имел для этого будущий генсек? По странному стечению обстоя-
тельств визит был прерван досрочно: из Москвы пришло сообщение:
умер министр обороны СССР Устинов. Ни подтверждения, ни опро-
вержения этого эпизода из документов М. Горбачева мы не знаем,
впрочем, как и о тайных переговорах его с Р. Рейганом на крайнем
севере в Рейкьявике осенью 1986 года. Позже М. Тэтчер ясно сказа-
ла: «Мы сделали Горбачева Генеральным секретарем»3.
Этапами на пути к развалу Советского Союза стали встречи
М. Горбачева с «сильной личностью» - президентом Р. Рейганом в
Рейкьявике, а затем с президентом Дж. Бушем у острова Мальта в
декабре 1989 г. Во время пребывания во Франции в 1993 году М.
Горбачев признался, что на встрече в Рейкьявике он «отдал СССР на
милость Соединенным Штатам». М. Горбачев сам оценивал встречу
в Рейкьявике как «большую драму»: «На этой встрече в верхах мы
зашли так далеко, что обратно уже повернуть было нельзя»4.
Политика М. Горбачева (легитимность которой ставится под
большой вопрос самим фактом устранения из Конституции СССР
пункта о ведущей роли КПСС, следовательно, и генерального секре-
таря ЦК КПСС) определялась, таким образом, договоренностями с
президентами США.
1 Рыжков Н.И. Трагедия великой страны. - М., 2007. - С. 24.
2 Рыжков Н.И. Трагедия великой страны. - М., 2007. - С. 24.
3 Цит. по: РыжковН. Трагедия великой страны. - М., 2007. - С. 24-25.
4 Цит. по: Рыжков Н. Трагедия великой страны. - М, 2007. - С. 26.
359
«За шесть лет пребывания на посту Генсека Горбачев одинна-
дцать раз встречался с Президентом США. В итоге политики во
многом односторонних уступок рухнула Берлинская стена, уничто-
жены Варшавский договор, содружество социалистических стран и
сам Советский Союз. Под звуки оркестра, которым дирижировал
пьяный Ельцин, войска постыдно покидали свои военные базы и
уходили в никуда - в чистое поле с походными палатками. Таков
был позорный итог соглашения М. Горбачева с его другом Г. Колем
на государственной даче в Архызе», - такова печальная картина го-
сударственной деятельности партийного лидера, представленная
бывшим главой законного правительства СССР1.
Военные и политические инициативы были неразрывно перепле-
тены в мышлении Горбачева. Его помощник Черняев описал подго-
товку речи М. Горбачева в ООН со всеми деталями. Он сокрушался,
что не могли даже в Советском Союзе полностью оценить ее идео-
логическое значение. Уже не в первый раз Запад не понял происхо-
дящего. Советы пытались привлечь внимание Р. Рейгана в ходе
встречи на высшем уровне в Москве в июне 1988 года заявлением об
общности интересов государств во взаимозависимом мире и о прин-
ципе невмешательства в дела других. Нетрудно увидеть, почему по-
мощники Р. Рейгана рассматривали это заявление как набор лозун-
гов, похожих на те, которые принимались в период разрядки, за что
Р. Рейган критиковал своих предшественников. Администрация
Р. Рейгана сфокусировалась на постепенных шагах по продвижению
собственного плана в четырех частях: права человека, контроль над
вооружениями, двусторонние отношения и региональная безопас-
ность.
Еще до речи генсека в ООН Яковлев заявил, что «классовая
борьба» потеряла свое значение в международной политике взаимо-
зависимого мира. Шеварднадзе уточнил тезис на научно-
практической конференции МИДа, заявив, что классовые интересы
уступили место интересам одного взаимозависимого мира.
Почти во всех публикациях, повествующих о процессе объеди-
нения Германии, как бы остается в тени фигура посла США в Бонне
в тот период Вернона А. Уолтерса, сыгравшего не последнюю роль в
инициировании и исполнении плана «коренных изменений» в Гер-
мании. До начала второй мировой войны Вернон Уолтерс вступил в
армию США рядовым солдатом и за 36 лет службы прошел путь до
чина трехзвездного генерала, побывав по службе в 70 странах мира
1 Там же.
360
(Антарктида не в счет). Он прошел через многие горячие точки по-
слевоенного мира: через гражданскую войну в Греции, через войны
в Корее и во Вьетнаме, наконец, через «войну в Заливе». Не трудно
догадаться о том, в каком качестве он служил в разных концах света,
если в отставку он уходил с должности заместителя директора ЦРУ.
После выборов 1980 года администрация Рейгана призвала его на
службу в качестве посла по особым поручениям - дипломата-
«миротворца». Все это важно иметь в виду для правильного пони-
мания самого факта назначения отставного генерала послом в ФРГ
администрацией президента Дж. Буша (старшего). Вскоре после из-
брания, но еще до инаугурации, в канун нового 1988 года, Дж. Буш
лично пригласил его на беседу перед отправкой «старого солдата»
послом в Германию. «Там, - сказал президент, - речь пойдет о
большом цельном деле. Хочешь ли ты, Дик, мне помочь или ты по-
кинешь меня в трудный момент?» Многие годы совместной работы
они называли друг друга не иначе как по имени и научились пони-
мать друг друга с полуслова или даже без слов. Советники прези-
дента пояснили В. Уолтерсу, что Германия имеет, ни мало, ни мно-
го, принципиальное значение для безопасности США1. Мы отметим
здесь лишь сам факт: перед «большими изменениями» в Германии
послом США назначен отставной военный, «свидетель» революций
в разных странах и очевидец гражданских войн 73-х летний Вернон
А. Уолтерс. Насторожило ли это наших дипломатов? Возможно,
ведь они уже были призваны к «новому» мышлению в духе «обще-
человеческих ценностей».
Посол США в ФРГ Вернон Уолтерс предстает в своих воспоми-
наниях как прозорливый дипломат, предсказавший скорое объеди-
нение Германии. При этом он был меньшим скептиком, чем госсек-
ретарь Дж. Бейкер, поскольку знал замысел Дж. Буша (старшего)
непосредственно от самого президента, хотя, возможно, не во всех
закулисных деталях. Особенно это касается установки в отношении
М. Горбачева. Госсекретарь Дж. Бейкер и министр иностранных дел
Г.-Д. Геншер понимали, что объединение Германии не столь про-
стое дело, каким его представлял себе «старый солдат». Последний
признает, что оба они понимали, что только Горбачев может помочь
Западу создать «более мирные» условия объединения немцев в еди-
ном государстве. «Поэтому ничего не должно было быть предприня-
1 Vernon A. Walters. Die Vereinigung war voranscehebar. Die Auf Zeich-
nungen des amerikanischen Botschafters Berlin, 1994. P. 90-92.Уолтерс В. С.
18-19.
361
то, что могло бы ослабить его позицию в Советском Союзе. При
этом Бейкер не заметил, что Горбачев давно уже дал волю тем си-
лам, которые, в конечном счете, должны были поглотить его само-
го», - отметил В. Уолтерс, когда дело было сделано.
Госсекретарь Дж. Бейкер не видел альтернативы Горбачеву, то-
гда как люди, близкие к Дж. Бушу, видели дальше, хотя во время
первого визита Бориса Ельцина президент США не принял его лич-
но, поручив это советнику по безопасности Б. Скаукрофту. Чтобы не
оставлять сомнений в том, что он, Вернон Уолтерс, был не послед-
ней фигурой в инициировании процесса объединения Германии, от-
мечает, что, в отличие от Дж. Бейкера, был личным представителем
президента: «Ибо вскоре после моего вступления в исполнение обя-
занностей по службе в Германии Буш сделал заявление, в котором
указал, что он ожидает достижения единства Германии еще в период
своего президентства»1.
В 1999 году, выступая на семинаре в Американском университе-
те в Турции, М. С. Горбачев откровенно заявил: «Целью всей моей
жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над
людьми»2. Карьера в партии была подчинена этой возвышенной це-
ли. К пониманию этого партийный лидер пришел позже своей суп-
руги, Раисы Горбачевой, доцента научного коммунизма. Какие-либо
опровержения со стороны М. С. Горбачева нам не известны.
Среди сподвижников генсек особо выделяет А. Н. Яковлева и
Э. А. Шеварднадзе, заслуги которых (перед кем?) «просто неоцени-
мы». Прогноз самого М. С. Горбачева тоже «просто неоценим»:
«Мир без коммунизма будет выглядеть лучше. После 2000 года на-
ступит эпоха мира и процветания». Единственным серьезным пре-
пятствием на пути к всеобщему процветанию он считал Китай. Он
якобы намерен был сохранить СССР, но под другим названием. Од-
нако: «Ельцин разрушил СССР». «Ельцин, - по словам М. Горбаче-
ва, - страшно рвался к власти».
Именно по этой причине - последовательной линии на развал
Союза ССР - администрация США сделала выбор в пользу Ельцина.
Не последнюю роль в выборе сыграла воспитанница Дж. Буша
(старшего) эксперт по России Кондолиза Райс, владеющая русским
языком и свободно читавшая «Правду». Глава Белого дома весьма
1 Op. cit, p.90-92.
2 Сообщение об этом было опубликовано в газете «Усвит» («Рассвет»
или «Заря») № 24, 1999 г. в Словакии.
362
лестно отзывался о прозорливой Райс: «Она рассказала мне всё, что
я знаю о Советском Союзе».
К слову сказать, Кондолиза Райс серьезный знаток и германских
дел. В 1995 г. в Кембридже вышла ее книга «Объединенная Герма-
ния и измененная Европа: опыт государственного строительства».
Она относит М. С. Горбачева к историческим фигурам, но не забы-
вает упомянуть и Анатолия Черняева и Эдуарда Шеварднадзе.
Именно опыт объединения Германии и послужил, если не причиной,
то поводом для отказа от услуг Горбачева в пользу Ельцина. Осо-
бенно раздражало Конди стремление М. С. Горбачева сохранить в
Европе «маленьких Горбачевых», которые повели бы Восточную
Европу по пути демократического социализма.
Первые сомнения в правильности политики Горбачева в герман-
ском вопросе появились среди опытных политических деятелей и
наблюдателей еще в самом начале «судьбоносного процесса», хотя
успокоительным мотивом служила ссылка на увязку урегулирования
германского вопроса с общеевропейской безопасностью, со строи-
тельством мифического «общеевропейского дома». Обоснованные
сомнения высказывали не только партийные деятели в ближайшем
окружении генсека, но и дипломаты, хорошо знавшие сложность
германского вопроса и соответственно сложность его быстрого ре-
шения. Более того, критические замечания были высказаны в форме
альтернативных предложений, а затем и открыто на партийном
съезде. Уже в первых обобщениях публицистов четко высказана
мысль, что идет одна уступка за другой, то навстречу пожеланиям
дипломатов ФРГ, то требованиям администрации США. Но почему-
то всякий раз в ущерб интересам Советского Союза, т.е. России.
Скажем, Э. Шеварднадзе днем излагает официальную точку зрения,
а в полдень в кулуарах сообщает партнерам, что сам он придержива-
ется иного мнения. Сегодня М. Горбачев излагает официальную по-
зицию Советского Союза, а завтра прямо противоположную свою,
сдавая одну позицию за другой. То он говорит, что мы не дадим в
обиду ГДР, то вдруг заявляет: Ни шагу без канцлера ФРГ Г. Коля.
То он говорит, что объединение Германии не стоит в повестке дня,
что это возможно через сто лет. то вдруг: Пусть сами немцы решают
вопрос о своем единстве. При этом немцами считают почему-то
только Г. Коля и его окружение. То участие Германии в НАТО абсо-
лютно не приемлемо, то ограничение суверенитета мировой держа-
вы не приемлемо. Если это называют дипломатической гибкостью,
то что называют беспринципностью?
363
В начале 2004 года в первом номере академического журнала
«Новая и новейшая история» была опубликована статья заведующе-
го кафедрой международных отношений и внешней политики Рос-
сии, доктора исторических наук профессора М. М. Наринского, на-
писанная в тесном сотрудничестве с «Фондом Горбачева», который
предоставил исследователю материалы своего архива, позже опуб-
ликованные в виде двух сборников документов. Автор статьи добро-
совестно стремился соблюсти научную объективность. Он исполь-
зовал свидетельства непосредственных участников урегулирования
в отношении Германии, известных опытных дипломатов, экспертов-
германистов. Каждый из них в интервью и воспоминаниях отметил
«тактические ошибки» или упущения дипломатии Горбачева и Ше-
варднадзе», скромно отмечая сделанные в свое время предложения,
отвергнутые «высшим» партийным руководством. Если учесть не
только непосредственные результаты германского урегулирования,
такие, как триумф Коля и Геншера, Нобелевская премия
М. Горбачеву и т.п., но и отдаленные последствия, такие, как развал
Советского Союза, распад содружества социалистических госу-
дарств, экспансию США в Европе и в Азии, то «ошибки» и «упуще-
ния» предстают как составные части большого стратегического за-
мысла, реализованного в интересах известной сверхдержавы. Если
повторить опыт по методу профессора М. М. Наринского, то скла-
дывается достаточно яркая мозаичная картина процесса объедине-
ния ФРГ и ГДР при активном содействии Горбачева и его сподвиж-
ников. Некоторые факты из предыстории объединения Германии
просто поразительны: как быстро генсек компартии забыл горечь
оскорбления его Г. Колем, сравнившего лидера страны с Геббельсом.
М. Горбачев принял в Москве в октябре 1988 года того же
Г. Коля и заключил с ним серию соглашений в надежде получить
кредиты. Вскоре М. Горбачев признает за Г. Колем право говорить
от имени всех немцев и принимает формулу «два плюс четыре», а
дипломатам предписывает составлять соответствующие документы
под диктовку главы дипломатии ФРГ Г.- Д. Геншера. Мотивы усту-
пок: «Геншер - хороший человек», «Ничего без канцлера», «Поезд
уже ушел» и т.п. М. Горбачев вместе с Э. Шеварднадзе реализовали
свою личную дипломатию, не согласовывая свою деятельность ни с
высшим партийным органом, ни с законным правительством стра-
ны, которое возглавлял Н. И. Рыжков.
Известный советский дипломат О. А. Гриневский, работавший
много лет на американском и ближневосточном направлениях, а за-
тем ставший послом в Швеции, не был вовлечен непосредственно в
364
германские дела. Однако в ходе начавшихся переговоров по герман-
скому урегулированию он неожиданно был привлечен по инициати-
ве Э. Шеварднадзе к участию в переговорах по германским делам. В
личной беседе с автором данного очерка - своего рода интервью -
28 июня 2007 г. он высказал свое мнение относительно подхода пар-
тийных руководителей к решению германского вопроса. По его
представлению, в советском руководстве даже осенью 1989 года не
было не только единой концепции урегулирования кризиса в ГДР,
но и вообще ясности в понимании ситуации. Они исходили из того,
что объединение Германии не произойдет в ближайшее время. Од-
нако после разрушения Берлинской стены идея объединения как бы
«ворвалась» в Европу. Он полагает, что именно в этот момент лиде-
ры США и ФРГ взяли курс на быстротечное поглощение ГДР. В
Кремле в этот момент царил «разброд». В руководящих кругах в
Москве возникли различные мнения об условиях урегулирования
германского вопроса.
Посол О. Гриневский полагает, что М. Горбачев избрал тактику
«ничегонеделания», полагаясь на то, что все решит история. «Отсут-
ствие стратегической линии и упование, что все решит история че-
рез 50- 100 лет стали трагедией советской внешней политики», -
считает О. Гриневский. Дипломаты оказались в нелепом положении:
«Как нам приходилось решать в этих условиях конкретные дела,
связанные с объединением Германии и европейской безопасностью?
Дипломаты горько шутили: Это всё равно, что тебя послали в бой, а
командир дает приказ «Вперед! - «Стой на месте!». И что тогда тебе
делать? Но что бы ни произошло, командир будет всегда прав», -
сказал О. Гриневский. Аналогичные указания получали советские
дипломаты в Берлине в кризисной ситуации: «Как идет, так пусть и
идет».
В критический момент кризиса в ГДР, в момент слома стены, в
Берлине (ГДР) посольство возглавлял В. И. Кочемасов, а советни-
ком-посланником был опытный дипломат-профессионал И. Ф. Мак-
симычев. Его записи и воспоминания - наиболее достоверные сви-
детельства непоследовательности и противоречивости указаний, по-
ступавших из Москвы в Берлин. Позже И. Ф. Максимычев обобщил
опыт деятельности советского посольства в Берлине в период кризи-
са в ГДР. Дипломат адекватно отразил ситуацию в ГДР. Бурные со-
бытия общественной жизни ГДР объясняют отчасти мотивы дейст-
вий М. Горбачева, однако отнюдь не оправдывают его поспешные
шаги и пренебрежение интересами и мнением искренних друзей
нашей страны - граждан ГДР. Судя по всему, в Берлин, в посольст-
365
во, поступала дозированная, неполная информация о решениях,
принятых в пользу ФРГ. Об этом свидетельствуют и признания гла-
вы правительства ГДР Г. Модрова с ноября 1989 г. до марта 1990 г.
В статье В. П. Терехова в журнале «Международная жизнь»
(1998. - № 8. - С. 62-64) дан обстоятельный анализ дипломатическо-
го аспекта процесса объединения двух германских государств
в 1989-90 гг. По насыщенности серьезными обобщениями и крити-
ческими оценками личной дипломатии М. Горбачева и
Э. Шеварднадзе в этом процессе статья стоит целого тома обычных
воспоминаний дипломатов. Можно сказать, что это обстоятельное
исследование. Так называемая политкорректность и поистине ди-
пломатический такт не помешали участнику событий, действовав-
шему на ответственном участке дипломатического фронта, дать
трезвые критические оценки деятельности партийных руководите-
лей, оказавшихся абсолютно некомпетентными в ведении государ-
ственных дел на международном поприще.
Эти деятели иногда выслушивали опытных дипломатов, затем
выключали их из процесса принятия решений и принимали весьма
субъективные решения, странным образом совпадавшие с пожела-
ниями партнеров, представителей иностранных государств, но не с
интересами своей страны. Они шли на одну уступку за другой и на
неоправданные сделки, оставляя профессионалам оформление до-
кументов, причем в весьма сжатые сроки. Поспешность политиче-
ских деятелей, неуместная в государственных делах, обернулась
ущербом для интересов страны. Правда, В. П. Терехов делает скидку
на объективные обстоятельства, такие, как экономическое и соци-
ально-политическое состояние Советского Союза в конце 80-х го-
дов. Однако это катастрофическое состояние было результатом той
самой перестройки, которая стала, как отметили и иностранные на-
блюдатели, «катастройкой». Этой ситуацией и воспользовались пра-
вительства США и ФРГ для решения своих амбициозных геополи-
тических проблем.
Особую историческую ценность исторического источника ин-
формации, имеет «Дневник» советника-посланника посольства
СССР в Берлине И. Ф. Максимычева, опубликованный в 2002 году
под названием «Народ нам не простит...». Эти слова сказаны
М. Горбачевым в выступлении перед сотрудниками посольства осе-
нью 1989 года в совершенно ясном контексте: объединение Герма-
нии не стоит в повестке дня и народ нам не простит (очевидно,
имелся в виду не только советский народ, но и граждане ГДР), если
мы потеряем ГДР. Прогноз М. Горбачева - свидетельство того, что
366
он сознавал ответственность, которую он брал на себя в последую-
щих решениях, начиная с декабря 1989 года.
В дневнике И. Ф. Максимычева прослеживается работа посоль-
ства СССР в Берлине с понедельника 2-го января 1989 г. до 4 октяб-
ря 1990 года, когда посол СССР в ФРГ В. П. Терехов, (а с этого дня
посол в объединенной Германии) провел совещание в посольстве в
Берлине. Записи профессионала и его оценки чрезвычайно важны
для понимания того, как складывались отношения Советского Сою-
за с союзным государством ГДР. Можно сказать, что тогдашние со-
ветские руководители бросили ГДР на произвол судьбы.
Заключительная часть дневника И. Ф. Максимычева под назва-
нием «Тяжкое похмелье» содержит абсолютно трезвые суждения не
только о ходе событий, но и о последствиях быстротечного процесса
поглощения ГДР более сильным германским государством ФРГ на
«основании» статьи 23 Основного закона ФРГ, которая собственно
не содержала никаких международно-правовых оснований для по-
глощения одного суверенного государства другим.
Из обобщений И. Ф. Максимычева мне представляются весьма
важными следующие: «ГДР не могла существовать» без поддержки
со стороны СССР, но исторический факт состоит в том, что «прошло
чуть больше года после исчезновения ГДР, и СССР также не стало
на политической карте мира»1, (с. 174). Очевидно, что существова-
ние Советского Союза было тесно связано не только с существова-
нием единого хозяйственного организма, каковым был союз социа-
листических республик, но и со сложившейся международной сис-
темой хозяйства. Более трети импортируемой машиностроительной
продукции Советский Союз получал из ГДР.
Берлинская стена как факт была признана четырехсторонним со-
глашением (СССР, США, Великобритании и Франции) в 1971-72 гг.,
хотя и без формального участия ФРГ и ГДР. Осенью 1989 года меж-
дународно-правовая ответственность за Берлин и Германию в целом
оставалась на четырех державах. Естественно, в момент обострения
кризиса полагалось обратиться к трем державам с предложением
переговоров и урегулирования.
Однако такое предложение советского посольства не получило
поддержки Центра. Оно как бы повисло в воздухе. М. Горбачев
предпочел не обсуждать этот вопрос с Францией и Великобритани-
ей, но откликнулся на вызов президента США прибыть на Мальту.
1 «Народ нам не простит...». - М., 2002. - С. 174.
367
Весьма интересно наблюдение профессионального дипломата
относительно поведения правящих кругов ФРГ после завершения
процесса объединения Германии. В суждениях политиков разных
стран это связано с вопросом о том, кто победитель в холодной вой-
не. США однозначно заявили, что они победили в борьбе с «импе-
рией зла». «Для так называемой германской политической элиты
чрезвычайно характерно, что она без всяких сомнений зачисляет
Россию в число побежденных в «холодной войне», а Германию в
число победителей, - заметил И. Ф. Максимычев.
Свои наблюдения и опыт дипломатической работы И. Ф. Мак-
симычев обобщил в 90-х годах в серии статей в журнале «Междуна-
родная жизнь», а также в книге «Последний год ГДР» 1, затем в ряде
исследовательских эссе, выполненных в Институте Европы РАН 2.
Не менее опытные в иностранных делах сотрудники спецслужб
реже, чем дипломаты, делятся своим опытом и публикуют воспоми-
нания. Это относится и к сотрудникам на германском направлении.
По проблематике объединения Германии в 90-е годы появилось не-
сколько таких публикаций. Среди них, как мне представляется, ин-
тересны публикации И. Н. Кузьмина и В. С. Кеворкова. Очевидец и
участник событий конца 80-х - начала 90-х годов в Германии Иван
Кузьмин написал несколько книг, имеющих ценность источников
информации.
Будучи сотрудником представительства КГБ СССР в ГДР, автор
воспоминаний и исследований документально точно осветил все
основные события периода окончательного урегулирования в отно-
шении Германии. Наиболее полная картина событий дана им в пуб-
ликациях «Шесть осенних лет. Берлин 1985-1990» (М., 1999) и в
книге «Поражение. Крушение ГДР и объединение Германии» (М.,
2003). Эти публикации имеют не столько мемуарную, сколько ис-
следовательскую ценность, поскольку в них учтены и проанализи-
рованы практически все аспекты проблемы.
1 Последний год ГДР: Игорь Максимычев. Крушение. Реквием по ГДР.
Ханс Модров. Взлет и падение. - М., 1998.
2 Объединенная Германия как фактор европейской безопасности. - М.,
1997; Российско-германские отношения: формирование, состояние, пер-
спективы. - М., 1997; Угрозы безопасности России, связанные с началом
расширения НАТО. - М., 1998; Континент на перепутье. Новая Россия и
новая Германия в новой Европе. - М., 1999; «Восточная политика» единой
Германии. - М., 2001; Германский фактор в европейской политике России.
-М., 2004.
368
Ценность источника для историков, несомненно, имеет книга
бывалого сотрудника разведки и контрразведки Вячеслава Кеворко-
ва, вышедшая с послесловием Эгона Бара в 1997 году. Многие фак-
ты и свидетельства автора воспоминаний помогают понять слож-
ность германской проблемы после второй мировой войны и проти-
воречивость ряда решений при «окончательном урегулировании»1.
Наиболее полным и компетентным документом своего времени
для историков долго еще будут оставаться «Политические воспоми-
нания» Валентина Фалина, вышедшие первоначально на немецком
языке в 1993 году, а затем в версии на русском языке под названием
«Без скидок на обстоятельства»2.
Дипломаты-исполнители указаний центра, конечно, не сидели,
сложа руки, и делали, что могли для соблюдения интересов своей
страны и союзной ГДР. Ю. А. Квицинский, бывший послом СССР в
ФРГ с 1986 по 1990 год, а с мая 1990 года заместителем министра, в
воспоминаниях «Время и случай. Заметки профессионала» дает
полную картину процесса урегулирования, с горечью отмечая, что
«жизненный нерв ГДР то ли лопнул, то ли был перерезан летом 1989
года», т.е. после визита М. С. Горбачева в ФРГ.
Политический кризис в ГДР, я уверен в этом, был запланирован
правительством ФРГ. Еще в ноябре 1989 года, после разрушения
Берлинской стены, М. Горбачев заявляет, что вопрос об объедине-
нии Германии не стоит в повестке дня. В этот момент
Ю. Квицинский предлагает руководству план конфедерации двух
германских государств. Его услышал не только глава правительства
ГДР Г. Модров, но и канцлер ФРГ Г. Коль. Но М. Горбачев предло-
жение о конфедерации оставил без внимания. Почему?
Никто из наблюдателей не дал пока ясного ответа на вопрос, на
какую скалу у о. Мальта налетел корабль Горбачева. В декабре 1989
- январе 1990 гг. произошел перелом. Именно тогда М. Горбачев
изрек: «Ничего без канцлера». Встреча его с канцлером Г. Колем в
феврале 1990 г. дала зеленый свет поезду германского единства, еще
до того как в ГДР были проведены «свободные выборы».
В мае 1990 года Ю. Квицинский отозван из Бонна и назначен за-
местителем министра иностранных дел как бы для грамотного
оформления сделки, в которой его предложение о конфедерации не
было учтено. Ему предстояла нелегкая работа по выработке «боль-
1 Кеворков Вячеслав. Тайный канал. - М., 1997 г.
2 Фалин В.М.. Без скидок на обстоятельства. Политические воспомина-
ния. - М., 1999.
369
шого договора» между СССР и ФРГ и участие в переговорах о кре-
дитах, но заключение большого договора было сдвинуто на время
после объединения ФРГ с ГДР.
Министр иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншер склонен был тол-
ковать Заключительный акт, подписанный 35 государствами, в том
числе США и Канадой, как начало процесса преодоления конфрон-
тации между Западом и Востоком Европы. Он видел смысл Заклю-
чительного акта не в закреплении послевоенного статус-кво, а в
преодолении его без применения силы. В советской концепции ев-
ропейской политики начатый в Хельсинки процесс был предназна-
чен для закрепления статус-кво и развития отношений на основе
принципов мирного сосуществования. Во всяком случае, в течение
двух десятилетий эти принципы служили не только сохранению ми-
ра, но и сотрудничеству между государствами с различным соци-
ально-экономическим строем. Между прочим, Московский договор,
подписанный между СССР и ФРГ в 1970 году и вступивший в силу
накануне общеевропейского совещания, как раз закреплял послево-
енное устройство в Европе. Решающую роль в изменении глобаль-
ного соотношения сил экономических потенциалов сыграли Соеди-
ненные Штаты Америки. Исход соперничества США и СССР, а
также одностороннее сокращение военного потенциала Советского
Союза и уменьшение его влияния на страны Восточной Европы и
создали условия, при которых третий экономический гигант - ФРГ и
приступил к решению «национальной» задачи: присоединению дру-
гого германского государства - ГДР. Исторический парадокс состо-
ит в том, что назревшая проблема международной европейской ин-
теграции и объединение европейских государств в политический
союз решалась через национальные проблемы Германии. Казалось
бы, для удовлетворения национальных амбиций достаточно было
включить ГДР в Европейское экономическое сообщество. Однако на
деле ФРГ реализовала более амбициозный план: преодолела все по-
следствия второй мировой войны, кроме разве что территориальных,
а затем преодолела и пределы экономической экспансии. После раз-
вала Советского Союза создан Европейский Союз, в котором Герма-
ния взяла на себя ответственную роль, которую играла Россия среди
16 республик, однако теперь уже в отношениях с 25 государствами,
которые поступились частично своим суверенитетом.
При оценке тектонических сдвигов в Европе в 90-е годы некото-
рые политики всерьез ссылаются на «ветры истории», одни, чтобы
оправдать свои активные действия, другие - чтобы оправдать свою
бездеятельность. Ветры истории (или иначе объективные законо-
370
мерности истории) веяли во все времена. Объективный ход истории
не дано изменить ни одному, даже самому умелому политику. Одна-
ко для того и создаются в политике коалиции, союзы, заговоры и
сговоры, реализующие свои стратегические замыслы, используя по-
путные ветры истории.
В связи с концепцией попутных ветров истории невольно вспо-
минается эпизод или инцидент на переговорах об установлении ди-
пломатических отношений между СССР и ФРГ, когда Н. С. Хрущев,
как отмечено в протоколе, заявил, что «нам ветер в лицо не дует», но
указал при этом на место ниже спины, как свидетельствовали оче-
видцы. Так что исторические ветры могут быть встречными, но мо-
гут быть и попутными. Однако история знает еще и ветер, дующий в
спину отступающего, бросающего оружие противника, бегущего с
поля боя. От ветра, «тропайя» в свое время и возникло понятие тро-
фей. В деятельности Горбачева и его соратников, похоже, дули
именно такие ветры истории.
Германские политики свой успех уже в 1990 году истолковали
как «подарок истории», однако благодарили не русский народ, а от-
благодарили вполне конкретных деятелей: М. Горбачева,
Э. Шеварднадзе, возможно, и других, хотя и в скромных масштабах.
Так что образные выражения «ветры истории» или «подарки исто-
рии» - скорее всего прикрытие конкретных замыслов и планов дос-
тижения политических целей без применения силы. Но, ФРГ в оди-
ночку, конечно, не могла справиться с такой грандиозной задачей.
Помог дядя Сэм. Теперь дядя Сэм рассчитывает на благодарность и
поддержку в реализации своих глобальных амбиций.
Американский взгляд на итоги развития событий в последнем
десятилетии XX века с предельной четкостью был выражен в вы-
ступлении Билла Клинтона на закрытом совещании Объединенного
комитета начальников штабов 24-го или 25 октября 1995 года, став-
шем нам известным спустя почти пять лет из публикации россий-
ского издания «Досье» № 4 за 2000 год1. Президент США Б. Клин-
тон выразил глубокое удовлетворение развалом Союза ССР, особо
подчеркнув использование в интересах США «чрезмерной самона-
деянности» Горбачева и его окружения: «Последние десять лет по-
литика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала
правильность взятого нами курса на устранение одной из сильней-
ших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя
1 См. также Бегунов Ю. Тайная история масонства. - М., 2001. - С. 541.
542.
371
промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность
Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял
проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сде-
лать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной
бомбы».
В узком кругу государственных чинов президент США признал,
что для достижения своей цели пришлось потратить миллиарды
долларов (в одном из выступлений была названа общая сумма в 35
млрд. долларов). «Когда в начале 1991 года работники ЦРУ переда-
ли на восток для осуществления наших планов 450 млн. долларов, а
затем еще такие же суммы, многие из политиков, военных не верили
в успех дела». Президент США заявил: «В годы так называемой пе-
рестройки в СССР многие наши военные и бизнесмены не верили в
успех предстоящих операций. И напрасно. Расшатав идеологические
основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое
господство государство, составляющее основную конкуренцию
Америке. Наша цель и задача и в дальнейшем оказывать помощь
всем, кто хочет видеть в нас образец западной свободы и демокра-
тии». Чтобы посрамить скептиков и оправдать затраты Билл Клин-
тон привел конкретные данные о материальном выигрыше на мно-
гие миллиарды долларов в результате развала Союза ССР. По его
оценке, Америка получила стратегического сырья на 15 млрд. долл.
«от друзей» в России. Под несуществующие проекты США и их со-
юзники получили под ничтожно малые суммы сотни тонн золота,
драгоценных камней, а, кроме того, 20 тыс. тонн меди, 50 тысяч
тонн алюминия, 2 тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и т.д. и
т.п. Вот почему президент США выразил удовлетворение существо-
вавшим тогда правительством России и заинтересованность в избра-
нии Б. Ельцина на второй срок. Стратегия США цинична и беспо-
щадна: «Мы тем самым создадим полигон, с которого уже никогда
не уйдем». Задача поставлена четко: при помощи «друзей» не до-
пустить к власти в России коммунистов, левые партии вообще, соз-
давая им мыслимые и немыслимые преграды. «И поэтому, - призвал
президент США, - нельзя скупиться на расходы». При этом он иро-
нически сослался на русское понятие «самоокупаемость».
«Цель оправдывает средства», - употребил Б. Клинтон иезуит-
ский принцип, подводя итог первой пятилетки после устранения
СССР с мировой арены и определяя задачи на следующее десятиле-
тие:
372
1. Расчленение России на мелкие государства путем межрегио-
нальных войн, подобных тем, что были организованы нами в Юго-
славии.
2. Окончательный развал военно-промышленного комплекса
России и ее армии.
3. Установление нужных нам режимов в оторвавшихся от России
республиках.
Да, мы позволили России быть державой, но империей будет
только одна страна - США.
Поскольку за десять с лишним лет не последовало никаких оп-
ровержений этой публикации, у историков нет основания сомне-
ваться в ее достоверности. Выступление президента США, выпол-
ненное в американском стиле, нам представляется серьезным исто-
рическим документом, объясняющим состояние не только России,
но и других частей бывшего Советского Союза. Откровения Билла
Клинтона в узком кругу своих чрезвычайно важны для трезвой
оценки роли последних советских (точнее антисоветских) руководи-
телей, а также последующих деятелей России, использованных аме-
риканскими политиками в своих целях. Когда же настанет отрезвле-
ние и сопротивление циничному диктату?
Анализ процесса объединения Германии в конце 80-х - начале
90-х годов, особенно непосредственных и отдаленных последствий
этого исторического события, позволяет сделать некоторые предва-
рительные выводы, предварительные потому, что еще многие под-
робности этого процесса, особенно дипломатические и закулисные
стороны этого процесса, остаются в сейфах главных участников
окончательного урегулирования. Вместе с тем, остается ряд вопро-
сов, на которые мог бы дать ответы только М. С. Горбачев, однако
не дает их в своих оправдательных публикациях. Среди этих вопро-
сов, например, такие:
- Как и почему удалось преодолеть личное оскорбление со сто-
роны канцлера ФРГ Г. Коля, сравнившего его с Геббельсом?
- Что было стимулом для спешки в ведении переговоров и при-
нятии решений командой Горбачева, начиная с осени 1988 года?
- Почему судьбоносные решения принимались единолично в уз-
ком кругу ближайших сотрудников, но не в высших государствен-
ных или хотя бы в партийных органах страны, не говоря уже об уче-
те общественного мнения?
Личная дипломатия генерального секретаря партии и его спод-
вижников фактически не имела легитимной основы, особенно при
принятии ответственных решений, таких, как отказ от выработки и
373
заключения полновесного мирного договора с Германией и даже от
созыва международной конференции для обсуждения проблем
окончательного урегулирования в отношении Германии.
В ходе начавшихся в 1990 г. переговоров почему-то легко была
принята формула Запада «два плюс четыре» (ФРГ и ГДР плюс дер-
жавы-победители), а не «четыре плюс два», которая прямо вытекала
из международно-правового положения об ответственности четырех
держав за Берлин и Германию в целом. Это положение было как бы
отменено еще до достижения соглашения по мирному урегулирова-
нию. Отказ объединенной Германии от участия в военных блоках,
т.е. принятие ею добровольно статуса нейтральной державы могло
быть непременным условием («кондицио сине ква нон», как говорят
дипломаты), урегулирования. Не было учтено даже предложение
поставить условием урегулирования неучастие Германии в военной
организации Североатлантического блока.
В переговорах даже не ставился вопрос о возмещении ущерба,
нанесенного советскому народу в результате германской агрессии в
годы второй мировой войны. Зато германская сторона поставила
вопрос о возмещении экологического ущерба, который якобы был
нанесен в результате пребывания советских войск на территории
Германии, как если бы германская многомиллионная армия была
озабочена охраной окружающей среды на территории России, Бело-
руссии, Украины и других республик Союза ССР в 1941-44 годах.
Даже вопрос о компенсации жертвам нацистского режима рассмат-
ривался германскими властями после окончательного урегулирова-
ния и «великодушно» был решен в весьма скромных масштабах. Ос-
тавшиеся в живых граждане нашей страны, а их число исчислялось в
годы войны миллионами, получили символическую компенсацию в
сумме, достаточной для недельного пребывания в гостях в местах их
беспощадной эксплуатации в Германии.
Население Восточной Германии в первые послевоенные годы
внесло свой вклад в возмещение ущерба, нанесенного советскому
народу в годы войны. Однако ФРГ отнюдь не возместила эти затра-
ты. Что касается обещания превратить Восточную Германию в «цве-
тущий ландшафт», то эти планы растянулись на десятилетия, по ис-
течении которых неравенство в положении осси и веси остается
фактом. Хотелось бы знать, как учитывал М. Горбачев интересы
граждан союзной ГДР в ходе урегулирования, отдавая в руки
Г. Коля дело объединения немцев еще до проведения досрочных
«свободных выборов» на территории ГДР - выборов, проведенных
при активном участии политических сил Западной Германии. Жиз-
374
ненно важные имущественные вопросы на территории ГДР, по вос-
поминаниям М. Горбачева, не были предметом обсуждения на
«высшем уровне». Однако ему следовало знать и помнить заявление
по этому поводу Советского правительства от 28 марта 1990 года.
Существенным вопросом, который полагалось решить в интере-
сах страны в ходе переговоров об окончательном урегулировании с
Германией, был разумеется, вопрос о собственности нашего госу-
дарства на германской территории. По данным главкома Западной
группы войск (последнего из 16 главкомов советских войск в Гер-
мании после 1945 года) генерал-полковника М. П. Бурлакова, назна-
ченного на эту должность после окончательного урегулирования и
подписания соглашений о «переходных мерах», в декабре 1990 года
на германской территории находилось значительное не только по
объему, но и по стоимости имущество. Оно размещалось в 777 во-
енных городках, где имелось 36 290 зданий и сооружений. «Текущая
стоимость» этого имущества превышала 10 млрд. марок. В целом
имущество оценивалось суммой в 30 млрд. марок. Разумеется, судь-
бу всего имущества следовало определить в одном пакете с оконча-
тельным урегулированием, т.е. с объединением двух германских го-
сударств. Реализация этого имущества после вывода наших войск
почему-то была передана Министерству финансов ФРГ как бы пере-
дано с баланса на баланс. В конечном счете, все свелось к нулю для
России. В этот баланс, очевидно, не входила стоимость выводимой
техники: 150 ракетных пусковых установок, более четырех тысяч
артиллерийских орудия, около восьми тысяч танков и бронирован-
ных машин, десятки тысяч автомобилей, не считая стрелковое ору-
жие и авиатехнику.
Генерал-полковник М. П. Бурлаков подтверждает, что имела ме-
сто отнюдь не дружественная акция германских и американских
спецслужб в отношении ЗГВ под кодовым названием «Жираф». Од-
нако на вопрос: Кто виноват в издержках поспешного вывода войск?
- дает однозначный ответ: «Высшее руководство Советского Союза
и, прежде всего, ближайшее окружение Горбачева, которые прово-
дили крайне недальновидную и безответственную политику. Сам
Михаил Сергеевич добился мировой популярности благодаря тому,
что в угоду внешнеполитическим дивидендам забыл о внутренних
проблемах страны. Ради дружественных улыбок западного обывате-
ля и прозвища «Горби» он махнул рукой на собственный народ и его
интересы»1
1 «Ограбление века». Государственная Дума. - 2007. - № 5. - Сентябрь.
375
По всем правилам ведения государственных дел статус остаю-
щихся на территории Германии войск и их имущества, а также дву-
сторонний договор между ФРГ и СССР полагалось заключить одно-
временно с окончательным урегулированием, а не после него. Инте-
ресы нашей страны почему-то не учитывались в разговорах «на
высшем уровне», но пожелания партнеров учитывались безусловно.
Принятие условий другой стороны без оговорок называется в меж-
дународной практике капитуляцией.
Если использовать образы античной мифологии, то можно ска-
зать: Наш двуликий Янус решительно разрубил Гордиев узел гер-
манской проблемы, чтобы обрести Геростратову славу.
Научный путеводитель по германскому вопросу
Отношения с Германией занимают центральное место среди
приоритетов внешней политики России в течение по крайней мере
двух последних столетий. После разгрома фашизма германский во-
прос стал одним из главных и наиболее острых в мировой политике
и дипломатической борьбе.
Новый труд А. А. Ахтамзяна1, известного ученого-международ-
ника, одного из ведущих отечественных специалистов по Германии,
представляет собой одновременно серьезное научное исследование,
обстоятельный учебник, глубокие и яркие очерки по германской
проблематике.
Рецензируемое произведение охватывает, по существу, весь
комплекс важнейших событий на немецкой земле за шесть без мало-
го послевоенных десятилетий, не только синтезирует и дополняет
предыдущие публикации автора, но и проливает свет на по-
прежнему острые актуальные аспекты комплексной темы в тесной
увязке ее с европейской безопасностью в целом.
Автор прослеживает историю отношений между СССР/РФ и
ФРГ от создания ялтинско-потсдамской системы межгосударствен-
ных отношений в Европе до ее низвержения, раскрывает содержание
и возможные последствия коренного поворота в международных
отношениях на рубеже 90-х годов, дает характеристику тому, как
свершилось «объединение» Германии, точнее говоря, аншлюс ГДР
Западной Германией, каковы его в широком плане военно-
политические, экономические и другие последствия. В книге содер-
жится критика «личной дипломатии» Горбачева и его команды, ука-
зывается на фактах на наличие в тот период альтернативных пред-
ложений решения германского вопроса, прежде всего под углом
зрения наших государственных интересов.
1 Ахтамзян A.A. Объединение Германии. Обстоятельства и последст-
вия. Очерки. М. Изд-во «Библос консалтинг», 2010.
377
Заслугой автора является привлечение увидевших свет недавно
ценных документальных изданий, монографических исследований
российских и немецких авторов, а также - что пока не столь распро-
странено в нашей научной среде - использование материалов, бесед
с участниками и очевидцами событий конца 80-х - начала 90-х годов
прошлого столетия. Все это позволило ученому выдвинуть уточнен-
ные и новые оценки и выводы, затрагивающие отдельные аспекты
германских дел на различных этапах жесткого и долгого противо-
борства Востока и Запада.
Следуя хронологически-очерковой структуре книги, хотел бы
привлечь внимание читателей к наиболее существенным, по моему
мнению, сюжетам.
Казалось бы, об установлении дипломатических отношений ме-
жду СССР и ФРГ написано много, но и спустя более 50 лет истори-
ки знакомят читателей со все новыми фактами и деталями, предла-
гают любопытные суждения и версии. Это относится, например, к
гл. 1 (§ 3), в которой А. А. Ахтамзян сумел «театрализовать» уни-
кальное дипломатическое сражение в Москве в сентябре 1955 г. во
время визита К. Аденауэра, дать профессиональную оценку «дейст-
вующим лицам и исполнителям». Согласен с выводом, что визит
К. Аденауэра и установление дипломатических отношений с СССР
был успехом Бонна, но отнюдь не его триумфом. Верно замечает
автор, что наша дипломатическая команда была посильнее западно-
германской (с. 40). Он цитирует федерального канцлера, выразивше-
го удовлетворение искренностью и откровенностью советских уча-
стников переговоров (с. 43). Вполне логичен поставленный автором
вопрос: «Изменился ли имидж канцлера Аденауэра в глазах русских,
советских граждан после установления дипломатических отноше-
ний?». Ответ гласит: «Несомненно, да» (с. 44). Автор оставляет и
резерв на будущее: «Объективные оценки К. Аденауэра в россий-
ской историографии еще предстоит дать» (с. 45).
Несущей концептуальной конструкцией книги являются главы
II, III, IV, раскрывающие скрупулезно, по-немецки продуманную
подготовку «поглощения» ГДР. Занавес несколько приоткрыл быв-
ший министр иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншер, который в воспо-
минаниях (1997 г.) поведал о том, как был инициирован кризис в
ГДР (с. 65-66). В глазах боннской элиты визит Горбачева в ФРГ в
июне 1989 г. открыл перспективу начала «объединительного про-
цесса» согласно западной схеме (см. с. 69). Надлом берлинской сте-
ны в ночь на 9 ноября 1989 г., массовые демонстрации в крупней-
ших городах ГДР, исход многих тысяч ее граждан через открытые
378
границы на Запад - таковы были зловещие признаки приближаю-
щейся драмы - ухода с политической арены «первого на немецкой
земле государства рабочих и крестьян». Запад умело использовал их
недовольство существующим режимом, в конкретном случае, огра-
ничением прав человека. По оценке В. М. Фалина, «безоговорочное»
открытие границ ГДР означало фактически «самороспуск восточно-
германского государства» (с. 72).
Период с октября 1989 г. по октябрь 1990 г. войдет в историю
международных отношений как год небывало напряженной полити-
ческой и дипломатической активности ведущих держав Востока и
Запада, от которых зависели судьбы мира и безопасности в Европе и
в мире в целом. На этом непродолжительном отрезке времени был
задействован весь механизм методов и средств двусторонней и мно-
госторонней дипломатии. Решающее по масштабам, значению и по-
следствиям внешнеполитическое и дипломатическое противоборст-
во привело к драматическому демонтажу ялтинско-потсдамской
системы послевоенного миропорядка, поглощению ГДР Западной
Германией, распаду «социалистического содружества» и в конечном
итоге - СССР. Чаша весов мирового баланса сил двинулась в сторо-
ну однополярного преобладания США. Произошедший поворот в
международных делах имел тяжелые геостратегические и социаль-
но-экономические последствия для России.
Позиция СССР с осени 1989 г. по осень следующего года неук-
лонно изменялась в сторону уступок Западу. Это был, по заключе-
нию автора, «поворот к фатализму». Мир оказался на пороге «блиц-
воссоединения». Созданный в Москве «кризисный штаб» оказался
мыльным пузырем. Советники генсека полагали, что ГДР надо оста-
вить наедине с ее судьбой и примириться с тем, что объединенная
Германия войдет в НАТО (с. 92). Так оно и вышло, несмотря на от-
сутствие единства во взглядах на эту проблему среди даже ближай-
ших союзников США - Великобритании и Франции.
Значительный интерес представляет гл. III «Дипломатический
аспект объединения». Внешнеполитическая линия Москвы носила
двойственный характер. По выражению А. А. Ахтамзяна, Горбачев и
Шеварднадзе в период с февраля по июль 1990 г. как бы играли на
расстроенном рояле в четыре руки (с. 117). При всем при том их по-
зиция оказала решающее влияние на выбор пути и темпов продви-
жения к германскому единству (с. 125).
Президент США Дж. Буш в беседе с Горбачевым в Белом доме
31 мая 1990 г. спросил: «Вы верите в то, что у Берлина есть право
самостоятельно принимать решение об объединении?» Собеседник
379
ответил: «Да» (с. 136). На встрече с Г. Колем в Архызе (Ставрополь-
ский край) 14-16 июля советский лидер подтвердил эту позицию,
сделав «решающий шаг к единству Германии», как выразился близ-
кий к федеральному канцлеру сотрудник X. Кляйн (с. 142). Однако
далеко не все в окружении Горбачева были согласны с его дейст-
виями, о чем свидетельствует, например, июльский «меморандум
Фалина» (см. с. 139-140).
Стоит обратить внимание на торгово-экономическую диплома-
тию Бонна. Так. в 1990 г. ФРГ оказала Советскому Союзу достаточ-
но ощутимую помощь. Она оплатила поставки продовольствия на
сумму в 200 млн. марок, изъявила готовность выполнить обязатель-
ства ГДР в связи с пребыванием в 1990 г. советских войск в сумме
1,25 млрд. марок (с. 158). Финансовые усилия ФРГ, оцениваемые ею
в 86 млрд. марок, породили проблему задолженности РФ, которая
может решаться на основе расширения взаимной торговли
(с. 199).
В ночь на 3 октября 1990 г. в 00 часов 00 минут ГДР перестала
существовать. Автор анализирует международно-правовые и поли-
тические последствия объединения Германии. Он ставит кардиналь-
ный вопрос о новой роли Германии в Европе и в мире на рубеже
90-х годов (с. 183), но не дает на него исчерпывающего ответа. Или,
может быть, еще рано? Можно согласиться с суждением
А. А. Ахтамзяна: «Последствия объединения Германии не осознали
в полной мере не только в России, но и на Западе...» (с. 189).
Автор специально останавливается на проблемах и перспективах
сотрудничества ФРГ и РФ, касается, например, таких острых про-
блем, как реституция или возвращение незаконно вывезенных куль-
турных ценностей (см. с. 253-263), не обходит вниманием статус
Калининградской области РФ, делая упор на реальную ситуацию и
особенно на перспективы (см. с. 263-271).
Заключительная часть книги посвящена месту и роли Германии в
процессе глобализации, ее отношениям с РФ в мировой политике. В
этом ряду вопросов вызывает интерес характеристика современной
внешней политики и дипломатии Германии, новых рубежей ее «вос-
точной политики».
В эпилоге А. А. Ахтамзян подводит итоги событиям за прошед-
шие полтора десятилетия после объединения Германии. Вот ход его
мыслей: «...Со стороны ФРГ все действия были продуманы. Дипло-
матия выполняла заранее составленный план. К сожалению, судя по
всему, у М. С. Горбачева не было не только коллективно вырабо-
танного плана действий, но даже концепции решения германского
380
вопроса» (с. 356). В этой связи трудно переоценить глубину обстоя-
тельного анализа событий, данного В. П. Тереховым в журнале
«Международная жизнь» (1998 г., № 8), дипломатического аспекта
процесса объединения двух германских государств 1989-1990 гг., и
материалов «Дневника» советника-посланника посольства СССР в
Берлине И. Ф. Максимычева, опубликованного в 2002 г. под назва-
нием «Народ нас не простит...».
Рецензируемое произведение не лишено отдельных недостатков,
вызванных отчасти широким охватом проблем и событий, затраги-
вающих германскую проблематику. Видимо, трудно было избежать
повторений (эпизодов, фактов, высказываний, имен, статистических
данных, дат). В некоторых случаях автор отходит от научного ана-
лиза и строгого стиля изложения материала, и их место занимают
эмоции и публицистические обороты. Это может лишь свидетельст-
вовать, насколько важную роль в научной деятельности ученого за-
нимали и занимают проблемы, которым он посвятил жизнь.
Новая солидная работа профессора А. А. Ахтамзяна, содержащая
богатый документальный и фактический материал, в обобщенном
виде содержит изложение философии германской проблемы после
Второй мировой войны, служит своего рода проблемно-
страноведческой энциклопедией, научным путеводителем по затро-
нутому комплексу важных проблем.
А. И. Степанов,
доктор исторических наук, профессор,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
26 июля 2010 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
От издательства 3
Глава I
ГЕРМАНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 12
1. От безоговорочной капитуляции 12
к образованию двух германских государств 12
2. Германское экономическое чудо - предпосылка 19
политической стабильности 19
3. Установление дипломатических отношений 23
между ФРГ и СССР 23
4. Новая восточная политика - нормализация 47
отношений со странами Восточной Европы 47
Глава II
ВНУТРИГЕРМАНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ОБЪЕДИНЕНИЯ 59
1. Правоцентристская коалиция у власти 59
2. Кризис политической системы ГДР и позиции держав 66
3. «Десять пунктов» Г. Коля 76
4. Поворот к фатализму в Москве (февраль 1990 г.) 88
5. Кампания за присоединение ГДР к ФРГ. «Свободные
выборы» в ГДР (18 марта 1990 г.) 103
Глава III
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 116
1. Курс правительства ФРГ на аншлюс ГДР
и позиция советских руководителей 116
2. Встречи министров иностранных дел «шестерки»
(«два плюс четыре») 124
3. Участие объединенной Германии в НАТО -
ключевой вопрос окончательного урегулирования 133
4. Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии.... 147
5. Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве
между СССР и ФРГ от 9 ноября 1990 г 155
Глава IV
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 164
1. Завершение процесса объединения Германии. Итоги 164
выборов в Германский бундестаг 2 декабря 1990 г 164
2. Роль советской дипломатии (свидетельства современников) 169
3. Новая роль Германии в Европе и в мире на рубеже 90-х годов 183
4. Геостратегические последствия 191
5. Баланс интересов или уравнение с несколькими неизвестными? 196
Глава V
ГЕРМАНИЯ ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 210
1. Социально-экономическое развитие объединенной Германии 210
2. Отношения Германии и Российской Федерации в 90-х годах 225
3. Операция «Жираф» и реабилитация военных преступников 232
Глава VI
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
ФРГ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 242
1. Поставки природного газа из России в Германию -
долговременный фактор экономического сотрудничества 247
2. Реституция или возвращение незаконно вывезенных
культурных ценностей 253
3. Статус Калининградской области Российской Федерации
(реалии и перспективы) 263
Глава VII
ГЕРМАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 272
1. Последствия объединения двух германских государств 272
2. Место объединенной Германии в процессе глобализации 282
3. Социально-политические проблемы 294
4. Выборы в бундестаг 1998 года и создание
«красно-зеленой» коалиции 303
Глава VIII
ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ - МЕСТА И РОЛИ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 313
1. Внешняя политика и дипломатия ФРГ 313
2. «Восточная политика» Германии - новые рубежи 326
3. Отношения Германии и России 332
4. Глобализация и политика Германии 338
Вместо эпилога 352
Научный путеводитель по германскому вопросу 377
Вышли в свет в издательстве
«БИБЛОС КОНСАЛТИНГ»
Вавилов А. И. Политика США в мусульманском мире на примере
арабских стран. Опыт критического анализа
Монография посвящена исследованию современной политики США в му-
сульманском мире на примере арабских стран и её влияния на региональную
обстановку и на ситуацию в мире в целом. Работа содержит также сравни-
тельный анализ подходов США и России к решению основных проблем рас-
сматриваемых регионов.
Амер Рашед. Палестинская проблема: история и современность
Монография палестинского исследователя Амера Рашеда посвящена исто-
рии арабо-израильского конфликта начиная с создания первых еврейских
поселений в Палестине и до событий последних лет. Автор подробно отсле-
живает эволюцию сионистского движения и показывает этапы экспансии
Израиля, в том числе в таких аспектах, как установление контроля над вод-
ными источниками региона. Книга снабжена картами, иллюстрирующими
историю раздела Палестины, а также документальными материалами, вклю-
чая тексты соглашений в Осло и плана «Дорожная карта».
Дополнительную информацию о продукции издательства
можно получить по адресу:
129164, Москва, ул. Ярославская, 8, корп. 4, офис 315
тел. (495) 972-48-67 тел./факс (495) 775-23-84
e-mail: biblosconsulting@list.ru
или на сайте издательства в Интернете:
www.arabbook.ru
Научное издание
Ахтамзян Абдулхан Абдурахманович
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЯ
Очерки
Редактор В. А. Пономарёв
Корректор В. Л. Либо
Компьютерная вёрстка: И. Г. Стрелецкая
Подписано в печать 26.07.10
Формат 60x90/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24. Уч.-изд. л. 22,3.
Тираж 1000 экз. Зак. 1137
Отпечатано в 000 «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15
АХТАМЗЯН Абдулхан Абдурахманович -
почетный профессор МГИМО(У) МИД
России, доктор исторических наук, заслу-
женный деятель науки Российской Феде-
рации.
За более чем полувековую научную дея-
тельность он опубликовал ряд исследова-
тельских работ по истории международ-
ных отношений и дипломатии. Его моно-
графии «От Бреста до Киля» (М. 1963),
«Рапалльская политика» (1974), а также
вышедшая в 2009 году книга «Профили
рапалльской дипломатии» получили при-
знание научного сообщества. Он был
одним из авторов трехтомной «Истории
международных отношений и внешней политики СССР», трижды
изданного в свое время как учебник для молодых дипломатов.
В 2006 году в Казани вышла его книга «Муса Джалиль и его со-
ратники в Сопротивлении фашизму», а в 2010 году коллективная
монография «Великая отечественная война: происхождение,
основные события и исход» - сборник документальных очерков
(составитель Д. Ахтамзян).