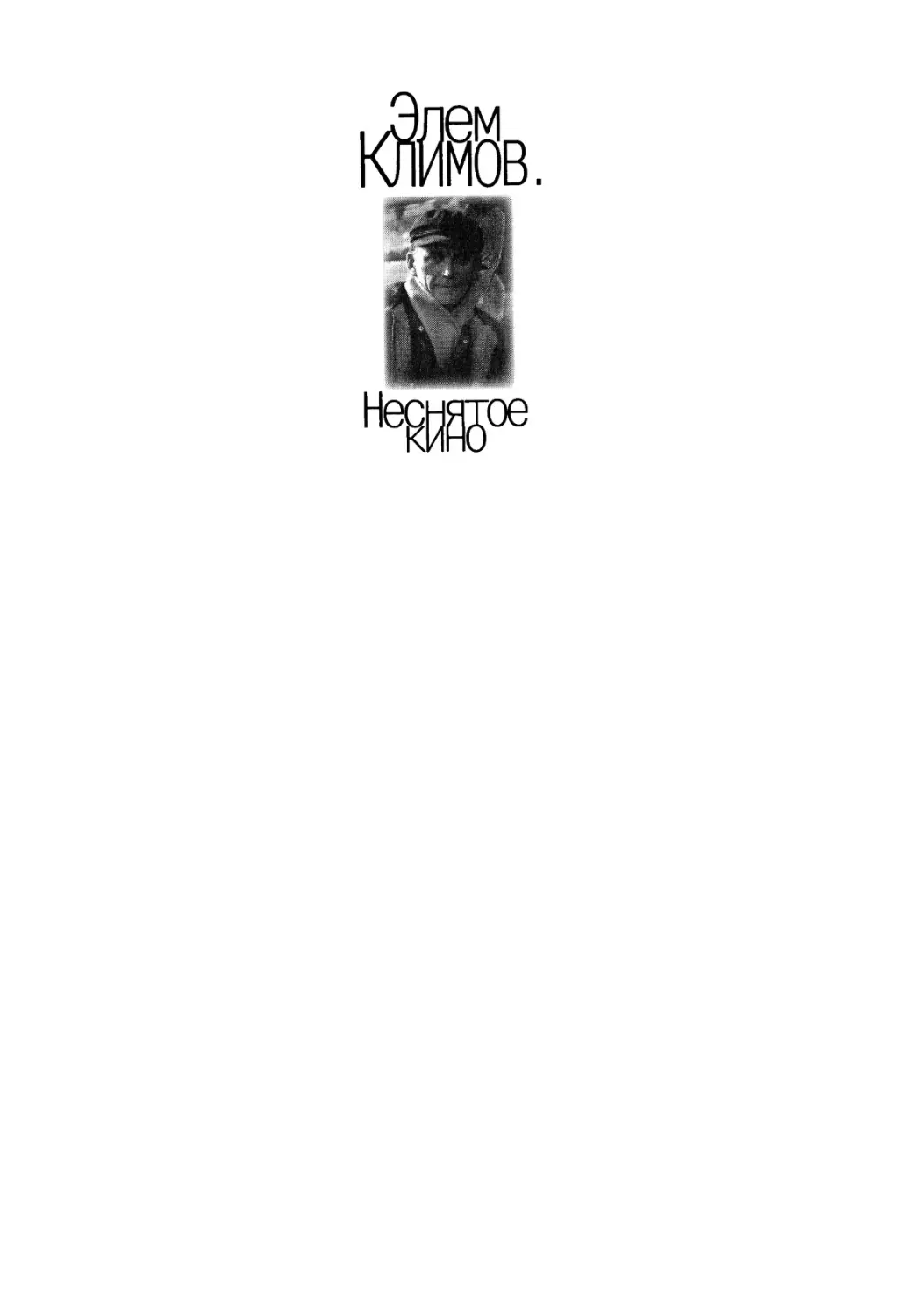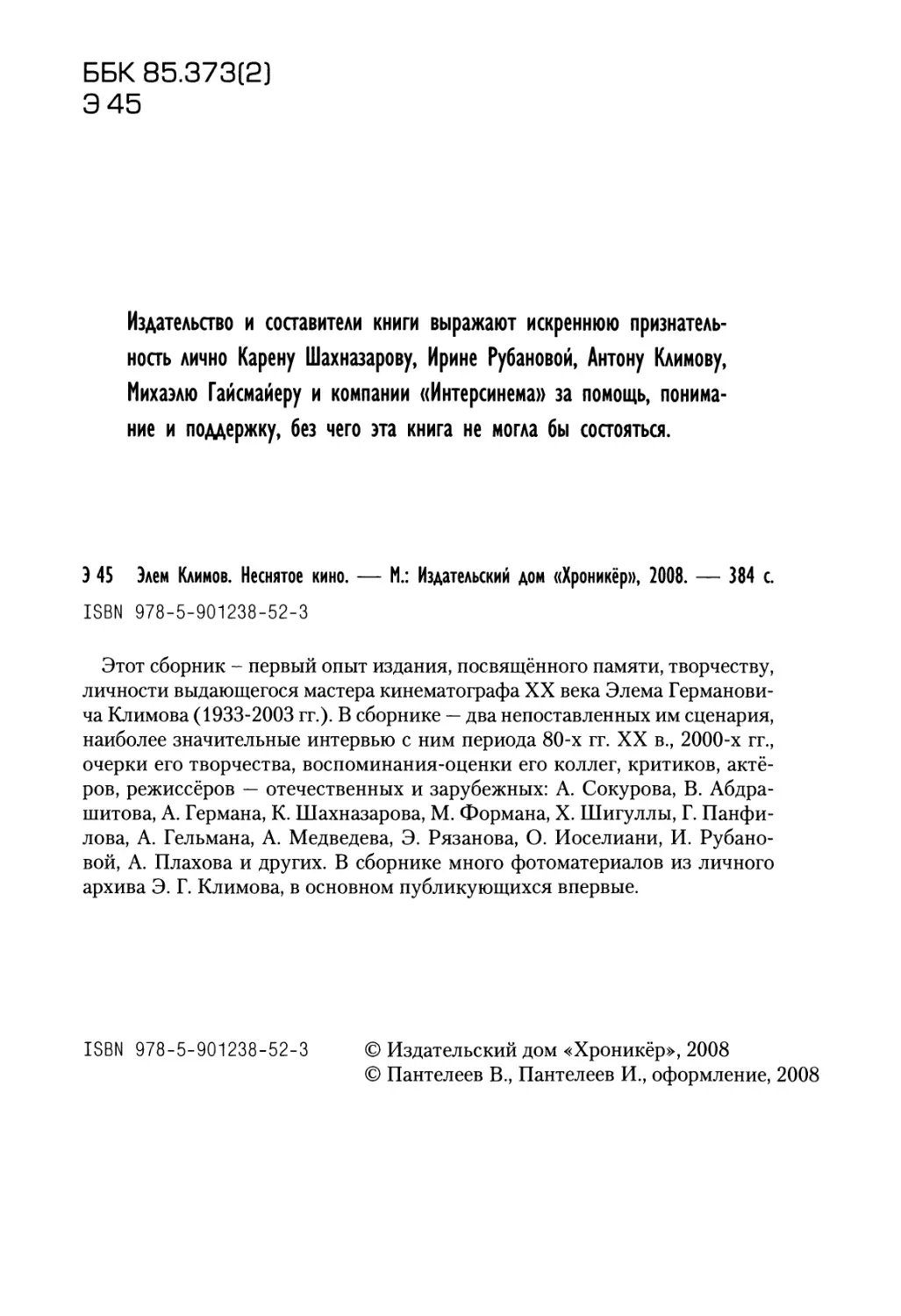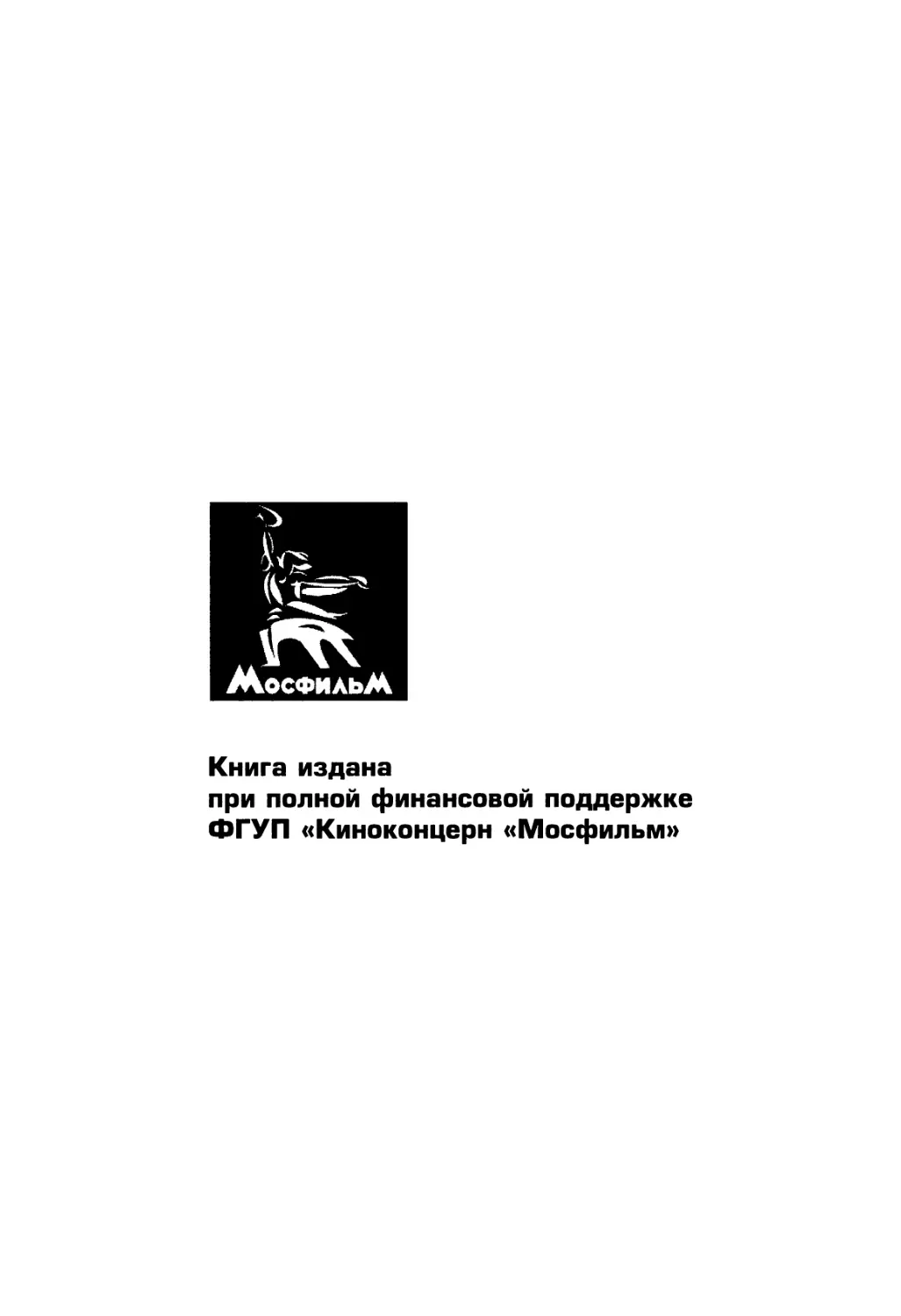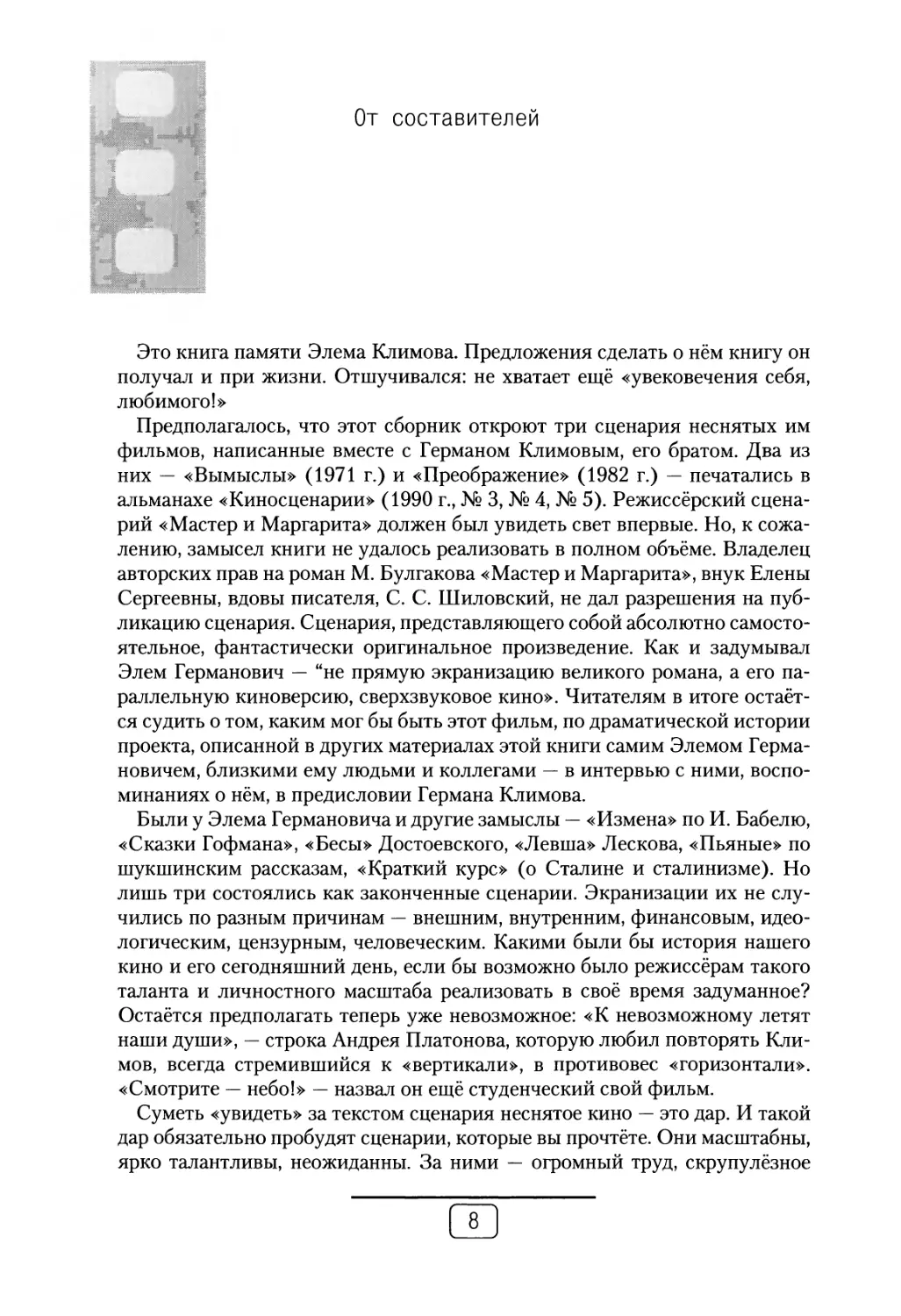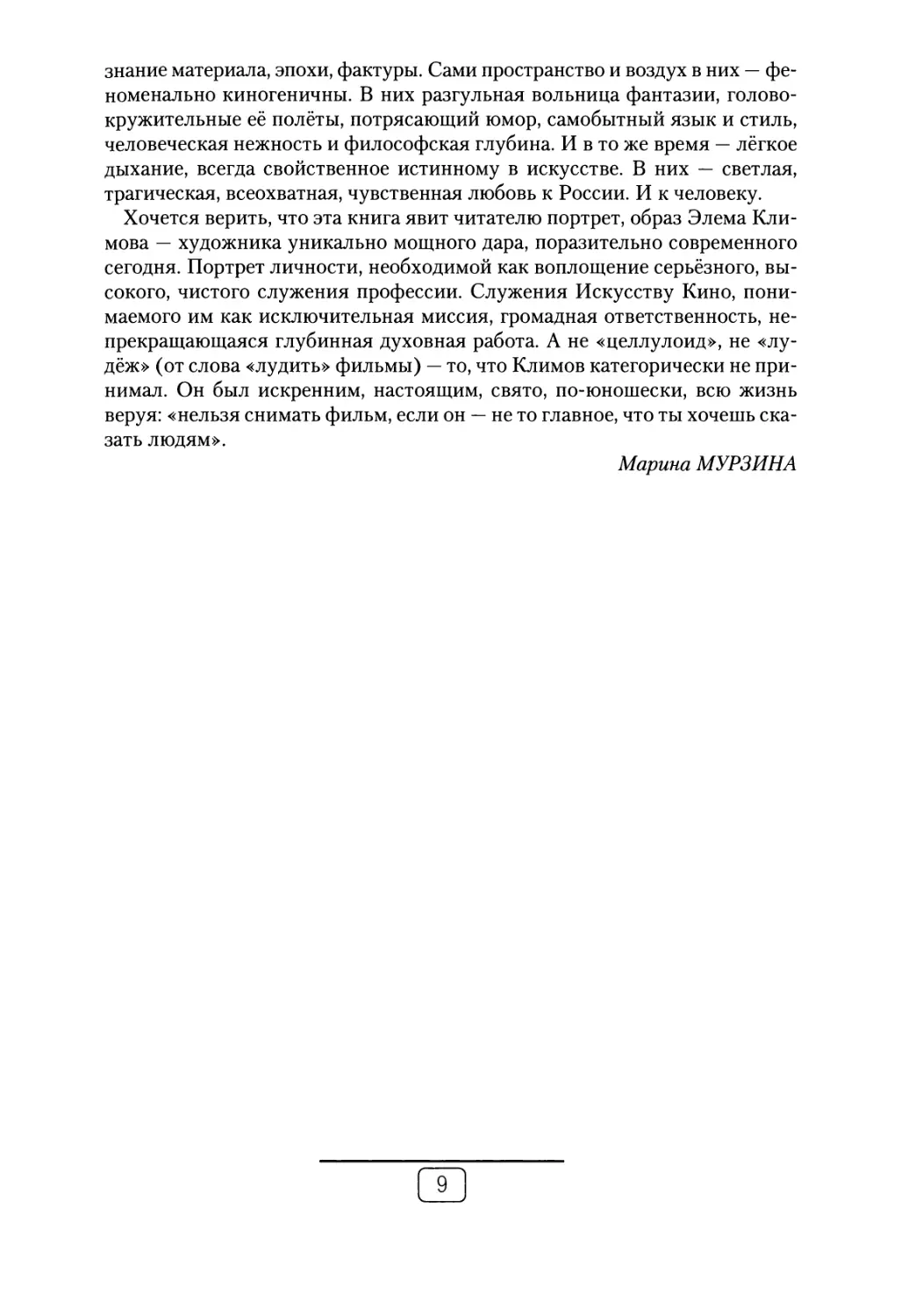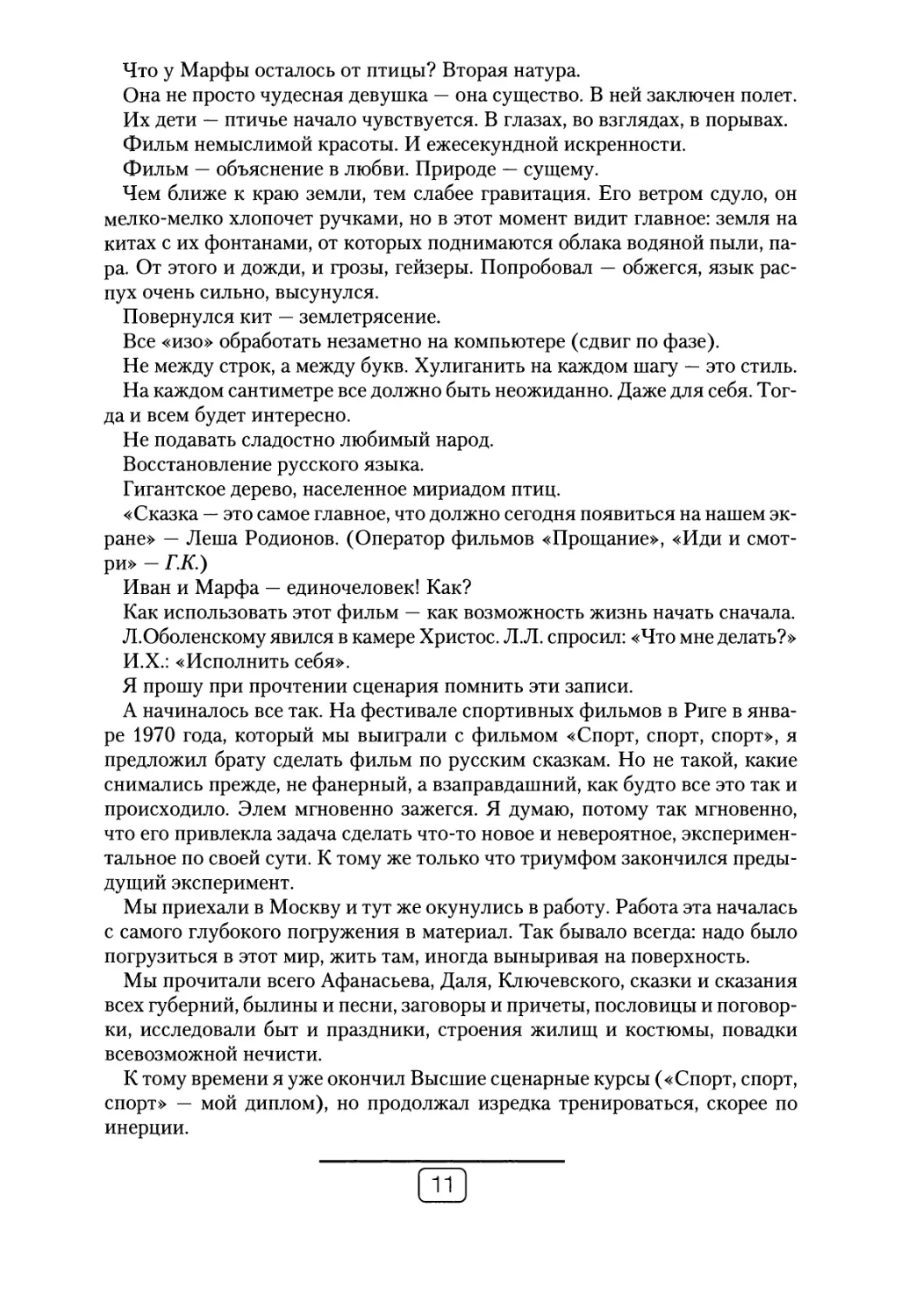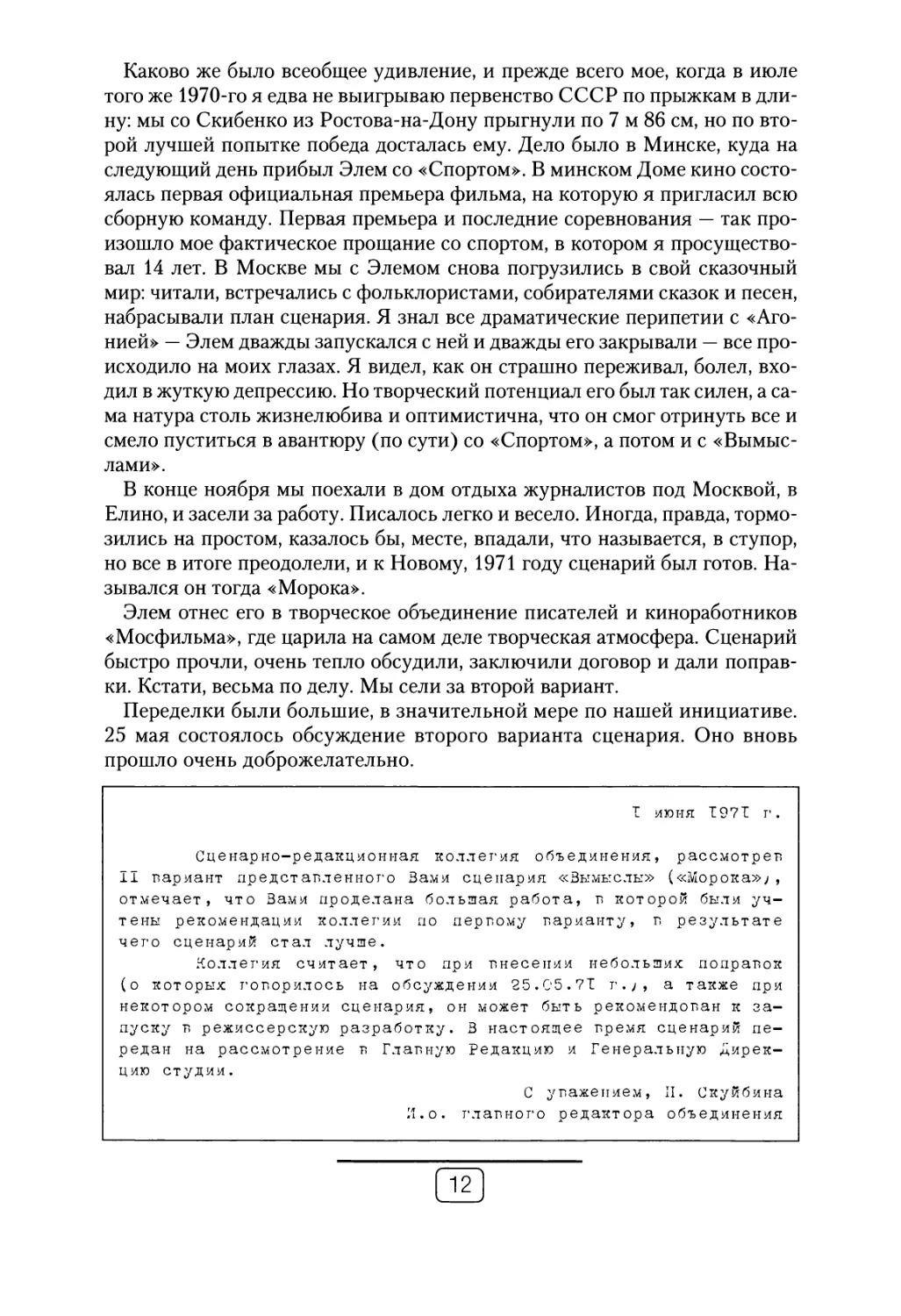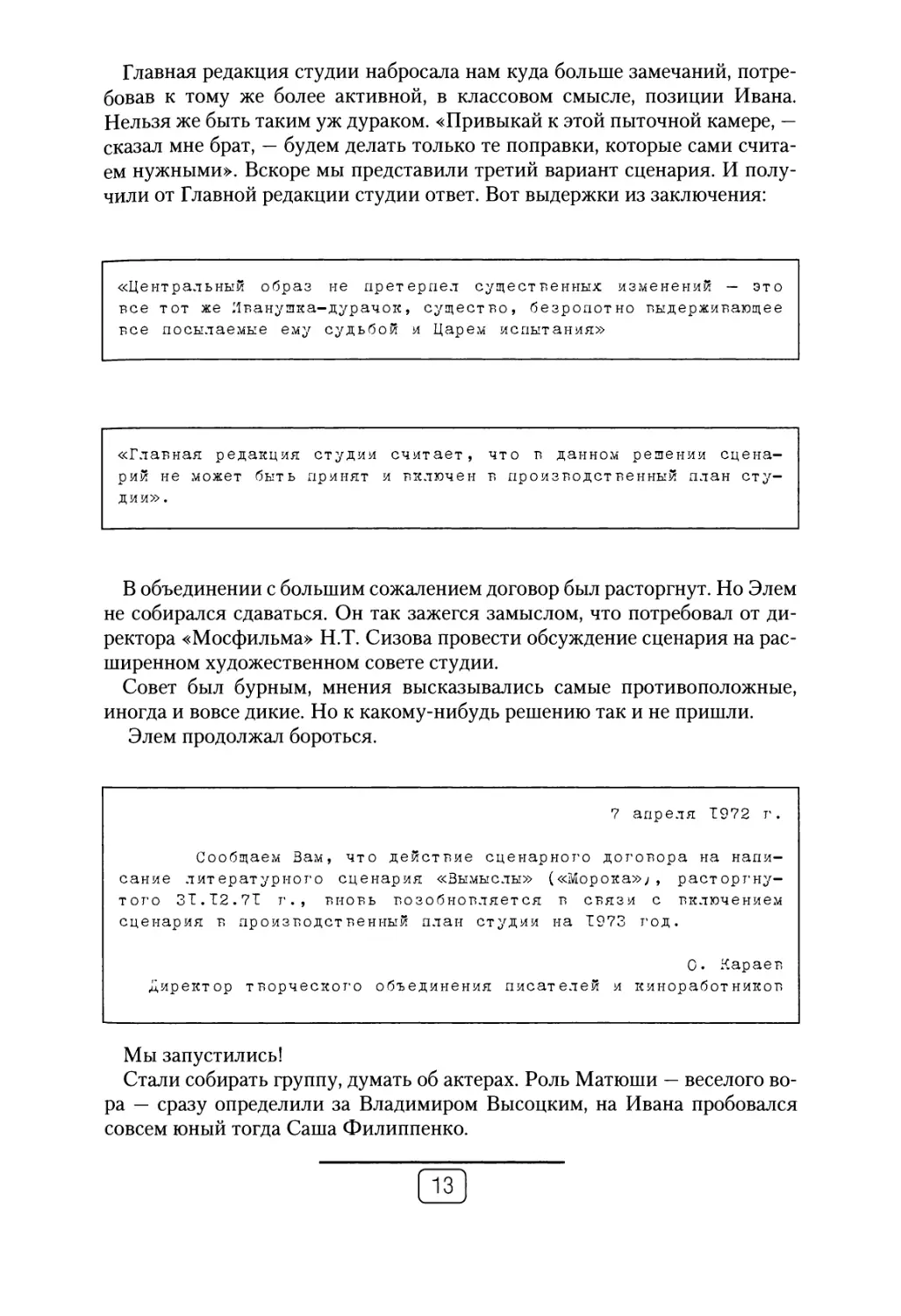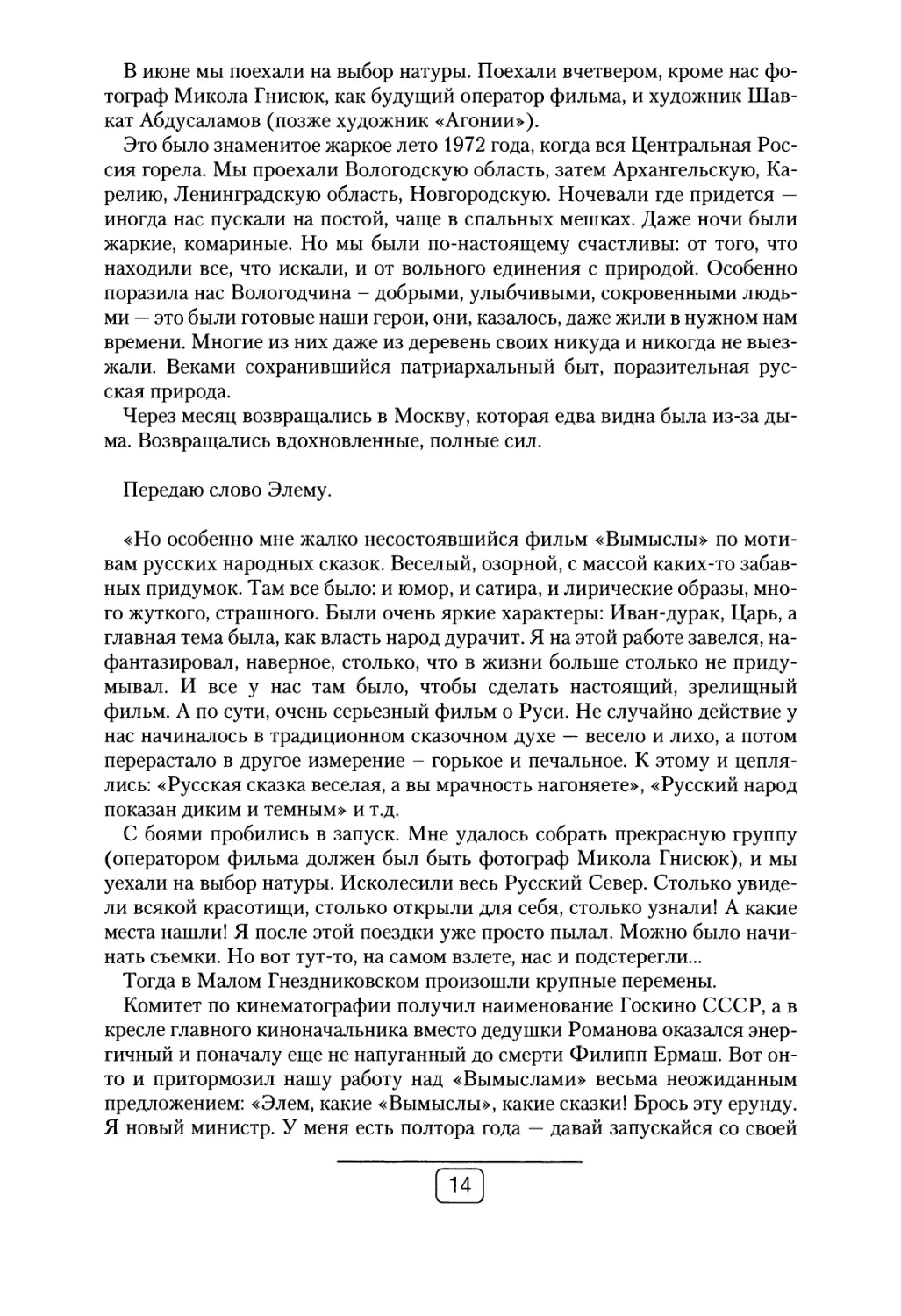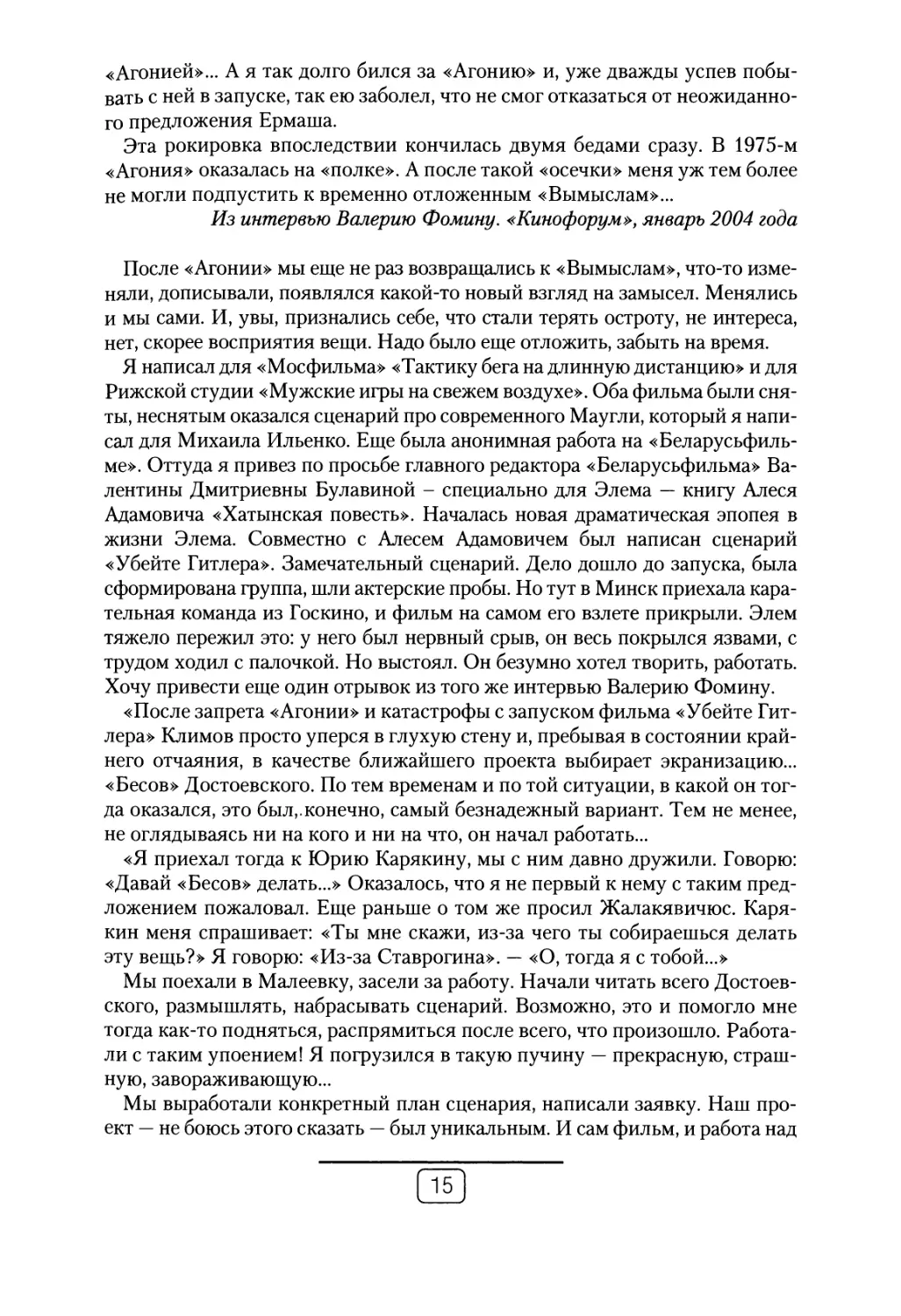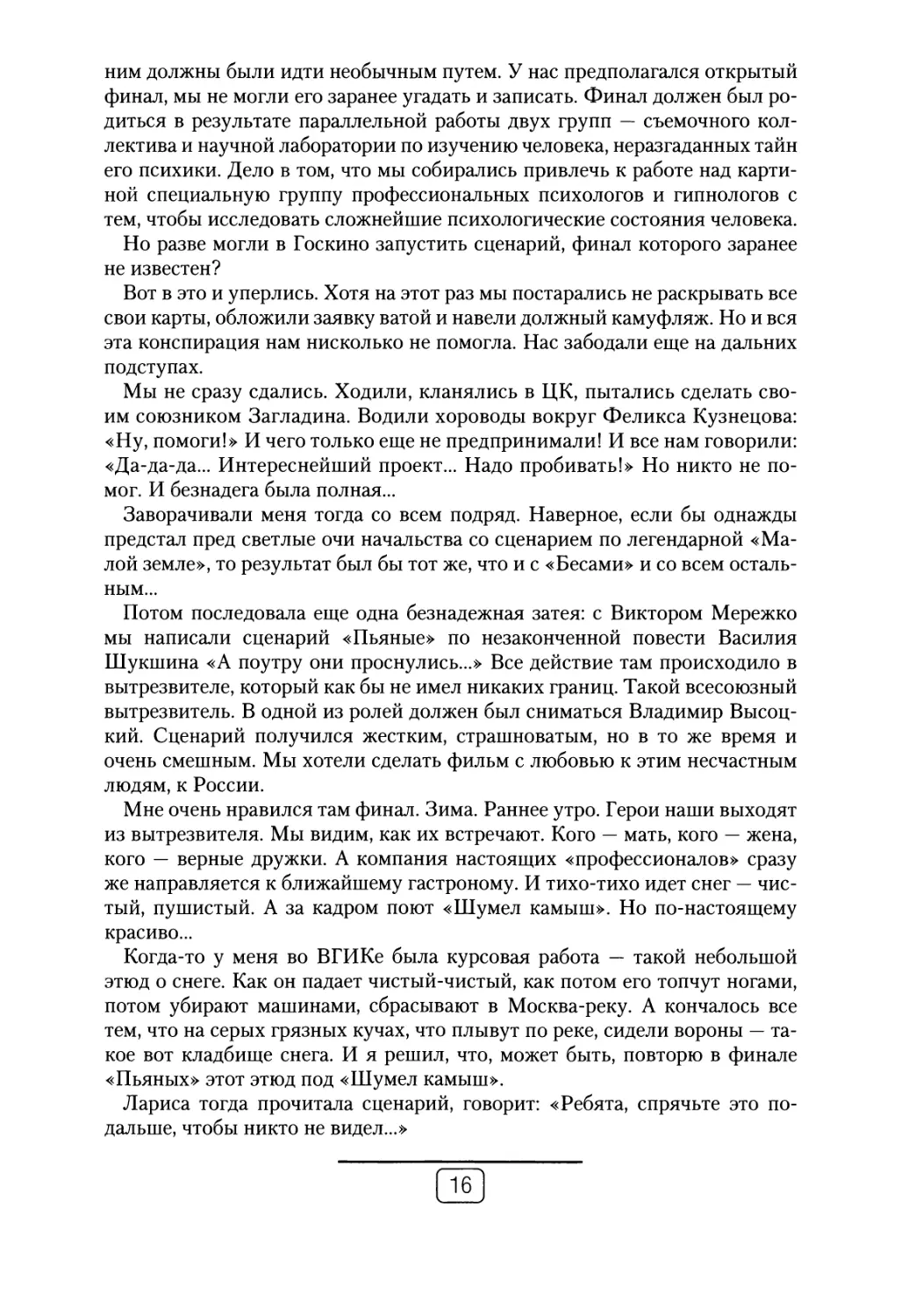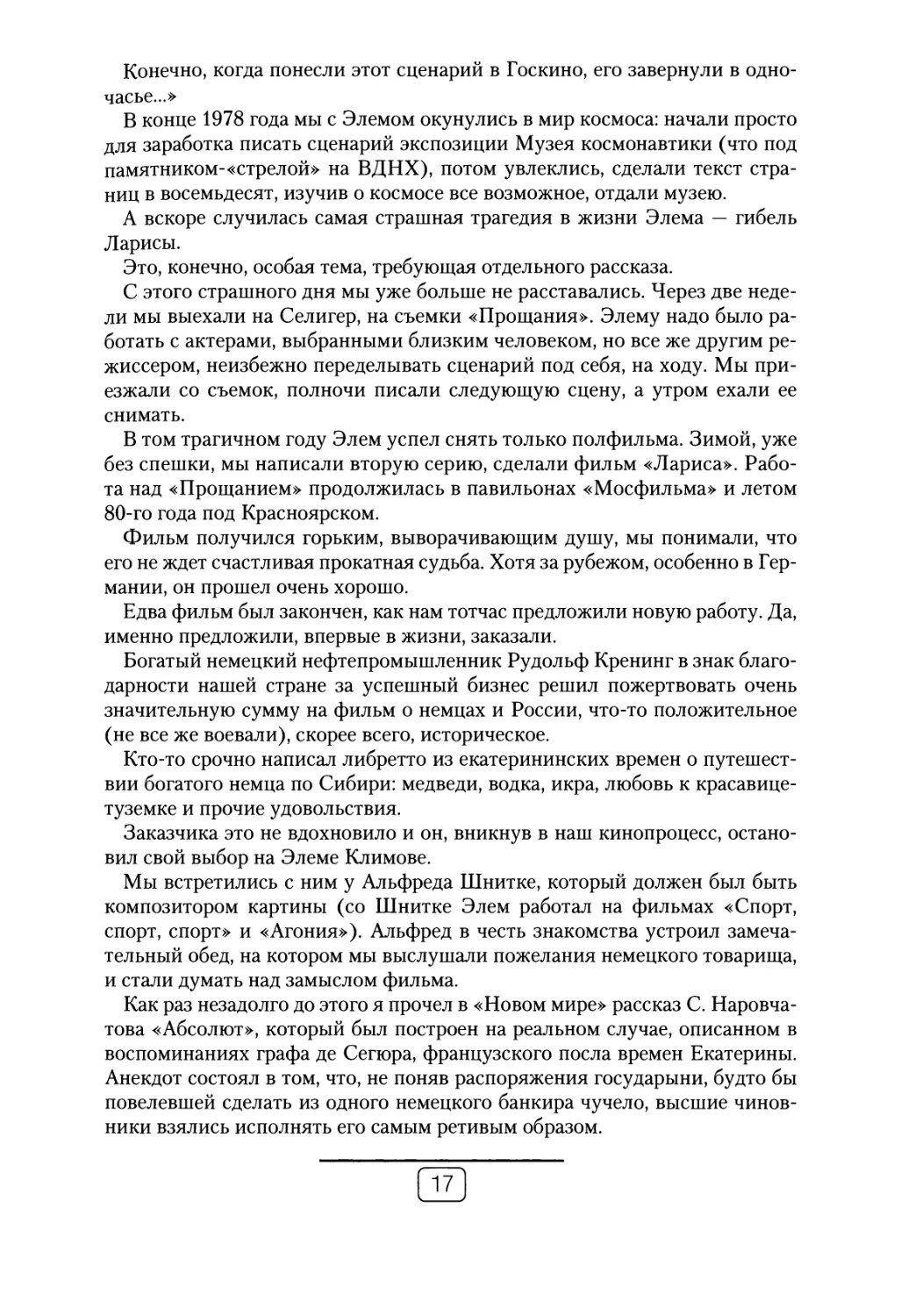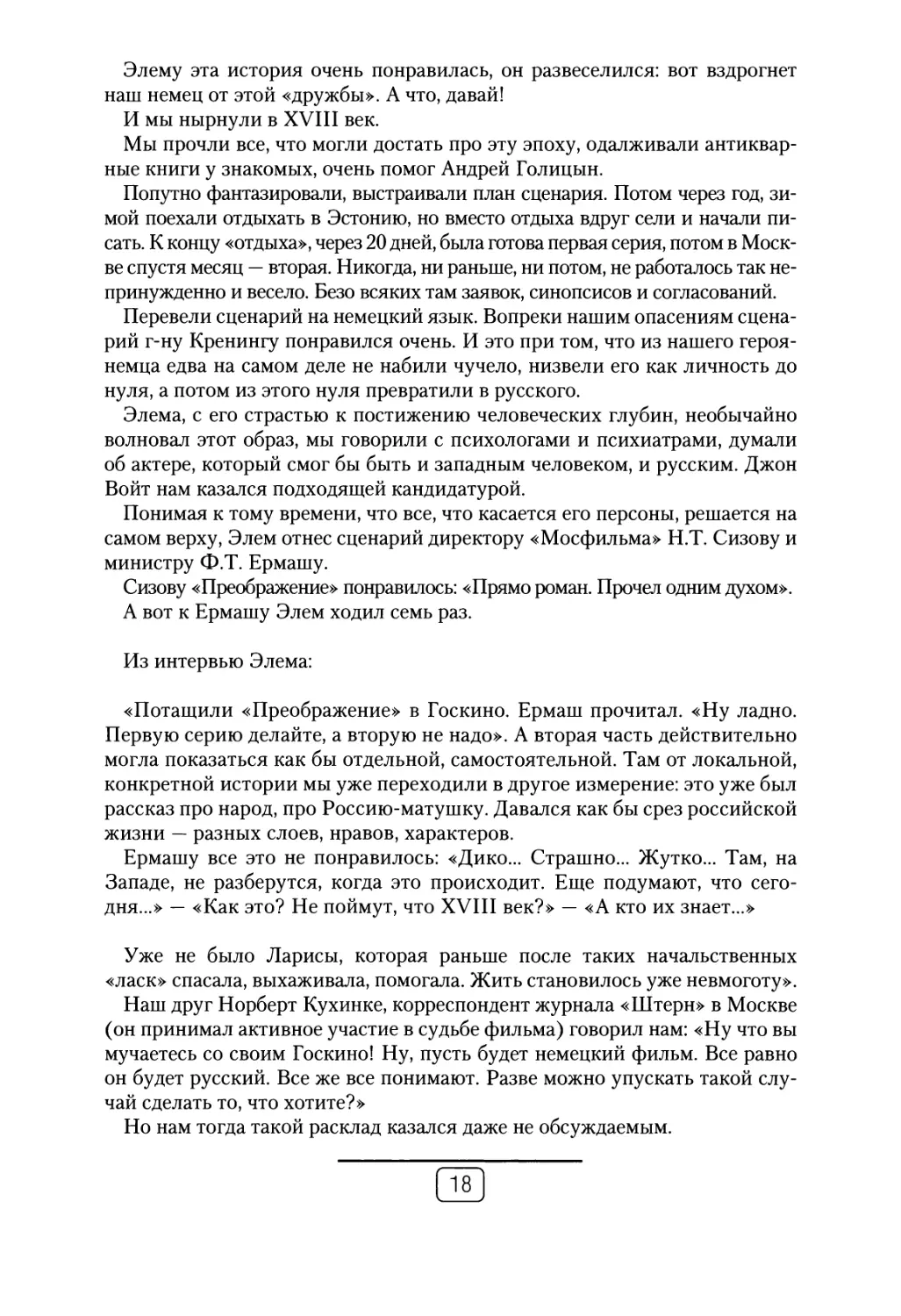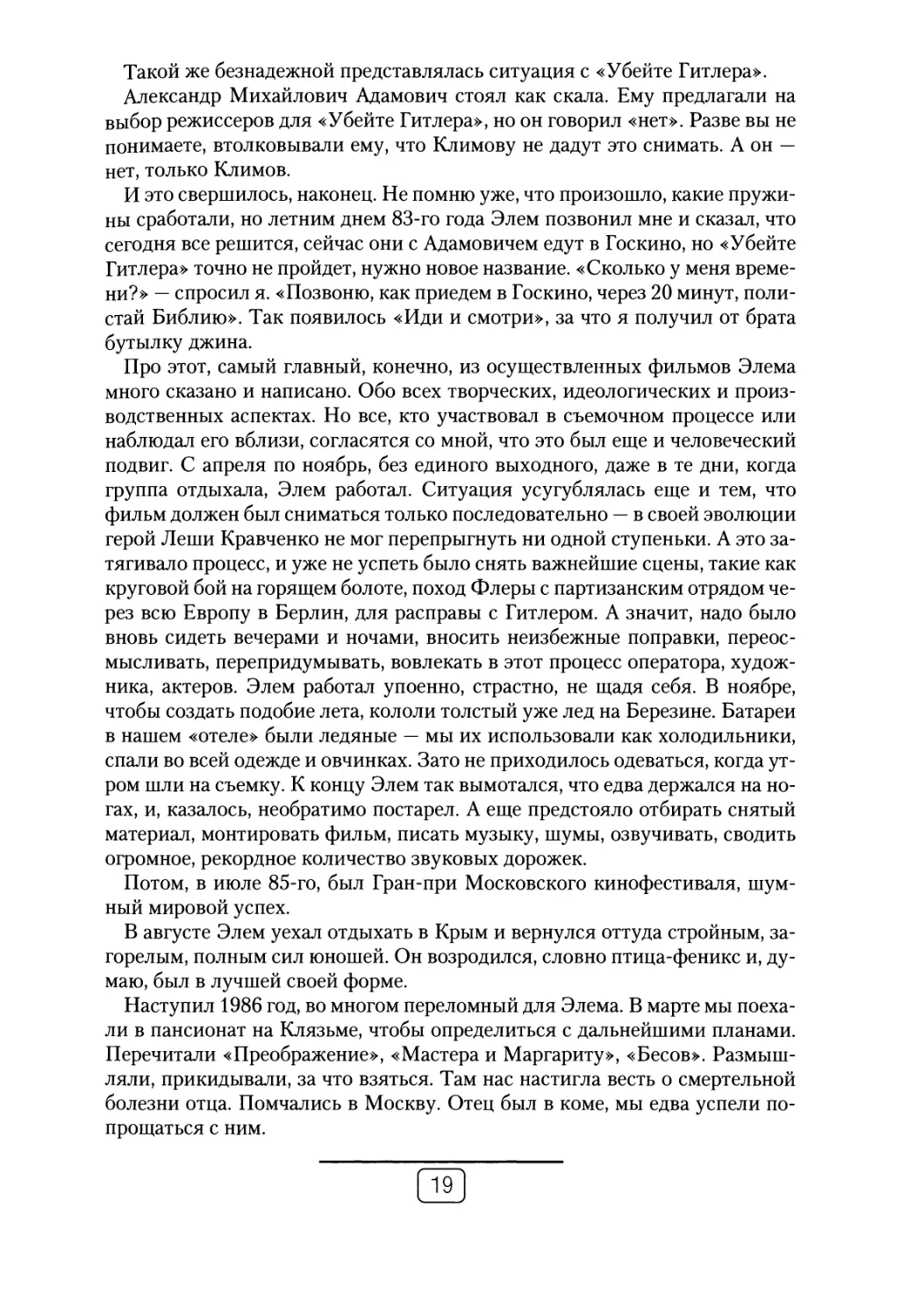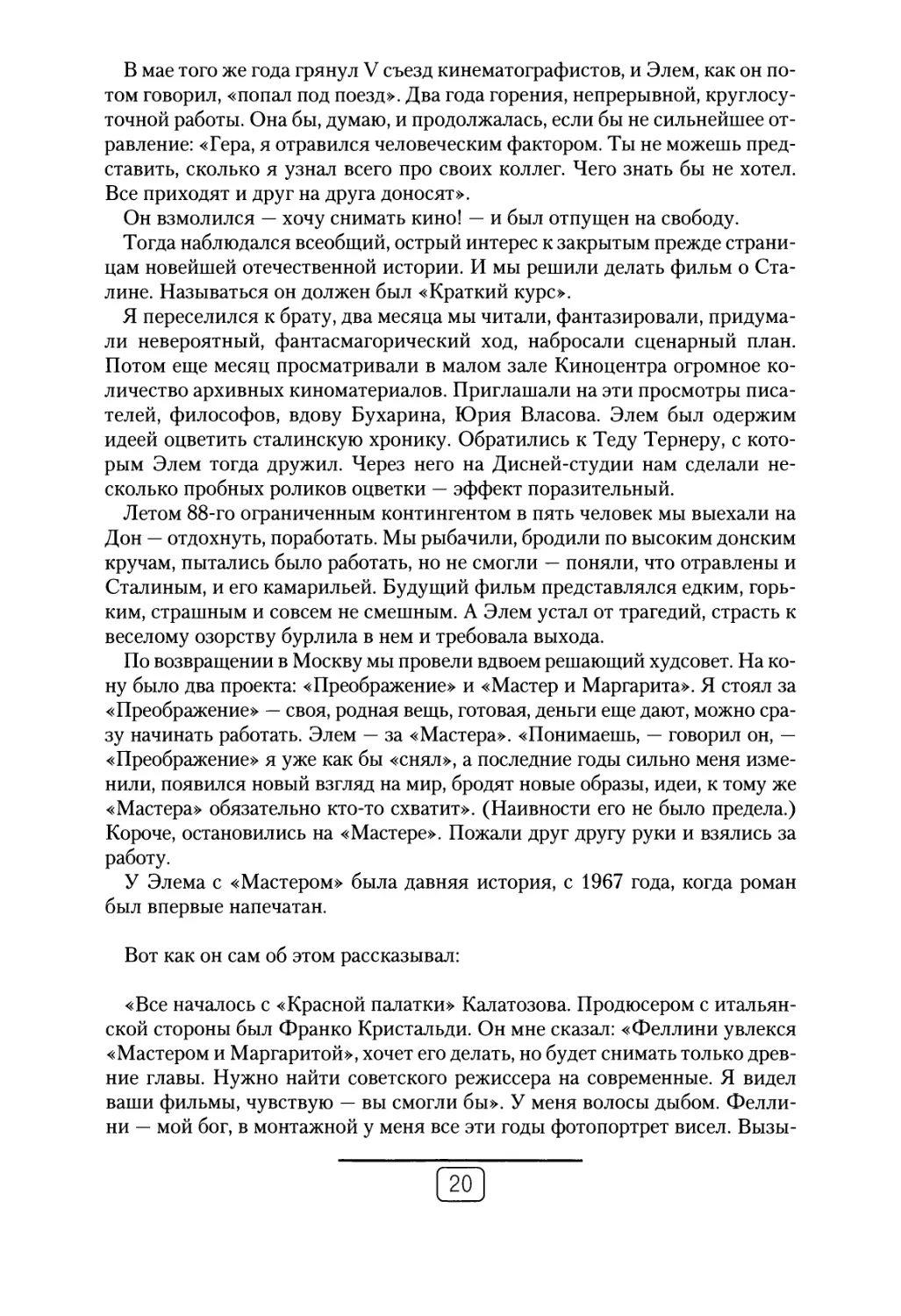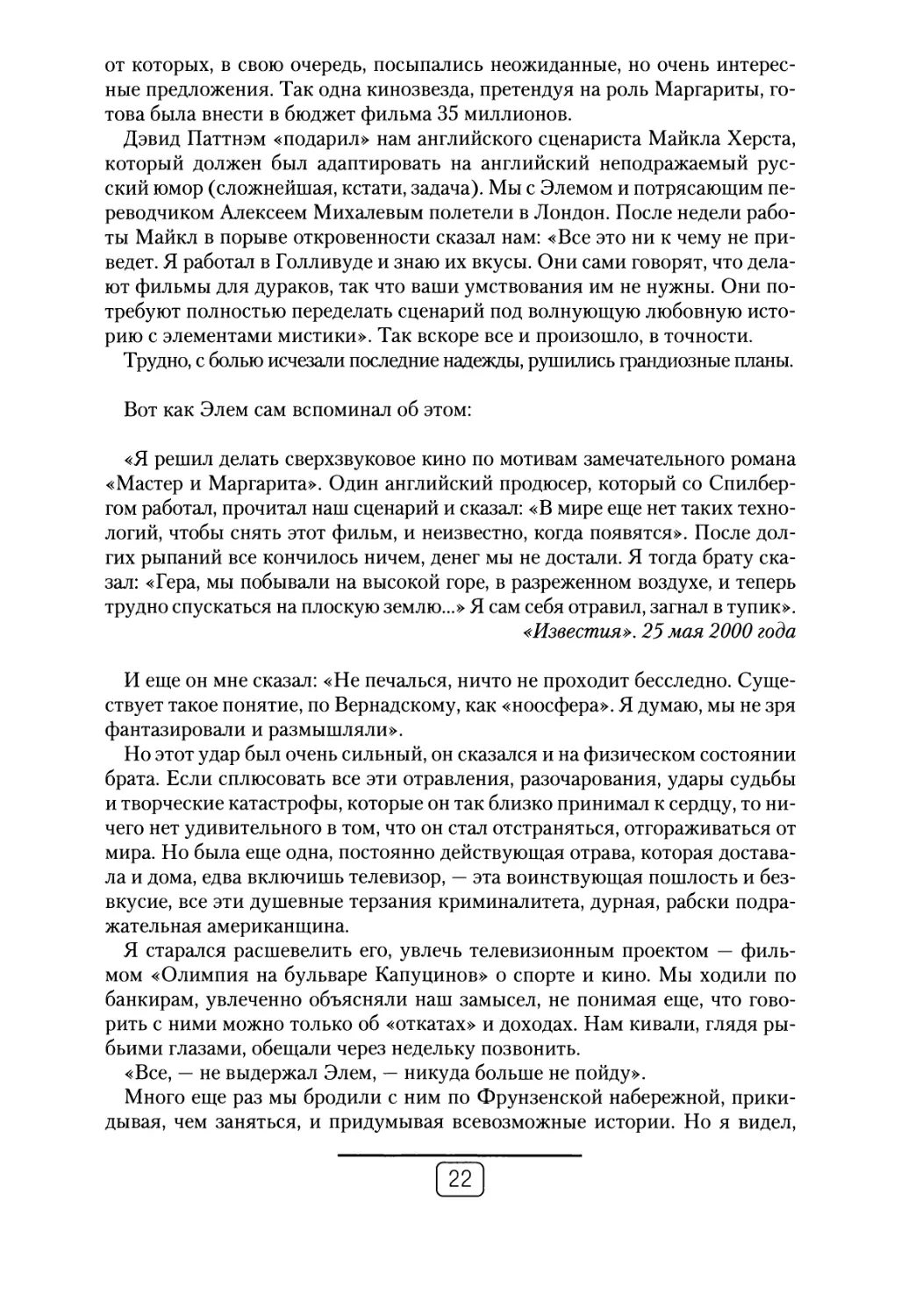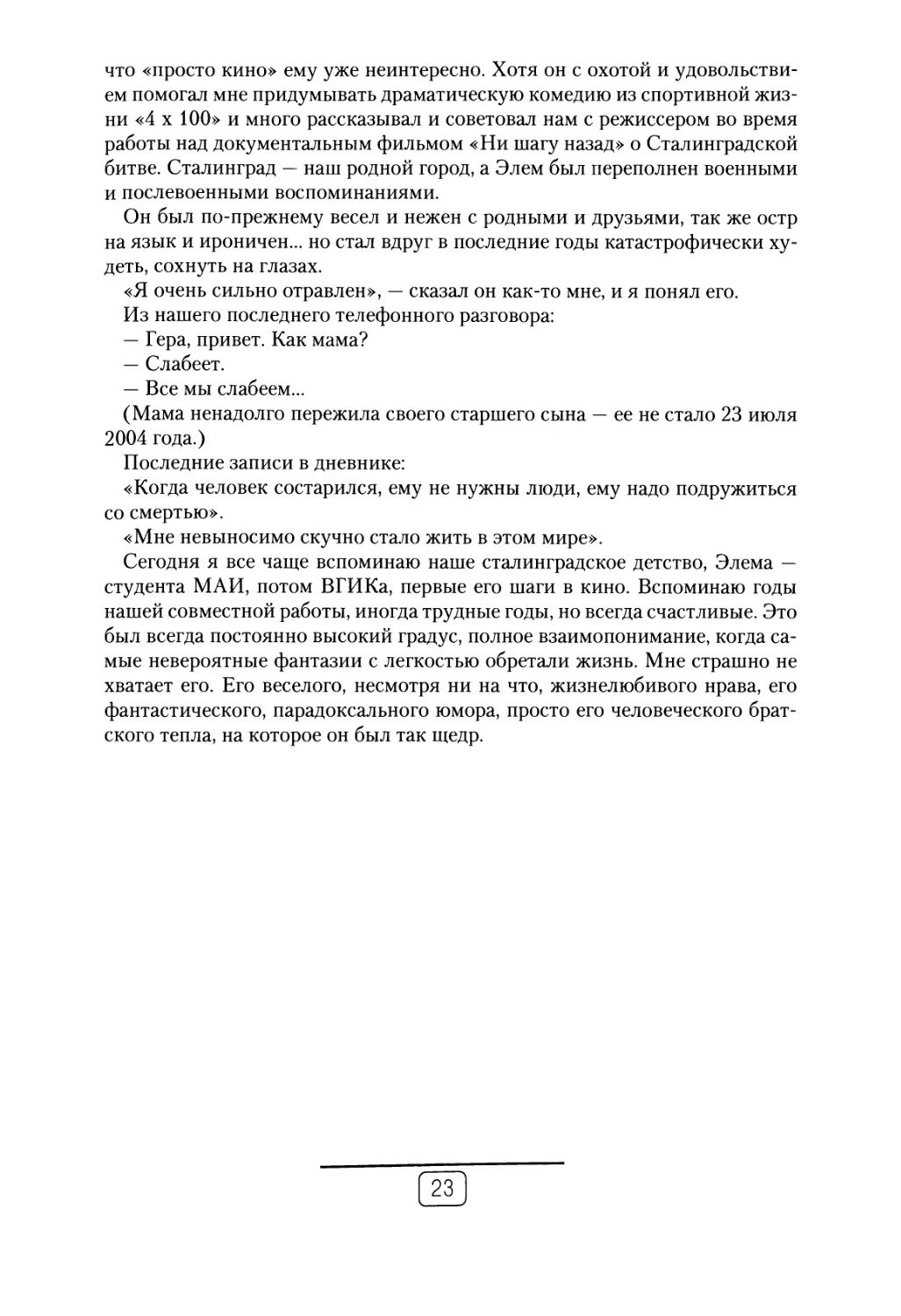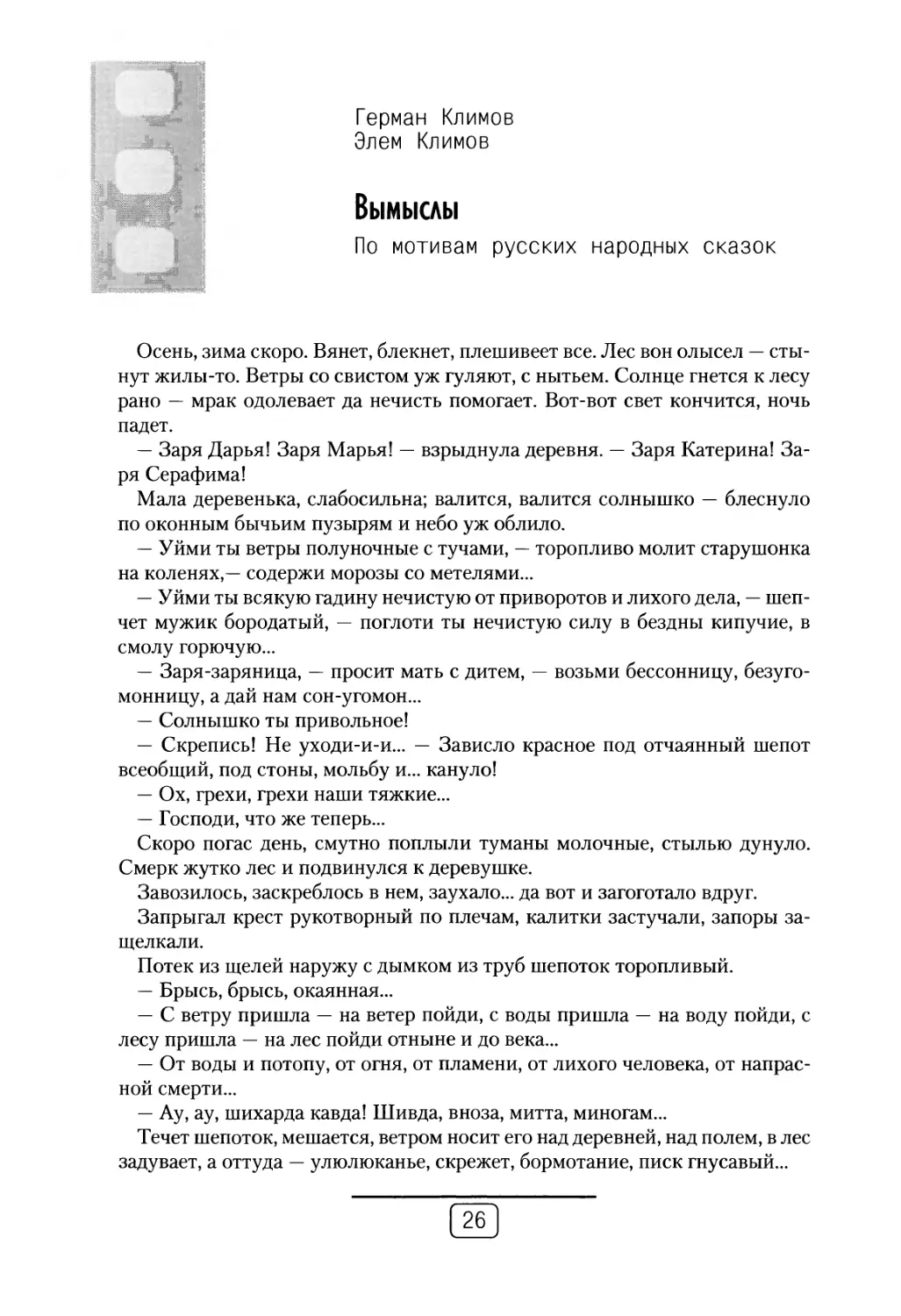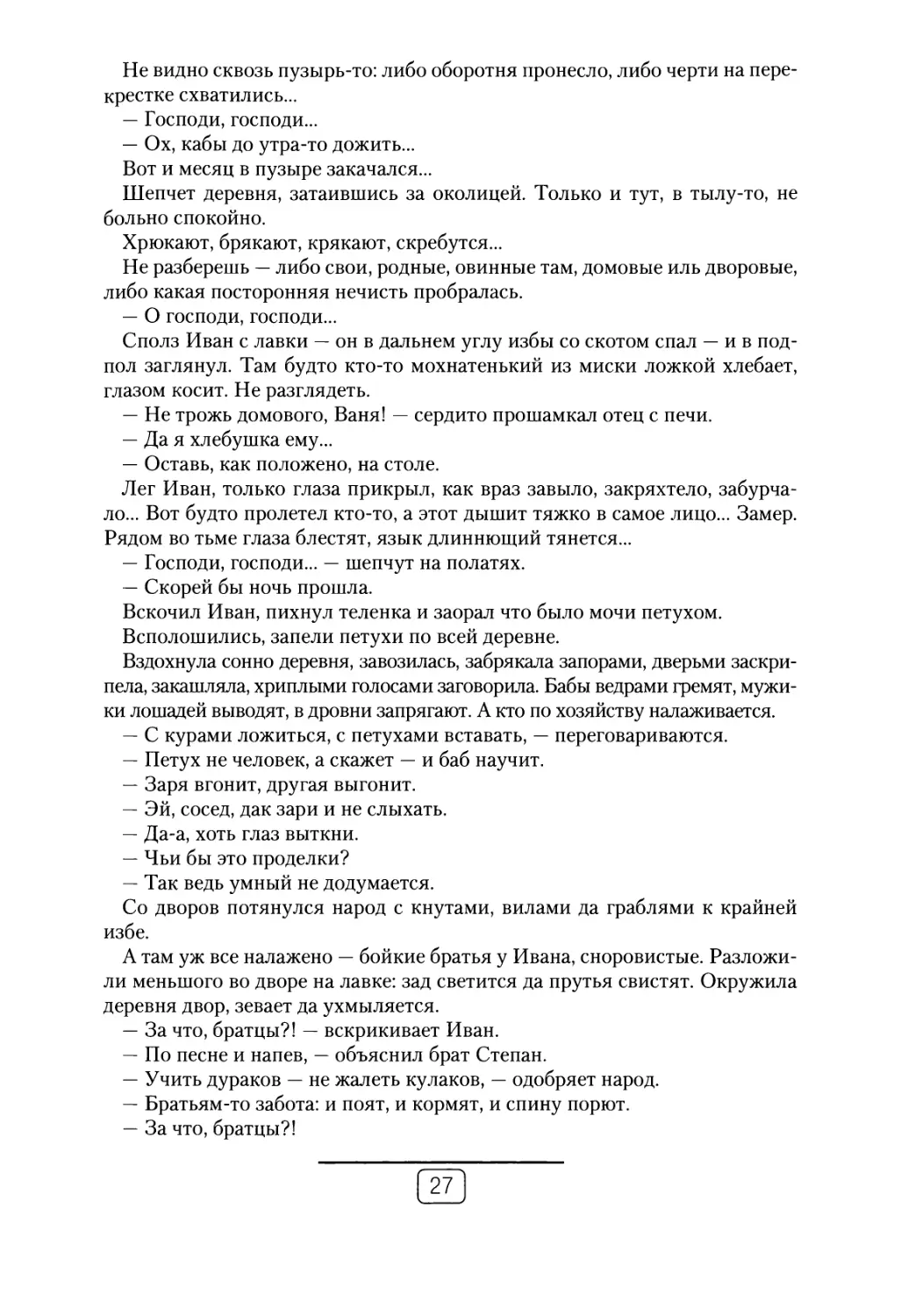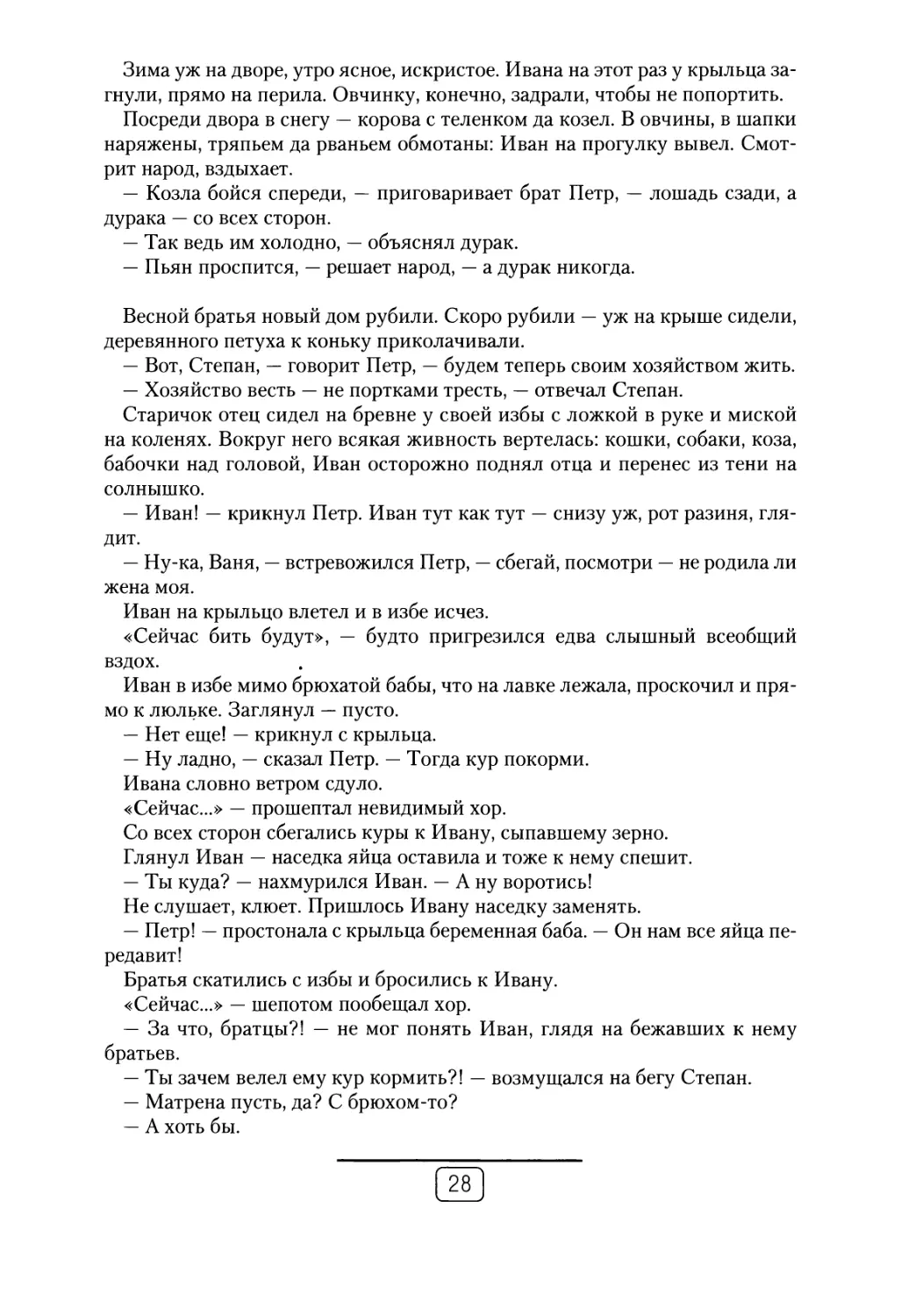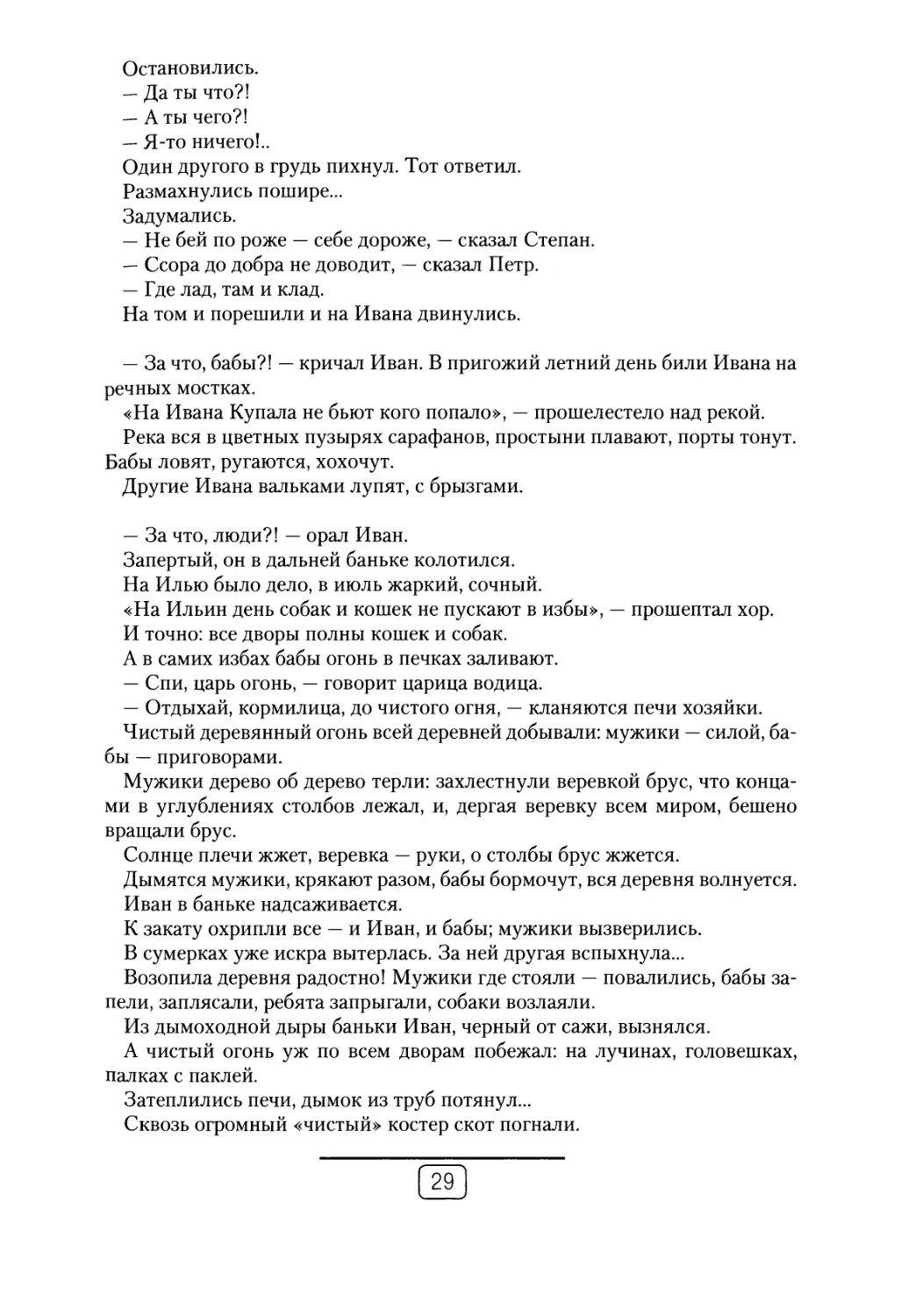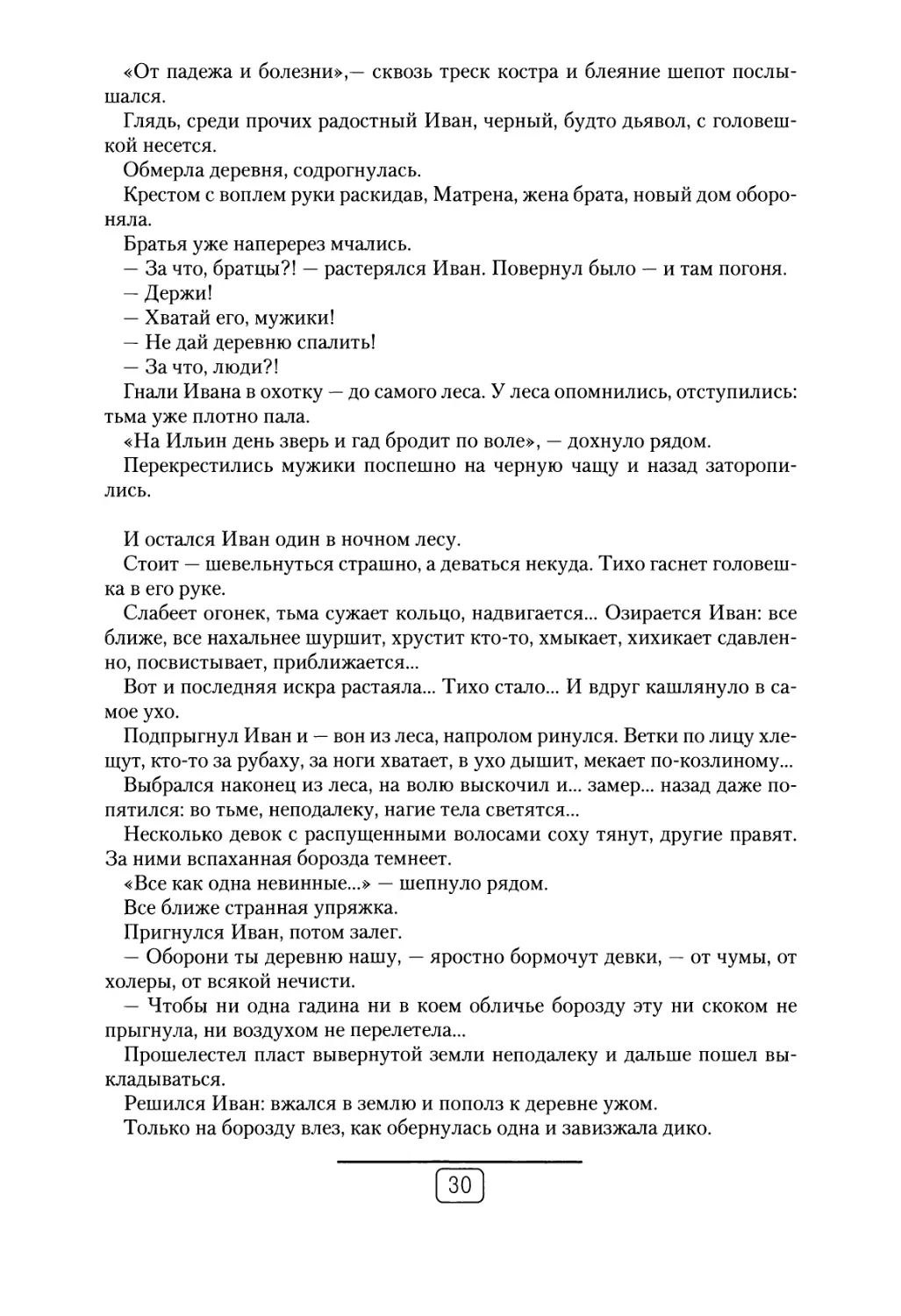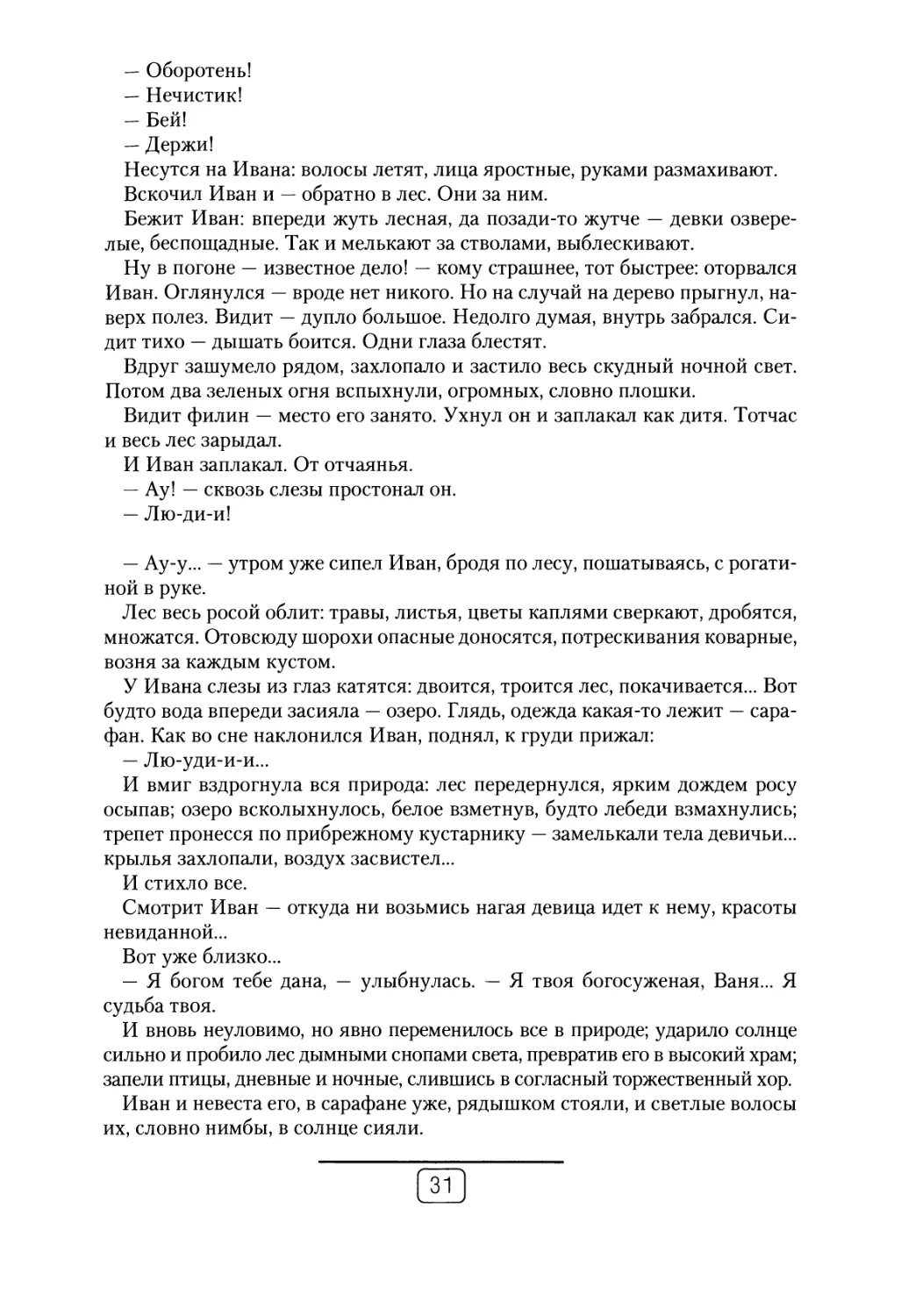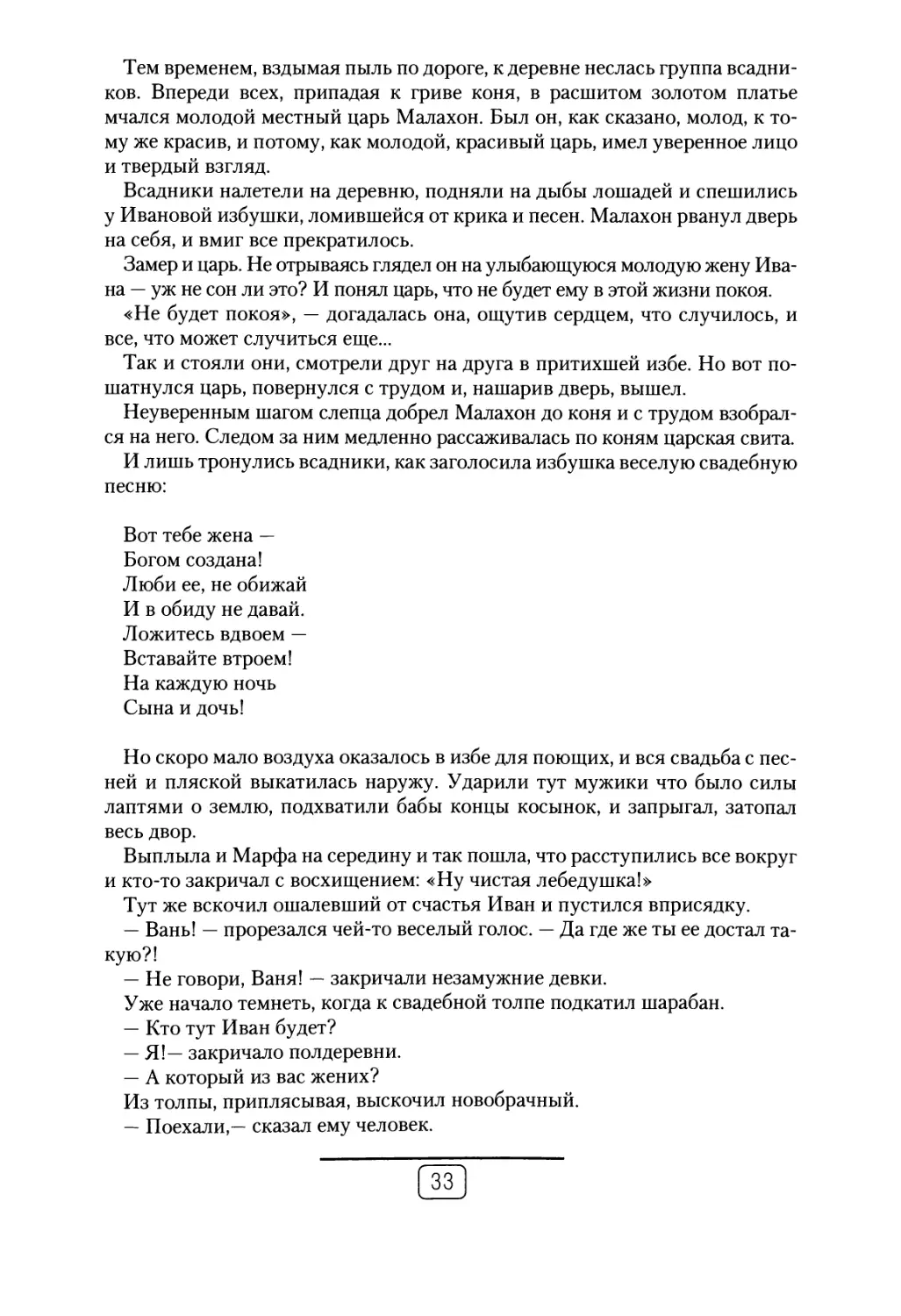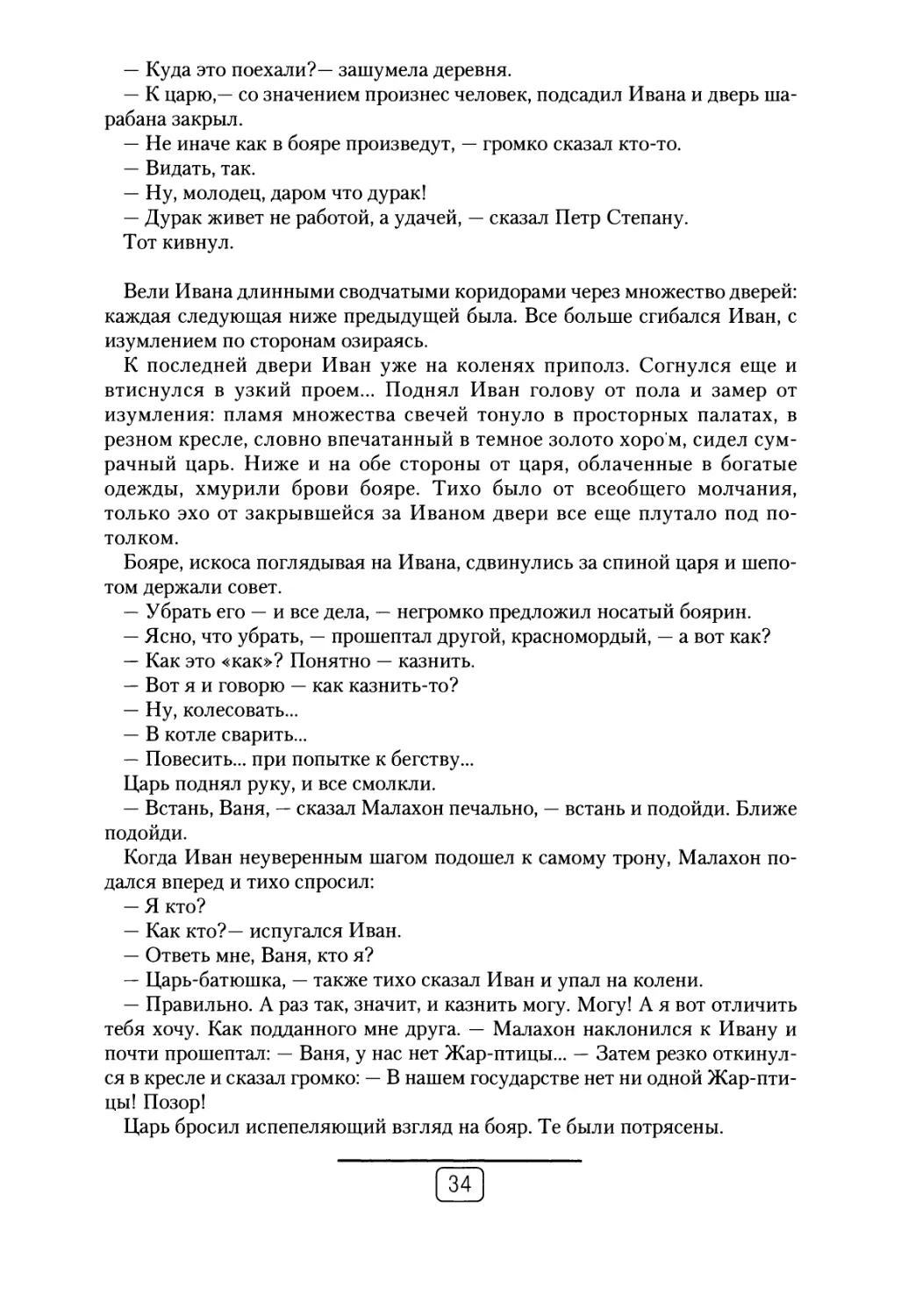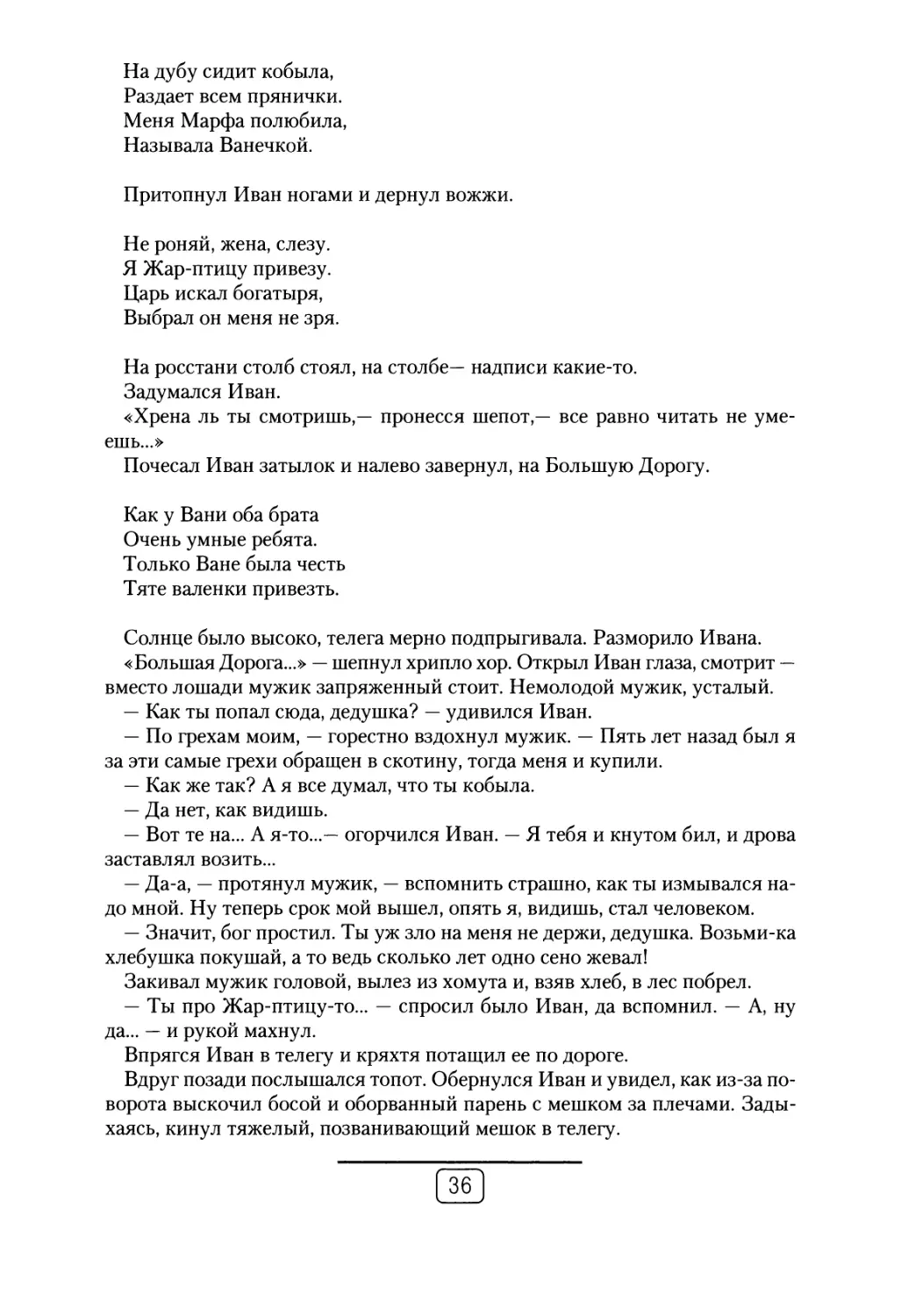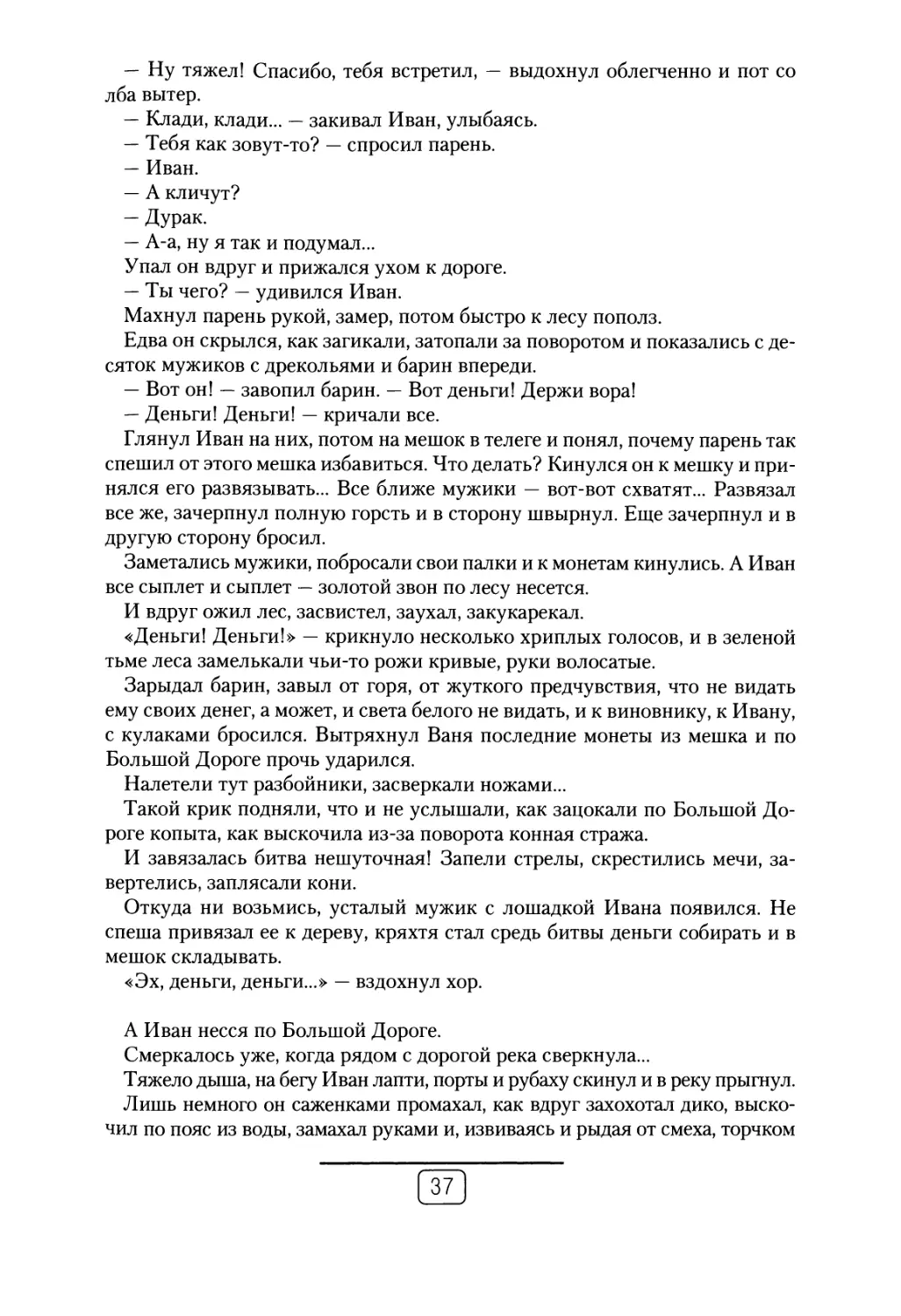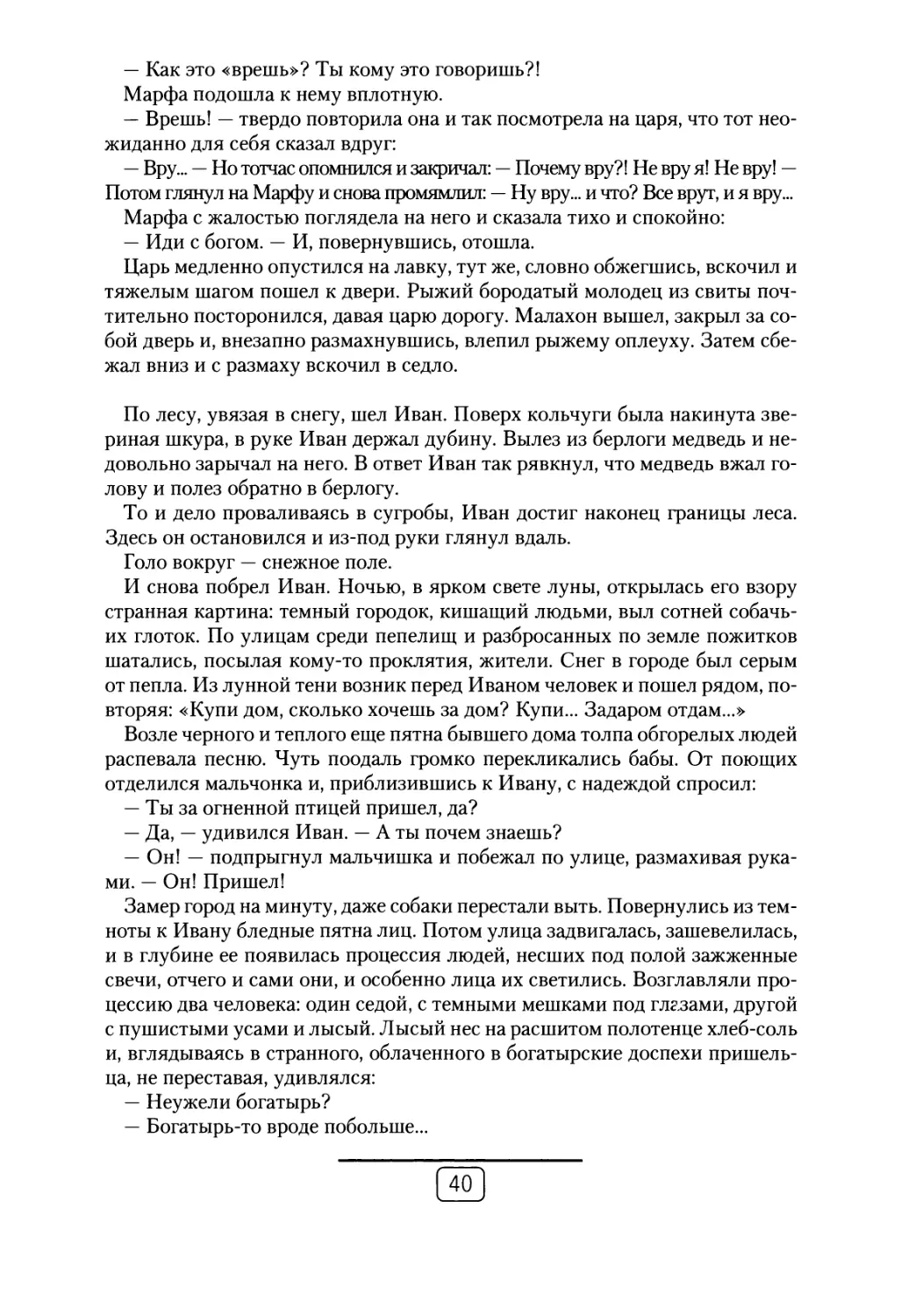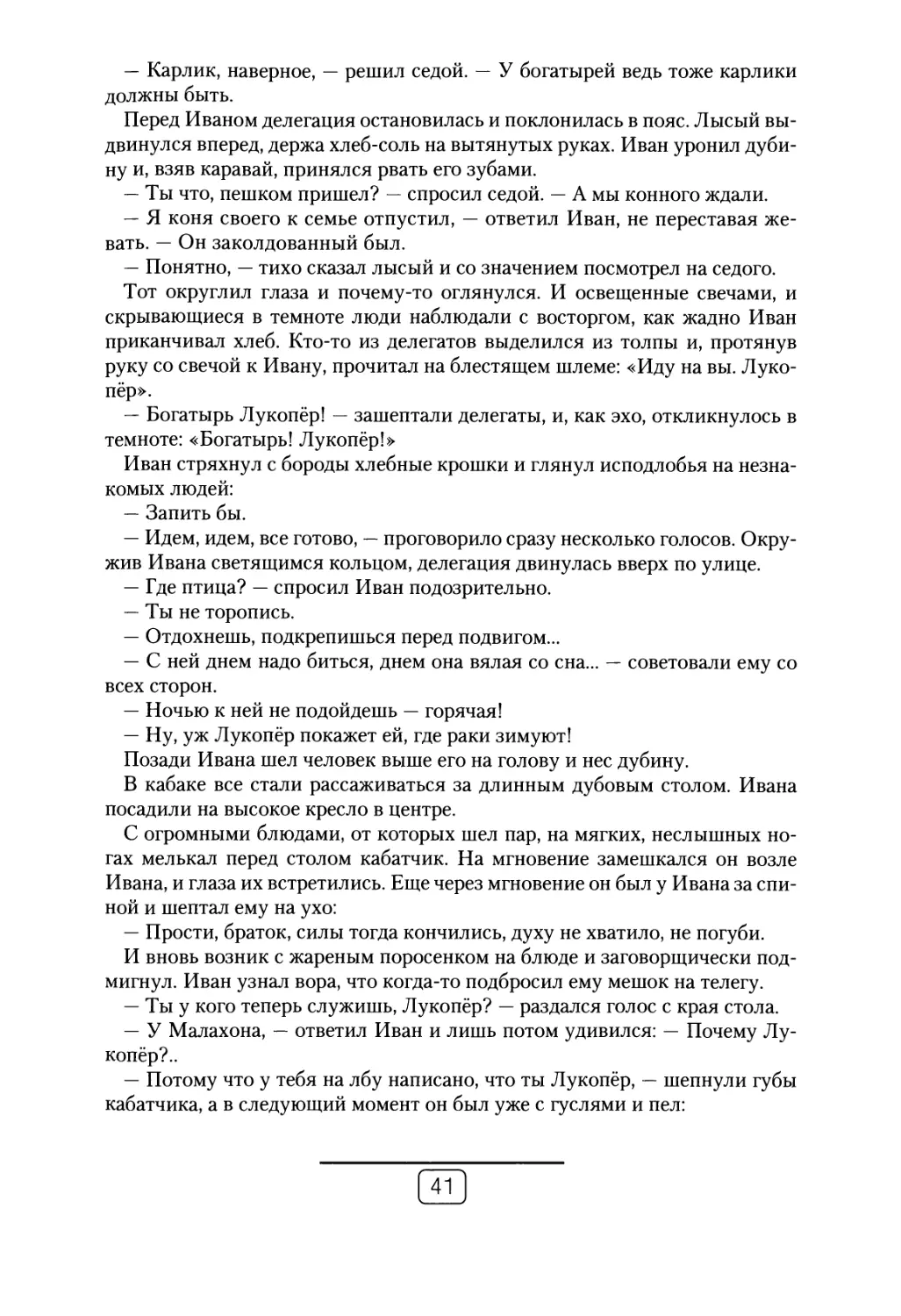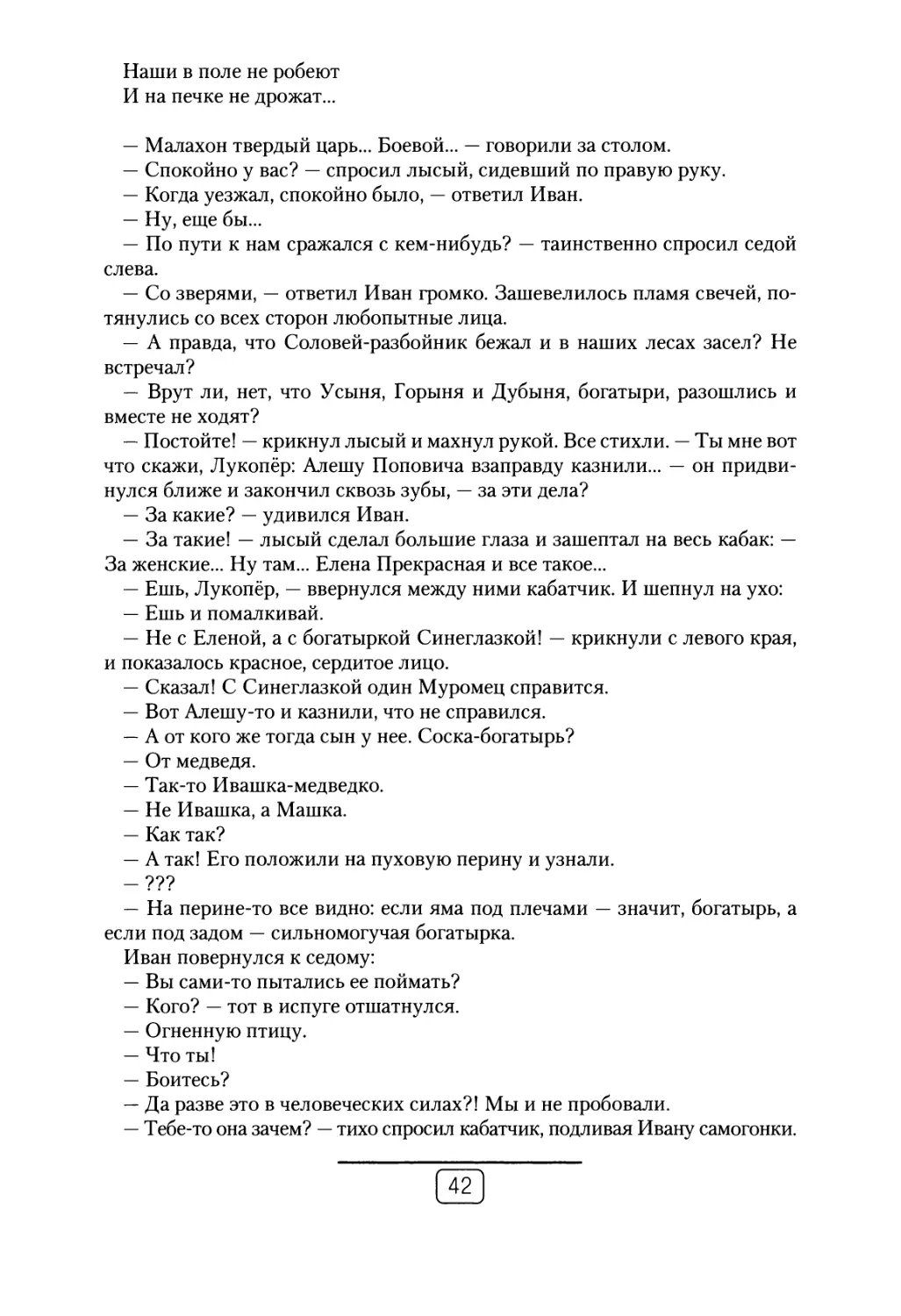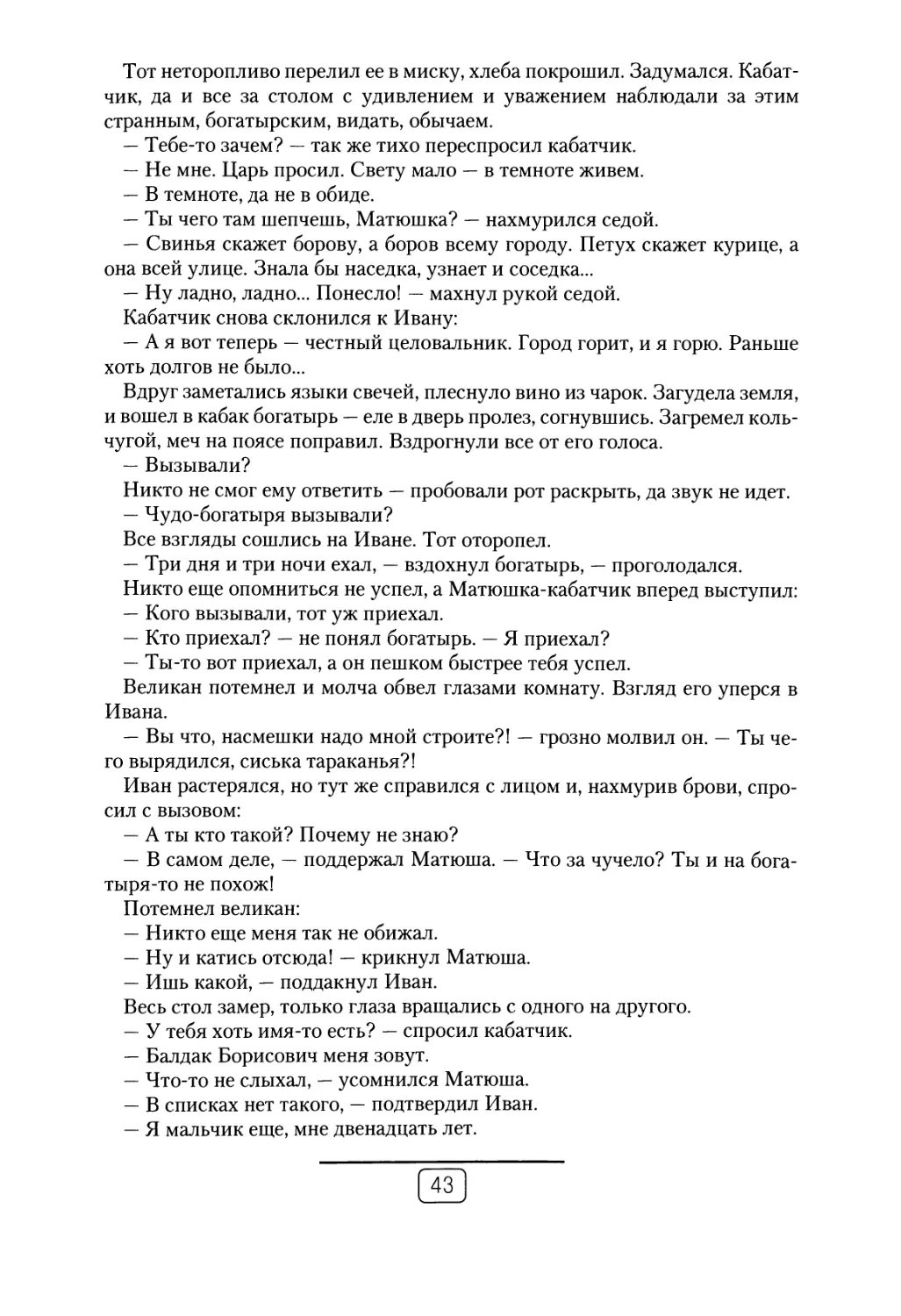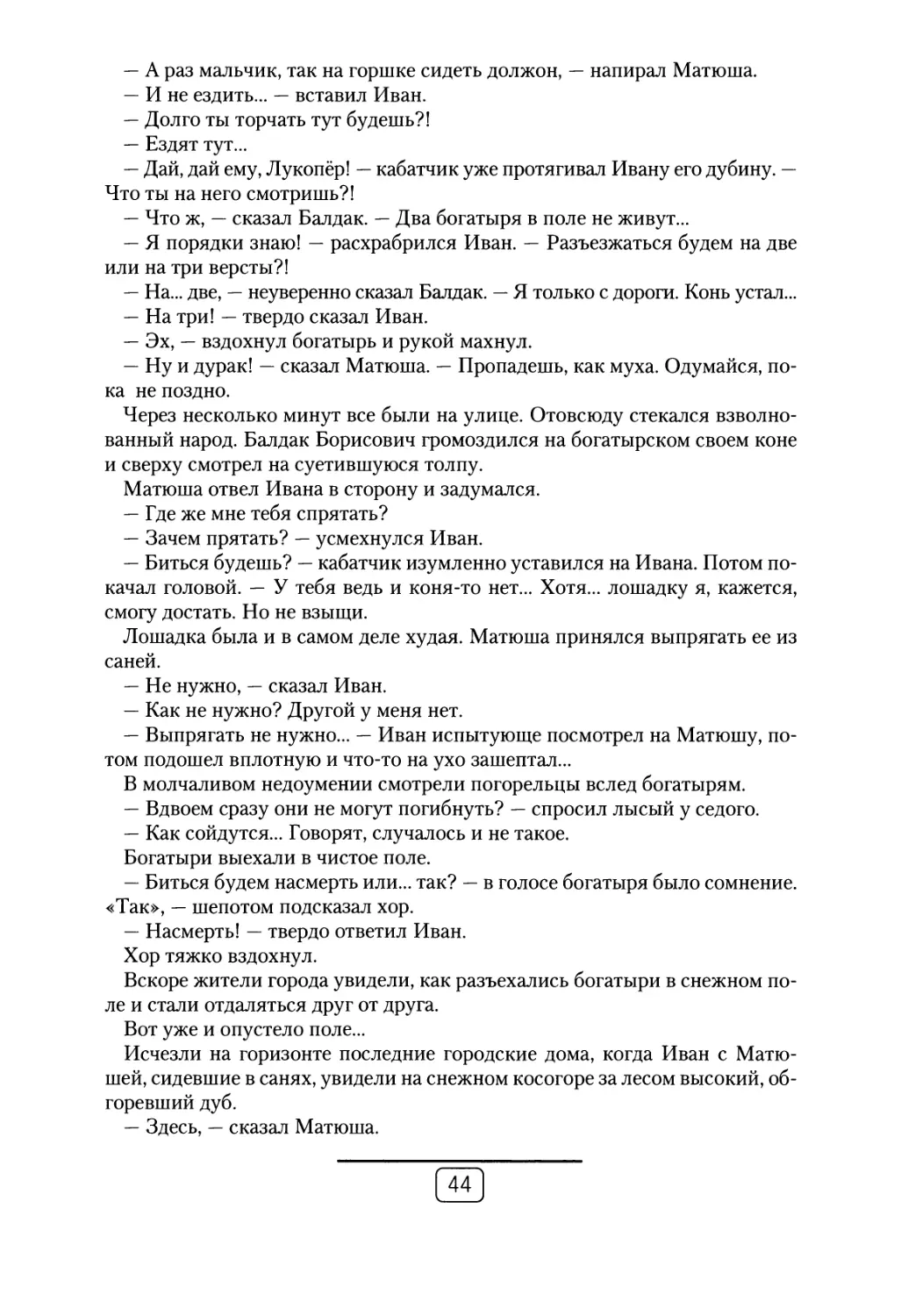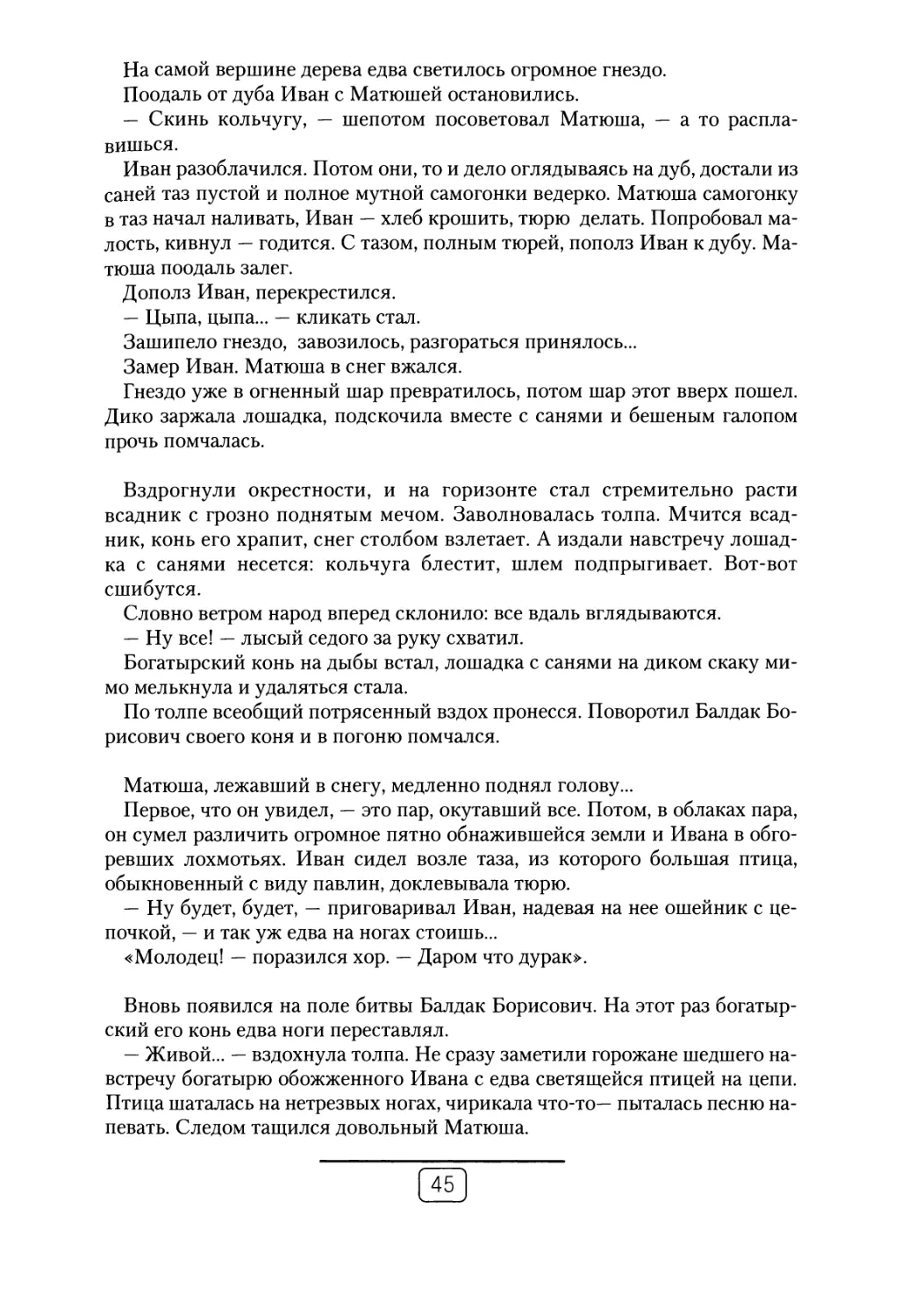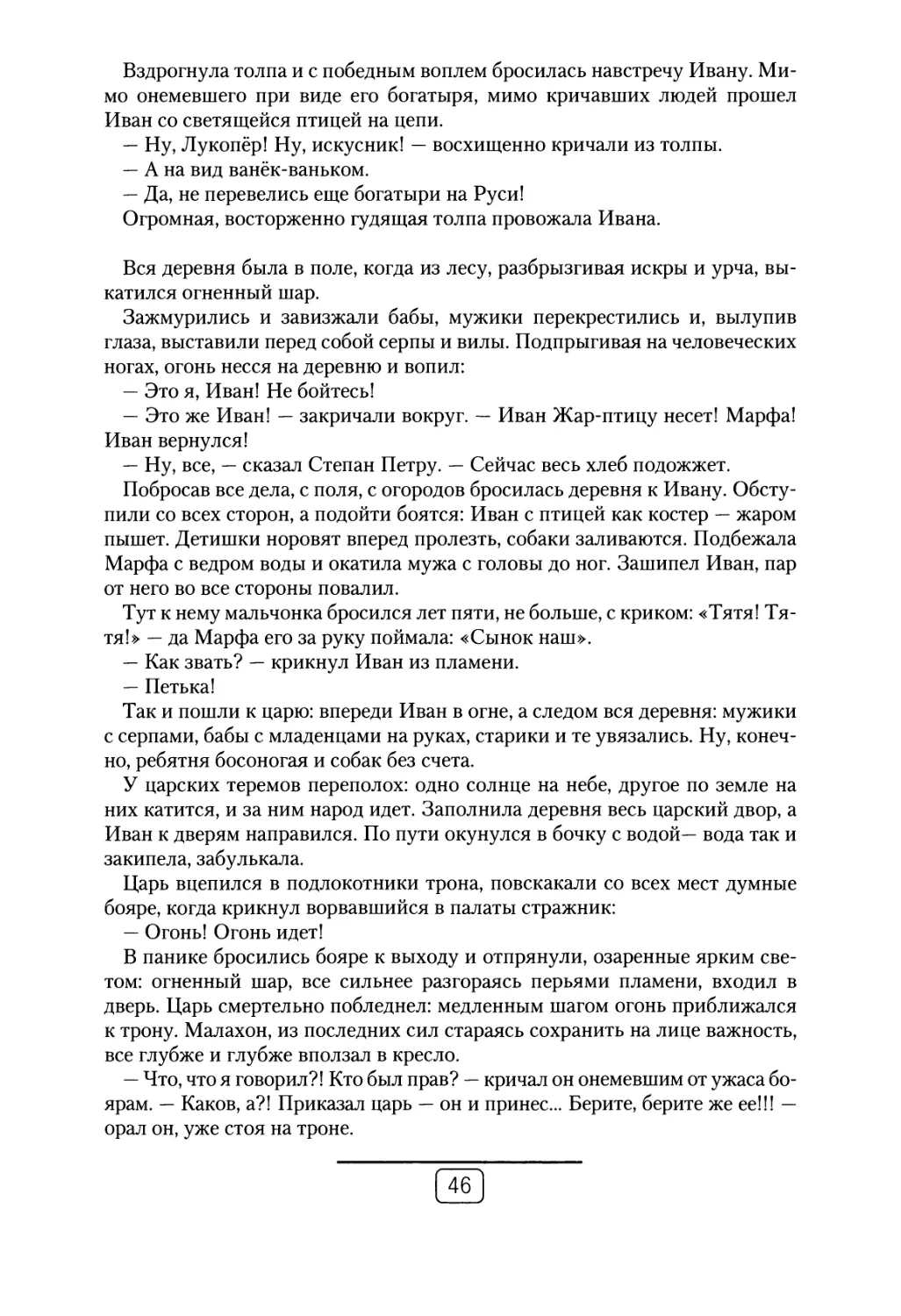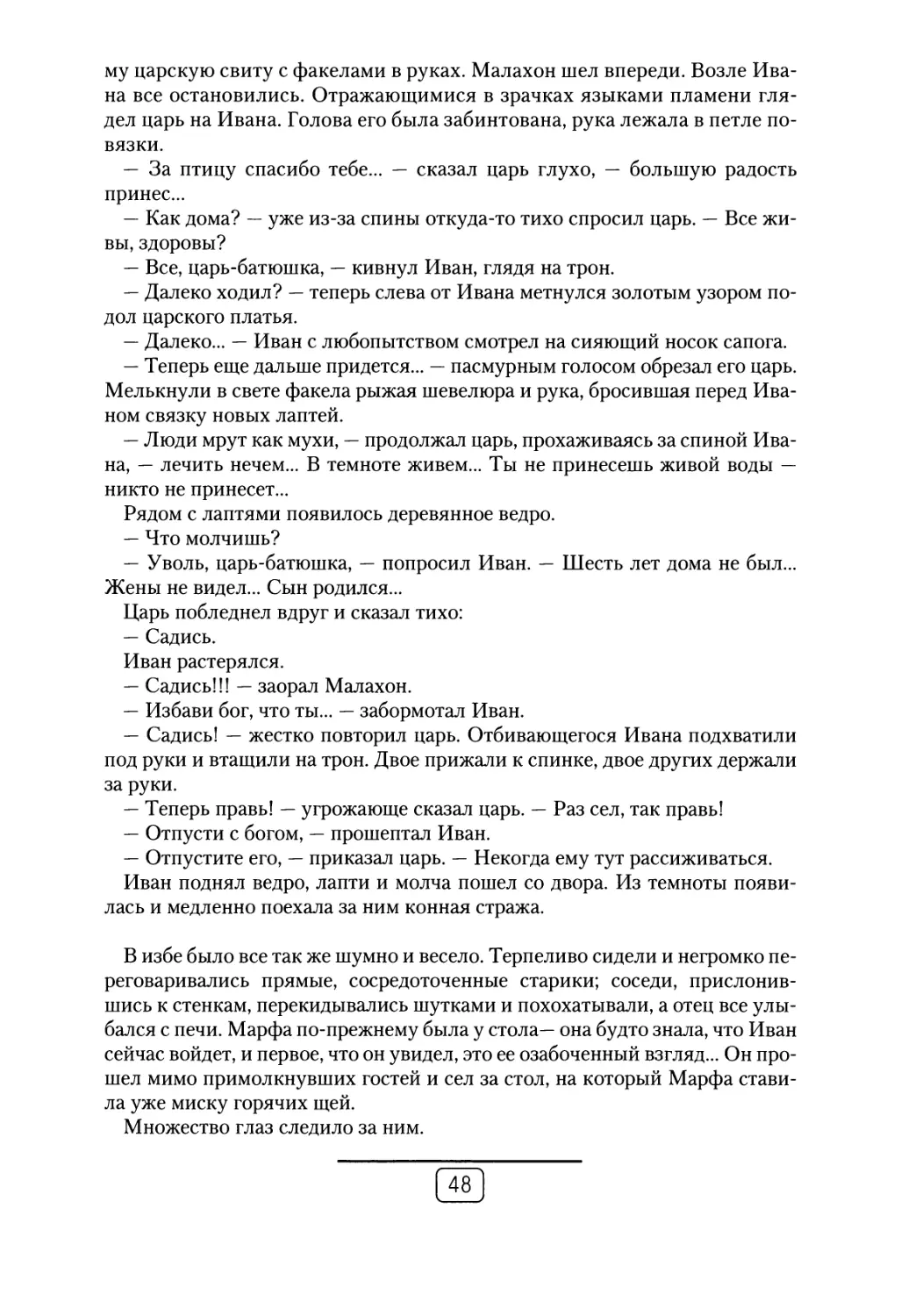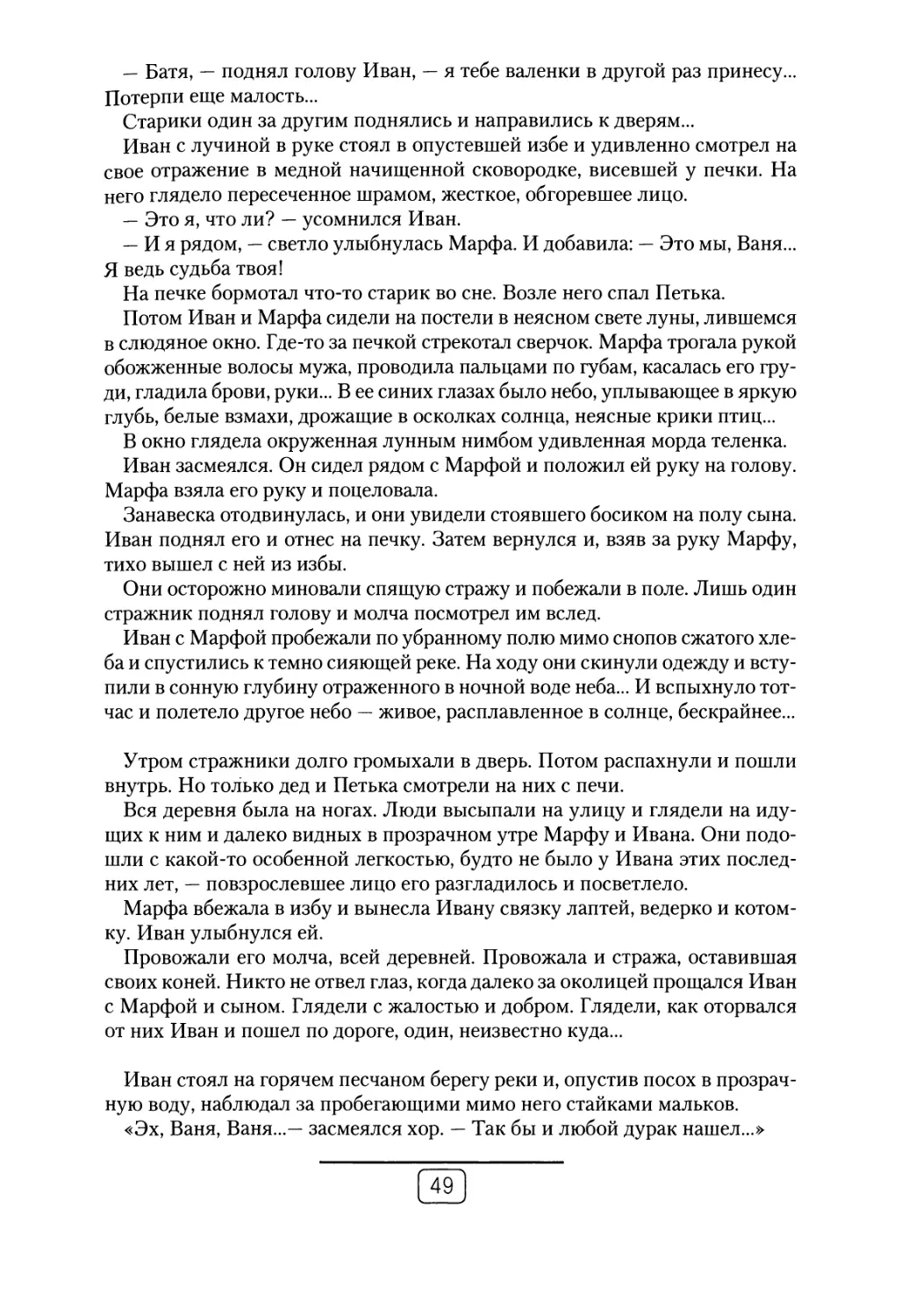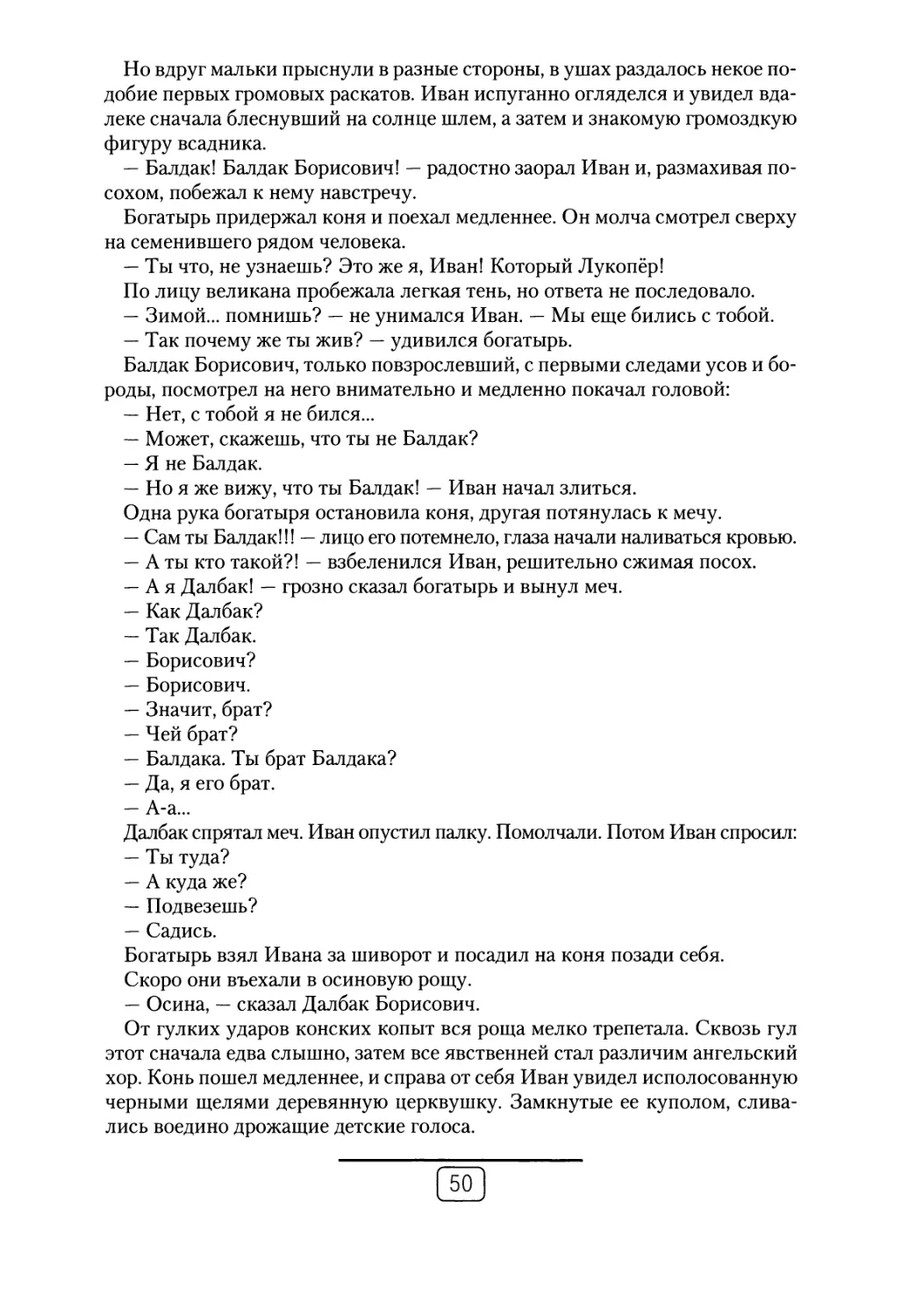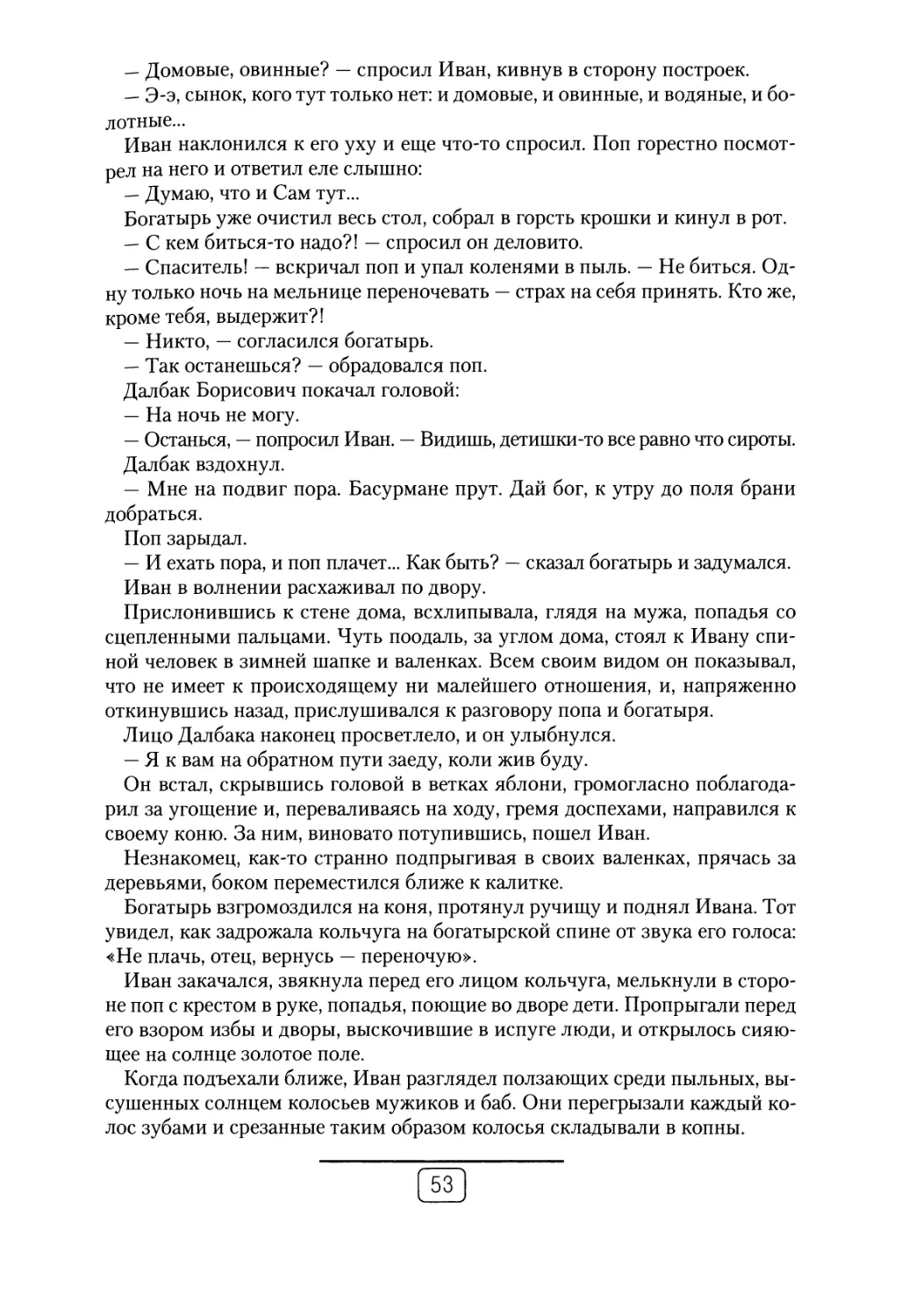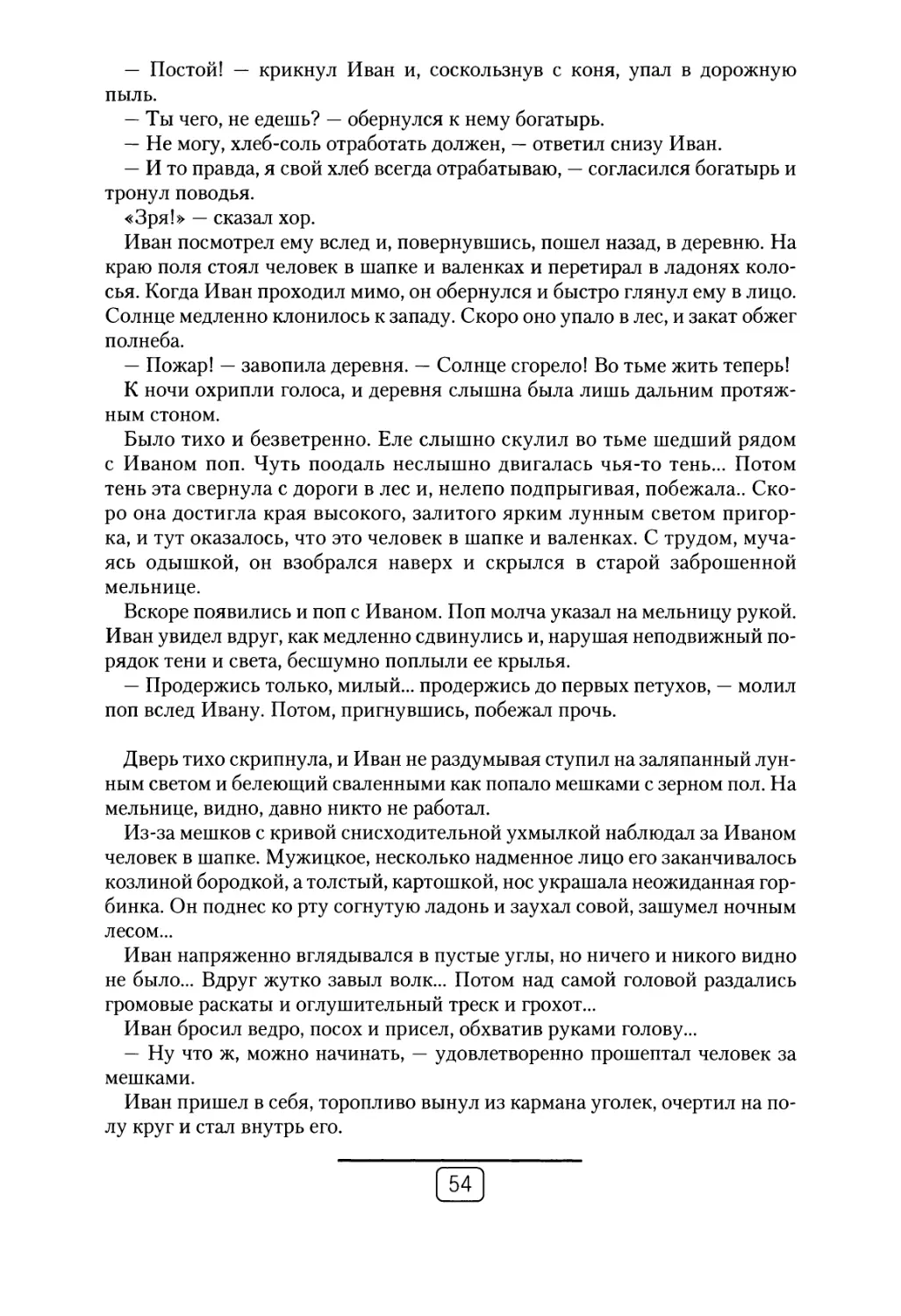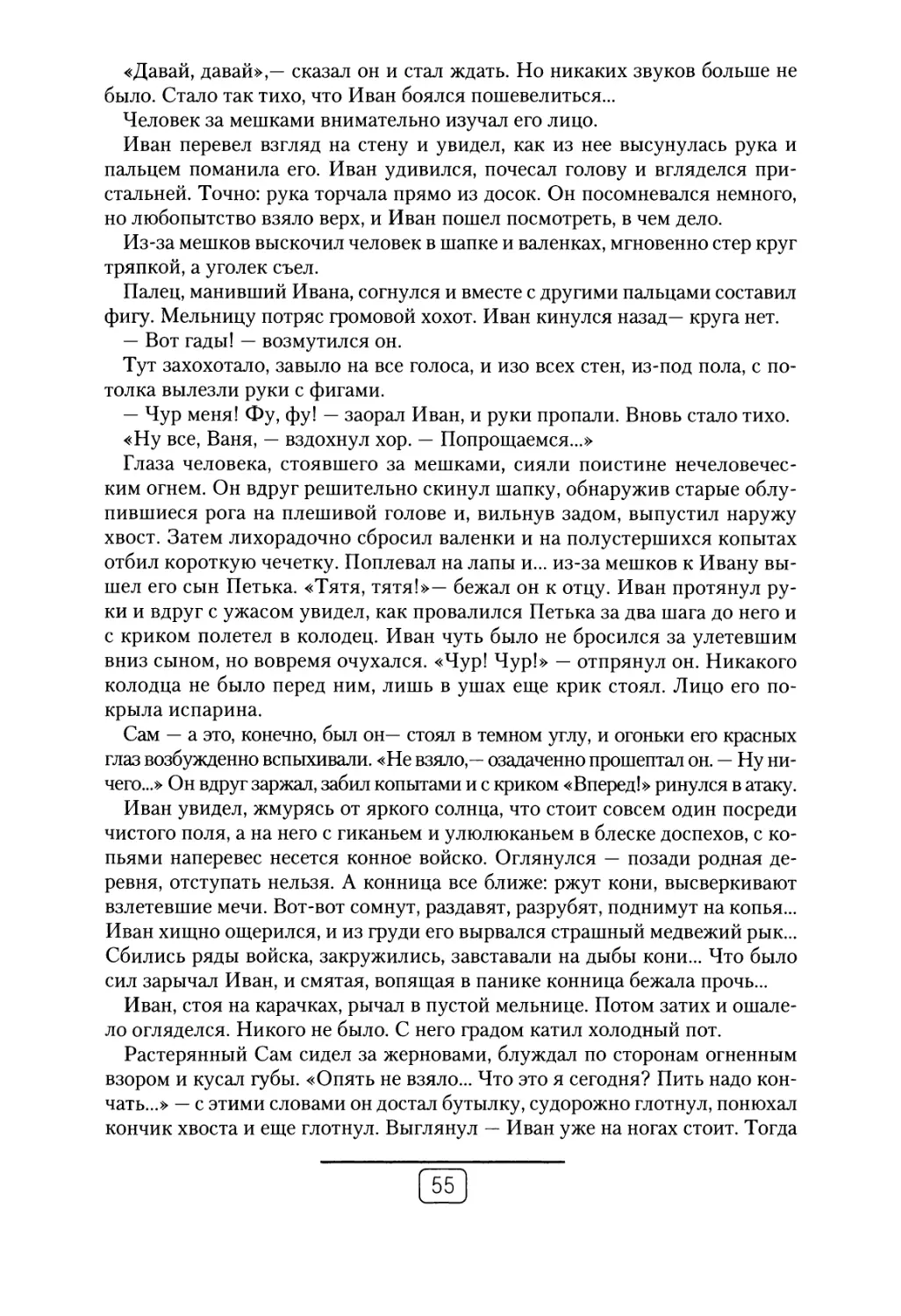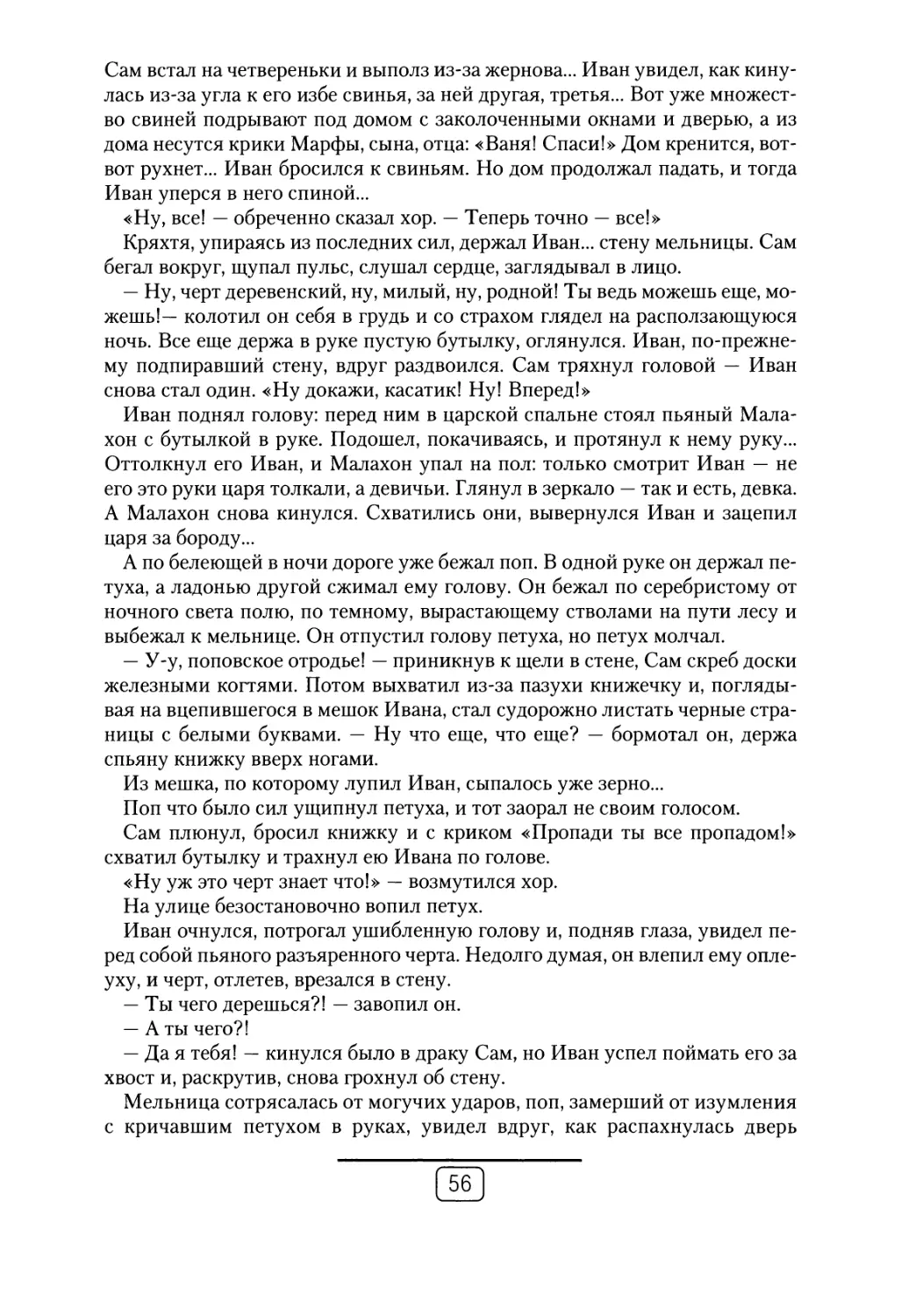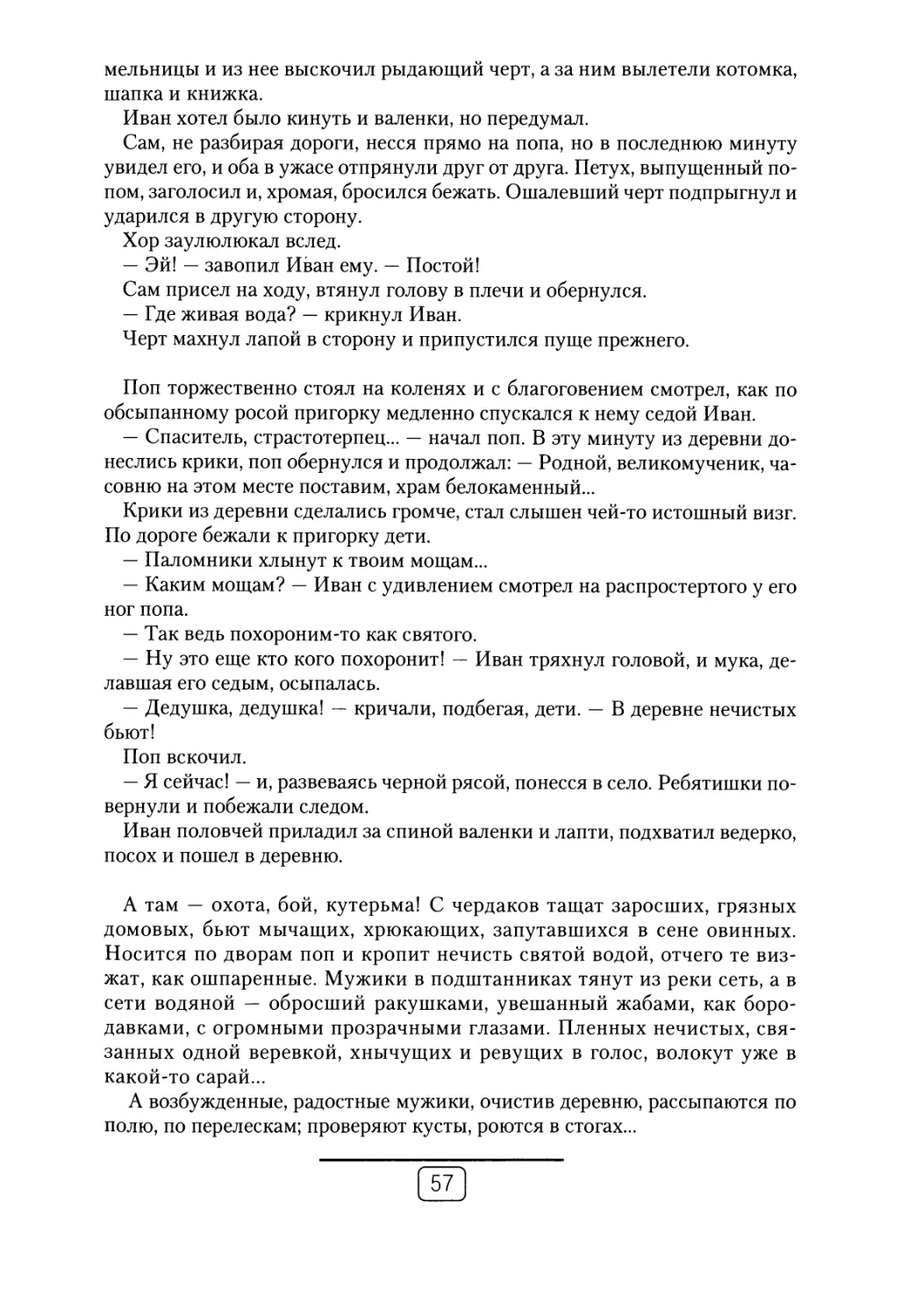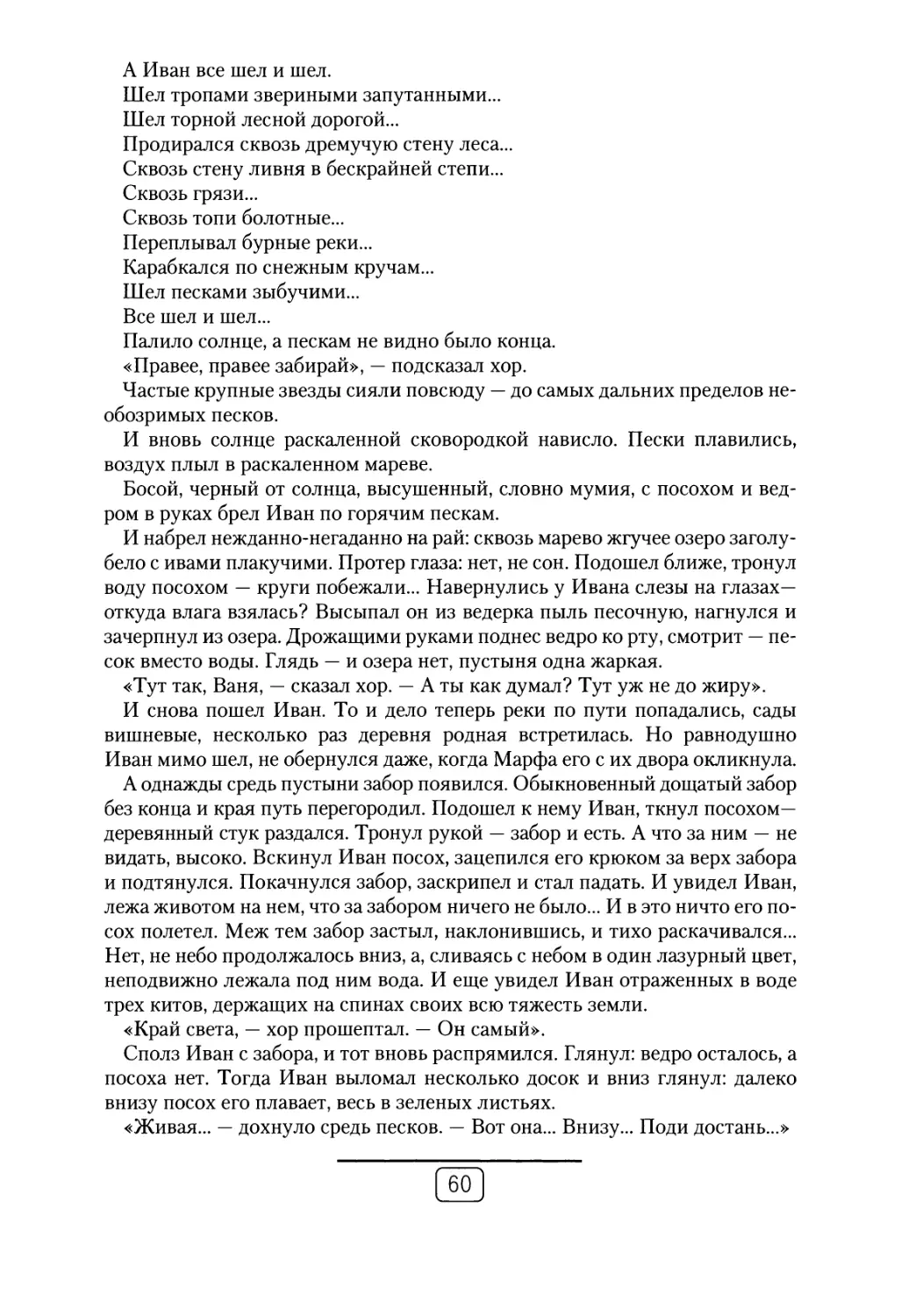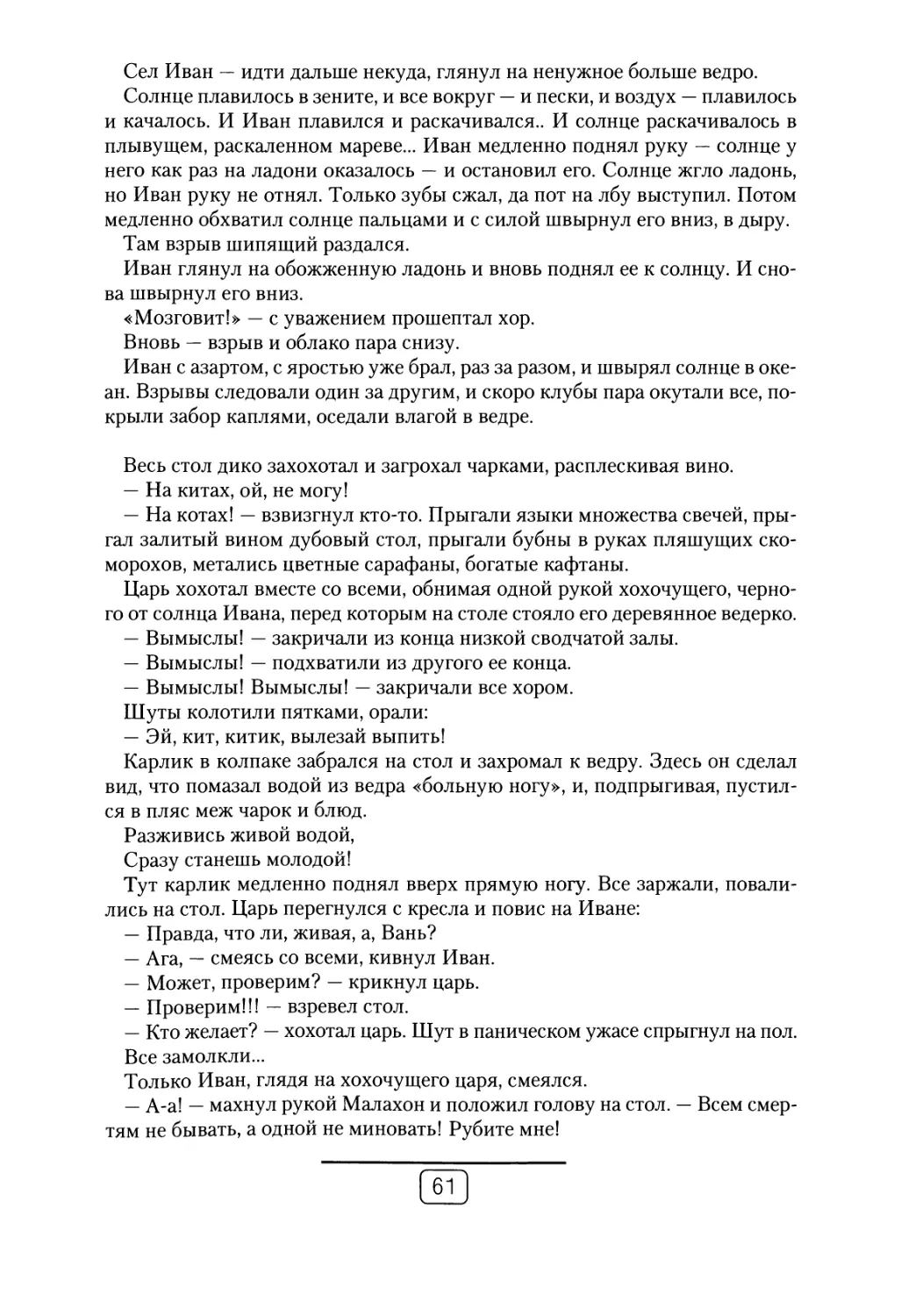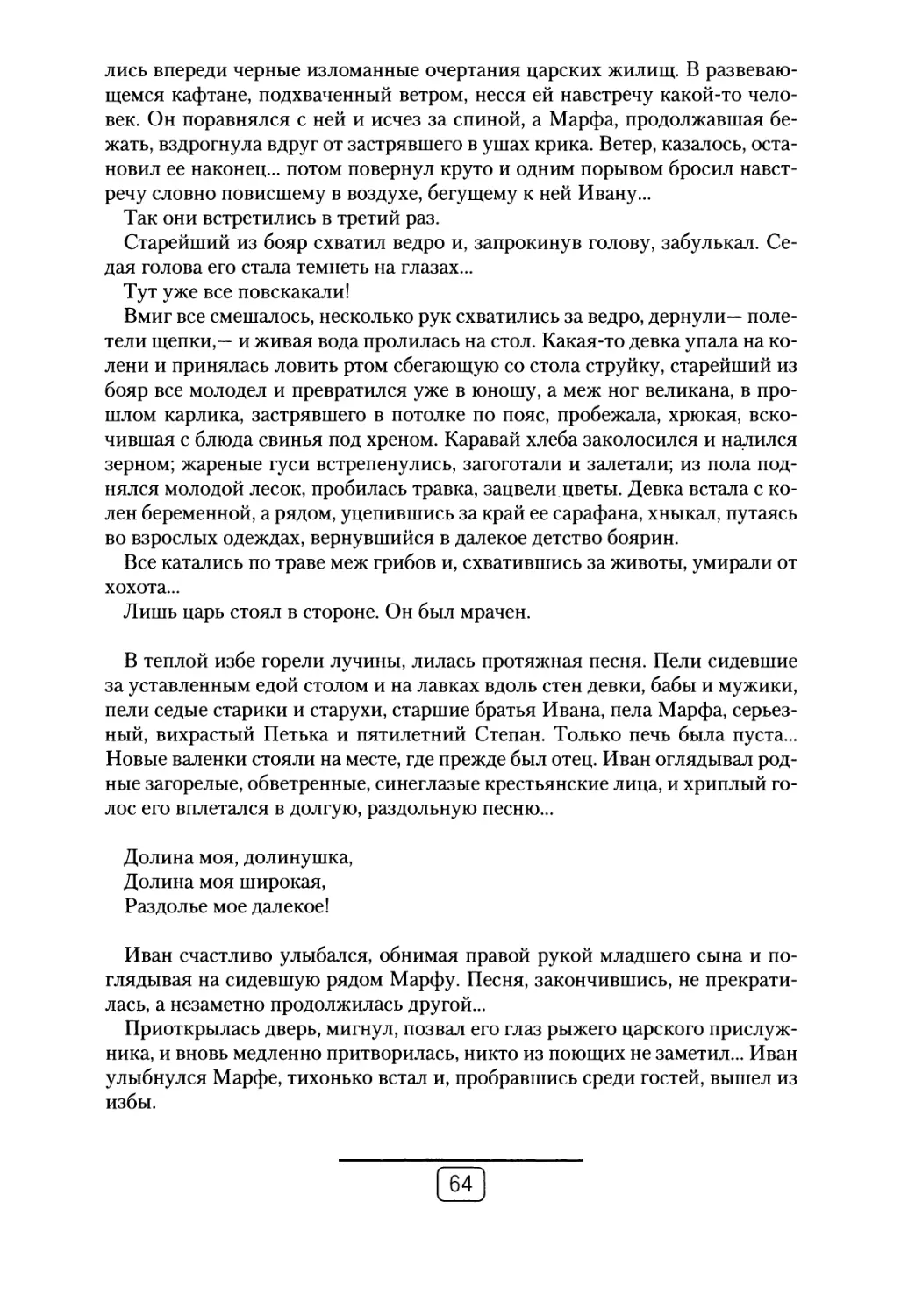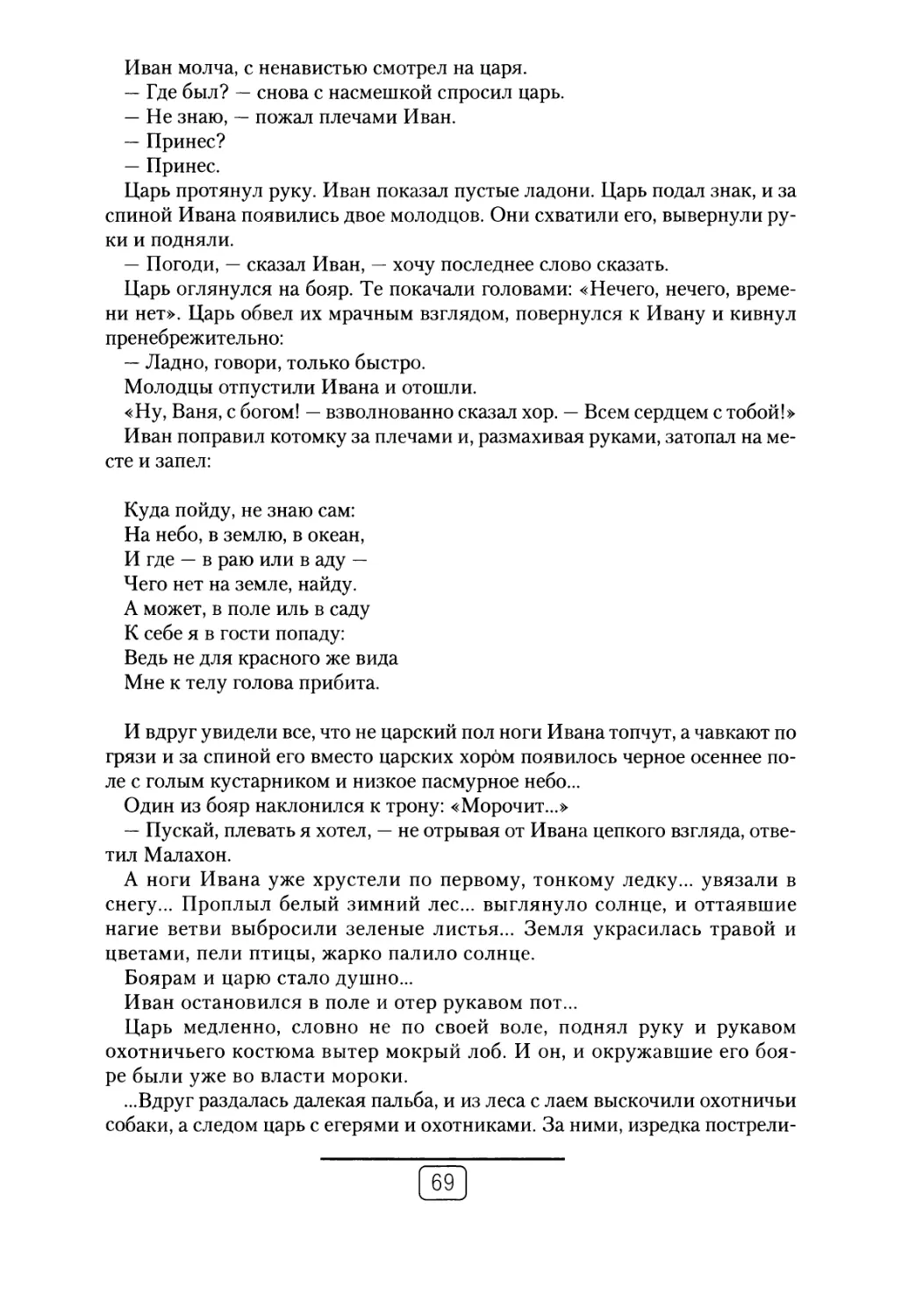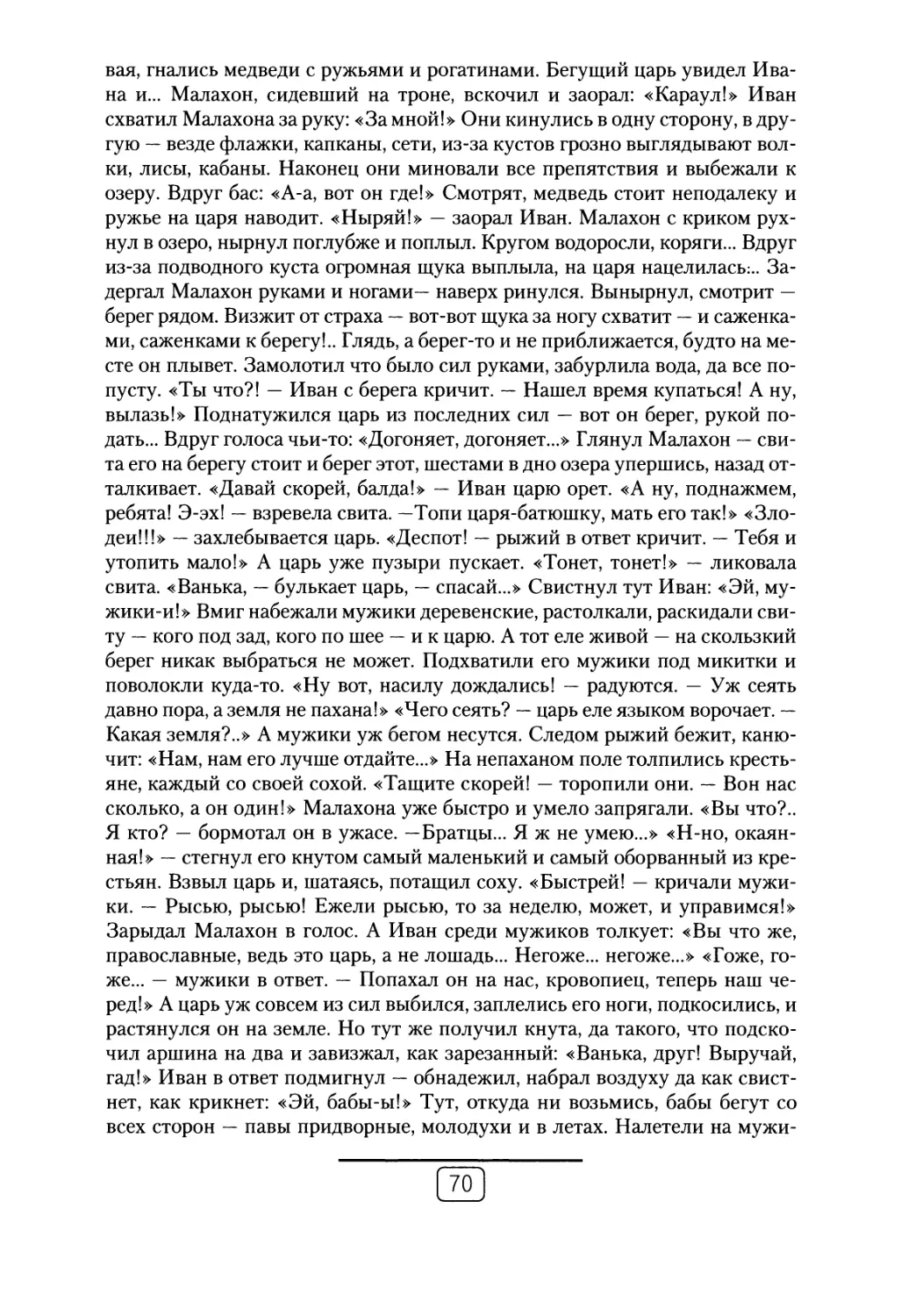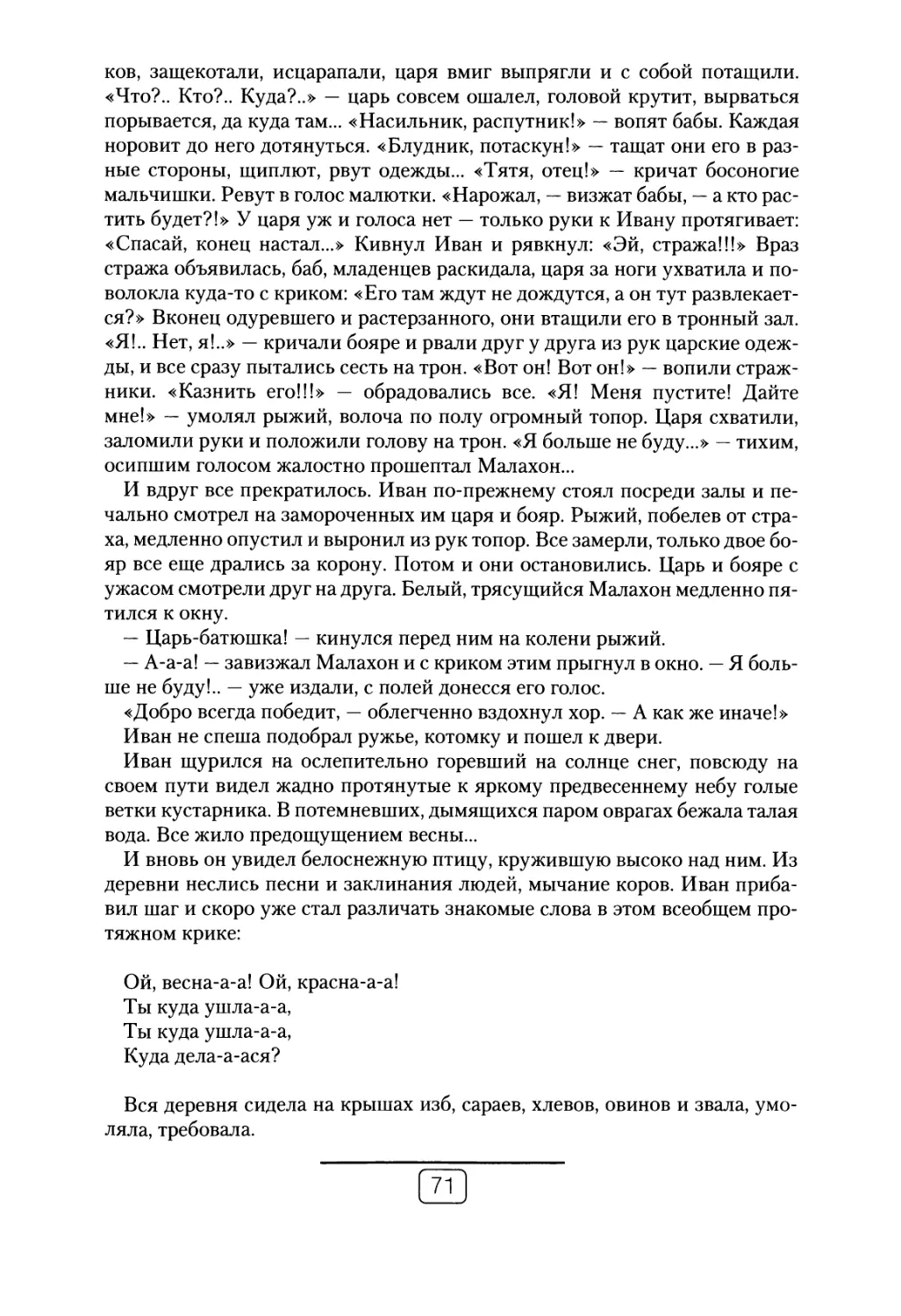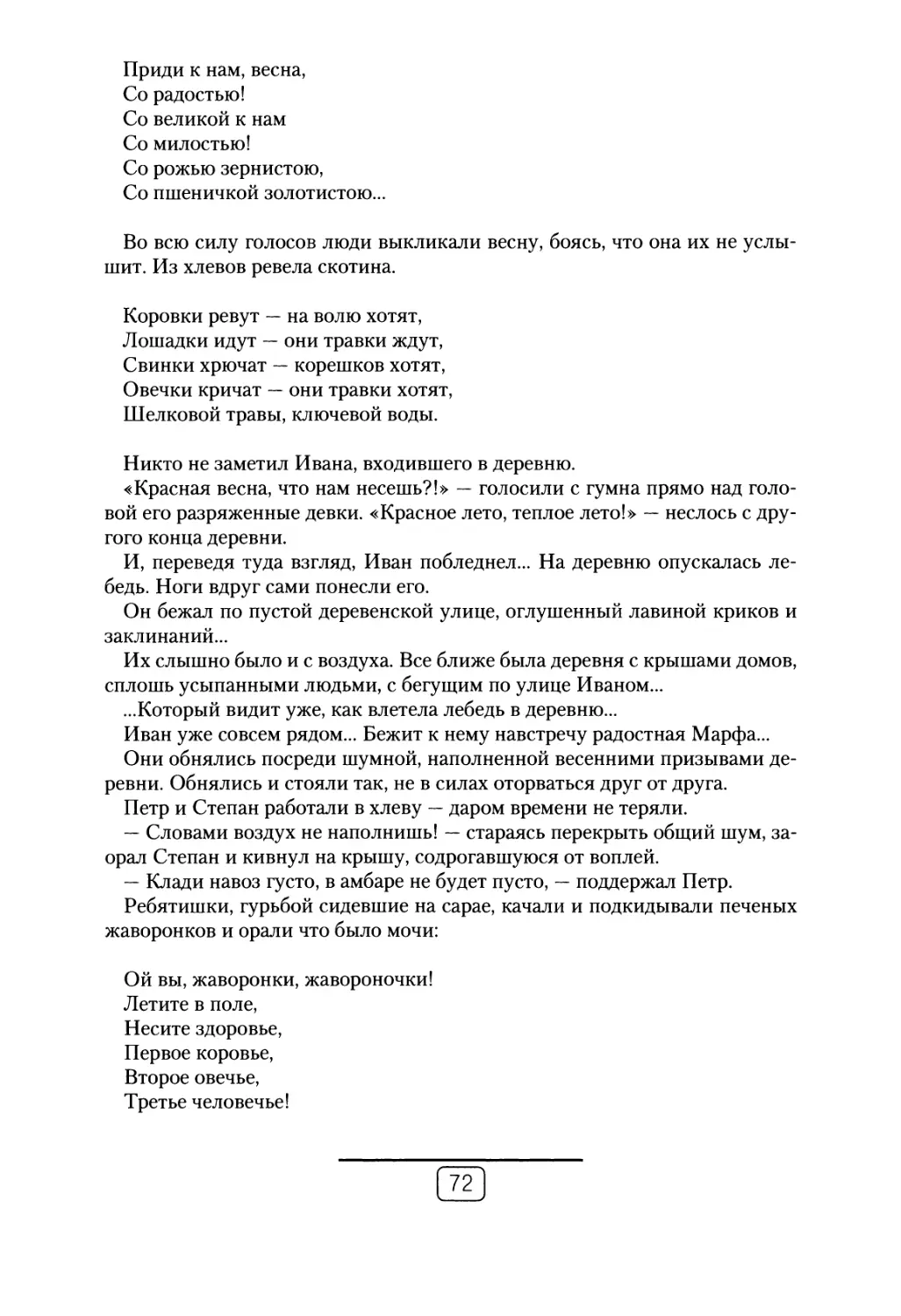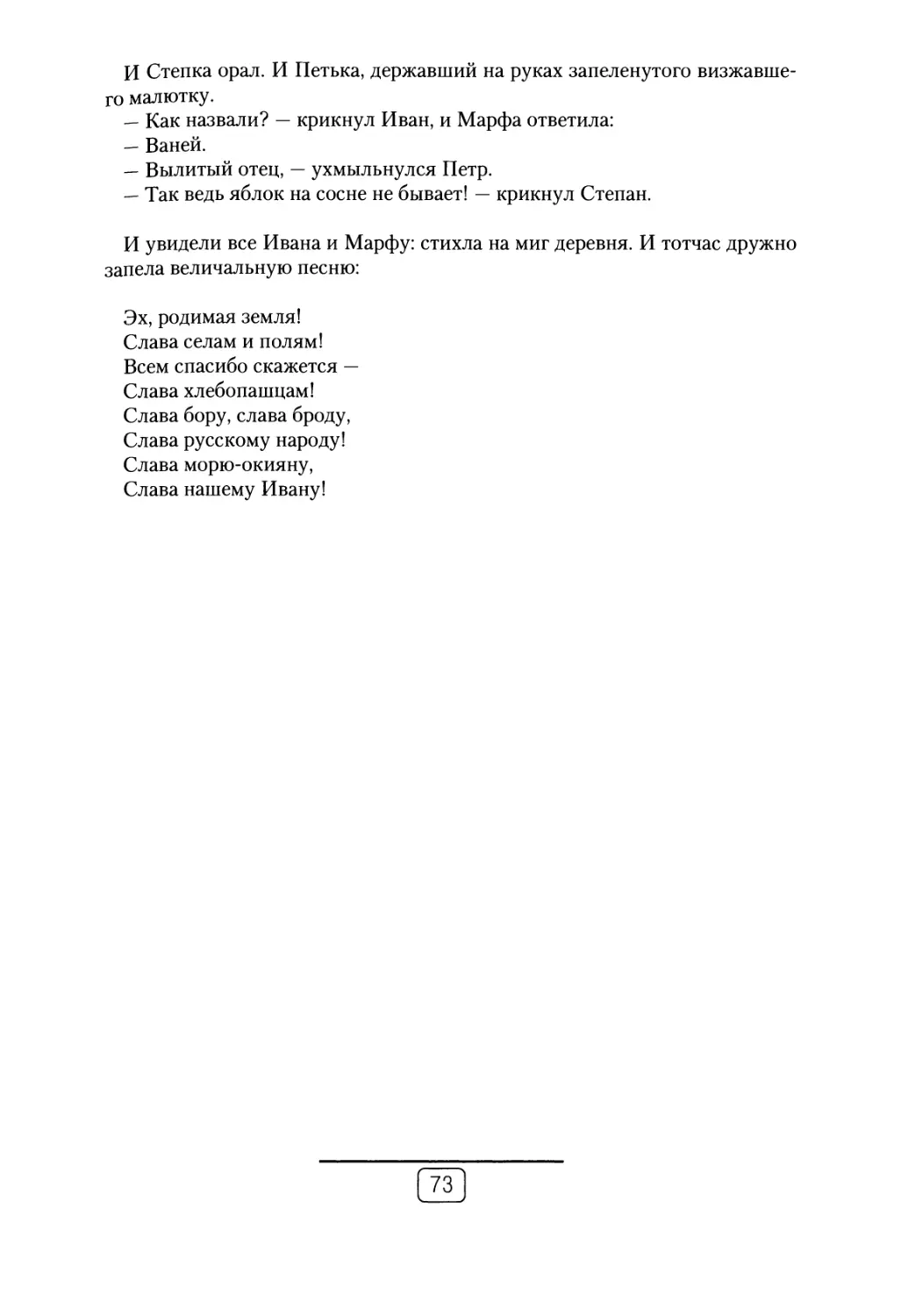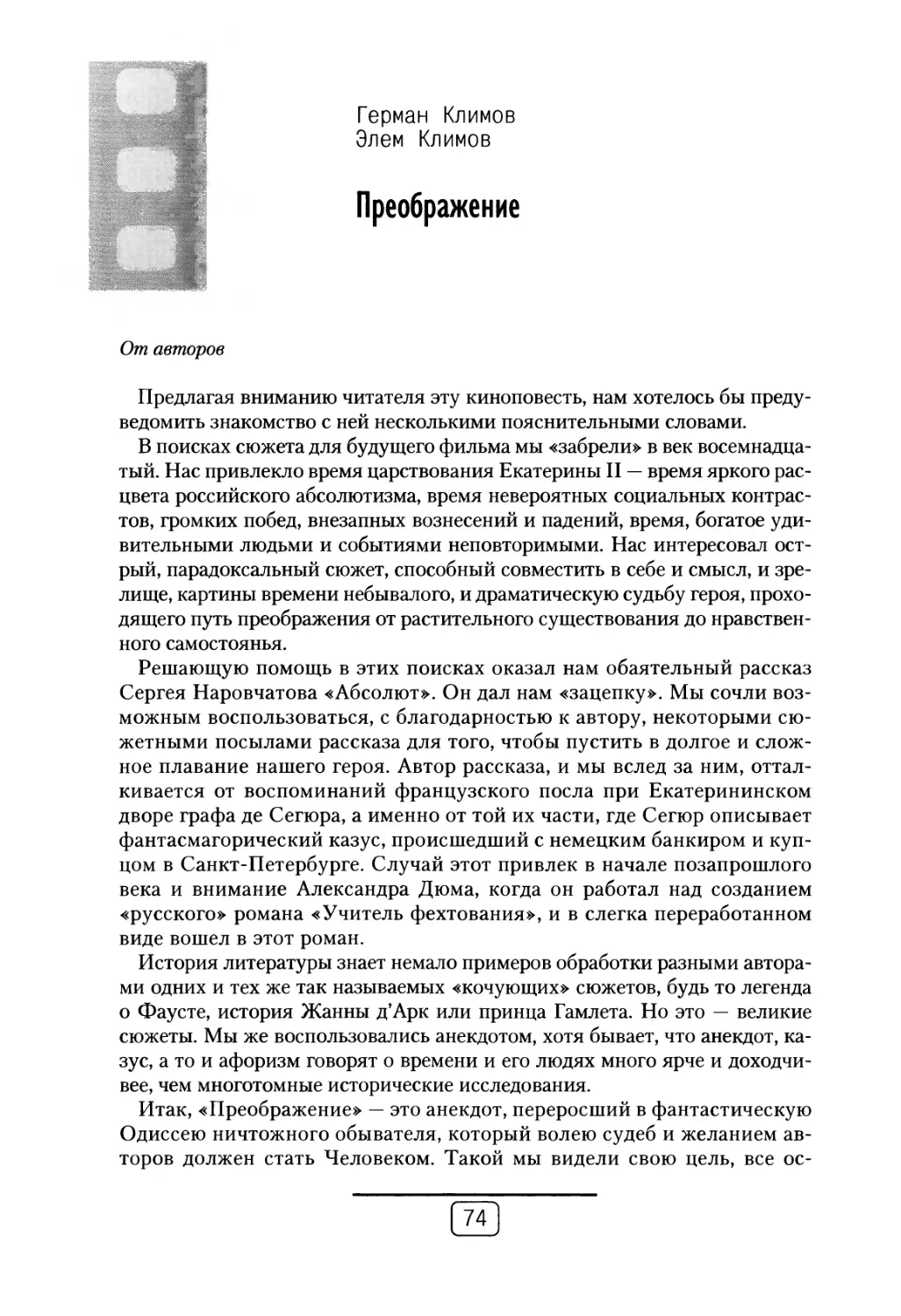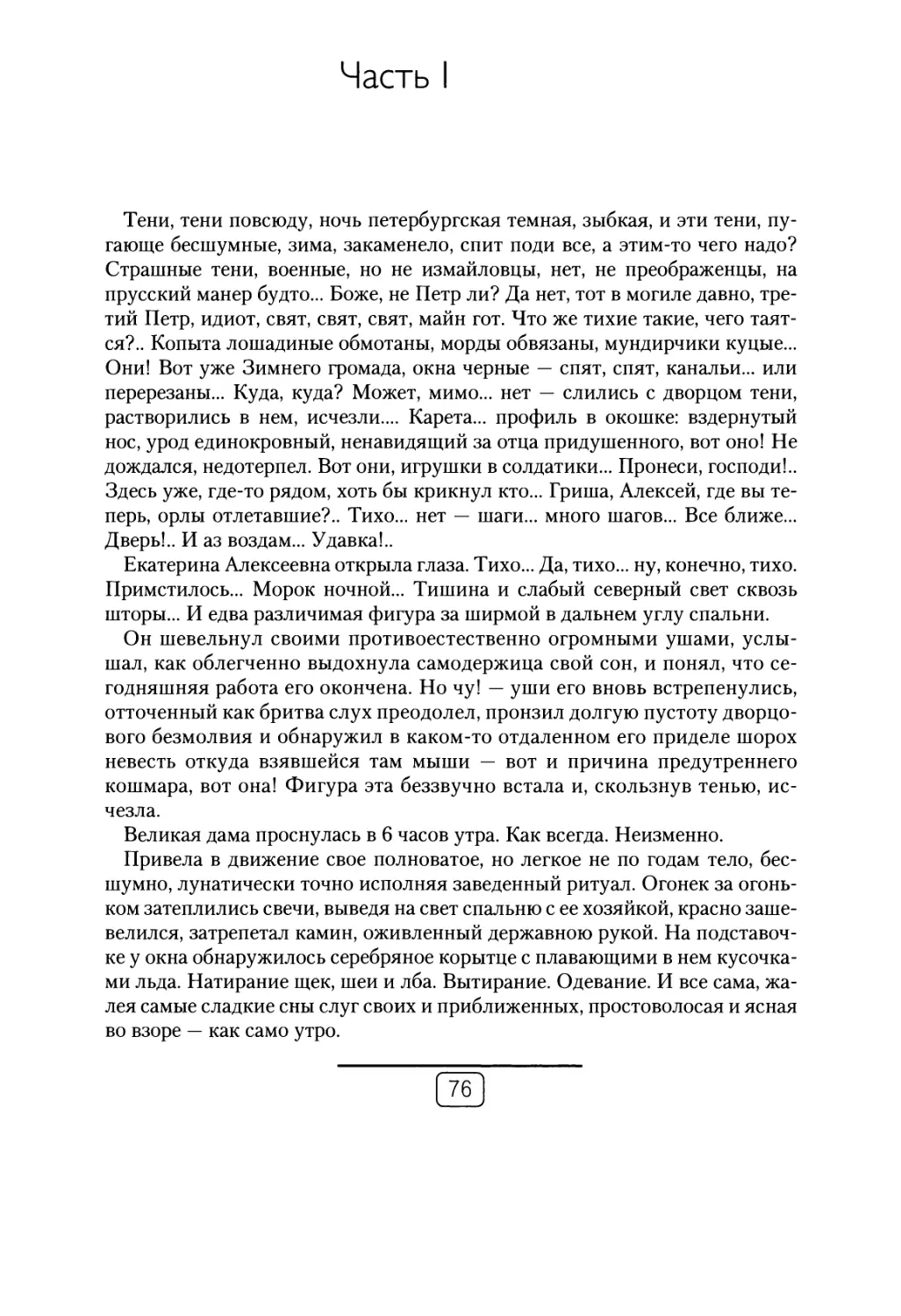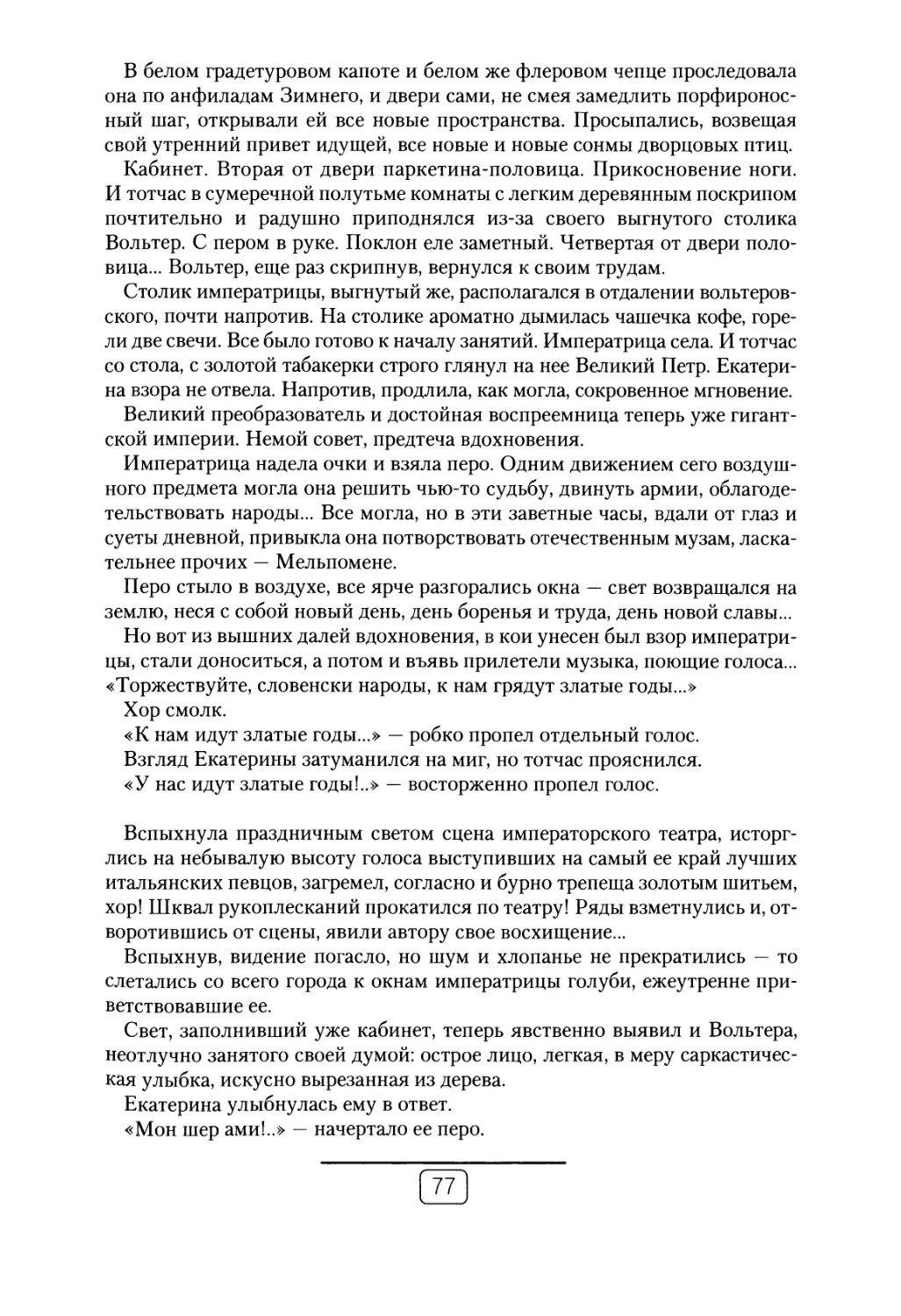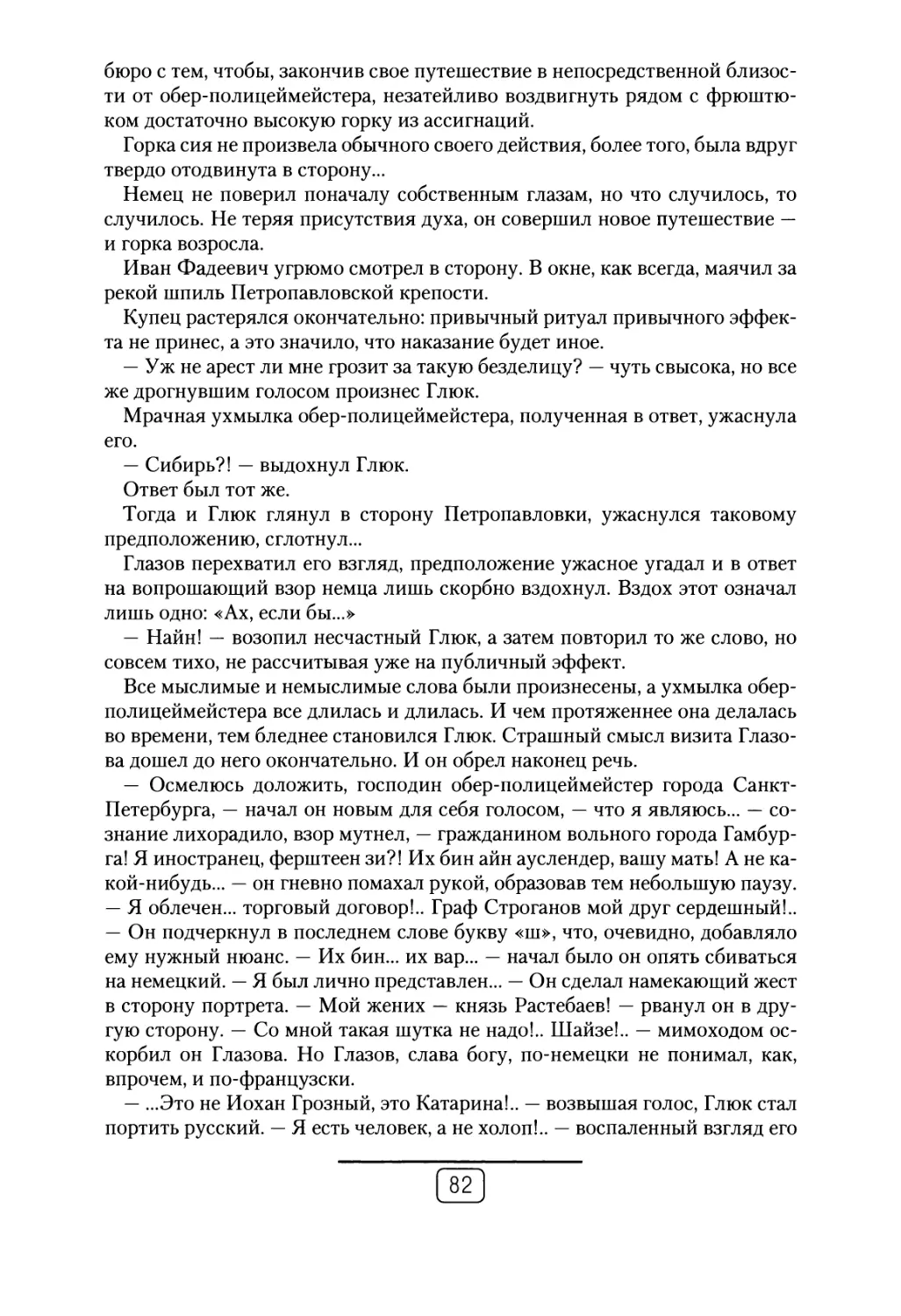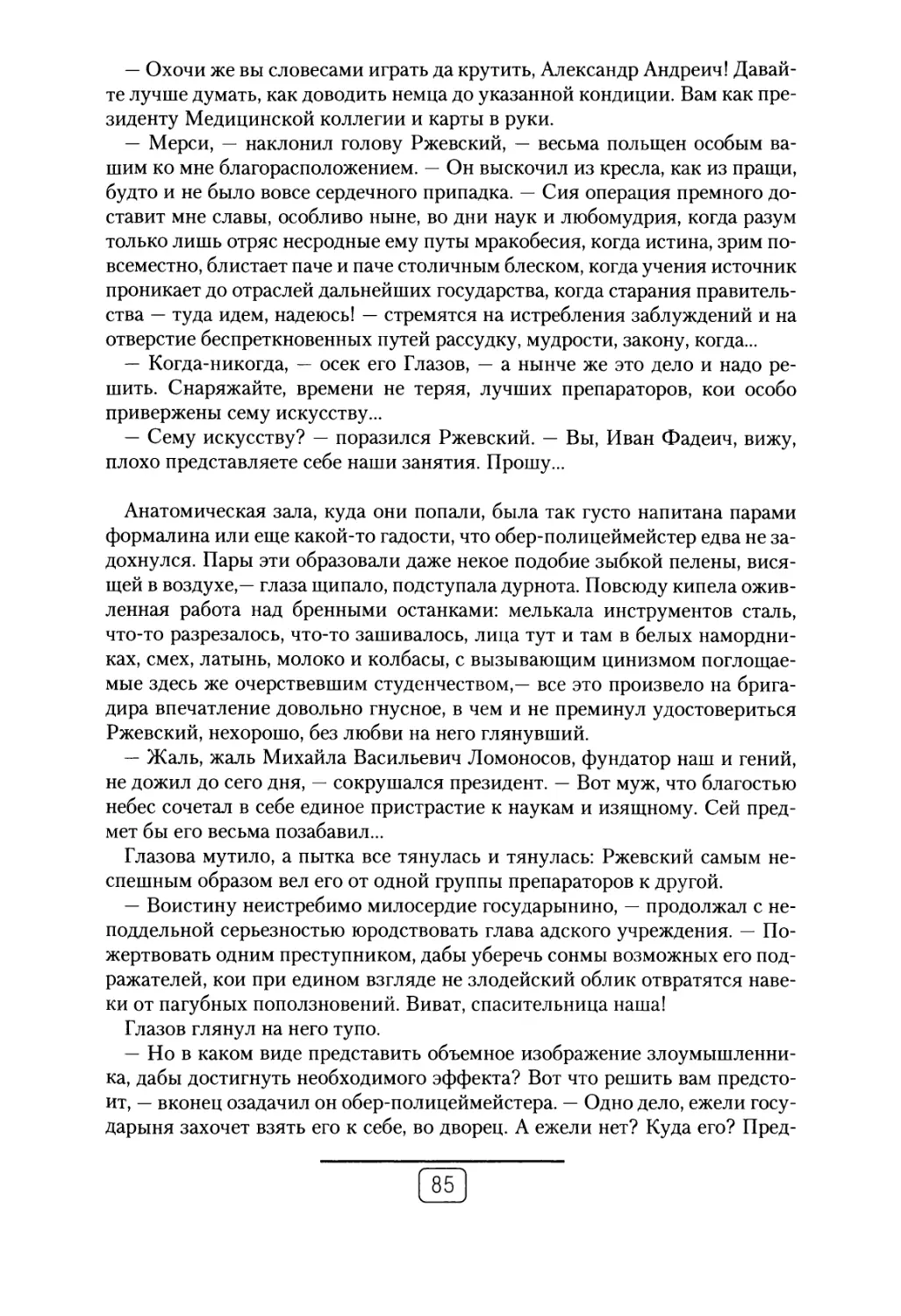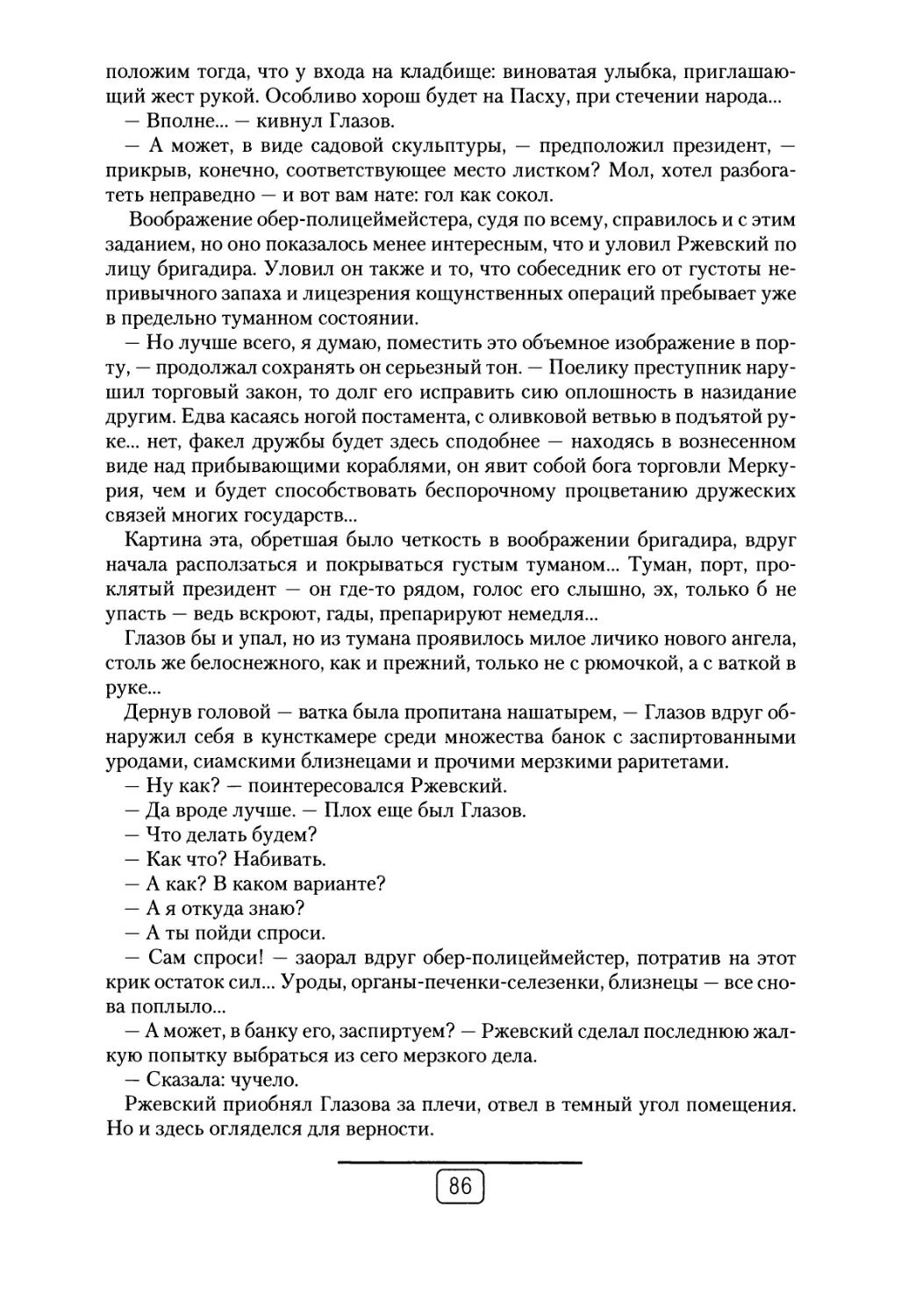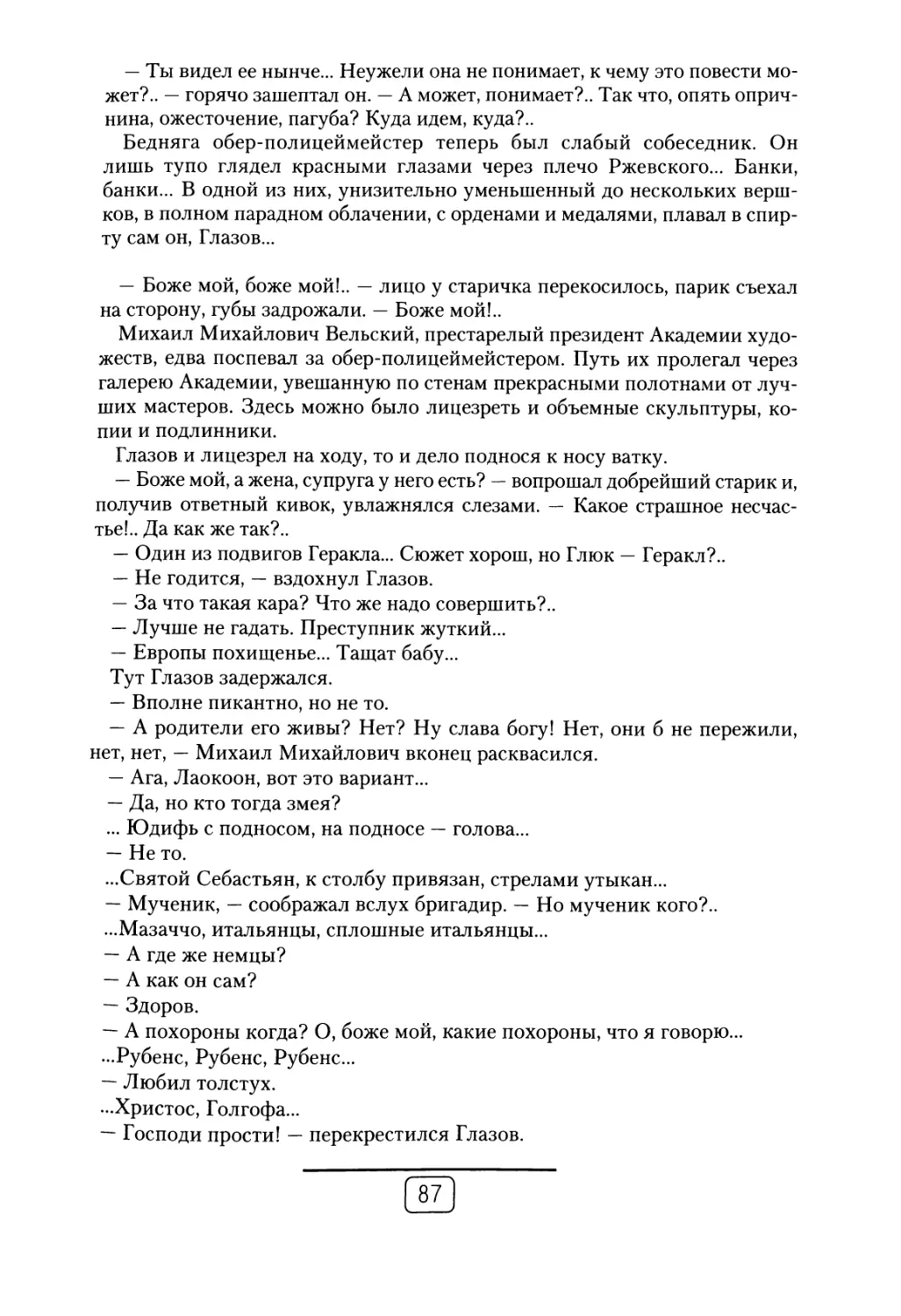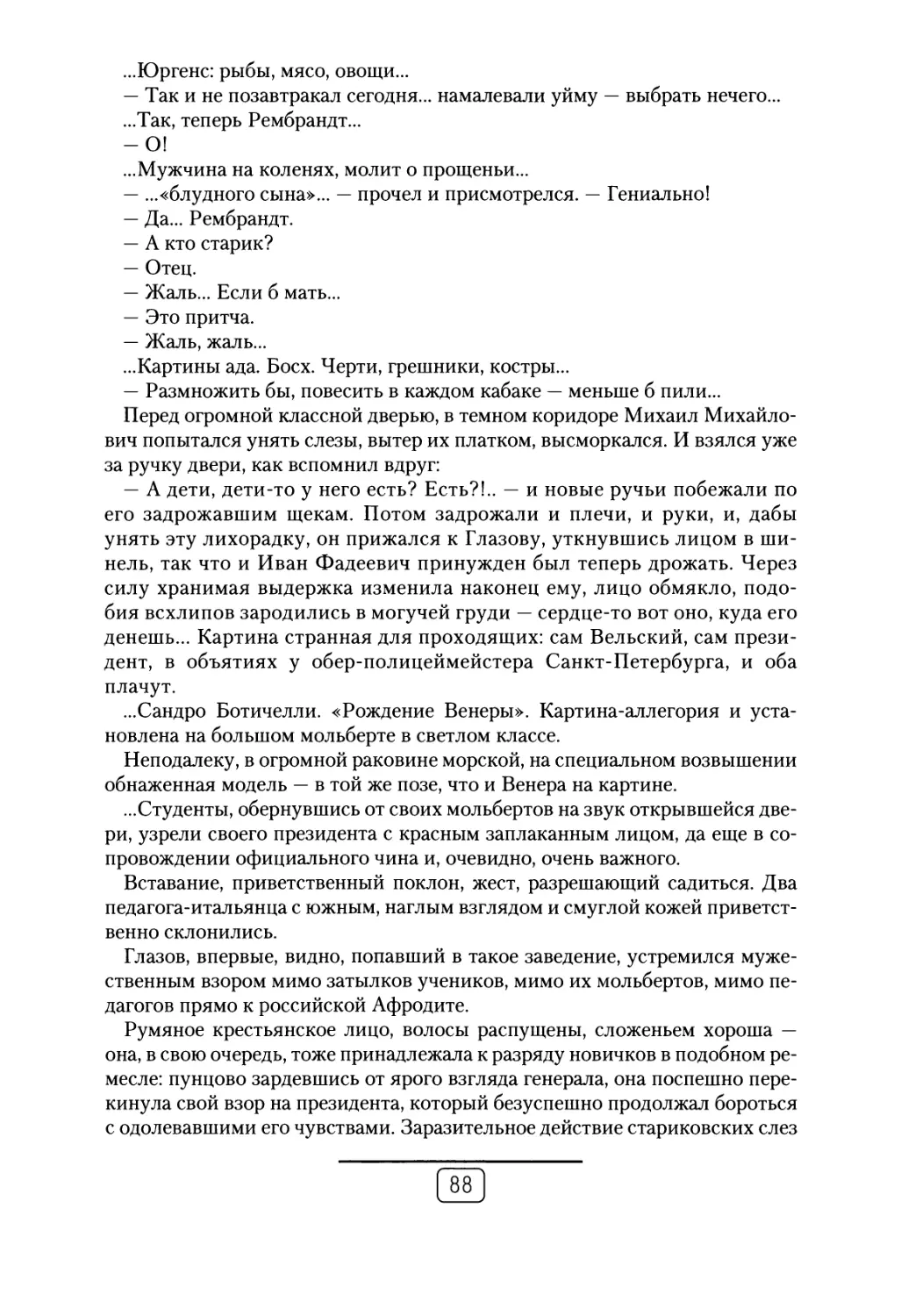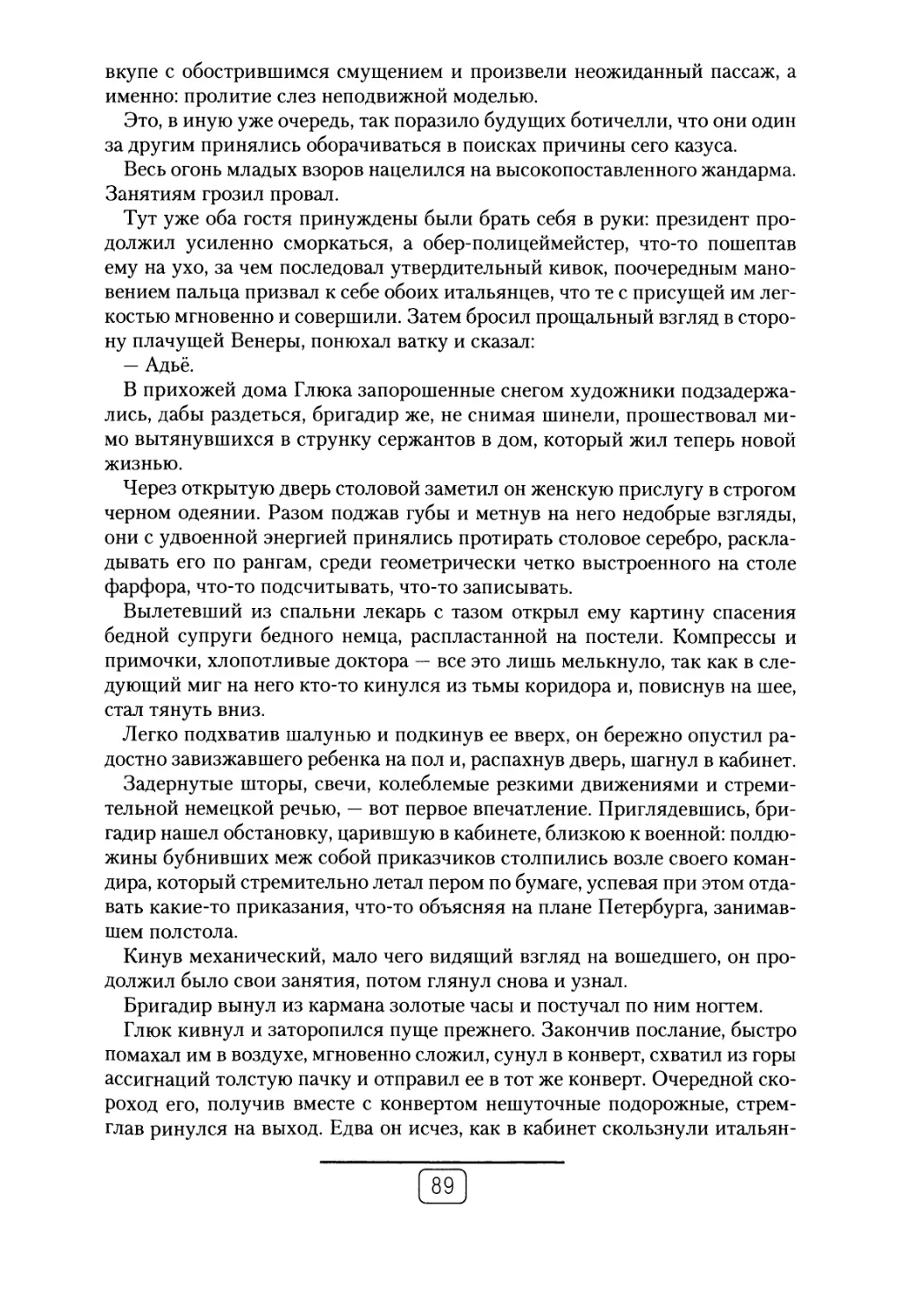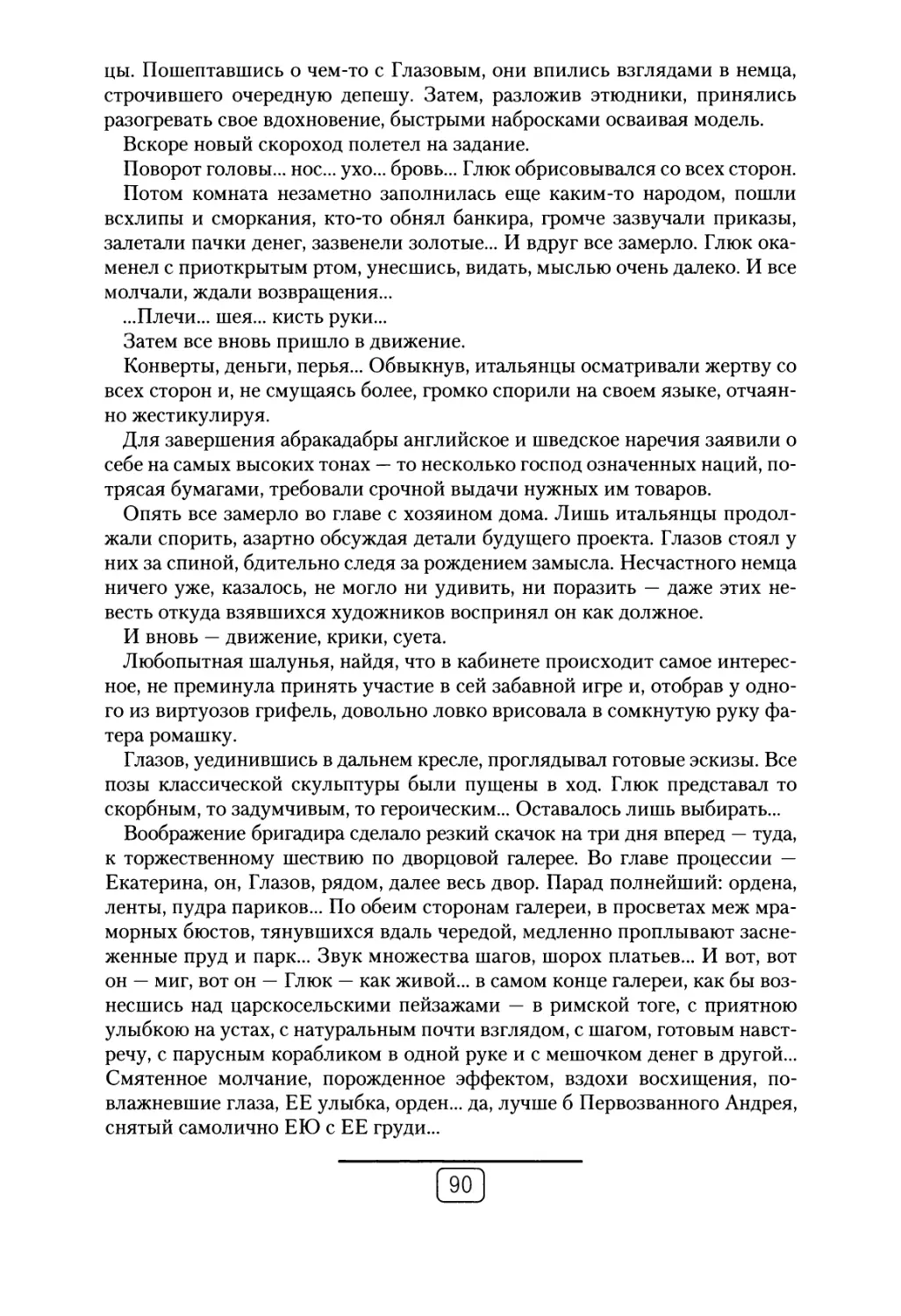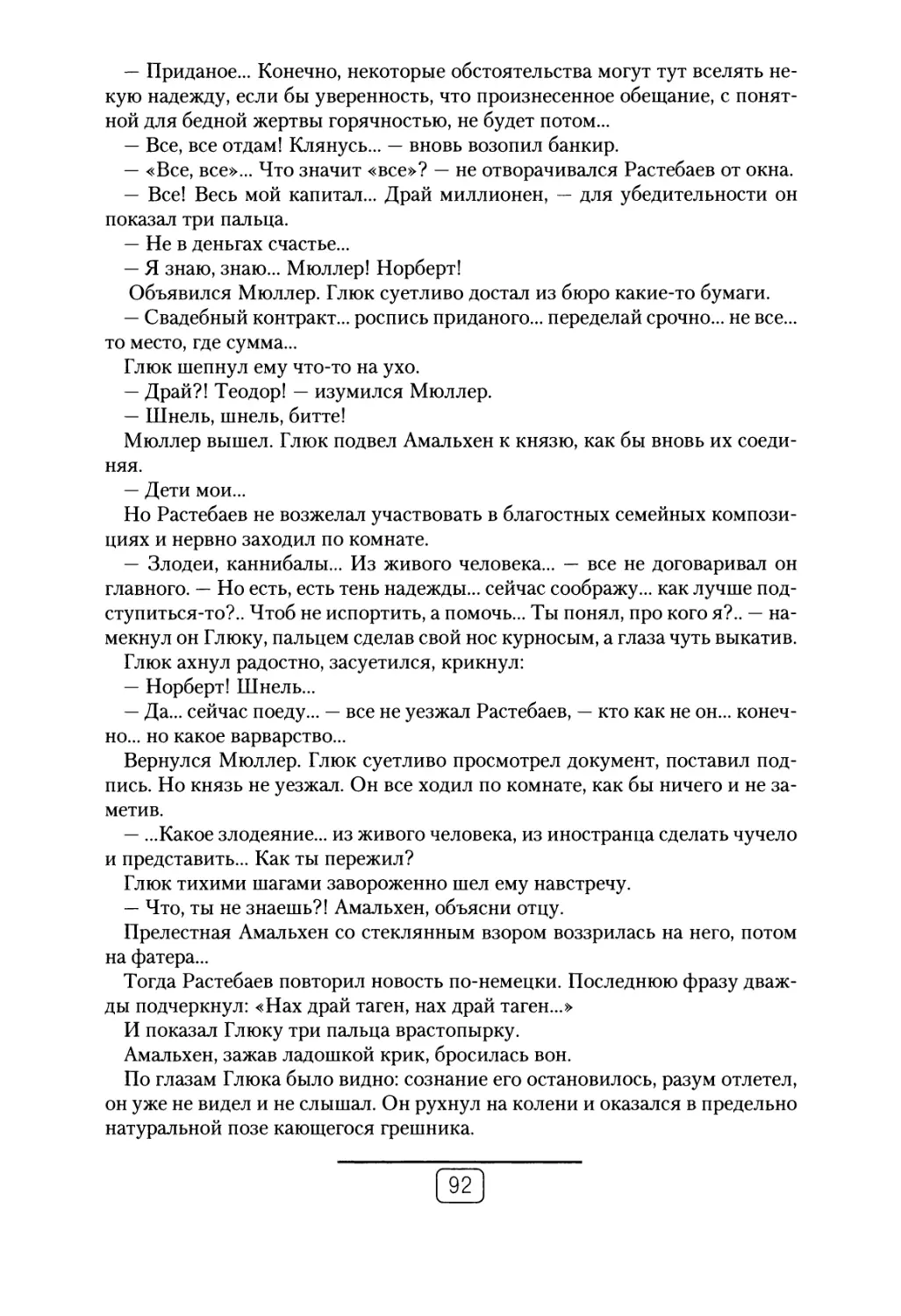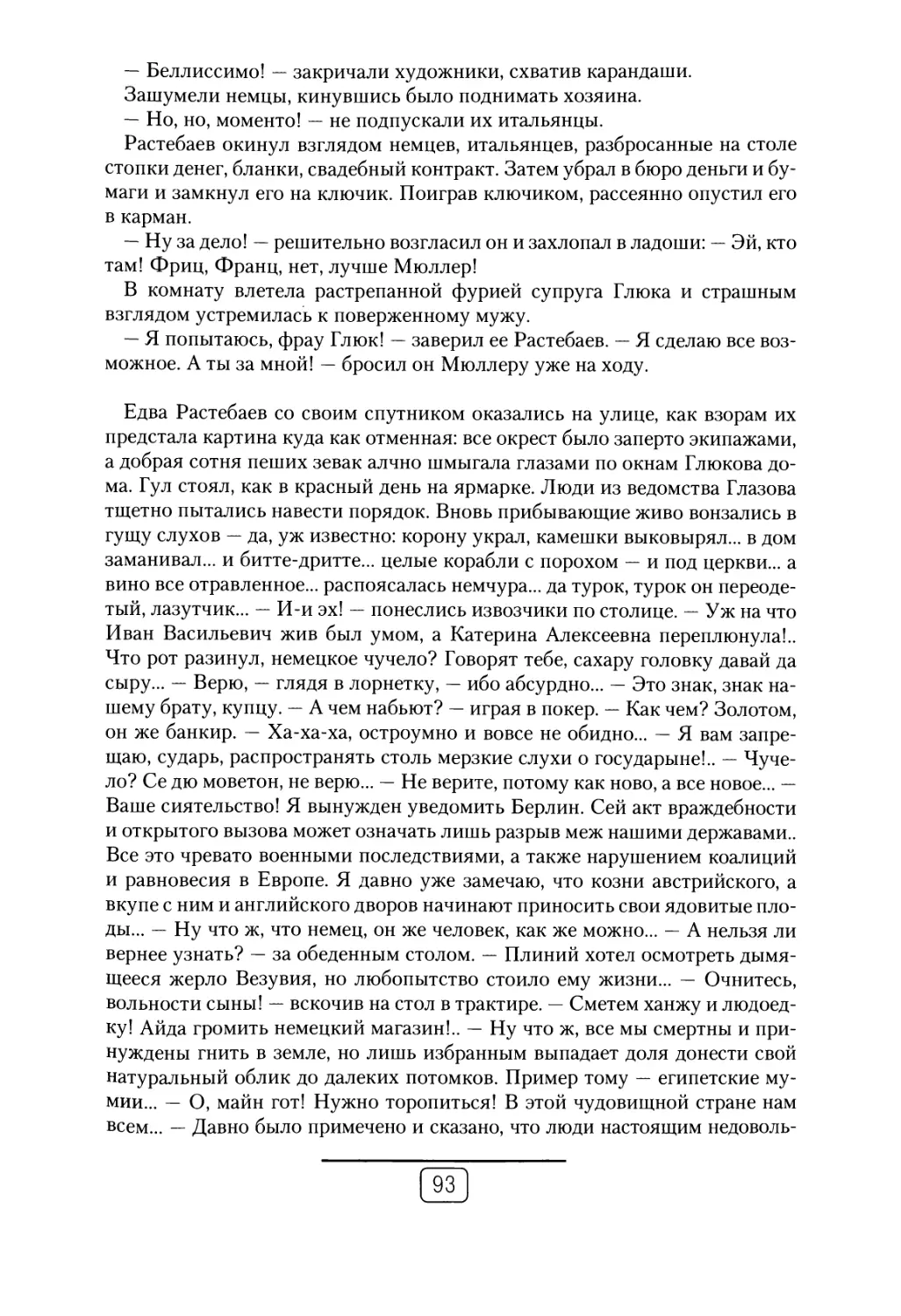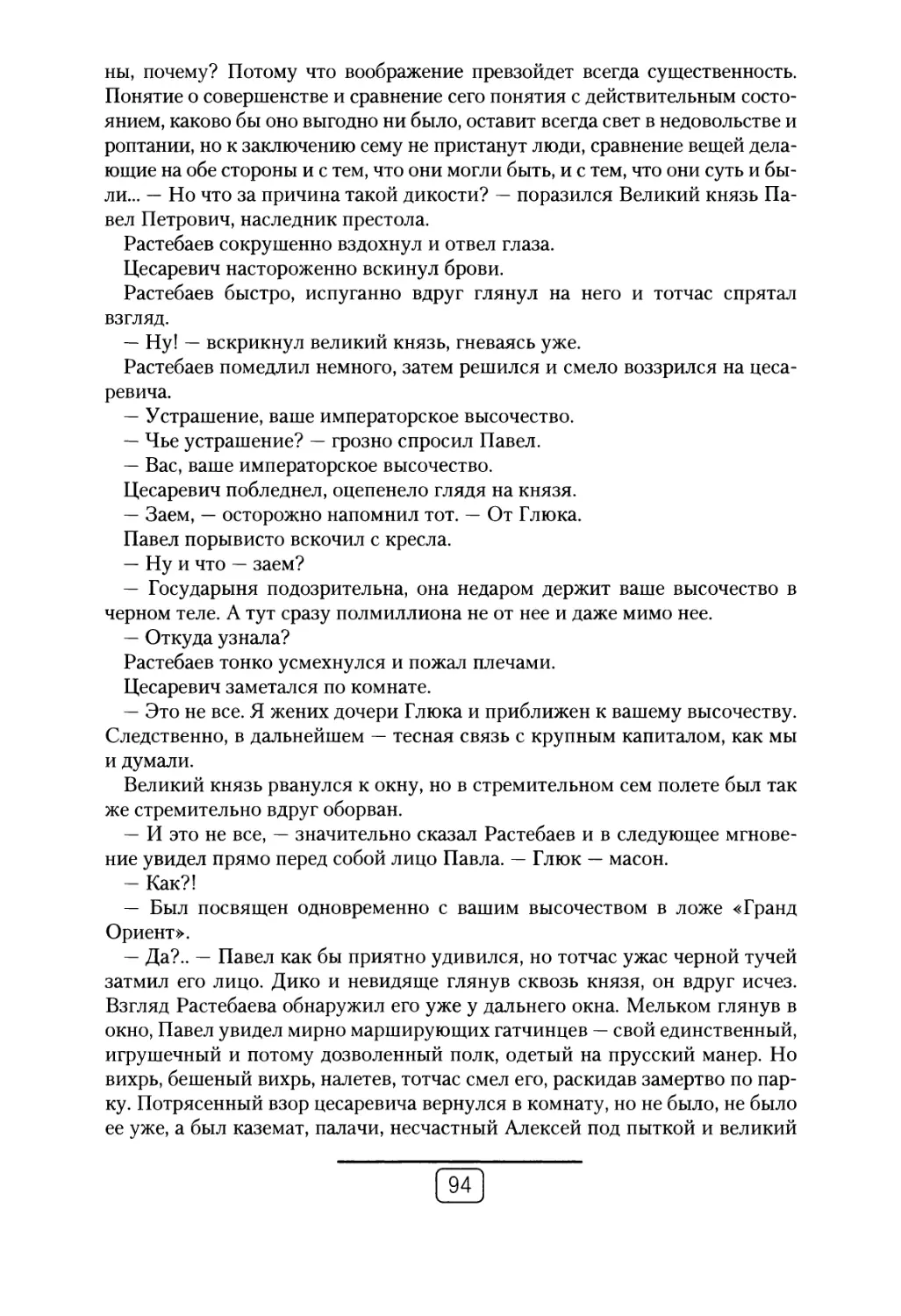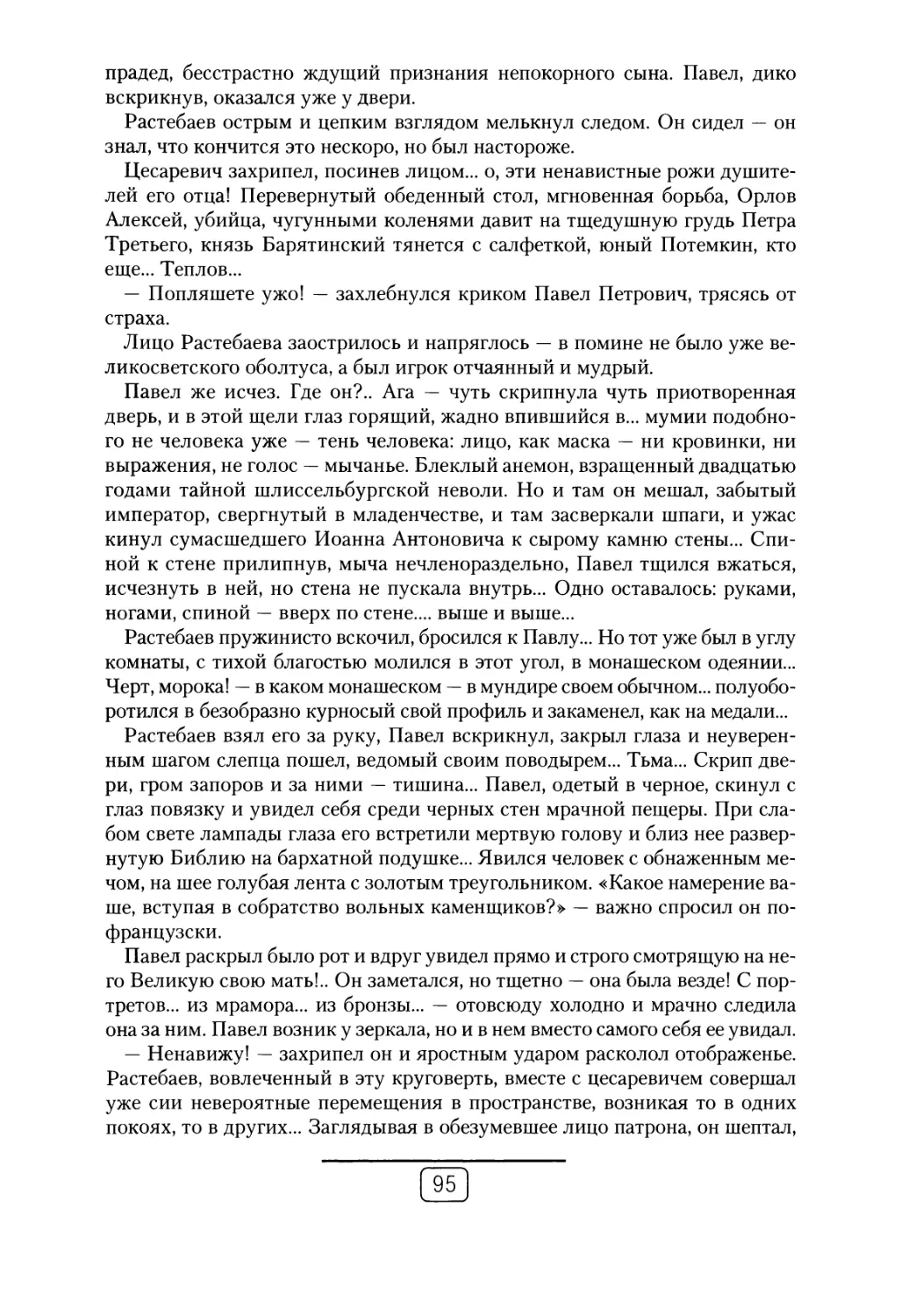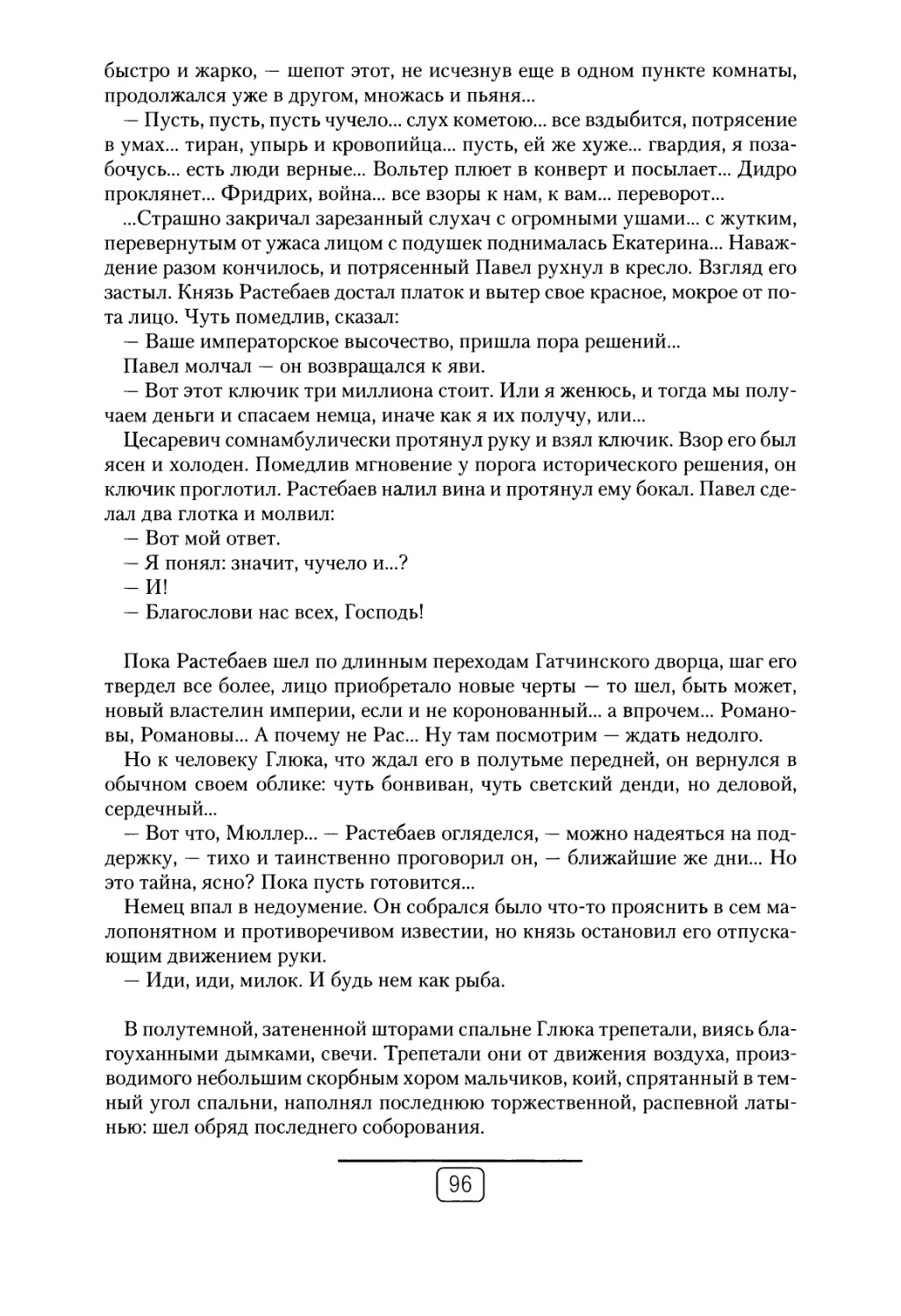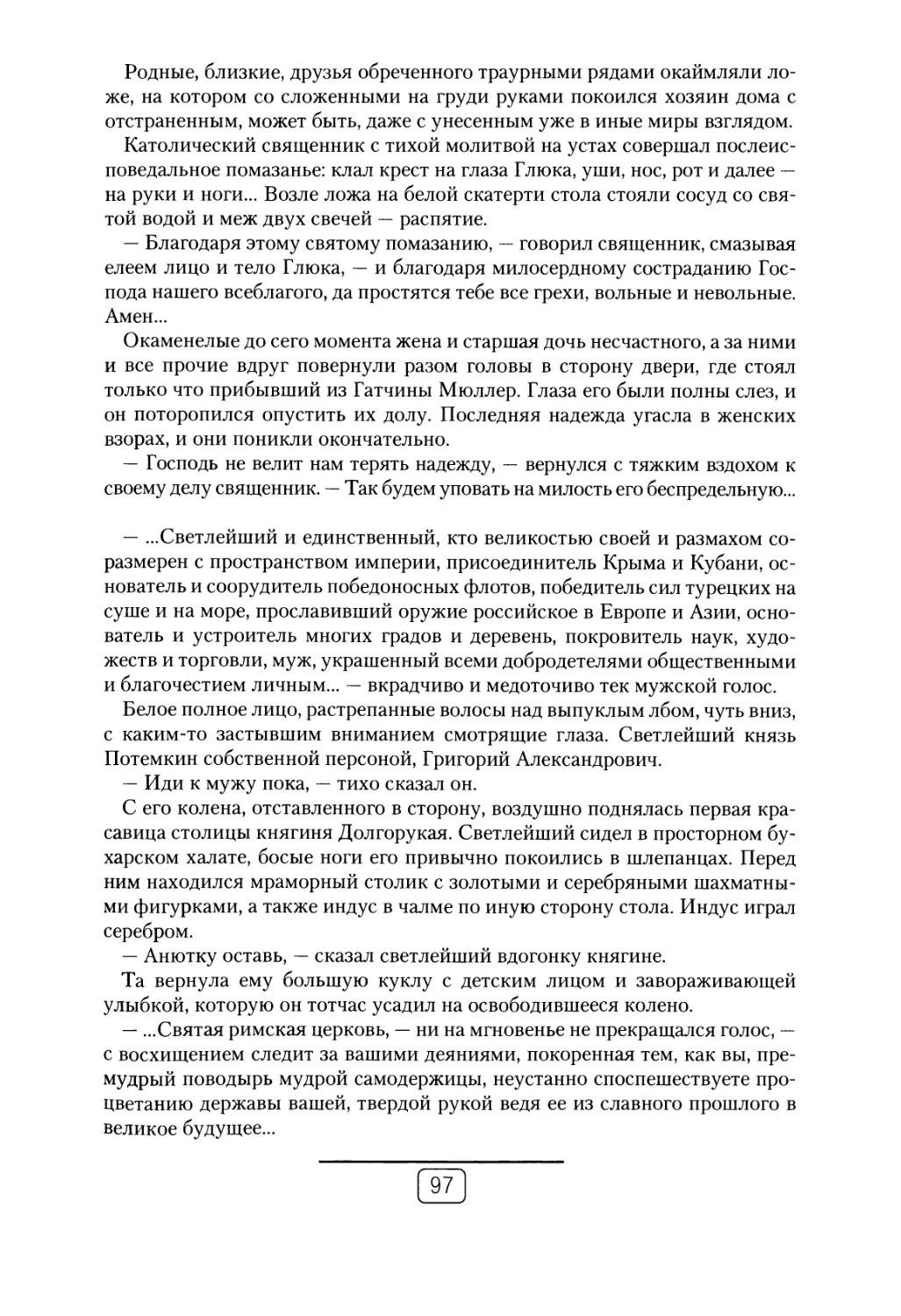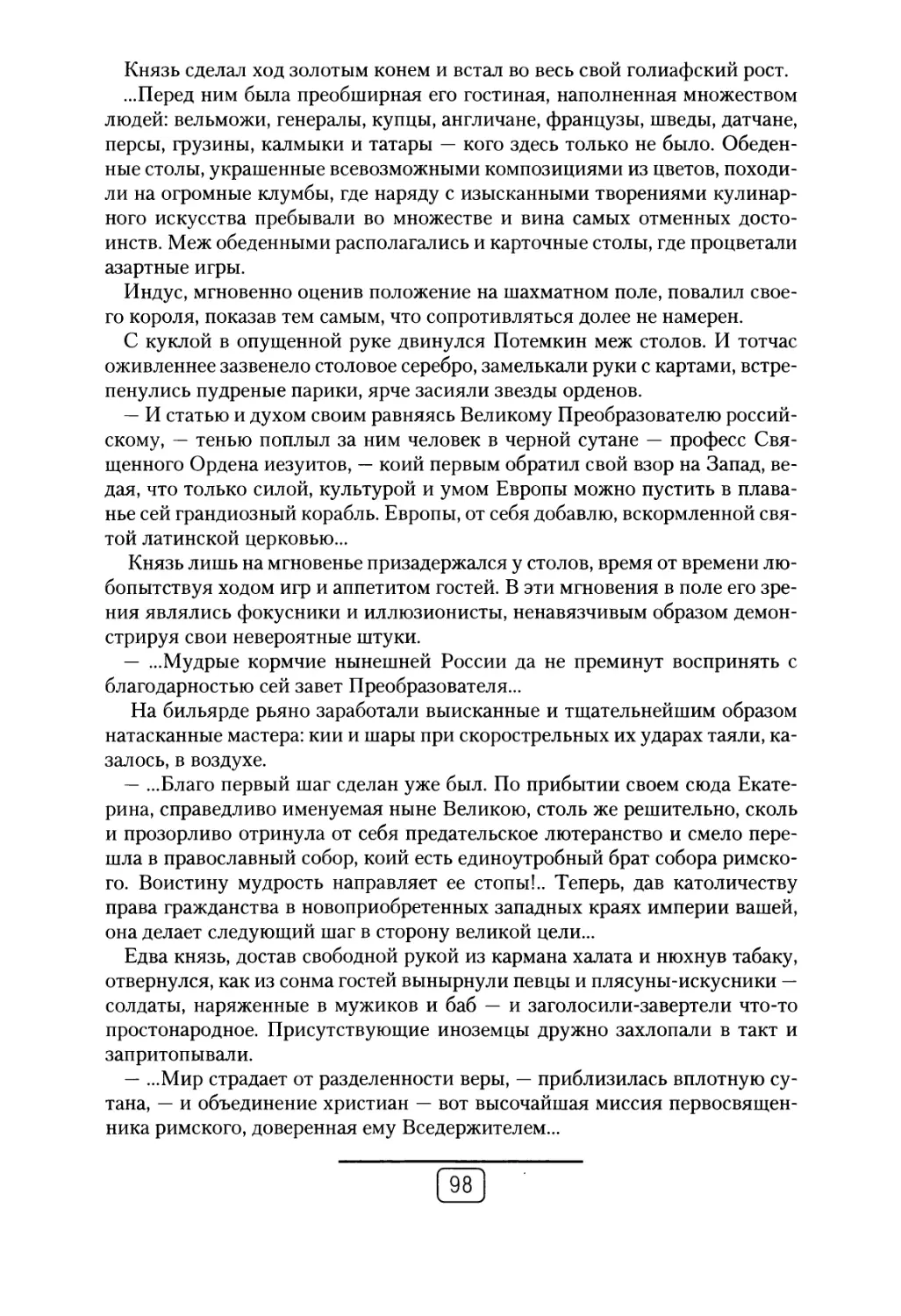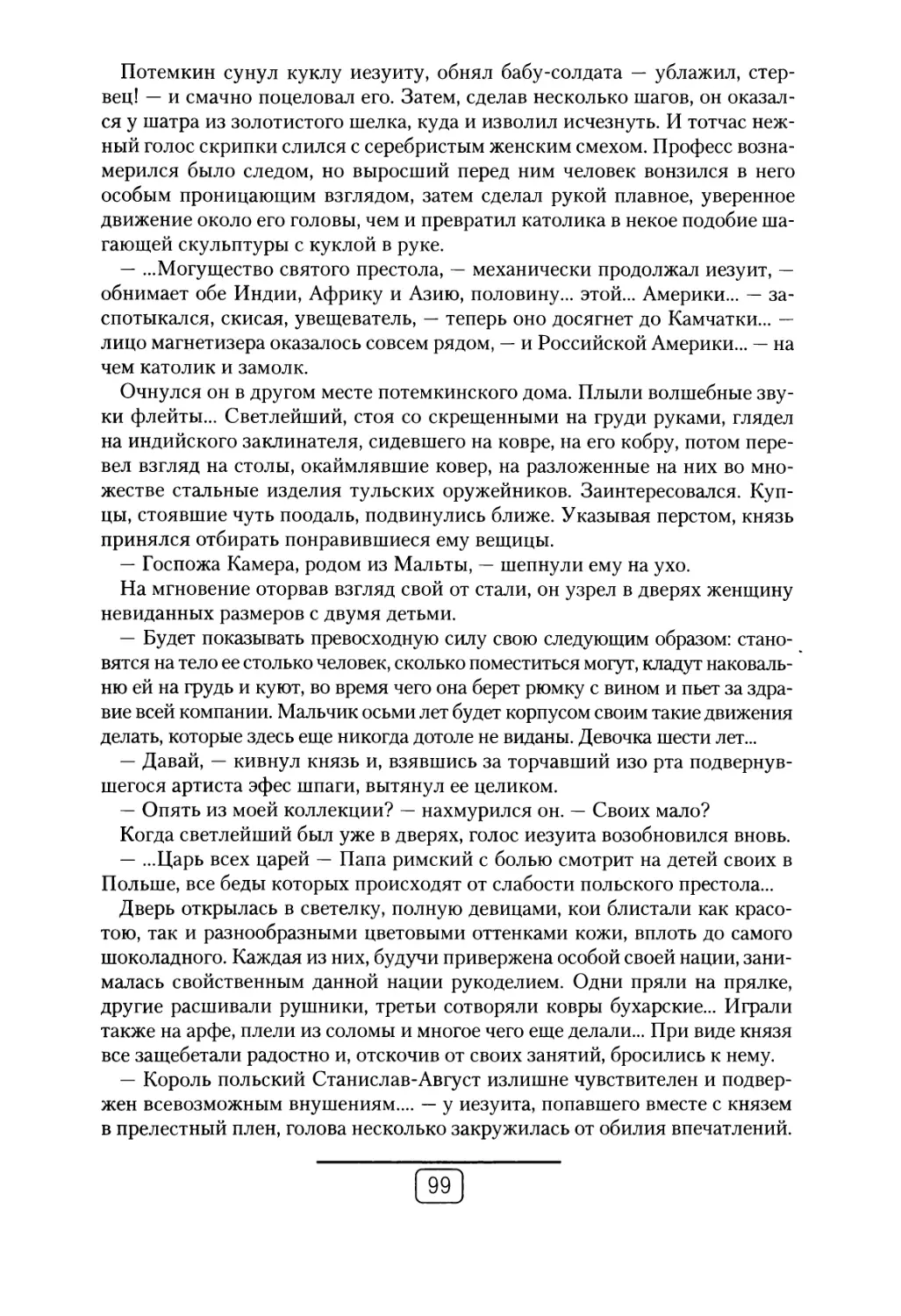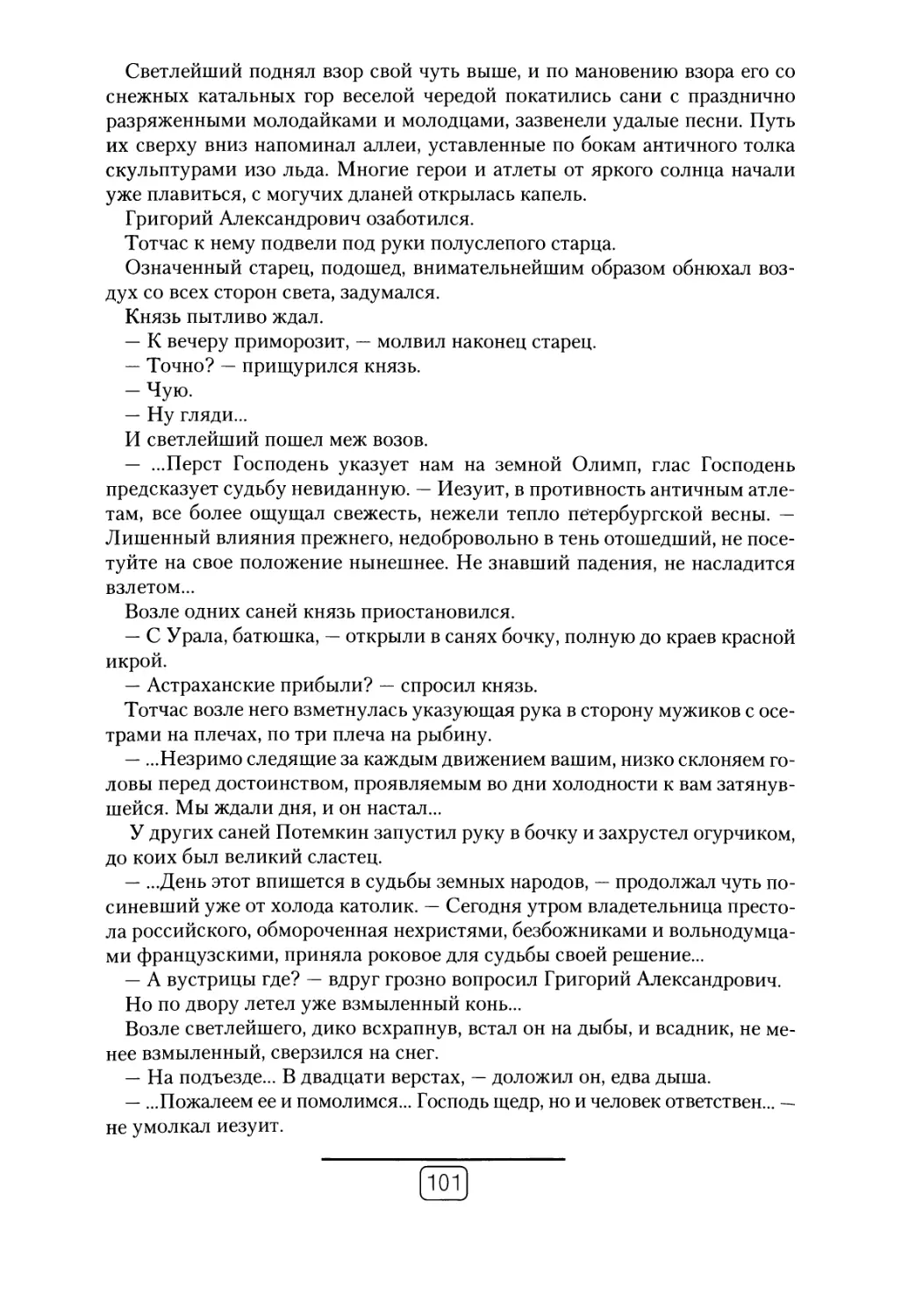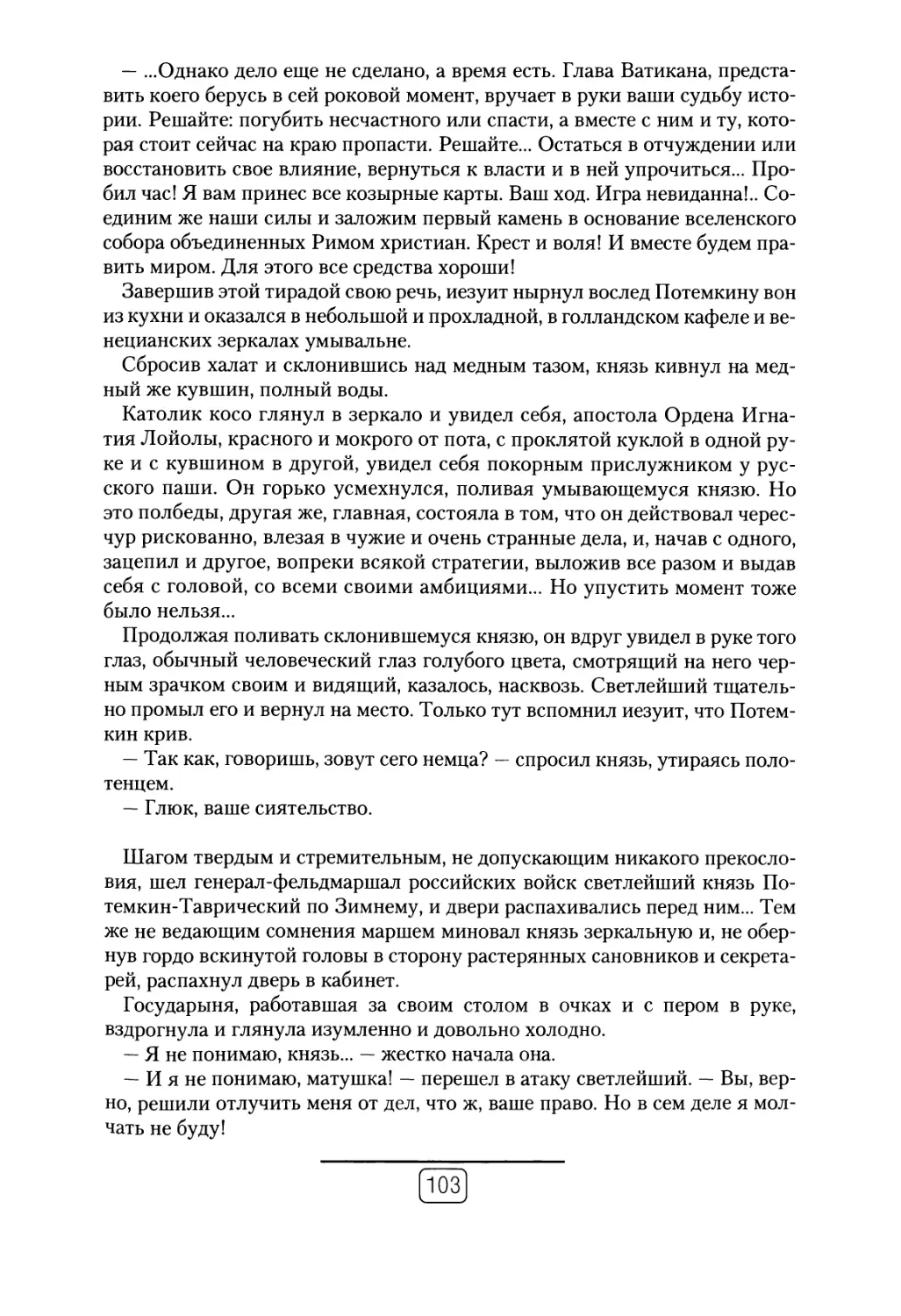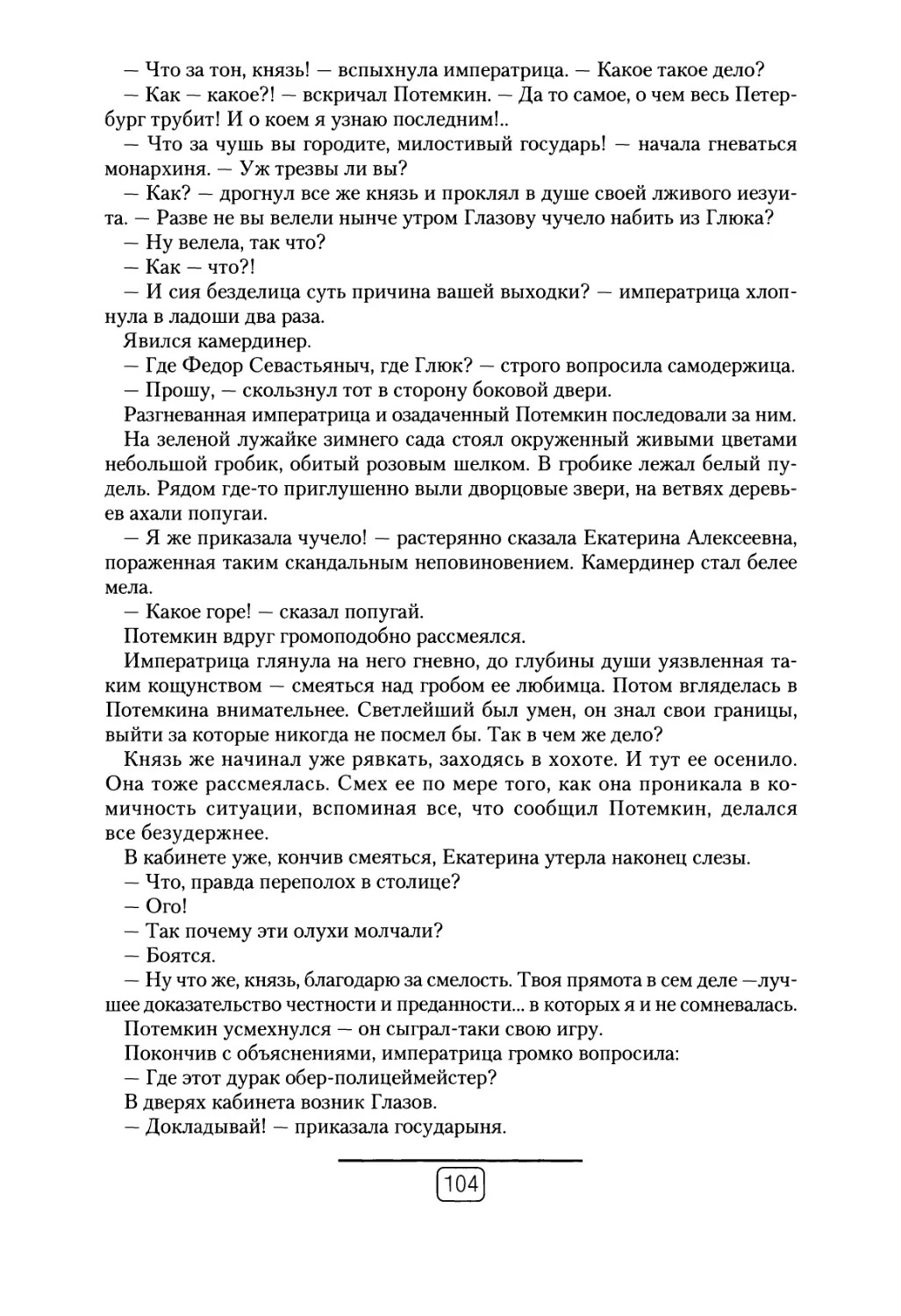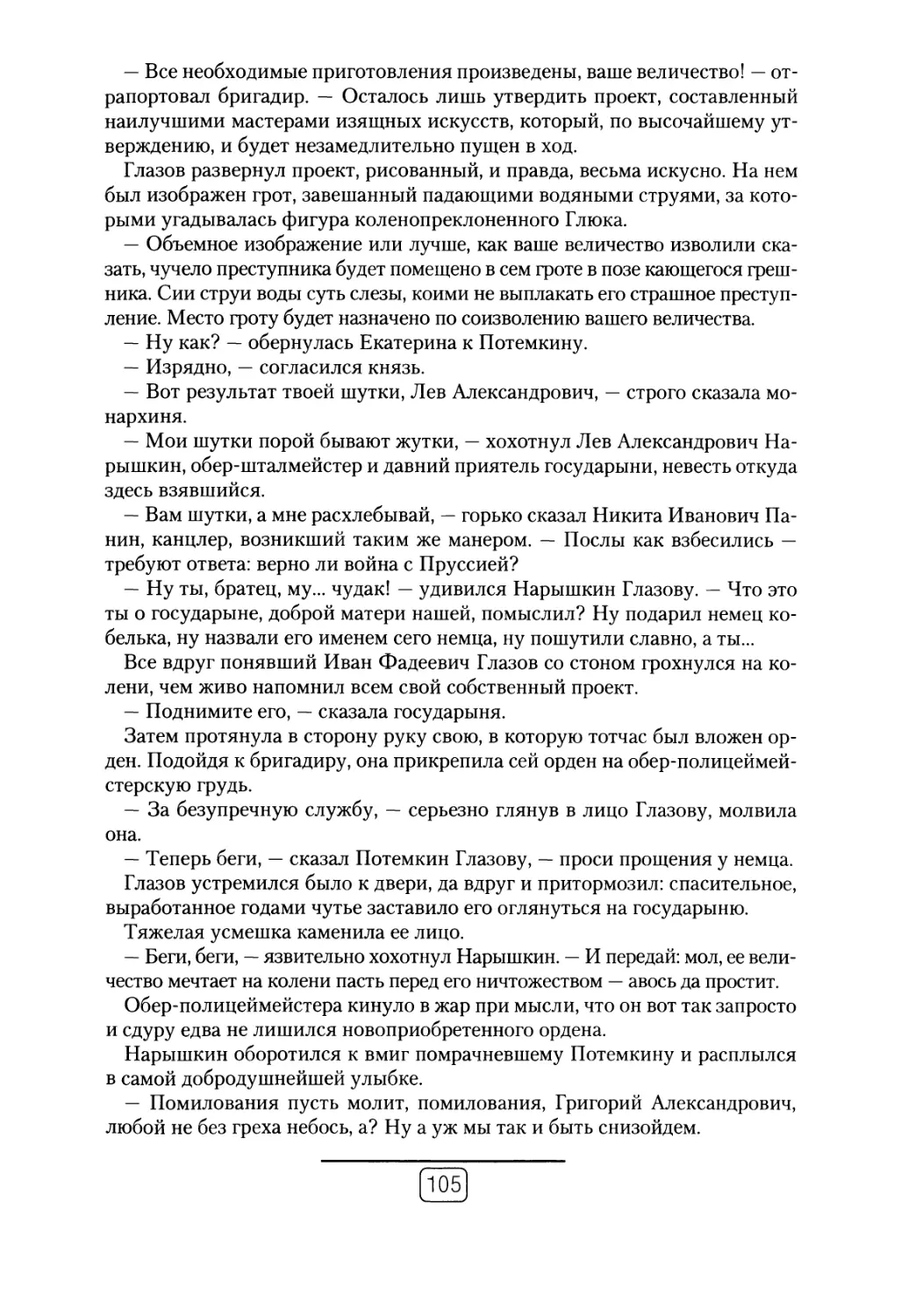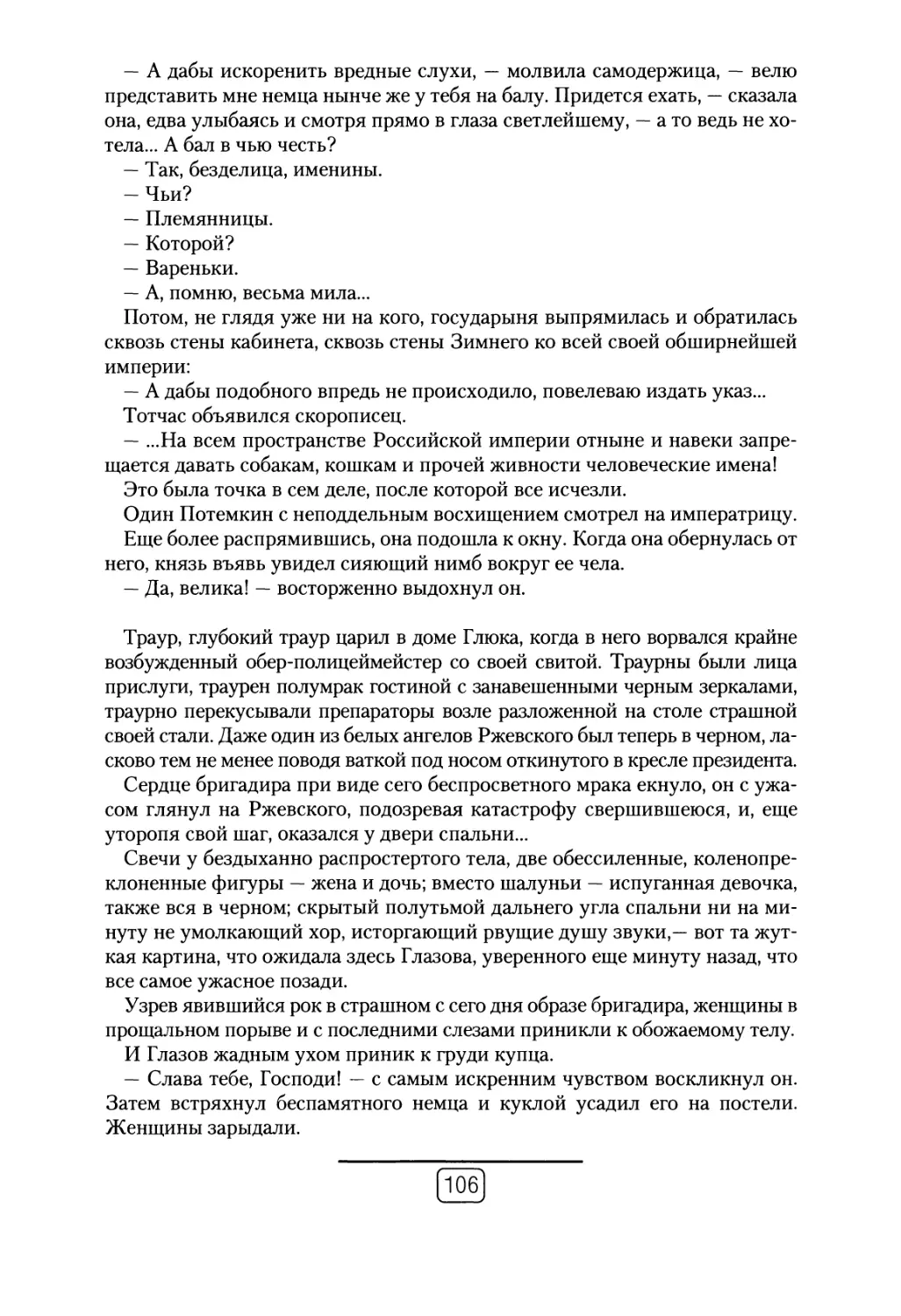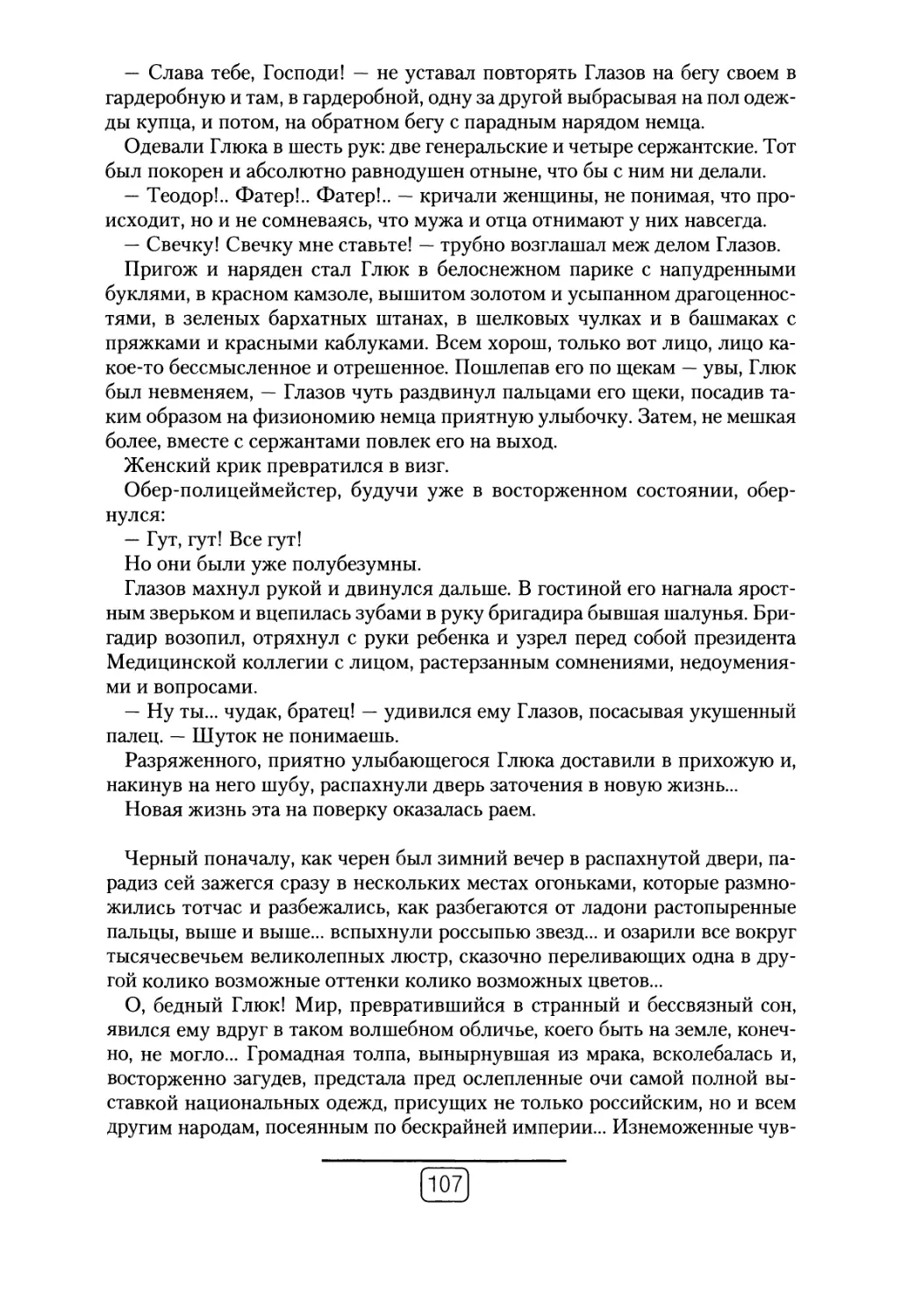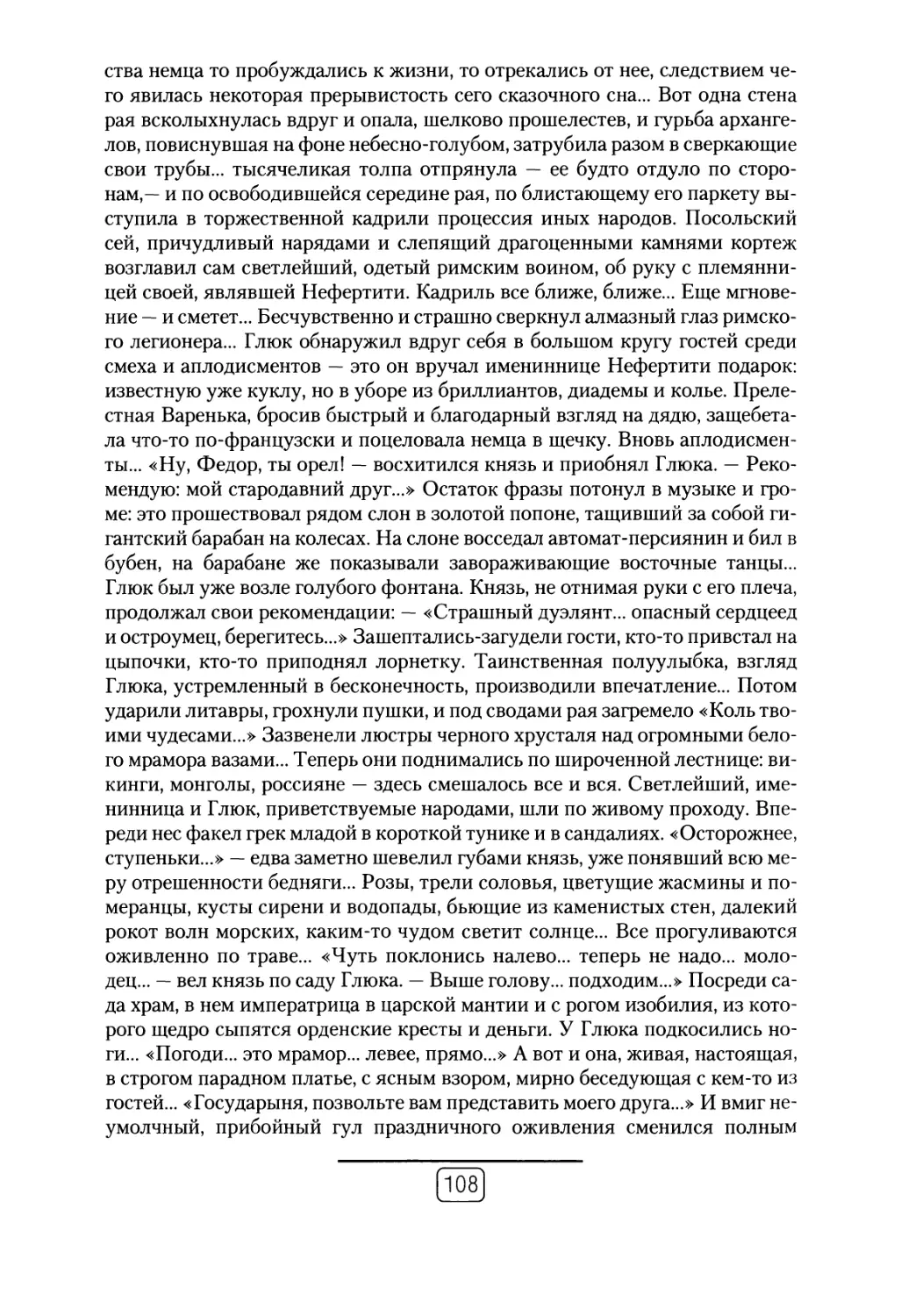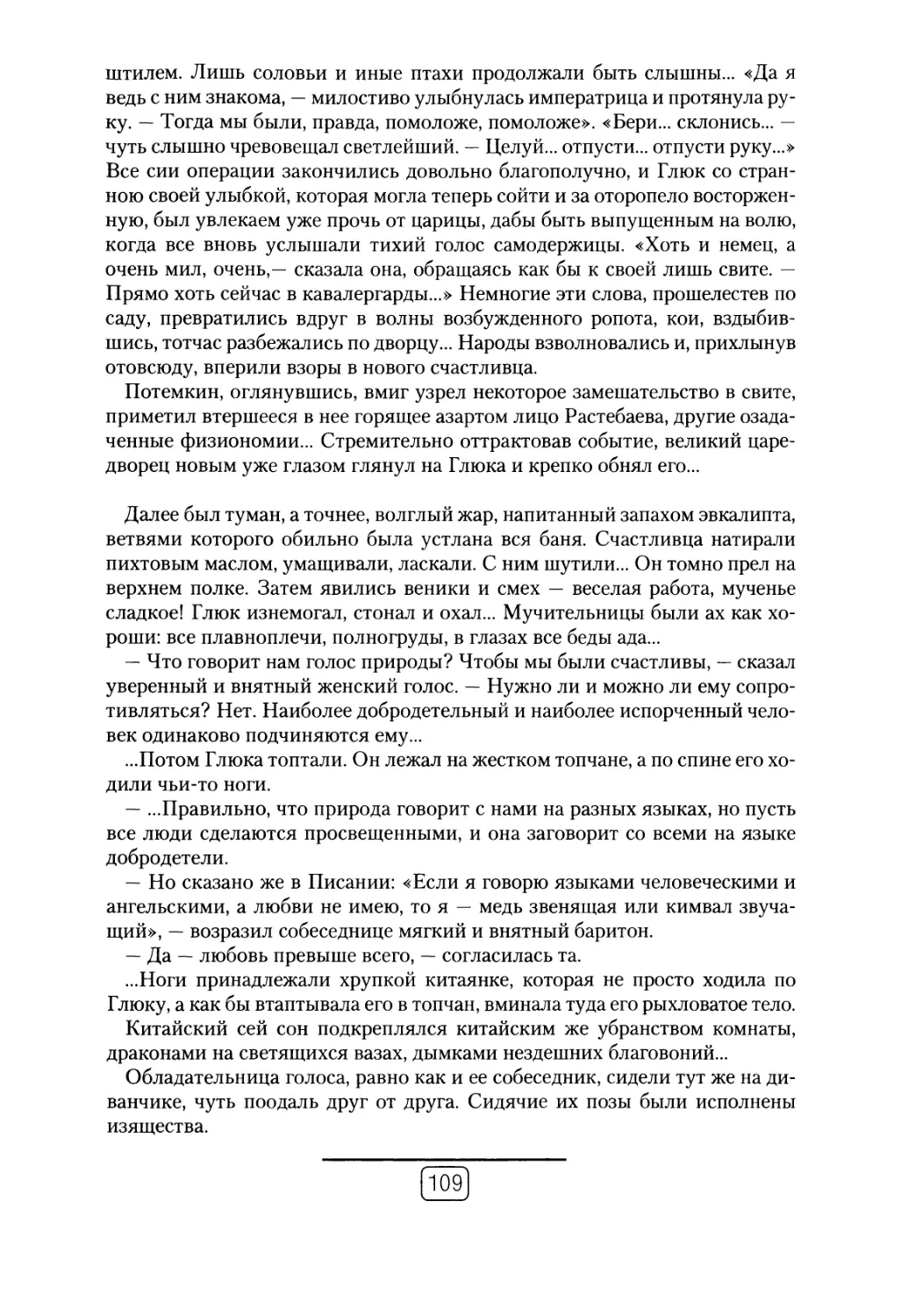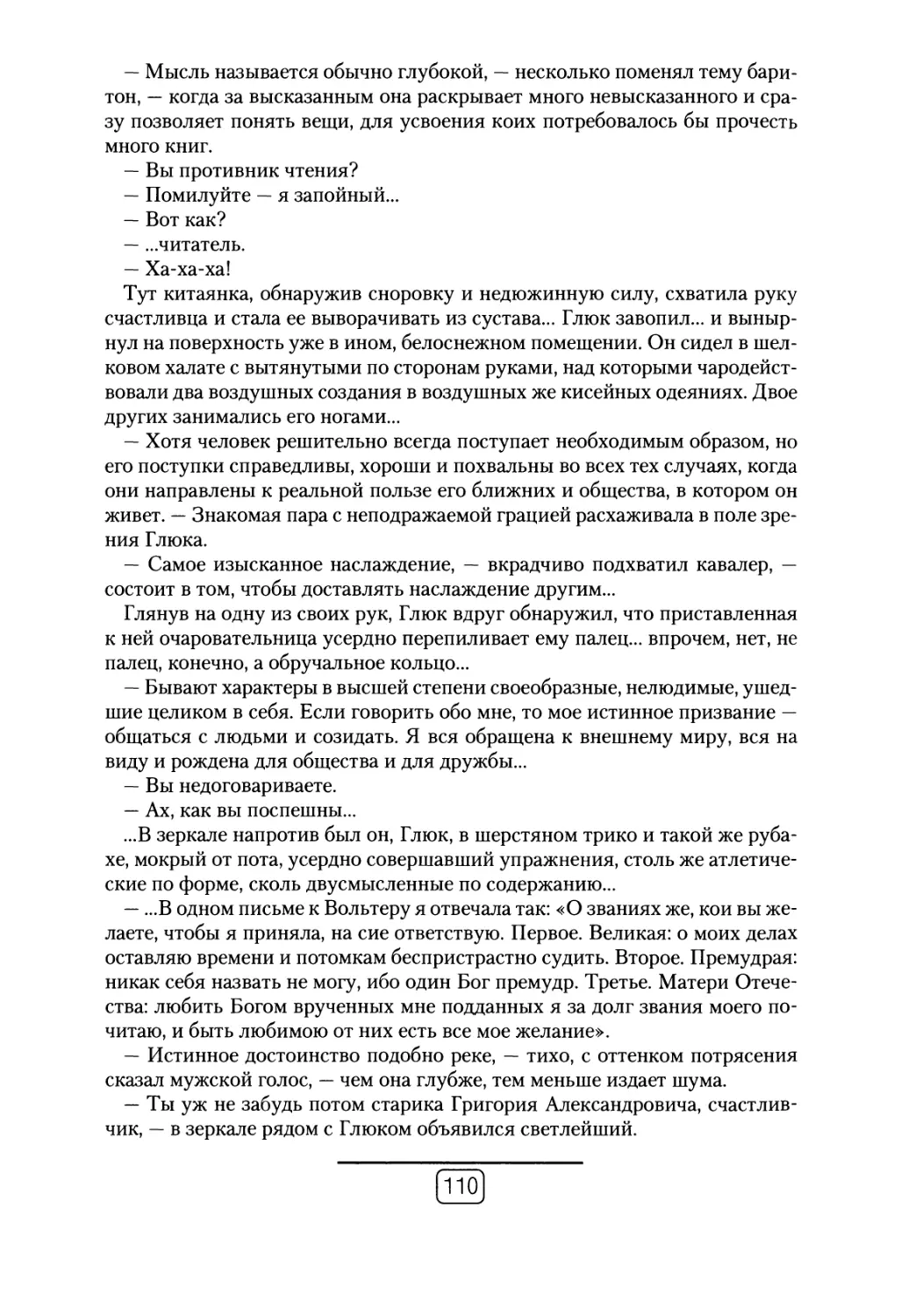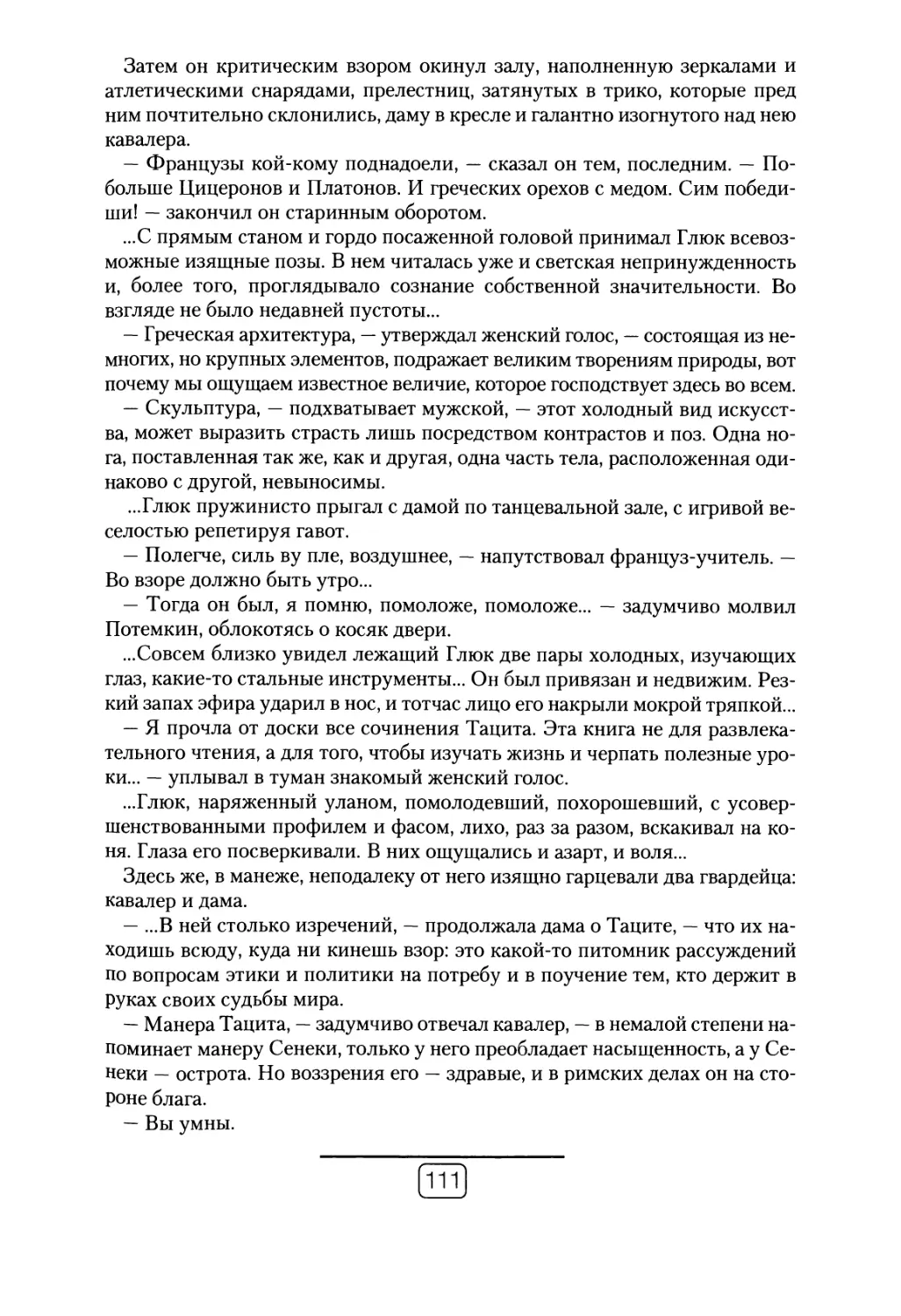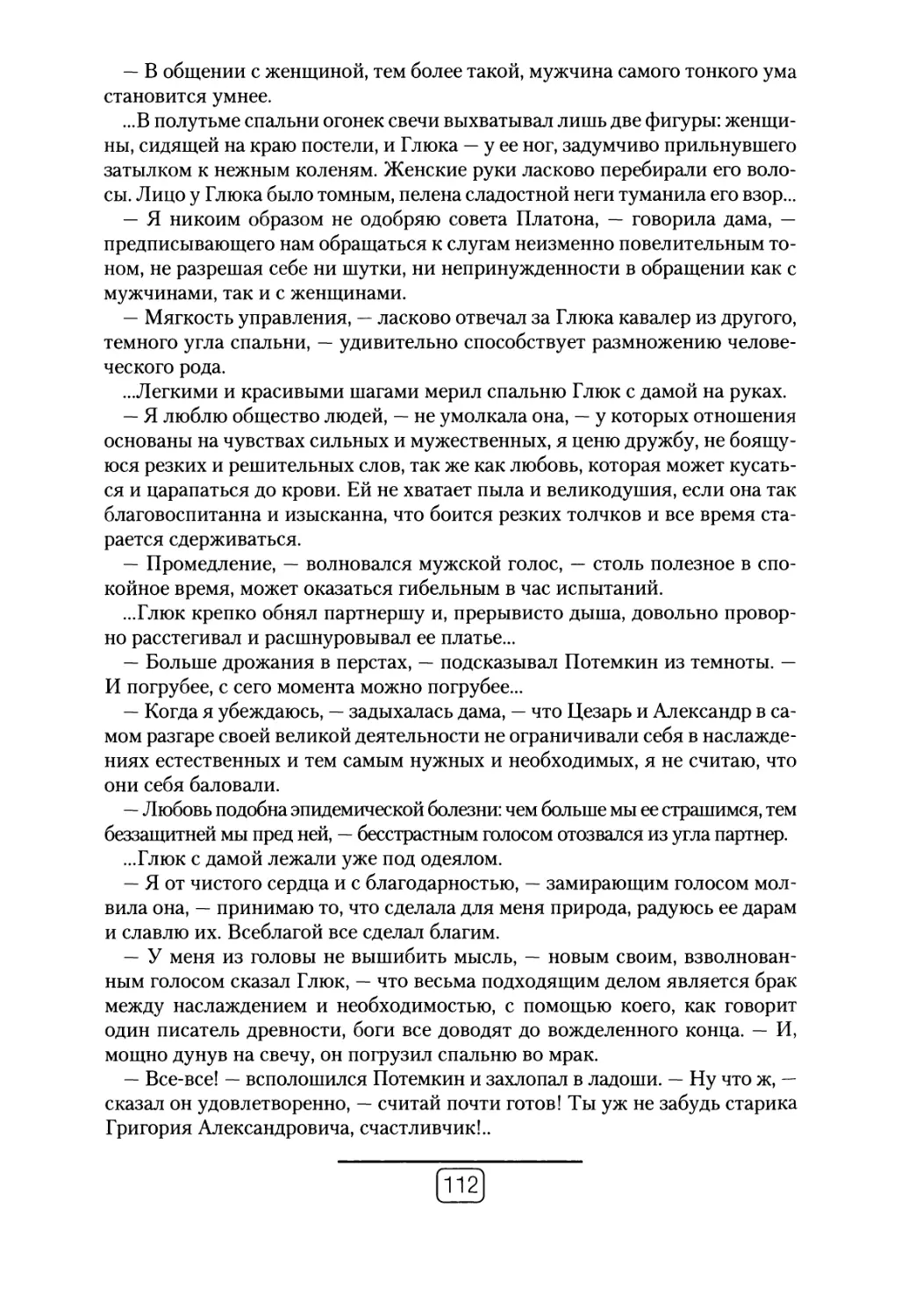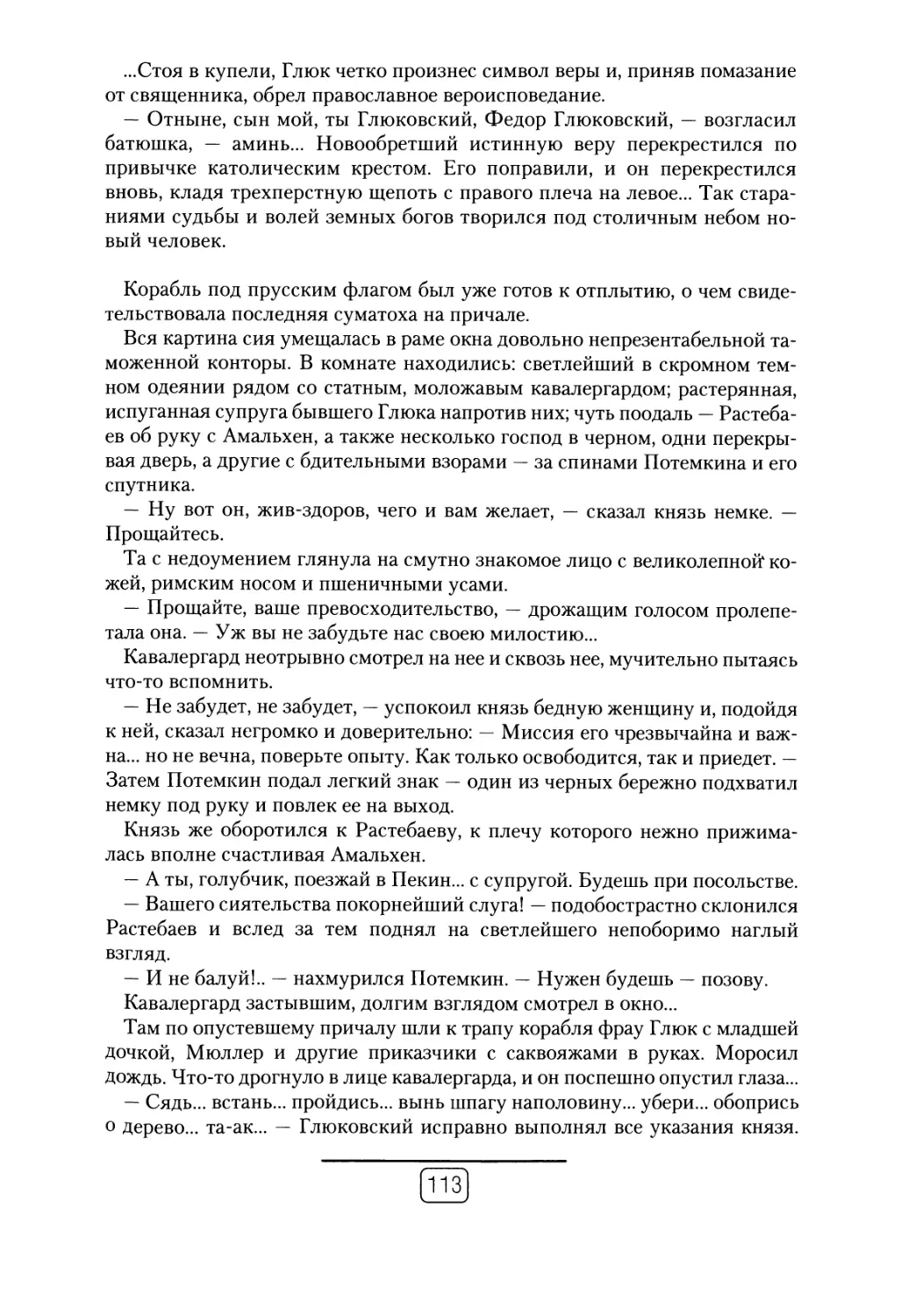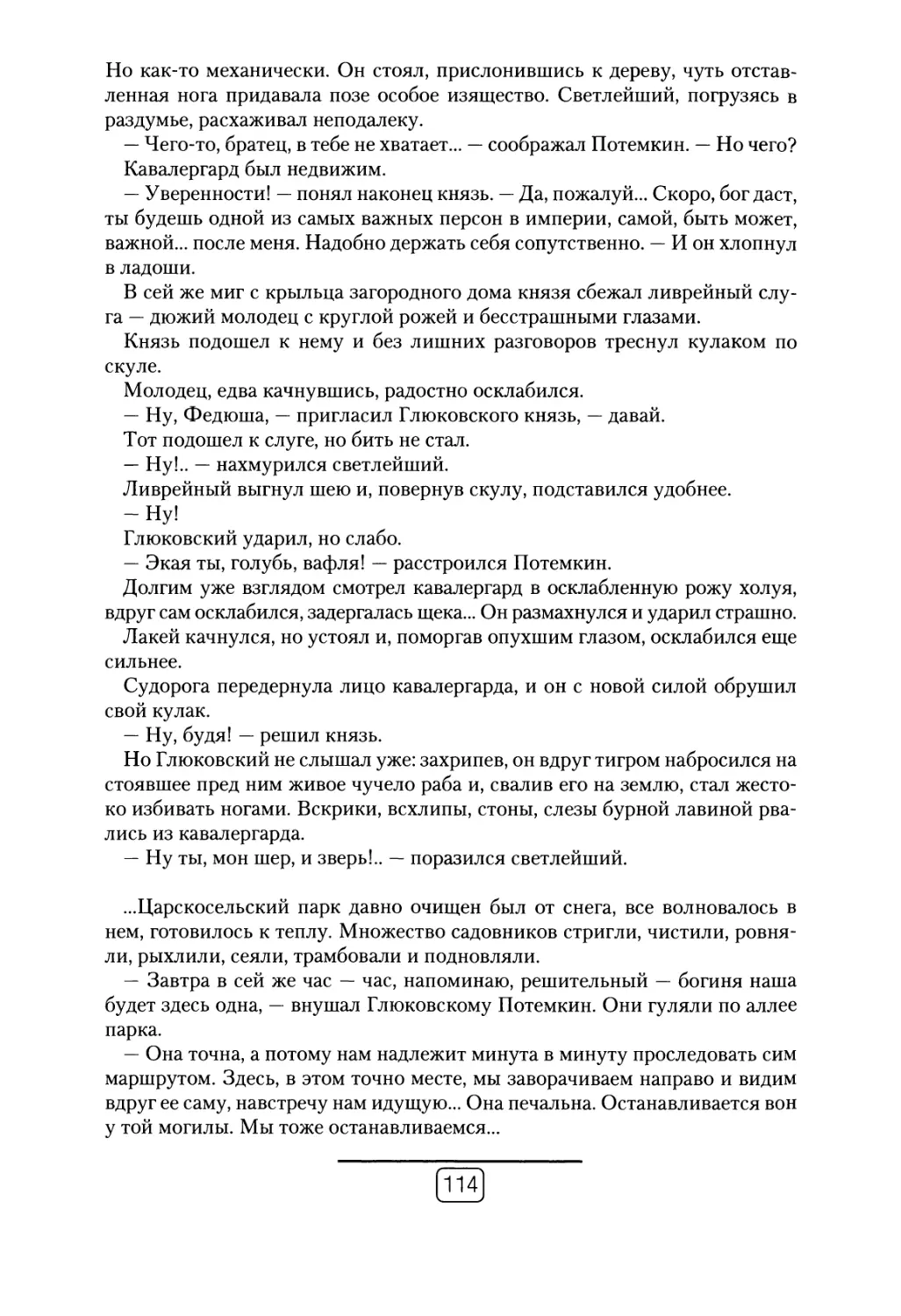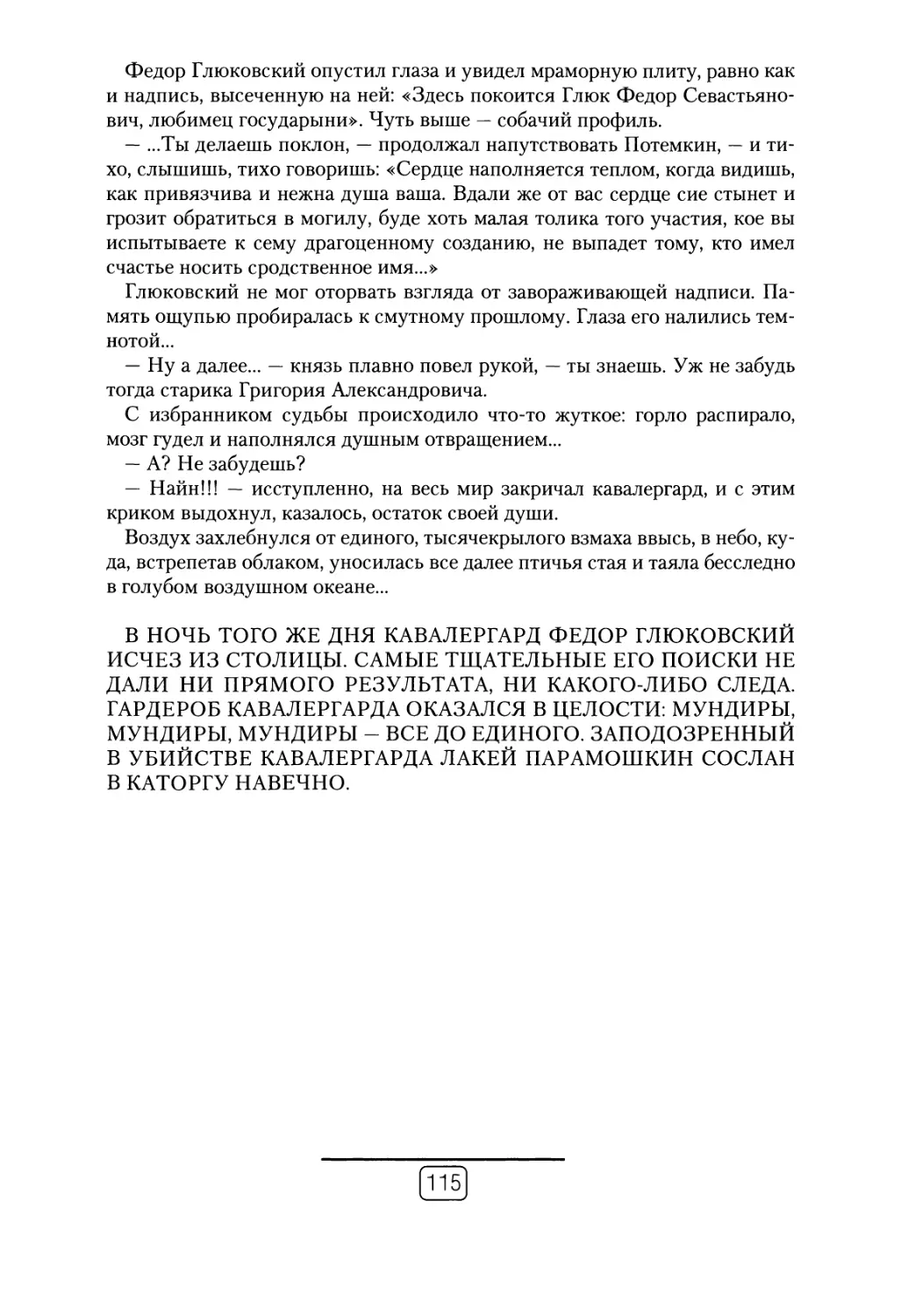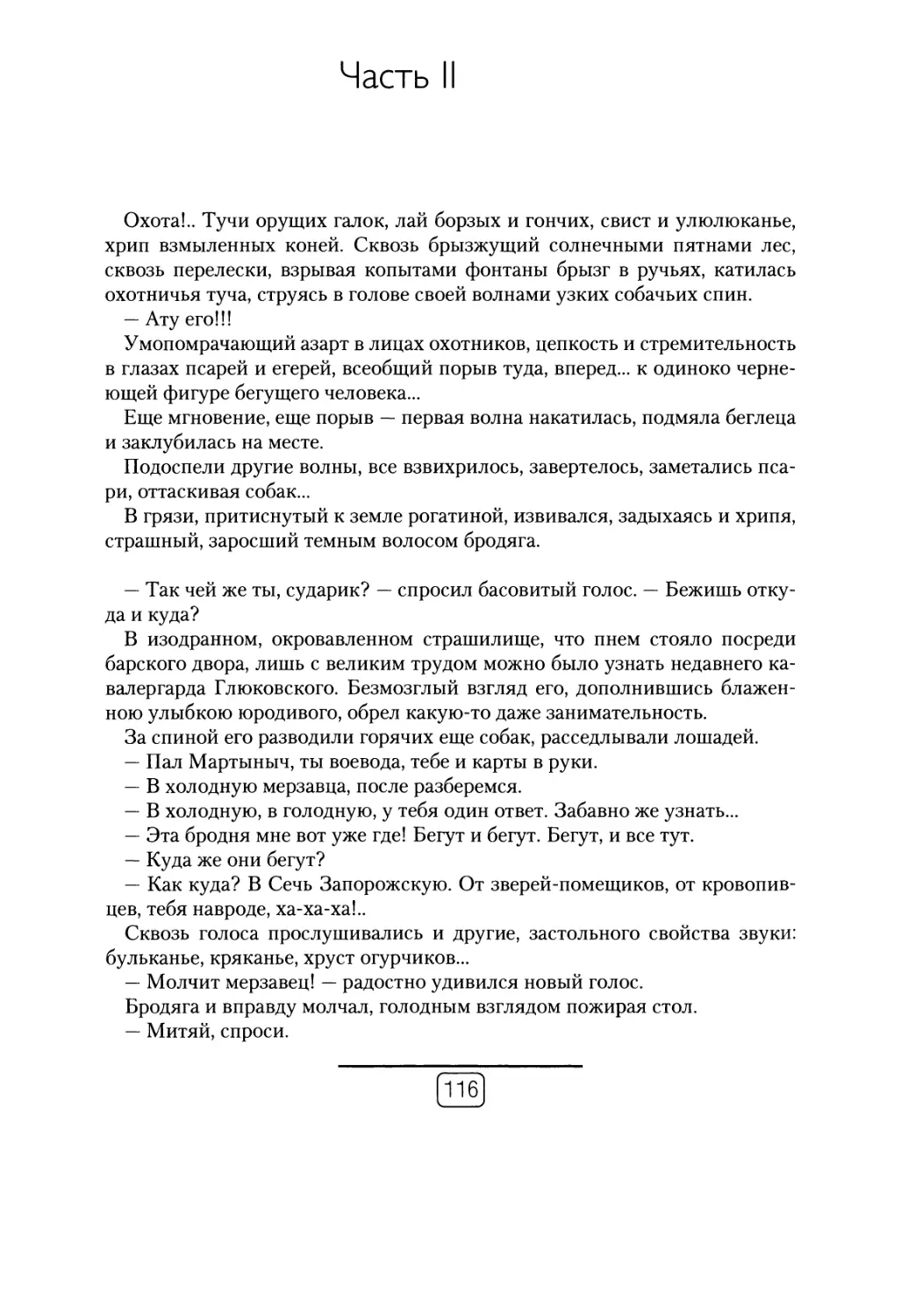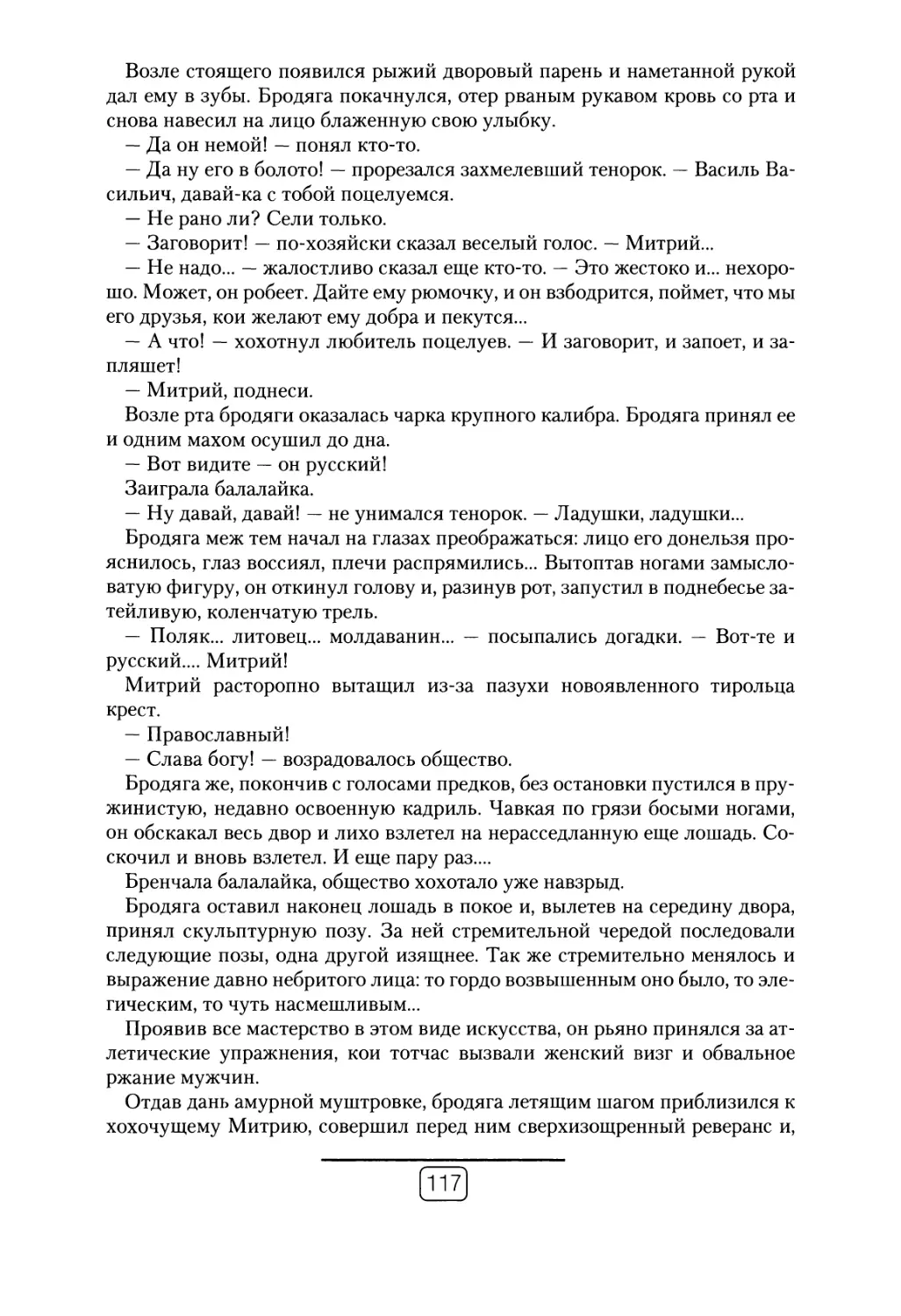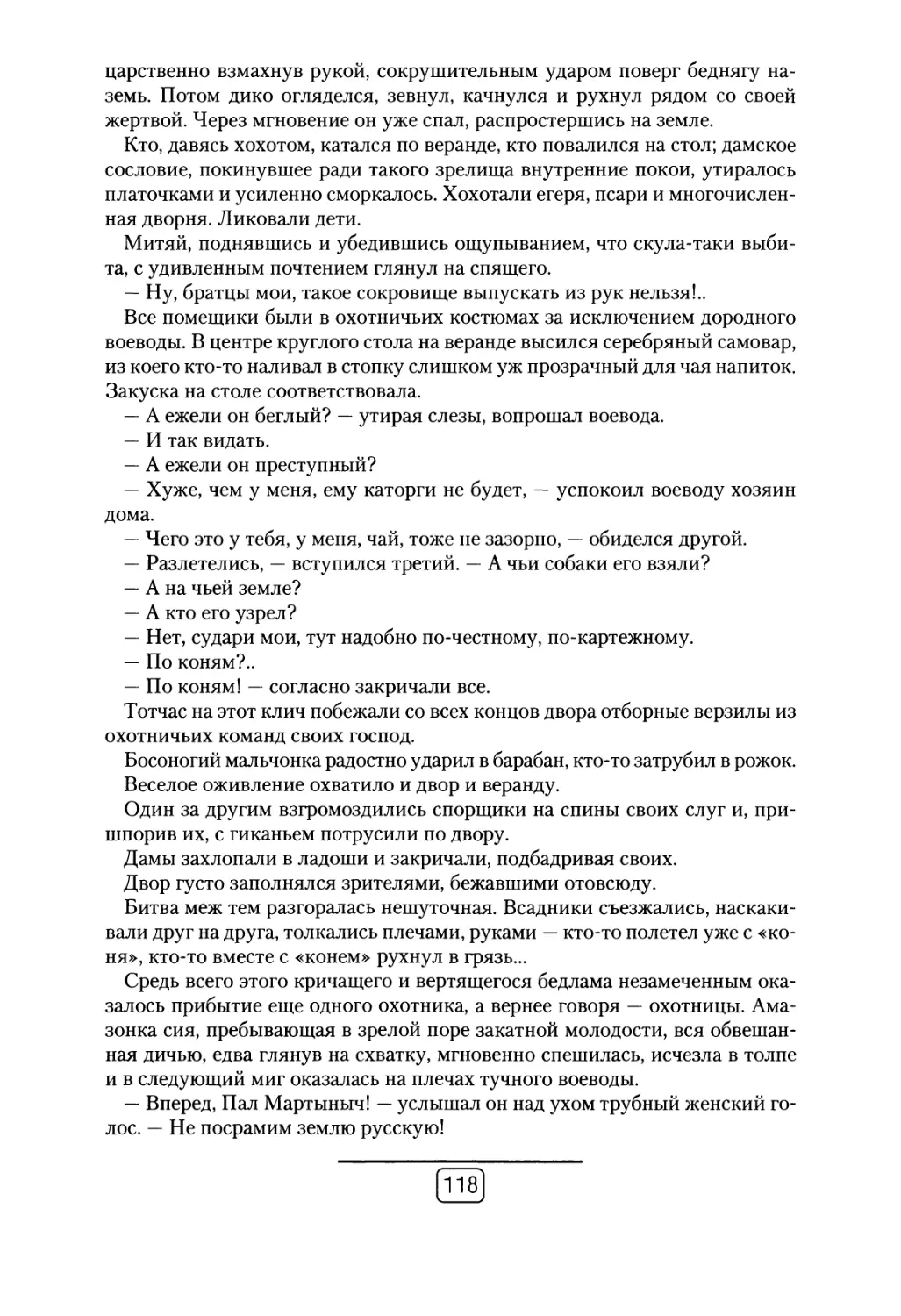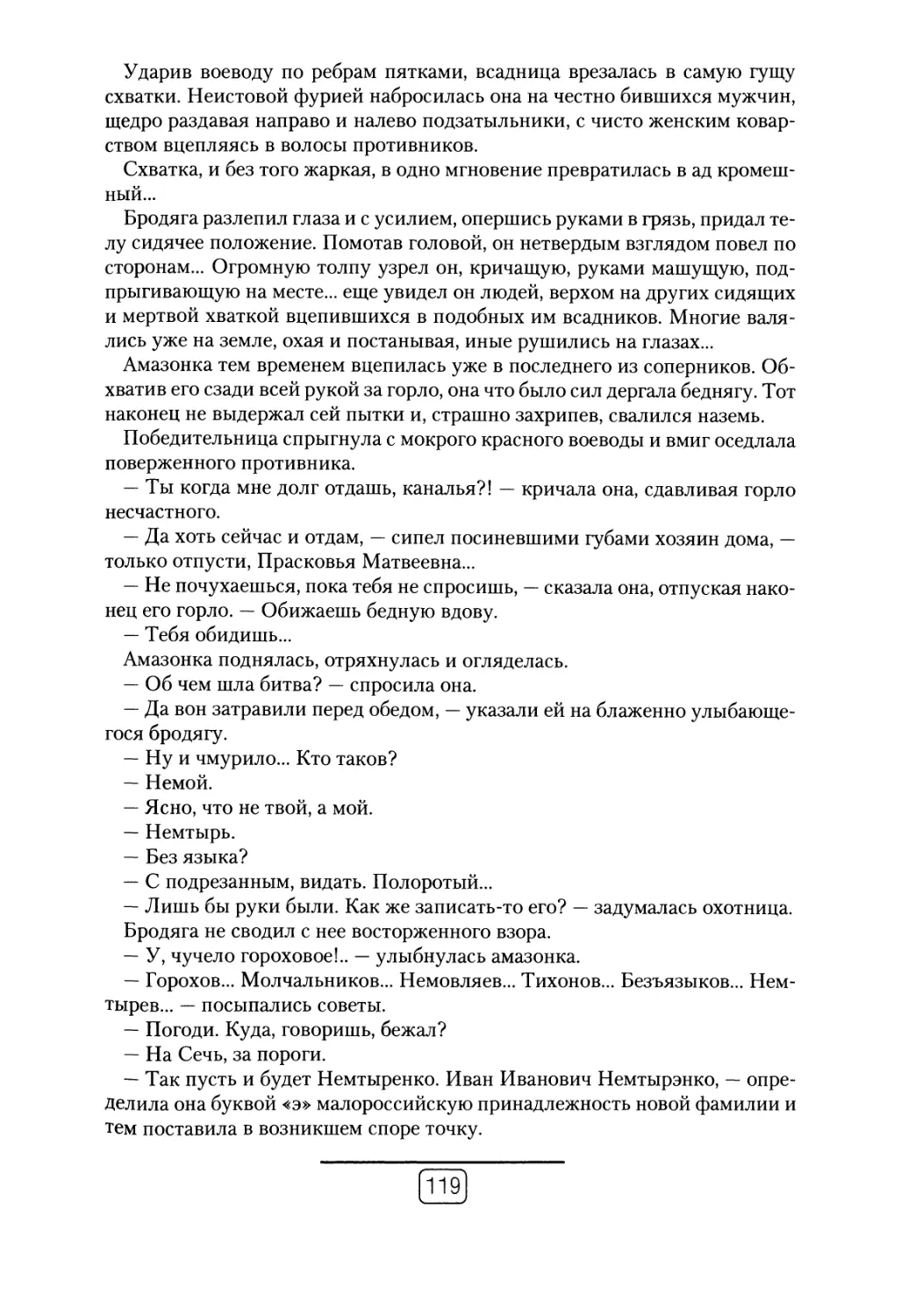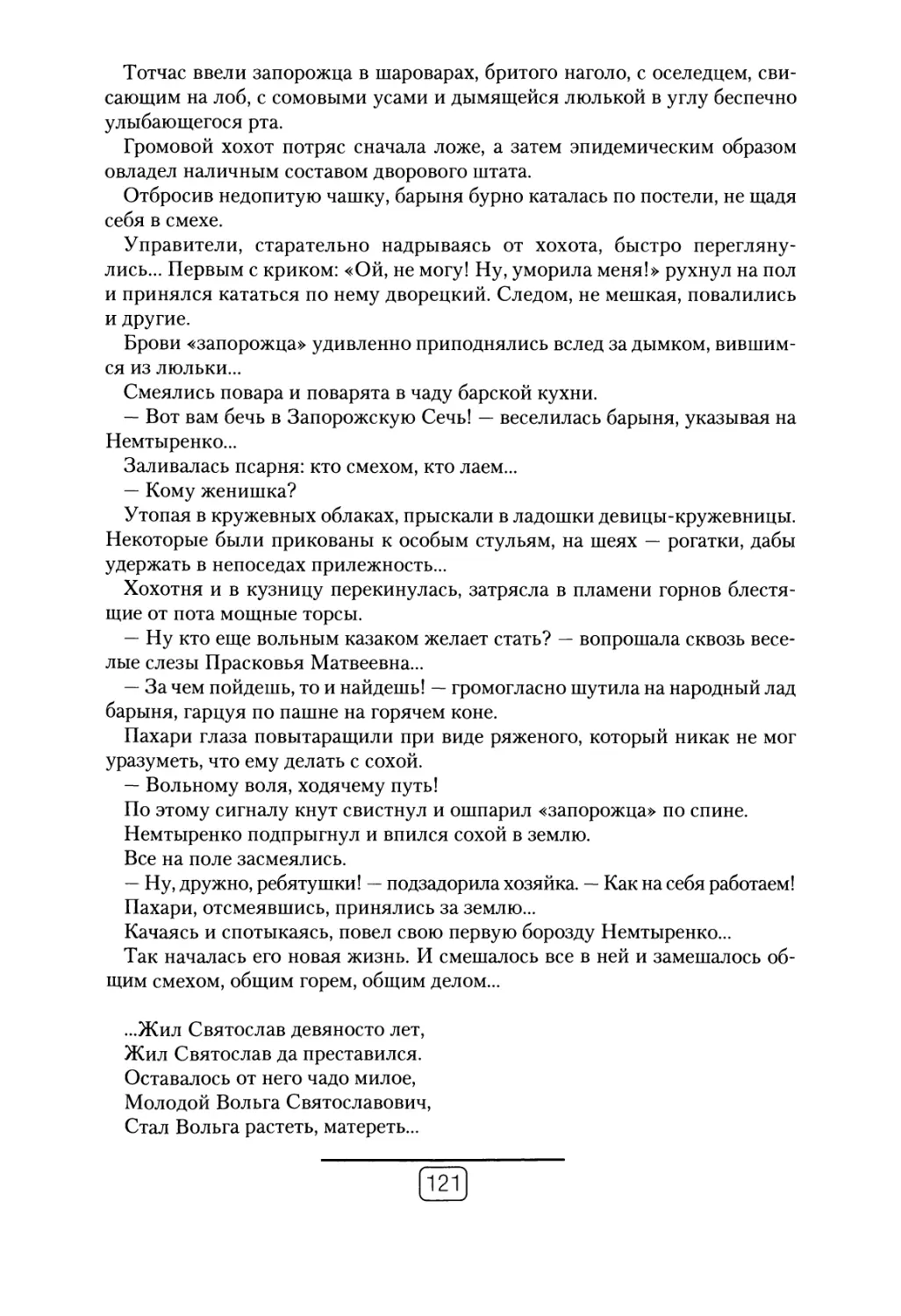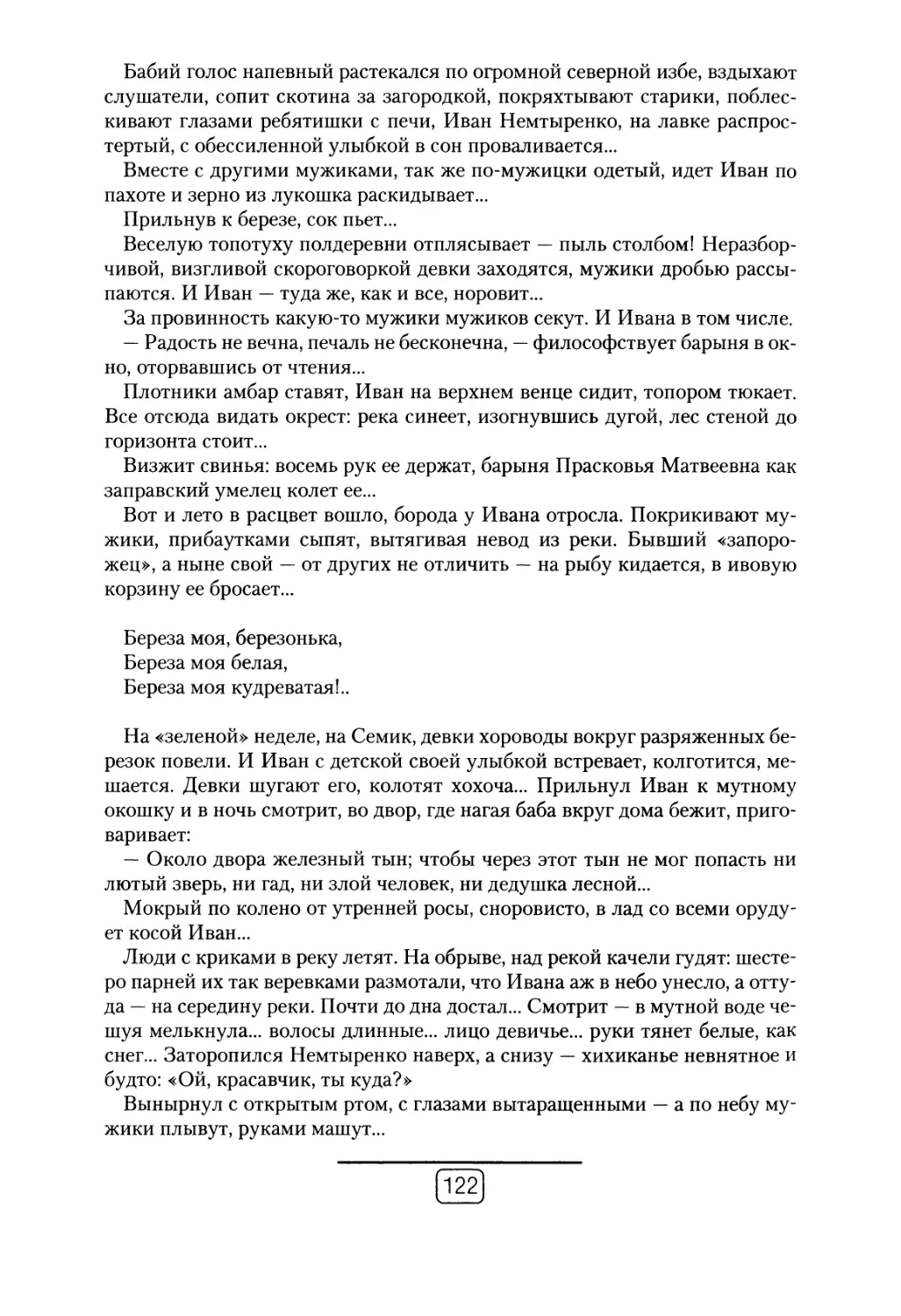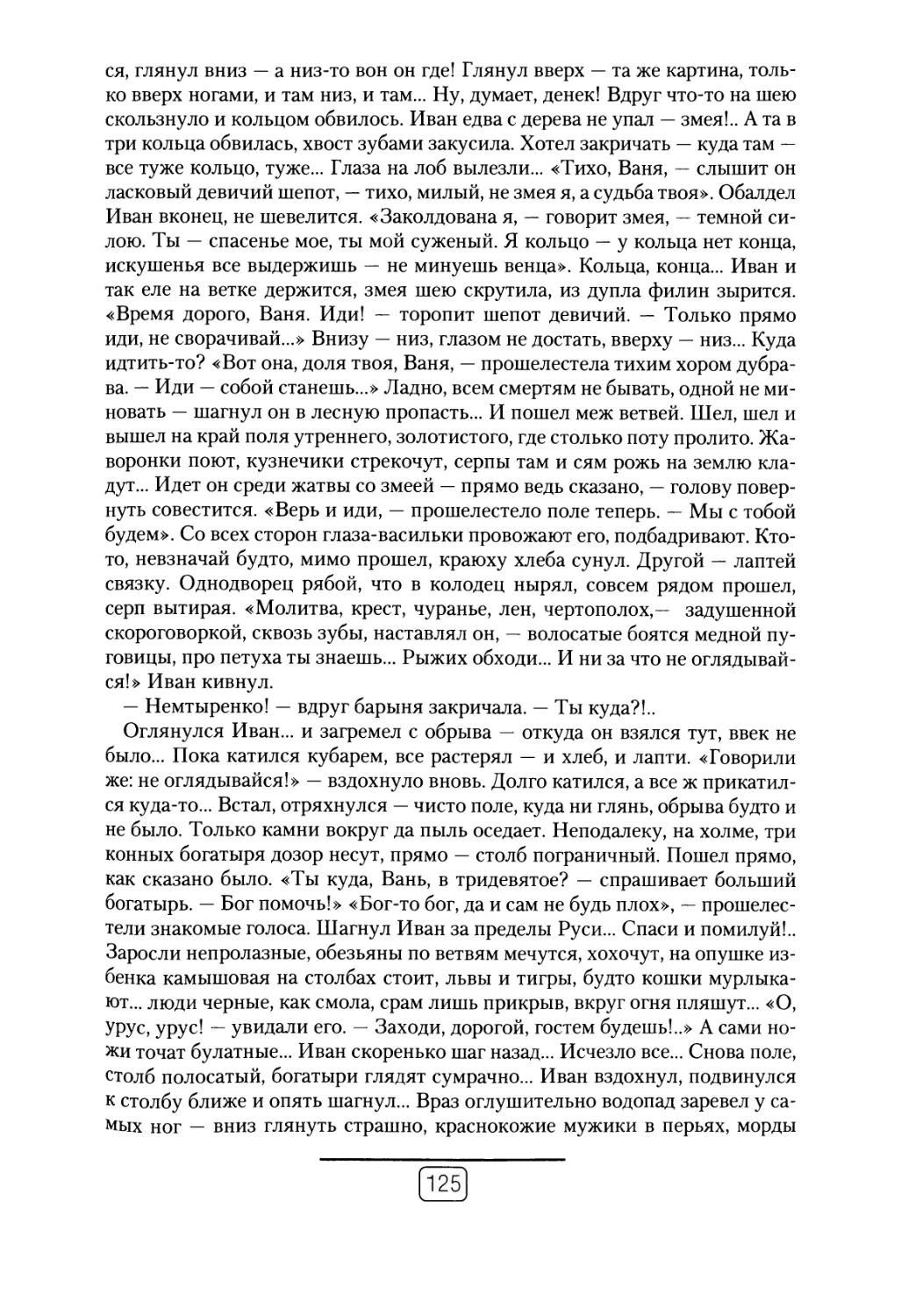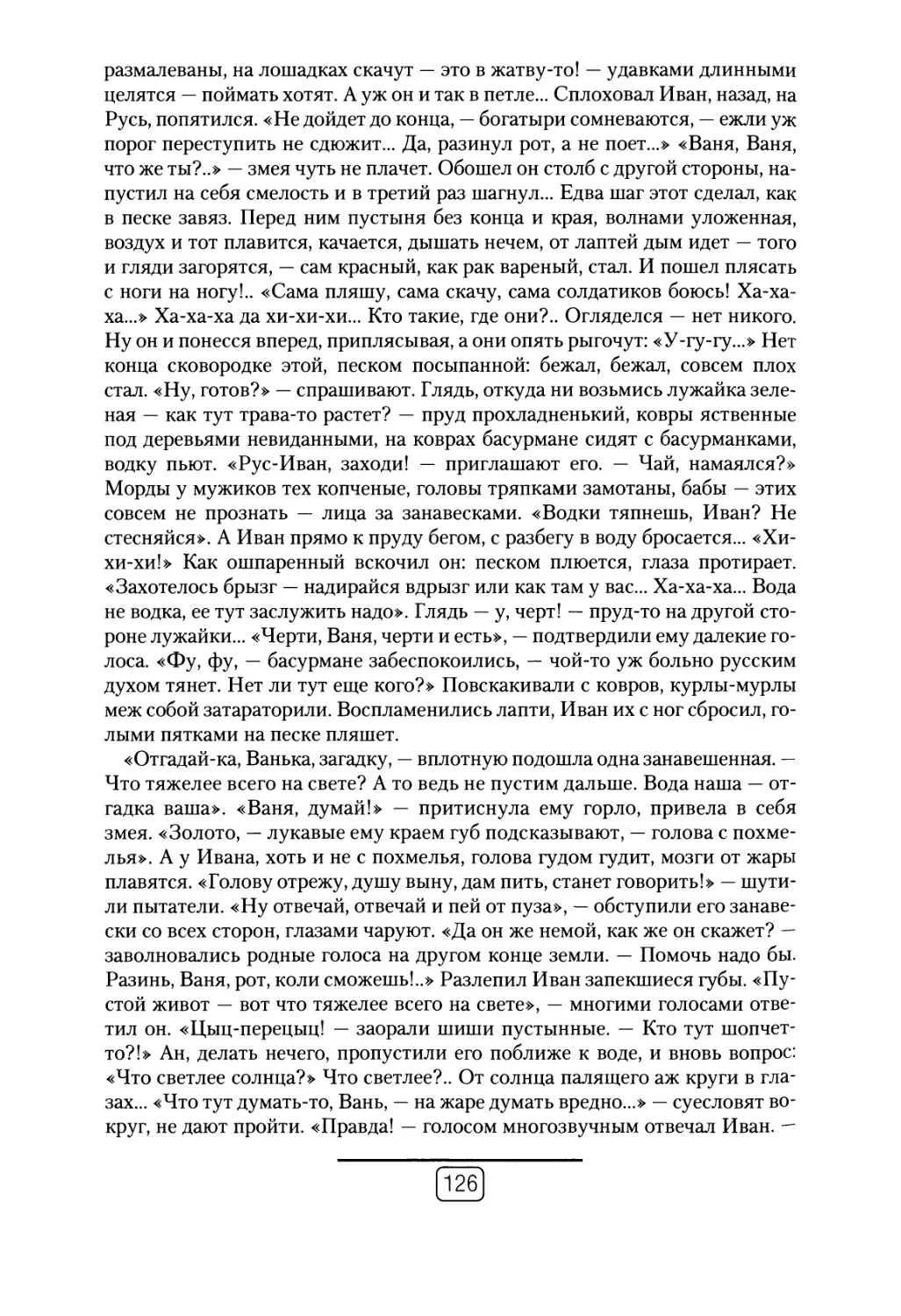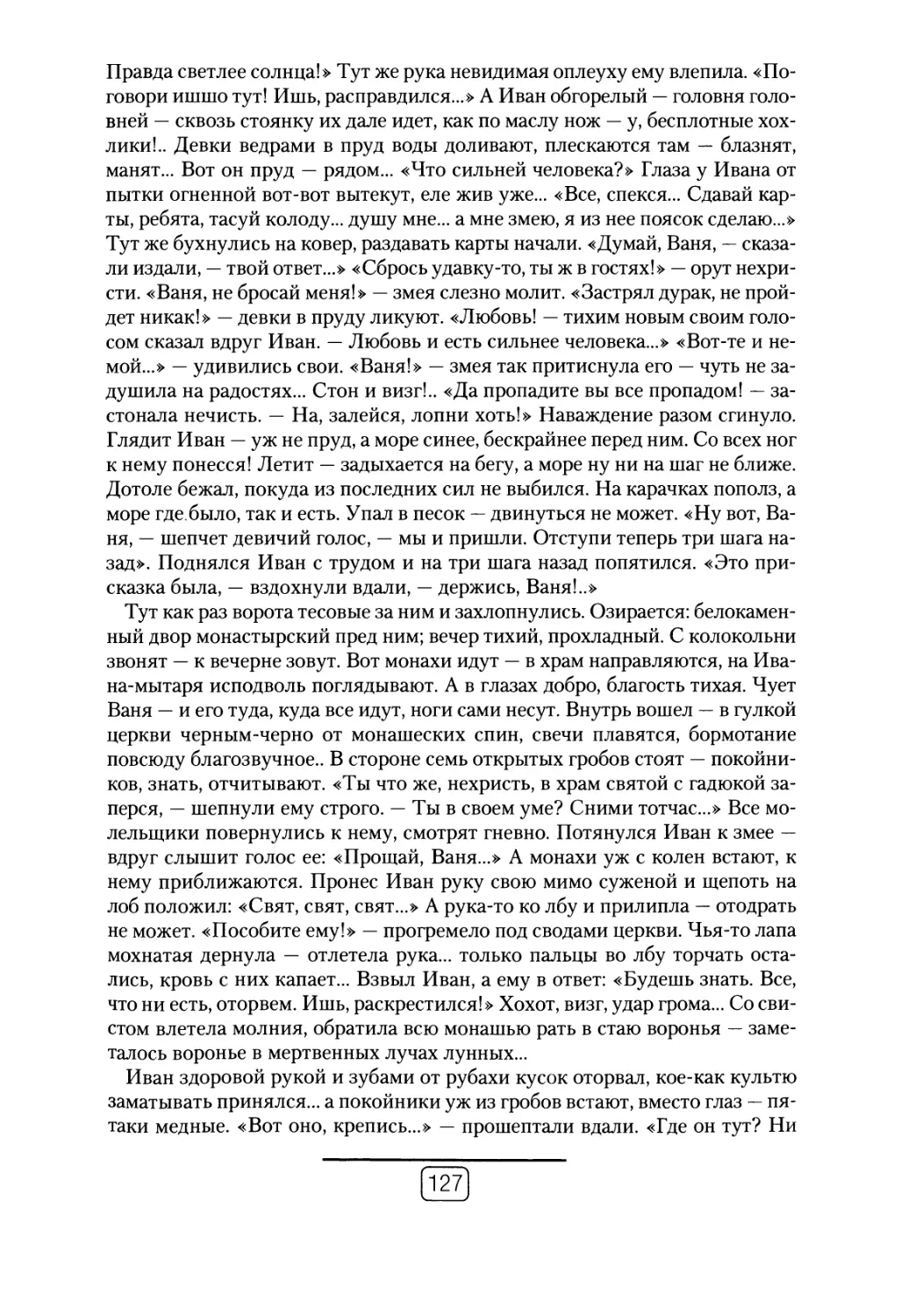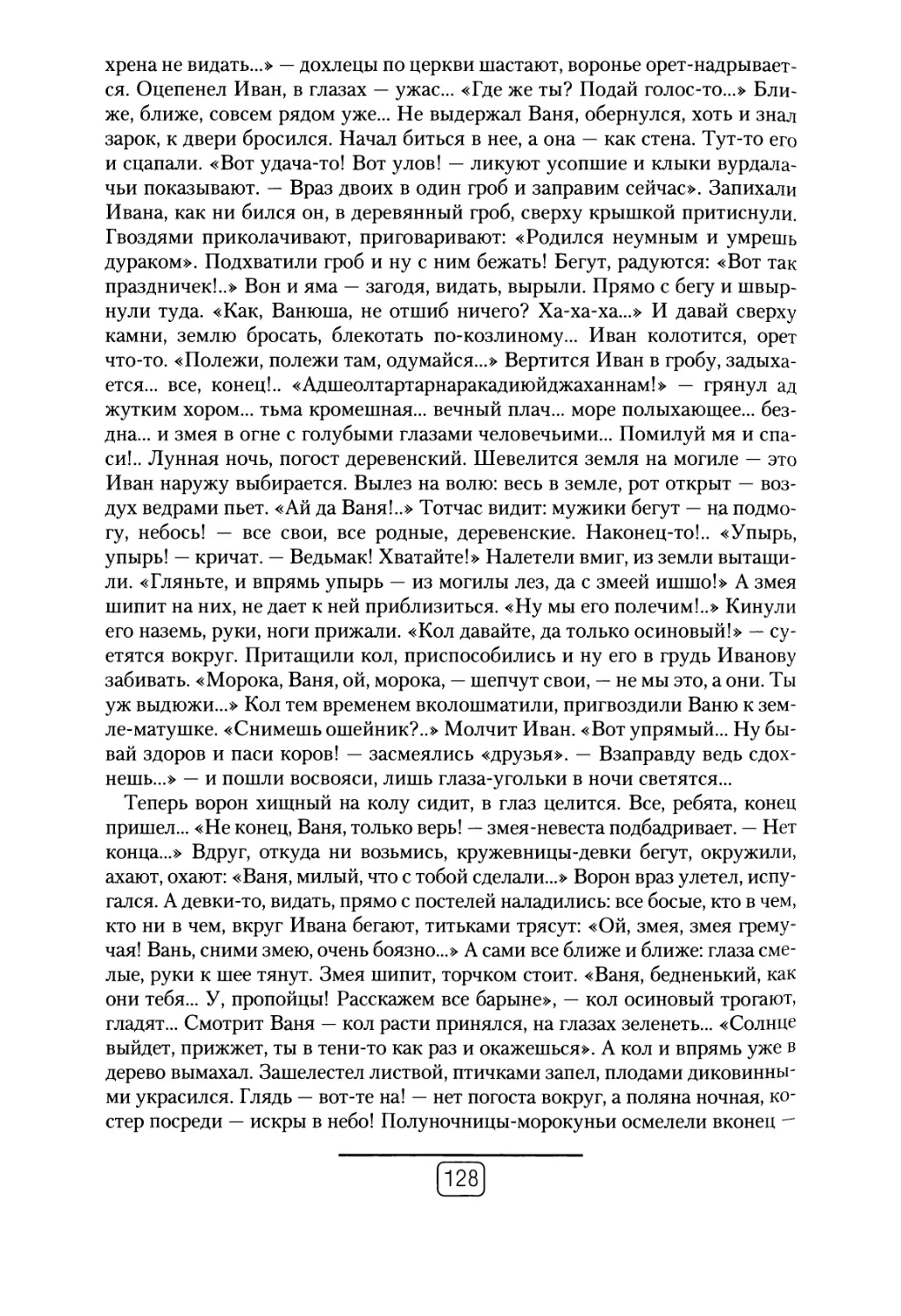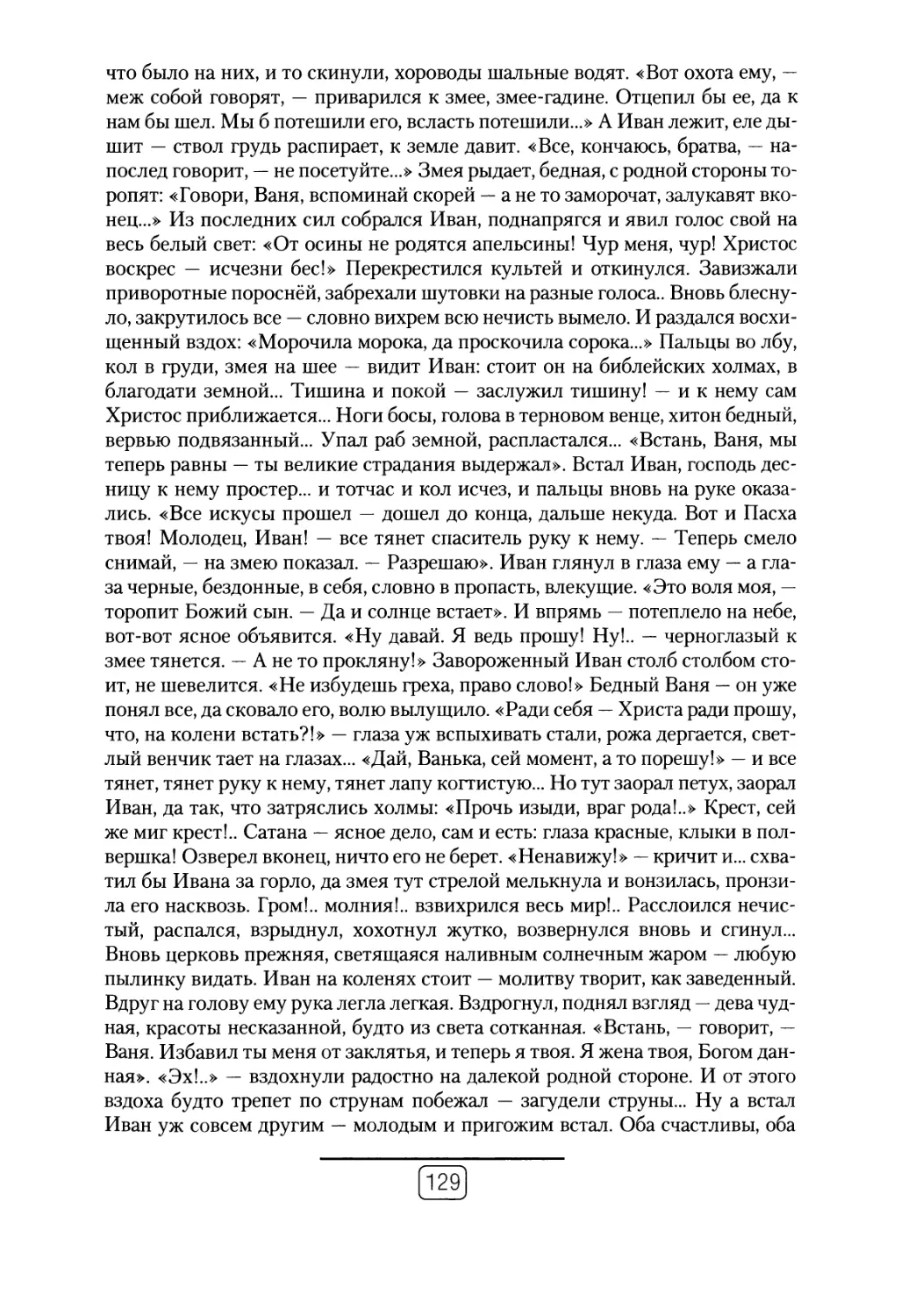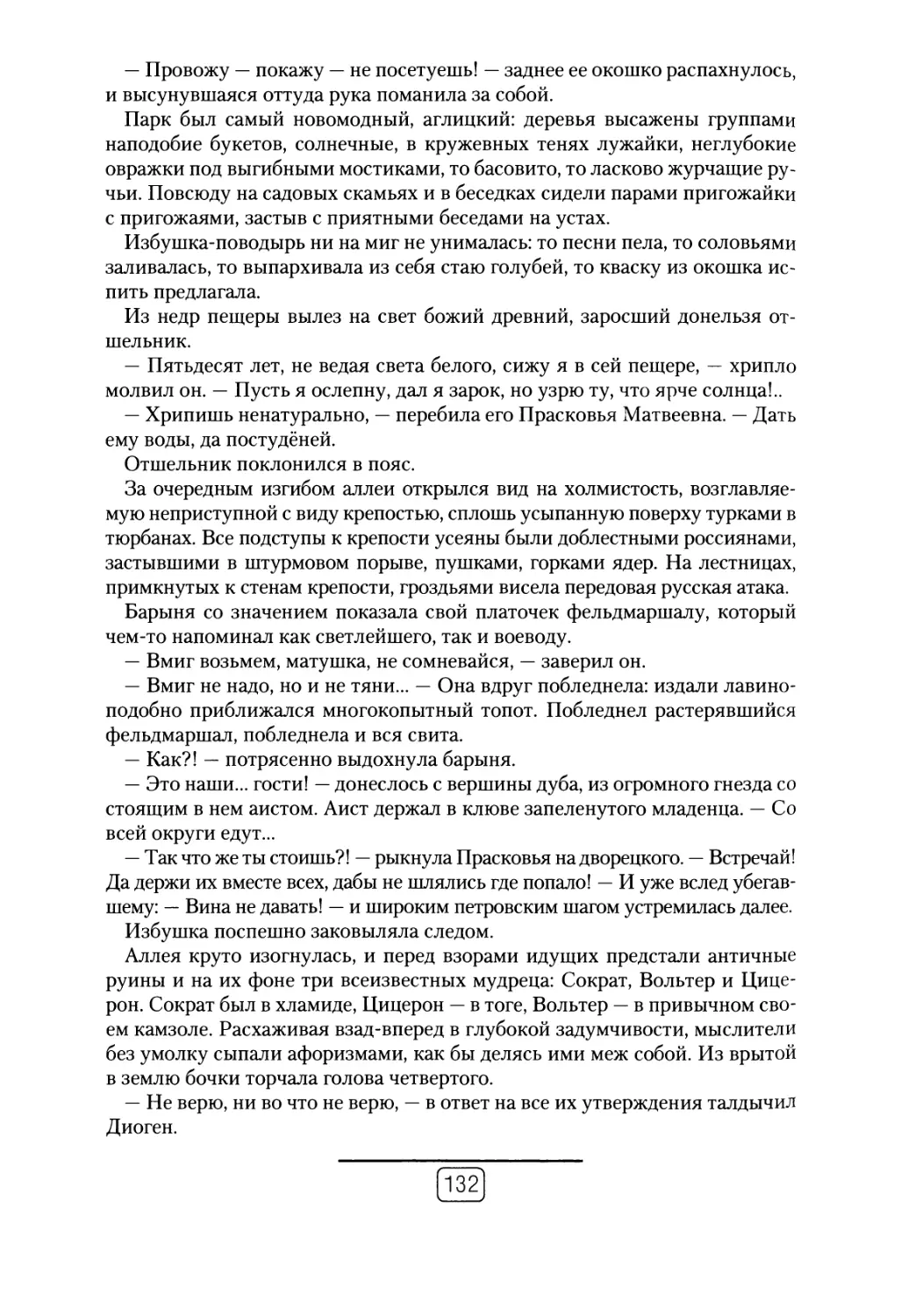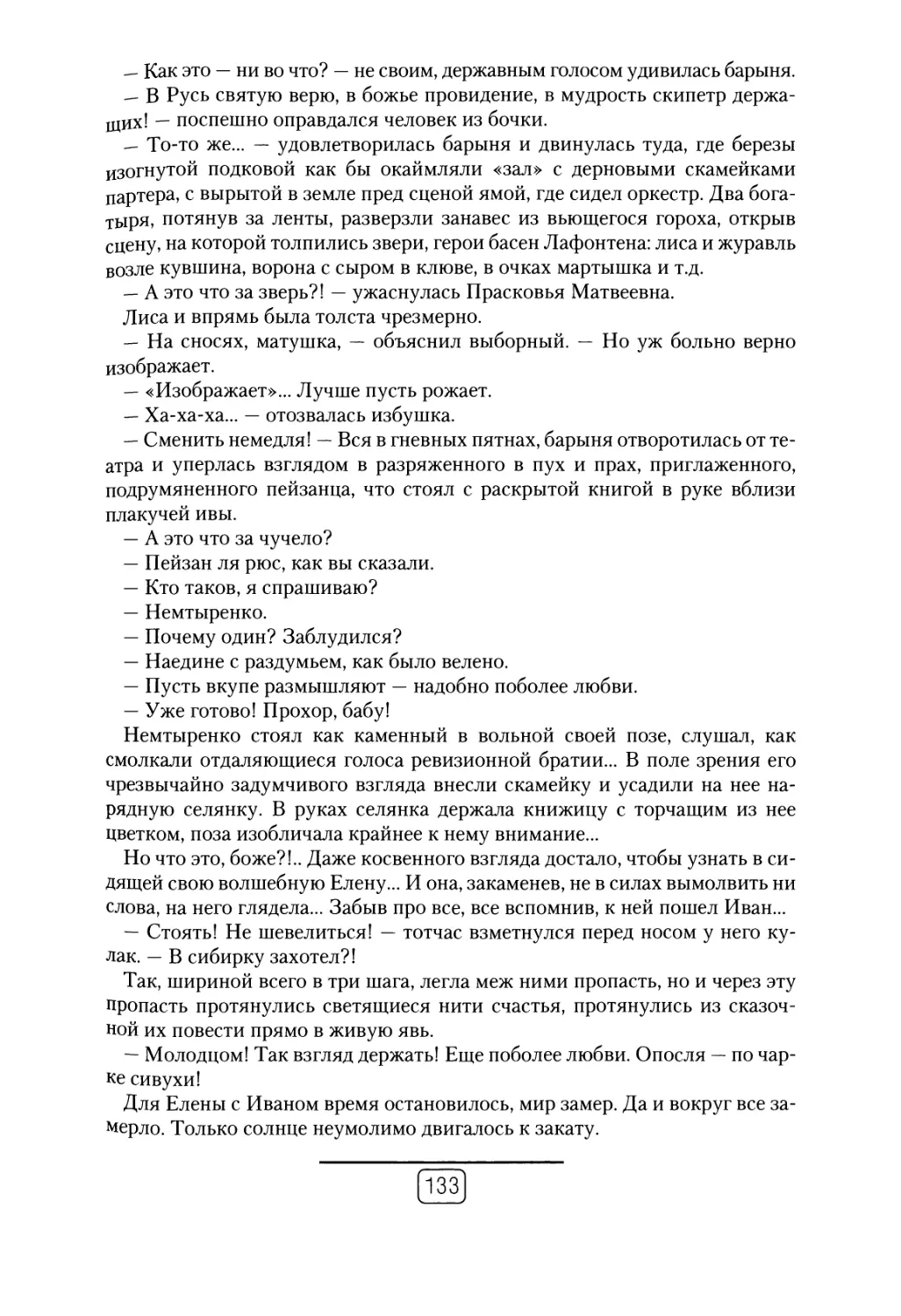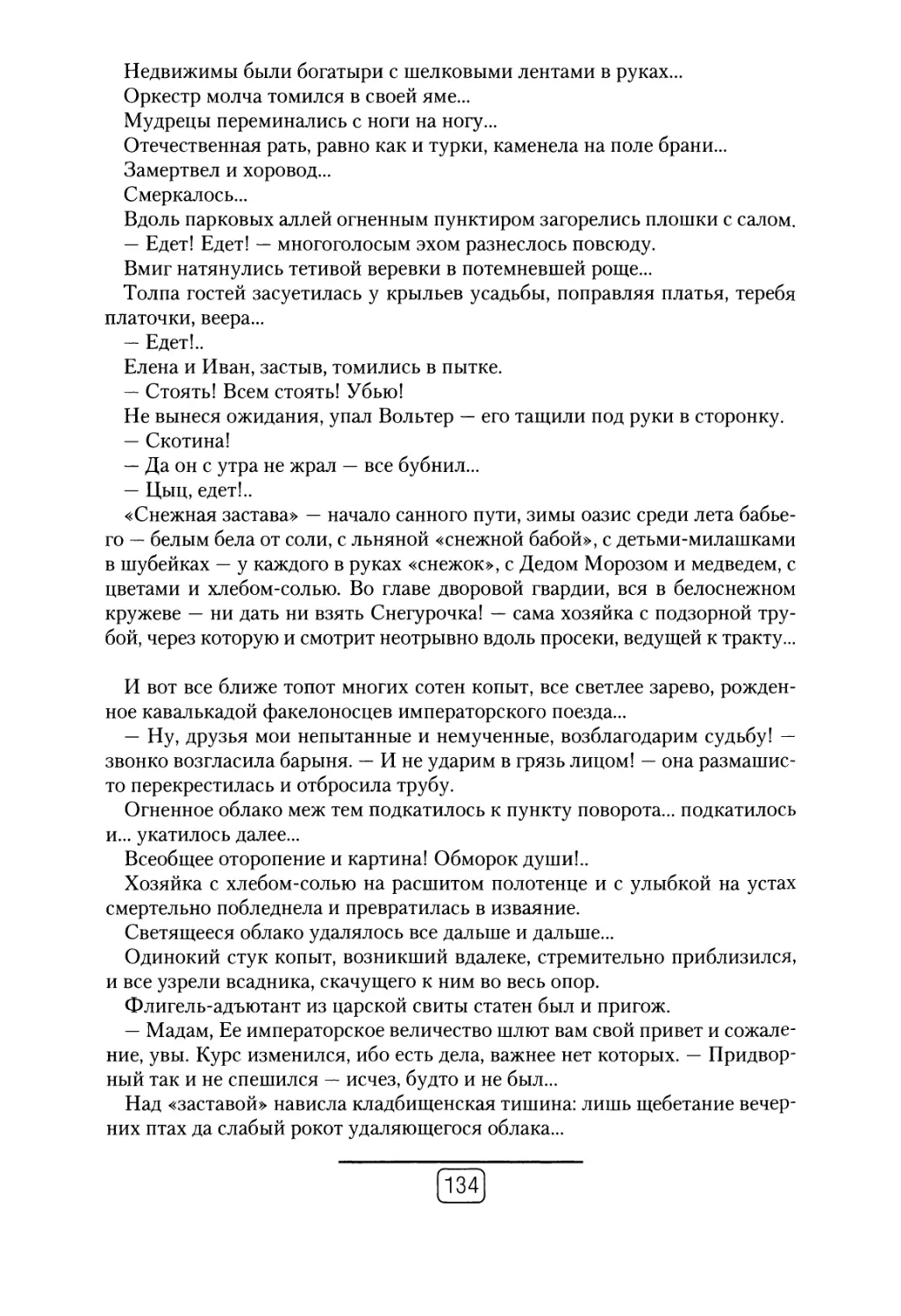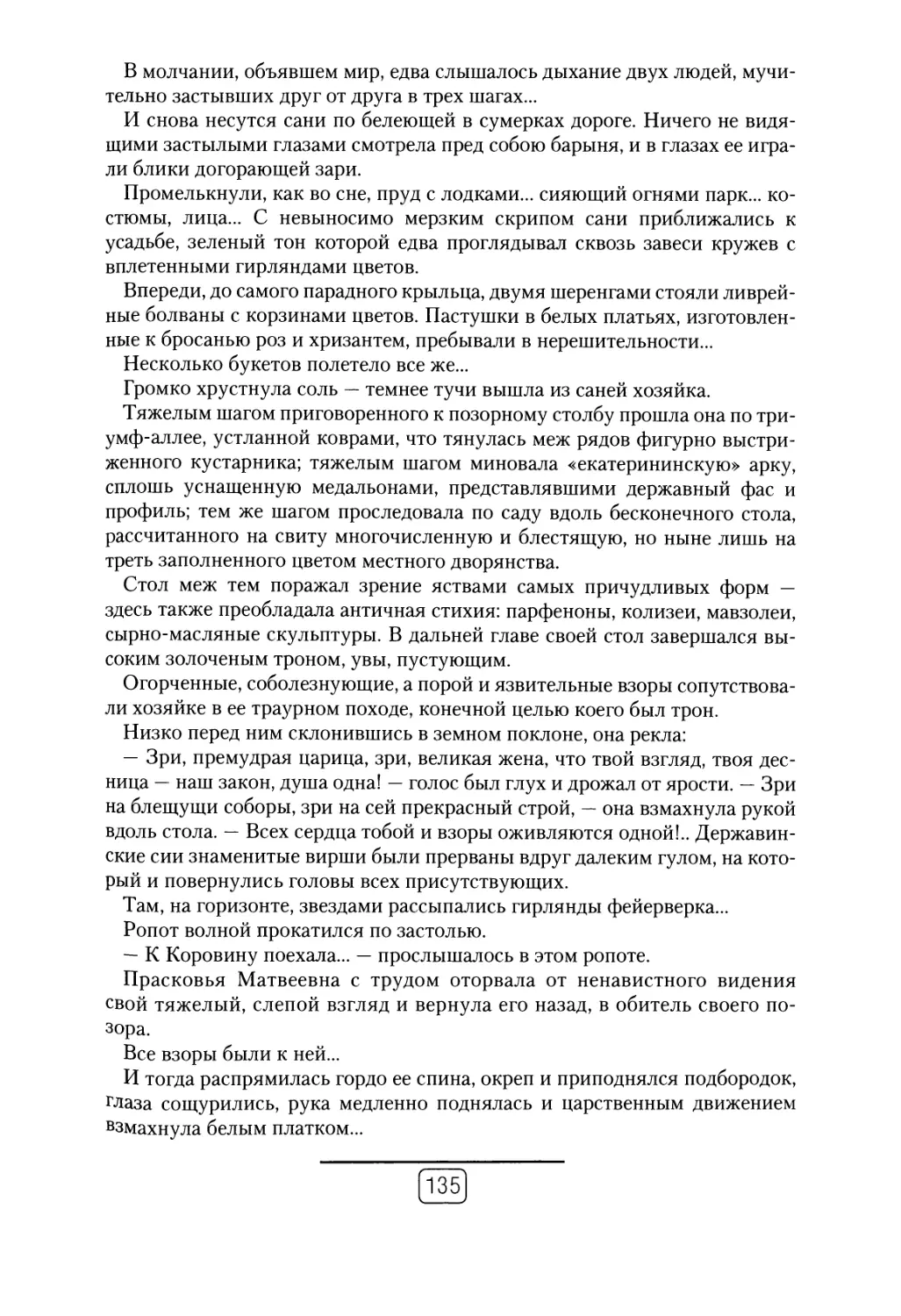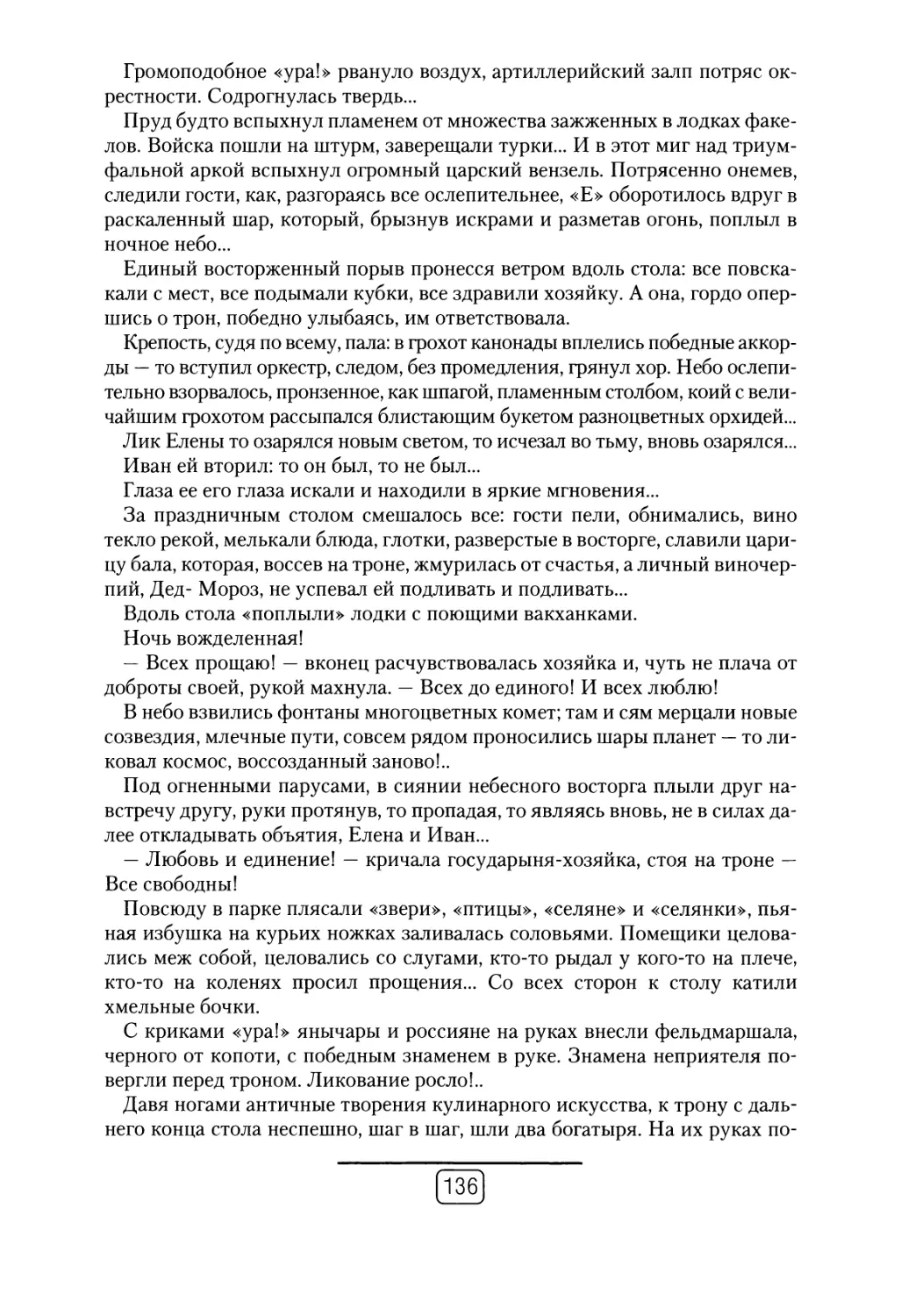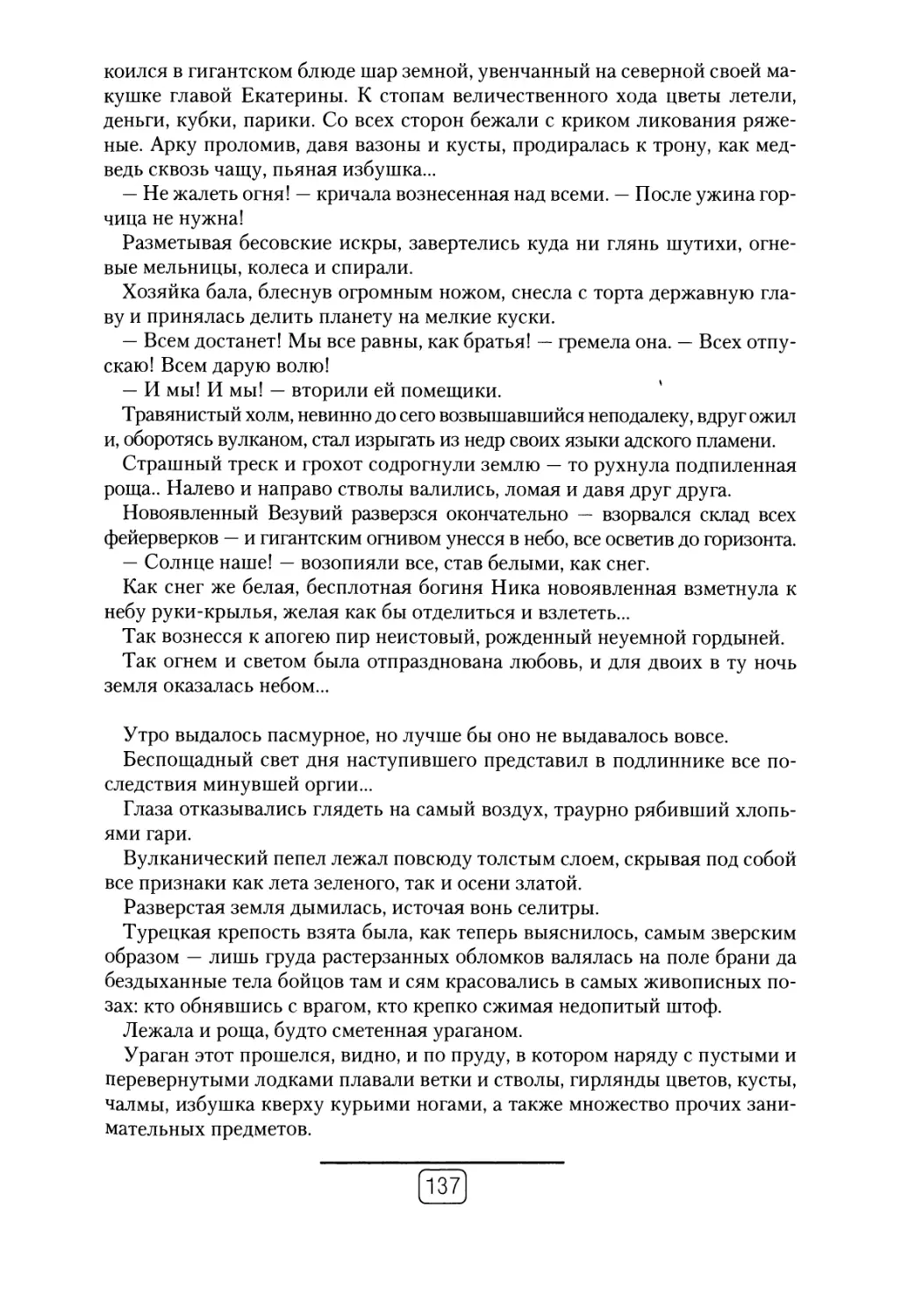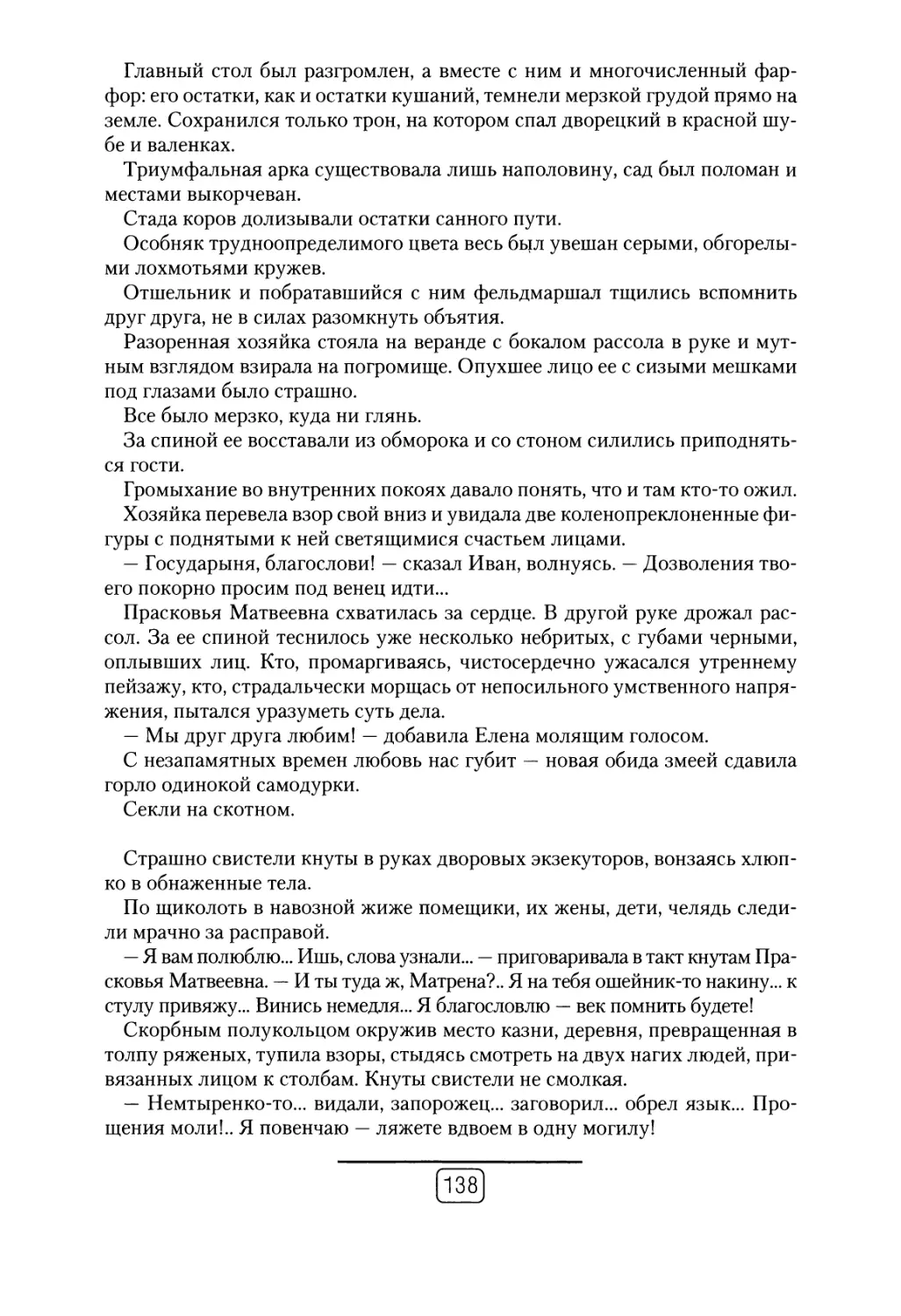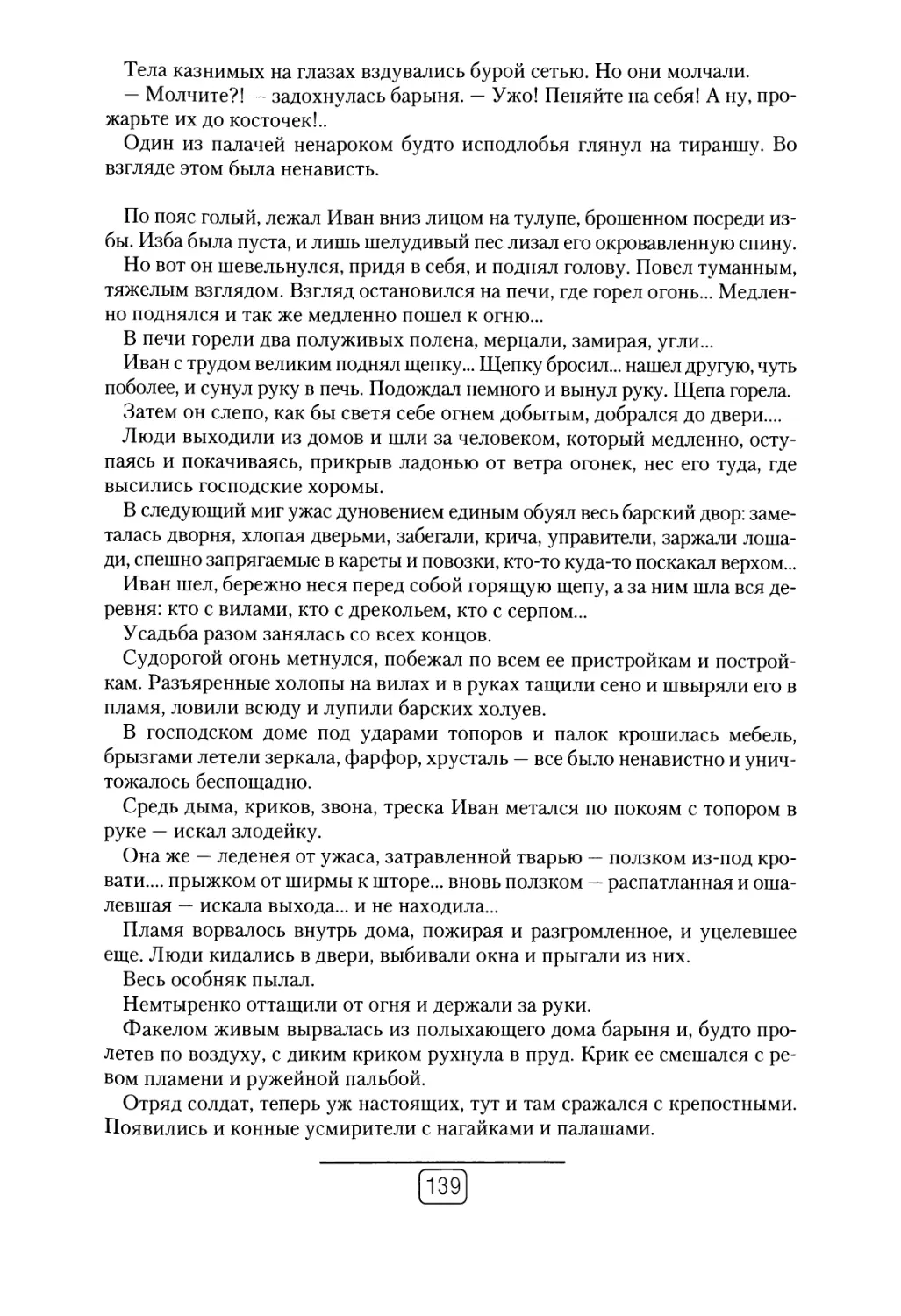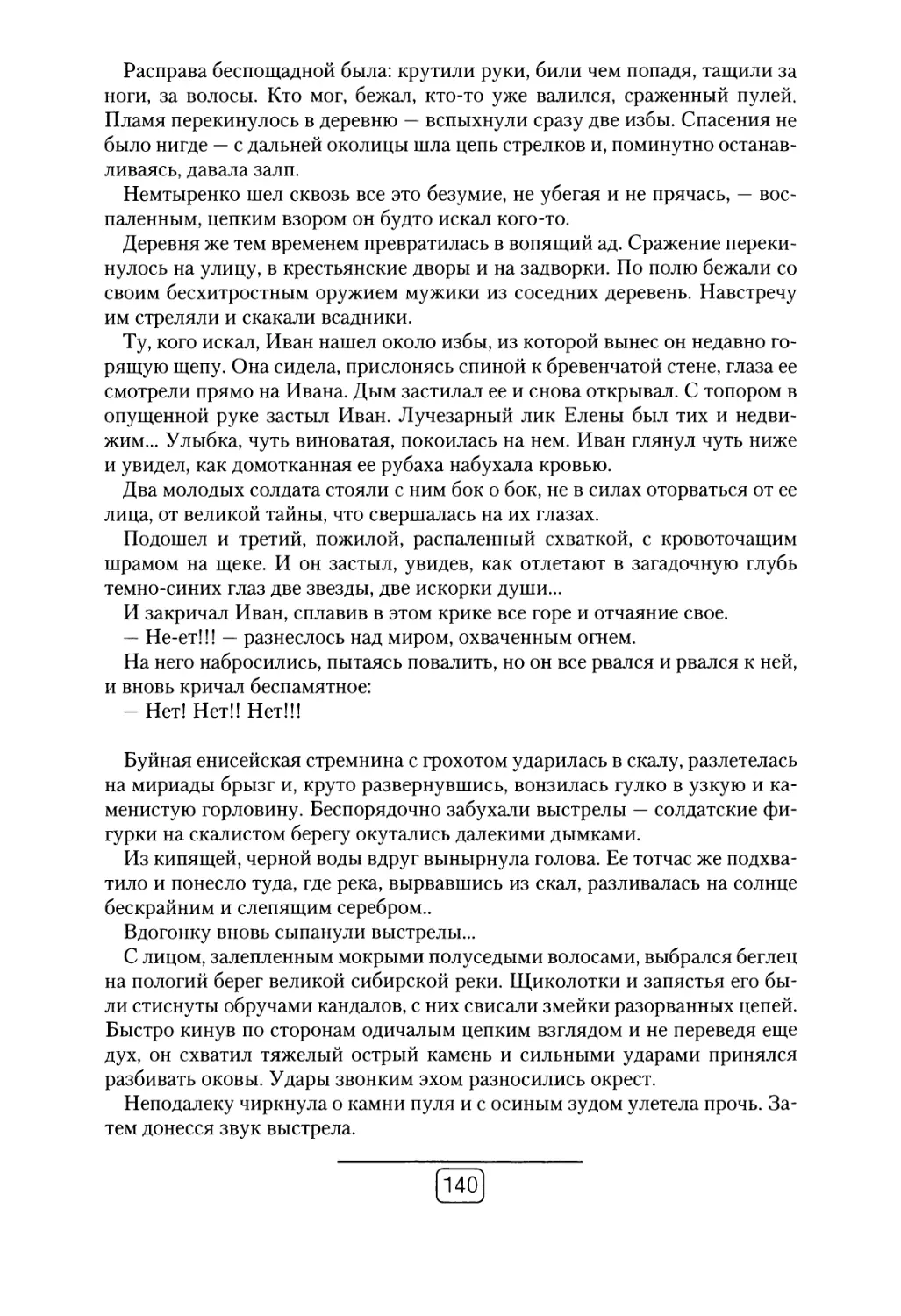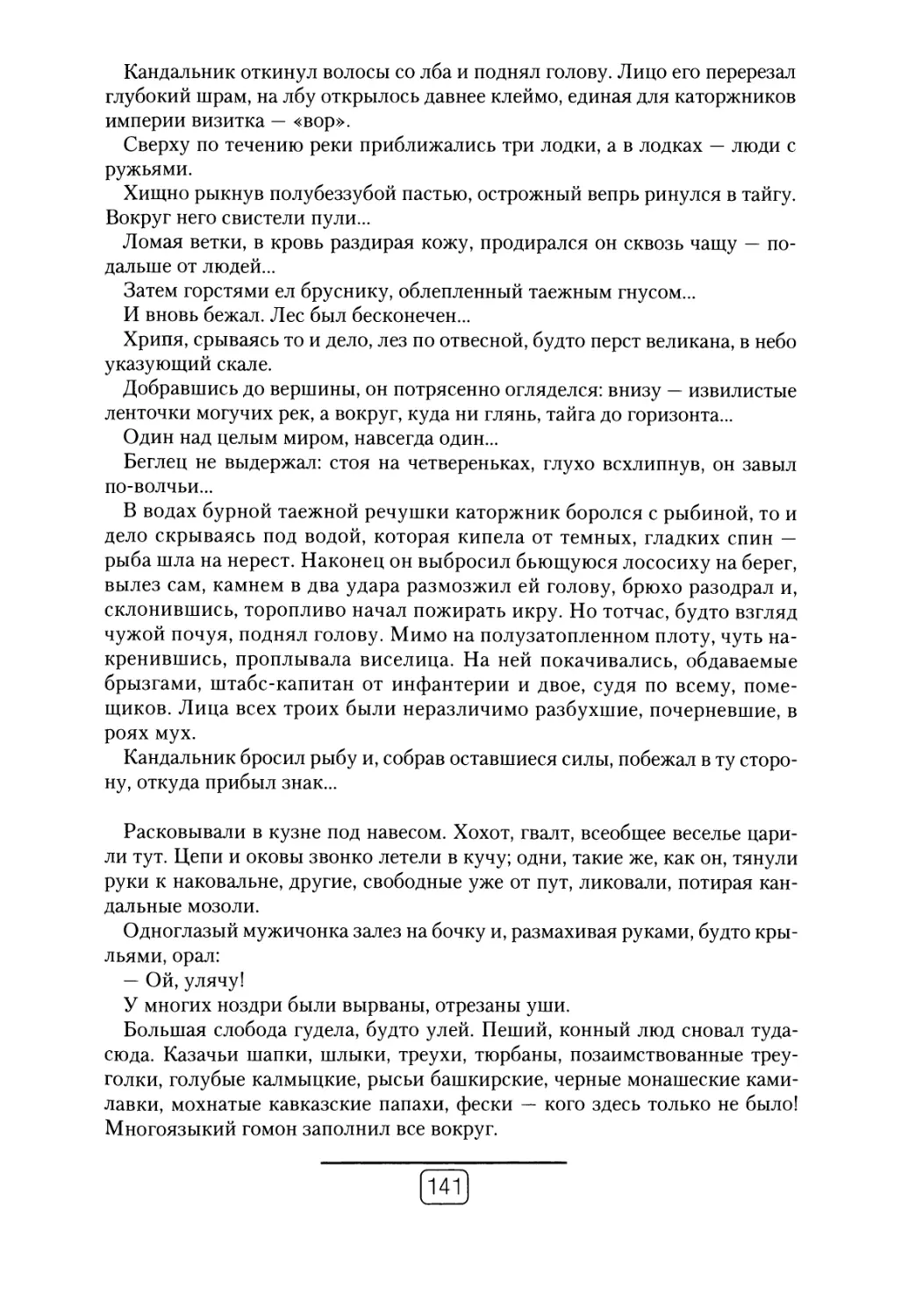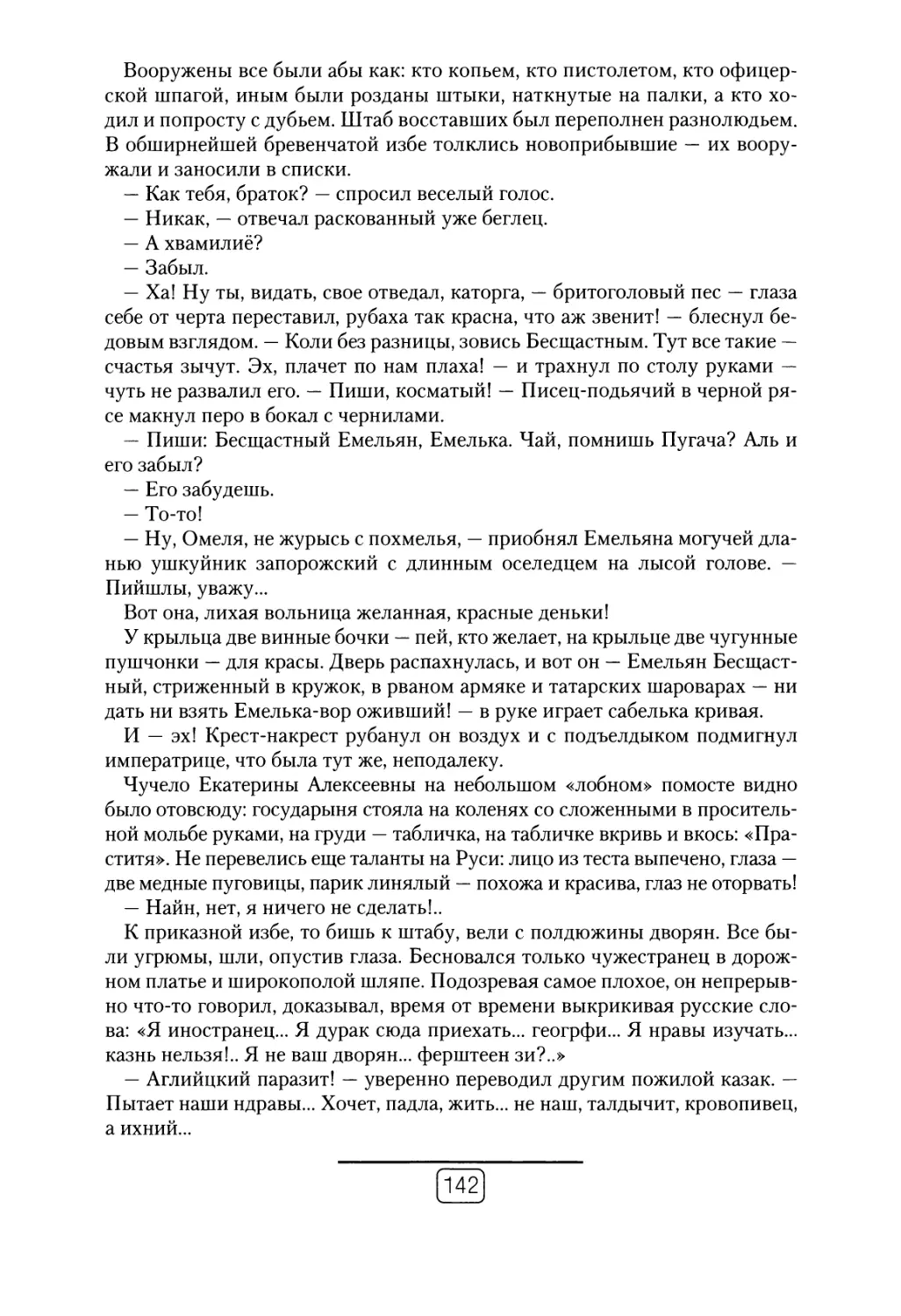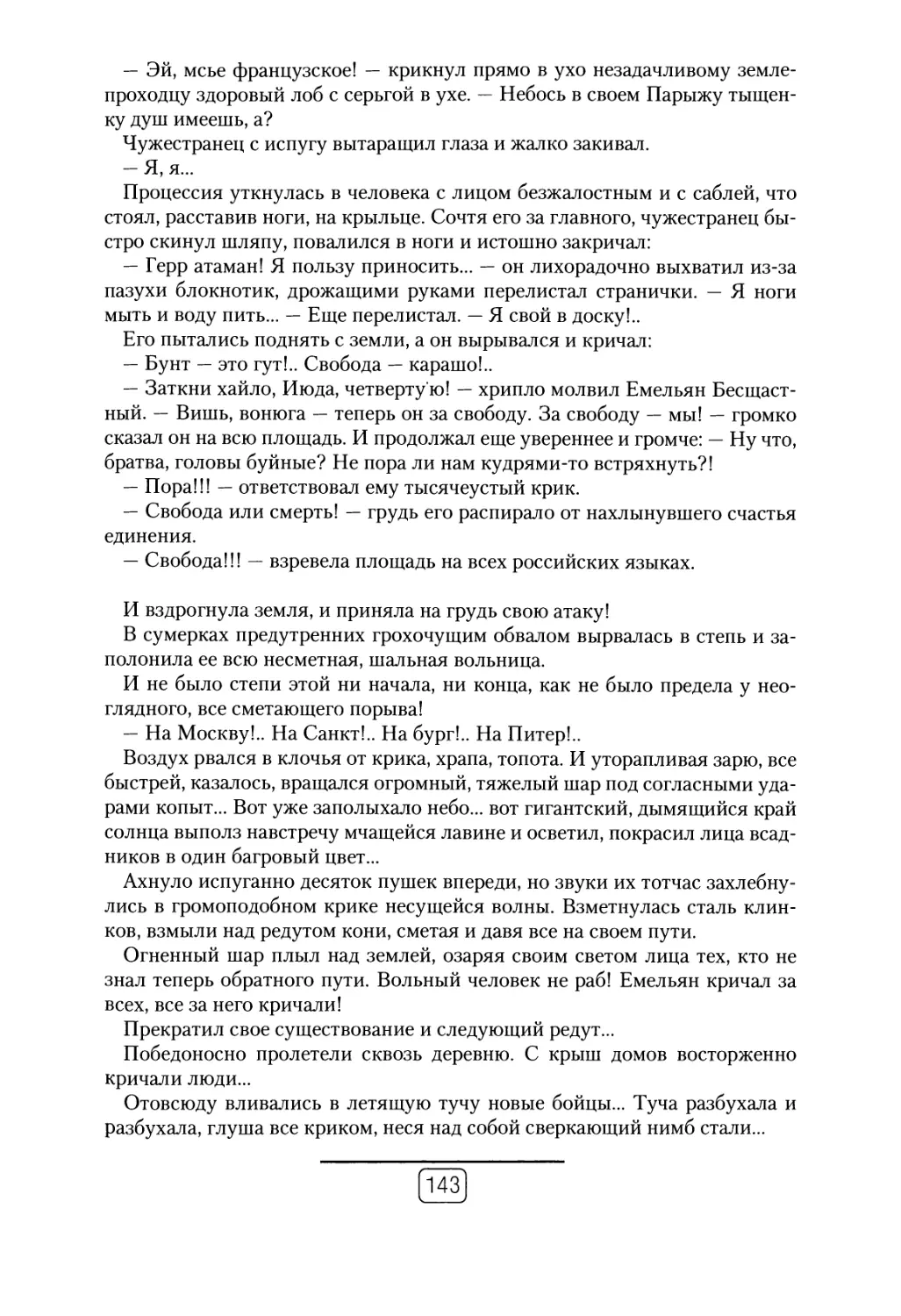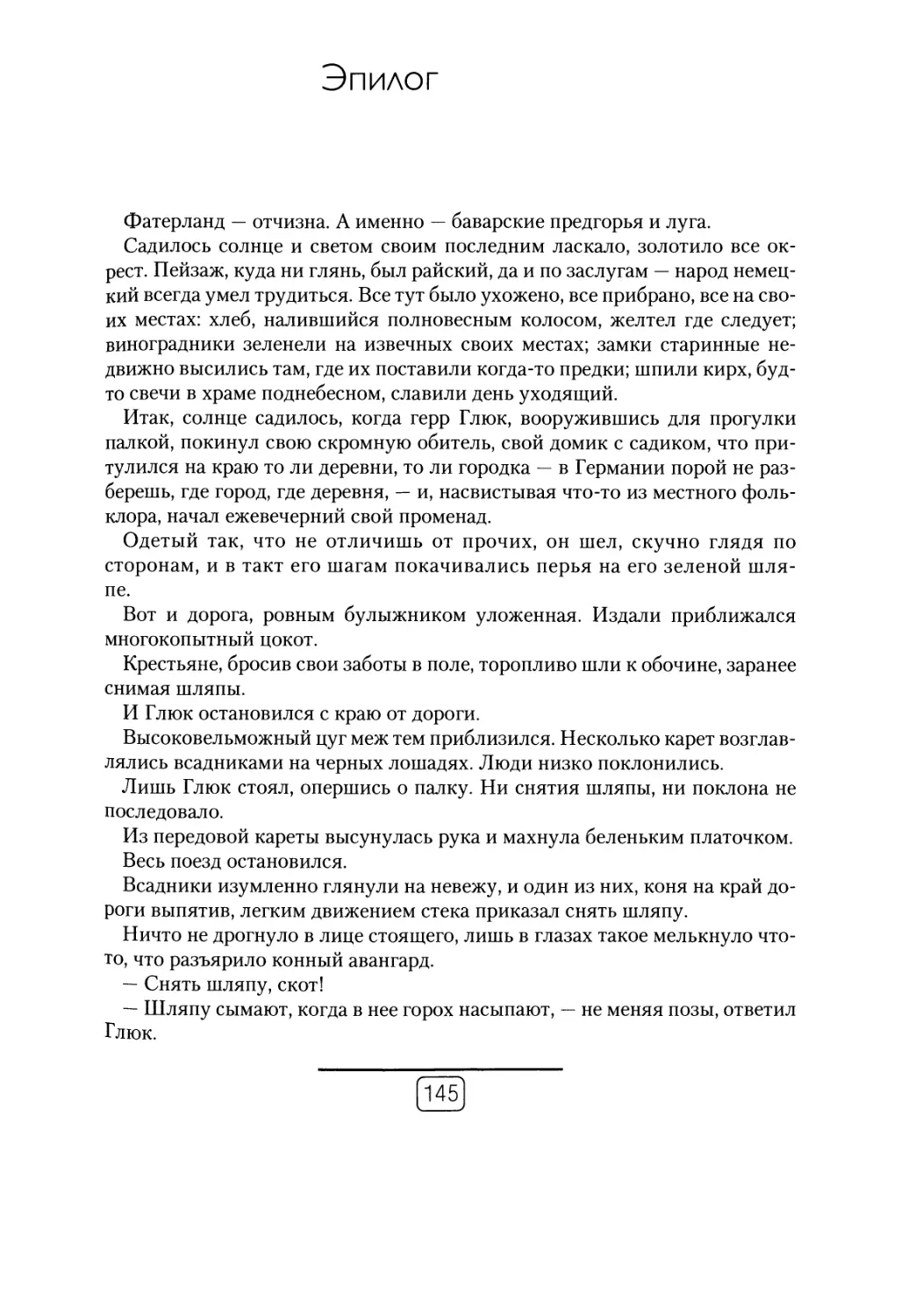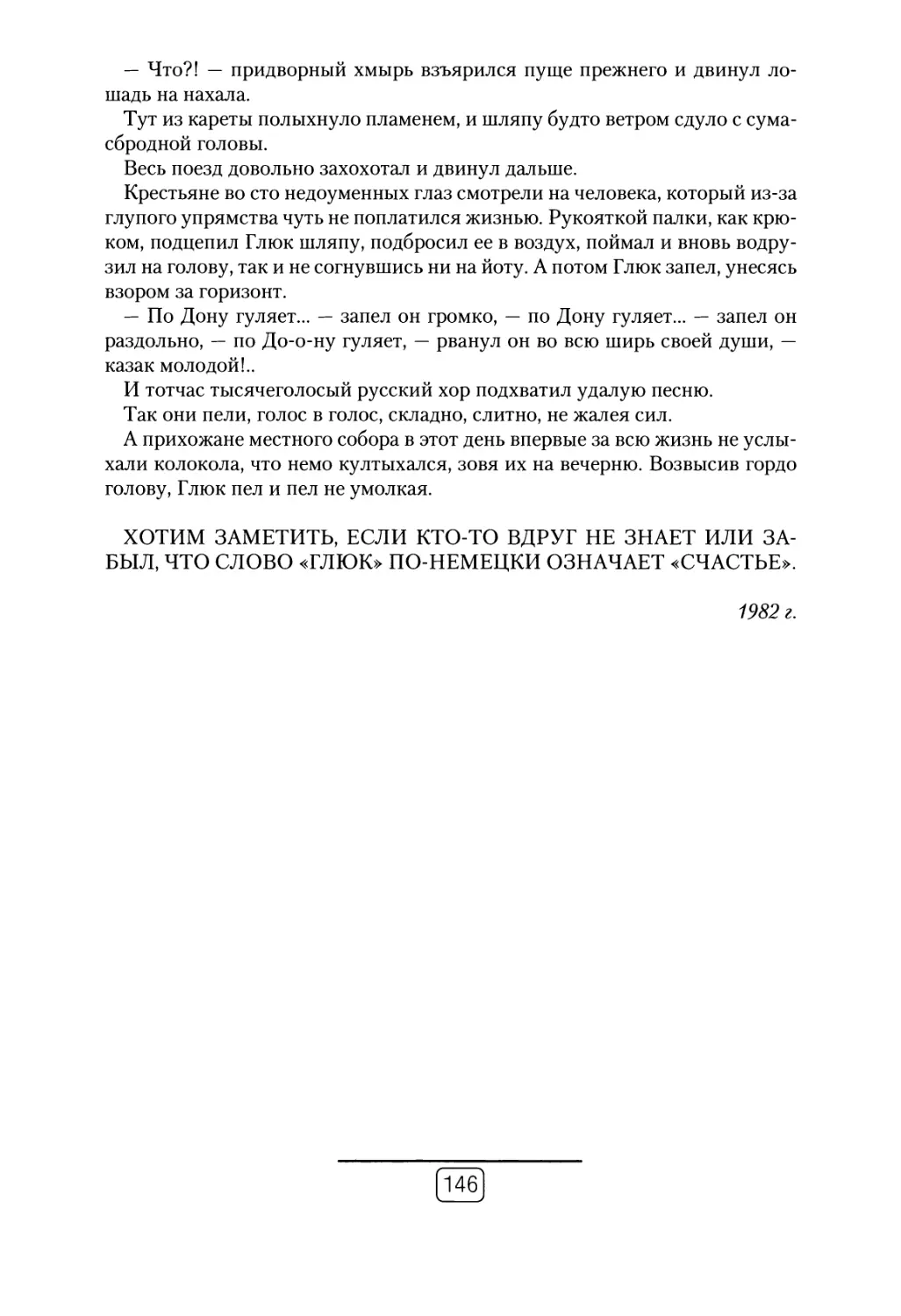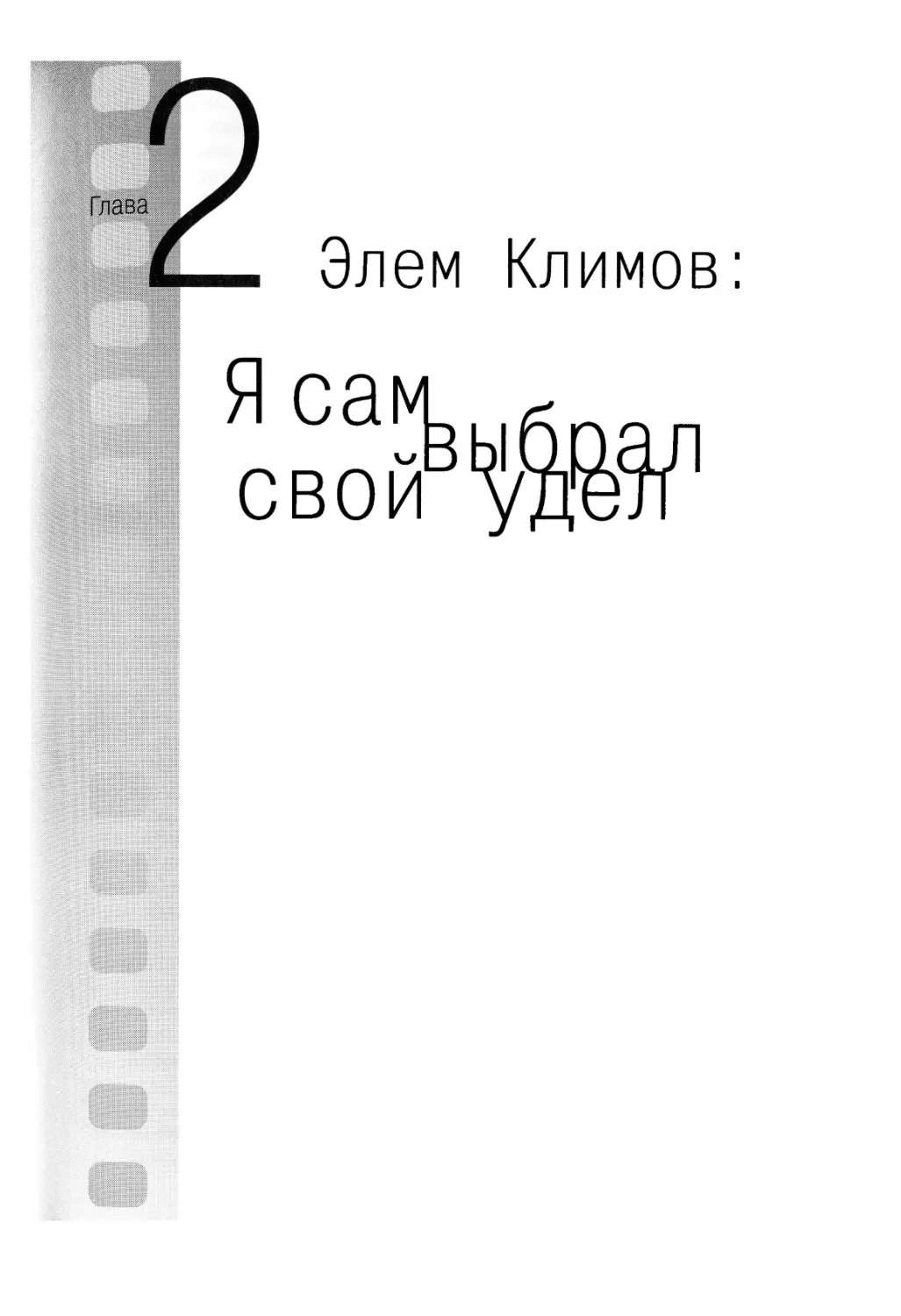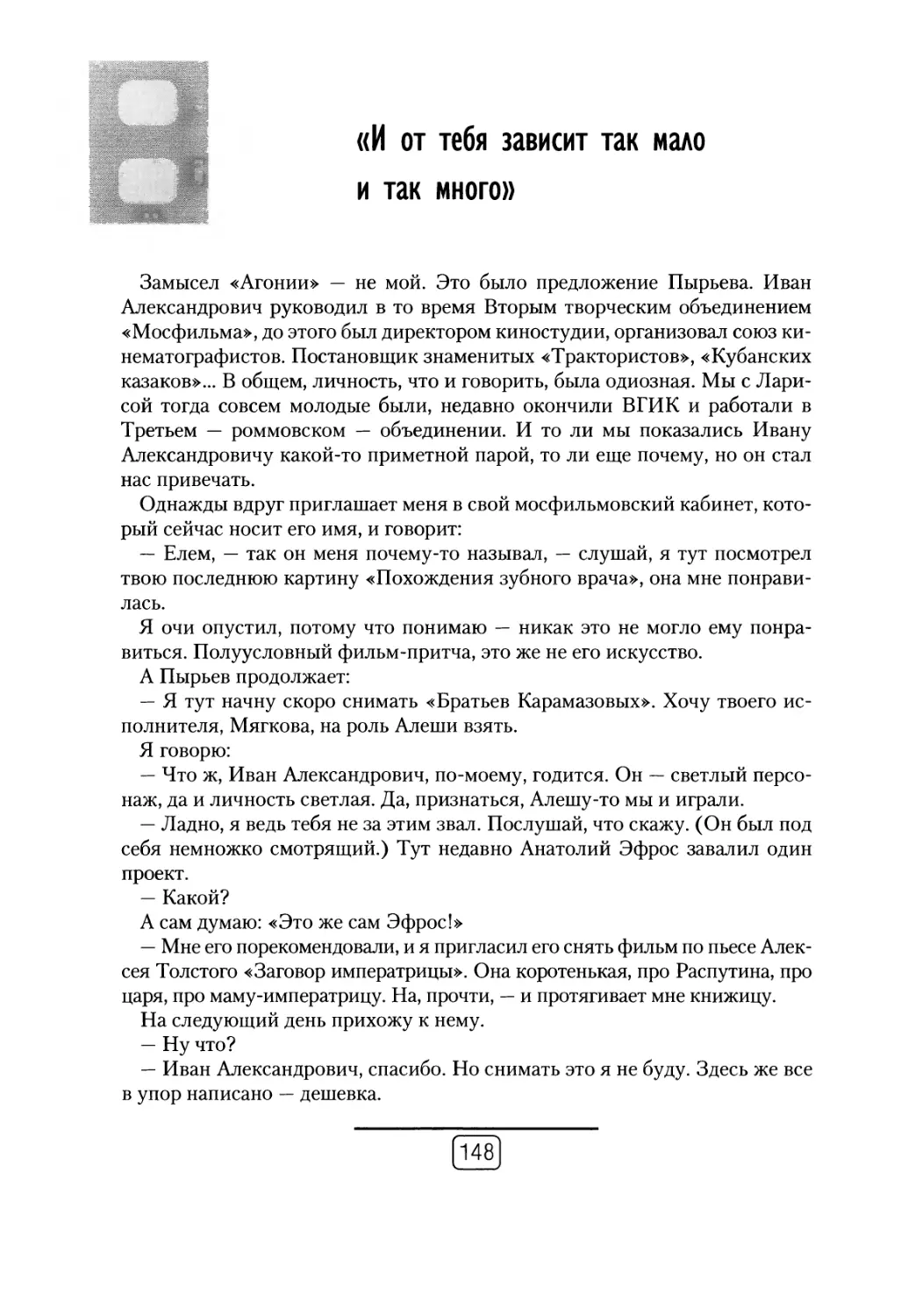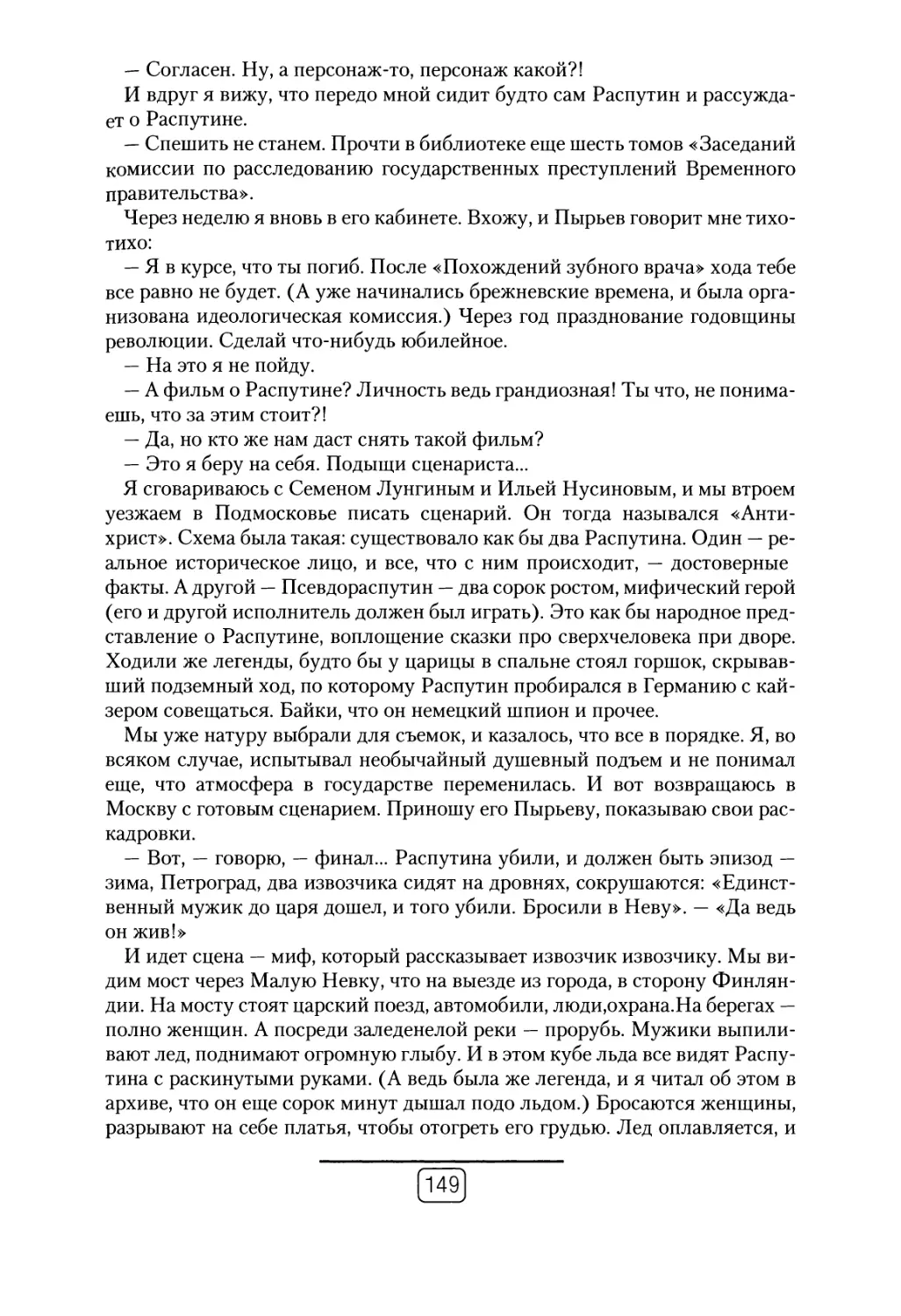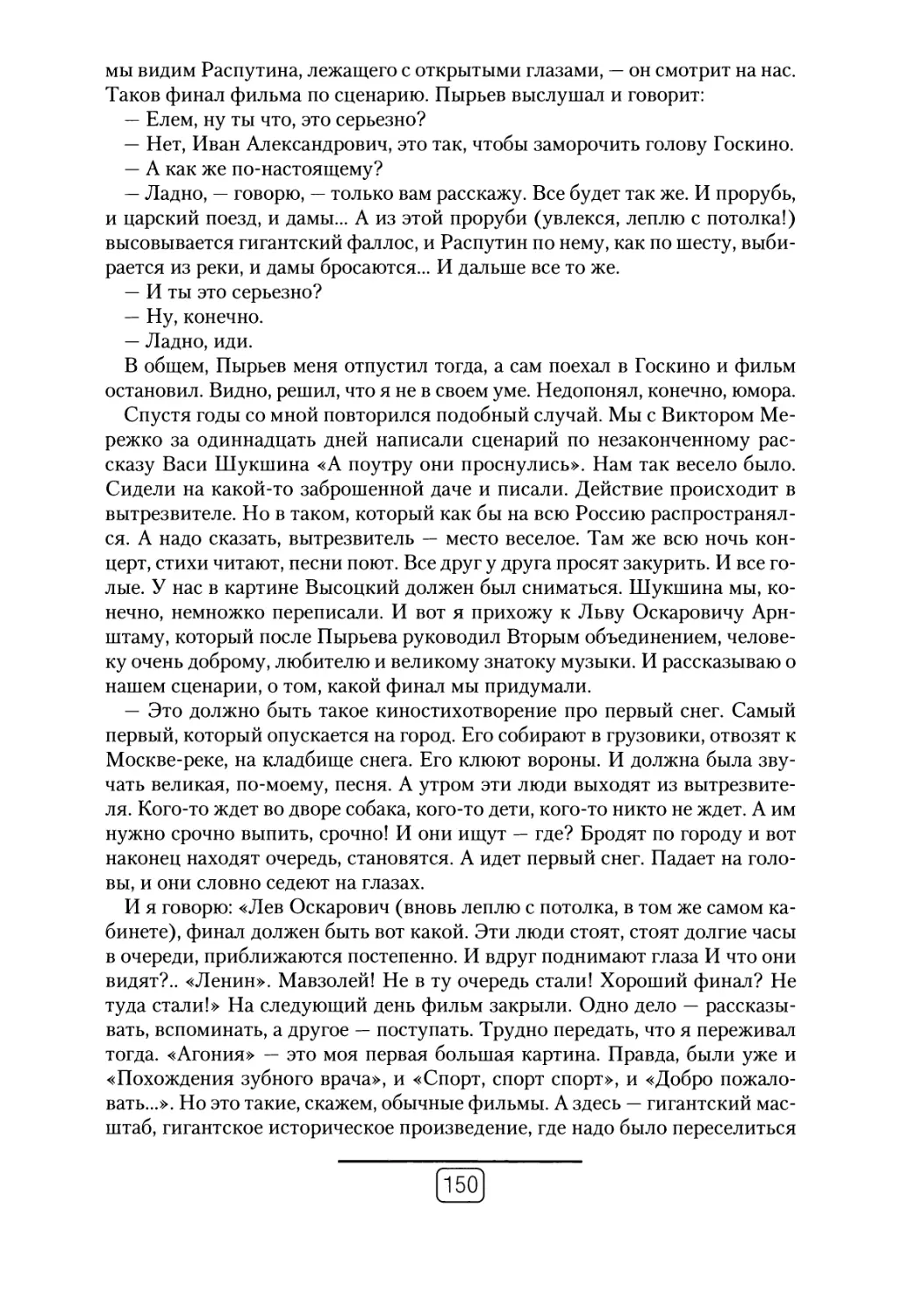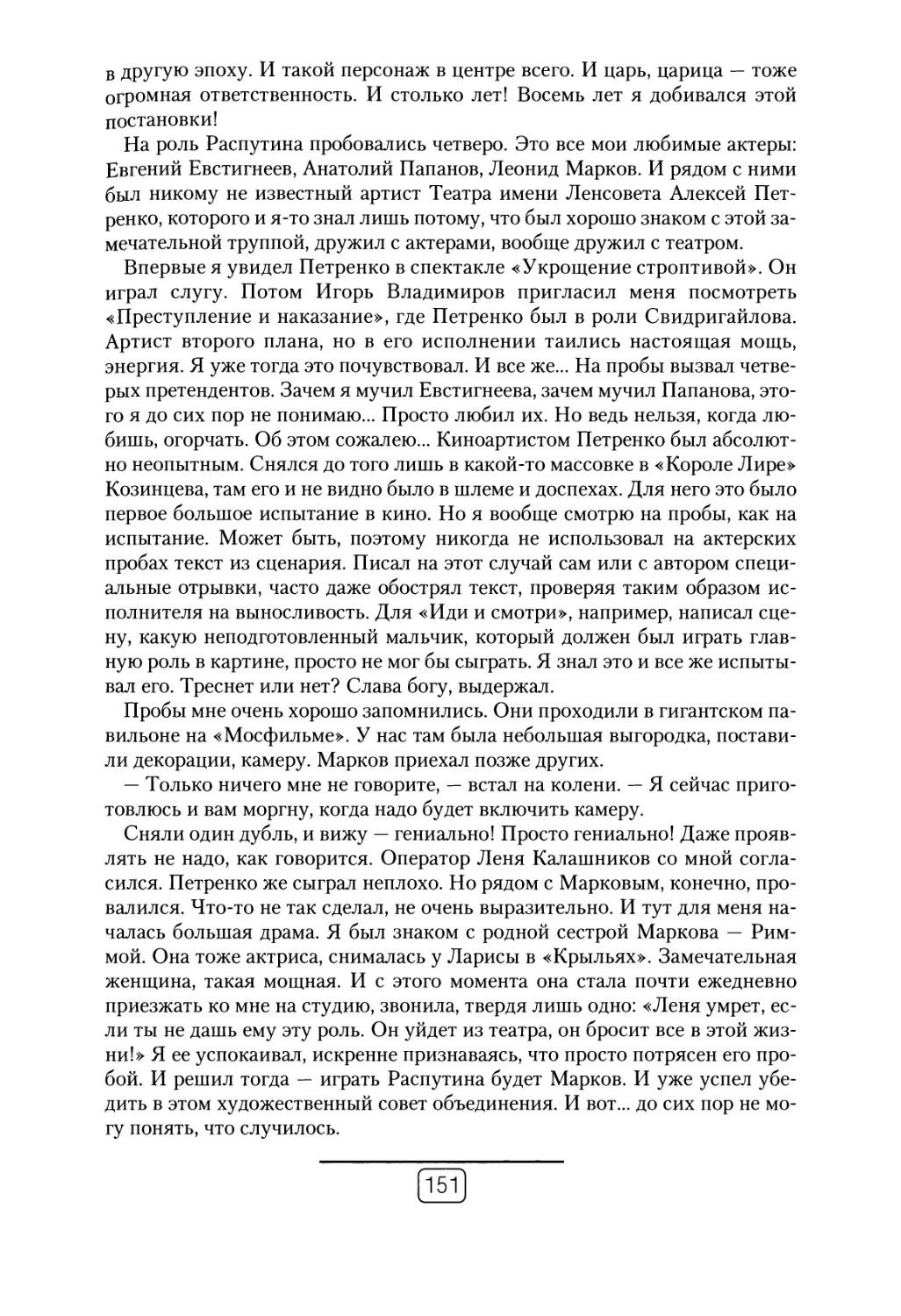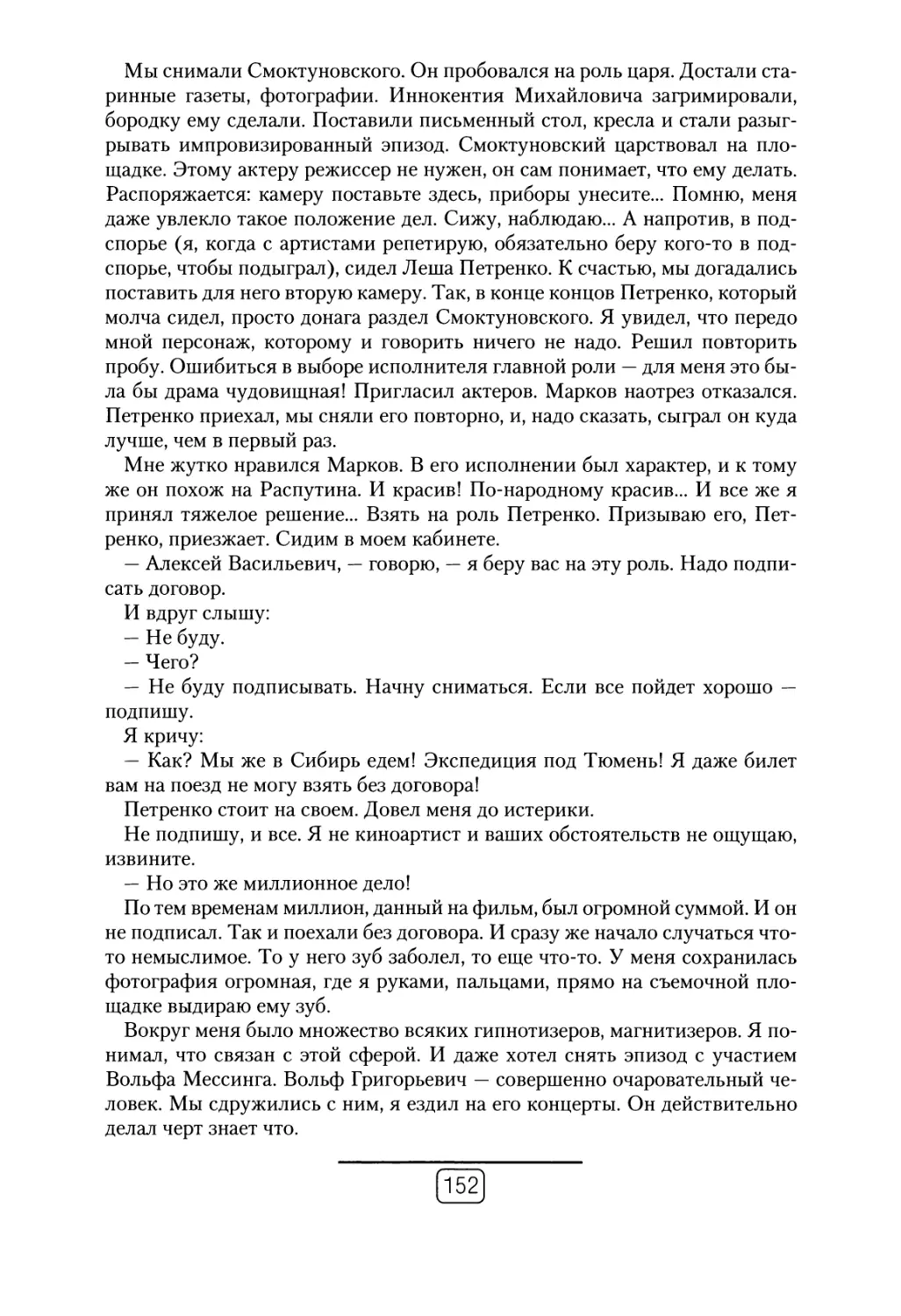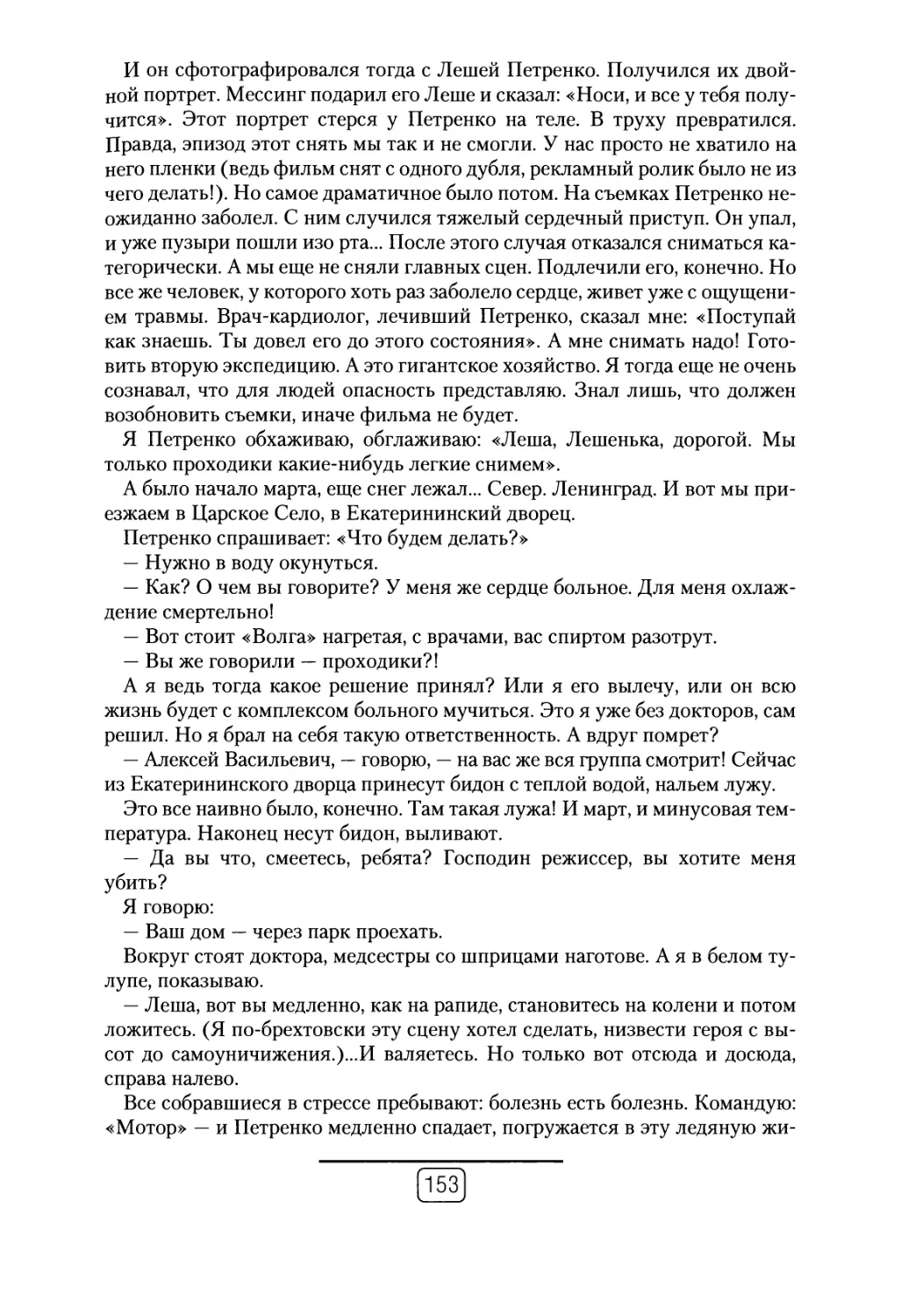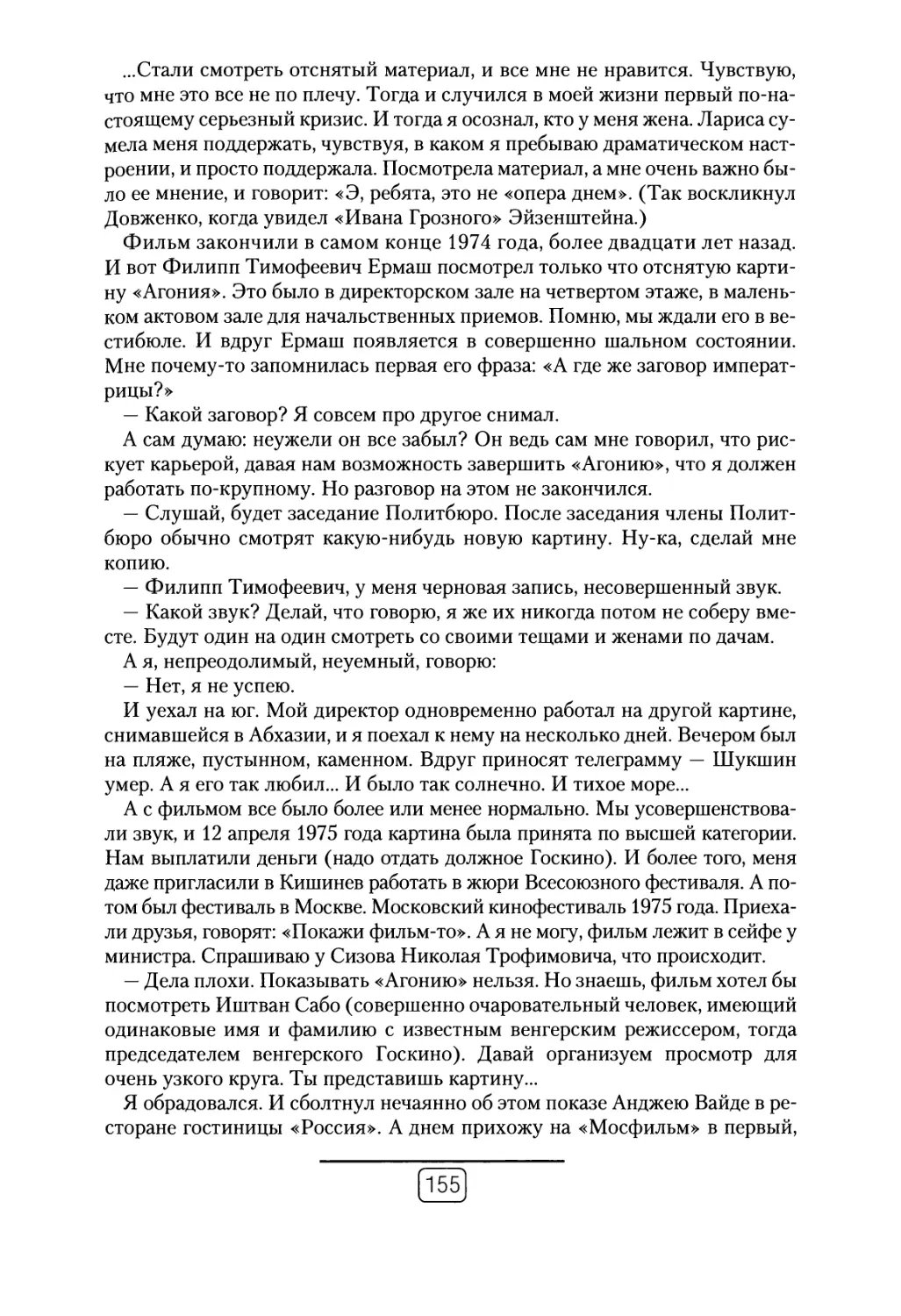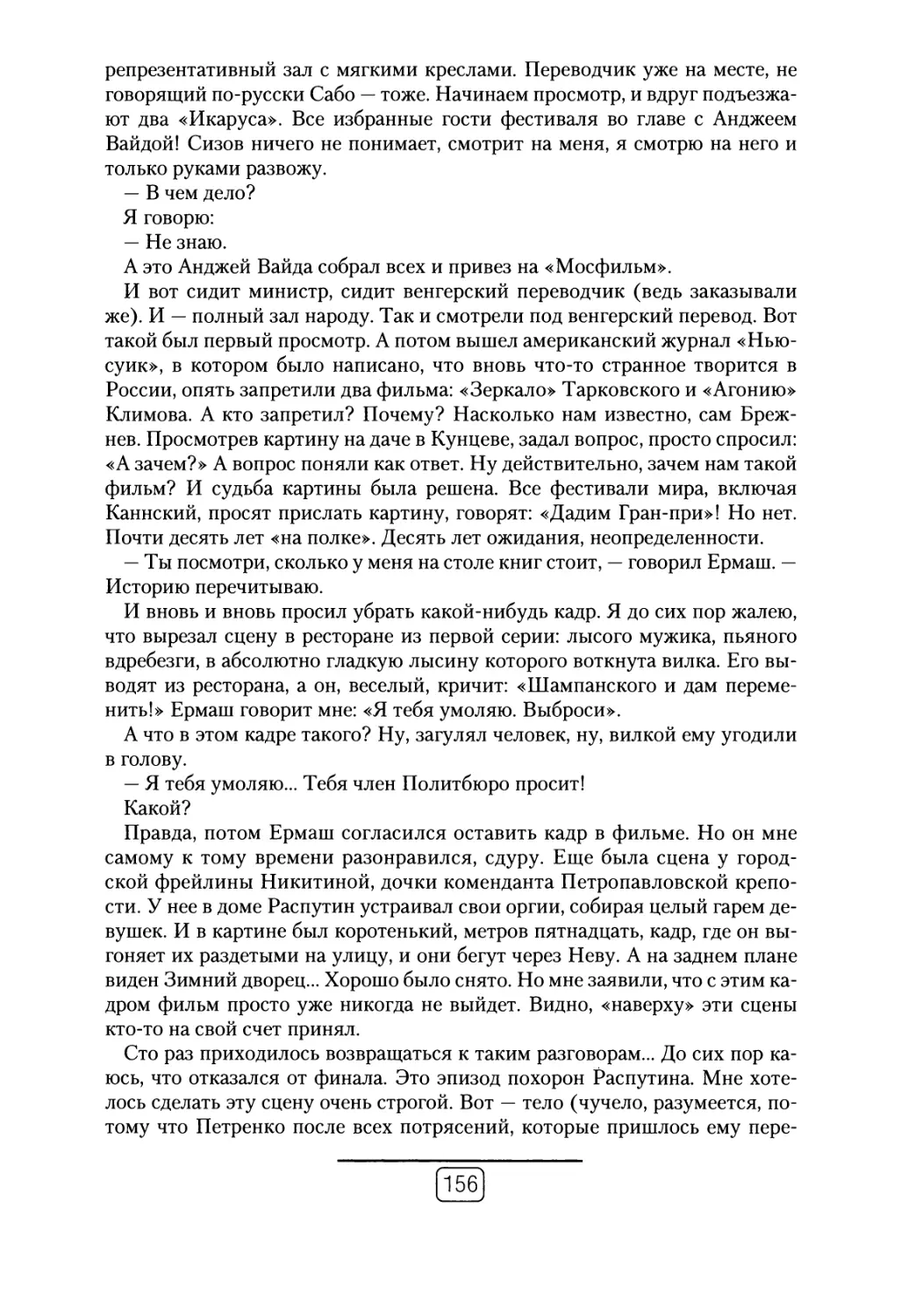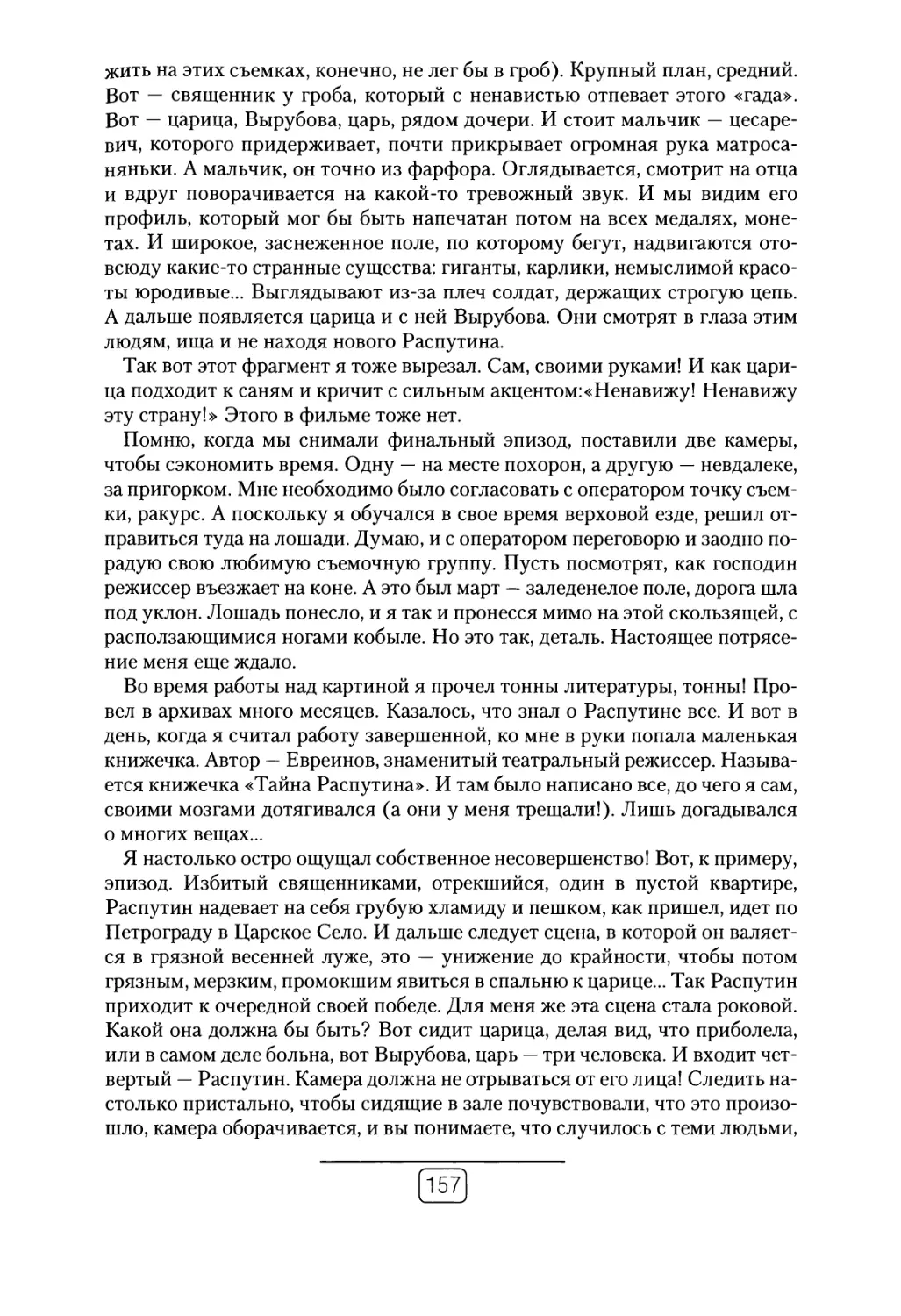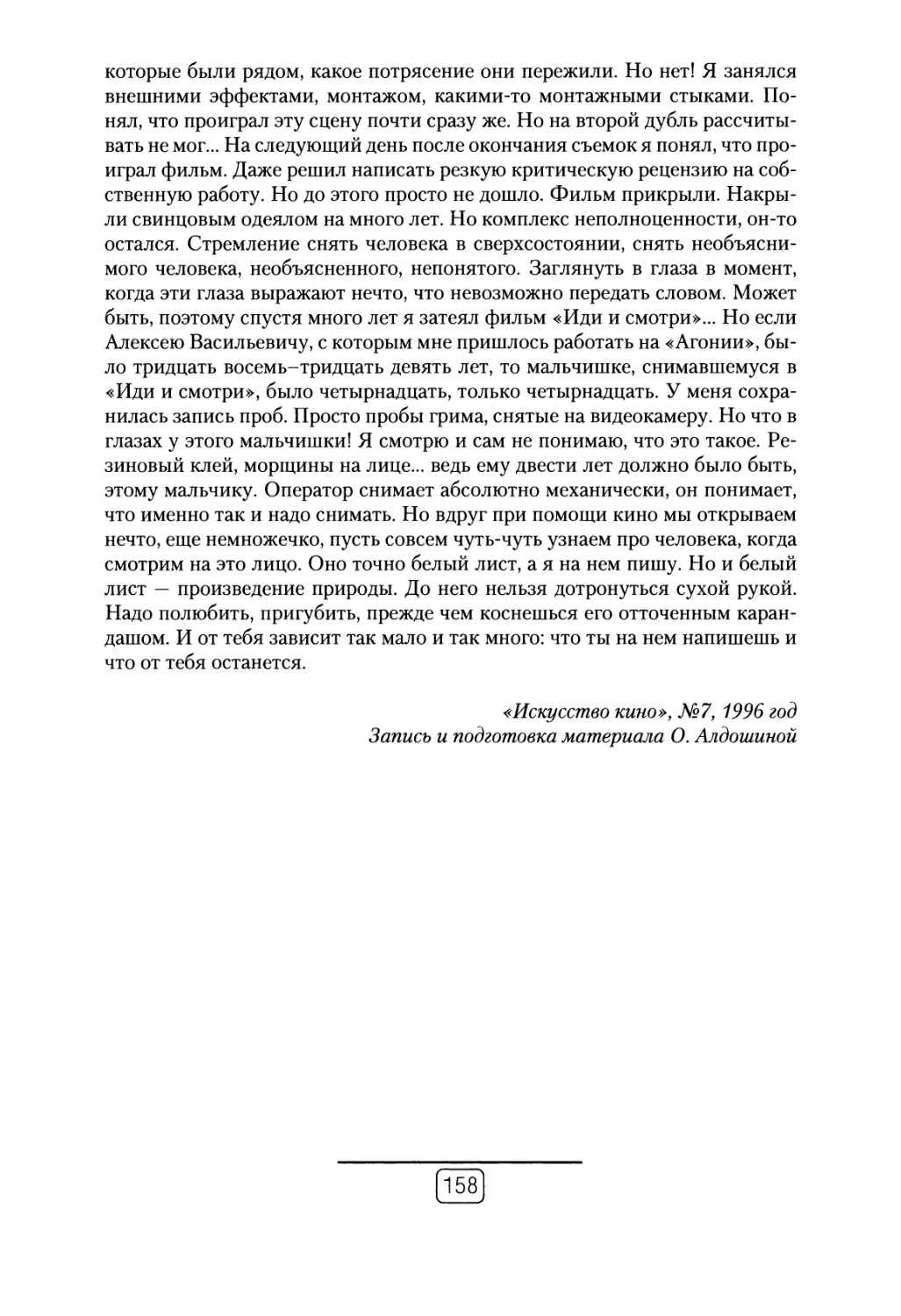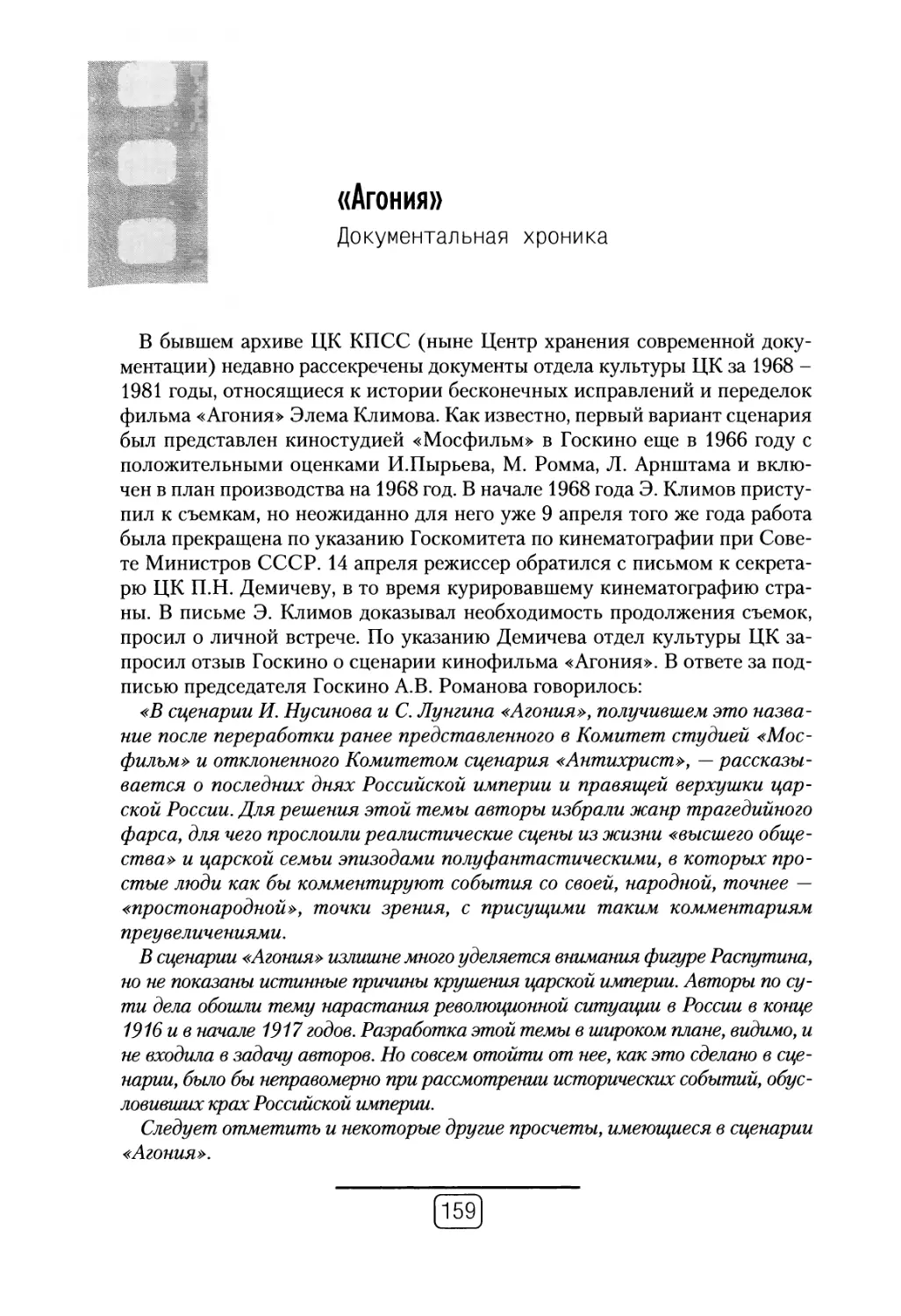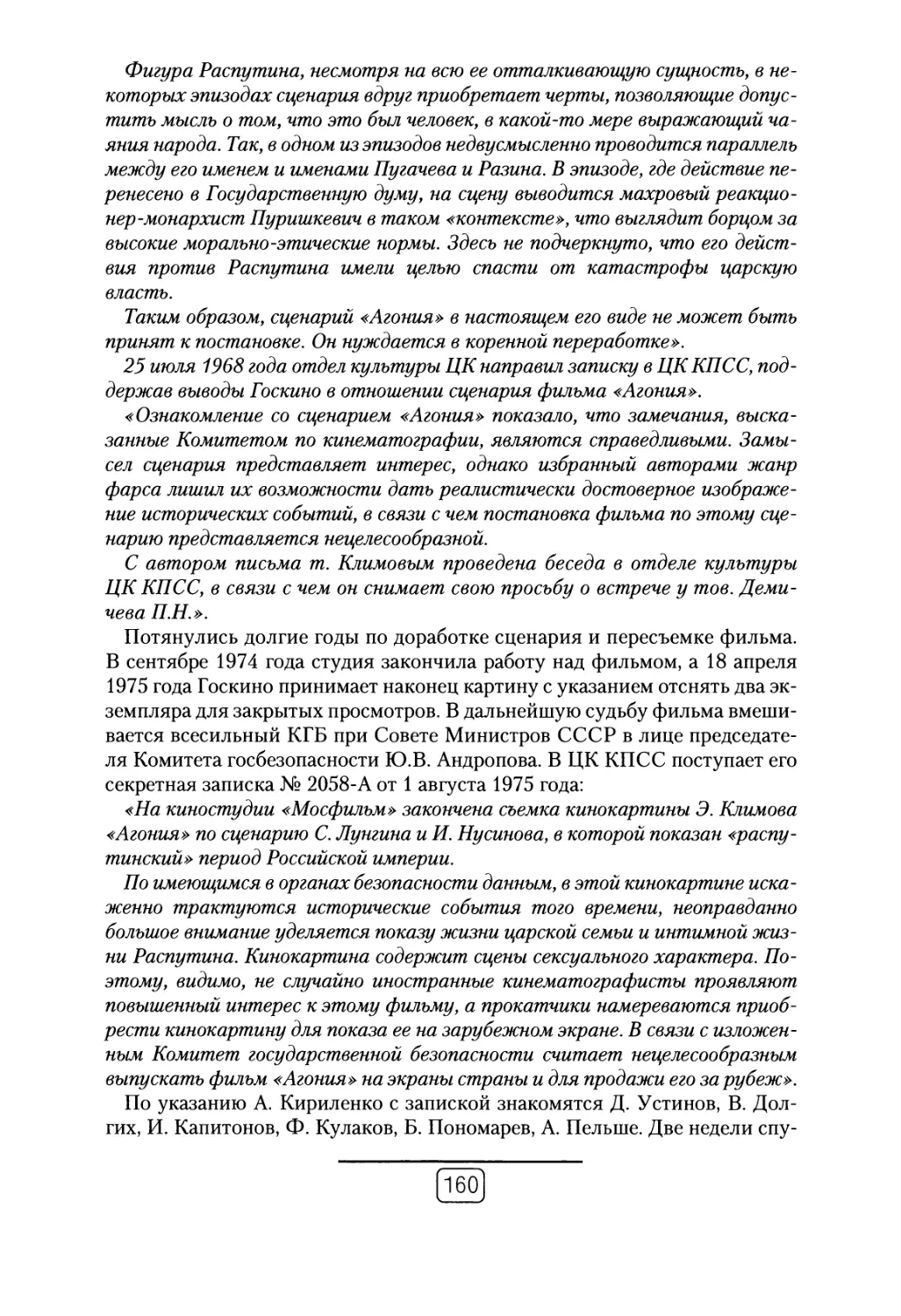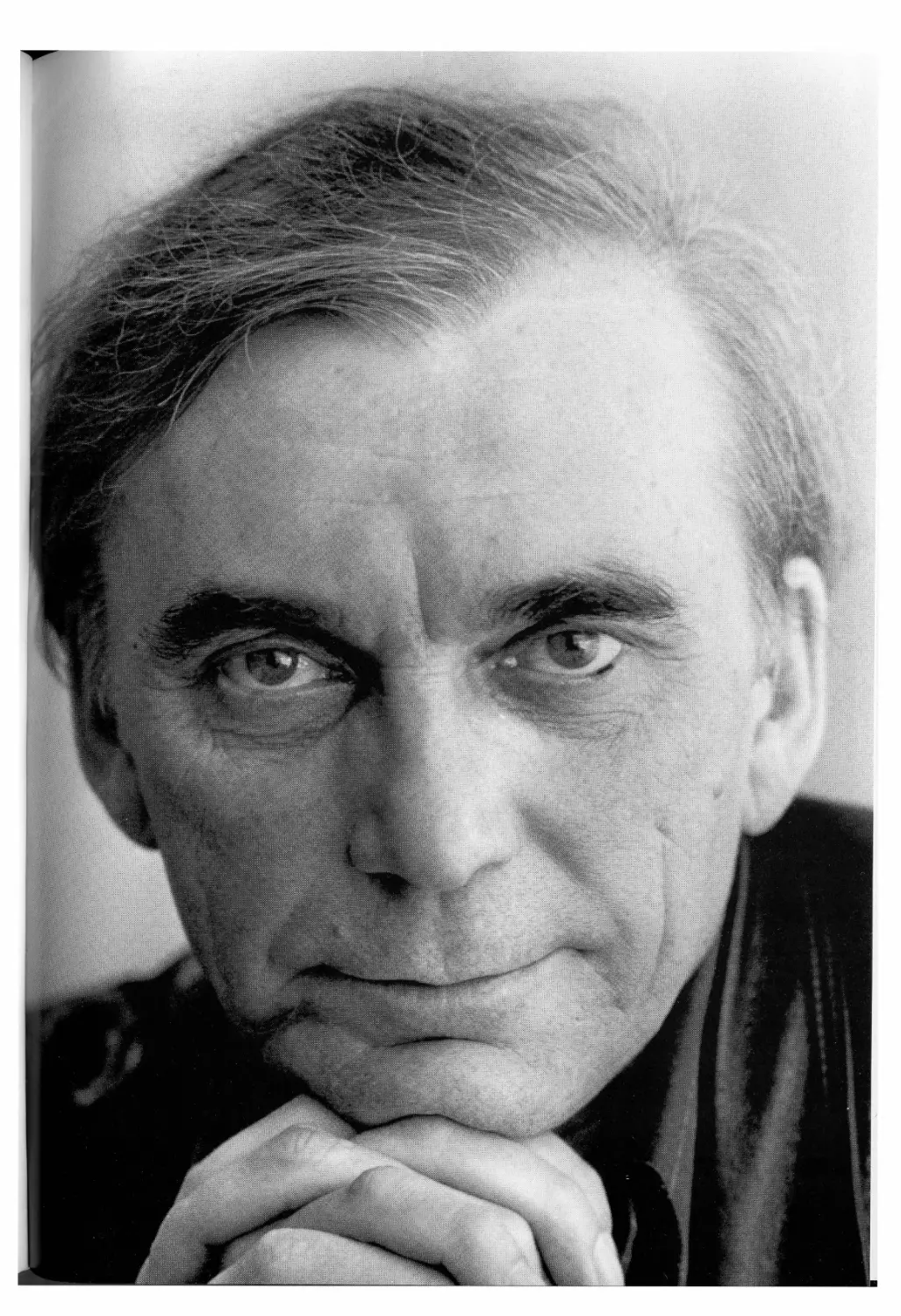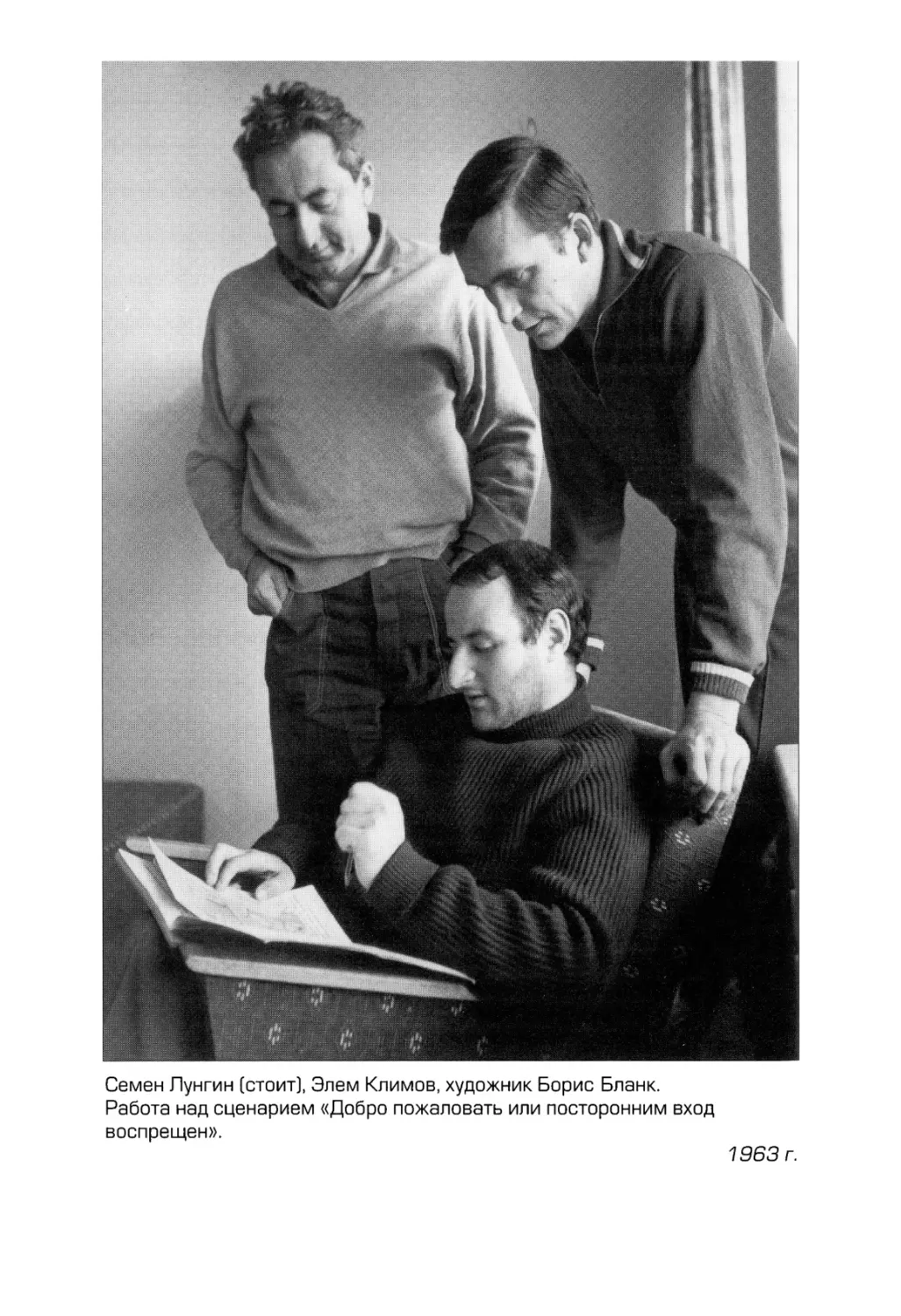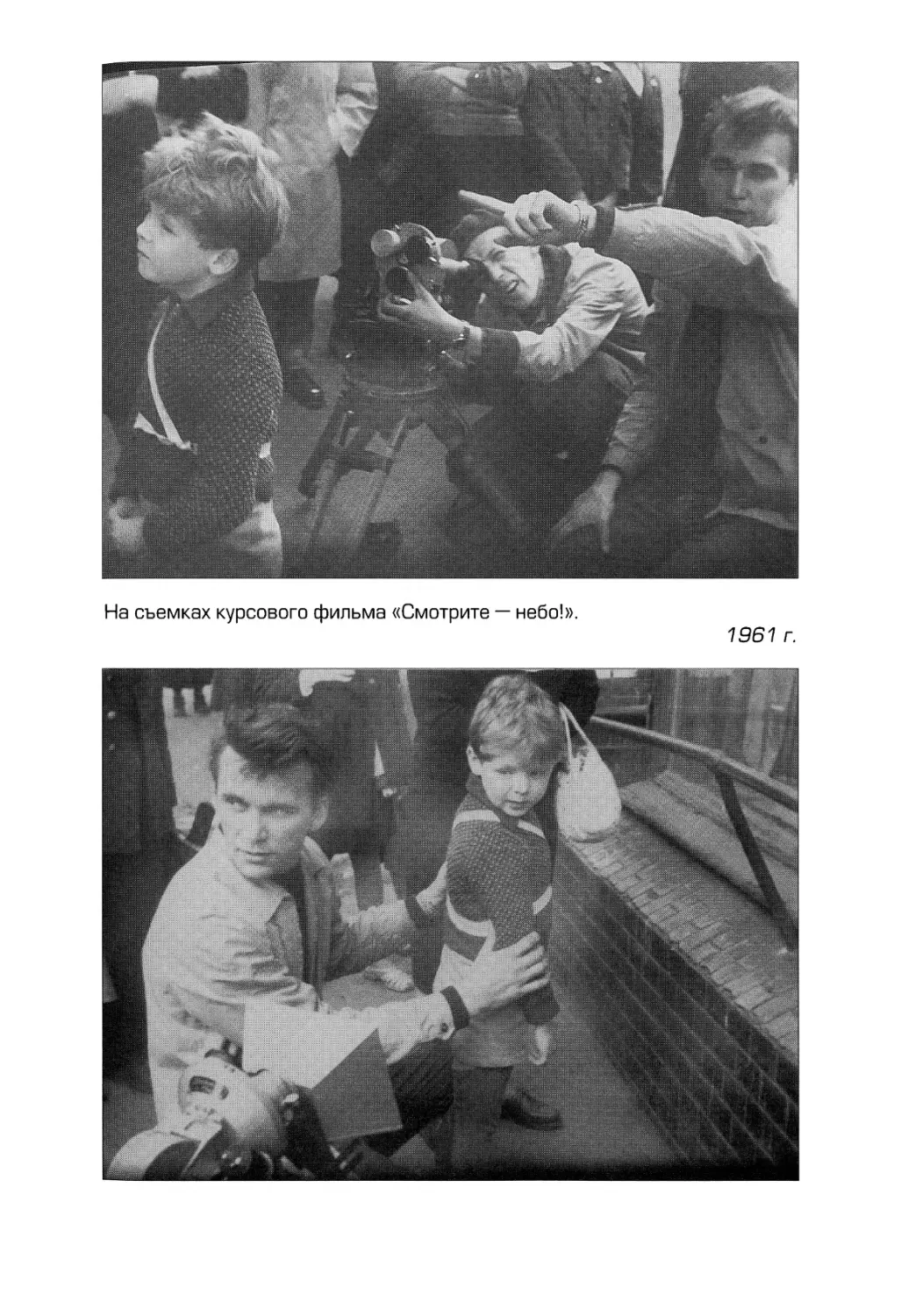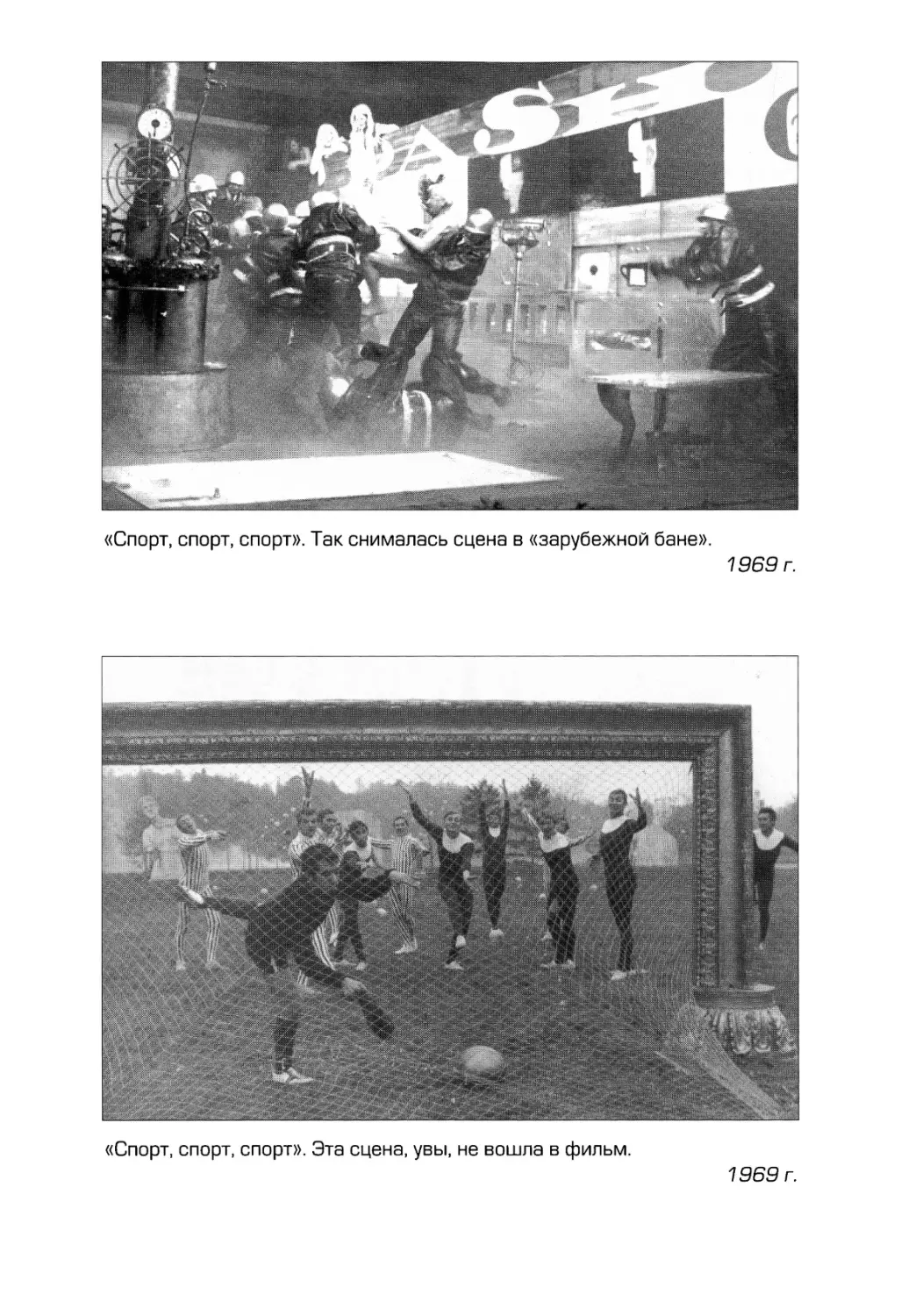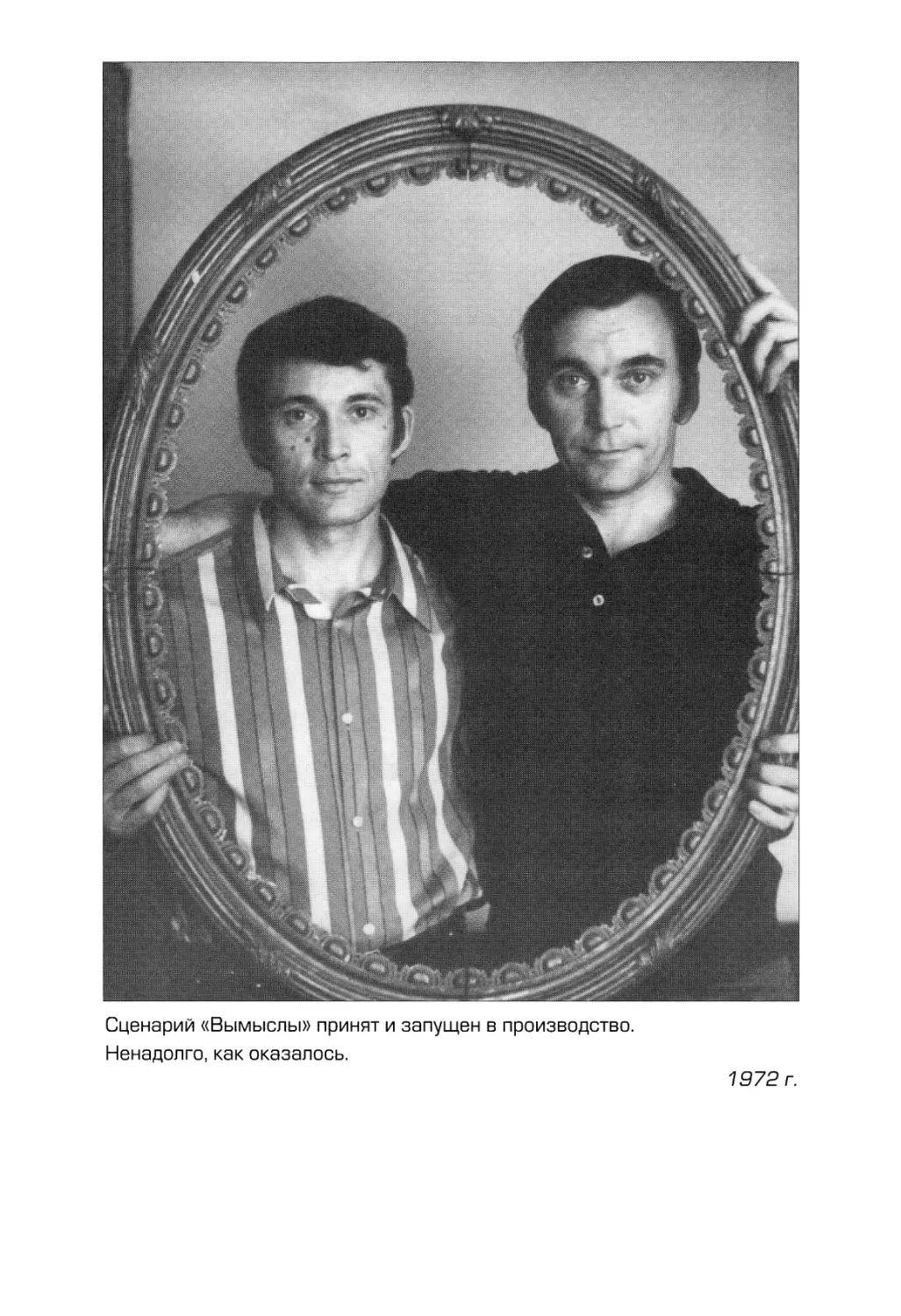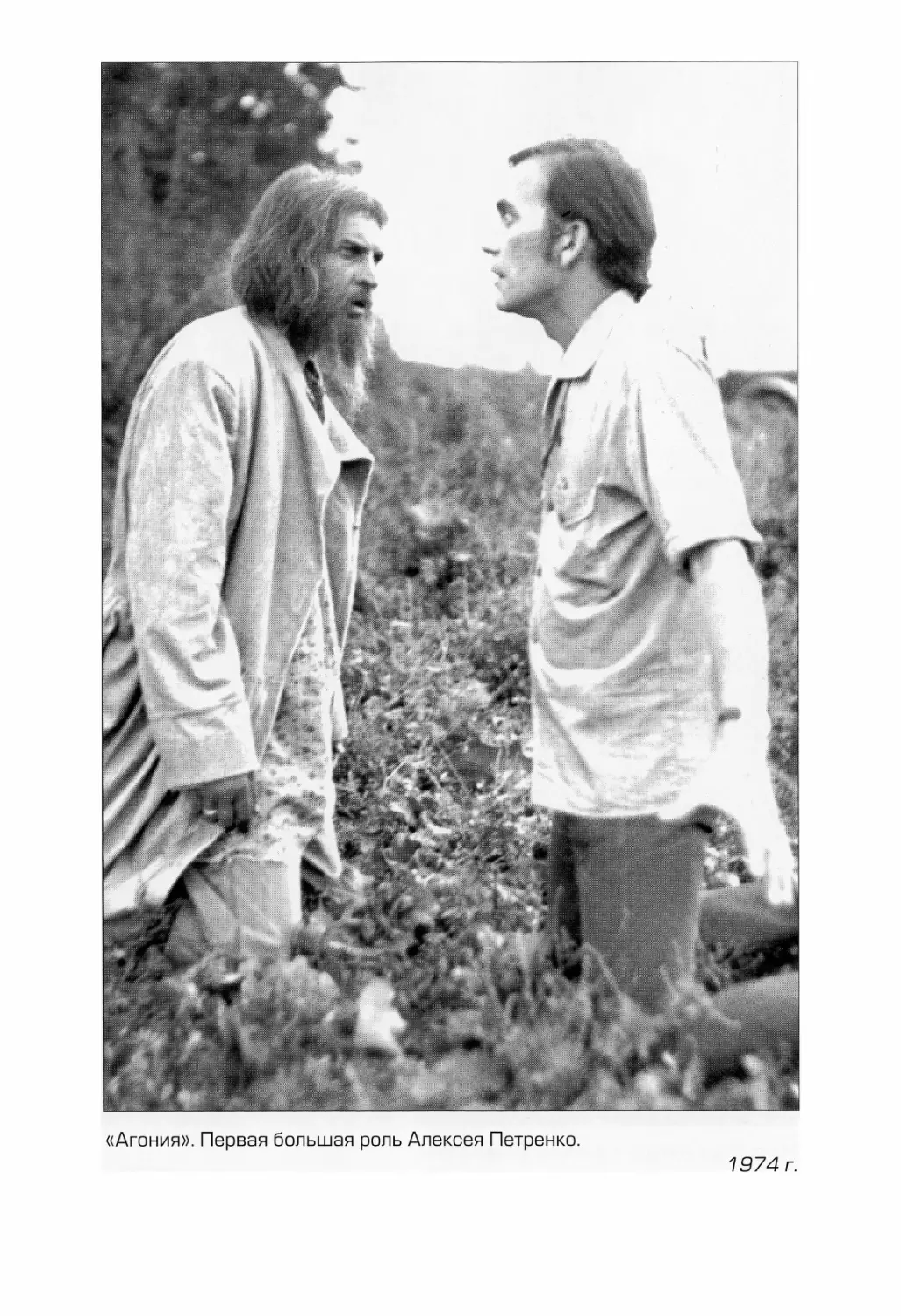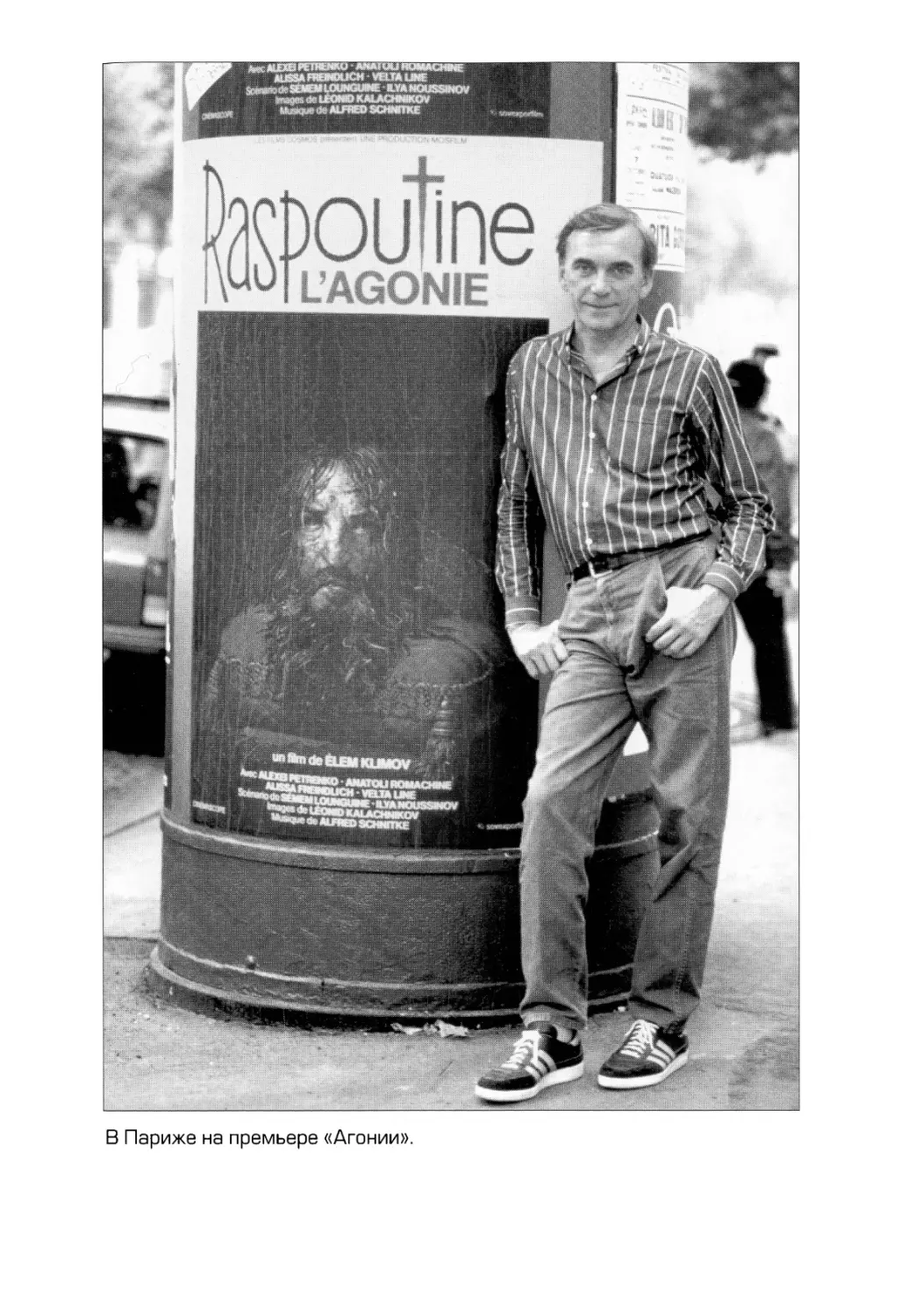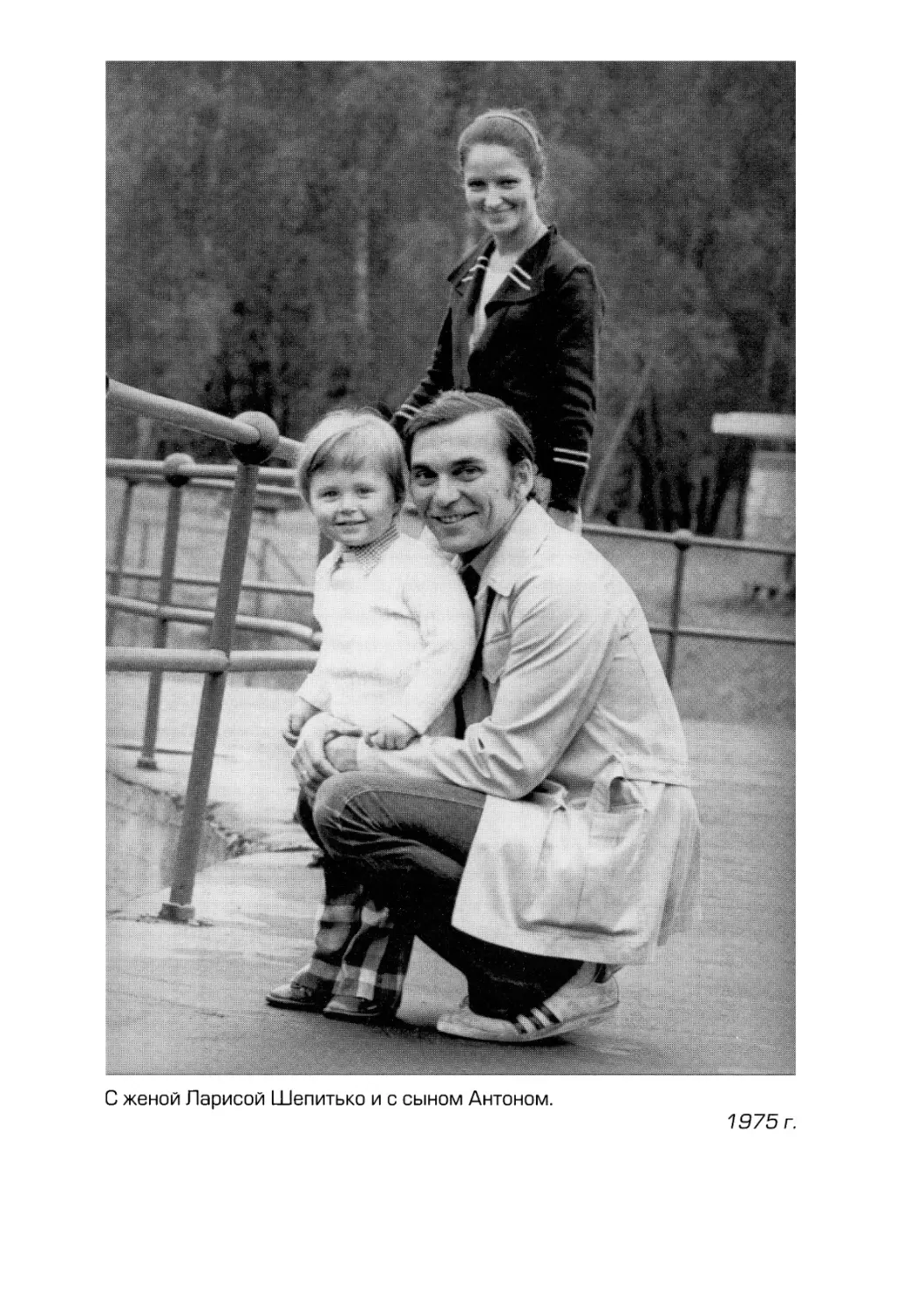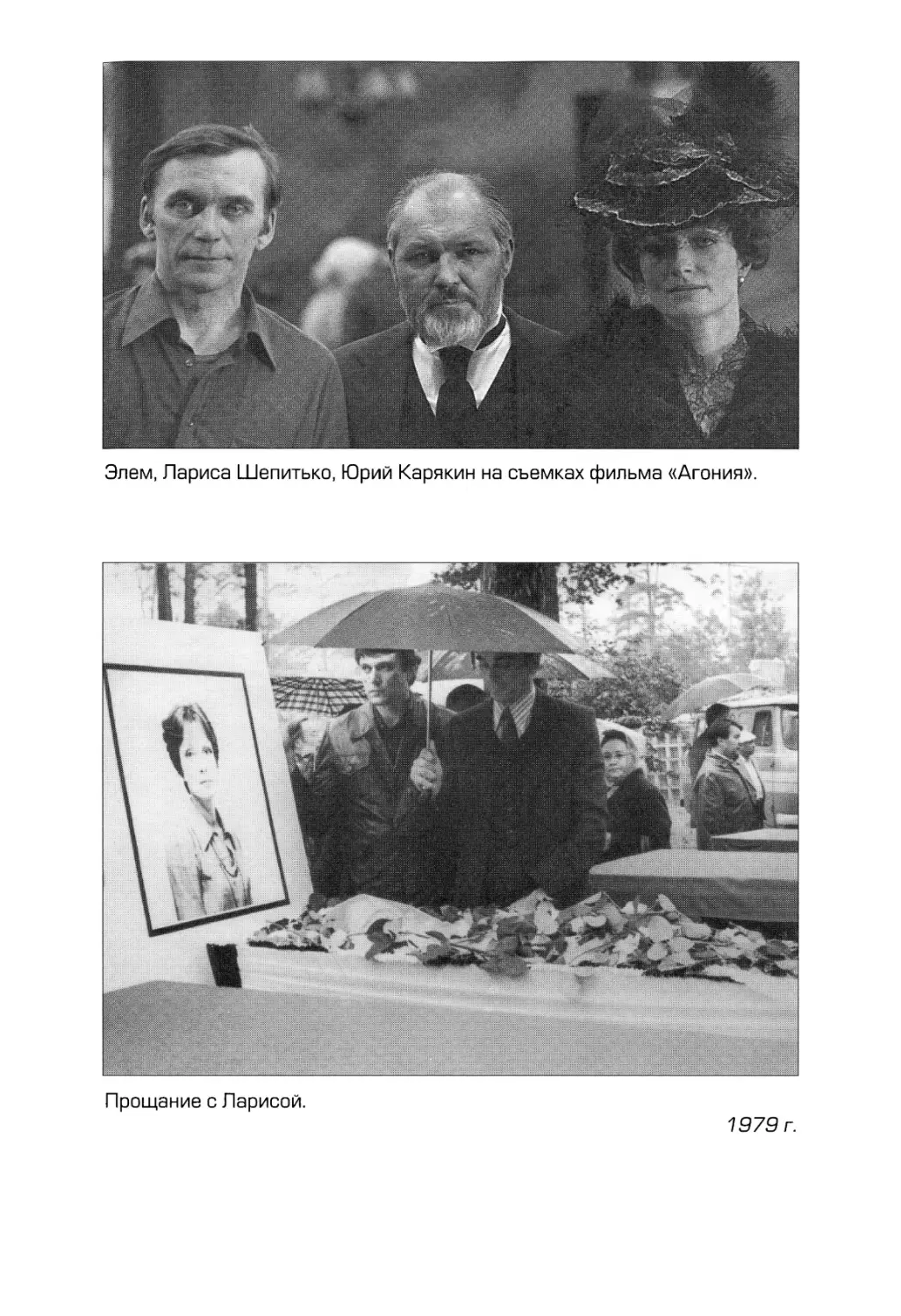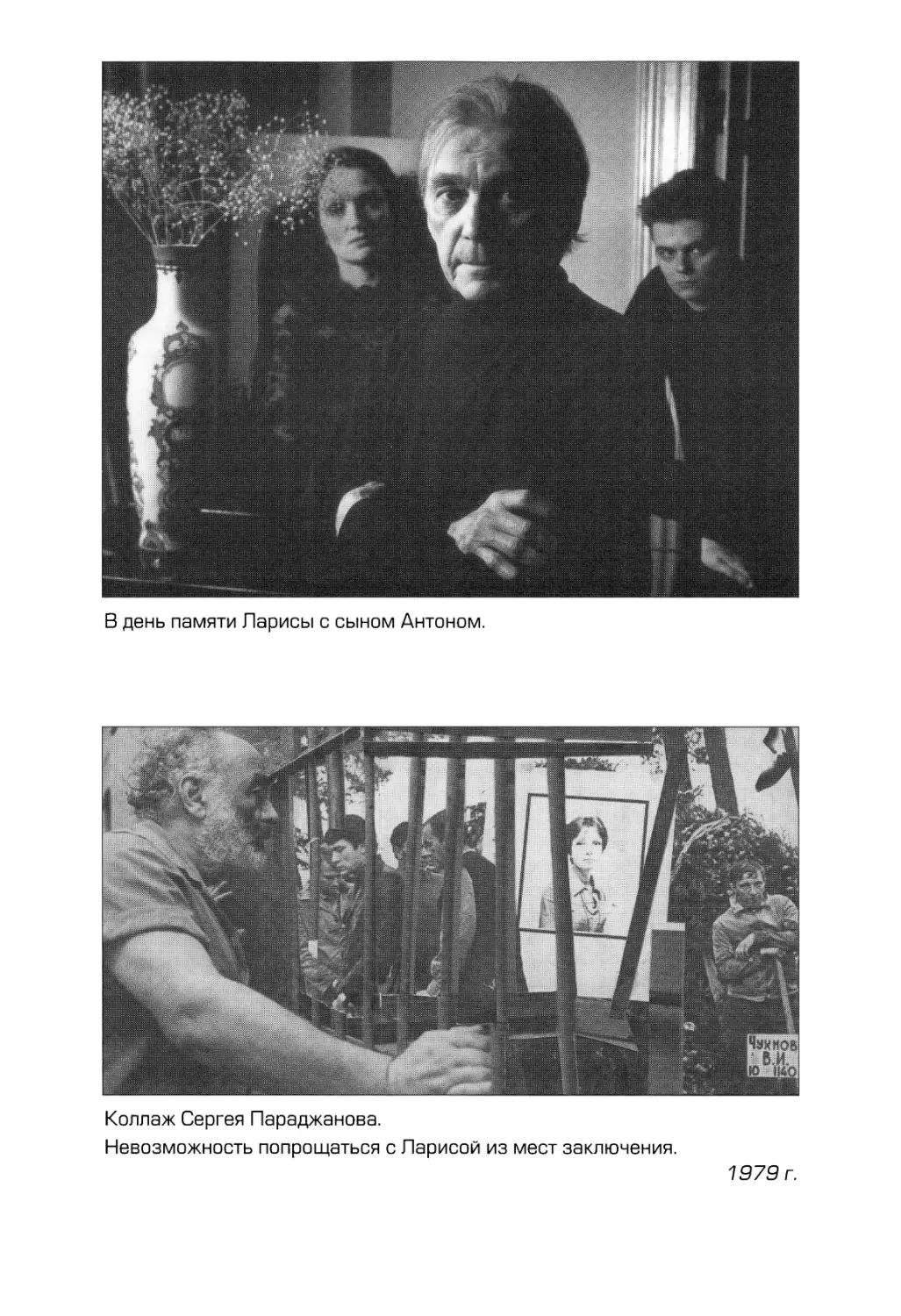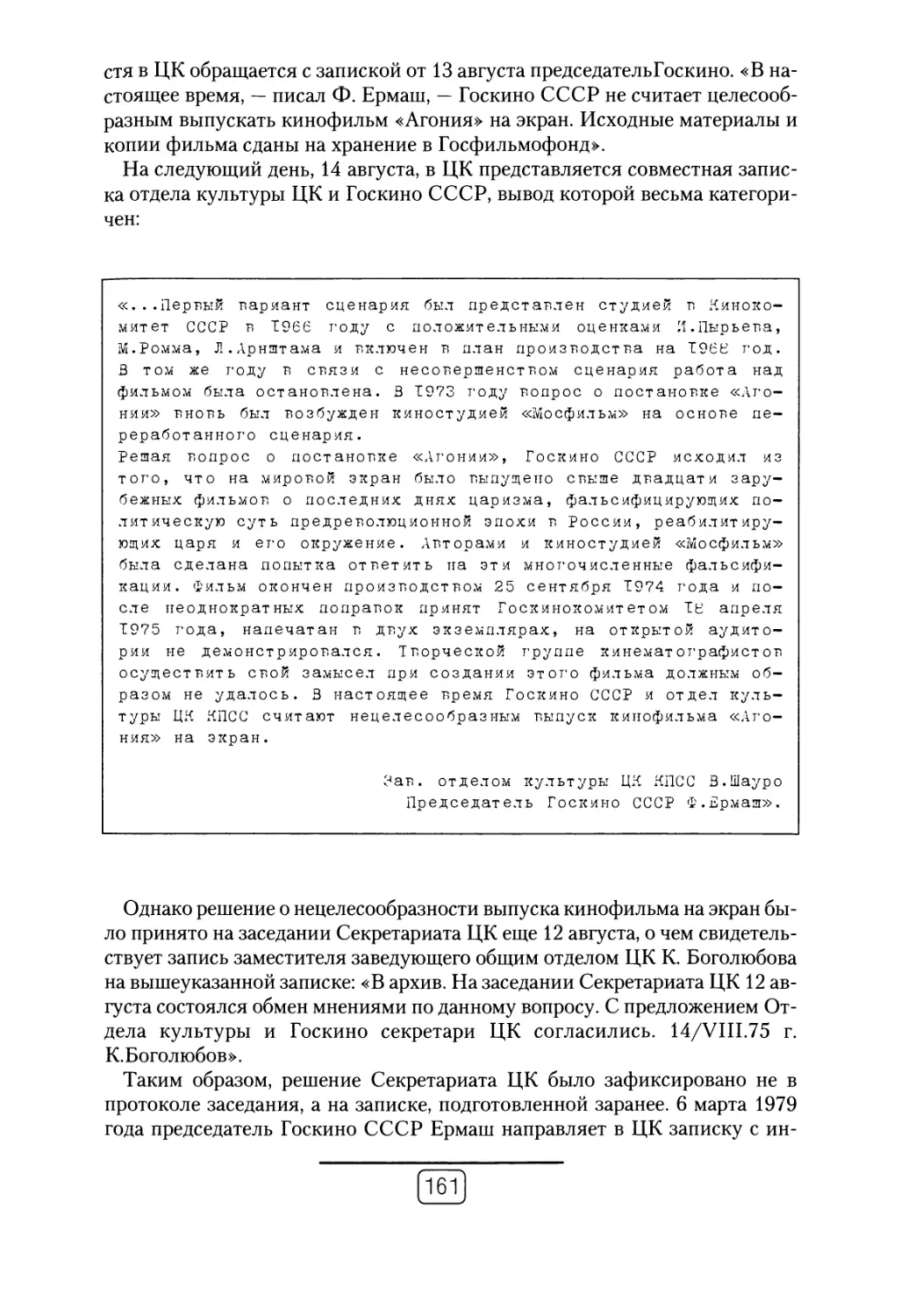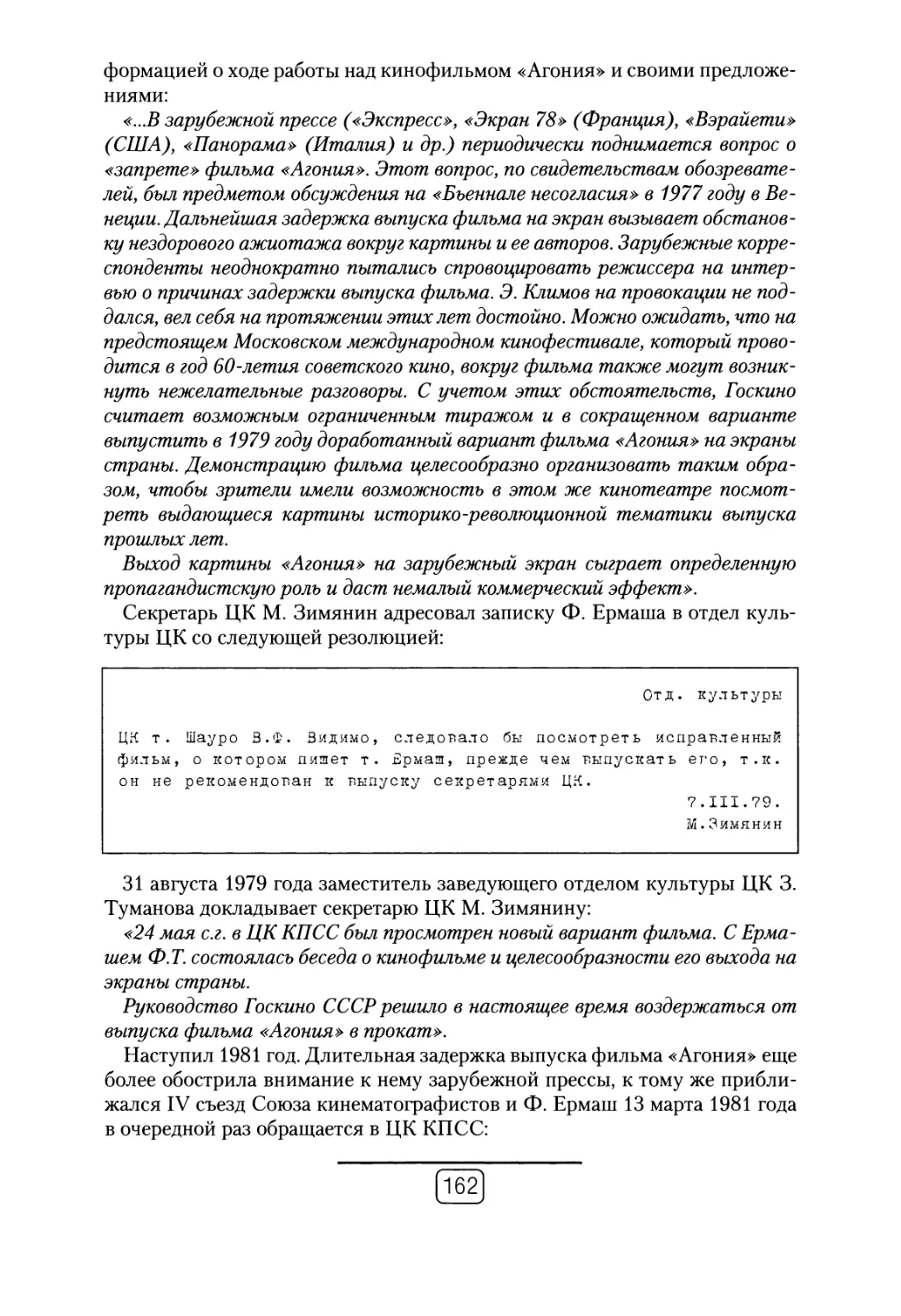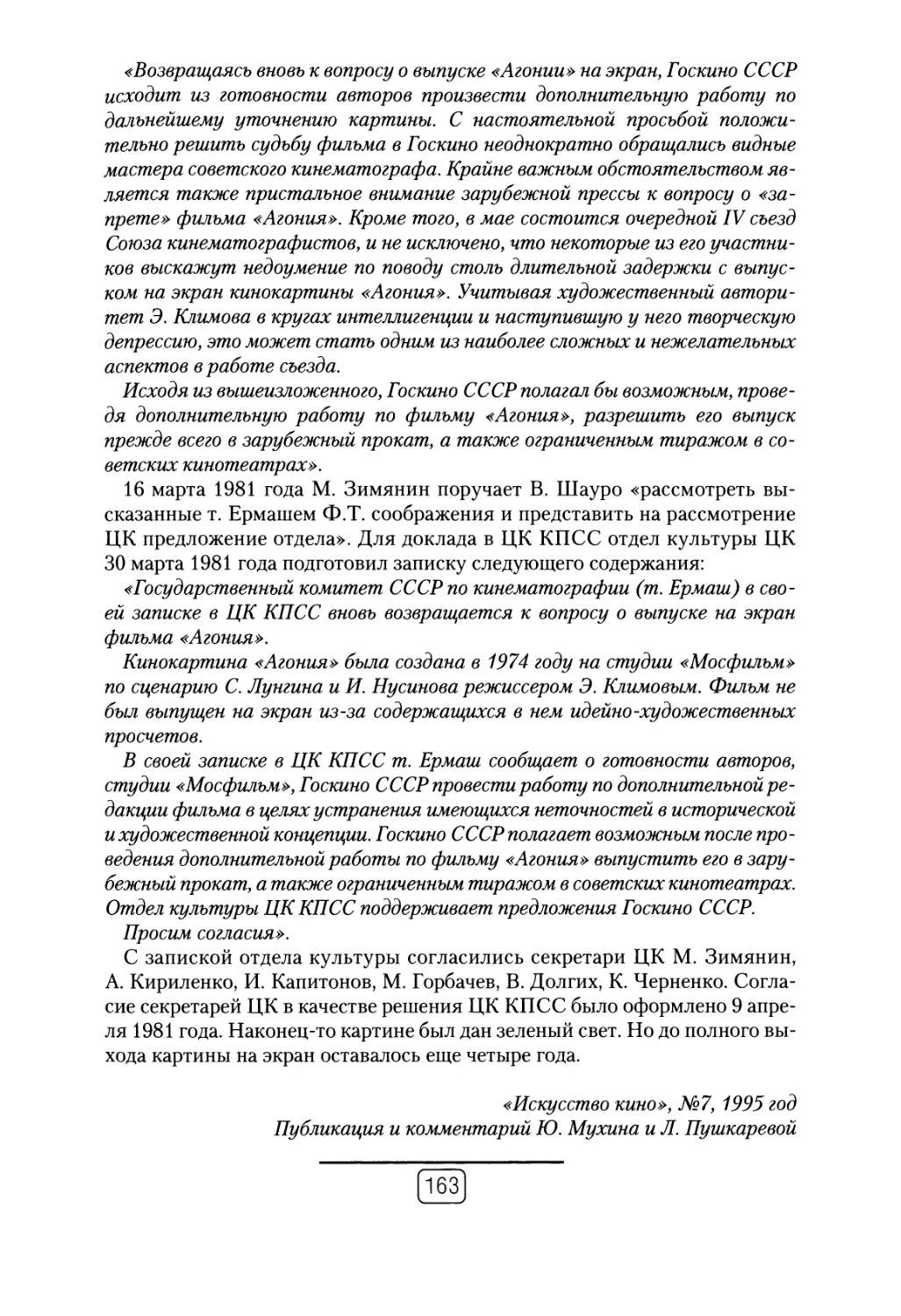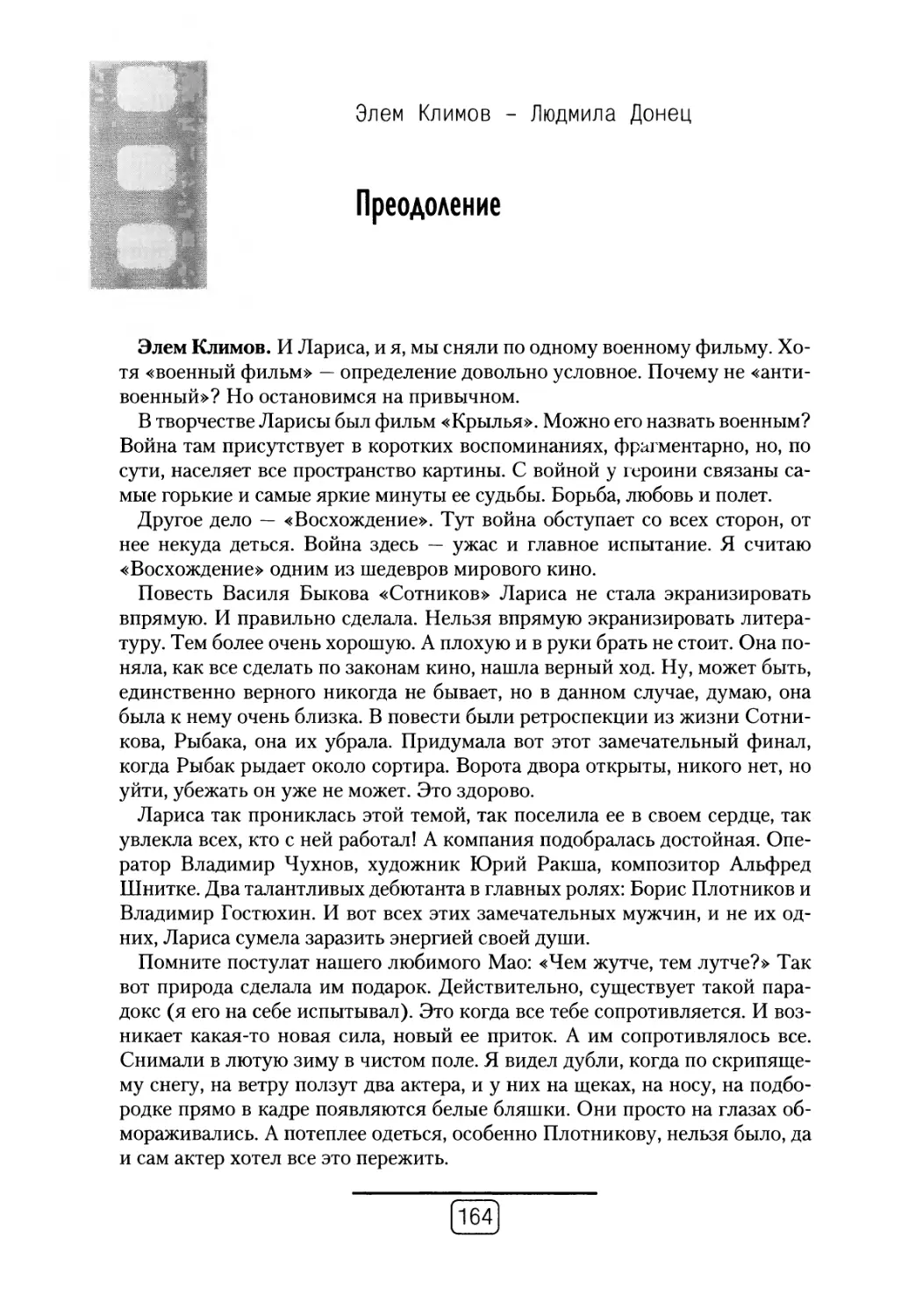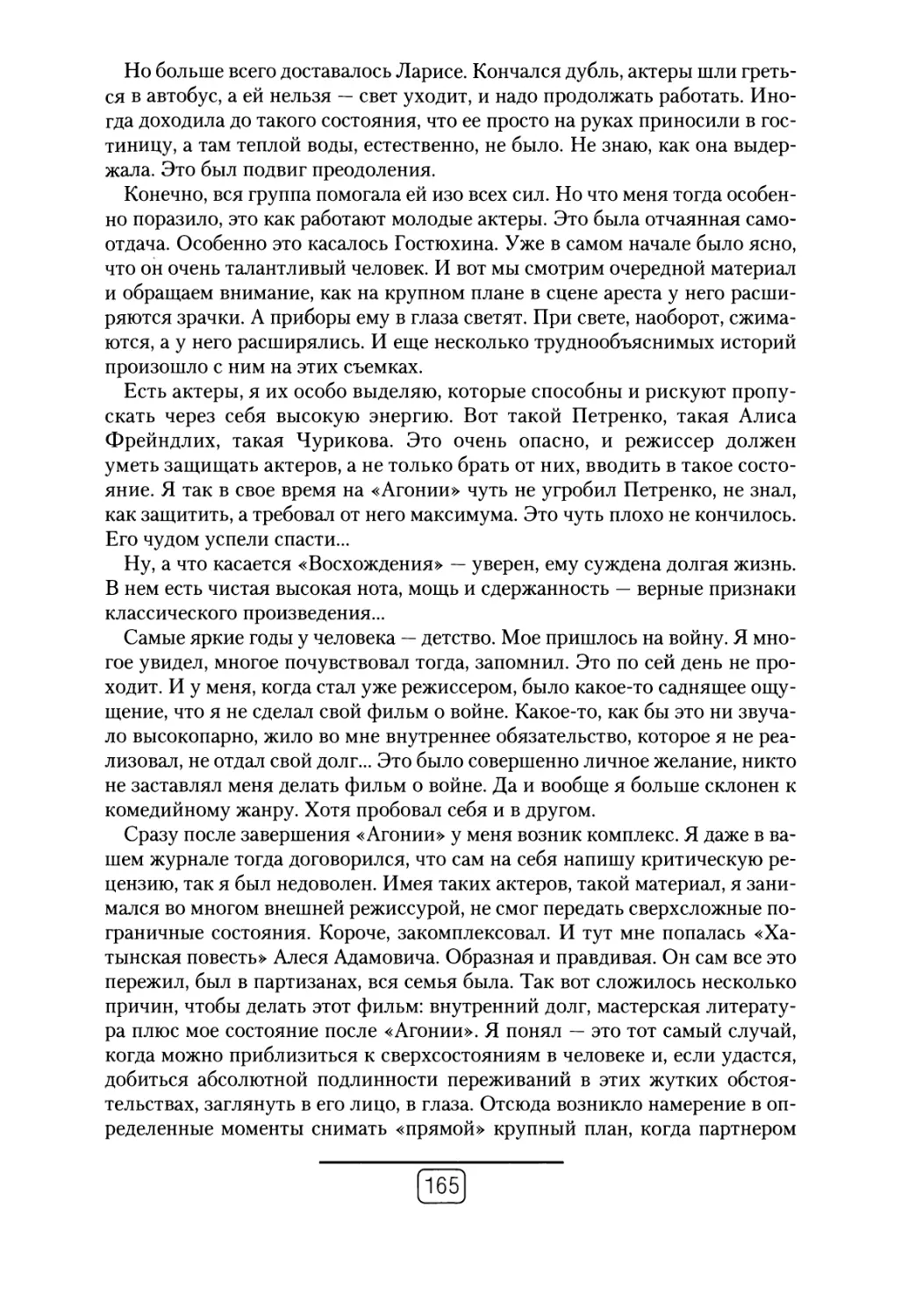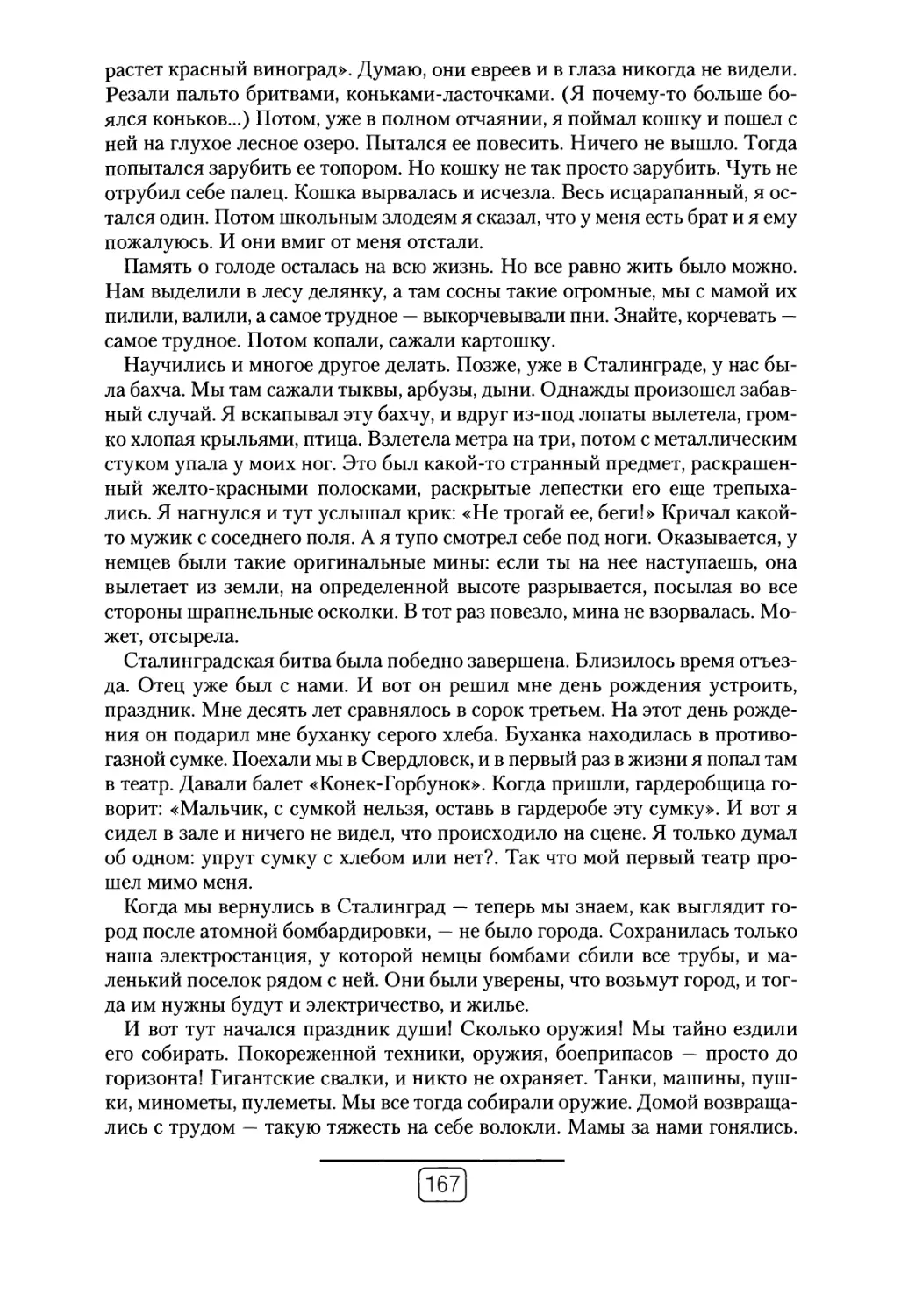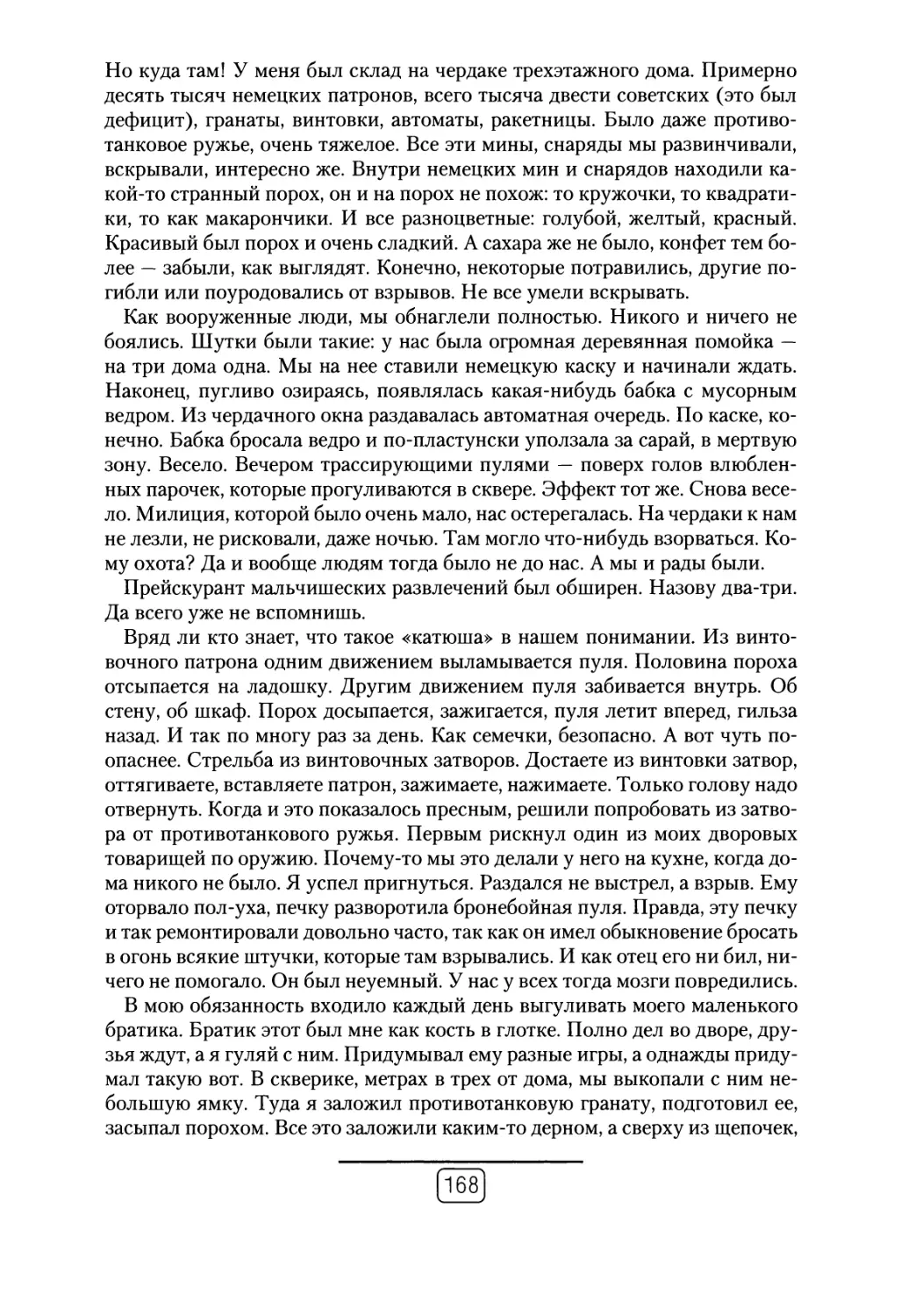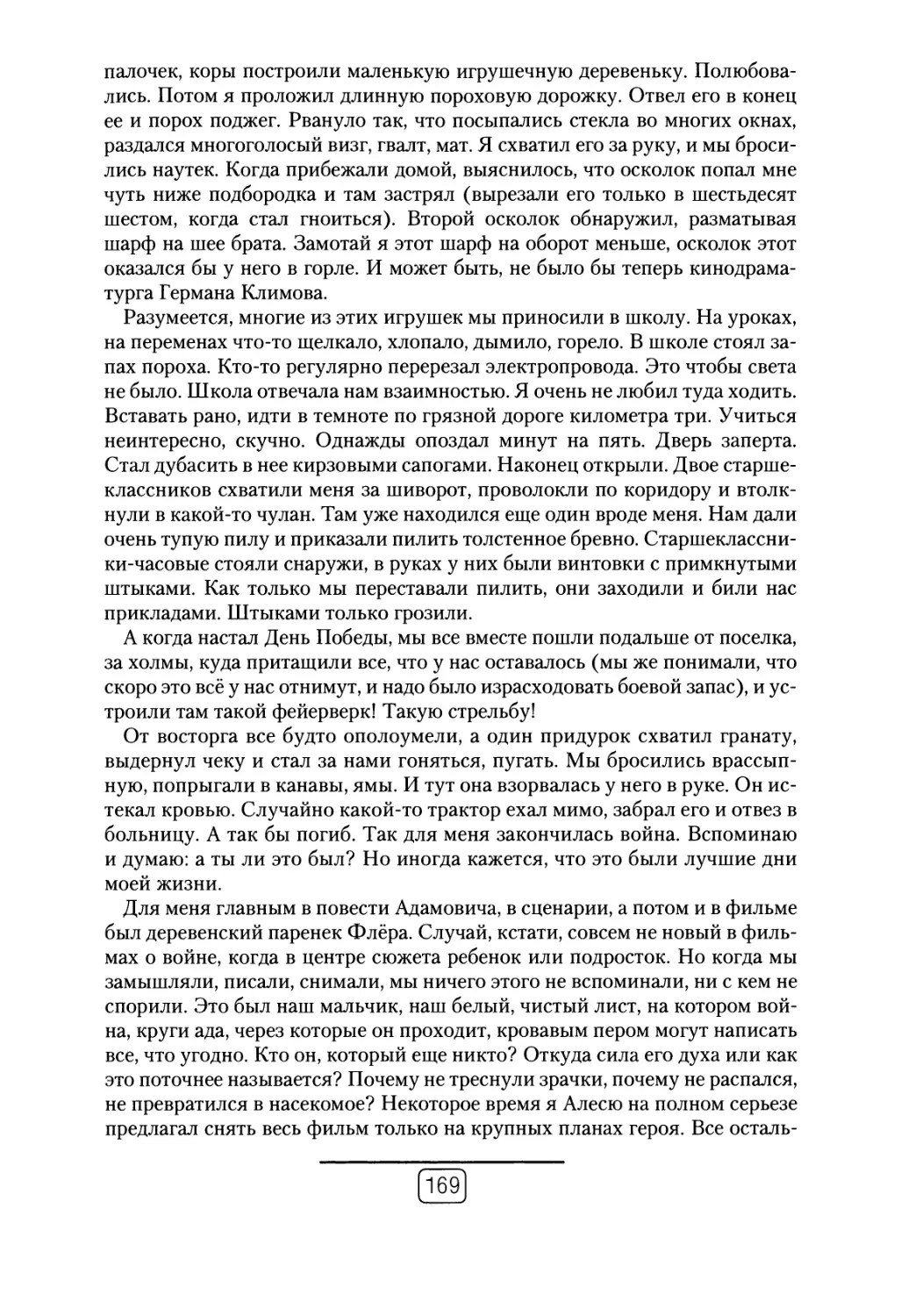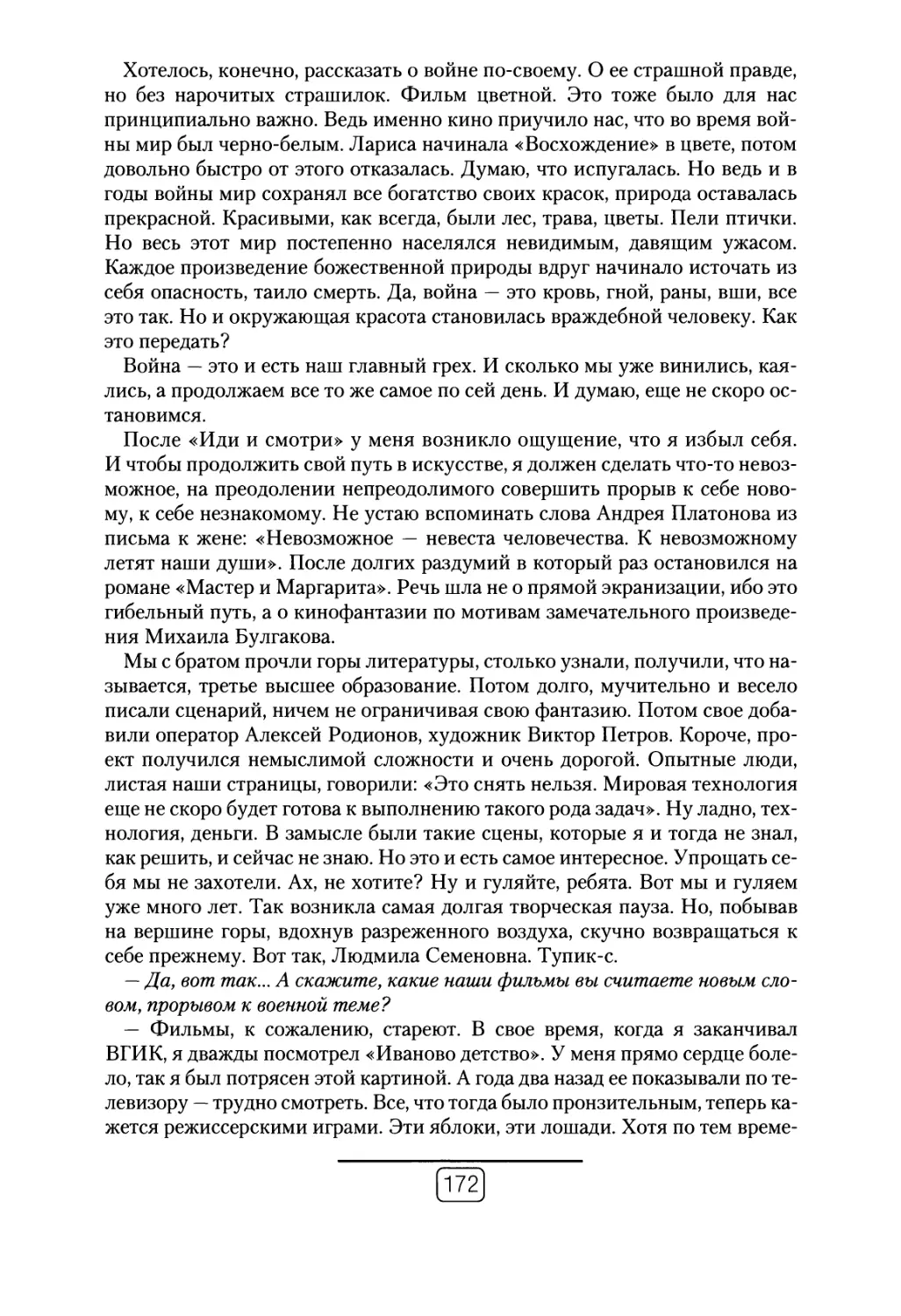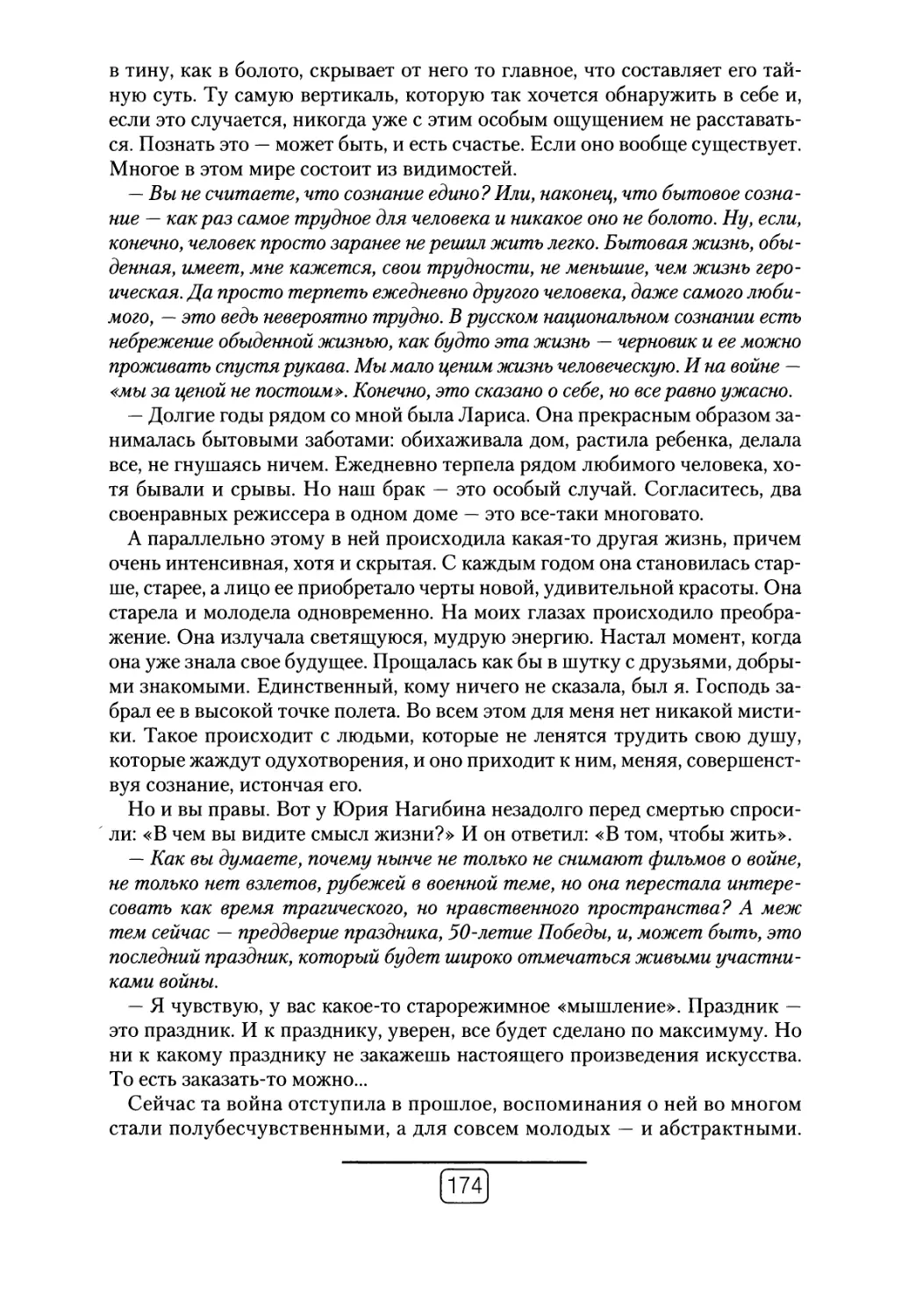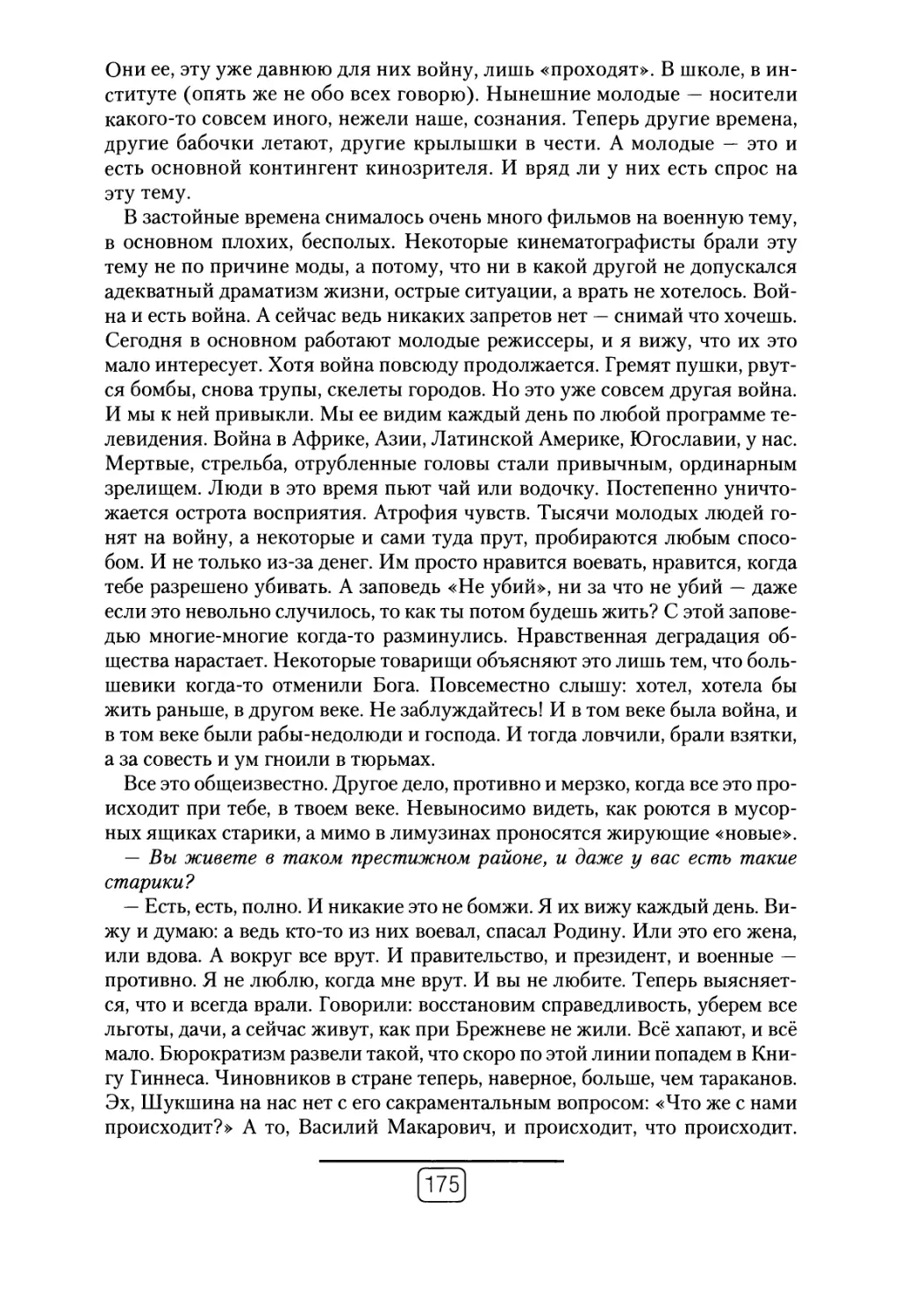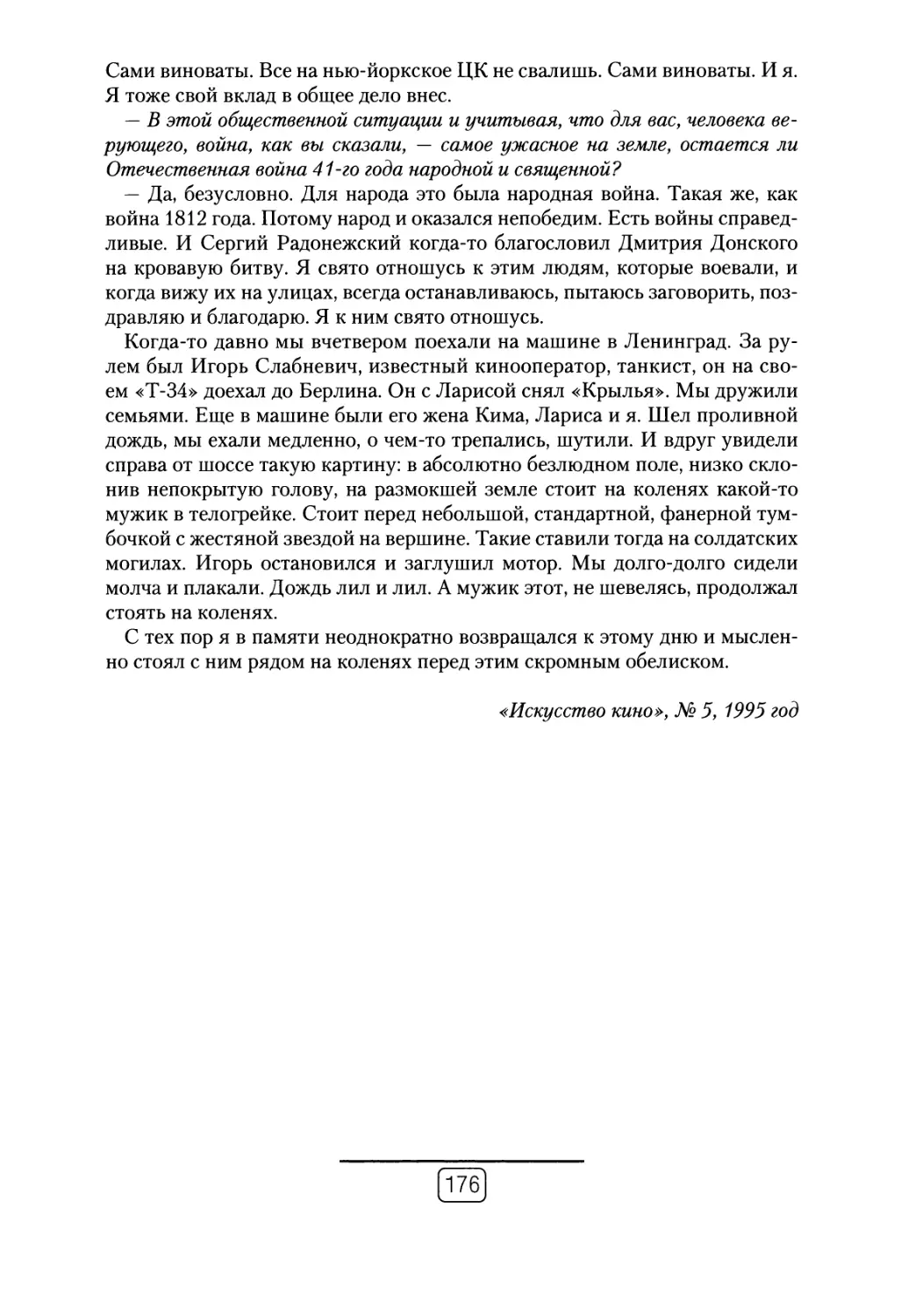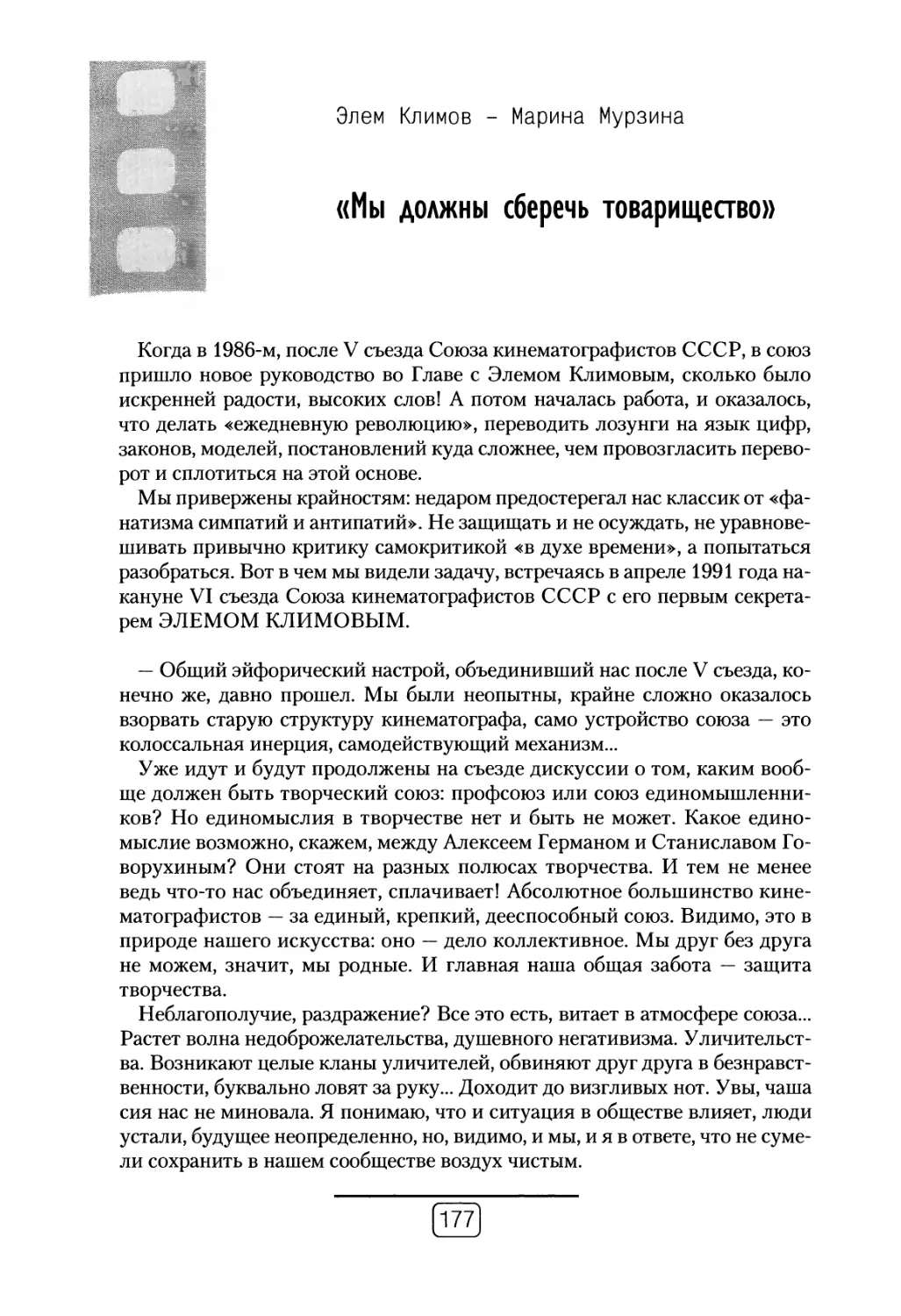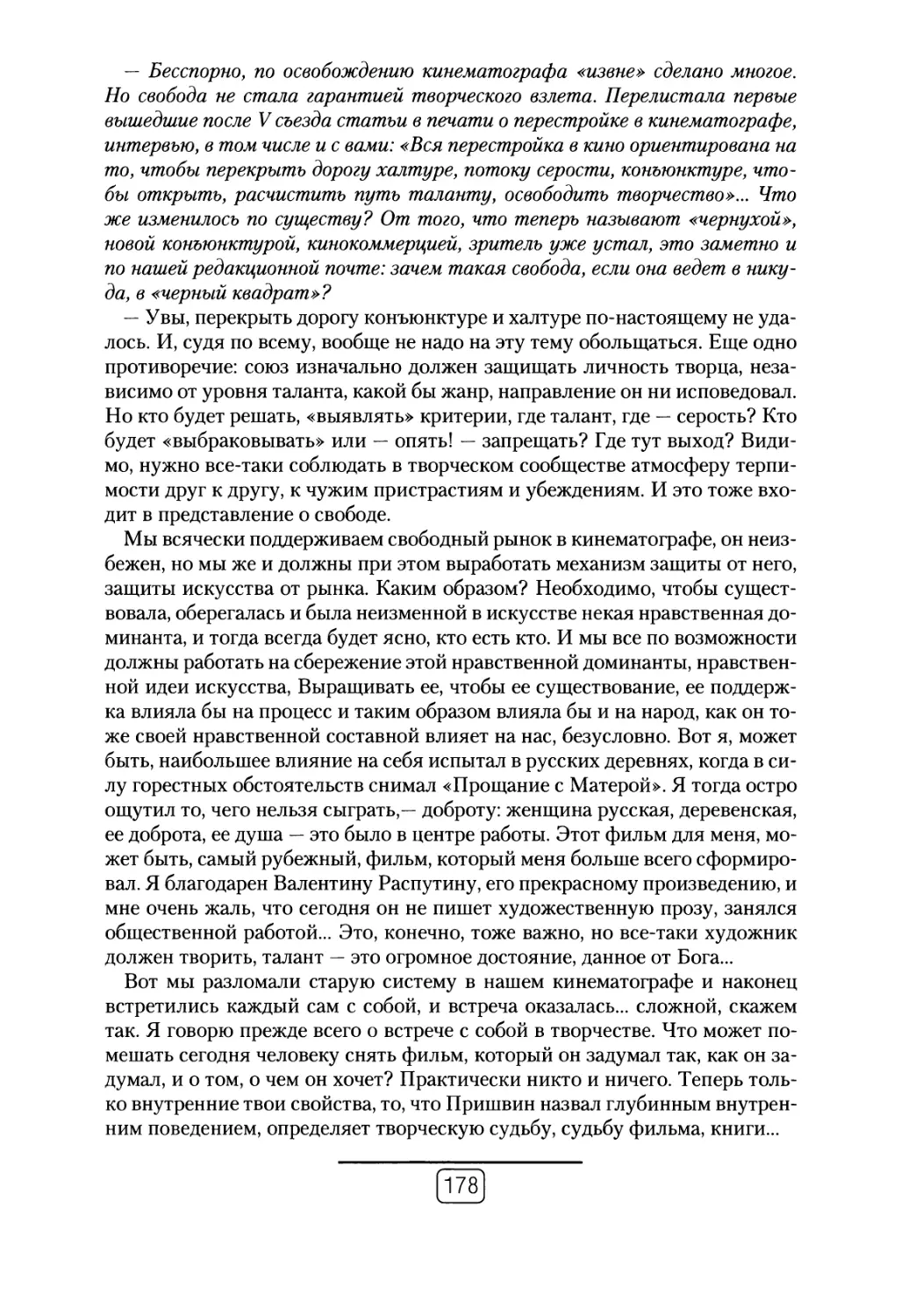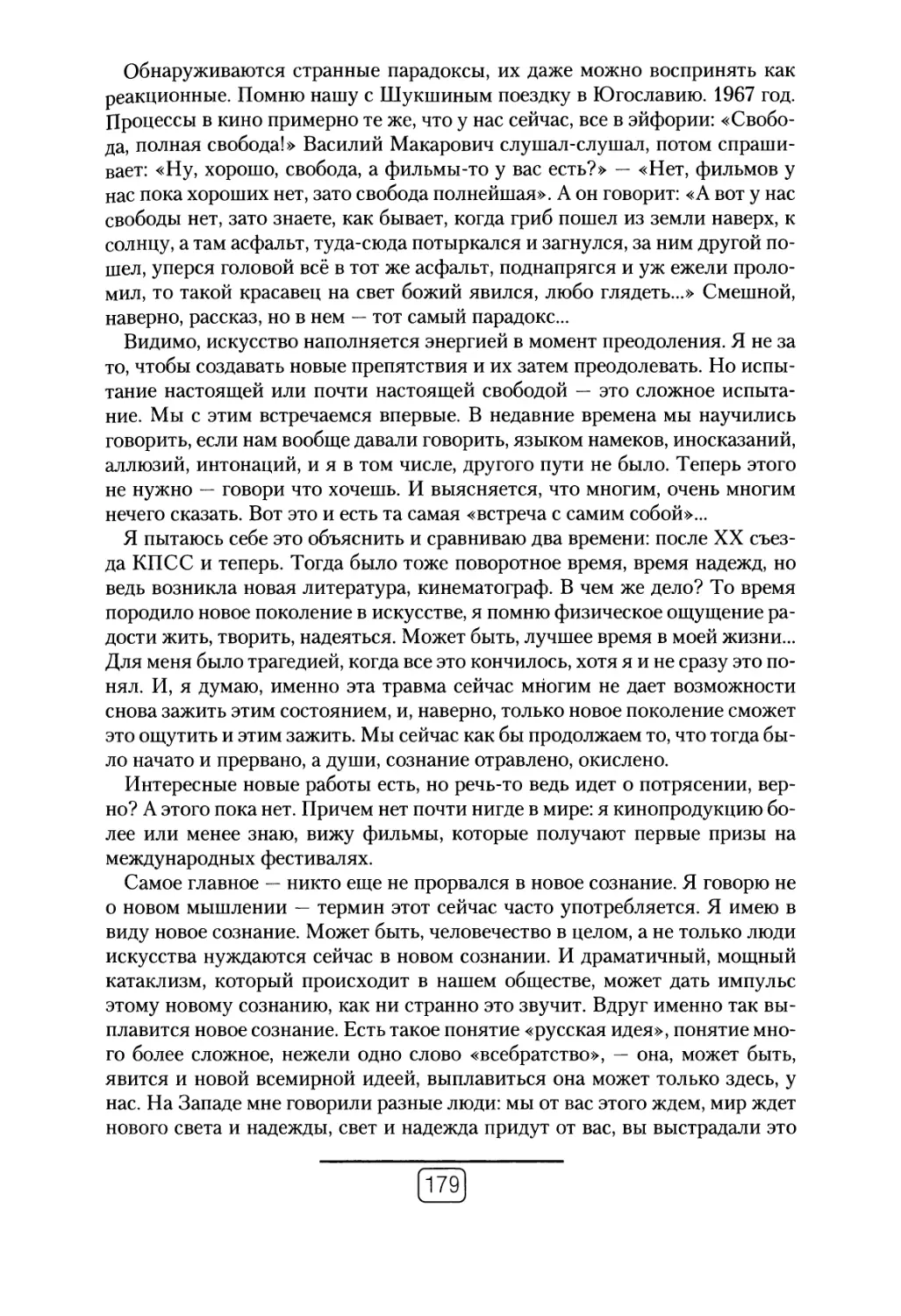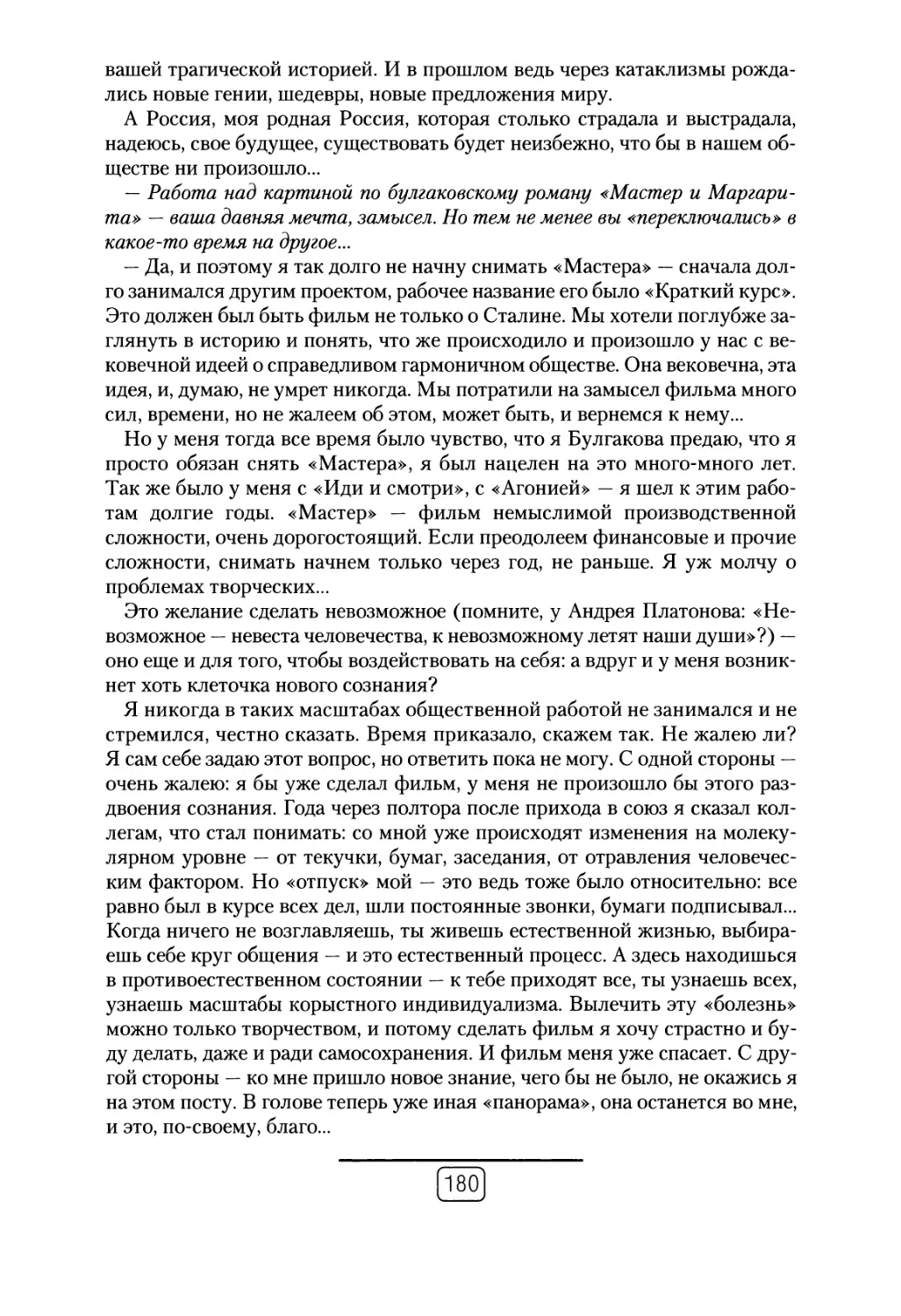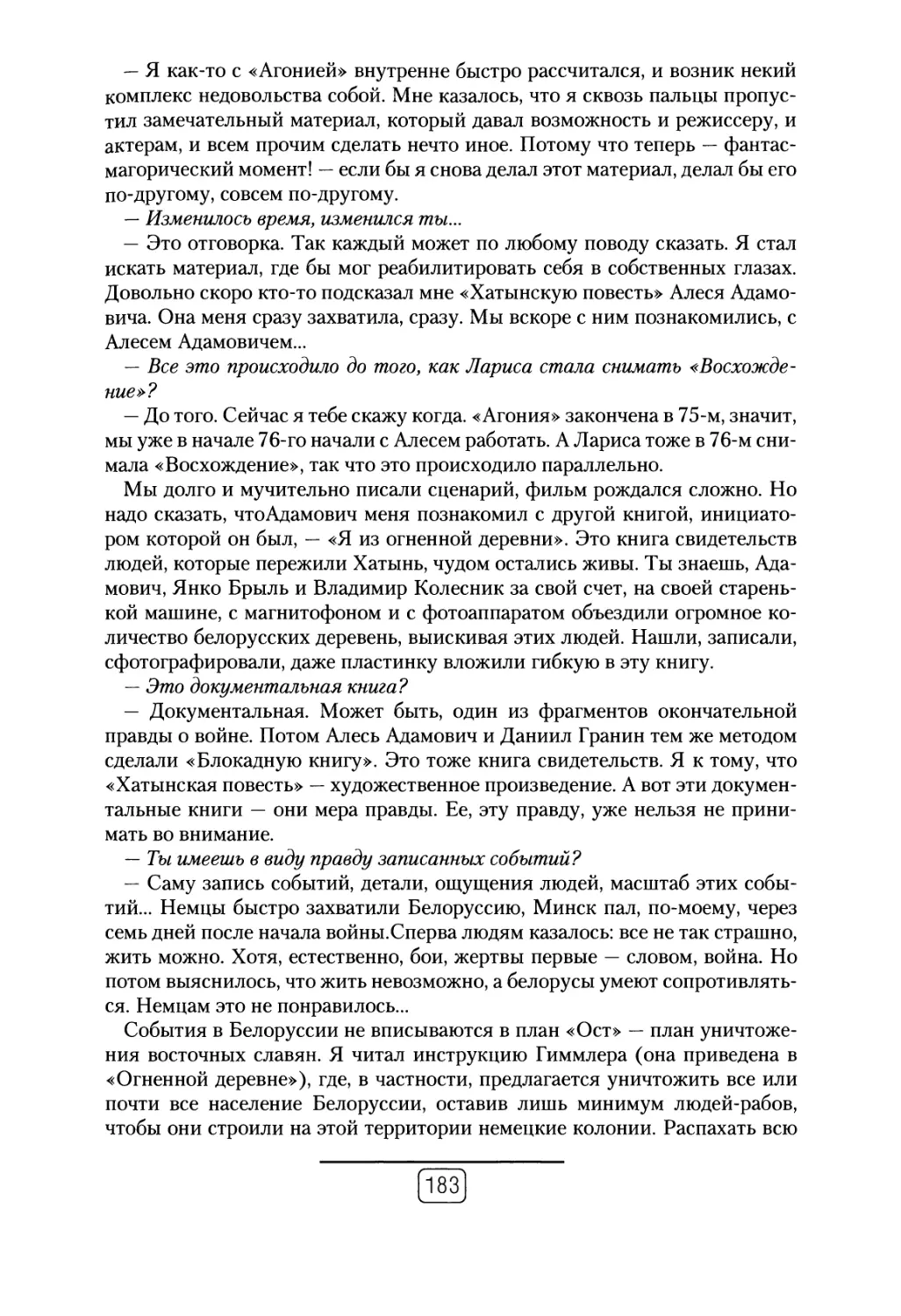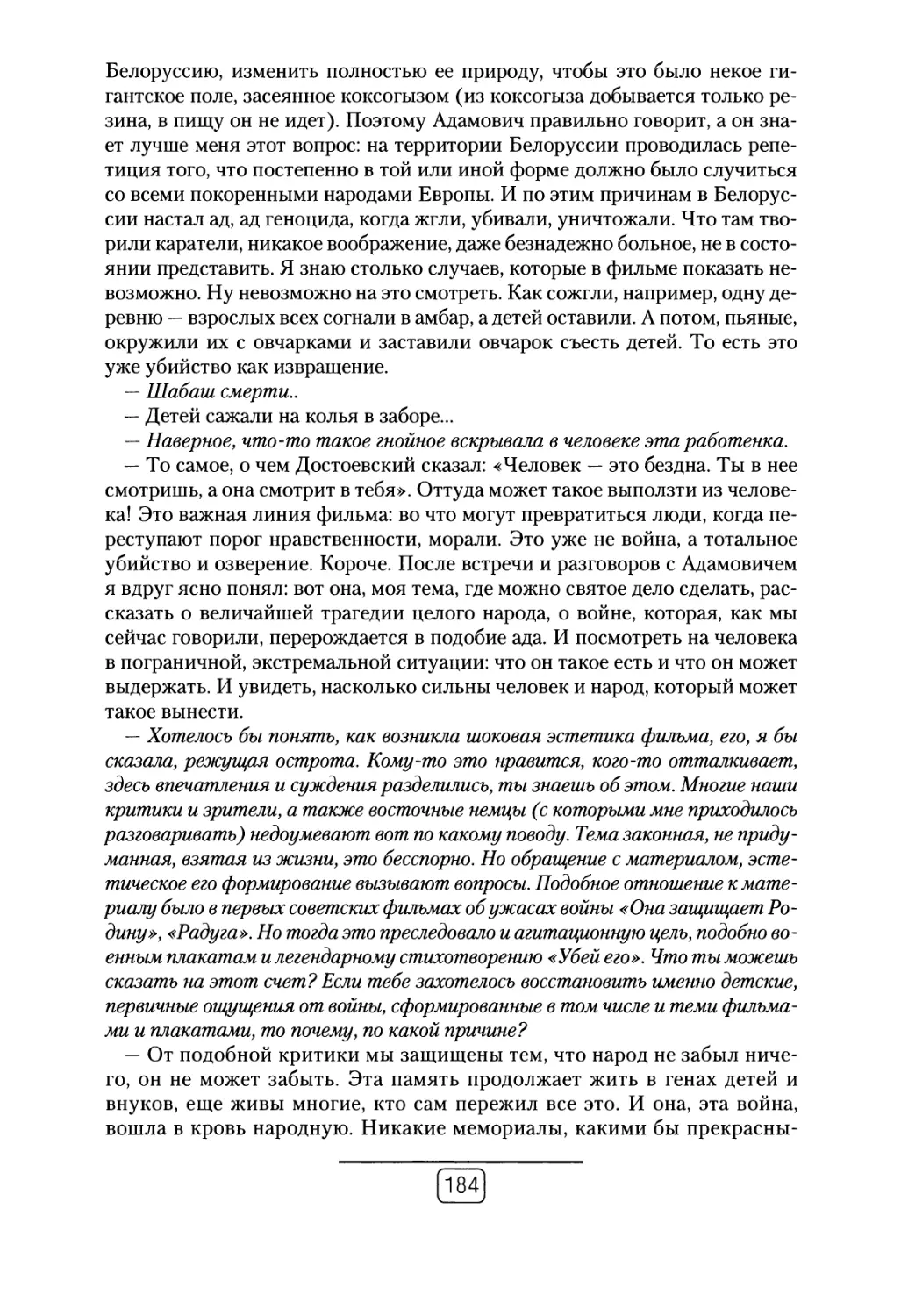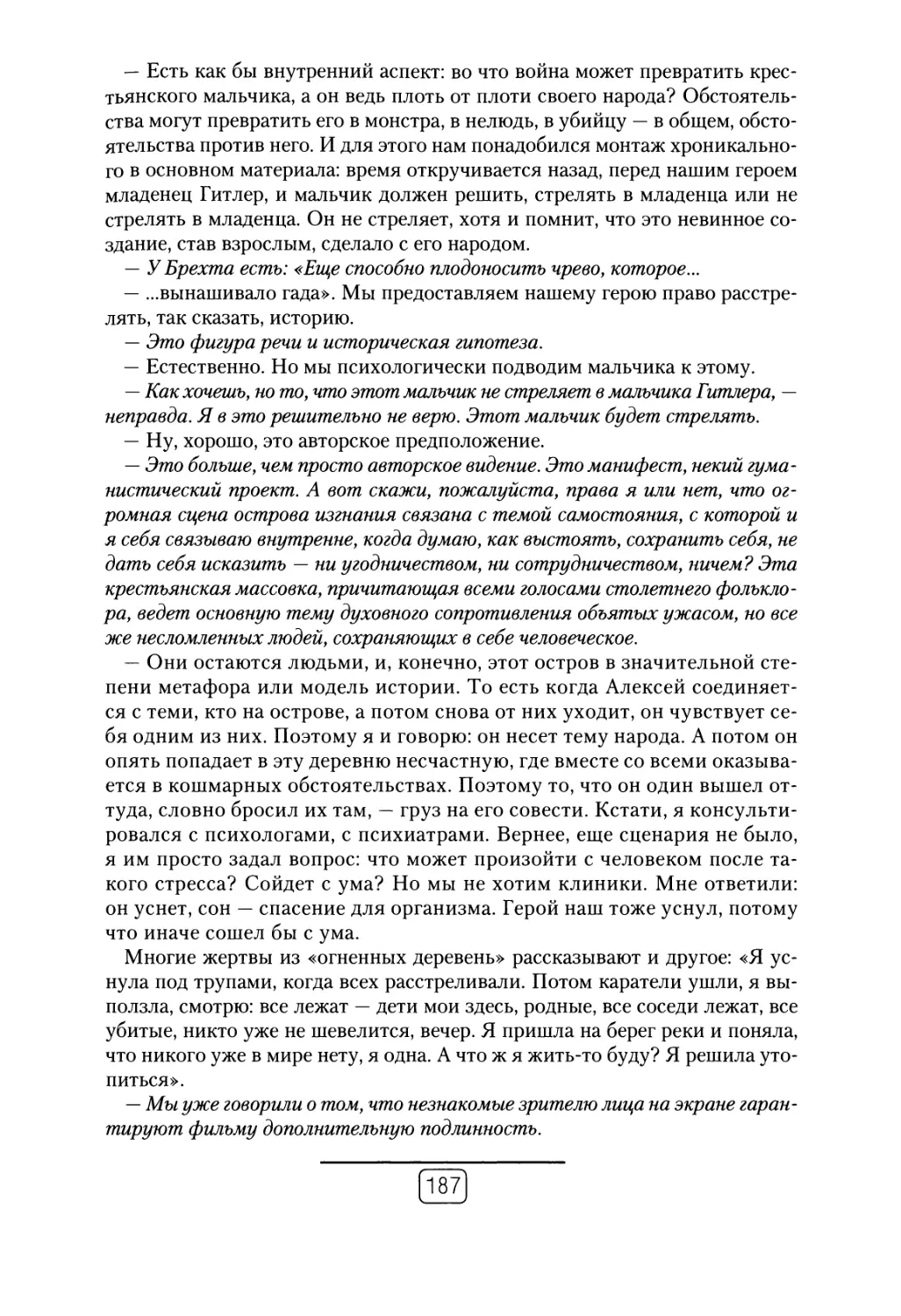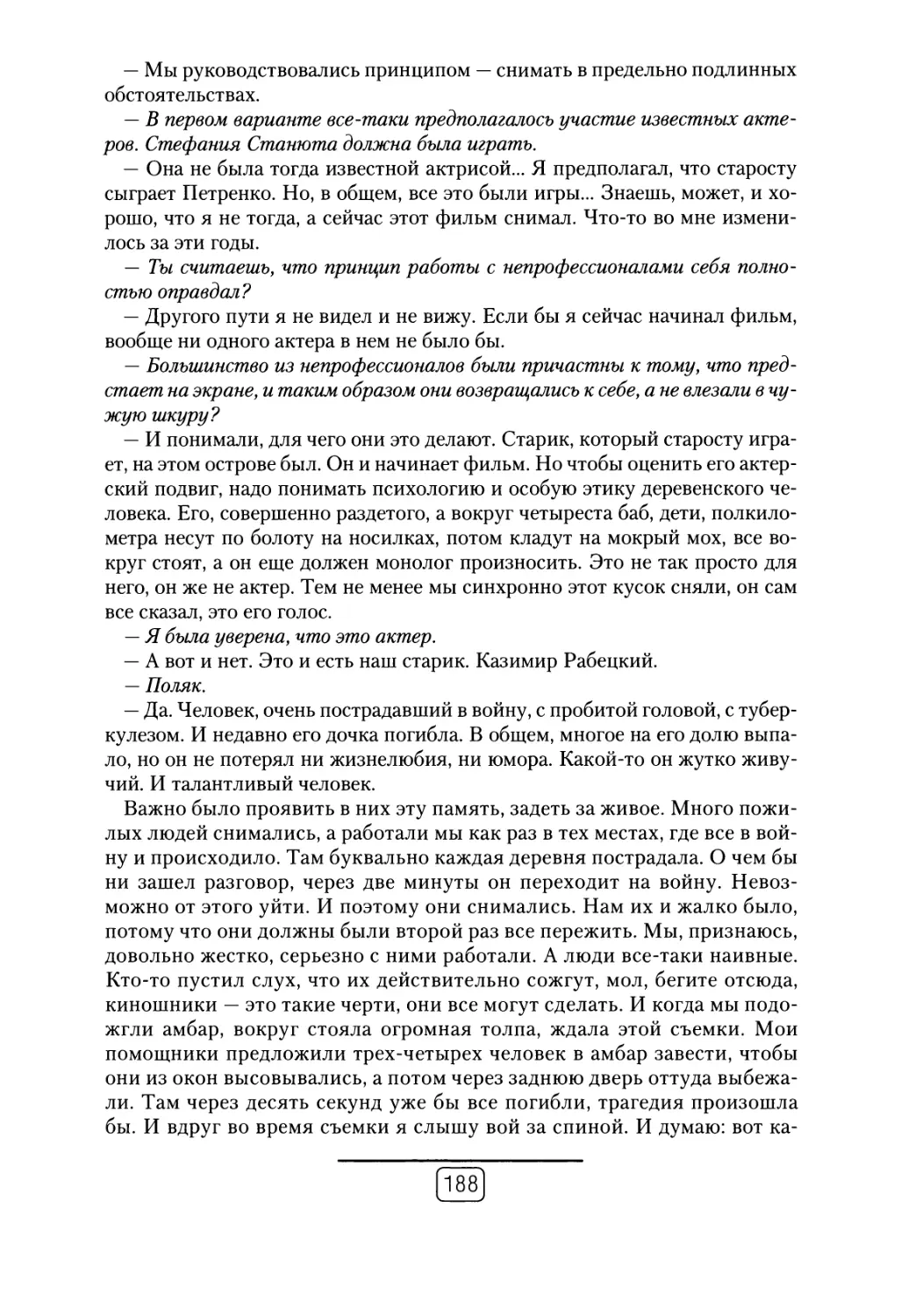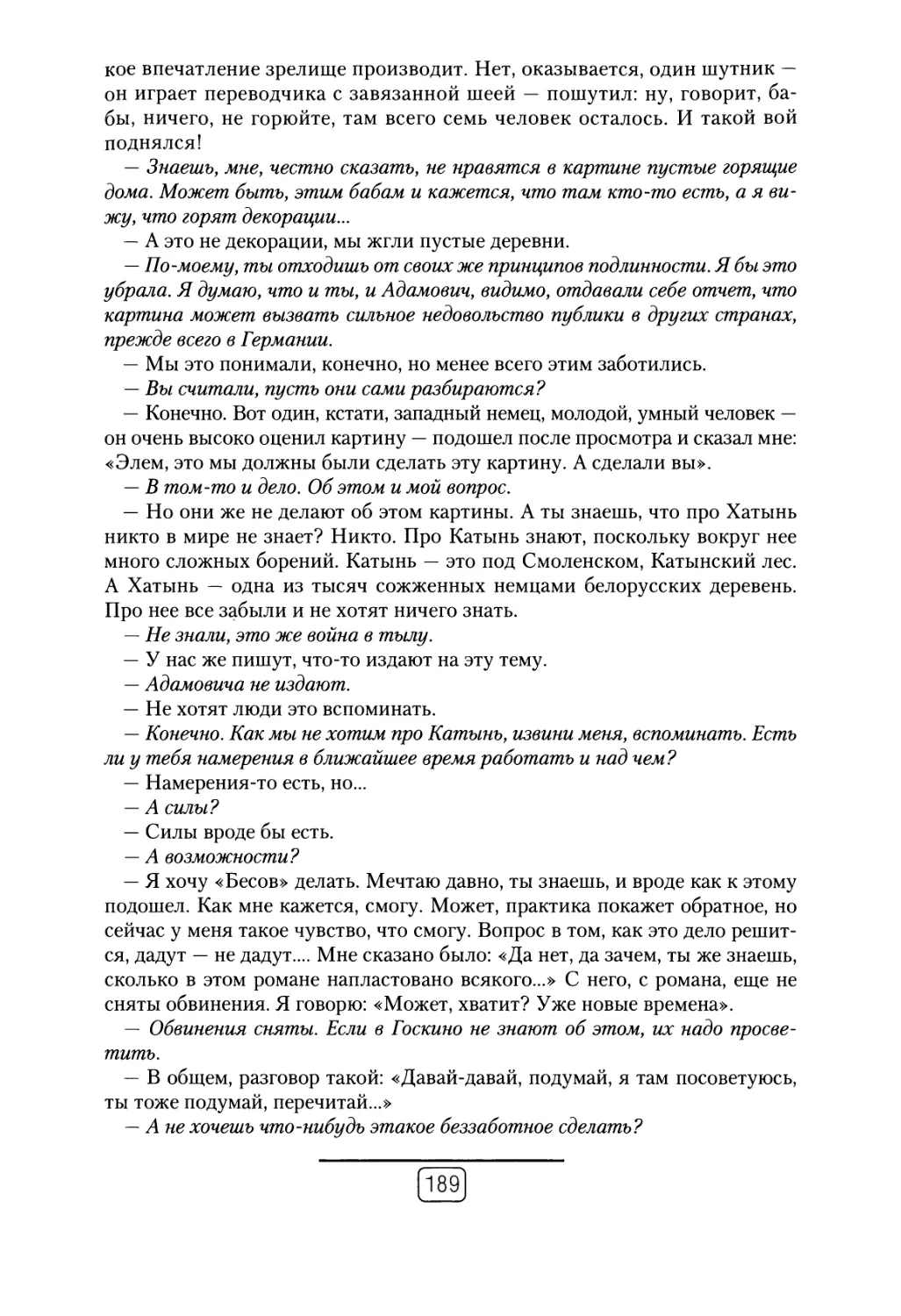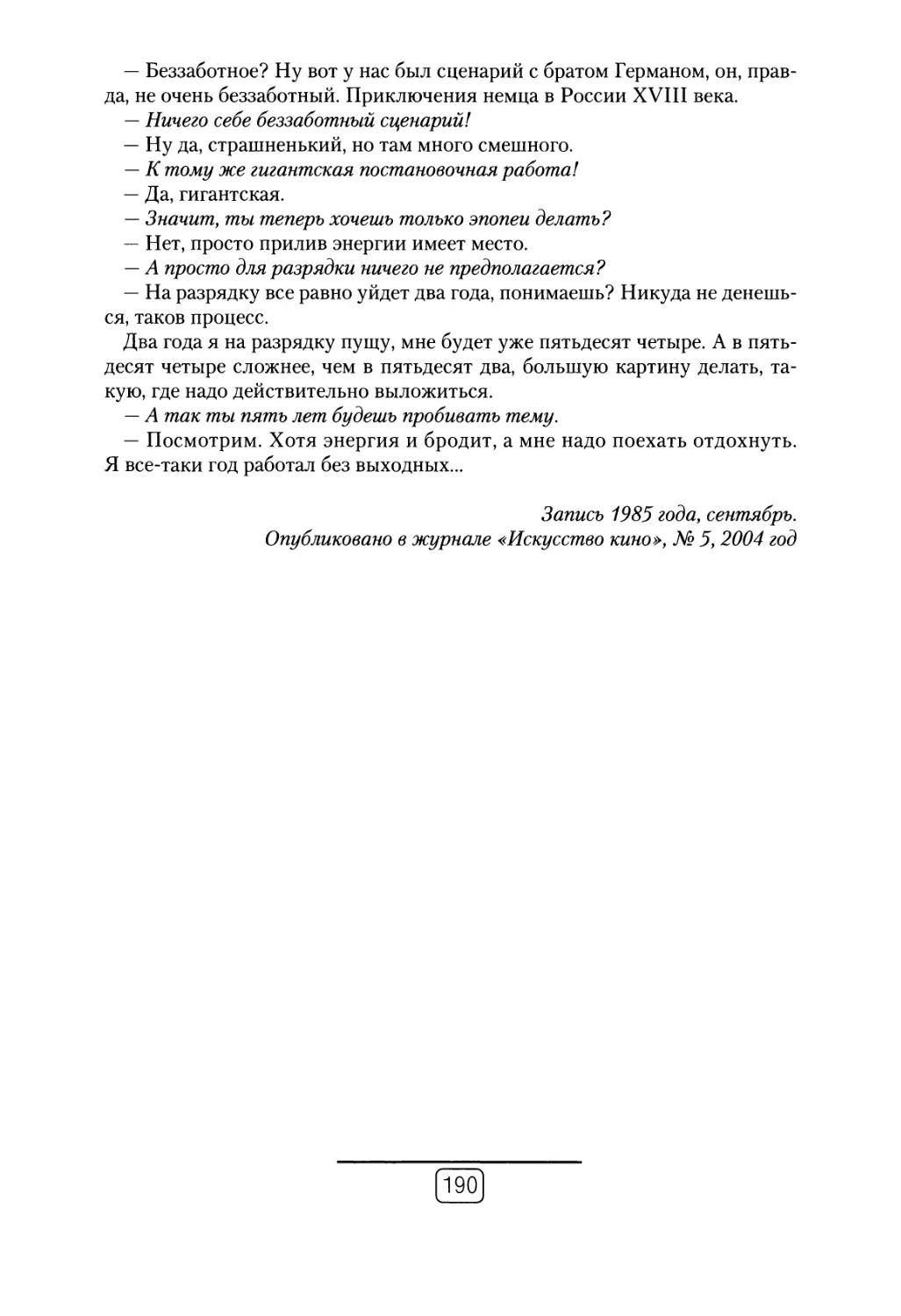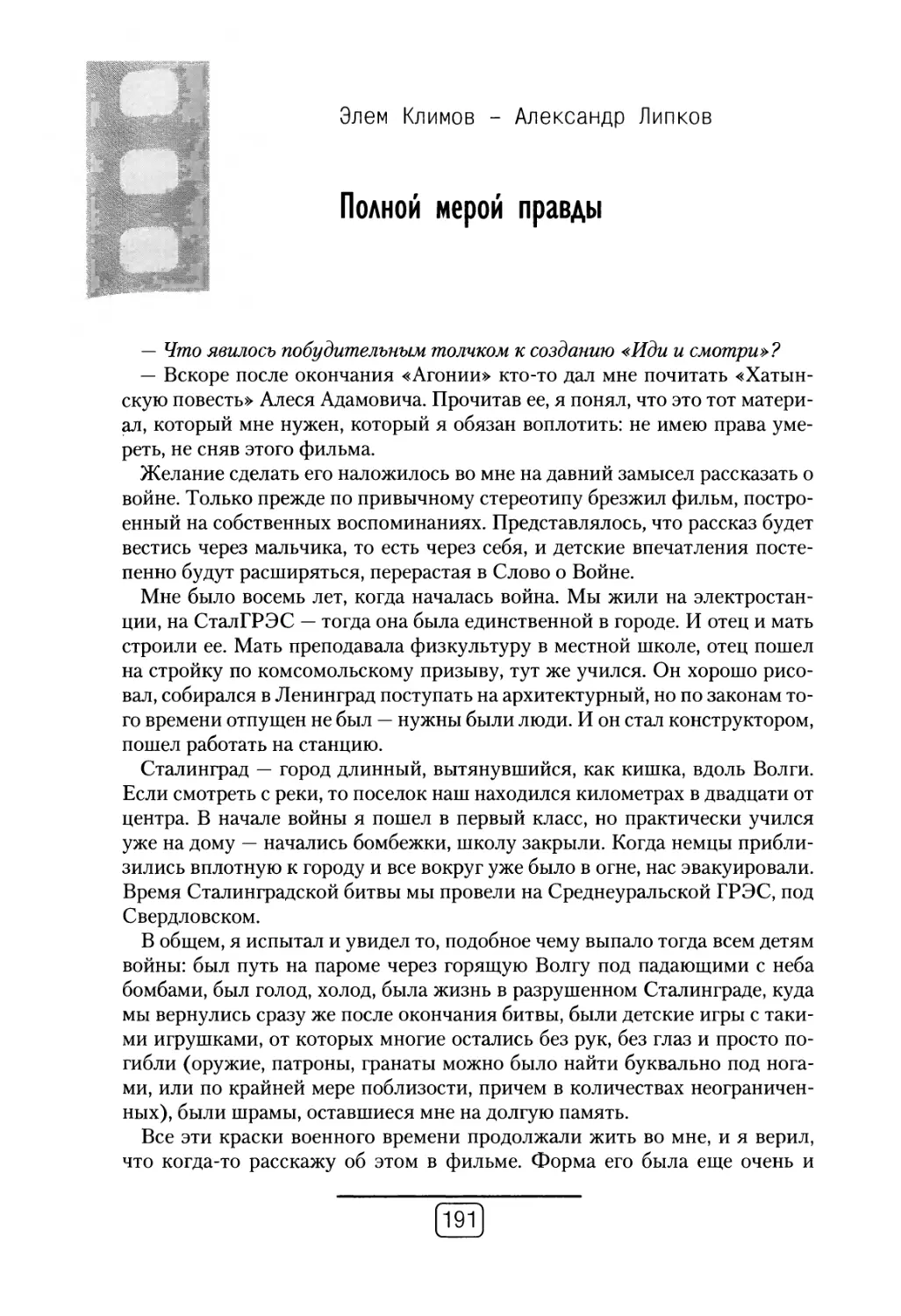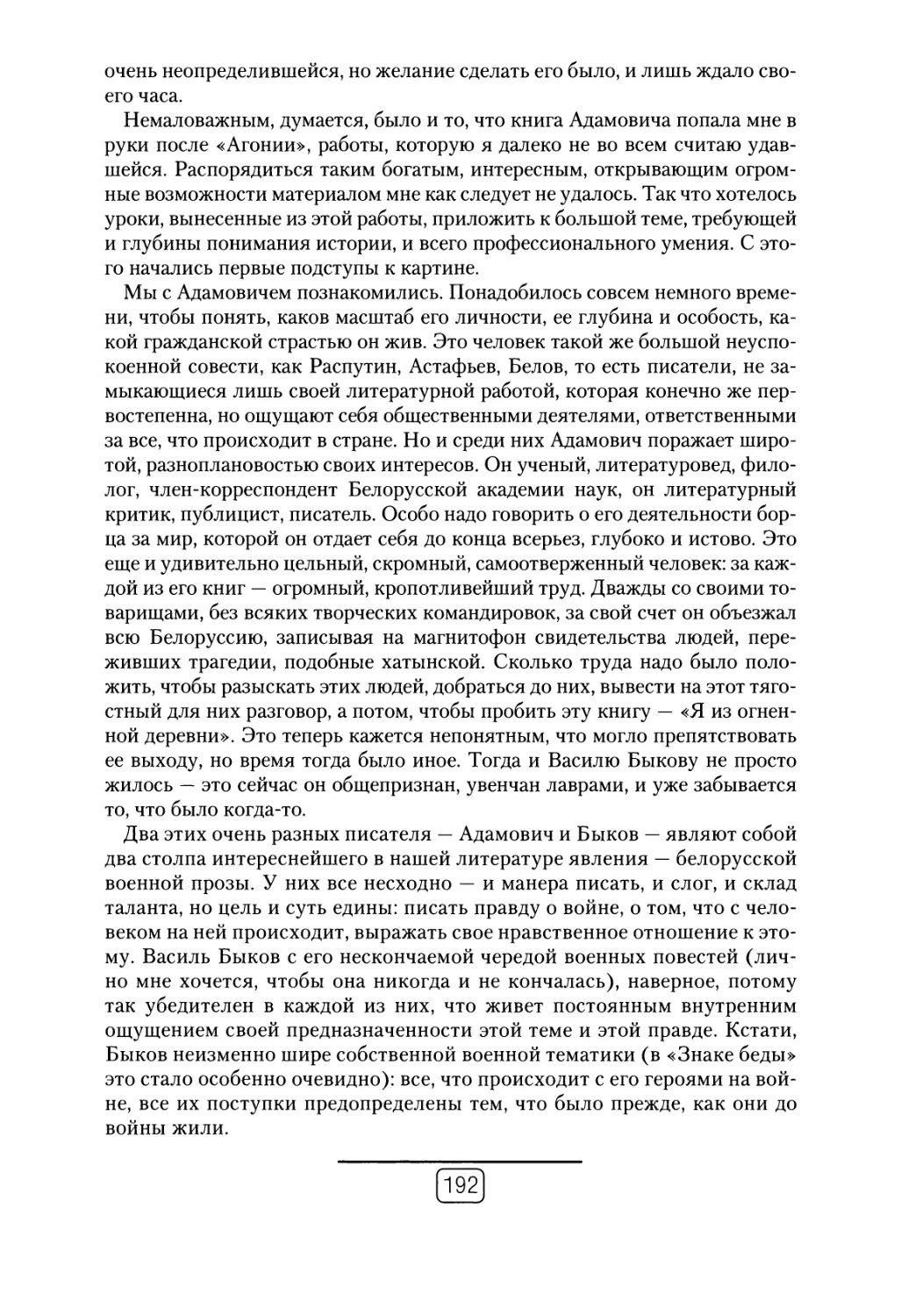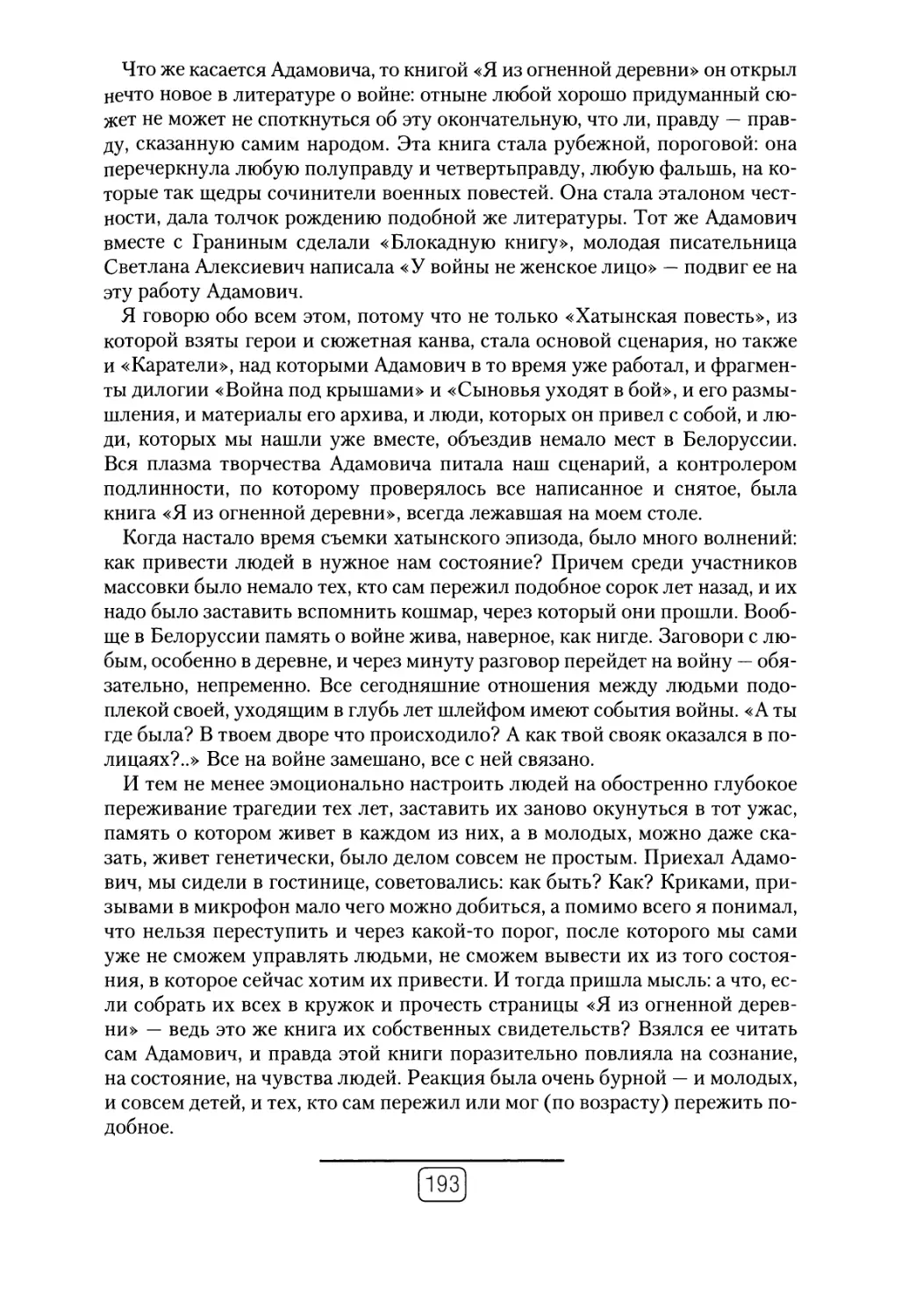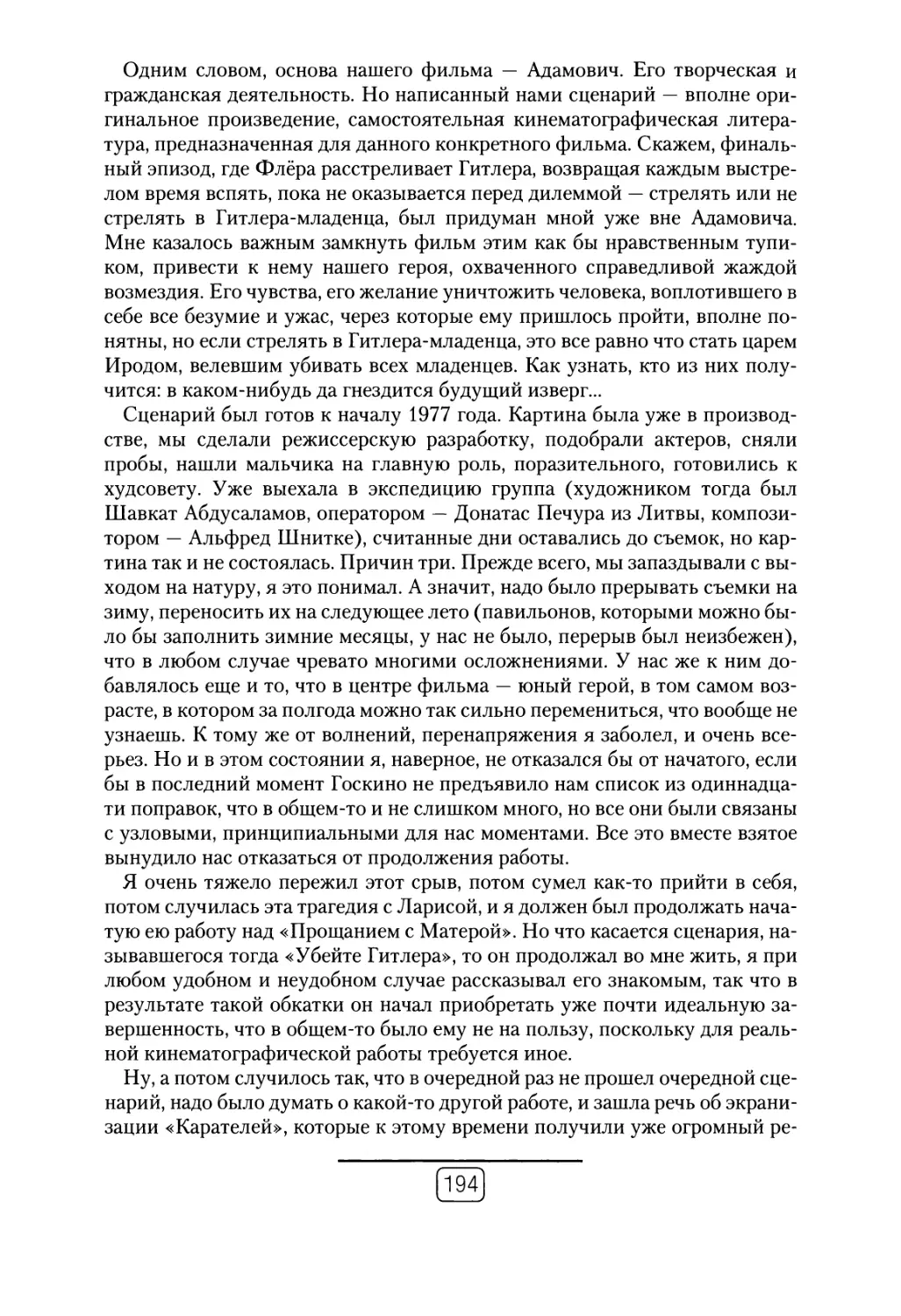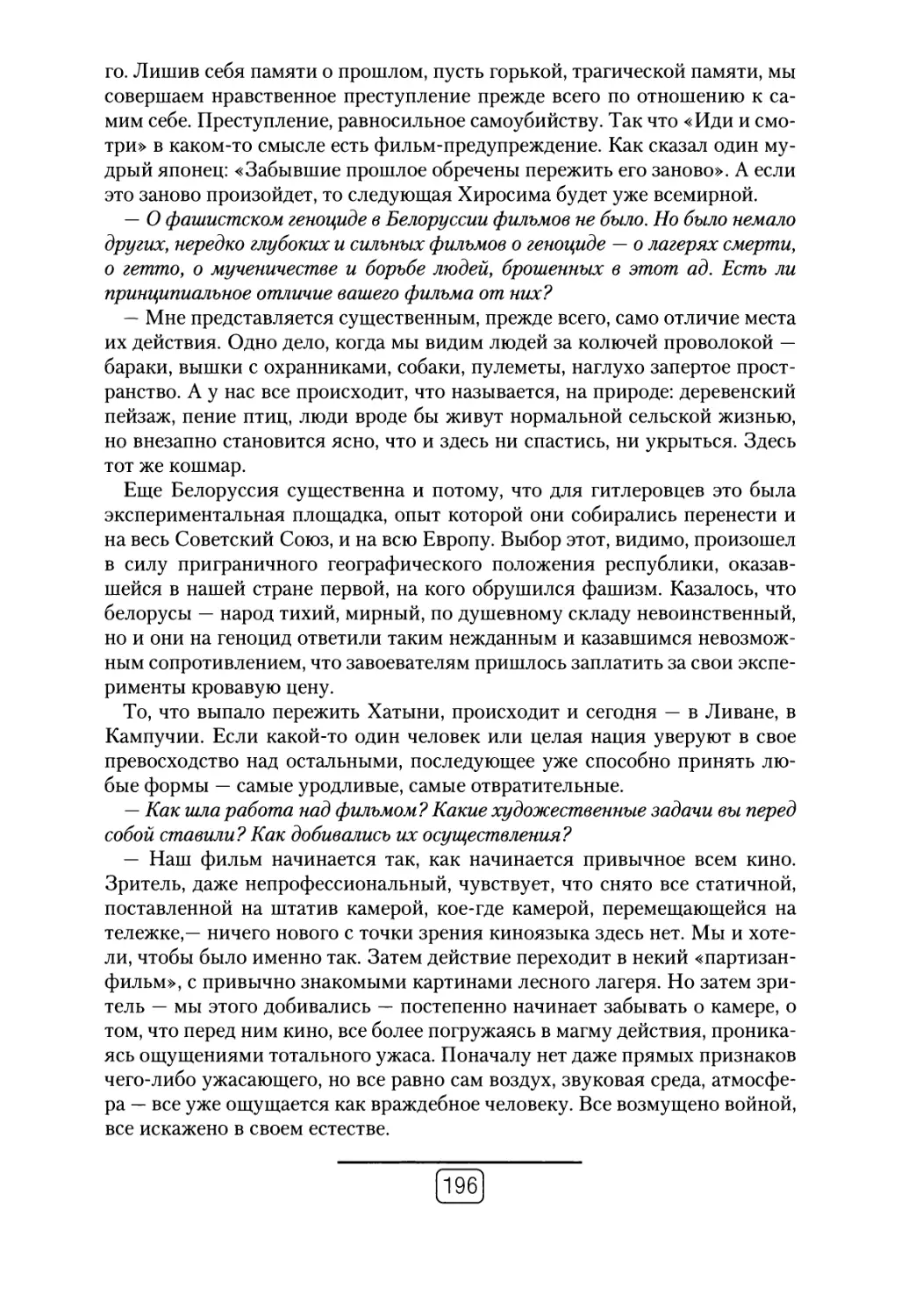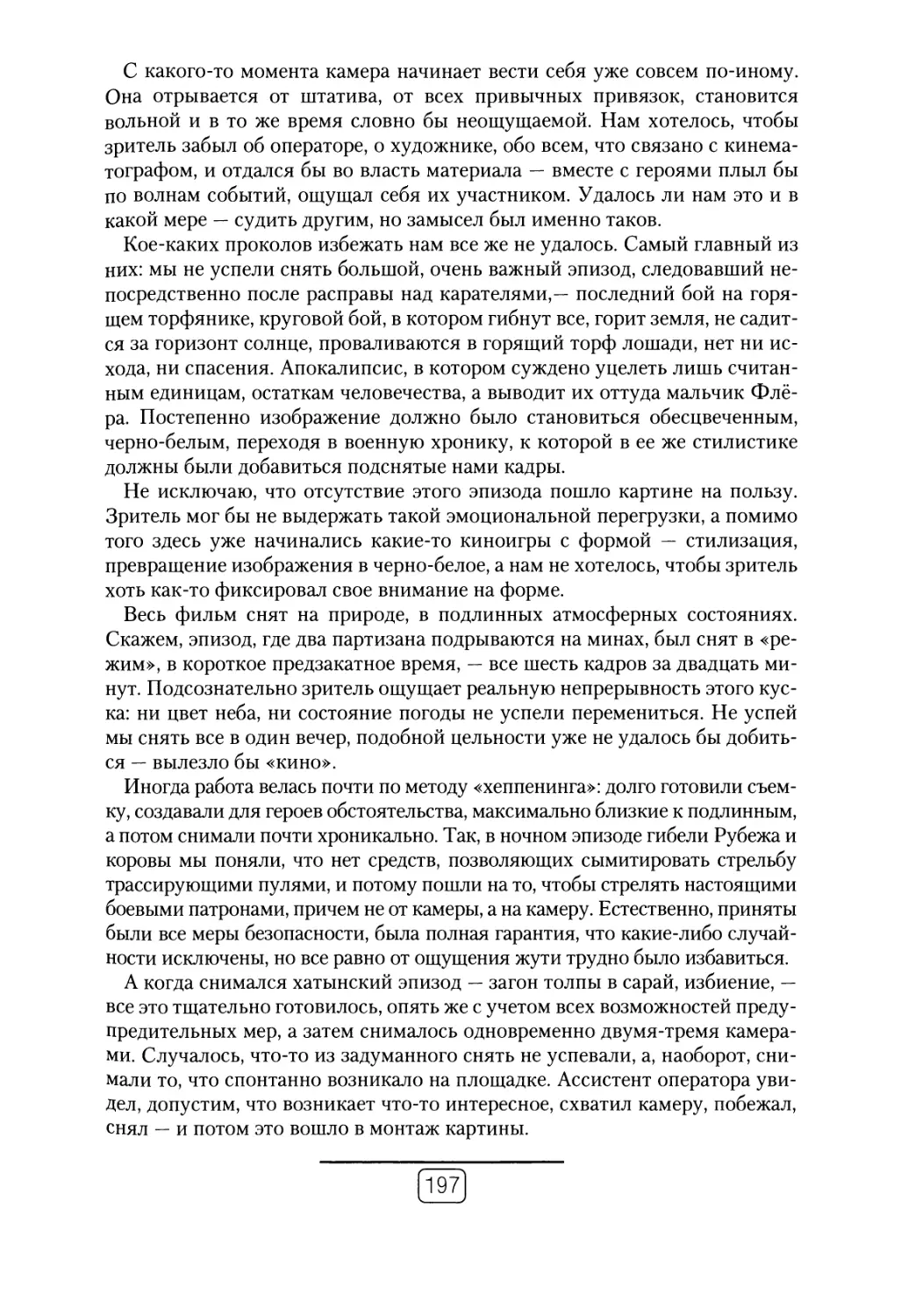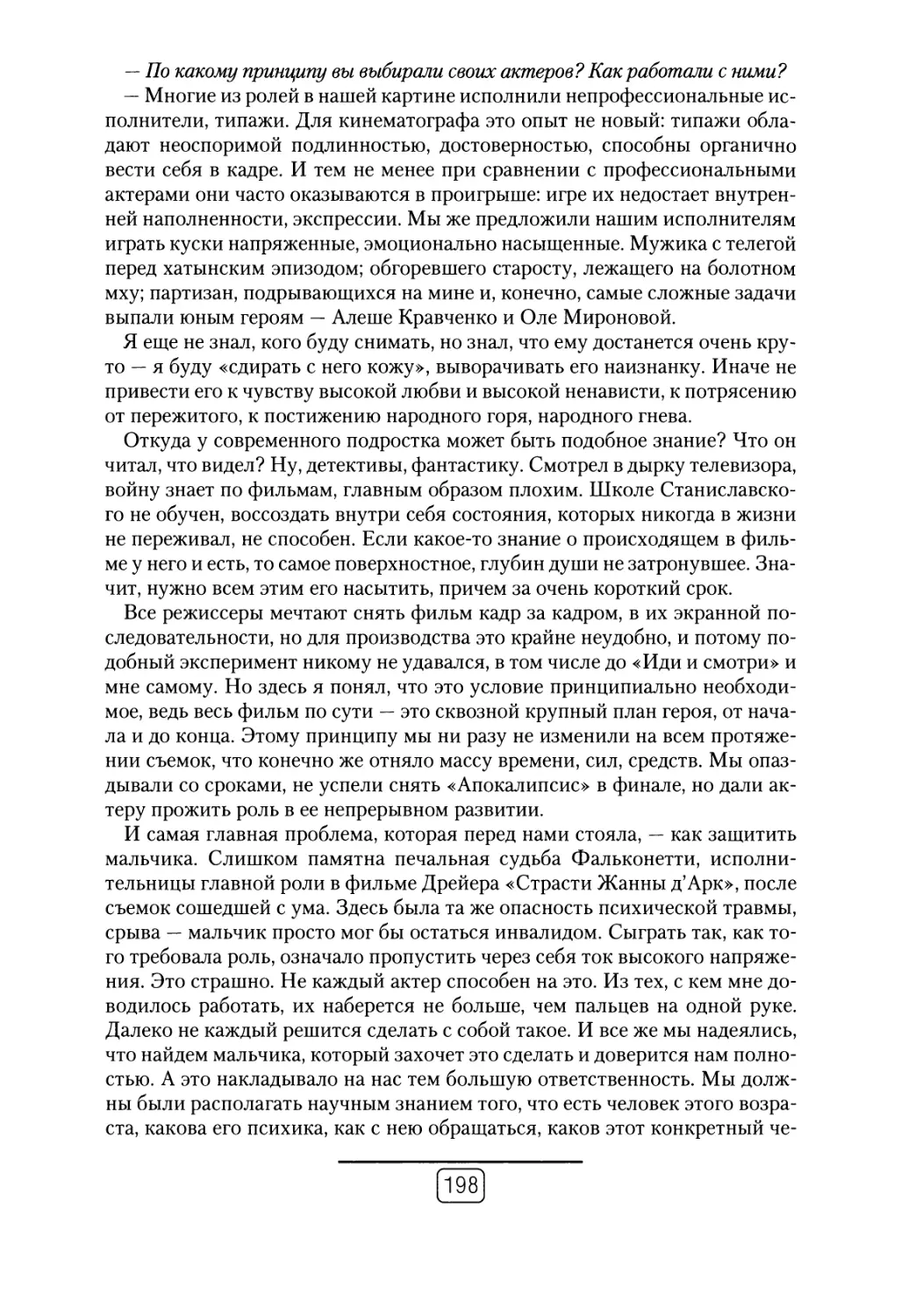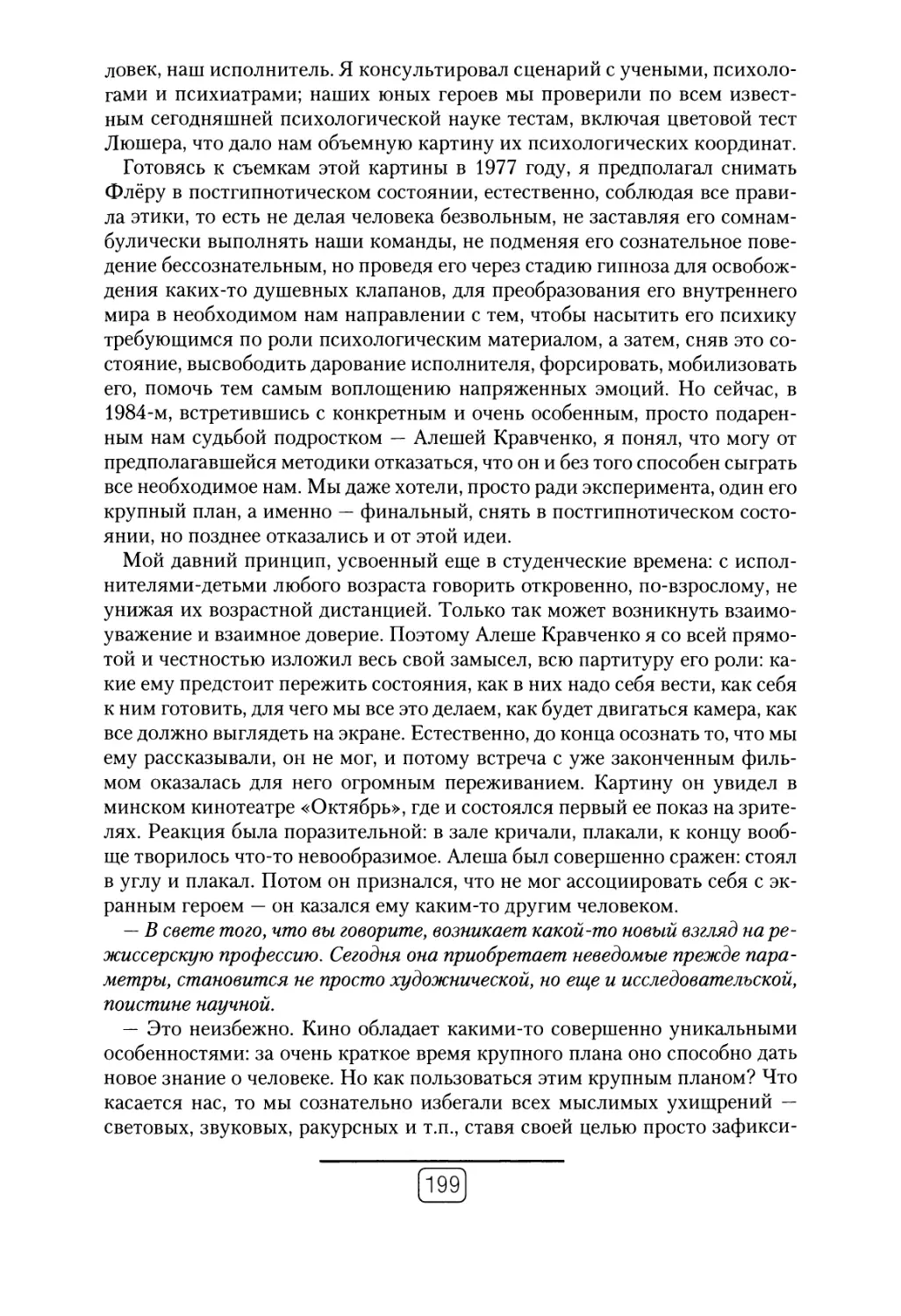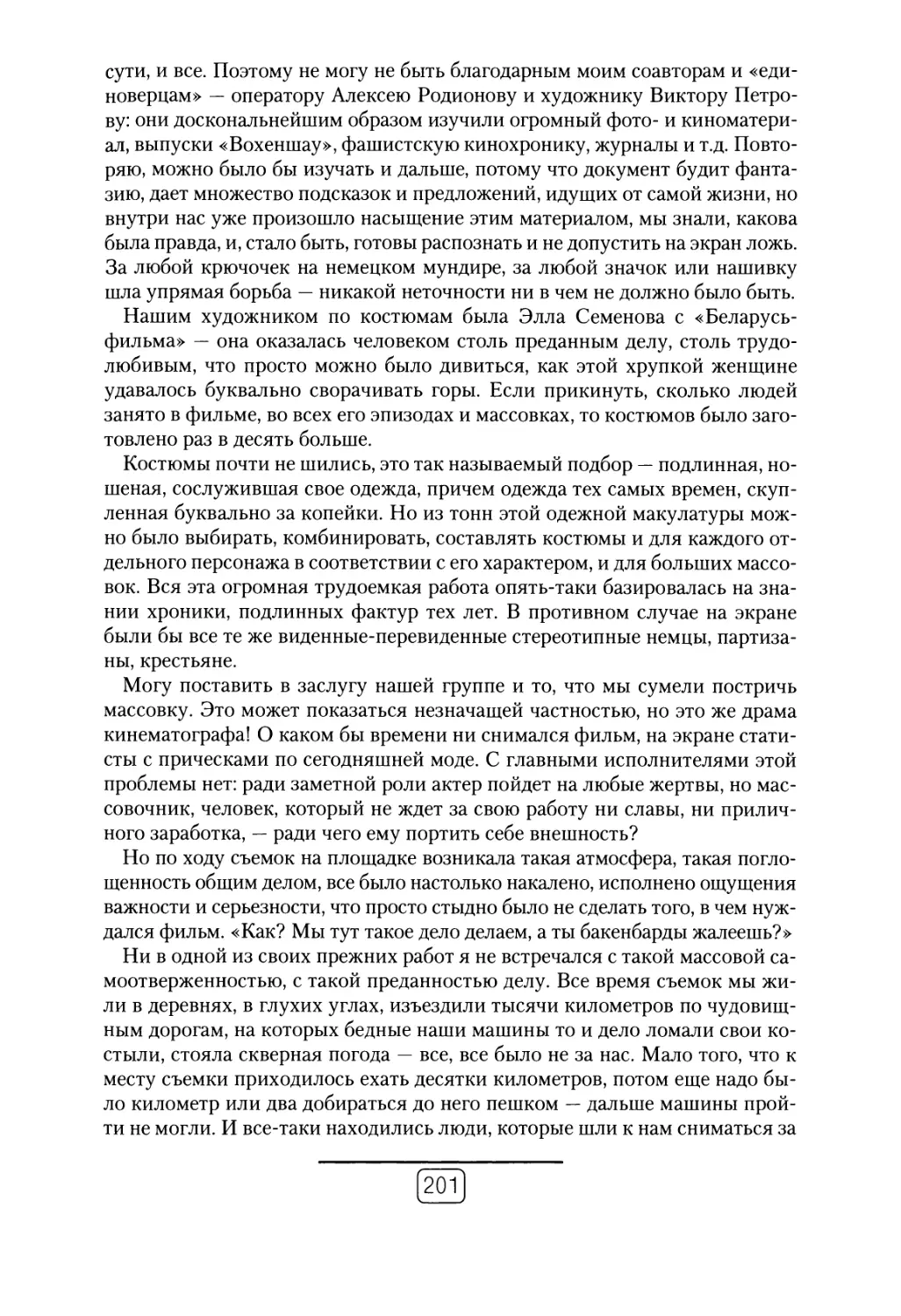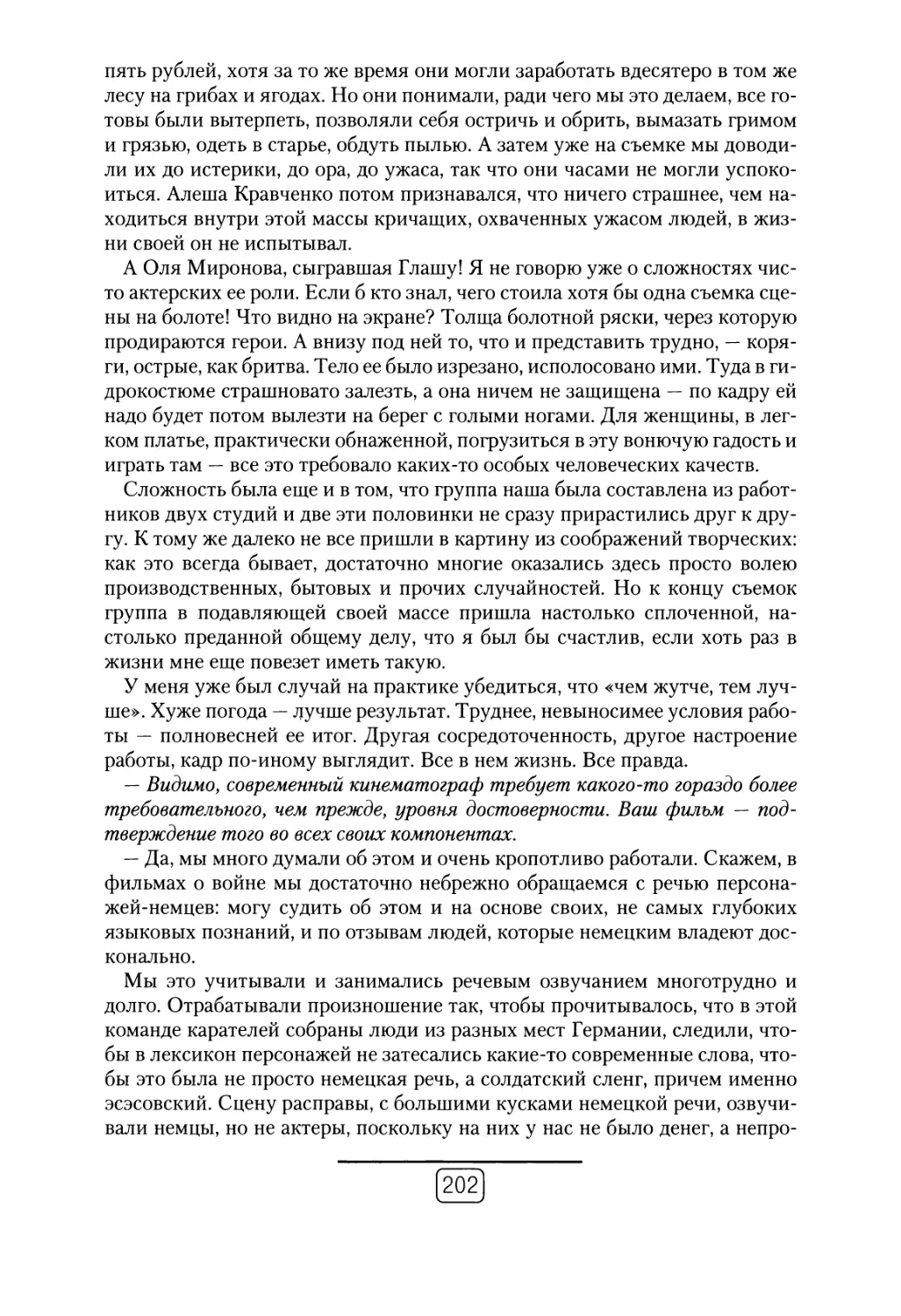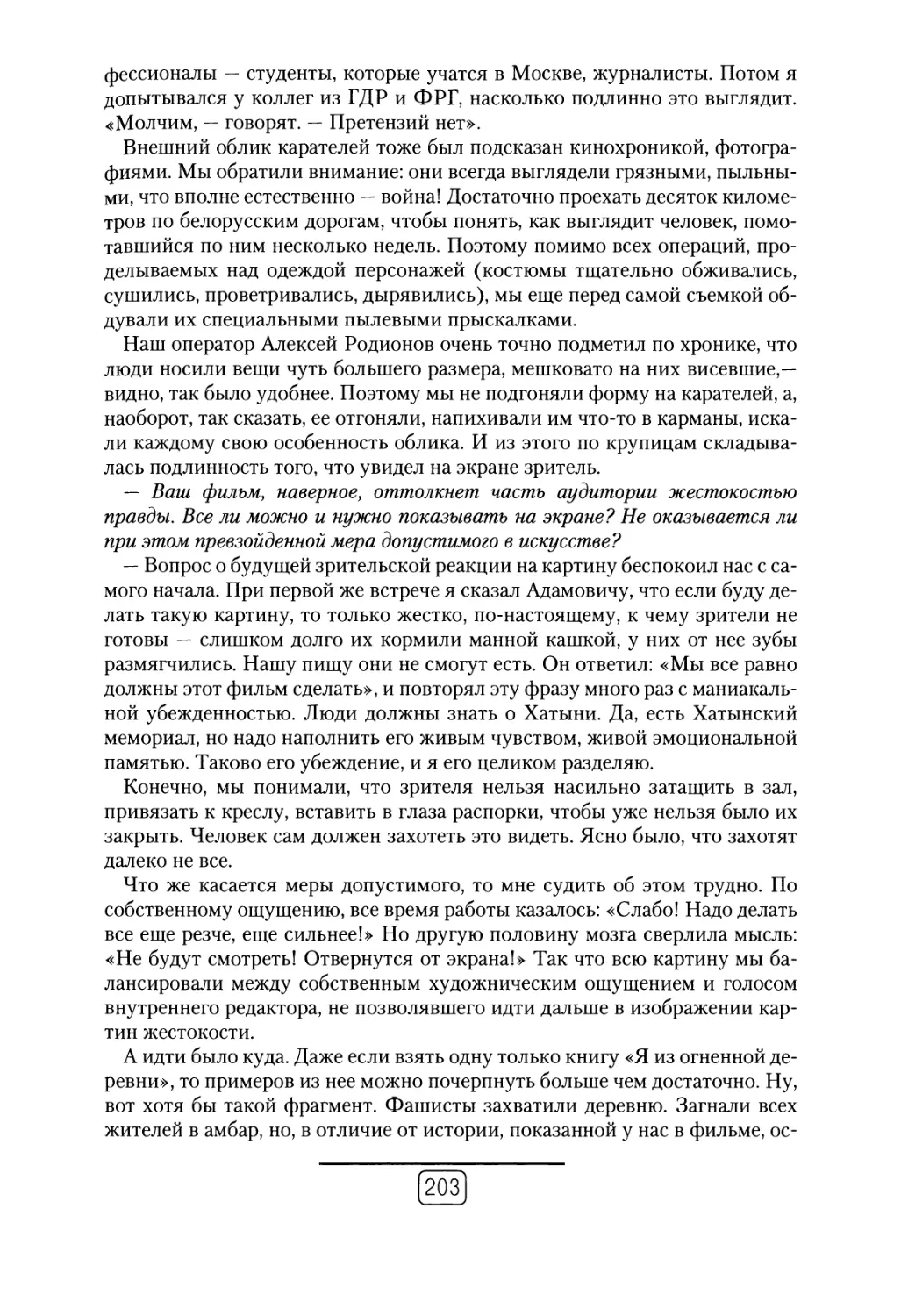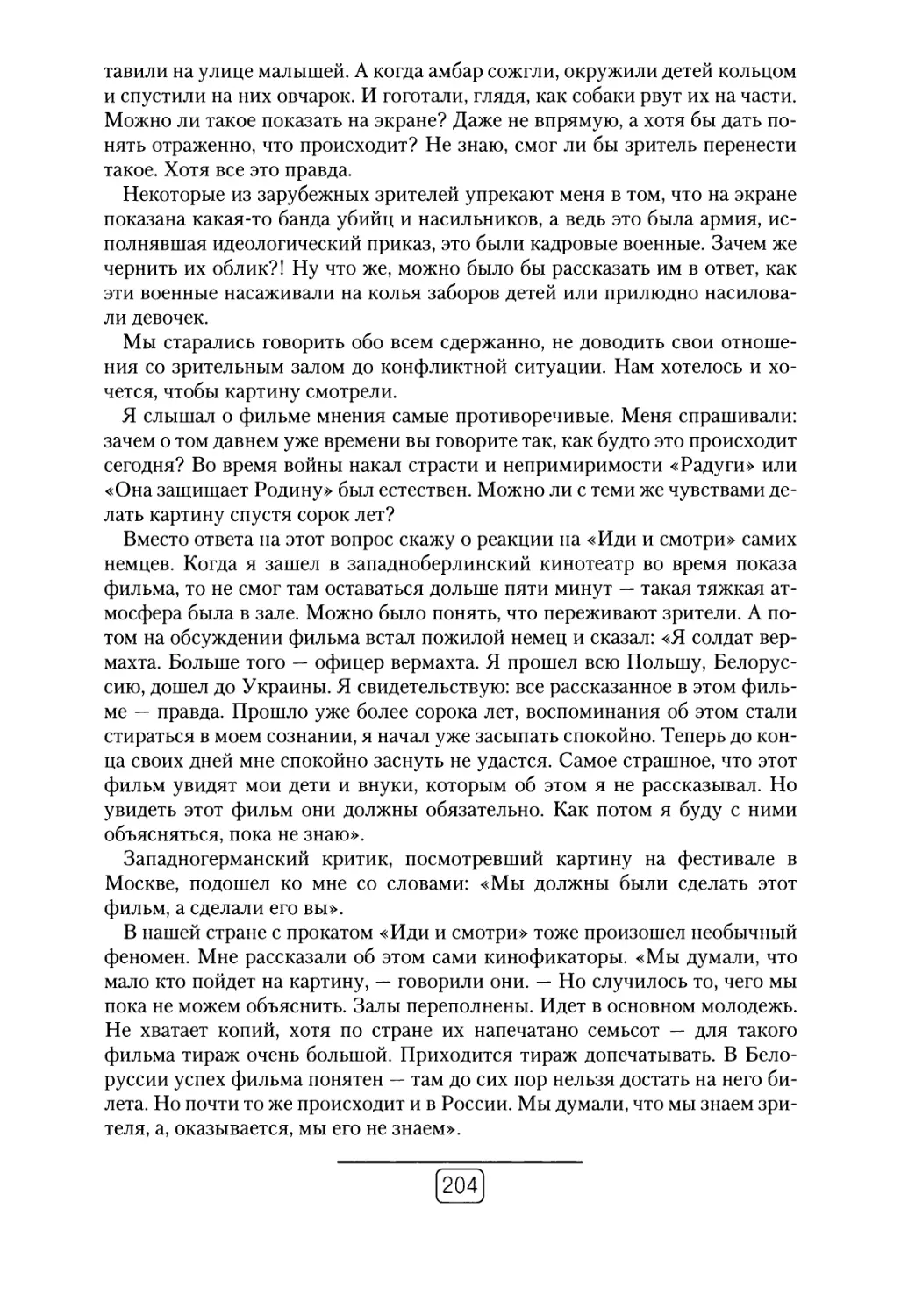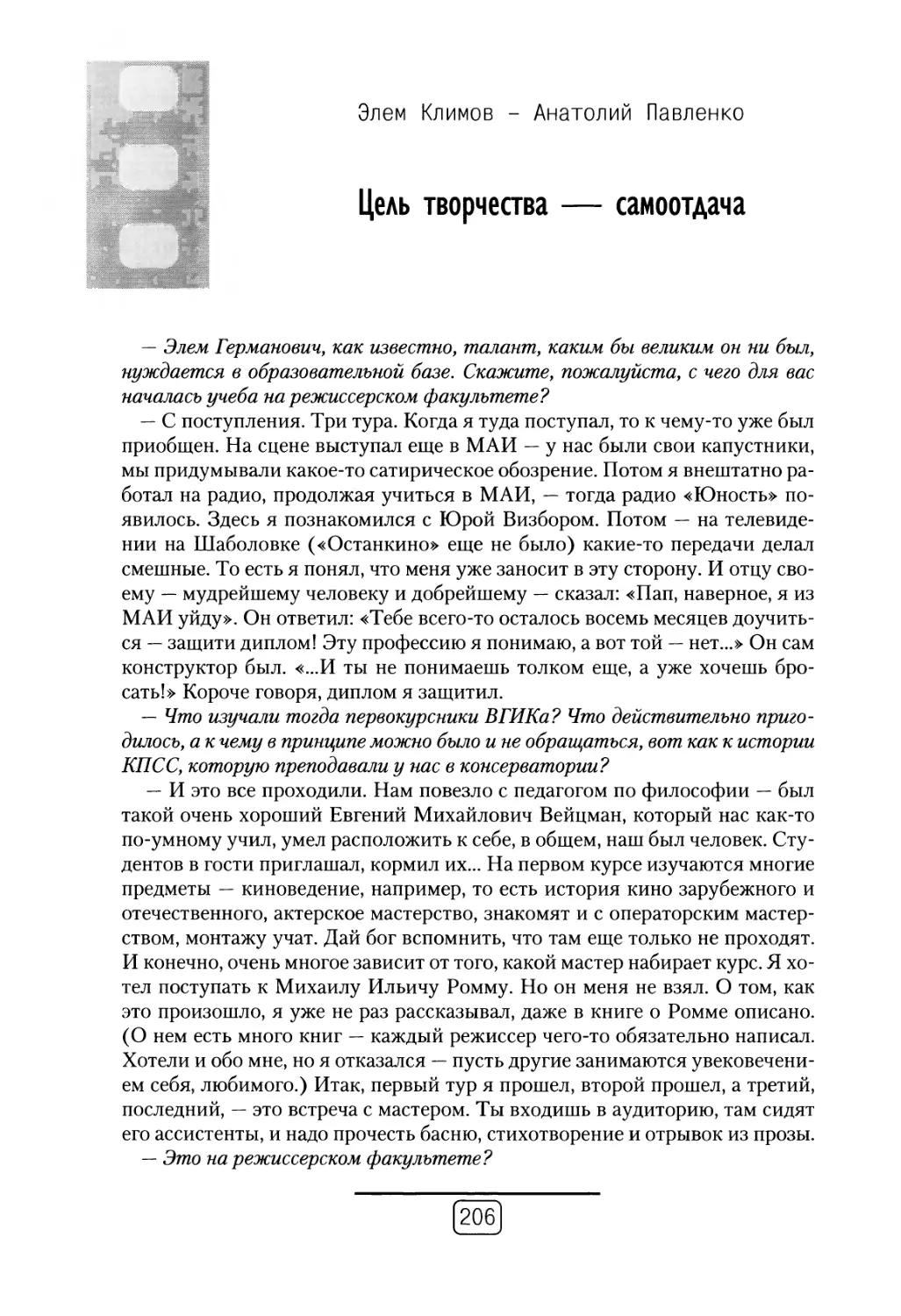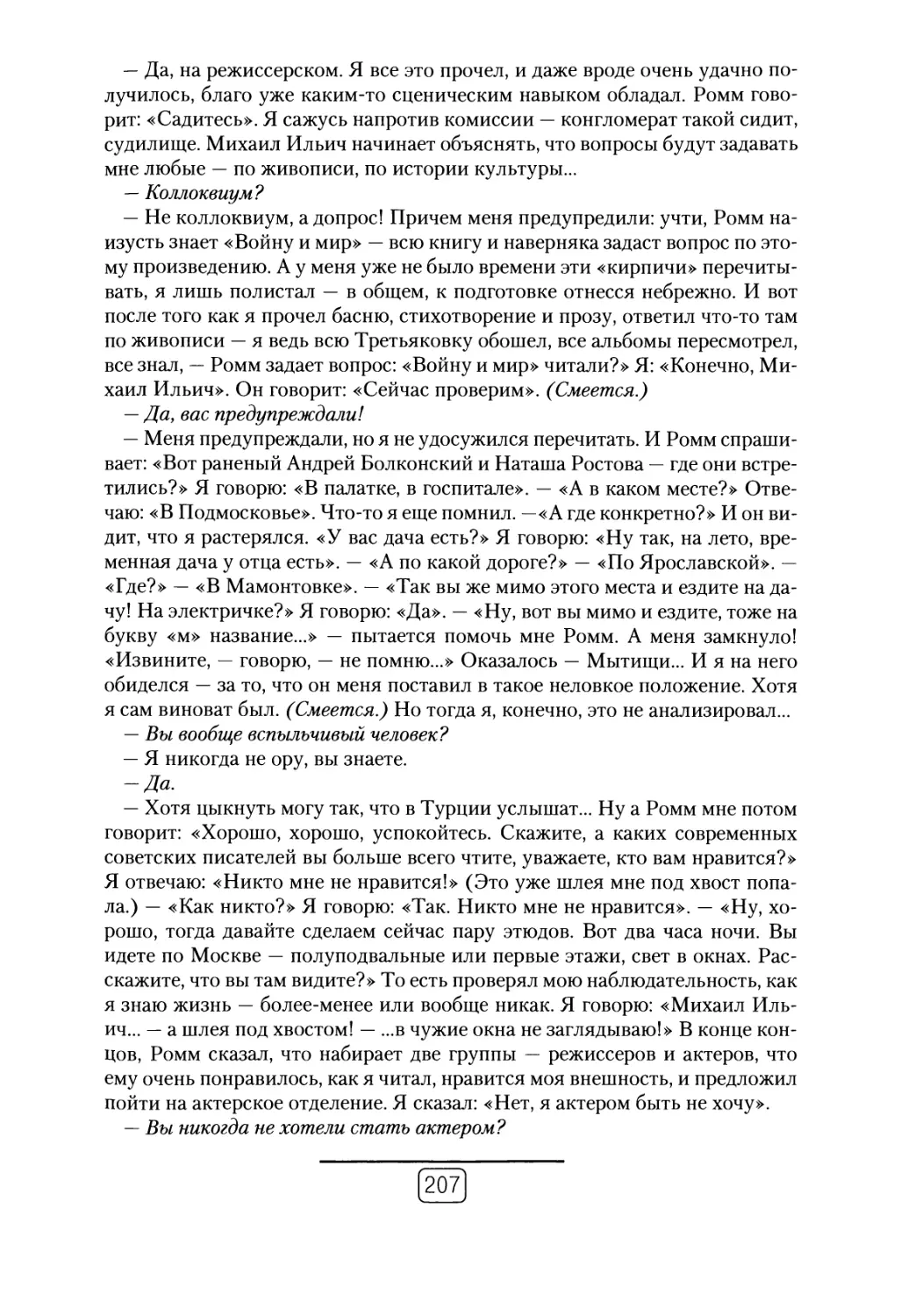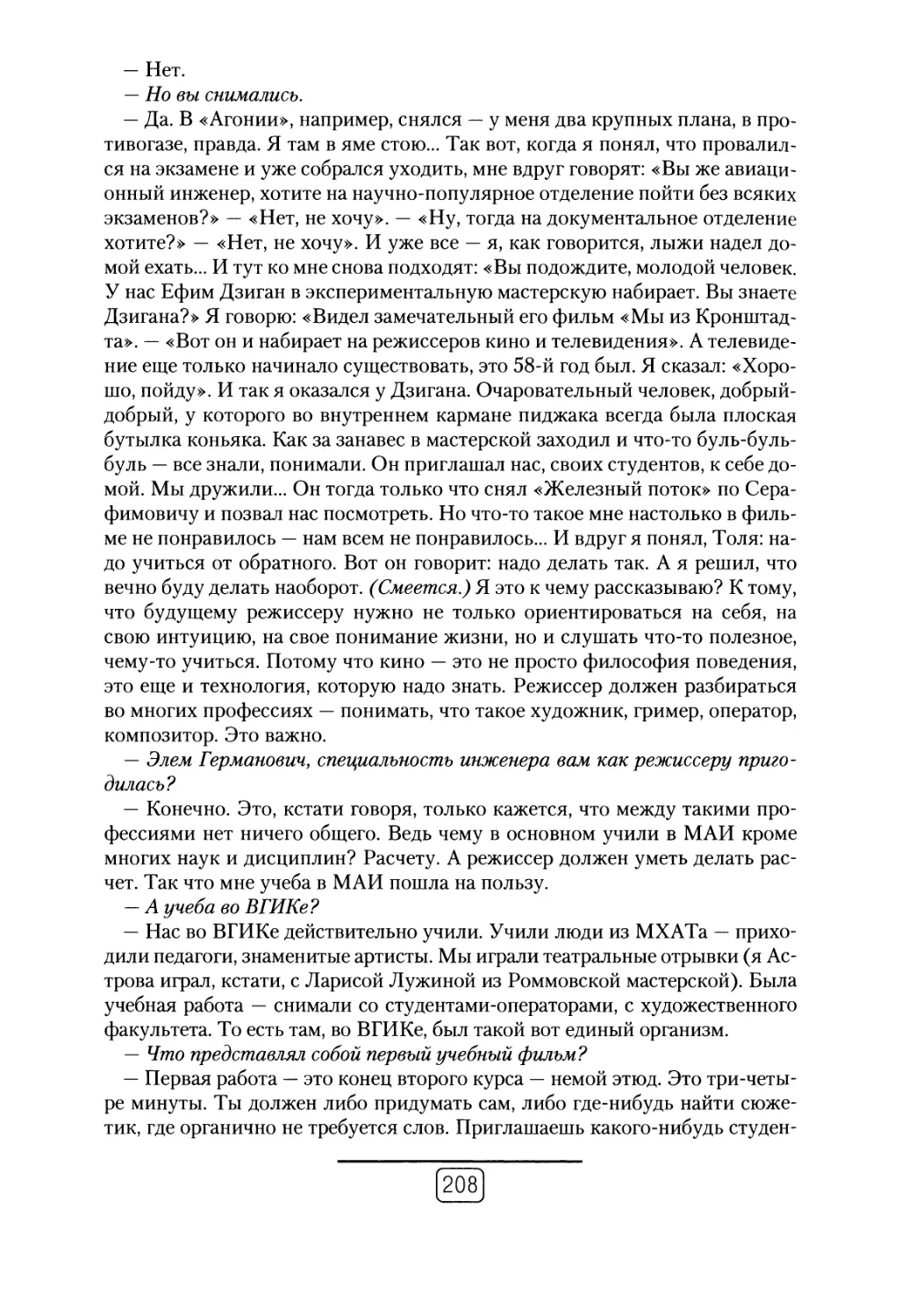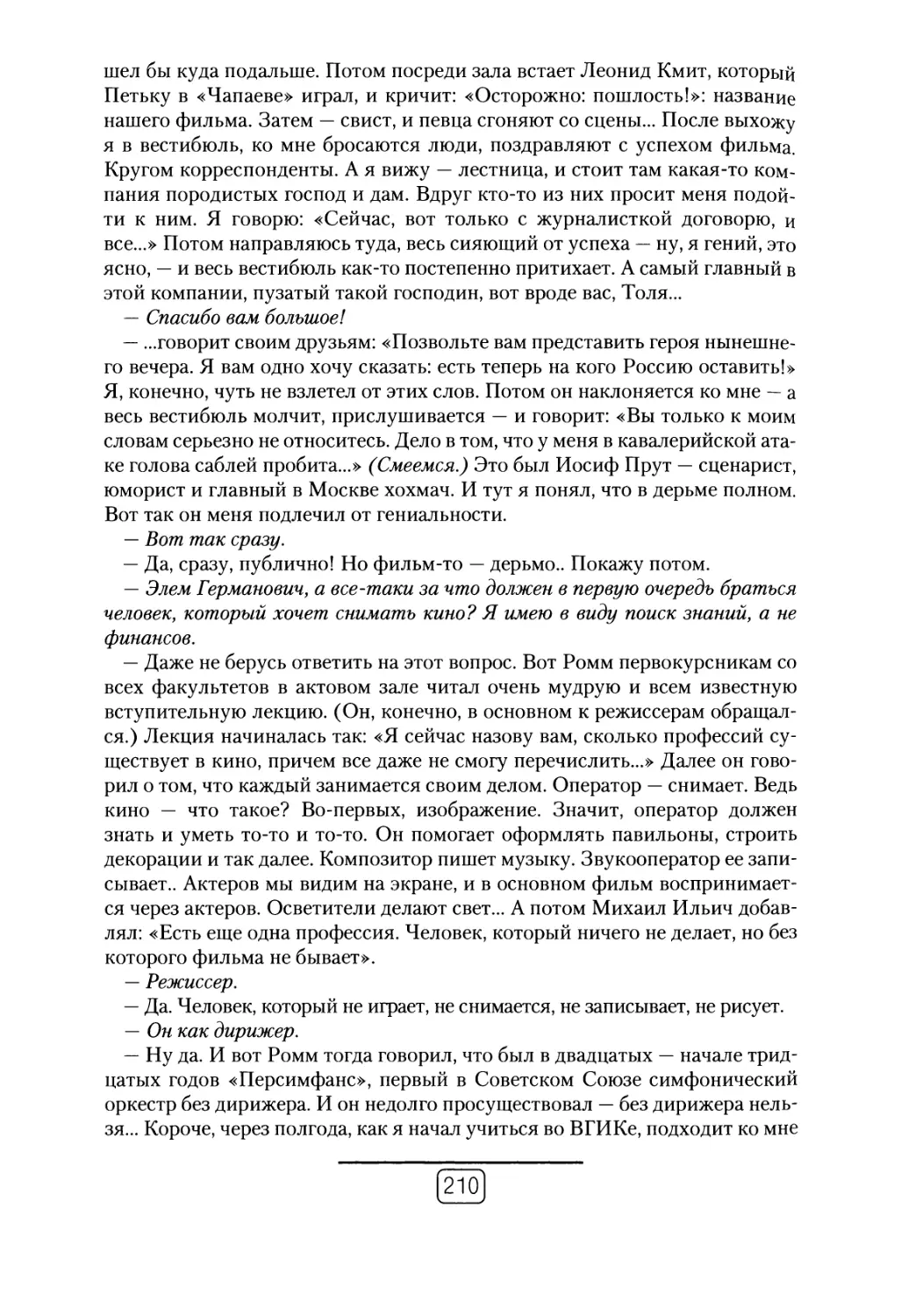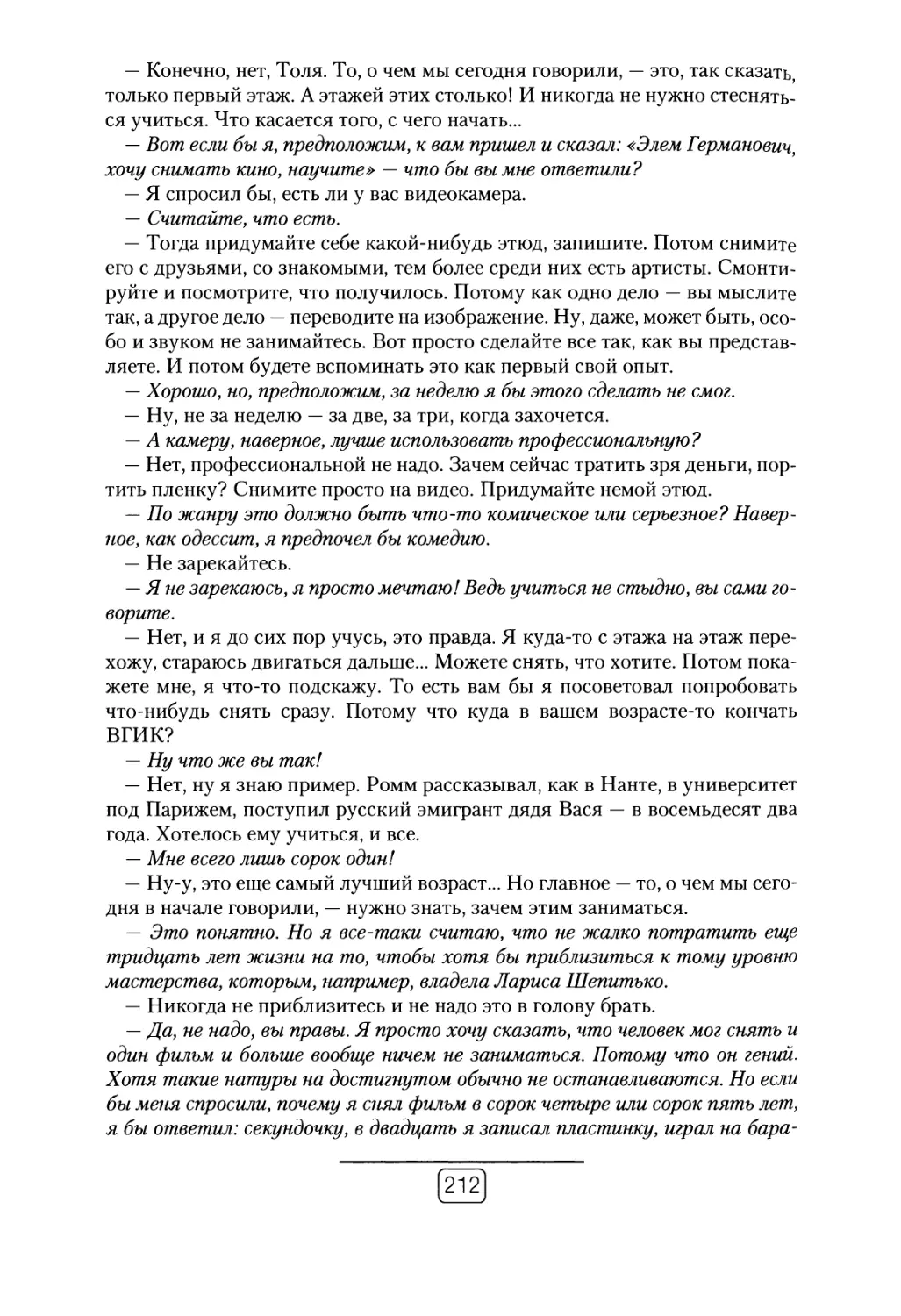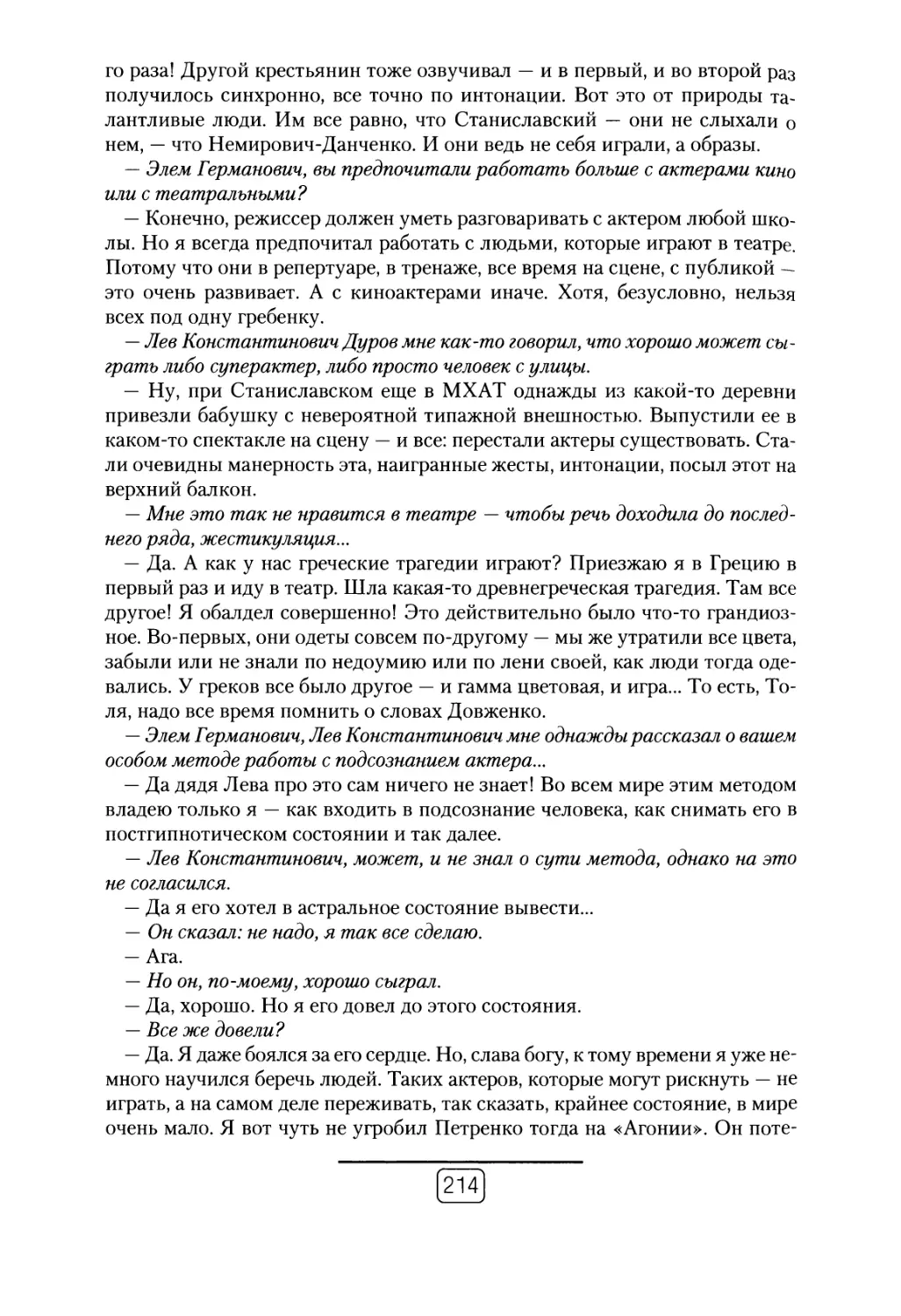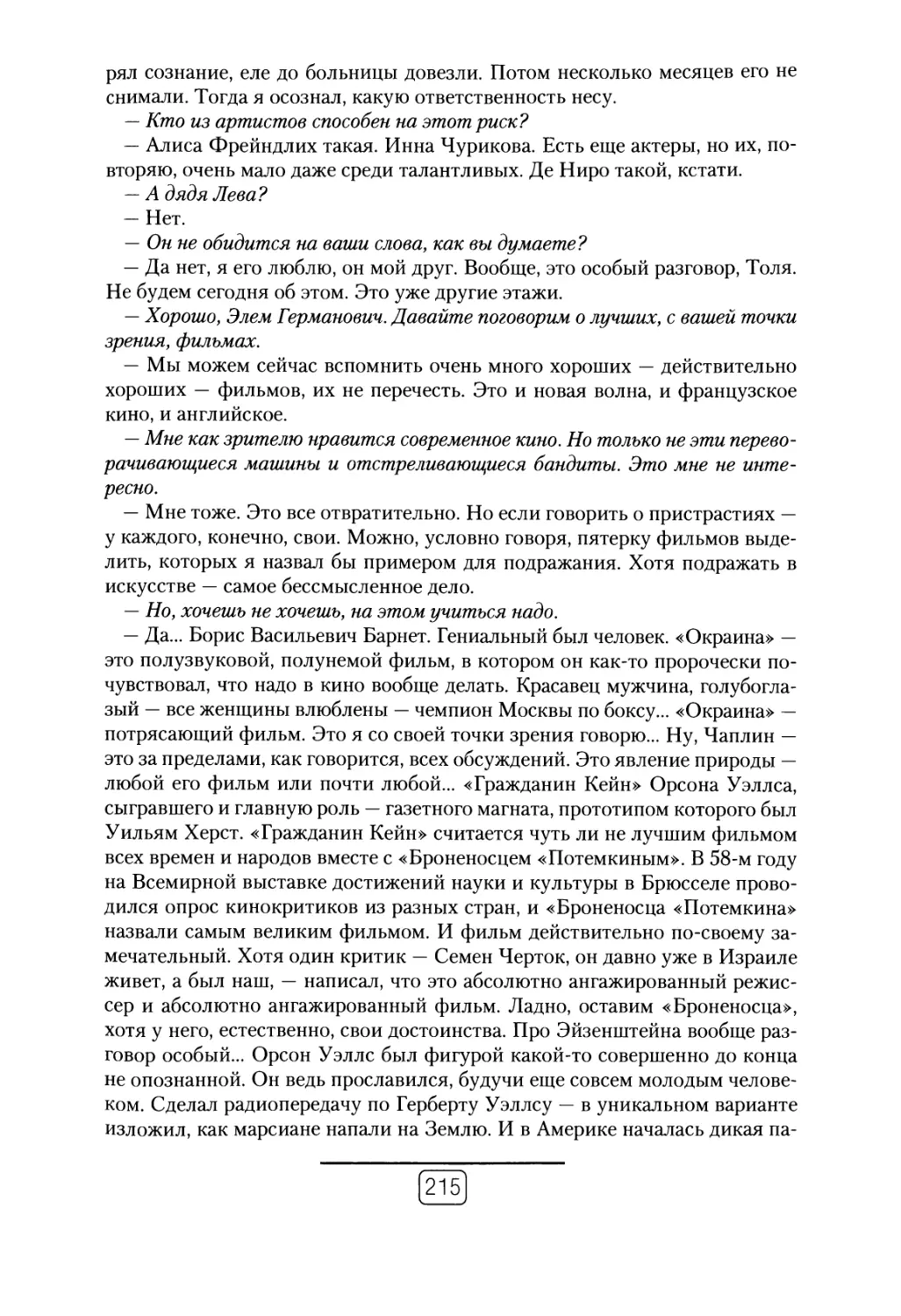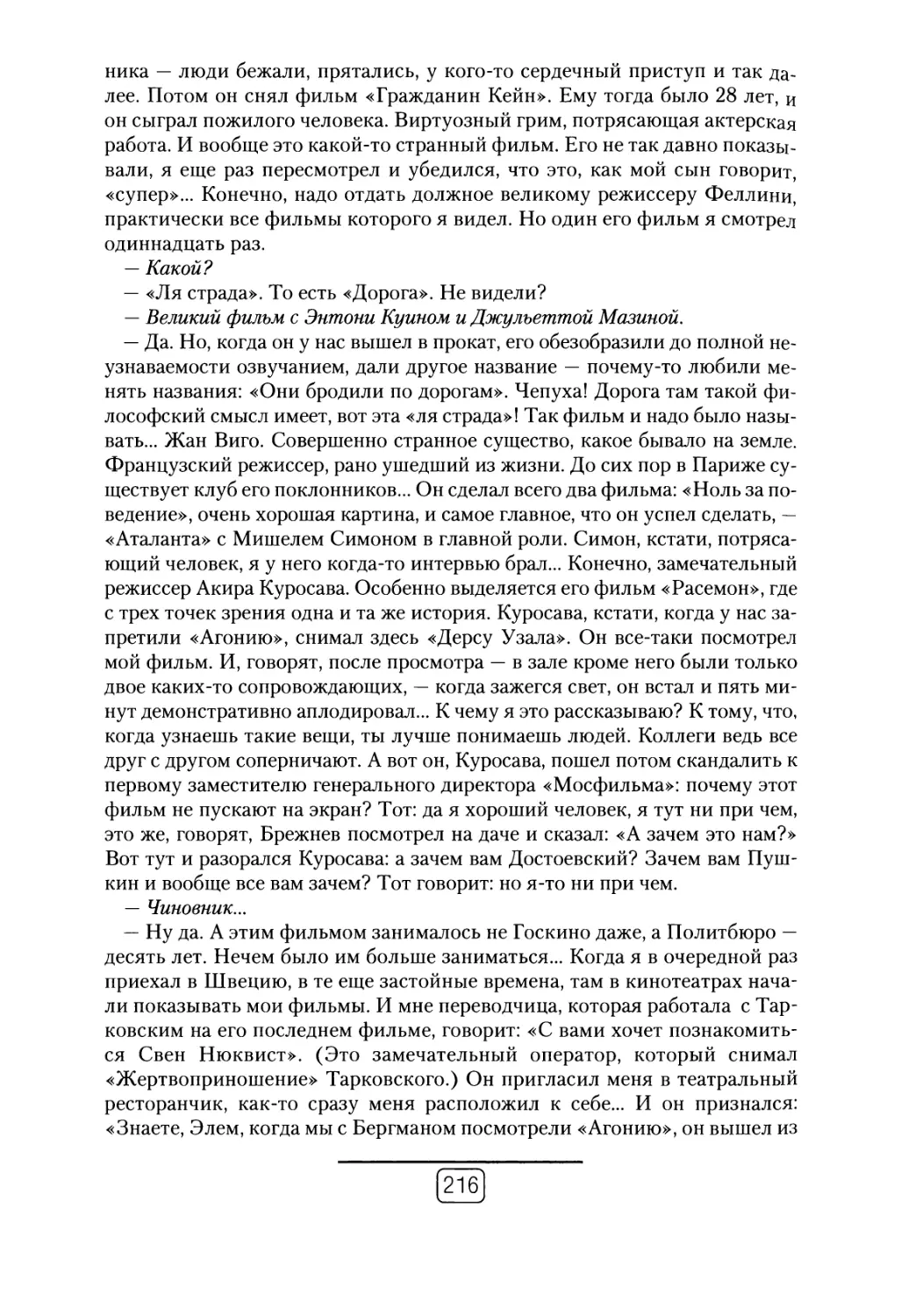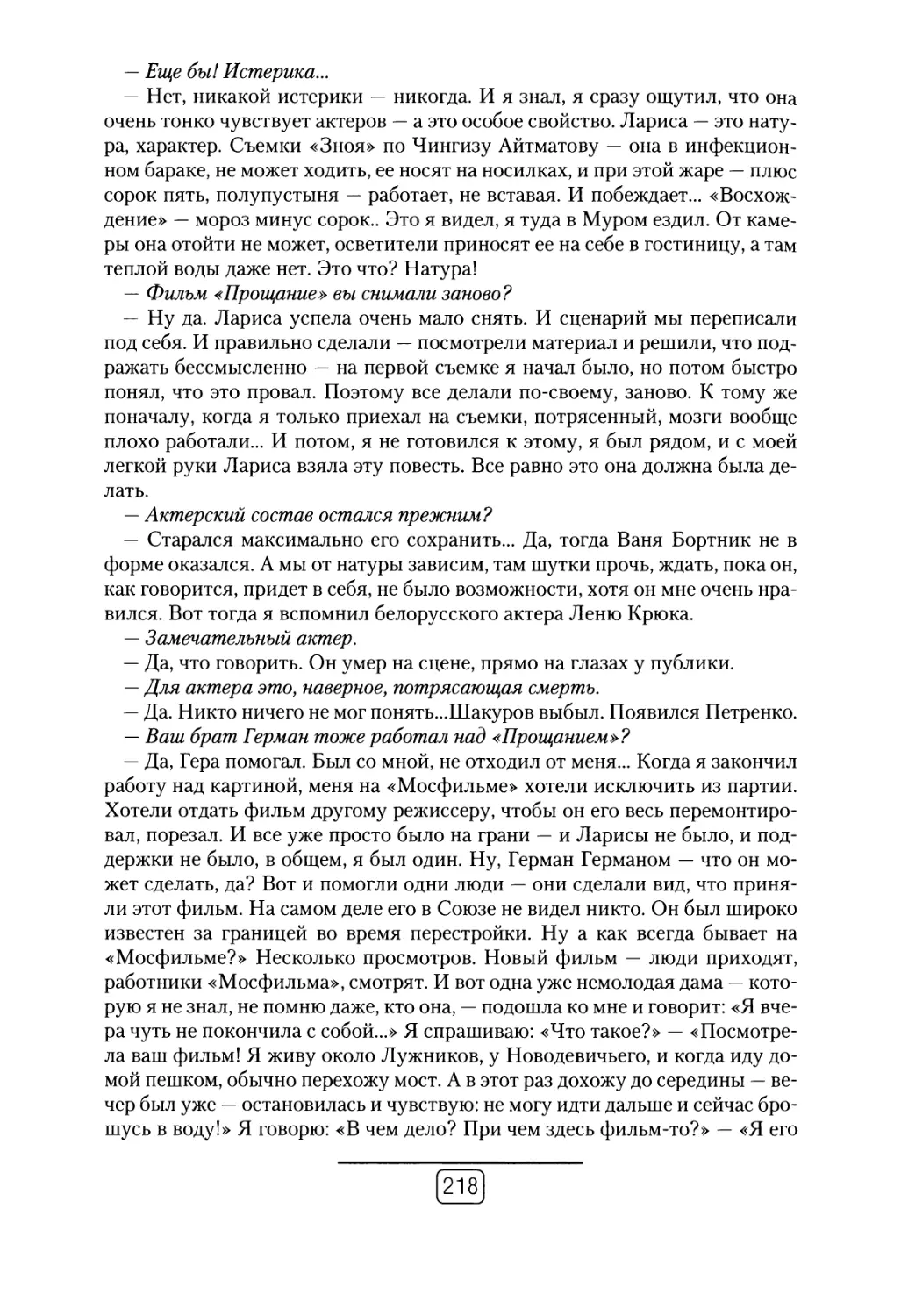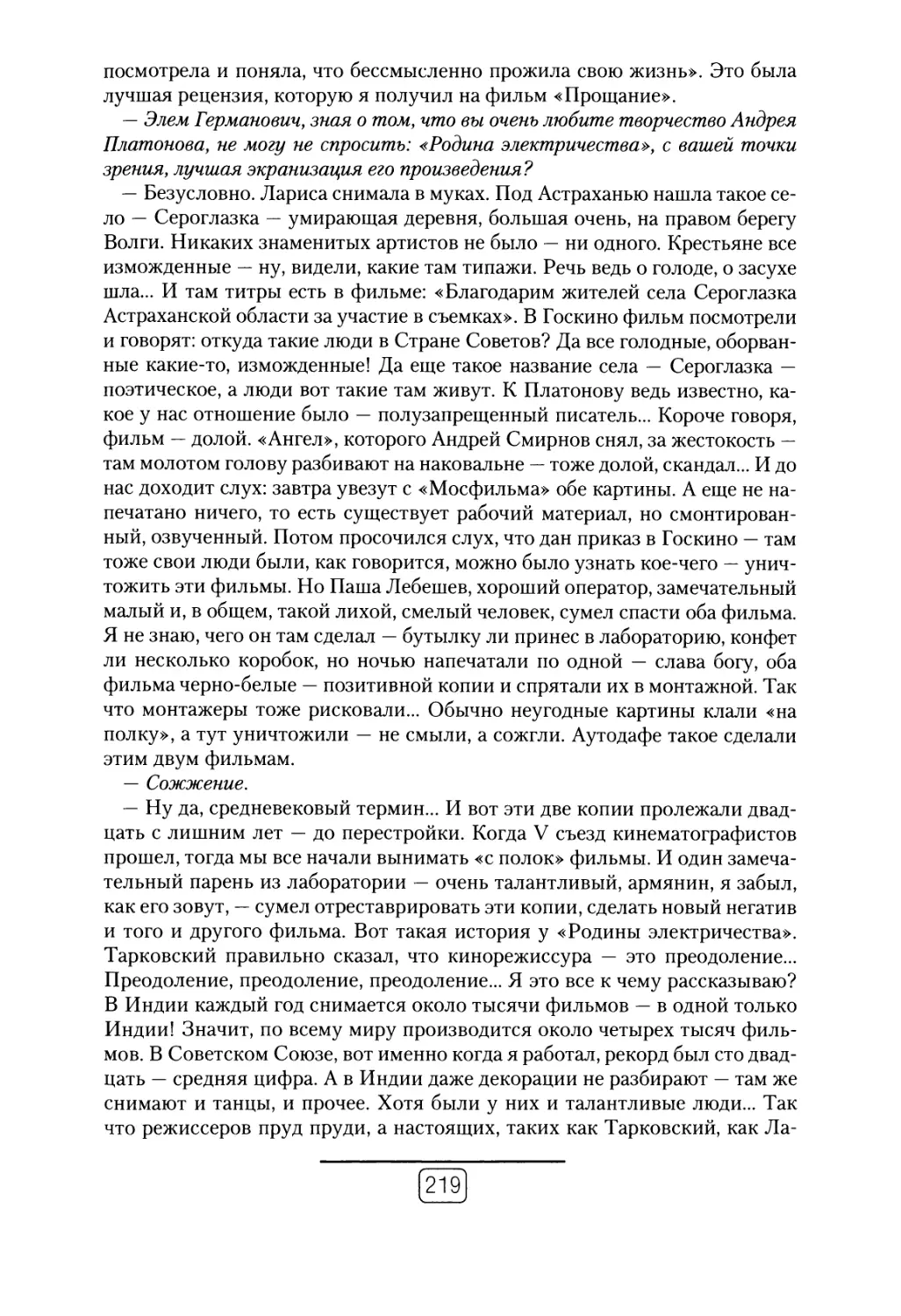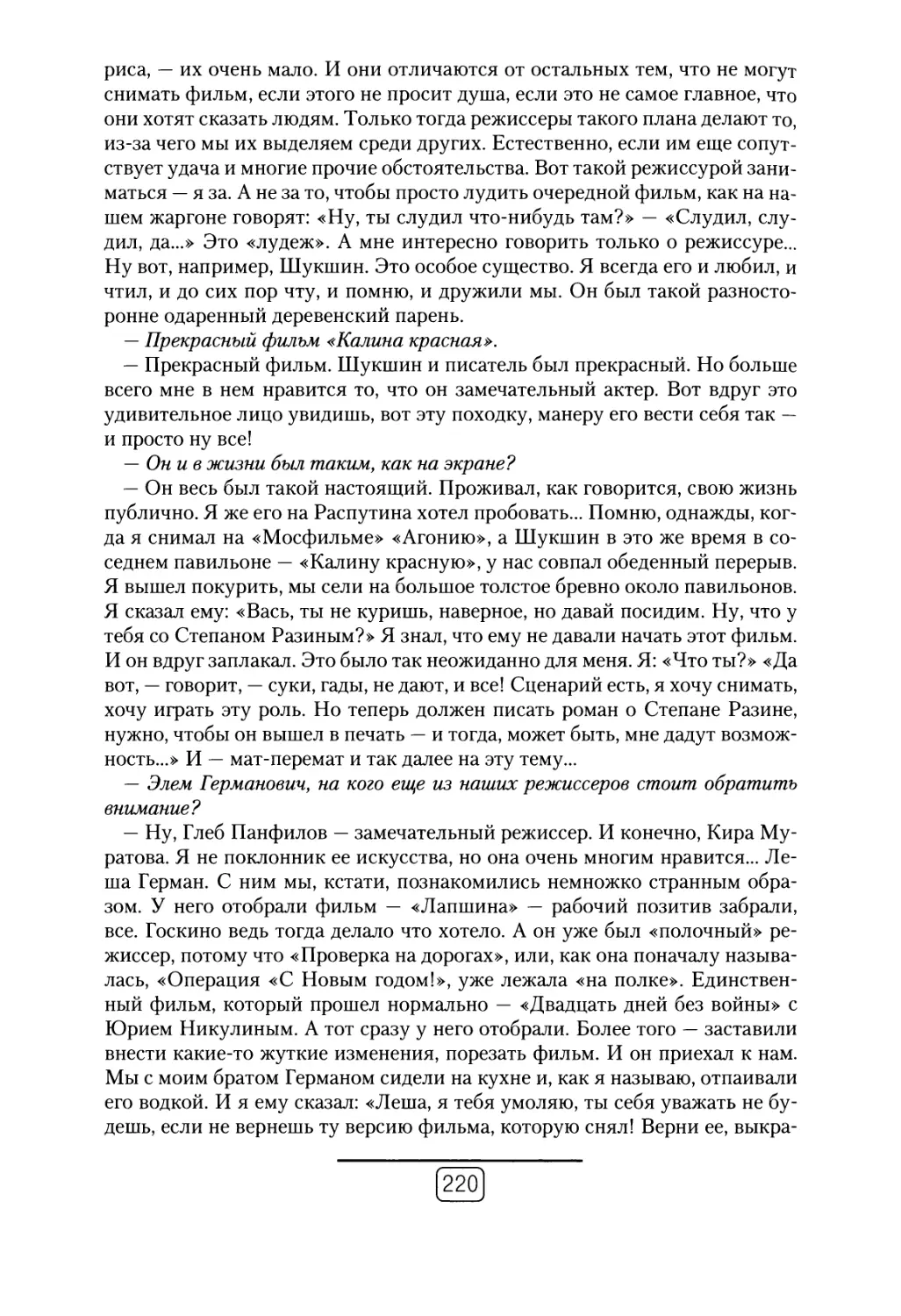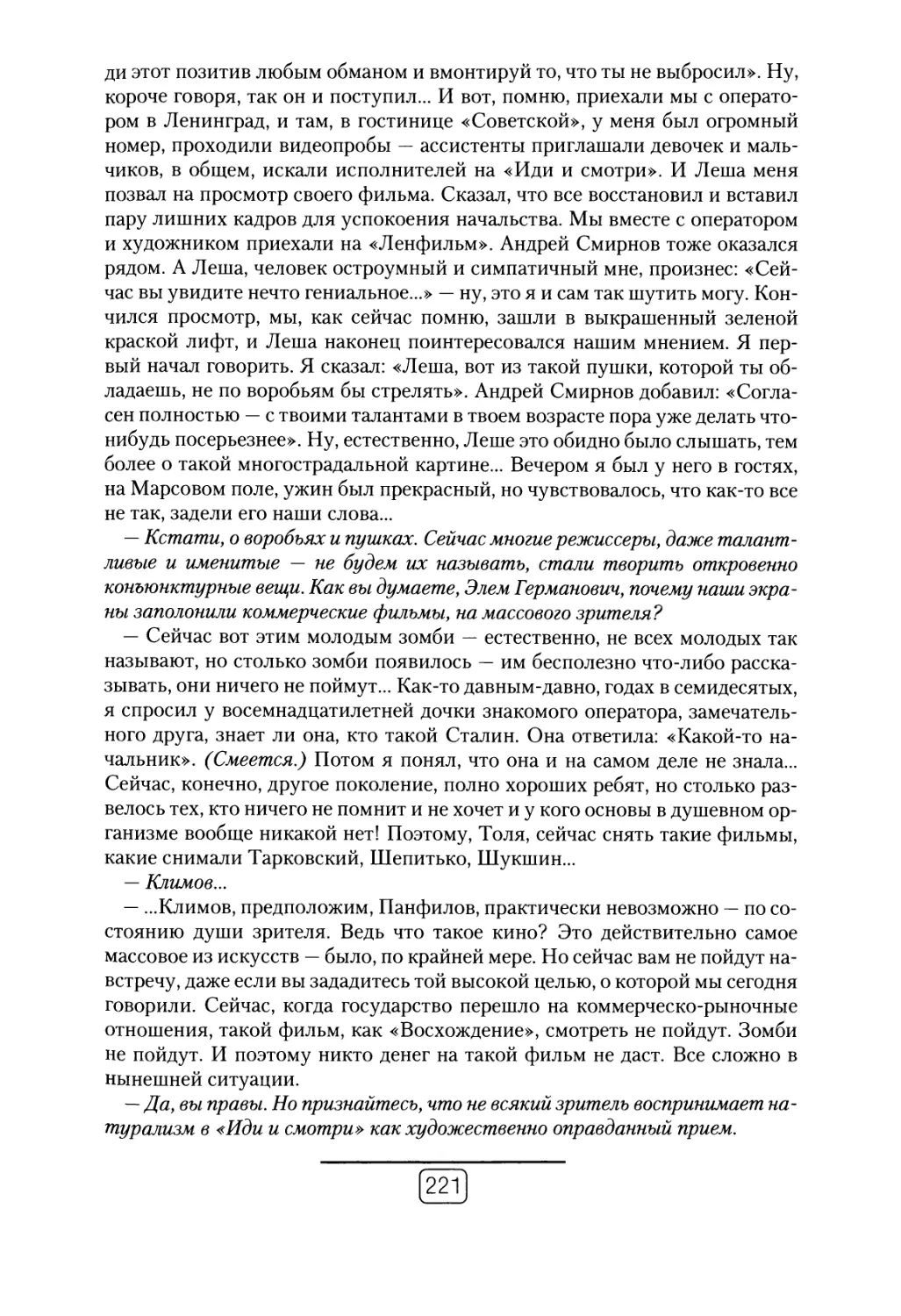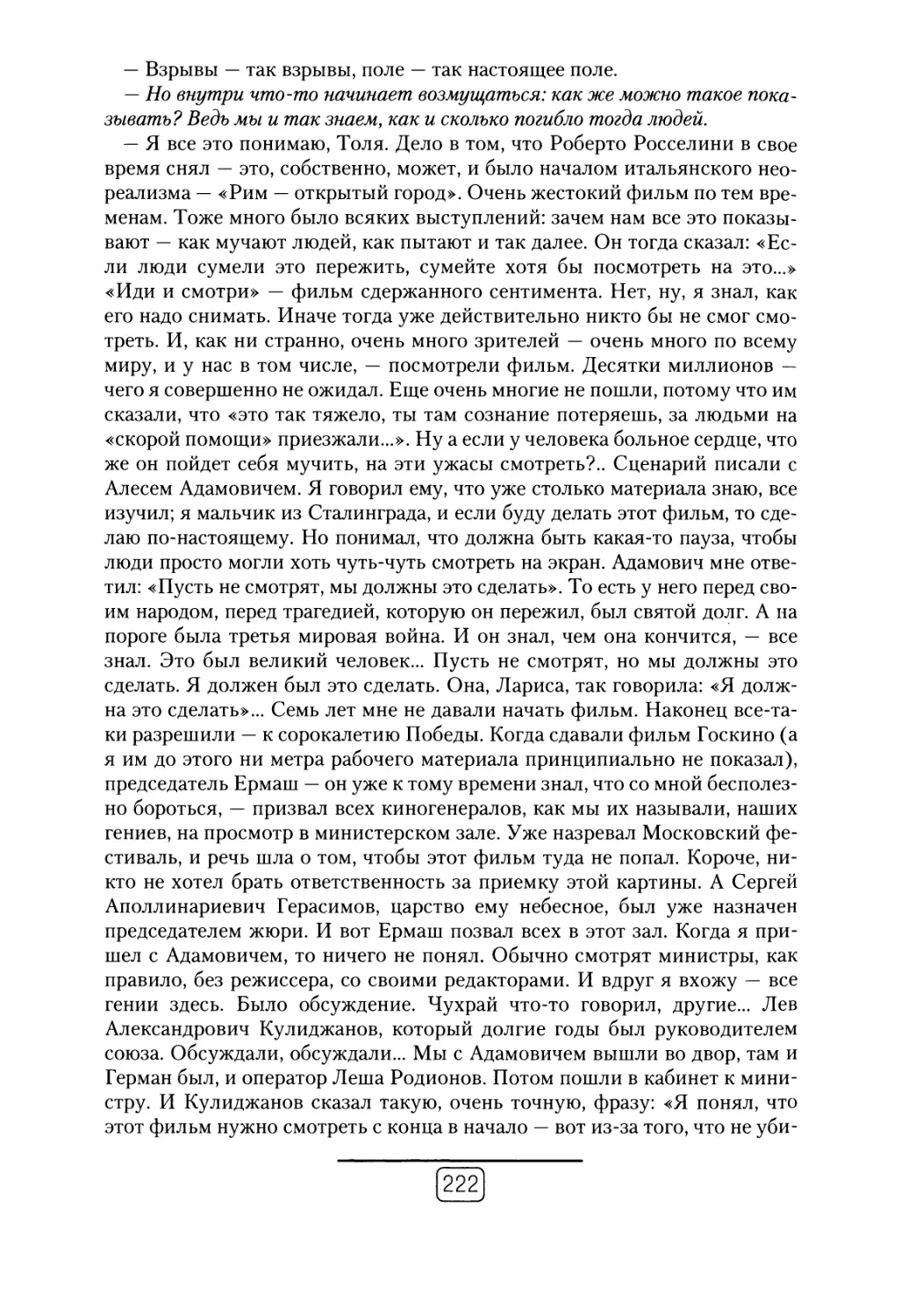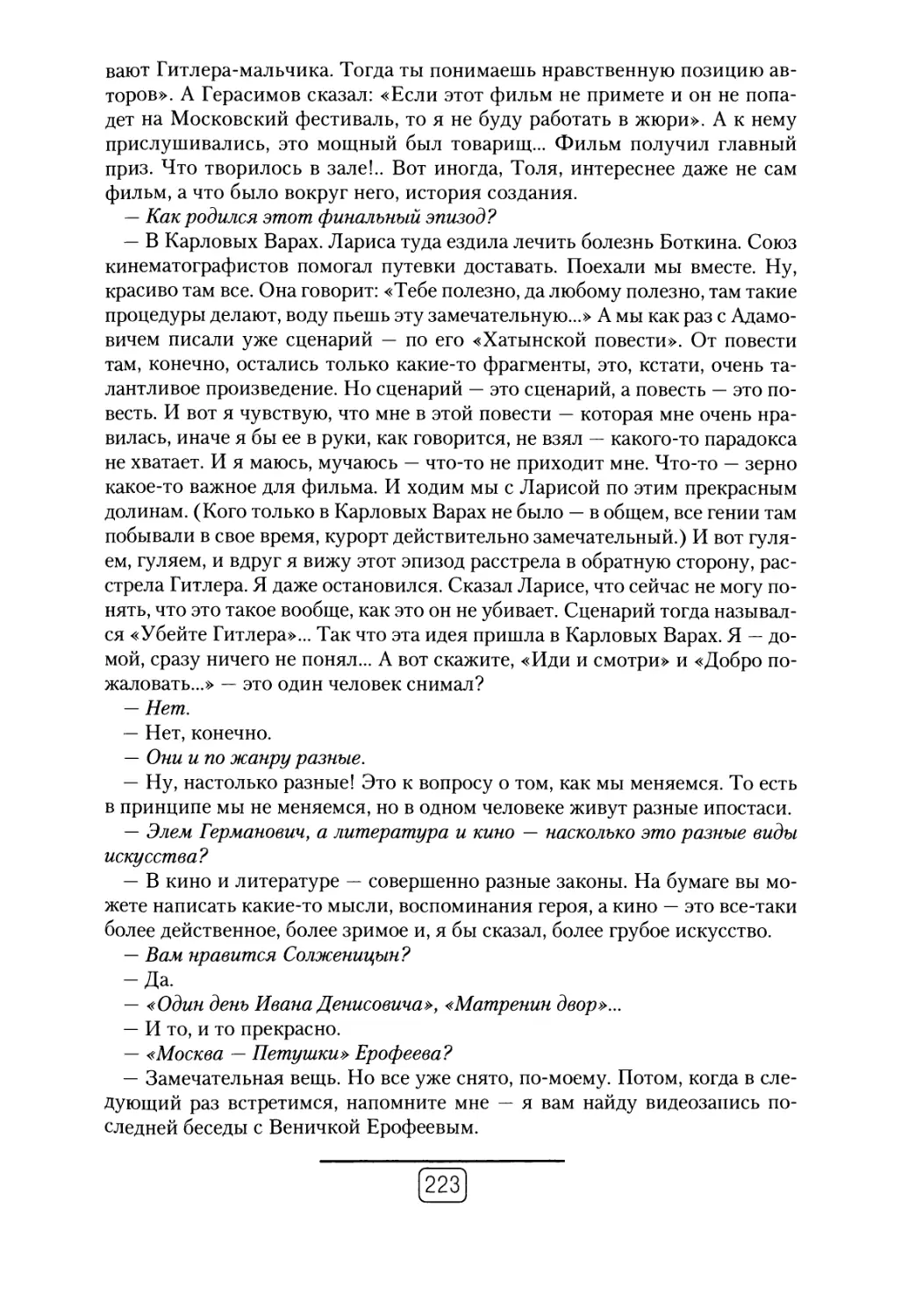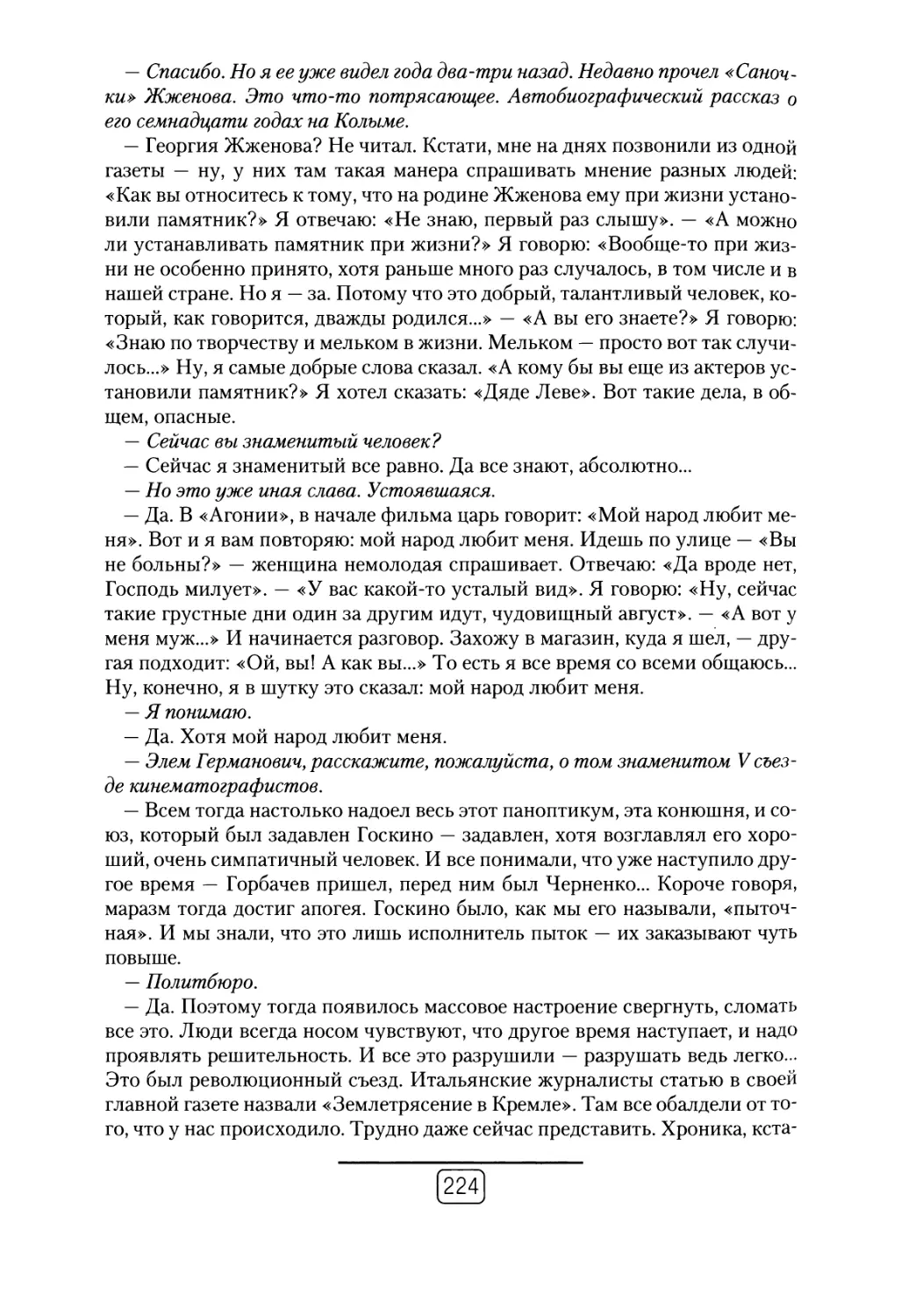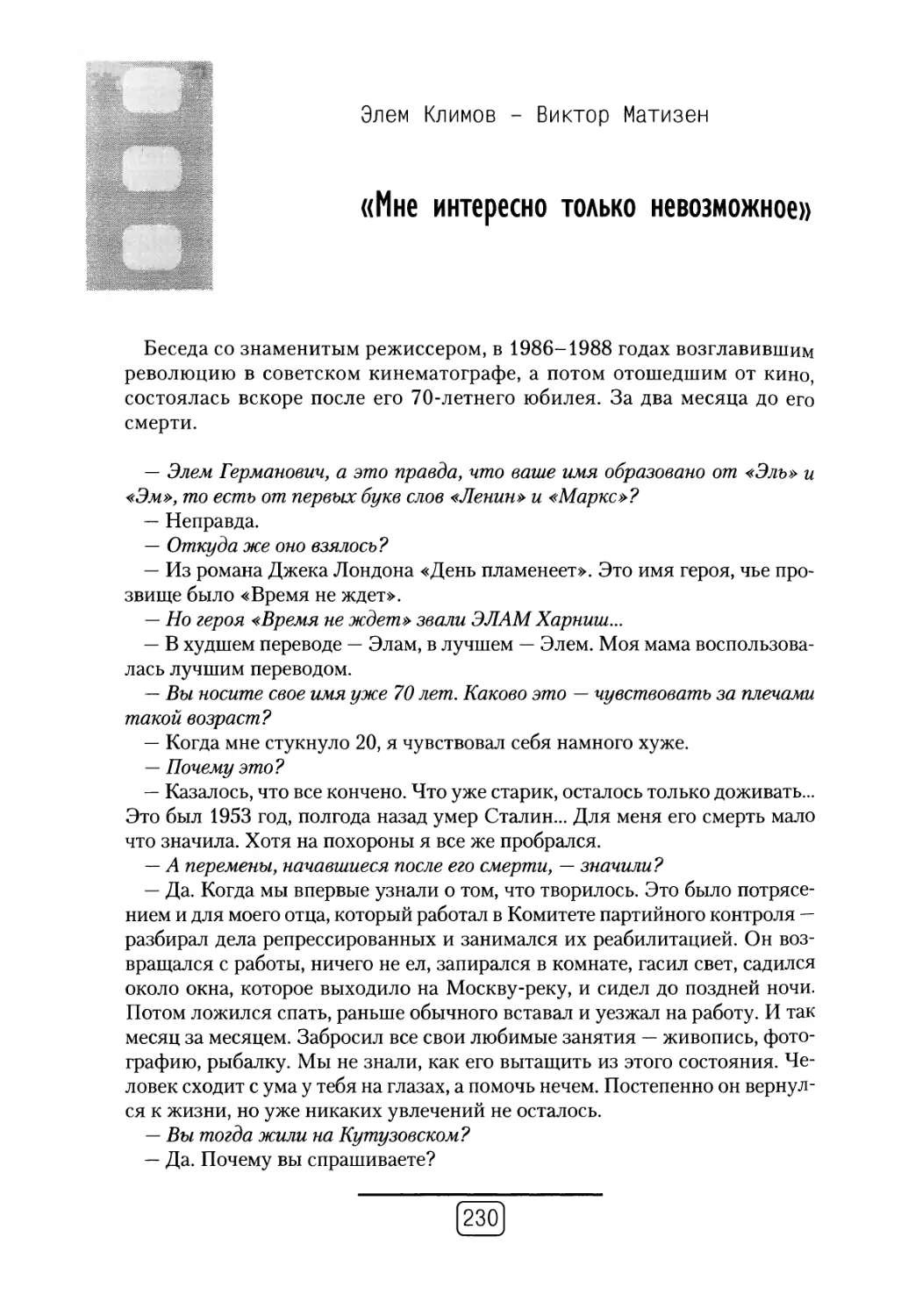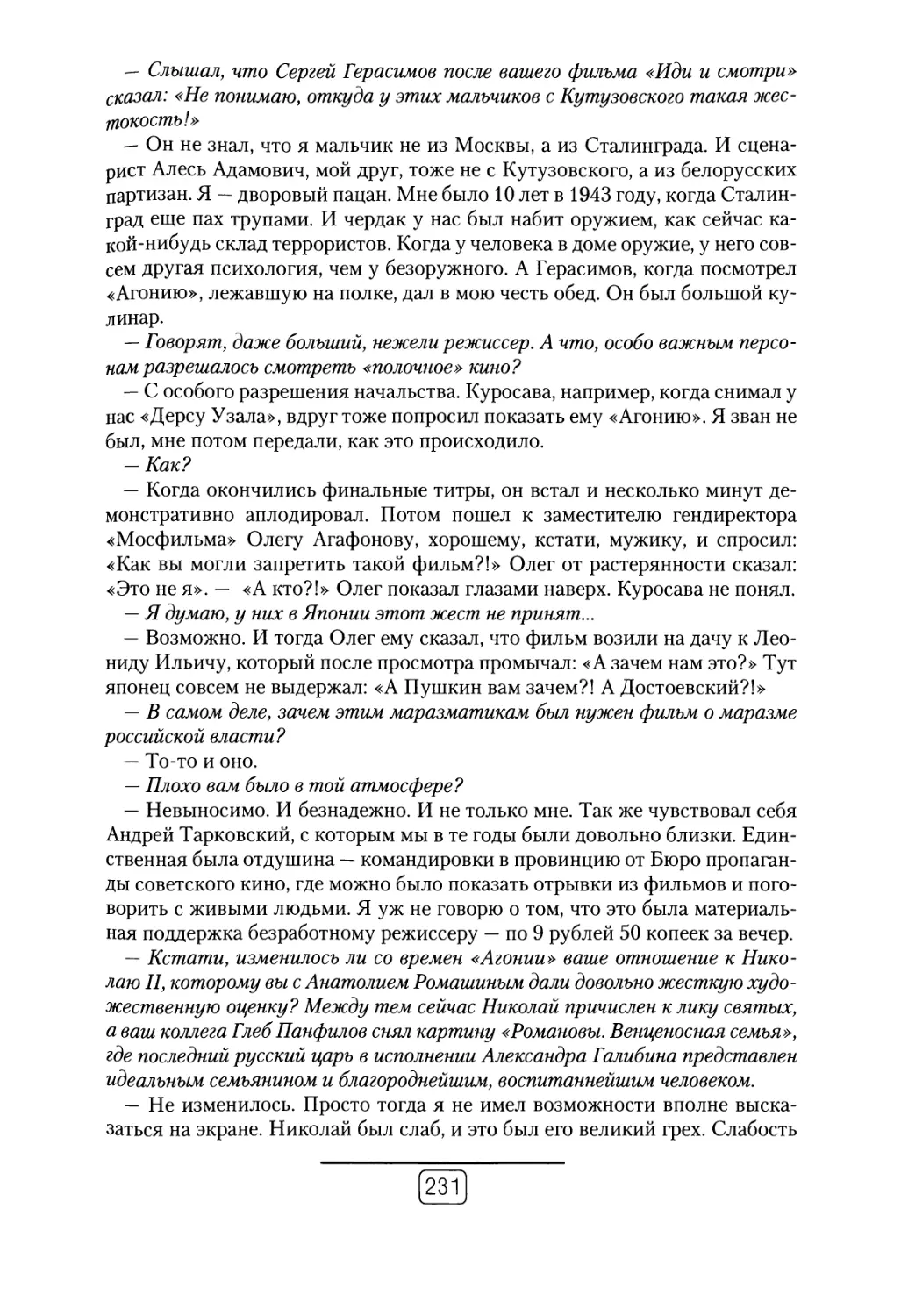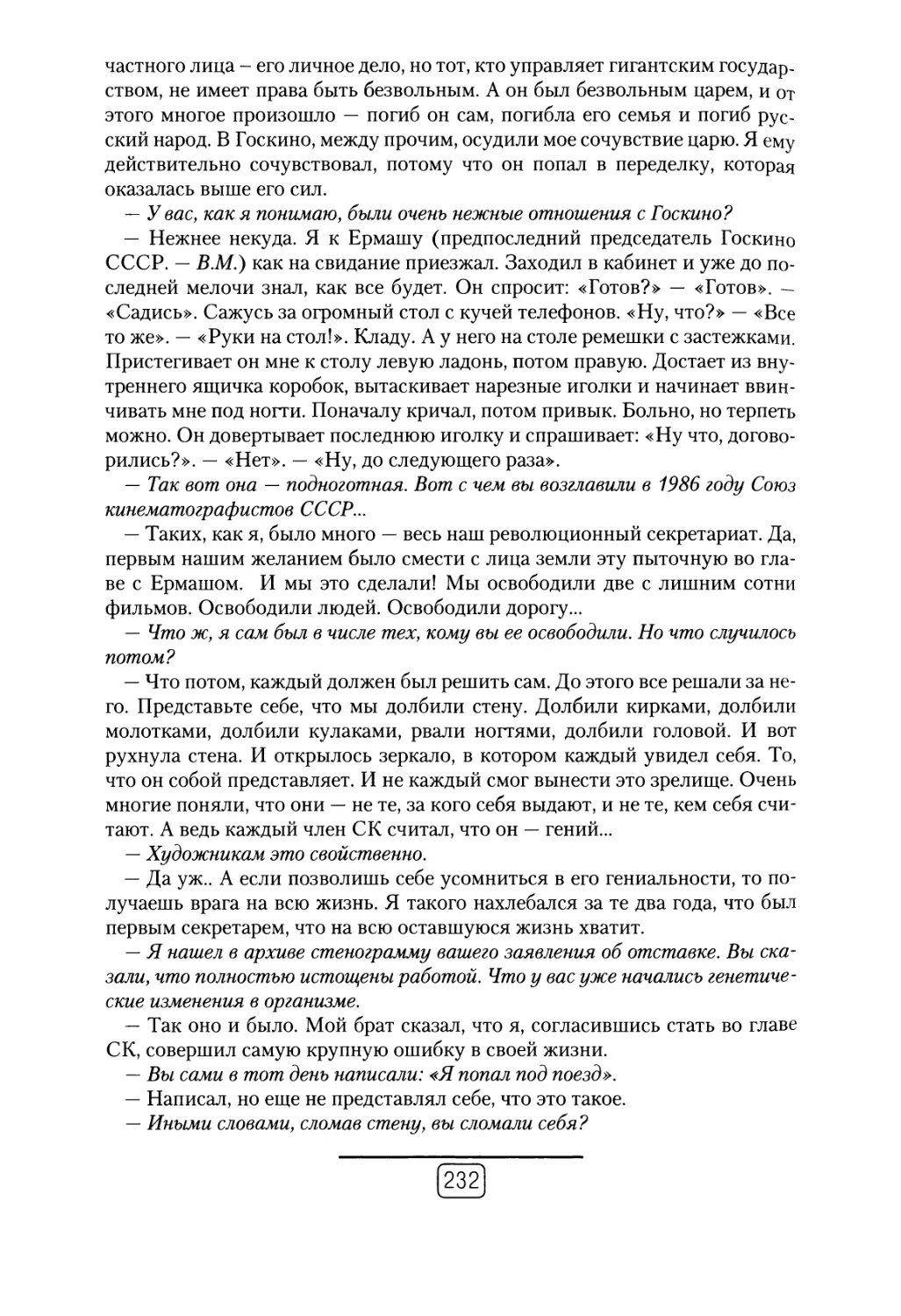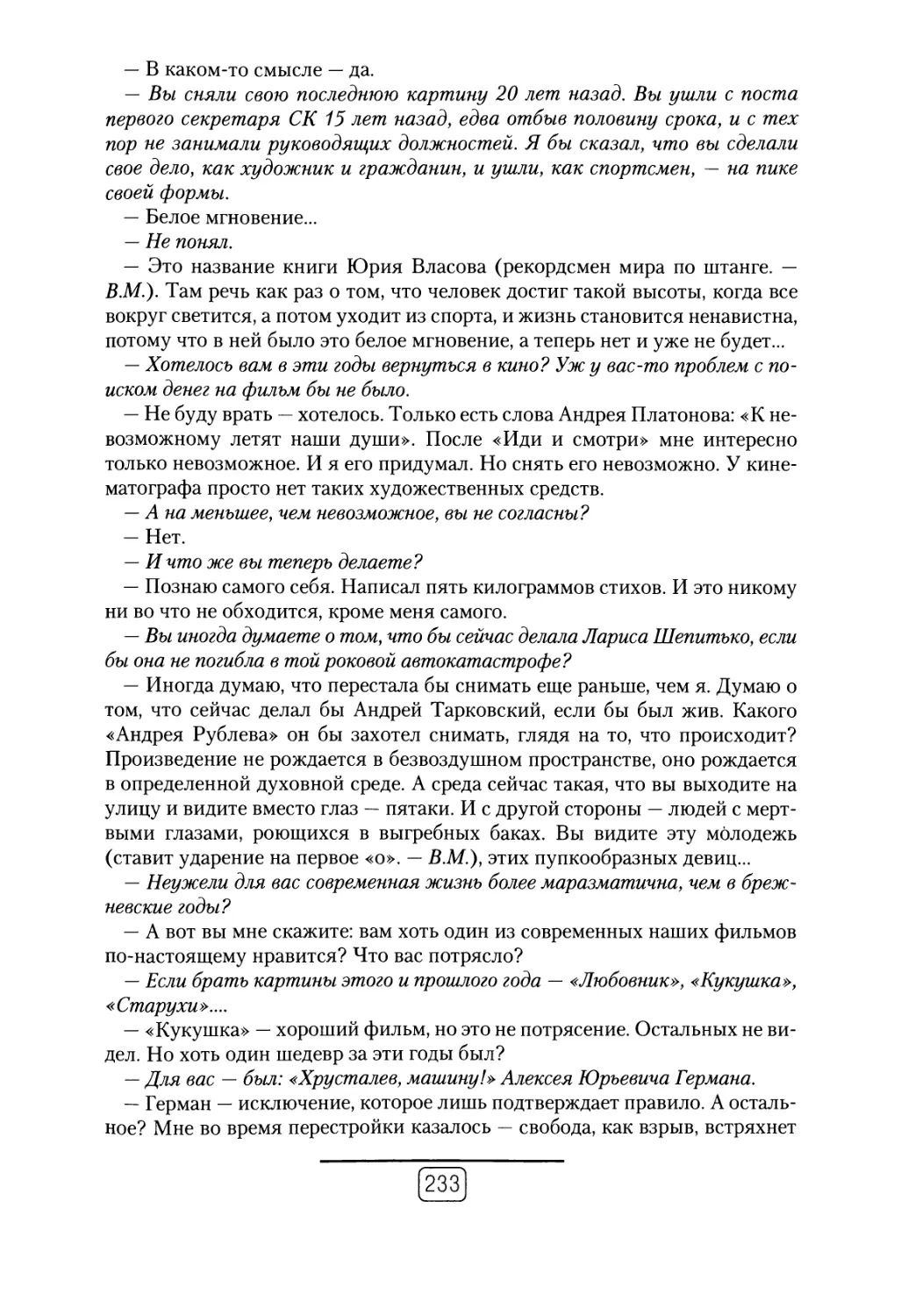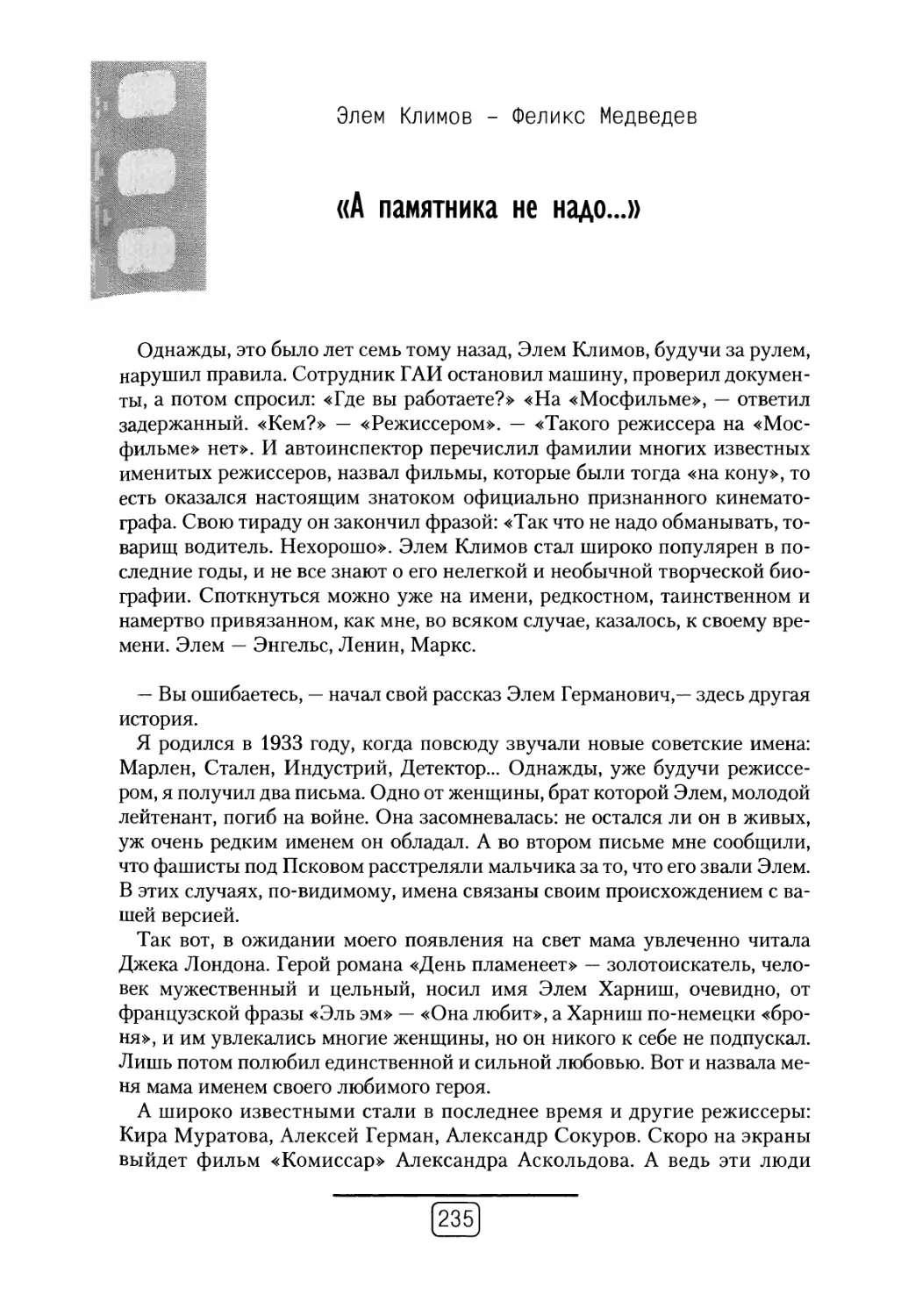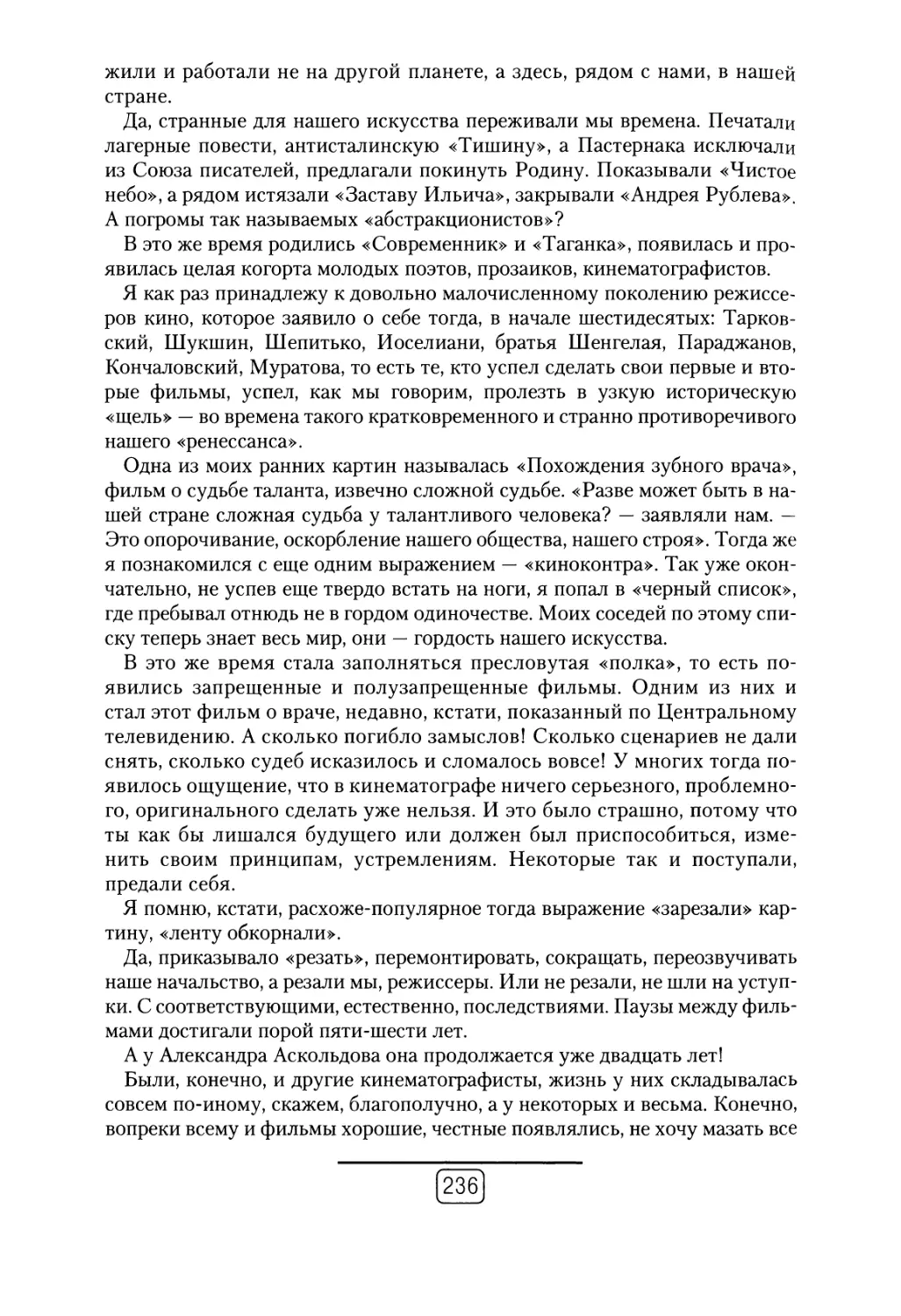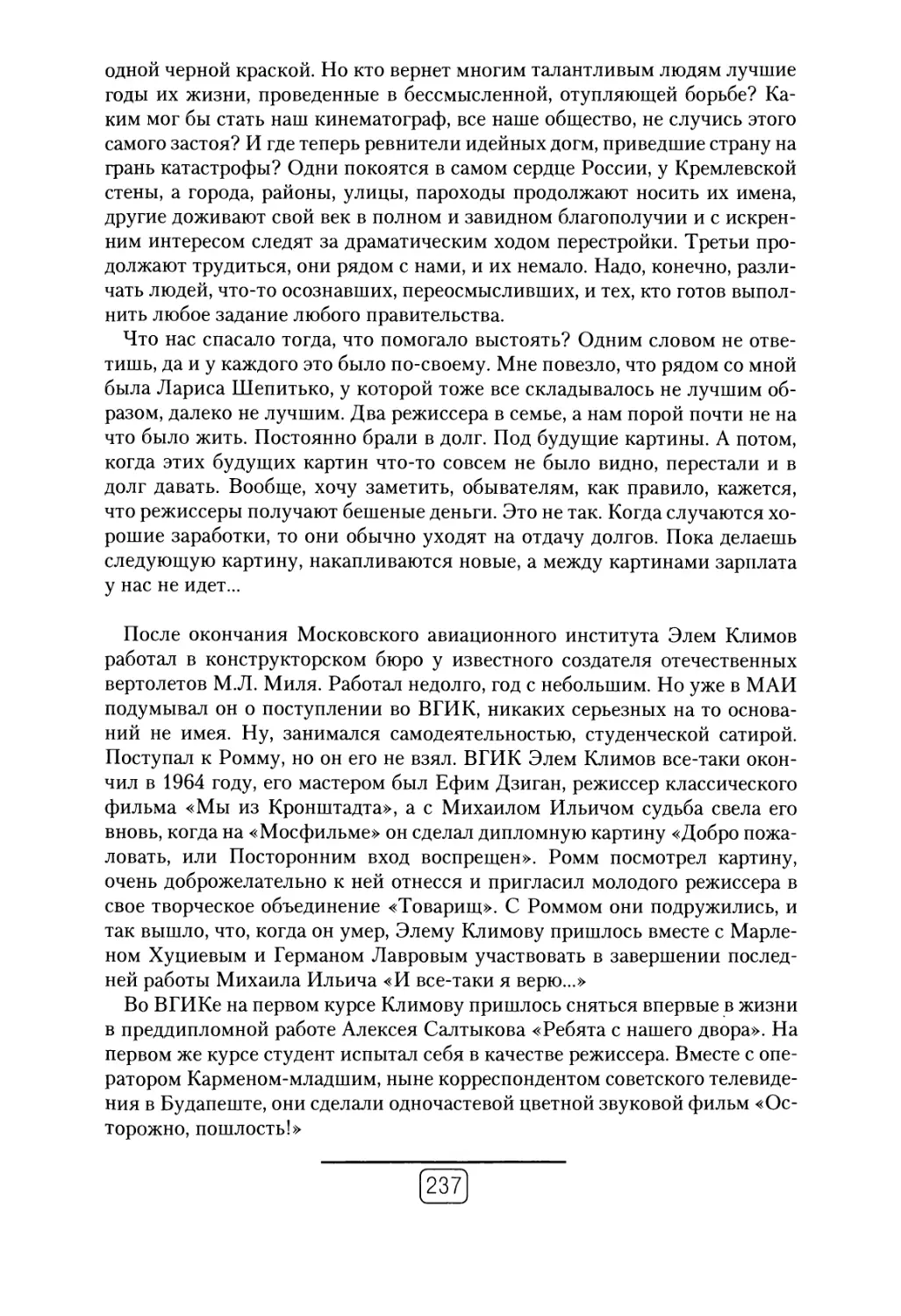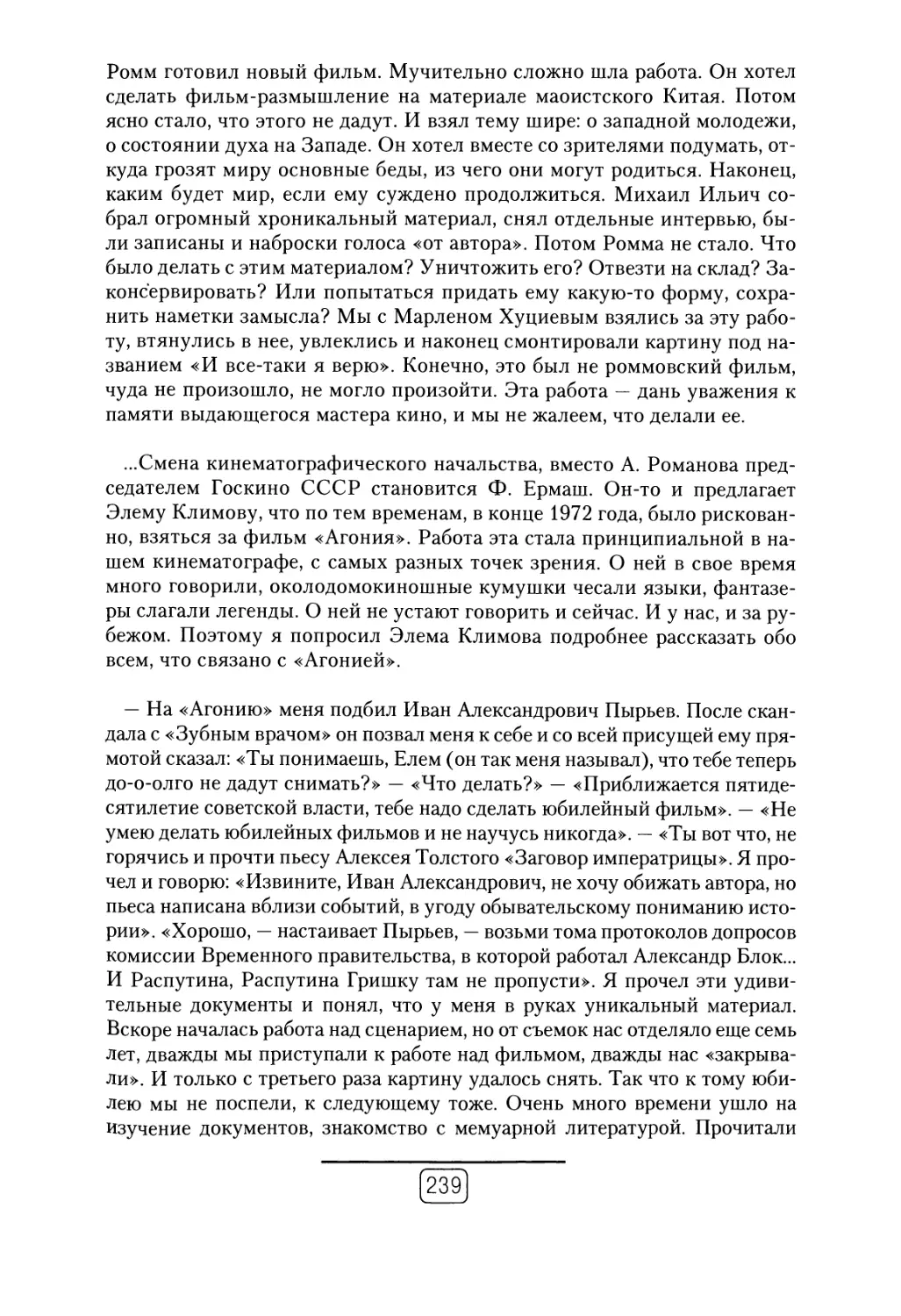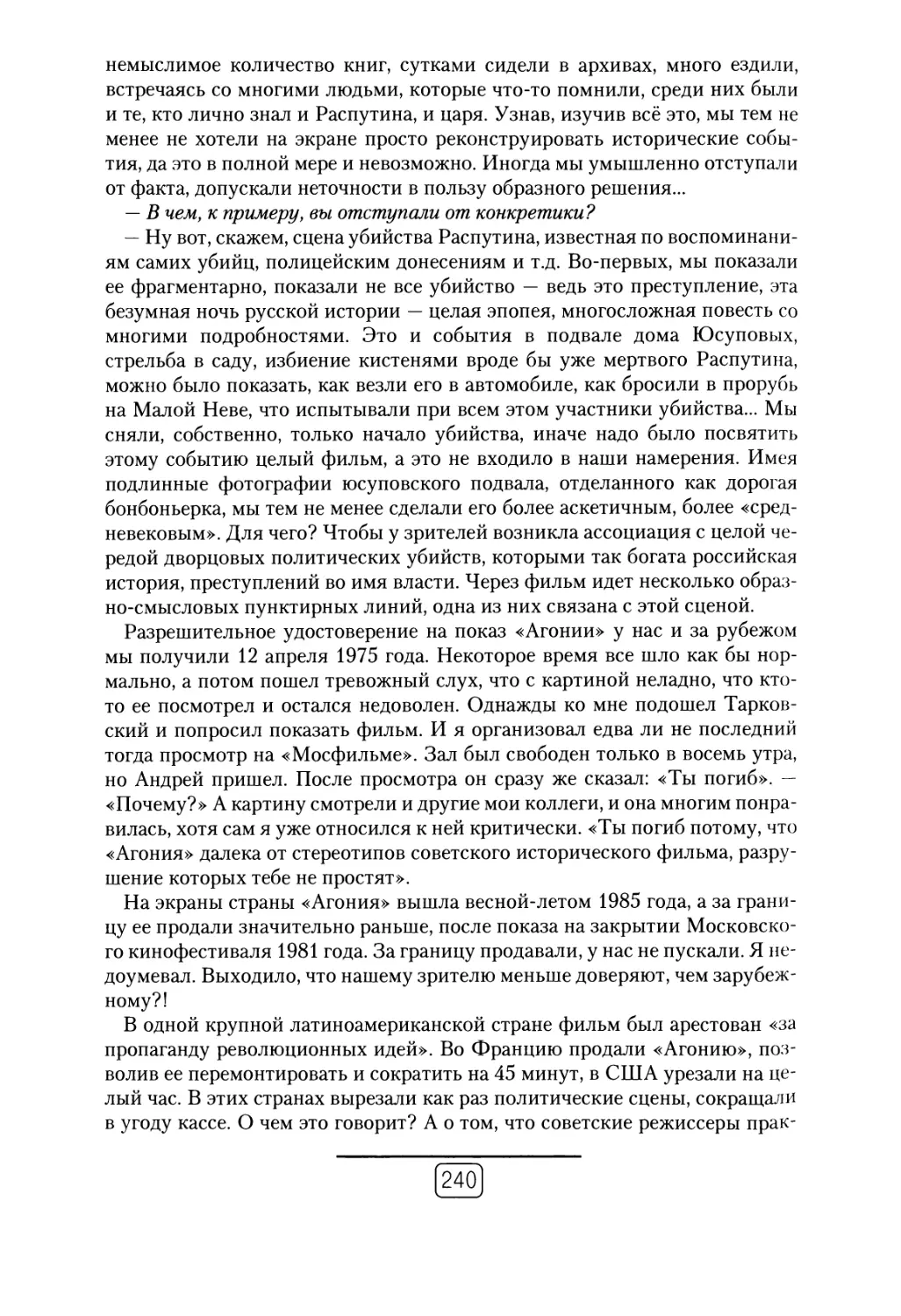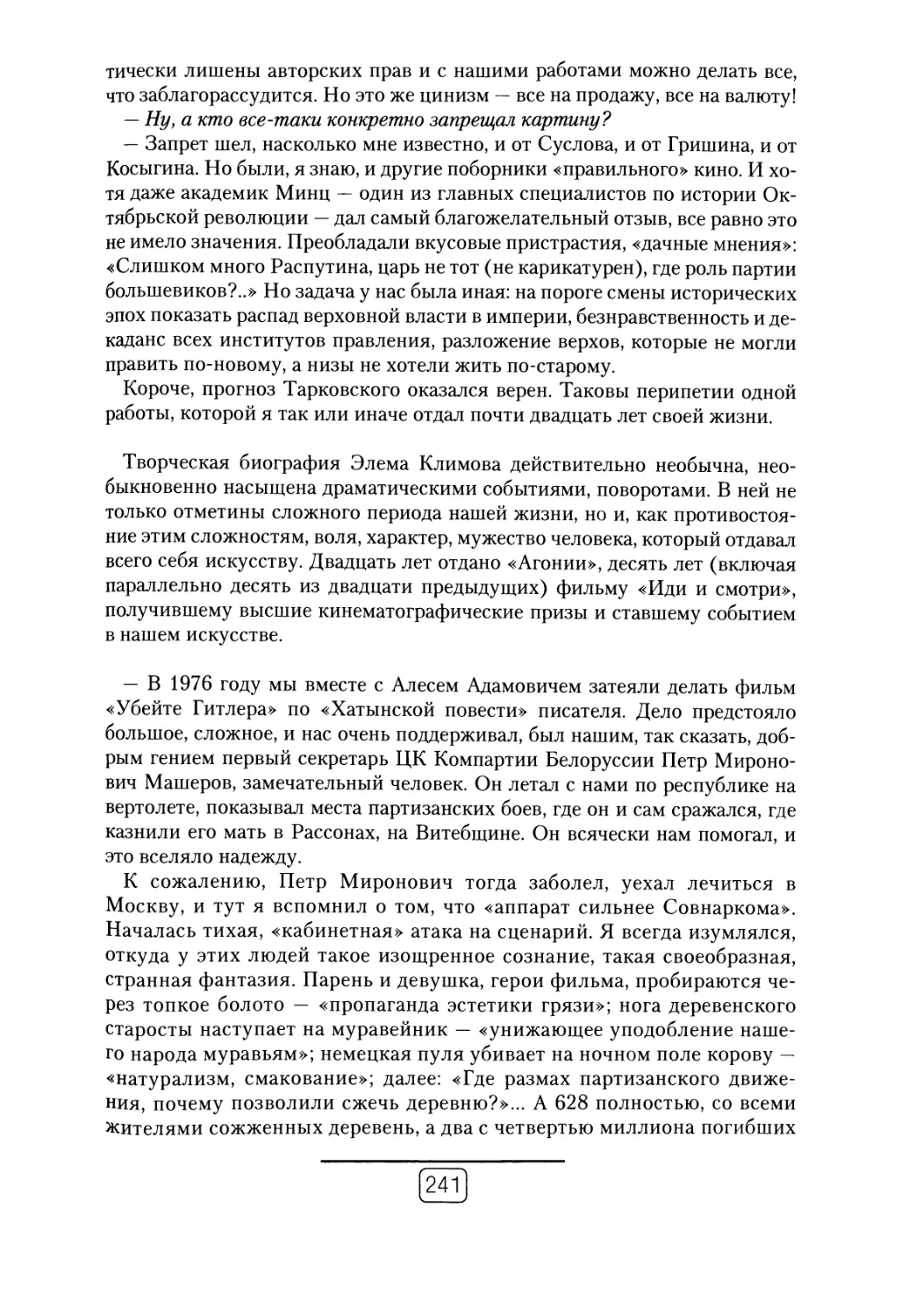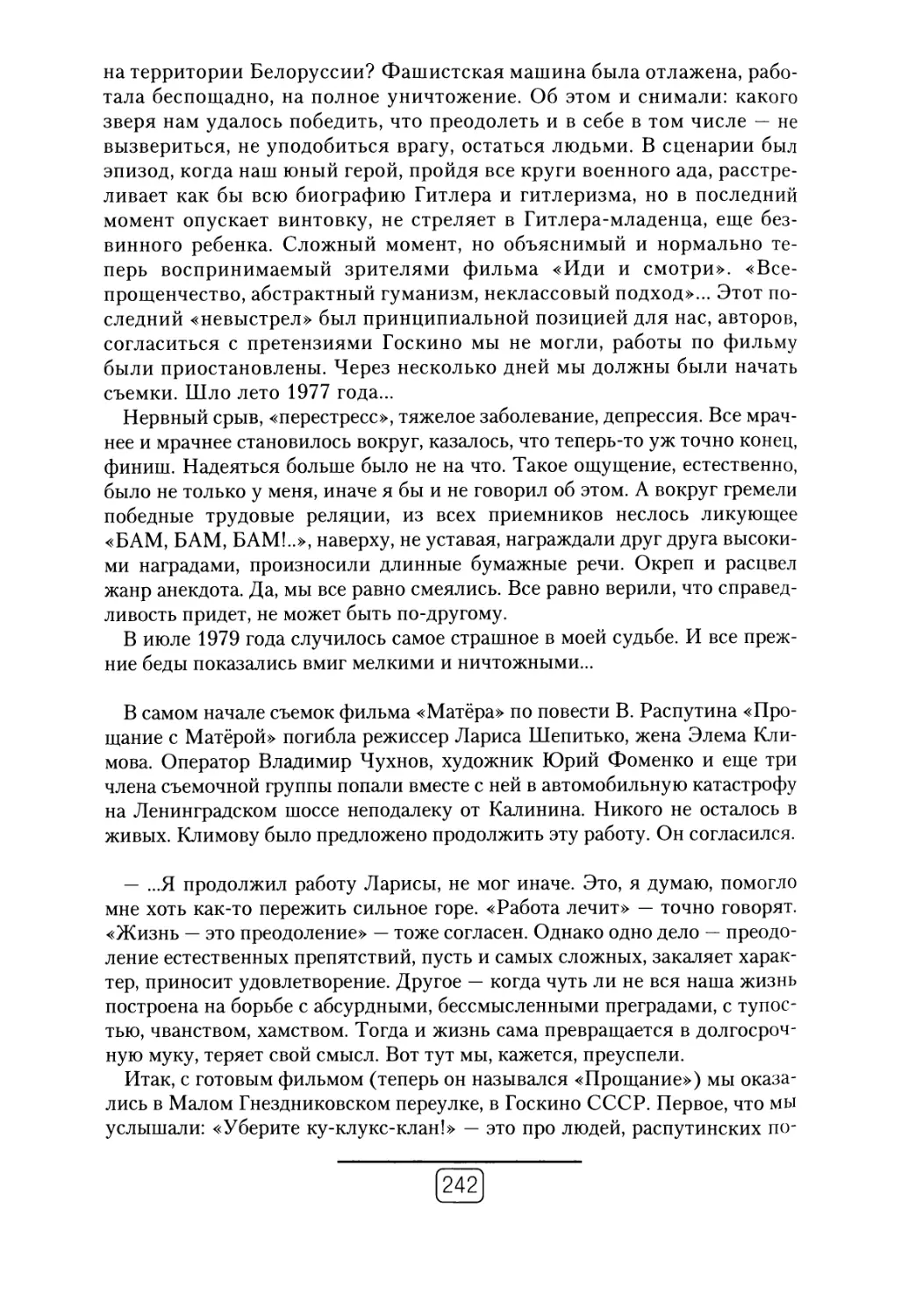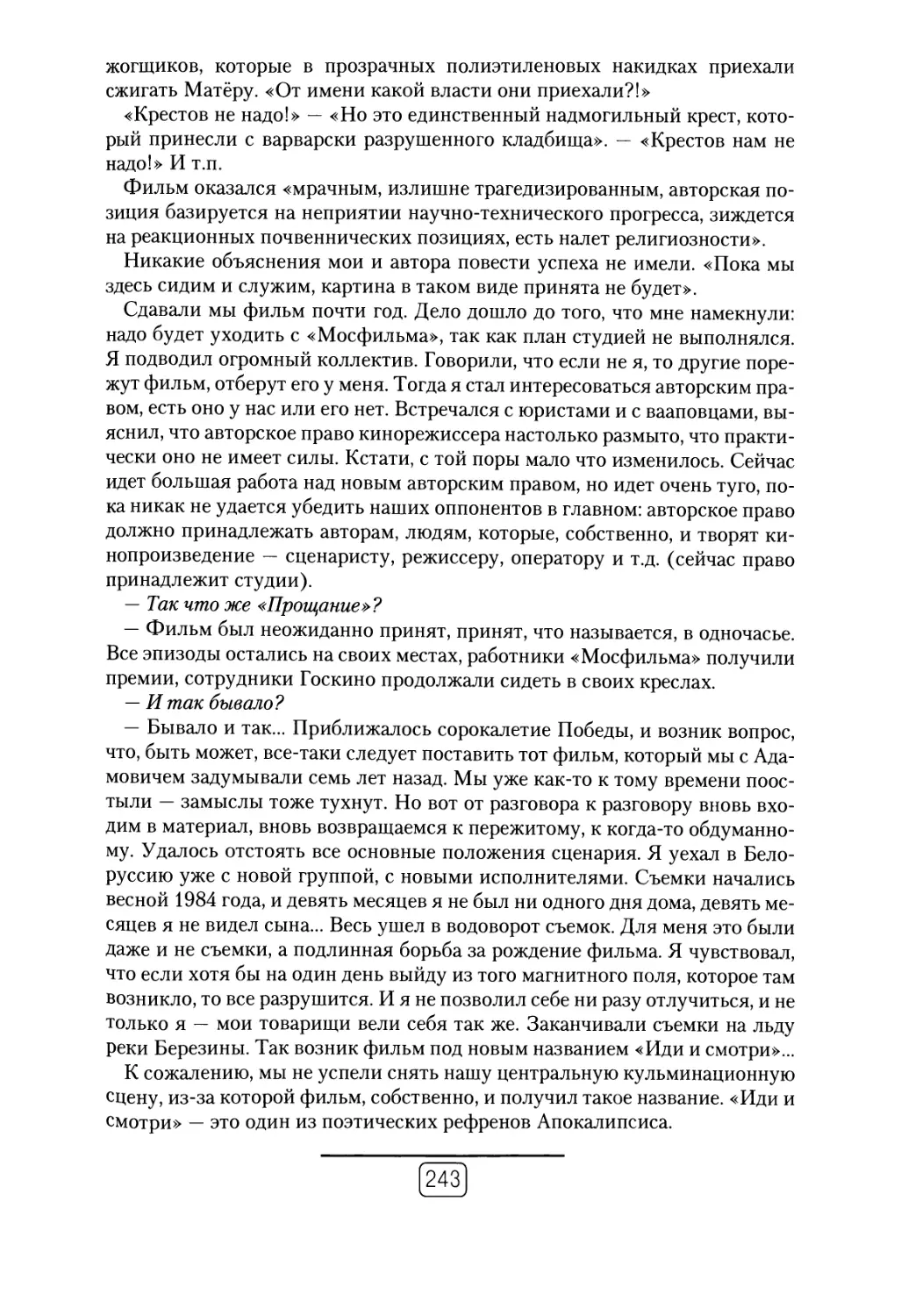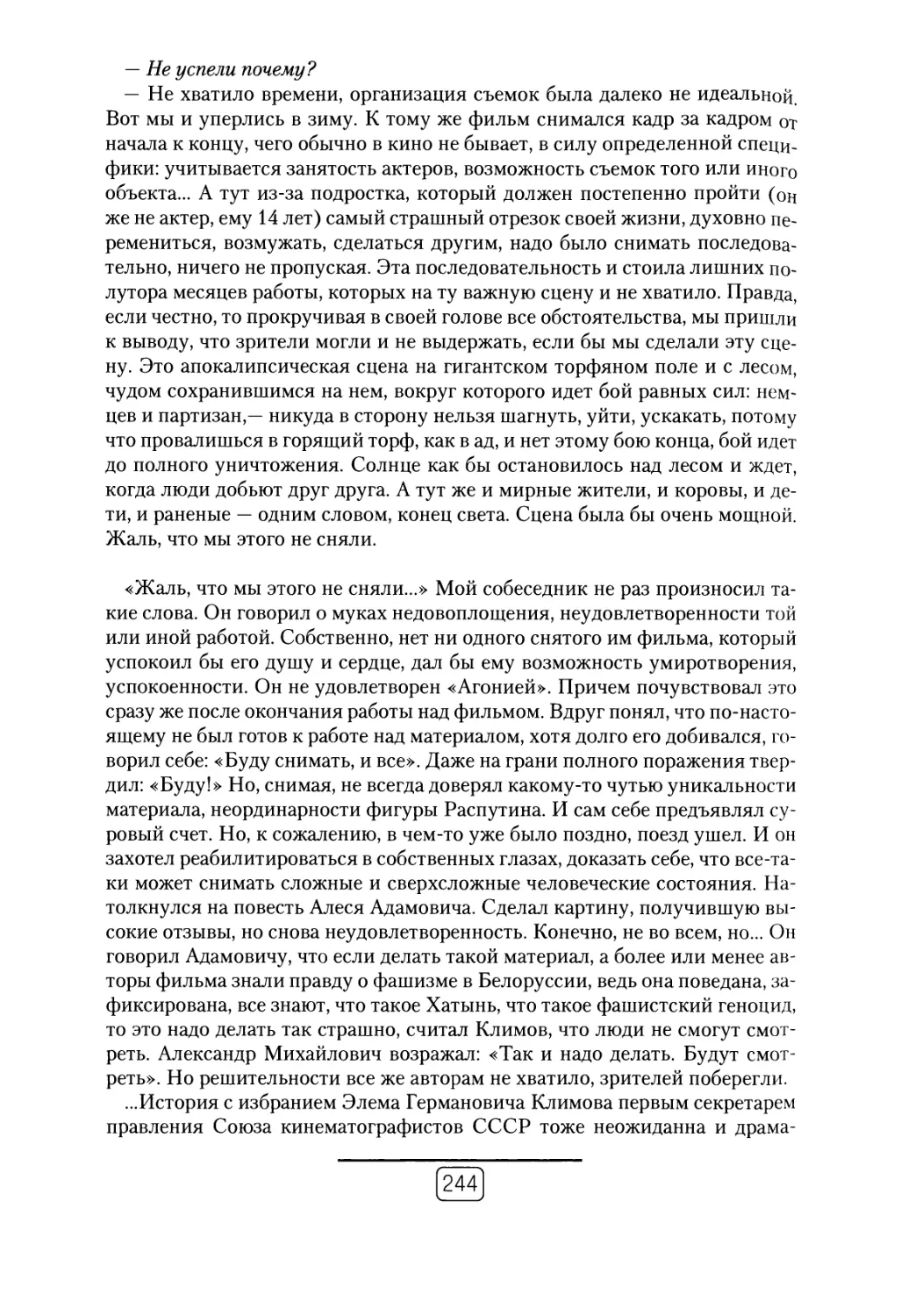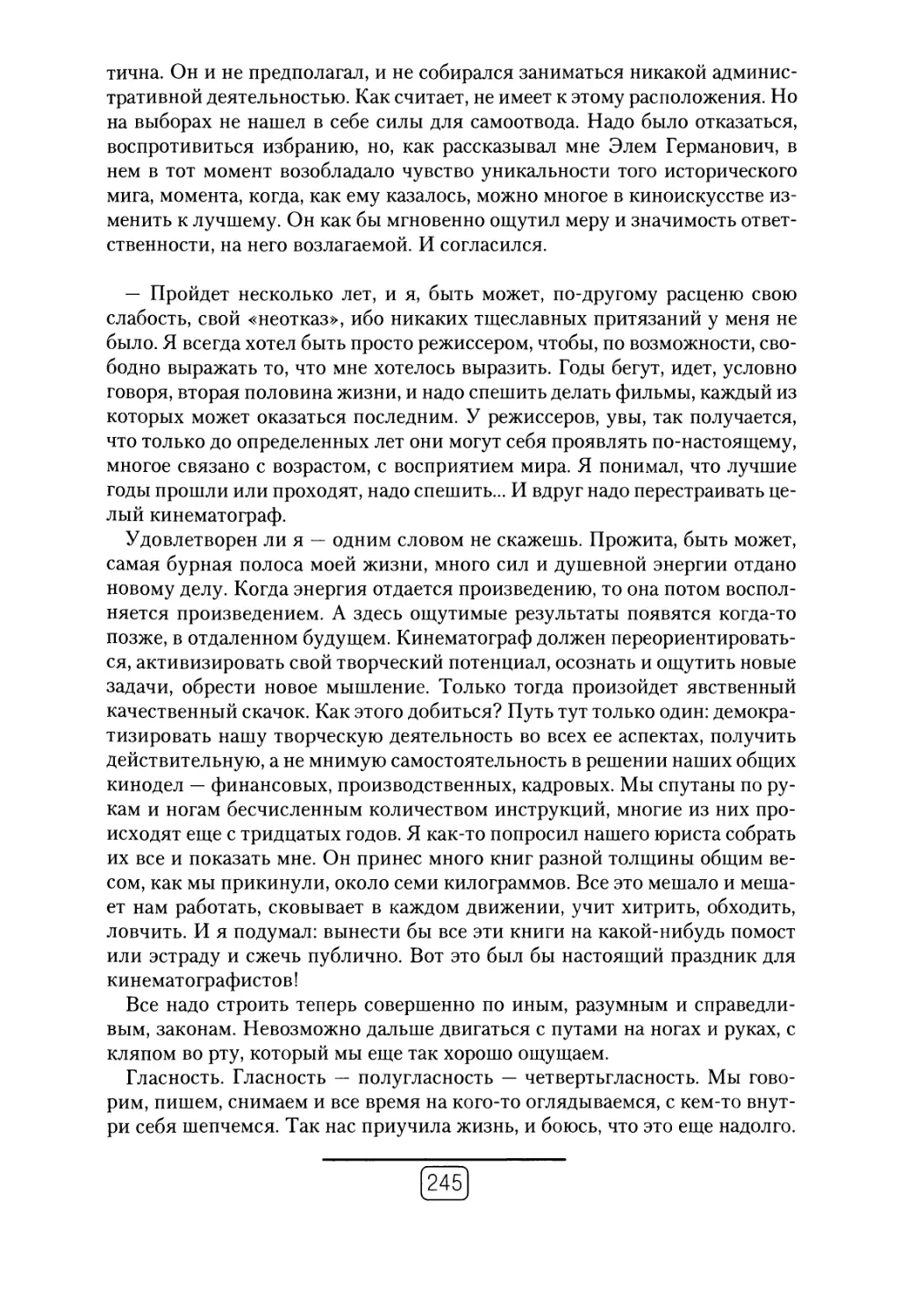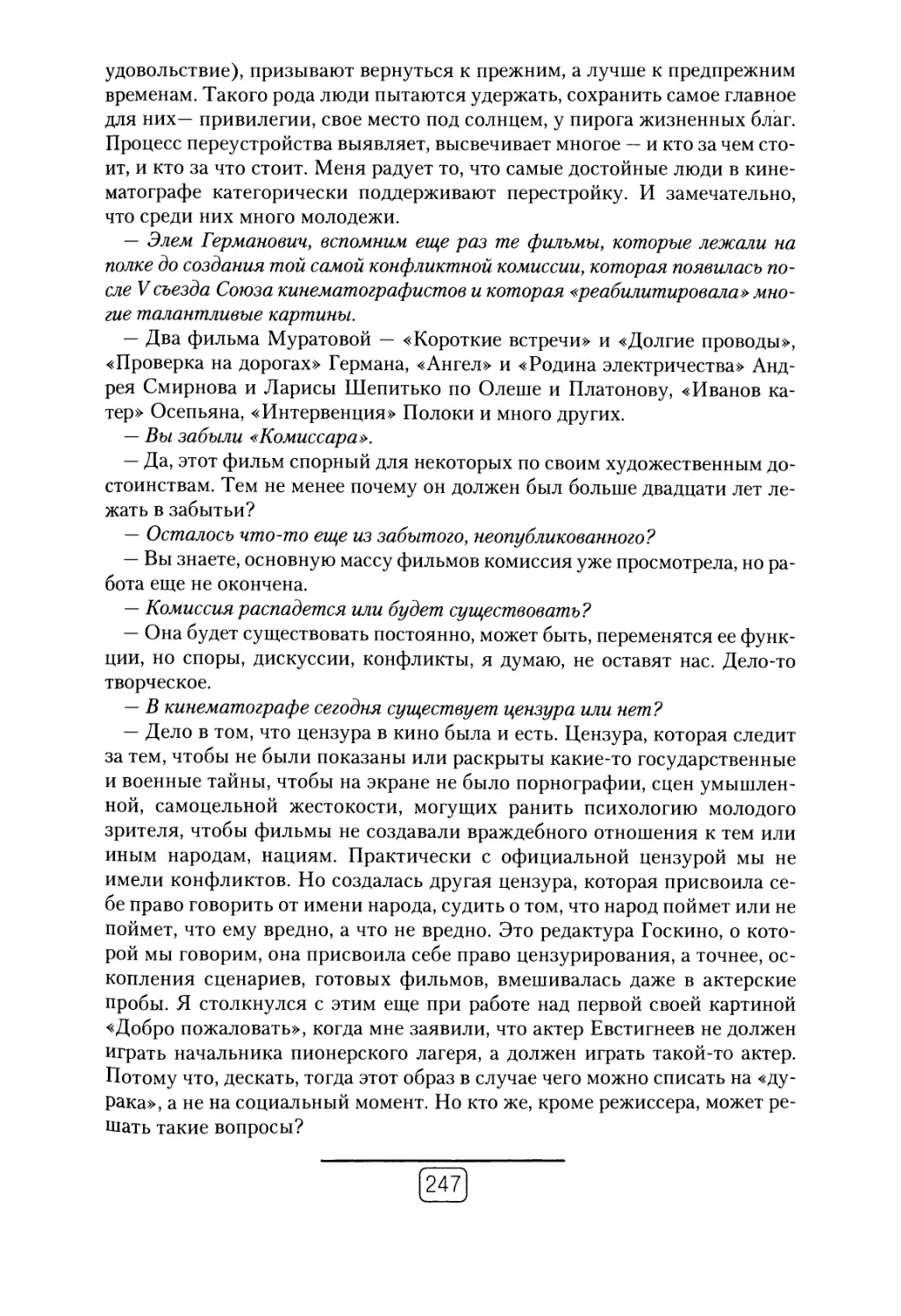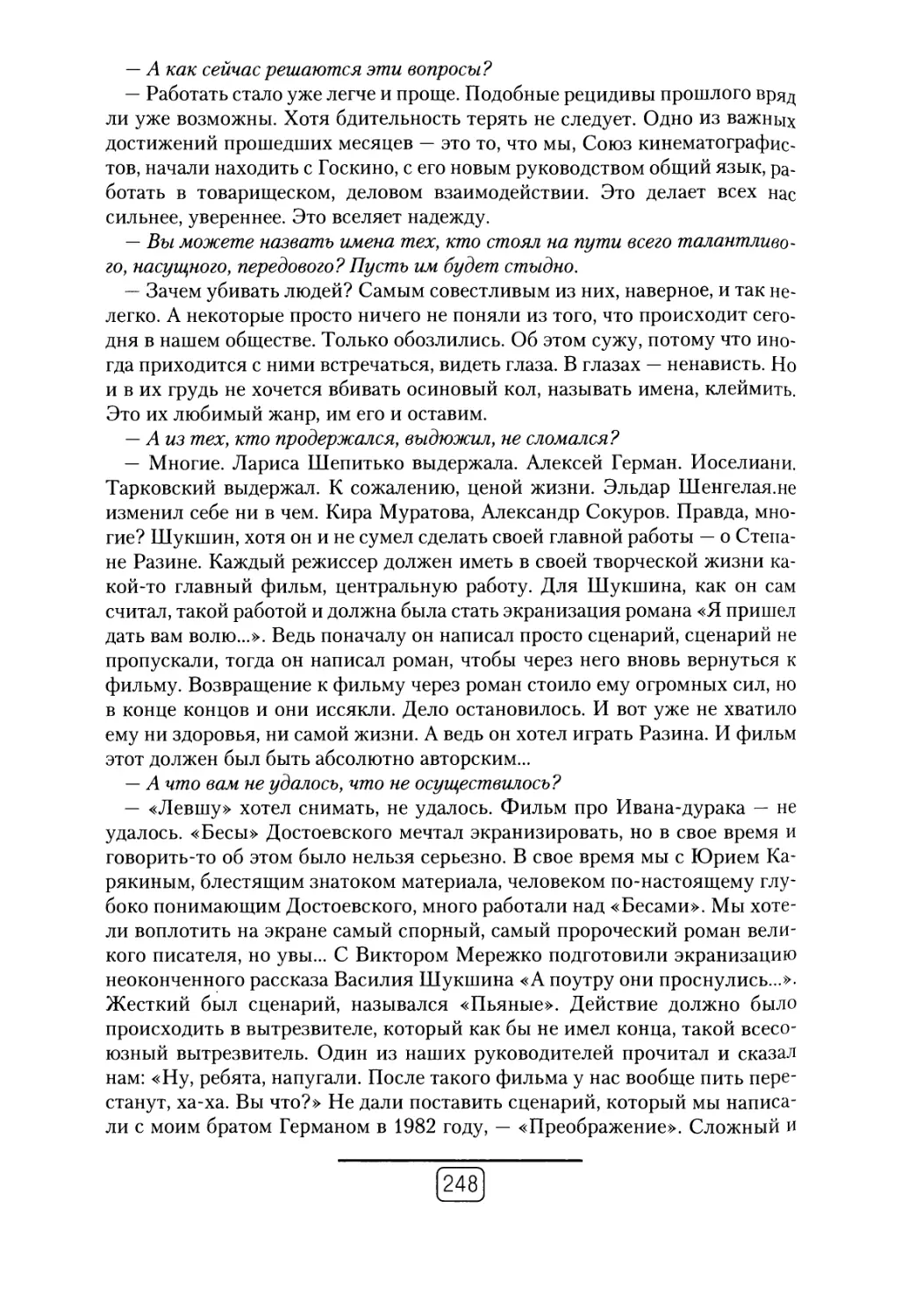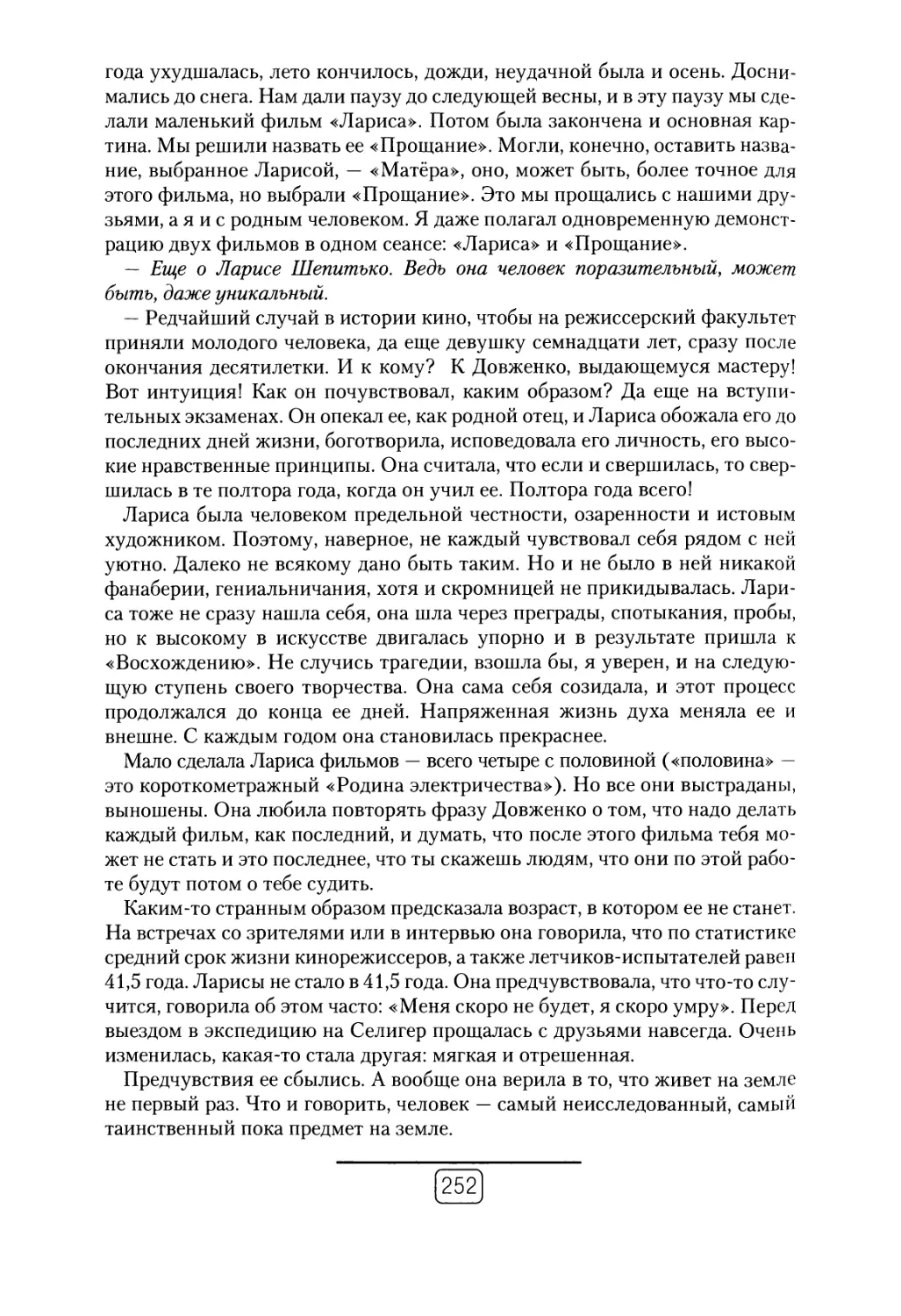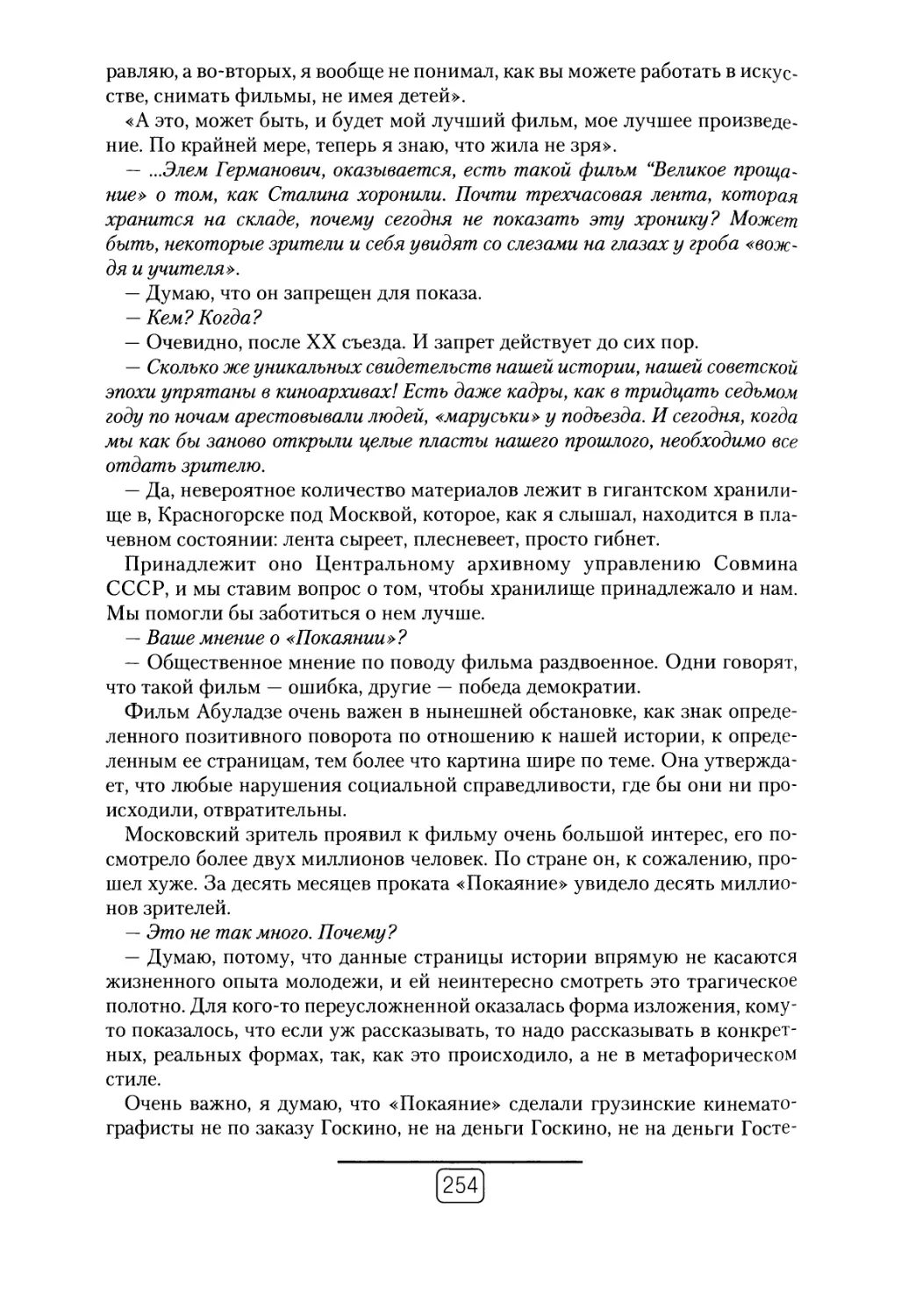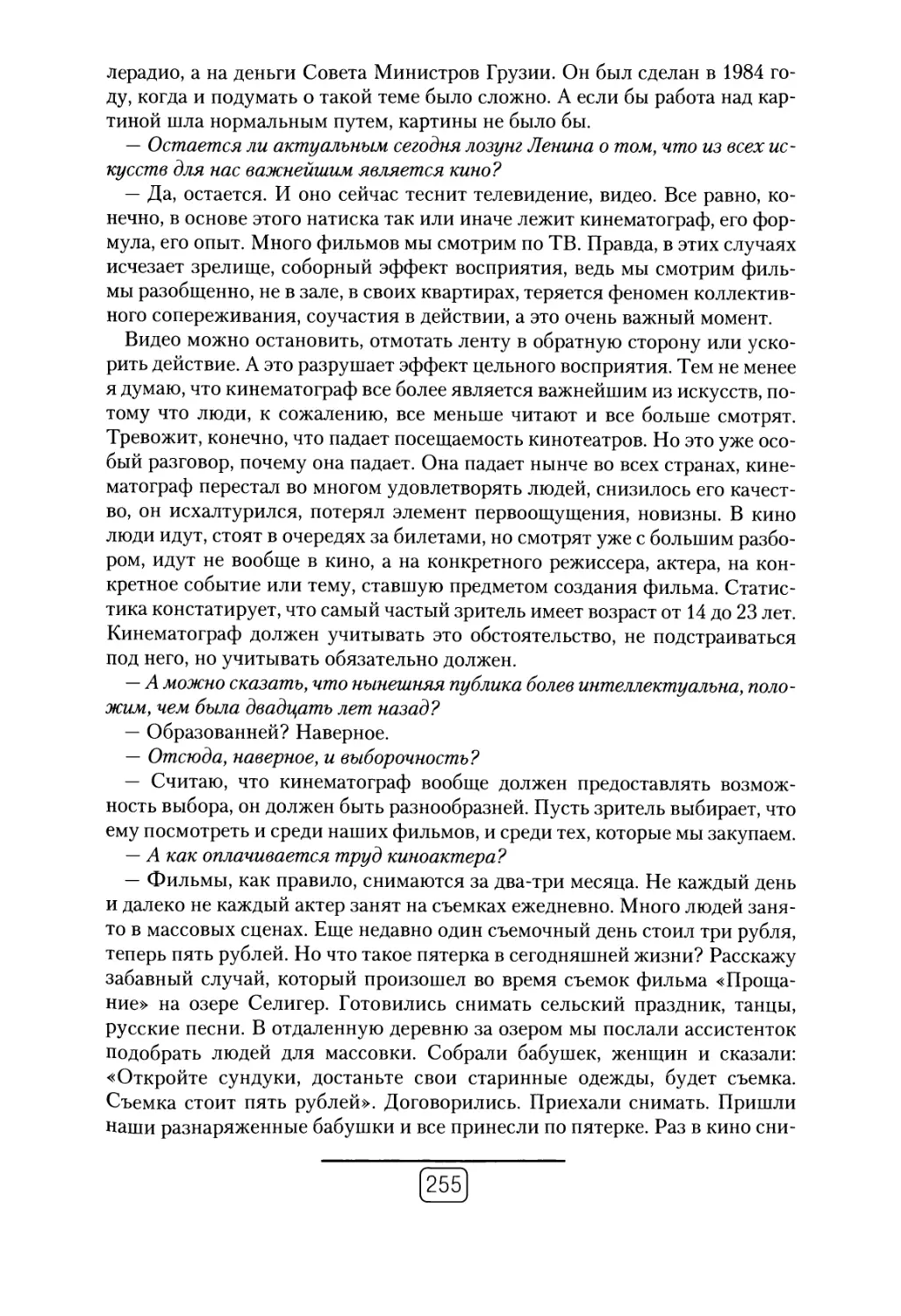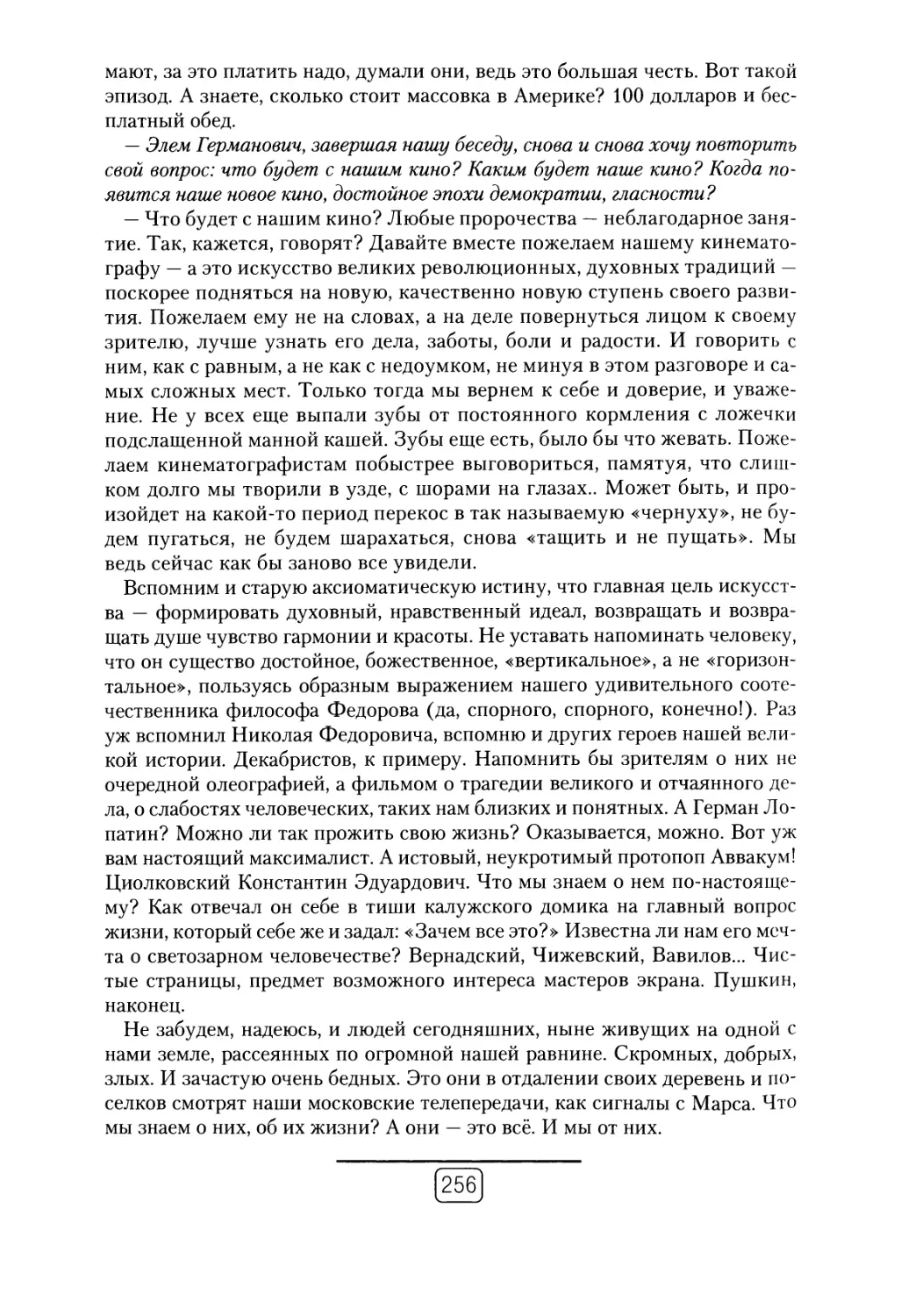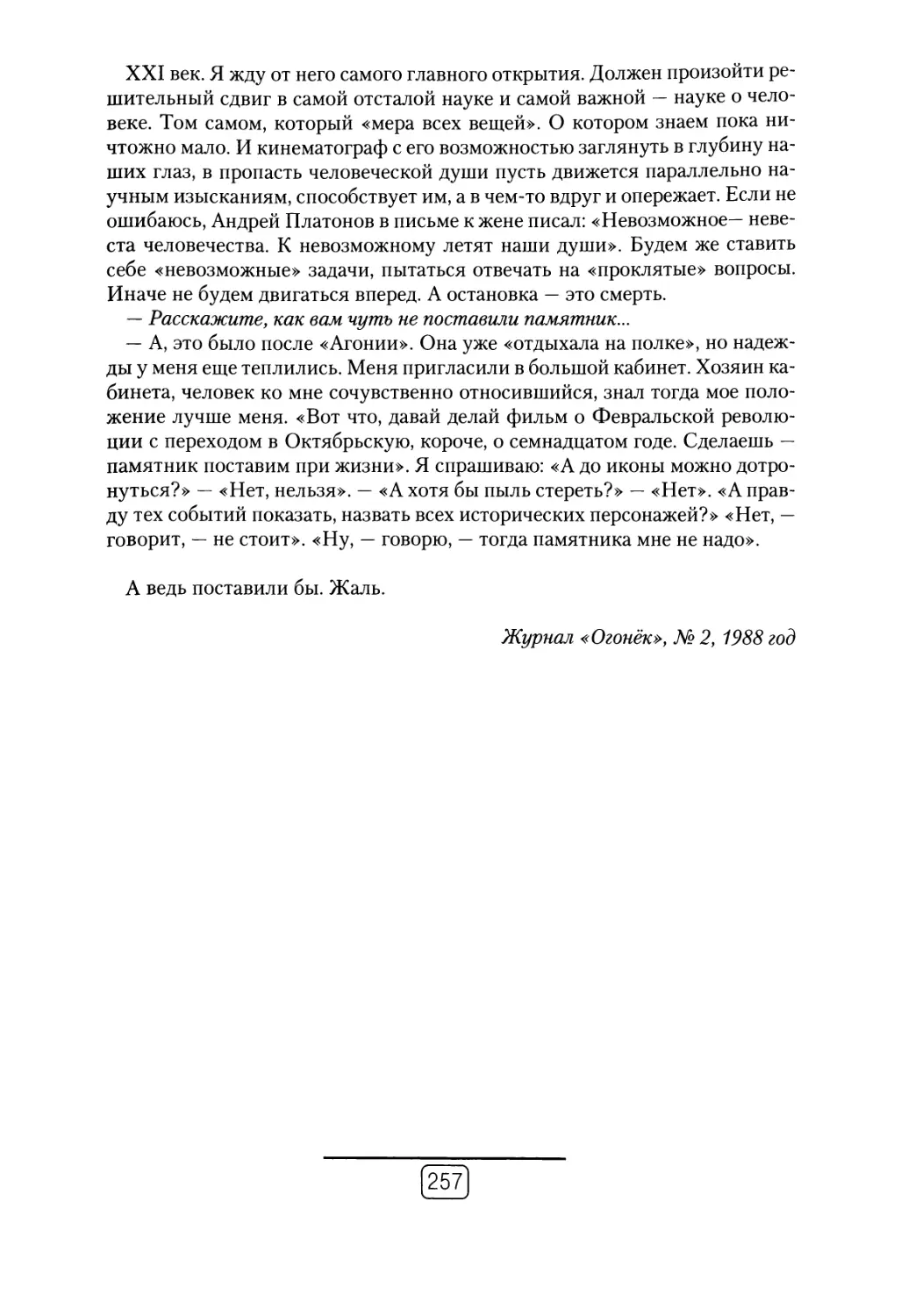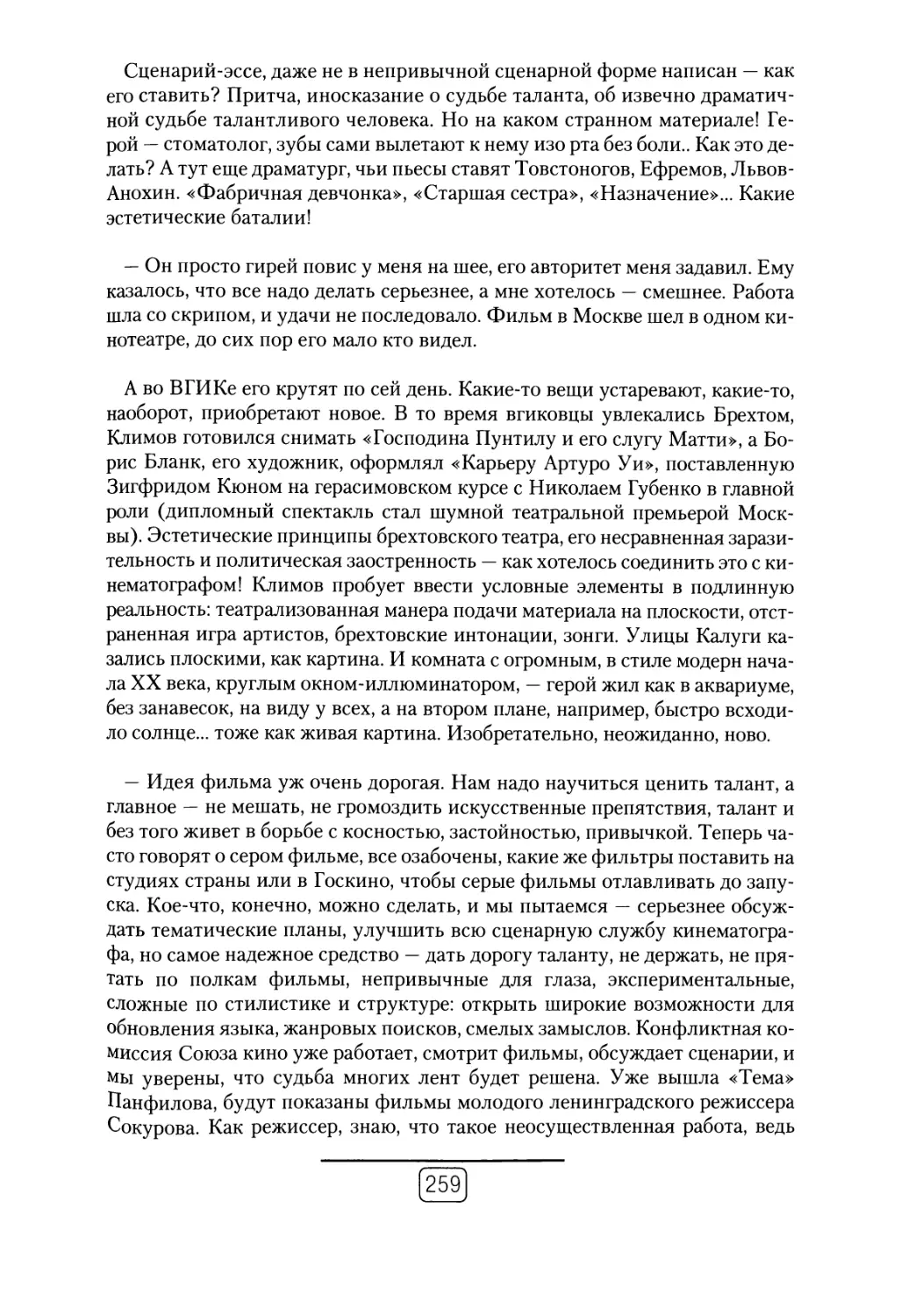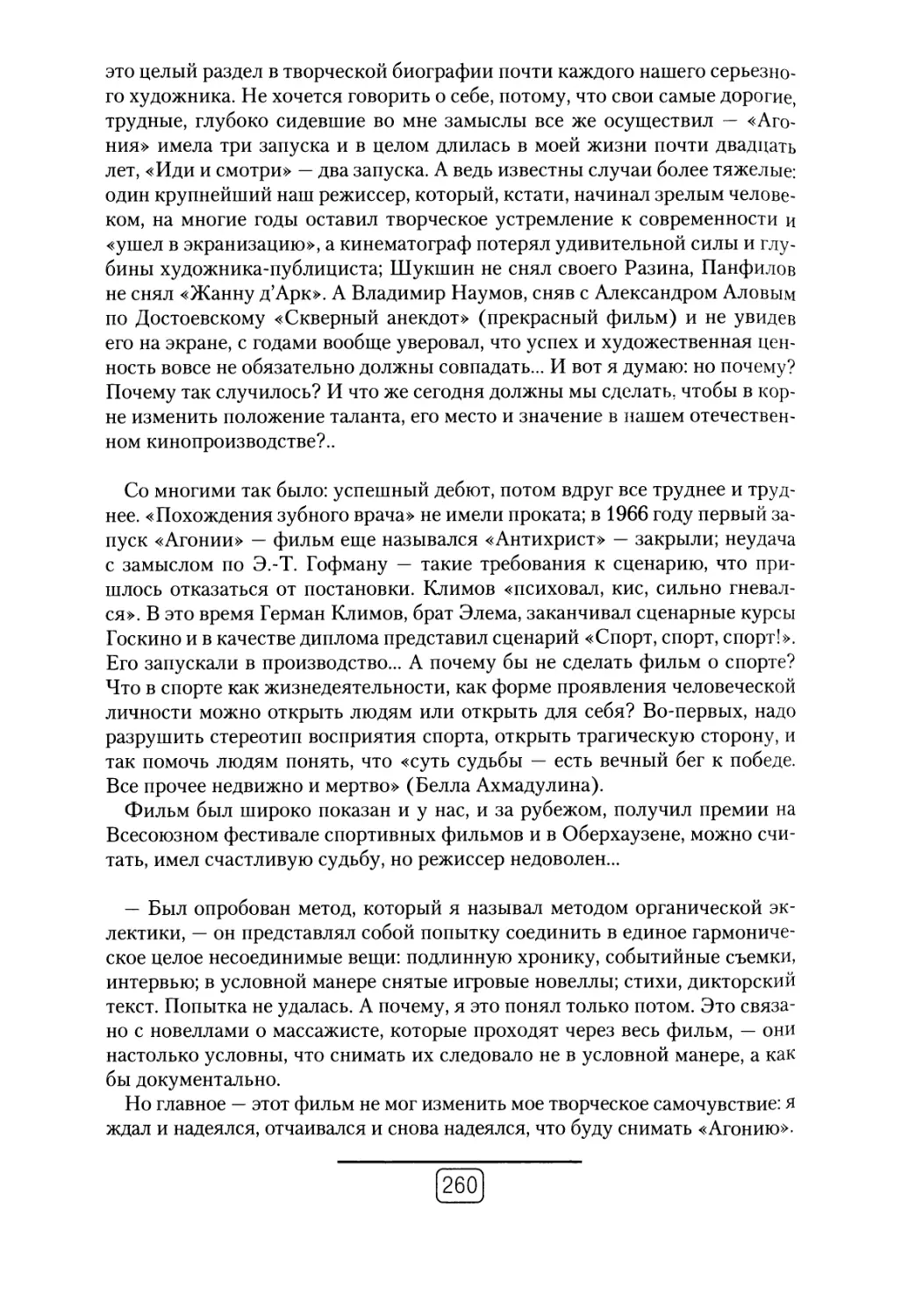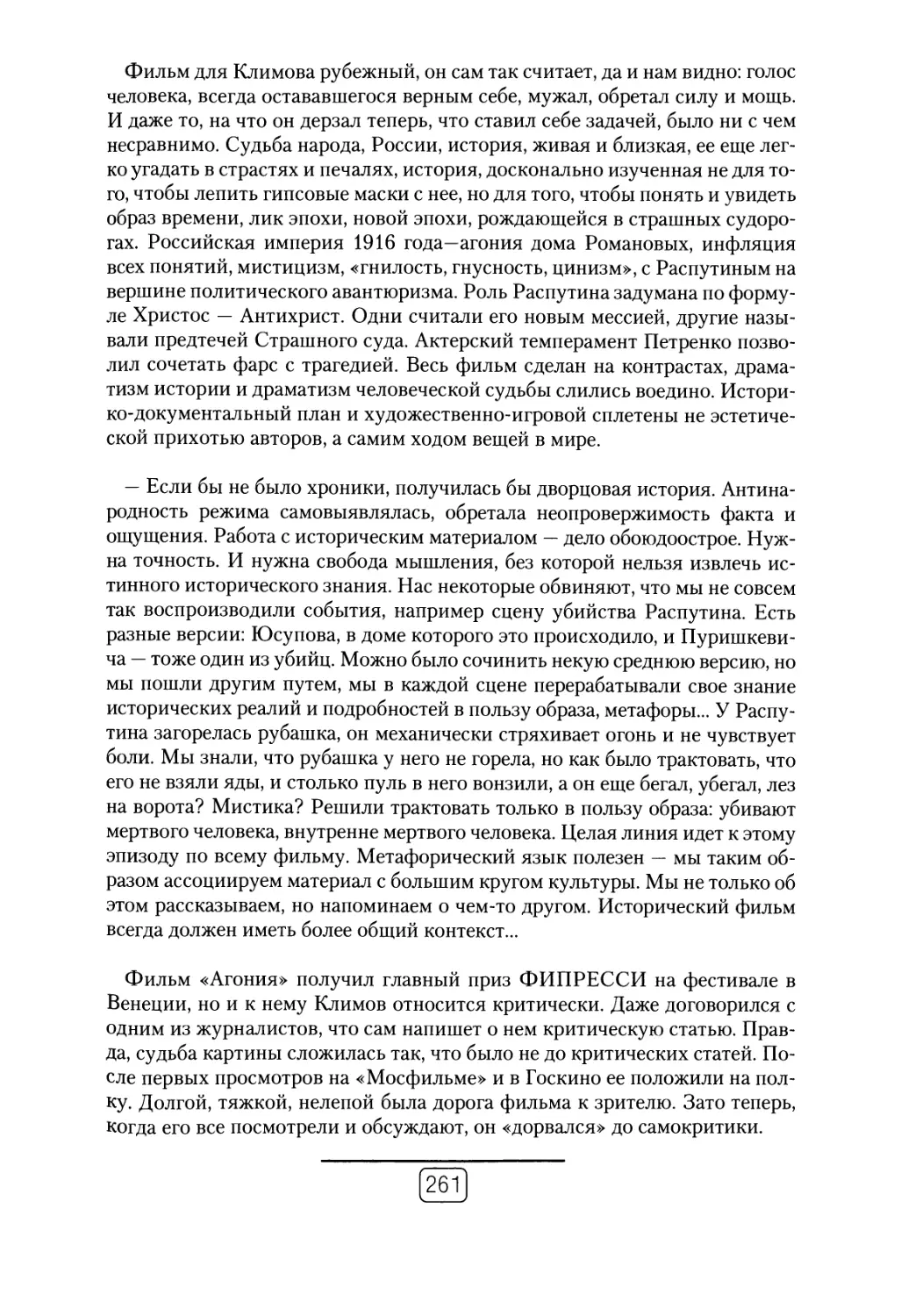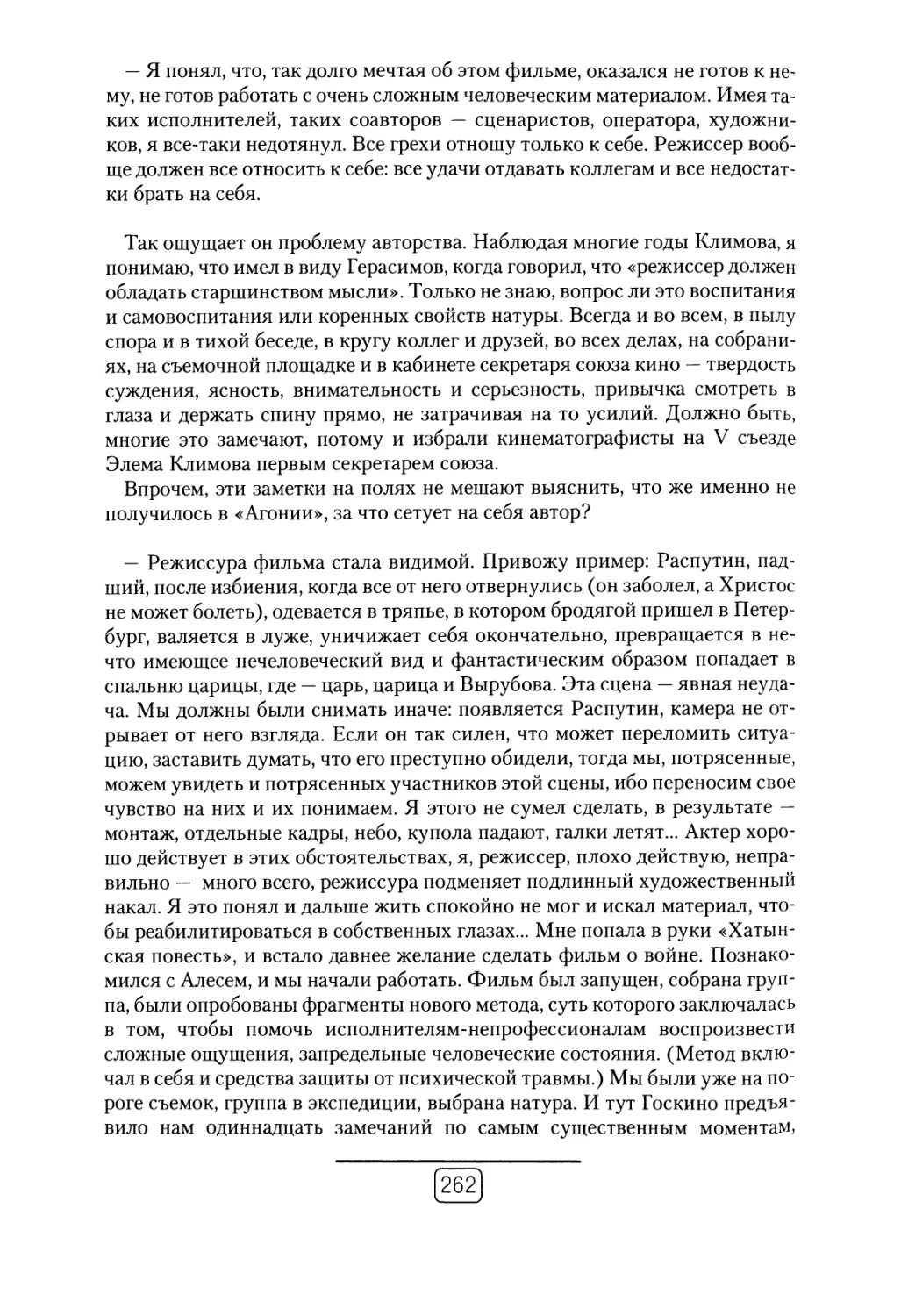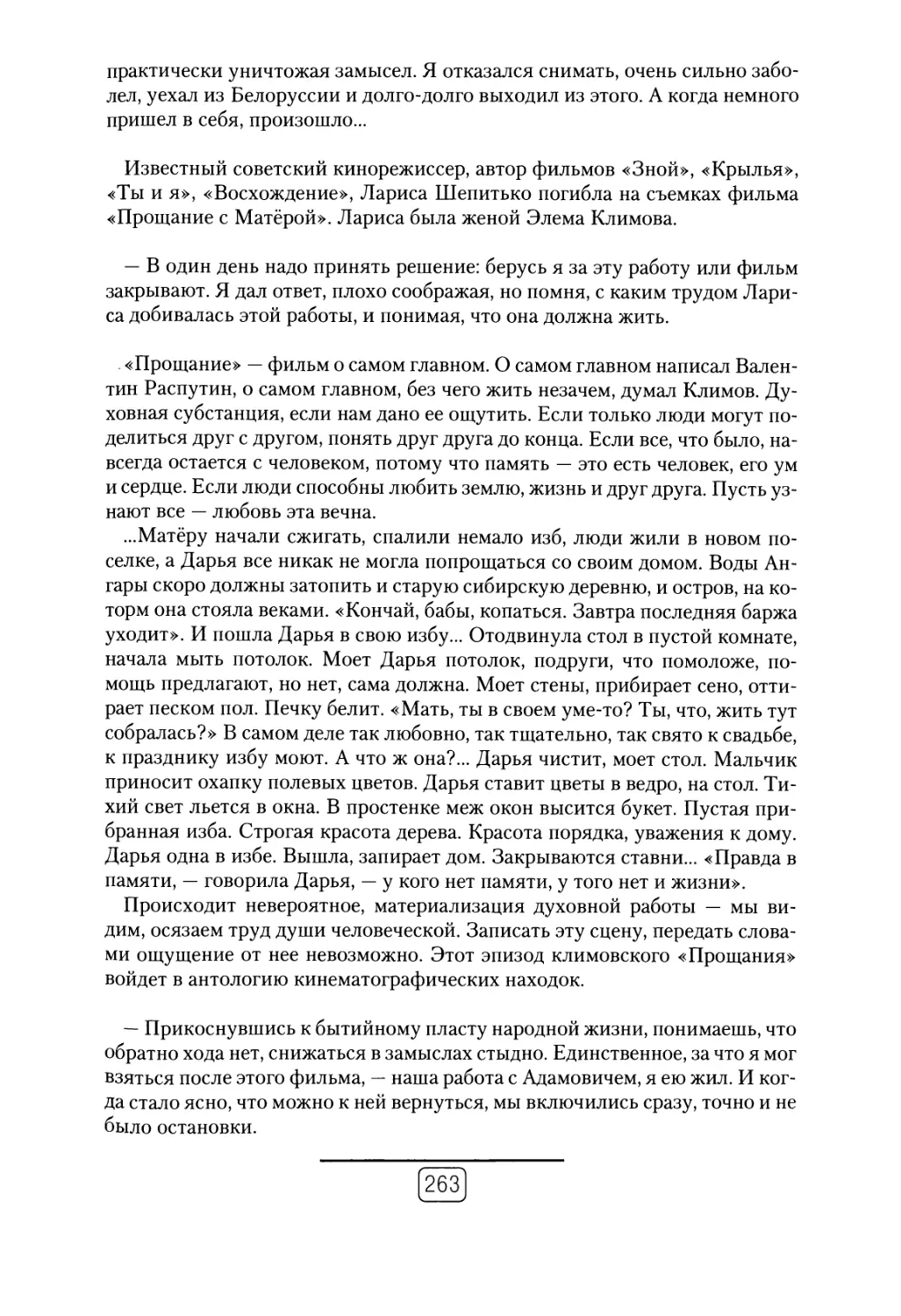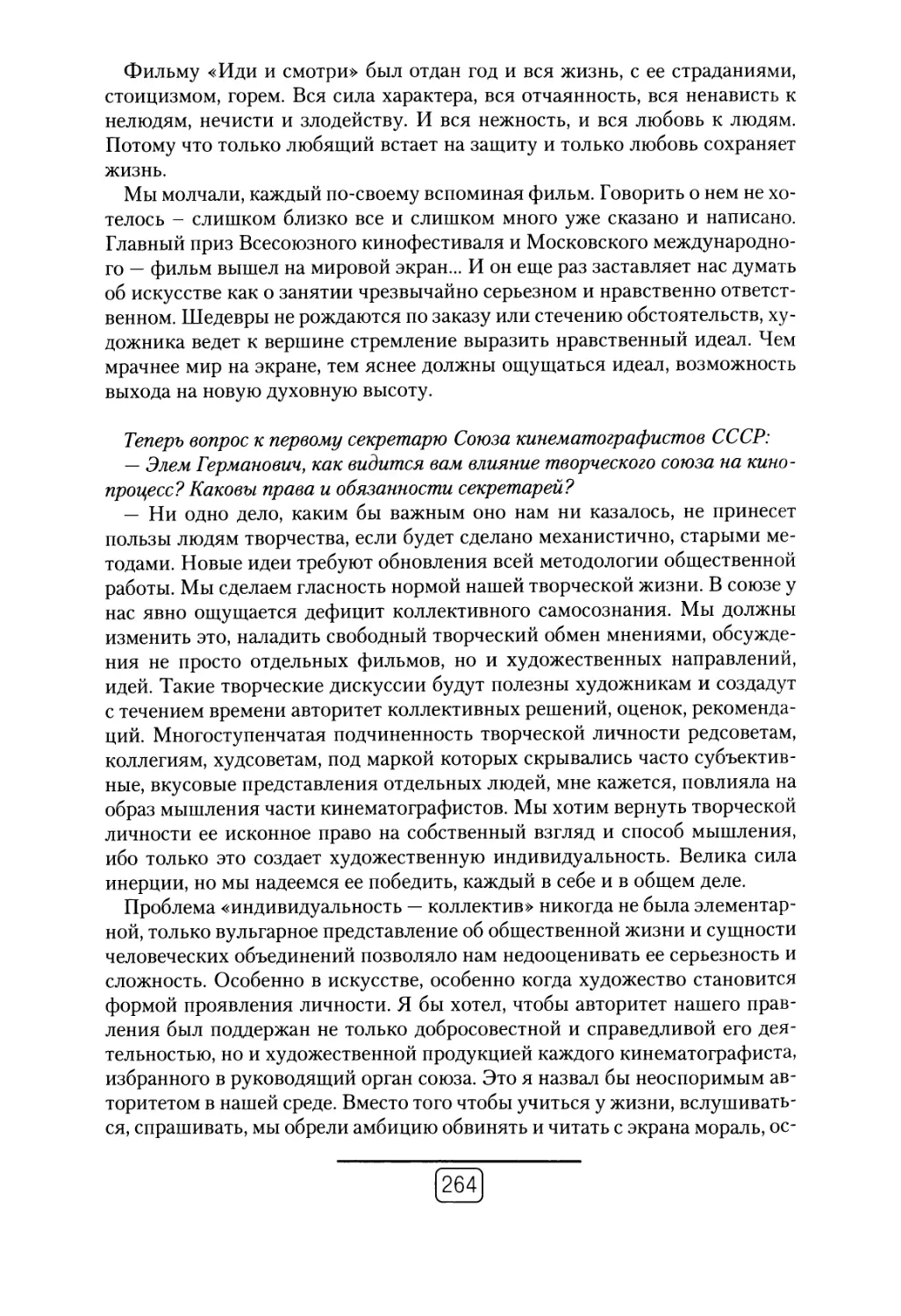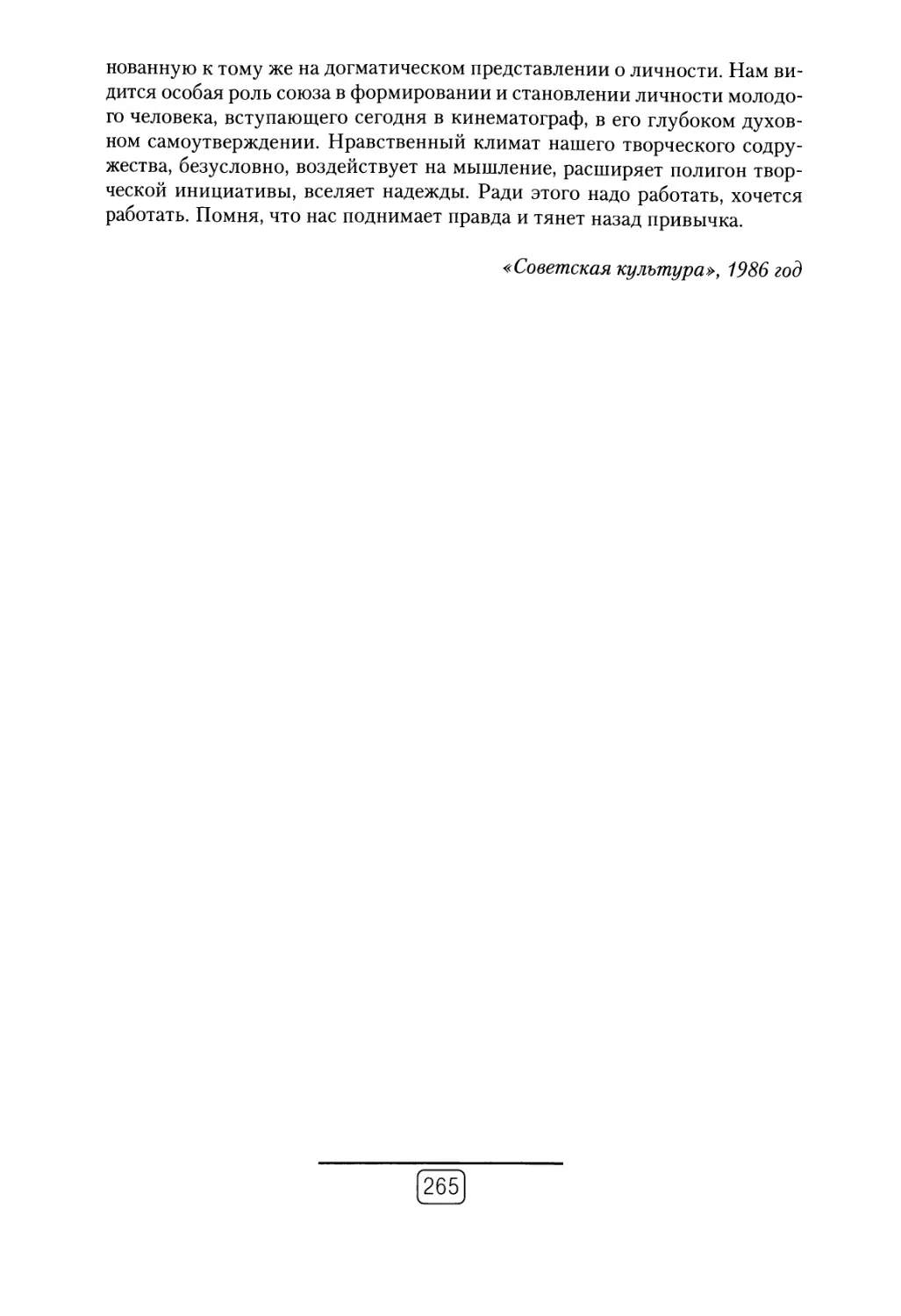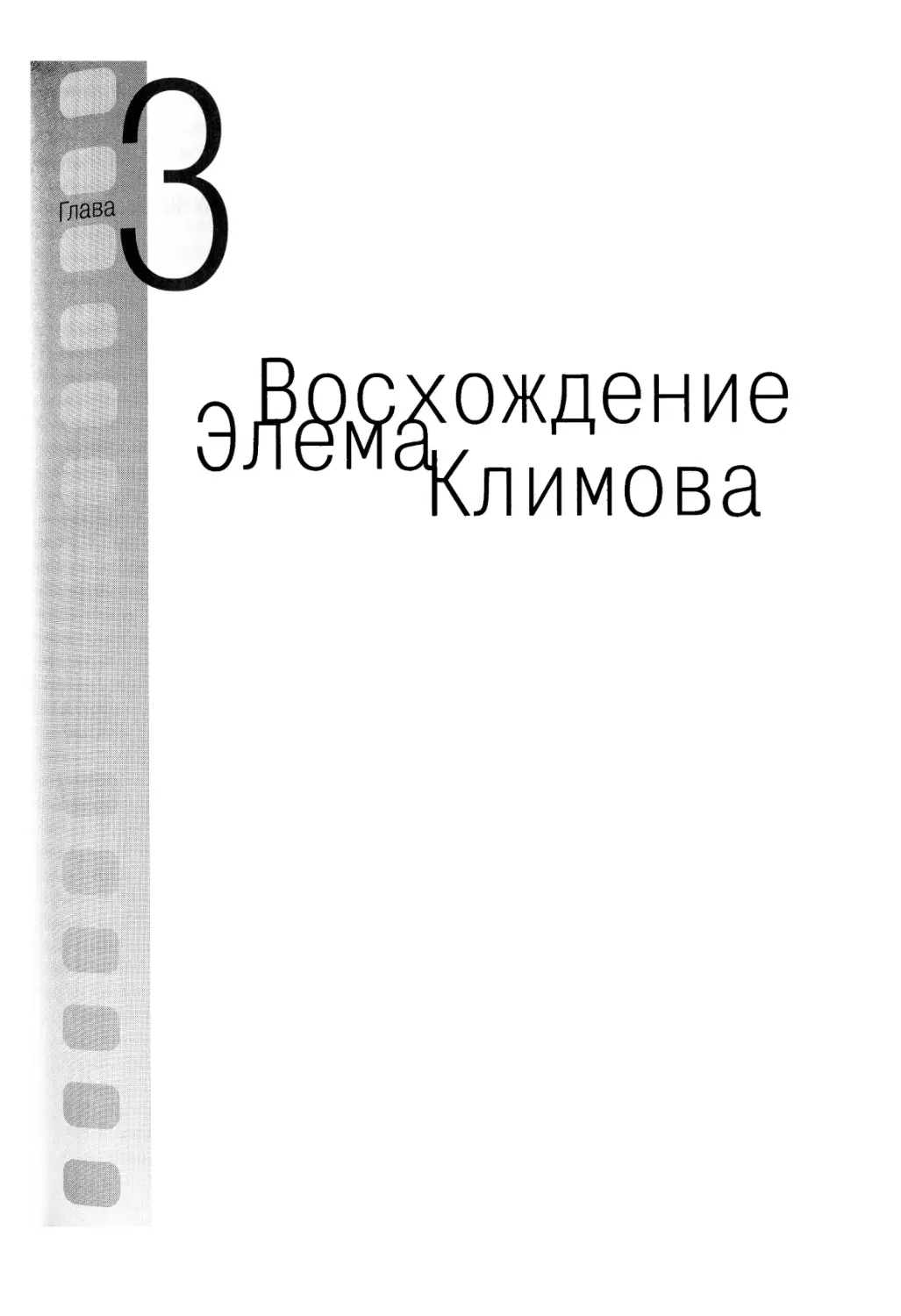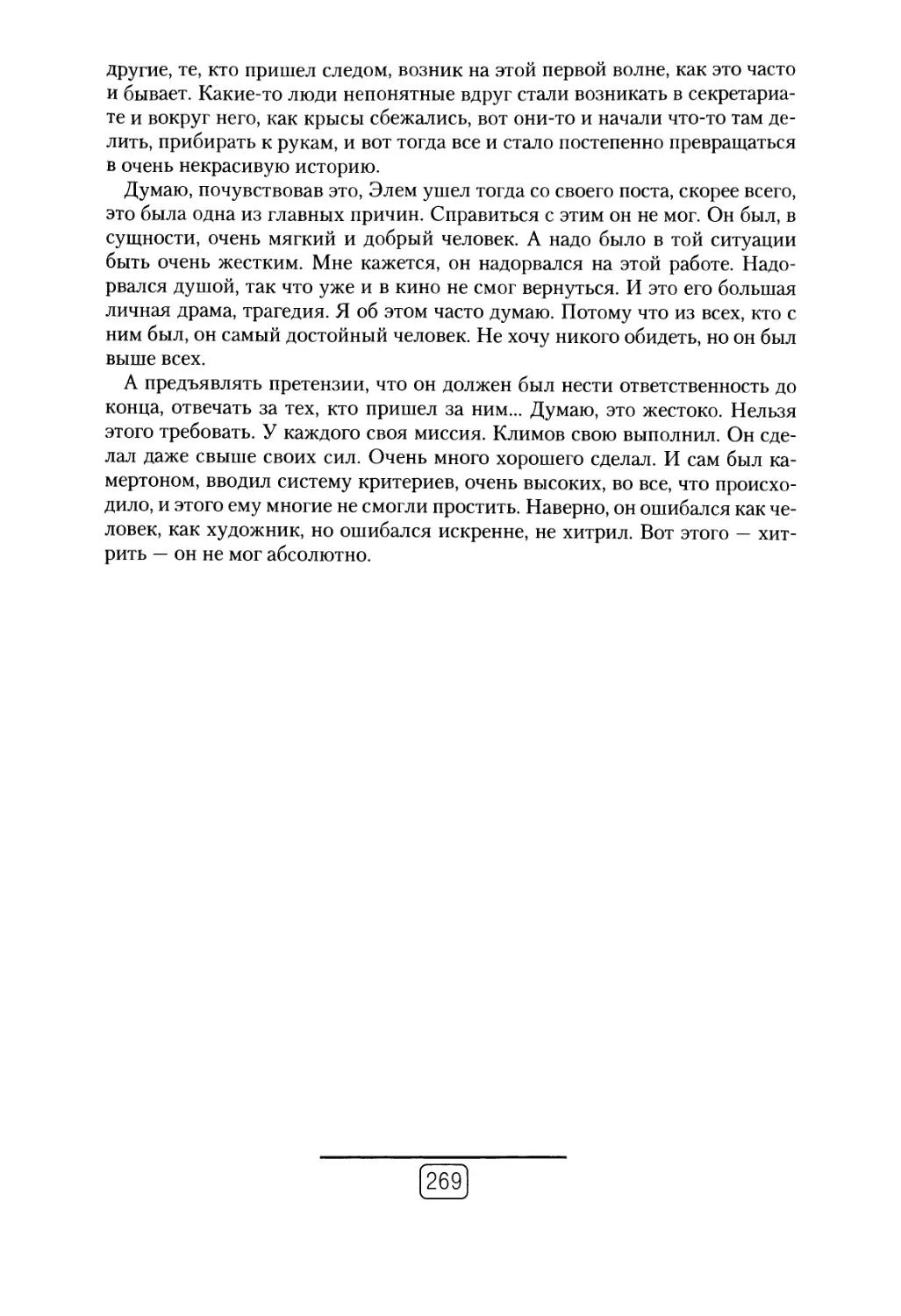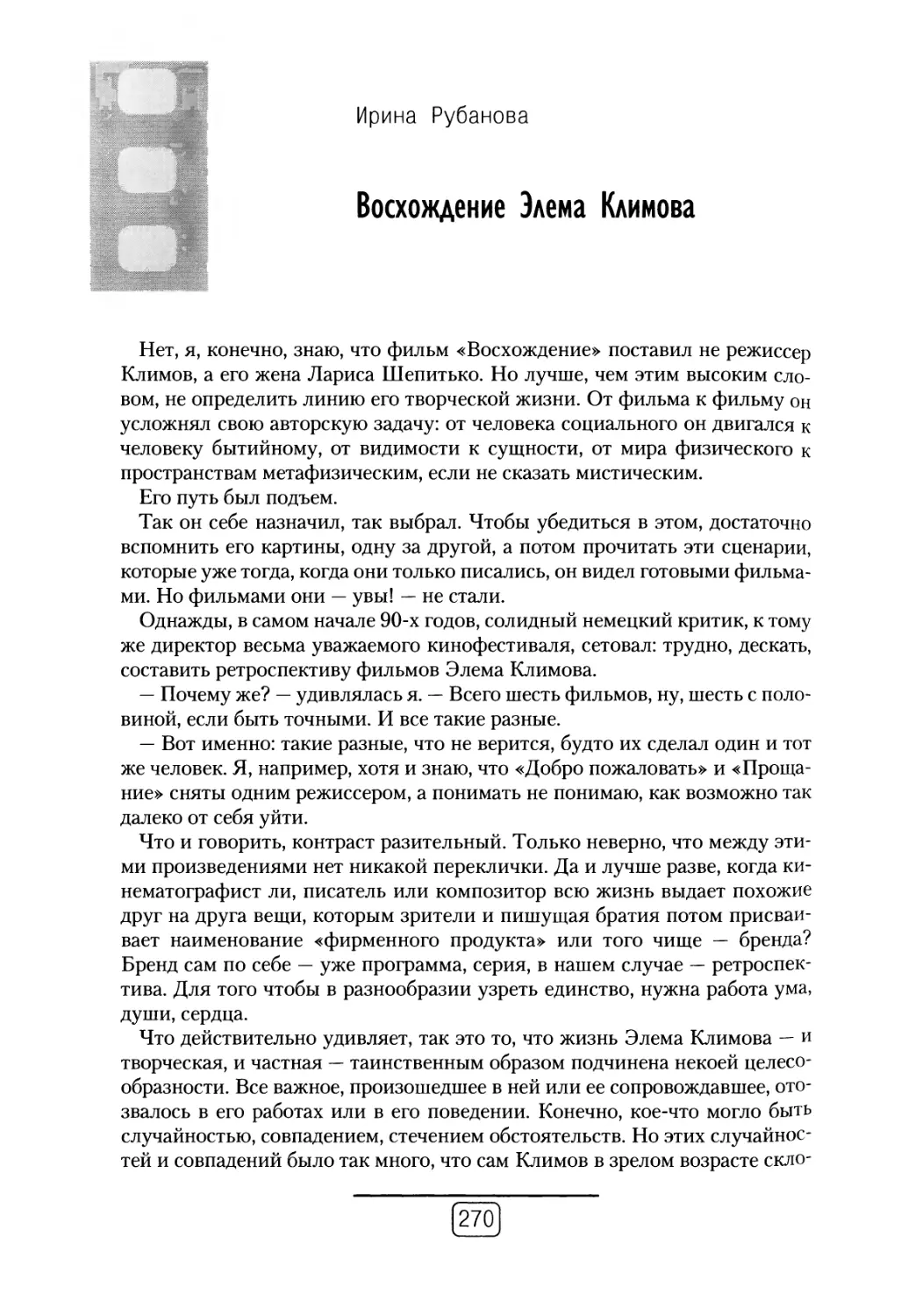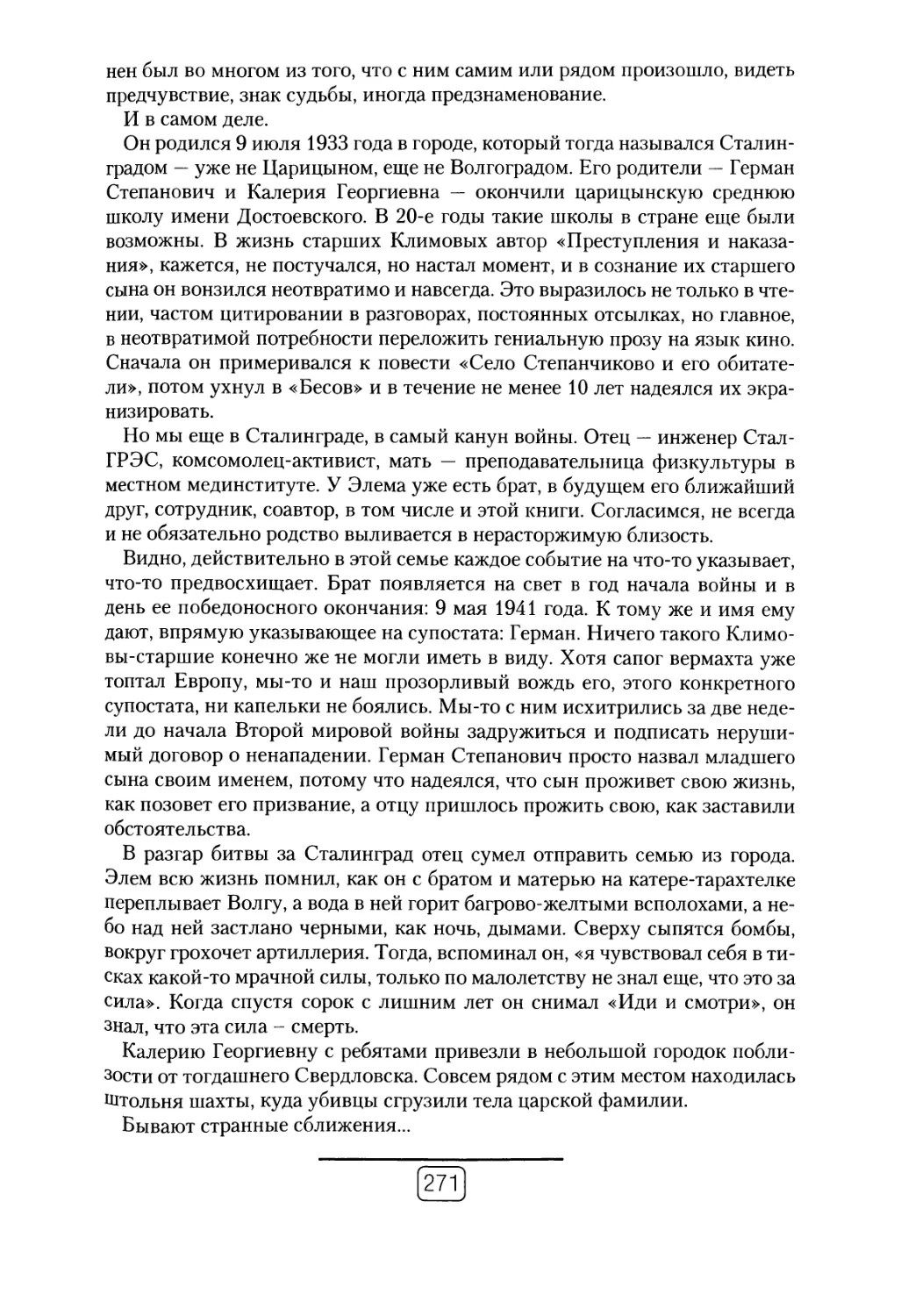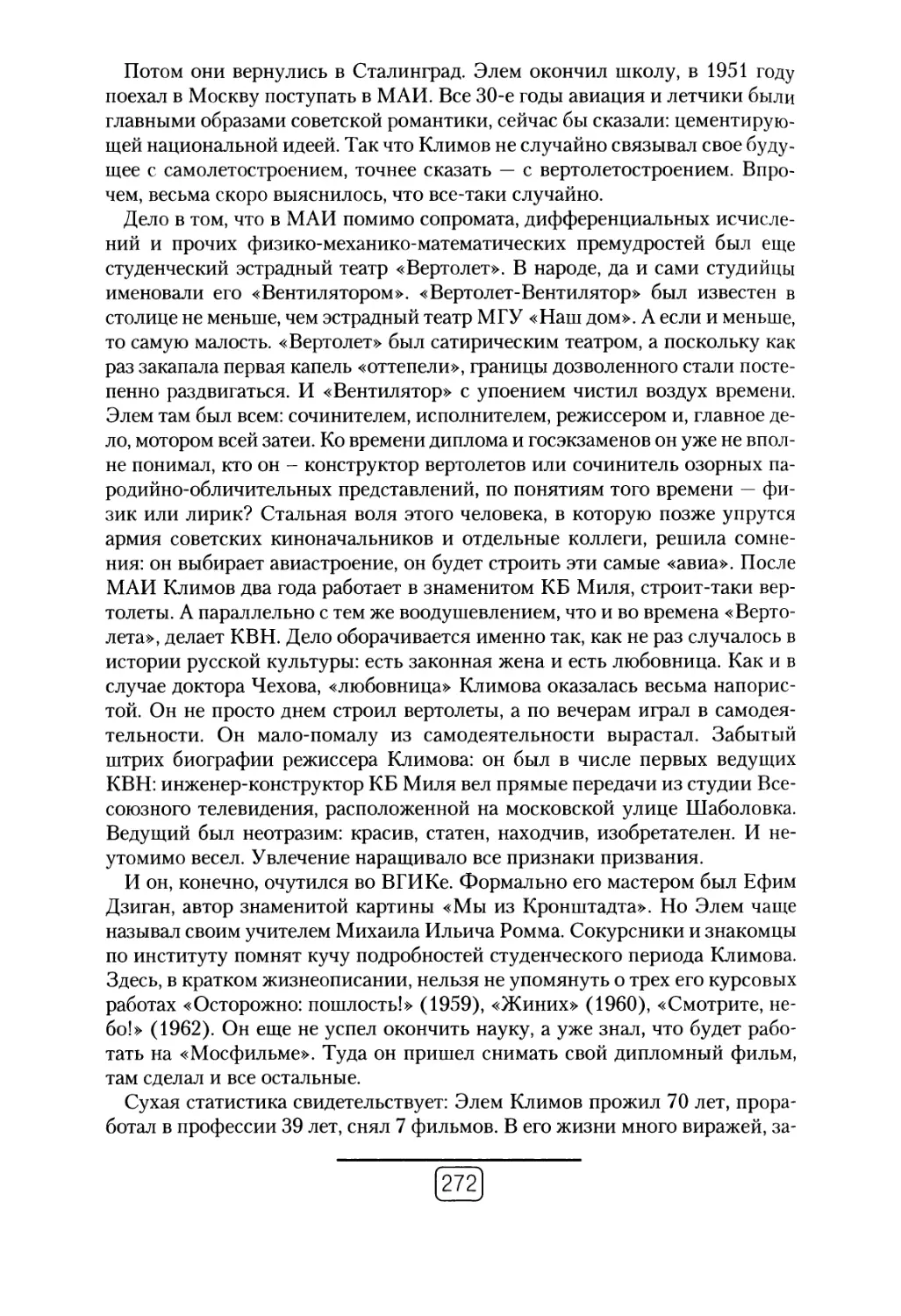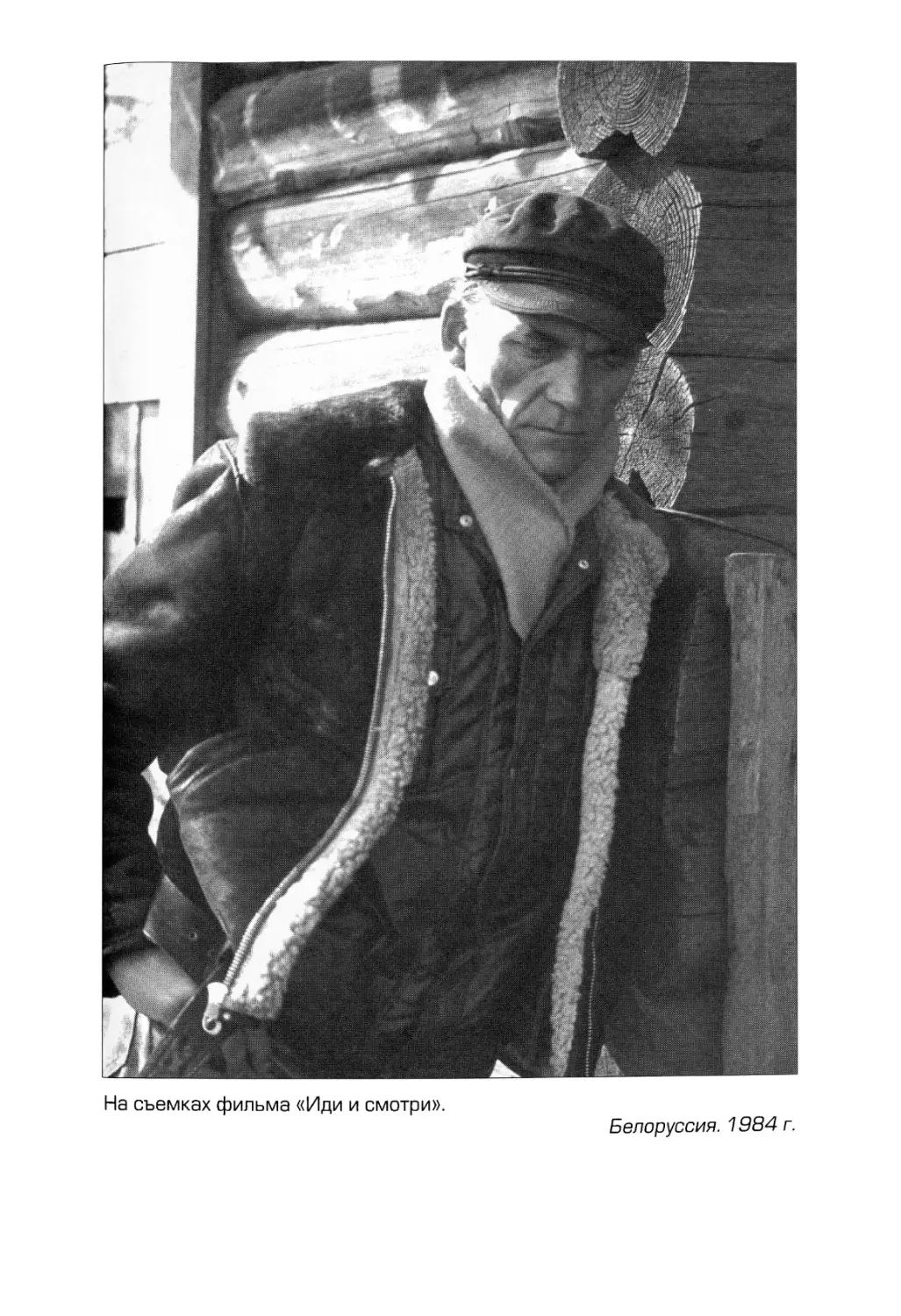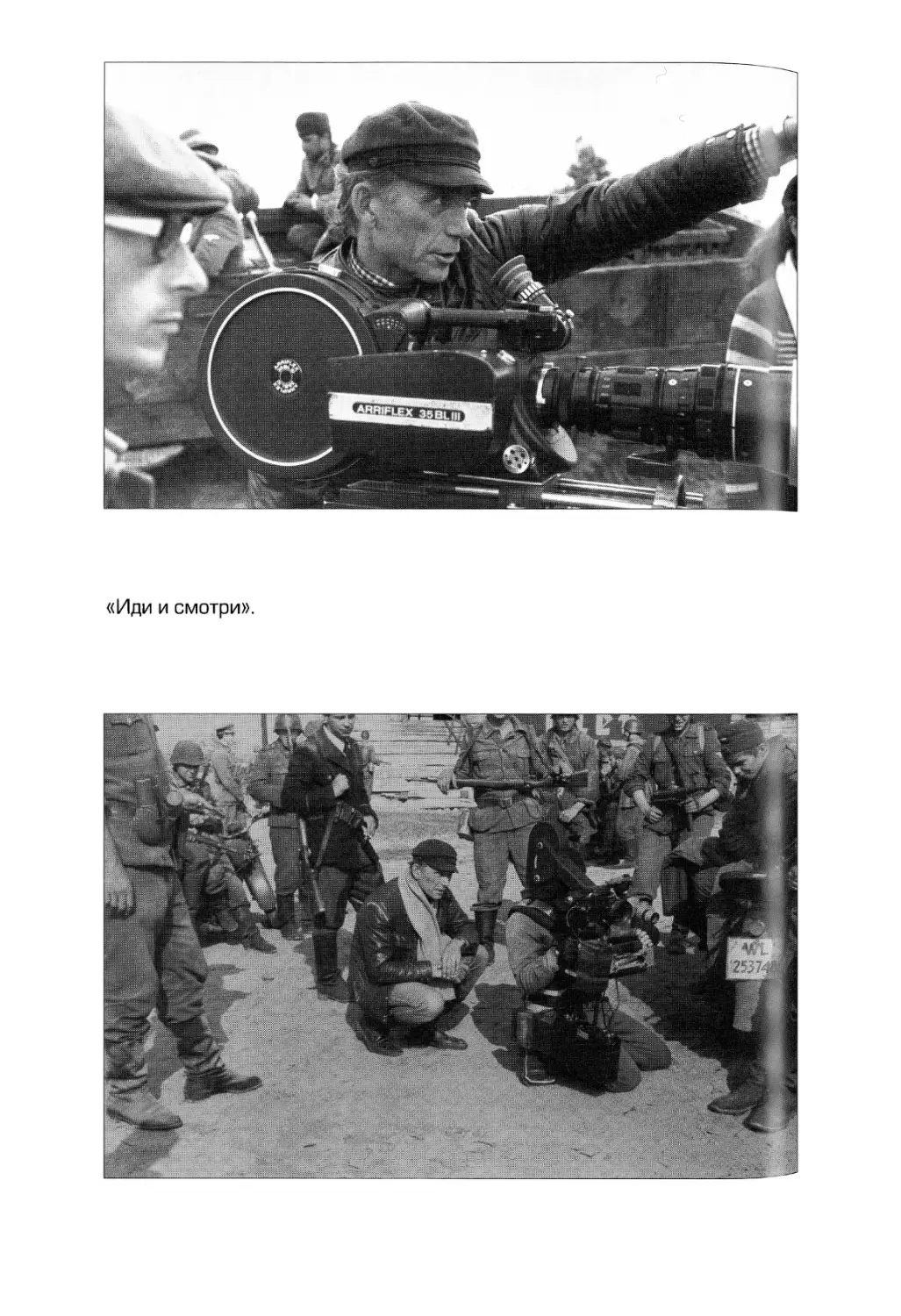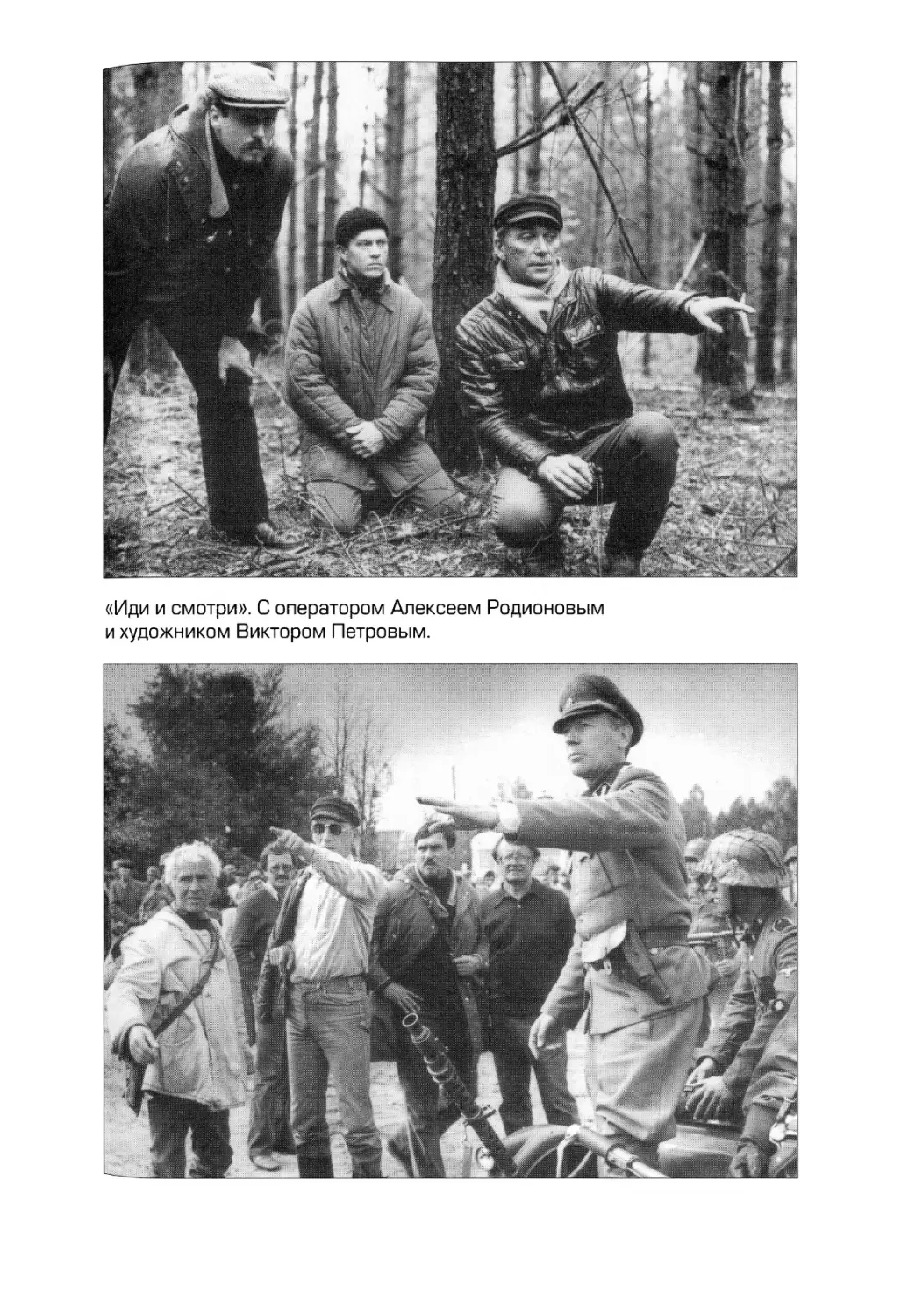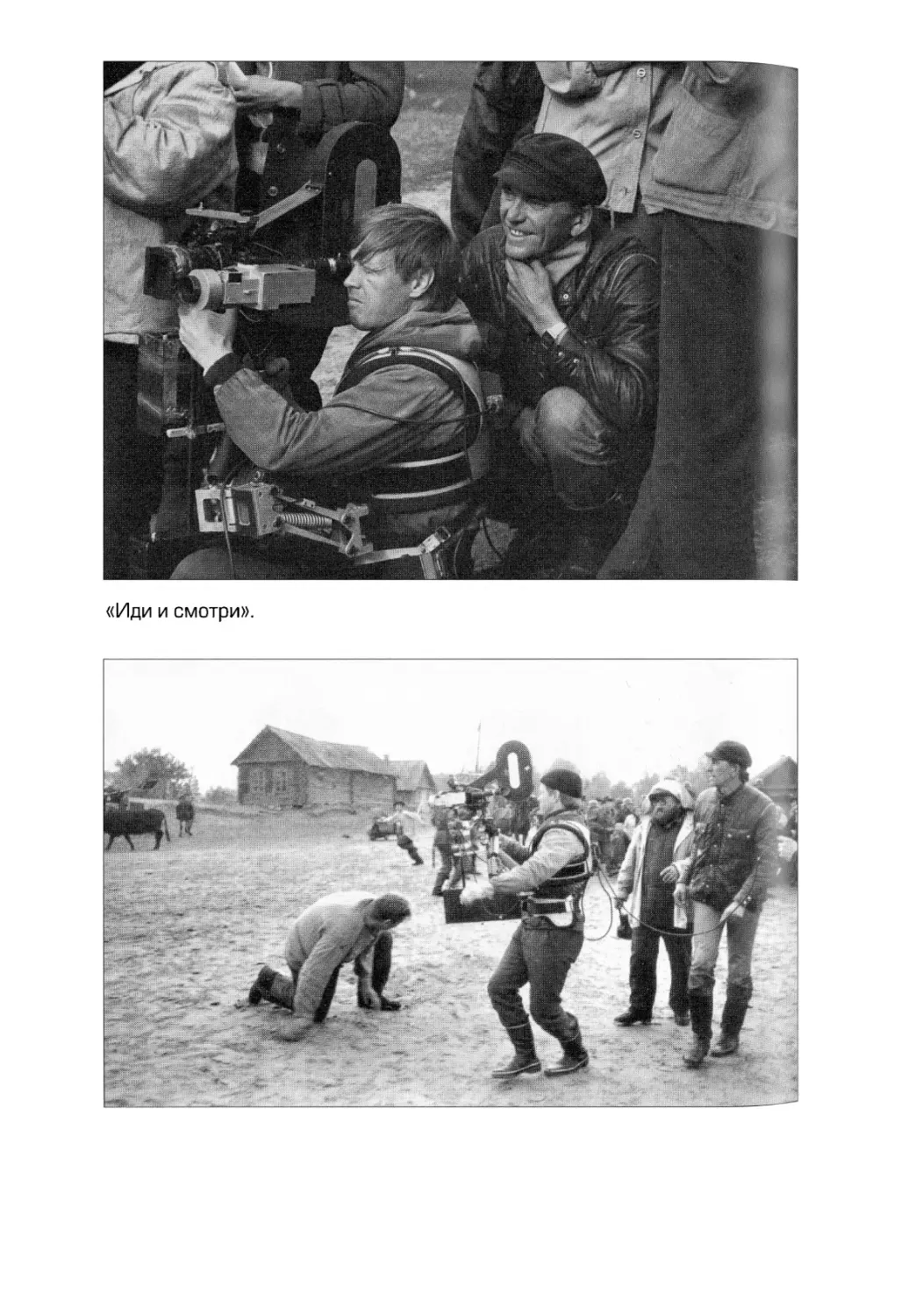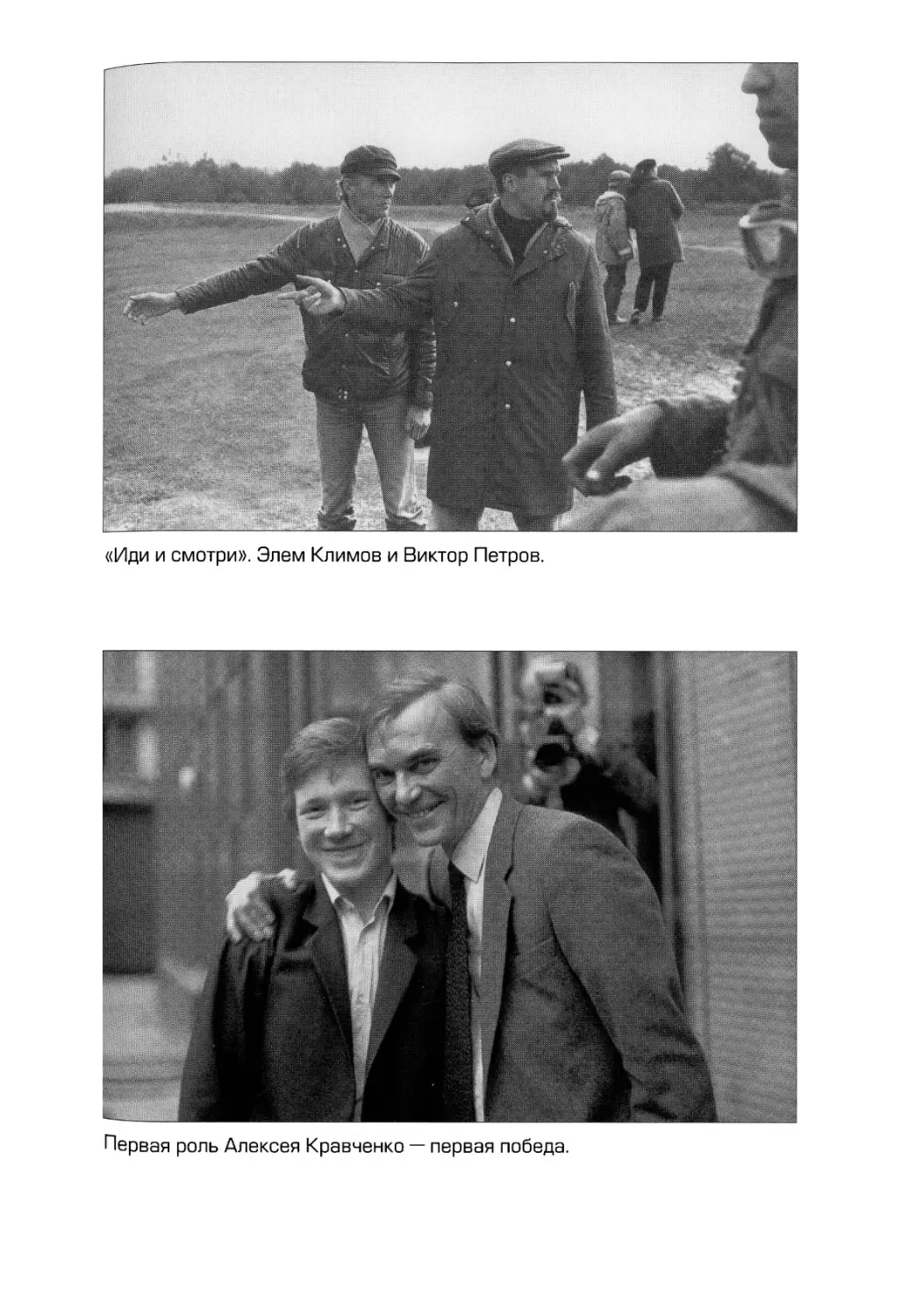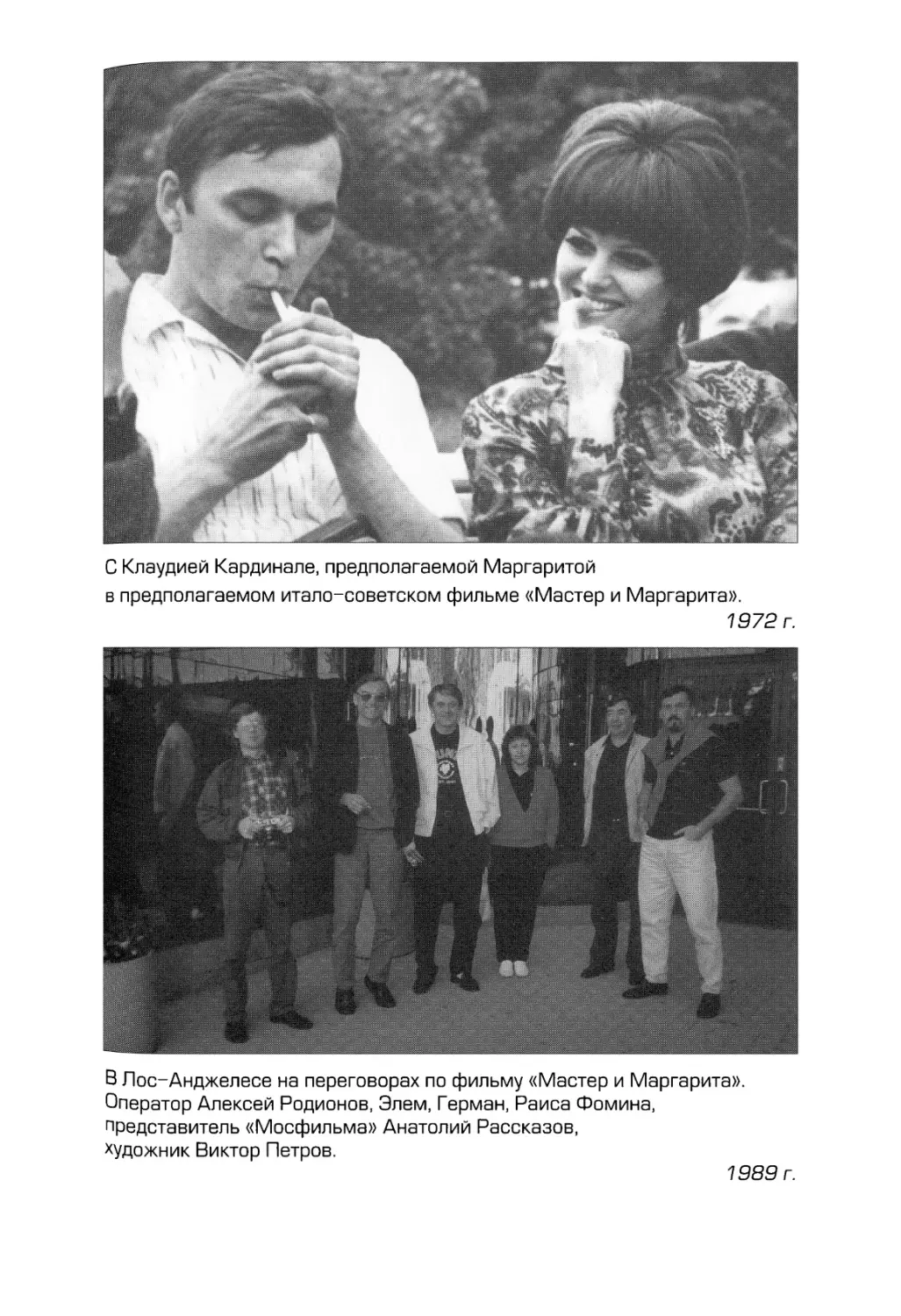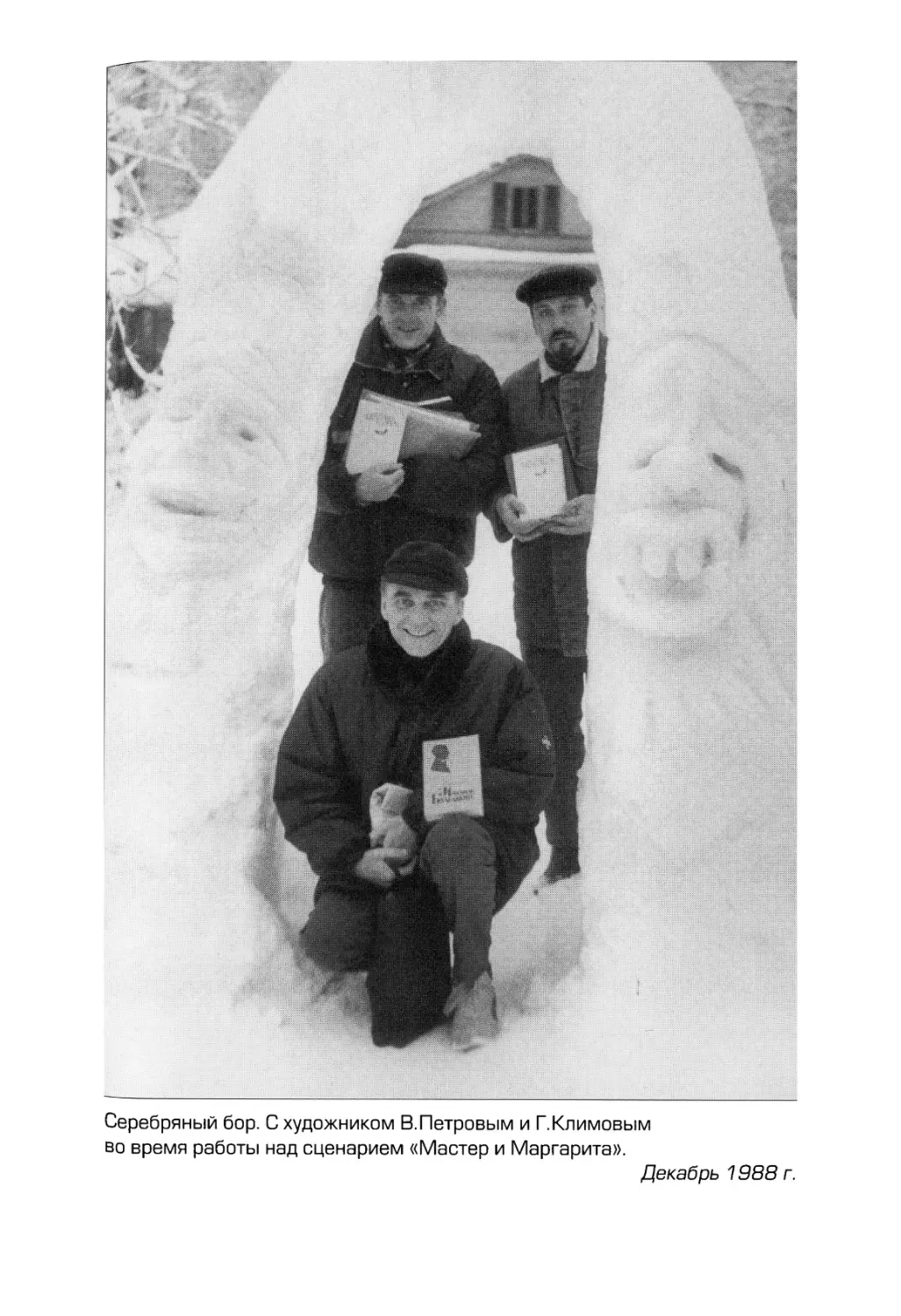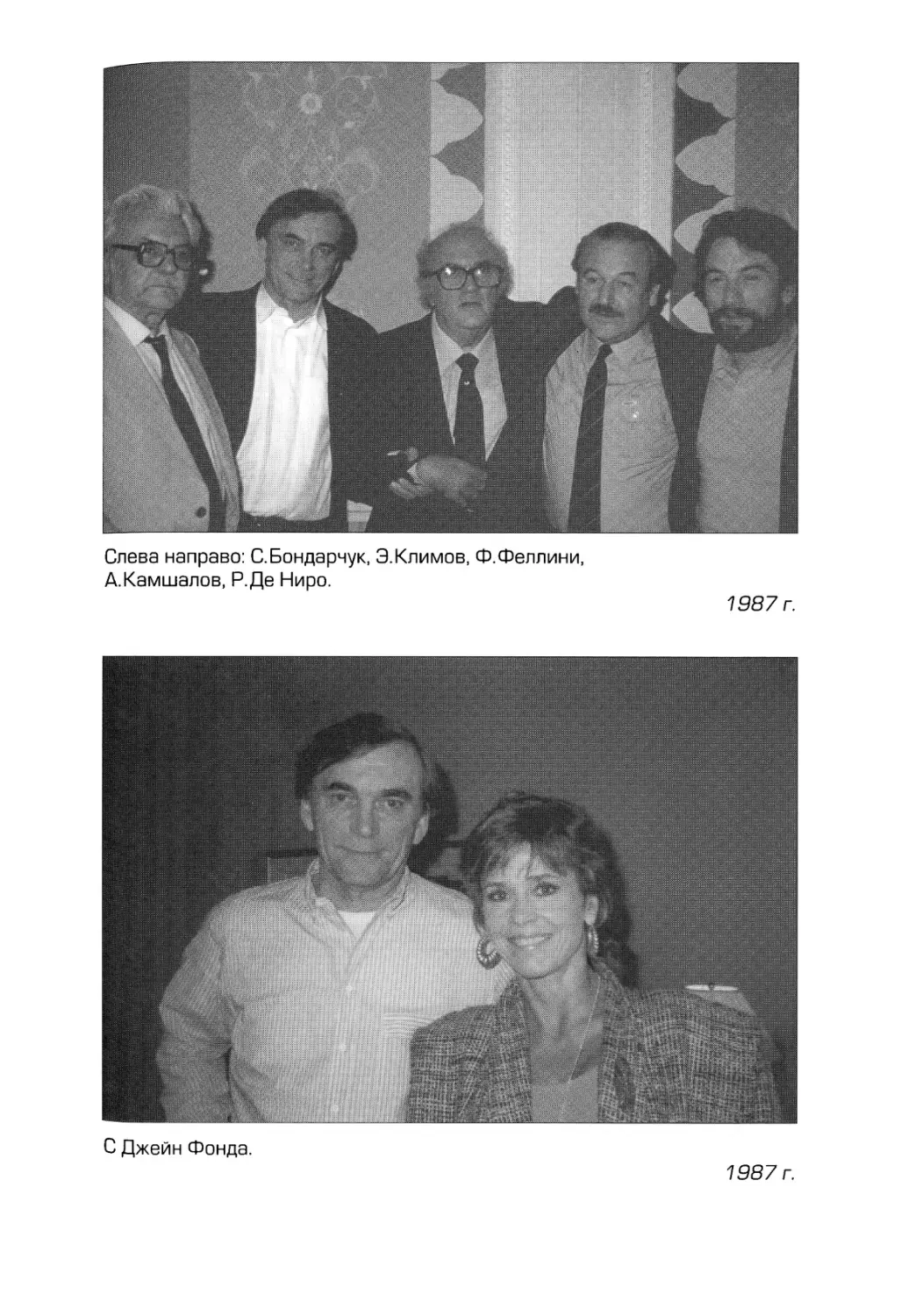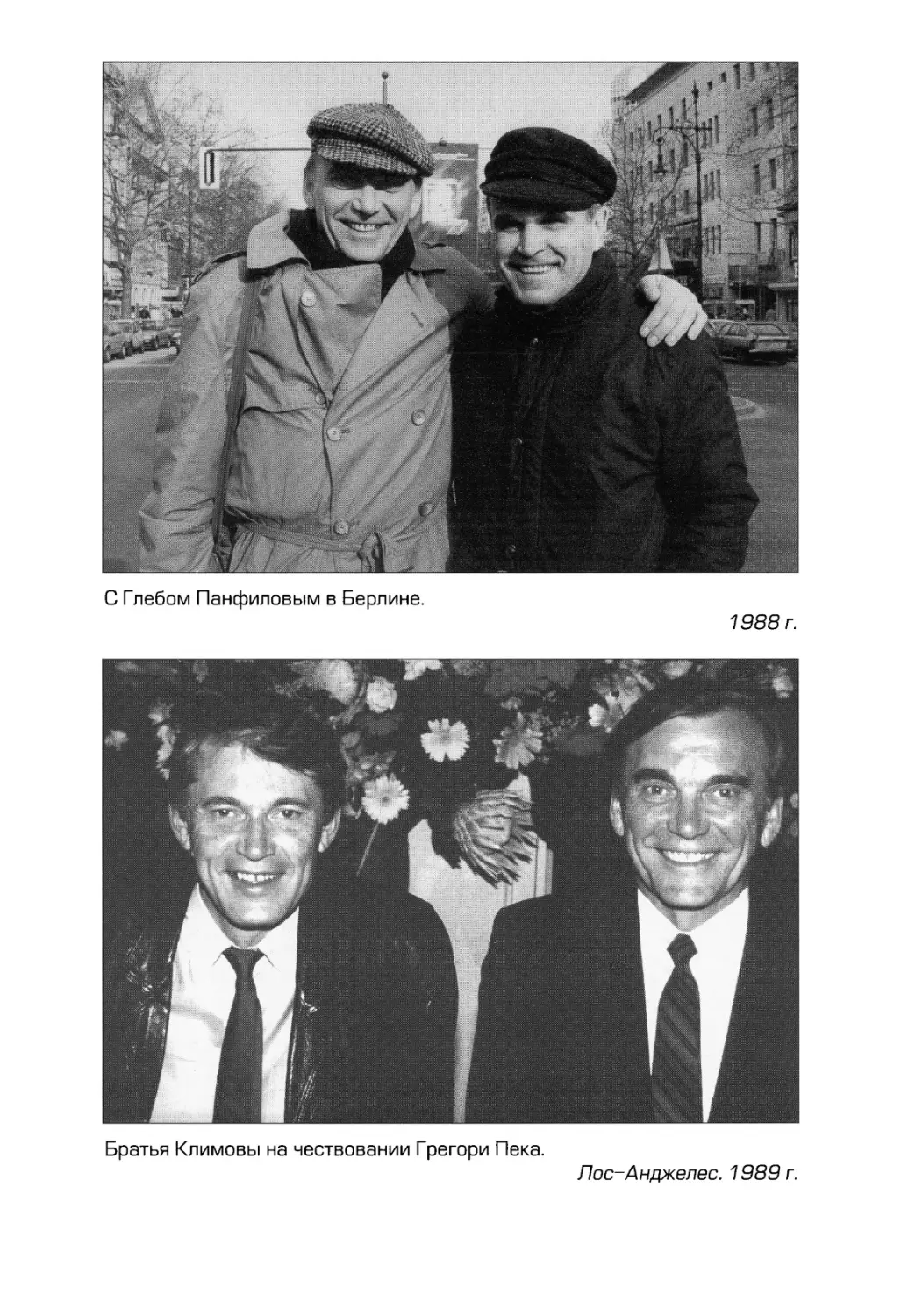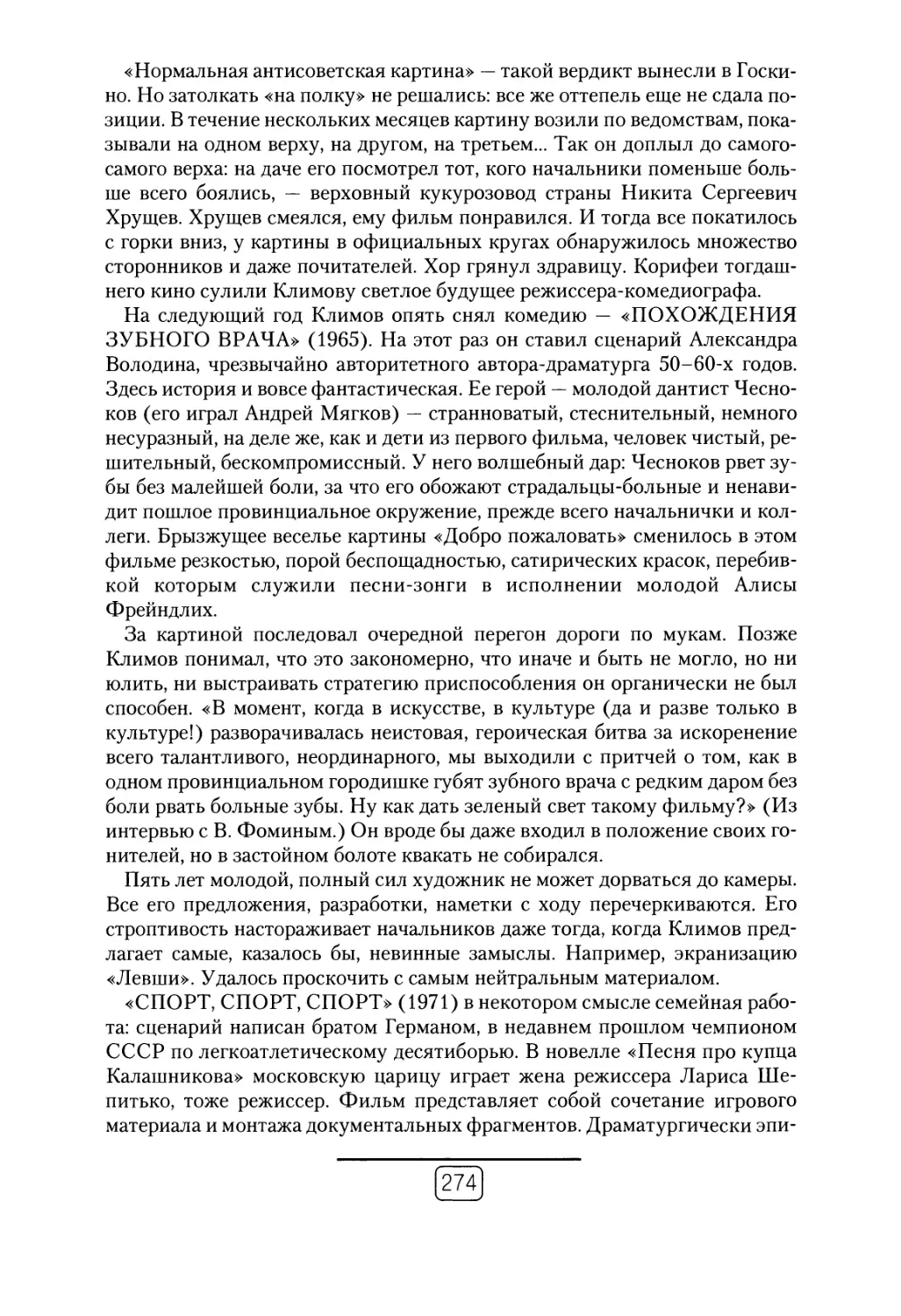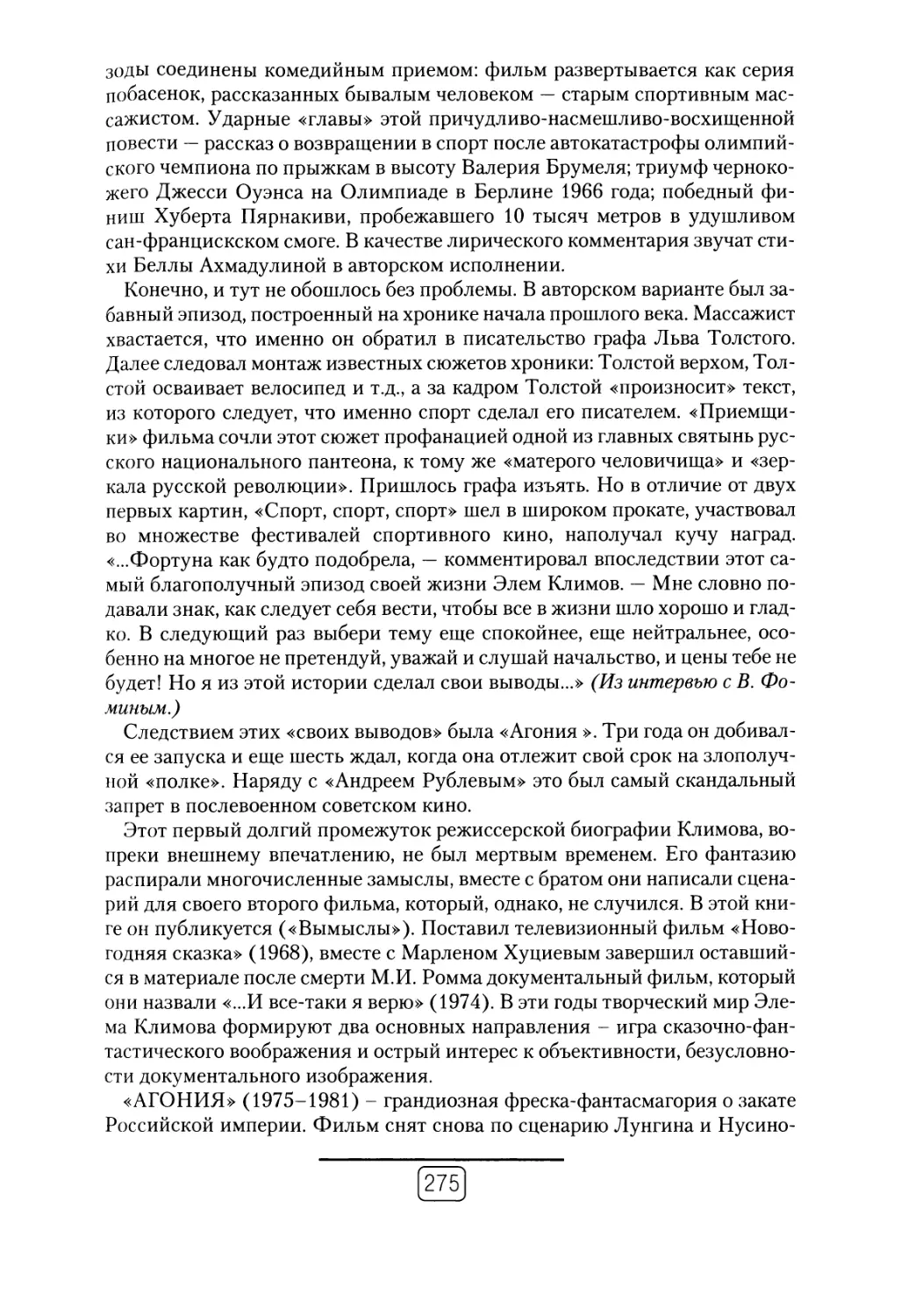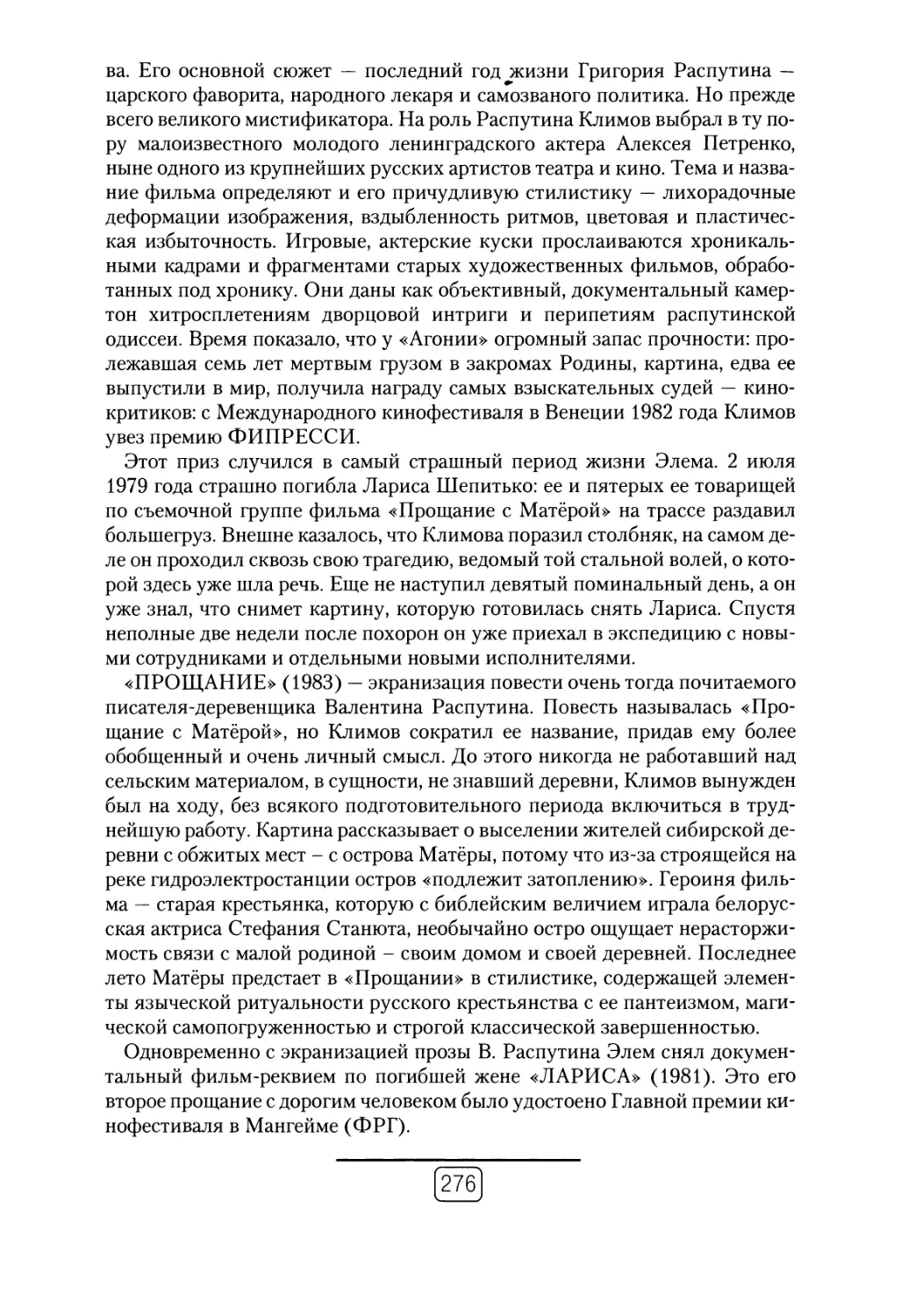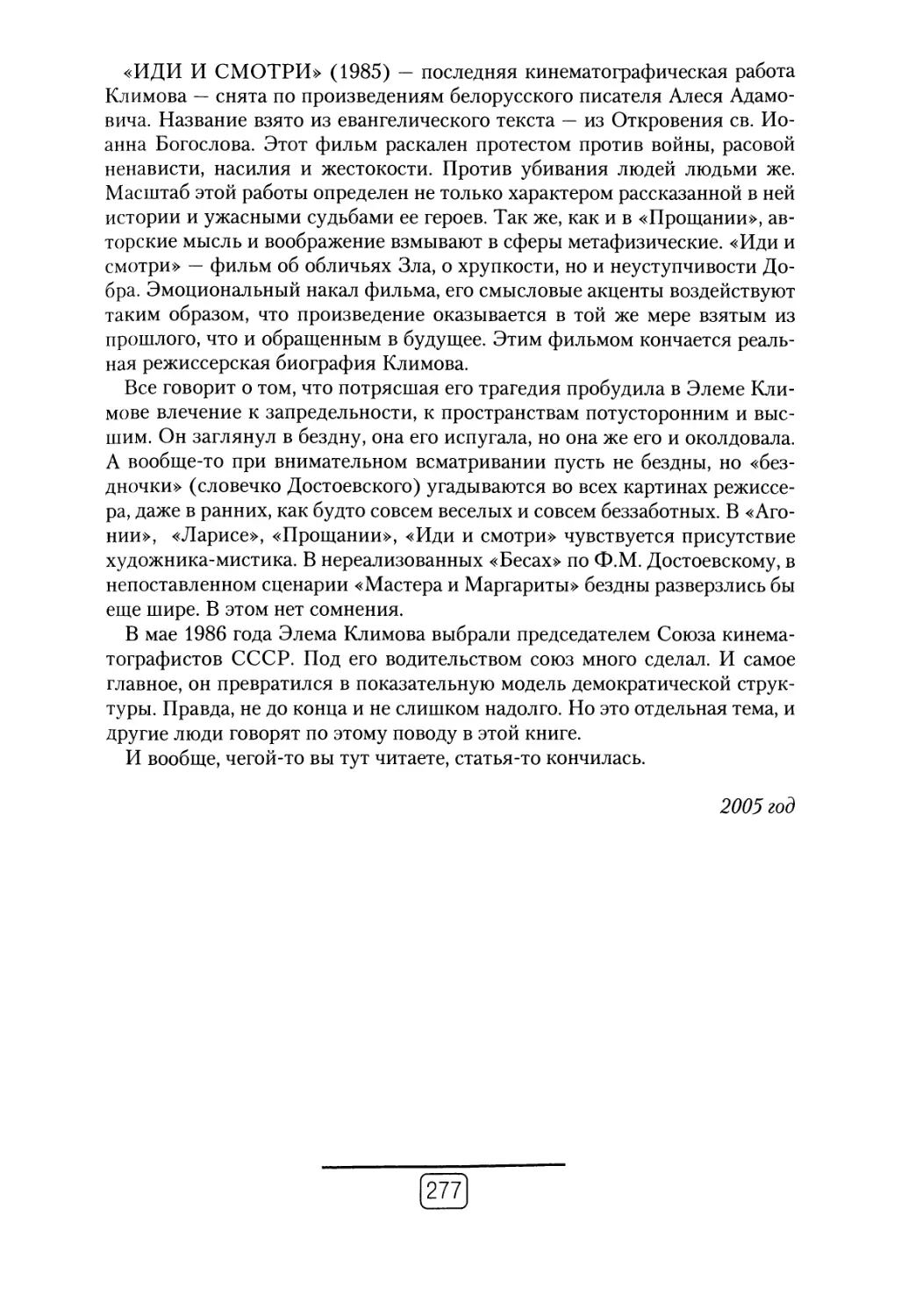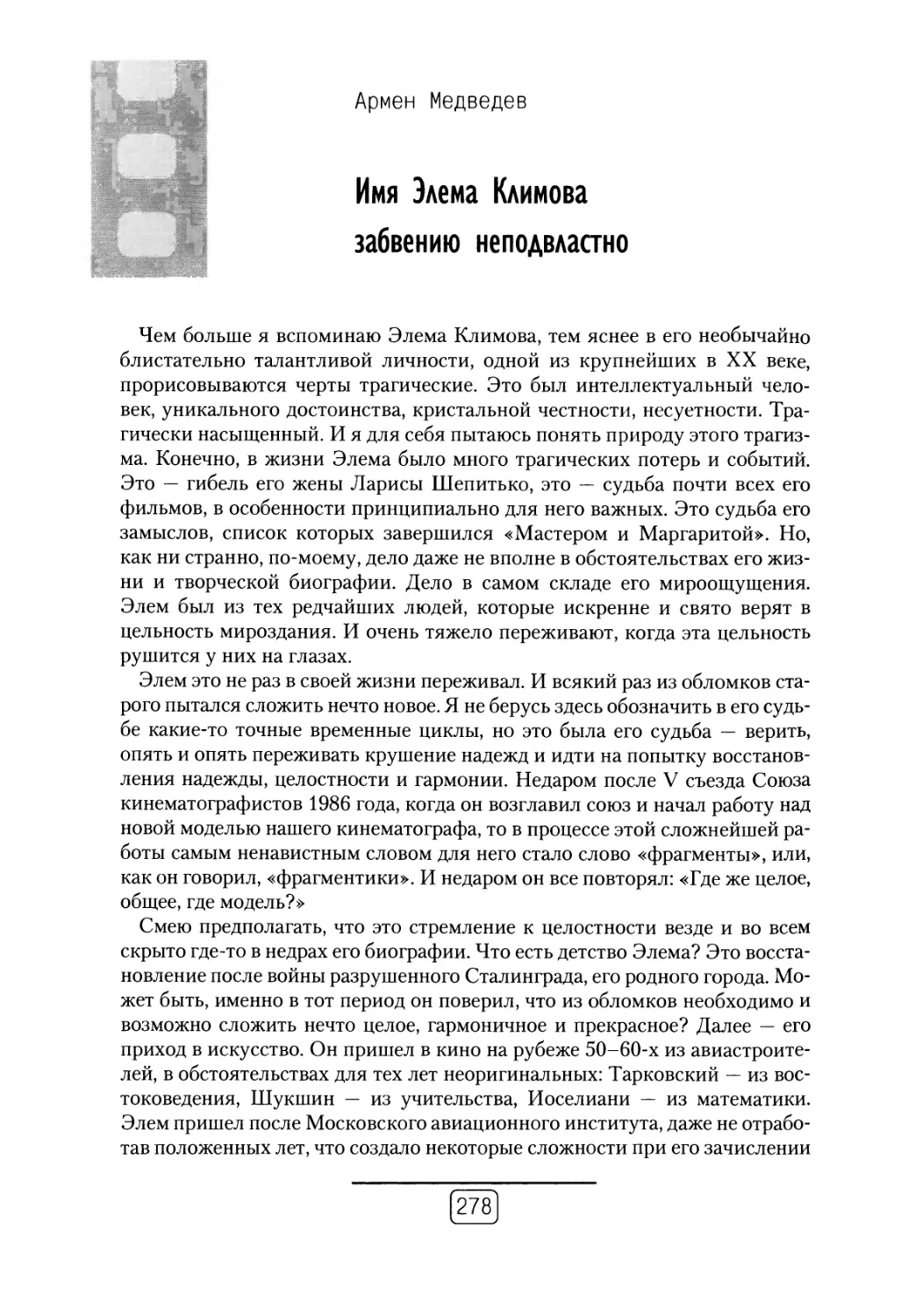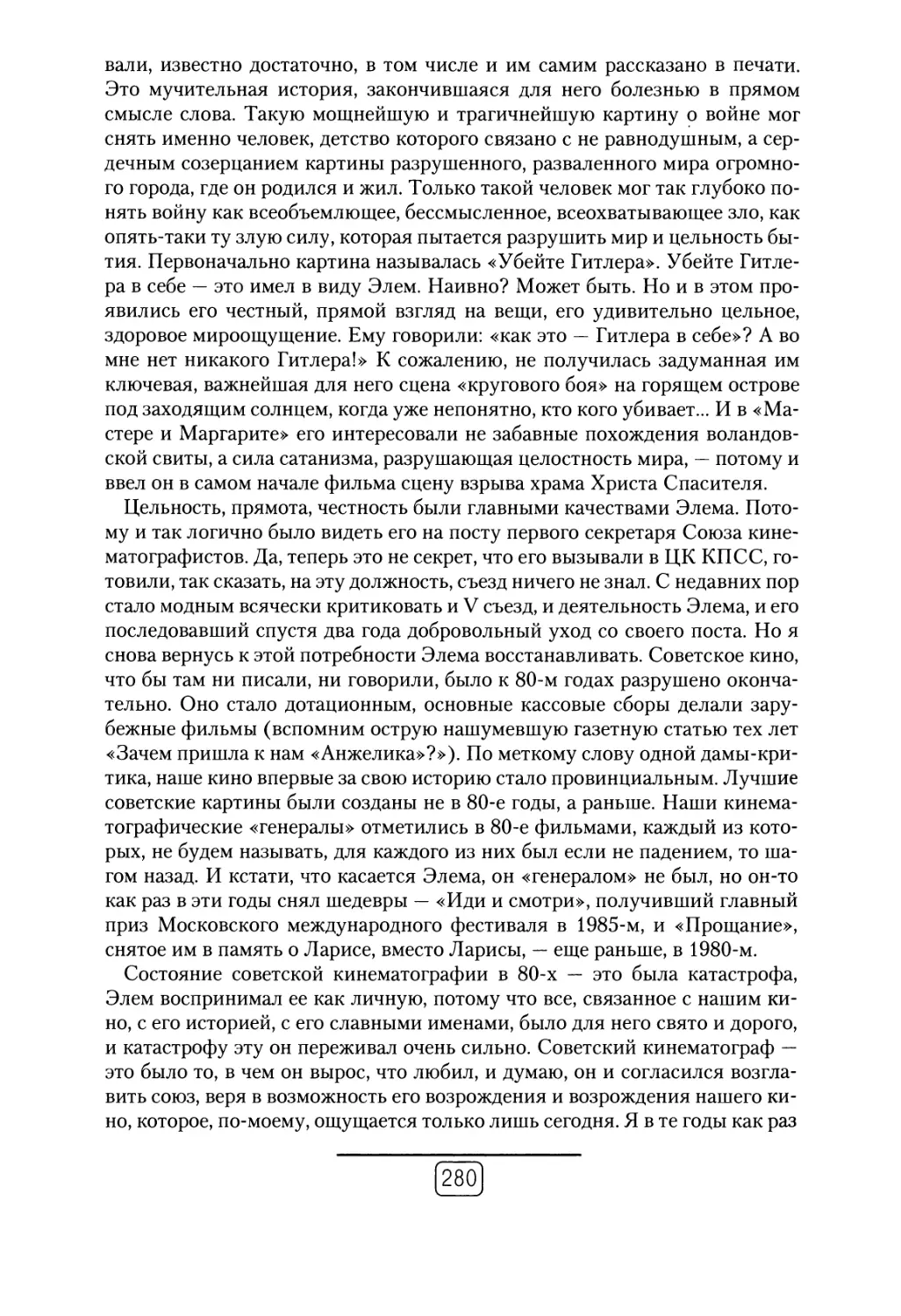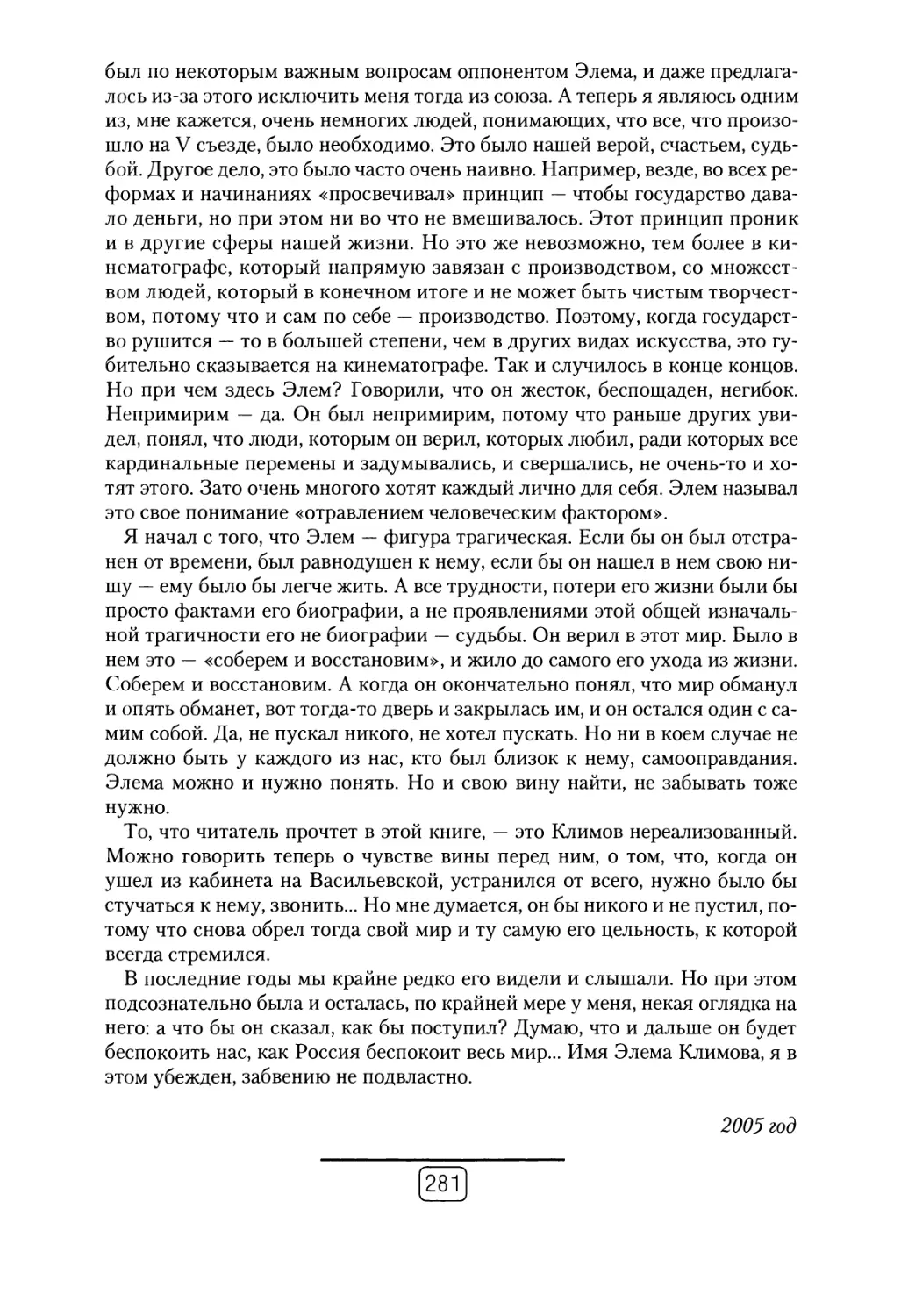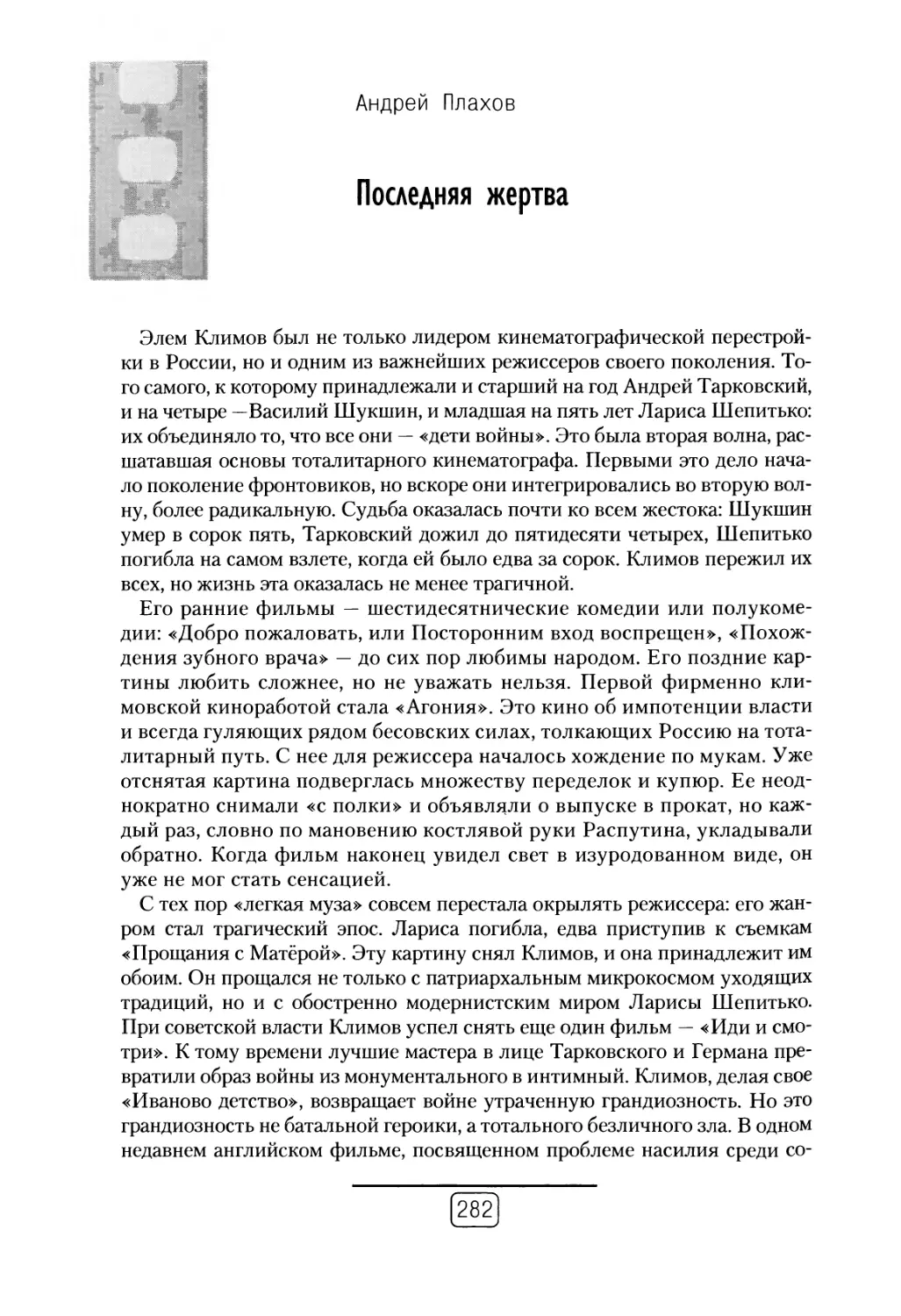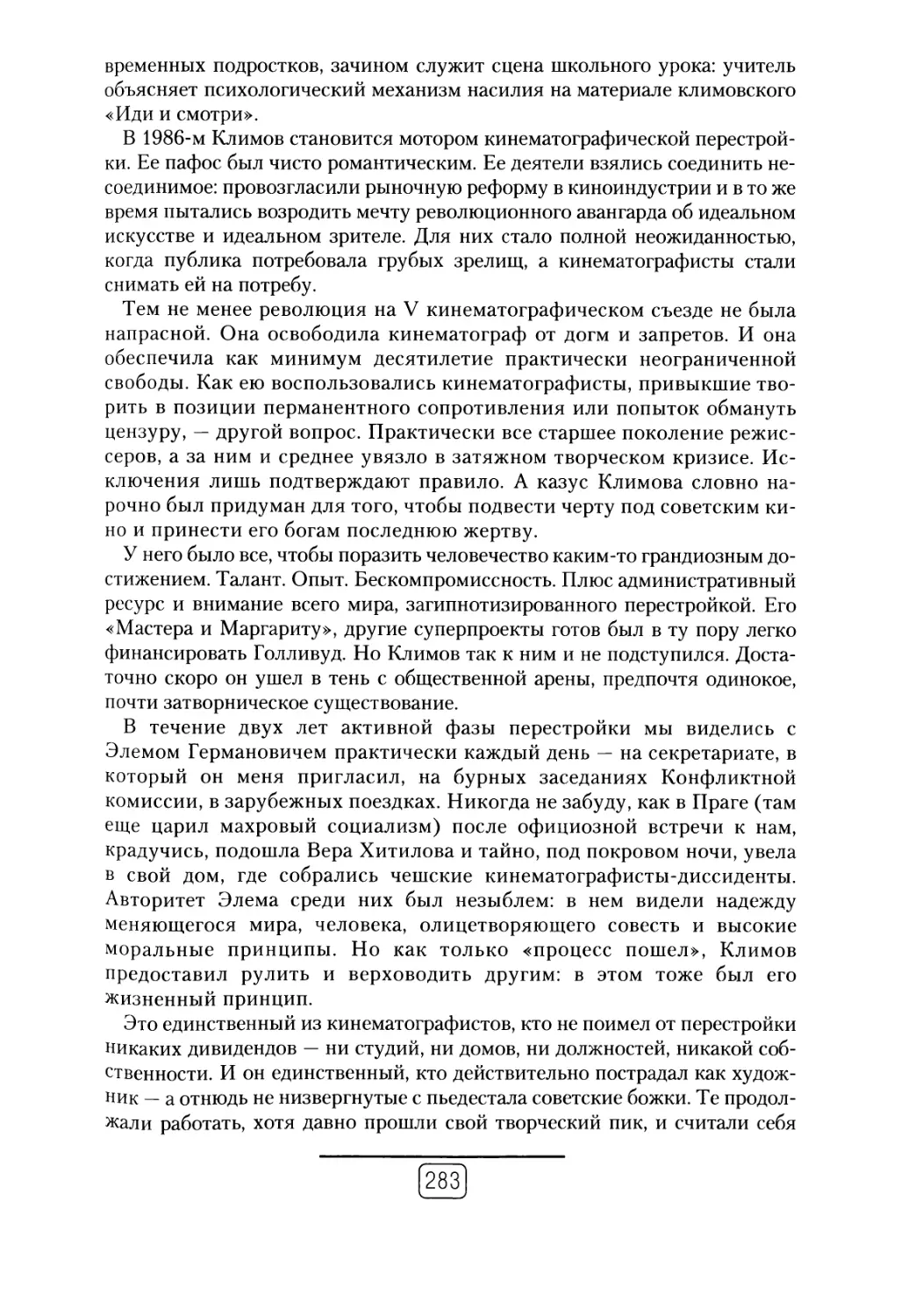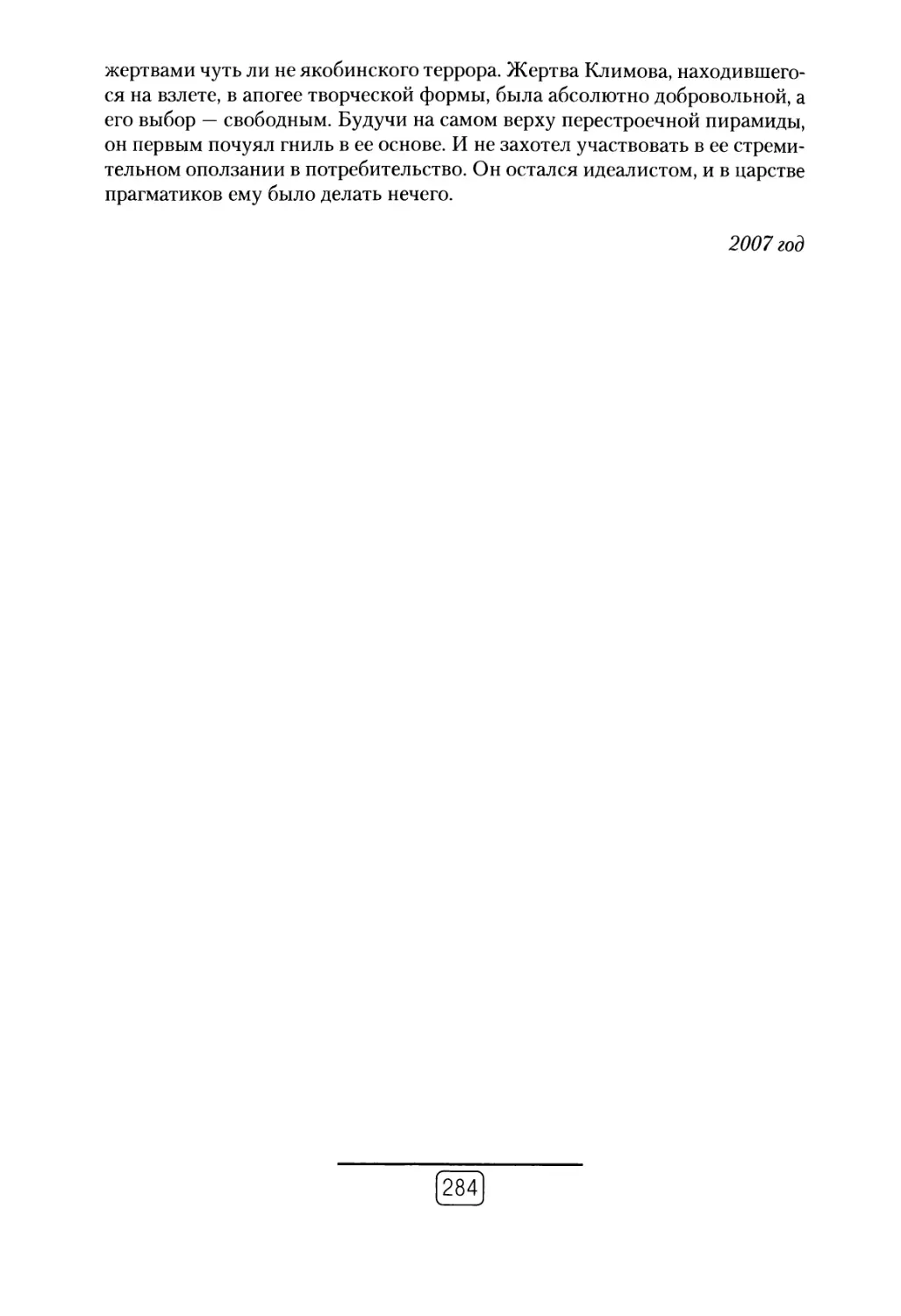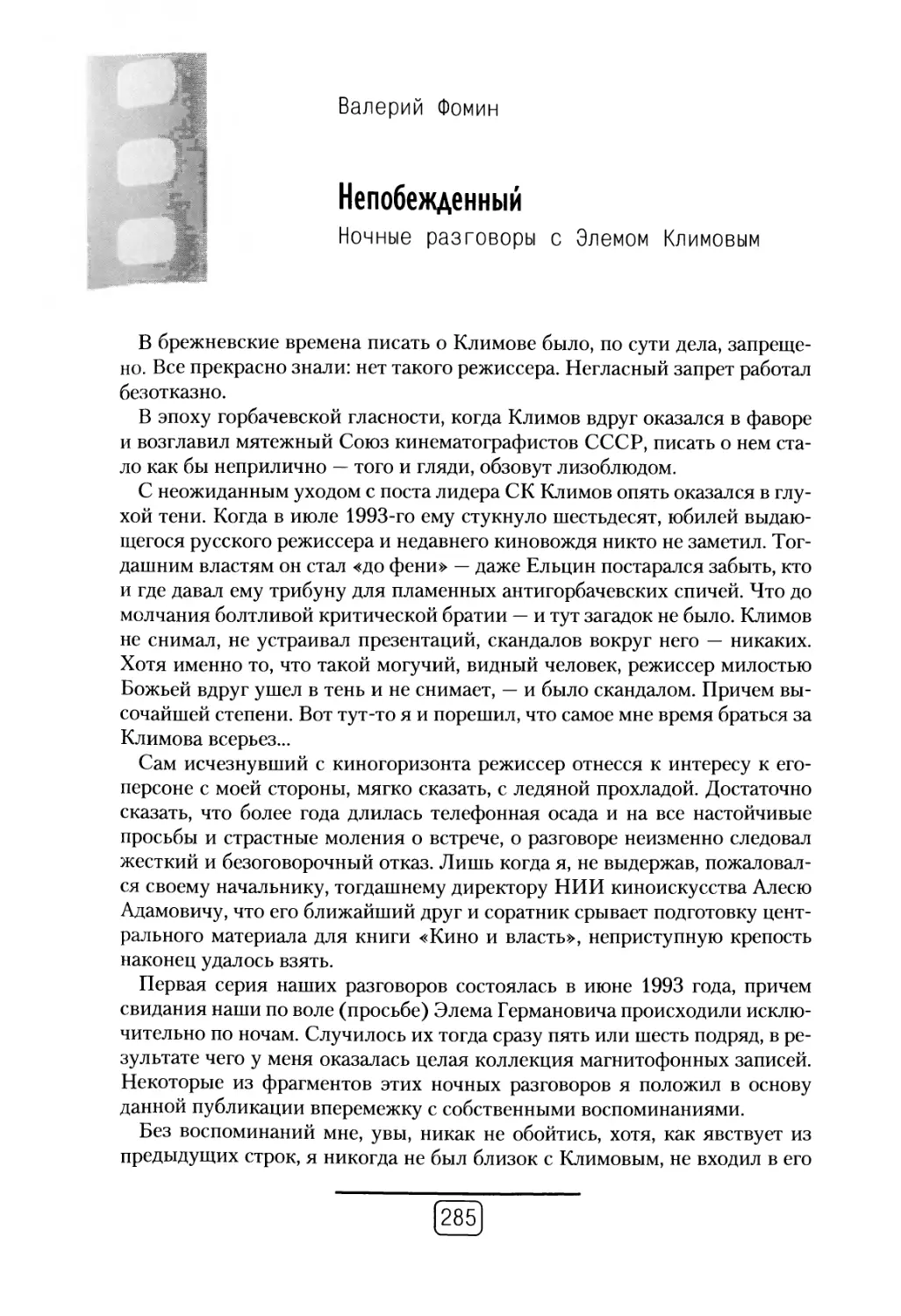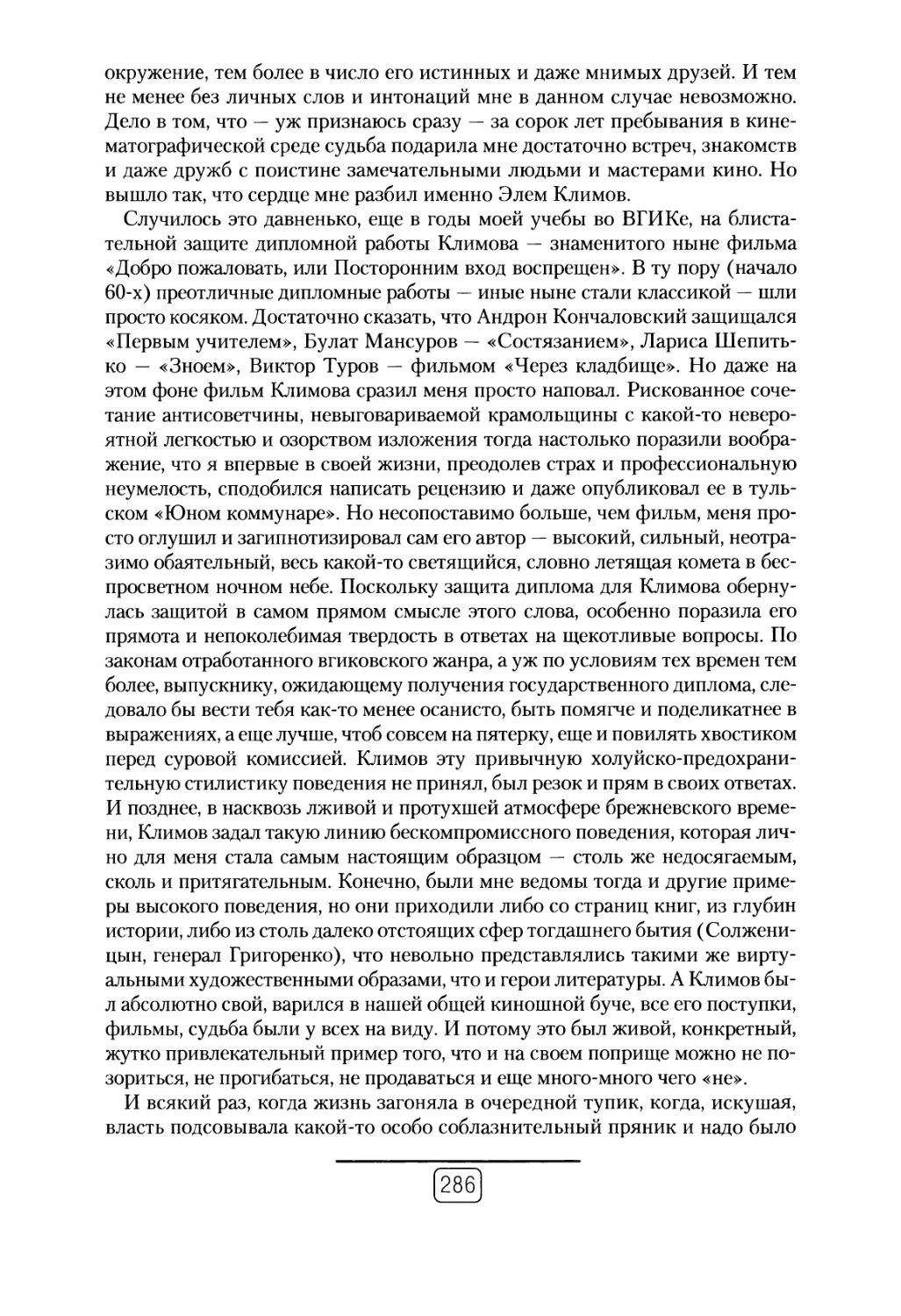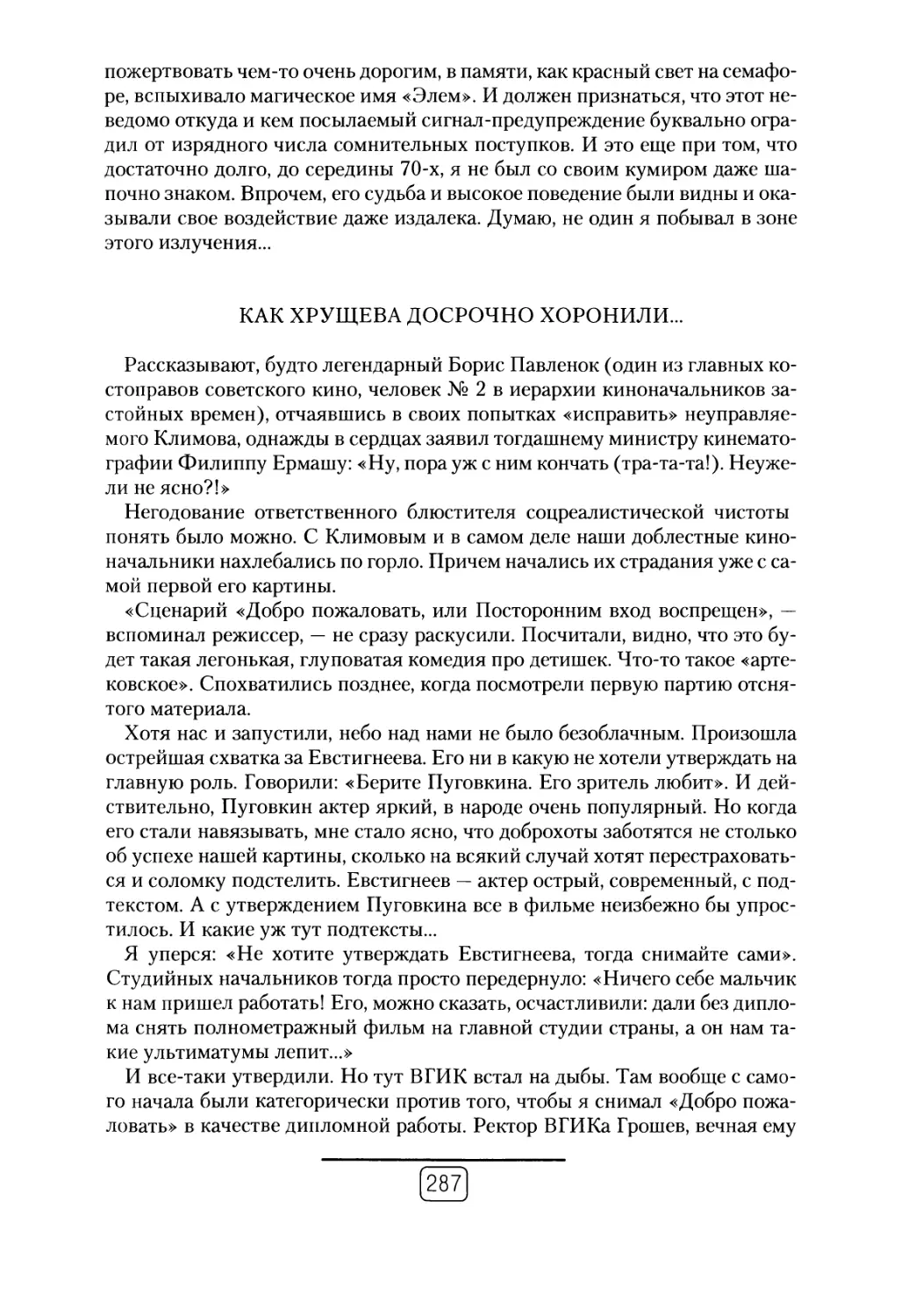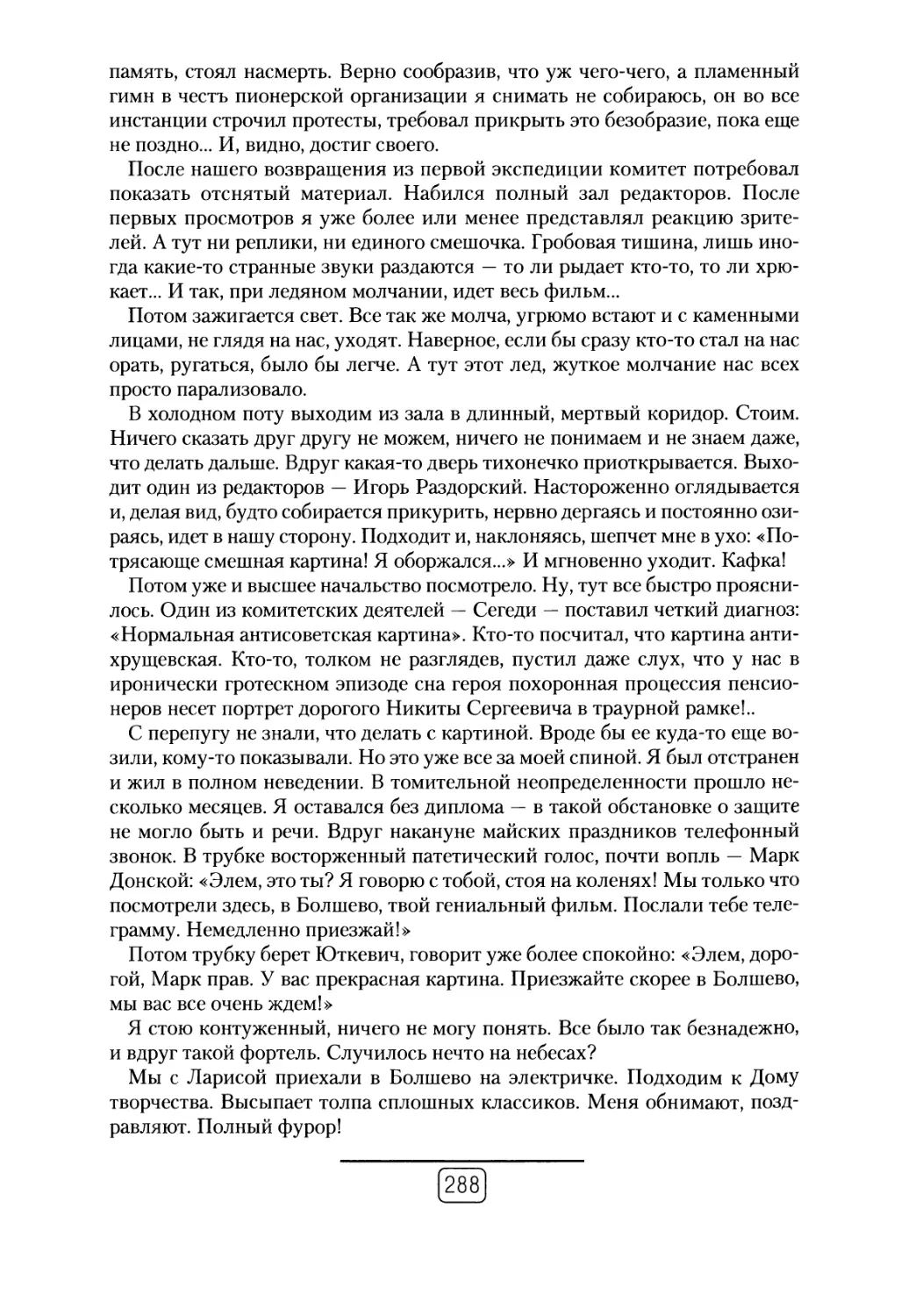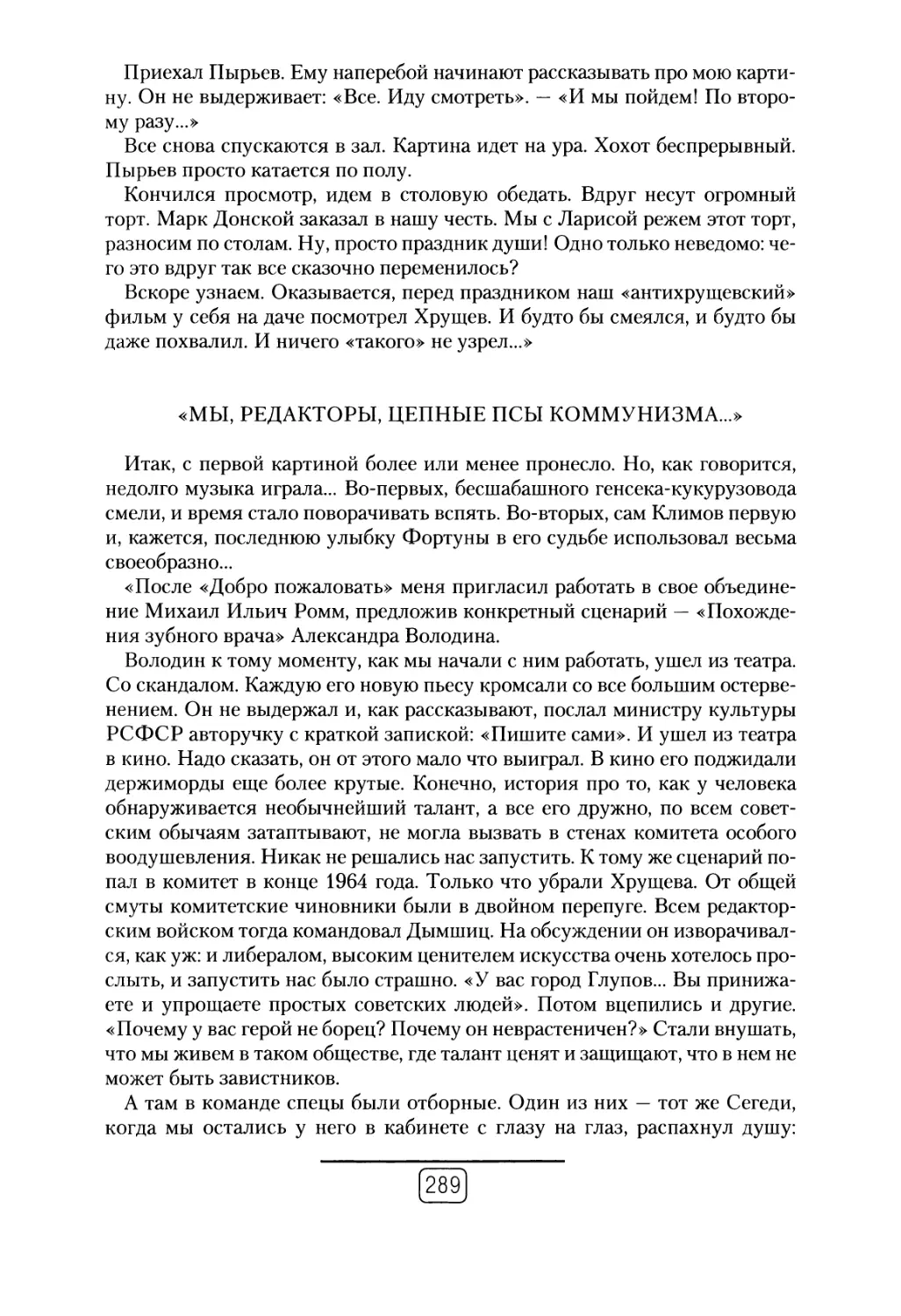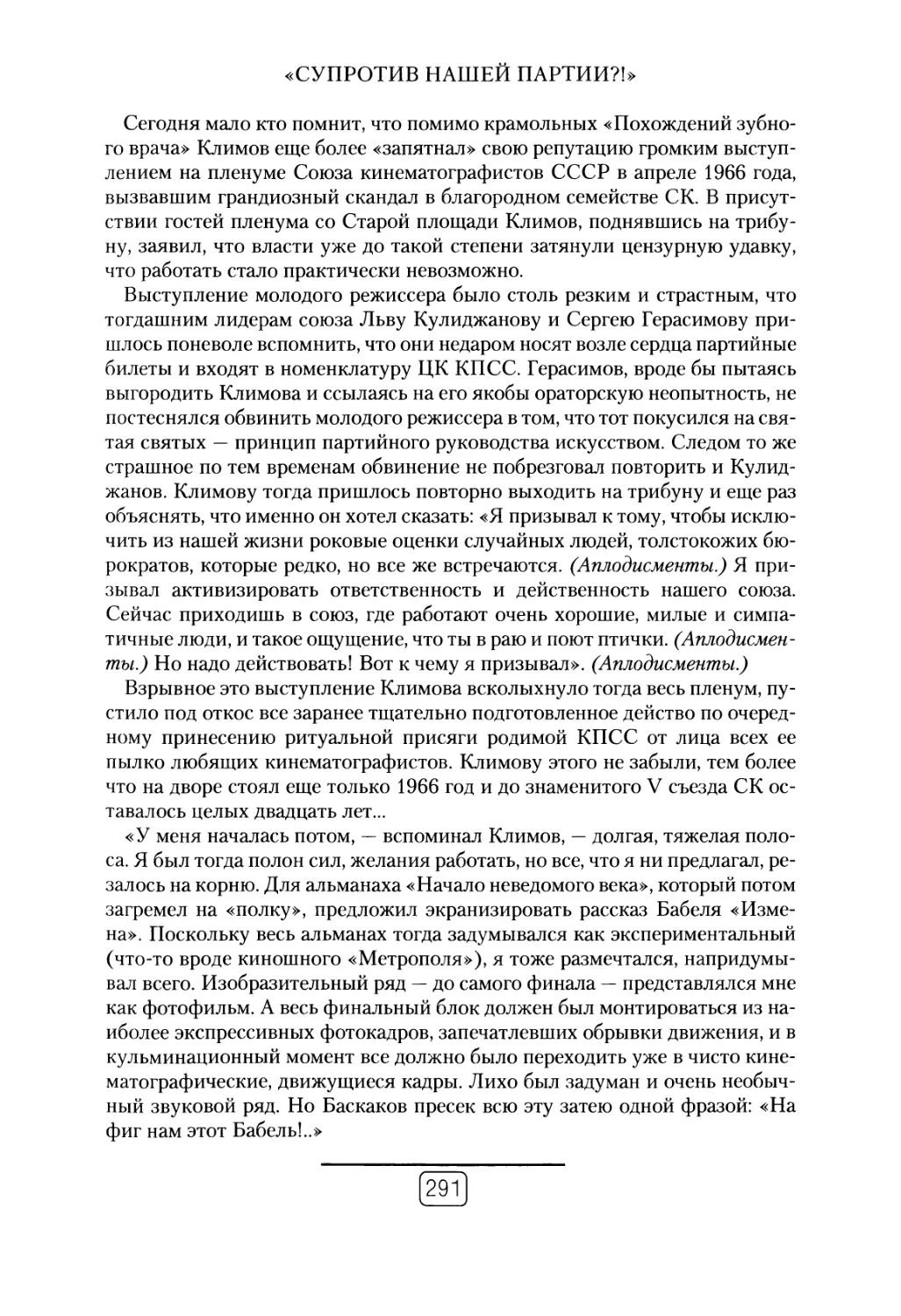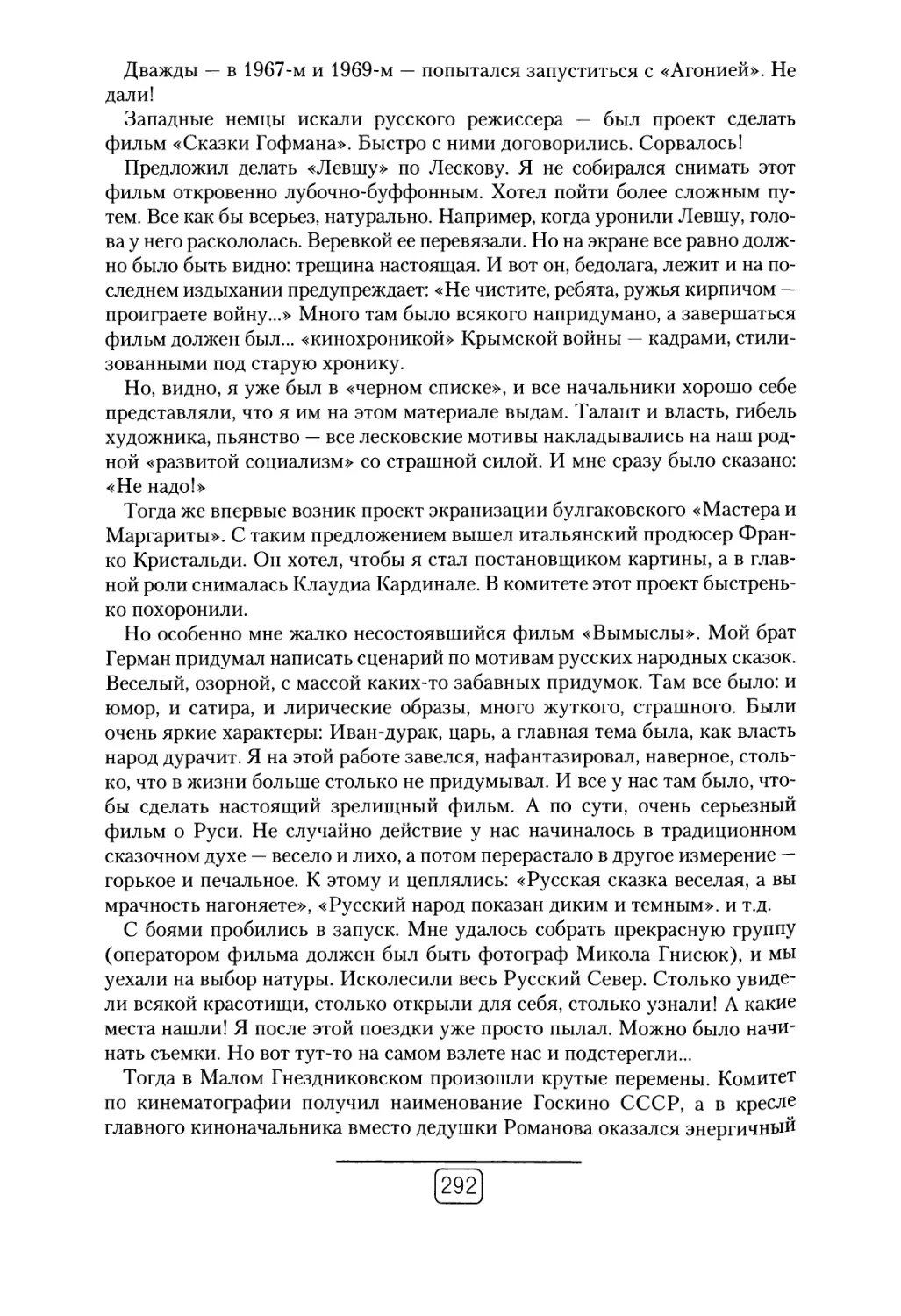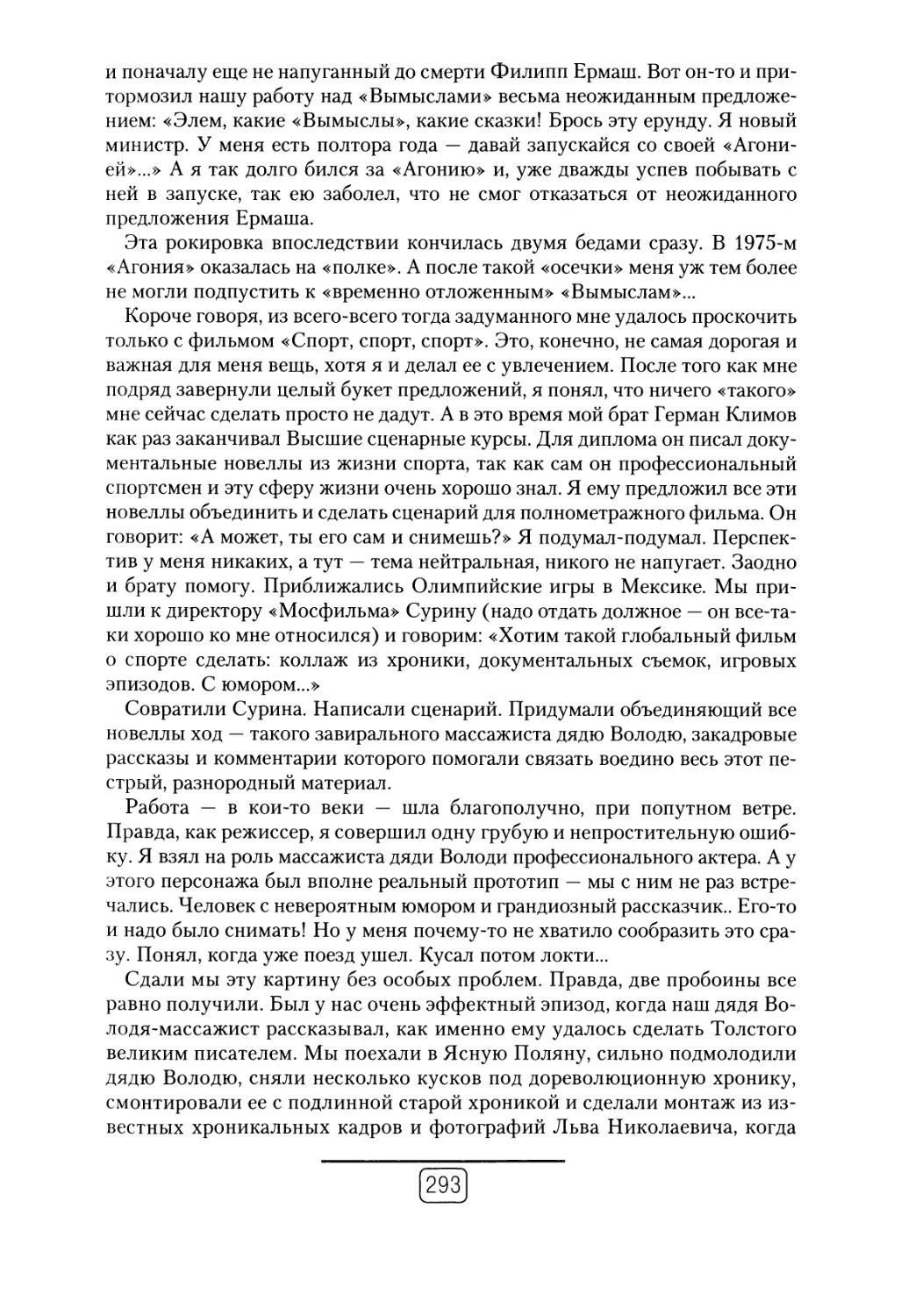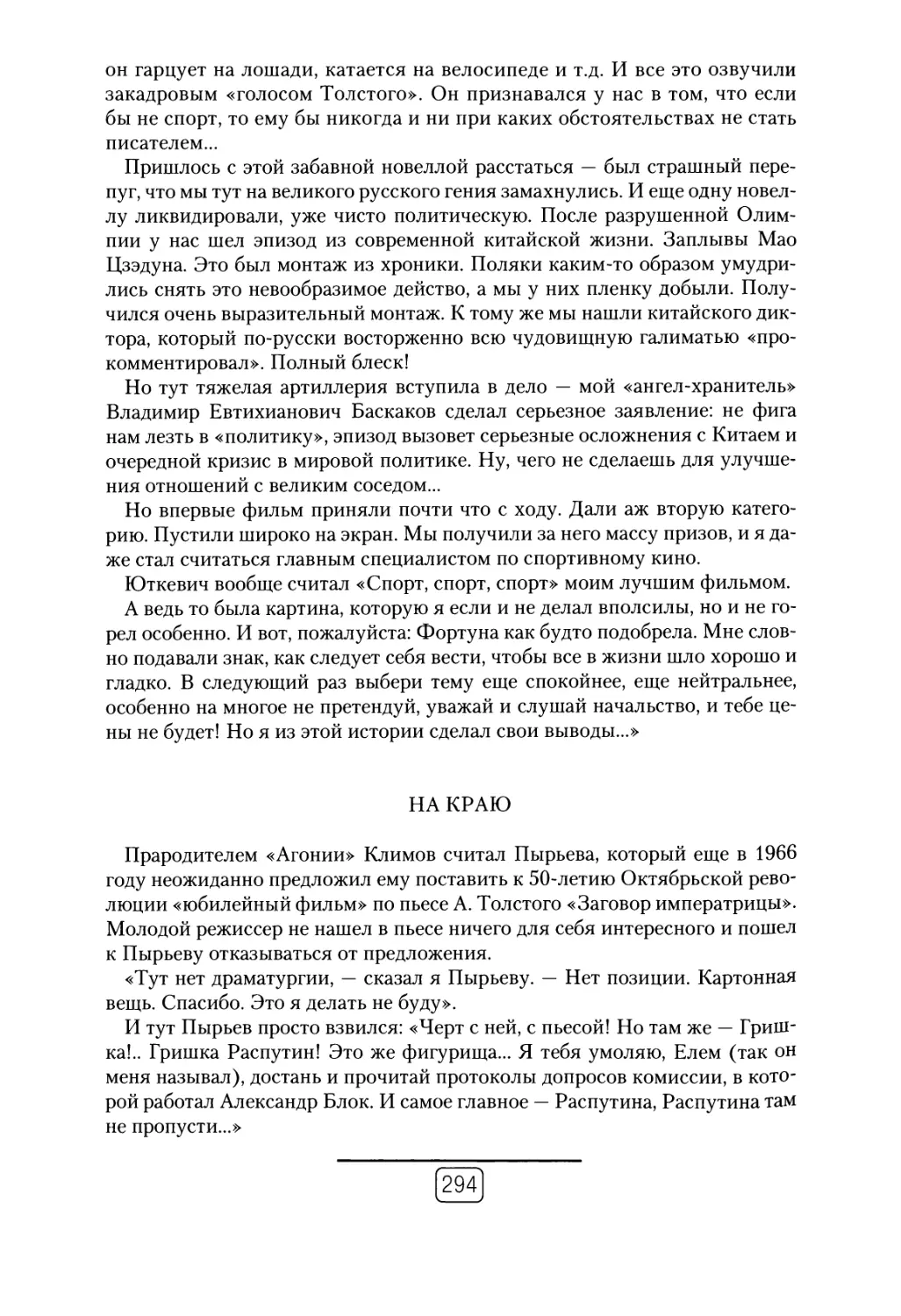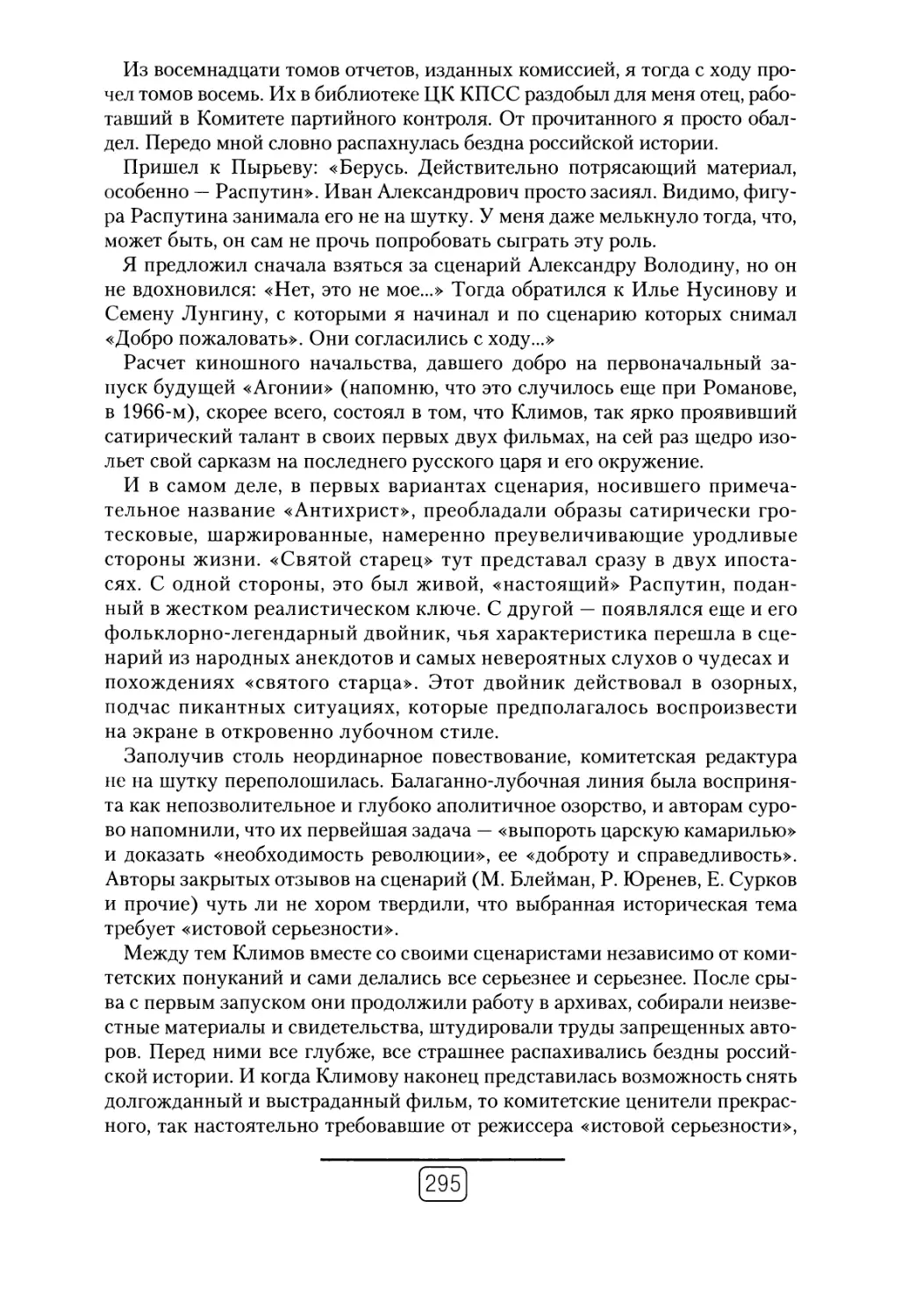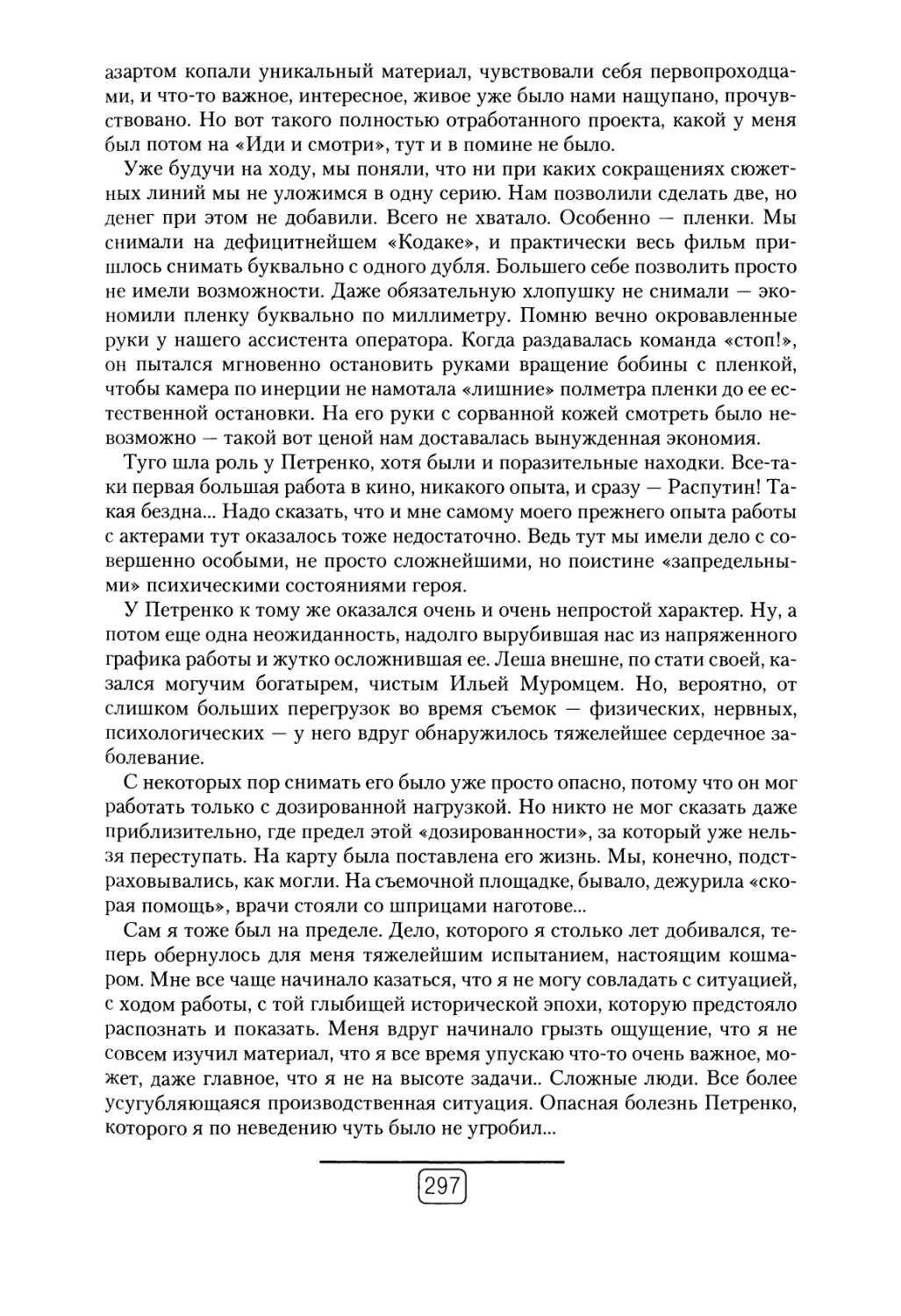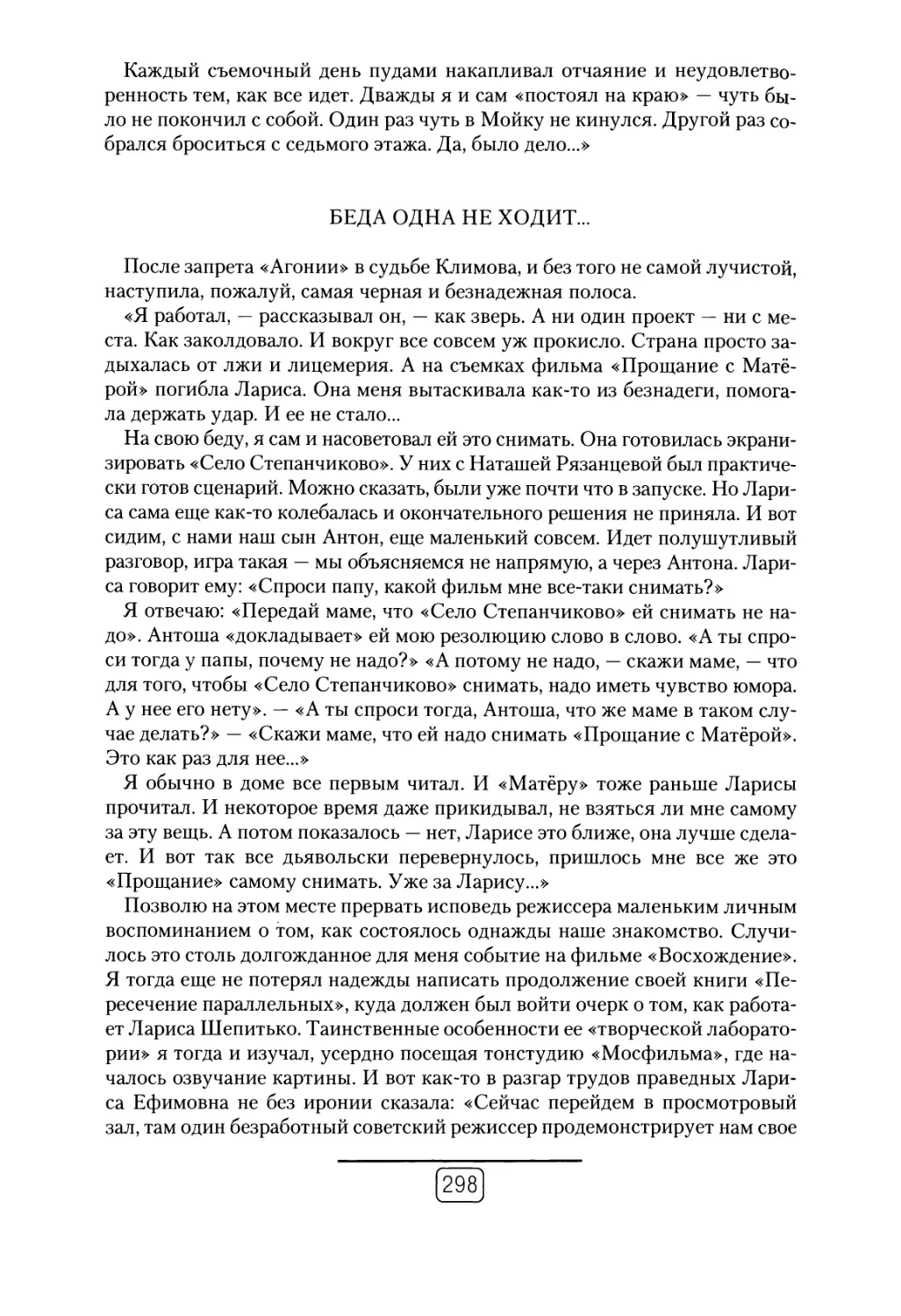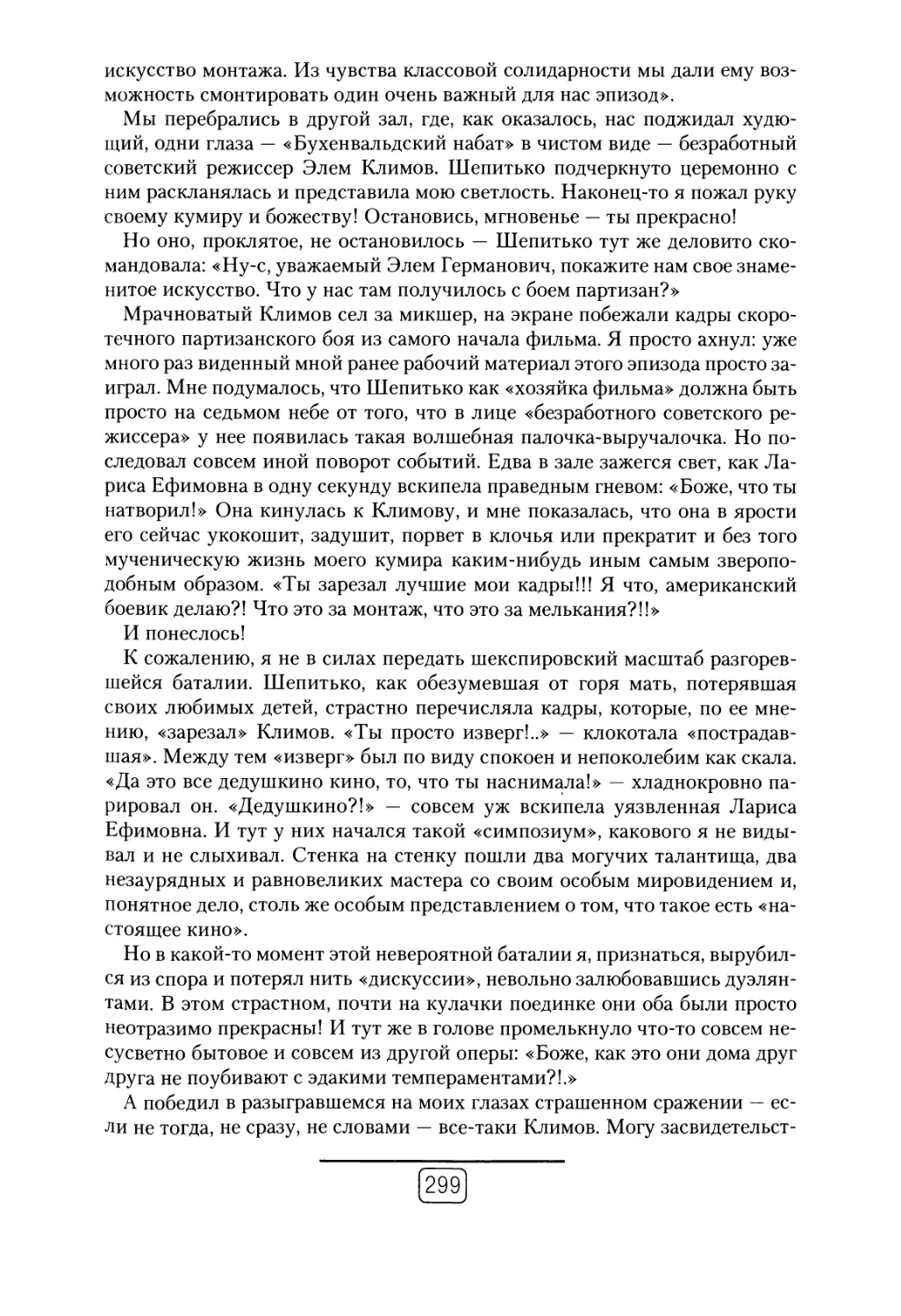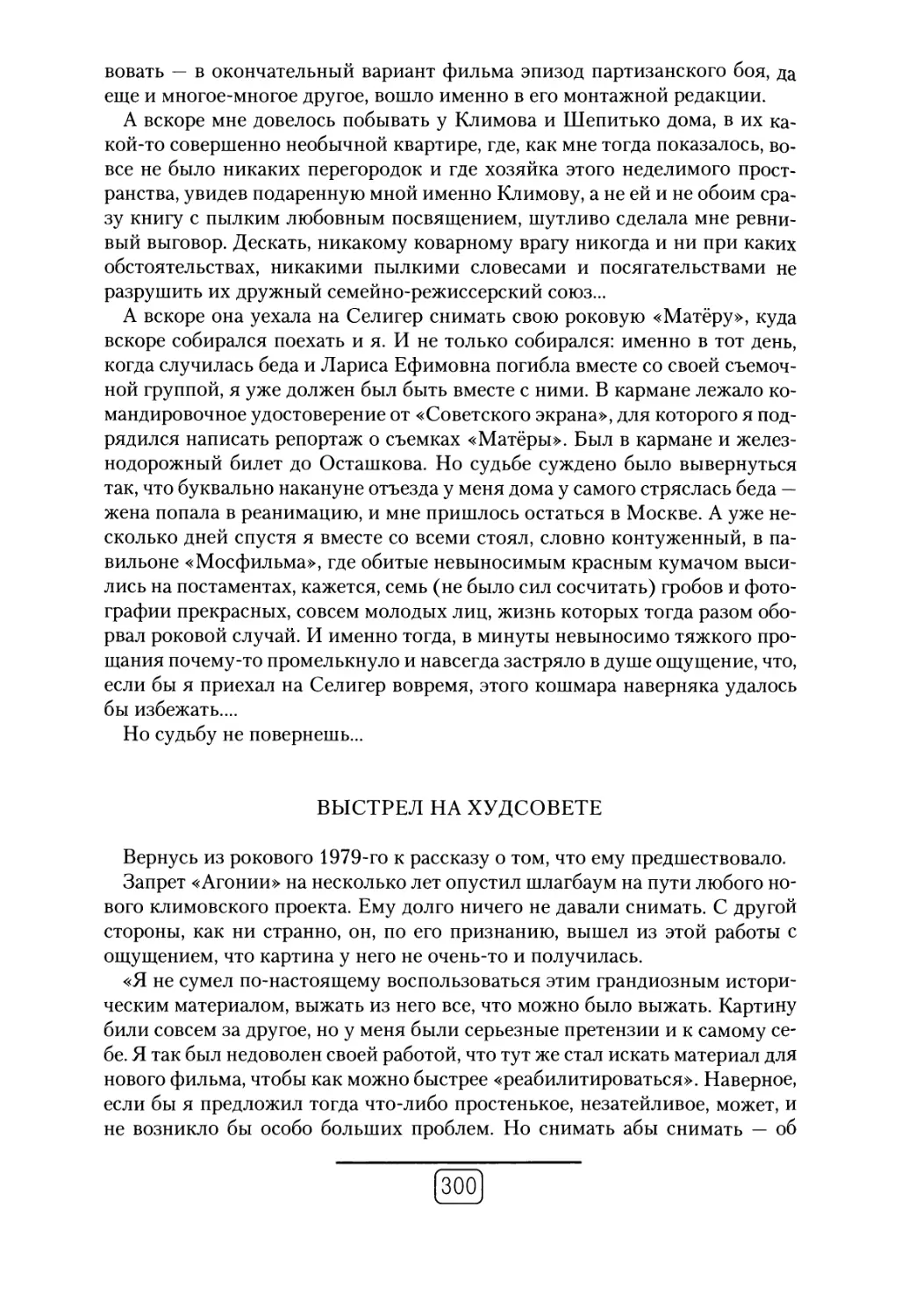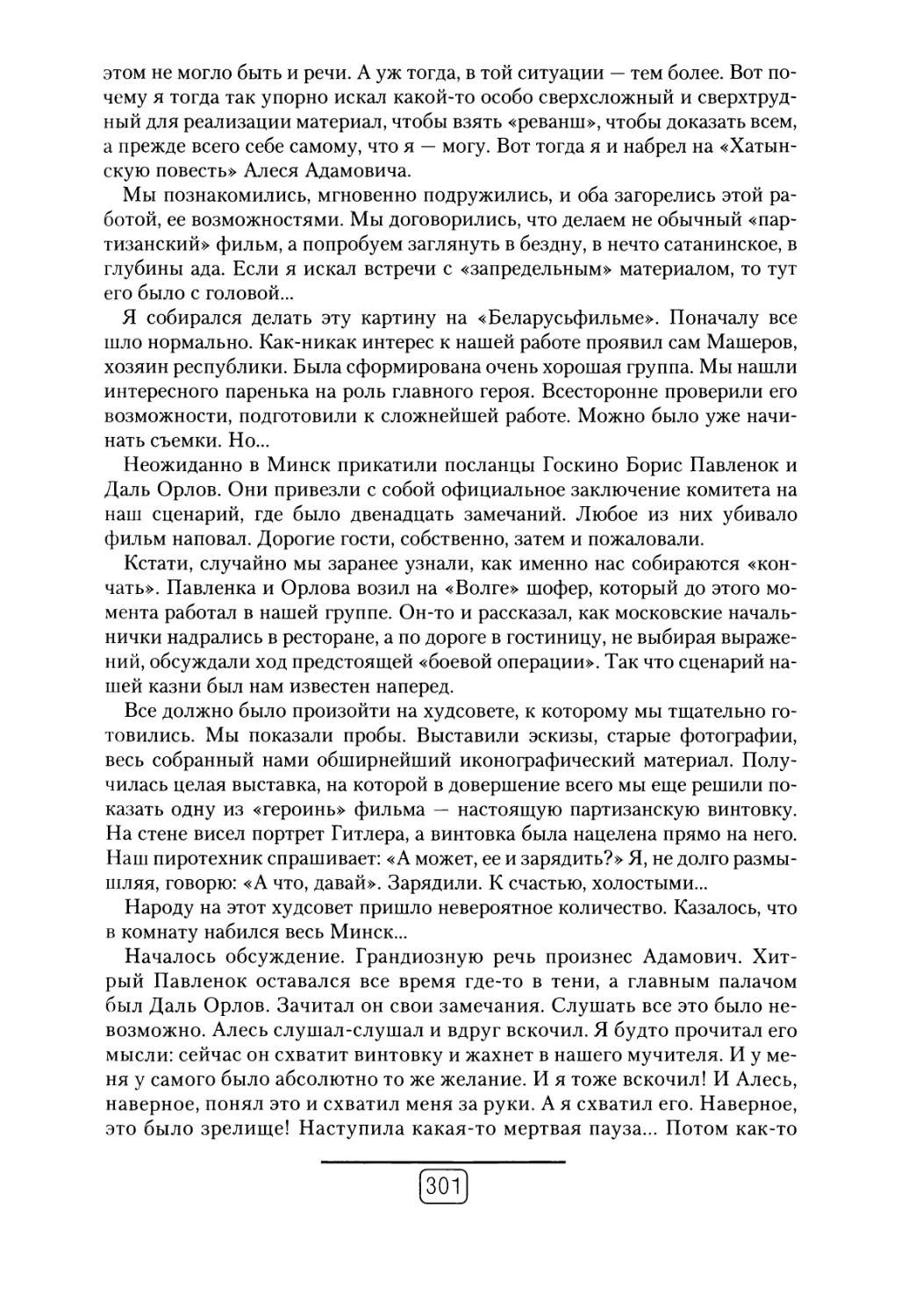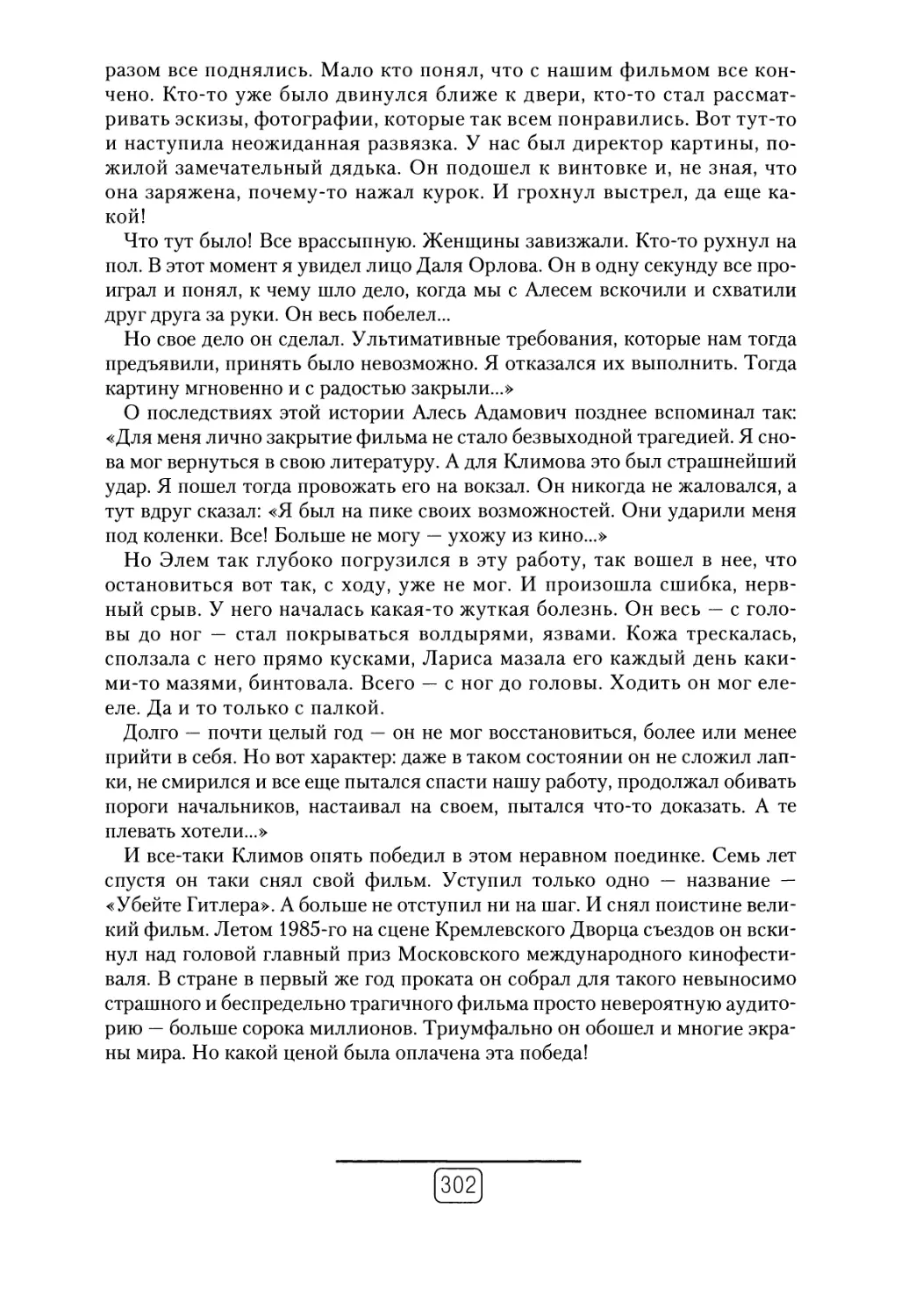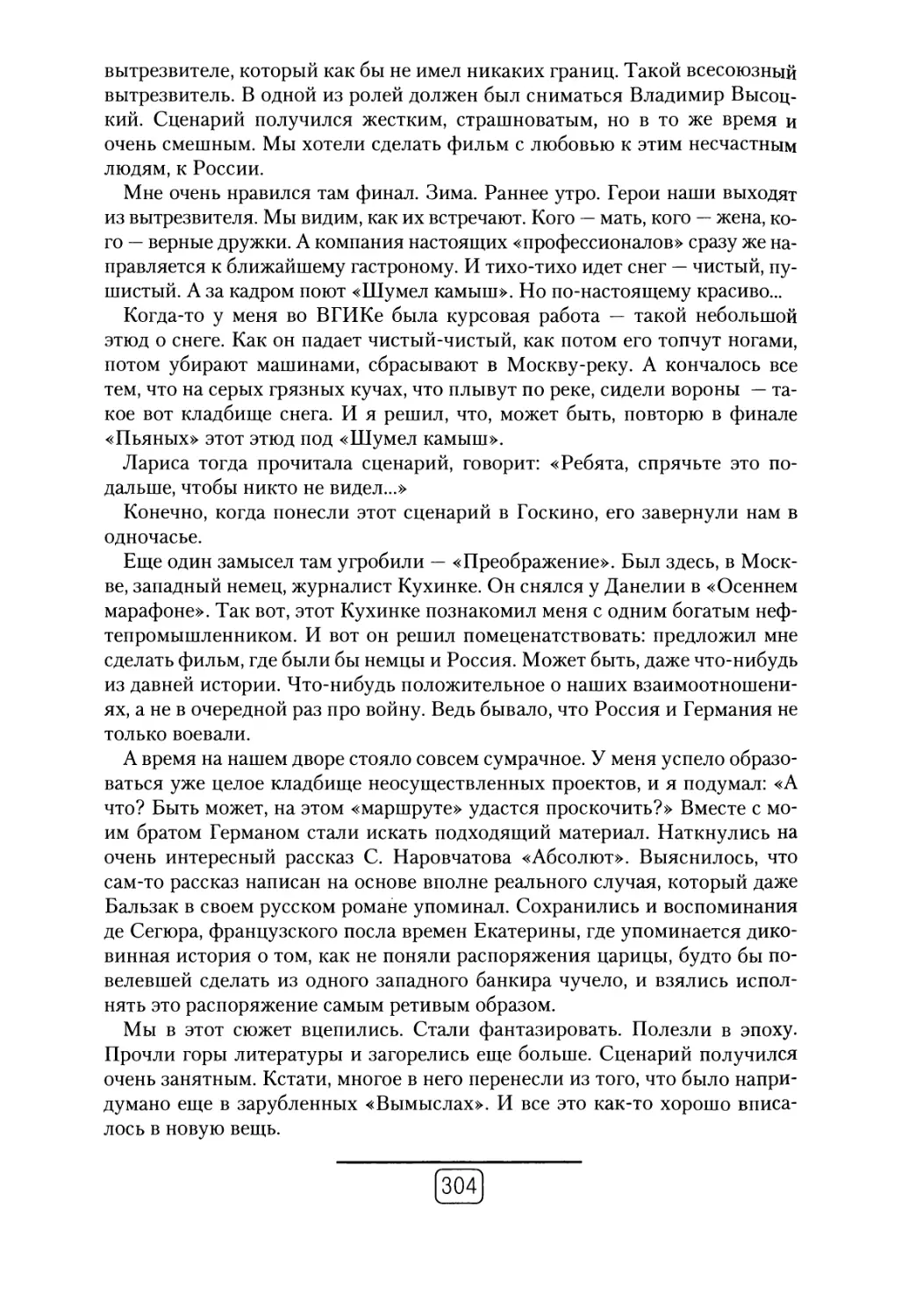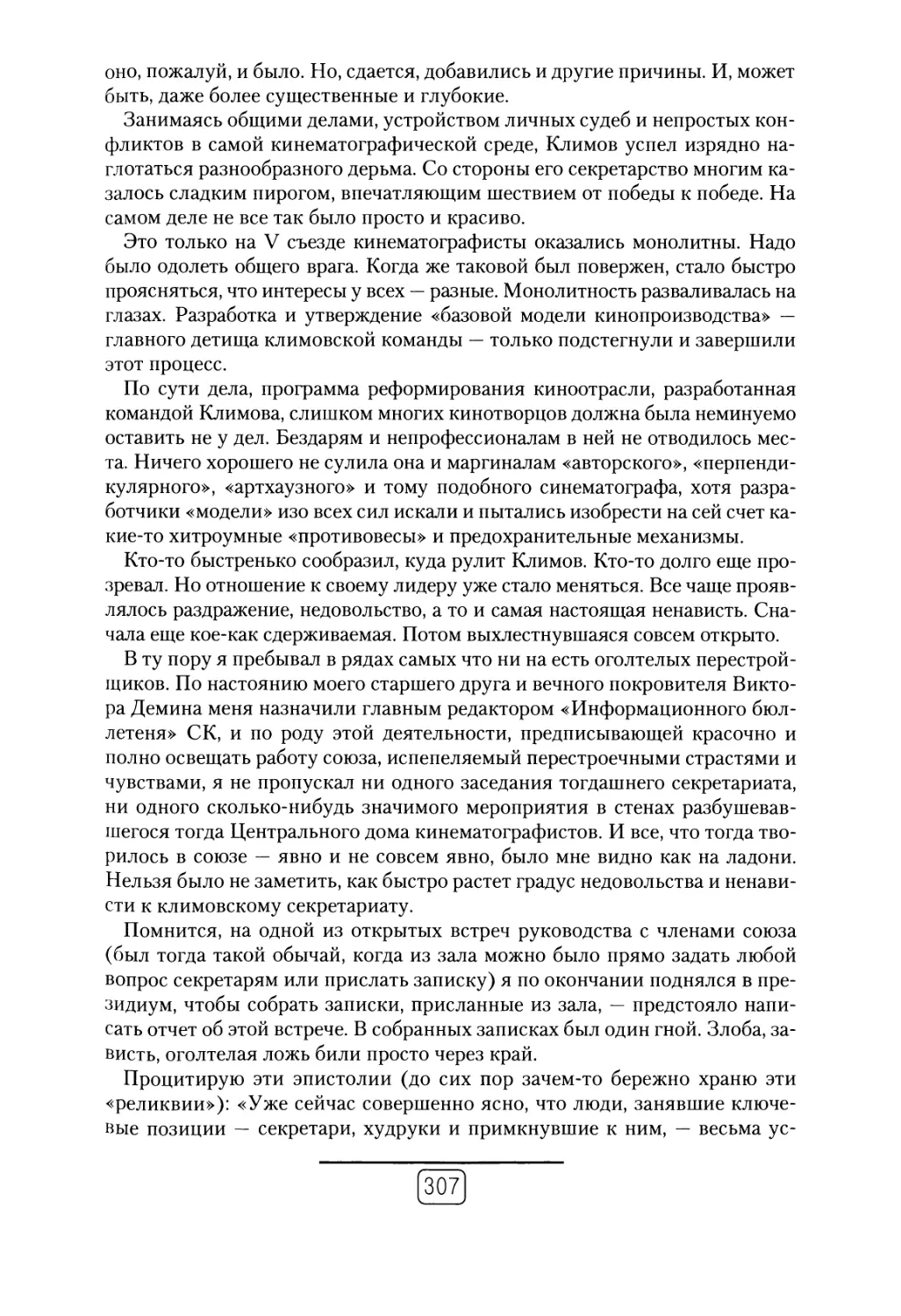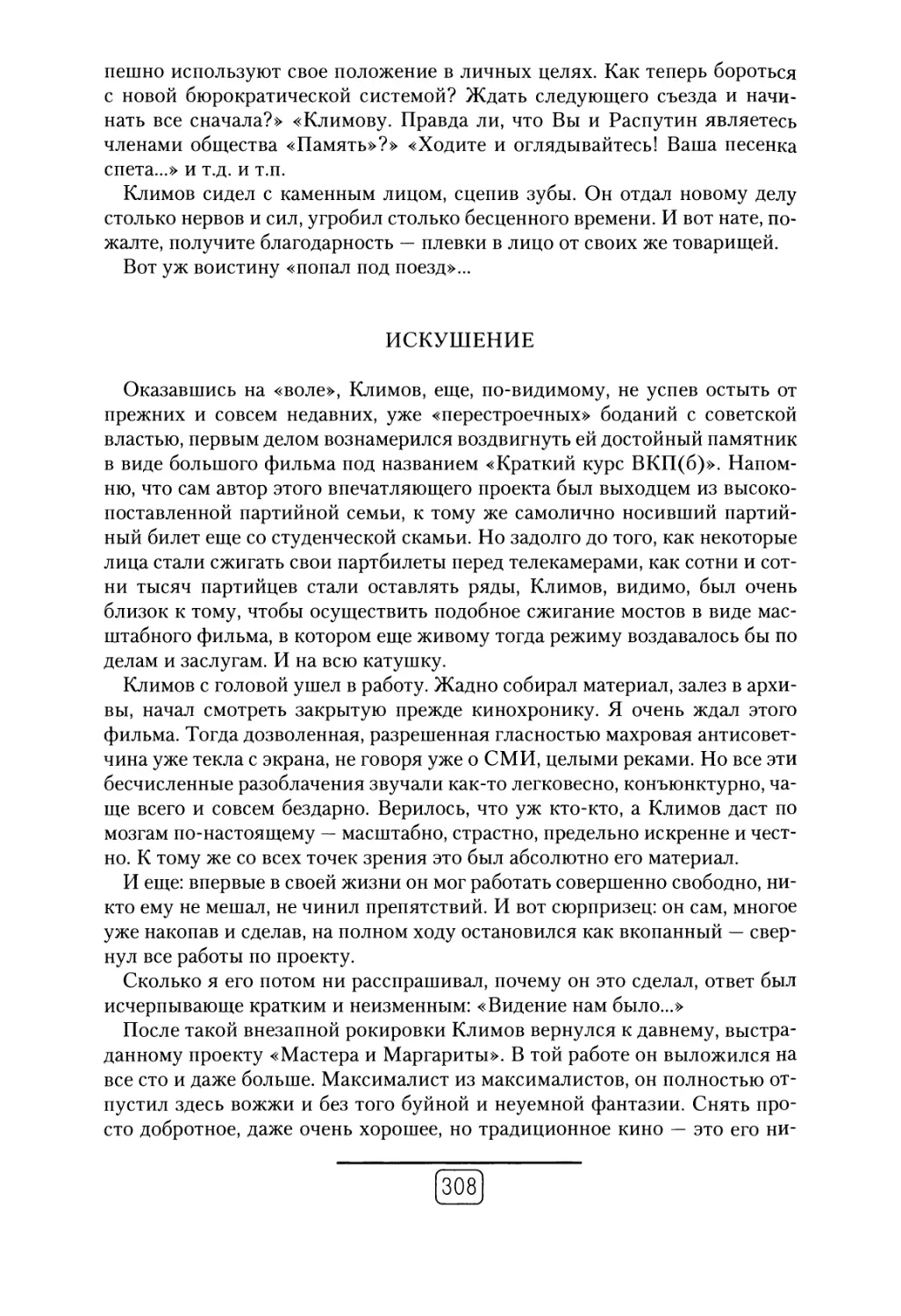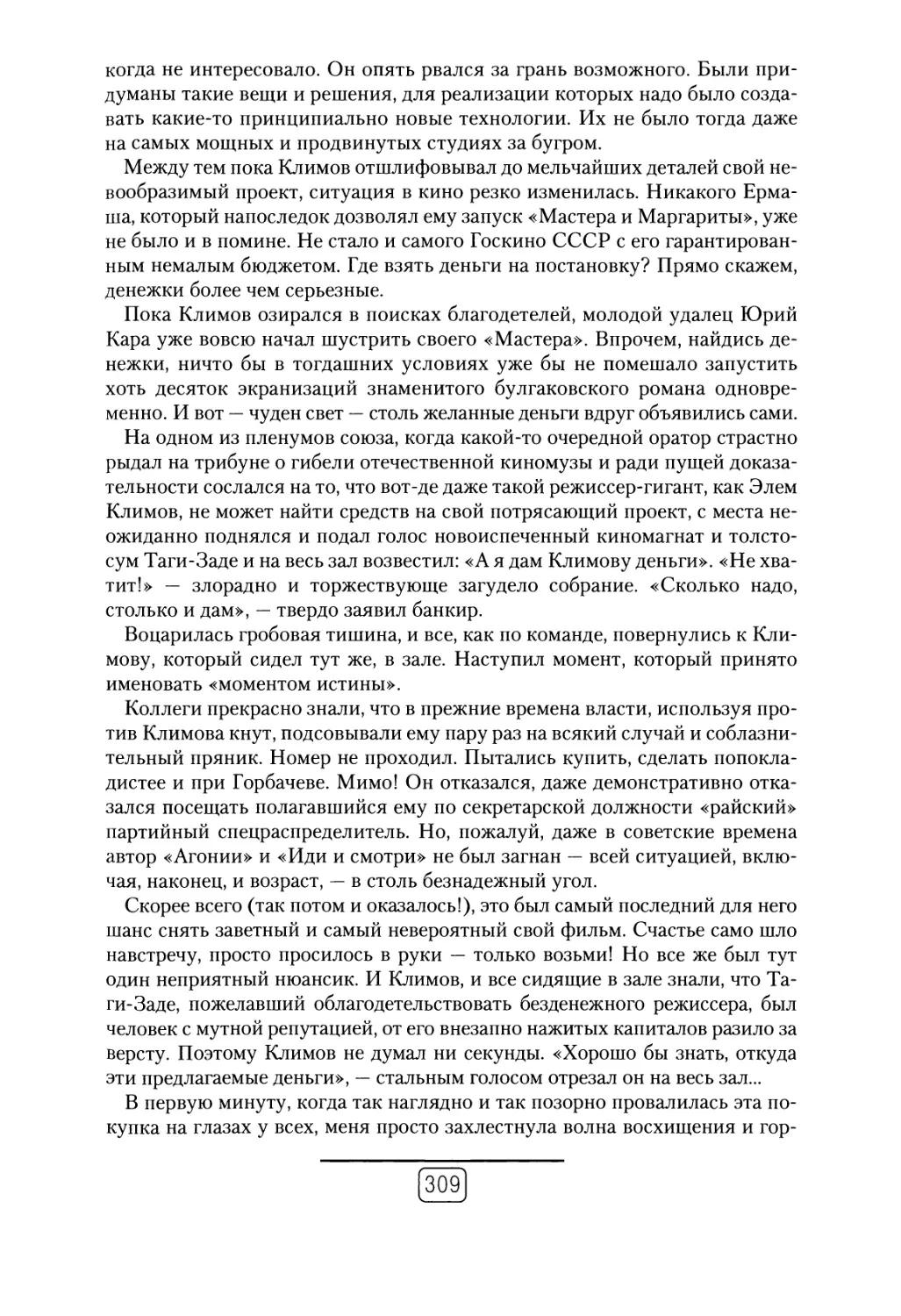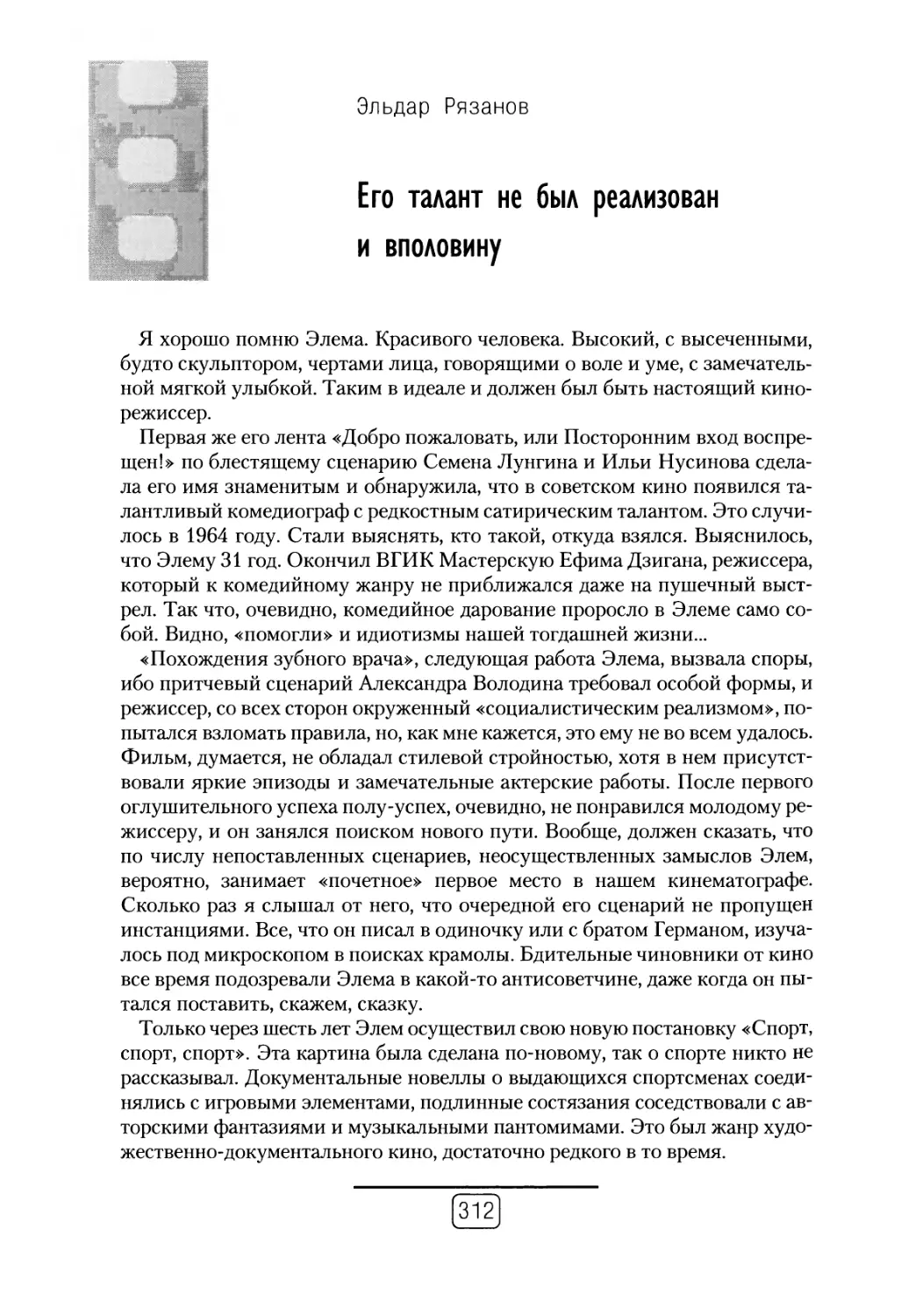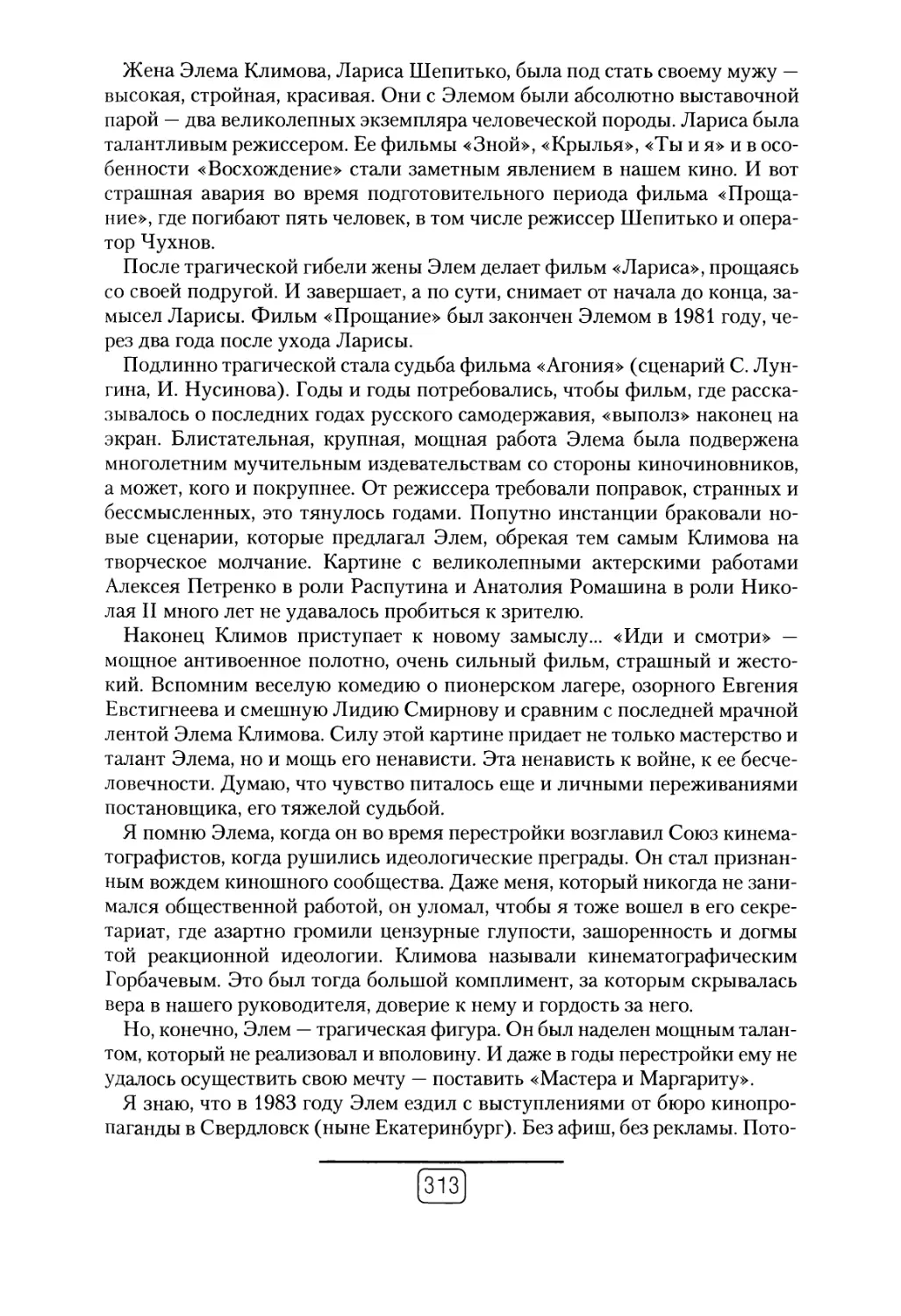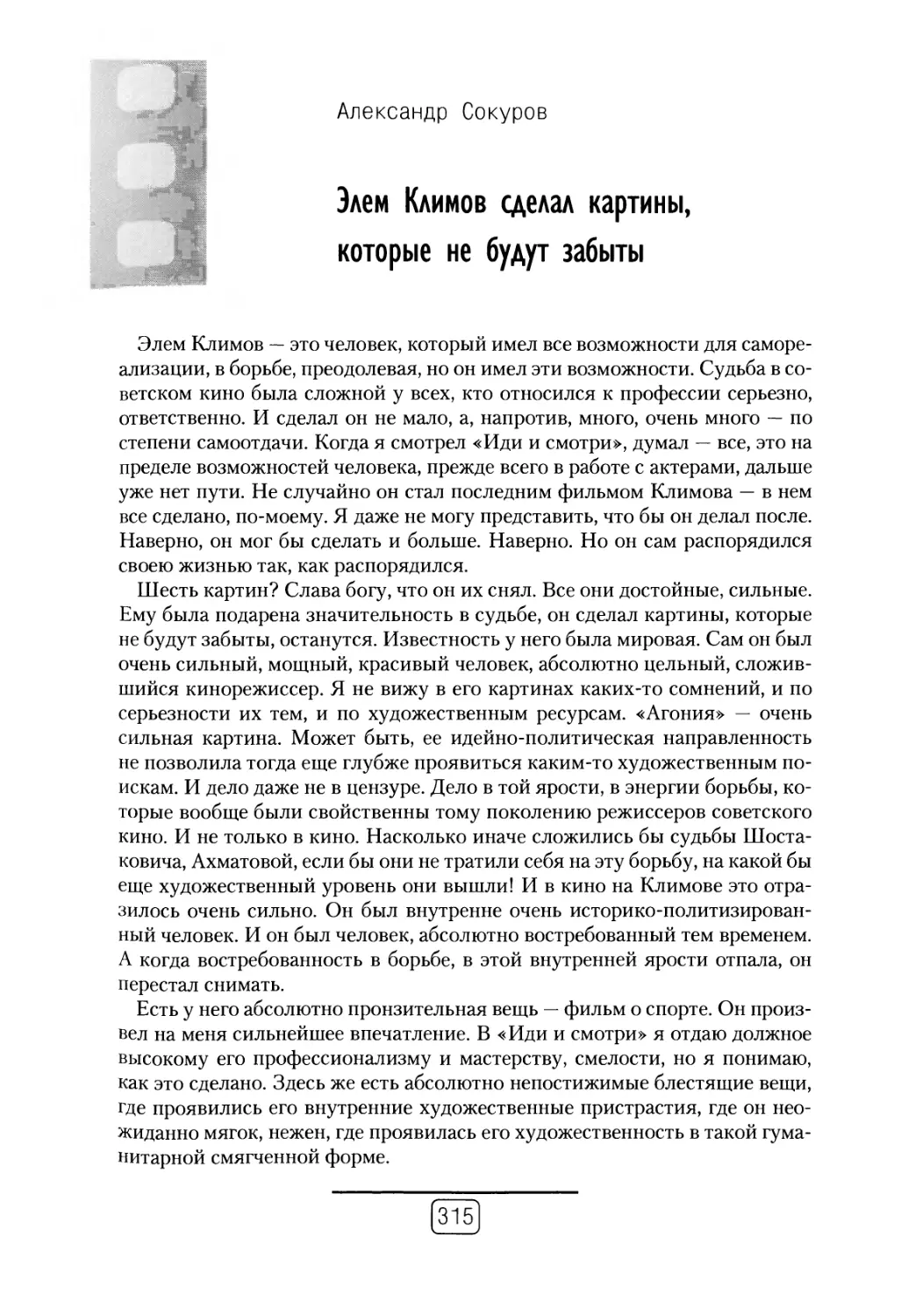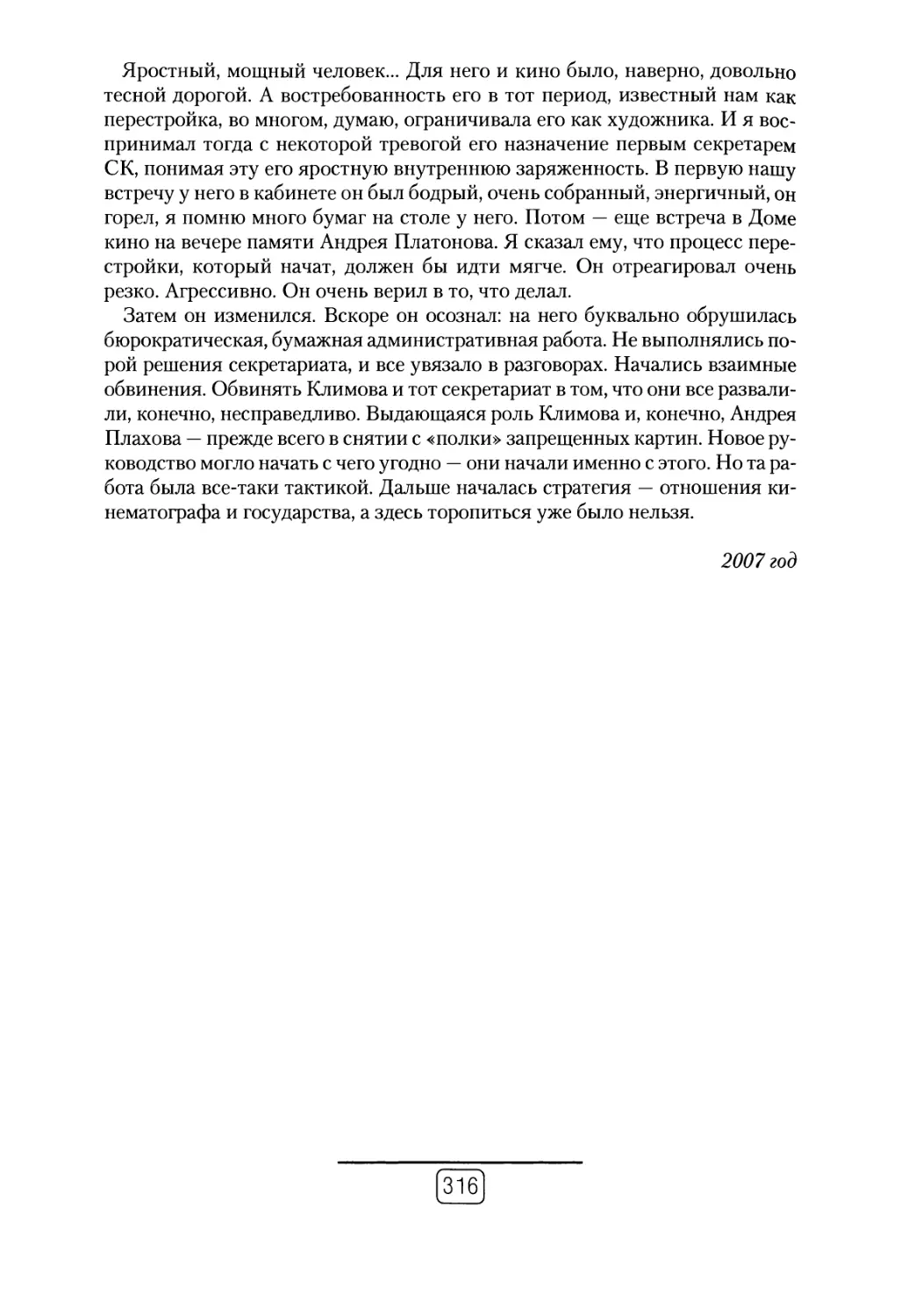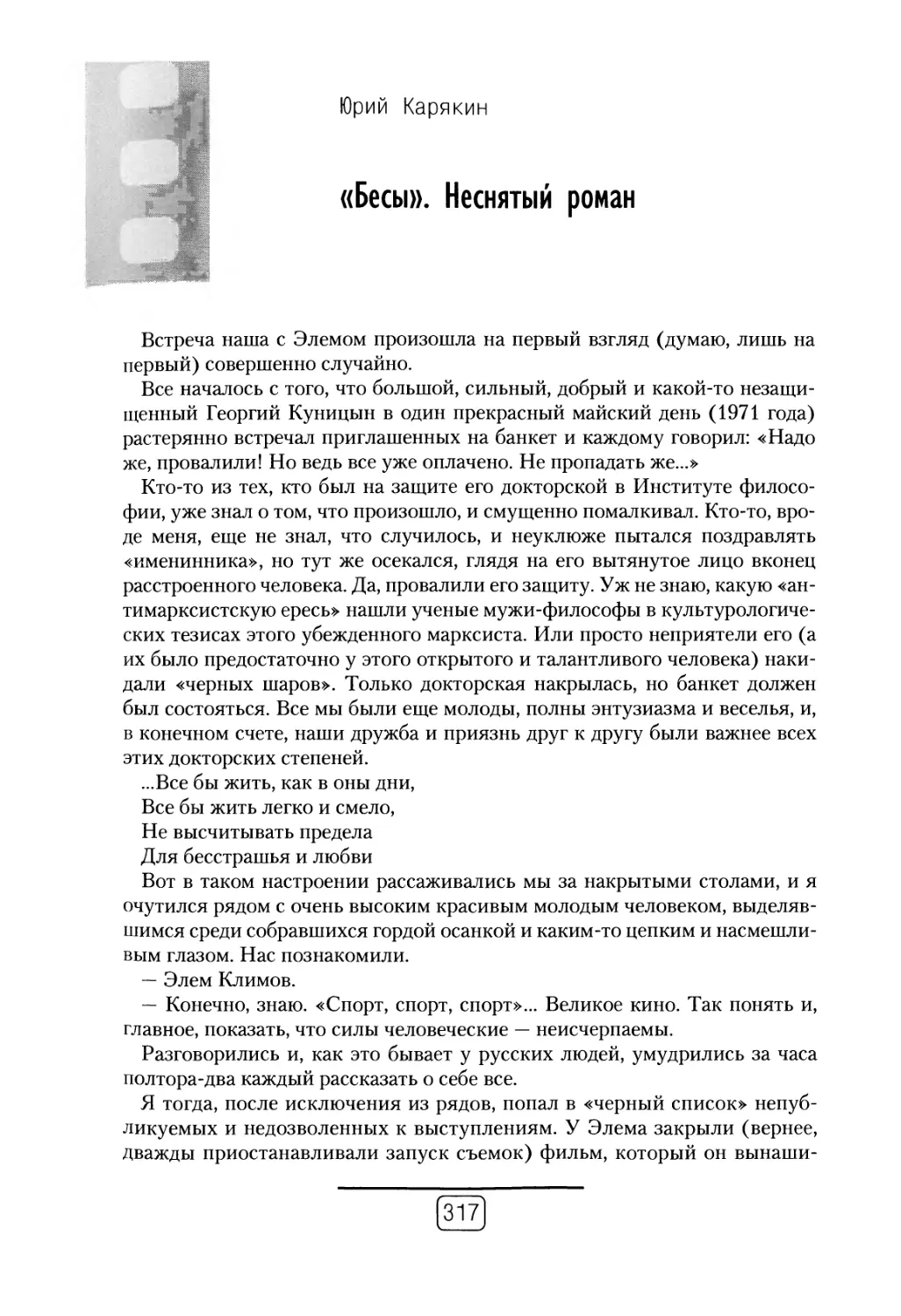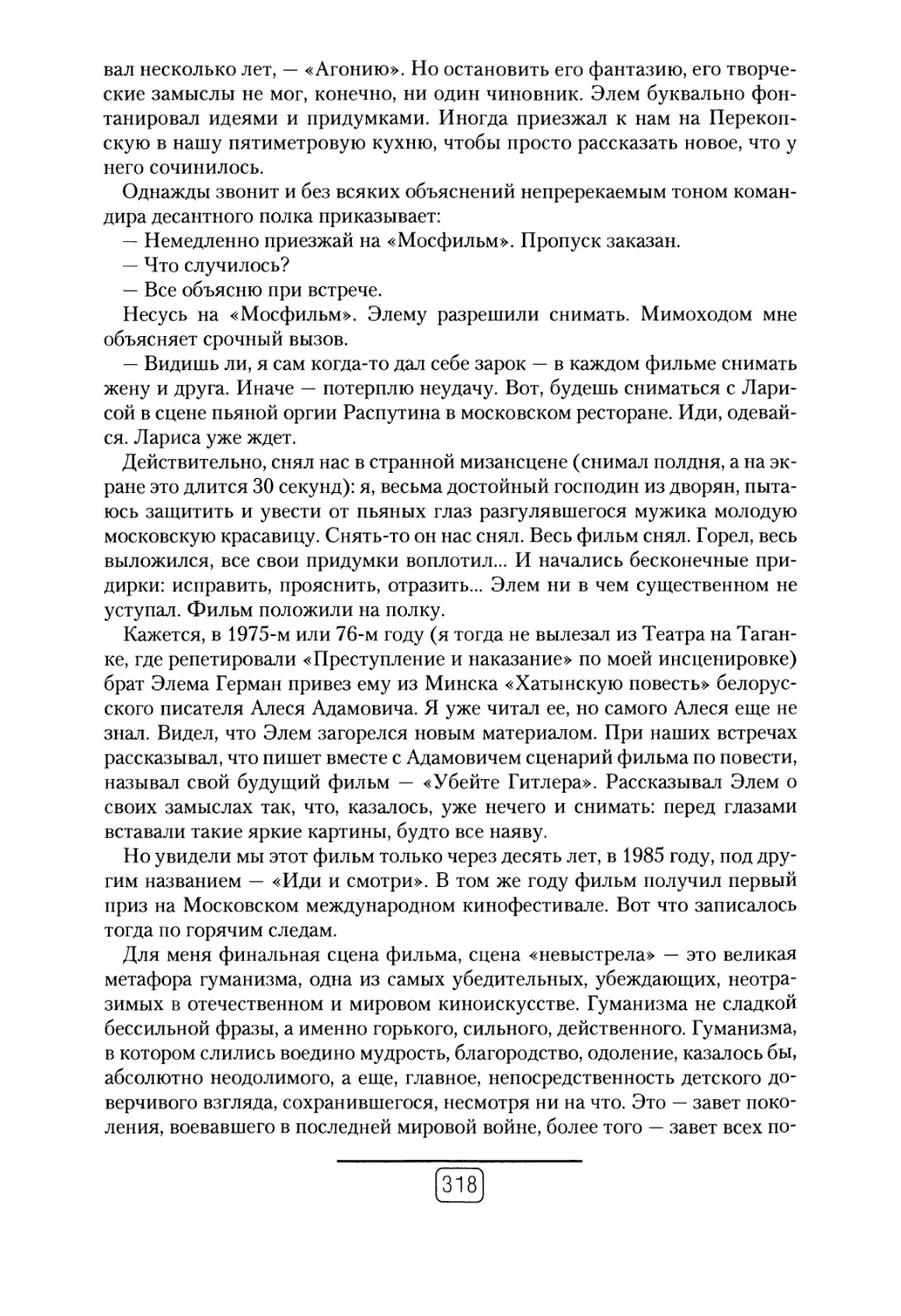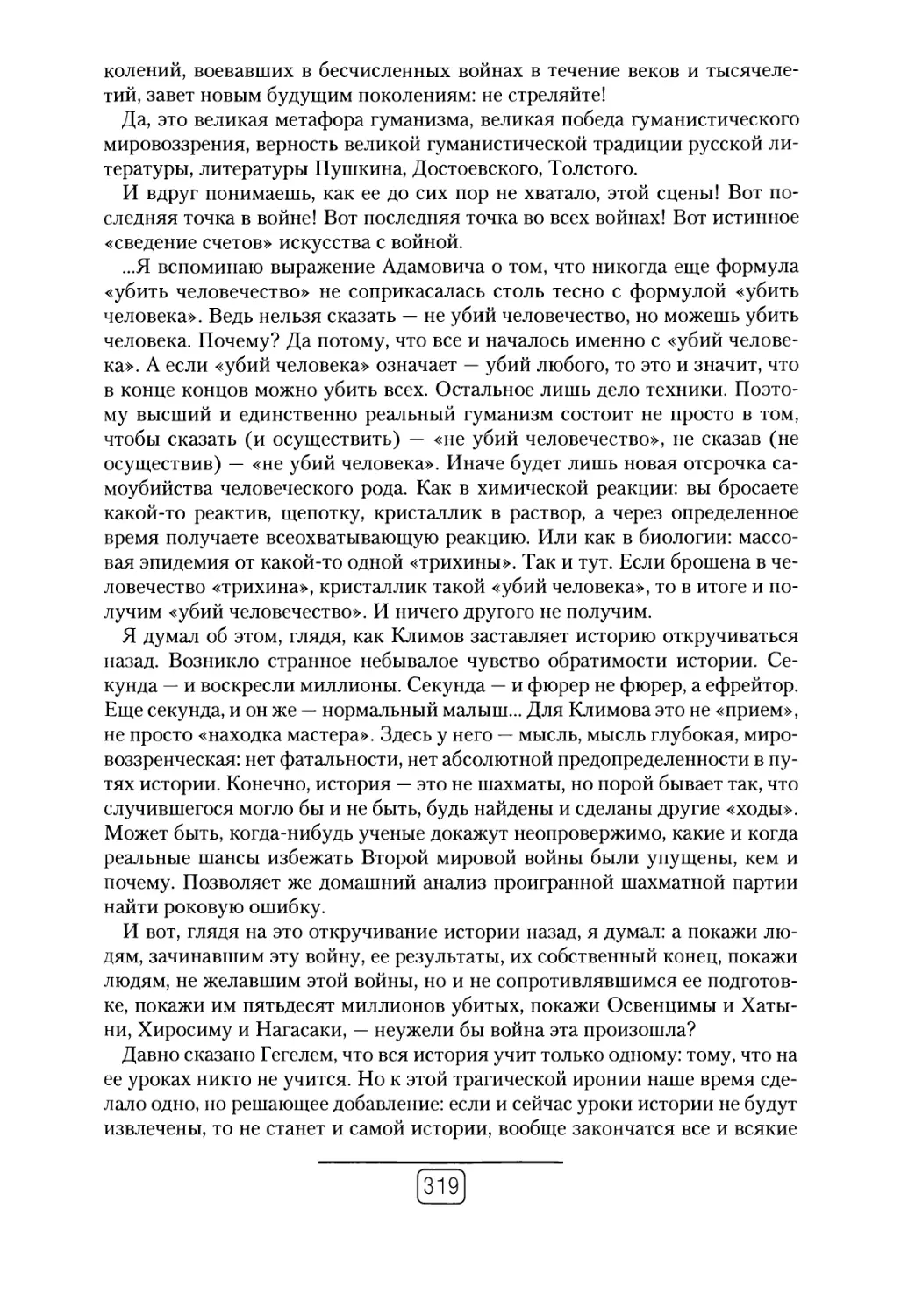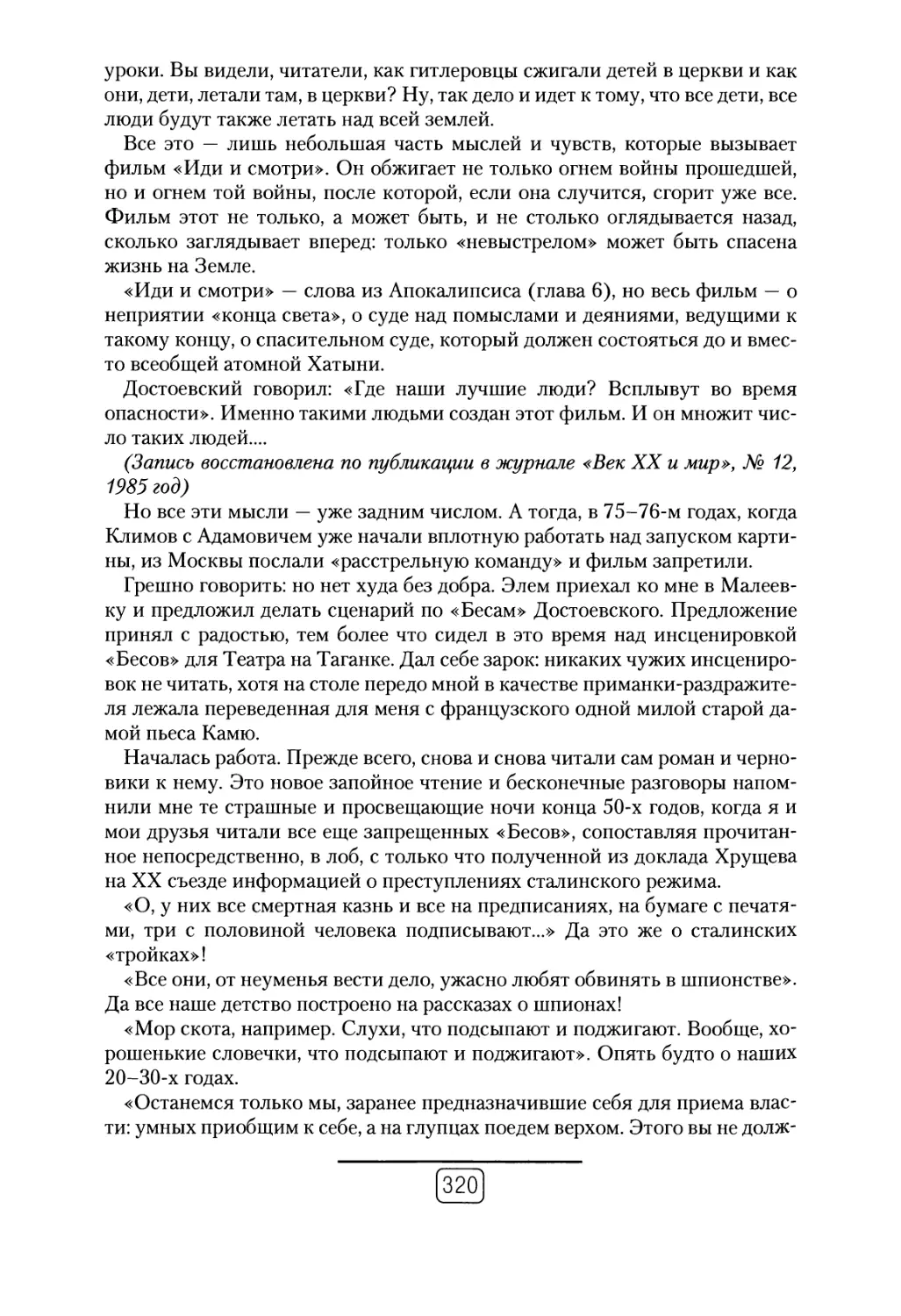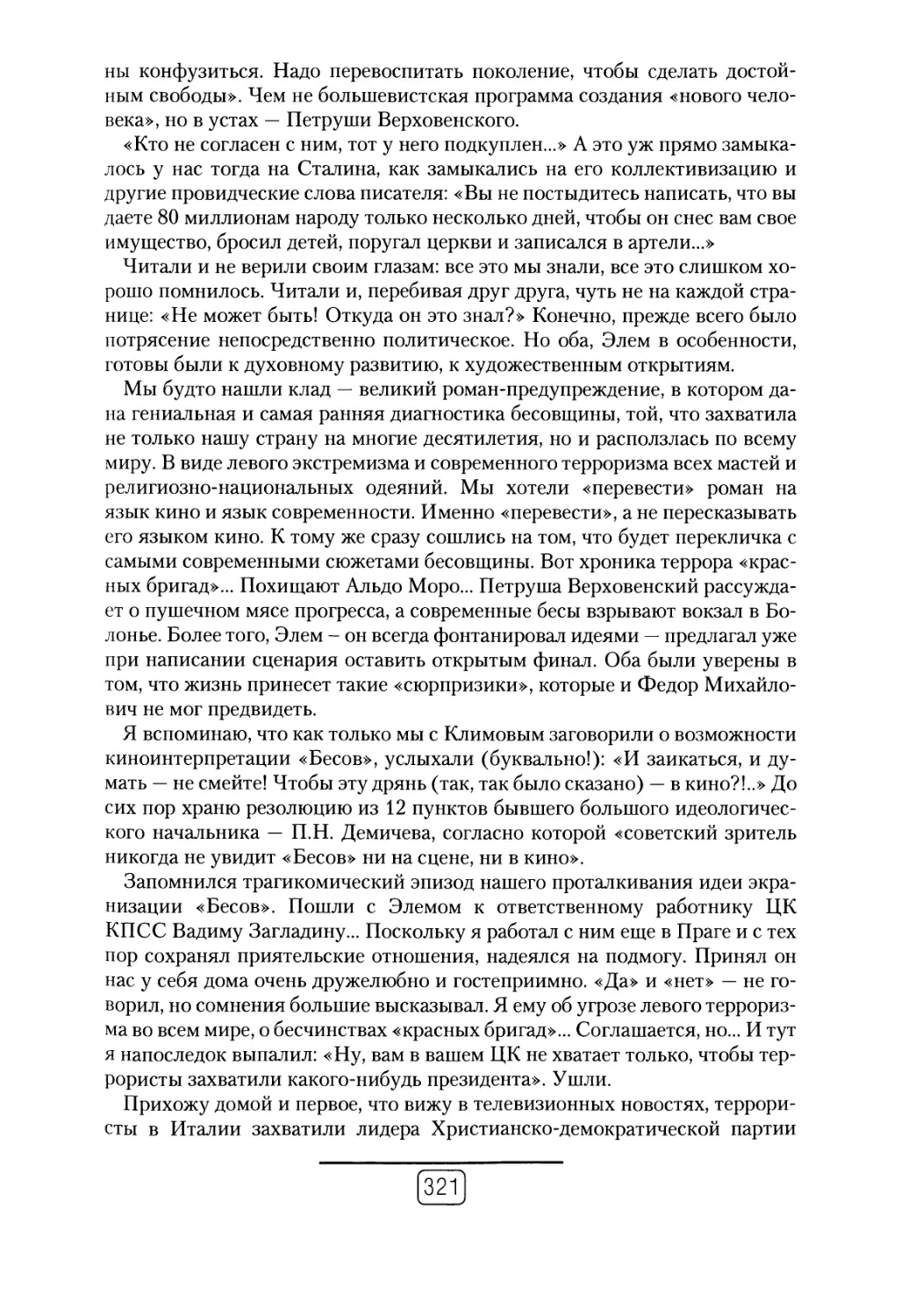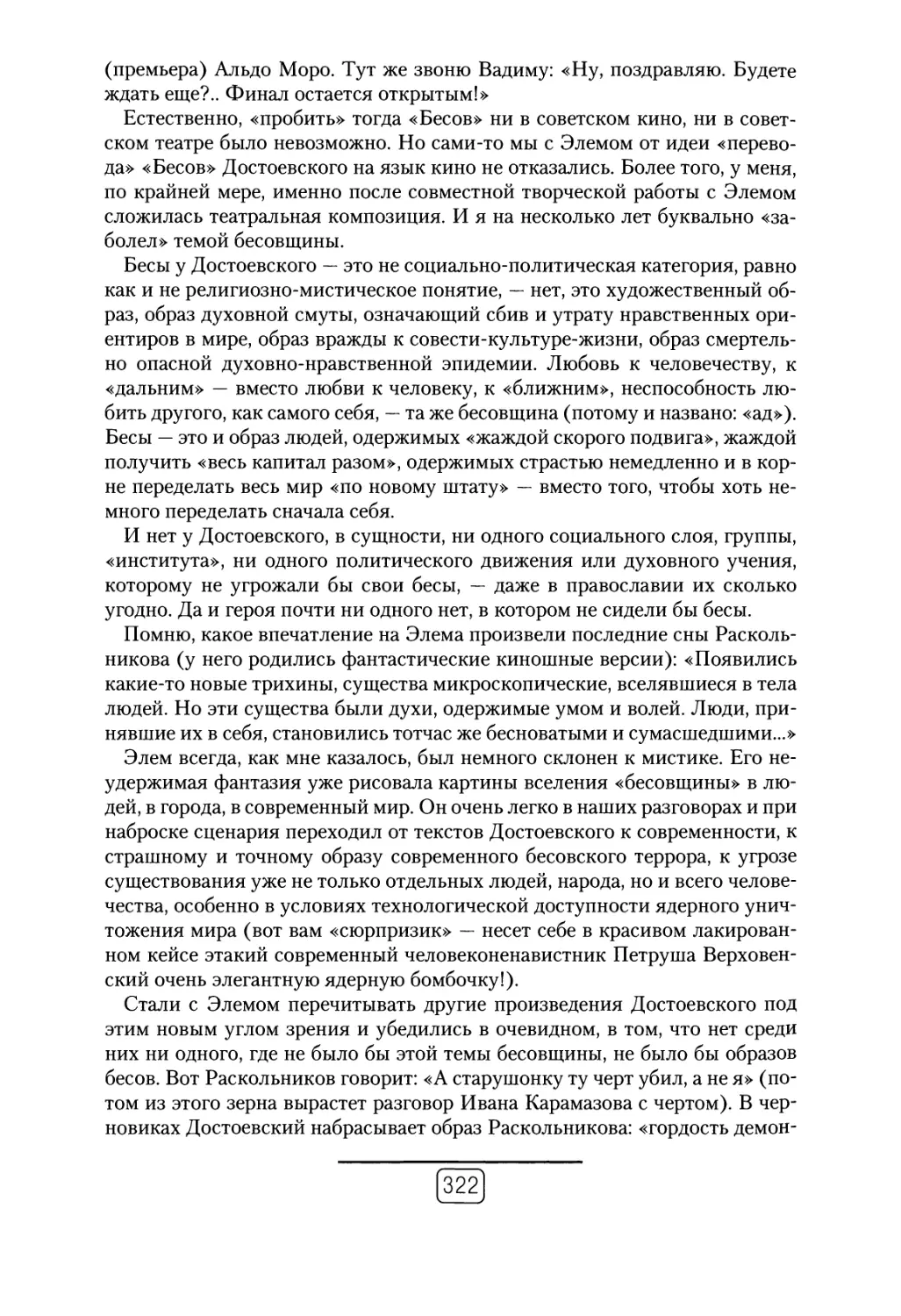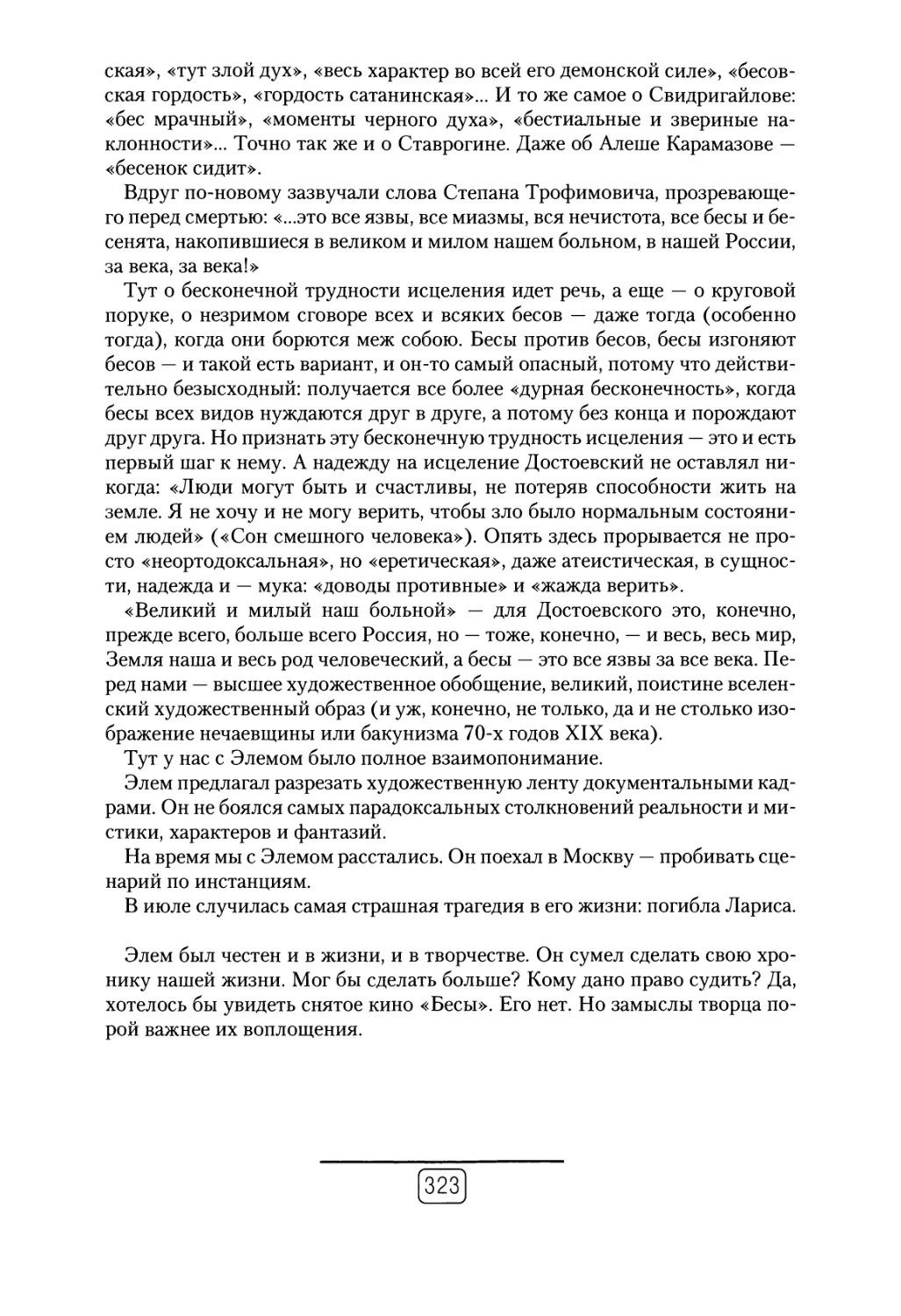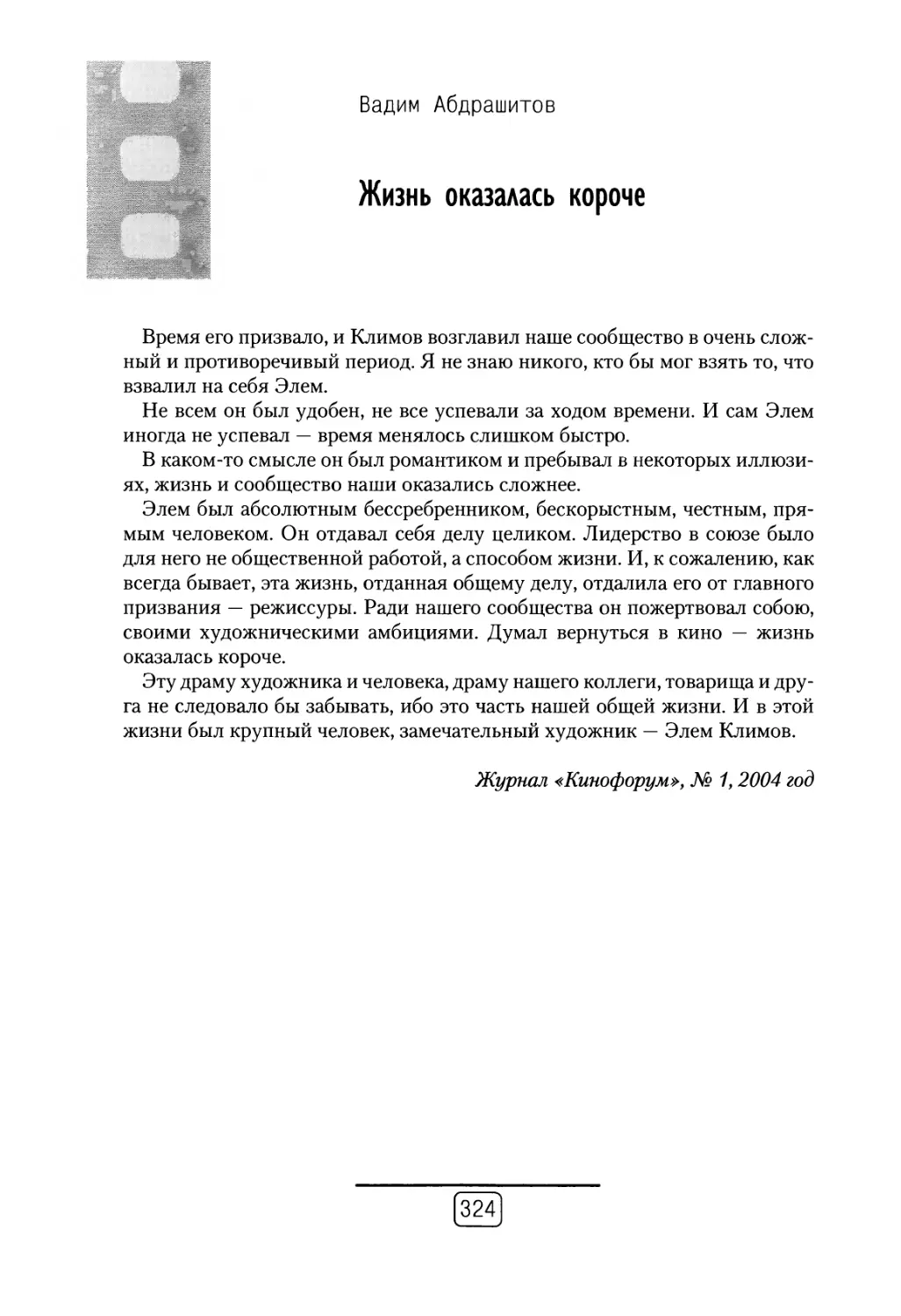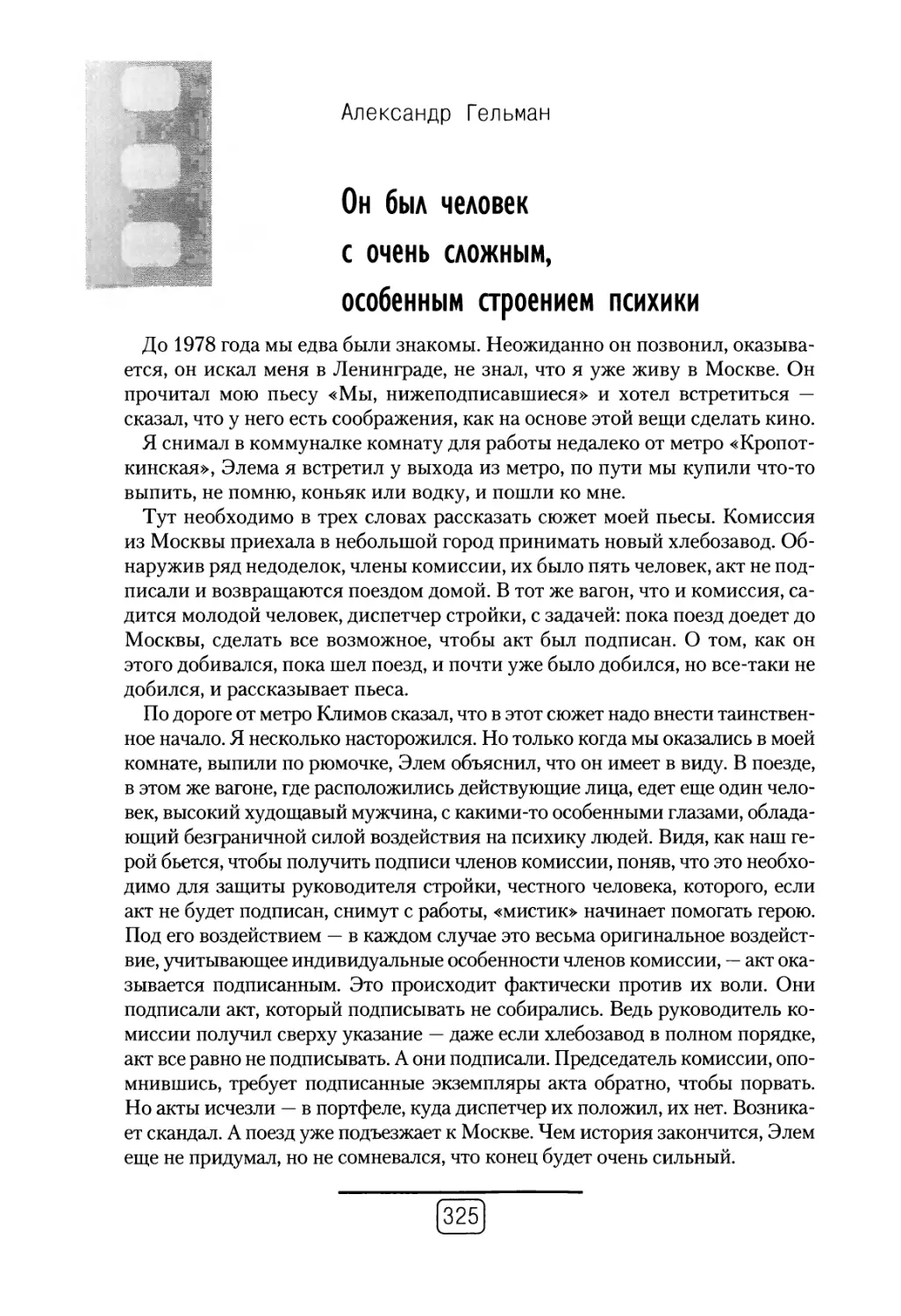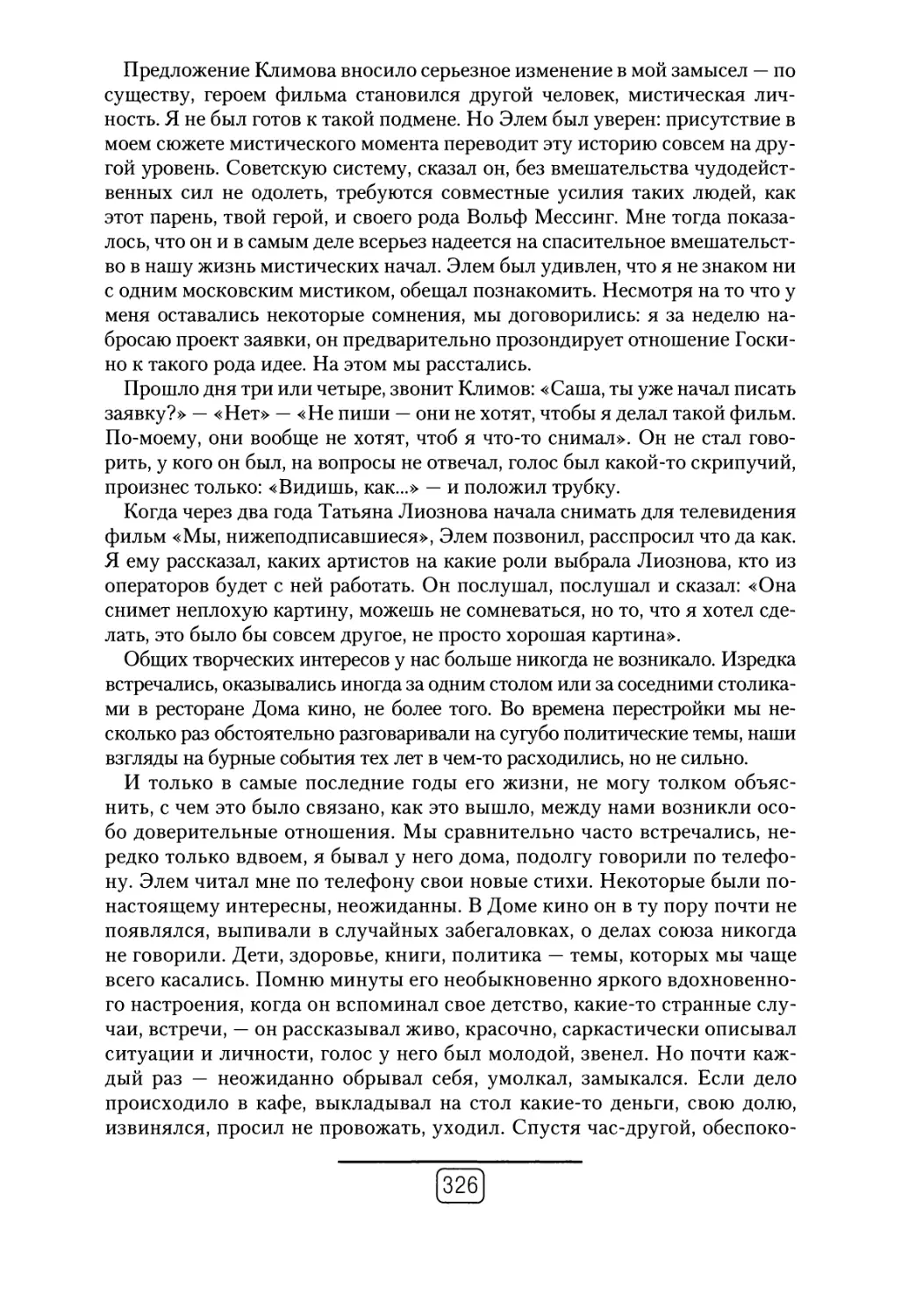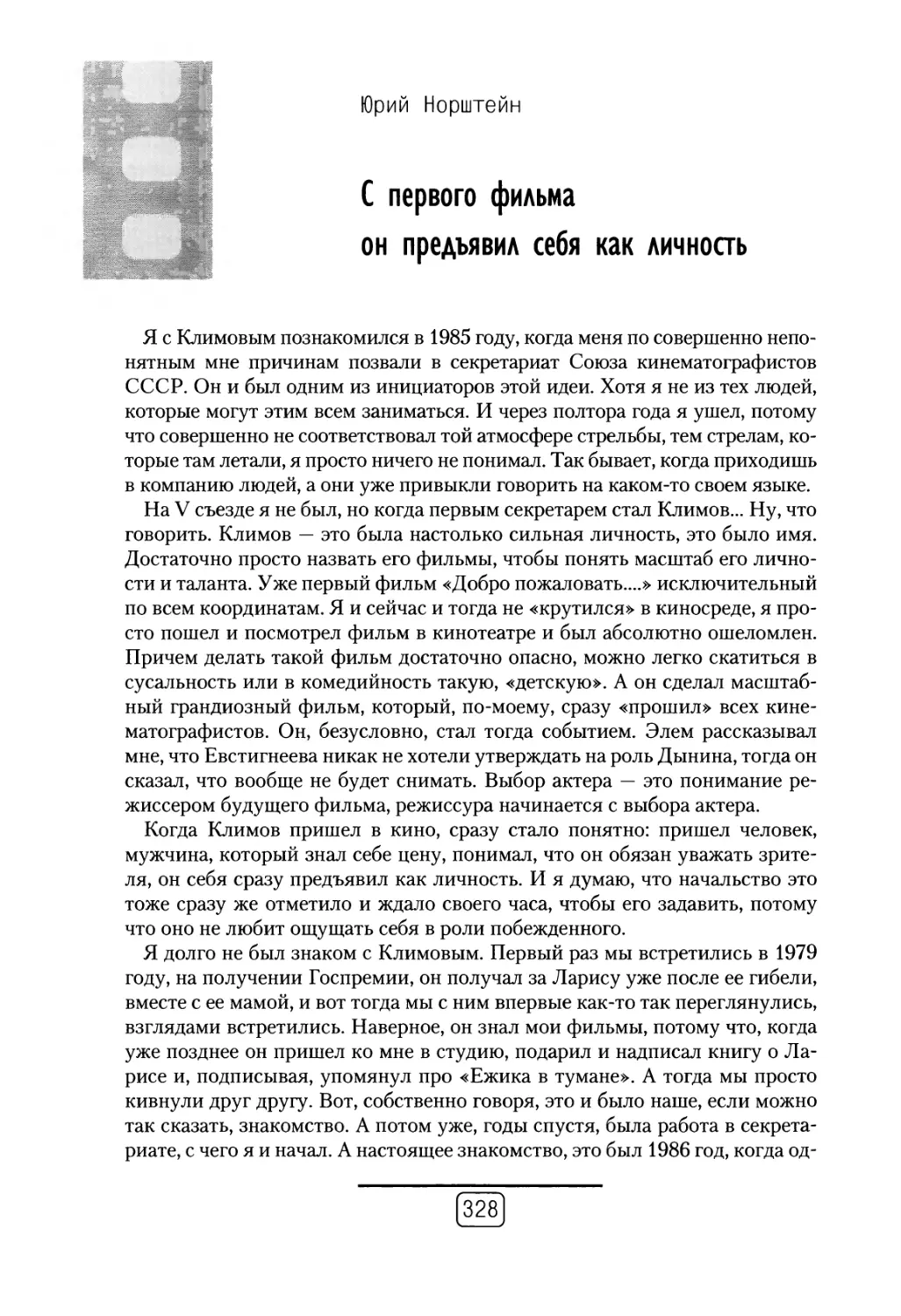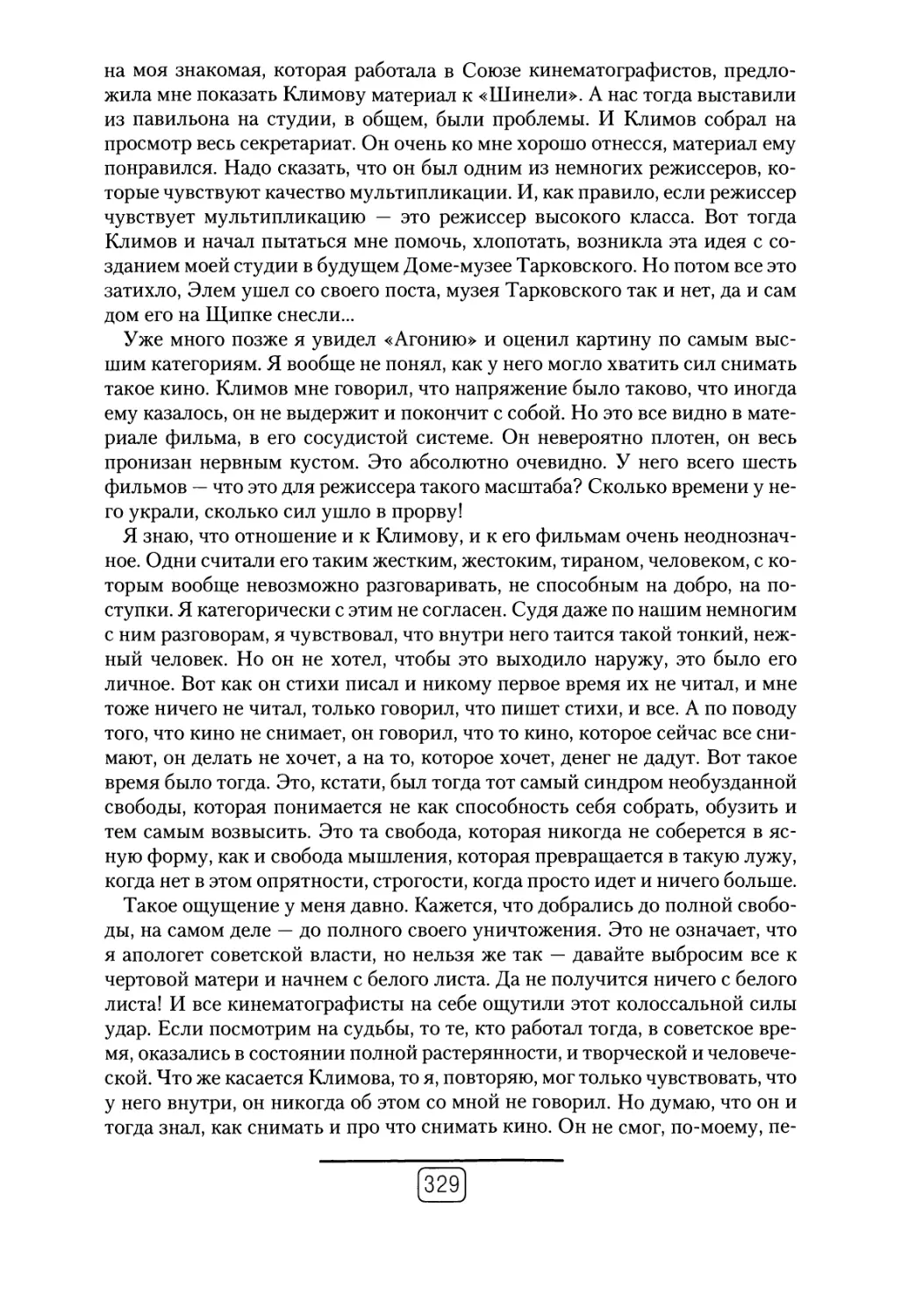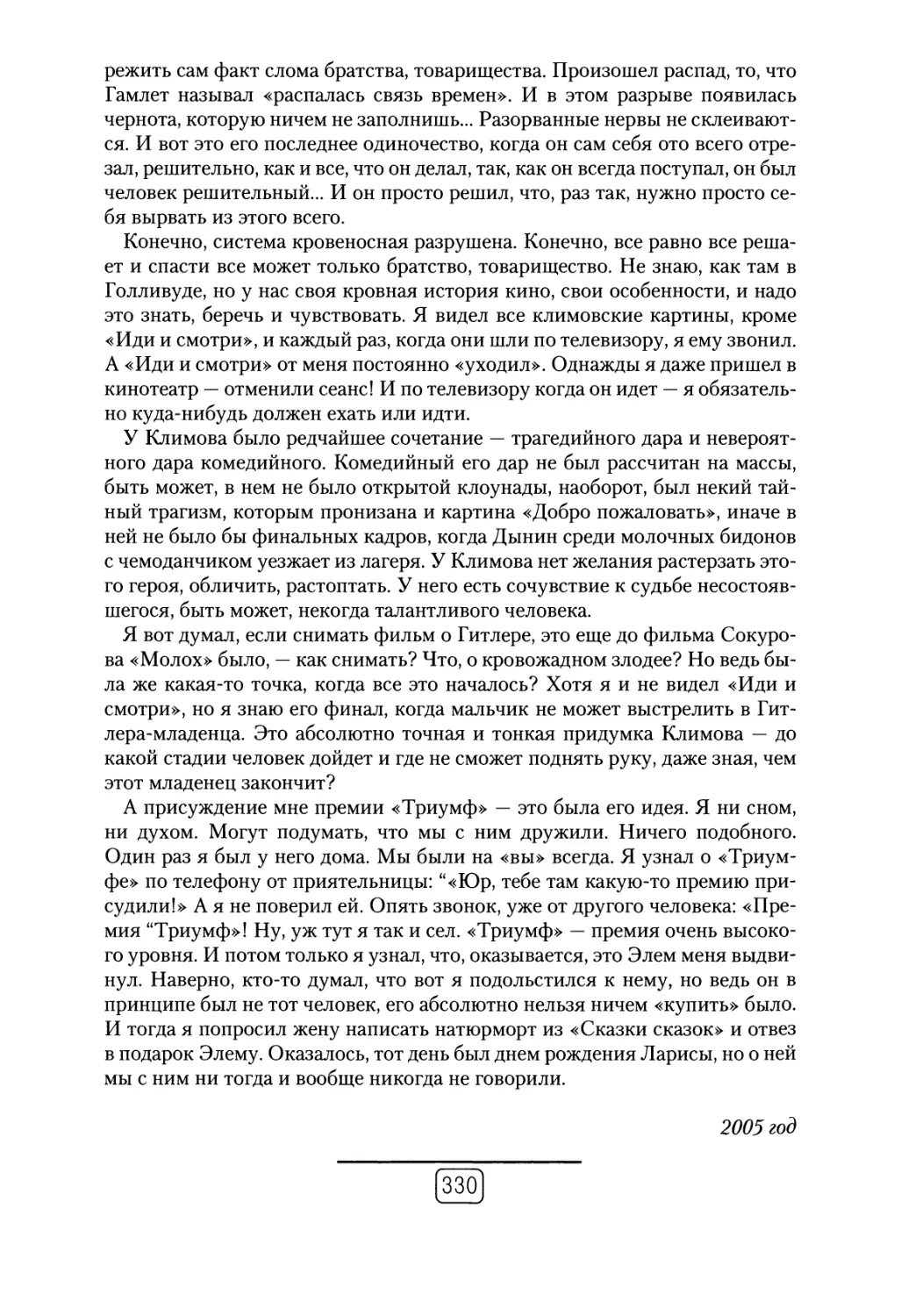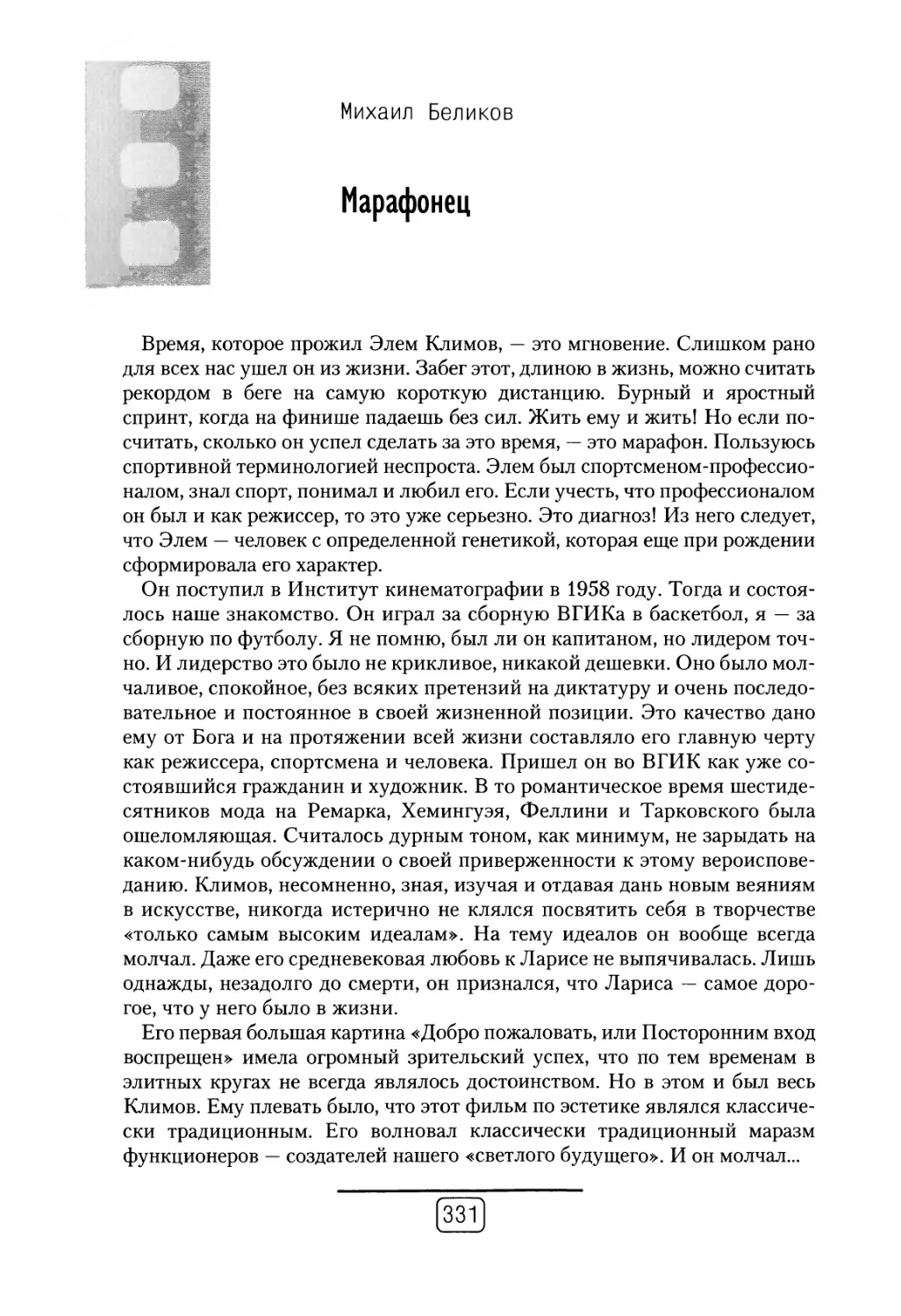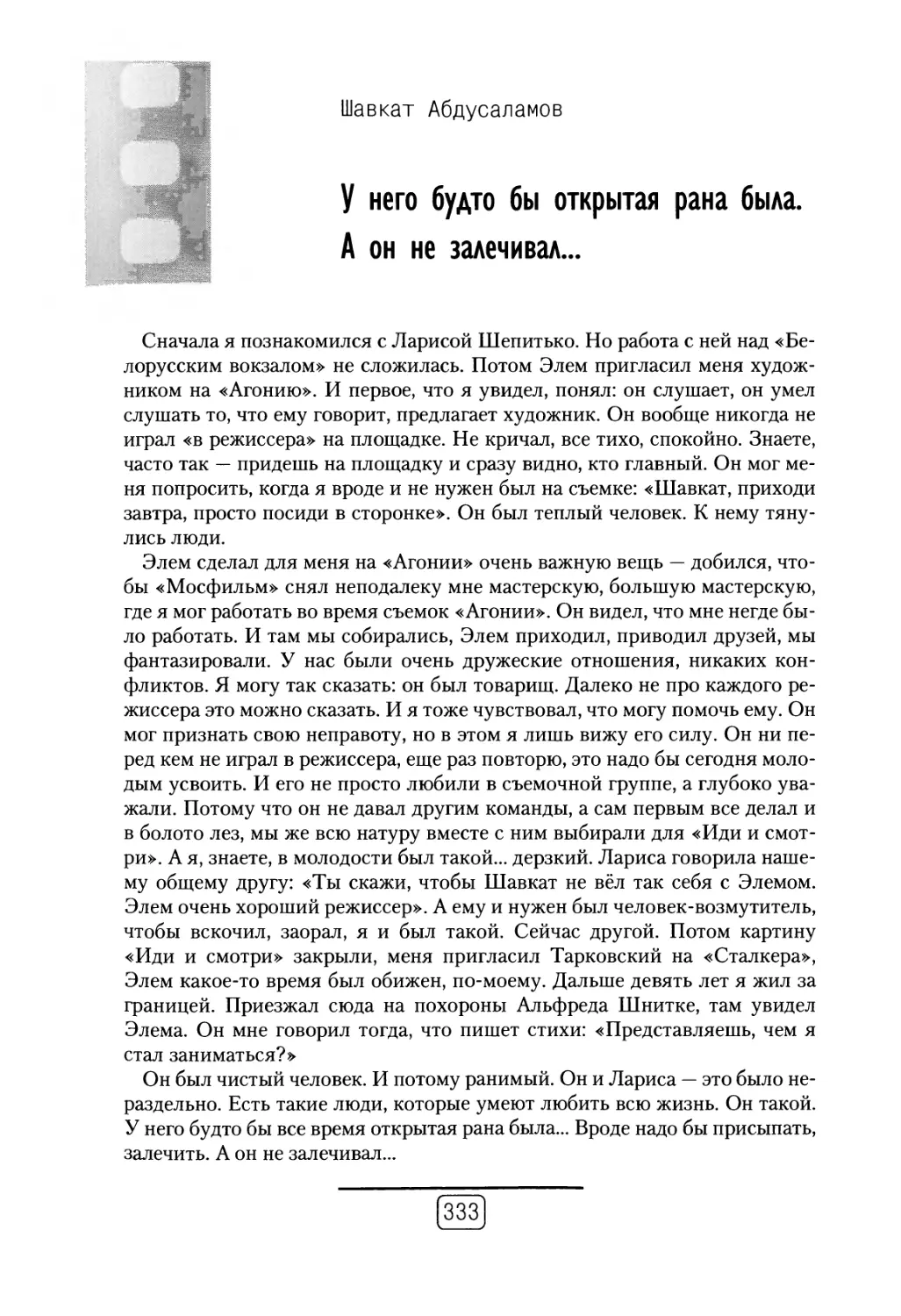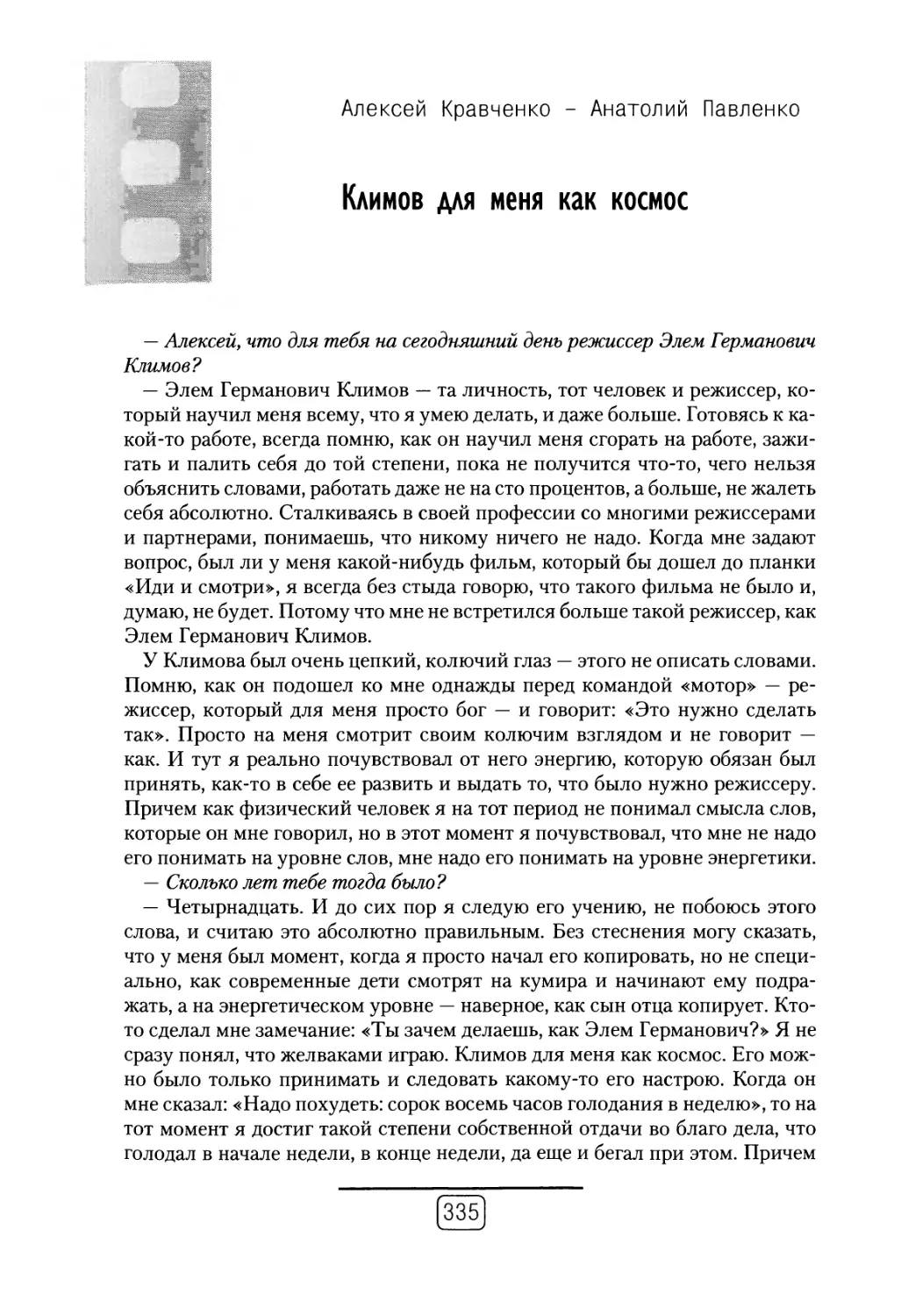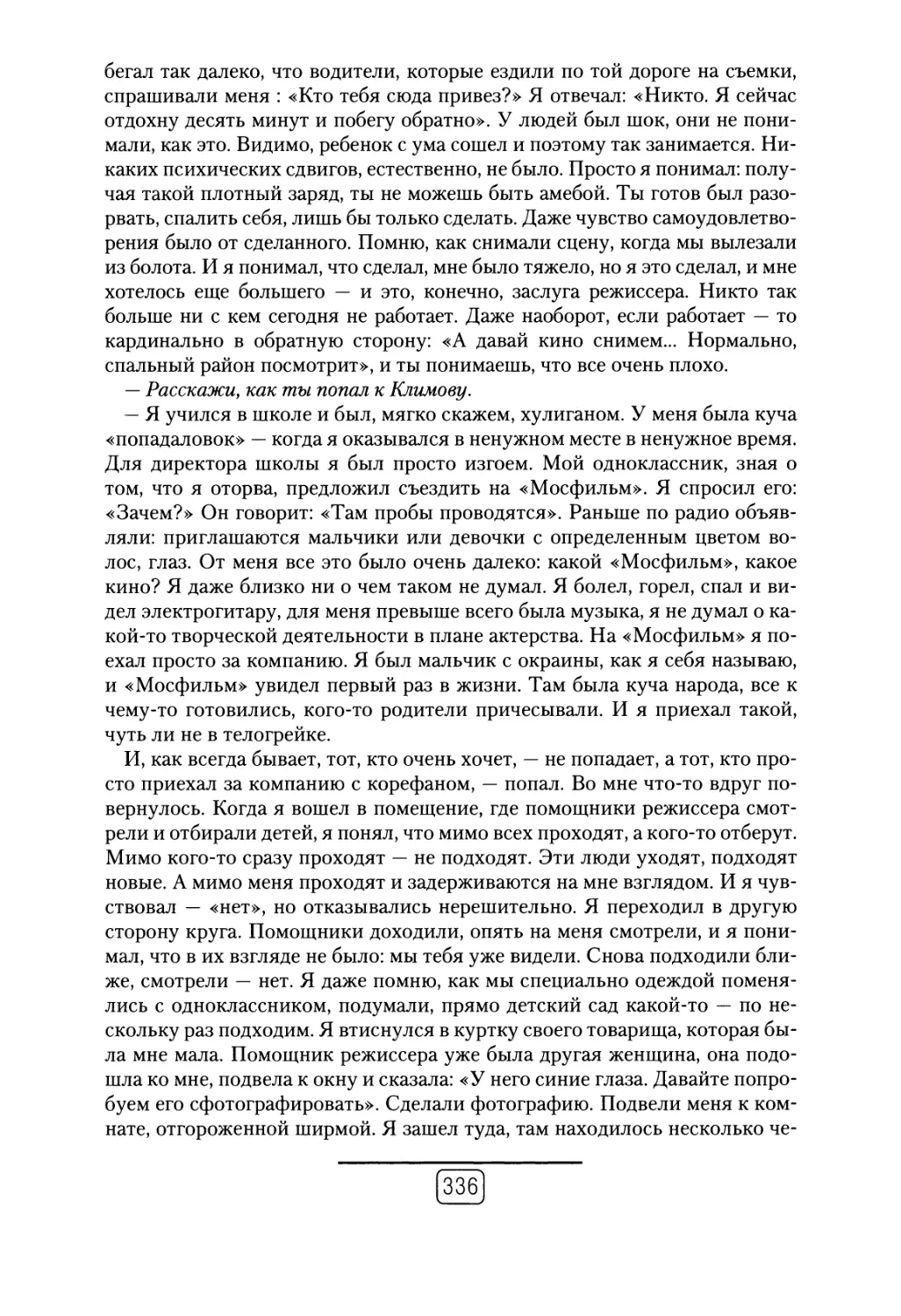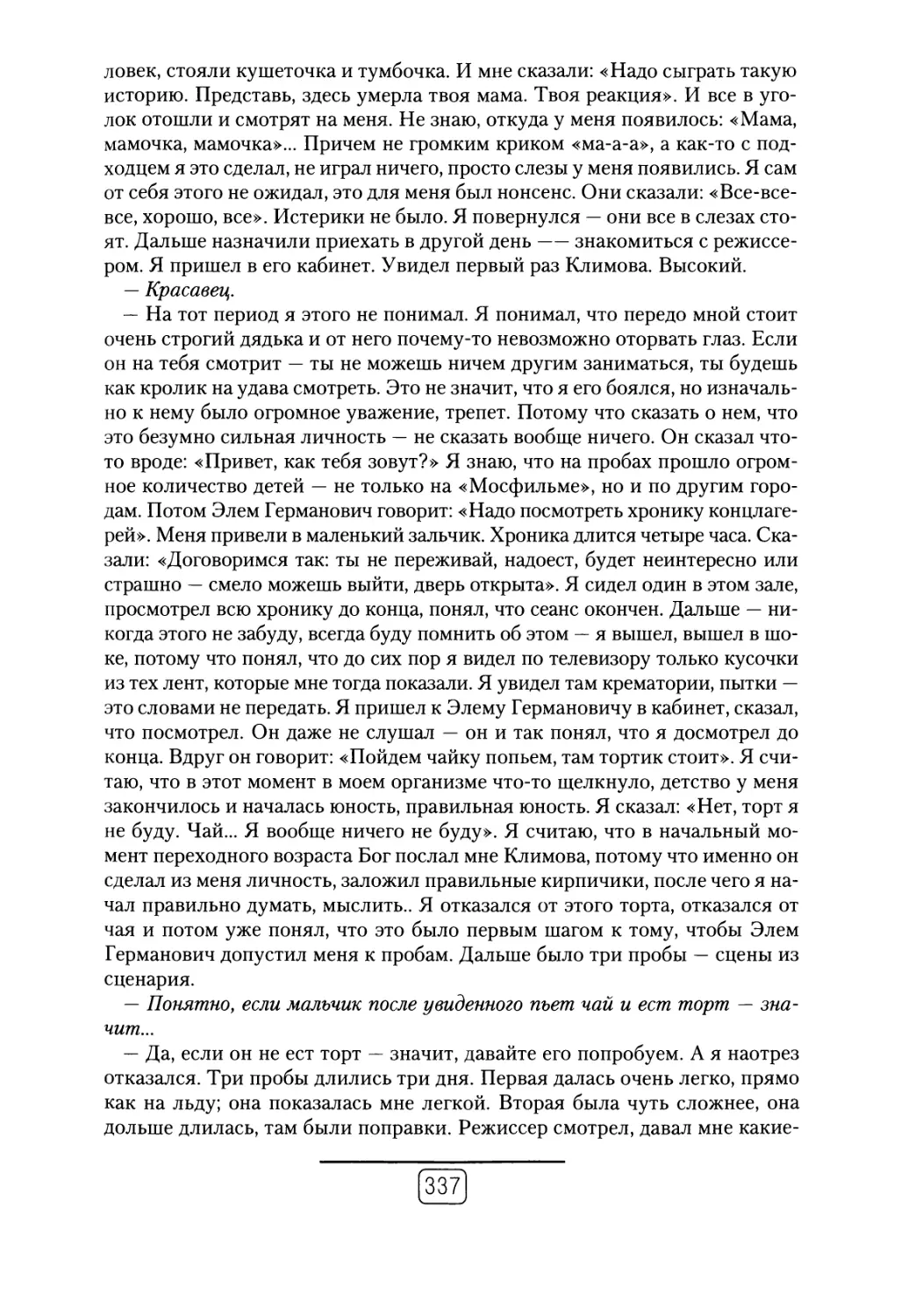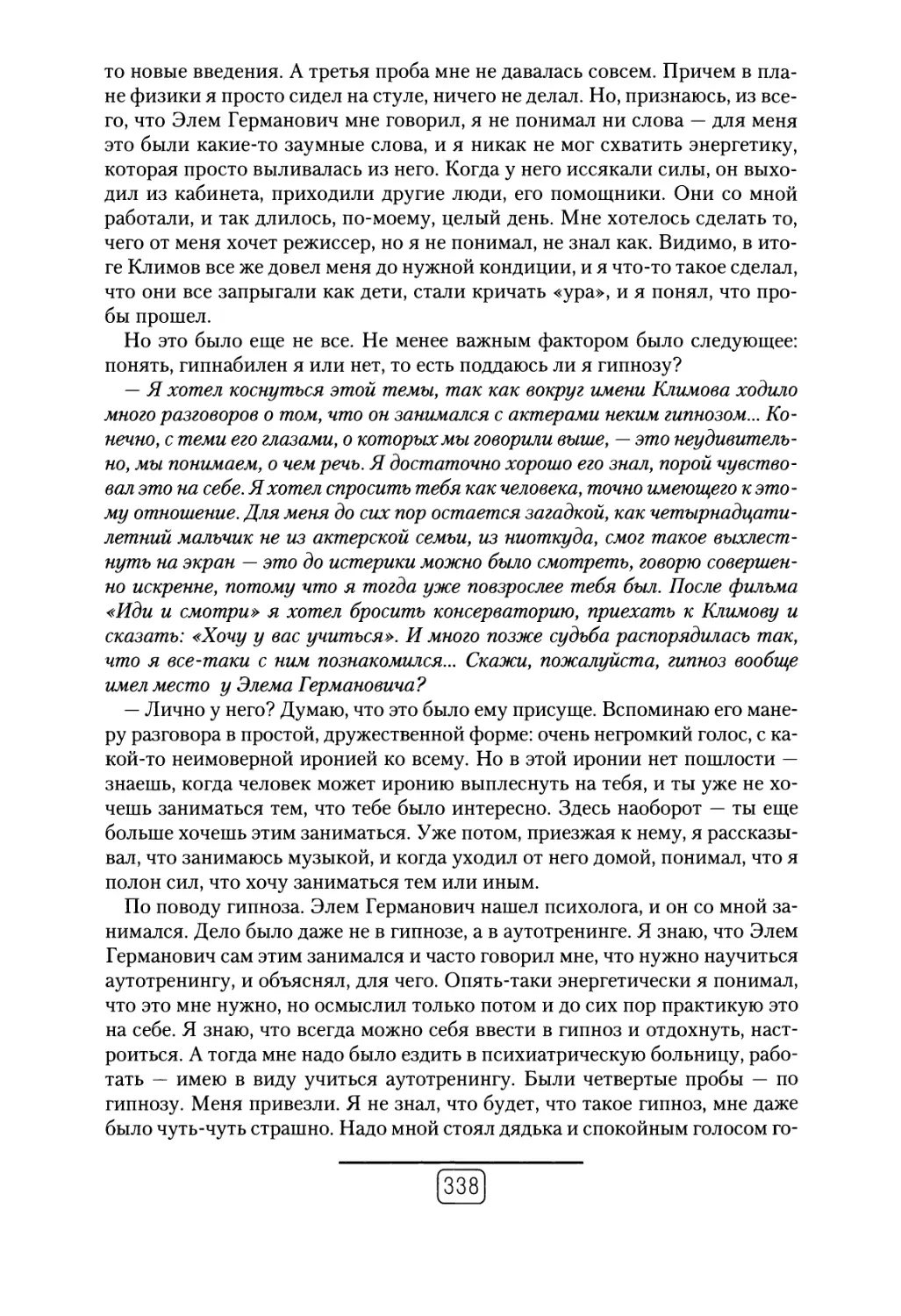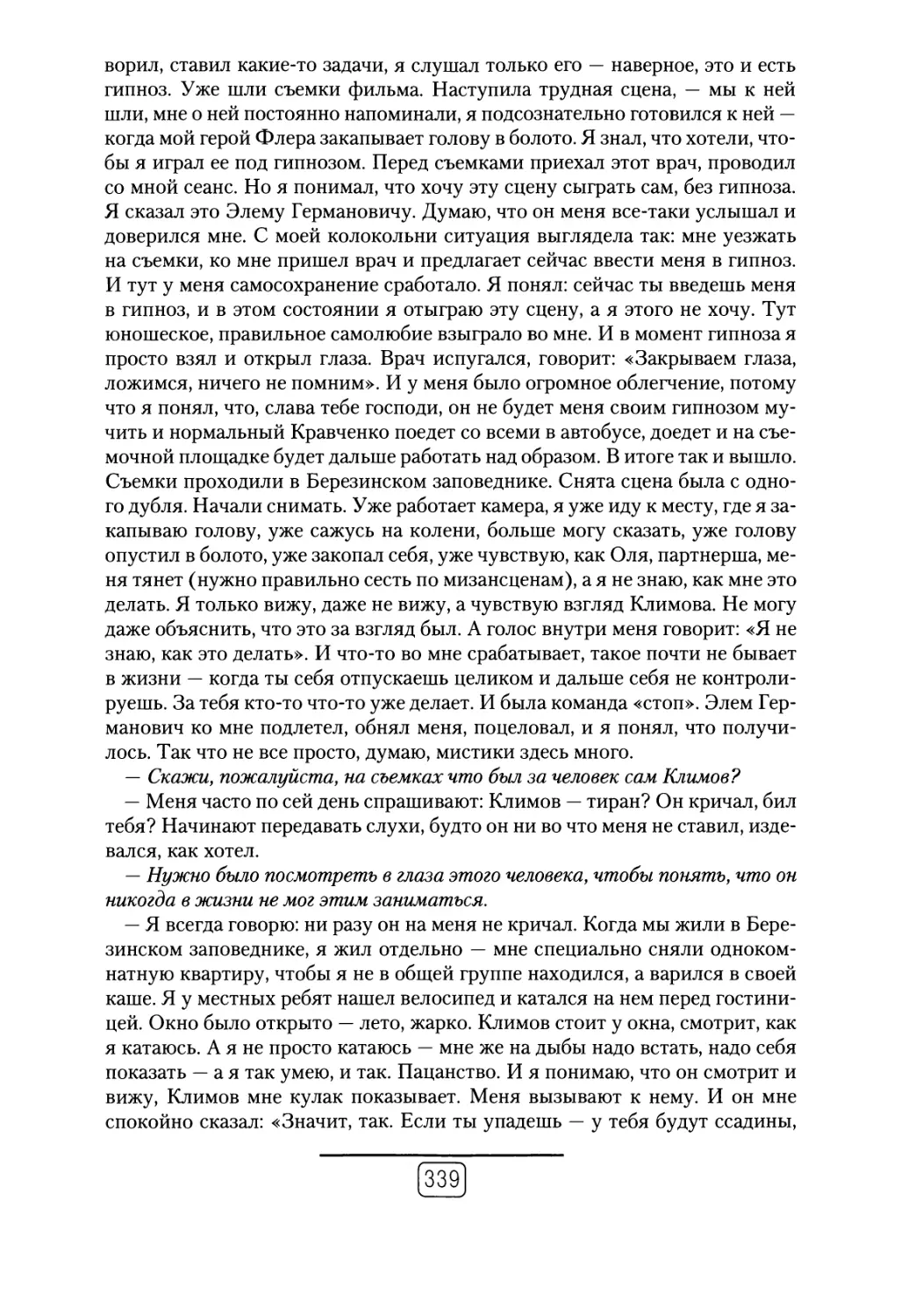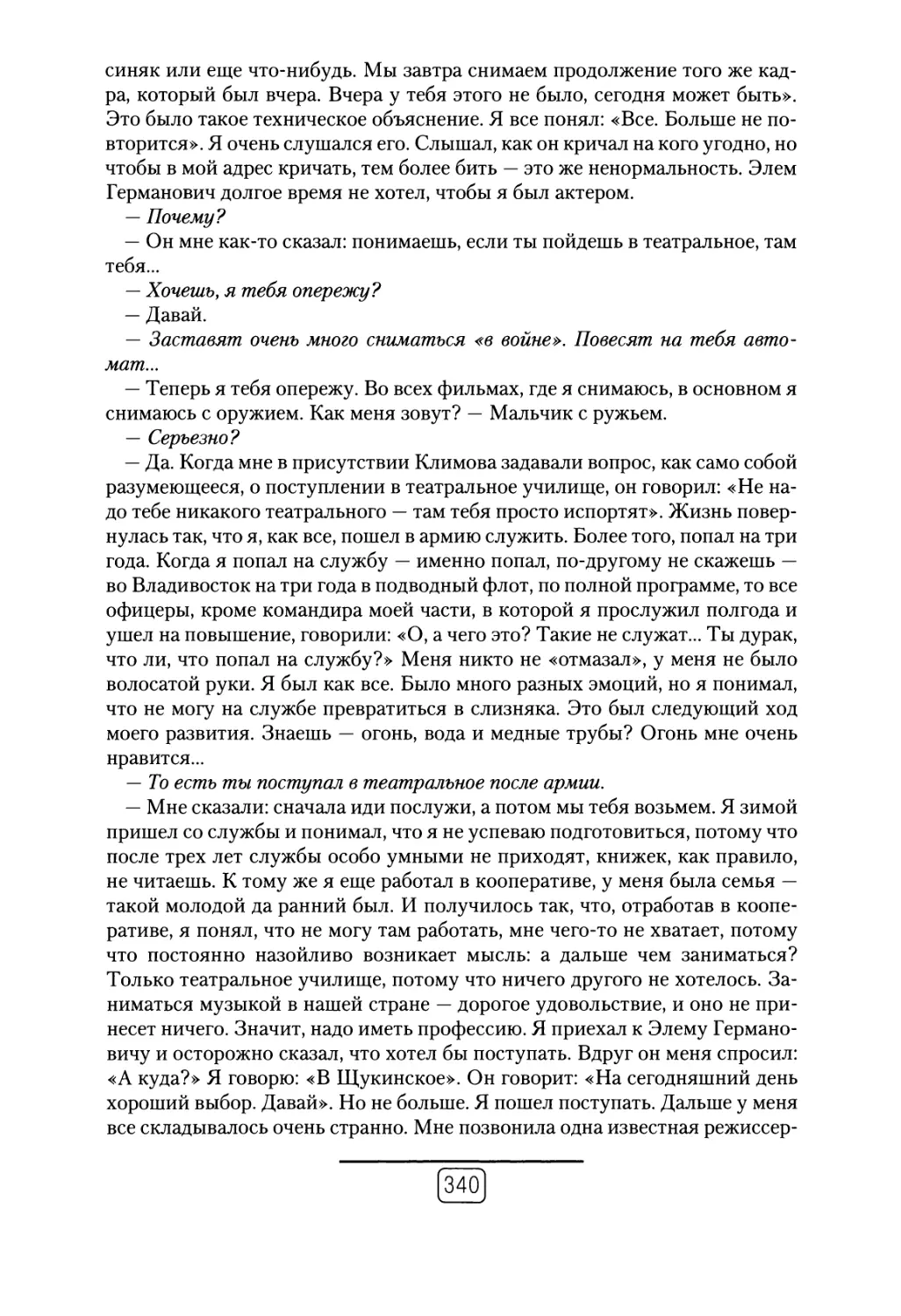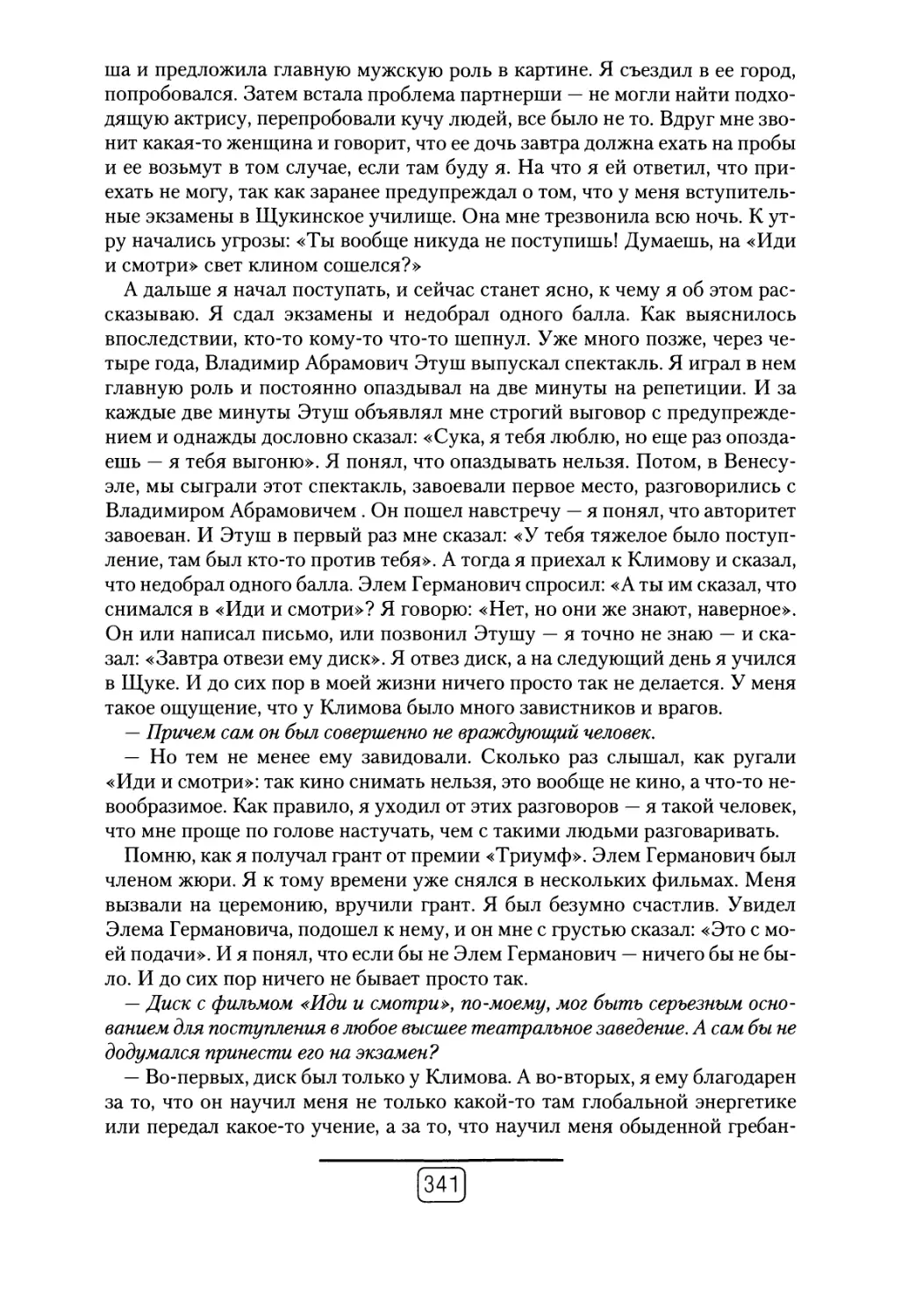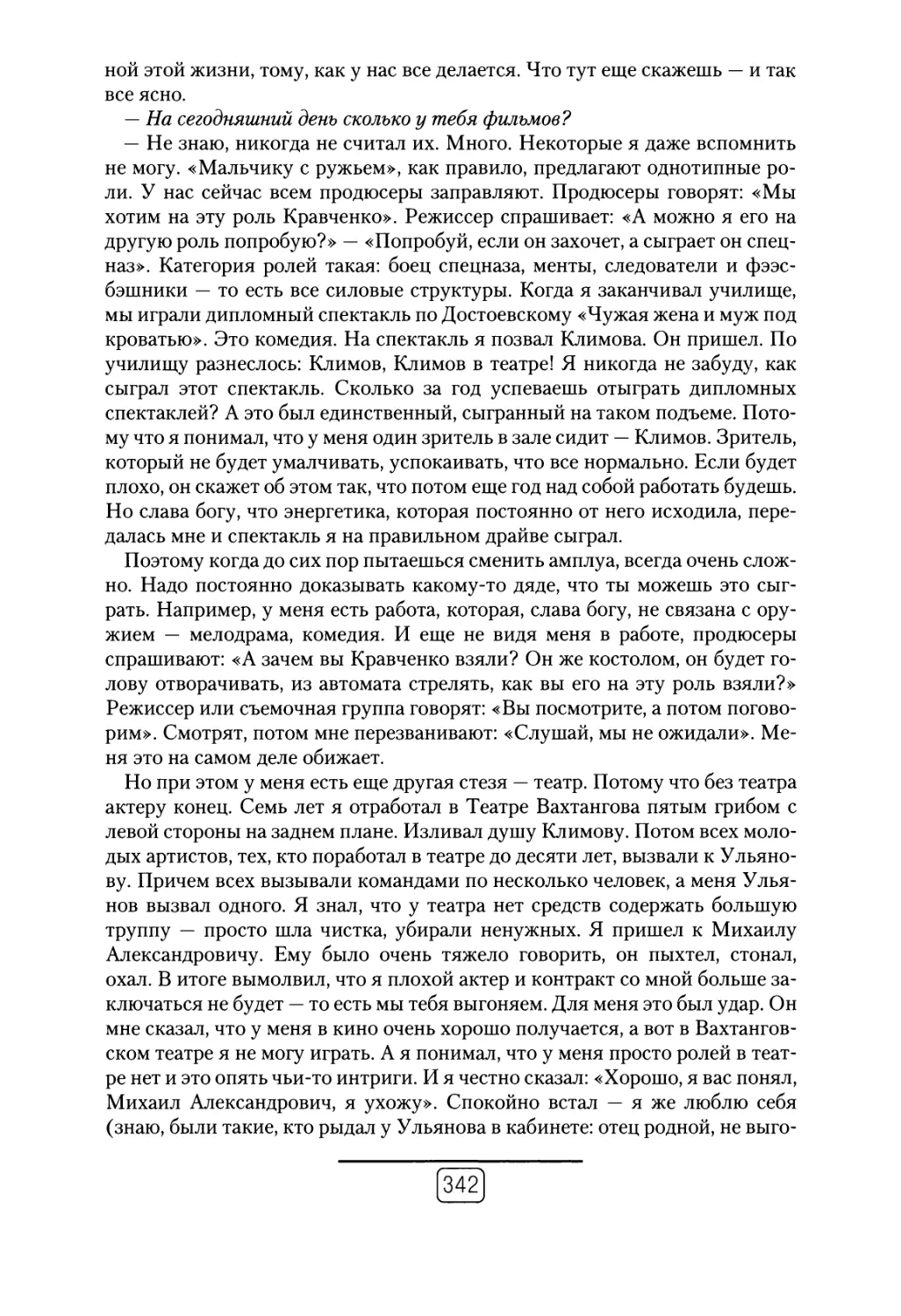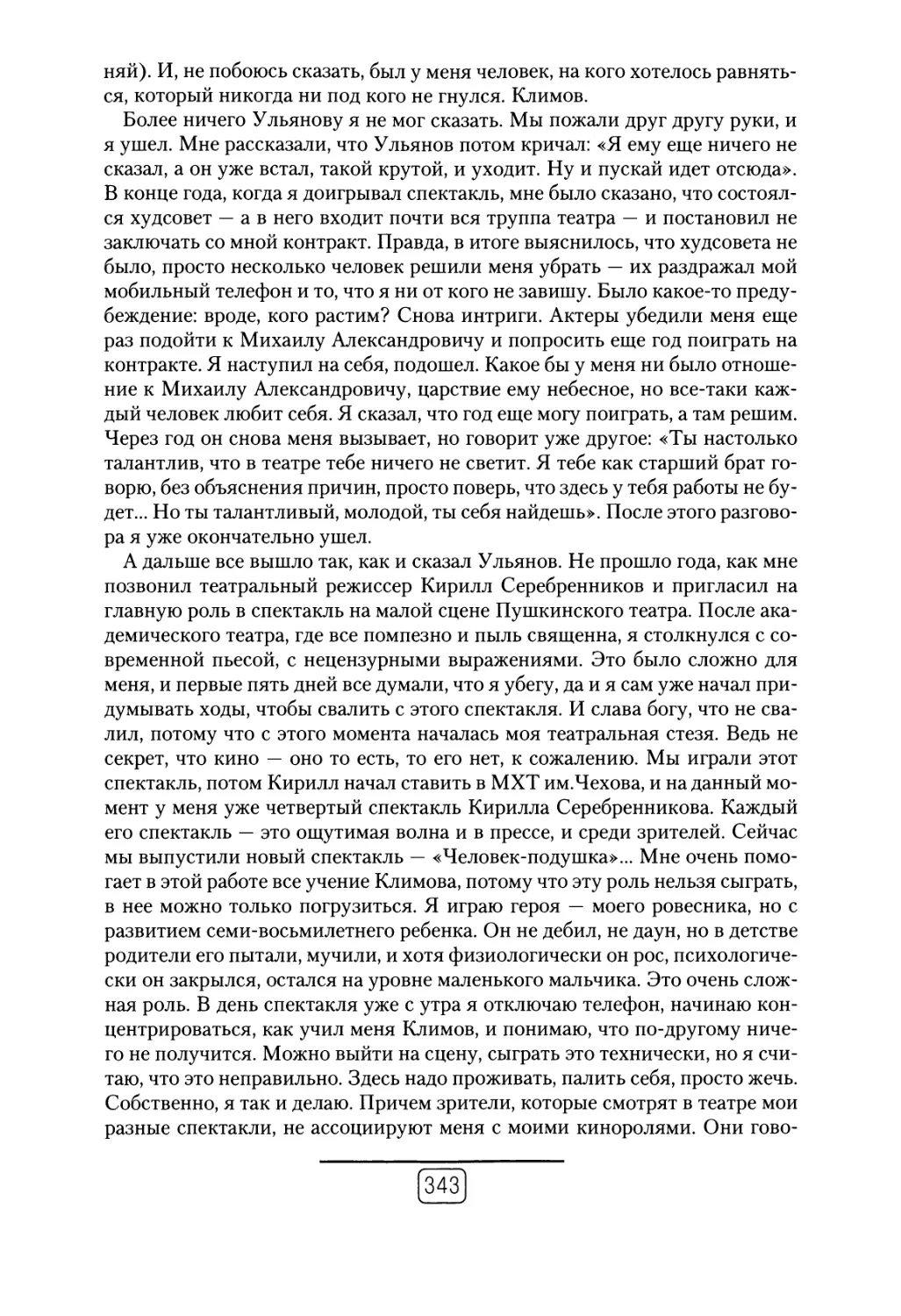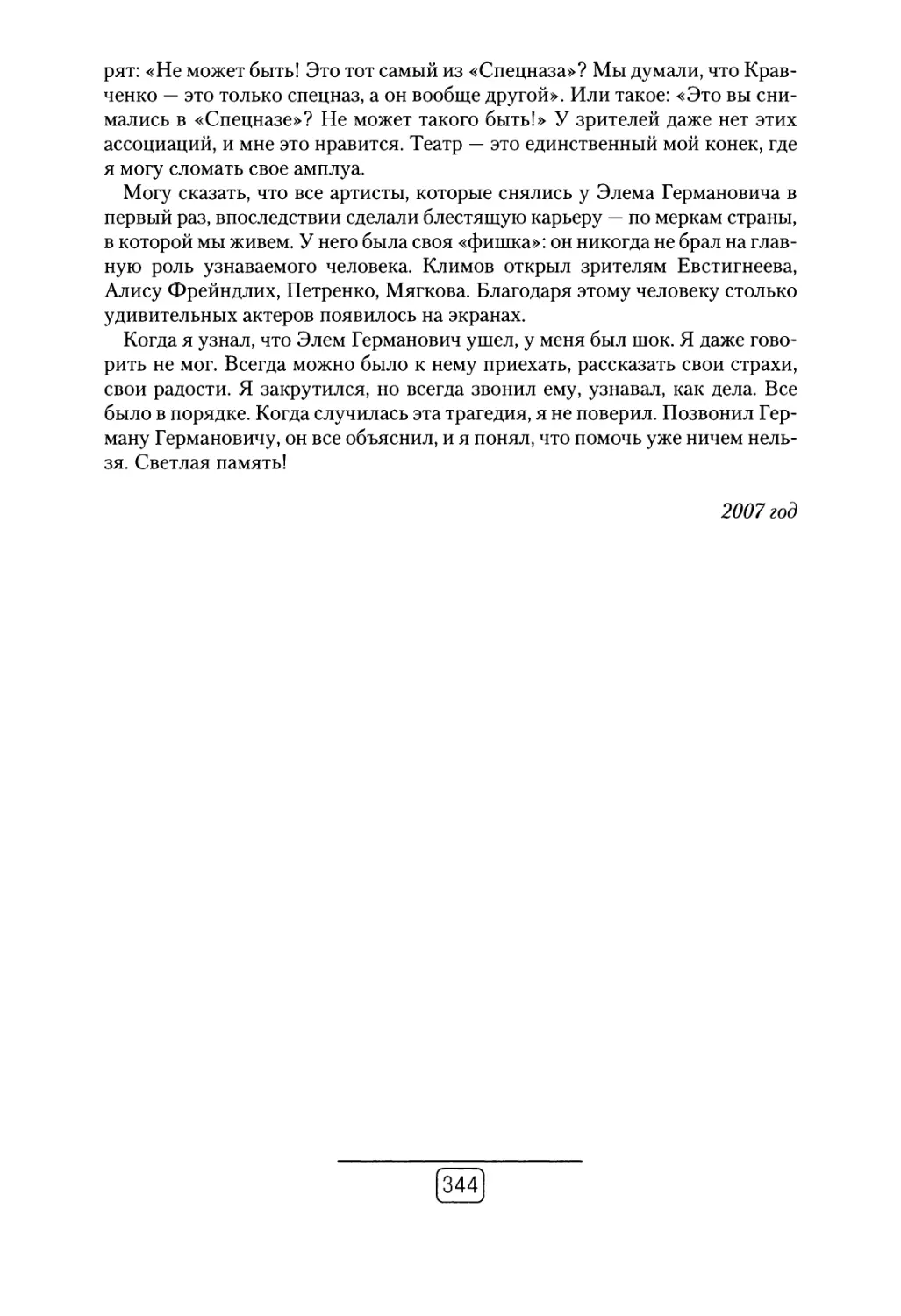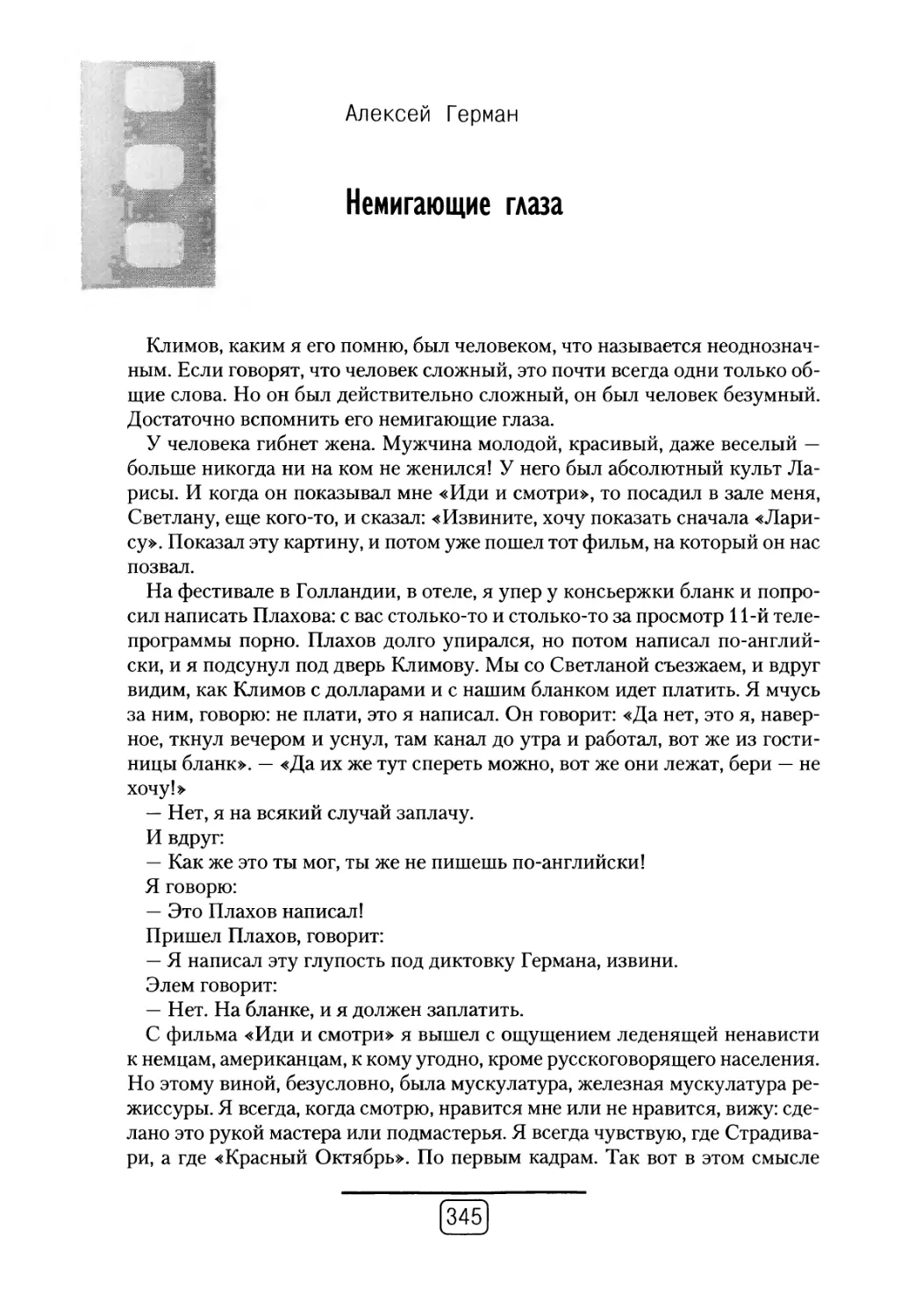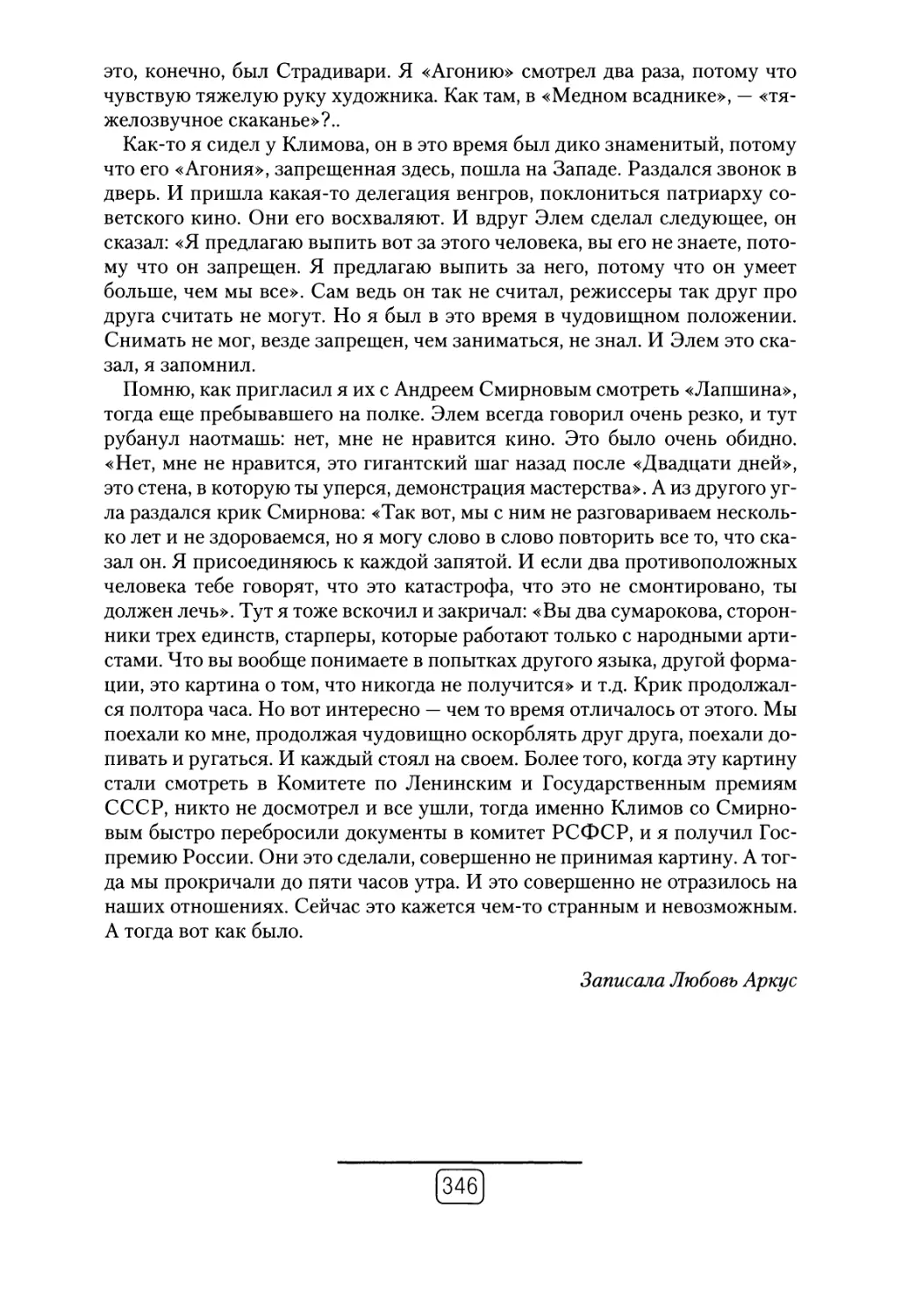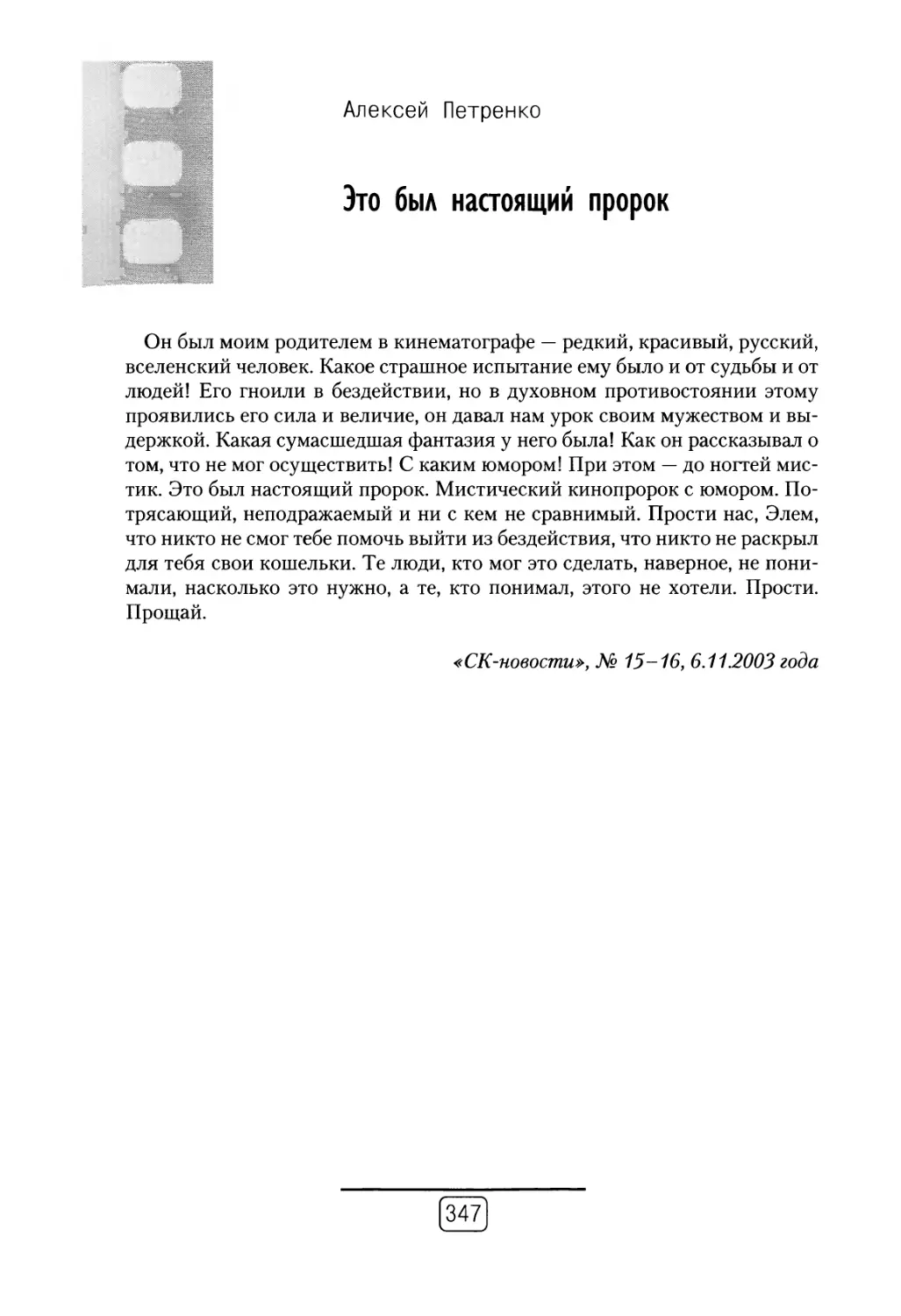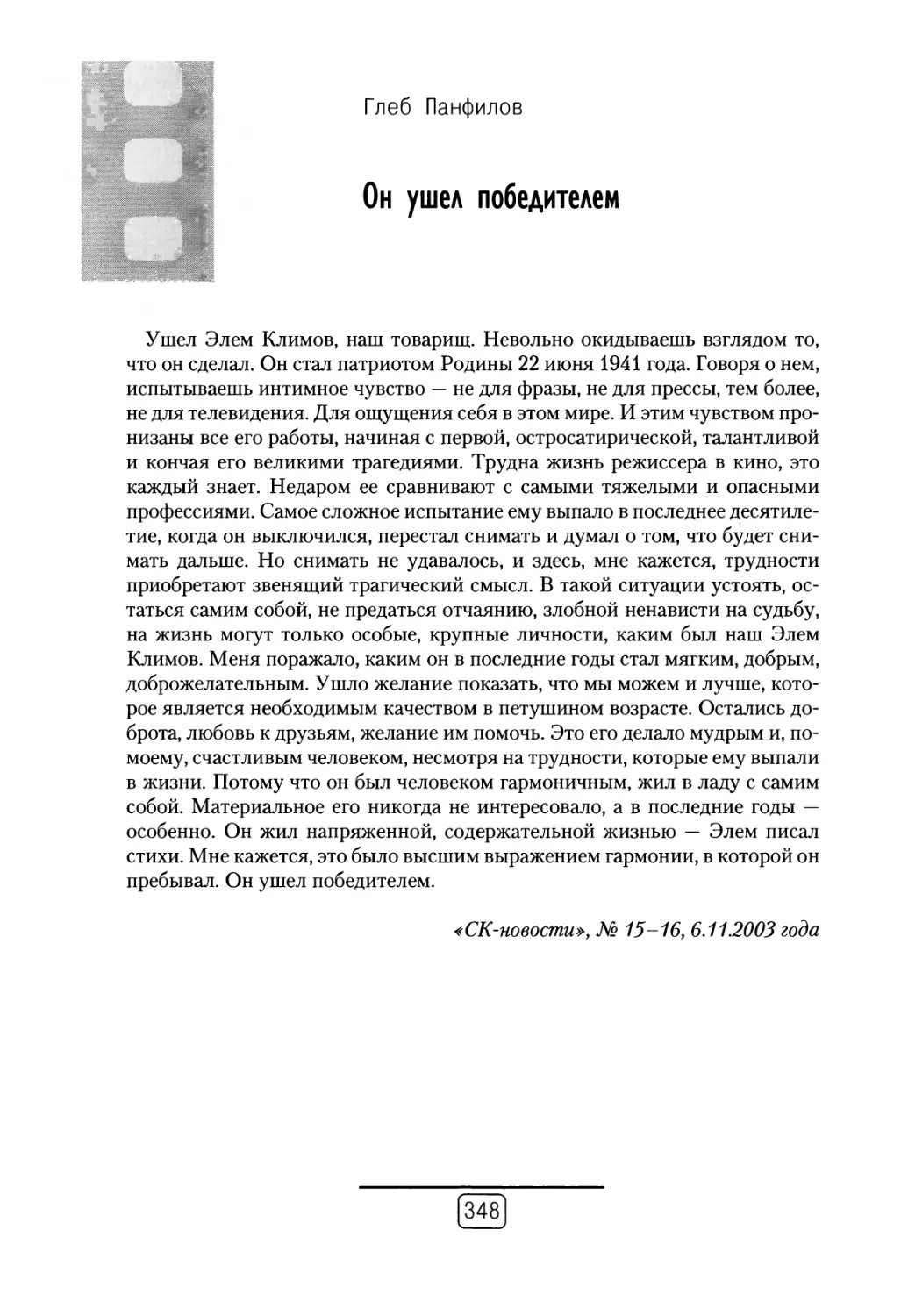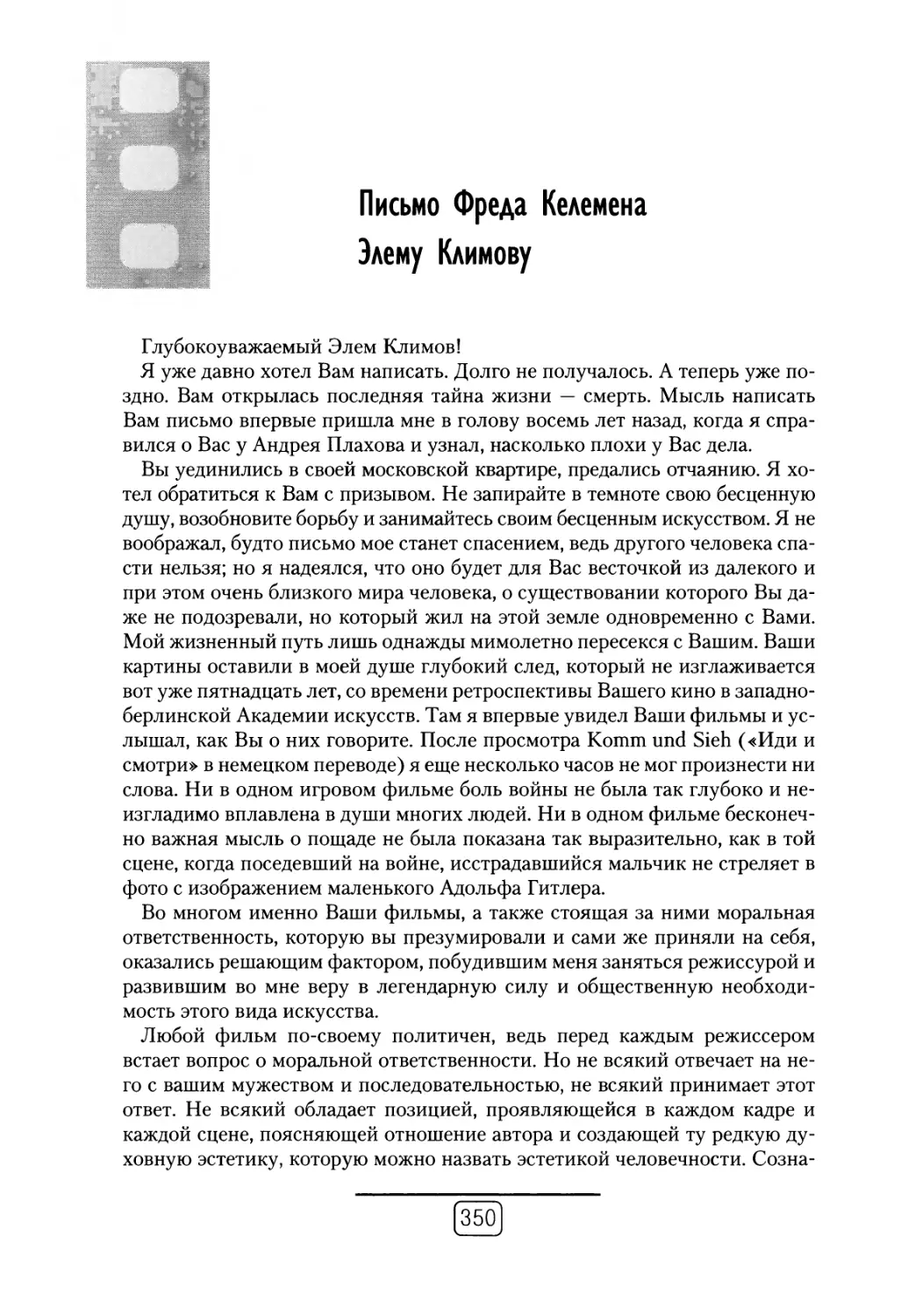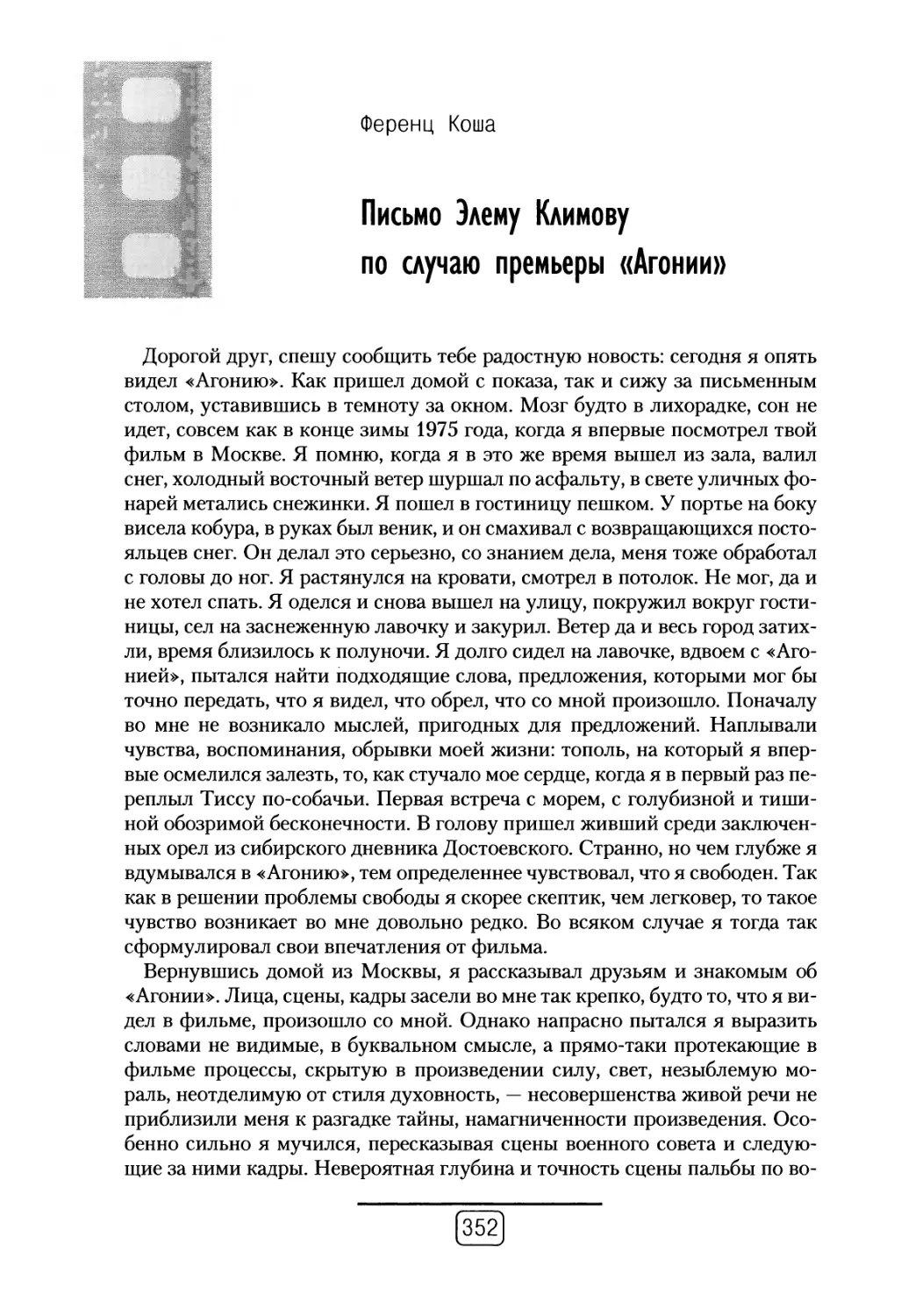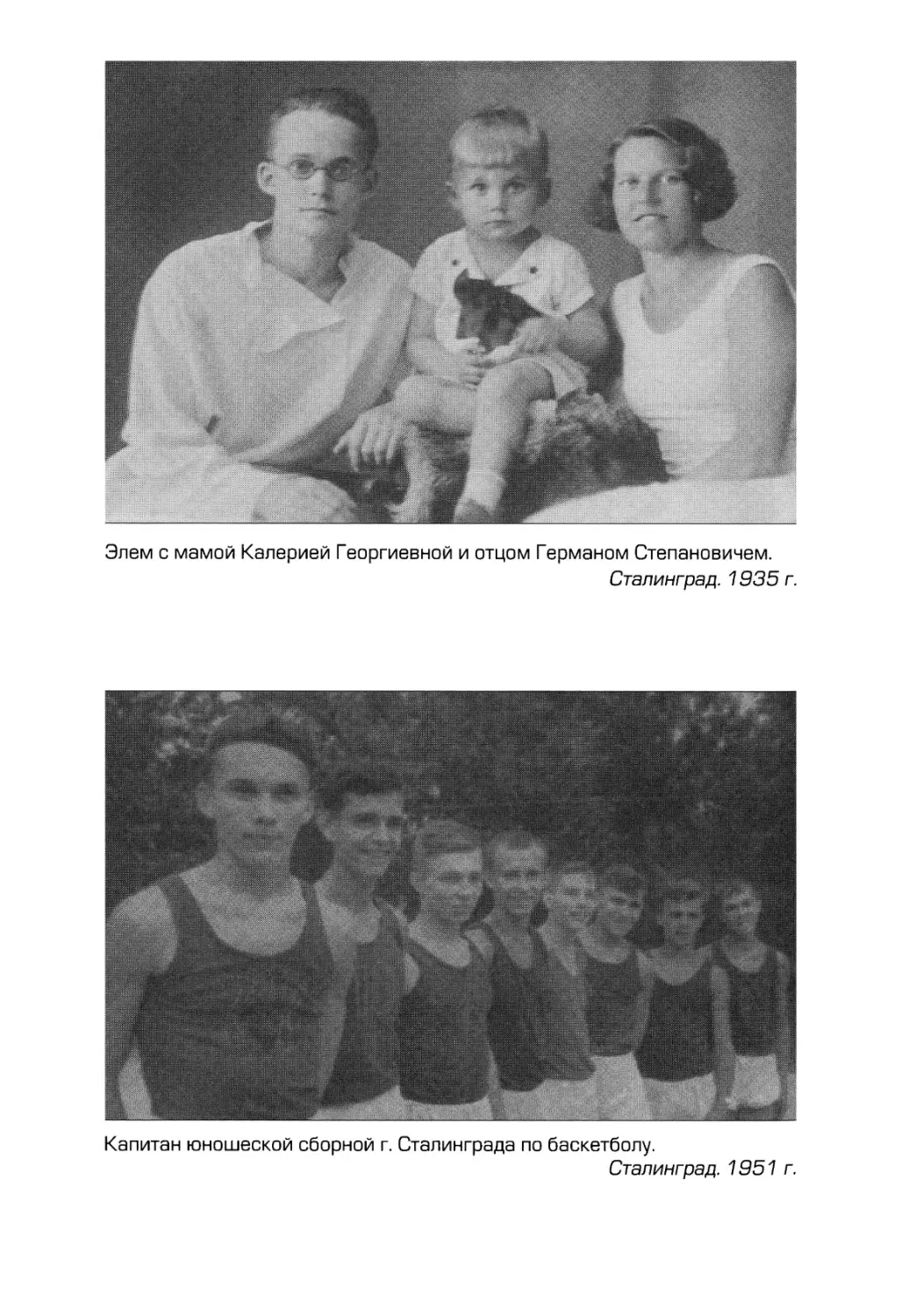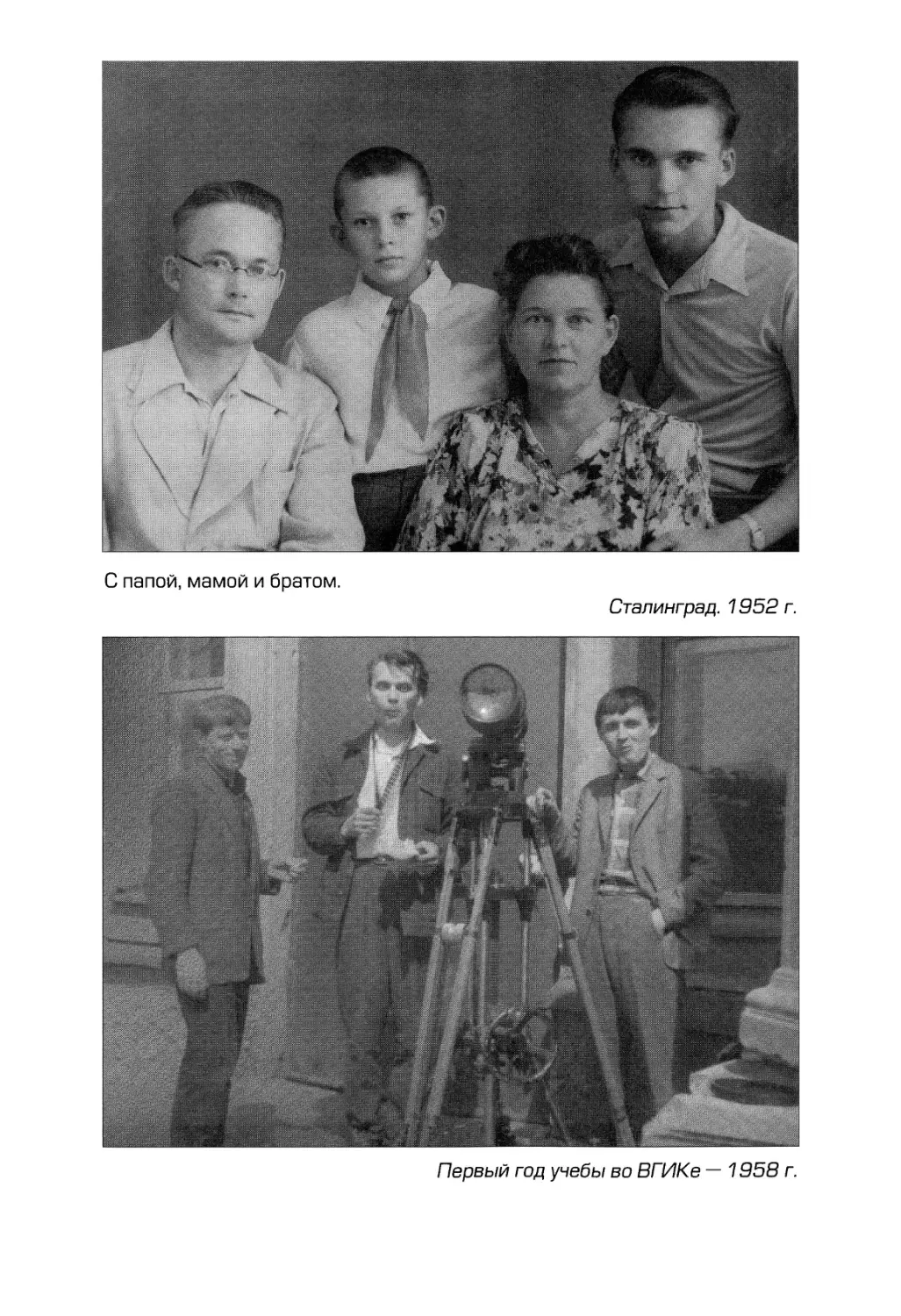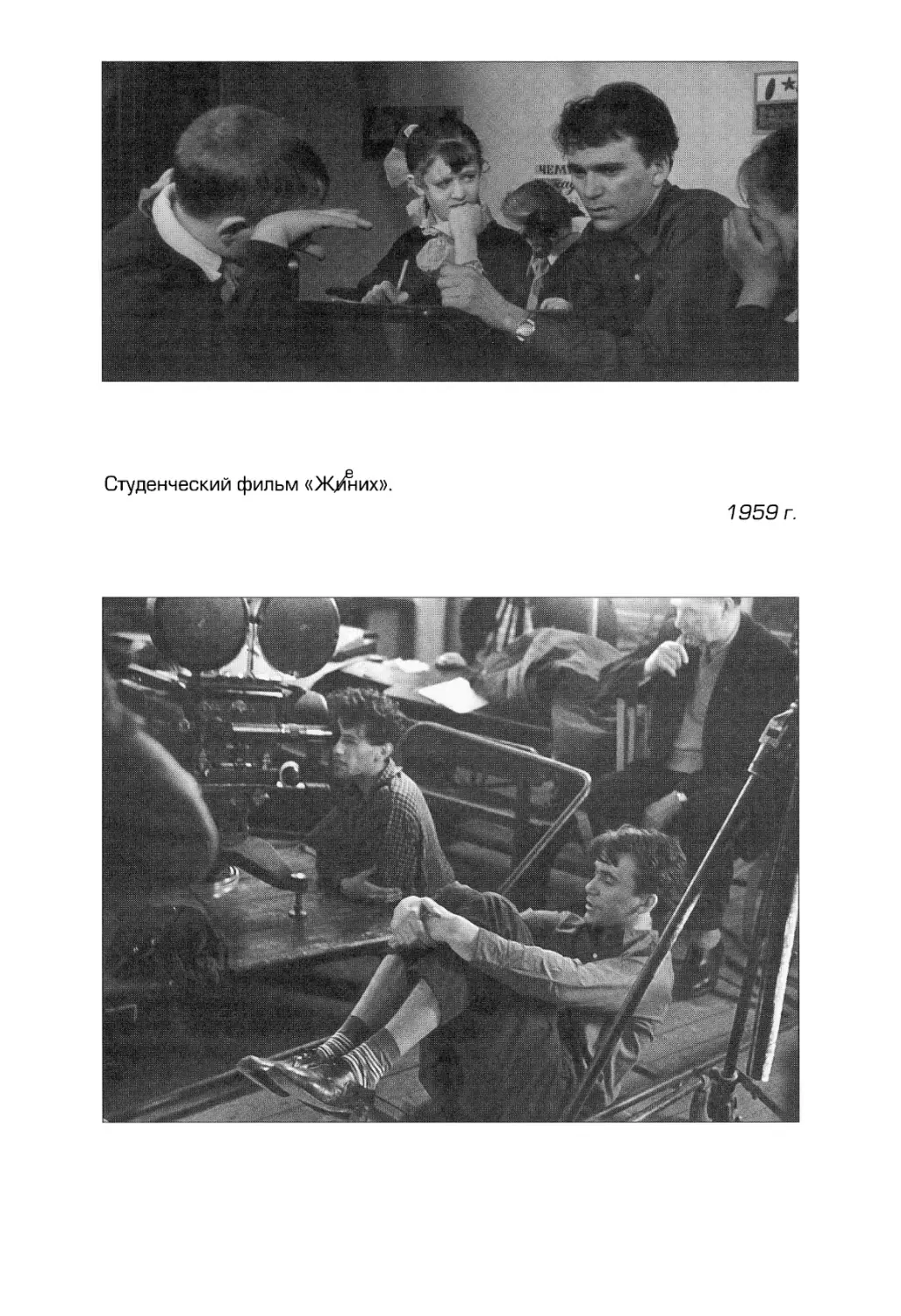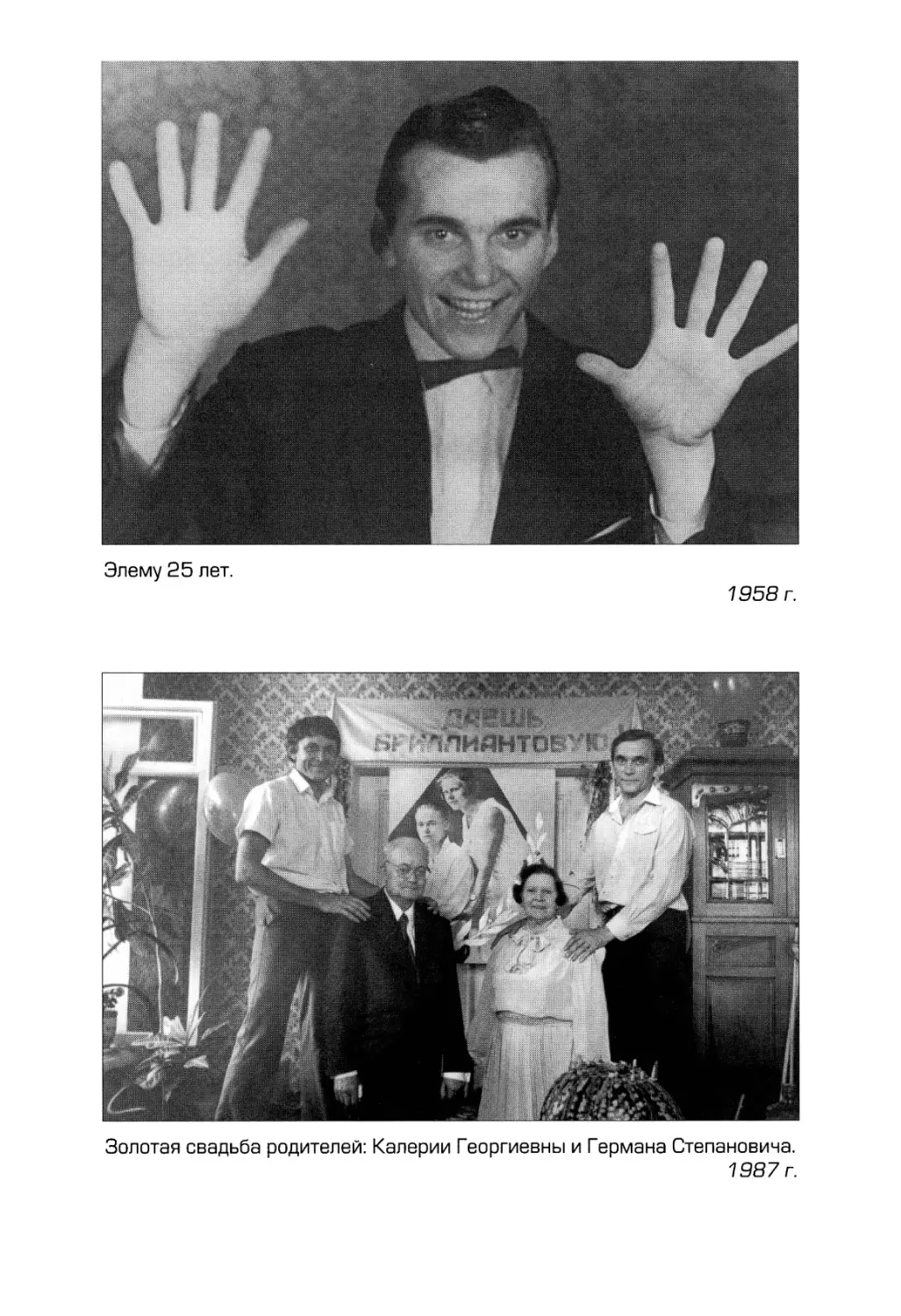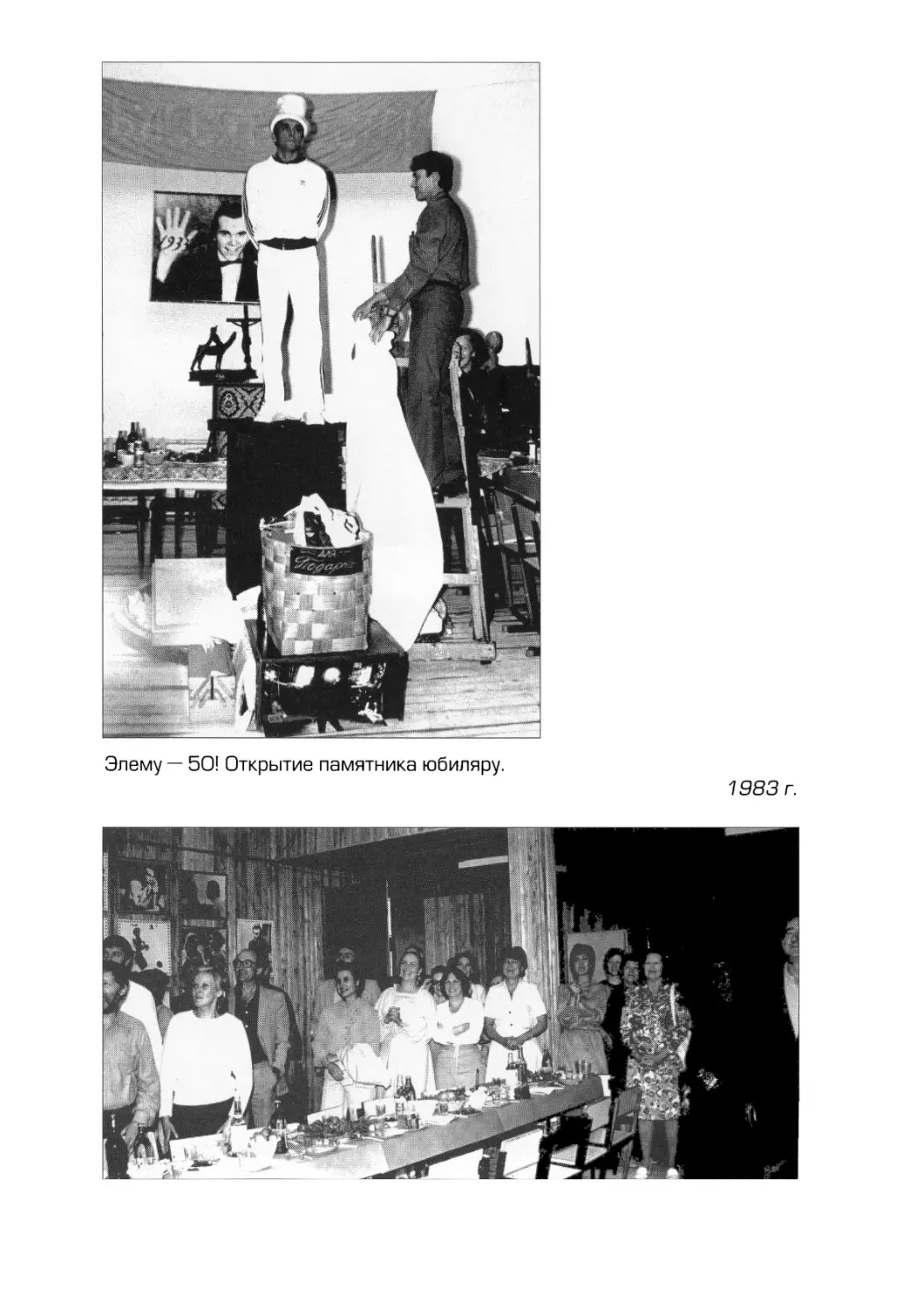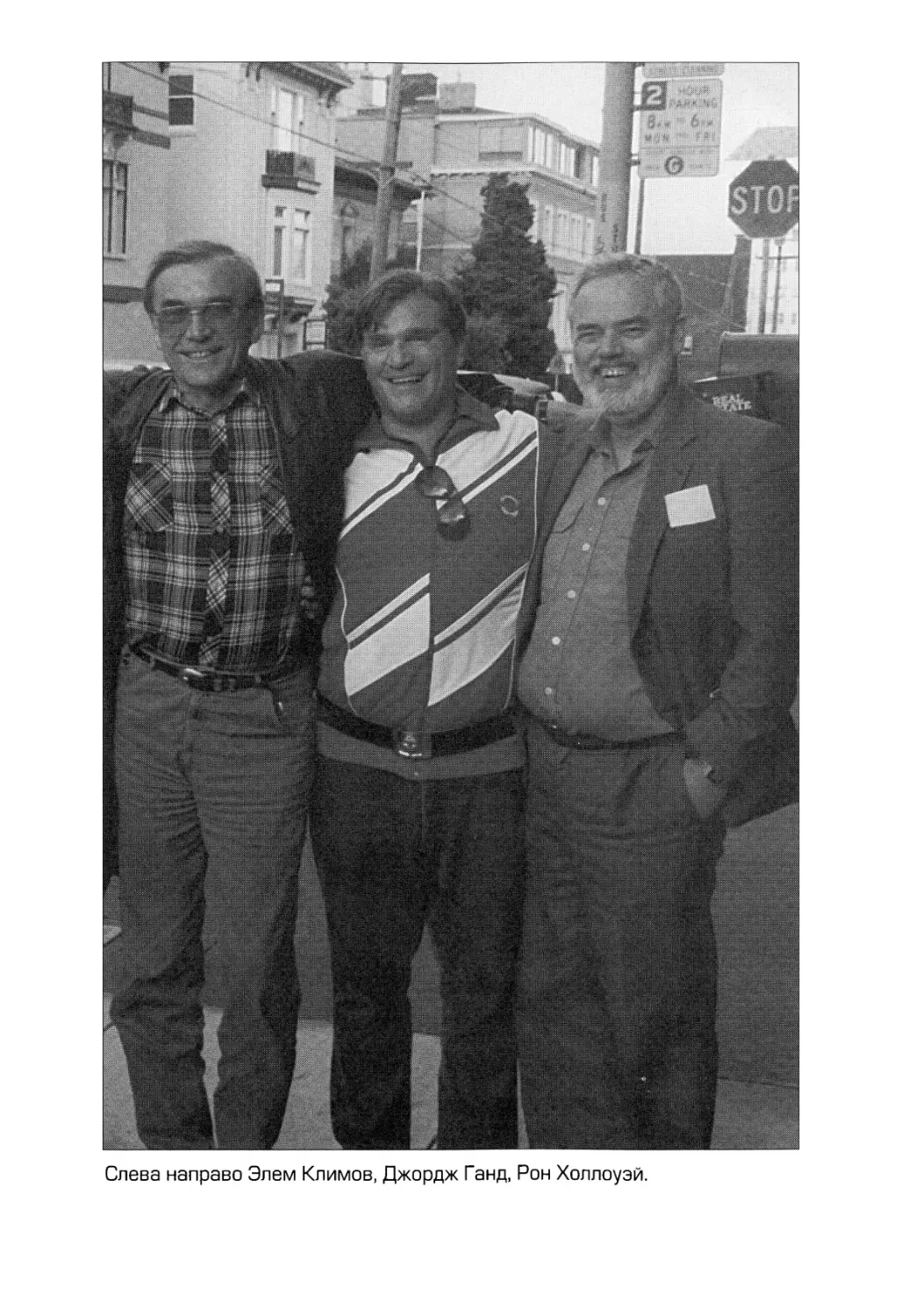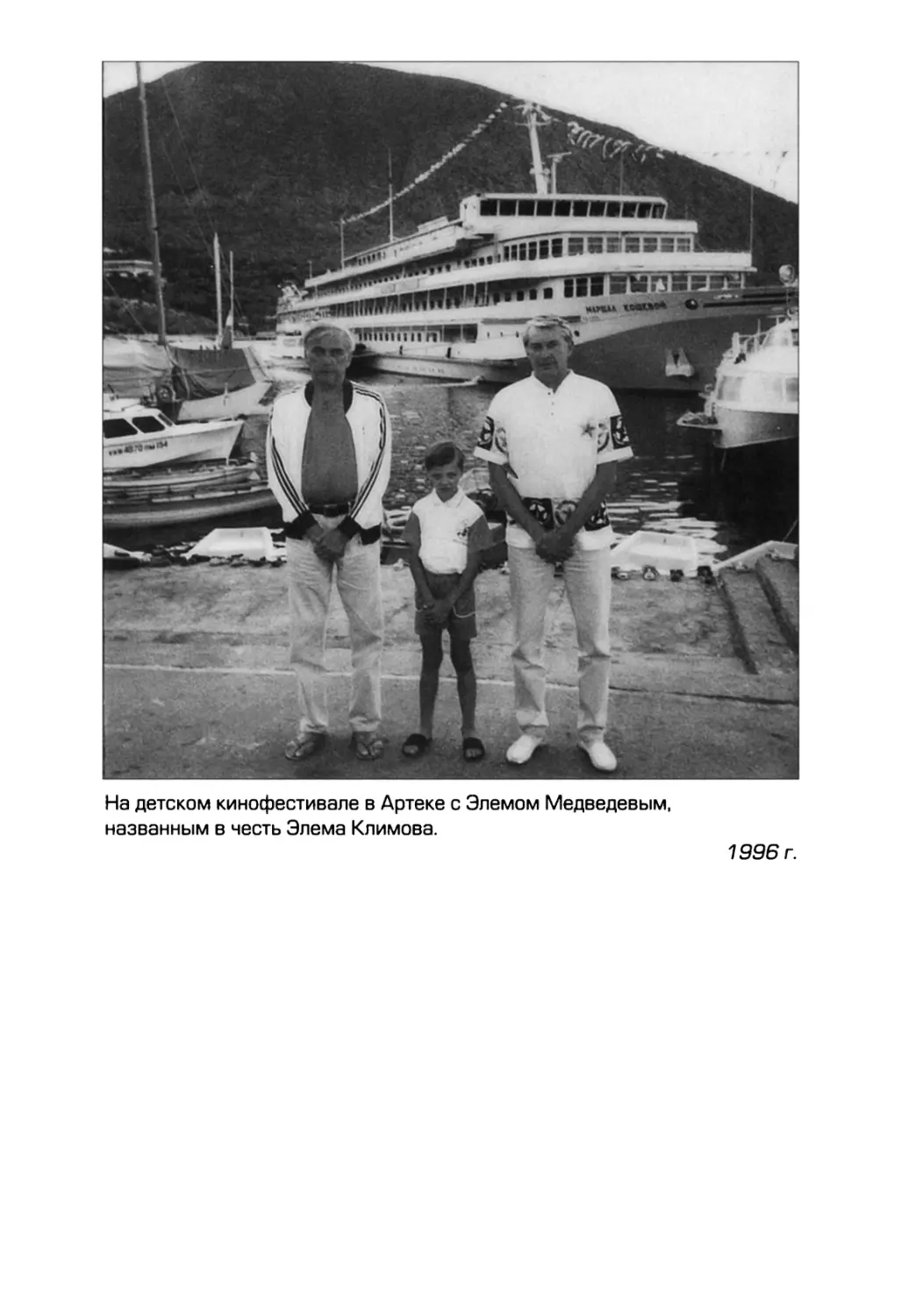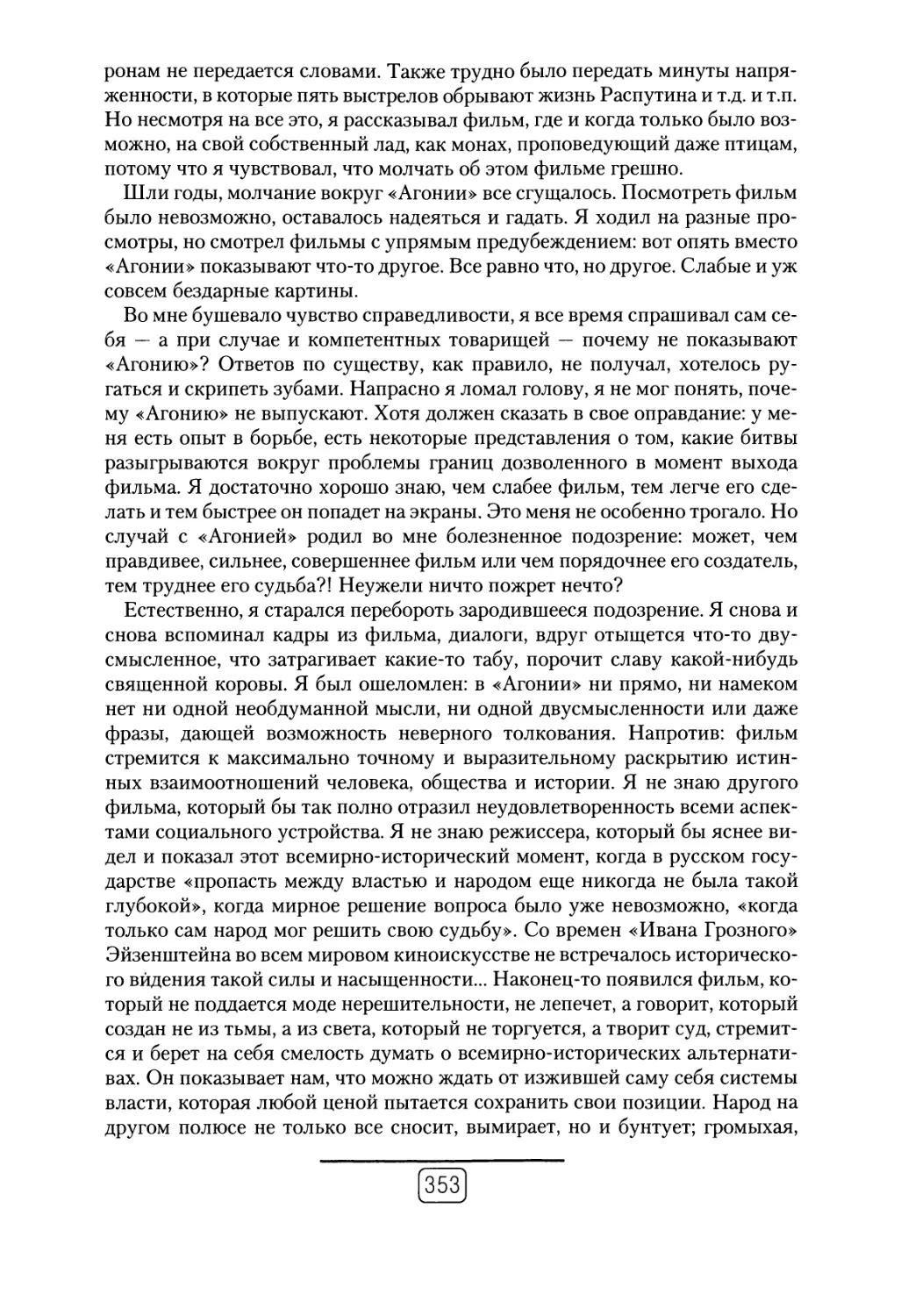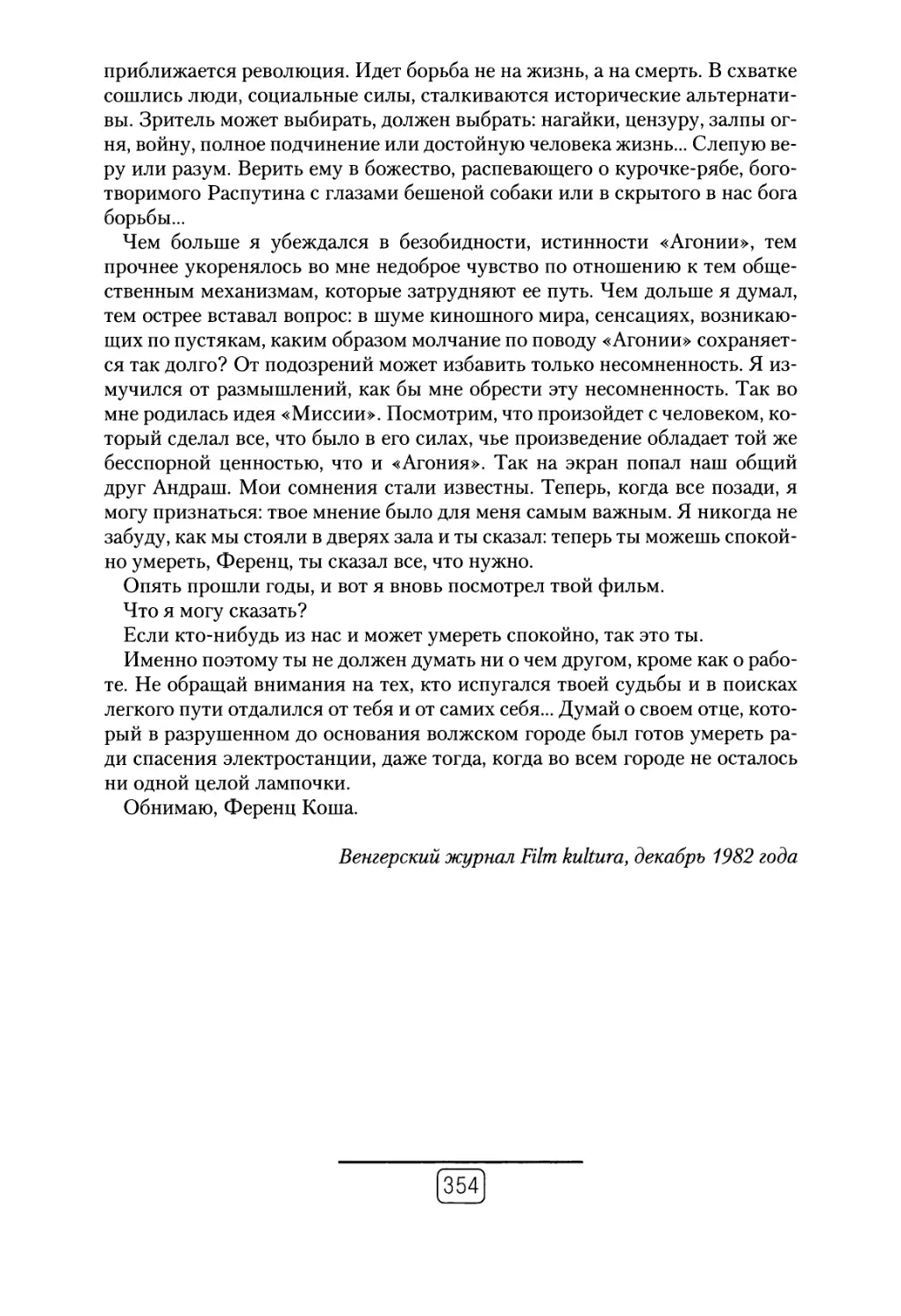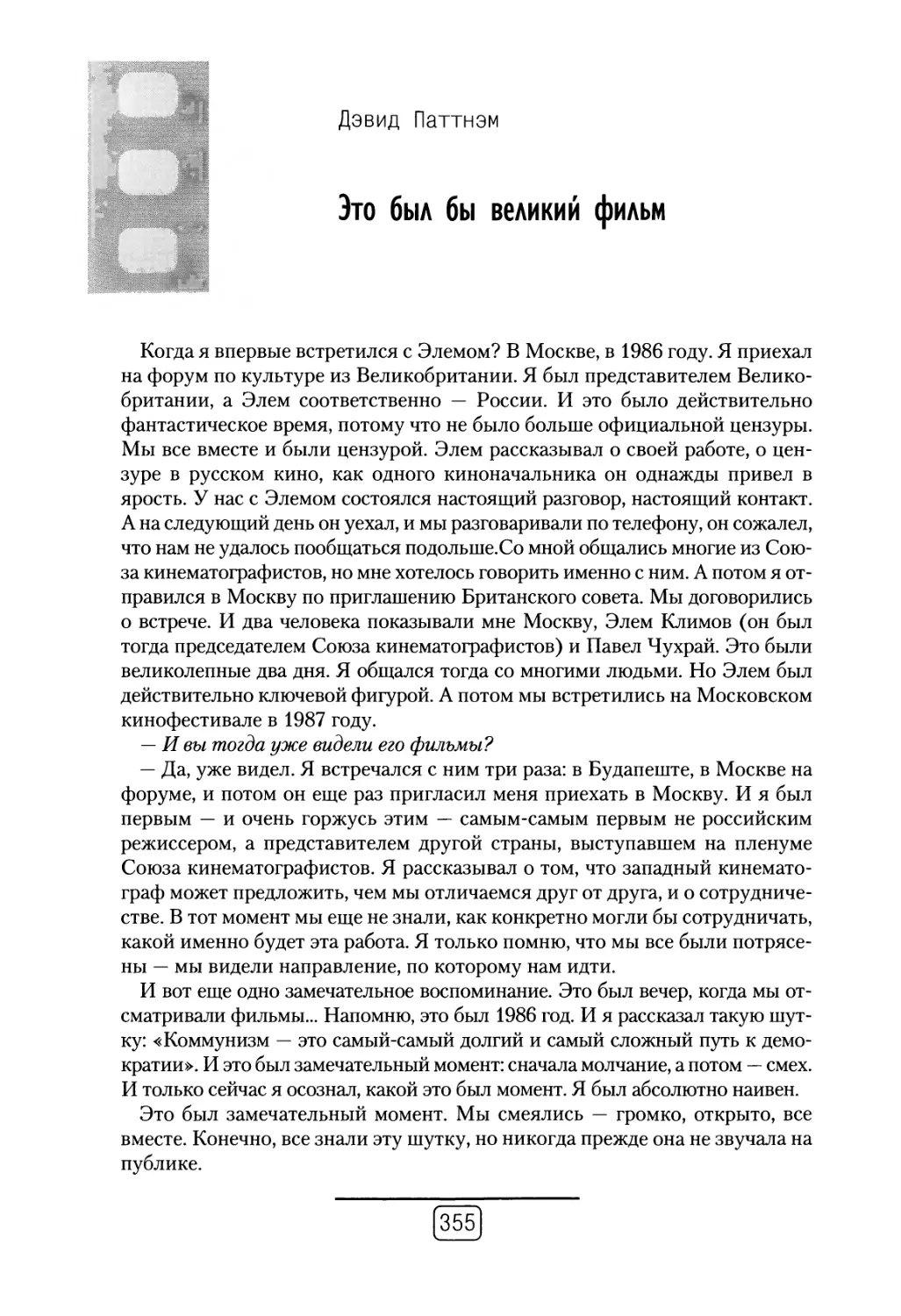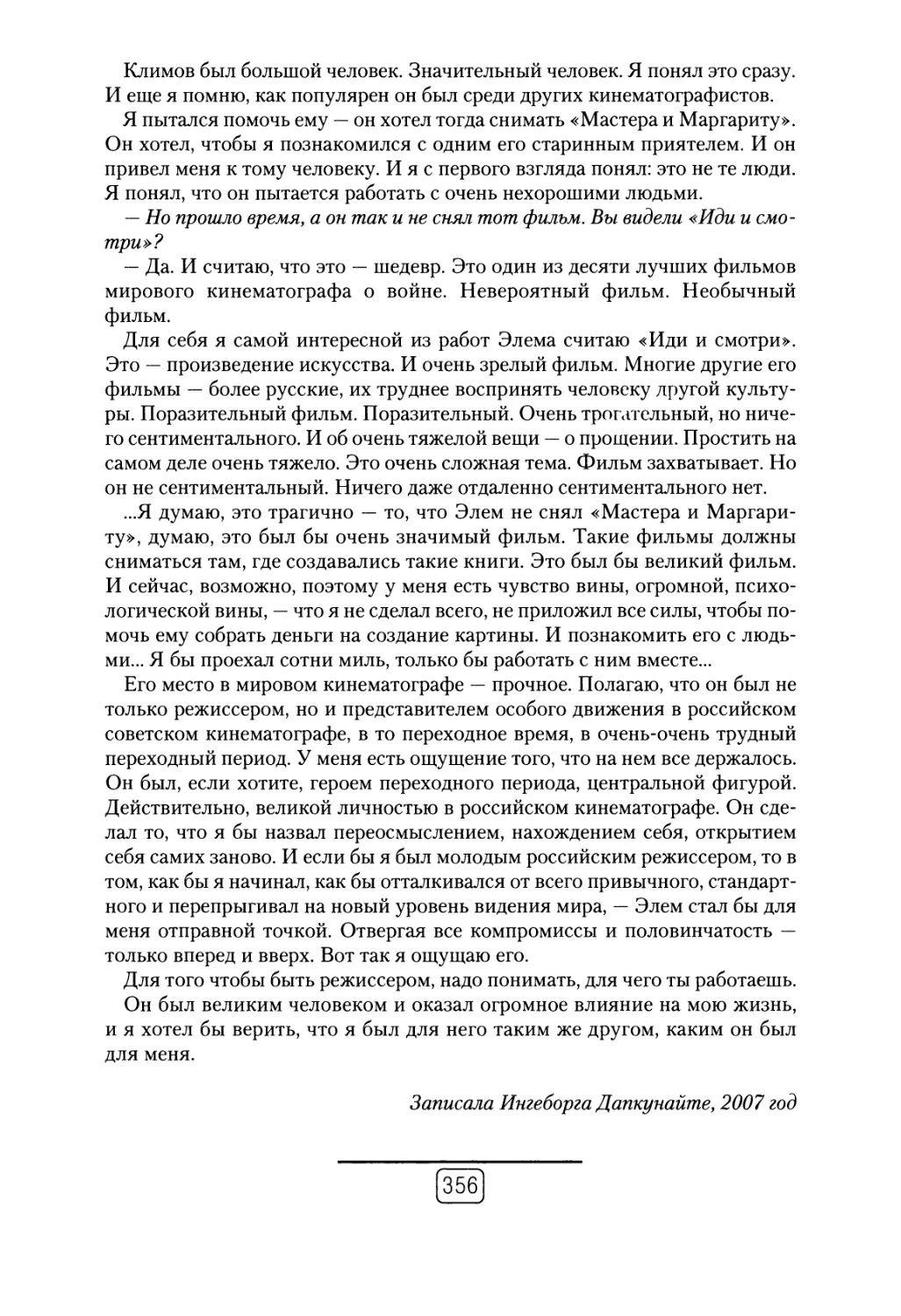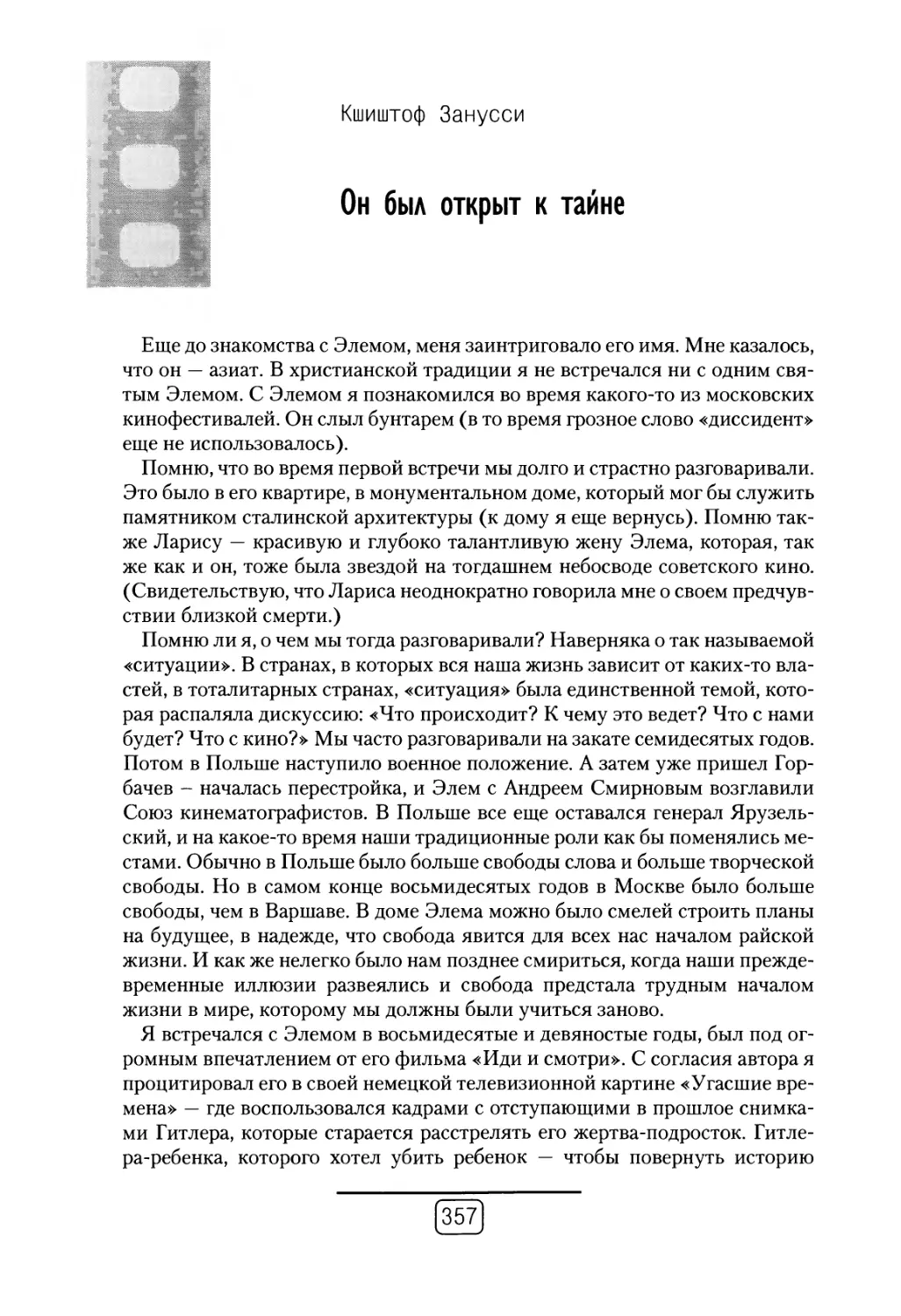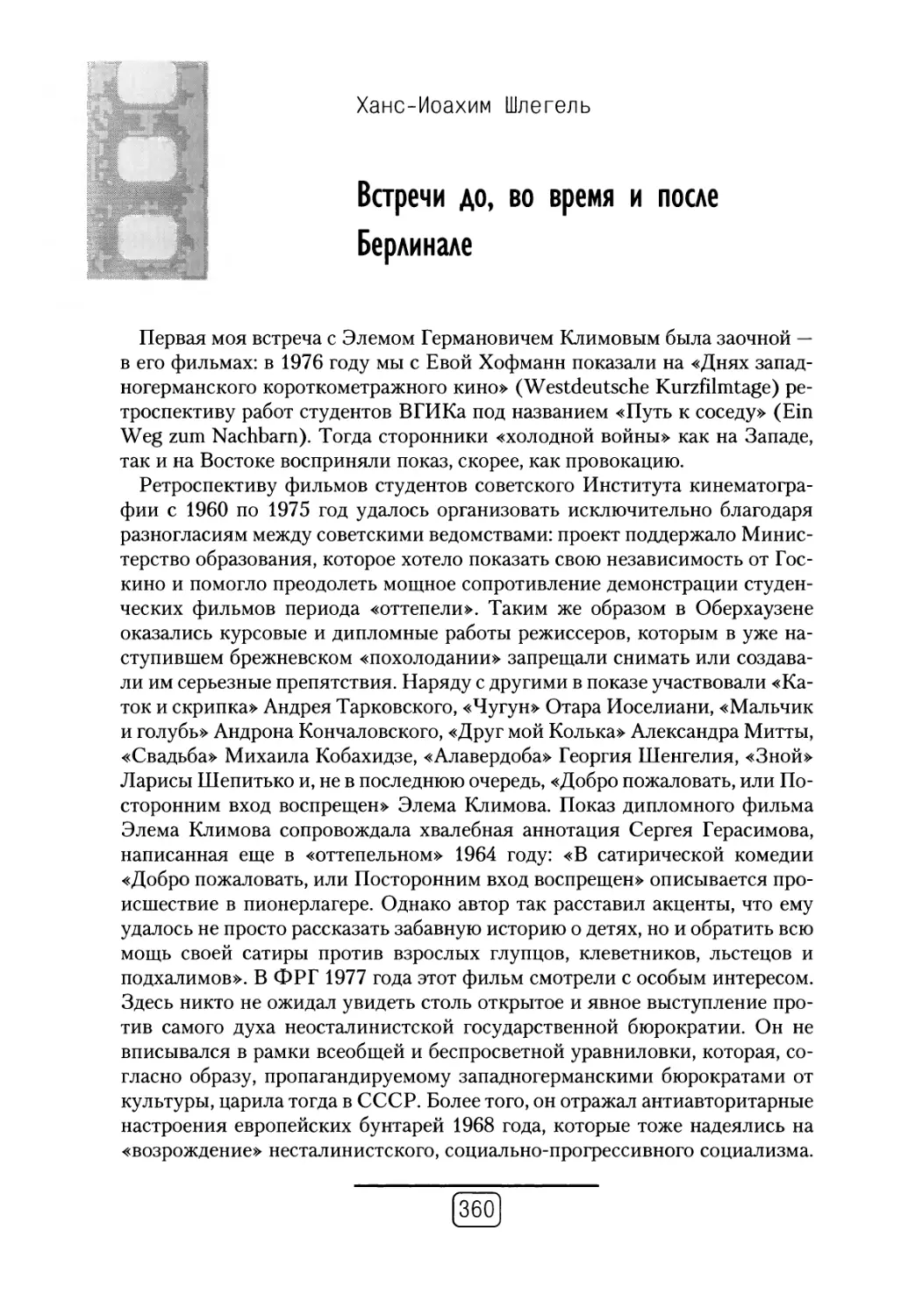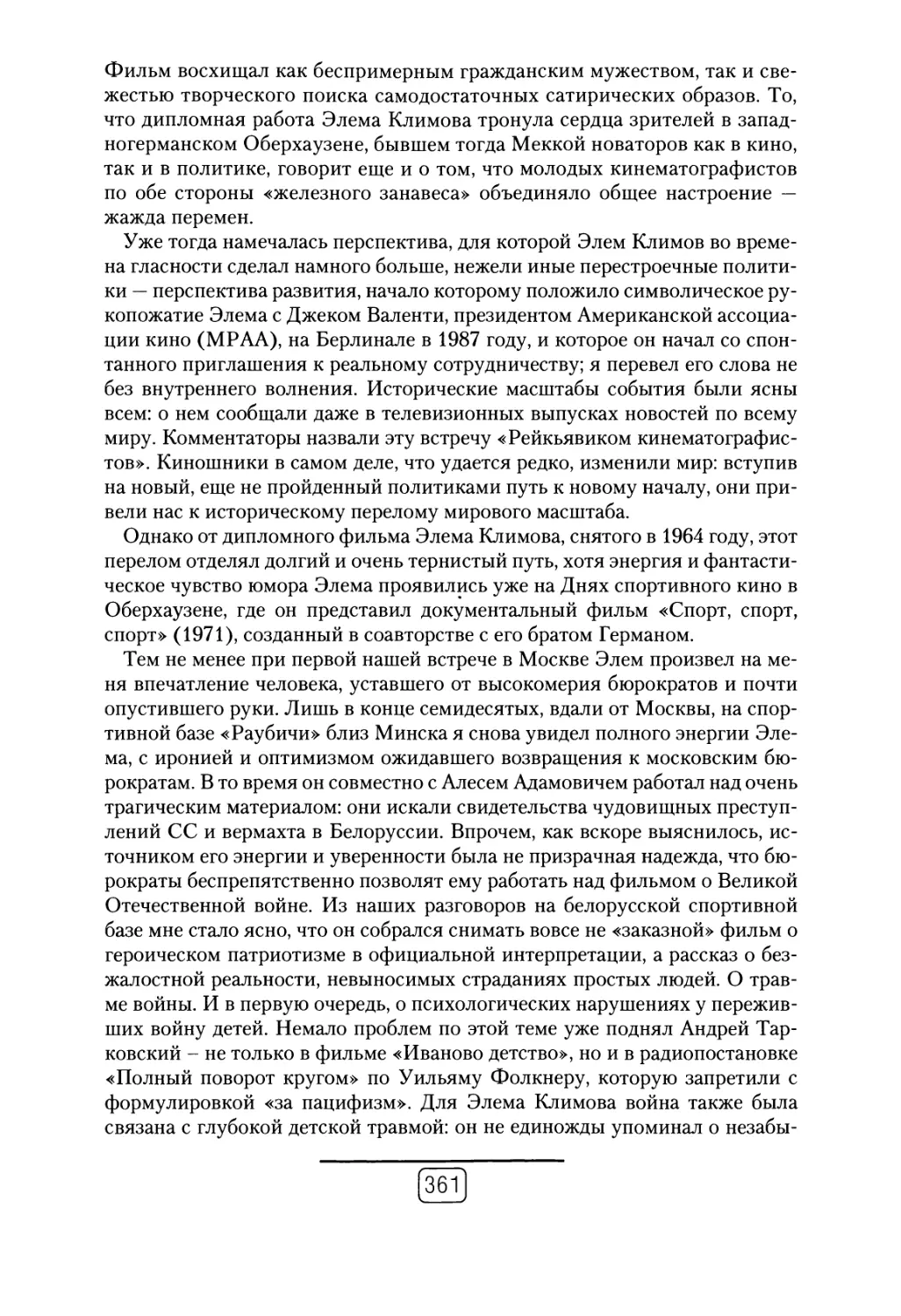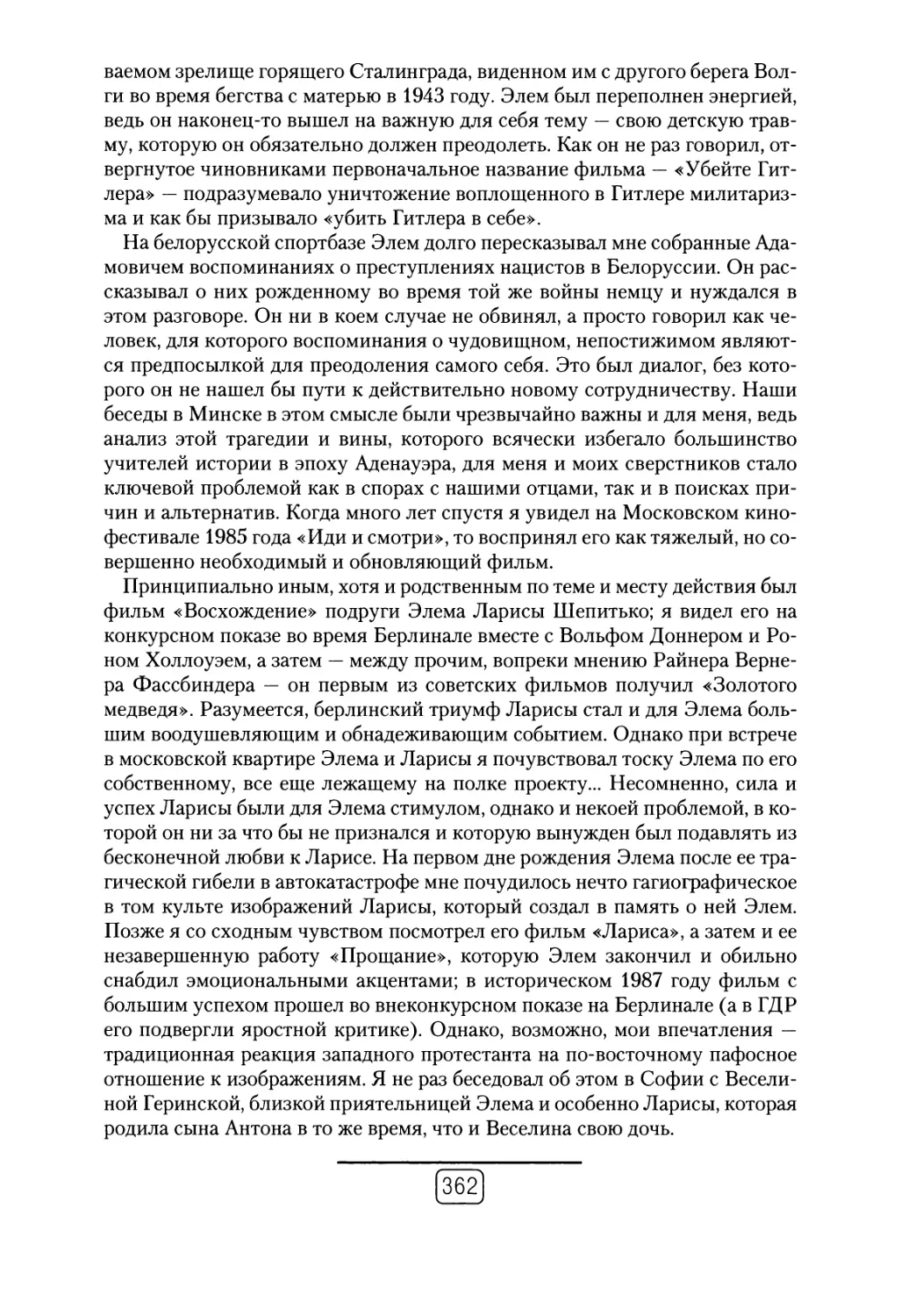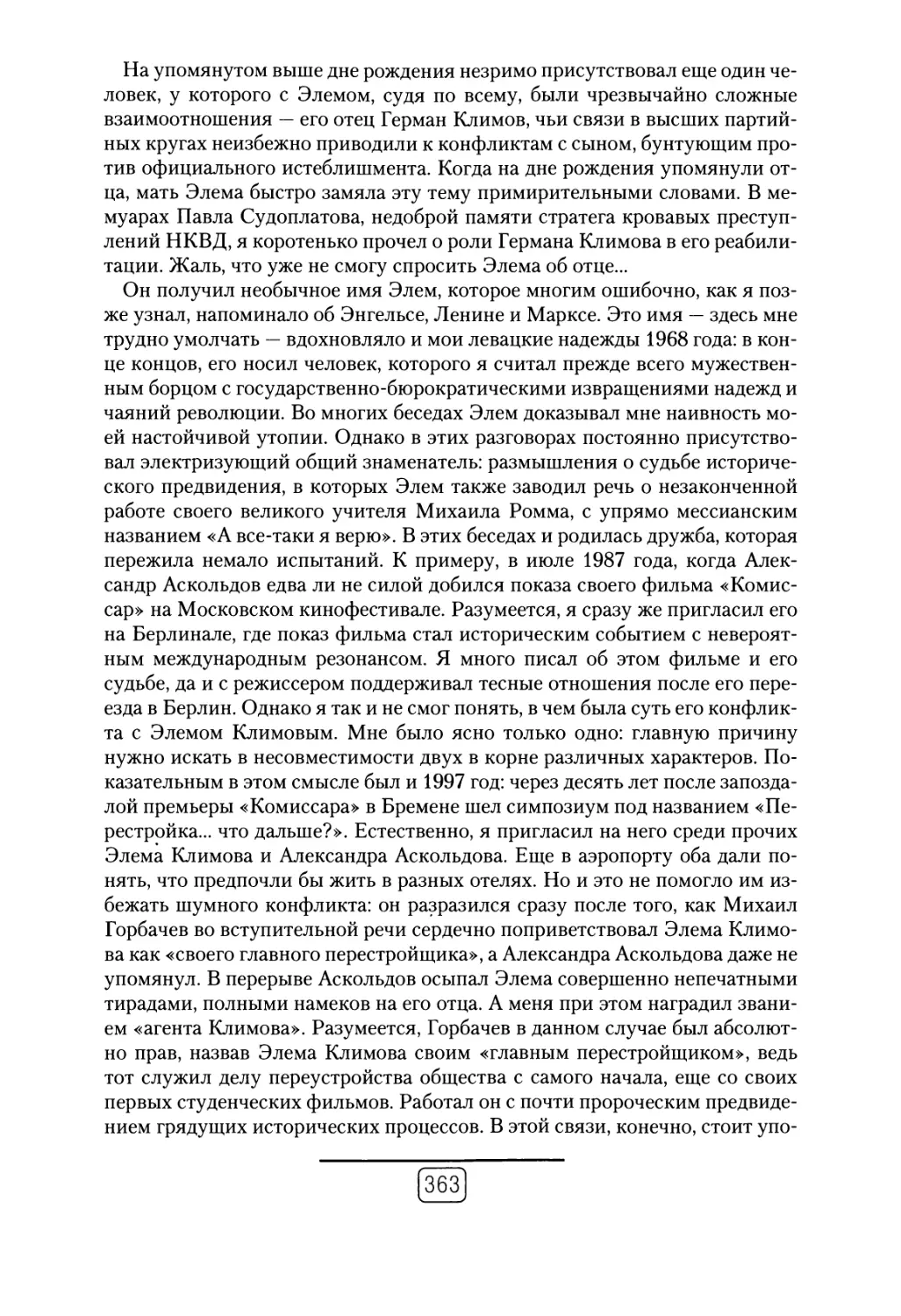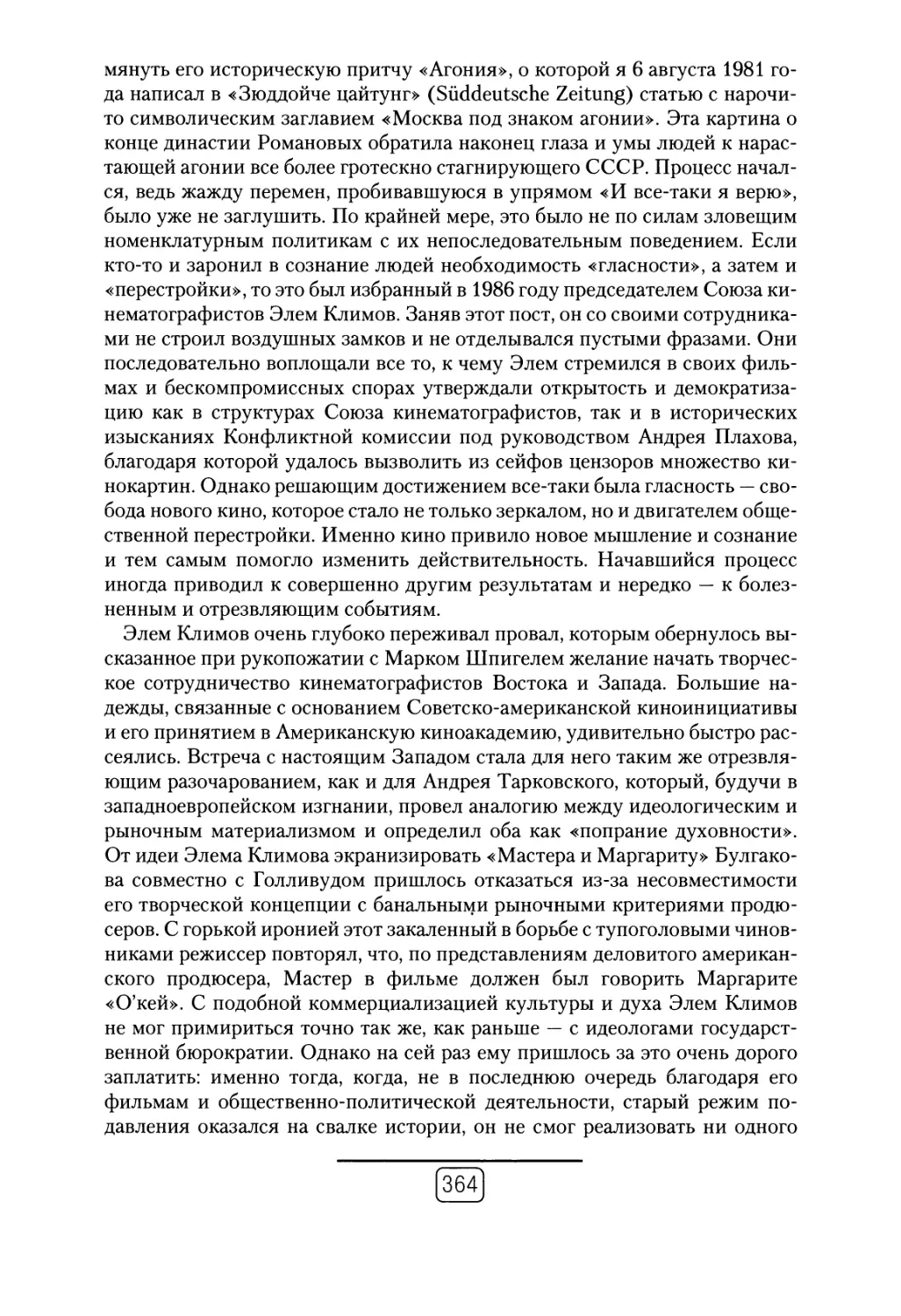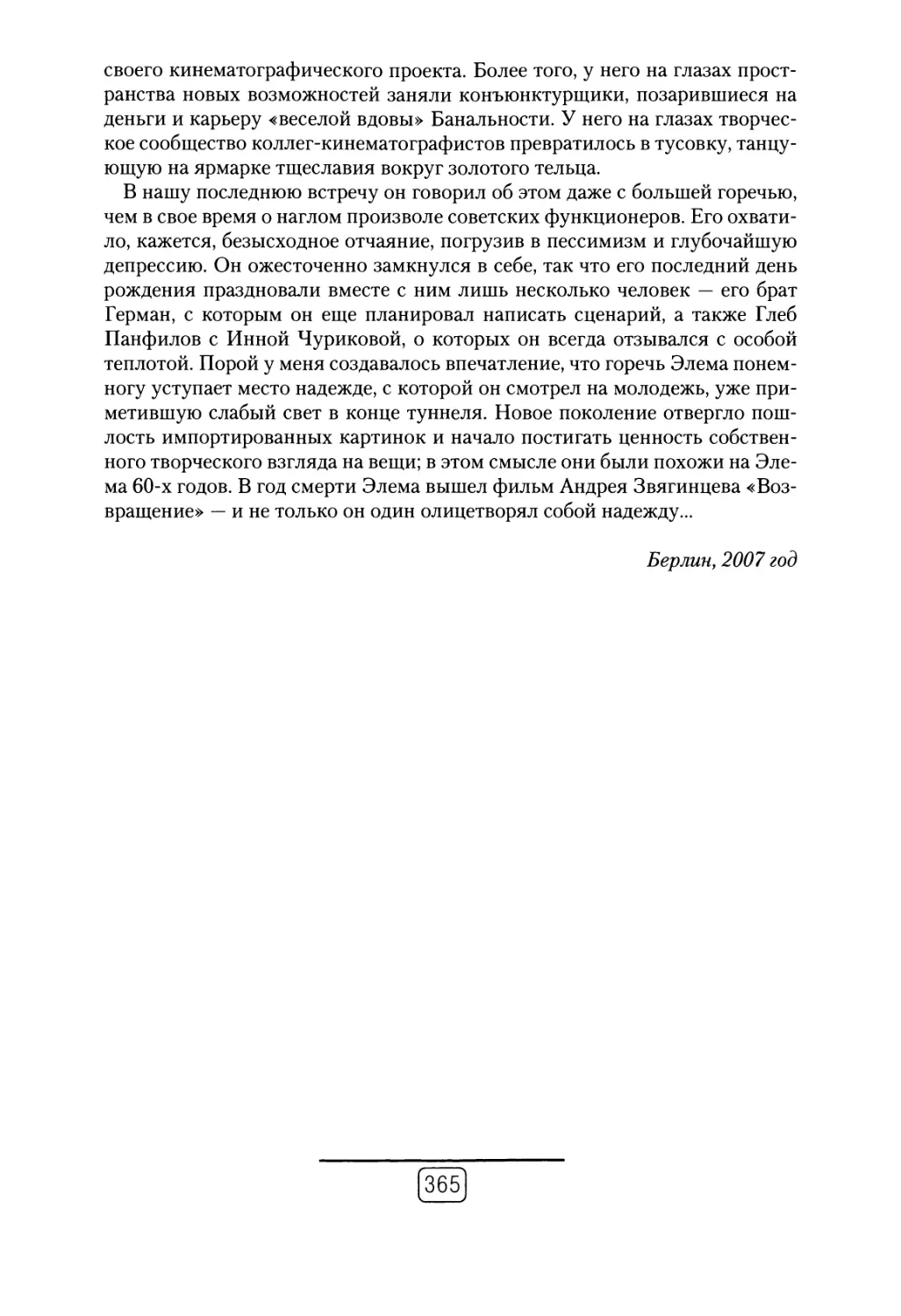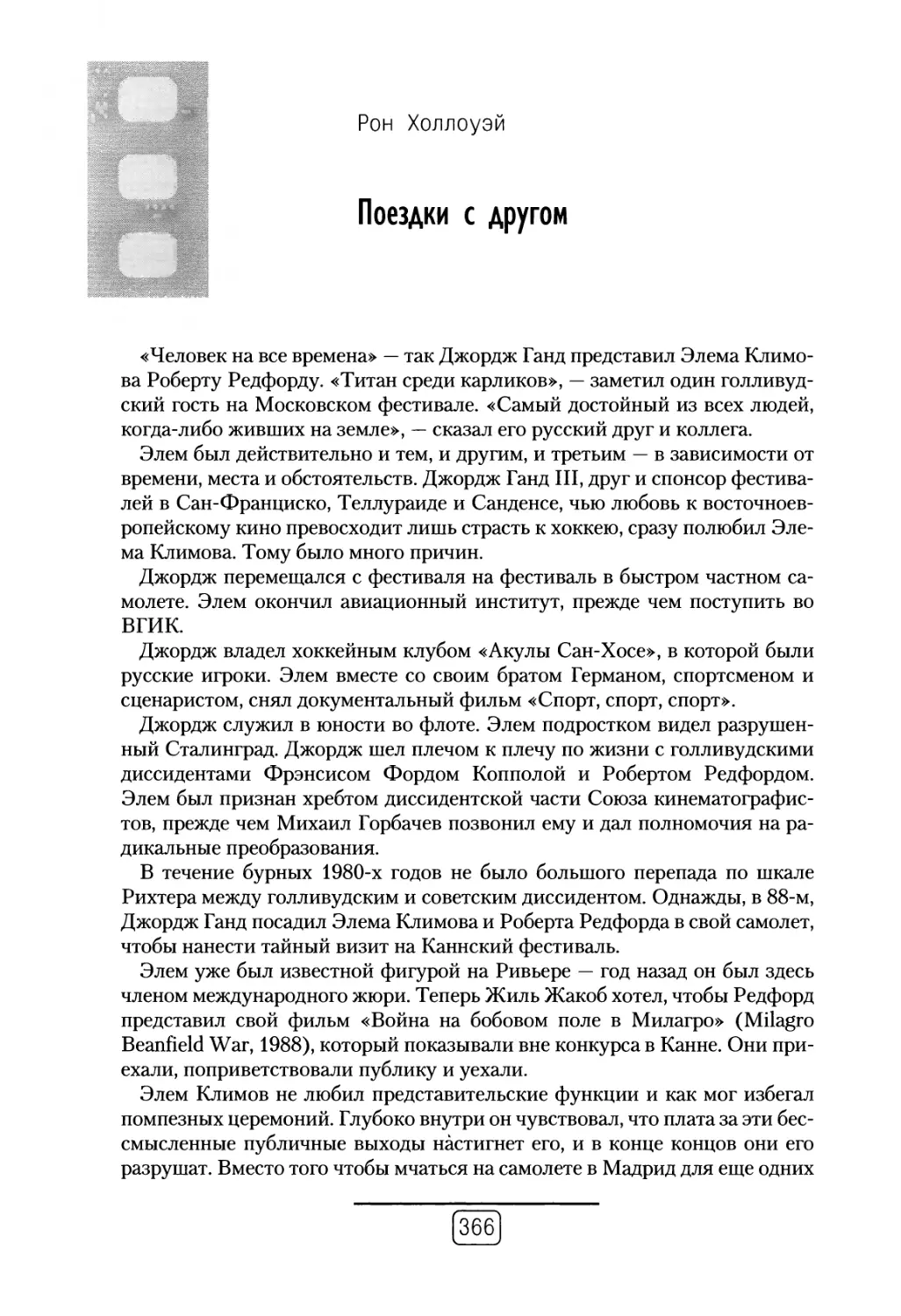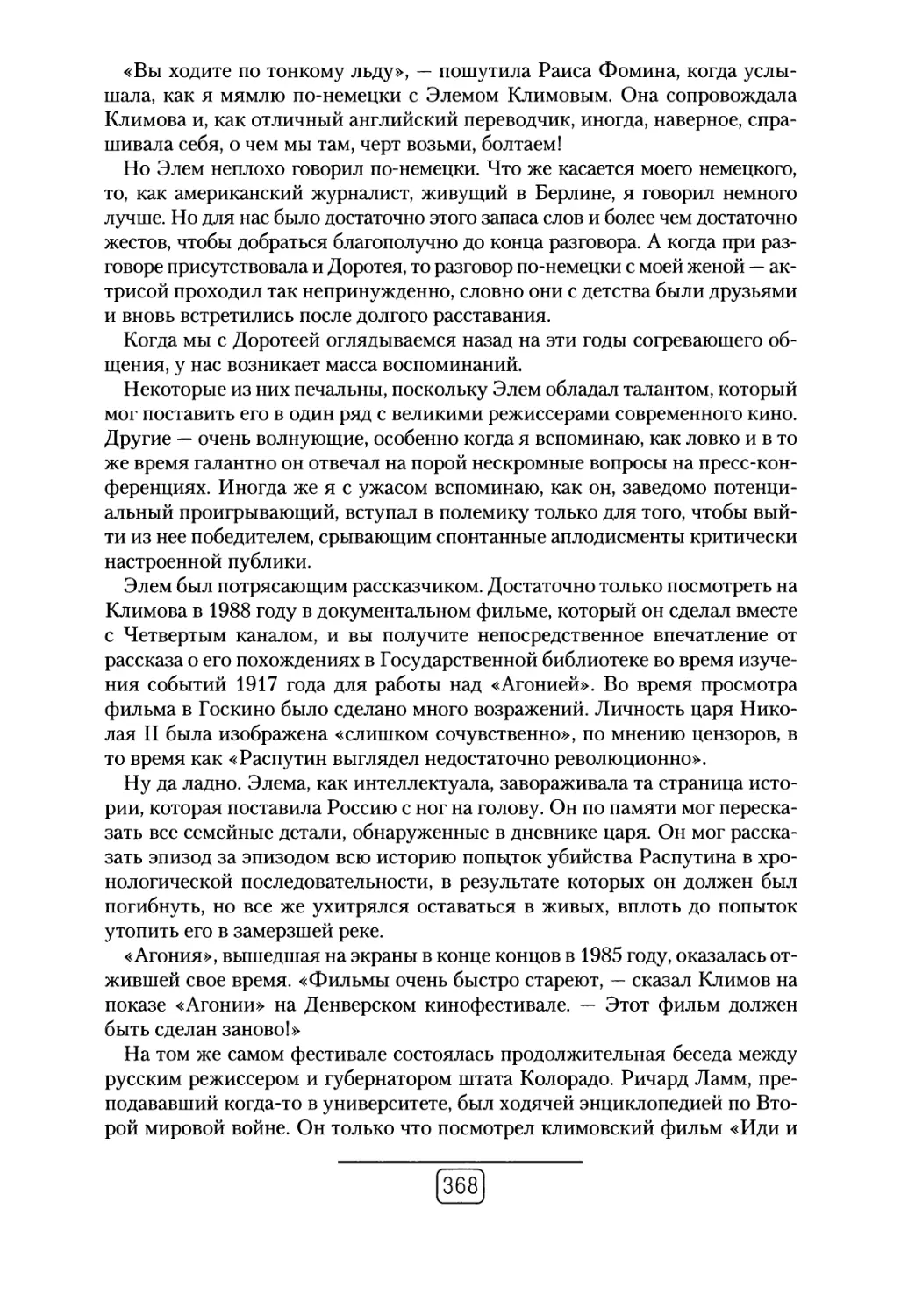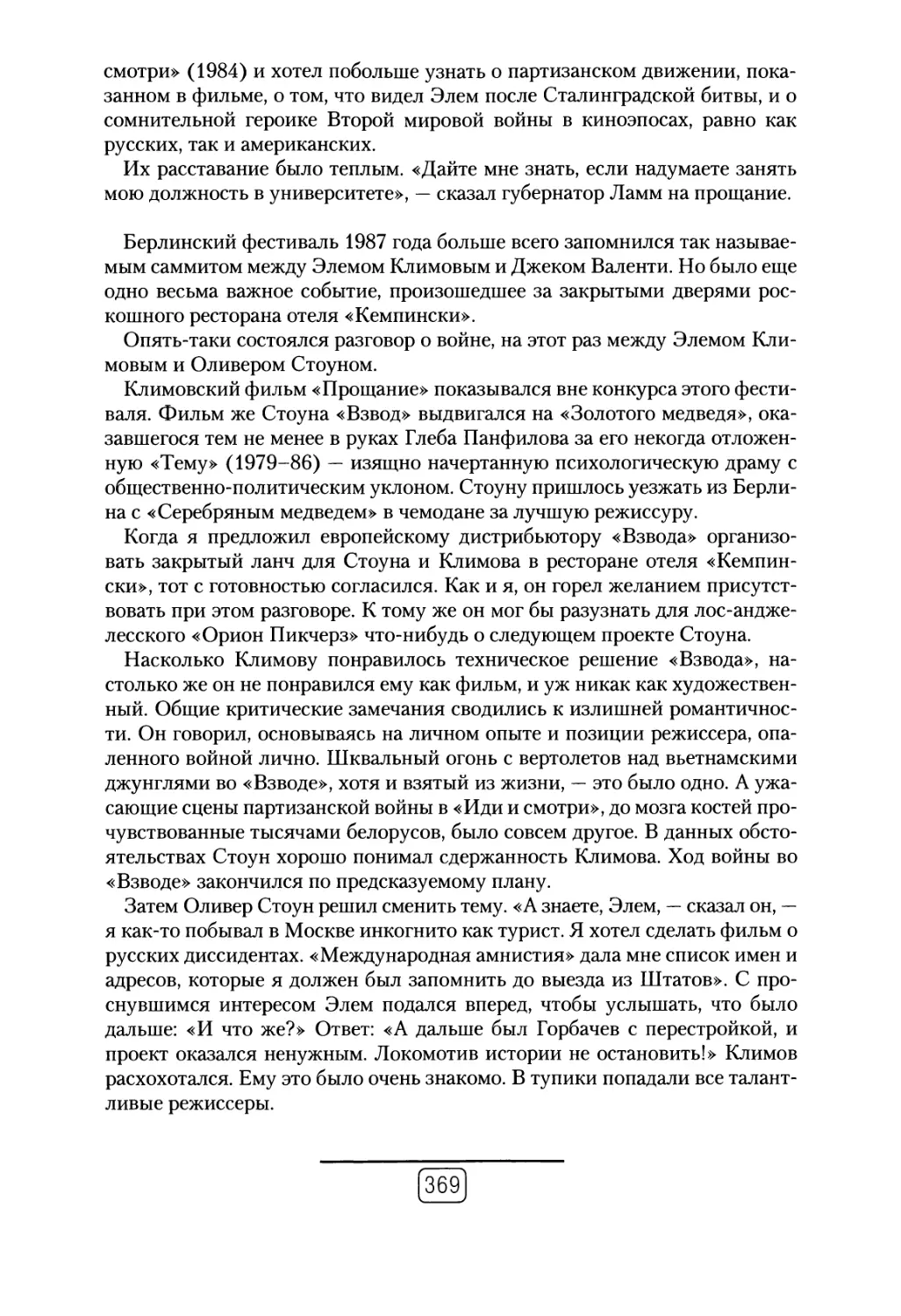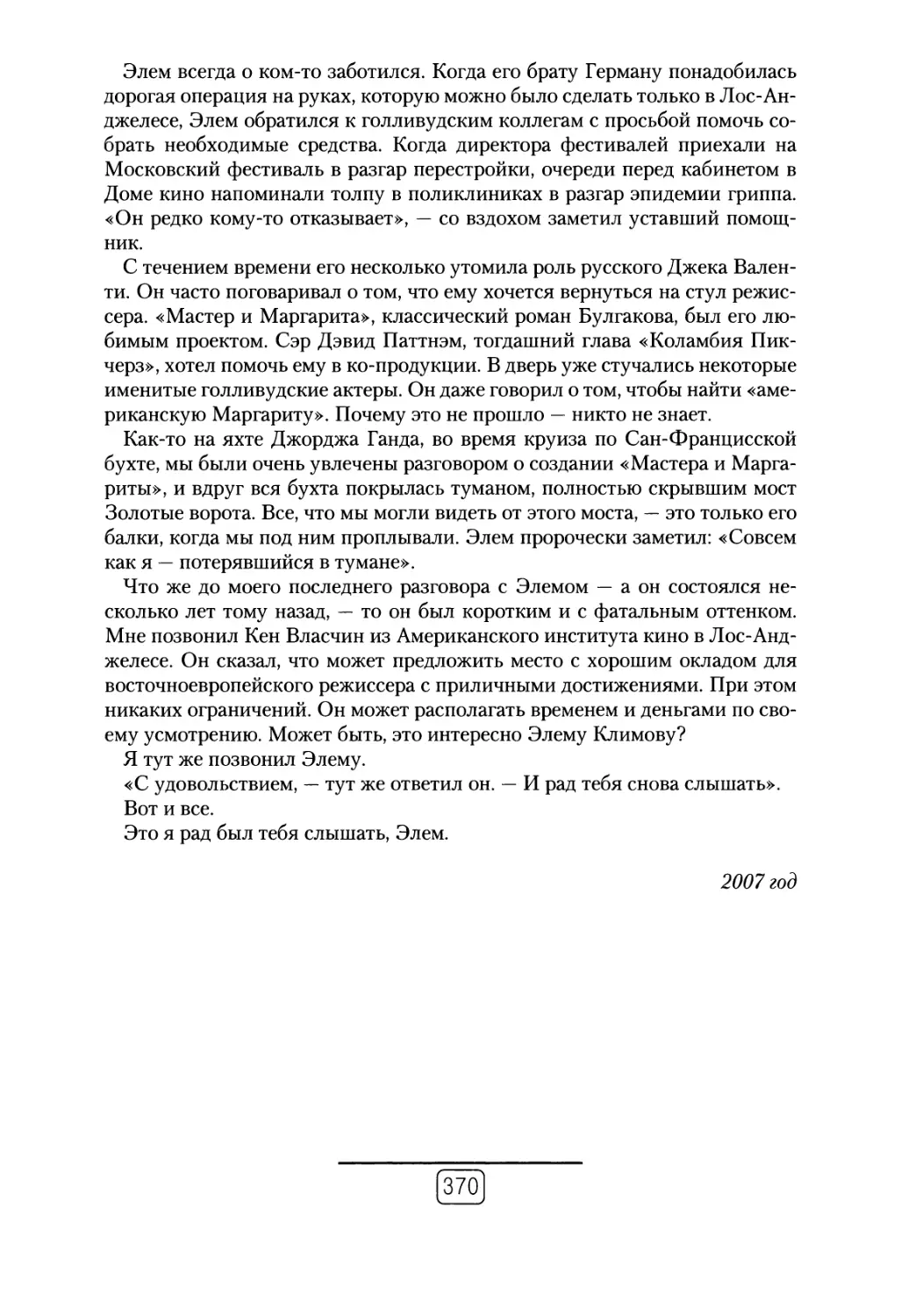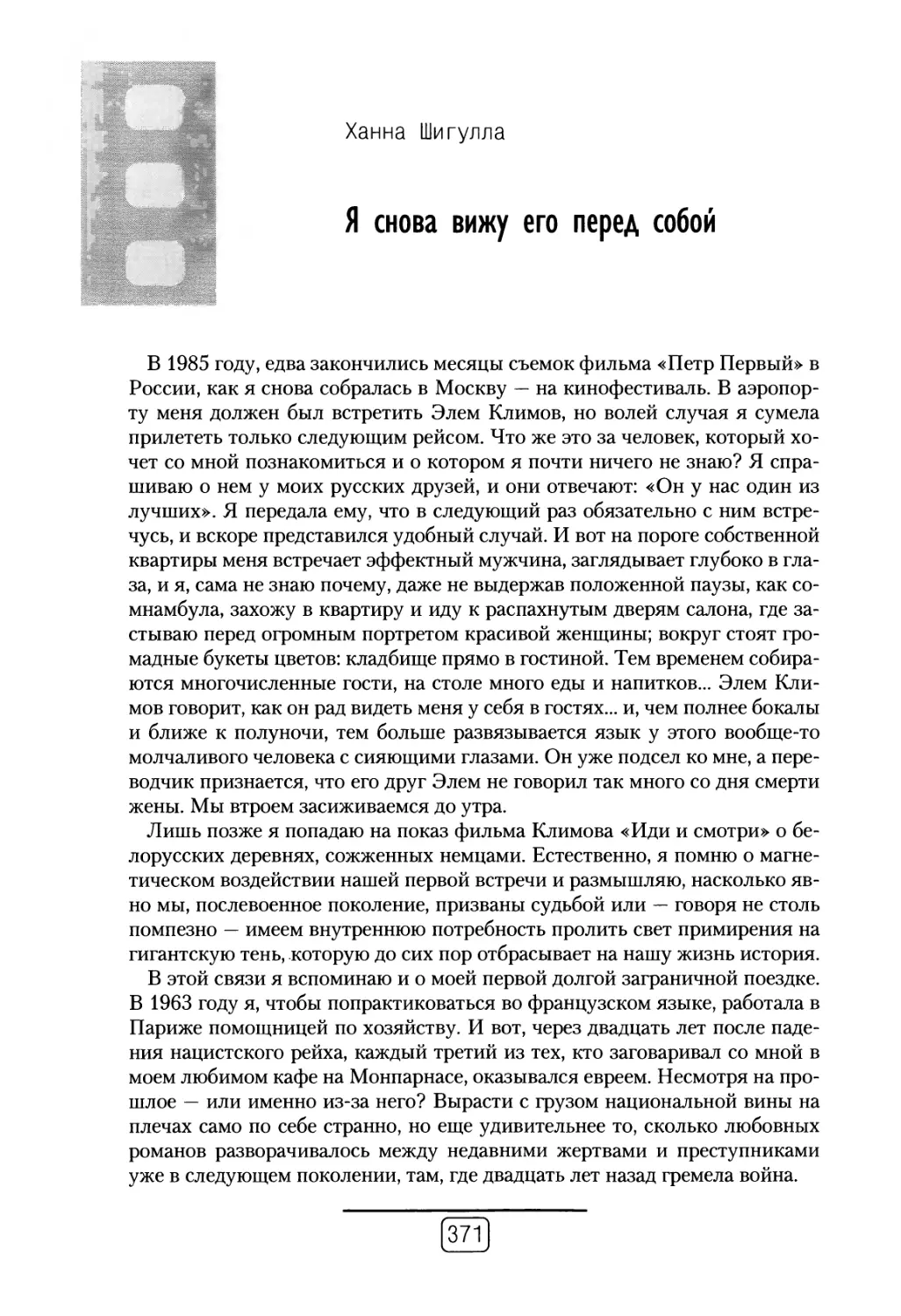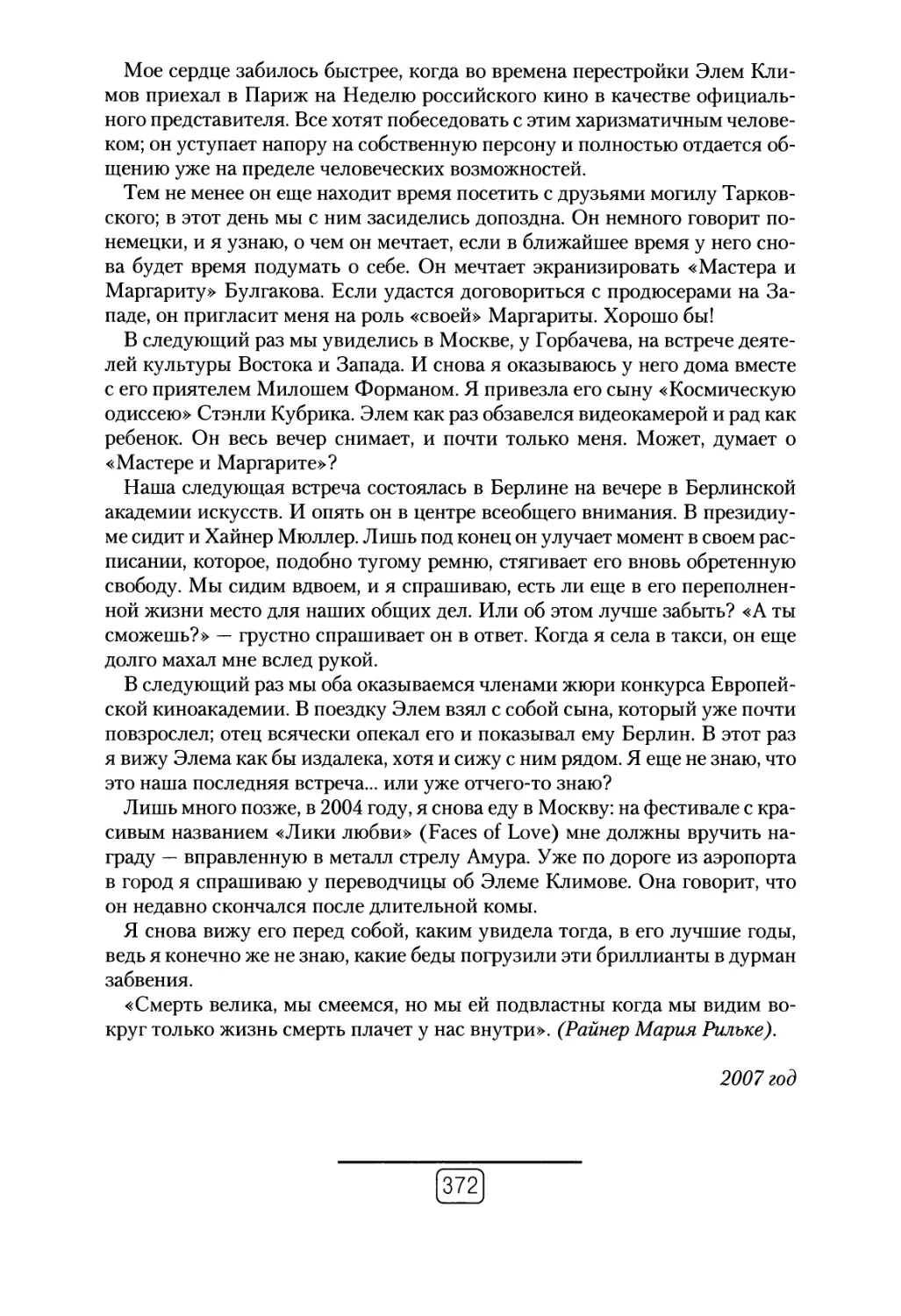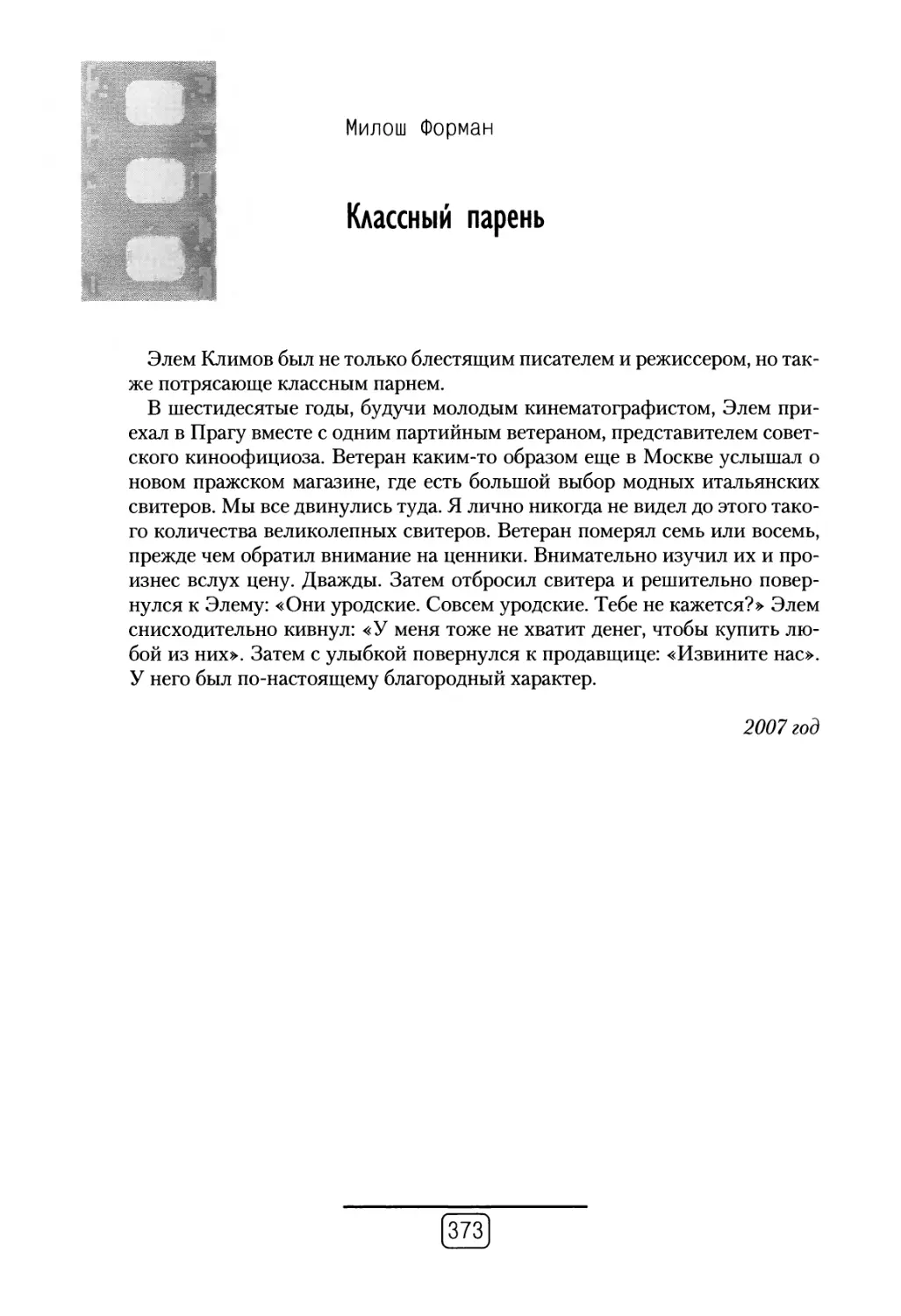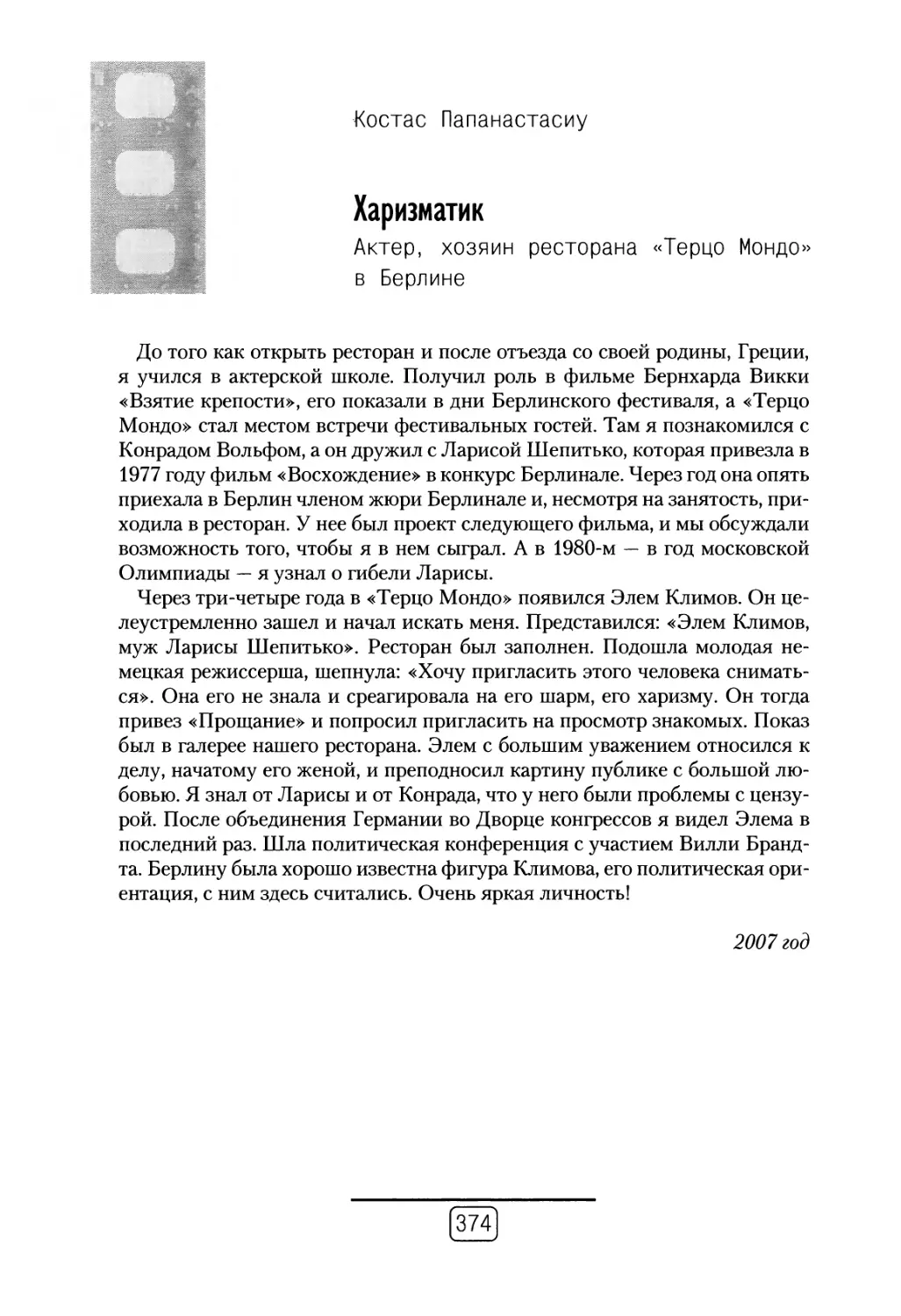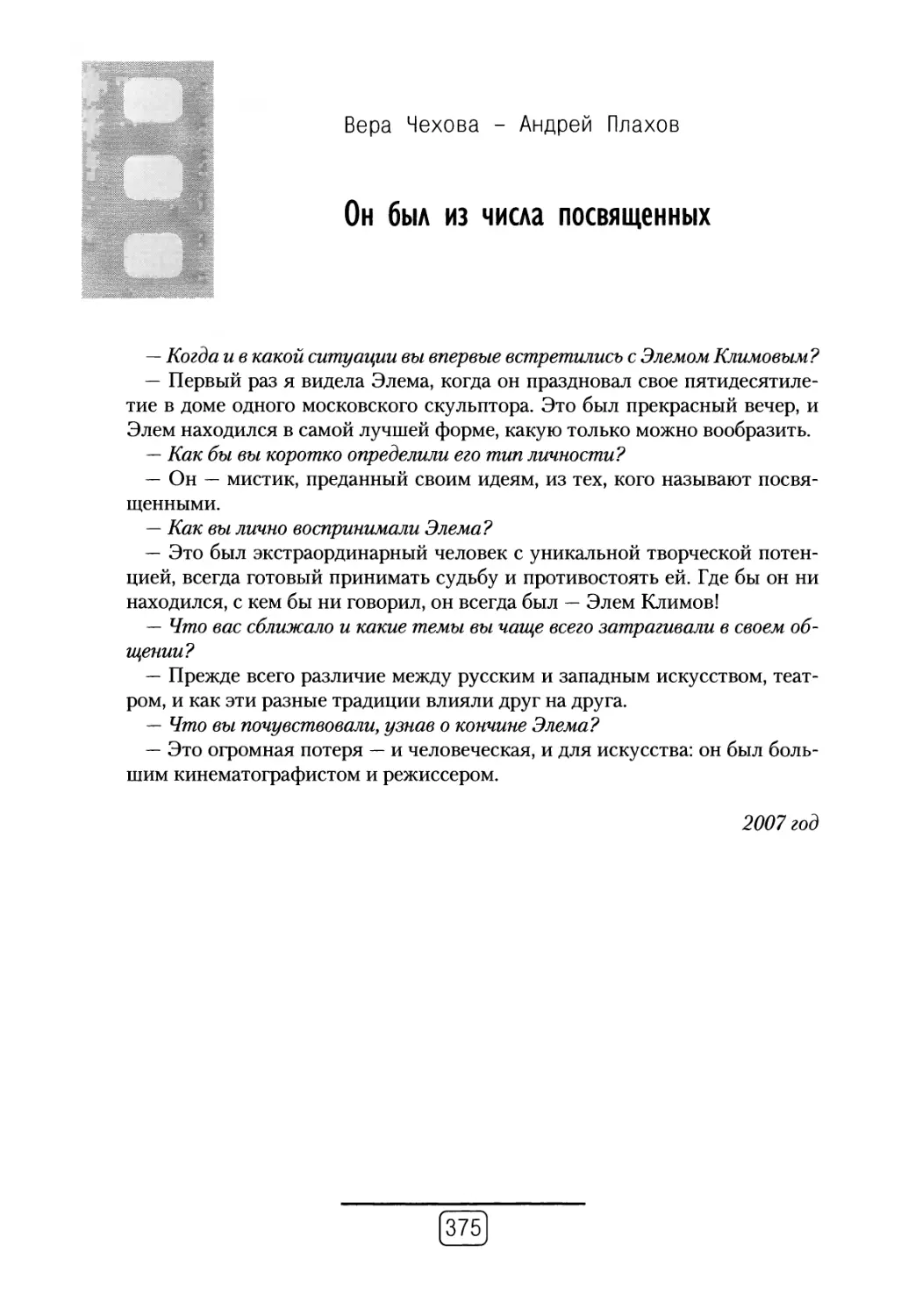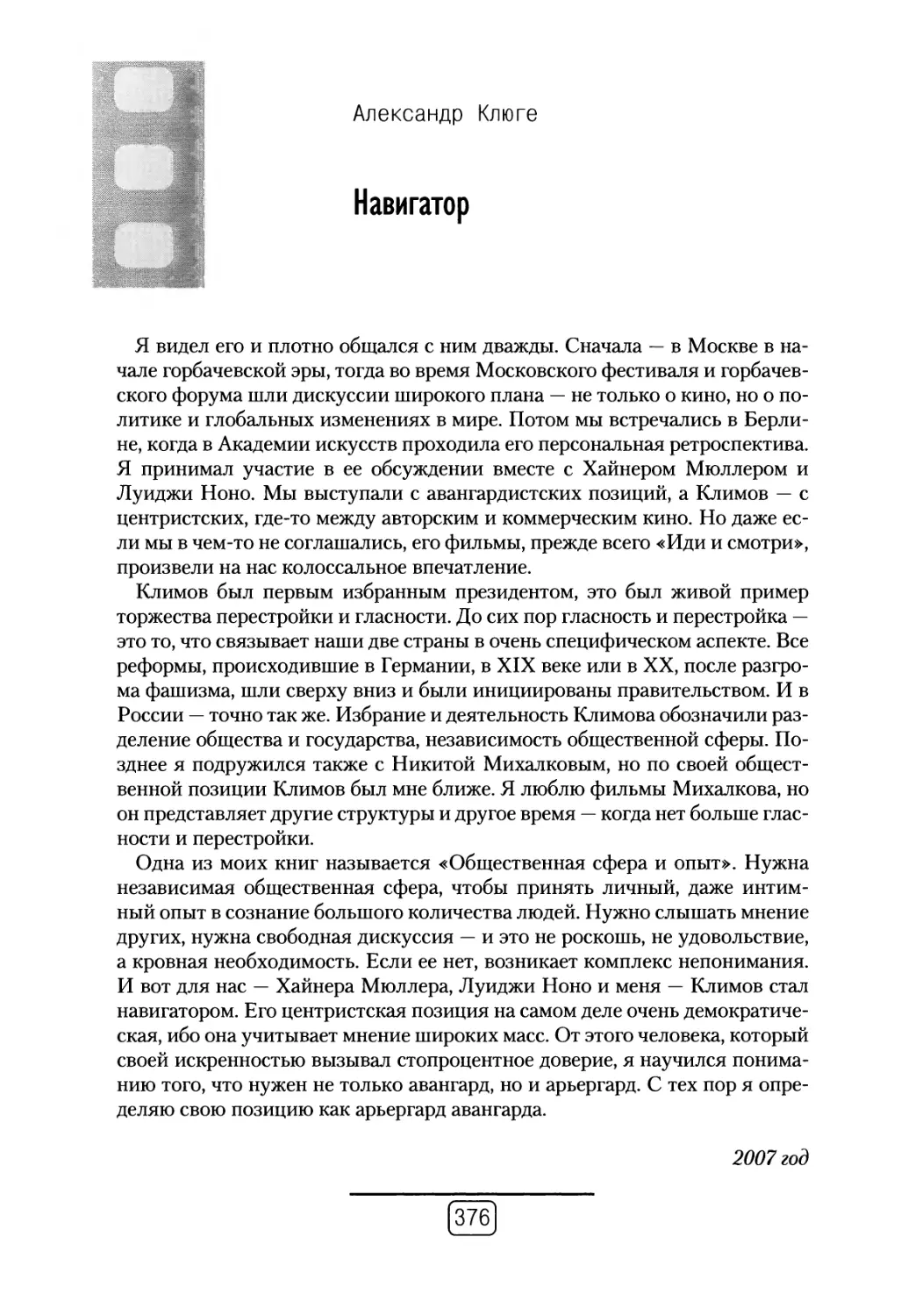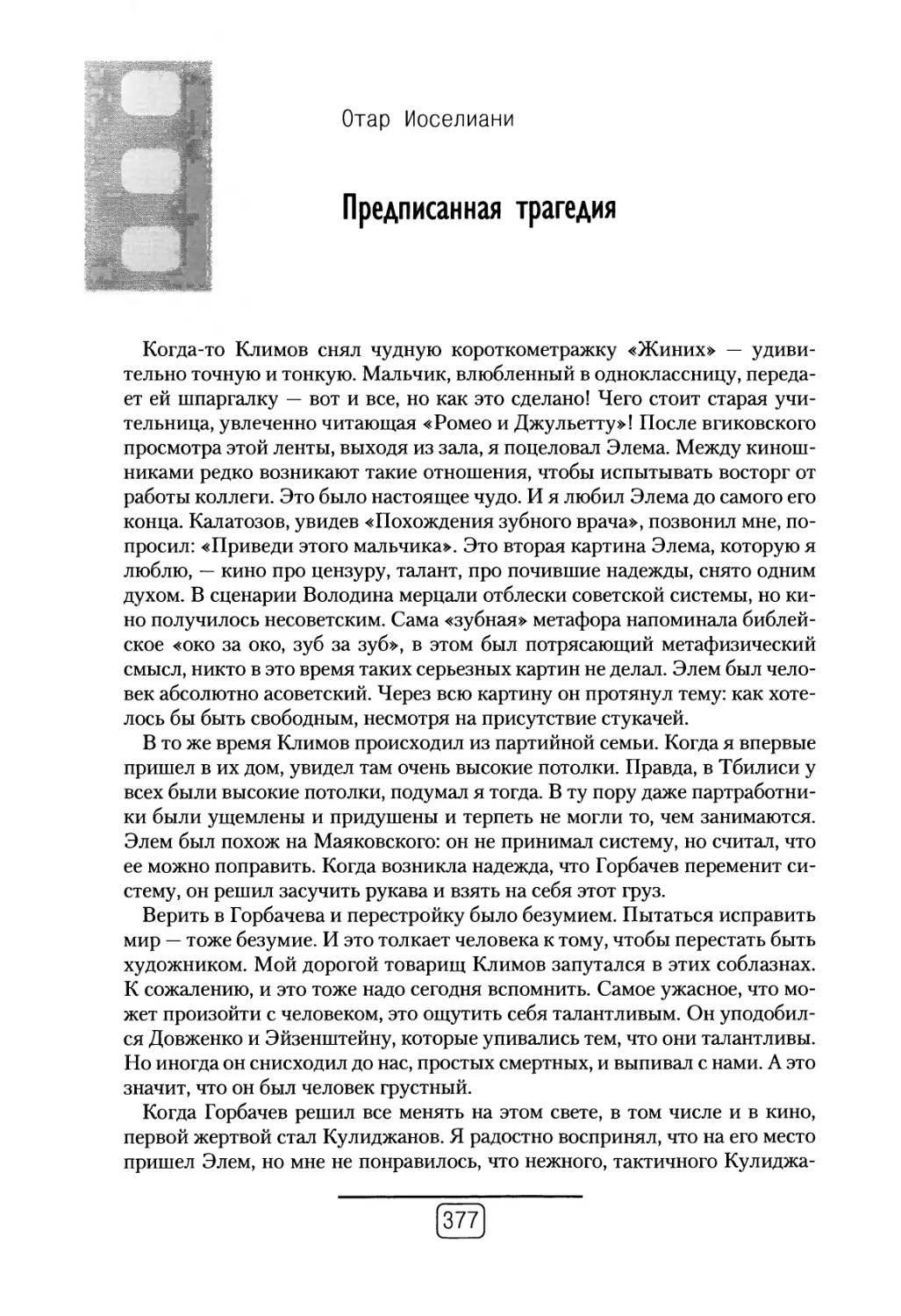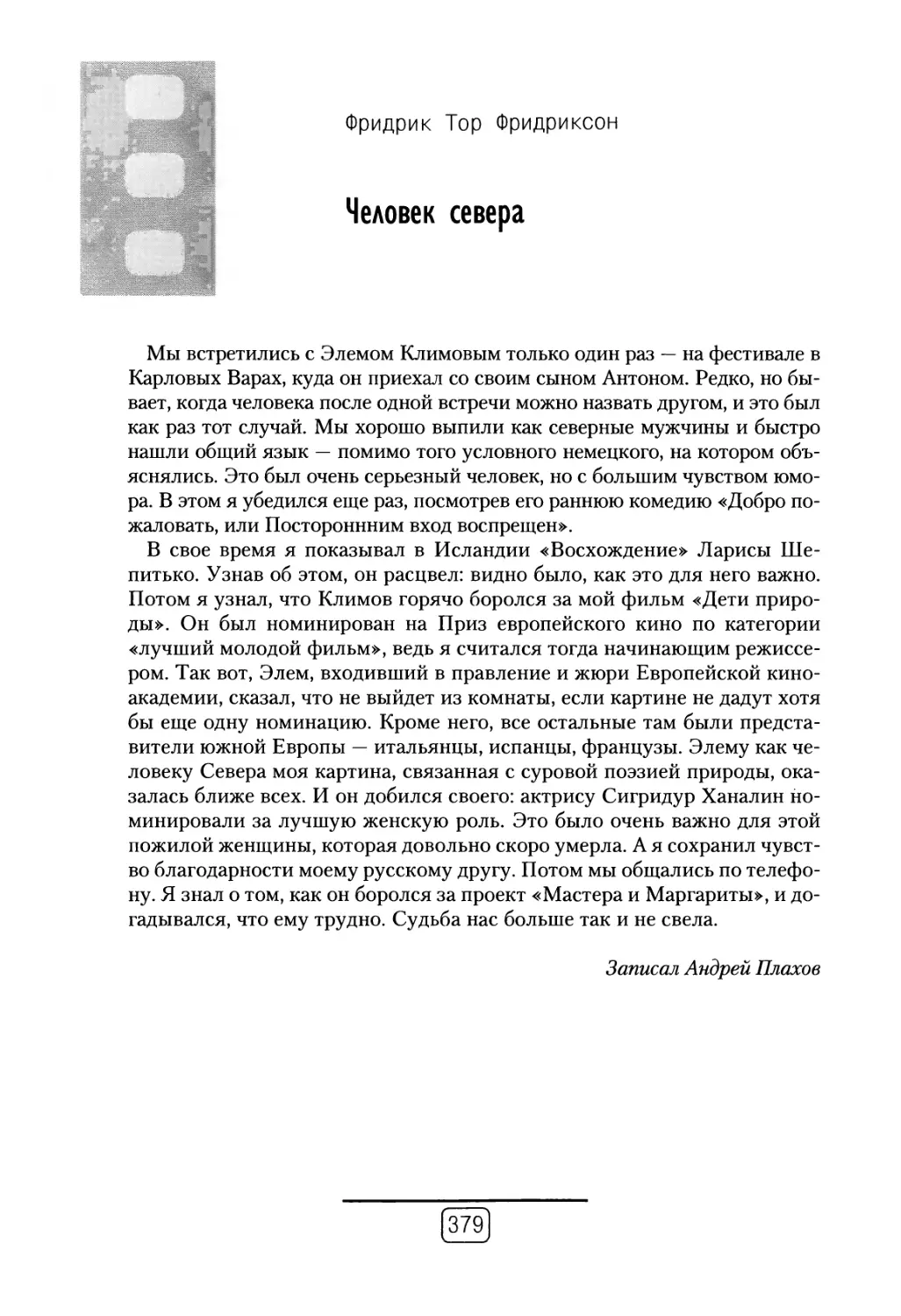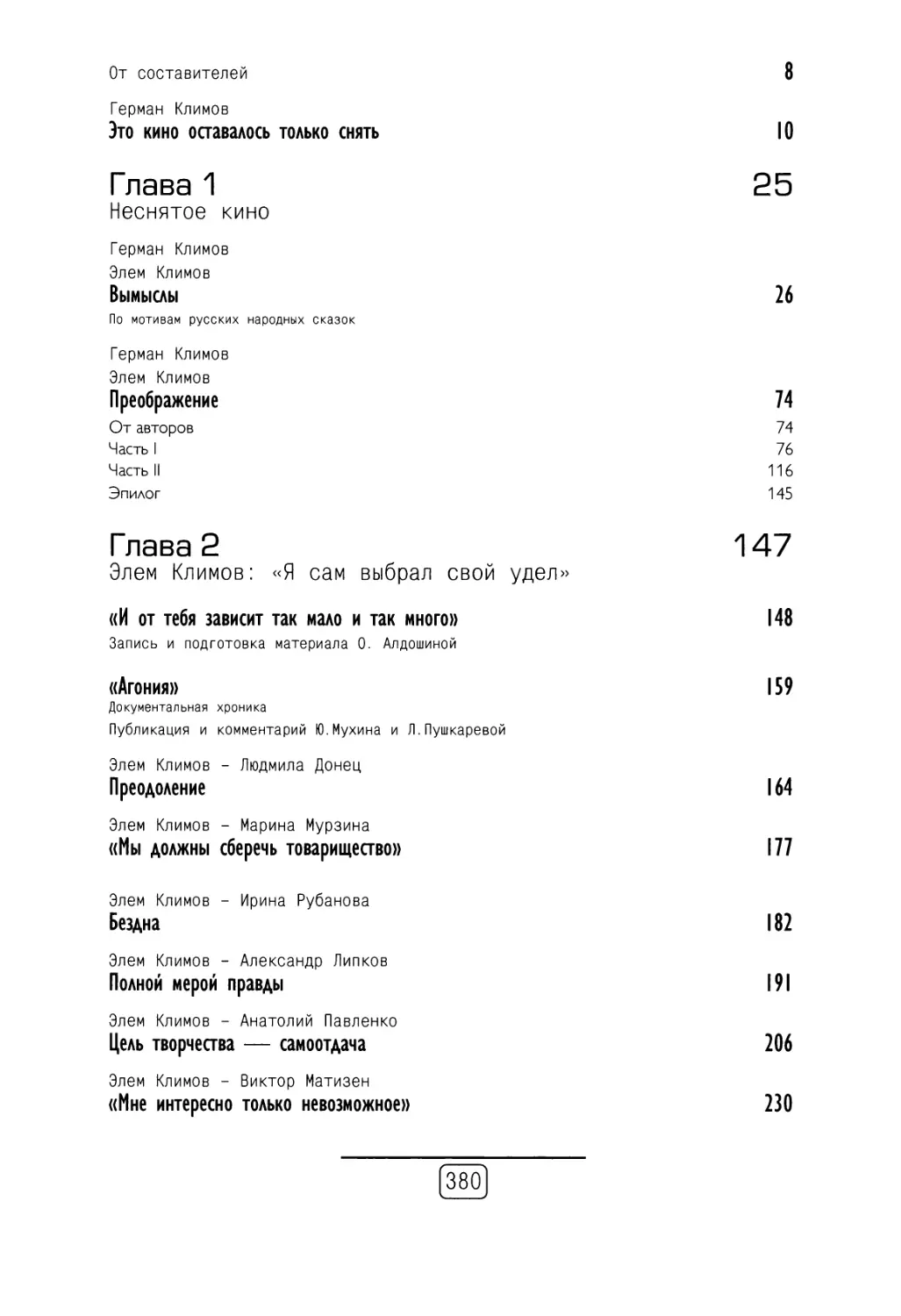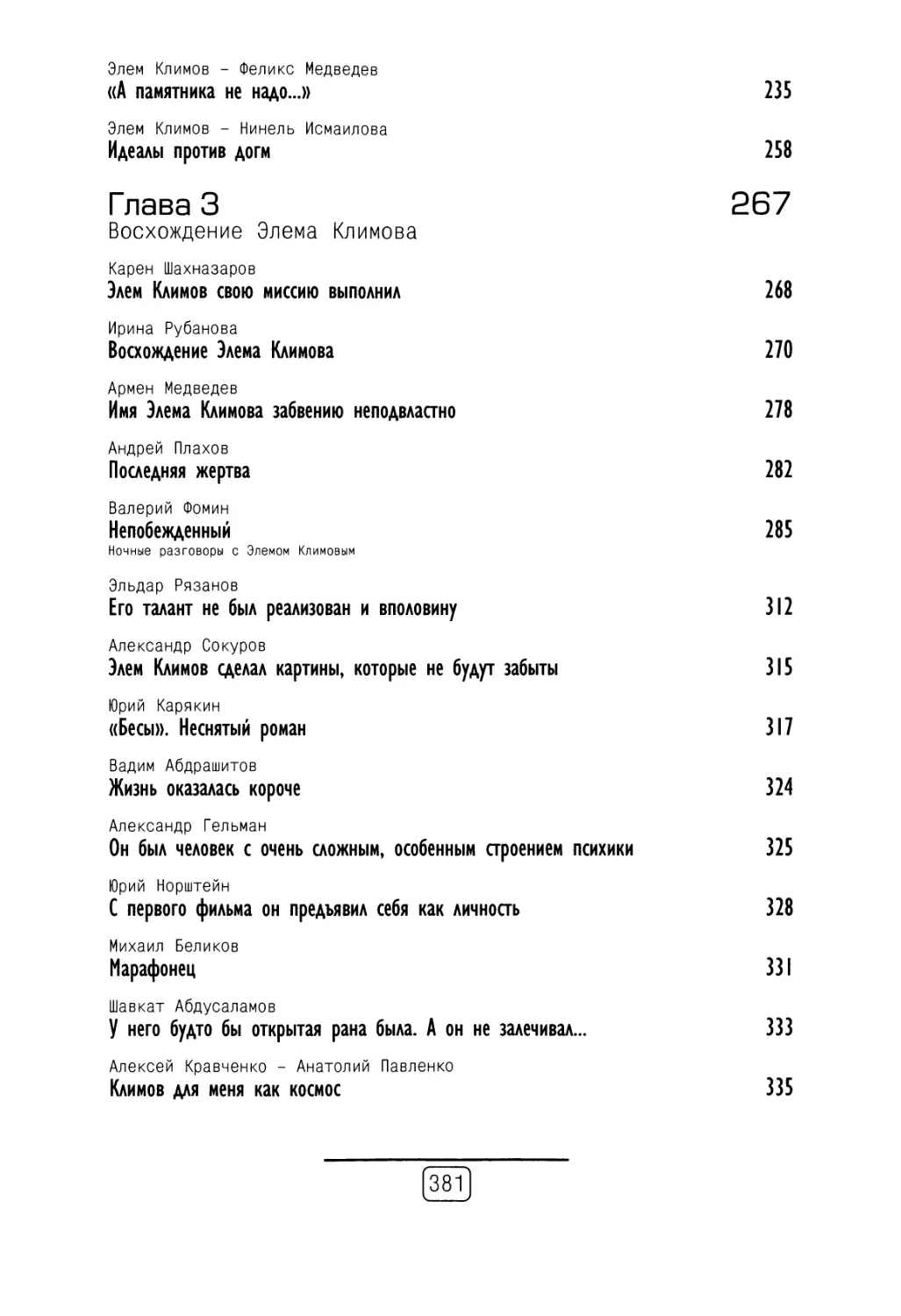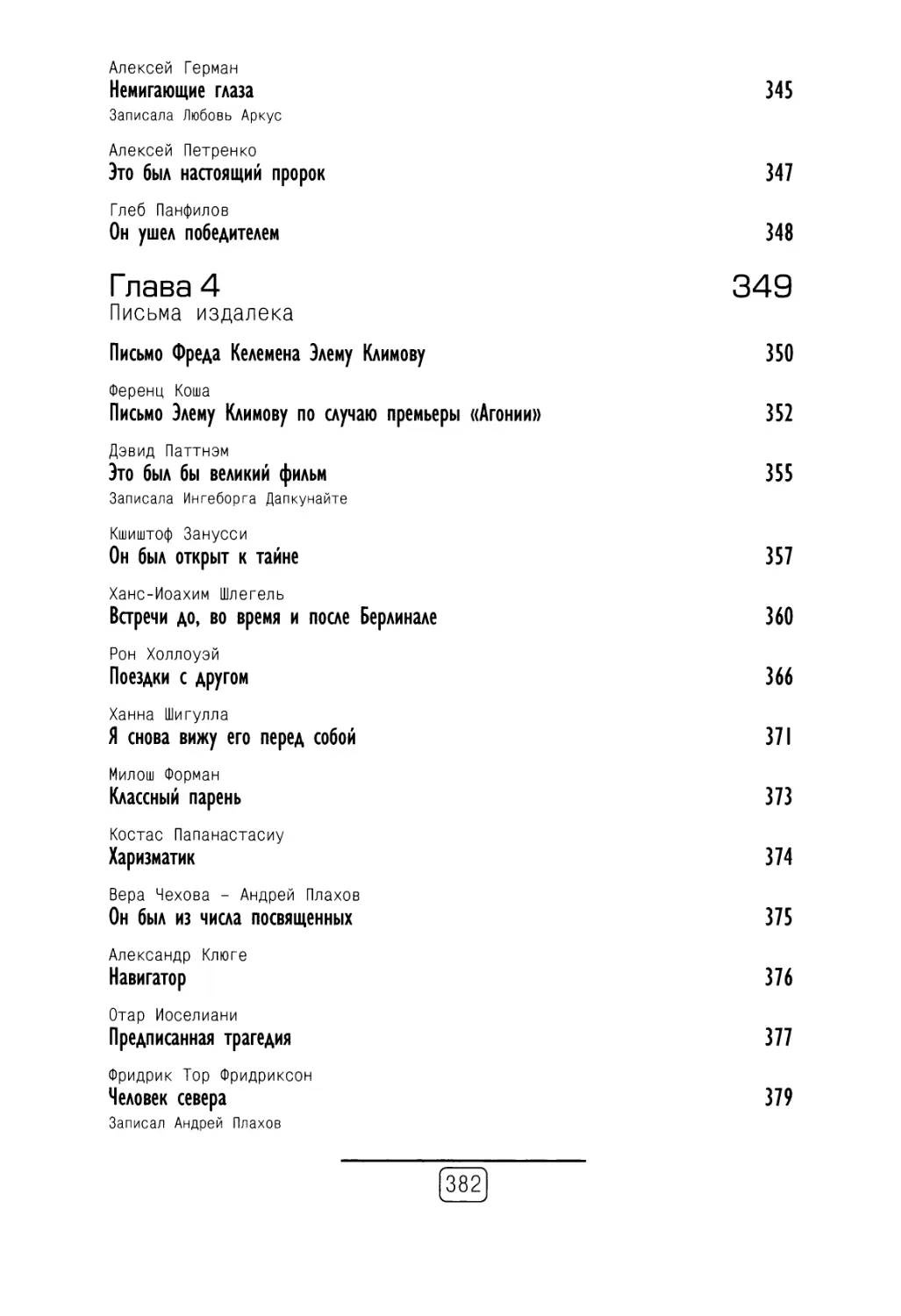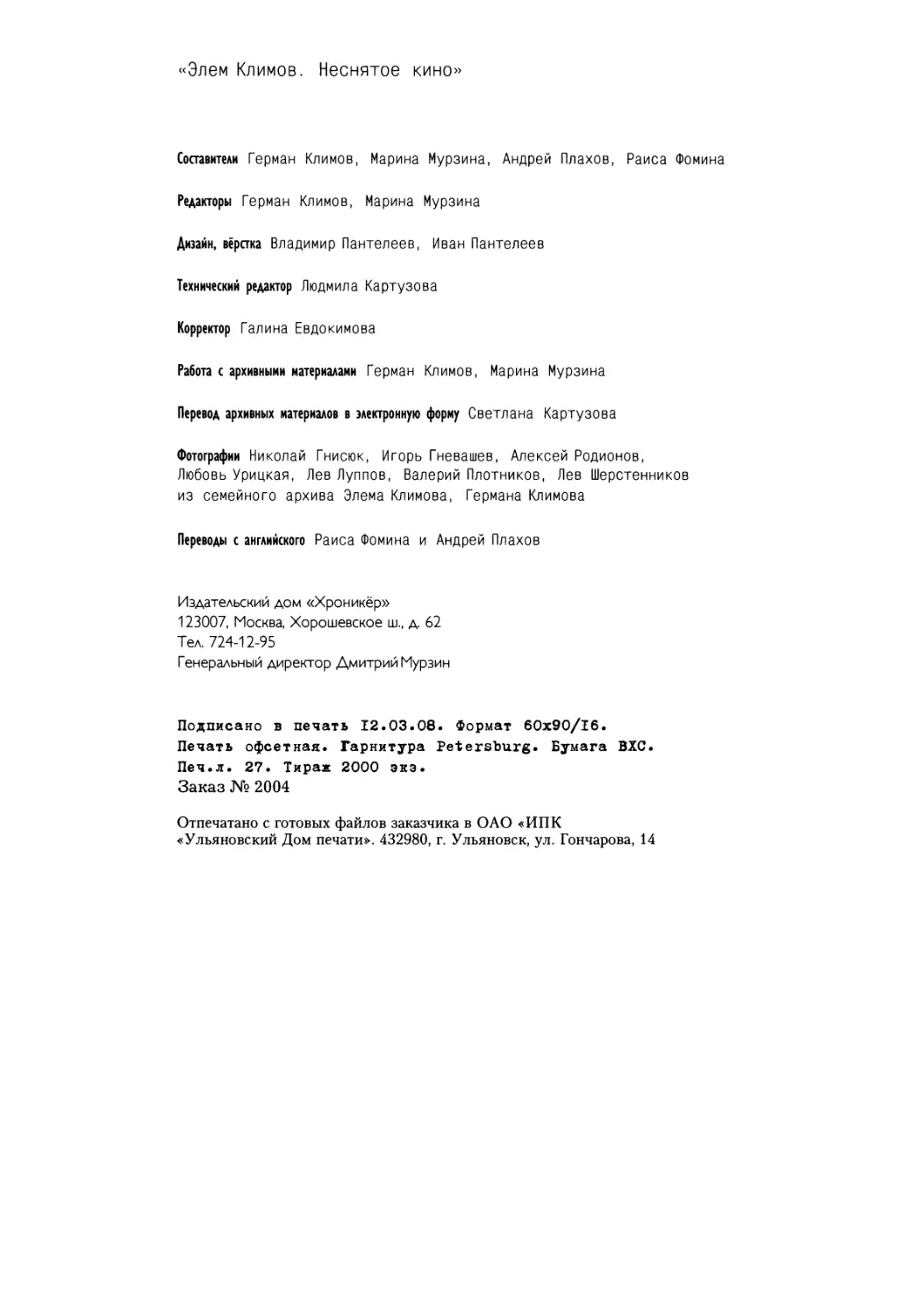Автор: Климов Э.
Теги: история киноискусства художественная литература
ISBN: 978-5-901238-52-3
Год: 2008
Текст
Москва 2008
ББК 85.373(2)
Э 45
Издательство и составители книги выражают искреннюю признатель¬
ность лично Карену Шахназарову, Ирине Рубановой, Антону Климову,
Михаэлю Гайсмайеру и компании «Интерсинема» за помощь, понима¬
ние и поддержку, без чего эта книга не могла бы состояться.
Э 45 Элем Климов. Неснятое кино. — М.: Издательский дом «Хроникёр», 2008. — 384 с.
ISBN 978-5-901238-52-3
Этот сборник - первый опыт издания, посвящённого памяти, творчеству,
личности выдающегося мастера кинематографа XX века Элема Германови¬
ча Климова (1933-2003 гг.). В сборнике — два непоставленных им сценария,
наиболее значительные интервью с ним периода 80-х гг. XX в., 2000-х гг.,
очерки его творчества, воспоминания-оценки его коллег, критиков, актё¬
ров, режиссёров — отечественных и зарубежных: А. Сокурова, В. Абдра¬
шитова, А. Германа, К. Шахназарова, М. Формана, X. Шигуллы, Г. Панфи¬
лова, А. Гельмана, А. Медведева, Э. Рязанова, О. Иоселиани, И. Рубано¬
вой, А. Плахова и других. В сборнике много фотоматериалов из личного
архива Э. Г. Климова, в основном публикующихся впервые.
ISBN 978-5-901238-52-3
© Издательский дом «Хроникёр», 2008
© Пантелеев В., Пантелеев И., оформление, 2008
Книга издана
при полной финансовой поддержке
ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»
От составителей
Это книга памяти Элема Климова. Предложения сделать о нём книгу он
получал и при жизни. Отшучивался: не хватает ещё «увековечения себя,
любимого!»
Предполагалось, что этот сборник откроют три сценария неснятых им
фильмов, написанные вместе с Германом Климовым, его братом. Два из
них — «Вымыслы» (1971 г.) и «Преображение» (1982 г.) — печатались в
альманахе «Киносценарии» (1990 г., № 3, № 4, № 5). Режиссёрский сцена¬
рий «Мастер и Маргарита» должен был увидеть свет впервые. Но, к сожа¬
лению, замысел книги не удалось реализовать в полном объёме. Владелец
авторских прав на роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита», внук Елены
Сергеевны, вдовы писателя, С. С. Шиловский, не дал разрешения на пуб¬
ликацию сценария. Сценария, представляющего собой абсолютно самосто¬
ятельное, фантастически оригинальное произведение. Как и задумывал
Элем Германович — “не прямую экранизацию великого романа, а его па¬
раллельную киноверсию, сверхзвуковое кино». Читателям в итоге остаёт¬
ся судить о том, каким мог бы быть этот фильм, по драматической истории
проекта, описанной в других материалах этой книги самим Элемом Герма¬
новичем, близкими ему людьми и коллегами — в интервью с ними, воспо¬
минаниях о нём, в предисловии Германа Климова.
Были у Элема Германовича и другие замыслы — «Измена» по И. Бабелю,
«Сказки Гофмана», «Бесы» Достоевского, «Левша» Лескова, «Пьяные» по
шукшинским рассказам, «Краткий курс» (о Сталине и сталинизме). Но
лишь три состоялись как законченные сценарии. Экранизации их не слу¬
чились по разным причинам — внешним, внутренним, финансовым, идео¬
логическим, цензурным, человеческим. Какими были бы история нашего
кино и его сегодняшний день, если бы возможно было режиссёрам такого
таланта и личностного масштаба реализовать в своё время задуманное?
Остаётся предполагать теперь уже невозможное: «К невозможному летят
наши души», — строка Андрея Платонова, которую любил повторять Кли¬
мов, всегда стремившийся к «вертикали», в противовес «горизонтали».
«Смотрите — небо!» — назвал он ещё студенческий свой фильм.
Суметь «увидеть» за текстом сценария неснятое кино — это дар. И такой
дар обязательно пробудят сценарии, которые вы прочтёте. Они масштабны,
ярко талантливы, неожиданны. За ними — огромный труд, скрупулёзное
знание материала, эпохи, фактуры. Сами пространство и воздух в них — фе¬
номенально киногеничны. В них разгульная вольница фантазии, голово¬
кружительные её полёты, потрясающий юмор, самобытный язык и стиль,
человеческая нежность и философская глубина. И в то же время — лёгкое
дыхание, всегда свойственное истинному в искусстве. В них — светлая,
трагическая, всеохватная, чувственная любовь к России. И к человеку.
Хочется верить, что эта книга явит читателю портрет, образ Элема Кли¬
мова — художника уникально мощного дара, поразительно современного
сегодня. Портрет личности, необходимой как воплощение серьёзного, вы¬
сокого, чистого служения профессии. Служения Искусству Кино, пони¬
маемого им как исключительная миссия, громадная ответственность, не-
прекращающаяся глубинная духовная работа. А не «целлулоид», не «лу-
дёж» (от слова «лудить» фильмы) — то, что Климов категорически не при¬
нимал. Он был искренним, настоящим, свято, по-юношески, всю жизнь
веруя: «нельзя снимать фильм, если он — не то главное, что ты хочешь ска¬
зать людям».
Марина МУРЗИНА
Герман Климов
Это кино оставалось только снять
«Я хочу снять фильм о любви. Обо всем снимал, а вот о любви — нет».
Это тема наших последних с Элемом разговоров. Она то вспыхивала, то
угасала, но неизбежно возникала вновь. Речь шла о нашем давнем сцена¬
рии «Вымыслы» — вольной фантазии по мотивам русского фольклора.
Элем понимал, конечно, что это огромная трудоемкая работа, которая
потребует если не богатырского, то достаточного здоровья, которого, увы,
уже не было. Но он жил этой идеей, считал, что сценарий надо кардиналь¬
но переделать, усложнить, наполнить глубинным содержанием. Я возра¬
жал, говорил, что прелесть вещи как раз в ее простодушии и наивности. Да,
соглашался он, все это надо сохранить, все изменения должны произойти
от какого-то внутреннего объема, иногда на подсознательном уровне: неяв¬
ные звуки, музыка, незаметные сдвиги в изображении, странное для нас,
сегодняшних, поведение персонажей, одушевленная, как бы говорящая
природа, смещение привычных параметров, обыденность необычного и,
как следствие, переселение в иную реальность.
«Понимаешь, — говорил он, — прошло много лет, мы изменились, у нас
новое сознание, изменилось кино». Мы всегда понимали друг друга с полу¬
слова. И оба задумались, как это сделать в сценарной записи. Вопрос так и
остался открытым. Вот некоторые из последних заметок в дневнике Элема:
«Этот фильм должен быть только «не кином». Кино, сделанное не по зако¬
нам кино. Как переменить всю систему координат? Как переселиться в
иную реальность?
«Все, что есть жизнь, асимметрично, все, что симметрично, неживое»
(Луи Пастер).
Чувственное восприятие всего.
Гипертрофированные солнце, луна, звезды.
Все как бы к нам приближено.
Животные, насекомые и птицы — тоже.
Как птички утром поют — из клювиков вырывается пар.
ДНК — музыка.
Узнать, как звучат растения.
Через Ивана увидеть мир, который нам в обыденной жизни увидеть не
дано.
Вернуться к «космическому» восприятию жизни бытовой.
Что у Марфы осталось от птицы? Вторая натура.
Она не просто чудесная девушка — она существо. В ней заключен полет.
Их дети — птичье начало чувствуется. В глазах, во взглядах, в порывах.
Фильм немыслимой красоты. И ежесекундной искренности.
Фильм — объяснение в любви. Природе — сущему.
Чем ближе к краю земли, тем слабее гравитация. Его ветром сдуло, он
мелко-мелко хлопочет ручками, но в этот момент видит главное: земля на
китах с их фонтанами, от которых поднимаются облака водяной пыли, па¬
ра. От этого и дожди, и грозы, гейзеры. Попробовал — обжегся, язык рас¬
пух очень сильно, высунулся.
Повернулся кит — землетрясение.
Все «изо» обработать незаметно на компьютере (сдвиг по фазе).
Не между строк, а между букв. Хулиганить на каждом шагу — это стиль.
На каждом сантиметре все должно быть неожиданно. Даже для себя. Тог¬
да и всем будет интересно.
Не подавать сладостно любимый народ.
Восстановление русского языка.
Гигантское дерево, населенное мириадом птиц.
«Сказка — это самое главное, что должно сегодня появиться на нашем эк¬
ране» — Леша Родионов. (Оператор фильмов «Прощание», «Иди и смот¬
ри» — Г.К.)
Иван и Марфа — единочеловек! Как?
Как использовать этот фильм — как возможность жизнь начать сначала.
Л.Оболенскому явился в камере Христос. Л.Л. спросил: «Что мне делать?»
И.Х.: «Исполнить себя».
Я прошу при прочтении сценария помнить эти записи.
А начиналось все так. На фестивале спортивных фильмов в Риге в янва¬
ре 1970 года, который мы выиграли с фильмом «Спорт, спорт, спорт», я
предложил брату сделать фильм по русским сказкам. Но не такой, какие
снимались прежде, не фанерный, а взаправдашний, как будто все это так и
происходило. Элем мгновенно зажегся. Я думаю, потому так мгновенно,
что его привлекла задача сделать что-то новое и невероятное, эксперимен¬
тальное по своей сути. К тому же только что триумфом закончился преды¬
дущий эксперимент.
Мы приехали в Москву и тут же окунулись в работу. Работа эта началась
с самого глубокого погружения в материал. Так бывало всегда: надо было
погрузиться в этот мир, жить там, иногда выныривая на поверхность.
Мы прочитали всего Афанасьева, Даля, Ключевского, сказки и сказания
всех губерний, былины и песни, заговоры и причеты, пословицы и поговор¬
ки, исследовали быт и праздники, строения жилищ и костюмы, повадки
всевозможной нечисти.
К тому времени я уже окончил Высшие сценарные курсы («Спорт, спорт,
спорт» — мой диплом), но продолжал изредка тренироваться, скорее по
инерции.
Каково же было всеобщее удивление, и прежде всего мое, когда в июле
того же 1970-го я едва не выигрываю первенство СССР по прыжкам в дли¬
ну: мы со Скибенко из Ростова-на-Дону прыгнули по 7 м 86 см, но по вто¬
рой лучшей попытке победа досталась ему. Дело было в Минске, куда на
следующий день прибыл Элем со «Спортом». В минском Доме кино состо¬
ялась первая официальная премьера фильма, на которую я пригласил всю
сборную команду. Первая премьера и последние соревнования — так про¬
изошло мое фактическое прощание со спортом, в котором я просущество¬
вал 14 лет. В Москве мы с Элемом снова погрузились в свой сказочный
мир: читали, встречались с фольклористами, собирателями сказок и песен,
набрасывали план сценария. Я знал все драматические перипетии с «Аго¬
нией» — Элем дважды запускался с ней и дважды его закрывали — все про¬
исходило на моих глазах. Я видел, как он страшно переживал, болел, вхо¬
дил в жуткую депрессию. Но творческий потенциал его был так силен, а са¬
ма натура столь жизнелюбива и оптимистична, что он смог отринуть все и
смело пуститься в авантюру (по сути) со «Спортом», а потом и с «Вымыс¬
лами».
В конце ноября мы поехали в дом отдыха журналистов под Москвой, в
Елино, и засели за работу. Писалось легко и весело. Иногда, правда, тормо¬
зились на простом, казалось бы, месте, впадали, что называется, в ступор,
но все в итоге преодолели, и к Новому, 1971 году сценарий был готов. На¬
зывался он тогда «Морока».
Элем отнес его в творческое объединение писателей и киноработников
«Мосфильма», где царила на самом деле творческая атмосфера. Сценарий
быстро прочли, очень тепло обсудили, заключили договор и дали поправ¬
ки. Кстати, весьма по делу. Мы сели за второй вариант.
Переделки были большие, в значительной мере по нашей инициативе.
25 мая состоялось обсуждение второго варианта сценария. Оно вновь
прошло очень доброжелательно.
1 июня 1971 г.
Сценарно-редакционная коллегия объединения, рассмотрев
II вариант представленного Вами сценария «Вымыслы» («Морока»),
отмечает, что Вами проделана большая работа, в которой были уч¬
тены рекомендации коллегии по первому варианту, в результате
чего сценарий стал лучше.
Коллегия считает, что при внесении небольших поправок
(о которых говорилось на обсуждении 25.05.71 г.), а также при
некотором сокращении сценария, он может быть рекомендован к за¬
пуску в режиссерскую разработку. В настоящее время сценарий пе¬
редан на рассмотрение в Главную редакцию и Генеральную Дирек¬
цию студии.
С уважением, Н. Скуйбина
И.о. главного редактора объединения
Главная редакция студии набросала нам куда больше замечаний, потре¬
бовав к тому же более активной, в классовом смысле, позиции Ивана.
Нельзя же быть таким уж дураком. «Привыкай к этой пыточной камере, —
сказал мне брат, — будем делать только те поправки, которые сами счита¬
ем нужными». Вскоре мы представили третий вариант сценария. И полу¬
чили от Главной редакции студии ответ. Вот выдержки из заключения:
«Центральный образ не претерпел существенных изменений — это
все тот же Иванушка-дурачок, существо, безропотно выдерживающее
все посылаемые ему судьбой и Царем испытания»
«Главная редакция студии считает, что в данном решении сцена¬
рий не может быть принят и включен в производственный план сту¬
дии».
В объединении с большим сожалением договор был расторгнут. Но Элем
не собирался сдаваться. Он так зажегся замыслом, что потребовал от ди¬
ректора «Мосфильма» Н.Т. Сизова провести обсуждение сценария на рас¬
ширенном художественном совете студии.
Совет был бурным, мнения высказывались самые противоположные,
иногда и вовсе дикие. Но к какому-нибудь решению так и не пришли.
Элем продолжал бороться.
7 апреля 1972 г.
Сообщаем Вам, что действие сценарного договора на напи¬
сание литературного сценария «Вымыслы» («Морока»;, расторгну¬
того 31.12.71 г., вновь возобновляется в связи с включением
сценария в производственный план студии на 1973 год.
0. Караев
Директор творческого объединения писателей и киноработников
Мы запустились!
Стали собирать группу, думать об актерах. Роль Матюши — веселого во¬
ра — сразу определили за Владимиром Высоцким, на Ивана пробовался
совсем юный тогда Саша Филиппенко.
В июне мы поехали на выбор натуры. Поехали вчетвером, кроме нас фо¬
тограф Микола Гнисюк, как будущий оператор фильма, и художник Шав¬
кат Абдусаламов (позже художник «Агонии»).
Это было знаменитое жаркое лето 1972 года, когда вся Центральная Рос¬
сия горела. Мы проехали Вологодскую область, затем Архангельскую, Ка¬
релию, Ленинградскую область, Новгородскую. Ночевали где придется —
иногда нас пускали на постой, чаще в спальных мешках. Даже ночи были
жаркие, комариные. Но мы были по-настоящему счастливы: от того, что
находили все, что искали, и от вольного единения с природой. Особенно
поразила нас Вологодчина - добрыми, улыбчивыми, сокровенными людь¬
ми — это были готовые наши герои, они, казалось, даже жили в нужном нам
времени. Многие из них даже из деревень своих никуда и никогда не выез¬
жали. Веками сохранившийся патриархальный быт, поразительная рус¬
ская природа.
Через месяц возвращались в Москву, которая едва видна была из-за ды¬
ма. Возвращались вдохновленные, полные сил.
Передаю слово Элему.
«Но особенно мне жалко несостоявшийся фильм «Вымыслы» по моти¬
вам русских народных сказок. Веселый, озорной, с массой каких-то забав¬
ных придумок. Там все было: и юмор, и сатира, и лирические образы, мно¬
го жуткого, страшного. Были очень яркие характеры: Иван-дурак, Царь, а
главная тема была, как власть народ дурачит. Я на этой работе завелся, на¬
фантазировал, наверное, столько, что в жизни больше столько не приду¬
мывал. И все у нас там было, чтобы сделать настоящий, зрелищный
фильм. А по сути, очень серьезный фильм о Руси. Не случайно действие у
нас начиналось в традиционном сказочном духе — весело и лихо, а потом
перерастало в другое измерение - горькое и печальное. К этому и цепля¬
лись: «Русская сказка веселая, а вы мрачность нагоняете», «Русский народ
показан диким и темным» и т.д.
С боями пробились в запуск. Мне удалось собрать прекрасную группу
(оператором фильма должен был быть фотограф Микола Гнисюк), и мы
уехали на выбор натуры. Исколесили весь Русский Север. Столько увиде¬
ли всякой красотищи, столько открыли для себя, столько узнали! А какие
места нашли! Я после этой поездки уже просто пылал. Можно было начи¬
нать съемки. Но вот тут-то, на самом взлете, нас и подстерегли...
Тогда в Малом Гнездниковском произошли крупные перемены.
Комитет по кинематографии получил наименование Госкино СССР, а в
кресле главного киноначальника вместо дедушки Романова оказался энер¬
гичный и поначалу еще не напуганный до смерти Филипп Ермаш. Вот он¬
то и притормозил нашу работу над «Вымыслами» весьма неожиданным
предложением: «Элем, какие «Вымыслы», какие сказки! Брось эту ерунду.
Я новый министр. У меня есть полтора года — давай запускайся со своей
«Агонией»... А я так долго бился за «Агонию» и, уже дважды успев побы¬
вать с ней в запуске, так ею заболел, что не смог отказаться от неожиданно¬
го предложения Ермаша.
Эта рокировка впоследствии кончилась двумя бедами сразу. В 1975-м
«Агония» оказалась на «полке». А после такой «осечки» меня уж тем более
не могли подпустить к временно отложенным «Вымыслам»...
Из интервью Валерию Фомину. «Кинофорум», январь 2004 года
После «Агонии» мы еще не раз возвращались к «Вымыслам», что-то изме¬
няли, дописывали, появлялся какой-то новый взгляд на замысел. Менялись
и мы сами. И, увы, признались себе, что стали терять остроту, не интереса,
нет, скорее восприятия вещи. Надо было еще отложить, забыть на время.
Я написал для «Мосфильма» «Тактику бега на длинную дистанцию» и для
Рижской студии «Мужские игры на свежем воздухе». Оба фильма были сня¬
ты, неснятым оказался сценарий про современного Маугли, который я напи¬
сал для Михаила Ильенко. Еще была анонимная работа на «Беларусьфиль-
ме». Оттуда я привез по просьбе главного редактора «Беларусьфильма» Ва¬
лентины Дмитриевны Булавиной - специально для Элема — книгу Алеся
Адамовича «Хатынская повесть». Началась новая драматическая эпопея в
жизни Элема. Совместно с Алесем Адамовичем был написан сценарий
«Убейте Гитлера». Замечательный сценарий. Дело дошло до запуска, была
сформирована группа, шли актерские пробы. Но тут в Минск приехала кара¬
тельная команда из Госкино, и фильм на самом его взлете прикрыли. Элем
тяжело пережил это: у него был нервный срыв, он весь покрылся язвами, с
трудом ходил с палочкой. Но выстоял. Он безумно хотел творить, работать.
Хочу привести еще один отрывок из того же интервью Валерию Фомину.
«После запрета «Агонии» и катастрофы с запуском фильма «Убейте Гит¬
лера» Климов просто уперся в глухую стену и, пребывая в состоянии край¬
него отчаяния, в качестве ближайшего проекта выбирает экранизацию...
«Бесов» Достоевского. По тем временам и по той ситуации, в какой он тог¬
да оказался, это был, конечно, самый безнадежный вариант. Тем не менее,
не оглядываясь ни на кого и ни на что, он начал работать...
«Я приехал тогда к Юрию Карякину, мы с ним давно дружили. Говорю:
«Давай «Бесов» делать...» Оказалось, что я не первый к нему с таким пред¬
ложением пожаловал. Еще раньше о том же просил Жалакявичюс. Каря¬
кин меня спрашивает: «Ты мне скажи, из-за чего ты собираешься делать
эту вещь?» Я говорю: «Из-за Ставрогина». — «О, тогда я с тобой...»
Мы поехали в Малеевку, засели за работу. Начали читать всего Достоев¬
ского, размышлять, набрасывать сценарий. Возможно, это и помогло мне
тогда как-то подняться, распрямиться после всего, что произошло. Работа¬
ли с таким упоением! Я погрузился в такую пучину — прекрасную, страш¬
ную, завораживающую...
Мы выработали конкретный план сценария, написали заявку. Наш про¬
ект — не боюсь этого сказать — был уникальным. И сам фильм, и работа над
ним должны были идти необычным путем. У нас предполагался открытый
финал, мы не могли его заранее угадать и записать. Финал должен был ро¬
диться в результате параллельной работы двух групп — съемочного кол¬
лектива и научной лаборатории по изучению человека, неразгаданных тайн
его психики. Дело в том, что мы собирались привлечь к работе над карти¬
ной специальную группу профессиональных психологов и гипнологов с
тем, чтобы исследовать сложнейшие психологические состояния человека.
Но разве могли в Госкино запустить сценарий, финал которого заранее
не известен?
Вот в это и уперлись. Хотя на этот раз мы постарались не раскрывать все
свои карты, обложили заявку ватой и навели должный камуфляж. Но и вся
эта конспирация нам нисколько не помогла. Нас забодали еще на дальних
подступах.
Мы не сразу сдались. Ходили, кланялись в ЦК, пытались сделать сво¬
им союзником Загладина. Водили хороводы вокруг Феликса Кузнецова:
«Ну, помоги!» И чего только еще не предпринимали! И все нам говорили:
«Да-да-да... Интереснейший проект... Надо пробивать!» Но никто не по¬
мог. И безнадега была полная...
Заворачивали меня тогда со всем подряд. Наверное, если бы однажды
предстал пред светлые очи начальства со сценарием по легендарной «Ма¬
лой земле», то результат был бы тот же, что и с «Бесами» и со всем осталь¬
ным...
Потом последовала еще одна безнадежная затея: с Виктором Мережко
мы написали сценарий «Пьяные» по незаконченной повести Василия
Шукшина «А поутру они проснулись...» Все действие там происходило в
вытрезвителе, который как бы не имел никаких границ. Такой всесоюзный
вытрезвитель. В одной из ролей должен был сниматься Владимир Высоц¬
кий. Сценарий получился жестким, страшноватым, но в то же время и
очень смешным. Мы хотели сделать фильм с любовью к этим несчастным
людям, к России.
Мне очень нравился там финал. Зима. Раннее утро. Герои наши выходят
из вытрезвителя. Мы видим, как их встречают. Кого — мать, кого — жена,
кого — верные дружки. А компания настоящих «профессионалов» сразу
же направляется к ближайшему гастроному. И тихо-тихо идет снег — чис¬
тый, пушистый. А за кадром поют «Шумел камыш». Но по-настоящему
красиво...
Когда-то у меня во ВГИКе была курсовая работа — такой небольшой
этюд о снеге. Как он падает чистый-чистый, как потом его топчут ногами,
потом убирают машинами, сбрасывают в Москва-реку. А кончалось все
тем, что на серых грязных кучах, что плывут по реке, сидели вороны — та¬
кое вот кладбище снега. И я решил, что, может быть, повторю в финале
«Пьяных» этот этюд под «Шумел камыш».
Лариса тогда прочитала сценарий, говорит: «Ребята, спрячьте это по¬
дальше, чтобы никто не видел...»
Конечно, когда понесли этот сценарий в Госкино, его завернули в одно¬
часье...»
В конце 1978 года мы с Элемом окунулись в мир космоса: начали просто
для заработка писать сценарий экспозиции Музея космонавтики (что под
памятником-«стрелой» на ВДНХ), потом увлеклись, сделали текст стра¬
ниц в восемьдесят, изучив о космосе все возможное, отдали музею.
А вскоре случилась самая страшная трагедия в жизни Элема — гибель
Ларисы.
Это, конечно, особая тема, требующая отдельного рассказа.
С этого страшного дня мы уже больше не расставались. Через две неде¬
ли мы выехали на Селигер, на съемки «Прощания». Элему надо было ра¬
ботать с актерами, выбранными близким человеком, но все же другим ре¬
жиссером, неизбежно переделывать сценарий под себя, на ходу. Мы при¬
езжали со съемок, полночи писали следующую сцену, а утром ехали ее
снимать.
В том трагичном году Элем успел снять только полфильма. Зимой, уже
без спешки, мы написали вторую серию, сделали фильм «Лариса». Рабо¬
та над «Прощанием» продолжилась в павильонах «Мосфильма» и летом
80-го года под Красноярском.
Фильм получился горьким, выворачивающим душу, мы понимали, что
его не ждет счастливая прокатная судьба. Хотя за рубежом, особенно в Гер¬
мании, он прошел очень хорошо.
Едва фильм был закончен, как нам тотчас предложили новую работу. Да,
именно предложили, впервые в жизни, заказали.
Богатый немецкий нефтепромышленник Рудольф Кренинг в знак благо¬
дарности нашей стране за успешный бизнес решил пожертвовать очень
значительную сумму на фильм о немцах и России, что-то положительное
(не все же воевали), скорее всего, историческое.
Кто-то срочно написал либретто из екатерининских времен о путешест¬
вии богатого немца по Сибири: медведи, водка, икра, любовь к красавице-
туземке и прочие удовольствия.
Заказчика это не вдохновило и он, вникнув в наш кинопроцесс, остано¬
вил свой выбор на Элеме Климове.
Мы встретились с ним у Альфреда Шнитке, который должен был быть
композитором картины (со Шнитке Элем работал на фильмах «Спорт,
спорт, спорт» и «Агония»). Альфред в честь знакомства устроил замеча¬
тельный обед, на котором мы выслушали пожелания немецкого товарища,
и стали думать над замыслом фильма.
Как раз незадолго до этого я прочел в «Новом мире» рассказ С. Наровча¬
това «Абсолют», который был построен на реальном случае, описанном в
воспоминаниях графа де Сегюра, французского посла времен Екатерины.
Анекдот состоял в том, что, не поняв распоряжения государыни, будто бы
повелевшей сделать из одного немецкого банкира чучело, высшие чинов¬
ники взялись исполнять его самым ретивым образом.
Элему эта история очень понравилась, он развеселился: вот вздрогнет
наш немец от этой «дружбы». А что, давай!
И мы нырнули в XVIII век.
Мы прочли все, что могли достать про эту эпоху, одалживали антиквар¬
ные книги у знакомых, очень помог Андрей Голицын.
Попутно фантазировали, выстраивали план сценария. Потом через год, зи¬
мой поехали отдыхать в Эстонию, но вместо отдыха вдруг сели и начали пи¬
сать. К концу «отдыха», через 20 дней, была готова первая серия, потом в Моск¬
ве спустя месяц — вторая. Никогда, ни раньше, ни потом, не работалось так не¬
принужденно и весело. Безо всяких там заявок, синопсисов и согласований.
Перевели сценарий на немецкий язык. Вопреки нашим опасениям сцена¬
рий г-ну Кренингу понравился очень. И это при том, что из нашего героя-
немца едва на самом деле не набили чучело, низвели его как личность до
нуля, а потом из этого нуля превратили в русского.
Элема, с его страстью к постижению человеческих глубин, необычайно
волновал этот образ, мы говорили с психологами и психиатрами, думали
об актере, который смог бы быть и западным человеком, и русским. Джон
Войт нам казался подходящей кандидатурой.
Понимая к тому времени, что все, что касается его персоны, решается на
самом верху, Элем отнес сценарий директору «Мосфильма» Н. Т. Сизову и
министру Ф. Т. Ермашу.
Сизову «Преображение» понравилось: «Прямо роман. Прочел одним духом».
А вот к Ермашу Элем ходил семь раз.
Из интервью Элема:
«Потащили «Преображение» в Госкино. Ермаш прочитал. «Ну ладно.
Первую серию делайте, а вторую не надо». А вторая часть действительно
могла показаться как бы отдельной, самостоятельной. Там от локальной,
конкретной истории мы уже переходили в другое измерение: это уже был
рассказ про народ, про Россию-матушку. Давался как бы срез российской
жизни — разных слоев, нравов, характеров.
Ермашу все это не понравилось: «Дико... Страшно... Жутко... Там, на
Западе, не разберутся, когда это происходит. Еще подумают, что сего¬
дня...» — «Как это? Не поймут, что XVIII век?» — «А кто их знает...»
Уже не было Ларисы, которая раньше после таких начальственных
«ласк» спасала, выхаживала, помогала. Жить становилось уже невмоготу».
Наш друг Норберт Кухинке, корреспондент журнала «Штерн» в Москве
(он принимал активное участие в судьбе фильма) говорил нам: «Ну что вы
мучаетесь со своим Госкино! Ну, пусть будет немецкий фильм. Все равно
он будет русский. Все же все понимают. Разве можно упускать такой слу¬
чай сделать то, что хотите?»
Но нам тогда такой расклад казался даже не обсуждаемым.
Такой же безнадежной представлялась ситуация с «Убейте Гитлера».
Александр Михайлович Адамович стоял как скала. Ему предлагали на
выбор режиссеров для «Убейте Гитлера», но он говорил «нет». Разве вы не
понимаете, втолковывали ему, что Климову не дадут это снимать. А он —
нет, только Климов.
И это свершилось, наконец. Не помню уже, что произошло, какие пружи¬
ны сработали, но летним днем 83-го года Элем позвонил мне и сказал, что
сегодня все решится, сейчас они с Адамовичем едут в Госкино, но «Убейте
Гитлера» точно не пройдет, нужно новое название. «Сколько у меня време¬
ни?» — спросил я. «Позвоню, как приедем в Госкино, через 20 минут, поли¬
стай Библию». Так появилось «Иди и смотри», за что я получил от брата
бутылку джина.
Про этот, самый главный, конечно, из осуществленных фильмов Элема
много сказано и написано. Обо всех творческих, идеологических и произ¬
водственных аспектах. Но все, кто участвовал в съемочном процессе или
наблюдал его вблизи, согласятся со мной, что это был еще и человеческий
подвиг. С апреля по ноябрь, без единого выходного, даже в те дни, когда
группа отдыхала, Элем работал. Ситуация усугублялась еще и тем, что
фильм должен был сниматься только последовательно — в своей эволюции
герой Леши Кравченко не мог перепрыгнуть ни одной ступеньки. А это за¬
тягивало процесс, и уже не успеть было снять важнейшие сцены, такие как
круговой бой на горящем болоте, поход Флеры с партизанским отрядом че¬
рез всю Европу в Берлин, для расправы с Гитлером. А значит, надо было
вновь сидеть вечерами и ночами, вносить неизбежные поправки, переос¬
мысливать, перепридумывать, вовлекать в этот процесс оператора, худож¬
ника, актеров. Элем работал упоенно, страстно, не щадя себя. В ноябре,
чтобы создать подобие лета, кололи толстый уже лед на Березине. Батареи
в нашем «отеле» были ледяные — мы их использовали как холодильники,
спали во всей одежде и овчинках. Зато не приходилось одеваться, когда ут¬
ром шли на съемку. К концу Элем так вымотался, что едва держался на но¬
гах, и, казалось, необратимо постарел. А еще предстояло отбирать снятый
материал, монтировать фильм, писать музыку, шумы, озвучивать, сводить
огромное, рекордное количество звуковых дорожек.
Потом, в июле 85-го, был Гран-при Московского кинофестиваля, шум¬
ный мировой успех.
В августе Элем уехал отдыхать в Крым и вернулся оттуда стройным, за¬
горелым, полным сил юношей. Он возродился, словно птица-феникс и, ду¬
маю, был в лучшей своей форме.
Наступил 1986 год, во многом переломный для Элема. В марте мы поеха¬
ли в пансионат на Клязьме, чтобы определиться с дальнейшими планами.
Перечитали «Преображение», «Мастера и Маргариту», «Бесов». Размыш¬
ляли, прикидывали, за что взяться. Там нас настигла весть о смертельной
болезни отца. Помчались в Москву. Отец был в коме, мы едва успели по¬
прощаться с ним.
В мае того же года грянул V съезд кинематографистов, и Элем, как он по¬
том говорил, «попал под поезд». Два года горения, непрерывной, круглосу¬
точной работы. Она бы, думаю, и продолжалась, если бы не сильнейшее от¬
равление: «Гера, я отравился человеческим фактором. Ты не можешь пред¬
ставить, сколько я узнал всего про своих коллег. Чего знать бы не хотел.
Все приходят и друг на друга доносят».
Он взмолился — хочу снимать кино! — и был отпущен на свободу.
Тогда наблюдался всеобщий, острый интерес к закрытым прежде страни¬
цам новейшей отечественной истории. И мы решили делать фильм о Ста¬
лине. Называться он должен был «Краткий курс».
Я переселился к брату, два месяца мы читали, фантазировали, придума¬
ли невероятный, фантасмагорический ход, набросали сценарный план.
Потом еще месяц просматривали в малом зале Киноцентра огромное ко¬
личество архивных киноматериалов. Приглашали на эти просмотры писа¬
телей, философов, вдову Бухарина, Юрия Власова. Элем был одержим
идеей оцветить сталинскую хронику. Обратились к Теду Тернеру, с кото¬
рым Элем тогда дружил. Через него на Дисней-студии нам сделали не¬
сколько пробных роликов оцветки — эффект поразительный.
Летом 88-го ограниченным контингентом в пять человек мы выехали на
Дон — отдохнуть, поработать. Мы рыбачили, бродили по высоким донским
кручам, пытались было работать, но не смогли — поняли, что отравлены и
Сталиным, и его камарильей. Будущий фильм представлялся едким, горь¬
ким, страшным и совсем не смешным. А Элем устал от трагедий, страсть к
веселому озорству бурлила в нем и требовала выхода.
По возвращении в Москву мы провели вдвоем решающий худсовет. На ко¬
ну было два проекта: «Преображение» и «Мастер и Маргарита». Я стоял за
«Преображение» — своя, родная вещь, готовая, деньги еще дают, можно сра¬
зу начинать работать. Элем — за «Мастера». «Понимаешь, — говорил он, —
«Преображение» я уже как бы «снял», а последние годы сильно меня изме¬
нили, появился новый взгляд на мир, бродят новые образы, идеи, к тому же
«Мастера» обязательно кто-то схватит». (Наивности его не было предела.)
Короче, остановились на «Мастере». Пожали друг другу руки и взялись за
работу.
У Элема с «Мастером» была давняя история, с 1967 года, когда роман
был впервые напечатан.
Вот как он сам об этом рассказывал:
«Все началось с «Красной палатки» Калатозова. Продюсером с итальян¬
ской стороны был Франко Кристальди. Он мне сказал: «Феллини увлекся
«Мастером и Маргаритой», хочет его делать, но будет снимать только древ¬
ние главы. Нужно найти советского режиссера на современные. Я видел
ваши фильмы, чувствую — вы смогли бы». У меня волосы дыбом. Фелли¬
ни — мой бог, в монтажной у меня все эти годы фотопортрет висел. Вызы-
вают в Госкино: «Как вы к этому относитесь? — «Страшно работать с Фел¬
лини, но я готов». Когда Кристальди уехал, все рухнуло».
«Известия», 25 мая 2000 года.
Мы сразу определились с тем, что не будем делать фильм буквально по
роману, это будет фантазия по его мотивам. Роман написан и принадлежит
читателю. И каждый читатель видит по-своему и события романа, и его ге¬
роев, как бы снимает свое внутреннее кино. Сколько читателей, столько
фильмов. Переводя роман дословно на экран, мы навязываем свое видение,
уплощаем восприятие самого романа. И потом — нам было неинтересно
идти по проторенной дорожке. Роман, нет слов, гениальный, но для кино
слишком литературен, часто театрален. Нужно было искать иные, кинема¬
тографические образные решения.
Воланд, чисто внешне, казался нам оперным персонажем. Он ведь не жил
человеческой жизнью, и потому у него не может быть этой ассиметрии в
лице — следа прожитых лет, эмоций и страстей. Он должен быть идеально,
безвозрастно красив, страшной, симметричной красотой.
Мы засели на всю зиму на даче в Серебряном бору, куда Маша Чугуно¬
ва, помощник Элема, горами возила нужную нам литературу, куда приез¬
жали консультанты по творчеству Булгакова, по психиатрии. Углубились
в изучение религии, жизни Москвы 30-х годов, жизни самого Булгакова.
Весной 89-го, когда была готова уже первая серия, переехали на подмос¬
ковное озеро Круглое, в дом отдыха, где проработали до конца лета. Сцена¬
рий получился огромный, часа на четыре экранного времени, немыслимо
сложный постановочно и, само собой, небывало дорогой.
Начались поиски денег. Дэвид Паттнэм, английский продюсер, побывав¬
ший к тому времени главой «Коламбии пикчерс», советовал Элему по-дру¬
жески: «Ищи деньги в Европе, Азии, но ни в коем случае не в Голливуде.
Этот фильм не для них». Эпопея эта длилась года два. Даже в Японию
Элем с оператором Алексеем Родионовым съездили, заручились там согла¬
сием какого-то миллиардера. Но это обещание, как и множество других,
оказалось пустым.
А Элем просто «болел» замыслом, материал давал возможность сделать
что-то невероятное, разрушить привычные стены восприятия, заступить
даже за грань сознания и вытащить оттуда неосознанное, потайные знания
и чувства. Мы продолжали работать: с оператором Алексеем Родионовым
и художником Виктором Петровым продолжали совершенствовать сцена¬
рий, бродили по закоулкам старой Москвы в поисках мест съемок.
Втроем они съездили в Израиль, в Сан-Франциско на студию Джорджа
Лукаса — изучали новейшие технологии, договаривались. Писался уже ре¬
жиссерский сценарий.
С предсказанной неизбежностью уткнулись в Голливуд. Фильм предпо¬
лагалось снимать на двух языках — английском и русском, с участием гол¬
ливудских звезд — таково было условие. Начался выбор этих самых звезд,
от которых, в свою очередь, посыпались неожиданные, но очень интерес¬
ные предложения. Так одна кинозвезда, претендуя на роль Маргариты, го¬
това была внести в бюджет фильма 35 миллионов.
Дэвид Паттнэм «подарил» нам английского сценариста Майкла Херста,
который должен был адаптировать на английский неподражаемый рус¬
ский юмор (сложнейшая, кстати, задача). Мы с Элемом и потрясающим пе¬
реводчиком Алексеем Михалевым полетели в Лондон. После недели рабо¬
ты Майкл в порыве откровенности сказал нам: «Все это ни к чему не при¬
ведет. Я работал в Голливуде и знаю их вкусы. Они сами говорят, что дела¬
ют фильмы для дураков, так что ваши умствования им не нужны. Они по¬
требуют полностью переделать сценарий под волнующую любовную исто¬
рию с элементами мистики». Так вскоре все и произошло, в точности.
Трудно, с болью исчезали последние надежды, рушились грандиозные планы.
Вот как Элем сам вспоминал об этом:
«Я решил делать сверхзвуковое кино по мотивам замечательного романа
«Мастер и Маргарита». Один английский продюсер, который со Спилбер¬
гом работал, прочитал наш сценарий и сказал: «В мире еще нет таких техно¬
логий, чтобы снять этот фильм, и неизвестно, когда появятся». После дол¬
гих рыпаний все кончилось ничем, денег мы не достали. Я тогда брату ска¬
зал: «Гера, мы побывали на высокой горе, в разреженном воздухе, и теперь
трудно спускаться на плоскую землю...» Я сам себя отравил, загнал в тупик».
«Известия». 25 мая 2000 года
И еще он мне сказал: «Не печалься, ничто не проходит бесследно. Суще¬
ствует такое понятие, по Вернадскому, как «ноосфера». Я думаю, мы не зря
фантазировали и размышляли».
Но этот удар был очень сильный, он сказался и на физическом состоянии
брата. Если сплюсовать все эти отравления, разочарования, удары судьбы
и творческие катастрофы, которые он так близко принимал к сердцу, то ни¬
чего нет удивительного в том, что он стал отстраняться, отгораживаться от
мира. Но была еще одна, постоянно действующая отрава, которая достава¬
ла и дома, едва включишь телевизор, — эта воинствующая пошлость и без¬
вкусие, все эти душевные терзания криминалитета, дурная, рабски подра¬
жательная американщина.
Я старался расшевелить его, увлечь телевизионным проектом — филь¬
мом «Олимпия на бульваре Капуцинов» о спорте и кино. Мы ходили по
банкирам, увлеченно объясняли наш замысел, не понимая еще, что гово¬
рить с ними можно только об «откатах» и доходах. Нам кивали, глядя ры¬
бьими глазами, обещали через недельку позвонить.
«Все, — не выдержал Элем, — никуда больше не пойду».
Много еще раз мы бродили с ним по Фрунзенской набережной, прики¬
дывая, чем заняться, и придумывая всевозможные истории. Но я видел,
что «просто кино» ему уже неинтересно. Хотя он с охотой и удовольстви¬
ем помогал мне придумывать драматическую комедию из спортивной жиз¬
ни «4 х 100» и много рассказывал и советовал нам с режиссером во время
работы над документальным фильмом «Ни шагу назад» о Сталинградской
битве. Сталинград — наш родной город, а Элем был переполнен военными
и послевоенными воспоминаниями.
Он был по-прежнему весел и нежен с родными и друзьями, так же остр
на язык и ироничен... но стал вдруг в последние годы катастрофически ху¬
деть, сохнуть на глазах.
«Я очень сильно отравлен», — сказал он как-то мне, и я понял его.
Из нашего последнего телефонного разговора:
— Гера, привет. Как мама?
— Слабеет.
— Все мы слабеем...
(Мама ненадолго пережила своего старшего сына — ее не стало 23 июля
2004 года.)
Последние записи в дневнике:
«Когда человек состарился, ему не нужны люди, ему надо подружиться
со смертью».
«Мне невыносимо скучно стало жить в этом мире».
Сегодня я все чаще вспоминаю наше сталинградское детство, Элема —
студента МАИ, потом ВГИКа, первые его шаги в кино. Вспоминаю годы
нашей совместной работы, иногда трудные годы, но всегда счастливые. Это
был всегда постоянно высокий градус, полное взаимопонимание, когда са¬
мые невероятные фантазии с легкостью обретали жизнь. Мне страшно не
хватает его. Его веселого, несмотря ни на что, жизнелюбивого нрава, его
фантастического, парадоксального юмора, просто его человеческого брат¬
ского тепла, на которое он был так щедр.
Герман Климов
Элем Климов
Вымыслы
По мотивам русских народных сказок
Осень, зима скоро. Вянет, блекнет, плешивеет все. Лес вон олысел — сты¬
нут жилы-то. Ветры со свистом уж гуляют, с нытьем. Солнце гнется к лесу
рано — мрак одолевает да нечисть помогает. Вот-вот свет кончится, ночь
падет.
— Заря Дарья! Заря Марья! — взрыднула деревня. — Заря Катерина! За¬
ря Серафима!
Мала деревенька, слабосильна; валится, валится солнышко — блеснуло
по оконным бычьим пузырям и небо уж облило.
— Уйми ты ветры полуночные с тучами, — торопливо молит старушонка
на коленях,— содержи морозы со метелями...
— Уйми ты всякую гадину нечистую от приворотов и лихого дела, — шеп¬
чет мужик бородатый, — поглоти ты нечистую силу в бездны кипучие, в
смолу горючую...
— Заря-заряница, — просит мать с дитем, — возьми бессонницу, безуго-
монницу, а дай нам сон-угомон...
— Солнышко ты привольное!
— Скрепись! Не уходи-и-и... — Зависло красное под отчаянный шепот
всеобщий, под стоны, мольбу и... кануло!
— Ох, грехи, грехи наши тяжкие...
— Господи, что же теперь...
Скоро погас день, смутно поплыли туманы молочные, стылью дунуло.
Смерк жутко лес и подвинулся к деревушке.
Завозилось, заскреблось в нем, заухало... да вот и загоготало вдруг.
Запрыгал крест рукотворный по плечам, калитки застучали, запоры за¬
щелкали.
Потек из щелей наружу с дымком из труб шепоток торопливый.
— Брысь, брысь, окаянная...
— С ветру пришла — на ветер пойди, с воды пришла — на воду пойди, с
лесу пришла — на лес пойди отныне и до века...
— От воды и потопу, от огня, от пламени, от лихого человека, от напрас¬
ной смерти...
— Ау, ау, шихарда кавда! Шивда, вноза, митта, миногам...
Течет шепоток, мешается, ветром носит его над деревней, над полем, в лес
задувает, а оттуда — улюлюканье, скрежет, бормотание, писк гнусавый...
Не видно сквозь пузырь-то: либо оборотня пронесло, либо черти на пере¬
крестке схватились...
— Господи, господи...
— Ох, кабы до утра-то дожить...
Вот и месяц в пузыре закачался...
Шепчет деревня, затаившись за околицей. Только и тут, в тылу-то, не
больно спокойно.
Хрюкают, брякают, крякают, скребутся...
Не разберешь — либо свои, родные, овинные там, домовые иль дворовые,
либо какая посторонняя нечисть пробралась.
— О господи, господи...
Сполз Иван с лавки — он в дальнем углу избы со скотом спал — и в под¬
пол заглянул. Там будто кто-то мохнатенький из миски ложкой хлебает,
глазом косит. Не разглядеть.
— Не трожь домового, Ваня! — сердито прошамкал отец с печи.
— Да я хлебушка ему...
— Оставь, как положено, на столе.
Лег Иван, только глаза прикрыл, как враз завыло, закряхтело, забурча¬
ло... Вот будто пролетел кто-то, а этот дышит тяжко в самое лицо... Замер.
Рядом во тьме глаза блестят, язык длиннющий тянется...
— Господи, господи... — шепчут на полатях.
— Скорей бы ночь прошла.
Вскочил Иван, пихнул теленка и заорал что было мочи петухом.
Всполошились, запели петухи по всей деревне.
Вздохнула сонно деревня, завозилась, забрякала запорами, дверьми заскри¬
пела, закашляла, хриплыми голосами заговорила. Бабы ведрами гремят, мужи¬
ки лошадей выводят, в дровни запрягают. А кто по хозяйству налаживается.
— С курами ложиться, с петухами вставать, — переговариваются.
— Петух не человек, а скажет — и баб научит.
— Заря вгонит, другая выгонит.
— Эй, сосед, дак зари и не слыхать.
— Да-а, хоть глаз выткни.
— Чьи бы это проделки?
— Так ведь умный не додумается.
Со дворов потянулся народ с кнутами, вилами да граблями к крайней
избе.
А там уж все налажено — бойкие братья у Ивана, сноровистые. Разложи¬
ли меньшого во дворе на лавке: зад светится да прутья свистят. Окружила
деревня двор, зевает да ухмыляется.
— За что, братцы?! — вскрикивает Иван.
— По песне и напев, — объяснил брат Степан.
— Учить дураков — не жалеть кулаков, — одобряет народ.
— Братьям-то забота: и поят, и кормят, и спину порют.
— За что, братцы?!
Зима уж на дворе, утро ясное, искристое. Ивана на этот раз у крыльца за¬
гнули, прямо на перила. Овчинку, конечно, задрали, чтобы не попортить.
Посреди двора в снегу — корова с теленком да козел. В овчины, в шапки
наряжены, тряпьем да рваньем обмотаны: Иван на прогулку вывел. Смот¬
рит народ, вздыхает.
— Козла бойся спереди, — приговаривает брат Петр, — лошадь сзади, а
дурака — со всех сторон.
— Так ведь им холодно, — объяснял дурак.
— Пьян проспится, — решает народ, — а дурак никогда.
Весной братья новый дом рубили. Скоро рубили — уж на крыше сидели,
деревянного петуха к коньку приколачивали.
— Вот, Степан, — говорит Петр, — будем теперь своим хозяйством жить.
— Хозяйство весть — не портками тресть, — отвечал Степан.
Старичок отец сидел на бревне у своей избы с ложкой в руке и миской
на коленях. Вокруг него всякая живность вертелась: кошки, собаки, коза,
бабочки над головой, Иван осторожно поднял отца и перенес из тени на
солнышко.
— Иван! — крикнул Петр. Иван тут как тут — снизу уж, рот разиня, гля¬
дит.
— Ну-ка, Ваня, — встревожился Петр, — сбегай, посмотри — не родила ли
жена моя.
Иван на крыльцо влетел и в избе исчез.
«Сейчас бить будут», — будто пригрезился едва слышный всеобщий
вздох.
Иван в избе мимо брюхатой бабы, что на лавке лежала, проскочил и пря¬
мо к люльке. Заглянул — пусто.
— Нет еще! — крикнул с крыльца.
— Ну ладно, — сказал Петр. — Тогда кур покорми.
Ивана словно ветром сдуло.
«Сейчас...» — прошептал невидимый хор.
Со всех сторон сбегались куры к Ивану, сыпавшему зерно.
Глянул Иван — наседка яйца оставила и тоже к нему спешит.
— Ты куда? — нахмурился Иван. — А ну воротись!
Не слушает, клюет. Пришлось Ивану наседку заменять.
— Петр! — простонала с крыльца беременная баба. — Он нам все яйца пе¬
редавит!
Братья скатились с избы и бросились к Ивану.
«Сейчас...» — шепотом пообещал хор.
— За что, братцы?! — не мог понять Иван, глядя на бежавших к нему
братьев.
— Ты зачем велел ему кур кормить?! — возмущался на бегу Степан.
— Матрена пусть, да? С брюхом-то?
— А хоть бы.
Остановились.
— Да ты что?!
— А ты чего?!
— Я-то ничего!..
Один другого в грудь пихнул. Тот ответил.
Размахнулись пошире...
Задумались.
— Не бей по роже — себе дороже, — сказал Степан.
— Ссора до добра не доводит, — сказал Петр.
— Где лад, там и клад.
На том и порешили и на Ивана двинулись.
— За что, бабы?! — кричал Иван. В пригожий летний день били Ивана на
речных мостках.
«На Ивана Купала не бьют кого попало», — прошелестело над рекой.
Река вся в цветных пузырях сарафанов, простыни плавают, порты тонут.
Бабы ловят, ругаются, хохочут.
Другие Ивана вальками лупят, с брызгами.
— За что, люди?! — орал Иван.
Запертый, он в дальней баньке колотился.
На Илью было дело, в июль жаркий, сочный.
«На Ильин день собак и кошек не пускают в избы», — прошептал хор.
И точно: все дворы полны кошек и собак.
А в самих избах бабы огонь в печках заливают.
— Спи, царь огонь, — говорит царица водица.
— Отдыхай, кормилица, до чистого огня, — кланяются печи хозяйки.
Чистый деревянный огонь всей деревней добывали: мужики — силой, ба¬
бы — приговорами.
Мужики дерево об дерево терли: захлестнули веревкой брус, что конца¬
ми в углублениях столбов лежал, и, дергая веревку всем миром, бешено
вращали брус.
Солнце плечи жжет, веревка — руки, о столбы брус жжется.
Дымятся мужики, крякают разом, бабы бормочут, вся деревня волнуется.
Иван в баньке надсаживается.
К закату охрипли все — и Иван, и бабы; мужики вызверились.
В сумерках уже искра вытерлась. За ней другая вспыхнула...
Возопила деревня радостно! Мужики где стояли — повалились, бабы за¬
пели, заплясали, ребята запрыгали, собаки возлаяли.
Из дымоходной дыры баньки Иван, черный от сажи, вызнялся.
А чистый огонь уж по всем дворам побежал: на лучинах, головешках,
палках с паклей.
Затеплились печи, дымок из труб потянул...
Сквозь огромный «чистый» костер скот погнали.
«От падежа и болезни»,— сквозь треск костра и блеяние шепот послы¬
шался.
Глядь, среди прочих радостный Иван, черный, будто дьявол, с головеш¬
кой несется.
Обмерла деревня, содрогнулась.
Крестом с воплем руки раскидав, Матрена, жена брата, новый дом оборо¬
няла.
Братья уже наперерез мчались.
— За что, братцы?! — растерялся Иван. Повернул было — и там погоня.
— Держи!
— Хватай его, мужики!
— Не дай деревню спалить!
— За что, люди?!
Гнали Ивана в охотку — до самого леса. У леса опомнились, отступились:
тьма уже плотно пала.
«На Ильин день зверь и гад бродит по воле», — дохнуло рядом.
Перекрестились мужики поспешно на черную чащу и назад заторопи¬
лись.
И остался Иван один в ночном лесу.
Стоит — шевельнуться страшно, а деваться некуда. Тихо гаснет головеш¬
ка в его руке.
Слабеет огонек, тьма сужает кольцо, надвигается... Озирается Иван: все
ближе, все нахальнее шуршит, хрустит кто-то, хмыкает, хихикает сдавлен¬
но, посвистывает, приближается...
Вот и последняя искра растаяла... Тихо стало... И вдруг кашлянуло в са¬
мое ухо.
Подпрыгнул Иван и — вон из леса, напролом ринулся. Ветки по лицу хле¬
щут, кто-то за рубаху, за ноги хватает, в ухо дышит, мекает по-козлиному...
Выбрался наконец из леса, на волю выскочил и... замер... назад даже по¬
пятился: во тьме, неподалеку, нагие тела светятся...
Несколько девок с распущенными волосами соху тянут, другие правят.
За ними вспаханная борозда темнеет.
«Все как одна невинные...» — шепнуло рядом.
Все ближе странная упряжка.
Пригнулся Иван, потом залег.
— Оборони ты деревню нашу, — яростно бормочут девки, — от чумы, от
холеры, от всякой нечисти.
— Чтобы ни одна гадина ни в коем обличье борозду эту ни скоком не
прыгнула, ни воздухом не перелетела...
Прошелестел пласт вывернутой земли неподалеку и дальше пошел вы¬
кладываться.
Решился Иван: вжался в землю и пополз к деревне ужом.
Только на борозду влез, как обернулась одна и завизжала дико.
— Оборотень!
— Нечистик!
— Бей!
— Держи!
Несутся на Ивана: волосы летят, лица яростные, руками размахивают.
Вскочил Иван и — обратно в лес. Они за ним.
Бежит Иван: впереди жуть лесная, да позади-то жутче — девки озвере¬
лые, беспощадные. Так и мелькают за стволами, выблескивают.
Ну в погоне — известное дело! — кому страшнее, тот быстрее: оторвался
Иван. Оглянулся — вроде нет никого. Но на случай на дерево прыгнул, на¬
верх полез. Видит — дупло большое. Недолго думая, внутрь забрался. Си¬
дит тихо — дышать боится. Одни глаза блестят.
Вдруг зашумело рядом, захлопало и застило весь скудный ночной свет.
Потом два зеленых огня вспыхнули, огромных, словно плошки.
Видит филин — место его занято. Ухнул он и заплакал как дитя. Тотчас
и весь лес зарыдал.
И Иван заплакал. От отчаянья.
— Ау! — сквозь слезы простонал он.
— Лю-ди-и!
— Ау-у... — утром уже сипел Иван, бродя по лесу, пошатываясь, с рогати¬
ной в руке.
Лес весь росой облит: травы, листья, цветы каплями сверкают, дробятся,
множатся. Отовсюду шорохи опасные доносятся, потрескивания коварные,
возня за каждым кустом.
У Ивана слезы из глаз катятся: двоится, троится лес, покачивается... Вот
будто вода впереди засияла — озеро. Глядь, одежда какая-то лежит — сара¬
фан. Как во сне наклонился Иван, поднял, к груди прижал:
— Лю-уди-и-и...
И вмиг вздрогнула вся природа: лес передернулся, ярким дождем росу
осыпав; озеро всколыхнулось, белое взметнув, будто лебеди взмахнулись;
трепет пронесся по прибрежному кустарнику — замелькали тела девичьи...
крылья захлопали, воздух засвистел...
И стихло все.
Смотрит Иван — откуда ни возьмись нагая девица идет к нему, красоты
невиданной...
Вот уже близко...
— Я богом тебе дана, — улыбнулась. — Я твоя богосуженая, Ваня... Я
судьба твоя.
И вновь неуловимо, но явно переменилось все в природе; ударило солнце
сильно и пробило лес дымными снопами света, превратив его в высокий храм;
запели птицы, дневные и ночные, слившись в согласный торжественный хор.
Иван и невеста его, в сарафане уже, рядышком стояли, и светлые волосы
их, словно нимбы, в солнце сияли.
— За что, боже?.. — прошептал Иван.
«Дураку-то за что?..» — хор добавил.
Все, что дальше случилось, запомнил Иван не полностью, как обрывки из
сна: вот он по лесу идет, и вроде не сам-то идет, а ведет его девица с рогати¬
ной в руке, вот мальчик-поводырь со слепцами замедлился, окаменел и по¬
вернул за ним следом.
Царский конный дозор на всем скаку встал как вкопанный.
Вот уж видит Иван, что из леса они вышли и в деревню входят. А навст¬
речу из изб кидаются мужики и бабы, чьи-то лица знакомые, вытянутые,
глаза оловянные. А вот и брат Степан с разинутым ртом... А шуму-то!
Шепчутся, охают, вскрикивают, бормочут, что — не разобрать, словно
уши ватой заложило...
Красавица шла по деревне, счастливая и светлая, направо и налево здо¬
роваясь с потрясенными и растерянными жителями. Она вела за руку
Ивана, который послушно ступал за ней с восторженной дурацкой улыб¬
кой до ушей.
А в избе все вверх дном перевернулось: чистую, вымытую горницу уби¬
рали цветами, бегали соседи, звеня посудой, ставили столы, летали скатер¬
ти, вкусно пахло пирогами. Мужики все в чистых рубахах, повсюду песни,
шум, смех... Смотрит Иван — и его переодевают: несколько человек рубаху
да штаны стягивают, другие новые напяливают. Подхватили его под руки
и повели куда-то... С братьями, с соседями сел он в повозки, и с шумом и
криком полетел свадебный поезд...
Потом: торжественная тишина церкви, колеблющиеся огоньки свечей,
рокочущий голос попа, впервые произнесший имя «Марфа», соединенные
руки, венцы над головой...
И снова: визг, хохот, смеющиеся морды лошадей...
Рука об руку шли молодые к крыльцу сквозь ряды веселых, поющих лю¬
дей, под золотым дождем зерна...
Несколько мужиков принесли огромное что-то, в рубашку наряженное.
Раздели — свеча мирская, братская, всей деревней сделанная: тело белое,
светящееся, не в один пуд. Поставили в красный угол, огнем оживили.
Ты садись-ка, добрый молодец,
Поплотней со мною рядышком,
Чтобы век-то нам не разлучатися,
Друг на друга не пенятися...
— Горько!— закричал весь стол.
Молодые поднялись, и счастливые лица их сблизились.
Они поцеловались, и Марфа с улыбкой поддержала вновь ослабевшего
Ивана. Потом с чаркой вина стала обходить гостей.
На свой лад пили в этой деревне, пили и закусывали: в миску самогонку
наливали да хлебушек крошили — тюрю делали.
Хорошо и радостно было Марфе среди людей.
Тем временем, вздымая пыль по дороге, к деревне неслась группа всадни¬
ков. Впереди всех, припадая к гриве коня, в расшитом золотом платье
мчался молодой местный царь Малахон. Был он, как сказано, молод, к то¬
му же красив, и потому, как молодой, красивый царь, имел уверенное лицо
и твердый взгляд.
Всадники налетели на деревню, подняли на дыбы лошадей и спешились
у Ивановой избушки, ломившейся от крика и песен. Малахон рванул дверь
на себя, и вмиг все прекратилось.
Замер и царь. Не отрываясь глядел он на улыбающуюся молодую жену Ива¬
на — уж не сон ли это? И понял царь, что не будет ему в этой жизни покоя.
«Не будет покоя», — догадалась она, ощутив сердцем, что случилось, и
все, что может случиться еще...
Так и стояли они, смотрели друг на друга в притихшей избе. Но вот по¬
шатнулся царь, повернулся с трудом и, нашарив дверь, вышел.
Неуверенным шагом слепца добрел Малахон до коня и с трудом взобрал¬
ся на него. Следом за ним медленно рассаживалась по коням царская свита.
И лишь тронулись всадники, как заголосила избушка веселую свадебную
песню:
Вот тебе жена —
Богом создана!
Люби ее, не обижай
И в обиду не давай.
Ложитесь вдвоем —
Вставайте втроем!
На каждую ночь
Сына и дочь!
Но скоро мало воздуха оказалось в избе для поющих, и вся свадьба с пес¬
ней и пляской выкатилась наружу. Ударили тут мужики что было силы
лаптями о землю, подхватили бабы концы косынок, и запрыгал, затопал
весь двор.
Выплыла и Марфа на середину и так пошла, что расступились все вокруг
и кто-то закричал с восхищением: «Ну чистая лебедушка!»
Тут же вскочил ошалевший от счастья Иван и пустился вприсядку.
— Вань! — прорезался чей-то веселый голос. — Да где же ты ее достал та¬
кую?!
— Не говори, Ваня! — закричали незамужние девки.
Уже начало темнеть, когда к свадебной толпе подкатил шарабан.
— Кто тут Иван будет?
— Я!— закричало полдеревни.
— А который из вас жених?
Из толпы, приплясывая, выскочил новобрачный.
— Поехали,— сказал ему человек.
— Куда это поехали?— зашумела деревня.
— К царю,— со значением произнес человек, подсадил Ивана и дверь ша¬
рабана закрыл.
— Не иначе как в бояре произведут, — громко сказал кто-то.
— Видать, так.
— Ну, молодец, даром что дурак!
— Дурак живет не работой, а удачей, — сказал Петр Степану.
Тот кивнул.
Вели Ивана длинными сводчатыми коридорами через множество дверей:
каждая следующая ниже предыдущей была. Все больше сгибался Иван, с
изумлением по сторонам озираясь.
К последней двери Иван уже на коленях приполз. Согнулся еще и
втиснулся в узкий проем... Поднял Иван голову от пола и замер от
изумления: пламя множества свечей тонуло в просторных палатах, в
резном кресле, словно впечатанный в темное золото хором, сидел сум¬
рачный царь. Ниже и на обе стороны от царя, облаченные в богатые
одежды, хмурили брови бояре. Тихо было от всеобщего молчания,
только эхо от закрывшейся за Иваном двери все еще плутало под по¬
толком.
Бояре, искоса поглядывая на Ивана, сдвинулись за спиной царя и шепо¬
том держали совет.
— Убрать его — и все дела, — негромко предложил носатый боярин.
— Ясно, что убрать, — прошептал другой, красномордый, — а вот как?
— Как это «как»? Понятно — казнить.
— Вот я и говорю — как казнить-то?
— Ну, колесовать...
— В котле сварить...
— Повесить... при попытке к бегству...
Царь поднял руку, и все смолкли.
— Встань, Ваня, — сказал Малахон печально, — встань и подойди. Ближе
подойди.
Когда Иван неуверенным шагом подошел к самому трону, Малахон по¬
дался вперед и тихо спросил:
— Я кто?
— Как кто?— испугался Иван.
— Ответь мне, Ваня, кто я?
— Царь-батюшка, — также тихо сказал Иван и упал на колени.
— Правильно. А раз так, значит, и казнить могу. Могу! А я вот отличить
тебя хочу. Как подданного мне друга. — Малахон наклонился к Ивану и
почти прошептал: — Ваня, у нас нет Жар-птицы... — Затем резко откинул¬
ся в кресле и сказал громко: — В нашем государстве нет ни одной Жар-пти¬
цы! Позор!
Царь бросил испепеляющий взгляд на бояр. Те были потрясены.
— В темноте живем... Сегодня я видел твою жену. — У Малахона перехва¬
тило дух. Он помолчал: — И я понял: только ты можешь достать эту птицу,
которой у нас нет. Иди, Ваня, и не возвращайся... без добычи.
— Царь-батюшка...
— Не надо, не благодари. Иди.
И, когда Иван был уже в дверях, бросил вслед:
— Охрану ему!
Затем победоносно откинулся на троне.
— Ну царь! — развели руками бояре. — Ну искусник! — с восторгом и обо¬
жанием смотрели они на царя.
Разбрелась к ночи деревня по домам, угомонилась. Только у Ивана во
дворе костры горят. Пляшут огненные языки и выхватывают из черной но¬
чи бородатые лица стражников, стволы ружейные. Тихо, лишь огонь потре¬
скивает да кони во сне ногами переступают.
Темно в избе. Только два лица светятся. Затаив дыхание, Марфа с Ива¬
ном по краям лавки сидят, не шелохнутся.
А с печи храп несется: там отец-старичок лежит с открытыми глазами. Не
хочется ему молодых стеснять. Храпит он, а сам с печи потихоньку сполза¬
ет. Так же, храпя, к двери подошел на цыпочках и вышел тихо.
И едва притворилась дверь за ним, как вскочили молодые и друг к другу
в объятия кинулись.
И произошло в природе движенье.
Вспыхнула ярко и упала с неба комета...
Встрепенулись люди во сне, и женские руки мужских коснулись...
И распустились цветы в ночи...
И голова лошади коню на гриву склонилась...
Разгорелся и взлетел ввысь огонь в костре... и озарил счастливое лицо
Иванова отца...
Чуть свет стража замолотила кулаками в дверь.
Вместе с Иваном вышла из избы Марфа. Иван весело запрягал лошадь,
Марфа складывала в телегу еду и лапти про запас.
— Вань,— прошамкал сидевший на завалинке отец, — ты мне оттудова ва¬
ленки привези, а то эти дырявые совсем.
— Привезу, батя.
Оба брата с женами, стоя у своих заборов, глядели на сборы. И стражни¬
ки, не спеша седлая коней, посматривали на молодых.
Телега тронулась. Марфа и Иван пошли рядом. Вскоре на краю деревни
остановились и обнялись.
С грустью смотрела Марфа, как радостный Иван усаживался в телегу.
Стражники подъехали и хлестнули Иванову лошадь. Поскакала ло¬
шадка!
На дубу сидит кобыла,
Раздает всем прянички.
Меня Марфа полюбила,
Называла Ванечкой.
Притопнул Иван ногами и дернул вожжи.
Не роняй, жена, слезу.
Я Жар-птицу привезу.
Царь искал богатыря,
Выбрал он меня не зря.
На росстани столб стоял, на столбе— надписи какие-то.
Задумался Иван.
«Хрена ль ты смотришь,— пронесся шепот,— все равно читать не уме¬
ешь...»
Почесал Иван затылок и налево завернул, на Большую Дорогу.
Как у Вани оба брата
Очень умные ребята.
Только Ване была честь
Тяте валенки привезть.
Солнце было высоко, телега мерно подпрыгивала. Разморило Ивана.
«Большая Дорога...» — шепнул хрипло хор. Открыл Иван глаза, смотрит —
вместо лошади мужик запряженный стоит. Немолодой мужик, усталый.
— Как ты попал сюда, дедушка? — удивился Иван.
— По грехам моим, — горестно вздохнул мужик. — Пять лет назад был я
за эти самые грехи обращен в скотину, тогда меня и купили.
— Как же так? А я все думал, что ты кобыла.
— Да нет, как видишь.
— Вот те на... А я-то...— огорчился Иван. — Я тебя и кнутом бил, и дрова
заставлял возить...
— Да-а, — протянул мужик, — вспомнить страшно, как ты измывался на¬
до мной. Ну теперь срок мой вышел, опять я, видишь, стал человеком.
— Значит, бог простил. Ты уж зло на меня не держи, дедушка. Возьми-ка
хлебушка покушай, а то ведь сколько лет одно сено жевал!
Закивал мужик головой, вылез из хомута и, взяв хлеб, в лес побрел.
— Ты про Жар-птицу-то... — спросил было Иван, да вспомнил. — А, ну
да... — и рукой махнул.
Впрягся Иван в телегу и кряхтя потащил ее по дороге.
Вдруг позади послышался топот. Обернулся Иван и увидел, как из-за по¬
ворота выскочил босой и оборванный парень с мешком за плечами. Зады¬
хаясь, кинул тяжелый, позванивающий мешок в телегу.
— Ну тяжел! Спасибо, тебя встретил, — выдохнул облегченно и пот со
лба вытер.
— Клади, клади... — закивал Иван, улыбаясь.
— Тебя как зовут-то? — спросил парень.
— Иван.
— А кличут?
- Дурак.
— A-а, ну я так и подумал...
Упал он вдруг и прижался ухом к дороге.
— Ты чего? — удивился Иван.
Махнул парень рукой, замер, потом быстро к лесу пополз.
Едва он скрылся, как загикали, затопали за поворотом и показались с де¬
сяток мужиков с дрекольями и барин впереди.
— Вот он! — завопил барин. — Вот деньги! Держи вора!
— Деньги! Деньги! — кричали все.
Глянул Иван на них, потом на мешок в телеге и понял, почему парень так
спешил от этого мешка избавиться. Что делать? Кинулся он к мешку и при¬
нялся его развязывать... Все ближе мужики — вот-вот схватят... Развязал
все же, зачерпнул полную горсть и в сторону швырнул. Еще зачерпнул и в
другую сторону бросил.
Заметались мужики, побросали свои палки и к монетам кинулись. А Иван
все сыплет и сыплет — золотой звон по лесу несется.
И вдруг ожил лес, засвистел, заухал, закукарекал.
«Деньги! Деньги!» — крикнуло несколько хриплых голосов, и в зеленой
тьме леса замелькали чьи-то рожи кривые, руки волосатые.
Зарыдал барин, завыл от горя, от жуткого предчувствия, что не видать
ему своих денег, а может, и света белого не видать, и к виновнику, к Ивану,
с кулаками бросился. Вытряхнул Ваня последние монеты из мешка и по
Большой Дороге прочь ударился.
Налетели тут разбойники, засверкали ножами...
Такой крик подняли, что и не услышали, как зацокали по Большой До¬
роге копыта, как выскочила из-за поворота конная стража.
И завязалась битва нешуточная! Запели стрелы, скрестились мечи, за¬
вертелись, заплясали кони.
Откуда ни возьмись, усталый мужик с лошадкой Ивана появился. Не
спеша привязал ее к дереву, кряхтя стал средь битвы деньги собирать и в
мешок складывать.
«Эх, деньги, деньги...» — вздохнул хор.
А Иван несся по Большой Дороге.
Смеркалось уже, когда рядом с дорогой река сверкнула...
Тяжело дыша, на бегу Иван лапти, порты и рубаху скинул и в реку прыгнул.
Лишь немного он саженками промахал, как вдруг захохотал дико, выско¬
чил по пояс из воды, замахал руками и, извиваясь и рыдая от смеха, торчком
понесся по реке. Он летел спиной вперед, в веере поднятых им брызг, взды¬
мая огромные волны. Так же внезапно он исчез под водой, и стало тихо. А еще
через мгновение хохот его огласил дальнюю излучину реки. Вот он уже сде¬
лался едва слышным, потом, то и дело исчезая, снова стал приближаться.
Иван болтался и нырял, как поплавок при сильном клеве. Он то хохотал, то
булькал и выпрыгивал из темной реки в серебряных столбах водяной пыли.
Наконец все прекратилось — и движение, и смех. Иван шумно перевел дух,
а рядом с ним появилось девичье лицо с длинными распущенными волосами.
С ужасом Иван смотрел на ее странно белое, без кровинки, лицо, на хо¬
лодный блеск глаз, на длинные неживые волосы. Поднял было руку пере¬
креститься — не идет рука...
И не успел опомниться он, как полился над рекой вкрадчивый, завора¬
живающий голос. Стоя по горло в воде, видел Иван перед собой пригожее,
отрешенное лицо девицы, слышал кружащие голову звуки. Потом лицо ее
стало почему-то терять свою четкость и превратилось в расплывчатое пят¬
но; разлетелись и закачались вокруг головы длинные волосы— блеснула
рыбья чешуя, изогнулись волнистые водоросли и, будто во сне, мелькнули
чьи-то бородатые рожи. Голос звучал все тише, все глуше, и побежала уже
вверх из-под носа цепочка пузырьков...
«Ну все, — прошептал хор и запел: — Со святыми упокой...»
Взорвалась успокоившаяся было река: выскочил Иван из-под воды и за¬
орал не своим голосом. Рядом появилось девичье лицо. Все так же без выра¬
жения смотрело оно немигающими глазами, как бьется, кричит Иван, пыта¬
ется к берегу выгрести. Булькает Иван, руками машет, и все время перед ним
неотрывные, в упор глядящие глаза русалки. Обернулся в отчаянии к бере¬
гу, а там усталый мужик с его лошадью и телегой, груженной мешком денег.
Покачал мужик головой сочувственно.
— Ну что же, — вздохнул горестно, — не пропадать же добру, — и Ивано¬
ву одежду на телегу бросил.
— Эй! — крикнул Иван, молотя руками воду.
Перекрестился мужик и тронул лошадку.
Пробился наконец Иван на мелководье — сидит по пояс, дрожит весь.
Неподалеку девица — смотрит растерянно.
Собрался Иван с силами, начал крест творить. Тотчас дрожать перестал.
Видит: из глаз русалки слезы полились.
Жалко ее стало Ивану, опустил он руку. Вмиг глаза девицы высохли. От¬
крыла она рот. «А-а-а» — вновь песню начала.
— Да чур ты! — прикрикнул на нее Иван. — Не видишь, неодетый я, вый¬
ти не могу.
Смотрит русалка, не понимает. И Иван смотрит с отчаянием.
— Голый, голый я! — вскочил Иван, руками закрывшись.
Русалка исчезла вмиг.
Остался Иван один по колено в воде. Но ненадолго — вновь русалка пе¬
ред ним возникла с мокрой кольчугой и шлемом.
«Ну вот, — прошелестело над рекой, — другое дело...»
Тиха, пустынна темная река. Лишь девичья голова с распущенными во¬
лосами смотрит широко открытыми, немигающими глазами. Но вот рядом
с ней появились вторая, третья, еще несколько русалок вынырнуло. Все с
удивлением смотрели на человека, стоявшего на берегу: ниже колен на нем
висела кольчуга, болтались длинные, чуть не до земли рукава; на голове, за¬
крывая глаза, — шлем, а на шлеме надпись: «Иду на вы. Лукопёр».
Лицо у царя Малахона было веселое и уверенное. Разодетый и разряжен¬
ный, он размашисто шел к крыльцу. За его плечами видна была суетливая
свита, мужики на коленях в пыли, с шапками в руках, и дальше спелое по¬
ле до горизонта.
Царь легко взбежал на крыльцо, ногой толкнул дверь и, как к себе домой,
вошел в избу Ивана.
— Ты чего же это?! С царем шутки шутить?! — начал он прямо с порога.
Затем огляделся и увидел Марфу.
Она стояла у окна с младенцем на руках, тихонько его покачивала и смо¬
трела на бегавших взад-вперед царских приспешников, на коленопрекло¬
ненную деревню. Потом подошла к двери и распахнула ее перед царем.
Побелел царь, пристально поглядел на Марфу, затворил дверь и пошел к
ней. Марфа приложила палец к губам: «Тихо» — и сделала это так, что царь
вдруг сразу перешел на шепот.
— Я к ней и так, и сяк, и гонцов знатных посылаю, и зову, и умоляю... За
честь должна почесть!
Марфа насмешливо улыбнулась.
Малахон подошел к окну и махнул рукой.
Тотчас дверь отворилась, и в комнату, кланяясь, проскользнуло несколь¬
ко ядреных баб.
— Кормилицы, — объяснил Малахон. — Выбирай любую и собирайся —
нечего тебе здесь больше делать.
Марфа равнодушно отвернулась и пошла в глубь избы, напевая и баюкая
младенца.
В красном углу горела оплывшая, по-прежнему огромная мирская свеча.
Царь был обескуражен, по всему было видно, что он не привык к отказам
и теперь не знал, что делать. Взгляд его упал на печь, где стоял на коленях
и часто кланялся ему старичок отец. Малахон подошел к нему и, будто за¬
быв про Марфу, сказал с печалью в голосе:
— Да... грустно, дед, скорбно...
Старик не расслышал, и тогда царь сказал громко и внятно:
— Сын твой Иван погиб... вот так, отец...
Старик продолжал кланяться.
— Сгинул он! — крикнул царь. — Сгинул!
Отец перестал кланяться, глаза его наполнились слезами.
— Врешь,— спокойно сказала Марфа.
— Как это «врешь»? Ты кому это говоришь?!
Марфа подошла к нему вплотную.
— Врешь! — твердо повторила она и так посмотрела на царя, что тот нео¬
жиданно для себя сказал вдруг:
— Вру... — Но тотчас опомнился и закричал: — Почему вру?! Не вру я! Не вру! —
Потом глянул на Марфу и снова промямлил: — Ну вру... и что? Все врут, и я вру...
Марфа с жалостью поглядела на него и сказала тихо и спокойно:
— Иди с богом. — И, повернувшись, отошла.
Царь медленно опустился на лавку, тут же, словно обжегшись, вскочил и
тяжелым шагом пошел к двери. Рыжий бородатый молодец из свиты поч¬
тительно посторонился, давая царю дорогу. Малахон вышел, закрыл за со¬
бой дверь и, внезапно размахнувшись, влепил рыжему оплеуху. Затем сбе¬
жал вниз и с размаху вскочил в седло.
По лесу, увязая в снегу, шел Иван. Поверх кольчуги была накинута зве¬
риная шкура, в руке Иван держал дубину. Вылез из берлоги медведь и не¬
довольно зарычал на него. В ответ Иван так рявкнул, что медведь вжал го¬
лову и полез обратно в берлогу.
То и дело проваливаясь в сугробы, Иван достиг наконец границы леса.
Здесь он остановился и из-под руки глянул вдаль.
Голо вокруг — снежное поле.
И снова побрел Иван. Ночью, в ярком свете луны, открылась его взору
странная картина: темный городок, кишащий людьми, выл сотней собачь¬
их глоток. По улицам среди пепелищ и разбросанных по земле пожитков
шатались, посылая кому-то проклятия, жители. Снег в городе был серым
от пепла. Из лунной тени возник перед Иваном человек и пошел рядом, по¬
вторяя: «Купи дом, сколько хочешь за дом? Купи... Задаром отдам...»
Возле черного и теплого еще пятна бывшего дома толпа обгорелых людей
распевала песню. Чуть поодаль громко перекликались бабы. От поющих
отделился мальчонка и, приблизившись к Ивану, с надеждой спросил:
— Ты за огненной птицей пришел, да?
— Да, — удивился Иван. — А ты почем знаешь?
— Он! — подпрыгнул мальчишка и побежал по улице, размахивая рука¬
ми. — Он! Пришел!
Замер город на минуту, даже собаки перестали выть. Повернулись из тем¬
ноты к Ивану бледные пятна лиц. Потом улица задвигалась, зашевелилась,
и в глубине ее появилась процессия людей, несших под полой зажженные
свечи, отчего и сами они, и особенно лица их светились. Возглавляли про¬
цессию два человека: один седой, с темными мешками под глазами, другой
с пушистыми усами и лысый. Лысый нес на расшитом полотенце хлеб-соль
и, вглядываясь в странного, облаченного в богатырские доспехи пришель¬
ца, не переставая, удивлялся:
— Неужели богатырь?
— Богатырь-то вроде побольше...
— Карлик, наверное, — решил седой. — У богатырей ведь тоже карлики
должны быть.
Перед Иваном делегация остановилась и поклонилась в пояс. Лысый вы¬
двинулся вперед, держа хлеб-соль на вытянутых руках. Иван уронил дуби¬
ну и, взяв каравай, принялся рвать его зубами.
— Ты что, пешком пришел? — спросил седой. — А мы конного ждали.
— Я коня своего к семье отпустил, — ответил Иван, не переставая же¬
вать. — Он заколдованный был.
— Понятно, — тихо сказал лысый и со значением посмотрел на седого.
Тот округлил глаза и почему-то оглянулся. И освещенные свечами, и
скрывающиеся в темноте люди наблюдали с восторгом, как жадно Иван
приканчивал хлеб. Кто-то из делегатов выделился из толпы и, протянув
руку со свечой к Ивану, прочитал на блестящем шлеме: «Иду на вы. Луко¬
пёр».
— Богатырь Лукопёр! — зашептали делегаты, и, как эхо, откликнулось в
темноте: «Богатырь! Лукопёр!»
Иван стряхнул с бороды хлебные крошки и глянул исподлобья на незна¬
комых людей:
— Запить бы.
— Идем, идем, все готово, — проговорило сразу несколько голосов. Окру¬
жив Ивана светящимся кольцом, делегация двинулась вверх по улице.
— Где птица? — спросил Иван подозрительно.
— Ты не торопись.
— Отдохнешь, подкрепишься перед подвигом...
— С ней днем надо биться, днем она вялая со сна... — советовали ему со
всех сторон.
— Ночью к ней не подойдешь — горячая!
— Ну, уж Лукопёр покажет ей, где раки зимуют!
Позади Ивана шел человек выше его на голову и нес дубину.
В кабаке все стали рассаживаться за длинным дубовым столом. Ивана
посадили на высокое кресло в центре.
С огромными блюдами, от которых шел пар, на мягких, неслышных но¬
гах мелькал перед столом кабатчик. На мгновение замешкался он возле
Ивана, и глаза их встретились. Еще через мгновение он был у Ивана за спи¬
ной и шептал ему на ухо:
— Прости, браток, силы тогда кончились, духу не хватило, не погуби.
И вновь возник с жареным поросенком на блюде и заговорщически под¬
мигнул. Иван узнал вора, что когда-то подбросил ему мешок на телегу.
— Ты у кого теперь служишь, Лукопёр? — раздался голос с края стола.
— У Малахона, — ответил Иван и лишь потом удивился: — Почему Лу¬
копёр?..
— Потому что у тебя на лбу написано, что ты Лукопёр, — шепнули губы
кабатчика, а в следующий момент он был уже с гуслями и пел:
Наши в поле не робеют
И на печке не дрожат...
— Малахон твердый царь... Боевой... — говорили за столом.
— Спокойно у вас? — спросил лысый, сидевший по правую руку.
— Когда уезжал, спокойно было, — ответил Иван.
— Ну, еще бы...
— По пути к нам сражался с кем-нибудь? — таинственно спросил седой
слева.
— Со зверями, — ответил Иван громко. Зашевелилось пламя свечей, по¬
тянулись со всех сторон любопытные лица.
— А правда, что Соловей-разбойник бежал и в наших лесах засел? Не
встречал?
— Врут ли, нет, что Усыня, Горыня и Дубыня, богатыри, разошлись и
вместе не ходят?
— Постойте! — крикнул лысый и махнул рукой. Все стихли. — Ты мне вот
что скажи, Лукопёр: Алешу Поповича взаправду казнили... — он придви¬
нулся ближе и закончил сквозь зубы, — за эти дела?
— За какие? — удивился Иван.
— За такие! — лысый сделал большие глаза и зашептал на весь кабак: —
За женские... Ну там... Елена Прекрасная и все такое...
— Ешь, Лукопёр, — ввернулся между ними кабатчик. И шепнул на ухо:
— Ешь и помалкивай.
— Не с Еленой, а с богатыркой Синеглазкой! — крикнули с левого края,
и показалось красное, сердитое лицо.
— Сказал! С Синеглазкой один Муромец справится.
— Вот Алешу-то и казнили, что не справился.
— А от кого же тогда сын у нее. Соска-богатырь?
— От медведя.
— Так-то Ивашка-медведко.
— Не Ивашка, а Машка.
— Как так?
— А так! Его положили на пуховую перину и узнали.
- ???
— На перине-то все видно: если яма под плечами — значит, богатырь, а
если под задом — сильномогучая богатырка.
Иван повернулся к седому:
— Вы сами-то пытались ее поймать?
— Кого? — тот в испуге отшатнулся.
— Огненную птицу.
— Что ты!
— Боитесь?
— Да разве это в человеческих силах?! Мы и не пробовали.
— Тебе-то она зачем? — тихо спросил кабатчик, подливая Ивану самогонки.
Тот неторопливо перелил ее в миску, хлеба покрошил. Задумался. Кабат¬
чик, да и все за столом с удивлением и уважением наблюдали за этим
странным, богатырским, видать, обычаем.
— Тебе-то зачем? — так же тихо переспросил кабатчик.
— Не мне. Царь просил. Свету мало — в темноте живем.
— В темноте, да не в обиде.
— Ты чего там шепчешь, Матюшка? — нахмурился седой.
— Свинья скажет борову, а боров всему городу. Петух скажет курице, а
она всей улице. Знала бы наседка, узнает и соседка...
— Ну ладно, ладно... Понесло! — махнул рукой седой.
Кабатчик снова склонился к Ивану:
— А я вот теперь — честный целовальник. Город горит, и я горю. Раньше
хоть долгов не было...
Вдруг заметались языки свечей, плеснуло вино из чарок. Загудела земля,
и вошел в кабак богатырь — еле в дверь пролез, согнувшись. Загремел коль¬
чугой, меч на поясе поправил. Вздрогнули все от его голоса.
— Вызывали?
Никто не смог ему ответить — пробовали рот раскрыть, да звук не идет.
— Чудо-богатыря вызывали?
Все взгляды сошлись на Иване. Тот оторопел.
— Три дня и три ночи ехал, — вздохнул богатырь, — проголодался.
Никто еще опомниться не успел, а Матюшка-кабатчик вперед выступил:
— Кого вызывали, тот уж приехал.
— Кто приехал? — не понял богатырь. — Я приехал?
— Ты-то вот приехал, а он пешком быстрее тебя успел.
Великан потемнел и молча обвел глазами комнату. Взгляд его уперся в
Ивана.
— Вы что, насмешки надо мной строите?! — грозно молвил он. — Ты че¬
го вырядился, сиська тараканья?!
Иван растерялся, но тут же справился с лицом и, нахмурив брови, спро¬
сил с вызовом:
— А ты кто такой? Почему не знаю?
— В самом деле, — поддержал Матюша. — Что за чучело? Ты и на бога-
тыря-то не похож!
Потемнел великан:
— Никто еще меня так не обижал.
— Ну и катись отсюда! — крикнул Матюша.
— Ишь какой, — поддакнул Иван.
Весь стол замер, только глаза вращались с одного на другого.
— У тебя хоть имя-то есть? — спросил кабатчик.
— Балдак Борисович меня зовут.
— Что-то не слыхал, — усомнился Матюша.
— В списках нет такого, — подтвердил Иван.
— Я мальчик еще, мне двенадцать лет.
— А раз мальчик, так на горшке сидеть должон, — напирал Матюша.
— И не ездить... — вставил Иван.
— Долго ты торчать тут будешь?!
— Ездят тут...
— Дай, дай ему, Лукопёр! — кабатчик уже протягивал Ивану его дубину. —
Что ты на него смотришь?!
— Что ж, — сказал Балдак. — Два богатыря в поле не живут...
— Я порядки знаю! — расхрабрился Иван. — Разъезжаться будем на две
или на три версты?!
— На... две, — неуверенно сказал Балдак. — Я только с дороги. Конь устал...
— На три! — твердо сказал Иван.
— Эх, — вздохнул богатырь и рукой махнул.
— Ну и дурак! — сказал Матюша. — Пропадешь, как муха. Одумайся, по¬
ка не поздно.
Через несколько минут все были на улице. Отовсюду стекался взволно¬
ванный народ. Балдак Борисович громоздился на богатырском своем коне
и сверху смотрел на суетившуюся толпу.
Матюша отвел Ивана в сторону и задумался.
— Где же мне тебя спрятать?
— Зачем прятать? — усмехнулся Иван.
— Биться будешь? — кабатчик изумленно уставился на Ивана. Потом по¬
качал головой. — У тебя ведь и коня-то нет... Хотя... лошадку я, кажется,
смогу достать. Но не взыщи.
Лошадка была и в самом деле худая. Матюша принялся выпрягать ее из
саней.
— Не нужно, — сказал Иван.
— Как не нужно? Другой у меня нет.
— Выпрягать не нужно... — Иван испытующе посмотрел на Матюшу, по¬
том подошел вплотную и что-то на ухо зашептал...
В молчаливом недоумении смотрели погорельцы вслед богатырям.
— Вдвоем сразу они не могут погибнуть? — спросил лысый у седого.
— Как сойдутся... Говорят, случалось и не такое.
Богатыри выехали в чистое поле.
— Биться будем насмерть или... так? — в голосе богатыря было сомнение.
«Так», — шепотом подсказал хор.
— Насмерть! — твердо ответил Иван.
Хор тяжко вздохнул.
Вскоре жители города увидели, как разъехались богатыри в снежном по¬
ле и стали отдаляться друг от друга.
Вот уже и опустело поле...
Исчезли на горизонте последние городские дома, когда Иван с Матю¬
шей, сидевшие в санях, увидели на снежном косогоре за лесом высокий, об¬
горевший дуб.
— Здесь, — сказал Матюша.
На самой вершине дерева едва светилось огромное гнездо.
Поодаль от дуба Иван с Матюшей остановились.
— Скинь кольчугу, — шепотом посоветовал Матюша, — а то распла¬
вишься.
Иван разоблачился. Потом они, то и дело оглядываясь на дуб, достали из
саней таз пустой и полное мутной самогонки ведерко. Матюша самогонку
в таз начал наливать, Иван — хлеб крошить, тюрю делать. Попробовал ма¬
лость, кивнул — годится. С тазом, полным тюрей, пополз Иван к дубу. Ма¬
тюша поодаль залег.
Дополз Иван, перекрестился.
— Цыпа, цыпа... — кликать стал.
Зашипело гнездо, завозилось, разгораться принялось...
Замер Иван. Матюша в снег вжался.
Гнездо уже в огненный шар превратилось, потом шар этот вверх пошел.
Дико заржала лошадка, подскочила вместе с санями и бешеным галопом
прочь помчалась.
Вздрогнули окрестности, и на горизонте стал стремительно расти
всадник с грозно поднятым мечом. Заволновалась толпа. Мчится всад¬
ник, конь его храпит, снег столбом взлетает. А издали навстречу лошад¬
ка с санями несется: кольчуга блестит, шлем подпрыгивает. Вот-вот
сшибутся.
Словно ветром народ вперед склонило: все вдаль вглядываются.
— Ну все! — лысый седого за руку схватил.
Богатырский конь на дыбы встал, лошадка с санями на диком скаку ми¬
мо мелькнула и удаляться стала.
По толпе всеобщий потрясенный вздох пронесся. Поворотил Балдак Бо¬
рисович своего коня и в погоню помчался.
Матюша, лежавший в снегу, медленно поднял голову...
Первое, что он увидел, — это пар, окутавший все. Потом, в облаках пара,
он сумел различить огромное пятно обнажившейся земли и Ивана в обго¬
ревших лохмотьях. Иван сидел возле таза, из которого большая птица,
обыкновенный с виду павлин, доклевывала тюрю.
— Ну будет, будет, — приговаривал Иван, надевая на нее ошейник с це¬
почкой, — и так уж едва на ногах стоишь...
«Молодец! — поразился хор. — Даром что дурак».
Вновь появился на поле битвы Балдак Борисович. На этот раз богатыр¬
ский его конь едва ноги переставлял.
— Живой... — вздохнула толпа. Не сразу заметили горожане шедшего на¬
встречу богатырю обожженного Ивана с едва светящейся птицей на цепи.
Птица шаталась на нетрезвых ногах, чирикала что-то— пыталась песню на¬
певать. Следом тащился довольный Матюша.
Вздрогнула толпа и с победным воплем бросилась навстречу Ивану. Ми¬
мо онемевшего при виде его богатыря, мимо кричавших людей прошел
Иван со светящейся птицей на цепи.
— Ну, Лукопёр! Ну, искусник! — восхищенно кричали из толпы.
— А на вид ванёк-ваньком.
— Да, не перевелись еще богатыри на Руси!
Огромная, восторженно гудящая толпа провожала Ивана.
Вся деревня была в поле, когда из лесу, разбрызгивая искры и урча, вы¬
катился огненный шар.
Зажмурились и завизжали бабы, мужики перекрестились и, вылупив
глаза, выставили перед собой серпы и вилы. Подпрыгивая на человеческих
ногах, огонь несся на деревню и вопил:
— Это я, Иван! Не бойтесь!
— Это же Иван! — закричали вокруг. — Иван Жар-птицу несет! Марфа!
Иван вернулся!
— Ну, все, — сказал Степан Петру. — Сейчас весь хлеб подожжет.
Побросав все дела, с поля, с огородов бросилась деревня к Ивану. Обсту¬
пили со всех сторон, а подойти боятся: Иван с птицей как костер — жаром
пышет. Детишки норовят вперед пролезть, собаки заливаются. Подбежала
Марфа с ведром воды и окатила мужа с головы до ног. Зашипел Иван, пар
от него во все стороны повалил.
Тут к нему мальчонка бросился лет пяти, не больше, с криком: «Тятя! Тя¬
тя!» — да Марфа его за руку поймала: «Сынок наш».
— Как звать? — крикнул Иван из пламени.
— Петька!
Так и пошли к царю: впереди Иван в огне, а следом вся деревня: мужики
с серпами, бабы с младенцами на руках, старики и те увязались. Ну, конеч¬
но, ребятня босоногая и собак без счета.
У царских теремов переполох: одно солнце на небе, другое по земле на
них катится, и за ним народ идет. Заполнила деревня весь царский двор, а
Иван к дверям направился. По пути окунулся в бочку с водой— вода так и
закипела, забулькала.
Царь вцепился в подлокотники трона, повскакали со всех мест думные
бояре, когда крикнул ворвавшийся в палаты стражник:
— Огонь! Огонь идет!
В панике бросились бояре к выходу и отпрянули, озаренные ярким све¬
том: огненный шар, все сильнее разгораясь перьями пламени, входил в
дверь. Царь смертельно побледнел: медленным шагом огонь приближался
к трону. Малахон, из последних сил стараясь сохранить на лице важность,
все глубже и глубже вползал в кресло.
— Что, что я говорил?! Кто был прав? — кричал он онемевшим от ужаса бо¬
ярам. — Каков, а?! Приказал царь — он и принес... Берите, берите же ее!!! —
орал он, уже стоя на троне.
В следующее мгновение Иван вручил ему птицу, они слились в пламен¬
ный клубок, затем от клубка отделился Иван, а царь, оставшийся в огне, за¬
визжал, запрыгал на троне, потом, соскочив, заметался по зале. Вместе с
ним заметались бояре и стражники.
Иван стоял в стороне: обгоревший, без ресниц, без бровей, с опаленной бо¬
родой и в дымящихся лохмотьях. Кто-то впопыхах сунул ему в руку золотой:
— Иди, иди отсюда, милый...
«И подальше...» — хор горько добавил.
Во дворе царила суматоха: расталкивая мужиков и баб, бежали куда-то с
ведрами и баграми дворовые люди. Из окон шел дым. В объятия к дымяще¬
муся еще Ивану бросилась Марфа. Радостная деревня окружила их и от¬
правилась восвояси.
Позади, крепко задумавшись, шли братья.
— Да-а, — вздохнул Петр. — Простое яйцо такого жара не выдержит.
— Так она золотые несет, это точно.
— Да откуда им взяться, яйцам-то?! Он же ее одну притащил, без петуха...
— Дураком ушел, дураком, видать, и вернулся.
— Считай, что даром ходил...
Вечером Иван, вымытый, в чистой рубахе сидел за столом и ел щи. Мар¬
фа с сыном стояли рядом и, улыбаясь, глядели на него. Много было гостей
в избе: братья с женами и детьми, старики чинно восседали на лавках, ос¬
тальные жались у стен. С печи смотрел довольный отец.
— Вань, — спросил высокий, хмурый старик, — что там слыхать про ба¬
сурман? Сказывают, опять идти на нас собираются?
— Ты на ярмарке был? — Петр спросил. — Как там цены?
— А правду, Вань, сказывают, что иные земли сами родят? Вот как трава,
к примеру, растет, так и рожь?
И вдруг стихли все: в открытой двери избы стоял царский посланник.
— Поспеши, Ваня, — сказал посланник. — Царь зовет.
— Хоть доесть-то дай, — сказал кто-то.
— Ничего, лопнет еще, а мне его живым доставить велено.
Все вокруг прыснули от смеха— шутка пришлась по вкусу.
— Ну, уж теперь точно в бояре произведут, — Петр Степану сказал не¬
громко.
В сумерках, сжатый с боков двумя сопровождающими, вошел он в цар¬
ский двор. Почерневшие хоромы еще дымились, повсюду слышался стук
плотницких топоров, пахло гарью. Весь двор был заставлен диковинными
сундуками, огромными столами с обожженными углами, креслами. Посре¬
ди двора тлел золотом пустой трон. Ивана подвели к нему и, надавив на
плечи, грохнули об землю.
Смолкли шаги за его спиной, и Иван остался один. Но вот тьма озари¬
лась множеством огней. Иван скосил глаза и увидел двигавшуюся к не-
му царскую свиту с факелами в руках. Малахон шел впереди. Возле Ива¬
на все остановились. Отражающимися в зрачках языками пламени гля¬
дел царь на Ивана. Голова его была забинтована, рука лежала в петле по¬
вязки.
— За птицу спасибо тебе... — сказал царь глухо, — большую радость
принес...
— Как дома? — уже из-за спины откуда-то тихо спросил царь. — Все жи¬
вы, здоровы?
— Все, царь-батюшка, — кивнул Иван, глядя на трон.
— Далеко ходил? — теперь слева от Ивана метнулся золотым узором по¬
дол царского платья.
— Далеко... — Иван с любопытством смотрел на сияющий носок сапога.
— Теперь еще дальше придется... — пасмурным голосом обрезал его царь.
Мелькнули в свете факела рыжая шевелюра и рука, бросившая перед Ива¬
ном связку новых лаптей.
— Люди мрут как мухи, — продолжал царь, прохаживаясь за спиной Ива¬
на, — лечить нечем... В темноте живем... Ты не принесешь живой воды —
никто не принесет...
Рядом с лаптями появилось деревянное ведро.
— Что молчишь?
— Уволь, царь-батюшка, — попросил Иван. — Шесть лет дома не был...
Жены не видел... Сын родился...
Царь побледнел вдруг и сказал тихо:
— Садись.
Иван растерялся.
— Садись!!! — заорал Малахон.
— Избави бог, что ты... — забормотал Иван.
— Садись! — жестко повторил царь. Отбивающегося Ивана подхватили
под руки и втащили на трон. Двое прижали к спинке, двое других держали
за руки.
— Теперь правь! — угрожающе сказал царь. — Раз сел, так правь!
— Отпусти с богом, — прошептал Иван.
— Отпустите его, — приказал царь. — Некогда ему тут рассиживаться.
Иван поднял ведро, лапти и молча пошел со двора. Из темноты появи¬
лась и медленно поехала за ним конная стража.
В избе было все так же шумно и весело. Терпеливо сидели и негромко пе¬
реговаривались прямые, сосредоточенные старики; соседи, прислонив¬
шись к стенкам, перекидывались шутками и похохатывали, а отец все улы¬
бался с печи. Марфа по-прежнему была у стола— она будто знала, что Иван
сейчас войдет, и первое, что он увидел, это ее озабоченный взгляд... Он про¬
шел мимо примолкнувших гостей и сел за стол, на который Марфа стави¬
ла уже миску горячих щей.
Множество глаз следило за ним.
— Батя, — поднял голову Иван, — я тебе валенки в другой раз принесу...
Потерпи еще малость...
Старики один за другим поднялись и направились к дверям...
Иван с лучиной в руке стоял в опустевшей избе и удивленно смотрел на
свое отражение в медной начищенной сковородке, висевшей у печки. На
него глядело пересеченное шрамом, жесткое, обгоревшее лицо.
— Это я, что ли? — усомнился Иван.
— И я рядом, — светло улыбнулась Марфа. И добавила: — Это мы, Ваня...
Я ведь судьба твоя!
На печке бормотал что-то старик во сне. Возле него спал Петька.
Потом Иван и Марфа сидели на постели в неясном свете луны, лившемся
в слюдяное окно. Где-то за печкой стрекотал сверчок. Марфа трогала рукой
обожженные волосы мужа, проводила пальцами по губам, касалась его гру¬
ди, гладила брови, руки... В ее синих глазах было небо, уплывающее в яркую
глубь, белые взмахи, дрожащие в осколках солнца, неясные крики птиц...
В окно глядела окруженная лунным нимбом удивленная морда теленка.
Иван засмеялся. Он сидел рядом с Марфой и положил ей руку на голову.
Марфа взяла его руку и поцеловала.
Занавеска отодвинулась, и они увидели стоявшего босиком на полу сына.
Иван поднял его и отнес на печку. Затем вернулся и, взяв за руку Марфу,
тихо вышел с ней из избы.
Они осторожно миновали спящую стражу и побежали в поле. Лишь один
стражник поднял голову и молча посмотрел им вслед.
Иван с Марфой пробежали по убранному полю мимо снопов сжатого хле¬
ба и спустились к темно сияющей реке. На ходу они скинули одежду и всту¬
пили в сонную глубину отраженного в ночной воде неба... И вспыхнуло тот¬
час и полетело другое небо — живое, расплавленное в солнце, бескрайнее...
Утром стражники долго громыхали в дверь. Потом распахнули и пошли
внутрь. Но только дед и Петька смотрели на них с печи.
Вся деревня была на ногах. Люди высыпали на улицу и глядели на иду¬
щих к ним и далеко видных в прозрачном утре Марфу и Ивана. Они подо¬
шли с какой-то особенной легкостью, будто не было у Ивана этих послед¬
них лет, — повзрослевшее лицо его разгладилось и посветлело.
Марфа вбежала в избу и вынесла Ивану связку лаптей, ведерко и котом¬
ку. Иван улыбнулся ей.
Провожали его молча, всей деревней. Провожала и стража, оставившая
своих коней. Никто не отвел глаз, когда далеко за околицей прощался Иван
с Марфой и сыном. Глядели с жалостью и добром. Глядели, как оторвался
от них Иван и пошел по дороге, один, неизвестно куда...
Иван стоял на горячем песчаном берегу реки и, опустив посох в прозрач¬
ную воду, наблюдал за пробегающими мимо него стайками мальков.
«Эх, Ваня, Ваня...— засмеялся хор. — Так бы и любой дурак нашел...»
Но вдруг мальки прыснули в разные стороны, в ушах раздалось некое по¬
добие первых громовых раскатов. Иван испуганно огляделся и увидел вда¬
леке сначала блеснувший на солнце шлем, а затем и знакомую громоздкую
фигуру всадника.
— Балдак! Балдак Борисович! — радостно заорал Иван и, размахивая по¬
сохом, побежал к нему навстречу.
Богатырь придержал коня и поехал медленнее. Он молча смотрел сверху
на семенившего рядом человека.
— Ты что, не узнаешь? Это же я, Иван! Который Лукопёр!
По лицу великана пробежала легкая тень, но ответа не последовало.
— Зимой... помнишь? — не унимался Иван. — Мы еще бились с тобой.
— Так почему же ты жив? — удивился богатырь.
Балдак Борисович, только повзрослевший, с первыми следами усов и бо¬
роды, посмотрел на него внимательно и медленно покачал головой:
— Нет, с тобой я не бился...
— Может, скажешь, что ты не Балдак?
— Я не Балдак.
— Но я же вижу, что ты Балдак! — Иван начал злиться.
Одна рука богатыря остановила коня, другая потянулась к мечу.
— Сам ты Балдак!!! — лицо его потемнело, глаза начали наливаться кровью.
— А ты кто такой?! — взбеленился Иван, решительно сжимая посох.
— А я Далбак! — грозно сказал богатырь и вынул меч.
— Как Далбак?
— Так Далбак.
— Борисович?
— Борисович.
— Значит, брат?
— Чей брат?
— Балдака. Ты брат Балдака?
— Да, я его брат.
— А-а...
Далбак спрятал меч. Иван опустил палку. Помолчали. Потом Иван спросил:
— Ты туда?
— А куда же?
— Подвезешь?
— Садись.
Богатырь взял Ивана за шиворот и посадил на коня позади себя.
Скоро они въехали в осиновую рощу.
— Осина, — сказал Далбак Борисович.
От гулких ударов конских копыт вся роща мелко трепетала. Сквозь гул
этот сначала едва слышно, затем все явственней стал различим ангельский
хор. Конь пошел медленнее, и справа от себя Иван увидел исполосованную
черными щелями деревянную церквушку. Замкнутые ее куполом, слива¬
лись воедино дрожащие детские голоса.
— Церковь, — сказал богатырь.
Внезапно пение прекратилось, и из церквушки суетливо выскочил ма¬
ленький, заросший черным волосом поп с огромным крестом в руке.
— Поп, — сказал Далбак Борисович.
Следом за ним с шумом высыпали оборванные глазастые ребятишки.
— И дети, — сказал богатырь.
Увидев его, те рты пораскрывали... Поп, волнуясь, бегал перед богатыр¬
ским конем и, то появляясь, то исчезая с глаз Ивана, кричал высоким, сры¬
вающимся голосом:
— Добро пожаловать! Милости просим!
— Здравствуйте, — Далбак Борисович наклонил голову.
— Может, перекусить желаете?
— Перекусить можно, — согласился богатырь.
— Идемте, идемте за мной, — обрадовался поп и засеменил впереди.
Всадники, окруженные гурьбой ребятишек, поехали следом.
Скоро показалась деревня. Ехавший в телеге навстречу мужичок вежли¬
во поздоровался. Богатырь с Иваном кивнули, потом оглянулись недо¬
уменно: телега была привязана к хвосту лошади.
— Видал? — постучал Иван по кольчуге.
— За хвост привязал, — сказал Далбак.
У крайней покосившейся избы, у втоптанного, разломанного забора повстре¬
чали они другого мужика. Он был взлохмачен, словно со сна, и бос. «Ну
как?»— крикнул он в сторону недовольным голосом... Вдалеке на огороде разо¬
гнулась бабка и помахала в воздухе выдернутой из земли свеклой: «Мала еще!»
Мужичок подумал и махнул рукой: «Ну, пущай дальше растет! Всунь
обратно!»
И баба принялась запихивать свеклу обратно в землю.
Поп виновато улыбнулся, потом, выставив перед собой крест, подбежал
к калитке единственного целого забора.
— Сюда, сюда, — позвал он.
Иван лег на коня животом и с ведром, посохом и лаптями полетел вниз.
Следом спешился и богатырь. По огороду, не кудахтая даже, а истошно
взвизгивая, петляя между кочанами капусты и пытаясь взлететь, неслась
курица. За ней гналась разъяренная попадья.
— Держи, хватай ее!
Иван кинулся наперерез курице и, упав, поймал ее. Попадья налетела,
выхватила у него курицу и начала сечь ее прутом.
— Ах ты, курва! Цыплят целый двор вывела, а титек не отрастила! Чем
кормить будешь?!
— Что это с ней? — удивился Иван.
Далбак Борисович пожал плечами: «Сдурела».
Поп вырвал у жены курицу и принялся заплетать попадье палец за палец
на руках.
— Ну сколько раз тебе повторять?! — чуть не плача приговаривал он.
Попадья стала успокаиваться.
— Что ж, так и ходить все время? — пролепетала она, глядя на свои руки.
В овине кто-то хихикнул сдавленно, поп мгновенно насторожился.
— Так и ходи, — тихо ответил он, оглядываясь. Потом подбежал к гостям
и, кланяясь и указывая на стол под яблоней, забормотал:
— Садитесь, садитесь, я мигом! — и метнулся к сбившимся в кучу детям.
Пробежав вокруг них с палкой, он обвел на земле охранительную черту,
взмахнул рукой, и дети запели. Сам же засеменил к дому.
Стоявшие на крыше дома через дорогу тянули на избу корову. Для коро¬
вы такое приключение было, видно, внове: она упиралась копытами в сте¬
ну и хрипло мычала.
— Не торопись, голубушка, — кричала снизу баба. — Вся травка твоя бу¬
дет! — Потом повернулась к мужику, шедшему мимо и тащившему козу за
хвост, и сказала с гордостью:
— Видишь, сколько у нас травы на крыше выросло!
— Ишь ты! — поразился тот. — Поливаете, что ли?
— Поливаем.
И Далбак Борисович поразился:
— Сколько дураков сразу!
«Это только в одной деревне...» — вздохнул хор.
Стол был завален уже хлебом, заставлен кувшинами молока. Путаясь в
рясе, поп с трудом тащил ведро щей.
— Ты крест-то положи, рука освободится, — подсказал Далбак Борисович.
— Что ты!— испугался поп. — Как же без креста?!
Богатырь залпом выпил кувшин молока, взял здоровенный ломоть хле¬
ба, а черпак окунул в щи.
Поп, замерев, с восторгом смотрел на Далбака.
Потом с жалостью оглянулся на детей.
— А у нас тут... — он махнул рукой. — Дела...
— Да-а, — посочувствовал Иван.
Далбак, не поднимая головы от ведра, кивнул. Иван с опаской огляделся
и прошептал:
— Псалтырь читали?
— Много раз, — вздохнул поп.
— С образами выходили?
— Выходили, не помогает.
— Соль по углам сыпали, коренья жгли?
Поп утвердительно кивал. Иван задумался, потом весь подался вперед и
зашептал возбужденно:
— Есть верный способ. Надо кидать овечью шерсть клочьями вверх и
приговаривать: «Чур меня, чур меня».
— Да делали, делали! — горестно ответил он. — Обнаглели гады, не боят¬
ся ничего.
—Аминем беса не отбудешь, — промычал богатырь набитым ртом.
— Домовые, овинные? — спросил Иван, кивнув в сторону построек.
— Э-э, сынок, кого тут только нет: и домовые, и овинные, и водяные, и бо¬
лотные...
Иван наклонился к его уху и еще что-то спросил. Поп горестно посмот¬
рел на него и ответил еле слышно:
— Думаю, что и Сам тут...
Богатырь уже очистил весь стол, собрал в горсть крошки и кинул в рот.
— С кем биться-то надо?! — спросил он деловито.
— Спаситель! — вскричал поп и упал коленями в пыль. — Не биться. Од¬
ну только ночь на мельнице переночевать — страх на себя принять. Кто же,
кроме тебя, выдержит?!
— Никто, — согласился богатырь.
— Так останешься? — обрадовался поп.
Далбак Борисович покачал головой:
— На ночь не могу.
— Останься, — попросил Иван. — Видишь, детишки-то все равно что сироты.
Далбак вздохнул.
— Мне на подвиг пора. Басурмане прут. Дай бог, к утру до поля брани
добраться.
Поп зарыдал.
— И ехать пора, и поп плачет... Как быть? — сказал богатырь и задумался.
Иван в волнении расхаживал по двору.
Прислонившись к стене дома, всхлипывала, глядя на мужа, попадья со
сцепленными пальцами. Чуть поодаль, за углом дома, стоял к Ивану спи¬
ной человек в зимней шапке и валенках. Всем своим видом он показывал,
что не имеет к происходящему ни малейшего отношения, и, напряженно
откинувшись назад, прислушивался к разговору попа и богатыря.
Лицо Далбака наконец просветлело, и он улыбнулся.
— Я к вам на обратном пути заеду, коли жив буду.
Он встал, скрывшись головой в ветках яблони, громогласно поблагода¬
рил за угощение и, переваливаясь на ходу, гремя доспехами, направился к
своему коню. За ним, виновато потупившись, пошел Иван.
Незнакомец, как-то странно подпрыгивая в своих валенках, прячась за
деревьями, боком переместился ближе к калитке.
Богатырь взгромоздился на коня, протянул ручищу и поднял Ивана. Тот
увидел, как задрожала кольчуга на богатырской спине от звука его голоса:
«Не плачь, отец, вернусь — переночую».
Иван закачался, звякнула перед его лицом кольчуга, мелькнули в сторо¬
не поп с крестом в руке, попадья, поющие во дворе дети. Пропрыгали перед
его взором избы и дворы, выскочившие в испуге люди, и открылось сияю¬
щее на солнце золотое поле.
Когда подъехали ближе, Иван разглядел ползающих среди пыльных, вы¬
сушенных солнцем колосьев мужиков и баб. Они перегрызали каждый ко¬
лос зубами и срезанные таким образом колосья складывали в копны.
— Постой! — крикнул Иван и, соскользнув с коня, упал в дорожную
пыль.
— Ты чего, не едешь? — обернулся к нему богатырь.
— Не могу, хлеб-соль отработать должен, — ответил снизу Иван.
— И то правда, я свой хлеб всегда отрабатываю, — согласился богатырь и
тронул поводья.
«Зря!» — сказал хор.
Иван посмотрел ему вслед и, повернувшись, пошел назад, в деревню. На
краю поля стоял человек в шапке и валенках и перетирал в ладонях коло¬
сья. Когда Иван проходил мимо, он обернулся и быстро глянул ему в лицо.
Солнце медленно клонилось к западу. Скоро оно упало в лес, и закат обжег
полнеба.
— Пожар! — завопила деревня. — Солнце сгорело! Во тьме жить теперь!
К ночи охрипли голоса, и деревня слышна была лишь дальним протяж¬
ным стоном.
Было тихо и безветренно. Еле слышно скулил во тьме шедший рядом
с Иваном поп. Чуть поодаль неслышно двигалась чья-то тень... Потом
тень эта свернула с дороги в лес и, нелепо подпрыгивая, побежала.. Ско¬
ро она достигла края высокого, залитого ярким лунным светом пригор¬
ка, и тут оказалось, что это человек в шапке и валенках. С трудом, муча¬
ясь одышкой, он взобрался наверх и скрылся в старой заброшенной
мельнице.
Вскоре появились и поп с Иваном. Поп молча указал на мельницу рукой.
Иван увидел вдруг, как медленно сдвинулись и, нарушая неподвижный по¬
рядок тени и света, бесшумно поплыли ее крылья.
— Продержись только, милый... продержись до первых петухов, — молил
поп вслед Ивану. Потом, пригнувшись, побежал прочь.
Дверь тихо скрипнула, и Иван не раздумывая ступил на заляпанный лун¬
ным светом и белеющий сваленными как попало мешками с зерном пол. На
мельнице, видно, давно никто не работал.
Из-за мешков с кривой снисходительной ухмылкой наблюдал за Иваном
человек в шапке. Мужицкое, несколько надменное лицо его заканчивалось
козлиной бородкой, а толстый, картошкой, нос украшала неожиданная гор¬
бинка. Он поднес ко рту согнутую ладонь и заухал совой, зашумел ночным
лесом...
Иван напряженно вглядывался в пустые углы, но ничего и никого видно
не было... Вдруг жутко завыл волк... Потом над самой головой раздались
громовые раскаты и оглушительный треск и грохот...
Иван бросил ведро, посох и присел, обхватив руками голову...
— Ну что ж, можно начинать, — удовлетворенно прошептал человек за
мешками.
Иван пришел в себя, торопливо вынул из кармана уголек, очертил на по¬
лу круг и стал внутрь его.
«Давай, давай»,— сказал он и стал ждать. Но никаких звуков больше не
было. Стало так тихо, что Иван боялся пошевелиться...
Человек за мешками внимательно изучал его лицо.
Иван перевел взгляд на стену и увидел, как из нее высунулась рука и
пальцем поманила его. Иван удивился, почесал голову и вгляделся при¬
стальней. Точно: рука торчала прямо из досок. Он посомневался немного,
но любопытство взяло верх, и Иван пошел посмотреть, в чем дело.
Из-за мешков выскочил человек в шапке и валенках, мгновенно стер круг
тряпкой, а уголек съел.
Палец, манивший Ивана, согнулся и вместе с другими пальцами составил
фигу. Мельницу потряс громовой хохот. Иван кинулся назад— круга нет.
— Вот гады! — возмутился он.
Тут захохотало, завыло на все голоса, и изо всех стен, из-под пола, с по¬
толка вылезли руки с фигами.
— Чур меня! Фу, фу! — заорал Иван, и руки пропали. Вновь стало тихо.
«Ну все, Ваня, — вздохнул хор. — Попрощаемся...»
Глаза человека, стоявшего за мешками, сияли поистине нечеловечес¬
ким огнем. Он вдруг решительно скинул шапку, обнаружив старые облу¬
пившиеся рога на плешивой голове и, вильнув задом, выпустил наружу
хвост. Затем лихорадочно сбросил валенки и на полустершихся копытах
отбил короткую чечетку. Поплевал на лапы и... из-за мешков к Ивану вы¬
шел его сын Петька. «Тятя, тятя!»— бежал он к отцу. Иван протянул ру¬
ки и вдруг с ужасом увидел, как провалился Петька за два шага до него и
с криком полетел в колодец. Иван чуть было не бросился за улетевшим
вниз сыном, но вовремя очухался. «Чур! Чур!» — отпрянул он. Никакого
колодца не было перед ним, лишь в ушах еще крик стоял. Лицо его по¬
крыла испарина.
Сам — а это, конечно, был он— стоял в темном углу, и огоньки его красных
глаз возбужденно вспыхивали. «Не взяло,— озадаченно прошептал он. — Ну ни¬
чего...» Он вдруг заржал, забил копытами и с криком «Вперед!» ринулся в атаку.
Иван увидел, жмурясь от яркого солнца, что стоит совсем один посреди
чистого поля, а на него с гиканьем и улюлюканьем в блеске доспехов, с ко¬
пьями наперевес несется конное войско. Оглянулся — позади родная де¬
ревня, отступать нельзя. А конница все ближе: ржут кони, высверкивают
взлетевшие мечи. Вот-вот сомнут, раздавят, разрубят, поднимут на копья...
Иван хищно ощерился, и из груди его вырвался страшный медвежий рык...
Сбились ряды войска, закружились, завставали на дыбы кони... Что было
сил зарычал Иван, и смятая, вопящая в панике конница бежала прочь...
Иван, стоя на карачках, рычал в пустой мельнице. Потом затих и ошале¬
ло огляделся. Никого не было. С него градом катил холодный пот.
Растерянный Сам сидел за жерновами, блуждал по сторонам огненным
взором и кусал губы. «Опять не взяло... Что это я сегодня? Пить надо кон¬
чать...» — с этими словами он достал бутылку, судорожно глотнул, понюхал
кончик хвоста и еще глотнул. Выглянул — Иван уже на ногах стоит. Тогда
Сам встал на четвереньки и выполз из-за жернова... Иван увидел, как кину¬
лась из-за угла к его избе свинья, за ней другая, третья... Вот уже множест¬
во свиней подрывают под домом с заколоченными окнами и дверью, а из
дома несутся крики Марфы, сына, отца: «Ваня! Спаси!» Дом кренится, вот-
вот рухнет... Иван бросился к свиньям. Но дом продолжал падать, и тогда
Иван уперся в него спиной...
«Ну, все! — обреченно сказал хор. — Теперь точно — все!»
Кряхтя, упираясь из последних сил, держал Иван... стену мельницы. Сам
бегал вокруг, щупал пульс, слушал сердце, заглядывал в лицо.
— Ну, черт деревенский, ну, милый, ну, родной! Ты ведь можешь еще, мо¬
жешь!— колотил он себя в грудь и со страхом глядел на расползающуюся
ночь. Все еще держа в руке пустую бутылку, оглянулся. Иван, по-прежне¬
му подпиравший стену, вдруг раздвоился. Сам тряхнул головой — Иван
снова стал один. «Ну докажи, касатик! Ну! Вперед!»
Иван поднял голову: перед ним в царской спальне стоял пьяный Мала-
хон с бутылкой в руке. Подошел, покачиваясь, и протянул к нему руку...
Оттолкнул его Иван, и Малахон упал на пол: только смотрит Иван — не
его это руки царя толкали, а девичьи. Глянул в зеркало — так и есть, девка.
А Малахон снова кинулся. Схватились они, вывернулся Иван и зацепил
царя за бороду...
А по белеющей в ночи дороге уже бежал поп. В одной руке он держал пе¬
туха, а ладонью другой сжимал ему голову. Он бежал по серебристому от
ночного света полю, по темному, вырастающему стволами на пути лесу и
выбежал к мельнице. Он отпустил голову петуха, но петух молчал.
— У-у, поповское отродье! — приникнув к щели в стене, Сам скреб доски
железными когтями. Потом выхватил из-за пазухи книжечку и, погляды¬
вая на вцепившегося в мешок Ивана, стал судорожно листать черные стра¬
ницы с белыми буквами. — Ну что еще, что еще? — бормотал он, держа
спьяну книжку вверх ногами.
Из мешка, по которому лупил Иван, сыпалось уже зерно...
Поп что было сил ущипнул петуха, и тот заорал не своим голосом.
Сам плюнул, бросил книжку и с криком «Пропади ты все пропадом!»
схватил бутылку и трахнул ею Ивана по голове.
«Ну уж это черт знает что!» — возмутился хор.
На улице безостановочно вопил петух.
Иван очнулся, потрогал ушибленную голову и, подняв глаза, увидел пе¬
ред собой пьяного разъяренного черта. Недолго думая, он влепил ему опле¬
уху, и черт, отлетев, врезался в стену.
— Ты чего дерешься?! — завопил он.
— А ты чего?!
— Да я тебя! — кинулся было в драку Сам, но Иван успел поймать его за
хвост и, раскрутив, снова грохнул об стену.
Мельница сотрясалась от могучих ударов, поп, замерший от изумления
с кричавшим петухом в руках, увидел вдруг, как распахнулась дверь
мельницы и из нее выскочил рыдающий черт, а за ним вылетели котомка,
шапка и книжка.
Иван хотел было кинуть и валенки, но передумал.
Сам, не разбирая дороги, несся прямо на попа, но в последнюю минуту
увидел его, и оба в ужасе отпрянули друг от друга. Петух, выпущенный по¬
пом, заголосил и, хромая, бросился бежать. Ошалевший черт подпрыгнул и
ударился в другую сторону.
Хор заулюлюкал вслед.
— Эй! — завопил Иван ему. — Постой!
Сам присел на ходу, втянул голову в плечи и обернулся.
— Где живая вода? — крикнул Иван.
Черт махнул лапой в сторону и припустился пуще прежнего.
Поп торжественно стоял на коленях и с благоговением смотрел, как по
обсыпанному росой пригорку медленно спускался к нему седой Иван.
— Спаситель, страстотерпец... — начал поп. В эту минуту из деревни до¬
неслись крики, поп обернулся и продолжал: — Родной, великомученик, ча¬
совню на этом месте поставим, храм белокаменный...
Крики из деревни сделались громче, стал слышен чей-то истошный визг.
По дороге бежали к пригорку дети.
— Паломники хлынут к твоим мощам...
— Каким мощам? — Иван с удивлением смотрел на распростертого у его
ног попа.
— Так ведь похороним-то как святого.
— Ну это еще кто кого похоронит! — Иван тряхнул головой, и мука, де¬
лавшая его седым, осыпалась.
— Дедушка, дедушка! — кричали, подбегая, дети. — В деревне нечистых
бьют!
Поп вскочил.
— Я сейчас! — и, развеваясь черной рясой, понесся в село. Ребятишки по¬
вернули и побежали следом.
Иван половчей приладил за спиной валенки и лапти, подхватил ведерко,
посох и пошел в деревню.
А там — охота, бой, кутерьма! С чердаков тащат заросших, грязных
домовых, бьют мычащих, хрюкающих, запутавшихся в сене овинных.
Носится по дворам поп и кропит нечисть святой водой, отчего те виз¬
жат, как ошпаренные. Мужики в подштанниках тянут из реки сеть, а в
сети водяной — обросший ракушками, увешанный жабами, как боро¬
давками, с огромными прозрачными глазами. Пленных нечистых, свя¬
занных одной веревкой, хнычущих и ревущих в голос, волокут уже в
какой-то сарай...
А возбужденные, радостные мужики, очистив деревню, рассыпаются по
полю, по перелескам; проверяют кусты, роются в стогах...
— Полевой! — кричит вдруг кто-то, и все мчатся к бредущему по полю че¬
ловеку, обвешанному валенками и лаптями, с ведром и посохом в руках.
Иван замер на мгновение при виде бегущих к нему и размахивающих коль¬
ями мужиков, повернулся и помчался прочь.
— Держи его! Хватай полевого! — кричали и улюлюкали ему вслед.
— Постойте! — подняв руками рясу, несся поп следом. — Это же спаси¬
тель ваш!
Встал запыхавшийся, обессилевший Иван, встали мужики, услыхавшие
призывы попа. Переводя дух, погоня и Иван смотрели друг на друга. По¬
том с криками «Спаситель!» мужики вновь кинулись к Ивану. Иван расте¬
рялся, помедлил и побежал прочь. Мужики стали отставать, остановились
и долго смотрели ему вслед.
Целый день шел Иван, целый день не встретил ни единой души, и лишь
к вечеру увидел он скачущую по полю лошадь. Когда она поравнялась с
ним, Иван разглядел ногу, застрявшую в стремени, и убитого, волочивше¬
гося за лошадью в высокой траве. Следом прохромал, опираясь на обрубок
пики, басурманин... Потом вдали загрохотало, грохот стал приближаться, и
в столбах пыли появился Далбак Борисович. Черный от пороха, с зазуб¬
ренным мечом и погнутым шлемом, он был по-прежнему спокоен и вели¬
чав. На коне перед ним сидела и радостно смеялась богато одетая красивая
девица. Богатырь остановил коня и поздоровался с Иваном.
— Ну как? — спросил Иван.
— Что как?
— Сколько положил?
— Да тысяч десять положил, не меньше, трое убежало, одну княжну осво¬
бодил. Одна и была всего. А ты как?
— А я никого не положил, один убежал, освободил душ двести, не
больше.
— И то дело для начала...
— Ну, я пошел, — сказал Иван.
— А я поехал, я ж на коне... — Иван сделал несколько шагов, богатырь
тронул коня ногой.
— Брату кланяйся от меня, — обернулся Иван.
— Какому брату?
— Своему.
— Какому своему?
— Ну, твоему, — насупился Иван.
— Я понимаю, что моему, не дурак.
— Так чего же ты мне голову морочишь?!
Далбак положил руку на меч, княжна пригнула голову.
— Ты чего привязался? — богатырь угрожающе подался вперед. Иван от¬
ступил на шаг и напрягся.
— Я привязался?!
— А я, что ли?!
— Я тебе сказал: Балдаку привет передай!
Далбак Борисович облегченно вздохнул.
— Так бы и сказал, что Балдаку, а то брату...
— А он что, не брат?
— Брат.
— Так какого хрена!
— Какого хрена?
— Ты что, не понимаешь, что раз брату, то Балдаку, значит?!
— Не понимаю, — снова нахмурился Далбак.
— Почему-у?!
— Потому.
— Чего «потому»?! — заорал Иван, и лицо его скривилось от обиды.
— Потому что нас трое братьев: Балдак, Далбак и Дундук Борисовичи.
Понял?
— А-а-а...
Помолчали.
— А кто же старший, кто младший?
— Никто.
— Как — никто?
— Так — никто.
Иван заплакал.
— Ты чего плачешь?
— Не могу понять ничего, — всхлипнул Иван.
— Чего ничего?
— Того ничего, что никто никого... старший, младший...
— Вот дубина, я ж тебе сказал, что никто не старший, не младший.
Иван снова заплакал.
— Ты чего?
— Как же так может быть?
— А так.
— Как? — взвыл Иван.
— Мы все в один час родились, мы братья-однобрюшники.
— А-а-а... Так бы и сказал.
— А ты спросил?
Иван вытер слезы.
— Ну, бывай.
— Бывай.
Далбак Борисович развернулся и поехал прочь.
И Иван пошел своей дорогой. Потом вдруг спохватился и крикнул:
— Эй, Далбак! Живую воду не встречал?!
Но богатырь был уже далеко.
— Да где же она... — пробормотал Иван.
«Где-где... — вздохнул хор. — На краю света, Ваня. На самом».
А Иван все шел и шел.
Шел тропами звериными запутанными...
Шел торной лесной дорогой...
Продирался сквозь дремучую стену леса...
Сквозь стену ливня в бескрайней степи...
Сквозь грязи...
Сквозь топи болотные...
Переплывал бурные реки...
Карабкался по снежным кручам...
Шел песками зыбучими...
Все шел и шел...
Палило солнце, а пескам не видно было конца.
«Правее, правее забирай», — подсказал хор.
Частые крупные звезды сияли повсюду — до самых дальних пределов не¬
обозримых песков.
И вновь солнце раскаленной сковородкой нависло. Пески плавились,
воздух плыл в раскаленном мареве.
Босой, черный от солнца, высушенный, словно мумия, с посохом и вед¬
ром в руках брел Иван по горячим пескам.
И набрел нежданно-негаданно на рай: сквозь марево жгучее озеро заголу¬
бело с ивами плакучими. Протер глаза: нет, не сон. Подошел ближе, тронул
воду посохом — круги побежали... Навернулись у Ивана слезы на глазах—
откуда влага взялась? Высыпал он из ведерка пыль песочную, нагнулся и
зачерпнул из озера. Дрожащими руками поднес ведро ко рту, смотрит — пе¬
сок вместо воды. Глядь — и озера нет, пустыня одна жаркая.
«Тут так, Ваня, — сказал хор. — А ты как думал? Тут уж не до жиру».
И снова пошел Иван. То и дело теперь реки по пути попадались, сады
вишневые, несколько раз деревня родная встретилась. Но равнодушно
Иван мимо шел, не обернулся даже, когда Марфа его с их двора окликнула.
А однажды средь пустыни забор появился. Обыкновенный дощатый забор
без конца и края путь перегородил. Подошел к нему Иван, ткнул посохом—
деревянный стук раздался. Тронул рукой — забор и есть. А что за ним — не
видать, высоко. Вскинул Иван посох, зацепился его крюком за верх забора
и подтянулся. Покачнулся забор, заскрипел и стал падать. И увидел Иван,
лежа животом на нем, что за забором ничего не было... И в это ничто его по¬
сох полетел. Меж тем забор застыл, наклонившись, и тихо раскачивался...
Нет, не небо продолжалось вниз, а, сливаясь с небом в один лазурный цвет,
неподвижно лежала под ним вода. И еще увидел Иван отраженных в воде
трех китов, держащих на спинах своих всю тяжесть земли.
«Край света, — хор прошептал. — Он самый».
Сполз Иван с забора, и тот вновь распрямился. Глянул: ведро осталось, а
посоха нет. Тогда Иван выломал несколько досок и вниз глянул: далеко
внизу посох его плавает, весь в зеленых листьях.
«Живая... — дохнуло средь песков. — Вот она... Внизу... Поди достань...»
Сел Иван — идти дальше некуда, глянул на ненужное больше ведро.
Солнце плавилось в зените, и все вокруг — и пески, и воздух — плавилось
и качалось. И Иван плавился и раскачивался.. И солнце раскачивалось в
плывущем, раскаленном мареве... Иван медленно поднял руку — солнце у
него как раз на ладони оказалось — и остановил его. Солнце жгло ладонь,
но Иван руку не отнял. Только зубы сжал, да пот на лбу выступил. Потом
медленно обхватил солнце пальцами и с силой швырнул его вниз, в дыру.
Там взрыв шипящий раздался.
Иван глянул на обожженную ладонь и вновь поднял ее к солнцу. И сно¬
ва швырнул его вниз.
«Мозговит!» — с уважением прошептал хор.
Вновь — взрыв и облако пара снизу.
Иван с азартом, с яростью уже брал, раз за разом, и швырял солнце в оке¬
ан. Взрывы следовали один за другим, и скоро клубы пара окутали все, по¬
крыли забор каплями, оседали влагой в ведре.
Весь стол дико захохотал и загрохал чарками, расплескивая вино.
— На китах, ой, не могу!
— На котах! — взвизгнул кто-то. Прыгали языки множества свечей, пры¬
гал залитый вином дубовый стол, прыгали бубны в руках пляшущих ско¬
морохов, метались цветные сарафаны, богатые кафтаны.
Царь хохотал вместе со всеми, обнимая одной рукой хохочущего, черно¬
го от солнца Ивана, перед которым на столе стояло его деревянное ведерко.
— Вымыслы! — закричали из конца низкой сводчатой залы.
— Вымыслы! — подхватили из другого ее конца.
— Вымыслы! Вымыслы! — закричали все хором.
Шуты колотили пятками, орали:
— Эй, кит, китик, вылезай выпить!
Карлик в колпаке забрался на стол и захромал к ведру. Здесь он сделал
вид, что помазал водой из ведра «больную ногу», и, подпрыгивая, пустил¬
ся в пляс меж чарок и блюд.
Разживись живой водой,
Сразу станешь молодой!
Тут карлик медленно поднял вверх прямую ногу. Все заржали, повали¬
лись на стол. Царь перегнулся с кресла и повис на Иване:
— Правда, что ли, живая, а, Вань?
— Ага, — смеясь со всеми, кивнул Иван.
— Может, проверим? — крикнул царь.
— Проверим!!! — взревел стол.
— Кто желает? — хохотал царь. Шут в паническом ужасе спрыгнул на пол.
Все замолкли...
Только Иван, глядя на хохочущего царя, смеялся.
— А-а! — махнул рукой Малахон и положил голову на стол. — Всем смер¬
тям не бывать, а одной не миновать! Рубите мне!
Иван, зараженный его весельем, крикнул:
— Где топор?!
И вдруг все обрадовались, вскочили и бросились освобождать место на
столе. Полетели блюда, чарки... Кто-то завернул царю руки за спину, кто-
то держал уже голову.
— Топор! Где топор?! — кричало сразу несколько голосов.
Малахон с трудом вырвался, бледный как полотно, он обвел всех свире¬
пым, внимательным взглядом. Но через мгновение он уже смеялся и качал
головой, глядя на Ивана:
— Ишь, какой хитрый! А если тебе?!
— А что, валяйте! — с готовностью воскликнул Иван и, положив голову,
с улыбкой поглядел на царя.
— Давайте скорей! — крикнул Малахон. Рыжий уже волок огромный
топор.
— Ну, Ванюша! — хохотал царь. — Смелей! Слово даем, что обратно при¬
ставим?!
— Даем!!! — завопил рыжий.
Все расступились, и около улыбающегося Ивана остался палач. Корчась
от смеха, он с трудом поднял топор...
...Марфа, тревожно ходившая по избе, вдруг остановилась, охнула и схва¬
тилась за сердце. Потом кинулась к двери...
Обезглавленное тело Ивана сидело в кресле.
— Не приставляйте! — сжимая кулаки, крикнул царь.
— А слово! — возразили пьяные голоса бояр. — Кто слово давал?!
— Не хочу-у! — с налитыми кровью глазами орал царь и топал ногами. —
Нет моего согласия!
По темной дороге, задыхаясь бежала Марфа. Голова ее была наполнена
гулом, она не ощущала ничего, кроме тугих ударов ветра в разгоряченное
лицо и враждебного, воющего пространства.
Приближенные сгрудились вокруг Малахона. Шел спор.
— Как хочешь, царь, а совестно! — веско сказал старейший, белый как
лунь боярин.
— Царское слово крепко держать надо! — воскликнул другой, носатый, и
пошатнулся.
— Ну, ты меня не учи! — нахмурился грозно Малахон. — Я своему слову
хозяин — хочу держу, хочу нет.
— Ну так будем приставлять или нет? — мокрый от усердия рыжий тря¬
сущимися руками старался поровнее приладить голову Ивана на прежнее
место. — Я держать устал!
Седой кивнул ему и показал рукой: приставляй.
Царь молчал, лишь выперли на скулах и побелели желваки.
Некто из свиты, коренастый и красномордый, зачерпнул чаркой из ведра
и, спотыкаясь, с вытянутой рукой пошел к Ивану. Возле царя он приоста¬
новился и сказал:
— Ну чего ты психуешь? Какая живая вода? Чушь все это! Сказки народ¬
ные! Да ни в жисть не прирастет... — И пошел дальше. Около Ивана обер¬
нулся и спросил: — Ну что, взбрызнем для порядка?
— Давай,— процедил сквозь зубы Малахон, — чтобы разговоров не было...
Красномордый приблизился к Ивану, набрал в рот воды и, надув щеки,
прыснул что было силы...
Иван открыл глаза, и сквозь туман увидел веселые, красные, пьяные чьи-
то рожи. Они таращили глаза и орали немыми ртами. Иван почувствовал
боль и, подняв руку, потрогал свежий рубец на шее. Потом его потревожил
какой-то прорвавшийся в его сознание звук, он опустил глаза и увидел шу¬
та, вылезшего из-под чьих-то ног и тычущего в его сторону пальцем. Ива¬
ну слышен был лишь его пронзительный, визгливый смех, и только спустя
несколько мгновений хлынули крики и хохот.
— Жив, опять жив!
— Ай да Иван!
— А голову-то криво приставили!
Он понял, что смотрит куда-то вбок, но, чтобы перевести взгляд, ему при¬
шлось повернуть все тело. В поле его зрения обнаружился царь, который
подмигнул ему радостно и напустился на рыжего:
— Ты что же, обалдуй ржавый, сотворил?! Ты как голову приживил? А ну,
давай по-новому руби!
Затем Иван услышал свой смех и голос:
— Не надо, не надо, и так сойдет!
— Смешно дураку, что рот набоку, — пошутил красномордый, и все захо¬
хотали.
Потом Иван услышал, как крикнул Малахон:
— Я пью за Ивана! — и увидел царя, стоявшего с полным до краев бока¬
лом красного вина в поднятой руке. — Жив Иван, потому что живуч, а жи¬
вуч, потому что жизнь любит, жить любит, шельма! — И все закричали, а
царь, выпив до дна, кинул бокал через плечо.
Метнулся рыжий и у самого пола этот бокал подхватил... И вновь запели
девки, заплясали, забили в бубны скоморохи, зашумел стол.
Внезапно рядом раздался высокий голос шута:
— А вода-то вкусная!
Карлик стоял на столе возле ведра и размахивал кружкой.
— Проверим? — крикнул чей-то хмельной голос.
— Проверим!!! — взревели бояре.
Ветер сшибал Марфу с ног, расплел, растрепал ее косу, обхлестнув сара¬
фаном, вылепил фигуру. Все труднее давался каждый шаг. Скоро показа-
лись впереди черные изломанные очертания царских жилищ. В развеваю¬
щемся кафтане, подхваченный ветром, несся ей навстречу какой-то чело¬
век. Он поравнялся с ней и исчез за спиной, а Марфа, продолжавшая бе¬
жать, вздрогнула вдруг от застрявшего в ушах крика. Ветер, казалось, оста¬
новил ее наконец... потом повернул круто и одним порывом бросил навст¬
речу словно повисшему в воздухе, бегущему к ней Ивану...
Так они встретились в третий раз.
Старейший из бояр схватил ведро и, запрокинув голову, забулькал. Се¬
дая голова его стала темнеть на глазах...
Тут уже все повскакали!
Вмиг все смешалось, несколько рук схватились за ведро, дернули— поле¬
тели щепки,— и живая вода пролилась на стол. Какая-то девка упала на ко¬
лени и принялась ловить ртом сбегающую со стола струйку, старейший из
бояр все молодел и превратился уже в юношу, а меж ног великана, в про¬
шлом карлика, застрявшего в потолке по пояс, пробежала, хрюкая, вско¬
чившая с блюда свинья под хреном. Каравай хлеба заколосился и налился
зерном; жареные гуси встрепенулись, загоготали и залетали; из пола под¬
нялся молодой лесок, пробилась травка, зацвели цветы. Девка встала с ко¬
лен беременной, а рядом, уцепившись за край ее сарафана, хныкал, путаясь
во взрослых одеждах, вернувшийся в далекое детство боярин.
Все катались по траве меж грибов и, схватившись за животы, умирали от
хохота...
Лишь царь стоял в стороне. Он был мрачен.
В теплой избе горели лучины, лилась протяжная песня. Пели сидевшие
за уставленным едой столом и на лавках вдоль стен девки, бабы и мужики,
пели седые старики и старухи, старшие братья Ивана, пела Марфа, серьез¬
ный, вихрастый Петька и пятилетний Степан. Только печь была пуста...
Новые валенки стояли на месте, где прежде был отец. Иван оглядывал род¬
ные загорелые, обветренные, синеглазые крестьянские лица, и хриплый го¬
лос его вплетался в долгую, раздольную песню...
Долина моя, долинушка,
Долина моя широкая,
Раздолье мое далекое!
Иван счастливо улыбался, обнимая правой рукой младшего сына и по¬
глядывая на сидевшую рядом Марфу. Песня, закончившись, не прекрати¬
лась, а незаметно продолжилась другой...
Приоткрылась дверь, мигнул, позвал его глаз рыжего царского прислуж¬
ника, и вновь медленно притворилась, никто из поющих не заметил... Иван
улыбнулся Марфе, тихонько встал и, пробравшись среди гостей, вышел из
избы.
В ветреной ночной тьме развевались гривы коней, темные, вихляющие
фигуры людей обступили его и сжали в кольцо. Кольцо это раскачивалось,
хмельно поблескивали глаза, лица, разукрашенные синяками и шишками,
кривились от сдерживаемого смеха. Все то и дело прыскали, толкали друг
друга локтями. К Ивану шатнулся царь и схватил его за грудки:
— Ну вот... значит... — Смех душил его, он побагровел, замолк на мгнове¬
ние, потом продолжал:
— Мы вот тут совет держали и порешили...
Кто-то из свиты не выдержал, повалился на землю и, воя от смеха, пока¬
тился.
— ...и порешили: пойдешь туда, не знаю куда...
Рыжий уткнулся соседу в грудь и застонал, заглушая одеждой рыдания.
Голос Малахона срывался, слезы застилали глаза, текли по щекам:
— ...и принесешь то, не знаю что... и ничего другого, прочего... только это...
и не перепутай... У-у-у... — завыл он вдруг и рухнул назад, в толпу.
Все уже откровенно, в голос, хохотали.
Иван стоял прямой и спокойный, голова его была повернута в сторону,
глаза смотрели мимо царя, в ночь. Он молча повернулся и пошел к дому.
Когда Иван открыл дверь, из глубины избы, из-за дальнего края стола
глянули на него огромные, испуганные глаза Марфы. Взгляды их встрети¬
лись. Марфа догадалась обо всем, и лицо ее померкло.
Песня стала стихать, распадаться на отдельные голоса и вскоре замерла.
Как когда-то на своей свадьбе Иван с Марфой сидели рядом, во главе
стола. В молчании все смотрели на них.
Ушел Иван ранним, ненастным утром, когда спала еще деревня. Тихо и
пусто было вокруг. Лишь Марфа стояла на краю деревни и смотрела ему
вслед. Вот он уже виден едва... Вытянулась Марфа за ним струной, руки
протянула и пала коленями в осеннюю жижицу.
— Свет ты мой, — горячо зашептала она. — Солнце ты мое ясное, Ванюш¬
ка! Пошла я, жена твоя, в чисто поле, во широкое раздолье, стала посреди
родной сторонушки, призвала ветры буйные, небо высокое, солнце красное
во свидетели. Заговариваю я своего ненаглядного над следами его милыми...
Марфа медленно шла по спящей деревне.
— Умываю я своего Ванюшку во чистое личико, утираю платком вен¬
чальным уста его сахарные, очи ясные, чело думное... — Марфа в горнице
стояла перед иконой, под которой горел язычок мирской свечи. Низка ста¬
ла свеча, вширь растеклась... — Освещаю я свечою обручальною его осанку
соболиную, его кудри русые, его лицо молодецкое, его поступь борзую... —
Тихо, стараясь не разбудить сыновей, взяла в сенях подойник и пошла по
двору к хлеву. — ...Будь ты, мой муж ненаглядный, светлее солнышка ясно¬
го, милее вешнего дня, светлее ключевой воды, белее ярого воска, крепче
камня горючего Алатыря...
Просыпаясь, деревня наполнилась звуками: скрипели калитки, вздыха¬
ли в стойлах коровы, далеко разносились негромкие голоса. Окончатель¬
но разбудило и растревожило деревню появление царя в сопровождении
свиты и стражи. Разбивая копытами грязь, кавалькада проскакала по до¬
роге и остановилась у избы Марфы. Малахон спешился и вошел во двор.
С крыльца на него смотрели сонные ребятишки.
— Мамки нету, — буркнул старший.
— А где же она? — подозрительно прищурился царь.
Петя молчал.
— Так она доит, — простодушно улыбнулся Степан.
Не разбирая луж и грязи, пошел царь к хлеву.
Со всех сторон медленно стягивались, окружая двор, крестьяне. Так же
медленно разбрелась вдоль забора конная стража.
Войдя в темный хлев, царь услышал сначала приглушенный голос Марфы:
— ...Отвожу я от тебя, мой Ванюшка, черта страшного, отгоняю вихоря
бурного, отделяю от лешего одноглазого, от чужого домового...
Потом увидел белые, звенящие о дно подойника струйки молока, лосня¬
щийся коровий бок и очертания сидящей на чурбаке Марфы.
— Марфа! — выдохнул Малахон и опустился на колени.
И угрюмым мужикам, и молчаливой страже видна была через открытую
дверь хлева спина царя, стоявшего на коленях.
Марфа головы не повернула, шептать горячо продолжала:
— ...от злого водяного, от ведьмы киевской, от злой сестры ее муромской,
от моргуньи-русалки, от летучего змея огненного...
— Когда царь стоит на коленях, — тихо сказал Малахон, — с ним шутки
не шутят, Марфа.
Царь бледен был, лишь глаза горели на лице.
Марфа мельком скользнула по нему невидящим взором:
—...отмахиваю я тебя, мой милый, от ворона вещего, от вороны-карку-
ньи...
— Без тебя не уйду! — твердо сказал царь и хлопнул в ладоши.
— ...защищаю от кощея-ядуна, от хитрого чернокнижника...
Рыжий, держа что-то под полой, влетел в хлев и, сунув царю в руки коро¬
ну, исчез. Малахон поставил корону на землю перед Марфой.
— Будешь царицей, женой моей.
Марфа недоуменно глянула на корону.
— ...от заговорного кудесника, от ярого волхва, от старухи-ведуньи обо¬
роняю я тебя, муж мой... — глаза ее сияли.
Застонал царь, как от страшной боли, от которой нет средства никакого,
кроме последнего.
— Во имя сатаны, — медленно и сильно начал он, — вступлю я на запрет¬
ное место и гляну под сыру-матеру землю. Государь Сатана! Пошли ко мне
на помощь, рабу своему, бесов и дьяволов с огнями горящими... — И зажг¬
лись перед ним зеленые козлиные глаза.
Встревожился скот, всполошились, залетали куры, стараясь петухами
запеть.
— Будь ты, муж мой, — страстно продолжала Марфа, и вновь светлеть
стало, — моим словом крепким укрыт в нощи и полунощи, в пути и доро¬
женьке, во сне и наяву от силы вражьей...
— ...Не могла бы она без меня ни жить, ни быть, ни есть, ни пить...
— ...от нечистых духов, сбережен от смерти напрасной, от горя, от беды,
сохранен на воде от потопленья, укрыт в огне от сгоренья...
— ...как белая рыба без воды, мертвое тело без души, младенец без матери...
То тьма с горящими в ней зелеными огнями, то свет чередовались.
Все отчаяннее голоса, все ярче вспышки света, чернее тьма... Вот уже
мерцание яростное, под всеобщий рев скотины, из хлева перелившееся на
двор, на потрясенную деревню.
— А придет час твой смертный, и ты вспомяни, мой Ванюшка, про лю¬
бовь нашу ласковую....
— Крепки и лепки слова мои!.. Крепчае и лепчае клею карлуку и тверже
и плотнее булату и каменю! — самозабвенно, глаза в глаза с Сатаной в коз¬
лином обличье, огонь в огонь, царь закончил.
И вспыхнул яркий свет, и увидел царь в своей короне петуха. Закудахтал
петух и взлетел, оставив после себя большое яйцо.
Горящими глазами смотрел царь на яйцо. Потом взял его и медленно вы¬
шел из хлева.
Люди и стража, прянув, отступили: на раскрытой ладони Малахона по¬
среди скорлупы сидел черный слепой котенок.
— Не к добру это, — сказал Петр Степану.
Иван стоял на росстани у столба, на котором было что-то начертано. По¬
чесал в затылке. «Эх, кабы грамоте уметь, знал бы куда теперь...»
И пошел он прямо...
Велика Русь-матушка, привольно идти по ней, не спеша, куда глаза глядят...
Темны ее боры, глубоки озера, светлы, извилисты реки... Там лошадей купают,
там пашут уже под озимь... В садах плоды снимают — с песнями, всей деревней,
закат солнца в поле провожают... на веселых ярмарках гуляют... Три брата бога¬
тыря в чистом поле с басурманами сражаются... свадебные тройки мчатся...
бруснику в золотых лесах собирают... А вот и гуси на юг потянулись — первый
снег поля покрывает, скоро и на санях с горок покатились... Девки при лучинах
гадают, ряженые с песнями и пляской Масленицу — соломенное чучело несут.
Весна не наступила еще, но снег, которым завалены были леса и поля, на¬
чал тревожиться под ярким и теплым не по-зимнему солнцем. Голые ветки
деревьев оттаивали и готовились к новой жизни. Лесная дорога на пригор¬
ках почернела и размягчилась.
Разгоряченный и радостный, возвращался царь с удачной охоты. Прибли¬
женные, охотники и егеря оживленно переговаривались, и в лесу стоял гул
от их голосов, конского храпа и лая собак. Дорога вышла к озеру, и царь уви¬
дел лошадку, везущую по льду сани с дровами. Рядом с санями шла Марфа.
Она шла по озеру, на берегу которого повстречалась когда-то с Иваном.
Глядя под ноги, она не замечала ничего вокруг и улыбалась своим мыслям.
Внезапно лошадка ее остановилась, и, подняв голову, Марфа увидела гар¬
цевавшего перед ней Малахона.
— Ну вот, мы и встретились, — улыбнулся он.
— Встретились, — ответила она просто.
— Ну так как, — он похлопал рукой по седлу, — сама сядешь или подса¬
дить?
Марфа вдруг повернулась и бросилась бежать. Малахон тронул коня и,
посмеиваясь, поехал следом.
Задыхаясь, она добежала до берега и тут увидела царскую свиту. Метну¬
лась в сторону и, провалившись в рыхлом, мокром снегу, побежала по пусто¬
му, сверкающему белизной озерку. Вслед ей несся собачий лай и улюлюка¬
нье царской охоты. Овчинка ее распахнулась, платок сбился, сполз на шею.
Над самым ухом слышалось громкое дыхание и фырканье царского жереб¬
ца. Вот уже жеребец поравнялся с нею и протянулась рука... Она отшатну¬
лась, упала в снег и, вскочив, вновь побежала... И снова все громче за спиной
конское дыхание... Марфа рванулась из последних сил и... взлетела... Заржал
конь и встал на дыбы, онемел всадник, глядя вслед улетающей лебеди.
— Ах, вот оно что... — прошептали его губы.
Царь соскочил с коня, вскинул ружье и прицелился. Раздался выстрел, и
следом за царем открыла пальбу и вся охота. Лебедь заметалась в небе.
Далеко внизу чернели рассыпанные по белому озеру фигурки людей.
Над ними вспыхивали огоньки и вылетали облачка дыма.
Молча въехала охота на царский двор: впереди темный от ярости Малахон,
за ним растерянная, испуганная происшедшим и особенно молчанием царя
свита. Не сразу заметил царь сидевшего на бревне в углу двора мужика, а за¬
метив, не узнал поначалу. Спешившись, он вгляделся пристальней, и лицо его
дрогнуло в усмешке. И свита признала в этом мужике Ивана, кто-то хохотнул
и глянул вверх. Иван поднял голову и увидел лебедь, кружившую высоко в
небе. Несколько человек уже, открыто и издевательски глядя на него, ухмы¬
лялись: рыжий, сунув в рот пальцы и задрав голову, оглушительно свистнул,
кто-то разрядил ружье в небо. Иван почувствовал беду и в упор глянул на ца¬
ря. Тот также пристально смотрел на Ивана, видя испуг и ужас в его глазах и
ожидая, когда он поймет все до конца. Так Иван узнал, что произошло...
«Вот, Ваня, — сочувственно сказал хор. — Такие вот нравы».
Кто-то толкнул его: «Пошли», и он встал.
— Зачем пришел? — спросил Малахон.
Стоявший на коленях Иван поднял голову и увидел в глубине залитых
солнцем хором царя на троне и бояр подле него. В окна вместе со столбами
света врывался теплый, свежий от тающего снега воздух и шевелился в
складках рубища, в спутанных его волосах.
Иван молча, с ненавистью смотрел на царя.
— Где был? — снова с насмешкой спросил царь.
— Не знаю, — пожал плечами Иван.
— Принес?
— Принес.
Царь протянул руку. Иван показал пустые ладони. Царь подал знак, и за
спиной Ивана появились двое молодцов. Они схватили его, вывернули ру¬
ки и подняли.
— Погоди, — сказал Иван, — хочу последнее слово сказать.
Царь оглянулся на бояр. Те покачали головами: «Нечего, нечего, време¬
ни нет». Царь обвел их мрачным взглядом, повернулся к Ивану и кивнул
пренебрежительно:
— Ладно, говори, только быстро.
Молодцы отпустили Ивана и отошли.
«Ну, Ваня, с богом! — взволнованно сказал хор. — Всем сердцем с тобой!»
Иван поправил котомку за плечами и, размахивая руками, затопал на ме¬
сте и запел:
Куда пойду, не знаю сам:
На небо, в землю, в океан,
И где — в раю или в аду —
Чего нет на земле, найду.
А может, в поле иль в саду
К себе я в гости попаду:
Ведь не для красного же вида
Мне к телу голова прибита.
И вдруг увидели все, что не царский пол ноги Ивана топчут, а чавкают по
грязи и за спиной его вместо царских хором появилось черное осеннее по¬
ле с голым кустарником и низкое пасмурное небо...
Один из бояр наклонился к трону: «Морочит...»
— Пускай, плевать я хотел, — не отрывая от Ивана цепкого взгляда, отве¬
тил Малахон.
А ноги Ивана уже хрустели по первому, тонкому ледку... увязали в
снегу... Проплыл белый зимний лес... выглянуло солнце, и оттаявшие
нагие ветви выбросили зеленые листья... Земля украсилась травой и
цветами, пели птицы, жарко палило солнце.
Боярам и царю стало душно...
Иван остановился в поле и отер рукавом пот...
Царь медленно, словно не по своей воле, поднял руку и рукавом
охотничьего костюма вытер мокрый лоб. И он, и окружавшие его боя¬
ре были уже во власти мороки.
...Вдруг раздалась далекая пальба, и из леса с лаем выскочили охотничьи
собаки, а следом царь с егерями и охотниками. За ними, изредка пострели-
вая, гнались медведи с ружьями и рогатинами. Бегущий царь увидел Ива¬
на и... Малахон, сидевший на троне, вскочил и заорал: «Караул!» Иван
схватил Малахона за руку: «За мной!» Они кинулись в одну сторону, в дру¬
гую — везде флажки, капканы, сети, из-за кустов грозно выглядывают вол¬
ки, лисы, кабаны. Наконец они миновали все препятствия и выбежали к
озеру. Вдруг бас: «A-а, вот он где!» Смотрят, медведь стоит неподалеку и
ружье на царя наводит. «Ныряй!» — заорал Иван. Малахон с криком рух¬
нул в озеро, нырнул поглубже и поплыл. Кругом водоросли, коряги... Вдруг
из-за подводного куста огромная щука выплыла, на царя нацелилась... За¬
дергал Малахон руками и ногами— наверх ринулся. Вынырнул, смотрит —
берег рядом. Визжит от страха — вот-вот щука за ногу схватит — и саженка¬
ми, саженками к берегу!.. Глядь, а берег-то и не приближается, будто на ме¬
сте он плывет. Замолотил что было сил руками, забурлила вода, да все по¬
пусту. «Ты что?! — Иван с берега кричит. — Нашел время купаться! А ну,
вылазь!» Поднатужился царь из последних сил — вот он берег, рукой по¬
дать... Вдруг голоса чьи-то: «Догоняет, догоняет...» Глянул Малахон — сви¬
та его на берегу стоит и берег этот, шестами в дно озера упершись, назад от¬
талкивает. «Давай скорей, балда!» — Иван царю орет. «А ну, поднажмем,
ребята! Э-эх! — взревела свита. —Топи царя-батюшку, мать его так!» «Зло¬
деи!!!» — захлебывается царь. «Деспот! — рыжий в ответ кричит. — Тебя и
утопить мало!» А царь уже пузыри пускает. «Тонет, тонет!» — ликовала
свита. «Ванька, — булькает царь, — спасай...» Свистнул тут Иван: «Эй, му-
жики-и!» Вмиг набежали мужики деревенские, растолкали, раскидали сви¬
ту — кого под зад, кого по шее — и к царю. А тот еле живой — на скользкий
берег никак выбраться не может. Подхватили его мужики под микитки и
поволокли куда-то. «Ну вот, насилу дождались! — радуются. — Уж сеять
давно пора, а земля не пахана!» «Чего сеять? — царь еле языком ворочает. —
Какая земля?..» А мужики уж бегом несутся. Следом рыжий бежит, каню¬
чит: «Нам, нам его лучше отдайте...» На непаханом поле толпились кресть¬
яне, каждый со своей сохой. «Тащите скорей! — торопили они. — Вон нас
сколько, а он один!» Малахона уже быстро и умело запрягали. «Вы что?..
Я кто? — бормотал он в ужасе. —Братцы... Я ж не умею...» «Н-но, окаян¬
ная!» — стегнул его кнутом самый маленький и самый оборванный из кре¬
стьян. Взвыл царь и, шатаясь, потащил соху. «Быстрей! — кричали мужи¬
ки. — Рысью, рысью! Ежели рысью, то за неделю, может, и управимся!»
Зарыдал Малахон в голос. А Иван среди мужиков толкует: «Вы что же,
православные, ведь это царь, а не лошадь... Негоже... негоже...» «Гоже, го¬
же... — мужики в ответ. — Попахал он на нас, кровопиец, теперь наш че¬
ред!» А царь уж совсем из сил выбился, заплелись его ноги, подкосились, и
растянулся он на земле. Но тут же получил кнута, да такого, что подско¬
чил аршина на два и завизжал, как зарезанный: «Ванька, друг! Выручай,
гад!» Иван в ответ подмигнул — обнадежил, набрал воздуху да как свист¬
нет, как крикнет: «Эй, бабы-ы!» Тут, откуда ни возьмись, бабы бегут со
всех сторон — павы придворные, молодухи и в летах. Налетели на мужи-
ков, защекотали, исцарапали, царя вмиг выпрягли и с собой потащили.
«Что?.. Кто?.. Куда?..» — царь совсем ошалел, головой крутит, вырваться
порывается, да куда там... «Насильник, распутник!» — вопят бабы. Каждая
норовит до него дотянуться. «Блудник, потаскун!» — тащат они его в раз¬
ные стороны, щиплют, рвут одежды... «Тятя, отец!» — кричат босоногие
мальчишки. Ревут в голос малютки. «Нарожал, — визжат бабы, — а кто рас¬
тить будет?!» У царя уж и голоса нет — только руки к Ивану протягивает:
«Спасай, конец настал...» Кивнул Иван и рявкнул: «Эй, стража!!!» Враз
стража объявилась, баб, младенцев раскидала, царя за ноги ухватила и по¬
волокла куда-то с криком: «Его там ждут не дождутся, а он тут развлекает¬
ся?» Вконец одуревшего и растерзанного, они втащили его в тронный зал.
«Я!.. Нет, я!..» — кричали бояре и рвали друг у друга из рук царские одеж¬
ды, и все сразу пытались сесть на трон. «Вот он! Вот он!» — вопили страж¬
ники. «Казнить его!!!» — обрадовались все. «Я! Меня пустите! Дайте
мне!» — умолял рыжий, волоча по полу огромный топор. Царя схватили,
заломили руки и положили голову на трон. «Я больше не буду...» — тихим,
осипшим голосом жалостно прошептал Малахон...
И вдруг все прекратилось. Иван по-прежнему стоял посреди залы и пе¬
чально смотрел на замороченных им царя и бояр. Рыжий, побелев от стра¬
ха, медленно опустил и выронил из рук топор. Все замерли, только двое бо¬
яр все еще дрались за корону. Потом и они остановились. Царь и бояре с
ужасом смотрели друг на друга. Белый, трясущийся Малахон медленно пя¬
тился к окну.
— Царь-батюшка! — кинулся перед ним на колени рыжий.
— А-а-а! — завизжал Малахон и с криком этим прыгнул в окно. — Я боль¬
ше не буду!.. — уже издали, с полей донесся его голос.
«Добро всегда победит, — облегченно вздохнул хор. — А как же иначе!»
Иван не спеша подобрал ружье, котомку и пошел к двери.
Иван щурился на ослепительно горевший на солнце снег, повсюду на
своем пути видел жадно протянутые к яркому предвесеннему небу голые
ветки кустарника. В потемневших, дымящихся паром оврагах бежала талая
вода. Все жило предощущением весны...
И вновь он увидел белоснежную птицу, кружившую высоко над ним. Из
деревни неслись песни и заклинания людей, мычание коров. Иван приба¬
вил шаг и скоро уже стал различать знакомые слова в этом всеобщем про¬
тяжном крике:
Ой, весна-а-а! Ой, красна-а-а!
Ты куда ушла-а-а,
Ты куда ушла-а-а,
Куда дела-а-ася?
Вся деревня сидела на крышах изб, сараев, хлевов, овинов и звала, умо¬
ляла, требовала.
Приди к нам, весна,
Со радостью!
Со великой к нам
Со милостью!
Со рожью зернистою,
Со пшеничкой золотистою...
Во всю силу голосов люди выкликали весну, боясь, что она их не услы¬
шит. Из хлевов ревела скотина.
Коровки ревут — на волю хотят,
Лошадки идут — они травки ждут,
Свинки хрючат — корешков хотят,
Овечки кричат — они травки хотят,
Шелковой травы, ключевой воды.
Никто не заметил Ивана, входившего в деревню.
«Красная весна, что нам несешь?!» — голосили с гумна прямо над голо¬
вой его разряженные девки. «Красное лето, теплое лето!» — неслось с дру¬
гого конца деревни.
И, переведя туда взгляд, Иван побледнел... На деревню опускалась ле¬
бедь. Ноги вдруг сами понесли его.
Он бежал по пустой деревенской улице, оглушенный лавиной криков и
заклинаний...
Их слышно было и с воздуха. Все ближе была деревня с крышами домов,
сплошь усыпанными людьми, с бегущим по улице Иваном...
...Который видит уже, как влетела лебедь в деревню...
Иван уже совсем рядом... Бежит к нему навстречу радостная Марфа...
Они обнялись посреди шумной, наполненной весенними призывами де¬
ревни. Обнялись и стояли так, не в силах оторваться друг от друга.
Петр и Степан работали в хлеву — даром времени не теряли.
— Словами воздух не наполнишь! — стараясь перекрыть общий шум, за¬
орал Степан и кивнул на крышу, содрогавшуюся от воплей.
— Клади навоз густо, в амбаре не будет пусто, — поддержал Петр.
Ребятишки, гурьбой сидевшие на сарае, качали и подкидывали печеных
жаворонков и орали что было мочи:
Ой вы, жаворонки, жавороночки!
Летите в поле,
Несите здоровье,
Первое коровье,
Второе овечье,
Третье человечье!
И Степка орал. И Петька, державший на руках запеленутого визжавше¬
го малютку.
— Как назвали? — крикнул Иван, и Марфа ответила:
— Ваней.
— Вылитый отец, — ухмыльнулся Петр.
— Так ведь яблок на сосне не бывает! — крикнул Степан.
И увидели все Ивана и Марфу: стихла на миг деревня. И тотчас дружно
запела величальную песню:
Эх, родимая земля!
Слава селам и полям!
Всем спасибо скажется —
Слава хлебопашцам!
Слава бору, слава броду,
Слава русскому народу!
Слава морю-окияну,
Слава нашему Ивану!
Герман Климов
Элем Климов
Преображение
От авторов
Предлагая вниманию читателя эту киноповесть, нам хотелось бы преду¬
ведомить знакомство с ней несколькими пояснительными словами.
В поисках сюжета для будущего фильма мы «забрели» в век восемнадца¬
тый. Нас привлекло время царствования Екатерины II — время яркого рас¬
цвета российского абсолютизма, время невероятных социальных контрас¬
тов, громких побед, внезапных вознесений и падений, время, богатое уди¬
вительными людьми и событиями неповторимыми. Нас интересовал ост¬
рый, парадоксальный сюжет, способный совместить в себе и смысл, и зре¬
лище, картины времени небывалого, и драматическую судьбу героя, прохо¬
дящего путь преображения от растительного существования до нравствен¬
ного самостоянья.
Решающую помощь в этих поисках оказал нам обаятельный рассказ
Сергея Наровчатова «Абсолют». Он дал нам «зацепку». Мы сочли воз¬
можным воспользоваться, с благодарностью к автору, некоторыми сю¬
жетными посылами рассказа для того, чтобы пустить в долгое и слож¬
ное плавание нашего героя. Автор рассказа, и мы вслед за ним, оттал¬
кивается от воспоминаний французского посла при Екатерининском
дворе графа де Сегюра, а именно от той их части, где Сегюр описывает
фантасмагорический казус, происшедший с немецким банкиром и куп¬
цом в Санкт-Петербурге. Случай этот привлек в начале позапрошлого
века и внимание Александра Дюма, когда он работал над созданием
«русского» романа «Учитель фехтования», и в слегка переработанном
виде вошел в этот роман.
История литературы знает немало примеров обработки разными автора¬
ми одних и тех же так называемых «кочующих» сюжетов, будь то легенда
о Фаусте, история Жанны д’Арк или принца Гамлета. Но это — великие
сюжеты. Мы же воспользовались анекдотом, хотя бывает, что анекдот, ка¬
зус, а то и афоризм говорят о времени и его людях много ярче и доходчи¬
вее, чем многотомные исторические исследования.
Итак, «Преображение» — это анекдот, переросший в фантастическую
Одиссею ничтожного обывателя, который волею судеб и желанием ав¬
торов должен стать Человеком. Такой мы видели свою цель, все ос¬
тальное определялось нашими жанровыми пристрастиями. Помимо
нашего вымышленного героя в повести действуют и конкретные герои
отечественной истории. Нами произведены некоторые умышленные
сдвиги во времени и обстоятельствах, в которых они являются и дейст¬
вуют, однако что касается сути их образов — здесь мы старались со¬
блюсти возможную достоверность, стремились не отступать и от духа
времени.
Часть I
Тени, тени повсюду, ночь петербургская темная, зыбкая, и эти тени, пу¬
гающе бесшумные, зима, закаменело, спит поди все, а этим-то чего надо?
Страшные тени, военные, но не измайловцы, нет, не преображенцы, на
прусский манер будто... Боже, не Петр ли? Да нет, тот в могиле давно, тре¬
тий Петр, идиот, свят, свят, свят, майн гот. Что же тихие такие, чего таят¬
ся?.. Копыта лошадиные обмотаны, морды обвязаны, мундирчики куцые...
Они! Вот уже Зимнего громада, окна черные — спят, спят, канальи... или
перерезаны... Куда, куда? Может, мимо... нет — слились с дворцом тени,
растворились в нем, исчезли.... Карета... профиль в окошке: вздернутый
нос, урод единокровный, ненавидящий за отца придушенного, вот оно! Не
дождался, недотерпел. Вот они, игрушки в солдатики... Пронеси, господи!..
Здесь уже, где-то рядом, хоть бы крикнул кто... Гриша, Алексей, где вы те¬
перь, орлы отлетавшие?.. Тихо... нет — шаги... много шагов... Все ближе...
Дверь!.. И аз воздам... Удавка!..
Екатерина Алексеевна открыла глаза. Тихо... Да, тихо... ну, конечно, тихо.
Примстилось... Морок ночной... Тишина и слабый северный свет сквозь
шторы... И едва различимая фигура за ширмой в дальнем углу спальни.
Он шевельнул своими противоестественно огромными ушами, услы¬
шал, как облегченно выдохнула самодержица свой сон, и понял, что се¬
годняшняя работа его окончена. Но чу! — уши его вновь встрепенулись,
отточенный как бритва слух преодолел, пронзил долгую пустоту дворцо¬
вого безмолвия и обнаружил в каком-то отдаленном его приделе шорох
невесть откуда взявшейся там мыши — вот и причина предутреннего
кошмара, вот она! Фигура эта беззвучно встала и, скользнув тенью, ис¬
чезла.
Великая дама проснулась в 6 часов утра. Как всегда. Неизменно.
Привела в движение свое полноватое, но легкое не по годам тело, бес¬
шумно, лунатически точно исполняя заведенный ритуал. Огонек за огонь¬
ком затеплились свечи, выведя на свет спальню с ее хозяйкой, красно заше¬
велился, затрепетал камин, оживленный державною рукой. На подставоч¬
ке у окна обнаружилось серебряное корытце с плавающими в нем кусочка¬
ми льда. Натирание щек, шеи и лба. Вытирание. Одевание. И все сама, жа¬
лея самые сладкие сны слуг своих и приближенных, простоволосая и ясная
во взоре — как само утро.
В белом градетуровом капоте и белом же флеровом чепце проследовала
она по анфиладам Зимнего, и двери сами, не смея замедлить порфиронос¬
ный шаг, открывали ей все новые пространства. Просыпались, возвещая
свой утренний привет идущей, все новые и новые сонмы дворцовых птиц.
Кабинет. Вторая от двери паркетина-половица. Прикосновение ноги.
И тотчас в сумеречной полутьме комнаты с легким деревянным поскрипом
почтительно и радушно приподнялся из-за своего выгнутого столика
Вольтер. С пером в руке. Поклон еле заметный. Четвертая от двери поло¬
вица... Вольтер, еще раз скрипнув, вернулся к своим трудам.
Столик императрицы, выгнутый же, располагался в отдалении вольтеров¬
ского, почти напротив. На столике ароматно дымилась чашечка кофе, горе¬
ли две свечи. Все было готово к началу занятий. Императрица села. И тотчас
со стола, с золотой табакерки строго глянул на нее Великий Петр. Екатери¬
на взора не отвела. Напротив, продлила, как могла, сокровенное мгновение.
Великий преобразователь и достойная воспреемница теперь уже гигант¬
ской империи. Немой совет, предтеча вдохновения.
Императрица надела очки и взяла перо. Одним движением сего воздуш¬
ного предмета могла она решить чью-то судьбу, двинуть армии, облагоде¬
тельствовать народы... Все могла, но в эти заветные часы, вдали от глаз и
суеты дневной, привыкла она потворствовать отечественным музам, ласка¬
тельнее прочих — Мельпомене.
Перо стыло в воздухе, все ярче разгорались окна — свет возвращался на
землю, неся с собой новый день, день боренья и труда, день новой славы...
Но вот из вышних далей вдохновения, в кои унесен был взор императри¬
цы, стали доноситься, а потом и въявь прилетели музыка, поющие голоса...
«Торжествуйте, словенски народы, к нам грядут златые годы...»
Хор смолк.
«К нам идут златые годы...» — робко пропел отдельный голос.
Взгляд Екатерины затуманился на миг, но тотчас прояснился.
«У нас идут златые годы!..» — восторженно пропел голос.
Вспыхнула праздничным светом сцена императорского театра, исторг¬
лись на небывалую высоту голоса выступивших на самый ее край лучших
итальянских певцов, загремел, согласно и бурно трепеща золотым шитьем,
хор! Шквал рукоплесканий прокатился по театру! Ряды взметнулись и, от¬
воротившись от сцены, явили автору свое восхищение...
Вспыхнув, видение погасло, но шум и хлопанье не прекратились — то
слетались со всего города к окнам императрицы голуби, ежеутренне при¬
ветствовавшие ее.
Свет, заполнивший уже кабинет, теперь явственно выявил и Вольтера,
неотлучно занятого своей думой: острое лицо, легкая, в меру саркастичес¬
кая улыбка, искусно вырезанная из дерева.
Екатерина улыбнулась ему в ответ.
«Мон шер ами!..» — начертало ее перо.
Часы ударили девять раз.
Императрица, точкой обозначив предел эпистоле, сняла очки и воззри¬
лась на обер-полицеймейстера Санкт-Петербурга бригадира Глазова, с не¬
обходимым подобанием изготовленного уже к своему ежеутреннему доне¬
сению о благосостоянии столицы и прочих происшествиях.
Почувствовав, что взгляд государыни задержался на нем, обер-полицей-
мейстер отвесил ей глубокий поклон, на коий последовало взаимное на¬
клонение головы.
— Господу угодно было, — начал глубоким басом докладчик, — чтобы
столь запоздалое, но как бы вдруг учинившееся умягчение природы, в рас¬
суждении постепенного преобразования зимнего периода времени в весен¬
нее, не произвело вчера сколь-нибудь разительных происшествий, коими я
мог бы встревожить ваше императорское величество. Повсюду царит неко¬
лебимый порядок как в пешем, так и в конном движении. Масленая неде¬
ля заканчивается самым благополучным образом, несмотря на губитель¬
ную склонность подлого сословия ко всяческим буйствам и озорничест-
вам. Бессомненную границу сему положит Великой пост, коий усмиряю¬
щим действием своим...
Говоря сие, Глазов вдруг усомнился, слушает ли его государыня и, более
того, видит ли. Взор ее, прямо на него наставленный, пронзал, казалось, на¬
сквозь и имел свой пункт где-то вдали за его спиной. Посему обер-поли-
цеймейстер решил покончить с риторикой и резко скакнуть вперед.
— По вашему высочайшему повелению мною произведено расследова¬
ние того приключения, которое случилось с двадцатипятирублевыми ас¬
сигнациями, переделанными в семидесятипятирублевые. Воры сысканы и
признались — ими оказались братья Шапкины, один из коих ездил за гра¬
ницу и привез оттуда штемпеля и литеры для делания фальшивых денег.
Глазов сделал паузу, ожидая указания по сему делу. Но Екатерина Вели¬
кая продолжала смотреть сквозь бригадира. Пауза затянулась, и Глазова
прошиб пот.
— Нынче ночью, — мужественно продолжал обер-полицеймейстер, — в
порту схвачена шлюпка с контрабандным товаром, которая до того имела
тайное сношение с торговым фрегатом «Виктория». Товар конфискован,
приказчик купца Глюка Норберт Мюллер, коий принял шлюпку на берегу,
отпущен, ибо вместе с хозяином своим Глюком является вольного города
Гамбурга гражданином.
Сие известие произвело столько же действия, что и прежние.
— На Васильевском острове сгорело три мещанских дома, — заторопил¬
ся севшим голосом обер-полицеймейстер, — от облития серной кислотой,
произведенного по причине ревности полной генеральшей Катериной Гри¬
горьевной Племянниковой, скончался лекарь Сысой Воропанов; изволила
доложить о прибытии своем в Санкт-Петербург знаменитая портретистка
французского подданства Виже Лебрен, намеренная коленопреклоненно
молить ваше величество о написании высочайшего портрета; голландский
механик Реймон показывает курьезные самодействующие машины, а так¬
же птицу страуса, которая больше всех птиц на свете, к тому же ест сталь,
железо, разного рода деньги, горящие уголья...
На чем обер-полицеймейстер и запнулся, ибо понял вдруг, что наконец
увиден, причем увиден нехорошо, с каким-то брезгливым даже негодова¬
нием. Молчание с каждой минутой становилось невыносимее, но, с другой
стороны, и сказать было нечего, ибо слова все до единого улетучились из
головы бригадира, а вместо них явилось вдруг какое-то непристойное и
хриплое мычание. В довершение ко всем бедам подлая и совершенно не¬
уместная улыбка пробралась на лицо охранителя порядка, безобразно рас¬
тягивая его все шире и шире. Последним усилием воли он все же поборол
ее и закаменел.
Легкая тень удивления пробежала по лицу государыни... Еще несколько
мгновений продлилась эта пытка, затем легким поднятием руки со стола
обер-полицеймейстер получил свободу.
Деревянно повернувшись, он сделал несколько шагов негнущимися но¬
гами.
— Да... А из Глюка набить чучело, — тихо сказал державный голос за его
спиной.
Эти негромкие, но внятные слова произвели на бедного обер-полицей-
мейстера действие более страшное, нежели удар грома: он застыл на ходу и
плечи его безвольно поникли, будто враз из мощного тела бригадира был
выпущен весь воздух. Он медленно повернулся и — о, господи! — понял,
въявь увидел, что его, Глазова, в этом помещении как бы уже и нет: импе¬
ратрица, вновь в очках и с увеличительным стеклом, просматривала какие-
то несомненно государственной важности бумаги.
Как в прорубь на зимней Неве, шагнул Глазов вперед и, содрогнувшись
от собственной смелости, молвил глухо:
— Смилуйтесь, ваше величество. Недостойно чести дворянской и про¬
тивно дарованному званию чучела мне набивать.
И тотчас понял, что пропал: левая бровь государыни медленно поползла
вверх — верный признак надвигавшейся грозы, — а по обширному и вели¬
чественному челу побежали облака. Изумление ее было так велико, будто
она узрела вдруг, что совсем иной человек оказался невесть каким образом
в обер-полицеймейстерском мундире и проник в ее кабинет. Она даже сня¬
ла очки и привстала. Изумление явственно перерождалось в гнев: с лица ее
исчезли следы утренней гармонии, оно потяжелело и потемнело.
Глазов едва дышал.
— Из Глюка... — сдерживая себя, повторила Екатерина, — набить чучело... —
грусть промелькнула на ее лице, — и представить мне через три дня, госпо¬
дин Глазов... — И добавила самое страшное, как бы просительным даже то¬
ном: — Нижайше прошу, ваше высоко... превосходительство.
Страшнее минуты обер-полицеймейстер в своей жизни не переживал.
Неверными движениями слепца, коими руководили остатки помутненно-
го сознания, он нашел дверь и оказался в зеркальной зале, что служила
приемной императрицы.
Смутно увидел он собравшихся здесь для поочередного доклада статс-се¬
кретарей, губернатора Петербурга, синодского обер-прокурора, вице-канц¬
лера и еще каких-то персон, которых не было уже сил узнать, ибо едва до-
шед до сердцевины комнаты, в коей точке все вышеозначенные господа
вдруг удесятерились посредством зеркал, бригадир Глазов окончательно
потерял ориентировку в пространстве и, помедлив малость, без памяти
рухнул на пол.
Гулкий звук, произведенный столь могучим телом, отозвался нежным
перезвоном хрустальных подвесок многих дворцовых люстр. Часы проби¬
ли четверть.
Разные чувства промелькнули на лицах присутствовавших при этом
странном недоразумении, но они были стремительны и мимолетны, будто
тени.
Вскоре прежнее достоинство и подобающая случаю сосредоточенность
воцарились на челах государственных мужей. Только несколько брошен¬
ных украдкой взглядов в сторону распростертого тела да реплика губерна¬
тора на ухо дежурному статс-секретарю:
— Ты, голубчик, доложи государыне, что сегодня не буду: селезенка, зна¬
ешь ли, разгулялась, жизни не дает... — И крепко прижав руку к селезенке,
он спешно ретировался.
Протянулось еще несколько томительных мгновений, прежде чем обер-
полицеймейстер подал наконец признаки жизни, потом, постепенно при¬
ходя в кондицию, завозился, шумно вздохнул и, продемонстрировав не¬
сколько стадий, перевел себя из положения горизонтального в вертикаль¬
ное. Сии маневры произошли под пение государыниного колокольчика,
приглашавшего следующего докладчика. Никто, однако, не торопился: бы¬
ла мгновенная переглядка, затем явились выражения задумчивости или
отсутствия на лицах.
А бригадир Глазов двигался уже к выходу. Смятение, смятение и еще раз
смятение — вот что было на его лице.
Дверь распахнулась перед ним, и во мгле ее проема совсем рядом вдруг
оказалась иная комната, имевшая свое нахождение к тому же совсем в
ином доме...
...Облитая утренним светом и улыбками непреклонно радушных
немцев, из коих одним был купец и банкир Глюк, а тремя другими су¬
щества дамского пола — две дочери и жена; сияющая белоснежной
скатертью стола и мейсенским фарфором, отнюдь не порожним, — вот
какой предстала эта комната смятенному взору обер-полицеймейстера
Глазова.
Добрые шутки и сердечный смех, сугубая серьезность на время благодар¬
ственной молитвы — как все это знакомо было бригадиру. Равно и эти ра¬
достно раскинутые руки хозяина:
— Ба! Да никак сам Иван Фадеич пожаловал к нам в гости! Милости про¬
шу к нашему шалашу! — Глюк зазвенел в колокольчик.
— Слуги, еще прибор!..
Гостеприимно защебетала и дамская половина стола.
Обер-полицеймейстер остался недвижимо выситься за порогом столо¬
вой.
Тогда, не умаляя своего радушия и не меняя положения рук, хозяин на¬
правился к нему...
Не в нарочитом еще сорокапятилетнем возрасте имел Теодор Себастьян
Глюк все или почти все, о чем мечтал: богатое дело, почет, дружбу высоко¬
поставленных вельмож, связанных по рукам и ногам его кредитами, пре¬
красный дом, здоровье, добродетельную жену, дочь-невесту и дочь-шалу¬
нью семи лет.
Он тотчас вспомнил свой ночной грешок и прямо связал его с ранним ви¬
зитом сановного гостя, что удвоило при более близком приветствовании и
без того явные признаки дружелюбия и благорасположенности.
Тут же припрыгала и шалунья, чтобы подергать за шпагу давнего прияте¬
ля дома, в связи с чем бригадир вынужден был приласкать ее, довольно,
впрочем, механически. Устыдившись, однако, неподобающего в новых об¬
стоятельствах жеста, он сей же момент круто развернулся и, не снимая ши¬
нели, отправился в Глюков кабинет.
— Мы сейчас, сейчас... — успокоил семью хозяин и, полетев уже вслед за
гостем, узрел вдруг парочку сержантов в своей прихожей, что было очень и
очень несопутственно прежним визитам бригадира.
Сей сюрприз слегка взнервировал гражданина вольного города Гамбур¬
га, следствием чего явились некоторая растерянность и замешательство в
жестах. Полетели хлопки в ладоши, и пока обер-полицеймейстер опускал¬
ся в подставленные кресла, на столике перед ним явился великолепный
фрюштюк.
Иван Фадеевич глянул на шнапс и закуску и как бы даже отпрянул от
них, чего с ним никогда, судя по всему, не было, да и быть не могло. Это са¬
мо по себе поразительное происшествие вкупе с другими несообразностя¬
ми крайне встревожили немца. Дело нужно было кончать как можно ско¬
рее и ко всеобщему удовольствию.
— Знаю, знаю свою вину, любезный Иван Фадеич, и отрекаться не смею, —
начал Глюк голосом, полным глубокого раскаяния. — Пошел на сие пре¬
ступление единственно от обилия отцовского чувства к моей обожаемой
Амальхен! Свадьба-то не ждет, не ждет, Иван Фадеич! Послезавтра свадь¬
ба!.. Неужели, думаю, не по силам мне украсить праздничный стол бур¬
гундским вином, фромаж камамбер и гамбургскими колбасами? И вот —
пал, винюсь и готов понести наказание.
Расхаживая по уютному своему кабинету, украшенному большим до¬
вольно портретом императрицы и неизбежным для любого приличного до¬
ма бюстом мыслителя Вольтера, Глюк на несколько секунд задержался у
бюро с тем, чтобы, закончив свое путешествие в непосредственной близос¬
ти от обер-полицеймейстера, незатейливо воздвигнуть рядом с фрюштю-
ком достаточно высокую горку из ассигнаций.
Горка сия не произвела обычного своего действия, более того, была вдруг
твердо отодвинута в сторону...
Немец не поверил поначалу собственным глазам, но что случилось, то
случилось. Не теряя присутствия духа, он совершил новое путешествие —
и горка возросла.
Иван Фадеевич угрюмо смотрел в сторону. В окне, как всегда, маячил за
рекой шпиль Петропавловской крепости.
Купец растерялся окончательно: привычный ритуал привычного эффек¬
та не принес, а это значило, что наказание будет иное.
— Уж не арест ли мне грозит за такую безделицу? — чуть свысока, но все
же дрогнувшим голосом произнес Глюк.
Мрачная ухмылка обер-полицеймейстера, полученная в ответ, ужаснула
его.
— Сибирь?! — выдохнул Глюк.
Ответ был тот же.
Тогда и Глюк глянул в сторону Петропавловки, ужаснулся таковому
предположению, сглотнул...
Глазов перехватил его взгляд, предположение ужасное угадал и в ответ
на вопрошающий взор немца лишь скорбно вздохнул. Вздох этот означал
лишь одно: «Ах, если бы...»
— Найн! — возопил несчастный Глюк, а затем повторил то же слово, но
совсем тихо, не рассчитывая уже на публичный эффект.
Все мыслимые и немыслимые слова были произнесены, а ухмылка обер-
полицеймейстера все длилась и длилась. И чем протяженнее она делалась
во времени, тем бледнее становился Глюк. Страшный смысл визита Глазо¬
ва дошел до него окончательно. И он обрел наконец речь.
— Осмелюсь доложить, господин обер-полицеймейстер города Санкт-
Петербурга, — начал он новым для себя голосом, — что я являюсь... — со¬
знание лихорадило, взор мутнел, — гражданином вольного города Гамбур¬
га! Я иностранец, ферштеен зи?! Их бин айн ауслендер, вашу мать! А не ка¬
кой-нибудь... — он гневно помахал рукой, образовав тем небольшую паузу.
— Я облечен... торговый договор!.. Граф Строганов мой друг сердешный!..
— Он подчеркнул в последнем слове букву «ш», что, очевидно, добавляло
ему нужный нюанс. — Их бин... их вар... — начал было он опять сбиваться
на немецкий. — Я был лично представлен... — Он сделал намекающий жест
в сторону портрета. — Мой жених — князь Растебаев! — рванул он в дру¬
гую сторону. — Со мной такая шутка не надо!.. Шайзе!.. — мимоходом ос¬
корбил он Глазова. Но Глазов, слава богу, по-немецки не понимал, как,
впрочем, и по-французски.
— ...Это не Иохан Грозный, это Катарина!.. — возвышая голос, Глюк стал
портить русский. — Я есть человек, а не холоп!.. — воспаленный взгляд его
упал на Вольтера. — Свобода и справедливость!.. Где закон?! Суд где?!. За
что? Страна варваров!.. Когда надежды всех народов!.. — первые признаки
пены появились на его губах. — Это вы свой человек пытай-казни, а я не
позволь, не позволь! Я... Я — Европа, а не ваш рабство! Форт! Вег!.. — Он
никак не мог подобрать, вспомнить нужного русского слова, но наконец
вспомнил, на свою беду. — Долой!!!
Гневно глянув на Глазова, он вдруг уразумел, что тот рассматривает его
пристально и холодно. И этот холод полицейского взгляда тотчас проник ему
куда-то меж лопаток. Он понял, что заехал не туда, и враз сник. Он повел по
сторонам потерянным взглядом, пытаясь хоть в чем-то найти себе поддержку.
— Ди гроссе унд гутхерциге, — забормотал он что-то по-своему, прибли¬
жаясь на вялых ногах к портрету Екатерины, — ду бист айне дойче, айне
эхьте дойче, ду бист майн шутц...
— От нее-то я к тебе и приехал, — оборвал его ход обер-полицеймейстер.
Глюк замер на полуслове, окончательно обмяк — смысл слов дошел до
его сознания — и медленно повернулся в сторону Глазова. Теперь это был
другой человек: постаревший и осунувшийся. Прошел, шаркая ногами, и
мешком опустился напротив Глазова в кресло.
— Не теряй времени, мин херц, — щегольнув петровским обращением,
попытался вернуть его к действительности бригадир.
Слабая тень полувопроса мелькнула в глазах Глюка.
— Пиши завещание, — разъяснил Глазов.
Пустой, обессиленный взгляд банкира уже не сопротивлялся.
— За что? — слабо выговорил он.
— Я твоих дел не знаю, Федор Севастьяныч, и знать не хочу. Тут, видать,
высшая политика, в коей ты замешан, а мне влезать в твою подноготную
резону нет.
— Да нет же ничего! — возопил несчастный с крайним движением души.
— На нет, слышь, и суда, говорят, нет. А раз приказ есть, то и дело есть, —
уверил его Глазов. — Не теряй времени попусту.
— Когда? — едва выдохнул банкир.
— Два дня, я полагаю... — задумался Глазов. — Нет, не успеем, день у те¬
бя есть.
Немец остолбенел, и в этом остолбенении до того стал похож на будущее
свое чучело, что даже видавший виды обер-полицеймейстер содрогнулся.
Наступил самый тяжкий момент, когда он должен был объявить причину
столь небывалой поспешности. Должен был, но... не смог.
— С конфискацией? — пролепетал вдруг банкир.
— Не знаю, — с облегчением сказал Глазов, — об этом ни слова не было.
Можешь тратиться. Но из дома ни шагу. — И с этими словами обер-поли¬
цеймейстер встал.
— О, майн гот! — Глюк схватился за голову.
Иван Фадеевич глянул на него с состраданием.
— Ты это... я там должен тебе двадцать две тысячи... но сейчас, право...
— О, если бы была надежда! — взмолился Глюк. — Кляйне хоффнунг!
Кляйнсте! Я бы ничего... Я бы всё... — Немец вскочил и страстным взором
приник к Глазову, прося у того, самым нижайшим образом прося эту на¬
дежду. — Я бы в завещании своем вас, дражайший Иван Фадеевич...
Доброе сердце бригадира дрогнуло.
— Чем могу, конечно... Караула снять не могу. Но на гонцов твоих и по¬
сетителей посмотрю сквозь пальцы. Хлопочи, авось, и выйдет что...
Банкир метнулся к бюро и стал что-то лихорадочно писать. Обернулся,
сообщил по-деловому:
— Сто тысяч.
— В завещании не надо, — задумчиво сказал Глазов. — Пиши вексель и
ставь прошлым месяцем.
— Прошлым?.. Ах да, прошлым... — вновь впал в меланхолию Глюк. Взор
его подернулся пеленой...
Нежный, серебристый голосок колокольчика донесся вдруг до его слу¬
ха — он, казалось, проник к нему из других, заэфирных далей, ласкал и
манил... Глюк тупо смотрел в стену, а звук неземной был все ближе и бли¬
же... И вдруг загадочный и темный коридор возник, из дальней перспек¬
тивы коего белоснежный, с воздушными крылами, легко, стремглав, с
тайной прелестью во взоре... Ах, ближе, ближе... Кто ты, кто?.. Своей бе¬
лизной затмил и...
И впрямь из этой белизны выказалось ангельское, воистину ангельское,
с небеспорочным, правда, взглядом, личико сестры милосердия, бережно
несущей серебряную рюмочку на призывный звон.
Вот она уже впорхнула в огромный светлый кабинет, хозяин коего, пре¬
зидент Медицинской коллегии Александр Андреевич Ржевский, покоился
в кресле с высокой спинкой в позе болезненной. Левая рука его держалась
за сердце, правая звонила в колокольчик, а тело, криво изогнутое, изобли¬
чало слабость.
Выпив поднесенное лекарство и вернув рюмочку, президент изнемо¬
женно закрыл глаза. Ангельское создание нежно заглянуло ему в лицо
и, попорхав воздушным платочком по челу, собрало с него капельки по¬
та. Чудо как хороша была она в своем стерильно белом одеянии меж
всех этих скелетов, чертежей тела человеческого, бронзовых Ньютонов,
Архимедов, Сократов и Гиппократов. Была, увы, недолго и так же легко
исчезла.
— Не надо, Александр Андреич, будя ваньку-то валять, — услышался гру¬
бый голос бригадира Глазова. — Мы же не на феатре. Да и времени ноль.
Взгляд Ржевского на некоторое время повлажнел, потом перенесся на
своего собеседника, что и подействовало отрезвляюще.
— Не знаю, что и сказать, Иван Фадеич, — молвил он, оживая. — Но не
могло ли так приключиться, что вы несколько прямо поняли государыню?
Может быть, она прибегла к иносказанию, уподобив купца чучелу, и на¬
бить означенное чучело сиречь подвергнуть его телесному наказанию?
— Охочи же вы словесами играть да крутить, Александр Андреич! Давай¬
те лучше думать, как доводить немца до указанной кондиции. Вам как пре¬
зиденту Медицинской коллегии и карты в руки.
— Мерси, — наклонил голову Ржевский, — весьма польщен особым ва¬
шим ко мне благорасположением. — Он выскочил из кресла, как из пращи,
будто и не было вовсе сердечного припадка. — Сия операция премного до¬
ставит мне славы, особливо ныне, во дни наук и любомудрия, когда разум
только лишь отряс несродные ему путы мракобесия, когда истина, зрим по¬
всеместно, блистает паче и паче столичным блеском, когда учения источник
проникает до отраслей дальнейших государства, когда старания правитель¬
ства — туда идем, надеюсь! — стремятся на истребления заблуждений и на
отверстие беспреткновенных путей рассудку, мудрости, закону, когда...
— Когда-никогда, — осек его Глазов, — а нынче же это дело и надо ре¬
шить. Снаряжайте, времени не теряя, лучших препараторов, кои особо
привержены сему искусству...
— Сему искусству? — поразился Ржевский. — Вы, Иван Фадеич, вижу,
плохо представляете себе наши занятия. Прошу...
Анатомическая зала, куда они попали, была так густо напитана парами
формалина или еще какой-то гадости, что обер-полицеймейстер едва не за¬
дохнулся. Пары эти образовали даже некое подобие зыбкой пелены, вися¬
щей в воздухе,— глаза щипало, подступала дурнота. Повсюду кипела ожив¬
ленная работа над бренными останками: мелькала инструментов сталь,
что-то разрезалось, что-то зашивалось, лица тут и там в белых намордни¬
ках, смех, латынь, молоко и колбасы, с вызывающим цинизмом поглощае¬
мые здесь же очерствевшим студенчеством,— все это произвело на брига¬
дира впечатление довольно гнусное, в чем и не преминул удостовериться
Ржевский, нехорошо, без любви на него глянувший.
— Жаль, жаль Михайла Васильевич Ломоносов, фундатор наш и гений,
не дожил до сего дня, — сокрушался президент. — Вот муж, что благостью
небес сочетал в себе единое пристрастие к наукам и изящному. Сей пред¬
мет бы его весьма позабавил...
Глазова мутило, а пытка все тянулась и тянулась: Ржевский самым не¬
спешным образом вел его от одной группы препараторов к другой.
— Воистину неистребимо милосердие государынино, — продолжал с не¬
поддельной серьезностью юродствовать глава адского учреждения. — По¬
жертвовать одним преступником, дабы уберечь сонмы возможных его под¬
ражателей, кои при едином взгляде не злодейский облик отвратятся наве¬
ки от пагубных поползновений. Виват, спасительница наша!
Глазов глянул на него тупо.
— Но в каком виде представить объемное изображение злоумышленни¬
ка, дабы достигнуть необходимого эффекта? Вот что решить вам предсто¬
ит, — вконец озадачил он обер-полицеймейстера. — Одно дело, ежели госу¬
дарыня захочет взять его к себе, во дворец. А ежели нет? Куда его? Пред-
положим тогда, что у входа на кладбище: виноватая улыбка, приглашаю¬
щий жест рукой. Особливо хорош будет на Пасху, при стечении народа...
— Вполне... — кивнул Глазов.
— А может, в виде садовой скульптуры, — предположил президент, —
прикрыв, конечно, соответствующее место листком? Мол, хотел разбога¬
теть неправедно — и вот вам нате: гол как сокол.
Воображение обер-полицеймейстера, судя по всему, справилось и с этим
заданием, но оно показалось менее интересным, что и уловил Ржевский по
лицу бригадира. Уловил он также и то, что собеседник его от густоты не¬
привычного запаха и лицезрения кощунственных операций пребывает уже
в предельно туманном состоянии.
— Но лучше всего, я думаю, поместить это объемное изображение в пор¬
ту, — продолжал сохранять он серьезный тон. — Поелику преступник нару¬
шил торговый закон, то долг его исправить сию оплошность в назидание
другим. Едва касаясь ногой постамента, с оливковой ветвью в подъятой ру¬
ке... нет, факел дружбы будет здесь сподобнее — находясь в вознесенном
виде над прибывающими кораблями, он явит собой бога торговли Мерку¬
рия, чем и будет способствовать беспорочному процветанию дружеских
связей многих государств...
Картина эта, обретшая было четкость в воображении бригадира, вдруг
начала расползаться и покрываться густым туманом... Туман, порт, про¬
клятый президент — он где-то рядом, голос его слышно, эх, только б не
упасть — ведь вскроют, гады, препарируют немедля...
Глазов бы и упал, но из тумана проявилось милое личико нового ангела,
столь же белоснежного, как и прежний, только не с рюмочкой, а с ваткой в
руке...
Дернув головой — ватка была пропитана нашатырем, — Глазов вдруг об¬
наружил себя в кунсткамере среди множества банок с заспиртованными
уродами, сиамскими близнецами и прочими мерзкими раритетами.
— Ну как? — поинтересовался Ржевский.
— Да вроде лучше. — Плох еще был Глазов.
— Что делать будем?
— Как что? Набивать.
— А как? В каком варианте?
— А я откуда знаю?
— А ты пойди спроси.
— Сам спроси! — заорал вдруг обер-полицеймейстер, потратив на этот
крик остаток сил... Уроды, органы-печенки-селезенки, близнецы — все сно¬
ва поплыло...
— А может, в банку его, заспиртуем? — Ржевский сделал последнюю жал¬
кую попытку выбраться из сего мерзкого дела.
— Сказала: чучело.
Ржевский приобнял Глазова за плечи, отвел в темный угол помещения.
Но и здесь огляделся для верности.
— Ты видел ее нынче... Неужели она не понимает, к чему это повести мо¬
жет?.. — горячо зашептал он. — А может, понимает?.. Так что, опять оприч¬
нина, ожесточение, пагуба? Куда идем, куда?..
Бедняга обер-полицеймейстер теперь был слабый собеседник. Он
лишь тупо глядел красными глазами через плечо Ржевского... Банки,
банки... В одной из них, унизительно уменьшенный до нескольких верш¬
ков, в полном парадном облачении, с орденами и медалями, плавал в спир¬
ту сам он, Глазов...
— Боже мой, боже мой!.. — лицо у старичка перекосилось, парик съехал
на сторону, губы задрожали. — Боже мой!..
Михаил Михайлович Вельский, престарелый президент Академии худо¬
жеств, едва поспевал за обер-полицеймейстером. Путь их пролегал через
галерею Академии, увешанную по стенам прекрасными полотнами от луч¬
ших мастеров. Здесь можно было лицезреть и объемные скульптуры, ко¬
пии и подлинники.
Глазов и лицезрел на ходу, то и дело поднося к носу ватку.
— Боже мой, а жена, супруга у него есть? — вопрошал добрейший старик и,
получив ответный кивок, увлажнялся слезами. — Какое страшное несчас¬
тье!.. Да как же так?..
— Один из подвигов Геракла... Сюжет хорош, но Глюк — Геракл?..
— Не годится, — вздохнул Глазов.
— За что такая кара? Что же надо совершить?..
— Лучше не гадать. Преступник жуткий...
— Европы похищенье... Тащат бабу...
Тут Глазов задержался.
— Вполне пикантно, но не то.
— А родители его живы? Нет? Ну слава богу! Нет, они б не пережили,
нет, нет, — Михаил Михайлович вконец расквасился.
— Ага, Лаокоон, вот это вариант...
— Да, но кто тогда змея?
... Юдифь с подносом, на подносе — голова...
— Не то.
...Святой Себастьян, к столбу привязан, стрелами утыкан...
— Мученик, — соображал вслух бригадир. — Но мученик кого?..
...Мазаччо, итальянцы, сплошные итальянцы...
— А где же немцы?
— А как он сам?
— Здоров.
— А похороны когда? О, боже мой, какие похороны, что я говорю...
...Рубенс, Рубенс, Рубенс...
— Любил толстух.
...Христос, Голгофа...
— Господи прости! — перекрестился Глазов.
...Юргенс: рыбы, мясо, овощи...
— Так и не позавтракал сегодня... намалевали уйму — выбрать нечего...
...Так, теперь Рембрандт...
-О!
...Мужчина на коленях, молит о прощеньи...
— ...«блудного сына»... — прочел и присмотрелся. — Гениально!
— Да... Рембрандт.
— А кто старик?
— Отец.
— Жаль... Если б мать...
— Это притча.
— Жаль, жаль...
...Картины ада. Босх. Черти, грешники, костры...
— Размножить бы, повесить в каждом кабаке — меньше б пили...
Перед огромной классной дверью, в темном коридоре Михаил Михайло¬
вич попытался унять слезы, вытер их платком, высморкался. И взялся уже
за ручку двери, как вспомнил вдруг:
— А дети, дети-то у него есть? Есть?!.. — и новые ручьи побежали по
его задрожавшим щекам. Потом задрожали и плечи, и руки, и, дабы
унять эту лихорадку, он прижался к Глазову, уткнувшись лицом в ши¬
нель, так что и Иван Фадеевич принужден был теперь дрожать. Через
силу хранимая выдержка изменила наконец ему, лицо обмякло, подо¬
бия всхлипов зародились в могучей груди — сердце-то вот оно, куда его
денешь... Картина странная для проходящих: сам Вельский, сам прези¬
дент, в объятиях у обер-полицеймейстера Санкт-Петербурга, и оба
плачут.
...Сандро Ботичелли. «Рождение Венеры». Картина-аллегория и уста¬
новлена на большом мольберте в светлом классе.
Неподалеку, в огромной раковине морской, на специальном возвышении
обнаженная модель — в той же позе, что и Венера на картине.
...Студенты, обернувшись от своих мольбертов на звук открывшейся две¬
ри, узрели своего президента с красным заплаканным лицом, да еще в со¬
провождении официального чина и, очевидно, очень важного.
Вставание, приветственный поклон, жест, разрешающий садиться. Два
педагога-итальянца с южным, наглым взглядом и смуглой кожей приветст¬
венно склонились.
Глазов, впервые, видно, попавший в такое заведение, устремился муже¬
ственным взором мимо затылков учеников, мимо их мольбертов, мимо пе¬
дагогов прямо к российской Афродите.
Румяное крестьянское лицо, волосы распущены, сложеньем хороша —
она, в свою очередь, тоже принадлежала к разряду новичков в подобном ре¬
месле: пунцово зардевшись от ярого взгляда генерала, она поспешно пере¬
кинула свой взор на президента, который безуспешно продолжал бороться
с одолевавшими его чувствами. Заразительное действие стариковских слез
вкупе с обострившимся смущением и произвели неожиданный пассаж, а
именно: пролитие слез неподвижной моделью.
Это, в иную уже очередь, так поразило будущих ботичелли, что они один
за другим принялись оборачиваться в поисках причины сего казуса.
Весь огонь младых взоров нацелился на высокопоставленного жандарма.
Занятиям грозил провал.
Тут уже оба гостя принуждены были брать себя в руки: президент про¬
должил усиленно сморкаться, а обер-полицеймейстер, что-то пошептав
ему на ухо, за чем последовал утвердительный кивок, поочередным мано¬
вением пальца призвал к себе обоих итальянцев, что те с присущей им лег¬
костью мгновенно и совершили. Затем бросил прощальный взгляд в сторо¬
ну плачущей Венеры, понюхал ватку и сказал:
— Адьё.
В прихожей дома Глюка запорошенные снегом художники подзадержа¬
лись, дабы раздеться, бригадир же, не снимая шинели, прошествовал ми¬
мо вытянувшихся в струнку сержантов в дом, который жил теперь новой
жизнью.
Через открытую дверь столовой заметил он женскую прислугу в строгом
черном одеянии. Разом поджав губы и метнув на него недобрые взгляды,
они с удвоенной энергией принялись протирать столовое серебро, раскла¬
дывать его по рангам, среди геометрически четко выстроенного на столе
фарфора, что-то подсчитывать, что-то записывать.
Вылетевший из спальни лекарь с тазом открыл ему картину спасения
бедной супруги бедного немца, распластанной на постели. Компрессы и
примочки, хлопотливые доктора — все это лишь мелькнуло, так как в сле¬
дующий миг на него кто-то кинулся из тьмы коридора и, повиснув на шее,
стал тянуть вниз.
Легко подхватив шалунью и подкинув ее вверх, он бережно опустил ра¬
достно завизжавшего ребенка на пол и, распахнув дверь, шагнул в кабинет.
Задернутые шторы, свечи, колеблемые резкими движениями и стреми¬
тельной немецкой речью, — вот первое впечатление. Приглядевшись, бри¬
гадир нашел обстановку, царившую в кабинете, близкою к военной: полдю¬
жины бубнивших меж собой приказчиков столпились возле своего коман¬
дира, который стремительно летал пером по бумаге, успевая при этом отда¬
вать какие-то приказания, что-то объясняя на плане Петербурга, занимав¬
шем полстола.
Кинув механический, мало чего видящий взгляд на вошедшего, он про¬
должил было свои занятия, потом глянул снова и узнал.
Бригадир вынул из кармана золотые часы и постучал по ним ногтем.
Глюк кивнул и заторопился пуще прежнего. Закончив послание, быстро
помахал им в воздухе, мгновенно сложил, сунул в конверт, схватил из горы
ассигнаций толстую пачку и отправил ее в тот же конверт. Очередной ско¬
роход его, получив вместе с конвертом нешуточные подорожные, стрем¬
глав ринулся на выход. Едва он исчез, как в кабинет скользнули итальян-
цы. Пошептавшись о чем-то с Глазовым, они впились взглядами в немца,
строчившего очередную депешу. Затем, разложив этюдники, принялись
разогревать свое вдохновение, быстрыми набросками осваивая модель.
Вскоре новый скороход полетел на задание.
Поворот головы... нос... ухо... бровь... Глюк обрисовывался со всех сторон.
Потом комната незаметно заполнилась еще каким-то народом, пошли
всхлипы и сморкания, кто-то обнял банкира, громче зазвучали приказы,
залетали пачки денег, зазвенели золотые... И вдруг все замерло. Глюк ока¬
менел с приоткрытым ртом, унесшись, видать, мыслью очень далеко. И все
молчали, ждали возвращения...
...Плечи... шея... кисть руки...
Затем все вновь пришло в движение.
Конверты, деньги, перья... Обвыкнув, итальянцы осматривали жертву со
всех сторон и, не смущаясь более, громко спорили на своем языке, отчаян¬
но жестикулируя.
Для завершения абракадабры английское и шведское наречия заявили о
себе на самых высоких тонах — то несколько господ означенных наций, по¬
трясая бумагами, требовали срочной выдачи нужных им товаров.
Опять все замерло во главе с хозяином дома. Лишь итальянцы продол¬
жали спорить, азартно обсуждая детали будущего проекта. Глазов стоял у
них за спиной, бдительно следя за рождением замысла. Несчастного немца
ничего уже, казалось, не могло ни удивить, ни поразить — даже этих не¬
весть откуда взявшихся художников воспринял он как должное.
И вновь — движение, крики, суета.
Любопытная шалунья, найдя, что в кабинете происходит самое интерес¬
ное, не преминула принять участие в сей забавной игре и, отобрав у одно¬
го из виртуозов грифель, довольно ловко врисовала в сомкнутую руку фа-
тера ромашку.
Глазов, уединившись в дальнем кресле, проглядывал готовые эскизы. Все
позы классической скульптуры были пущены в ход. Глюк представал то
скорбным, то задумчивым, то героическим... Оставалось лишь выбирать...
Воображение бригадира сделало резкий скачок на три дня вперед — туда,
к торжественному шествию по дворцовой галерее. Во главе процессии —
Екатерина, он, Глазов, рядом, далее весь двор. Парад полнейший: ордена,
ленты, пудра париков... По обеим сторонам галереи, в просветах меж мра¬
морных бюстов, тянувшихся вдаль чередой, медленно проплывают засне¬
женные пруд и парк... Звук множества шагов, шорох платьев... И вот, вот
он — миг, вот он — Глюк — как живой... в самом конце галереи, как бы воз¬
несшись над царскосельскими пейзажами — в римской тоге, с приятною
улыбкою на устах, с натуральным почти взглядом, с шагом, готовым навст¬
речу, с парусным корабликом в одной руке и с мешочком денег в другой...
Смятенное молчание, порожденное эффектом, вздохи восхищения, по¬
влажневшие глаза, ЕЕ улыбка, орден... да, лучше б Первозванного Андрея,
снятый самолично ЕЮ с ЕЕ груди...
...Новый шум и крики в кабинете прервали приятное сновидение. Глазов
встрепенулся и, вспомнив о прочих неотложных нуждах по сему делу, ре¬
шительным шагом вышел прочь.
В прихожей он чуть не столкнулся с молодым человеком великолепной
наружности, одетым крайне модно, даже щегольски, но с чувством меры.
Князь Растебаев — циник, умница, шарман, поклонник Казановы и Лой¬
олы одновременно — составлен был изо всех достоинств, возможных и не¬
возможных. Князь был пылок, тороват и слегка татароват. Князь и был
жених.
— Ну как он? — спросил Растебаев, оправляясь перед зеркалом.
— Считай — готов, — махнул рукой бригадир.
— Как? Уже?! — и князь метнулся в кабинет.
Глюка он застал в новой прострации, замершим в каком-то несвершив-
шемся движении. Стоявшие вокруг с печалью глядели на него. И князь
вгляделся повнимательнее:
— Отличная работа!
Глюк, узрев перед собой будущего своего зятя, жалобно улыбнулся и мо¬
литвенно сложил на груди руки.
— Василий... — жалобно вымолвил он.
— Фу, как ты меня напугал! — натурально отпрянул князь.
— Амальхен... — простонал немец имя дочери.
Растебаев замахал было руками, но поздно: словно вызванный на сеансе
дух, в комнату влетела черной птицей невеста и неотрывным образом при¬
липла к жениху. Она рыдала.
— Свадьба! Фатер! Свадьба! О, майн гот!.. — Вот те слова, что горестно
рвались сквозь горькие рыдания.
— Какая свадьба! — в сердцах воскликнул князь, быстрым, цепким взгля¬
дом пробегая комнату.
Горы денег, разбросанные векселя, итальянцы, скороходы — все это бы¬
ло мгновенно учтено и оценено. Он даже чуть скосил голову, заинтересо¬
вавшись одним из эскизов.
— Фатер! Фатер! — не умолкала дочь.
— Приданое! — прижал Глюк к груди. — Все отдам!..
— Приданое... — усмехнулся Растебаев, вновь — в который раз — прики¬
нув в голове богатство будущего тестя, что сделало его усмешку горькой.
— Фатер! Фатти!..
— Какое приданое... Чтобы все потом: «Ах, это тот, тот самый князь Рас¬
тебаев, который женился на дочке чучела?» Уволь...
— Какое чучело? Что? Почему я чучело? — обиделся Глюк...
— «Какое, как, что, почему»... — удивился князь. — Ты что, не знаешь?.. Ах,
мошенник! — глянул от в сторону ушедшего бригадира. — А сказал: «Гото¬
во»... Погоди! — Ему наконец удалось вырваться из объятий своей невесты.
Он зашагал по комнате. Остановился у окна. Приотдернул штору. Затем
заговорил негромко:
— Приданое... Конечно, некоторые обстоятельства могут тут вселять не¬
кую надежду, если бы уверенность, что произнесенное обещание, с понят¬
ной для бедной жертвы горячностью, не будет потом...
— Все, все отдам! Клянусь... — вновь возопил банкир.
— «Все, все»... Что значит «все»? — не отворачивался Растебаев от окна.
— Все! Весь мой капитал... Драй миллионен, — для убедительности он
показал три пальца.
— Не в деньгах счастье...
— Я знаю, знаю... Мюллер! Норберт!
Объявился Мюллер. Глюк суетливо достал из бюро какие-то бумаги.
— Свадебный контракт... роспись приданого... переделай срочно... не все...
то место, где сумма...
Глюк шепнул ему что-то на ухо.
— Драй?! Теодор! — изумился Мюллер.
— Шнель, шнель, битте!
Мюллер вышел. Глюк подвел Амальхен к князю, как бы вновь их соеди¬
няя.
— Дети мои...
Но Растебаев не возжелал участвовать в благостных семейных компози¬
циях и нервно заходил по комнате.
— Злодеи, каннибалы... Из живого человека... — все не договаривал он
главного. — Но есть, есть тень надежды... сейчас соображу... как лучше под-
ступиться-то?.. Чтоб не испортить, а помочь... Ты понял, про кого я?.. — на¬
мекнул он Глюку, пальцем сделав свой нос курносым, а глаза чуть выкатив.
Глюк ахнул радостно, засуетился, крикнул:
— Норберт! Шнель...
— Да... сейчас поеду... — все не уезжал Растебаев, — кто как не он... конеч¬
но... но какое варварство...
Вернулся Мюллер. Глюк суетливо просмотрел документ, поставил под¬
пись. Но князь не уезжал. Он все ходил по комнате, как бы ничего и не за¬
метив.
— ...Какое злодеяние... из живого человека, из иностранца сделать чучело
и представить... Как ты пережил?
Глюк тихими шагами завороженно шел ему навстречу.
— Что, ты не знаешь?! Амальхен, объясни отцу.
Прелестная Амальхен со стеклянным взором воззрилась на него, потом
на фатера...
Тогда Растебаев повторил новость по-немецки. Последнюю фразу дваж¬
ды подчеркнул: «Нах драй таген, нах драй таген...»
И показал Глюку три пальца врастопырку.
Амальхен, зажав ладошкой крик, бросилась вон.
По глазам Глюка было видно: сознание его остановилось, разум отлетел,
он уже не видел и не слышал. Он рухнул на колени и оказался в предельно
натуральной позе кающегося грешника.
— Беллиссимо! — закричали художники, схватив карандаши.
Зашумели немцы, кинувшись было поднимать хозяина.
— Но, но, моменто! — не подпускали их итальянцы.
Растебаев окинул взглядом немцев, итальянцев, разбросанные на столе
стопки денег, бланки, свадебный контракт. Затем убрал в бюро деньги и бу¬
маги и замкнул его на ключик. Поиграв ключиком, рассеянно опустил его
в карман.
— Ну за дело! — решительно возгласил он и захлопал в ладоши: — Эй, кто
там! Фриц, Франц, нет, лучше Мюллер!
В комнату влетела растрепанной фурией супруга Глюка и страшным
взглядом устремилась к поверженному мужу.
— Я попытаюсь, фрау Глюк! — заверил ее Растебаев. — Я сделаю все воз¬
можное. А ты за мной! — бросил он Мюллеру уже на ходу.
Едва Растебаев со своим спутником оказались на улице, как взорам их
предстала картина куда как отменная: все окрест было заперто экипажами,
а добрая сотня пеших зевак алчно шмыгала глазами по окнам Глюкова до¬
ма. Гул стоял, как в красный день на ярмарке. Люди из ведомства Глазова
тщетно пытались навести порядок. Вновь прибывающие живо вонзались в
гущу слухов — да, уж известно: корону украл, камешки выковырял... в дом
заманивал... и битте-дритте... целые корабли с порохом — и под церкви... а
вино все отравленное... распоясалась немчура... да турок, турок он переоде¬
тый, лазутчик... — И-и эх! — понеслись извозчики по столице. — Уж на что
Иван Васильевич жив был умом, а Катерина Алексеевна переплюнула!..
Что рот разинул, немецкое чучело? Говорят тебе, сахару головку давай да
сыру... — Верю, — глядя в лорнетку, — ибо абсурдно... — Это знак, знак на¬
шему брату, купцу. — А чем набьют? — играя в покер. — Как чем? Золотом,
он же банкир. — Ха-ха-ха, остроумно и вовсе не обидно... — Я вам запре¬
щаю, сударь, распространять столь мерзкие слухи о государыне!.. — Чуче¬
ло? Се дю моветон, не верю... — Не верите, потому как ново, а все новое... —
Ваше сиятельство! Я вынужден уведомить Берлин. Сей акт враждебности
и открытого вызова может означать лишь разрыв меж нашими державами..
Все это чревато военными последствиями, а также нарушением коалиций
и равновесия в Европе. Я давно уже замечаю, что козни австрийского, а
вкупе с ним и английского дворов начинают приносить свои ядовитые пло¬
ды... — Ну что ж, что немец, он же человек, как же можно... — А нельзя ли
вернее узнать? — за обеденным столом. — Плиний хотел осмотреть дымя¬
щееся жерло Везувия, но любопытство стоило ему жизни... — Очнитесь,
вольности сыны! — вскочив на стол в трактире. — Сметем ханжу и людоед¬
ку! Айда громить немецкий магазин!.. — Ну что ж, все мы смертны и при¬
нуждены гнить в земле, но лишь избранным выпадает доля донести свой
натуральный облик до далеких потомков. Пример тому — египетские му¬
мии... — О, майн гот! Нужно торопиться! В этой чудовищной стране нам
всем... — Давно было примечено и сказано, что люди настоящим недоволь¬
ны, почему? Потому что воображение превзойдет всегда существенность.
Понятие о совершенстве и сравнение сего понятия с действительным состо¬
янием, каково бы оно выгодно ни было, оставит всегда свет в недовольстве и
роптании, но к заключению сему не пристанут люди, сравнение вещей дела¬
ющие на обе стороны и с тем, что они могли быть, и с тем, что они суть и бы¬
ли... — Но что за причина такой дикости? — поразился Великий князь Па¬
вел Петрович, наследник престола.
Растебаев сокрушенно вздохнул и отвел глаза.
Цесаревич настороженно вскинул брови.
Растебаев быстро, испуганно вдруг глянул на него и тотчас спрятал
взгляд.
— Ну! — вскрикнул великий князь, гневаясь уже.
Растебаев помедлил немного, затем решился и смело воззрился на цеса¬
ревича.
— Устрашение, ваше императорское высочество.
— Чье устрашение? — грозно спросил Павел.
— Вас, ваше императорское высочество.
Цесаревич побледнел, оцепенело глядя на князя.
— Заем, — осторожно напомнил тот. — От Глюка.
Павел порывисто вскочил с кресла.
— Ну и что — заем?
— Государыня подозрительна, она недаром держит ваше высочество в
черном теле. А тут сразу полмиллиона не от нее и даже мимо нее.
— Откуда узнала?
Растебаев тонко усмехнулся и пожал плечами.
Цесаревич заметался по комнате.
— Это не все. Я жених дочери Глюка и приближен к вашему высочеству.
Следственно, в дальнейшем — тесная связь с крупным капиталом, как мы
и думали.
Великий князь рванулся к окну, но в стремительном сем полете был так
же стремительно вдруг оборван.
— И это не все, — значительно сказал Растебаев и в следующее мгнове¬
ние увидел прямо перед собой лицо Павла. — Глюк — масон.
- Как?!
— Был посвящен одновременно с вашим высочеством в ложе «Гранд
Ориент».
— Да?.. — Павел как бы приятно удивился, но тотчас ужас черной тучей
затмил его лицо. Дико и невидяще глянув сквозь князя, он вдруг исчез.
Взгляд Растебаева обнаружил его уже у дальнего окна. Мельком глянув в
окно, Павел увидел мирно марширующих гатчинцев — свой единственный,
игрушечный и потому дозволенный полк, одетый на прусский манер. Но
вихрь, бешеный вихрь, налетев, тотчас смел его, раскидав замертво по пар¬
ку. Потрясенный взор цесаревича вернулся в комнату, но не было, не было
ее уже, а был каземат, палачи, несчастный Алексей под пыткой и великий
прадед, бесстрастно ждущий признания непокорного сына. Павел, дико
вскрикнув, оказался уже у двери.
Растебаев острым и цепким взглядом мелькнул следом. Он сидел — он
знал, что кончится это нескоро, но был настороже.
Цесаревич захрипел, посинев лицом... о, эти ненавистные рожи душите¬
лей его отца! Перевернутый обеденный стол, мгновенная борьба, Орлов
Алексей, убийца, чугунными коленями давит на тщедушную грудь Петра
Третьего, князь Барятинский тянется с салфеткой, юный Потемкин, кто
еще... Теплов...
— Попляшете ужо! — захлебнулся криком Павел Петрович, трясясь от
страха.
Лицо Растебаева заострилось и напряглось — в помине не было уже ве¬
ликосветского оболтуса, а был игрок отчаянный и мудрый.
Павел же исчез. Где он?.. Ага — чуть скрипнула чуть приотворенная
дверь, и в этой щели глаз горящий, жадно впившийся в... мумии подобно¬
го не человека уже — тень человека: лицо, как маска — ни кровинки, ни
выражения, не голос — мычанье. Блеклый анемон, взращенный двадцатью
годами тайной шлиссельбургской неволи. Но и там он мешал, забытый
император, свергнутый в младенчестве, и там засверкали шпаги, и ужас
кинул сумасшедшего Иоанна Антоновича к сырому камню стены... Спи¬
ной к стене прилипнув, мыча нечленораздельно, Павел тщился вжаться,
исчезнуть в ней, но стена не пускала внутрь... Одно оставалось: руками,
ногами, спиной — вверх по стене.... выше и выше...
Растебаев пружинисто вскочил, бросился к Павлу... Но тот уже был в углу
комнаты, с тихой благостью молился в этот угол, в монашеском одеянии...
Черт, морока! — в каком монашеском — в мундире своем обычном... полуобо-
ротился в безобразно курносый свой профиль и закаменел, как на медали...
Растебаев взял его за руку, Павел вскрикнул, закрыл глаза и неуверен¬
ным шагом слепца пошел, ведомый своим поводырем... Тьма... Скрип две¬
ри, гром запоров и за ними — тишина... Павел, одетый в черное, скинул с
глаз повязку и увидел себя среди черных стен мрачной пещеры. При сла¬
бом свете лампады глаза его встретили мертвую голову и близ нее развер¬
нутую Библию на бархатной подушке... Явился человек с обнаженным ме¬
чом, на шее голубая лента с золотым треугольником. «Какое намерение ва¬
ше, вступая в собратство вольных каменщиков?» — важно спросил он по-
французски.
Павел раскрыл было рот и вдруг увидел прямо и строго смотрящую на не¬
го Великую свою мать!.. Он заметался, но тщетно — она была везде! С пор¬
третов... из мрамора... из бронзы... — отовсюду холодно и мрачно следила
она за ним. Павел возник у зеркала, но и в нем вместо самого себя ее увидал.
— Ненавижу! — захрипел он и яростным ударом расколол отображенье.
Растебаев, вовлеченный в эту круговерть, вместе с цесаревичем совершал
уже сии невероятные перемещения в пространстве, возникая то в одних
покоях, то в других... Заглядывая в обезумевшее лицо патрона, он шептал,
быстро и жарко, — шепот этот, не исчезнув еще в одном пункте комнаты,
продолжался уже в другом, множась и пьяня...
— Пусть, пусть, пусть чучело... слух кометою... все вздыбится, потрясение
в умах... тиран, упырь и кровопийца... пусть, ей же хуже... гвардия, я поза¬
бочусь... есть люди верные... Вольтер плюет в конверт и посылает... Дидро
проклянет... Фридрих, война... все взоры к нам, к вам... переворот...
...Страшно закричал зарезанный слухач с огромными ушами... с жутким,
перевернутым от ужаса лицом с подушек поднималась Екатерина... Наваж¬
дение разом кончилось, и потрясенный Павел рухнул в кресло. Взгляд его
застыл. Князь Растебаев достал платок и вытер свое красное, мокрое от по¬
та лицо. Чуть помедлив, сказал:
— Ваше императорское высочество, пришла пора решений...
Павел молчал — он возвращался к яви.
— Вот этот ключик три миллиона стоит. Или я женюсь, и тогда мы полу¬
чаем деньги и спасаем немца, иначе как я их получу, или...
Цесаревич сомнамбулически протянул руку и взял ключик. Взор его был
ясен и холоден. Помедлив мгновение у порога исторического решения, он
ключик проглотил. Растебаев налил вина и протянул ему бокал. Павел сде¬
лал два глотка и молвил:
— Вот мой ответ.
— Я понял: значит, чучело и...?
-И!
— Благослови нас всех, Господь!
Пока Растебаев шел по длинным переходам Гатчинского дворца, шаг его
твердел все более, лицо приобретало новые черты — то шел, быть может,
новый властелин империи, если и не коронованный... а впрочем... Романо¬
вы, Романовы... А почему не Рас... Ну там посмотрим — ждать недолго.
Но к человеку Глюка, что ждал его в полутьме передней, он вернулся в
обычном своем облике: чуть бонвиван, чуть светский денди, но деловой,
сердечный...
— Вот что, Мюллер... — Растебаев огляделся, — можно надеяться на под¬
держку, — тихо и таинственно проговорил он, — ближайшие же дни... Но
это тайна, ясно? Пока пусть готовится...
Немец впал в недоумение. Он собрался было что-то прояснить в сем ма¬
лопонятном и противоречивом известии, но князь остановил его отпуска¬
ющим движением руки.
— Иди, иди, милок. И будь нем как рыба.
В полутемной, затененной шторами спальне Глюка трепетали, виясь бла¬
гоуханными дымками, свечи. Трепетали они от движения воздуха, произ¬
водимого небольшим скорбным хором мальчиков, коий, спрятанный в тем¬
ный угол спальни, наполнял последнюю торжественной, распевной латы¬
нью: шел обряд последнего соборования.
Родные, близкие, друзья обреченного траурными рядами окаймляли ло¬
же, на котором со сложенными на груди руками покоился хозяин дома с
отстраненным, может быть, даже с унесенным уже в иные миры взглядом.
Католический священник с тихой молитвой на устах совершал послеис-
поведальное помазанье: клал крест на глаза Глюка, уши, нос, рот и далее —
на руки и ноги... Возле ложа на белой скатерти стола стояли сосуд со свя¬
той водой и меж двух свечей — распятие.
— Благодаря этому святому помазанию, — говорил священник, смазывая
елеем лицо и тело Глюка, — и благодаря милосердному состраданию Гос¬
пода нашего всеблагого, да простятся тебе все грехи, вольные и невольные.
Амен...
Окаменелые до сего момента жена и старшая дочь несчастного, а за ними
и все прочие вдруг повернули разом головы в сторону двери, где стоял
только что прибывший из Гатчины Мюллер. Глаза его были полны слез, и
он поторопился опустить их долу. Последняя надежда угасла в женских
взорах, и они поникли окончательно.
— Господь не велит нам терять надежду, — вернулся с тяжким вздохом к
своему делу священник. — Так будем уповать на милость его беспредельную...
— ...Светлейший и единственный, кто великостью своей и размахом со¬
размерен с пространством империи, присоединитель Крыма и Кубани, ос¬
нователь и соорудитель победоносных флотов, победитель сил турецких на
суше и на море, прославивший оружие российское в Европе и Азии, осно¬
ватель и устроитель многих градов и деревень, покровитель наук, худо¬
жеств и торговли, муж, украшенный всеми добродетелями общественными
и благочестием личным... — вкрадчиво и медоточиво тек мужской голос.
Белое полное лицо, растрепанные волосы над выпуклым лбом, чуть вниз,
с каким-то застывшим вниманием смотрящие глаза. Светлейший князь
Потемкин собственной персоной, Григорий Александрович.
— Иди к мужу пока, — тихо сказал он.
С его колена, отставленного в сторону, воздушно поднялась первая кра¬
савица столицы княгиня Долгорукая. Светлейший сидел в просторном бу¬
харском халате, босые ноги его привычно покоились в шлепанцах. Перед
ним находился мраморный столик с золотыми и серебряными шахматны¬
ми фигурками, а также индус в чалме по иную сторону стола. Индус играл
серебром.
— Анютку оставь, — сказал светлейший вдогонку княгине.
Та вернула ему большую куклу с детским лицом и завораживающей
улыбкой, которую он тотчас усадил на освободившееся колено.
— ...Святая римская церковь, — ни на мгновенье не прекращался голос, —
с восхищением следит за вашими деяниями, покоренная тем, как вы, пре¬
мудрый поводырь мудрой самодержицы, неустанно споспешествуете про¬
цветанию державы вашей, твердой рукой ведя ее из славного прошлого в
великое будущее...
Князь сделал ход золотым конем и встал во весь свой голиафский рост.
...Перед ним была преобширная его гостиная, наполненная множеством
людей: вельможи, генералы, купцы, англичане, французы, шведы, датчане,
персы, грузины, калмыки и татары — кого здесь только не было. Обеден¬
ные столы, украшенные всевозможными композициями из цветов, походи¬
ли на огромные клумбы, где наряду с изысканными творениями кулинар¬
ного искусства пребывали во множестве и вина самых отменных досто¬
инств. Меж обеденными располагались и карточные столы, где процветали
азартные игры.
Индус, мгновенно оценив положение на шахматном поле, повалил свое¬
го короля, показав тем самым, что сопротивляться долее не намерен.
С куклой в опущенной руке двинулся Потемкин меж столов. И тотчас
оживленнее зазвенело столовое серебро, замелькали руки с картами, встре¬
пенулись пудреные парики, ярче засияли звезды орденов.
— И статью и духом своим равняясь Великому Преобразователю россий¬
скому, — тенью поплыл за ним человек в черной сутане — професс Свя¬
щенного Ордена иезуитов, — коий первым обратил свой взор на Запад, ве¬
дая, что только силой, культурой и умом Европы можно пустить в плава¬
нье сей грандиозный корабль. Европы, от себя добавлю, вскормленной свя¬
той латинской церковью...
Князь лишь на мгновенье призадержался у столов, время от времени лю¬
бопытствуя ходом игр и аппетитом гостей. В эти мгновения в поле его зре¬
ния являлись фокусники и иллюзионисты, ненавязчивым образом демон¬
стрируя свои невероятные штуки.
— ...Мудрые кормчие нынешней России да не преминут воспринять с
благодарностью сей завет Преобразователя...
На бильярде рьяно заработали выисканные и тщательнейшим образом
натасканные мастера: кии и шары при скорострельных их ударах таяли, ка¬
залось, в воздухе.
— ...Благо первый шаг сделан уже был. По прибытии своем сюда Екате¬
рина, справедливо именуемая ныне Великою, столь же решительно, сколь
и прозорливо отринула от себя предательское лютеранство и смело пере¬
шла в православный собор, коий есть единоутробный брат собора римско¬
го. Воистину мудрость направляет ее стопы!.. Теперь, дав католичеству
права гражданства в новоприобретенных западных краях империи вашей,
она делает следующий шаг в сторону великой цели...
Едва князь, достав свободной рукой из кармана халата и нюхнув табаку,
отвернулся, как из сонма гостей вынырнули певцы и плясуны-искусники —
солдаты, наряженные в мужиков и баб — и заголосили-завертели что-то
простонародное. Присутствующие иноземцы дружно захлопали в такт и
запритопывали.
— ...Мир страдает от разделенности веры, — приблизилась вплотную су¬
тана, — и объединение христиан — вот высочайшая миссия первосвящен¬
ника римского, доверенная ему Вседержителем...
Потемкин сунул куклу иезуиту, обнял бабу-солдата — ублажил, стер¬
вец! — и смачно поцеловал его. Затем, сделав несколько шагов, он оказал¬
ся у шатра из золотистого шелка, куда и изволил исчезнуть. И тотчас неж¬
ный голос скрипки слился с серебристым женским смехом. Професс возна¬
мерился было следом, но выросший перед ним человек вонзился в него
особым проницающим взглядом, затем сделал рукой плавное, уверенное
движение около его головы, чем и превратил католика в некое подобие ша¬
гающей скульптуры с куклой в руке.
— ...Могущество святого престола, — механически продолжал иезуит, —
обнимает обе Индии, Африку и Азию, половину... этой... Америки... — за-
спотыкался, скисая, увещеватель, — теперь оно досягнет до Камчатки... —
лицо магнетизера оказалось совсем рядом, — и Российской Америки... — на
чем католик и замолк.
Очнулся он в другом месте потемкинского дома. Плыли волшебные зву¬
ки флейты... Светлейший, стоя со скрещенными на груди руками, глядел
на индийского заклинателя, сидевшего на ковре, на его кобру, потом пере¬
вел взгляд на столы, окаймлявшие ковер, на разложенные на них во мно¬
жестве стальные изделия тульских оружейников. Заинтересовался. Куп¬
цы, стоявшие чуть поодаль, подвинулись ближе. Указывая перстом, князь
принялся отбирать понравившиеся ему вещицы.
— Госпожа Камера, родом из Мальты, — шепнули ему на ухо.
На мгновение оторвав взгляд свой от стали, он узрел в дверях женщину
невиданных размеров с двумя детьми.
— Будет показывать превосходную силу свою следующим образом: стано¬
вятся на тело ее столько человек, сколько поместиться могут, кладут наковаль¬
ню ей на грудь и куют, во время чего она берет рюмку с вином и пьет за здра¬
вие всей компании. Мальчик осьми лет будет корпусом своим такие движения
делать, которые здесь еще никогда дотоле не виданы. Девочка шести лет...
— Давай, — кивнул князь и, взявшись за торчавший изо рта подвернув¬
шегося артиста эфес шпаги, вытянул ее целиком.
— Опять из моей коллекции? — нахмурился он. — Своих мало?
Когда светлейший был уже в дверях, голос иезуита возобновился вновь.
— ...Царь всех царей — Папа римский с болью смотрит на детей своих в
Польше, все беды которых происходят от слабости польского престола...
Дверь открылась в светелку, полную девицами, кои блистали как красо¬
тою, так и разнообразными цветовыми оттенками кожи, вплоть до самого
шоколадного. Каждая из них, будучи привержена особой своей нации, зани¬
малась свойственным данной нации рукоделием. Одни пряли на прялке,
другие расшивали рушники, третьи сотворяли ковры бухарские... Играли
также на арфе, плели из соломы и многое чего еще делали... При виде князя
все защебетали радостно и, отскочив от своих занятий, бросились к нему.
— Король польский Станислав-Август излишне чувствителен и подвер¬
жен всевозможным внушениям.... — у иезуита, попавшего вместе с князем
в прелестный плен, голова несколько закружилась от обилия впечатлений.
Когда же плен окончился и щебетуньи вернулись к своим занятиям, он об¬
наружил вдруг, что светлейшего нет в светелке. Он кинулся следом и, от¬
ворив очередную дверь, оказался в партере домашнего театра.
На сцене была представлена живая картина самых свежих времен, а
именно один из фрагментов победоносной турецкой кампании. В самой гу¬
ще яростного боя высился верхом на белом коне сам светлейший в фельд¬
маршальском мундире с грозно простертым ввысь мечом... Но вот меч
сверкнул, опустился, и все турки попадали замертво.
В тот же миг грянула роговая музыка, спрятанная по всему театру, и ту¬
чи, грозно клубившиеся во время схватки, сначала просветлели, а затем и
растаяли от нестерпимо жарких лучей. Над сценой, все выше и выше в не¬
бо, поплыл солнечно сияющий лик Екатерины... Таким же невидимым и
таким же громоподобным образом вступил хор:
Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый Росс!
Звучной славой украшайся:
Магомета ты потрес.
Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!..
Професс Священного Ордена, бывший единственным зрителем сего зре¬
лища, захлопал в ладоши.
— Ну будя, — сказал Потемкин, и музыка с пением прекратилась. — Пе¬
рекусите пока до вечера.
Все балконы тотчас заполнились певцами и музыкантами с духовыми
рогами разного калибра.
Сцена же, когда на нее глянул католик, была пуста...
Вышедши в накинутой поверх халата исполинской дохе на двор, Григо¬
рий Александрович прищурился от яркого по-весеннему солнца.
Кибитки, живописным хороводом выстроенные на снегу, вдруг ожили, и
целый табор молдаванских цыган отчаянно ринулся в песню и пляс.
— Сегодня не сгодится, — молвил князь.
Цыгане, потеряв голос, но от куража еще чуть посучив ногами, исчезли.
— ...Король Станислав-Август излишне чувствителен и подвержен все¬
возможным внушениям, — напомнил тему вновь явившийся за спиной По¬
темкина иезуит с куклой в руке. — Только человек, подобный вашему сия¬
тельству, а проще говоря, вы и при нашей поддержке, в коей нет смысла со¬
мневаться, могли бы поставить эту страну на твердые ноги, возглавить ее,
а вместе с ней и новую, единую и великую Европу!..
Все обширное пространство двора помимо цыганских кибиток было за¬
ставлено всевозможными возами, подводами, санями, с которых шла не¬
прерывная разгрузка бочек, ящиков, мешков и которые все прибывали и
прибывали... Вот зеленая гора арбузов, вот желтая — дынь...
Светлейший поднял взор свой чуть выше, и по мановению взора его со
снежных катальных гор веселой чередой покатились сани с празднично
разряженными молодайками и молодцами, зазвенели удалые песни. Путь
их сверху вниз напоминал аллеи, уставленные по бокам античного толка
скульптурами изо льда. Многие герои и атлеты от яркого солнца начали
уже плавиться, с могучих дланей открылась капель.
Григорий Александрович озаботился.
Тотчас к нему подвели под руки полуслепого старца.
Означенный старец, подошед, внимательнейшим образом обнюхал воз¬
дух со всех сторон света, задумался.
Князь пытливо ждал.
— К вечеру приморозит, — молвил наконец старец.
— Точно? — прищурился князь.
-Чую.
— Ну гляди...
И светлейший пошел меж возов.
— ...Перст Господень указует нам на земной Олимп, глас Господень
предсказует судьбу невиданную. — Иезуит, в противность античным атле¬
там, все более ощущал свежесть, нежели тепло петербургской весны. —
Лишенный влияния прежнего, недобровольно в тень отошедший, не посе¬
туйте на свое положение нынешнее. Не знавший падения, не насладится
взлетом...
Возле одних саней князь приостановился.
— С Урала, батюшка, — открыли в санях бочку, полную до краев красной
икрой.
— Астраханские прибыли? — спросил князь.
Тотчас возле него взметнулась указующая рука в сторону мужиков с осе¬
трами на плечах, по три плеча на рыбину.
— ...Незримо следящие за каждым движением вашим, низко склоняем го¬
ловы перед достоинством, проявляемым во дни холодности к вам затянув¬
шейся. Мы ждали дня, и он настал...
У других саней Потемкин запустил руку в бочку и захрустел огурчиком,
до коих был великий сластец.
— ...День этот впишется в судьбы земных народов, — продолжал чуть по¬
синевший уже от холода католик. — Сегодня утром владетельница престо¬
ла российского, обмороченная нехристями, безбожниками и вольнодумца¬
ми французскими, приняла роковое для судьбы своей решение...
— А вустрицы где? — вдруг грозно вопросил Григорий Александрович.
Но по двору летел уже взмыленный конь...
Возле светлейшего, дико всхрапнув, встал он на дыбы, и всадник, не ме¬
нее взмыленный, сверзился на снег.
— На подъезде... В двадцати верстах, — доложил он, едва дыша.
— ...Пожалеем ее и помолимся... Господь щедр, но и человек ответствен... —
не умолкал иезуит.
Князь, будучи уже в конце двора, лишь мельком глянул на проплывшие
мимо ноги африканского слона и шагнул в черноту распахнувшейся пред
ним двери.
Впрочем, чернота в сем пространном помещении оказалась не повсемест¬
ной: тут и там плошки и факелы выхватили на свет среди летающих по воз¬
духу перьев множество подвешенных на крюках освежеванных туш, меж
которых вовсю кипела предкухонная работа. Быстро мелькала сталь, и все¬
возможные шкуры и рога опадали на пол, в считанные мгновения теряли
под ловкими руками свое оперение глухари, рябчики, фазаны, гуси и про¬
чие, кто его имел. В просторной сети билась туча голубей, а в огромных ка¬
душках кишели, ожидая своей участи, раки и лягушки.
— Наши? — заинтересовался князь насчет лягушек.
— Марсель! — уважительно молвил кто-то.
Светлейший шел неспешным шагом, зорко поглядывая — не упущено ли
чего — по сторонам.
— ...Святая инквизиция шла на жертвы во имя и во утверждение веры, —
и здесь не сникала сутана, — но и в те горькой памяти времена не рожда¬
лись столь изощренные формы. Тогда очищали огнем, теперь набивают
опилками. Прежние ваятели знали камень, дерево и металл, теперь дошла
пора и до кожи. О, времена...
Следующая дверь открылась в преисподнюю: сколь хватало глаз, все
здесь горело, дымилось и парилось. Печи, вертела с целыми тушами, ги¬
гантские котлы — все это булькало, трещало, плевалось огнем; сотни по¬
варов и поварят, словно сотни переодетых в белое чертей, самым дея¬
тельным образом сновали повсюду, что-то сыпали, пробовали, украшали
зеленью, воздвигали торты в виде замков, подавали команды на всевоз¬
можных языках. В ароматном чаду плыли уже на вытянутых руках ог¬
ромные блюда с готовыми кабанами, лосями, белугами. Эти древнерус¬
ские лакомства соседствовали с изощреннейшими изобретениями луч¬
ших кулинаров Европы и Азии. И везде светлейшему докладывали по-
французски названия блюд, весьма порой заковыристые. Но если князь
в халате своем не чувствовал здесь никакого стеснения своему здоровью,
то иезуит, будучи в шерстяном наряде, скоро начал раскаляться в сем
пекле.
— ...Страдалец-немец, из коего живого сегодня утром высочайше прика¬
зано набить чучело, по канонам христианства становится мучеником, а по
статье тридцать восьмой конституции Священного Ордена иезуитов, заме¬
чу а пропо, приобщается к лику святых. Соответственно мучитель, не хочу
вслух называть имени его, рядом с Тамерланом, Калигулой и Нероном
приторачивается к позорному столбу истории и лишается любых надежд
на бессмертие духовное...
Католик, обликом своим напоминающий уже зрелый помидор в утрен¬
ней росе, узрел наконец предел сей бани, а вместе с ним и конец своим
мучениям.
— ...Однако дело еще не сделано, а время есть. Глава Ватикана, предста¬
вить коего берусь в сей роковой момент, вручает в руки ваши судьбу исто¬
рии. Решайте: погубить несчастного или спасти, а вместе с ним и ту, кото¬
рая стоит сейчас на краю пропасти. Решайте... Остаться в отчуждении или
восстановить свое влияние, вернуться к власти и в ней упрочиться... Про¬
бил час! Я вам принес все козырные карты. Ваш ход. Игра невиданна!.. Со¬
единим же наши силы и заложим первый камень в основание вселенского
собора объединенных Римом христиан. Крест и воля! И вместе будем пра¬
вить миром. Для этого все средства хороши!
Завершив этой тирадой свою речь, иезуит нырнул вослед Потемкину вон
из кухни и оказался в небольшой и прохладной, в голландском кафеле и ве¬
нецианских зеркалах умывальне.
Сбросив халат и склонившись над медным тазом, князь кивнул на мед¬
ный же кувшин, полный воды.
Католик косо глянул в зеркало и увидел себя, апостола Ордена Игна¬
тия Лойолы, красного и мокрого от пота, с проклятой куклой в одной ру¬
ке и с кувшином в другой, увидел себя покорным прислужником у рус¬
ского паши. Он горько усмехнулся, поливая умывающемуся князю. Но
это полбеды, другая же, главная, состояла в том, что он действовал черес¬
чур рискованно, влезая в чужие и очень странные дела, и, начав с одного,
зацепил и другое, вопреки всякой стратегии, выложив все разом и выдав
себя с головой, со всеми своими амбициями... Но упустить момент тоже
было нельзя...
Продолжая поливать склонившемуся князю, он вдруг увидел в руке того
глаз, обычный человеческий глаз голубого цвета, смотрящий на него чер¬
ным зрачком своим и видящий, казалось, насквозь. Светлейший тщатель¬
но промыл его и вернул на место. Только тут вспомнил иезуит, что Потем¬
кин крив.
— Так как, говоришь, зовут сего немца? — спросил князь, утираясь поло¬
тенцем.
— Глюк, ваше сиятельство.
Шагом твердым и стремительным, не допускающим никакого прекосло¬
вия, шел генерал-фельдмаршал российских войск светлейший князь По-
темкин-Таврический по Зимнему, и двери распахивались перед ним... Тем
же не ведающим сомнения маршем миновал князь зеркальную и, не обер¬
нув гордо вскинутой головы в сторону растерянных сановников и секрета¬
рей, распахнул дверь в кабинет.
Государыня, работавшая за своим столом в очках и с пером в руке,
вздрогнула и глянула изумленно и довольно холодно.
— Я не понимаю, князь... — жестко начала она.
— И я не понимаю, матушка! — перешел в атаку светлейший. — Вы, вер¬
но, решили отлучить меня от дел, что ж, ваше право. Но в сем деле я мол¬
чать не буду!
— Что за тон, князь! — вспыхнула императрица. — Какое такое дело?
— Как — какое?! — вскричал Потемкин. — Да то самое, о чем весь Петер¬
бург трубит! И о коем я узнаю последним!..
— Что за чушь вы городите, милостивый государь! — начала гневаться
монархиня. — Уж трезвы ли вы?
— Как? — дрогнул все же князь и проклял в душе своей лживого иезуи¬
та. — Разве не вы велели нынче утром Глазову чучело набить из Глюка?
— Ну велела, так что?
— Как — что?!
— И сия безделица суть причина вашей выходки? — императрица хлоп¬
нула в ладоши два раза.
Явился камердинер.
— Где Федор Севастьяныч, где Глюк? — строго вопросила самодержица.
— Прошу, — скользнул тот в сторону боковой двери.
Разгневанная императрица и озадаченный Потемкин последовали за ним.
На зеленой лужайке зимнего сада стоял окруженный живыми цветами
небольшой гробик, обитый розовым шелком. В гробике лежал белый пу¬
дель. Рядом где-то приглушенно выли дворцовые звери, на ветвях деревь¬
ев ахали попугаи.
— Я же приказала чучело! — растерянно сказала Екатерина Алексеевна,
пораженная таким скандальным неповиновением. Камердинер стал белее
мела.
— Какое горе! — сказал попугай.
Потемкин вдруг громоподобно рассмеялся.
Императрица глянула на него гневно, до глубины души уязвленная та¬
ким кощунством — смеяться над гробом ее любимца. Потом вгляделась в
Потемкина внимательнее. Светлейший был умен, он знал свои границы,
выйти за которые никогда не посмел бы. Так в чем же дело?
Князь же начинал уже рявкать, заходясь в хохоте. И тут ее осенило.
Она тоже рассмеялась. Смех ее по мере того, как она проникала в ко¬
мичность ситуации, вспоминая все, что сообщил Потемкин, делался
все безудержнее.
В кабинете уже, кончив смеяться, Екатерина утерла наконец слезы.
— Что, правда переполох в столице?
— Ого!
— Так почему эти олухи молчали?
— Боятся.
— Ну что же, князь, благодарю за смелость. Твоя прямота в сем деле —луч¬
шее доказательство честности и преданности... в которых я и не сомневалась.
Потемкин усмехнулся — он сыграл-таки свою игру.
Покончив с объяснениями, императрица громко вопросила:
— Где этот дурак обер-полицеймейстер?
В дверях кабинета возник Глазов.
— Докладывай! — приказала государыня.
— Все необходимые приготовления произведены, ваше величество! — от¬
рапортовал бригадир. — Осталось лишь утвердить проект, составленный
наилучшими мастерами изящных искусств, который, по высочайшему ут¬
верждению, и будет незамедлительно пущен в ход.
Глазов развернул проект, рисованный, и правда, весьма искусно. На нем
был изображен грот, завешанный падающими водяными струями, за кото¬
рыми угадывалась фигура коленопреклоненного Глюка.
— Объемное изображение или лучше, как ваше величество изволили ска¬
зать, чучело преступника будет помещено в сем гроте в позе кающегося греш¬
ника. Сии струи воды суть слезы, коими не выплакать его страшное преступ¬
ление. Место гроту будет назначено по соизволению вашего величества.
— Ну как? — обернулась Екатерина к Потемкину.
— Изрядно, — согласился князь.
— Вот результат твоей шутки, Лев Александрович, — строго сказала мо¬
нархиня.
— Мои шутки порой бывают жутки, — хохотнул Лев Александрович На¬
рышкин, обер-шталмейстер и давний приятель государыни, невесть откуда
здесь взявшийся.
— Вам шутки, а мне расхлебывай, — горько сказал Никита Иванович Па¬
нин, канцлер, возникший таким же манером. — Послы как взбесились —
требуют ответа: верно ли война с Пруссией?
— Ну ты, братец, му... чудак! — удивился Нарышкин Глазову. — Что это
ты о государыне, доброй матери нашей, помыслил? Ну подарил немец ко¬
белька, ну назвали его именем сего немца, ну пошутили славно, а ты...
Все вдруг понявший Иван Фадеевич Глазов со стоном грохнулся на ко¬
лени, чем живо напомнил всем свой собственный проект.
— Поднимите его, — сказала государыня.
Затем протянула в сторону руку свою, в которую тотчас был вложен ор¬
ден. Подойдя к бригадиру, она прикрепила сей орден на обер-полицеймей-
стерскую грудь.
— За безупречную службу, — серьезно глянув в лицо Глазову, молвила
она.
— Теперь беги, — сказал Потемкин Глазову, — проси прощения у немца.
Глазов устремился было к двери, да вдруг и притормозил: спасительное,
выработанное годами чутье заставило его оглянуться на государыню.
Тяжелая усмешка каменила ее лицо.
— Беги, беги, — язвительно хохотнул Нарышкин. — И передай: мол, ее вели¬
чество мечтает на колени пасть перед его ничтожеством — авось да простит.
Обер-полицеймейстера кинуло в жар при мысли, что он вот так запросто
и сдуру едва не лишился новоприобретенного ордена.
Нарышкин оборотился к вмиг помрачневшему Потемкину и расплылся
в самой добродушнейшей улыбке.
— Помилования пусть молит, помилования, Григорий Александрович,
любой не без греха небось, а? Ну а уж мы так и быть снизойдем.
— А дабы искоренить вредные слухи, — молвила самодержица, — велю
представить мне немца нынче же у тебя на балу. Придется ехать, — сказала
она, едва улыбаясь и смотря прямо в глаза светлейшему, — а то ведь не хо¬
тела... А бал в чью честь?
— Так, безделица, именины.
-Чьи?
— Племянницы.
— Которой?
— Вареньки.
— А, помню, весьма мила...
Потом, не глядя уже ни на кого, государыня выпрямилась и обратилась
сквозь стены кабинета, сквозь стены Зимнего ко всей своей обширнейшей
империи:
— А дабы подобного впредь не происходило, повелеваю издать указ...
Тотчас объявился скорописец.
— ...На всем пространстве Российской империи отныне и навеки запре¬
щается давать собакам, кошкам и прочей живности человеческие имена!
Это была точка в сем деле, после которой все исчезли.
Один Потемкин с неподдельным восхищением смотрел на императрицу.
Еще более распрямившись, она подошла к окну. Когда она обернулась от
него, князь въявь увидел сияющий нимб вокруг ее чела.
— Да, велика! — восторженно выдохнул он.
Траур, глубокий траур царил в доме Глюка, когда в него ворвался крайне
возбужденный обер-полицеймейстер со своей свитой. Траурны были лица
прислуги, траурен полумрак гостиной с занавешенными черным зеркалами,
траурно перекусывали препараторы возле разложенной на столе страшной
своей стали. Даже один из белых ангелов Ржевского был теперь в черном, ла¬
сково тем не менее поводя ваткой под носом откинутого в кресле президента.
Сердце бригадира при виде сего беспросветного мрака екнуло, он с ужа¬
сом глянул на Ржевского, подозревая катастрофу свершившеюся, и, еще
уторопя свой шаг, оказался у двери спальни...
Свечи у бездыханно распростертого тела, две обессиленные, коленопре¬
клоненные фигуры — жена и дочь; вместо шалуньи — испуганная девочка,
также вся в черном; скрытый полутьмой дальнего угла спальни ни на ми¬
нуту не умолкающий хор, исторгающий рвущие душу звуки,— вот та жут¬
кая картина, что ожидала здесь Глазова, уверенного еще минуту назад, что
все самое ужасное позади.
Узрев явившийся рок в страшном с сего дня образе бригадира, женщины в
прощальном порыве и с последними слезами приникли к обожаемому телу.
И Глазов жадным ухом приник к груди купца.
— Слава тебе, Господи! — с самым искренним чувством воскликнул он.
Затем встряхнул беспамятного немца и куклой усадил его на постели.
Женщины зарыдали.
— Слава тебе, Господи! — не уставал повторять Глазов на бегу своем в
гардеробную и там, в гардеробной, одну за другой выбрасывая на пол одеж¬
ды купца, и потом, на обратном бегу с парадным нарядом немца.
Одевали Глюка в шесть рук: две генеральские и четыре сержантские. Тот
был покорен и абсолютно равнодушен отныне, что бы с ним ни делали.
— Теодор!.. Фатер!.. Фатер!.. — кричали женщины, не понимая, что про¬
исходит, но и не сомневаясь, что мужа и отца отнимают у них навсегда.
— Свечку! Свечку мне ставьте! — трубно возглашал меж делом Глазов.
Пригож и наряден стал Глюк в белоснежном парике с напудренными
буклями, в красном камзоле, вышитом золотом и усыпанном драгоценнос¬
тями, в зеленых бархатных штанах, в шелковых чулках и в башмаках с
пряжками и красными каблуками. Всем хорош, только вот лицо, лицо ка¬
кое-то бессмысленное и отрешенное. Пошлепав его по щекам — увы, Глюк
был невменяем, — Глазов чуть раздвинул пальцами его щеки, посадив та¬
ким образом на физиономию немца приятную улыбочку. Затем, не мешкая
более, вместе с сержантами повлек его на выход.
Женский крик превратился в визг.
Обер-полицеймейстер, будучи уже в восторженном состоянии, обер¬
нулся:
— Гут, гут! Все гут!
Но они были уже полубезумны.
Глазов махнул рукой и двинулся дальше. В гостиной его нагнала ярост¬
ным зверьком и вцепилась зубами в руку бригадира бывшая шалунья. Бри¬
гадир возопил, отряхнул с руки ребенка и узрел перед собой президента
Медицинской коллегии с лицом, растерзанным сомнениями, недоумения¬
ми и вопросами.
— Ну ты... чудак, братец! — удивился ему Глазов, посасывая укушенный
палец. — Шуток не понимаешь.
Разряженного, приятно улыбающегося Глюка доставили в прихожую и,
накинув на него шубу, распахнули дверь заточения в новую жизнь...
Новая жизнь эта на поверку оказалась раем.
Черный поначалу, как черен был зимний вечер в распахнутой двери, па¬
радиз сей зажегся сразу в нескольких местах огоньками, которые размно¬
жились тотчас и разбежались, как разбегаются от ладони растопыренные
пальцы, выше и выше... вспыхнули россыпью звезд... и озарили все вокруг
тысячесвечьем великолепных люстр, сказочно переливающих одна в дру¬
гой колико возможные оттенки колико возможных цветов...
О, бедный Глюк! Мир, превратившийся в странный и бессвязный сон,
явился ему вдруг в таком волшебном обличье, коего быть на земле, конеч¬
но, не могло... Громадная толпа, вынырнувшая из мрака, всколебалась и,
восторженно загудев, предстала пред ослепленные очи самой полной вы¬
ставкой национальных одежд, присущих не только российским, но и всем
другим народам, посеянным по бескрайней империи... Изнеможенные чув-
ства немца то пробуждались к жизни, то отрекались от нее, следствием че¬
го явилась некоторая прерывистость сего сказочного сна... Вот одна стена
рая всколыхнулась вдруг и опала, шелково прошелестев, и гурьба арханге¬
лов, повиснувшая на фоне небесно-голубом, затрубила разом в сверкающие
свои трубы... тысячеликая толпа отпрянула — ее будто отдуло по сторо¬
нам,— и по освободившейся середине рая, по блистающему его паркету вы¬
ступила в торжественной кадрили процессия иных народов. Посольский
сей, причудливый нарядами и слепящий драгоценными камнями кортеж
возглавил сам светлейший, одетый римским воином, об руку с племянни¬
цей своей, являвшей Нефертити. Кадриль все ближе, ближе... Еще мгнове¬
ние — и сметет... Бесчувственно и страшно сверкнул алмазный глаз римско¬
го легионера... Глюк обнаружил вдруг себя в большом кругу гостей среди
смеха и аплодисментов — это он вручал имениннице Нефертити подарок:
известную уже куклу, но в уборе из бриллиантов, диадемы и колье. Преле¬
стная Варенька, бросив быстрый и благодарный взгляд на дядю, защебета¬
ла что-то по-французски и поцеловала немца в щечку. Вновь аплодисмен¬
ты... «Ну, Федор, ты орел! — восхитился князь и приобнял Глюка. — Реко¬
мендую: мой стародавний друг...» Остаток фразы потонул в музыке и гро¬
ме: это прошествовал рядом слон в золотой попоне, тащивший за собой ги¬
гантский барабан на колесах. На слоне восседал автомат-персиянин и бил в
бубен, на барабане же показывали завораживающие восточные танцы...
Глюк был уже возле голубого фонтана. Князь, не отнимая руки с его плеча,
продолжал свои рекомендации: — «Страшный дуэлянт... опасный сердцеед
и остроумец, берегитесь...» Зашептались-загудели гости, кто-то привстал на
цыпочки, кто-то приподнял лорнетку. Таинственная полуулыбка, взгляд
Глюка, устремленный в бесконечность, производили впечатление... Потом
ударили литавры, грохнули пушки, и под сводами рая загремело «Коль тво¬
ими чудесами...» Зазвенели люстры черного хрусталя над огромными бело¬
го мрамора вазами... Теперь они поднимались по широченной лестнице: ви¬
кинги, монголы, россияне — здесь смешалось все и вся. Светлейший, име¬
нинница и Глюк, приветствуемые народами, шли по живому проходу. Впе¬
реди нес факел грек младой в короткой тунике и в сандалиях. «Осторожнее,
ступеньки...» — едва заметно шевелил губами князь, уже понявший всю ме¬
ру отрешенности бедняги... Розы, трели соловья, цветущие жасмины и по¬
меранцы, кусты сирени и водопады, бьющие из каменистых стен, далекий
рокот волн морских, каким-то чудом светит солнце... Все прогуливаются
оживленно по траве... «Чуть поклонись налево... теперь не надо... моло¬
дец... — вел князь по саду Глюка. — Выше голову... подходим...» Посреди са¬
да храм, в нем императрица в царской мантии и с рогом изобилия, из кото¬
рого щедро сыпятся орденские кресты и деньги. У Глюка подкосились но¬
ги... «Погоди... это мрамор... левее, прямо...» А вот и она, живая, настоящая,
в строгом парадном платье, с ясным взором, мирно беседующая с кем-то из
гостей... «Государыня, позвольте вам представить моего друга...» И вмиг не¬
умолчный, прибойный гул праздничного оживления сменился полным
штилем. Лишь соловьи и иные птахи продолжали быть слышны... «Да я
ведь с ним знакома, — милостиво улыбнулась императрица и протянула ру¬
ку. — Тогда мы были, правда, помоложе, помоложе». «Бери... склонись... —
чуть слышно чревовещал светлейший. — Целуй... отпусти... отпусти руку...»
Все сии операции закончились довольно благополучно, и Глюк со стран¬
ною своей улыбкой, которая могла теперь сойти и за оторопело восторжен¬
ную, был увлекаем уже прочь от царицы, дабы быть выпущенным на волю,
когда все вновь услышали тихий голос самодержицы. «Хоть и немец, а
очень мил, очень,— сказала она, обращаясь как бы к своей лишь свите. —
Прямо хоть сейчас в кавалергарды...» Немногие эти слова, прошелестев по
саду, превратились вдруг в волны возбужденного ропота, кои, вздыбив¬
шись, тотчас разбежались по дворцу... Народы взволновались и, прихлынув
отовсюду, вперили взоры в нового счастливца.
Потемкин, оглянувшись, вмиг узрел некоторое замешательство в свите,
приметил втершееся в нее горящее азартом лицо Растебаева, другие озада¬
ченные физиономии... Стремительно оттрактовав событие, великий царе¬
дворец новым уже глазом глянул на Глюка и крепко обнял его...
Далее был туман, а точнее, волглый жар, напитанный запахом эвкалипта,
ветвями которого обильно была устлана вся баня. Счастливца натирали
пихтовым маслом, умащивали, ласкали. С ним шутили... Он томно прел на
верхнем полке. Затем явились веники и смех — веселая работа, мученье
сладкое! Глюк изнемогал, стонал и охал... Мучительницы были ах как хо¬
роши: все плавноплечи, полногруды, в глазах все беды ада...
— Что говорит нам голос природы? Чтобы мы были счастливы, — сказал
уверенный и внятный женский голос. — Нужно ли и можно ли ему сопро¬
тивляться? Нет. Наиболее добродетельный и наиболее испорченный чело¬
век одинаково подчиняются ему...
...Потом Глюка топтали. Он лежал на жестком топчане, а по спине его хо¬
дили чьи-то ноги.
— ...Правильно, что природа говорит с нами на разных языках, но пусть
все люди сделаются просвещенными, и она заговорит со всеми на языке
добродетели.
— Но сказано же в Писании: «Если я говорю языками человеческими и
ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звуча¬
щий», — возразил собеседнице мягкий и внятный баритон.
— Да — любовь превыше всего, — согласилась та.
...Ноги принадлежали хрупкой китаянке, которая не просто ходила по
Глюку, а как бы втаптывала его в топчан, вминала туда его рыхловатое тело.
Китайский сей сон подкреплялся китайским же убранством комнаты,
драконами на светящихся вазах, дымками нездешних благовоний...
Обладательница голоса, равно как и ее собеседник, сидели тут же на ди¬
ванчике, чуть поодаль друг от друга. Сидячие их позы были исполнены
изящества.
— Мысль называется обычно глубокой, — несколько поменял тему бари¬
тон, — когда за высказанным она раскрывает много невысказанного и сра¬
зу позволяет понять вещи, для усвоения коих потребовалось бы прочесть
много книг.
— Вы противник чтения?
— Помилуйте — я запойный...
— Вот как?
— ...читатель.
— Ха-ха-ха!
Тут китаянка, обнаружив сноровку и недюжинную силу, схватила руку
счастливца и стала ее выворачивать из сустава... Глюк завопил... и выныр¬
нул на поверхность уже в ином, белоснежном помещении. Он сидел в шел¬
ковом халате с вытянутыми по сторонам руками, над которыми чародейст¬
вовали два воздушных создания в воздушных же кисейных одеяниях. Двое
других занимались его ногами...
— Хотя человек решительно всегда поступает необходимым образом, но
его поступки справедливы, хороши и похвальны во всех тех случаях, когда
они направлены к реальной пользе его ближних и общества, в котором он
живет. — Знакомая пара с неподражаемой грацией расхаживала в поле зре¬
ния Глюка.
— Самое изысканное наслаждение, — вкрадчиво подхватил кавалер, —
состоит в том, чтобы доставлять наслаждение другим...
Глянув на одну из своих рук, Глюк вдруг обнаружил, что приставленная
к ней очаровательница усердно перепиливает ему палец... впрочем, нет, не
палец, конечно, а обручальное кольцо...
— Бывают характеры в высшей степени своеобразные, нелюдимые, ушед¬
шие целиком в себя. Если говорить обо мне, то мое истинное призвание —
общаться с людьми и созидать. Я вся обращена к внешнему миру, вся на
виду и рождена для общества и для дружбы...
— Вы недоговариваете.
— Ах, как вы поспешны...
...В зеркале напротив был он, Глюк, в шерстяном трико и такой же руба¬
хе, мокрый от пота, усердно совершавший упражнения, столь же атлетиче¬
ские по форме, сколь двусмысленные по содержанию...
— ...В одном письме к Вольтеру я отвечала так: «О званиях же, кои вы же¬
лаете, чтобы я приняла, на сие ответствую. Первое. Великая: о моих делах
оставляю времени и потомкам беспристрастно судить. Второе. Премудрая:
никак себя назвать не могу, ибо один Бог премудр. Третье. Матери Отече¬
ства: любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего по¬
читаю, и быть любимою от них есть все мое желание».
— Истинное достоинство подобно реке, — тихо, с оттенком потрясения
сказал мужской голос, — чем она глубже, тем меньше издает шума.
— Ты уж не забудь потом старика Григория Александровича, счастлив¬
чик, — в зеркале рядом с Глюком объявился светлейший.
Затем он критическим взором окинул залу, наполненную зеркалами и
атлетическими снарядами, прелестниц, затянутых в трико, которые пред
ним почтительно склонились, даму в кресле и галантно изогнутого над нею
кавалера.
— Французы кой-кому поднадоели, — сказал он тем, последним. — По¬
больше Цицеронов и Платонов. И греческих орехов с медом. Сим победи-
ши! — закончил он старинным оборотом.
...С прямым станом и гордо посаженной головой принимал Глюк всевоз¬
можные изящные позы. В нем читалась уже и светская непринужденность
и, более того, проглядывало сознание собственной значительности. Во
взгляде не было недавней пустоты...
— Греческая архитектура, — утверждал женский голос, — состоящая из не¬
многих, но крупных элементов, подражает великим творениям природы, вот
почему мы ощущаем известное величие, которое господствует здесь во всем.
— Скульптура, — подхватывает мужской, — этот холодный вид искусст¬
ва, может выразить страсть лишь посредством контрастов и поз. Одна но¬
га, поставленная так же, как и другая, одна часть тела, расположенная оди¬
наково с другой, невыносимы.
...Глюк пружинисто прыгал с дамой по танцевальной зале, с игривой ве¬
селостью репетируя гавот.
— Полегче, силь ву пле, воздушнее, — напутствовал француз-учитель. —
Во взоре должно быть утро...
— Тогда он был, я помню, помоложе, помоложе... — задумчиво молвил
Потемкин, облокотясь о косяк двери.
...Совсем близко увидел лежащий Глюк две пары холодных, изучающих
глаз, какие-то стальные инструменты... Он был привязан и недвижим. Рез¬
кий запах эфира ударил в нос, и тотчас лицо его накрыли мокрой тряпкой...
— Я прочла от доски все сочинения Тацита. Эта книга не для развлека¬
тельного чтения, а для того, чтобы изучать жизнь и черпать полезные уро¬
ки... — уплывал в туман знакомый женский голос.
...Глюк, наряженный уланом, помолодевший, похорошевший, с усовер¬
шенствованными профилем и фасом, лихо, раз за разом, вскакивал на ко¬
ня. Глаза его посверкивали. В них ощущались и азарт, и воля...
Здесь же, в манеже, неподалеку от него изящно гарцевали два гвардейца:
кавалер и дама.
— ...В ней столько изречений, — продолжала дама о Таците, — что их на¬
ходишь всюду, куда ни кинешь взор: это какой-то питомник рассуждений
по вопросам этики и политики на потребу и в поучение тем, кто держит в
руках своих судьбы мира.
— Манера Тацита, — задумчиво отвечал кавалер, — в немалой степени на¬
поминает манеру Сенеки, только у него преобладает насыщенность, а у Се¬
неки — острота. Но воззрения его — здравые, и в римских делах он на сто¬
роне блага.
— Вы умны.
— В общении с женщиной, тем более такой, мужчина самого тонкого ума
становится умнее.
...В полутьме спальни огонек свечи выхватывал лишь две фигуры: женщи¬
ны, сидящей на краю постели, и Глюка — у ее ног, задумчиво прильнувшего
затылком к нежным коленям. Женские руки ласково перебирали его воло¬
сы. Лицо у Глюка было томным, пелена сладостной неги туманила его взор...
— Я никоим образом не одобряю совета Платона, — говорила дама, —
предписывающего нам обращаться к слугам неизменно повелительным то¬
ном, не разрешая себе ни шутки, ни непринужденности в обращении как с
мужчинами, так и с женщинами.
— Мягкость управления, — ласково отвечал за Глюка кавалер из другого,
темного угла спальни, — удивительно способствует размножению челове¬
ческого рода.
...Легкими и красивыми шагами мерил спальню Глюк с дамой на руках.
— Я люблю общество людей, — не умолкала она, — у которых отношения
основаны на чувствах сильных и мужественных, я ценю дружбу, не боящу¬
юся резких и решительных слов, так же как любовь, которая может кусать¬
ся и царапаться до крови. Ей не хватает пыла и великодушия, если она так
благовоспитанна и изысканна, что боится резких толчков и все время ста¬
рается сдерживаться.
— Промедление, — волновался мужской голос, — столь полезное в спо¬
койное время, может оказаться гибельным в час испытаний.
...Глюк крепко обнял партнершу и, прерывисто дыша, довольно провор¬
но расстегивал и расшнуровывал ее платье...
— Больше дрожания в перстах, — подсказывал Потемкин из темноты. —
И погрубее, с сего момента можно погрубее...
— Когда я убеждаюсь, — задыхалась дама, — что Цезарь и Александр в са¬
мом разгаре своей великой деятельности не ограничивали себя в наслажде¬
ниях естественных и тем самым нужных и необходимых, я не считаю, что
они себя баловали.
— Любовь подобна эпидемической болезни: чем больше мы ее страшимся, тем
беззащитней мы пред ней, — бесстрастным голосом отозвался из угла партнер.
...Глюк с дамой лежали уже под одеялом.
— Я от чистого сердца и с благодарностью, — замирающим голосом мол¬
вила она, — принимаю то, что сделала для меня природа, радуюсь ее дарам
и славлю их. Всеблагой все сделал благим.
— У меня из головы не вышибить мысль, — новым своим, взволнован¬
ным голосом сказал Глюк, — что весьма подходящим делом является брак
между наслаждением и необходимостью, с помощью коего, как говорит
один писатель древности, боги все доводят до вожделенного конца. — И,
мощно дунув на свечу, он погрузил спальню во мрак.
— Все-все! — всполошился Потемкин и захлопал в ладоши. — Ну что ж, —
сказал он удовлетворенно, — считай почти готов! Ты уж не забудь старика
Григория Александровича, счастливчик!..
...Стоя в купели, Глюк четко произнес символ веры и, приняв помазание
от священника, обрел православное вероисповедание.
— Отныне, сын мой, ты Глюковский, Федор Глюковский, — возгласил
батюшка, — аминь... Новообретший истинную веру перекрестился по
привычке католическим крестом. Его поправили, и он перекрестился
вновь, кладя трехперстную щепоть с правого плеча на левое... Так стара¬
ниями судьбы и волей земных богов творился под столичным небом но¬
вый человек.
Корабль под прусским флагом был уже готов к отплытию, о чем свиде¬
тельствовала последняя суматоха на причале.
Вся картина сия умещалась в раме окна довольно непрезентабельной та¬
моженной конторы. В комнате находились: светлейший в скромном тем¬
ном одеянии рядом со статным, моложавым кавалергардом; растерянная,
испуганная супруга бывшего Глюка напротив них; чуть поодаль — Растеба-
ев об руку с Амальхен, а также несколько господ в черном, одни перекры¬
вая дверь, а другие с бдительными взорами — за спинами Потемкина и его
спутника.
— Ну вот он, жив-здоров, чего и вам желает, — сказал князь немке. —
Прощайтесь.
Та с недоумением глянула на смутно знакомое лицо с великолепной ко¬
жей, римским носом и пшеничными усами.
— Прощайте, ваше превосходительство, — дрожащим голосом пролепе¬
тала она. — Уж вы не забудьте нас своею милостию...
Кавалергард неотрывно смотрел на нее и сквозь нее, мучительно пытаясь
что-то вспомнить.
— Не забудет, не забудет, — успокоил князь бедную женщину и, подойдя
к ней, сказал негромко и доверительно: — Миссия его чрезвычайна и важ¬
на... но не вечна, поверьте опыту. Как только освободится, так и приедет. —
Затем Потемкин подал легкий знак — один из черных бережно подхватил
немку под руку и повлек ее на выход.
Князь же оборотился к Растебаеву, к плечу которого нежно прижима¬
лась вполне счастливая Амальхен.
— А ты, голубчик, поезжай в Пекин... с супругой. Будешь при посольстве.
— Вашего сиятельства покорнейший слуга! — подобострастно склонился
Растебаев и вслед за тем поднял на светлейшего непоборимо наглый
взгляд.
— И не балуй!.. — нахмурился Потемкин. — Нужен будешь — позову.
Кавалергард застывшим, долгим взглядом смотрел в окно...
Там по опустевшему причалу шли к трапу корабля фрау Глюк с младшей
дочкой, Мюллер и другие приказчики с саквояжами в руках. Моросил
дождь. Что-то дрогнуло в лице кавалергарда, и он поспешно опустил глаза...
— Сядь... встань... пройдись... вынь шпагу наполовину... убери... обопрись
о дерево... та-ак... — Глюковский исправно выполнял все указания князя.
Но как-то механически. Он стоял, прислонившись к дереву, чуть отстав¬
ленная нога придавала позе особое изящество. Светлейший, погрузясь в
раздумье, расхаживал неподалеку.
— Чего-то, братец, в тебе не хватает... — соображал Потемкин. — Но чего?
Кавалергард был недвижим.
— Уверенности! — понял наконец князь. — Да, пожалуй... Скоро, бог даст,
ты будешь одной из самых важных персон в империи, самой, быть может,
важной... после меня. Надобно держать себя сопутственно. — И он хлопнул
в ладоши.
В сей же миг с крыльца загородного дома князя сбежал ливрейный слу¬
га — дюжий молодец с круглой рожей и бесстрашными глазами.
Князь подошел к нему и без лишних разговоров треснул кулаком по
скуле.
Молодец, едва качнувшись, радостно осклабился.
— Ну, Федюша, — пригласил Глюковского князь, — давай.
Тот подошел к слуге, но бить не стал.
— Ну!.. — нахмурился светлейший.
Ливрейный выгнул шею и, повернув скулу, подставился удобнее.
-Ну!
Глюковский ударил, но слабо.
— Экая ты, голубь, вафля! — расстроился Потемкин.
Долгим уже взглядом смотрел кавалергард в осклабленную рожу холуя,
вдруг сам осклабился, задергалась щека... Он размахнулся и ударил страшно.
Лакей качнулся, но устоял и, поморгав опухшим глазом, осклабился еще
сильнее.
Судорога передернула лицо кавалергарда, и он с новой силой обрушил
свой кулак.
— Ну, будя! — решил князь.
Но Глюковский не слышал уже: захрипев, он вдруг тигром набросился на
стоявшее пред ним живое чучело раба и, свалив его на землю, стал жесто¬
ко избивать ногами. Вскрики, всхлипы, стоны, слезы бурной лавиной рва¬
лись из кавалергарда.
— Ну ты, мон шер, и зверь!.. — поразился светлейший.
...Царскосельский парк давно очищен был от снега, все волновалось в
нем, готовилось к теплу. Множество садовников стригли, чистили, ровня¬
ли, рыхлили, сеяли, трамбовали и подновляли.
— Завтра в сей же час — час, напоминаю, решительный — богиня наша
будет здесь одна, — внушал Глюковскому Потемкин. Они гуляли по аллее
парка.
— Она точна, а потому нам надлежит минута в минуту проследовать сим
маршрутом. Здесь, в этом точно месте, мы заворачиваем направо и видим
вдруг ее саму, навстречу нам идущую... Она печальна. Останавливается вон
у той могилы. Мы тоже останавливаемся...
Федор Глюковский опустил глаза и увидел мраморную плиту, равно как
и надпись, высеченную на ней: «Здесь покоится Глюк Федор Севастьяно¬
вич, любимец государыни». Чуть выше — собачий профиль.
— ...Ты делаешь поклон, — продолжал напутствовать Потемкин, — и ти¬
хо, слышишь, тихо говоришь: «Сердце наполняется теплом, когда видишь,
как привязчива и нежна душа ваша. Вдали же от вас сердце сие стынет и
грозит обратиться в могилу, буде хоть малая толика того участия, кое вы
испытываете к сему драгоценному созданию, не выпадет тому, кто имел
счастье носить сродственное имя...»
Глюковский не мог оторвать взгляда от завораживающей надписи. Па¬
мять ощупью пробиралась к смутному прошлому. Глаза его налились тем¬
нотой...
— Ну а далее... — князь плавно повел рукой, — ты знаешь. Уж не забудь
тогда старика Григория Александровича.
С избранником судьбы происходило что-то жуткое: горло распирало,
мозг гудел и наполнялся душным отвращением...
— А? Не забудешь?
— Найн!!! — исступленно, на весь мир закричал кавалергард, и с этим
криком выдохнул, казалось, остаток своей души.
Воздух захлебнулся от единого, тысячекрылого взмаха ввысь, в небо, ку¬
да, встрепетав облаком, уносилась все далее птичья стая и таяла бесследно
в голубом воздушном океане...
В НОЧЬ ТОГО ЖЕ ДНЯ КАВАЛЕРГАРД ФЕДОР ГЛЮКОВСКИЙ
ИСЧЕЗ ИЗ СТОЛИЦЫ. САМЫЕ ТЩАТЕЛЬНЫЕ ЕГО ПОИСКИ НЕ
ДАЛИ НИ ПРЯМОГО РЕЗУЛЬТАТА, НИ КАКОГО-ЛИБО СЛЕДА.
ГАРДЕРОБ КАВАЛЕРГАРДА ОКАЗАЛСЯ В ЦЕЛОСТИ: МУНДИРЫ,
МУНДИРЫ, МУНДИРЫ - ВСЕ ДО ЕДИНОГО. ЗАПОДОЗРЕННЫЙ
В УБИЙСТВЕ КАВАЛЕРГАРДА ЛАКЕЙ ПАРАМОШКИН СОСЛАН
В КАТОРГУ НАВЕЧНО.
Часть II
Охота!.. Тучи орущих галок, лай борзых и гончих, свист и улюлюканье,
хрип взмыленных коней. Сквозь брызжущий солнечными пятнами лес,
сквозь перелески, взрывая копытами фонтаны брызг в ручьях, катилась
охотничья туча, струясь в голове своей волнами узких собачьих спин.
— Ату его!!!
Умопомрачающий азарт в лицах охотников, цепкость и стремительность
в глазах псарей и егерей, всеобщий порыв туда, вперед... к одиноко черне¬
ющей фигуре бегущего человека...
Еще мгновение, еще порыв — первая волна накатилась, подмяла беглеца
и заклубилась на месте.
Подоспели другие волны, все взвихрилось, завертелось, заметались пса¬
ри, оттаскивая собак...
В грязи, притиснутый к земле рогатиной, извивался, задыхаясь и хрипя,
страшный, заросший темным волосом бродяга.
— Так чей же ты, сударик? — спросил басовитый голос. — Бежишь отку¬
да и куда?
В изодранном, окровавленном страшилище, что пнем стояло посреди
барского двора, лишь с великим трудом можно было узнать недавнего ка¬
валергарда Глюковского. Безмозглый взгляд его, дополнившись блажен¬
ною улыбкою юродивого, обрел какую-то даже занимательность.
За спиной его разводили горячих еще собак, расседлывали лошадей.
— Пал Мартыныч, ты воевода, тебе и карты в руки.
— В холодную мерзавца, после разберемся.
— В холодную, в голодную, у тебя один ответ. Забавно же узнать...
— Эта бродня мне вот уже где! Бегут и бегут. Бегут, и все тут.
— Куда же они бегут?
— Как куда? В Сечь Запорожскую. От зверей-помещиков, от кровопив¬
цев, тебя навроде, ха-ха-ха!..
Сквозь голоса прослушивались и другие, застольного свойства звуки:
бульканье, кряканье, хруст огурчиков...
— Молчит мерзавец! — радостно удивился новый голос.
Бродяга и вправду молчал, голодным взглядом пожирая стол.
— Митяй, спроси.
Возле стоящего появился рыжий дворовый парень и наметанной рукой
дал ему в зубы. Бродяга покачнулся, отер рваным рукавом кровь со рта и
снова навесил на лицо блаженную свою улыбку.
— Да он немой! — понял кто-то.
— Да ну его в болото! — прорезался захмелевший тенорок. — Василь Ва¬
сильич, давай-ка с тобой поцелуемся.
— Не рано ли? Сели только.
— Заговорит! — по-хозяйски сказал веселый голос. — Митрий...
— Не надо... — жалостливо сказал еще кто-то. — Это жестоко и... нехоро¬
шо. Может, он робеет. Дайте ему рюмочку, и он взбодрится, поймет, что мы
его друзья, кои желают ему добра и пекутся...
— А что! — хохотнул любитель поцелуев. — И заговорит, и запоет, и за¬
пляшет!
— Митрий, поднеси.
Возле рта бродяги оказалась чарка крупного калибра. Бродяга принял ее
и одним махом осушил до дна.
— Вот видите — он русский!
Заиграла балалайка.
— Ну давай, давай! — не унимался тенорок. — Ладушки, ладушки...
Бродяга меж тем начал на глазах преображаться: лицо его донельзя про¬
яснилось, глаз воссиял, плечи распрямились... Вытоптав ногами замысло¬
ватую фигуру, он откинул голову и, разинув рот, запустил в поднебесье за¬
тейливую, коленчатую трель.
— Поляк... литовец... молдаванин... — посыпались догадки. — Вот-те и
русский.... Митрий!
Митрий расторопно вытащил из-за пазухи новоявленного тирольца
крест.
— Православный!
— Слава богу! — возрадовалось общество.
Бродяга же, покончив с голосами предков, без остановки пустился в пру¬
жинистую, недавно освоенную кадриль. Чавкая по грязи босыми ногами,
он обскакал весь двор и лихо взлетел на нерасседланную еще лошадь. Со¬
скочил и вновь взлетел. И еще пару раз....
Бренчала балалайка, общество хохотало уже навзрыд.
Бродяга оставил наконец лошадь в покое и, вылетев на середину двора,
принял скульптурную позу. За ней стремительной чередой последовали
следующие позы, одна другой изящнее. Так же стремительно менялось и
выражение давно небритого лица: то гордо возвышенным оно было, то эле¬
гическим, то чуть насмешливым...
Проявив все мастерство в этом виде искусства, он рьяно принялся за ат¬
летические упражнения, кои тотчас вызвали женский визг и обвальное
ржание мужчин.
Отдав дань амурной муштровке, бродяга летящим шагом приблизился к
хохочущему Митрию, совершил перед ним сверхизощренный реверанс и,
царственно взмахнув рукой, сокрушительным ударом поверг беднягу на¬
земь. Потом дико огляделся, зевнул, качнулся и рухнул рядом со своей
жертвой. Через мгновение он уже спал, распростершись на земле.
Кто, давясь хохотом, катался по веранде, кто повалился на стол; дамское
сословие, покинувшее ради такого зрелища внутренние покои, утиралось
платочками и усиленно сморкалось. Хохотали егеря, псари и многочислен¬
ная дворня. Ликовали дети.
Митяй, поднявшись и убедившись ощупыванием, что скула-таки выби¬
та, с удивленным почтением глянул на спящего.
— Ну, братцы мои, такое сокровище выпускать из рук нельзя!..
Все помещики были в охотничьих костюмах за исключением дородного
воеводы. В центре круглого стола на веранде высился серебряный самовар,
из коего кто-то наливал в стопку слишком уж прозрачный для чая напиток.
Закуска на столе соответствовала.
— А ежели он беглый? — утирая слезы, вопрошал воевода.
— И так видать.
— А ежели он преступный?
— Хуже, чем у меня, ему каторги не будет, — успокоил воеводу хозяин
дома.
— Чего это у тебя, у меня, чай, тоже не зазорно, — обиделся другой.
— Разлетелись, — вступился третий. — А чьи собаки его взяли?
— А на чьей земле?
— А кто его узрел?
— Нет, судари мои, тут надобно по-честному, по-картежному.
— По коням?..
— По коням! — согласно закричали все.
Тотчас на этот клич побежали со всех концов двора отборные верзилы из
охотничьих команд своих господ.
Босоногий мальчонка радостно ударил в барабан, кто-то затрубил в рожок.
Веселое оживление охватило и двор и веранду.
Один за другим взгромоздились спорщики на спины своих слуг и, при¬
шпорив их, с гиканьем потрусили по двору.
Дамы захлопали в ладоши и закричали, подбадривая своих.
Двор густо заполнялся зрителями, бежавшими отовсюду.
Битва меж тем разгоралась нешуточная. Всадники съезжались, наскаки¬
вали друг на друга, толкались плечами, руками — кто-то полетел уже с «ко¬
ня», кто-то вместе с «конем» рухнул в грязь...
Средь всего этого кричащего и вертящегося бедлама незамеченным ока¬
залось прибытие еще одного охотника, а вернее говоря — охотницы. Ама¬
зонка сия, пребывающая в зрелой поре закатной молодости, вся обвешан¬
ная дичью, едва глянув на схватку, мгновенно спешилась, исчезла в толпе
и в следующий миг оказалась на плечах тучного воеводы.
— Вперед, Пал Мартыныч! — услышал он над ухом трубный женский го¬
лос. — Не посрамим землю русскую!
Ударив воеводу по ребрам пятками, всадница врезалась в самую гущу
схватки. Неистовой фурией набросилась она на честно бившихся мужчин,
щедро раздавая направо и налево подзатыльники, с чисто женским ковар¬
ством вцепляясь в волосы противников.
Схватка, и без того жаркая, в одно мгновение превратилась в ад кромеш¬
ный...
Бродяга разлепил глаза и с усилием, опершись руками в грязь, придал те¬
лу сидячее положение. Помотав головой, он нетвердым взглядом повел по
сторонам... Огромную толпу узрел он, кричащую, руками машущую, под¬
прыгивающую на месте... еще увидел он людей, верхом на других сидящих
и мертвой хваткой вцепившихся в подобных им всадников. Многие валя¬
лись уже на земле, охая и постанывая, иные рушились на глазах...
Амазонка тем временем вцепилась уже в последнего из соперников. Об¬
хватив его сзади всей рукой за горло, она что было сил дергала беднягу. Тот
наконец не выдержал сей пытки и, страшно захрипев, свалился наземь.
Победительница спрыгнула с мокрого красного воеводы и вмиг оседлала
поверженного противника.
— Ты когда мне долг отдашь, каналья?! — кричала она, сдавливая горло
несчастного.
— Да хоть сейчас и отдам, — сипел посиневшими губами хозяин дома, —
только отпусти, Прасковья Матвеевна...
— Не почухаешься, пока тебя не спросишь, — сказала она, отпуская нако¬
нец его горло. — Обижаешь бедную вдову.
— Тебя обидишь...
Амазонка поднялась, отряхнулась и огляделась.
— Об чем шла битва? — спросила она.
— Да вон затравили перед обедом, — указали ей на блаженно улыбающе¬
гося бродягу.
— Ну и чмурило... Кто таков?
— Немой.
— Ясно, что не твой, а мой.
— Немтырь.
— Без языка?
— С подрезанным, видать. Полоротый...
— Лишь бы руки были. Как же записать-то его? — задумалась охотница.
Бродяга не сводил с нее восторженного взора.
— У, чучело гороховое!.. — улыбнулась амазонка.
— Горохов... Молчальников... Немовляев... Тихонов... Безъязыков... Нем-
тырев... — посыпались советы.
— Погоди. Куда, говоришь, бежал?
— На Сечь, за пороги.
— Так пусть и будет Немтыренко. Иван Иванович Немтырэнко, — опре¬
делила она буквой «э» малороссийскую принадлежность новой фамилии и
тем поставила в возникшем споре точку.
— Ку-ка-ре-ку! — радостно закричал пожилой рыжий человек с красным
петушиным гребнем на макушке.
— Солнышко взошло, — молвил другой, с прибитым к палке языкастым
солнцем. — Извольте глазки разлепить.
— Здравия желаем, государыня наша барыня! — уже всем хором отрапор¬
товал квартет дворового начальства, единодушно поклонившись до земли. —
С наступлением вас утра!
— Хвали утро вечером, днем не сеченый.
Государыня-барыня, недавняя амазонка, утопала в кружевных подушках
обширного своего ложа. Купаясь в лучах раннего солнца, она пила кофий
из громадной фарфоровой чашки.
— Здравствуйте, друзья мои непытанные и немученные! — ответствова¬
ла она с генеральскими ухватками в голосе. — Ну что? Все ли здорово, ре¬
бята, и благополучно у нас?
Вперед торжественно выступил дворецкий с единоличным земным по¬
клоном.
— В церкви святой и ризнице честной, в доме вашем господском, на кон¬
ном дворе и скотном, на павлятнике и журавлятнике, везде в садах, на пти¬
чьих прудах и во всех местах, милостию Спасовой, все обстоит, государы¬
ня наша, богом хранимо, благополучно и здорово.
Помещица милостиво кивнула.
Выступил ключник, брякая связкой ключей:
— В барских ваших погребах, амбарах и кладовых, сараях и овинах, улич-
никах и птичниках, на ветчинницах и сушильницах, милостию Господней,
находится, государыня наша, все в целости и сохранности.
Госпожа смотрела как бы сквозь него.
Ключник растерялся.
Следующий, выборный, дернул его сзади за кафтан и выступил было с
докладом...
— Ежели бы турок или жид, — задумчиво молвила вдруг барыня, —
тонули вместе с православным, то которого из них прежде должно спа¬
сать?
Выборный стал в пень.
— Долго думаешь, балда, — нахмурилась помещица. — С утра дурак — це¬
лый день будешь так.
Остальные трое хихикнули.
— Во всех четырех деревнях, милостию Божией, — начал доносить ста¬
роста, — все обстоит благополучно и здорово: крестьяне ваши господские
богатеют, скотина их здоровеет, четвероногие животные пасутся, домаш¬
ние птицы несутся, на земле трясения не слыхали и небесного явления не
видали...
— Где запорожец?
— Немтырэнко? — переспросил староста, подражая интонациям хозяй¬
ки. — Сейчас представлен будет.
Тотчас ввели запорожца в шароварах, бритого наголо, с оселедцем, сви¬
сающим на лоб, с сомовыми усами и дымящейся люлькой в углу беспечно
улыбающегося рта.
Громовой хохот потряс сначала ложе, а затем эпидемическим образом
овладел наличным составом дворового штата.
Отбросив недопитую чашку, барыня бурно каталась по постели, не щадя
себя в смехе.
Управители, старательно надрываясь от хохота, быстро перегляну¬
лись... Первым с криком: «Ой, не могу! Ну, уморила меня!» рухнул на пол
и принялся кататься по нему дворецкий. Следом, не мешкая, повалились
и другие.
Брови «запорожца» удивленно приподнялись вслед за дымком, вившим¬
ся из люльки...
Смеялись повара и поварята в чаду барской кухни.
— Вот вам бечь в Запорожскую Сечь! — веселилась барыня, указывая на
Немтыренко...
Заливалась псарня: кто смехом, кто лаем...
— Кому женишка?
Утопая в кружевных облаках, прыскали в ладошки девицы-кружевницы.
Некоторые были прикованы к особым стульям, на шеях — рогатки, дабы
удержать в непоседах прилежность...
Хохотня и в кузницу перекинулась, затрясла в пламени горнов блестя¬
щие от пота мощные торсы.
— Ну кто еще вольным казаком желает стать? — вопрошала сквозь весе¬
лые слезы Прасковья Матвеевна...
— За чем пойдешь, то и найдешь! — громогласно шутила на народный лад
барыня, гарцуя по пашне на горячем коне.
Пахари глаза повытаращили при виде ряженого, который никак не мог
уразуметь, что ему делать с сохой.
— Вольному воля, ходячему путь!
По этому сигналу кнут свистнул и ошпарил «запорожца» по спине.
Немтыренко подпрыгнул и впился сохой в землю.
Все на поле засмеялись.
— Ну, дружно, ребятушки! — подзадорила хозяйка. — Как на себя работаем!
Пахари, отсмеявшись, принялись за землю...
Качаясь и спотыкаясь, повел свою первую борозду Немтыренко...
Так началась его новая жизнь. И смешалось все в ней и замешалось об¬
щим смехом, общим горем, общим делом...
...Жил Святослав девяносто лет,
Жил Святослав да преставился.
Оставалось от него чадо милое,
Молодой Вольга Святославович,
Стал Вольга растеть, матереть...
Бабий голос напевный растекался по огромной северной избе, вздыхают
слушатели, сопит скотина за загородкой, покряхтывают старики, поблес¬
кивают глазами ребятишки с печи, Иван Немтыренко, на лавке распрос¬
тертый, с обессиленной улыбкой в сон проваливается...
Вместе с другими мужиками, так же по-мужицки одетый, идет Иван по
пахоте и зерно из лукошка раскидывает...
Прильнув к березе, сок пьет...
Веселую топотуху полдеревни отплясывает — пыль столбом! Неразбор¬
чивой, визгливой скороговоркой девки заходятся, мужики дробью рассы¬
паются. И Иван — туда же, как и все, норовит...
За провинность какую-то мужики мужиков секут. И Ивана в том числе.
— Радость не вечна, печаль не бесконечна, — философствует барыня в ок¬
но, оторвавшись от чтения...
Плотники амбар ставят, Иван на верхнем венце сидит, топором тюкает.
Все отсюда видать окрест: река синеет, изогнувшись дугой, лес стеной до
горизонта стоит...
Визжит свинья: восемь рук ее держат, барыня Прасковья Матвеевна как
заправский умелец колет ее...
Вот и лето в расцвет вошло, борода у Ивана отросла. Покрикивают му¬
жики, прибаутками сыпят, вытягивая невод из реки. Бывший «запоро¬
жец», а ныне свой — от других не отличить — на рыбу кидается, в ивовую
корзину ее бросает...
Береза моя, березонька,
Береза моя белая,
Береза моя кудреватая!..
На «зеленой» неделе, на Семик, девки хороводы вокруг разряженных бе¬
резок повели. И Иван с детской своей улыбкой встревает, колготится, ме¬
шается. Девки шугают его, колотят хохоча... Прильнул Иван к мутному
окошку и в ночь смотрит, во двор, где нагая баба вкруг дома бежит, приго¬
варивает:
— Около двора железный тын; чтобы через этот тын не мог попасть ни
лютый зверь, ни гад, ни злой человек, ни дедушка лесной...
Мокрый по колено от утренней росы, сноровисто, в лад со всеми оруду¬
ет косой Иван...
Люди с криками в реку летят. На обрыве, над рекой качели гудят: шесте¬
ро парней их так веревками размотали, что Ивана аж в небо унесло, а отту¬
да — на середину реки. Почти до дна достал... Смотрит — в мутной воде че¬
шуя мелькнула... волосы длинные... лицо девичье... руки тянет белые, как
снег... Заторопился Немтыренко наверх, а снизу — хихиканье невнятное и
будто: «Ой, красавчик, ты куда?»
Вынырнул с открытым ртом, с глазами вытаращенными — а по небу му¬
жики плывут, руками машут...
И опять холопы барские друг друга секут: теперь уж Иван наверху. Толь¬
ко плохо старается, без сердца бьет.
— Ты чего? — удивляется из-под розги мужик. — Гляди, а то самого
уложат.
Иван тотчас подбавил жару.
— Жаль друга, да не как себя! — смеется барыня...
— Царь-огонь, достанься, — высекает баба огонь из печи, — не табак ку¬
рить — кашу варить!..
В барской горнице просторной Иван да еще дюжина таких же на цыпоч¬
ках ходят — мух на лету ловят. Посреди горницы — кисейный полог, под
пологом хозяйка с гостями в карты играет, по-французски разговаривает,
из-под полога лакей ползет с подносом...
А вот Иван в болоте тонет, а товарищи его на лесине вытягивают...
— Ску-у-чно! — стоном кричит с балкона в утренний мир барыня.
Дворня, скинув шапки, кланяется в пояс...
Двое мужиков Немтыренко за руки держат, щека у него флюсом раздута.
Больной рвется, глядя с ужасом на Прасковью Матвеевну, что идет к нему,
с руками за спину спрятанными. Подошла и хвать его колотушкой по голо¬
ве! Обмяк вмиг сердечный, обвис на руках. Барыня рот ему открыла, нало¬
жила щипцы на зуб и дернула. Заорал Иван, да дело уже сделано...
Пыльная заверть несется по полевой дороге. Со всех сторон, оставив про¬
полку, мужики и бабы сбегаются.
— Чертова свадьба!
- К худу, к худу!
— Окаяшки подрались! Глядитя...
Кто уже успел, кто только становится на карачки и просовывает голову
промеж ног: ведь так только чертей-то увидишь.
— Вот они!.. Немытики!..
Немтыренко тоже подоспел, в позу уже становится, как вдруг:
— Ах вы, чернота! Суеверство дикое! — мчится к месту происшествия по¬
мещица, хлещет налево и направо длинным кнутовьем. — А ну разойдись!
Вихрь удаляется по дороге с визгливым хохотом. С хохотом разбегаются
по своим местам крестьяне.
— Язычники! Лентяи! Всех пересеку!..
На плывущем средь облаков прянике луны Каин в который раз убивает
Авеля. Задрав голову, не в силах оторвать глаз от этой призрачной карти¬
ны, бродит Иван вдоль барской усадьбы, постукивая в сторожевую коло¬
тушку. Эхом откликались ему со всех концов другие сторожа...
— Жатва — время дорогое, никому тут нет покоя, а ты, пьянюга, разорить
меня вздумал?! — кричит Прасковья Матвеевна.
Вся деревня вокруг колодца толпится, с грустью поглядывая на рябого
дядьку, что на журавле колодезном вниз головой висит. Журавль то и дело
«кланяется», опуская мужика в сруб.
— Вот тебе, опивец, пей сколько влезет!
И Немтыренко смотрит — жалеет...
— На море, на окияне, на острове на Буяне стоит липовый куст, у липовом
кусте лежит черная руна, под черной руной лежит змея скоропея, укрыв¬
шись от частых звезд, от ясного месяца, от светлого солнца. — Иван больной
лежит, полубеспамятный, огнем пышет. В закутке избы он только да зна¬
харка древняя. Наклонилась над мисочкой с водой и шепчет на воду — бо¬
лезнь заговаривает.
— Ты змея Ирина, ты змея Катерина, ты змея полевая, ты змея луговая,
ты змея болотная, ты змея подколодная, собирайтесь укруг и говорите уд-
руг; вынимайте нечистый ад от сустав, от полсустав, от жил, от полужил, от
полупожилков, от черной шерсти, от бела тела, от чистой крови, от чисто¬
го сердца, от буйной головы... — Древняя дунула на Ивана. — Царь гром
грянул, — голос ее окреп, — царица моланья огненное пламя спустила, мол¬
ния освитала; расскакались и разбежались нечистые духи восвояси: водя¬
ной в воду, лесной в лес, под скрыпуче дерево, под корень, а ветряный под
куст и холм, а дворовый мамонт, насыльный и нахожий, и проклятый дья¬
вол и нечистый дух-демон на свои на старые на прежние жилища... —
Вновь дунула шептунья на больного. — И остался один здоровый!., рус¬
ский!.. дух! — И в третий раз сильно дунула она... И распахнулась душа
немтыря, и вошла в нее шептунья хозяйкой, и взыгрался бой нешуточный,
завертелась морока рисковая.
Смотрит Иван — в закатном лесу он хворост собирает. Поодаль кобыла
стоит, в воз запряженная, а воз уж полон хвороста. Чует Иван — притомил¬
ся, кажись. Провел рукой по лицу — пот ручьями, жарко, душно ему. По¬
пить бы где? Глядь — ручей журчит. Пошел к нему, да на правую ногу спо¬
ткнулся. «Плюнь три раза через левое плечо», — будто ветер прошелестел
по лесу. Недослышал Иван и дальше пошел. «Эх, Ваня, Ваня...» — прошеле¬
стело вновь. Прилег над омутом, пьет жадно. Вдруг кто-то хвать его под во¬
дой за бороду и вниз тянет. «Продай душу, — говорит подводный голос, —
отпущу». Взбрыкнулся Иван, задергался, а его и впрямь не пускают. Озве-
рился Иван, деранул себя — полбороды оставил! — вырвался на волю. За¬
дыхается, глазами блуждает. Схватился поскорей, и назад, к кобыле бегом.
Огрел ее кнутом, глядь, а она закаменела, только с нижней губы слюна,
словно вожжа, тянется... Заорал Иван и прочь от проклятого места в лес
ударился. Бежит, бежит... видит: двое путников у костра сидят, в котелке
что-то варят. Слава богу — туда! Добежал, озирается, зубы стуком стучат,
рука ко лбу тянется... «Погоди ты креститься, — ему говорят, — ишь спужал-
ся-то... опохмелись». Потянулся Иван к кружке, а рука-то, что ее подает, как
есть мохнатая вся. Ахнул он — и опять в бега! Летит — лес ломит, а вслед
ему — хохот лешачий до небес. У-тю-тю!.. Кусты одежду когтями рвут, в во¬
лосы норовят вцепиться, меж ветвей то ли солнце, то ль луна мелькает, гла¬
за слепит... Очнулся на дереве, слава тебе... Дупло рядом, сунул голову туда
с перепугу и застрял. Ни вперед, ни назад. А в гнезде филин детским визгом
визжит. Поднапрягся — чуть уши там не оставил! — вырвался. Опамятовал-
ся, глянул вниз — а низ-то вон он где! Глянул вверх — та же картина, толь¬
ко вверх ногами, и там низ, и там... Ну, думает, денек! Вдруг что-то на шею
скользнуло и кольцом обвилось. Иван едва с дерева не упал — змея!.. А та в
три кольца обвилась, хвост зубами закусила. Хотел закричать — куда там —
все туже кольцо, туже... Глаза на лоб вылезли... «Тихо, Ваня, — слышит он
ласковый девичий шепот, — тихо, милый, не змея я, а судьба твоя». Обалдел
Иван вконец, не шевелится. «Заколдована я, — говорит змея, — темной си¬
лою. Ты — спасенье мое, ты мой суженый. Я кольцо — у кольца нет конца,
искушенья все выдержишь — не минуешь венца». Кольца, конца... Иван и
так еле на ветке держится, змея шею скрутила, из дупла филин зырится.
«Время дорого, Ваня. Иди! — торопит шепот девичий. — Только прямо
иди, не сворачивай...» Внизу — низ, глазом не достать, вверху — низ... Куда
идтить-то? «Вот она, доля твоя, Ваня, — прошелестела тихим хором дубра¬
ва. — Иди — собой станешь...» Ладно, всем смертям не бывать, одной не ми¬
новать — шагнул он в лесную пропасть... И пошел меж ветвей. Шел, шел и
вышел на край поля утреннего, золотистого, где столько поту пролито. Жа¬
воронки поют, кузнечики стрекочут, серпы там и сям рожь на землю кла¬
дут... Идет он среди жатвы со змеей — прямо ведь сказано, — голову повер¬
нуть совестится. «Верь и иди, — прошелестело поле теперь. — Мы с тобой
будем». Со всех сторон глаза-васильки провожают его, подбадривают. Кто-
то, невзначай будто, мимо прошел, краюху хлеба сунул. Другой — лаптей
связку. Однодворец рябой, что в колодец нырял, совсем рядом прошел,
серп вытирая. «Молитва, крест, чуранье, лен, чертополох,— задушенной
скороговоркой, сквозь зубы, наставлял он, — волосатые боятся медной пу¬
говицы, про петуха ты знаешь... Рыжих обходи... И ни за что не оглядывай¬
ся!» Иван кивнул.
— Немтыренко! — вдруг барыня закричала. — Ты куда?!..
Оглянулся Иван... и загремел с обрыва — откуда он взялся тут, ввек не
было... Пока катился кубарем, все растерял — и хлеб, и лапти. «Говорили
же: не оглядывайся!» — вздохнуло вновь. Долго катился, а все ж прикатил¬
ся куда-то... Встал, отряхнулся — чисто поле, куда ни глянь, обрыва будто и
не было. Только камни вокруг да пыль оседает. Неподалеку, на холме, три
конных богатыря дозор несут, прямо — столб пограничный. Пошел прямо,
как сказано было. «Ты куда, Вань, в тридевятое? — спрашивает больший
богатырь. — Бог помочь!» «Бог-то бог, да и сам не будь плох», — прошелес¬
тели знакомые голоса. Шагнул Иван за пределы Руси... Спаси и помилуй!..
Заросли непролазные, обезьяны по ветвям мечутся, хохочут, на опушке из¬
бенка камышовая на столбах стоит, львы и тигры, будто кошки мурлыка¬
ют... люди черные, как смола, срам лишь прикрыв, вкруг огня пляшут... «О,
Урус, урус! — увидали его. — Заходи, дорогой, гостем будешь!..» А сами но¬
жи точат булатные... Иван скоренько шаг назад... Исчезло все... Снова поле,
столб полосатый, богатыри глядят сумрачно... Иван вздохнул, подвинулся
к столбу ближе и опять шагнул... Враз оглушительно водопад заревел у са¬
мых ног — вниз глянуть страшно, краснокожие мужики в перьях, морды
размалеваны, на лошадках скачут — это в жатву-то! — удавками длинными
целятся — поймать хотят. А уж он и так в петле... Сплоховал Иван, назад, на
Русь, попятился. «Не дойдет до конца, — богатыри сомневаются, — ежли уж
порог переступить не сдюжит... Да, разинул рот, а не поет...» «Ваня, Ваня,
что же ты?..» — змея чуть не плачет. Обошел он столб с другой стороны, на¬
пустил на себя смелость и в третий раз шагнул... Едва шаг этот сделал, как
в песке завяз. Перед ним пустыня без конца и края, волнами уложенная,
воздух и тот плавится, качается, дышать нечем, от лаптей дым идет — того
и гляди загорятся, — сам красный, как рак вареный, стал. И пошел плясать
с ноги на ногу!.. «Сама пляшу, сама скачу, сама солдатиков боюсь! Ха-ха-
ха...» Ха-ха-ха да хи-хи-хи... Кто такие, где они?.. Огляделся — нет никого.
Ну он и понесся вперед, приплясывая, а они опять рыгочут: «У-гу-гу...» Нет
конца сковородке этой, песком посыпанной: бежал, бежал, совсем плох
стал. «Ну, готов?» — спрашивают. Глядь, откуда ни возьмись лужайка зеле¬
ная — как тут трава-то растет? — пруд прохладненький, ковры яственные
под деревьями невиданными, на коврах басурмане сидят с басурманками,
водку пьют. «Рус-Иван, заходи! — приглашают его. — Чай, намаялся?»
Морды у мужиков тех копченые, головы тряпками замотаны, бабы — этих
совсем не прознать — лица за занавесками. «Водки тяпнешь, Иван? Не
стесняйся». А Иван прямо к пруду бегом, с разбегу в воду бросается... «Хи-
хи-хи!» Как ошпаренный вскочил он: песком плюется, глаза протирает.
«Захотелось брызг — надирайся вдрызг или как там у вас... Ха-ха-ха... Вода
не водка, ее тут заслужить надо». Глядь — у, черт! — пруд-то на другой сто¬
роне лужайки... «Черти, Ваня, черти и есть», — подтвердили ему далекие го¬
лоса. «Фу, фу, — басурмане забеспокоились, — чой-то уж больно русским
духом тянет. Нет ли тут еще кого?» Повскакивали с ковров, курлы-мурлы
меж собой затараторили. Воспламенились лапти, Иван их с ног сбросил, го¬
лыми пятками на песке пляшет.
«Отгадай-ка, Ванька, загадку, — вплотную подошла одна занавешенная. —
Что тяжелее всего на свете? А то ведь не пустим дальше. Вода наша — от¬
гадка ваша». «Ваня, думай!» — притиснула ему горло, привела в себя
змея. «Золото, — лукавые ему краем губ подсказывают, — голова с похме¬
лья». А у Ивана, хоть и не с похмелья, голова гудом гудит, мозги от жары
плавятся. «Голову отрежу, душу выну, дам пить, станет говорить!» — шути¬
ли пытатели. «Ну отвечай, отвечай и пей от пуза», — обступили его занаве¬
ски со всех сторон, глазами чаруют. «Да он же немой, как же он скажет? —
заволновались родные голоса на другом конце земли. — Помочь надо бы.
Разинь, Ваня, рот, коли сможешь!..» Разлепил Иван запекшиеся губы. «Пу¬
стой живот — вот что тяжелее всего на свете», — многими голосами отве¬
тил он. «Цыц-перецыц! — заорали шиши пустынные. — Кто тут шопчет-
то?!» Ан, делать нечего, пропустили его поближе к воде, и вновь вопрос:
«Что светлее солнца?» Что светлее?.. От солнца палящего аж круги в гла¬
зах... «Что тут думать-то, Вань, — на жаре думать вредно...» — суесловят во¬
круг, не дают пройти. «Правда! — голосом многозвучным отвечал Иван. —
Правда светлее солнца!» Тут же рука невидимая оплеуху ему влепила. «По¬
говори ишшо тут! Ишь, расправдился...» А Иван обгорелый — головня голо¬
вней — сквозь стоянку их дале идет, как по маслу нож — у, бесплотные хох-
лики!.. Девки ведрами в пруд воды доливают, плескаются там — блазнят,
манят... Вот он пруд — рядом... «Что сильней человека?» Глаза у Ивана от
пытки огненной вот-вот вытекут, еле жив уже... «Все, спекся... Сдавай кар¬
ты, ребята, тасуй колоду... душу мне... а мне змею, я из нее поясок сделаю...»
Тут же бухнулись на ковер, раздавать карты начали. «Думай, Ваня, — сказа¬
ли издали, — твой ответ...» «Сбрось удавку-то, ты ж в гостях!» — орут нехри¬
сти. «Ваня, не бросай меня!» — змея слезно молит. «Застрял дурак, не прой¬
дет никак!» — девки в пруду ликуют. «Любовь! — тихим новым своим голо¬
сом сказал вдруг Иван. — Любовь и есть сильнее человека...» «Вот-те и не¬
мой...» — удивились свои. «Ваня!» — змея так притиснула его — чуть не за¬
душила на радостях... Стон и визг!.. «Да пропадите вы все пропадом! — за¬
стонала нечисть. — На, залейся, лопни хоть!» Наваждение разом сгинуло.
Глядит Иван — уж не пруд, а море синее, бескрайнее перед ним. Со всех ног
к нему понесся! Летит — задыхается на бегу, а море ну ни на шаг не ближе.
Дотоле бежал, покуда из последних сил не выбился. На карачках пополз, а
море где было, так и есть. Упал в песок — двинуться не может. «Ну вот, Ва¬
ня, — шепчет девичий голос, — мы и пришли. Отступи теперь три шага на¬
зад». Поднялся Иван с трудом и на три шага назад попятился. «Это при¬
сказка была, — вздохнули вдали, — держись, Ваня!..»
Тут как раз ворота тесовые за ним и захлопнулись. Озирается: белокамен¬
ный двор монастырский пред ним; вечер тихий, прохладный. С колокольни
звонят — к вечерне зовут. Вот монахи идут — в храм направляются, на Ива¬
на-мытаря исподволь поглядывают. А в глазах добро, благость тихая. Чует
Ваня — и его туда, куда все идут, ноги сами несут. Внутрь вошел — в гулкой
церкви черным-черно от монашеских спин, свечи плавятся, бормотание
повсюду благозвучное.. В стороне семь открытых гробов стоят — покойни¬
ков, знать, отчитывают. «Ты что же, нехристь, в храм святой с гадюкой за¬
перся, — шепнули ему строго. — Ты в своем уме? Сними тотчас...» Все мо¬
лельщики повернулись к нему, смотрят гневно. Потянулся Иван к змее —
вдруг слышит голос ее: «Прощай, Ваня...» А монахи уж с колен встают, к
нему приближаются. Пронес Иван руку свою мимо суженой и щепоть на
лоб положил: «Свят, свят, свят...» А рука-то ко лбу и прилипла — отодрать
не может. «Пособите ему!» — прогремело под сводами церкви. Чья-то лапа
мохнатая дернула — отлетела рука... только пальцы во лбу торчать оста¬
лись, кровь с них капает... Взвыл Иван, а ему в ответ: «Будешь знать. Все,
что ни есть, оторвем. Ишь, раскрестился!» Хохот, визг, удар грома... Со сви¬
стом влетела молния, обратила всю монашью рать в стаю воронья — заме¬
талось воронье в мертвенных лучах лунных...
Иван здоровой рукой и зубами от рубахи кусок оторвал, кое-как культю
заматывать принялся... а покойники уж из гробов встают, вместо глаз — пя¬
таки медные. «Вот оно, крепись...» — прошептали вдали. «Где он тут? Ни
хрена не видать...» — дохлецы по церкви шастают, воронье орет-надрывает-
ся. Оцепенел Иван, в глазах — ужас... «Где же ты? Подай голос-то...» Бли¬
же, ближе, совсем рядом уже... Не выдержал Ваня, обернулся, хоть и знал
зарок, к двери бросился. Начал биться в нее, а она — как стена. Тут-то его
и сцапали. «Вот удача-то! Вот улов! — ликуют усопшие и клыки вурдала-
чьи показывают. — Враз двоих в один гроб и заправим сейчас». Запихали
Ивана, как ни бился он, в деревянный гроб, сверху крышкой притиснули.
Гвоздями приколачивают, приговаривают: «Родился неумным и умрешь
дураком». Подхватили гроб и ну с ним бежать! Бегут, радуются: «Вот так
праздничек!..» Вон и яма — загодя, видать, вырыли. Прямо с бегу и швыр¬
нули туда. «Как, Ванюша, не отшиб ничего? Ха-ха-ха...» И давай сверху
камни, землю бросать, блекотать по-козлиному... Иван колотится, орет
что-то. «Полежи, полежи там, одумайся...» Вертится Иван в гробу, задыха¬
ется... все, конец!.. «Адшеолтартарнаракадиюйджаханнам!» — грянул ад
жутким хором... тьма кромешная... вечный плач... море полыхающее... без¬
дна... и змея в огне с голубыми глазами человечьими... Помилуй мя и спа¬
си!.. Лунная ночь, погост деревенский. Шевелится земля на могиле — это
Иван наружу выбирается. Вылез на волю: весь в земле, рот открыт — воз¬
дух ведрами пьет. «Ай да Ваня!..» Тотчас видит: мужики бегут — на подмо¬
гу, небось! — все свои, все родные, деревенские. Наконец-то!.. «Упырь,
упырь! — кричат. — Ведьмак! Хватайте!» Налетели вмиг, из земли вытащи¬
ли. «Гляньте, и впрямь упырь — из могилы лез, да с змеей ишшо!» А змея
шипит на них, не дает к ней приблизиться. «Ну мы его полечим!..» Кинули
его наземь, руки, ноги прижали. «Кол давайте, да только осиновый!» — су¬
етятся вокруг. Притащили кол, приспособились и ну его в грудь Иванову
забивать. «Морока, Ваня, ой, морока, — шепчут свои, — не мы это, а они. Ты
уж выдюжи...» Кол тем временем вколошматили, пригвоздили Ваню к зем¬
ле-матушке. «Снимешь ошейник?..» Молчит Иван. «Вот упрямый... Ну бы¬
вай здоров и паси коров! — засмеялись «друзья». — Взаправду ведь сдох¬
нешь...» — и пошли восвояси, лишь глаза-угольки в ночи светятся...
Теперь ворон хищный на колу сидит, в глаз целится. Все, ребята, конец
пришел... «Не конец, Ваня, только верь! — змея-невеста подбадривает. — Нет
конца...» Вдруг, откуда ни возьмись, кружевницы-девки бегут, окружили,
ахают, охают: «Ваня, милый, что с тобой сделали...» Ворон враз улетел, испу¬
гался. А девки-то, видать, прямо с постелей наладились: все босые, кто в чем,
кто ни в чем, вкруг Ивана бегают, титьками трясут: «Ой, змея, змея грему¬
чая! Вань, сними змею, очень боязно...» А сами все ближе и ближе: глаза сме¬
лые, руки к шее тянут. Змея шипит, торчком стоит. «Ваня, бедненький, как
они тебя... У, пропойцы! Расскажем все барыне», — кол осиновый трогают,
гладят... Смотрит Ваня — кол расти принялся, на глазах зеленеть... «Солнце
выйдет, прижжет, ты в тени-то как раз и окажешься». А кол и впрямь уже в
дерево вымахал. Зашелестел листвой, птичками запел, плодами диковинны¬
ми украсился. Глядь — вот-те на! — нет погоста вокруг, а поляна ночная, ко¬
стер посреди — искры в небо! Полуночницы-морокуньи осмелели вконец —
что было на них, и то скинули, хороводы шальные водят. «Вот охота ему, —
меж собой говорят, — приварился к змее, змее-гадине. Отцепил бы ее, да к
нам бы шел. Мы б потешили его, всласть потешили...» А Иван лежит, еле ды¬
шит — ствол грудь распирает, к земле давит. «Все, кончаюсь, братва, — на-
послед говорит, — не посетуйте...» Змея рыдает, бедная, с родной стороны то¬
ропят: «Говори, Ваня, вспоминай скорей — а не то заморочат, залукавят вко¬
нец...» Из последних сил собрался Иван, поднапрягся и явил голос свой на
весь белый свет: «От осины не родятся апельсины! Чур меня, чур! Христос
воскрес — исчезни бес!» Перекрестился культей и откинулся. Завизжали
приворотные пороснёй, забрехали шутовки на разные голоса.. Вновь блесну¬
ло, закрутилось все — словно вихрем всю нечисть вымело. И раздался восхи¬
щенный вздох: «Морочила морока, да проскочила сорока...» Пальцы во лбу,
кол в груди, змея на шее — видит Иван: стоит он на библейских холмах, в
благодати земной... Тишина и покой — заслужил тишину! — и к нему сам
Христос приближается... Ноги босы, голова в терновом венце, хитон бедный,
вервью подвязанный... Упал раб земной, распластался... «Встань, Ваня, мы
теперь равны — ты великие страдания выдержал». Встал Иван, господь дес¬
ницу к нему простер... и тотчас и кол исчез, и пальцы вновь на руке оказа¬
лись. «Все искусы прошел — дошел до конца, дальше некуда. Вот и Пасха
твоя! Молодец, Иван! — все тянет спаситель руку к нему. — Теперь смело
снимай, — на змею показал. — Разрешаю». Иван глянул в глаза ему — а гла¬
за черные, бездонные, в себя, словно в пропасть, влекущие. «Это воля моя, —
торопит Божий сын. — Да и солнце встает». И впрямь — потеплело на небе,
вот-вот ясное объявится. «Ну давай. Я ведь прошу! Ну!.. — черноглазый к
змее тянется. — А не то прокляну!» Завороженный Иван столб столбом сто¬
ит, не шевелится. «Не избудешь греха, право слово!» Бедный Ваня — он уже
понял все, да сковало его, волю вылущило. «Ради себя — Христа ради прошу,
что, на колени встать?!» — глаза уж вспыхивать стали, рожа дергается, свет¬
лый венчик тает на глазах... «Дай, Ванька, сей момент, а то порешу!» — и все
тянет, тянет руку к нему, тянет лапу когтистую... Но тут заорал петух, заорал
Иван, да так, что затряслись холмы: «Прочь изыди, враг рода!..» Крест, сей
же миг крест!.. Сатана — ясное дело, сам и есть: глаза красные, клыки в пол-
вершка! Озверел вконец, ничто его не берет. «Ненавижу!» — кричит и... схва¬
тил бы Ивана за горло, да змея тут стрелой мелькнула и вонзилась, пронзи¬
ла его насквозь. Гром!.. молния!.. взвихрился весь мир!.. Расслоился нечис¬
тый, распался, взрыднул, хохотнул жутко, возвернулся вновь и сгинул...
Вновь церковь прежняя, светящаяся наливным солнечным жаром — любую
пылинку видать. Иван на коленях стоит — молитву творит, как заведенный.
Вдруг на голову ему рука легла легкая. Вздрогнул, поднял взгляд — дева чуд¬
ная, красоты несказанной, будто из света сотканная. «Встань, — говорит, —
Ваня. Избавил ты меня от заклятья, и теперь я твоя. Я жена твоя, Богом дан¬
ная». «Эх!..» — вздохнули радостно на далекой родной стороне. И от этого
вздоха будто трепет по струнам побежал — загудели струны... Ну а встал
Иван уж совсем другим — молодым и пригожим встал. Оба счастливы, оба
светятся, в дорогих белоснежных нарядах — ни дать ни взять: царевич Иван
со своей Еленой Прекрасной. Так бы век и стояли — друг на друга смотрели,
да свои отрезвили. «А теперь, — говорят, — Ваня, дёру! У кольца нет конца —
это жизнь...» И вот скачут они на белых конях — на Русь поспешают. Пере¬
лески, ручьи, овраги — все назад летит! «А ну стой, Ваня, к земле прильни!»
Слышит он — гудит земля. Соскочила Елена с коня, озирается. «Не уйти
нам от них, просто так не уйти...» Гул все ближе... «Ваня, верь!» А Иван
дрожит — теперь есть что терять... обняла его, обратила вмиг: коней — ведра¬
ми, колодцем — себя, а его — старушкой древней... И все вовремя — вот и се¬
меро в черном на черных конях... «Эй, старуха! Не видала ли?» — «Что, каса¬
тики?» — «Добра молодца с красной девицей!» — «Как же, видывала, — баб¬
ка шамкает, — проезжали одни, я ишь девкой была...» «Вот неладная, не ту¬
да гребем», — своротили коней, прочь умчались... А Иван с Еленой дальше
скачут, версты считать не поспевают. «Ну, Иван, ну, ловкач!» — свои кричат,
удивляются. «Колотырники! Пустобои! Это ж были они! Догнать! Взять!» —
страшный голос гремит за спиной... Скачут милые степью безбрежной, а по¬
гоня вновь слышна... «Ваня, стой, не уйдем!» — и опять они наземь соскаки¬
вают... А погоня летит быстрей ветра!.. Луг зеленый, овечка пасется, при ней
пастушок... «Эй, пастух! Не видал ли?..» — «Кого?» — «Добра молодца с де¬
вой красною!» «Я пять лет эту овечку пасу, — отвечает пастух, — а видать не
видал ничего. Птица мимо не пролетывала, зверь никакой не прорыскивал».
«Эй, обида, не туда плывем!» — раскрутили коней, хлестанули сплеча, уска¬
кали прочь... «Ну, Иван! — поражаются близкие уж голоса. — Ну, догада!»
Мчатся любые борами сырыми, холмами волнистыми, полями раздольны¬
ми — Русь уж вот она, рукой подать! «Ах вы бестолковые, раззявы, шишмон-
ники! В кочегарку всех! — гром гремит за спиной. — Догнать, схомутать и
представить!..» Снова грохот копыт —вновь погоня... «Близко, Ваня, Русь, —
Елена кричит, — да видать, не сподобимся!..» Вздыбили они вновь коней, со¬
скочили с них и в последний раз обнялись... Кони ивами стали, он — старым,
плешивым попом, она — ветхой церковкой: еле стены держатся, кругом мхом
проросли... А погоня уж тут как тут: «Эй, старик! Не видал ли?..» — «Кого,
батюшка?» — «Только врать не смей — добра молодца с красной девицей,
пропади они пропадом!..» — «Я уж тут сорок лет служу — ни один человек не
захаживал». — «Фу-фу, это Русь?» — «Русь, родимые». «То-то нечем ды¬
шать, лучше ссылка!..» — развернули коней и утрехали... Неужели все? Ра¬
дость, Господи! «Вот и все, — подтвердили рядом совсем. — Вот и все!..» По¬
пик старенький слезу смахнул и, закрыв глаза, телом всем к церквушке при¬
льнул, крепко обнял ее, милую...
Очнулся Иван, видит — за столом истертым посередь избы он сидит и
беззубую знахарку-заговорщицу тискает. Та смеется — слезы льет — ото¬
всюду на него лица добрые глядят — любуются, похохатывают. Да и как не
любоваться: стал хорош и пригож — добрый молодец!.. «Будь здоров,
Иван! Вот и сказке конец, по усам бы текло... Не нальешь ли?»
— Это ж надо! — рябой хохочет. — От осины не родятся апельсины!.. Ну,
Иван!
— А чего, — ухмыляется Иван, — нас соплей не перешибешь — мы такие!
Под благодатным солнцем сентября, среди прощальной зелени дерев не¬
слась по снегу, сыпя серебряным звоном, тройка лошадей, запряженная в
сани раззолоченные!
На подушках барыня Прасковья Матвеевна разметалась — от волнения
красная, в кружевах вся, будто в облаке. На запятках два нарядных оприч¬
ника с секирами — один выборный, другой староста. Дворецкого и вовсе не
узнать: Дед Мороз, да и только, борода сзади летит! Он и правит.
— Соль еще есть? — крикнула сквозь скрип саней барыня.
— Есть, матушка!
— Заровнять за нами, дабы свежий был путь.
Свистнул выборный, и с обеих сторон от дороги явились из-под земли —
в ямах сидели — мужики и бабы с ведрами, спешно соль метать приня¬
лись.
— Какая честь, господи! — воскликнул староста. — Да и по заслугам, не¬
чего сказать!
Сани летели прямо на густую строевую рощу, что стеной стояла впереди.
Прасковья Матвеевна махнула платочком:
— По сему знаку, не ранее.
— Все подпилено, матушка, люди с утра ждут.
И впрямь, к каждому подпиленному дереву тянулась веревка из куста.
В кустах угадывались люди.
— Какая мысль бессмертная! — восхитился Дед Мороз. — Сама природа
как бы ниц падет! И вид какой откроется!..
Тройка вынесла сани из обреченной рощи и промчала их сквозь триум¬
фальную арку, украшенную аллегориями отечественных побед, с огром¬
ным вензелем «Е» на вершине. Впереди и впрямь открылся отменный вид:
усадьба, нарядная, словно невеста, пред ней — зеркальный пруд, пестря¬
щий многоцветьем парусов, лодок и гондол...
На изумрудной лужайке, граничащей с прудом, под сенью векового дуба
красовались две пейзанские избы с кружевной резьбой. Селяне в шелко¬
вых рубахах и нарядных сарафанах вели пред ними беззаботный хоровод,
пастушок играл в рожок, а пастушки плели венки из полевых цветов.
Барыня и гвардия ее придирчиво все оглядели.
— Бойчее, Прохор! — крикнул выборный одному из хороводников и по¬
грозил кулаком.
Вдруг из парка выбежала избушка на курьих ножках. Смешно подковы¬
ляв, она молвила зычно:
— Уж ты гой еси, сударыня-матушка, исполать тебе! — Потом, бренькнув
балалайкой и заплясав — ой, люли, люли!.. — она двинулась по аллее в
глубь парка.
— Провожу — покажу — не посетуешь! — заднее ее окошко распахнулось,
и высунувшаяся оттуда рука поманила за собой.
Парк был самый новомодный, аглицкий: деревья высажены группами
наподобие букетов, солнечные, в кружевных тенях лужайки, неглубокие
овражки под выгибными мостиками, то басовито, то ласково журчащие ру¬
чьи. Повсюду на садовых скамьях и в беседках сидели парами пригожайки
с пригожаями, застыв с приятными беседами на устах.
Избушка-поводырь ни на миг не унималась: то песни пела, то соловьями
заливалась, то выпархивала из себя стаю голубей, то кваску из окошка ис¬
пить предлагала.
Из недр пещеры вылез на свет божий древний, заросший донельзя от¬
шельник.
— Пятьдесят лет, не ведая света белого, сижу я в сей пещере, — хрипло
молвил он. — Пусть я ослепну, дал я зарок, но узрю ту, что ярче солнца!..
— Хрипишь ненатурально, — перебила его Прасковья Матвеевна. — Дать
ему воды, да постудёней.
Отшельник поклонился в пояс.
За очередным изгибом аллеи открылся вид на холмистость, возглавляе¬
мую неприступной с виду крепостью, сплошь усыпанную поверху турками в
тюрбанах. Все подступы к крепости усеяны были доблестными россиянами,
застывшими в штурмовом порыве, пушками, горками ядер. На лестницах,
примкнутых к стенам крепости, гроздьями висела передовая русская атака.
Барыня со значением показала свой платочек фельдмаршалу, который
чем-то напоминал как светлейшего, так и воеводу.
— Вмиг возьмем, матушка, не сомневайся, — заверил он.
— Вмиг не надо, но и не тяни... — Она вдруг побледнела: издали лавино¬
подобно приближался многокопытный топот. Побледнел растерявшийся
фельдмаршал, побледнела и вся свита.
— Как?! — потрясенно выдохнула барыня.
— Это наши... гости! — донеслось с вершины дуба, из огромного гнезда со
стоящим в нем аистом. Аист держал в клюве запеленутого младенца. — Со
всей округи едут...
— Так что же ты стоишь?! — рыкнула Прасковья на дворецкого. — Встречай!
Да держи их вместе всех, дабы не шлялись где попало! — И уже вслед убегав¬
шему: — Вина не давать! — и широким петровским шагом устремилась далее.
Избушка поспешно заковыляла следом.
Аллея круто изогнулась, и перед взорами идущих предстали античные
руины и на их фоне три всеизвестных мудреца: Сократ, Вольтер и Цице¬
рон. Сократ был в хламиде, Цицерон — в тоге, Вольтер — в привычном сво¬
ем камзоле. Расхаживая взад-вперед в глубокой задумчивости, мыслители
без умолку сыпали афоризмами, как бы делясь ими меж собой. Из врытой
в землю бочки торчала голова четвертого.
— Не верю, ни во что не верю, — в ответ на все их утверждения талдычил
Диоген.
— Как это — ни во что? — не своим, державным голосом удивилась барыня.
— В Русь святую верю, в божье провидение, в мудрость скипетр держа¬
щих! — поспешно оправдался человек из бочки.
— То-то же... — удовлетворилась барыня и двинулась туда, где березы
изогнутой подковой как бы окаймляли «зал» с дерновыми скамейками
партера, с вырытой в земле пред сценой ямой, где сидел оркестр. Два бога¬
тыря, потянув за ленты, разверзли занавес из вьющегося гороха, открыв
сцену, на которой толпились звери, герои басен Лафонтена: лиса и журавль
возле кувшина, ворона с сыром в клюве, в очках мартышка и т.д.
— А это что за зверь?! — ужаснулась Прасковья Матвеевна.
Лиса и впрямь была толста чрезмерно.
— На сносях, матушка, — объяснил выборный. — Но уж больно верно
изображает.
— «Изображает»... Лучше пусть рожает.
— Ха-ха-ха... — отозвалась избушка.
— Сменить немедля! — Вся в гневных пятнах, барыня отворотилась от те¬
атра и уперлась взглядом в разряженного в пух и прах, приглаженного,
подрумяненного пейзанца, что стоял с раскрытой книгой в руке вблизи
плакучей ивы.
— А это что за чучело?
— Пейзан ля рюс, как вы сказали.
— Кто таков, я спрашиваю?
— Немтыренко.
— Почему один? Заблудился?
— Наедине с раздумьем, как было велено.
— Пусть вкупе размышляют — надобно поболее любви.
— Уже готово! Прохор, бабу!
Немтыренко стоял как каменный в вольной своей позе, слушал, как
смолкали отдаляющиеся голоса ревизионной братии... В поле зрения его
чрезвычайно задумчивого взгляда внесли скамейку и усадили на нее на¬
рядную селянку. В руках селянка держала книжицу с торчащим из нее
цветком, поза изобличала крайнее к нему внимание...
Но что это, боже?!.. Даже косвенного взгляда достало, чтобы узнать в си¬
дящей свою волшебную Елену... И она, закаменев, не в силах вымолвить ни
слова, на него глядела... Забыв про все, все вспомнив, к ней пошел Иван...
— Стоять! Не шевелиться! — тотчас взметнулся перед носом у него ку¬
лак. — В сибирку захотел?!
Так, шириной всего в три шага, легла меж ними пропасть, но и через эту
пропасть протянулись светящиеся нити счастья, протянулись из сказоч¬
ной их повести прямо в живую явь.
— Молодцом! Так взгляд держать! Еще поболее любви. Опосля — по чар¬
ке сивухи!
Для Елены с Иваном время остановилось, мир замер. Да и вокруг все за¬
мерло. Только солнце неумолимо двигалось к закату.
Недвижимы были богатыри с шелковыми лентами в руках...
Оркестр молча томился в своей яме...
Мудрецы переминались с ноги на ногу...
Отечественная рать, равно как и турки, каменела на поле брани...
Замертвел и хоровод...
Смеркалось...
Вдоль парковых аллей огненным пунктиром загорелись плошки с салом.
— Едет! Едет! — многоголосым эхом разнеслось повсюду.
Вмиг натянулись тетивой веревки в потемневшей роще...
Толпа гостей засуетилась у крыльев усадьбы, поправляя платья, теребя
платочки, веера...
— Едет!..
Елена и Иван, застыв, томились в пытке.
— Стоять! Всем стоять! Убью!
Не вынеся ожидания, упал Вольтер — его тащили под руки в сторонку.
— Скотина!
— Да он с утра не жрал — все бубнил...
— Цыц, едет!..
«Снежная застава» — начало санного пути, зимы оазис среди лета бабье¬
го — белым бела от соли, с льняной «снежной бабой», с детьми-милашками
в шубейках — у каждого в руках «снежок», с Дедом Морозом и медведем, с
цветами и хлебом-солью. Во главе дворовой гвардии, вся в белоснежном
кружеве — ни дать ни взять Снегурочка! — сама хозяйка с подзорной тру¬
бой, через которую и смотрит неотрывно вдоль просеки, ведущей к тракту...
И вот все ближе топот многих сотен копыт, все светлее зарево, рожден¬
ное кавалькадой факелоносцев императорского поезда...
— Ну, друзья мои непытанные и немученные, возблагодарим судьбу! —
звонко возгласила барыня. — И не ударим в грязь лицом! — она размашис¬
то перекрестилась и отбросила трубу.
Огненное облако меж тем подкатилось к пункту поворота... подкатилось
и... укатилось далее...
Всеобщее оторопение и картина! Обморок души!..
Хозяйка с хлебом-солью на расшитом полотенце и с улыбкой на устах
смертельно побледнела и превратилась в изваяние.
Светящееся облако удалялось все дальше и дальше...
Одинокий стук копыт, возникший вдалеке, стремительно приблизился,
и все узрели всадника, скачущего к ним во весь опор.
Флигель-адъютант из царской свиты статен был и пригож.
— Мадам, Ее императорское величество шлют вам свой привет и сожале¬
ние, увы. Курс изменился, ибо есть дела, важнее нет которых. — Придвор¬
ный так и не спешился — исчез, будто и не был...
Над «заставой» нависла кладбищенская тишина: лишь щебетание вечер¬
них птах да слабый рокот удаляющегося облака...
В молчании, объявшем мир, едва слышалось дыхание двух людей, мучи¬
тельно застывших друг от друга в трех шагах...
И снова несутся сани по белеющей в сумерках дороге. Ничего не видя¬
щими застылыми глазами смотрела пред собою барыня, и в глазах ее игра¬
ли блики догорающей зари.
Промелькнули, как во сне, пруд с лодками... сияющий огнями парк... ко¬
стюмы, лица... С невыносимо мерзким скрипом сани приближались к
усадьбе, зеленый тон которой едва проглядывал сквозь завеси кружев с
вплетенными гирляндами цветов.
Впереди, до самого парадного крыльца, двумя шеренгами стояли ливрей¬
ные болваны с корзинами цветов. Пастушки в белых платьях, изготовлен¬
ные к бросанью роз и хризантем, пребывали в нерешительности...
Несколько букетов полетело все же...
Громко хрустнула соль — темнее тучи вышла из саней хозяйка.
Тяжелым шагом приговоренного к позорному столбу прошла она по три-
умф-аллее, устланной коврами, что тянулась меж рядов фигурно выстри¬
женного кустарника; тяжелым шагом миновала «екатерининскую» арку,
сплошь уснащенную медальонами, представлявшими державный фас и
профиль; тем же шагом проследовала по саду вдоль бесконечного стола,
рассчитанного на свиту многочисленную и блестящую, но ныне лишь на
треть заполненного цветом местного дворянства.
Стол меж тем поражал зрение яствами самых причудливых форм —
здесь также преобладала античная стихия: парфеноны, колизеи, мавзолеи,
сырно-масляные скульптуры. В дальней главе своей стол завершался вы¬
соким золоченым троном, увы, пустующим.
Огорченные, соболезнующие, а порой и язвительные взоры сопутствова¬
ли хозяйке в ее траурном походе, конечной целью коего был трон.
Низко перед ним склонившись в земном поклоне, она рекла:
— Зри, премудрая царица, зри, великая жена, что твой взгляд, твоя дес¬
ница — наш закон, душа одна! — голос был глух и дрожал от ярости. — Зри
на блещущи соборы, зри на сей прекрасный строй, — она взмахнула рукой
вдоль стола. — Всех сердца тобой и взоры оживляются одной!.. Державин¬
ские сии знаменитые вирши были прерваны вдруг далеким гулом, на кото¬
рый и повернулись головы всех присутствующих.
Там, на горизонте, звездами рассыпались гирлянды фейерверка...
Ропот волной прокатился по застолью.
— К Коровину поехала... — прослышалось в этом ропоте.
Прасковья Матвеевна с трудом оторвала от ненавистного видения
свой тяжелый, слепой взгляд и вернула его назад, в обитель своего по¬
зора.
Все взоры были к ней...
И тогда распрямилась гордо ее спина, окреп и приподнялся подбородок,
глаза сощурились, рука медленно поднялась и царственным движением
взмахнула белым платком...
Громоподобное «ура!» рвануло воздух, артиллерийский залп потряс ок¬
рестности. Содрогнулась твердь...
Пруд будто вспыхнул пламенем от множества зажженных в лодках факе¬
лов. Войска пошли на штурм, заверещали турки... И в этот миг над триум¬
фальной аркой вспыхнул огромный царский вензель. Потрясенно онемев,
следили гости, как, разгораясь все ослепительнее, «Е» оборотилось вдруг в
раскаленный шар, который, брызнув искрами и разметав огонь, поплыл в
ночное небо...
Единый восторженный порыв пронесся ветром вдоль стола: все повска¬
кали с мест, все подымали кубки, все здравили хозяйку. А она, гордо опер¬
шись о трон, победно улыбаясь, им ответствовала.
Крепость, судя по всему, пала: в грохот канонады вплелись победные аккор¬
ды — то вступил оркестр, следом, без промедления, грянул хор. Небо ослепи¬
тельно взорвалось, пронзенное, как шпагой, пламенным столбом, коий с вели¬
чайшим грохотом рассыпался блистающим букетом разноцветных орхидей...
Лик Елены то озарялся новым светом, то исчезал во тьму, вновь озарялся...
Иван ей вторил: то он был, то не был...
Глаза ее его глаза искали и находили в яркие мгновения...
За праздничным столом смешалось все: гости пели, обнимались, вино
текло рекой, мелькали блюда, глотки, разверстые в восторге, славили цари¬
цу бала, которая, воссев на троне, жмурилась от счастья, а личный виночер¬
пий, Дед- Мороз, не успевал ей подливать и подливать...
Вдоль стола «поплыли» лодки с поющими вакханками.
Ночь вожделенная!
— Всех прощаю! — вконец расчувствовалась хозяйка и, чуть не плача от
доброты своей, рукой махнула. — Всех до единого! И всех люблю!
В небо взвились фонтаны многоцветных комет; там и сям мерцали новые
созвездия, млечные пути, совсем рядом проносились шары планет — то ли¬
ковал космос, воссозданный заново!..
Под огненными парусами, в сиянии небесного восторга плыли друг на¬
встречу другу, руки протянув, то пропадая, то являясь вновь, не в силах да¬
лее откладывать объятия, Елена и Иван...
— Любовь и единение! — кричала государыня-хозяйка, стоя на троне —
Все свободны!
Повсюду в парке плясали «звери», «птицы», «селяне» и «селянки», пья¬
ная избушка на курьих ножках заливалась соловьями. Помещики целова¬
лись меж собой, целовались со слугами, кто-то рыдал у кого-то на плече,
кто-то на коленях просил прощения... Со всех сторон к столу катили
хмельные бочки.
С криками «ура!» янычары и россияне на руках внесли фельдмаршала,
черного от копоти, с победным знаменем в руке. Знамена неприятеля по¬
вергли перед троном. Ликование росло!..
Давя ногами античные творения кулинарного искусства, к трону с даль¬
него конца стола неспешно, шаг в шаг, шли два богатыря. На их руках по-
коился в гигантском блюде шар земной, увенчанный на северной своей ма¬
кушке главой Екатерины. К стопам величественного хода цветы летели,
деньги, кубки, парики. Со всех сторон бежали с криком ликования ряже¬
ные. Арку проломив, давя вазоны и кусты, продиралась к трону, как мед¬
ведь сквозь чащу, пьяная избушка...
— Не жалеть огня! — кричала вознесенная над всеми. — После ужина гор¬
чица не нужна!
Разметывая бесовские искры, завертелись куда ни глянь шутихи, огне¬
вые мельницы, колеса и спирали.
Хозяйка бала, блеснув огромным ножом, снесла с торта державную гла¬
ву и принялась делить планету на мелкие куски.
— Всем достанет! Мы все равны, как братья! — гремела она. — Всех отпу¬
скаю! Всем дарую волю!
— И мы! И мы! — вторили ей помещики.
Травянистый холм, невинно до сего возвышавшийся неподалеку, вдруг ожил
и, оборотясь вулканом, стал изрыгать из недр своих языки адского пламени.
Страшный треск и грохот содрогнули землю — то рухнула подпиленная
роща.. Налево и направо стволы валились, ломая и давя друг друга.
Новоявленный Везувий разверзся окончательно — взорвался склад всех
фейерверков — и гигантским огнивом унесся в небо, все осветив до горизонта.
— Солнце наше! — возопияли все, став белыми, как снег.
Как снег же белая, бесплотная богиня Ника новоявленная взметнула к
небу руки-крылья, желая как бы отделиться и взлететь...
Так вознесся к апогею пир неистовый, рожденный неуемной гордыней.
Так огнем и светом была отпразднована любовь, и для двоих в ту ночь
земля оказалась небом...
Утро выдалось пасмурное, но лучше бы оно не выдавалось вовсе.
Беспощадный свет дня наступившего представил в подлиннике все по¬
следствия минувшей оргии...
Глаза отказывались глядеть на самый воздух, траурно рябивший хлопь¬
ями гари.
Вулканический пепел лежал повсюду толстым слоем, скрывая под собой
все признаки как лета зеленого, так и осени златой.
Разверстая земля дымилась, источая вонь селитры.
Турецкая крепость взята была, как теперь выяснилось, самым зверским
образом — лишь груда растерзанных обломков валялась на поле брани да
бездыханные тела бойцов там и сям красовались в самых живописных по¬
зах: кто обнявшись с врагом, кто крепко сжимая недопитый штоф.
Лежала и роща, будто сметенная ураганом.
Ураган этот прошелся, видно, и по пруду, в котором наряду с пустыми и
перевернутыми лодками плавали ветки и стволы, гирлянды цветов, кусты,
чалмы, избушка кверху курьими ногами, а также множество прочих зани¬
мательных предметов.
Главный стол был разгромлен, а вместе с ним и многочисленный фар¬
фор: его остатки, как и остатки кушаний, темнели мерзкой грудой прямо на
земле. Сохранился только трон, на котором спал дворецкий в красной шу¬
бе и валенках.
Триумфальная арка существовала лишь наполовину, сад был поломан и
местами выкорчеван.
Стада коров долизывали остатки санного пути.
Особняк трудноопределимого цвета весь был увешан серыми, обгорелы¬
ми лохмотьями кружев.
Отшельник и побратавшийся с ним фельдмаршал тщились вспомнить
друг друга, не в силах разомкнуть объятия.
Разоренная хозяйка стояла на веранде с бокалом рассола в руке и мут¬
ным взглядом взирала на погромище. Опухшее лицо ее с сизыми мешками
под глазами было страшно.
Все было мерзко, куда ни глянь.
За спиной ее восставали из обморока и со стоном силились приподнять¬
ся гости.
Громыхание во внутренних покоях давало понять, что и там кто-то ожил.
Хозяйка перевела взор свой вниз и увидала две коленопреклоненные фи¬
гуры с поднятыми к ней светящимися счастьем лицами.
— Государыня, благослови! — сказал Иван, волнуясь. — Дозволения тво¬
его покорно просим под венец идти...
Прасковья Матвеевна схватилась за сердце. В другой руке дрожал рас¬
сол. За ее спиной теснилось уже несколько небритых, с губами черными,
оплывших лиц. Кто, промаргиваясь, чистосердечно ужасался утреннему
пейзажу, кто, страдальчески морщась от непосильного умственного напря¬
жения, пытался уразуметь суть дела.
— Мы друг друга любим! — добавила Елена молящим голосом.
С незапамятных времен любовь нас губит — новая обида змеей сдавила
горло одинокой самодурки.
Секли на скотном.
Страшно свистели кнуты в руках дворовых экзекуторов, вонзаясь хлюп¬
ко в обнаженные тела.
По щиколоть в навозной жиже помещики, их жены, дети, челядь следи¬
ли мрачно за расправой.
— Я вам полюблю... Ишь, слова узнали... — приговаривала в такт кнутам Пра¬
сковья Матвеевна. — И ты туда ж, Матрена?.. Я на тебя ошейник-то накину... к
стулу привяжу... Винись немедля... Я благословлю — век помнить будете!
Скорбным полукольцом окружив место казни, деревня, превращенная в
толпу ряженых, тупила взоры, стыдясь смотреть на двух нагих людей, при¬
вязанных лицом к столбам. Кнуты свистели не смолкая.
— Немтыренко-то... видали, запорожец... заговорил... обрел язык... Про¬
щения моли!.. Я повенчаю — ляжете вдвоем в одну могилу!
Тела казнимых на глазах вздувались бурой сетью. Но они молчали.
— Молчите?! — задохнулась барыня. — Ужо! Пеняйте на себя! А ну, про¬
жарьте их до косточек!..
Один из палачей ненароком будто исподлобья глянул на тираншу. Во
взгляде этом была ненависть.
По пояс голый, лежал Иван вниз лицом на тулупе, брошенном посреди из¬
бы. Изба была пуста, и лишь шелудивый пес лизал его окровавленную спину.
Но вот он шевельнулся, придя в себя, и поднял голову. Повел туманным,
тяжелым взглядом. Взгляд остановился на печи, где горел огонь... Медлен¬
но поднялся и так же медленно пошел к огню...
В печи горели два полуживых полена, мерцали, замирая, угли...
Иван с трудом великим поднял щепку... Щепку бросил... нашел другую, чуть
поболее, и сунул руку в печь. Подождал немного и вынул руку. Щепа горела.
Затем он слепо, как бы светя себе огнем добытым, добрался до двери....
Люди выходили из домов и шли за человеком, который медленно, осту¬
паясь и покачиваясь, прикрыв ладонью от ветра огонек, нес его туда, где
высились господские хоромы.
В следующий миг ужас дуновением единым обуял весь барский двор: заме¬
талась дворня, хлопая дверьми, забегали, крича, управители, заржали лоша¬
ди, спешно запрягаемые в кареты и повозки, кто-то куда-то поскакал верхом...
Иван шел, бережно неся перед собой горящую щепу, а за ним шла вся де¬
ревня: кто с вилами, кто с дрекольем, кто с серпом...
Усадьба разом занялась со всех концов.
Судорогой огонь метнулся, побежал по всем ее пристройкам и построй¬
кам. Разъяренные холопы на вилах и в руках тащили сено и швыряли его в
пламя, ловили всюду и лупили барских холуев.
В господском доме под ударами топоров и палок крошилась мебель,
брызгами летели зеркала, фарфор, хрусталь — все было ненавистно и унич¬
тожалось беспощадно.
Средь дыма, криков, звона, треска Иван метался по покоям с топором в
руке — искал злодейку.
Она же — леденея от ужаса, затравленной тварью — ползком из-под кро¬
вати.... прыжком от ширмы к шторе... вновь ползком — распатланная и оша¬
левшая — искала выхода... и не находила...
Пламя ворвалось внутрь дома, пожирая и разгромленное, и уцелевшее
еще. Люди кидались в двери, выбивали окна и прыгали из них.
Весь особняк пылал.
Немтыренко оттащили от огня и держали за руки.
Факелом живым вырвалась из полыхающего дома барыня и, будто про¬
летев по воздуху, с диким криком рухнула в пруд. Крик ее смешался с ре¬
вом пламени и ружейной пальбой.
Отряд солдат, теперь уж настоящих, тут и там сражался с крепостными.
Появились и конные усмирители с нагайками и палашами.
Расправа беспощадной была: крутили руки, били чем попадя, тащили за
ноги, за волосы. Кто мог, бежал, кто-то уже валился, сраженный пулей.
Пламя перекинулось в деревню — вспыхнули сразу две избы. Спасения не
было нигде — с дальней околицы шла цепь стрелков и, поминутно останав¬
ливаясь, давала залп.
Немтыренко шел сквозь все это безумие, не убегая и не прячась, — вос¬
паленным, цепким взором он будто искал кого-то.
Деревня же тем временем превратилась в вопящий ад. Сражение переки¬
нулось на улицу, в крестьянские дворы и на задворки. По полю бежали со
своим бесхитростным оружием мужики из соседних деревень. Навстречу
им стреляли и скакали всадники.
Ту, кого искал, Иван нашел около избы, из которой вынес он недавно го¬
рящую щепу. Она сидела, прислонясь спиной к бревенчатой стене, глаза ее
смотрели прямо на Ивана. Дым застилал ее и снова открывал. С топором в
опущенной руке застыл Иван. Лучезарный лик Елены был тих и недви¬
жим... Улыбка, чуть виноватая, покоилась на нем. Иван глянул чуть ниже
и увидел, как домотканная ее рубаха набухала кровью.
Два молодых солдата стояли с ним бок о бок, не в силах оторваться от ее
лица, от великой тайны, что свершалась на их глазах.
Подошел и третий, пожилой, распаленный схваткой, с кровоточащим
шрамом на щеке. И он застыл, увидев, как отлетают в загадочную глубь
темно-синих глаз две звезды, две искорки души...
И закричал Иван, сплавив в этом крике все горе и отчаяние свое.
— Не-ет!!! — разнеслось над миром, охваченным огнем.
На него набросились, пытаясь повалить, но он все рвался и рвался к ней,
и вновь кричал беспамятное:
-Нет! Нет!! Нет!!!
Буйная енисейская стремнина с грохотом ударилась в скалу, разлетелась
на мириады брызг и, круто развернувшись, вонзилась гулко в узкую и ка¬
менистую горловину. Беспорядочно забухали выстрелы — солдатские фи¬
гурки на скалистом берегу окутались далекими дымками.
Из кипящей, черной воды вдруг вынырнула голова. Ее тотчас же подхва¬
тило и понесло туда, где река, вырвавшись из скал, разливалась на солнце
бескрайним и слепящим серебром..
Вдогонку вновь сыпанули выстрелы...
С лицом, залепленным мокрыми полуседыми волосами, выбрался беглец
на пологий берег великой сибирской реки. Щиколотки и запястья его бы¬
ли стиснуты обручами кандалов, с них свисали змейки разорванных цепей.
Быстро кинув по сторонам одичалым цепким взглядом и не переведя еще
дух, он схватил тяжелый острый камень и сильными ударами принялся
разбивать оковы. Удары звонким эхом разносились окрест.
Неподалеку чиркнула о камни пуля и с осиным зудом улетела прочь. За¬
тем донесся звук выстрела.
Кандальник откинул волосы со лба и поднял голову. Лицо его перерезал
глубокий шрам, на лбу открылось давнее клеймо, единая для каторжников
империи визитка — «вор».
Сверху по течению реки приближались три лодки, а в лодках — люди с
ружьями.
Хищно рыкнув полубеззубой пастью, острожный вепрь ринулся в тайгу.
Вокруг него свистели пули...
Ломая ветки, в кровь раздирая кожу, продирался он сквозь чащу — по¬
дальше от людей...
Затем горстями ел бруснику, облепленный таежным гнусом...
И вновь бежал. Лес был бесконечен...
Хрипя, срываясь то и дело, лез по отвесной, будто перст великана, в небо
указующий скале.
Добравшись до вершины, он потрясенно огляделся: внизу — извилистые
ленточки могучих рек, а вокруг, куда ни глянь, тайга до горизонта...
Один над целым миром, навсегда один...
Беглец не выдержал: стоя на четвереньках, глухо всхлипнув, он завыл
по-волчьи...
В водах бурной таежной речушки каторжник боролся с рыбиной, то и
дело скрываясь под водой, которая кипела от темных, гладких спин —
рыба шла на нерест. Наконец он выбросил бьющуюся лососиху на берег,
вылез сам, камнем в два удара размозжил ей голову, брюхо разодрал и,
склонившись, торопливо начал пожирать икру. Но тотчас, будто взгляд
чужой почуя, поднял голову. Мимо на полузатопленном плоту, чуть на¬
кренившись, проплывала виселица. На ней покачивались, обдаваемые
брызгами, штабс-капитан от инфантерии и двое, судя по всему, поме¬
щиков. Лица всех троих были неразличимо разбухшие, почерневшие, в
роях мух.
Кандальник бросил рыбу и, собрав оставшиеся силы, побежал в ту сторо¬
ну, откуда прибыл знак...
Расковывали в кузне под навесом. Хохот, гвалт, всеобщее веселье цари¬
ли тут. Цепи и оковы звонко летели в кучу; одни, такие же, как он, тянули
руки к наковальне, другие, свободные уже от пут, ликовали, потирая кан¬
дальные мозоли.
Одноглазый мужичонка залез на бочку и, размахивая руками, будто кры¬
льями, орал:
— Ой, улячу!
У многих ноздри были вырваны, отрезаны уши.
Большая слобода гудела, будто улей. Пеший, конный люд сновал туда-
сюда. Казачьи шапки, шлыки, треухи, тюрбаны, позаимствованные треу¬
голки, голубые калмыцкие, рысьи башкирские, черные монашеские ками¬
лавки, мохнатые кавказские папахи, фески — кого здесь только не было!
Многоязыкий гомон заполнил все вокруг.
Вооружены все были абы как: кто копьем, кто пистолетом, кто офицер¬
ской шпагой, иным были розданы штыки, наткнутые на палки, а кто хо¬
дил и попросту с дубьем. Штаб восставших был переполнен разнолюдьем.
В обширнейшей бревенчатой избе толклись новоприбывшие — их воору¬
жали и заносили в списки.
— Как тебя, браток? — спросил веселый голос.
— Никак, — отвечал раскованный уже беглец.
— А хвамилиё?
— Забыл.
— Ха! Ну ты, видать, свое отведал, каторга, — бритоголовый пес — глаза
себе от черта переставил, рубаха так красна, что аж звенит! — блеснул бе¬
довым взглядом. — Коли без разницы, зовись Бесщастным. Тут все такие —
счастья зычут. Эх, плачет по нам плаха! — и трахнул по столу руками —
чуть не развалил его. — Пиши, косматый! — Писец-подьячий в черной ря¬
се макнул перо в бокал с чернилами.
— Пиши: Бесщастный Емельян, Емелька. Чай, помнишь Пугача? Аль и
его забыл?
— Его забудешь.
— То-то!
— Ну, Омеля, не журысь с похмелья, — приобнял Емельяна могучей дла¬
нью ушкуйник запорожский с длинным оселедцем на лысой голове. —
Пийшлы, уважу...
Вот она, лихая вольница желанная, красные деньки!
У крыльца две винные бочки — пей, кто желает, на крыльце две чугунные
пушчонки — для красы. Дверь распахнулась, и вот он — Емельян Бесщаст¬
ный, стриженный в кружок, в рваном армяке и татарских шароварах — ни
дать ни взять Емелька-вор оживший! — в руке играет сабелька кривая.
И — эх! Крест-накрест рубанул он воздух и с подъелдыком подмигнул
императрице, что была тут же, неподалеку.
Чучело Екатерины Алексеевны на небольшом «лобном» помосте видно
было отовсюду: государыня стояла на коленях со сложенными в проситель¬
ной мольбе руками, на груди — табличка, на табличке вкривь и вкось: «Пра-
ститя». Не перевелись еще таланты на Руси: лицо из теста выпечено, глаза —
две медные пуговицы, парик линялый — похожа и красива, глаз не оторвать!
— Найн, нет, я ничего не сделать!..
К приказной избе, то бишь к штабу, вели с полдюжины дворян. Все бы¬
ли угрюмы, шли, опустив глаза. Бесновался только чужестранец в дорож¬
ном платье и широкополой шляпе. Подозревая самое плохое, он непрерыв¬
но что-то говорил, доказывал, время от времени выкрикивая русские сло¬
ва: «Я иностранец... Я дурак сюда приехать... геогрфи... Я нравы изучать...
казнь нельзя!.. Я не ваш дворян... ферштеен зи?..»
— Аглийцкий паразит! — уверенно переводил другим пожилой казак. —
Пытает наши ндравы... Хочет, падла, жить... не наш, талдычит, кровопивец,
а ихний...
— Эй, мсье французское! — крикнул прямо в ухо незадачливому земле¬
проходцу здоровый лоб с серьгой в ухе. — Небось в своем Парыжу тыщен-
ку душ имеешь, а?
Чужестранец с испугу вытаращил глаза и жалко закивал.
-Я, я...
Процессия уткнулась в человека с лицом безжалостным и с саблей, что
стоял, расставив ноги, на крыльце. Сочтя его за главного, чужестранец бы¬
стро скинул шляпу, повалился в ноги и истошно закричал:
— Герр атаман! Я пользу приносить... — он лихорадочно выхватил из-за
пазухи блокнотик, дрожащими руками перелистал странички. — Я ноги
мыть и воду пить... — Еще перелистал. — Я свой в доску!..
Его пытались поднять с земли, а он вырывался и кричал:
— Бунт — это гут!.. Свобода — карашо!..
— Заткни хайло, Июда, четвертую! — хрипло молвил Емельян Бесщаст-
ный. — Вишь, вонюга — теперь он за свободу. За свободу — мы! — громко
сказал он на всю площадь. И продолжал еще увереннее и громче: — Ну что,
братва, головы буйные? Не пора ли нам кудрями-то встряхнуть?!
— Пора!!! — ответствовал ему тысячеустый крик.
— Свобода или смерть! — грудь его распирало от нахлынувшего счастья
единения.
— Свобода!!! — взревела площадь на всех российских языках.
И вздрогнула земля, и приняла на грудь свою атаку!
В сумерках предутренних грохочущим обвалом вырвалась в степь и за¬
полонила ее всю несметная, шальная вольница.
И не было степи этой ни начала, ни конца, как не было предела у нео¬
глядного, все сметающего порыва!
— На Москву!.. На Санкт!.. На бург!.. На Питер!..
Воздух рвался в клочья от крика, храпа, топота. И уторапливая зарю, все
быстрей, казалось, вращался огромный, тяжелый шар под согласными уда¬
рами копыт... Вот уже заполыхало небо... вот гигантский, дымящийся край
солнца выполз навстречу мчащейся лавине и осветил, покрасил лица всад¬
ников в один багровый цвет...
Ахнуло испуганно десяток пушек впереди, но звуки их тотчас захлебну¬
лись в громоподобном крике несущейся волны. Взметнулась сталь клин¬
ков, взмыли над редутом кони, сметая и давя все на своем пути.
Огненный шар плыл над землей, озаряя своим светом лица тех, кто не
знал теперь обратного пути. Вольный человек не раб! Емельян кричал за
всех, все за него кричали!
Прекратил свое существование и следующий редут...
Победоносно пролетели сквозь деревню. С крыш домов восторженно
кричали люди...
Отовсюду вливались в летящую тучу новые бойцы... Туча разбухала и
разбухала, глуша все криком, неся над собой сверкающий нимб стали...
Немо и яростно раскрылся рот боевого генерала, и вскинутая его рука
разрубила шпагой воздух.
Сотня пушек изрыгнула пламя навстречу конной лаве.
«Ура!» атаки удвоилось «ура!» военным, топот копыт смешался со свис¬
том ядер.
Снова залп!
Взвились со ржанием кони, теряя своих всадников, загромыхали ружья,
забили барабаны...
И снова залп! Ядра догоняли ядра. Кровавый, сизый от пороха и пыли ад
взвихрился на месте столкновения двух сил. Месиво из тел, лиц, лошади¬
ных морд заквасилось на огне. Снаряды до земли недолетали — прочь ле¬
тели руки, ноги, головы... Теперь, со смертью обручившись, Емельян отча¬
янно рубил налево и направо.
— Кроши капусту, будет что солить! — орал он, истово сверкая глазами. —
Гуляй, братва, до смерти доживем!
И снова залп!
Его рвануло в небо вверх тормашками, закрутило вокруг оси... в толику
секунды меняя лики, будто в последний этот миг перелистывая себя как
книгу позабытую, он вырвался из клубов дыма и полетел куда-то... Звуки
битвы отдалялись прочь, а он все летел... и вот уже, обессилев от полета,
стал падать сквозь замелькавшие навстречу облака... со свистом пушечно¬
го ядра врезался он в крону дуба и, ломая ветки, раздирая одежду в клочья,
рухнул наземь...
Грохнувшись о землю, он тотчас же вскочил. Дымящийся, черный от поро¬
ха, бешено вращая глазом, он еще махал обломком сабли, хрипя и озираясь...
Вокруг был тщательно ухоженный зеленый садик, весь в красных ябло¬
ках и золотистых грушах, с веселыми кустами смородины и клумбами
цветов.
От нарядного, будто игрушка, дома к нему бежала, опасливо вытягивая
шейку, девочка двенадцати примерно лет. На крыльце стояла в скромном
черном одеянии седая женщина. Человек в разорванном казачьем облаче¬
нии сделал шаг навстречу...
— О, майн гот! — всплеснула женщина руками и метнулась к нему, кри¬
ча: — Теодор! Ну, наконец-то!.. И обе — жена и дочь — со слезами заключи¬
ли его в объятия.
НЕГОЦИАНТ НЕМЕЦКИЙ ТЕОДОР С. ГЛЮК ЗА НЕОСТОРОЖ¬
НОЕ УЧАСТИЕ В АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ АКЦИЯХ БЫЛ
ВЫСЛАН ИЗ ПРЕДЕЛОВ ИМПЕРИИ РОССИЙСКОЙ НАВСЕГДА.
Эпилог
Фатерланд — отчизна. А именно — баварские предгорья и луга.
Садилось солнце и светом своим последним ласкало, золотило все ок¬
рест. Пейзаж, куда ни глянь, был райский, да и по заслугам — народ немец¬
кий всегда умел трудиться. Все тут было ухожено, все прибрано, все на сво¬
их местах: хлеб, налившийся полновесным колосом, желтел где следует;
виноградники зеленели на извечных своих местах; замки старинные не¬
движно высились там, где их поставили когда-то предки; шпили кирх, буд¬
то свечи в храме поднебесном, славили день уходящий.
Итак, солнце садилось, когда герр Глюк, вооружившись для прогулки
палкой, покинул свою скромную обитель, свой домик с садиком, что при¬
тулился на краю то ли деревни, то ли городка — в Германии порой не раз¬
берешь, где город, где деревня, — и, насвистывая что-то из местного фоль¬
клора, начал ежевечерний свой променад.
Одетый так, что не отличишь от прочих, он шел, скучно глядя по
сторонам, и в такт его шагам покачивались перья на его зеленой шля¬
пе.
Вот и дорога, ровным булыжником уложенная. Издали приближался
многокопытный цокот.
Крестьяне, бросив свои заботы в поле, торопливо шли к обочине, заранее
снимая шляпы.
И Глюк остановился с краю от дороги.
Высоковельможный цуг меж тем приблизился. Несколько карет возглав¬
лялись всадниками на черных лошадях. Люди низко поклонились.
Лишь Глюк стоял, опершись о палку. Ни снятия шляпы, ни поклона не
последовало.
Из передовой кареты высунулась рука и махнула беленьким платочком.
Весь поезд остановился.
Всадники изумленно глянули на невежу, и один из них, коня на край до¬
роги выпятив, легким движением стека приказал снять шляпу.
Ничто не дрогнуло в лице стоящего, лишь в глазах такое мелькнуло что-
то, что разъярило конный авангард.
— Снять шляпу, скот!
— Шляпу сымают, когда в нее горох насыпают, — не меняя позы, ответил
Глюк.
— Что?! — придворный хмырь взъярился пуще прежнего и двинул ло¬
шадь на нахала.
Тут из кареты полыхнуло пламенем, и шляпу будто ветром сдуло с сума¬
сбродной головы.
Весь поезд довольно захохотал и двинул дальше.
Крестьяне во сто недоуменных глаз смотрели на человека, который из-за
глупого упрямства чуть не поплатился жизнью. Рукояткой палки, как крю¬
ком, подцепил Глюк шляпу, подбросил ее в воздух, поймал и вновь водру¬
зил на голову, так и не согнувшись ни на йоту. А потом Глюк запел, унесясь
взором за горизонт.
— По Дону гуляет... — запел он громко, — по Дону гуляет... — запел он
раздольно, — по До-о-ну гуляет, — рванул он во всю ширь своей души, —
казак молодой!..
И тотчас тысячеголосый русский хор подхватил удалую песню.
Так они пели, голос в голос, складно, слитно, не жалея сил.
А прихожане местного собора в этот день впервые за всю жизнь не услы¬
хали колокола, что немо култыхался, зовя их на вечерню. Возвысив гордо
голову, Глюк пел и пел не умолкая.
ХОТИМ ЗАМЕТИТЬ, ЕСЛИ КТО-ТО ВДРУГ НЕ ЗНАЕТ ИЛИ ЗА¬
БЫЛ, ЧТО СЛОВО «ГЛЮК» ПО-НЕМЕЦКИ ОЗНАЧАЕТ «СЧАСТЬЕ».
1982 г.
«И от тебя зависит так мало
и так много»
Замысел «Агонии» — не мой. Это было предложение Пырьева. Иван
Александрович руководил в то время Вторым творческим объединением
«Мосфильма», до этого был директором киностудии, организовал союз ки¬
нематографистов. Постановщик знаменитых «Трактористов», «Кубанских
казаков»... В общем, личность, что и говорить, была одиозная. Мы с Лари¬
сой тогда совсем молодые были, недавно окончили ВГИК и работали в
Третьем — роммовском — объединении. И то ли мы показались Ивану
Александровичу какой-то приметной парой, то ли еще почему, но он стал
нас привечать.
Однажды вдруг приглашает меня в свой мосфильмовский кабинет, кото¬
рый сейчас носит его имя, и говорит:
— Елем, — так он меня почему-то называл, — слушай, я тут посмотрел
твою последнюю картину «Похождения зубного врача», она мне понрави¬
лась.
Я очи опустил, потому что понимаю — никак это не могло ему понра¬
виться. Полуусловный фильм-притча, это же не его искусство.
А Пырьев продолжает:
— Я тут начну скоро снимать «Братьев Карамазовых». Хочу твоего ис¬
полнителя, Мягкова, на роль Алеши взять.
Я говорю:
— Что ж, Иван Александрович, по-моему, годится. Он — светлый персо¬
наж, да и личность светлая. Да, признаться, Алешу-то мы и играли.
— Ладно, я ведь тебя не за этим звал. Послушай, что скажу. (Он был под
себя немножко смотрящий.) Тут недавно Анатолий Эфрос завалил один
проект.
— Какой?
А сам думаю: «Это же сам Эфрос!»
— Мне его порекомендовали, и я пригласил его снять фильм по пьесе Алек¬
сея Толстого «Заговор императрицы». Она коротенькая, про Распутина, про
царя, про маму-императрицу. На, прочти, — и протягивает мне книжицу.
На следующий день прихожу к нему.
— Ну что?
— Иван Александрович, спасибо. Но снимать это я не буду. Здесь же все
в упор написано — дешевка.
— Согласен. Ну, а персонаж-то, персонаж какой?!
И вдруг я вижу, что передо мной сидит будто сам Распутин и рассужда¬
ет о Распутине.
— Спешить не станем. Прочти в библиотеке еще шесть томов «Заседаний
комиссии по расследованию государственных преступлений Временного
правительства».
Через неделю я вновь в его кабинете. Вхожу, и Пырьев говорит мне тихо¬
тихо:
— Я в курсе, что ты погиб. После «Похождений зубного врача» хода тебе
все равно не будет. (А уже начинались брежневские времена, и была орга¬
низована идеологическая комиссия.) Через год празднование годовщины
революции. Сделай что-нибудь юбилейное.
— На это я не пойду.
— А фильм о Распутине? Личность ведь грандиозная! Ты что, не понима¬
ешь, что за этим стоит?!
— Да, но кто же нам даст снять такой фильм?
— Это я беру на себя. Подыщи сценариста...
Я сговариваюсь с Семеном Лунгиным и Ильей Нусиновым, и мы втроем
уезжаем в Подмосковье писать сценарий. Он тогда назывался «Анти¬
христ». Схема была такая: существовало как бы два Распутина. Один — ре¬
альное историческое лицо, и все, что с ним происходит, — достоверные
факты. А другой — Псевдораспутин — два сорок ростом, мифический герой
(его и другой исполнитель должен был играть). Это как бы народное пред¬
ставление о Распутине, воплощение сказки про сверхчеловека при дворе.
Ходили же легенды, будто бы у царицы в спальне стоял горшок, скрывав¬
ший подземный ход, по которому Распутин пробирался в Германию с кай¬
зером совещаться. Байки, что он немецкий шпион и прочее.
Мы уже натуру выбрали для съемок, и казалось, что все в порядке. Я, во
всяком случае, испытывал необычайный душевный подъем и не понимал
еще, что атмосфера в государстве переменилась. И вот возвращаюсь в
Москву с готовым сценарием. Приношу его Пырьеву, показываю свои рас¬
кадровки.
— Вот, — говорю, — финал... Распутина убили, и должен быть эпизод —
зима, Петроград, два извозчика сидят на дровнях, сокрушаются: «Единст¬
венный мужик до царя дошел, и того убили. Бросили в Неву». — «Да ведь
он жив!»
И идет сцена — миф, который рассказывает извозчик извозчику. Мы ви¬
дим мост через Малую Невку, что на выезде из города, в сторону Финлян¬
дии. На мосту стоят царский поезд, автомобили, люди, охрана. На берегах —
полно женщин. А посреди заледенелой реки — прорубь. Мужики выпили¬
вают лед, поднимают огромную глыбу. И в этом кубе льда все видят Распу¬
тина с раскинутыми руками. (А ведь была же легенда, и я читал об этом в
архиве, что он еще сорок минут дышал подо льдом.) Бросаются женщины,
разрывают на себе платья, чтобы отогреть его грудью. Лед оплавляется, и
мы видим Распутина, лежащего с открытыми глазами, — он смотрит на нас.
Таков финал фильма по сценарию. Пырьев выслушал и говорит:
— Елем, ну ты что, это серьезно?
— Нет, Иван Александрович, это так, чтобы заморочить голову Госкино.
— А как же по-настоящему?
— Ладно, — говорю, — только вам расскажу. Все будет так же. И прорубь,
и царский поезд, и дамы... А из этой проруби (увлекся, леплю с потолка!)
высовывается гигантский фаллос, и Распутин по нему, как по шесту, выби¬
рается из реки, и дамы бросаются... И дальше все то же.
— И ты это серьезно?
— Ну, конечно.
— Ладно, иди.
В общем, Пырьев меня отпустил тогда, а сам поехал в Госкино и фильм
остановил. Видно, решил, что я не в своем уме. Недопонял, конечно, юмора.
Спустя годы со мной повторился подобный случай. Мы с Виктором Ме¬
режко за одиннадцать дней написали сценарий по незаконченному рас¬
сказу Васи Шукшина «А поутру они проснулись». Нам так весело было.
Сидели на какой-то заброшенной даче и писали. Действие происходит в
вытрезвителе. Но в таком, который как бы на всю Россию распространял¬
ся. А надо сказать, вытрезвитель — место веселое. Там же всю ночь кон¬
церт, стихи читают, песни поют. Все друг у друга просят закурить. И все го¬
лые. У нас в картине Высоцкий должен был сниматься. Шукшина мы, ко¬
нечно, немножко переписали. И вот я прихожу к Льву Оскаровичу Арн-
штаму, который после Пырьева руководил Вторым объединением, челове¬
ку очень доброму, любителю и великому знатоку музыки. И рассказываю о
нашем сценарии, о том, какой финал мы придумали.
— Это должно быть такое киностихотворение про первый снег. Самый
первый, который опускается на город. Его собирают в грузовики, отвозят к
Москве-реке, на кладбище снега. Его клюют вороны. И должна была зву¬
чать великая, по-моему, песня. А утром эти люди выходят из вытрезвите¬
ля. Кого-то ждет во дворе собака, кого-то дети, кого-то никто не ждет. А им
нужно срочно выпить, срочно! И они ищут — где? Бродят по городу и вот
наконец находят очередь, становятся. А идет первый снег. Падает на голо¬
вы, и они словно седеют на глазах.
И я говорю: «Лев Оскарович (вновь леплю с потолка, в том же самом ка¬
бинете), финал должен быть вот какой. Эти люди стоят, стоят долгие часы
в очереди, приближаются постепенно. И вдруг поднимают глаза И что они
видят?.. «Ленин». Мавзолей! Не в ту очередь стали! Хороший финал? Не
туда стали!» На следующий день фильм закрыли. Одно дело — рассказы¬
вать, вспоминать, а другое — поступать. Трудно передать, что я переживал
тогда. «Агония» — это моя первая большая картина. Правда, были уже и
«Похождения зубного врача», и «Спорт, спорт спорт», и «Добро пожало¬
вать...». Но это такие, скажем, обычные фильмы. А здесь — гигантский мас¬
штаб, гигантское историческое произведение, где надо было переселиться
в другую эпоху. И такой персонаж в центре всего. И царь, царица — тоже
огромная ответственность. И столько лет! Восемь лет я добивался этой
постановки!
На роль Распутина пробовались четверо. Это все мои любимые актеры:
Евгений Евстигнеев, Анатолий Папанов, Леонид Марков. И рядом с ними
был никому не известный артист Театра имени Ленсовета Алексей Пет¬
ренко, которого и я-то знал лишь потому, что был хорошо знаком с этой за¬
мечательной труппой, дружил с актерами, вообще дружил с театром.
Впервые я увидел Петренко в спектакле «Укрощение строптивой». Он
играл слугу. Потом Игорь Владимиров пригласил меня посмотреть
«Преступление и наказание», где Петренко был в роли Свидригайлова.
Артист второго плана, но в его исполнении таились настоящая мощь,
энергия. Я уже тогда это почувствовал. И все же... На пробы вызвал четве¬
рых претендентов. Зачем я мучил Евстигнеева, зачем мучил Папанова, это¬
го я до сих пор не понимаю... Просто любил их. Но ведь нельзя, когда лю¬
бишь, огорчать. Об этом сожалею... Киноартистом Петренко был абсолют¬
но неопытным. Снялся до того лишь в какой-то массовке в «Короле Лире»
Козинцева, там его и не видно было в шлеме и доспехах. Для него это было
первое большое испытание в кино. Но я вообще смотрю на пробы, как на
испытание. Может быть, поэтому никогда не использовал на актерских
пробах текст из сценария. Писал на этот случай сам или с автором специ¬
альные отрывки, часто даже обострял текст, проверяя таким образом ис¬
полнителя на выносливость. Для «Иди и смотри», например, написал сце¬
ну, какую неподготовленный мальчик, который должен был играть глав¬
ную роль в картине, просто не мог бы сыграть. Я знал это и все же испыты¬
вал его. Треснет или нет? Слава богу, выдержал.
Пробы мне очень хорошо запомнились. Они проходили в гигантском па¬
вильоне на «Мосфильме». У нас там была небольшая выгородка, постави¬
ли декорации, камеру. Марков приехал позже других.
— Только ничего мне не говорите, — встал на колени. — Я сейчас приго¬
товлюсь и вам моргну, когда надо будет включить камеру.
Сняли один дубль, и вижу — гениально! Просто гениально! Даже прояв¬
лять не надо, как говорится. Оператор Леня Калашников со мной согла¬
сился. Петренко же сыграл неплохо. Но рядом с Марковым, конечно, про¬
валился. Что-то не так сделал, не очень выразительно. И тут для меня на¬
чалась большая драма. Я был знаком с родной сестрой Маркова — Рим¬
мой. Она тоже актриса, снималась у Ларисы в «Крыльях». Замечательная
женщина, такая мощная. И с этого момента она стала почти ежедневно
приезжать ко мне на студию, звонила, твердя лишь одно: «Леня умрет, ес¬
ли ты не дашь ему эту роль. Он уйдет из театра, он бросит все в этой жиз¬
ни!» Я ее успокаивал, искренне признаваясь, что просто потрясен его про¬
бой. И решил тогда — играть Распутина будет Марков. И уже успел убе¬
дить в этом художественный совет объединения. И вот... до сих пор не мо¬
гу понять, что случилось.
Мы снимали Смоктуновского. Он пробовался на роль царя. Достали ста¬
ринные газеты, фотографии. Иннокентия Михайловича загримировали,
бородку ему сделали. Поставили письменный стол, кресла и стали разыг¬
рывать импровизированный эпизод. Смоктуновский царствовал на пло¬
щадке. Этому актеру режиссер не нужен, он сам понимает, что ему делать.
Распоряжается: камеру поставьте здесь, приборы унесите... Помню, меня
даже увлекло такое положение дел. Сижу, наблюдаю... А напротив, в под¬
спорье (я, когда с артистами репетирую, обязательно беру кого-то в под¬
спорье, чтобы подыграл), сидел Леша Петренко. К счастью, мы догадались
поставить для него вторую камеру. Так, в конце концов Петренко, который
молча сидел, просто донага раздел Смоктуновского. Я увидел, что передо
мной персонаж, которому и говорить ничего не надо. Решил повторить
пробу. Ошибиться в выборе исполнителя главной роли — для меня это бы¬
ла бы драма чудовищная! Пригласил актеров. Марков наотрез отказался.
Петренко приехал, мы сняли его повторно, и, надо сказать, сыграл он куда
лучше, чем в первый раз.
Мне жутко нравился Марков. В его исполнении был характер, и к тому
же он похож на Распутина. И красив! По-народному красив... И все же я
принял тяжелое решение... Взять на роль Петренко. Призываю его, Пет¬
ренко, приезжает. Сидим в моем кабинете.
— Алексей Васильевич, — говорю, — я беру вас на эту роль. Надо подпи¬
сать договор.
И вдруг слышу:
- Не буду.
— Чего?
— Не буду подписывать. Начну сниматься. Если все пойдет хорошо —
подпишу.
Я кричу:
— Как? Мы же в Сибирь едем! Экспедиция под Тюмень! Я даже билет
вам на поезд не могу взять без договора!
Петренко стоит на своем. Довел меня до истерики.
Не подпишу, и все. Я не киноартист и ваших обстоятельств не ощущаю,
извините.
— Но это же миллионное дело!
По тем временам миллион, данный на фильм, был огромной суммой. И он
не подписал. Так и поехали без договора. И сразу же начало случаться что-
то немыслимое. То у него зуб заболел, то еще что-то. У меня сохранилась
фотография огромная, где я руками, пальцами, прямо на съемочной пло¬
щадке выдираю ему зуб.
Вокруг меня было множество всяких гипнотизеров, магнитизеров. Я по¬
нимал, что связан с этой сферой. И даже хотел снять эпизод с участием
Вольфа Мессинга. Вольф Григорьевич — совершенно очаровательный че¬
ловек. Мы сдружились с ним, я ездил на его концерты. Он действительно
делал черт знает что.
И он сфотографировался тогда с Лешей Петренко. Получился их двой¬
ной портрет. Мессинг подарил его Леше и сказал: «Носи, и все у тебя полу¬
чится». Этот портрет стерся у Петренко на теле. В труху превратился.
Правда, эпизод этот снять мы так и не смогли. У нас просто не хватило на
него пленки (ведь фильм снят с одного дубля, рекламный ролик было не из
чего делать!). Но самое драматичное было потом. На съемках Петренко не¬
ожиданно заболел. С ним случился тяжелый сердечный приступ. Он упал,
и уже пузыри пошли изо рта... После этого случая отказался сниматься ка¬
тегорически. А мы еще не сняли главных сцен. Подлечили его, конечно. Но
все же человек, у которого хоть раз заболело сердце, живет уже с ощущени¬
ем травмы. Врач-кардиолог, лечивший Петренко, сказал мне: «Поступай
как знаешь. Ты довел его до этого состояния». А мне снимать надо! Гото¬
вить вторую экспедицию. А это гигантское хозяйство. Я тогда еще не очень
сознавал, что для людей опасность представляю. Знал лишь, что должен
возобновить съемки, иначе фильма не будет.
Я Петренко обхаживаю, обглаживаю: «Леша, Лешенька, дорогой. Мы
только проходики какие-нибудь легкие снимем».
А было начало марта, еще снег лежал... Север. Ленинград. И вот мы при¬
езжаем в Царское Село, в Екатерининский дворец.
Петренко спрашивает: «Что будем делать?»
— Нужно в воду окунуться.
— Как? О чем вы говорите? У меня же сердце больное. Для меня охлаж¬
дение смертельно!
— Вот стоит «Волга» нагретая, с врачами, вас спиртом разотрут.
— Вы же говорили — проходики?!
А я ведь тогда какое решение принял? Или я его вылечу, или он всю
жизнь будет с комплексом больного мучиться. Это я уже без докторов, сам
решил. Но я брал на себя такую ответственность. А вдруг помрет?
— Алексей Васильевич, — говорю, — на вас же вся группа смотрит! Сейчас
из Екатерининского дворца принесут бидон с теплой водой, нальем лужу.
Это все наивно было, конечно. Там такая лужа! И март, и минусовая тем¬
пература. Наконец несут бидон, выливают.
— Да вы что, смеетесь, ребята? Господин режиссер, вы хотите меня
убить?
Я говорю:
— Ваш дом — через парк проехать.
Вокруг стоят доктора, медсестры со шприцами наготове. А я в белом ту¬
лупе, показываю.
— Леша, вот вы медленно, как на рапиде, становитесь на колени и потом
ложитесь. (Я по-брехтовски эту сцену хотел сделать, низвести героя с вы¬
сот до самоуничижения.)... И валяетесь. Но только вот отсюда и досюда,
справа налево.
Все собравшиеся в стрессе пребывают: болезнь есть болезнь. Командую:
«Мотор» — и Петренко медленно спадает, погружается в эту ледяную жи-
жу, в грязь. Ужас это было видеть. И вдруг поворачивается в другую сторо¬
ну. А камера уже наведена, и фокус, и ассистент панораму повел. И тут опе¬
ратор, Леня Калашников, останавливает съемку. С Петренко истерика.
Докторицы ведут его в машину, сняли дерюгу, отмывают, обтирают. Он
кричит: «Поехали! Скорее!» И тогда я подхожу к водителю (а он без моего
пальчика никуда не двинется) и велю оставаться на месте.
А Петренко визжит, умоляет:
— Домой! Погибаю.
Я повторяю:
— Стоп. Мы же не сняли. Придется повторить сцену.
— Да я же умираю!
— Но ведь еще не умерли...
Я сам своими руками организовал весь этот ужас. Вместо легких прохо¬
диков устроил актеру это купание, эту ледяную баню. Правда, в результа¬
те ему после этой съемки стало лучше. Он преодолел что-то в себе. Но
ведь и мне надо было переступить какой-то порог. Надо же было на это ре¬
шиться.
Были и другие сложности. После Сибири мы приехали в Ленинград, и
первая же съемка — в Государственной думе. А там три тысячи человек.
Всех надо одеть, загримировать. И еще... я знал, что в зале есть несколько
человек, которые были на подлинном заседании Государственной думы
еще до революции. А у нас — Катин-Ярцев. Он хотя и похож на Пуришке-
вича, но эти люди видели самого Пуришкевича, слышали его выступления
в этом зале. Или, к примеру, сцена, в которой баронесса Н. решает отдать¬
ся Распутину, чтобы спасти мужа. А ей, по сценарию, надо еще пробиться
к нему, раздеться, грудь обнажить. Это сейчас все попросту делается, а в те
времена обнажить грудь перед камерой — на это не каждая женщина могла
решиться. Просто обнажить грудь, на полсекунды!.. Нелли Пшенная, кото¬
рая в результате сыграла эту роль, потеряла на съемке сознание. Любая ме¬
лочь требовала преодоления. К тому же компания вокруг меня собралась
хотя и очень талантливая, но сложная. Плюс болотный ленинградский воз¬
дух, испарения. Мы все тогда какие-то дурные были. Жили в гостинице
«Советская». А там не Нева протекает, а какая-то параллельная ей река
или канал. Помню, однажды ночью стою на набережной и понимаю, что
сейчас брошусь, ничего не могу с собой поделать. Не бросился. Еще был
случай. С Шавкатом Абдусаламовым, художником картины, мы ходили к
одной его знакомой, совершенно очаровательной женщине, специалисту
по шляпам. У нее была мастерская на чердаке типичного петербургского
высотного дома. И там был выход на крышу. И, естественно, если есть вы¬
ход, то выходишь, и мы выходили на чердак. Покатая крыша. А внизу —
двор, колодец петербургский, глубокий, без зелени, и церковные купола.
И вот однажды меня вдруг неудержимо потянуло вниз. И дело было, ко¬
нечно, не в этой крыше и не в золотых куполах. Это все, как говорится,
предлагаемые обстоятельства. Просто я уже с собой жить не мог.
...Стали смотреть отснятый материал, и все мне не нравится. Чувствую,
что мне это все не по плечу. Тогда и случился в моей жизни первый по-на¬
стоящему серьезный кризис. И тогда я осознал, кто у меня жена. Лариса су¬
мела меня поддержать, чувствуя, в каком я пребываю драматическом наст¬
роении, и просто поддержала. Посмотрела материал, а мне очень важно бы¬
ло ее мнение, и говорит: «Э, ребята, это не «опера днем». (Так воскликнул
Довженко, когда увидел «Ивана Грозного» Эйзенштейна.)
Фильм закончили в самом конце 1974 года, более двадцати лет назад.
И вот Филипп Тимофеевич Ермаш посмотрел только что отснятую карти¬
ну «Агония». Это было в директорском зале на четвертом этаже, в малень¬
ком актовом зале для начальственных приемов. Помню, мы ждали его в ве¬
стибюле. И вдруг Ермаш появляется в совершенно шальном состоянии.
Мне почему-то запомнилась первая его фраза: «А где же заговор императ¬
рицы?»
— Какой заговор? Я совсем про другое снимал.
А сам думаю: неужели он все забыл? Он ведь сам мне говорил, что рис¬
кует карьерой, давая нам возможность завершить «Агонию», что я должен
работать по-крупному. Но разговор на этом не закончился.
— Слушай, будет заседание Политбюро. После заседания члены Полит¬
бюро обычно смотрят какую-нибудь новую картину. Ну-ка, сделай мне
копию.
— Филипп Тимофеевич, у меня черновая запись, несовершенный звук.
— Какой звук? Делай, что говорю, я же их никогда потом не соберу вме¬
сте. Будут один на один смотреть со своими тещами и женами по дачам.
А я, непреодолимый, неуемный, говорю:
— Нет, я не успею.
И уехал на юг. Мой директор одновременно работал на другой картине,
снимавшейся в Абхазии, и я поехал к нему на несколько дней. Вечером был
на пляже, пустынном, каменном. Вдруг приносят телеграмму — Шукшин
умер. А я его так любил... И было так солнечно. И тихое море...
А с фильмом все было более или менее нормально. Мы усовершенствова¬
ли звук, и 12 апреля 1975 года картина была принята по высшей категории.
Нам выплатили деньги (надо отдать должное Госкино). И более того, меня
даже пригласили в Кишинев работать в жюри Всесоюзного фестиваля. А по¬
том был фестиваль в Москве. Московский кинофестиваль 1975 года. Приеха¬
ли друзья, говорят: «Покажи фильм-то». А я не могу, фильм лежит в сейфе у
министра. Спрашиваю у Сизова Николая Трофимовича, что происходит.
— Дела плохи. Показывать «Агонию» нельзя. Но знаешь, фильм хотел бы
посмотреть Иштван Сабо (совершенно очаровательный человек, имеющий
одинаковые имя и фамилию с известным венгерским режиссером, тогда
председателем венгерского Госкино). Давай организуем просмотр для
очень узкого круга. Ты представишь картину...
Я обрадовался. И сболтнул нечаянно об этом показе Анджею Вайде в ре¬
сторане гостиницы «Россия». А днем прихожу на «Мосфильм» в первый,
репрезентативный зал с мягкими креслами. Переводчик уже на месте, не
говорящий по-русски Сабо — тоже. Начинаем просмотр, и вдруг подъезжа¬
ют два «Икаруса». Все избранные гости фестиваля во главе с Анджеем
Вайдой! Сизов ничего не понимает, смотрит на меня, я смотрю на него и
только руками развожу.
— В чем дело?
Я говорю:
— Не знаю.
А это Анджей Вайда собрал всех и привез на «Мосфильм».
И вот сидит министр, сидит венгерский переводчик (ведь заказывали
же). И — полный зал народу. Так и смотрели под венгерский перевод. Вот
такой был первый просмотр. А потом вышел американский журнал «Нью¬
суик», в котором было написано, что вновь что-то странное творится в
России, опять запретили два фильма: «Зеркало» Тарковского и «Агонию»
Климова. А кто запретил? Почему? Насколько нам известно, сам Бреж¬
нев. Просмотрев картину на даче в Кунцеве, задал вопрос, просто спросил:
«А зачем?» А вопрос поняли как ответ. Ну действительно, зачем нам такой
фильм? И судьба картины была решена. Все фестивали мира, включая
Каннский, просят прислать картину, говорят: «Дадим Гран-при»! Но нет.
Почти десять лет «на полке». Десять лет ожидания, неопределенности.
— Ты посмотри, сколько у меня на столе книг стоит, — говорил Ермаш. —
Историю перечитываю.
И вновь и вновь просил убрать какой-нибудь кадр. Я до сих пор жалею,
что вырезал сцену в ресторане из первой серии: лысого мужика, пьяного
вдребезги, в абсолютно гладкую лысину которого воткнута вилка. Его вы¬
водят из ресторана, а он, веселый, кричит: «Шампанского и дам переме¬
нить!» Ермаш говорит мне: «Я тебя умоляю. Выброси».
А что в этом кадре такого? Ну, загулял человек, ну, вилкой ему угодили
в голову.
— Я тебя умоляю... Тебя член Политбюро просит!
Какой?
Правда, потом Ермаш согласился оставить кадр в фильме. Но он мне
самому к тому времени разонравился, сдуру. Еще была сцена у город¬
ской фрейлины Никитиной, дочки коменданта Петропавловской крепо¬
сти. У нее в доме Распутин устраивал свои оргии, собирая целый гарем де¬
вушек. И в картине был коротенький, метров пятнадцать, кадр, где он вы¬
гоняет их раздетыми на улицу, и они бегут через Неву. А на заднем плане
виден Зимний дворец... Хорошо было снято. Но мне заявили, что с этим ка¬
дром фильм просто уже никогда не выйдет. Видно, «наверху» эти сцены
кто-то на свой счет принял.
Сто раз приходилось возвращаться к таким разговорам... До сих пор ка¬
юсь, что отказался от финала. Это эпизод похорон Распутина. Мне хоте¬
лось сделать эту сцену очень строгой. Вот — тело (чучело, разумеется, по¬
тому что Петренко после всех потрясений, которые пришлось ему пере-
жить на этих съемках, конечно, не лег бы в гроб). Крупный план, средний.
Вот — священник у гроба, который с ненавистью отпевает этого «гада».
Вот — царица, Вырубова, царь, рядом дочери. И стоит мальчик — цесаре¬
вич, которого придерживает, почти прикрывает огромная рука матроса-
няньки. А мальчик, он точно из фарфора. Оглядывается, смотрит на отца
и вдруг поворачивается на какой-то тревожный звук. И мы видим его
профиль, который мог бы быть напечатан потом на всех медалях, моне¬
тах. И широкое, заснеженное поле, по которому бегут, надвигаются ото¬
всюду какие-то странные существа: гиганты, карлики, немыслимой красо¬
ты юродивые... Выглядывают из-за плеч солдат, держащих строгую цепь.
А дальше появляется царица и с ней Вырубова. Они смотрят в глаза этим
людям, ища и не находя нового Распутина.
Так вот этот фрагмент я тоже вырезал. Сам, своими руками! И как цари¬
ца подходит к саням и кричит с сильным акцентом:«Ненавижу! Ненавижу
эту страну!» Этого в фильме тоже нет.
Помню, когда мы снимали финальный эпизод, поставили две камеры,
чтобы сэкономить время. Одну — на месте похорон, а другую — невдалеке,
за пригорком. Мне необходимо было согласовать с оператором точку съем¬
ки, ракурс. А поскольку я обучался в свое время верховой езде, решил от¬
правиться туда на лошади. Думаю, и с оператором переговорю и заодно по¬
радую свою любимую съемочную группу. Пусть посмотрят, как господин
режиссер въезжает на коне. А это был март — заледенелое поле, дорога шла
под уклон. Лошадь понесло, и я так и пронесся мимо на этой скользящей, с
расползающимися ногами кобыле. Но это так, деталь. Настоящее потрясе¬
ние меня еще ждало.
Во время работы над картиной я прочел тонны литературы, тонны! Про¬
вел в архивах много месяцев. Казалось, что знал о Распутине все. И вот в
день, когда я считал работу завершенной, ко мне в руки попала маленькая
книжечка. Автор — Евреинов, знаменитый театральный режиссер. Называ¬
ется книжечка «Тайна Распутина». И там было написано все, до чего я сам,
своими мозгами дотягивался (а они у меня трещали!). Лишь догадывался
о многих вещах...
Я настолько остро ощущал собственное несовершенство! Вот, к примеру,
эпизод. Избитый священниками, отрекшийся, один в пустой квартире,
Распутин надевает на себя грубую хламиду и пешком, как пришел, идет по
Петрограду в Царское Село. И дальше следует сцена, в которой он валяет¬
ся в грязной весенней луже, это — унижение до крайности, чтобы потом
грязным, мерзким, промокшим явиться в спальню к царице... Так Распутин
приходит к очередной своей победе. Для меня же эта сцена стала роковой.
Какой она должна бы быть? Вот сидит царица, делая вид, что приболела,
или в самом деле больна, вот Вырубова, царь — три человека. И входит чет¬
вертый — Распутин. Камера должна не отрываться от его лица! Следить на¬
столько пристально, чтобы сидящие в зале почувствовали, что это произо¬
шло, камера оборачивается, и вы понимаете, что случилось с теми людьми,
которые были рядом, какое потрясение они пережили. Но нет! Я занялся
внешними эффектами, монтажом, какими-то монтажными стыками. По¬
нял, что проиграл эту сцену почти сразу же. Но на второй дубль рассчиты¬
вать не мог... На следующий день после окончания съемок я понял, что про¬
играл фильм. Даже решил написать резкую критическую рецензию на соб¬
ственную работу. Но до этого просто не дошло. Фильм прикрыли. Накры¬
ли свинцовым одеялом на много лет. Но комплекс неполноценности, он-то
остался. Стремление снять человека в сверхсостоянии, снять необъясни¬
мого человека, необъясненного, непонятого. Заглянуть в глаза в момент,
когда эти глаза выражают нечто, что невозможно передать словом. Может
быть, поэтому спустя много лет я затеял фильм «Иди и смотри»... Но если
Алексею Васильевичу, с которым мне пришлось работать на «Агонии», бы¬
ло тридцать восемь-тридцать девять лет, то мальчишке, снимавшемуся в
«Иди и смотри», было четырнадцать, только четырнадцать. У меня сохра¬
нилась запись проб. Просто пробы грима, снятые на видеокамеру. Но что в
глазах у этого мальчишки! Я смотрю и сам не понимаю, что это такое. Ре¬
зиновый клей, морщины на лице... ведь ему двести лет должно было быть,
этому мальчику. Оператор снимает абсолютно механически, он понимает,
что именно так и надо снимать. Но вдруг при помощи кино мы открываем
нечто, еще немножечко, пусть совсем чуть-чуть узнаем про человека, когда
смотрим на это лицо. Оно точно белый лист, а я на нем пишу. Но и белый
лист — произведение природы. До него нельзя дотронуться сухой рукой.
Надо полюбить, пригубить, прежде чем коснешься его отточенным каран¬
дашом. И от тебя зависит так мало и так много: что ты на нем напишешь и
что от тебя останется.
«Искусство кино», №7, 1996 год
Запись и подготовка материала О. Алдошиной
«Агония»
Документальная хроника
В бывшем архиве ЦК КПСС (ныне Центр хранения современной доку¬
ментации) недавно рассекречены документы отдела культуры ЦК за 1968 -
1981 годы, относящиеся к истории бесконечных исправлений и переделок
фильма «Агония» Элема Климова. Как известно, первый вариант сценария
был представлен киностудией «Мосфильм» в Госкино еще в 1966 году с
положительными оценками И.Пырьева, М. Ромма, Л. Арнштама и вклю¬
чен в план производства на 1968 год. В начале 1968 года Э. Климов присту¬
пил к съемкам, но неожиданно для него уже 9 апреля того же года работа
была прекращена по указанию Госкомитета по кинематографии при Сове¬
те Министров СССР. 14 апреля режиссер обратился с письмом к секрета¬
рю ЦК П. Н. Демичеву, в то время курировавшему кинематографию стра¬
ны. В письме Э. Климов доказывал необходимость продолжения съемок,
просил о личной встрече. По указанию Демичева отдел культуры ЦК за¬
просил отзыв Госкино о сценарии кинофильма «Агония». В ответе за под¬
писью председателя Госкино А. В. Романова говорилось:
«В сценарии И. Нусинова и С. Лунгина «Агония», получившем это назва¬
ние после переработки ранее представленного в Комитет студией «Мос¬
фильм» и отклоненного Комитетом сценария «Антихрист», — рассказы¬
вается о последних днях Российской империи и правящей верхушки цар¬
ской России. Для решения этой темы авторы избрали жанр трагедийного
фарса, для чего прослоили реалистические сцены из жизни «высшего обще¬
ства» и царской семьи эпизодами полу фантастическими, в которых про¬
стые люди как бы комментируют события со своей, народной, точнее —
«простонародной», точки зрения, с присущими таким комментариям
преувеличениями.
В сценарии «Агония» излишне много уделяется внимания фигуре Распутина,
но не показаны истинные причины крушения царской империи. Авторы по су¬
ти дела обошли тему нарастания революционной ситуации в России в конце
1916 и в начале 1917 годов. Разработка этой темы в широком плане, видимо, и
не входила в задачу авторов. Но совсем отойти от нее, как это сделано в сце¬
нарии, было бы неправомерно при рассмотрении исторических событий, обус¬
ловивших крах Российской империи.
Следует отметить и некоторые другие просчеты, имеющиеся в сценарии
«Агония».
Фигура Распутина, несмотря на всю ее отталкивающую сущность, в не¬
которых эпизодах сценария вдруг приобретает черты, позволяющие допус¬
тить мысль о том, что это был человек, в какой-то мере выражающий ча¬
яния народа. Так, в одном из эпизодов недвусмысленно проводится параллель
между его именем и именами Пугачева и Разина. В эпизоде, где действие пе¬
ренесено в Государственную думу, на сцену выводится махровый реакцио¬
нер-монархист Пуришкевич в таком «контексте», что выглядит борцом за
высокие морально-этические нормы. Здесь не подчеркнуто, что его дейст¬
вия против Распутина имели целью спасти от катастрофы царскую
власть.
Таким образом, сценарий «Агония» в настоящем его виде не может быть
принят к постановке. Он нуждается в коренной переработке».
25 июля 1968 года отдел культуры ЦК направил записку в ЦК КПСС, под¬
держав выводы Госкино в отношении сценария фильма «Агония».
«Ознакомление со сценарием «Агония» показало, что замечания, выска¬
занные Комитетом по кинематографии, являются справедливыми. Замы¬
сел сценария представляет интерес, однако избранный авторами жанр
фарса лишил их возможности дать реалистически достоверное изображе¬
ние исторических событий, в связи с чем постановка фильма по этому сце¬
нарию представляется нецелесообразной.
С автором письма т. Климовым проведена беседа в отделе культуры
ЦК КПСС, в связи с чем он снимает свою просьбу о встрече у тов. Деми¬
чева П. Н.».
Потянулись долгие годы по доработке сценария и пересъемке фильма.
В сентябре 1974 года студия закончила работу над фильмом, а 18 апреля
1975 года Госкино принимает наконец картину с указанием отснять два эк¬
земпляра для закрытых просмотров. В дальнейшую судьбу фильма вмеши¬
вается всесильный КГБ при Совете Министров СССР в лице председате¬
ля Комитета госбезопасности Ю. В. Андропова. В ЦК КПСС поступает его
секретная записка № 2058-А от 1 августа 1975 года:
«На киностудии «Мосфильм» закончена съемка кинокартины Э. Климова
«Агония» по сценарию С. Лунгина и И. Нусинова, в которой показан «распу¬
тинский» период Российской империи.
По имеющимся в органах безопасности данным, в этой кинокартине иска¬
женно трактуются исторические события того времени, неоправданно
большое внимание уделяется показу жизни царской семьи и интимной жиз¬
ни Распутина. Кинокартина содержит сцены сексуального характера. По¬
этому, видимо, не случайно иностранные кинематографисты проявляют
повышенный интерес к этому фильму, а прокатчики намереваются приоб¬
рести кинокартину для показа ее на зарубежном экране. В связи с изложен¬
ным Комитет государственной безопасности считает нецелесообразным
выпускать фильм «Агония» на экраны страны и для продажи его за рубеж».
По указанию А. Кириленко с запиской знакомятся Д. Устинов, В. Дол¬
гих, И. Капитонов, Ф. Кулаков, Б. Пономарев, А. Пельше. Две недели спу-
Семен Лунгин (стоит), Элем Климов, художник Борис Бланк.
Работа над сценарием «Добро пожаловать или посторонним вход
воспрещен».
1963 г.
На съемках курсового фильма «Смотрите — небо!».
1961 г.
Первый большой, дипломный кстати, фильм
«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен».
1964 г.
На съемках «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»
с Лидией Смирновой, Евгением Евстигнеевым
и художником Борисом Бланком.
«Похождения зубного врача». Первая роль Андрея Мягкова.
1965 г.
Съемочная группа фильма «Спорт, спорт, спорт» на стадионе в Сочи.
По бокам от Элема Климова знаменитые чемпионы Валерий Брумель
и Игорь Тер-Ованесян.
1965 г.
«Спорт, спорт, спорт». Так снималась сцена в «зарубежной бане».
1969 г.
«Спорт, спорт, спорт». Эта сцена, увы, не вошла в фильм.
1969 г.
«Спорт, спорт, спорт». Игорь Класс и Лариса Шепитько
в ролях царя и царицы.
1969 г.
«Спорт, спорт, спорт». Альберто Сорди: «Никто из актеров не прыгает так
высоко, как я».
1969 г.
Сценарий «Вымыслы» принят и запущен в производство.
Ненадолго, как оказалось.
1972 г.
Вологодская область. С художником Шавкатом Абдусаламовым
и фотографом Миколой Гнисюком на выборе натуры для фильма
«Вымыслы».
1972 г.
На выборе натуры к фильму «Вымыслы».
Июнь 1972 г.
«Агония». Первая большая роль Алексея Петренко.
7974 г.
В Париже на премьере «Агонии».
С женой Ларисой Шепитько и с сыном Антоном.
1975 г.
Элем, Лариса Шепитько, Юрий Карякин на съемках фильма «Агония».
Прощание с Ларисой.
1979 г.
В день памяти Ларисы с сыном Антоном.
Коллаж Сергея Параджанова.
Невозможность попрощаться с Ларисой из мест заключения.
1979 г.
«Прощание». В «избе Дарьи» между дублями.
1979 г.
«Прощание». По озеру Селигер на очередную съемочную точку.
С оператором Юрием Схиртладзе, сценаристом Германом Климовым
и художником Виктором Петровым (стоит).
«Прощание». Репетиция с Львом Дуровым.
стя в ЦК обращается с запиской от 13 августа председатель Госкино. «В на¬
стоящее время, — писал Ф. Ермаш, — Госкино СССР не считает целесооб¬
разным выпускать кинофильм «Агония» на экран. Исходные материалы и
копии фильма сданы на хранение в Госфильмофонд».
На следующий день, 14 августа, в ЦК представляется совместная запис¬
ка отдела культуры ЦК и Госкино СССР, вывод которой весьма категори¬
чен:
«...Первый вариант сценария был представлен студией в Киноко¬
митет СССР в 1966 году с положительными оценками И. Пырьева,
М. Ромма, Л. Арнштама и включен в план производства на 1968 год.
В том же году в связи с несовершенством сценария работа над
фильмом была остановлена. В 1973 году вопрос о постановке «Аго¬
нии» вновь был возбужден киностудией «Мосфильм» на основе пе¬
реработанного сценария.
Решая вопрос о постановке «Агонии», Госкино СССР исходил из
того, что на мировой экран было выпущено свыше двадцати зару¬
бежных фильмов о последних днях царизма, фальсифицирующих по¬
литическую суть предреволюционной эпохи в России, реабилитиру¬
ющих царя и его окружение. Авторами и киностудией «Мосфильм»
была сделана попытка ответить на эти многочисленные фальсифи¬
кации. Фильм окончен производством 25 сентября 1974 года и по¬
сле неоднократных поправок принят Госкинокомитетом Т8 апреля
Т975 года, напечатан в двух экземплярах, на открытой аудито¬
рии не демонстрировался. Творческой группе кинематографистов
осуществить свой замысел при создании этого фильма должным об¬
разом не удалось. В настоящее время Госкино СССР и отдел куль¬
туры ЦК КПСС считают нецелесообразным выпуск кинофильма «Аго¬
ния» на экран.
Зав. отделом культуры ЦК КПСС В.Шауро
Председатель Госкино СССР Ф.Ермаш».
Однако решение о нецелесообразности выпуска кинофильма на экран бы¬
ло принято на заседании Секретариата ЦК еще 12 августа, о чем свидетель¬
ствует запись заместителя заведующего общим отделом ЦК К. Боголюбова
на вышеуказанной записке: «В архив. На заседании Секретариата ЦК 12 ав¬
густа состоялся обмен мнениями по данному вопросу. С предложением От¬
дела культуры и Госкино секретари ЦК согласились. 14/VIII.75 г.
К. Боголюбов».
Таким образом, решение Секретариата ЦК было зафиксировано не в
протоколе заседания, а на записке, подготовленной заранее. 6 марта 1979
года председатель Госкино СССР Ермаш направляет в ЦК записку с ин-
формацией о ходе работы над кинофильмом «Агония» и своими предложе¬
ниями:
«...В зарубежной прессе («Экспресс», «Экран 78» (Франция), «Вэрайети»
(США), «Панорама» (Италия) и др.) периодически поднимается вопрос о
«запрете» фильма «Агония». Этот вопрос, по свидетельствам обозревате¬
лей, был предметом обсуждения на «Бьеннале несогласия» в 1977 году в Ве¬
неции. Дальнейшая задержка выпуска фильма на экран вызывает обстанов¬
ку нездорового ажиотажа вокруг картины и ее авторов. Зарубежные корре¬
спонденты неоднократно пытались спровоцировать режиссера на интер¬
вью о причинах задержки выпуска фильма. Э. Климов на провокации не под¬
дался, вел себя на протяжении этих лет достойно. Можно ожидать, что на
предстоящем Московском международном кинофестивале, который прово¬
дится в год 60-летия советского кино, вокруг фильма также могут возник¬
нуть нежелательные разговоры. С учетом этих обстоятельств, Госкино
считает возможным ограниченным тиражом и в сокращенном варианте
выпустить в 1979 году доработанный вариант фильма «Агония» на экраны
страны. Демонстрацию фильма целесообразно организовать таким обра¬
зом, чтобы зрители имели возможность в этом же кинотеатре посмот¬
реть выдающиеся картины историко-революционной тематики выпуска
прошлых лет.
Выход картины «Агония» на зарубежный экран сыграет определенную
пропагандистскую роль и даст немалый коммерческий эффект».
Секретарь ЦК М. Зимянин адресовал записку Ф. Ермаша в отдел куль¬
туры ЦК со следующей резолюцией:
Отд. культуры
ЦК т. Шауро В.Ф. Видимо, следовало бы посмотреть исправленный
фильм, о котором пишет т. Ермаш, прежде чем выпускать его, т.к.
он не рекомендован к выпуску секретарями ЦК.
7.1ll.79.
М.Зимянин
31 августа 1979 года заместитель заведующего отделом культуры ЦК 3.
Туманова докладывает секретарю ЦК М. Зимянину:
«24 мая с.г. в ЦК КПСС был просмотрен новый вариант фильма. С Ерма-
шем Ф.Т. состоялась беседа о кинофильме и целесообразности его выхода на
экраны страны.
Руководство Госкино СССР решило в настоящее время воздержаться от
выпуска фильма «Агония» в прокат».
Наступил 1981 год. Длительная задержка выпуска фильма «Агония» еще
более обострила внимание к нему зарубежной прессы, к тому же прибли¬
жался IV съезд Союза кинематографистов и Ф. Ермаш 13 марта 1981 года
в очередной раз обращается в ЦК КПСС:
«Возвращаясь вновь к вопросу о выпуске «Агонии» на экран, Госкино СССР
исходит из готовности авторов произвести дополнительную работу по
дальнейшему уточнению картины. С настоятельной просьбой положи¬
тельно решить судьбу фильма в Госкино неоднократно обращались видные
мастера советского кинематографа. Крайне важным обстоятельством яв¬
ляется также пристальное внимание зарубежной прессы к вопросу о «за¬
прете» фильма «Агония». Кроме того, в мае состоится очередной IV съезд
Союза кинематографистов, и не исключено, что некоторые из его участни¬
ков выскажут недоумение по поводу столь длительной задержки с выпус¬
ком на экран кинокартины «Агония». Учитывая художественный автори¬
тет Э. Климова в кругах интеллигенции и наступившую у него творческую
депрессию, это может стать одним из наиболее сложных и нежелательных
аспектов в работе съезда.
Исходя из вышеизложенного, Госкино СССР полагал бы возможным, прове¬
дя дополнительную работу по фильму «Агония», разрешить его выпуск
прежде всего в зарубежный прокат, а также ограниченным тиражом в со¬
ветских кинотеатрах».
16 марта 1981 года М. Зимянин поручает В. Шауро «рассмотреть вы¬
сказанные т. Ермашем Ф.Т. соображения и представить на рассмотрение
ЦК предложение отдела». Для доклада в ЦК КПСС отдел культуры ЦК
30 марта 1981 года подготовил записку следующего содержания:
«Государственный комитет СССР по кинематографии (т. Ермаш) в сво¬
ей записке в ЦК КПСС вновь возвращается к вопросу о выпуске на экран
фильма «Агония».
Кинокартина «Агония» была создана в 1974 году на студии «Мосфильм»
по сценарию С. Лунгина и И. Нусинова режиссером Э. Климовым. Фильм не
был выпущен на экран из-за содержащихся в нем идейно-художественных
просчетов.
В своей записке в ЦК КПСС т. Ермаш сообщает о готовности авторов,
студии «Мосфильм», Госкино СССР провести работу по дополнительной ре¬
дакции фильма в целях устранения имеющихся неточностей в исторической
и художественной концепции. Госкино СССР полагает возможным после про¬
ведения дополнительной работы по фильму «Агония» выпустить его в зару¬
бежный прокат, а также ограниченным тиражом в советских кинотеатрах.
Отдел культуры ЦК КПСС поддерживает предложения Госкино СССР.
Просим согласия».
С запиской отдела культуры согласились секретари ЦК М. Зимянин,
А. Кириленко, И. Капитонов, М. Горбачев, В. Долгих, К. Черненко. Согла¬
сие секретарей ЦК в качестве решения ЦК КПСС было оформлено 9 апре¬
ля 1981 года. Наконец-то картине был дан зеленый свет. Но до полного вы¬
хода картины на экран оставалось еще четыре года.
«Искусство кино», №7, 1995 год
Публикация и комментарий Ю. Мухина и Л. Пушкаревой
Элем Климов - Людмила Донец
Преодоление
Элем Климов. И Лариса, и я, мы сняли по одному военному фильму. Хо¬
тя «военный фильм» — определение довольно условное. Почему не «анти¬
военный»? Но остановимся на привычном.
В творчестве Ларисы был фильм «Крылья». Можно его назвать военным?
Война там присутствует в коротких воспоминаниях, фрагментарно, но, по
сути, населяет все пространство картины. С войной у героини связаны са¬
мые горькие и самые яркие минуты ее судьбы. Борьба, любовь и полет.
Другое дело — «Восхождение». Тут война обступает со всех сторон, от
нее некуда деться. Война здесь — ужас и главное испытание. Я считаю
«Восхождение» одним из шедевров мирового кино.
Повесть Василя Быкова «Сотников» Лариса не стала экранизировать
впрямую. И правильно сделала. Нельзя впрямую экранизировать литера¬
туру. Тем более очень хорошую. А плохую и в руки брать не стоит. Она по¬
няла, как все сделать по законам кино, нашла верный ход. Ну, может быть,
единственно верного никогда не бывает, но в данном случае, думаю, она
была к нему очень близка. В повести были ретроспекции из жизни Сотни¬
кова, Рыбака, она их убрала. Придумала вот этот замечательный финал,
когда Рыбак рыдает около сортира. Ворота двора открыты, никого нет, но
уйти, убежать он уже не может. Это здорово.
Лариса так прониклась этой темой, так поселила ее в своем сердце, так
увлекла всех, кто с ней работал! А компания подобралась достойная. Опе¬
ратор Владимир Чухнов, художник Юрий Ракша, композитор Альфред
Шнитке. Два талантливых дебютанта в главных ролях: Борис Плотников и
Владимир Гостюхин. И вот всех этих замечательных мужчин, и не их од¬
них, Лариса сумела заразить энергией своей души.
Помните постулат нашего любимого Мао: «Чем жутче, тем лутче?» Так
вот природа сделала им подарок. Действительно, существует такой пара¬
докс (я его на себе испытывал). Это когда все тебе сопротивляется. И воз¬
никает какая-то новая сила, новый ее приток. А им сопротивлялось все.
Снимали в лютую зиму в чистом поле. Я видел дубли, когда по скрипяще¬
му снегу, на ветру ползут два актера, и у них на щеках, на носу, на подбо¬
родке прямо в кадре появляются белые бляшки. Они просто на глазах об¬
мораживались. А потеплее одеться, особенно Плотникову, нельзя было, да
и сам актер хотел все это пережить.
Но больше всего доставалось Ларисе. Кончался дубль, актеры шли греть¬
ся в автобус, а ей нельзя — свет уходит, и надо продолжать работать. Ино¬
гда доходила до такого состояния, что ее просто на руках приносили в гос¬
тиницу, а там теплой воды, естественно, не было. Не знаю, как она выдер¬
жала. Это был подвиг преодоления.
Конечно, вся группа помогала ей изо всех сил. Но что меня тогда особен¬
но поразило, это как работают молодые актеры. Это была отчаянная само¬
отдача. Особенно это касалось Гостюхина. Уже в самом начале было ясно,
что он очень талантливый человек. И вот мы смотрим очередной материал
и обращаем внимание, как на крупном плане в сцене ареста у него расши¬
ряются зрачки. А приборы ему в глаза светят. При свете, наоборот, сжима¬
ются, а у него расширялись. И еще несколько труднообъяснимых историй
произошло с ним на этих съемках.
Есть актеры, я их особо выделяю, которые способны и рискуют пропу¬
скать через себя высокую энергию. Вот такой Петренко, такая Алиса
Фрейндлих, такая Чурикова. Это очень опасно, и режиссер должен
уметь защищать актеров, а не только брать от них, вводить в такое состо¬
яние. Я так в свое время на «Агонии» чуть не угробил Петренко, не знал,
как защитить, а требовал от него максимума. Это чуть плохо не кончилось.
Его чудом успели спасти...
Ну, а что касается «Восхождения» — уверен, ему суждена долгая жизнь.
В нем есть чистая высокая нота, мощь и сдержанность — верные признаки
классического произведения...
Самые яркие годы у человека — детство. Мое пришлось на войну. Я мно¬
гое увидел, многое почувствовал тогда, запомнил. Это по сей день не про¬
ходит. И у меня, когда стал уже режиссером, было какое-то саднящее ощу¬
щение, что я не сделал свой фильм о войне. Какое-то, как бы это ни звуча¬
ло высокопарно, жило во мне внутреннее обязательство, которое я не реа¬
лизовал, не отдал свой долг... Это было совершенно личное желание, никто
не заставлял меня делать фильм о войне. Да и вообще я больше склонен к
комедийному жанру. Хотя пробовал себя и в другом.
Сразу после завершения «Агонии» у меня возник комплекс. Я даже в ва¬
шем журнале тогда договорился, что сам на себя напишу критическую ре¬
цензию, так я был недоволен. Имея таких актеров, такой материал, я зани¬
мался во многом внешней режиссурой, не смог передать сверхсложные по¬
граничные состояния. Короче, закомплексовал. И тут мне попалась «Ха¬
тынская повесть» Алеся Адамовича. Образная и правдивая. Он сам все это
пережил, был в партизанах, вся семья была. Так вот сложилось несколько
причин, чтобы делать этот фильм: внутренний долг, мастерская литерату¬
ра плюс мое состояние после «Агонии». Я понял — это тот самый случай,
когда можно приблизиться к сверхсостояниям в человеке и, если удастся,
добиться абсолютной подлинности переживаний в этих жутких обстоя¬
тельствах, заглянуть в его лицо, в глаза. Отсюда возникло намерение в оп¬
ределенные моменты снимать «прямой» крупный план, когда партнером
исполнителя становится объектив, то есть зрительный зал. В кино актеры
играют, как правило, мимо камеры, что намного проще.
Что такое человек, самый неопознанный предмет на Земле? В чем его
тайна, каков предел его возможностей и существует ли этот предел? Эти
вопросы мучили меня тогда, мучают и сегодня.
Сам я родом из Сталинграда. Молодые у меня родители были, рано по¬
женились, вместе прожили пятьдесят четыре года, счастливые. Мама с ле¬
вой стороны Волги, папа с правой. В школе встретились. Смешно: школа
была восьмилетка имени Достоевского.
Ну, когда началась война, мы, я и мои сверстники, не очень понимали,
что это такое. Потом город стали бомбить (мне до сих пор снится, что ле¬
тят немецкие самолеты). Родители у многих целый день на работе, а мы,
ребята, при любой возможности лезли на крышу и ловили щипцами брыз¬
жущие искрами зажигательные бомбы и сбрасывали вниз, где стояли боч¬
ки с водой и песком. Восторг! А однажды зимой мы с приятелем гуляли по
маленькой заснеженной площади поселка. И вдруг видим: немецкий само¬
лет, весь желто-серый, в каких-то пятнах, крестах, низко-низко идет и стре¬
ляет, а на нем висят два наших истребителя. Они его прижимают к земле,
сажают, невдалеке был аэродром, а он поливает из пулеметов. Приятеля
ранило, а я спрятался за небольшим памятником Ленина, этот памятник
меня спас. Почему немец стрелял в такой ситуации? Не знаю. Видать,
сбрендил.
Отец работал на электростанции, он был конструктором. Электростан¬
ция, СталГРЭС, довольно далеко от центра, вокруг небольшой поселок,
весь покрытый толстым слоем сажи, которая валила из труб. В 41-м наста¬
ла пора идти в школу, но вскоре ее закрыли, мы занимались на дому у учи¬
тельницы. Когда уже прижало сильно, во многих местах город горел, наши
отступали, тогда по ведомственному признаку нас отправили на Урал, в
эвакуацию. На Среднеуральскую электростанцию (СУГРЭС). Отец остал¬
ся. У него сильный недостаток зрения был, в армию его не взяли. Он остал¬
ся на станции, они готовили ее к взрыву. А мы с мамой и маленьким бра¬
том (он грудной был, мне восемь лет) уехали.
Долго-долго ехали в теплушках, под бомбежками, месяца два ехали, нас,
детей, закрывали матрацами, подушками и еще сверху ложились на нас.
Когда поезд загрузили на паром через Волгу, с середины реки я увидел, как
горел город. Длинная стена огня. А вокруг вода вспухала от бомб.
Поселили нас неподалеку от СУГРЭС, в деревне Коптяки. Много позже,
когда уже готовился к «Агонии», узнал, что рядом с этой деревней и были
захоронены останки царской семьи.
Ну что... Голод, холод, теснота. Мы — нежеланные, чужие. Брат в яслях,
мама где-то работает. А тут еще в школу надо ходить. В школе мальчишки
местные тоже не очень любили эвакуированных, пугали, каждую перемену
где-то под лестницей зажмут (это был второй класс) и испытывали «на ев¬
рея», заставляли произносить разные скороговорки, типа «На горе Арарат
растет красный виноград». Думаю, они евреев и в глаза никогда не видели.
Резали пальто бритвами, коньками-ласточками. (Я почему-то больше бо¬
ялся коньков...) Потом, уже в полном отчаянии, я поймал кошку и пошел с
ней на глухое лесное озеро. Пытался ее повесить. Ничего не вышло. Тогда
попытался зарубить ее топором. Но кошку не так просто зарубить. Чуть не
отрубил себе палец. Кошка вырвалась и исчезла. Весь исцарапанный, я ос¬
тался один. Потом школьным злодеям я сказал, что у меня есть брат и я ему
пожалуюсь. И они вмиг от меня отстали.
Память о голоде осталась на всю жизнь. Но все равно жить было можно.
Нам выделили в лесу делянку, а там сосны такие огромные, мы с мамой их
пилили, валили, а самое трудное — выкорчевывали пни. Знайте, корчевать —
самое трудное. Потом копали, сажали картошку.
Научились и многое другое делать. Позже, уже в Сталинграде, у нас бы¬
ла бахча. Мы там сажали тыквы, арбузы, дыни. Однажды произошел забав¬
ный случай. Я вскапывал эту бахчу, и вдруг из-под лопаты вылетела, гром¬
ко хлопая крыльями, птица. Взлетела метра на три, потом с металлическим
стуком упала у моих ног. Это был какой-то странный предмет, раскрашен¬
ный желто-красными полосками, раскрытые лепестки его еще трепыха¬
лись. Я нагнулся и тут услышал крик: «Не трогай ее, беги!» Кричал какой-
то мужик с соседнего поля. А я тупо смотрел себе под ноги. Оказывается, у
немцев были такие оригинальные мины: если ты на нее наступаешь, она
вылетает из земли, на определенной высоте разрывается, посылая во все
стороны шрапнельные осколки. В тот раз повезло, мина не взорвалась. Мо¬
жет, отсырела.
Сталинградская битва была победно завершена. Близилось время отъез¬
да. Отец уже был с нами. И вот он решил мне день рождения устроить,
праздник. Мне десять лет сравнялось в сорок третьем. На этот день рожде¬
ния он подарил мне буханку серого хлеба. Буханка находилась в противо¬
газной сумке. Поехали мы в Свердловск, и в первый раз в жизни я попал там
в театр. Давали балет «Конек-Горбунок». Когда пришли, гардеробщица го¬
ворит: «Мальчик, с сумкой нельзя, оставь в гардеробе эту сумку». И вот я
сидел в зале и ничего не видел, что происходило на сцене. Я только думал
об одном: упрут сумку с хлебом или нет?. Так что мой первый театр про¬
шел мимо меня.
Когда мы вернулись в Сталинград — теперь мы знаем, как выглядит го¬
род после атомной бомбардировки, — не было города. Сохранилась только
наша электростанция, у которой немцы бомбами сбили все трубы, и ма¬
ленький поселок рядом с ней. Они были уверены, что возьмут город, и тог¬
да им нужны будут и электричество, и жилье.
И вот тут начался праздник души! Сколько оружия! Мы тайно ездили
его собирать. Покореженной техники, оружия, боеприпасов — просто до
горизонта! Гигантские свалки, и никто не охраняет. Танки, машины, пуш¬
ки, минометы, пулеметы. Мы все тогда собирали оружие. Домой возвраща¬
лись с трудом — такую тяжесть на себе волокли. Мамы за нами гонялись.
Но куда там! У меня был склад на чердаке трехэтажного дома. Примерно
десять тысяч немецких патронов, всего тысяча двести советских (это был
дефицит), гранаты, винтовки, автоматы, ракетницы. Было даже противо¬
танковое ружье, очень тяжелое. Все эти мины, снаряды мы развинчивали,
вскрывали, интересно же. Внутри немецких мин и снарядов находили ка¬
кой-то странный порох, он и на порох не похож: то кружочки, то квадрати¬
ки, то как макарончики. И все разноцветные: голубой, желтый, красный.
Красивый был порох и очень сладкий. А сахара же не было, конфет тем бо¬
лее — забыли, как выглядят. Конечно, некоторые потравились, другие по¬
гибли или поуродовались от взрывов. Не все умели вскрывать.
Как вооруженные люди, мы обнаглели полностью. Никого и ничего не
боялись. Шутки были такие: у нас была огромная деревянная помойка —
на три дома одна. Мы на нее ставили немецкую каску и начинали ждать.
Наконец, пугливо озираясь, появлялась какая-нибудь бабка с мусорным
ведром. Из чердачного окна раздавалась автоматная очередь. По каске, ко¬
нечно. Бабка бросала ведро и по-пластунски уползала за сарай, в мертвую
зону. Весело. Вечером трассирующими пулями — поверх голов влюблен¬
ных парочек, которые прогуливаются в сквере. Эффект тот же. Снова весе¬
ло. Милиция, которой было очень мало, нас остерегалась. На чердаки к нам
не лезли, не рисковали, даже ночью. Там могло что-нибудь взорваться. Ко¬
му охота? Да и вообще людям тогда было не до нас. А мы и рады были.
Прейскурант мальчишеских развлечений был обширен. Назову два-три.
Да всего уже не вспомнишь.
Вряд ли кто знает, что такое «катюша» в нашем понимании. Из винто¬
вочного патрона одним движением выламывается пуля. Половина пороха
отсыпается на ладошку. Другим движением пуля забивается внутрь. Об
стену, об шкаф. Порох досыпается, зажигается, пуля летит вперед, гильза
назад. И так по многу раз за день. Как семечки, безопасно. А вот чуть по¬
опаснее. Стрельба из винтовочных затворов. Достаете из винтовки затвор,
оттягиваете, вставляете патрон, зажимаете, нажимаете. Только голову надо
отвернуть. Когда и это показалось пресным, решили попробовать из затво¬
ра от противотанкового ружья. Первым рискнул один из моих дворовых
товарищей по оружию. Почему-то мы это делали у него на кухне, когда до¬
ма никого не было. Я успел пригнуться. Раздался не выстрел, а взрыв. Ему
оторвало пол-уха, печку разворотила бронебойная пуля. Правда, эту печку
и так ремонтировали довольно часто, так как он имел обыкновение бросать
в огонь всякие штучки, которые там взрывались. И как отец его ни бил, ни¬
чего не помогало. Он был неуемный. У нас у всех тогда мозги повредились.
В мою обязанность входило каждый день выгуливать моего маленького
братика. Братик этот был мне как кость в глотке. Полно дел во дворе, дру¬
зья ждут, а я гуляй с ним. Придумывал ему разные игры, а однажды приду¬
мал такую вот. В скверике, метрах в трех от дома, мы выкопали с ним не¬
большую ямку. Туда я заложил противотанковую гранату, подготовил ее,
засыпал порохом. Все это заложили каким-то дерном, а сверху из щепочек,
палочек, коры построили маленькую игрушечную деревеньку. Полюбова¬
лись. Потом я проложил длинную пороховую дорожку. Отвел его в конец
ее и порох поджег. Рвануло так, что посыпались стекла во многих окнах,
раздался многоголосый визг, гвалт, мат. Я схватил его за руку, и мы броси¬
лись наутек. Когда прибежали домой, выяснилось, что осколок попал мне
чуть ниже подбородка и там застрял (вырезали его только в шестьдесят
шестом, когда стал гноиться). Второй осколок обнаружил, разматывая
шарф на шее брата. Замотай я этот шарф на оборот меньше, осколок этот
оказался бы у него в горле. И может быть, не было бы теперь кинодрама¬
турга Германа Климова.
Разумеется, многие из этих игрушек мы приносили в школу. На уроках,
на переменах что-то щелкало, хлопало, дымило, горело. В школе стоял за¬
пах пороха. Кто-то регулярно перерезал электропровода. Это чтобы света
не было. Школа отвечала нам взаимностью. Я очень не любил туда ходить.
Вставать рано, идти в темноте по грязной дороге километра три. Учиться
неинтересно, скучно. Однажды опоздал минут на пять. Дверь заперта.
Стал дубасить в нее кирзовыми сапогами. Наконец открыли. Двое старше¬
классников схватили меня за шиворот, проволокли по коридору и втолк¬
нули в какой-то чулан. Там уже находился еще один вроде меня. Нам дали
очень тупую пилу и приказали пилить толстенное бревно. Старшеклассни¬
ки-часовые стояли снаружи, в руках у них были винтовки с примкнутыми
штыками. Как только мы переставали пилить, они заходили и били нас
прикладами. Штыками только грозили.
А когда настал День Победы, мы все вместе пошли подальше от поселка,
за холмы, куда притащили все, что у нас оставалось (мы же понимали, что
скоро это всё у нас отнимут, и надо было израсходовать боевой запас), и ус¬
троили там такой фейерверк! Такую стрельбу!
От восторга все будто ополоумели, а один придурок схватил гранату,
выдернул чеку и стал за нами гоняться, пугать. Мы бросились врассып¬
ную, попрыгали в канавы, ямы. И тут она взорвалась у него в руке. Он ис¬
текал кровью. Случайно какой-то трактор ехал мимо, забрал его и отвез в
больницу. А так бы погиб. Так для меня закончилась война. Вспоминаю
и думаю: а ты ли это был? Но иногда кажется, что это были лучшие дни
моей жизни.
Для меня главным в повести Адамовича, в сценарии, а потом и в фильме
был деревенский паренек Флёра. Случай, кстати, совсем не новый в филь¬
мах о войне, когда в центре сюжета ребенок или подросток. Но когда мы
замышляли, писали, снимали, мы ничего этого не вспоминали, ни с кем не
спорили. Это был наш мальчик, наш белый, чистый лист, на котором вой¬
на, круги ада, через которые он проходит, кровавым пером могут написать
все, что угодно. Кто он, который еще никто? Откуда сила его духа или как
это поточнее называется? Почему не треснули зрачки, почему не распался,
не превратился в насекомое? Некоторое время я Алесю на полном серьезе
предлагал снять весь фильм только на крупных планах героя. Все осталь-
ное — звук, шумы, музыка, фрагменты фона, какие-то детали, — все это ря¬
дом, прет на нас, но мы не видим. Видит он, а мы видим лишь его лицо, гла¬
за, как он меняется, в кого или во что превращается. Не уговорил. Себя,
главное, не уговорил. К тому же нам и без этого тогда хватало сложностей
с запуском этого фильма. Семь лет продолжался этот запуск, семь мучи¬
тельных лет. Я один из рекордсменов по долгим запускам. «Агония» запу¬
скалась восемь лет. Приближалось сорокалетие Великой Победы. Началь¬
ству надо было что-то выдавать на-гора. Все эти семь лет Адамовича уго¬
варивали, обхаживали. Ему был предложен список режиссеров, один дру¬
гого лучше. Ответ был один: «Только он». А у меня, что называется, «мо¬
локо в вымени уже скисло». Уже трудно было вернуться к этой работе, та¬
кой силы был ожог после того, как в 77-м закрыли фильм на пороге съе¬
мок. А Алесь звонил, приезжал, наседал. Многие его помнят как мягкого,
доброго, интеллигентного человека. И это правда. Но временами это был
вепрь, танк. Несколько раз я был тому свидетелем. Я себя, грешным делом,
иногда называл «непреодолимым». Но для Адамовича, если он что-то ре¬
шил, во что-то поверил, не существовало преград. Вот кто был воистину
«непреодолимым». И умел преодолевать. Так он преодолел и меня в те вре¬
мена моего очередного тихого отчаяния. И вернул меня к этой работе.
Я еще несколько раз перечитал толстую книгу документальных свиде¬
тельств людей, чудом переживших ужасы фашистского геноцида в Бело¬
руссии. Книга называлась «Я из огненной деревни», инициатором созда¬
ния был Адамович. Белорусское руководство долго не разрешало ее напе¬
чатать. Та же история, кстати, произошла и с «Блокадной книгой». Поче¬
му? Почему такие вещи, горькую народную память, надо было долго и
упорно пробивать? Может быть, к тому времени у кого-то сформировался
привычный, исключительно героический образ войны и очень не хотелось
его разрушать. Конечно, эти документальные книги очень тяжело читать.
Но мне — читать, а каково было тем, кому довелось это пережить? Многие
из них тогда были еще живы, и некоторые рассказы-воспоминания белору¬
сам удалось зафиксировать на кинопленку. Никогда не забуду лицо, глаза
одного крестьянина, его тихий-тихий рассказ о том, как всю их деревню за¬
гнали в церковь и перед сожжением офицер из зондеркоманды предложил:
«Кто без детей — выходи». И он не выдержал, вышел, оставив внутри жену
и маленьких детей... И вот эти лица постепенно населили мое сознание, не¬
отрывно и немо смотрели мне в душу. Они и вернули меня к этой работе.
Они и Алесь.
Я понимал, что исполнителем центральной роли будет не актер, что он
не будет защищен ни техникой, ни мастерством. Просто мальчик лет че¬
тырнадцати, которому к концу фильма, как мы говорили, должно быть
двести. Тогда с моим добрым знакомым, талантливым гипнологом Марко¬
вым, человеком, который хорошо разбирался в секретах драматического
искусства, мы разработали довольно сложную систему. Система включа¬
ла проверку, тестирование будущего исполнителя самыми современными
методами, подготовку, обучение искусству владения и управления собой.
Мы пытались проникнуть в его подсознание, добавить ему эмоционально¬
го знания, которым он в силу возраста не обладал. Он ведь вряд ли мог
знать, что такое любовь к женщине, что такое выжигающая душу нена¬
висть. Его надо было готовить к сложнейшим переживаниям, а уже потом
зафиксировать их и в то же время защитить его от стрессов (система защи¬
ты тоже была подробно разработана), чтобы не в дурдом его после съемок
сдать, а маме живым и здоровым вернуть. Слава богу, так и было. Этику
творчества мы соблюдали. В состоянии гипноза мы его принципиально не
снимали, это ведь просто безвольное поведение. Задачей было помочь
Алеше Кравченко в короткие сроки в сложных обстоятельствах раскрыть¬
ся полностью. А мы уже чувствовали, что он от природы очень цельный,
талантливый человек.
Я понимал, что это будет очень жестокий фильм и вряд ли кто-нибудь
сможет его смотреть. Я сказал об этом Алесю. Но он ответил: «Пусть не
смотрят. Мы должны это оставить после себя. Как свидетельство войны,
как мольбу о мире».
Действительно, как потом выяснилось, многие люди, которые пришли в
кино (а фильм, неожиданно для нас посмотрели десятки миллионов), в оп¬
ределенные моменты просто не могли смотреть на экран, опускали глаза.
Теперь, по прошествии времени, думаю, что фильм надо было делать еще
более жестким. Мы недобрали до подлинной правды того времени, хотя
знали ее. Сработал внутренний, «гуманный» редактор. А еще мы не сняли
главный эпизод. Почему картина называется «Иди и смотри»? Эта фраза —
рефрен из Апокалипсиса. Предполагался эпизод «последнего боя на зем¬
ле». Так мы его для себя называли.
Горящее торфяное поле. Какой-то ирреальный, с огромными торфяными
буртами-пирамидами пейзаж (мы его долго искали по всей Белоруссии, а
нашли неподалеку от Хатыни). Вокруг небольшого, круглого, дымящегося
леса идет круговой бой. Силы равны. И теми и другими, партизанами и
немцами, движет предельная, запредельная ненависть. Различить, кто есть
кто, с определенного момента нельзя — все покрыты толстым слоем торфя¬
ной пыли. Убежать в сторону нельзя. Люди, лошади проваливаются в горя¬
щий торф, в преисподнюю. Красное, огромное солнце остановилось над да¬
леким лесом и не садится. Как бы ждет, когда люди уничтожат друг друга.
Все шло к этому эпизоду. И мы были готовы. Но мы потеряли много вре¬
мени, месяца полтора, так как из-за юного исполнителя, который должен
был пройти всю свою роль шаг за шагом, от начала к концу, снимали самым
малоэффективным способом: кадр № 1, кадр № 2, кадр № 3. Так кино ни¬
когда не снимают. Но я не видел другого пути. И нам уже не хватало вре¬
мени. Уперлись в зиму. Все было кончено. Минуя этот не снятый «послед¬
ний бой», я довольно искусственно прилепил маленький монтажный блок
«расстрел Гитлера в обратную сторону». А он должен был совсем по-друго¬
му родиться на экране.
Хотелось, конечно, рассказать о войне по-своему. О ее страшной правде,
но без нарочитых страшилок. Фильм цветной. Это тоже было для нас
принципиально важно. Ведь именно кино приучило нас, что во время вой¬
ны мир был черно-белым. Лариса начинала «Восхождение» в цвете, потом
довольно быстро от этого отказалась. Думаю, что испугалась. Но ведь и в
годы войны мир сохранял все богатство своих красок, природа оставалась
прекрасной. Красивыми, как всегда, были лес, трава, цветы. Пели птички.
Но весь этот мир постепенно населялся невидимым, давящим ужасом.
Каждое произведение божественной природы вдруг начинало источать из
себя опасность, таило смерть. Да, война — это кровь, гной, раны, вши, все
это так. Но и окружающая красота становилась враждебной человеку. Как
это передать?
Война — это и есть наш главный грех. И сколько мы уже винились, кая¬
лись, а продолжаем все то же самое по сей день. И думаю, еще не скоро ос¬
тановимся.
После «Иди и смотри» у меня возникло ощущение, что я избыл себя.
И чтобы продолжить свой путь в искусстве, я должен сделать что-то невоз¬
можное, на преодолении непреодолимого совершить прорыв к себе ново¬
му, к себе незнакомому. Не устаю вспоминать слова Андрея Платонова из
письма к жене: «Невозможное — невеста человечества. К невозможному
летят наши души». После долгих раздумий в который раз остановился на
романе «Мастер и Маргарита». Речь шла не о прямой экранизации, ибо это
гибельный путь, а о кинофантазии по мотивам замечательного произведе¬
ния Михаила Булгакова.
Мы с братом прочли горы литературы, столько узнали, получили, что на¬
зывается, третье высшее образование. Потом долго, мучительно и весело
писали сценарий, ничем не ограничивая свою фантазию. Потом свое доба¬
вили оператор Алексей Родионов, художник Виктор Петров. Короче, про¬
ект получился немыслимой сложности и очень дорогой. Опытные люди,
листая наши страницы, говорили: «Это снять нельзя. Мировая технология
еще не скоро будет готова к выполнению такого рода задач». Ну ладно, тех¬
нология, деньги. В замысле были такие сцены, которые я и тогда не знал,
как решить, и сейчас не знаю. Но это и есть самое интересное. Упрощать се¬
бя мы не захотели. Ах, не хотите? Ну и гуляйте, ребята. Вот мы и гуляем
уже много лет. Так возникла самая долгая творческая пауза. Но, побывав
на вершине горы, вдохнув разреженного воздуха, скучно возвращаться к
себе прежнему. Вот так, Людмила Семеновна. Тупик-с.
— Да, вот так... А скажите, какие наши фильмы вы считаете новым сло¬
вом, прорывом к военной теме?
— Фильмы, к сожалению, стареют. В свое время, когда я заканчивал
ВГИК, я дважды посмотрел «Иваново детство». У меня прямо сердце боле¬
ло, так я был потрясен этой картиной. А года два назад ее показывали по те¬
левизору — трудно смотреть. Все, что тогда было пронзительным, теперь ка¬
жется режиссерскими играми. Эти яблоки, эти лошади. Хотя по тем време-
нам впечатление было оглушительным. «Баллада о солдате» уже кажется
сладкой. Каждое поколение хочет сказать свое слово, выйти на новый уро¬
вень правды. В 70-е годы новое — это, конечно, Леша Герман. И «Проверка
на дорогах», и «Двадцать дней без войны». Уверен — и «Восхождение».
— Мне кажется, и Лариса, и вы, будучи максималистами, снимая челове¬
ка на пределе, в экстремальных условиях, предъявляли ему, человеку, слиш¬
ком большой счет. Ведь даже Иуда предал, во-первых, осознанно, а во-вто¬
рых, за тридцать сребренников. И потому он Иуда. А когда человек обречен
на нечеловеческие мучения, он просто перестает быть человеком.
— А кто-то выдерживает.
— Да, но это героические личности, достойные, разумеется, преклонения.
Но и Лариса, и вы испытывали человека обыкновенного. А ведь даже Хрис¬
тос в Гефсиманском саду попросил, чтобы его миновала «чаша сия», и это в
нем самое...
— ...трогательное.
— Да, трогательное. И на кресте он возопил к Отцу, зачем тот оставил
его. Мне кажется, у Ларисы и у вас, воспитанных максимализмом русской
культуры плюс максимализм советской поры, есть слишком жесткая мера,
какою вы меряете человека. Ведь не только Рыбак виноват перед Родиной,
но и Родина перед ним.
— И все-таки в пограничных условиях человек проявляет все свои каче¬
ства, и негативные, и позитивные. А в обычных условиях он, может быть,
сам не знает, какой он и как себя поведет, случись, что, не дай Бог. Боль¬
шинство людей так и умирают, ничего про себя не узнав. Я много раз ду¬
мал, а как бы я себя повел на месте Сотникова, Рыбака? Ответа не знаю. Но
благодаря Василю Быкову, я хотя бы перенес это на себя.
Но вообще-то что сильнее — жесткое или мягкое? Я думаю, мягкое силь¬
нее, потому что его не сломаешь, оно неломкое.
Известно, что порог восприятия существует. В «Иди и смотри» есть такой
кадр, когда мальчик видит, как сжигают людей, он вдруг засыпает, не может
уже этот порог перейти. Он мягкий. А просыпается в другом возрасте, но
еще самим собой. Теперь он до конца фильма в очень сложном состоянии,
хотя за порогом его ждало и другое: мог сломаться, сойти с ума, то есть пре¬
кратиться, мог стать жестким, возненавидеть весь свет, вызвериться. Ада¬
мович мне рассказывал, что в одном отряде был мальчик лет двенадцати,
который умолял, требовал, чтобы осужденных на смерть отдавали ему. Ему
отдавали. Он их не расстреливал, а рубил головы на пеньке. В результате
партизаны его так возненавидели, что кончилось это печально для мальчи¬
ка: его пристрелили. Если бы наш стал таким, то он уже точно убил бы Гит¬
лера-младенца. А дети ведь не виноваты, что рождаются на белый свет.
— Вы говорили в одном интервью, что в человеке есть два сознания — бы¬
тийное и бытовое. Вы и сейчас думаете, что их — два?
— Конечно, разделение несколько условное, но по сути это так. Человек,
как правило, раб бытового сознания. Оно его каждодневно засасывает, как
в тину, как в болото, скрывает от него то главное, что составляет его тай¬
ную суть. Ту самую вертикаль, которую так хочется обнаружить в себе и,
если это случается, никогда уже с этим особым ощущением не расставать¬
ся. Познать это — может быть, и есть счастье. Если оно вообще существует.
Многое в этом мире состоит из видимостей.
— Вы не считаете, что сознание едино? Или, наконец, что бытовое созна¬
ние — как раз самое трудное для человека и никакое оно не болото. Ну, если,
конечно, человек просто заранее не решил жить легко. Бытовая жизнь, обы¬
денная, имеет, мне кажется, свои трудности, не меньшие, чем жизнь геро¬
ическая. Да просто терпеть ежедневно другого человека, даже самого люби¬
мого, — это ведь невероятно трудно. В русском национальном сознании есть
небрежение обыденной жизнью, как будто эта жизнь — черновик и ее можно
проживать спустя рукава. Мы мало ценим жизнь человеческую. И на войне —
«мы за ценой не постоим». Конечно, это сказано о себе, но все равно ужасно.
— Долгие годы рядом со мной была Лариса. Она прекрасным образом за¬
нималась бытовыми заботами: обихаживала дом, растила ребенка, делала
все, не гнушаясь ничем. Ежедневно терпела рядом любимого человека, хо¬
тя бывали и срывы. Но наш брак — это особый случай. Согласитесь, два
своенравных режиссера в одном доме — это все-таки многовато.
А параллельно этому в ней происходила какая-то другая жизнь, причем
очень интенсивная, хотя и скрытая. С каждым годом она становилась стар¬
ше, старее, а лицо ее приобретало черты новой, удивительной красоты. Она
старела и молодела одновременно. На моих глазах происходило преобра¬
жение. Она излучала светящуюся, мудрую энергию. Настал момент, когда
она уже знала свое будущее. Прощалась как бы в шутку с друзьями, добры¬
ми знакомыми. Единственный, кому ничего не сказала, был я. Господь за¬
брал ее в высокой точке полета. Во всем этом для меня нет никакой мисти¬
ки. Такое происходит с людьми, которые не ленятся трудить свою душу,
которые жаждут одухотворения, и оно приходит к ним, меняя, совершенст¬
вуя сознание, истончая его.
Но и вы правы. Вот у Юрия Нагибина незадолго перед смертью спроси¬
ли: «В чем вы видите смысл жизни?» И он ответил: «В том, чтобы жить».
— Как вы думаете, почему нынче не только не снимают фильмов о войне,
не только нет взлетов, рубежей в военной теме, но она перестала интере¬
совать как время трагического, но нравственного пространства? А меж
тем сейчас — преддверие праздника, 50-летие Победы, и, может быть, это
последний праздник, который будет широко отмечаться живыми участни¬
ками войны.
— Я чувствую, у вас какое-то старорежимное «мышление». Праздник —
это праздник. И к празднику, уверен, все будет сделано по максимуму. Но
ни к какому празднику не закажешь настоящего произведения искусства.
То есть заказать-то можно...
Сейчас та война отступила в прошлое, воспоминания о ней во многом
стали полубесчувственными, а для совсем молодых — и абстрактными.
Они ее, эту уже давнюю для них войну, лишь «проходят». В школе, в ин¬
ституте (опять же не обо всех говорю). Нынешние молодые — носители
какого-то совсем иного, нежели наше, сознания. Теперь другие времена,
другие бабочки летают, другие крылышки в чести. А молодые — это и
есть основной контингент кинозрителя. И вряд ли у них есть спрос на
эту тему.
В застойные времена снималось очень много фильмов на военную тему,
в основном плохих, бесполых. Некоторые кинематографисты брали эту
тему не по причине моды, а потому, что ни в какой другой не допускался
адекватный драматизм жизни, острые ситуации, а врать не хотелось. Вой¬
на и есть война. А сейчас ведь никаких запретов нет — снимай что хочешь.
Сегодня в основном работают молодые режиссеры, и я вижу, что их это
мало интересует. Хотя война повсюду продолжается. Гремят пушки, рвут¬
ся бомбы, снова трупы, скелеты городов. Но это уже совсем другая война.
И мы к ней привыкли. Мы ее видим каждый день по любой программе те¬
левидения. Война в Африке, Азии, Латинской Америке, Югославии, у нас.
Мертвые, стрельба, отрубленные головы стали привычным, ординарным
зрелищем. Люди в это время пьют чай или водочку. Постепенно уничто¬
жается острота восприятия. Атрофия чувств. Тысячи молодых людей го¬
нят на войну, а некоторые и сами туда прут, пробираются любым спосо¬
бом. И не только из-за денег. Им просто нравится воевать, нравится, когда
тебе разрешено убивать. А заповедь «Не убий», ни за что не убий — даже
если это невольно случилось, то как ты потом будешь жить? С этой запове¬
дью многие-многие когда-то разминулись. Нравственная деградация об¬
щества нарастает. Некоторые товарищи объясняют это лишь тем, что боль¬
шевики когда-то отменили Бога. Повсеместно слышу: хотел, хотела бы
жить раньше, в другом веке. Не заблуждайтесь! И в том веке была война, и
в том веке были рабы-недолюди и господа. И тогда ловчили, брали взятки,
а за совесть и ум гноили в тюрьмах.
Все это общеизвестно. Другое дело, противно и мерзко, когда все это про¬
исходит при тебе, в твоем веке. Невыносимо видеть, как роются в мусор¬
ных ящиках старики, а мимо в лимузинах проносятся жирующие «новые».
— Вы живете в таком престижном районе, и даже у вас есть такие
старики?
— Есть, есть, полно. И никакие это не бомжи. Я их вижу каждый день. Ви¬
жу и думаю: а ведь кто-то из них воевал, спасал Родину. Или это его жена,
или вдова. А вокруг все врут. И правительство, и президент, и военные —
противно. Я не люблю, когда мне врут. И вы не любите. Теперь выясняет¬
ся, что и всегда врали. Говорили: восстановим справедливость, уберем все
льготы, дачи, а сейчас живут, как при Брежневе не жили. Всё хапают, и всё
мало. Бюрократизм развели такой, что скоро по этой линии попадем в Кни¬
гу Гиннеса. Чиновников в стране теперь, наверное, больше, чем тараканов.
Эх, Шукшина на нас нет с его сакраментальным вопросом: «Что же с нами
происходит?» А то, Василий Макарович, и происходит, что происходит.
Сами виноваты. Все на нью-йоркское ЦК не свалишь. Сами виноваты. И я.
Я тоже свой вклад в общее дело внес.
— В этой общественной ситуации и учитывая, что для вас, человека ве¬
рующего, война, как вы сказали, — самое ужасное на земле, остается ли
Отечественная война 41-го года народной и священной?
— Да, безусловно. Для народа это была народная война. Такая же, как
война 1812 года. Потому народ и оказался непобедим. Есть войны справед¬
ливые. И Сергий Радонежский когда-то благословил Дмитрия Донского
на кровавую битву. Я свято отношусь к этим людям, которые воевали, и
когда вижу их на улицах, всегда останавливаюсь, пытаюсь заговорить, поз¬
дравляю и благодарю. Я к ним свято отношусь.
Когда-то давно мы вчетвером поехали на машине в Ленинград. За ру¬
лем был Игорь Слабневич, известный кинооператор, танкист, он на сво¬
ем «Т-34» доехал до Берлина. Он с Ларисой снял «Крылья». Мы дружили
семьями. Еще в машине были его жена Кима, Лариса и я. Шел проливной
дождь, мы ехали медленно, о чем-то трепались, шутили. И вдруг увидели
справа от шоссе такую картину: в абсолютно безлюдном поле, низко скло¬
нив непокрытую голову, на размокшей земле стоит на коленях какой-то
мужик в телогрейке. Стоит перед небольшой, стандартной, фанерной тум¬
бочкой с жестяной звездой на вершине. Такие ставили тогда на солдатских
могилах. Игорь остановился и заглушил мотор. Мы долго-долго сидели
молча и плакали. Дождь лил и лил. А мужик этот, не шевелясь, продолжал
стоять на коленях.
С тех пор я в памяти неоднократно возвращался к этому дню и мыслен¬
но стоял с ним рядом на коленях перед этим скромным обелиском.
«Искусство кино», № 5, 1995 год
Элем Климов - Марина Мурзина
«Мы должны сберечь товарищество»
Когда в 1986-м, после V съезда Союза кинематографистов СССР, в союз
пришло новое руководство во Главе с Элемом Климовым, сколько было
искренней радости, высоких слов! А потом началась работа, и оказалось,
что делать «ежедневную революцию», переводить лозунги на язык цифр,
законов, моделей, постановлений куда сложнее, чем провозгласить перево¬
рот и сплотиться на этой основе.
Мы привержены крайностям: недаром предостерегал нас классик от «фа¬
натизма симпатий и антипатий». Не защищать и не осуждать, не уравнове¬
шивать привычно критику самокритикой «в духе времени», а попытаться
разобраться. Вот в чем мы видели задачу, встречаясь в апреле 1991 года на¬
кануне VI съезда Союза кинематографистов СССР с его первым секрета¬
рем ЭЛЕМОМ КЛИМОВЫМ.
— Общий эйфорический настрой, объединивший нас после V съезда, ко¬
нечно же, давно прошел. Мы были неопытны, крайне сложно оказалось
взорвать старую структуру кинематографа, само устройство союза — это
колоссальная инерция, самодействующий механизм...
Уже идут и будут продолжены на съезде дискуссии о том, каким вооб¬
ще должен быть творческий союз: профсоюз или союз единомышленни¬
ков? Но единомыслия в творчестве нет и быть не может. Какое едино¬
мыслие возможно, скажем, между Алексеем Германом и Станиславом Го¬
ворухиным? Они стоят на разных полюсах творчества. И тем не менее
ведь что-то нас объединяет, сплачивает! Абсолютное большинство кине¬
матографистов — за единый, крепкий, дееспособный союз. Видимо, это в
природе нашего искусства: оно — дело коллективное. Мы друг без друга
не можем, значит, мы родные. И главная наша общая забота — защита
творчества.
Неблагополучие, раздражение? Все это есть, витает в атмосфере союза...
Растет волна недоброжелательства, душевного негативизма. Уличительст-
ва. Возникают целые кланы уличителей, обвиняют друг друга в безнравст¬
венности, буквально ловят за руку... Доходит до визгливых нот. Увы, чаша
сия нас не миновала. Я понимаю, что и ситуация в обществе влияет, люди
устали, будущее неопределенно, но, видимо, и мы, и я в ответе, что не суме¬
ли сохранить в нашем сообществе воздух чистым.
— Бесспорно, по освобождению кинематографа «извне» сделано многое.
Но свобода не стала гарантией творческого взлета. Перелистала первые
вышедшие после V съезда статьи в печати о перестройке в кинематографе,
интервью, в том числе и с вами: «Вся перестройка в кино ориентирована на
то, чтобы перекрыть дорогу халтуре, потоку серости, конъюнктуре, что¬
бы открыть, расчистить путь таланту, освободить творчество»... Что
же изменилось по существу? От того, что теперь называют «чернухой»,
новой конъюнктурой, кинокоммерцией, зритель уже устал, это заметно и
по нашей редакционной почте: зачем такая свобода, если она ведет в нику¬
да, в «черный квадрат»?
— Увы, перекрыть дорогу конъюнктуре и халтуре по-настоящему не уда¬
лось. И, судя по всему, вообще не надо на эту тему обольщаться. Еще одно
противоречие: союз изначально должен защищать личность творца, неза¬
висимо от уровня таланта, какой бы жанр, направление он ни исповедовал.
Но кто будет решать, «выявлять» критерии, где талант, где — серость? Кто
будет «выбраковывать» или — опять! — запрещать? Где тут выход? Види¬
мо, нужно все-таки соблюдать в творческом сообществе атмосферу терпи¬
мости друг к другу, к чужим пристрастиям и убеждениям. И это тоже вхо¬
дит в представление о свободе.
Мы всячески поддерживаем свободный рынок в кинематографе, он неиз¬
бежен, но мы же и должны при этом выработать механизм защиты от него,
защиты искусства от рынка. Каким образом? Необходимо, чтобы сущест¬
вовала, оберегалась и была неизменной в искусстве некая нравственная до¬
минанта, и тогда всегда будет ясно, кто есть кто. И мы все по возможности
должны работать на сбережение этой нравственной доминанты, нравствен¬
ной идеи искусства, Выращивать ее, чтобы ее существование, ее поддерж¬
ка влияла бы на процесс и таким образом влияла бы и на народ, как он то¬
же своей нравственной составной влияет на нас, безусловно. Вот я, может
быть, наибольшее влияние на себя испытал в русских деревнях, когда в си¬
лу горестных обстоятельств снимал «Прощание с Матерой». Я тогда остро
ощутил то, чего нельзя сыграть,— доброту: женщина русская, деревенская,
ее доброта, ее душа — это было в центре работы. Этот фильм для меня, мо¬
жет быть, самый рубежный, фильм, который меня больше всего сформиро¬
вал. Я благодарен Валентину Распутину, его прекрасному произведению, и
мне очень жаль, что сегодня он не пишет художественную прозу, занялся
общественной работой... Это, конечно, тоже важно, но все-таки художник
должен творить, талант — это огромное достояние, данное от Бога...
Вот мы разломали старую систему в нашем кинематографе и наконец
встретились каждый сам с собой, и встреча оказалась... сложной, скажем
так. Я говорю прежде всего о встрече с собой в творчестве. Что может по¬
мешать сегодня человеку снять фильм, который он задумал так, как он за¬
думал, и о том, о чем он хочет? Практически никто и ничего. Теперь толь¬
ко внутренние твои свойства, то, что Пришвин назвал глубинным внутрен¬
ним поведением, определяет творческую судьбу, судьбу фильма, книги...
Обнаруживаются странные парадоксы, их даже можно воспринять как
реакционные. Помню нашу с Шукшиным поездку в Югославию. 1967 год.
Процессы в кино примерно те же, что у нас сейчас, все в эйфории: «Свобо¬
да, полная свобода!» Василий Макарович слушал-слушал, потом спраши¬
вает: «Ну, хорошо, свобода, а фильмы-то у вас есть?» — «Нет, фильмов у
нас пока хороших нет, зато свобода полнейшая». А он говорит: «А вот у нас
свободы нет, зато знаете, как бывает, когда гриб пошел из земли наверх, к
солнцу, а там асфальт, туда-сюда потыркался и загнулся, за ним другой по¬
шел, уперся головой всё в тот же асфальт, поднапрягся и уж ежели проло¬
мил, то такой красавец на свет божий явился, любо глядеть...» Смешной,
наверно, рассказ, но в нем — тот самый парадокс...
Видимо, искусство наполняется энергией в момент преодоления. Я не за
то, чтобы создавать новые препятствия и их затем преодолевать. Но испы¬
тание настоящей или почти настоящей свободой — это сложное испыта¬
ние. Мы с этим встречаемся впервые. В недавние времена мы научились
говорить, если нам вообще давали говорить, языком намеков, иносказаний,
аллюзий, интонаций, и я в том числе, другого пути не было. Теперь этого
не нужно — говори что хочешь. И выясняется, что многим, очень многим
нечего сказать. Вот это и есть та самая «встреча с самим собой»...
Я пытаюсь себе это объяснить и сравниваю два времени: после XX съез¬
да КПСС и теперь. Тогда было тоже поворотное время, время надежд, но
ведь возникла новая литература, кинематограф. В чем же дело? То время
породило новое поколение в искусстве, я помню физическое ощущение ра¬
дости жить, творить, надеяться. Может быть, лучшее время в моей жизни...
Для меня было трагедией, когда все это кончилось, хотя я и не сразу это по¬
нял. И, я думаю, именно эта травма сейчас многим не дает возможности
снова зажить этим состоянием, и, наверно, только новое поколение сможет
это ощутить и этим зажить. Мы сейчас как бы продолжаем то, что тогда бы¬
ло начато и прервано, а души, сознание отравлено, окислено.
Интересные новые работы есть, но речь-то ведь идет о потрясении, вер¬
но? А этого пока нет. Причем нет почти нигде в мире: я кинопродукцию бо¬
лее или менее знаю, вижу фильмы, которые получают первые призы на
международных фестивалях.
Самое главное — никто еще не прорвался в новое сознание. Я говорю не
о новом мышлении — термин этот сейчас часто употребляется. Я имею в
виду новое сознание. Может быть, человечество в целом, а не только люди
искусства нуждаются сейчас в новом сознании. И драматичный, мощный
катаклизм, который происходит в нашем обществе, может дать импульс
этому новому сознанию, как ни странно это звучит. Вдруг именно так вы¬
плавится новое сознание. Есть такое понятие «русская идея», понятие мно¬
го более сложное, нежели одно слово «всебратство», — она, может быть,
явится и новой всемирной идеей, выплавиться она может только здесь, у
нас. На Западе мне говорили разные люди: мы от вас этого ждем, мир ждет
нового света и надежды, свет и надежда придут от вас, вы выстрадали это
вашей трагической историей. И в прошлом ведь через катаклизмы рожда¬
лись новые гении, шедевры, новые предложения миру.
А Россия, моя родная Россия, которая столько страдала и выстрадала,
надеюсь, свое будущее, существовать будет неизбежно, что бы в нашем об¬
ществе ни произошло...
— Работа над картиной по булгаковскому роману «Мастер и Маргари¬
та» — ваша давняя мечта, замысел. Но тем не менее вы «переключались» в
какое-то время на другое...
— Да, и поэтому я так долго не начну снимать «Мастера» — сначала дол¬
го занимался другим проектом, рабочее название его было «Краткий курс».
Это должен был быть фильм не только о Сталине. Мы хотели поглубже за¬
глянуть в историю и понять, что же происходило и произошло у нас с ве¬
ковечной идеей о справедливом гармоничном обществе. Она вековечна, эта
идея, и, думаю, не умрет никогда. Мы потратили на замысел фильма много
сил, времени, но не жалеем об этом, может быть, и вернемся к нему...
Но у меня тогда все время было чувство, что я Булгакова предаю, что я
просто обязан снять «Мастера», я был нацелен на это много-много лет.
Так же было у меня с «Иди и смотри», с «Агонией» — я шел к этим рабо¬
там долгие годы. «Мастер» — фильм немыслимой производственной
сложности, очень дорогостоящий. Если преодолеем финансовые и прочие
сложности, снимать начнем только через год, не раньше. Я уж молчу о
проблемах творческих...
Это желание сделать невозможное (помните, у Андрея Платонова: «Не¬
возможное — невеста человечества, к невозможному летят наши души»?) —
оно еще и для того, чтобы воздействовать на себя: а вдруг и у меня возник¬
нет хоть клеточка нового сознания?
Я никогда в таких масштабах общественной работой не занимался и не
стремился, честно сказать. Время приказало, скажем так. Не жалею ли?
Я сам себе задаю этот вопрос, но ответить пока не могу. С одной стороны —
очень жалею: я бы уже сделал фильм, у меня не произошло бы этого раз¬
двоения сознания. Года через полтора после прихода в союз я сказал кол¬
легам, что стал понимать: со мной уже происходят изменения на молеку¬
лярном уровне — от текучки, бумаг, заседания, от отравления человечес¬
ким фактором. Но «отпуск» мой — это ведь тоже было относительно: все
равно был в курсе всех дел, шли постоянные звонки, бумаги подписывал...
Когда ничего не возглавляешь, ты живешь естественной жизнью, выбира¬
ешь себе круг общения — и это естественный процесс. А здесь находишься
в противоестественном состоянии — к тебе приходят все, ты узнаешь всех,
узнаешь масштабы корыстного индивидуализма. Вылечить эту «болезнь»
можно только творчеством, и потому сделать фильм я хочу страстно и бу¬
ду делать, даже и ради самосохранения. И фильм меня уже спасает. С дру¬
гой стороны — ко мне пришло новое знание, чего бы не было, не окажись я
на этом посту. В голове теперь уже иная «панорама», она останется во мне,
и это, по-своему, благо...
Что касается продолжения моей работы в союзе... Надо ввести в опыт, в
традицию постоянную сменяемость руководства. Если мы хотим, чтобы на
этом посту были люди действительно творческие, уважаемые — такие лю¬
ди не могут отрываться от работы, которой посвятили свою жизнь, на боль¬
шой срок. Хотелось бы, чтобы человек этот постарался все-таки, несмотря
ни на что, сберечь наше товарищество.
«Известия», 1990 год.
Публикуется с сокращениями
Элем Климов - Ирина Рубанова
Бездна
— Признаюсь, для меня все еще остаются загадочными несколько момен¬
тов, связанных с фильмом «Иди и смотри», хотя ты, спасибо тебе, посвя¬
щал меня и в первичный замысел, давал читать сценарий «Убейте Гитле¬
ра», и в некоторые перипетии работы и прохождения окончательного вари¬
анта картины. Одна из загадок состоит в том, как возник этот замысел.
Меня интересуют и внешние обстоятельства, и внутренние побуждения:
какому моменту твоего самочувствия, твоего душевного состояния оказа¬
лась созвучна «Хатынская повесть» Адамовича?
— Внутренние побуждения, действительно, ты права, — это самое су¬
щественное, давали о себе знать давно, очень давно. Я с некоторых пор
часто вспоминаю свое военное детство. Что я тогда видел, что пережи¬
вал, что чувствовал. Детство ведь пришлось на войну. Но это были, как
бы это сказать, нехудожественные мысли. Никакой формы, никакого
облика, никакого ритма. В свое время схватился было за «Пастуха и
пастушку» Астафьева, очень пронзительная вещь, но меня быстро убе¬
дили, что это не пройдет. И чего-то там мне не хватало, размаха, что ли.
Но Астафьев так, мелькнул и исчез во мне. То есть внутреннее побуж¬
дение сделать свой фильм о войне, отдать долг и сказать свое слово, бе¬
зусловно, зрело. Но не могло оформиться, потому что не попадался сю¬
жет, я не находил своего материала.
— Ты говорил о своих воспоминаниях — Сталинград, эвакуация, послевоен¬
ные годы... Не было желания на этом строить фильм?
— Что-то в мозгу мелькало, но...
— До дела не доходило?
— До дела не доходило, хотя я и думал, что когда-нибудь что-то личное о
войне сделаю. А потом эти поиски и сомнения привели меня к Адамовичу.
И круг замкнулся.
Но была еще иная, глубинная причина — недовольство собой после
«Агонии», о чем я талдычу давно и постоянно. Оно возникло сразу после
завершения фильма — меня совсем не удовлетворяет то, что я с этим мате¬
риалом сотворил. Много видимой, навязчивой режиссуры, и много вещей,
которые не сделаны по-настоящему, учитывая, что я имел превосходных
исполнителей, ну хотя бы Алексея Петренко.
— Какой он исполнитель, выяснилось ведь только в процессе работы.
— Я как-то с «Агонией» внутренне быстро рассчитался, и возник некий
комплекс недовольства собой. Мне казалось, что я сквозь пальцы пропус¬
тил замечательный материал, который давал возможность и режиссеру, и
актерам, и всем прочим сделать нечто иное. Потому что теперь — фантас¬
магорический момент! — если бы я снова делал этот материал, делал бы его
по-другому, совсем по-другому.
— Изменилось время, изменился ты...
— Это отговорка. Так каждый может по любому поводу сказать. Я стал
искать материал, где бы мог реабилитировать себя в собственных глазах.
Довольно скоро кто-то подсказал мне «Хатынскую повесть» Алеся Адамо¬
вича. Она меня сразу захватила, сразу. Мы вскоре с ним познакомились, с
Алесем Адамовичем...
— Все это происходило до того, как Лариса стала снимать «Восхожде¬
ние»?
— До того. Сейчас я тебе скажу когда. «Агония» закончена в 75-м, значит,
мы уже в начале 76-го начали с Алесем работать. А Лариса тоже в 76-м сни¬
мала «Восхождение», так что это происходило параллельно.
Мы долго и мучительно писали сценарий, фильм рождался сложно. Но
надо сказать, что Адамович меня познакомил с другой книгой, инициато¬
ром которой он был, — «Я из огненной деревни». Это книга свидетельств
людей, которые пережили Хатынь, чудом остались живы. Ты знаешь, Ада¬
мович, Янко Брыль и Владимир Колесник за свой счет, на своей старень¬
кой машине, с магнитофоном и с фотоаппаратом объездили огромное ко¬
личество белорусских деревень, выискивая этих людей. Нашли, записали,
сфотографировали, даже пластинку вложили гибкую в эту книгу.
— Это документальная книга?
— Документальная. Может быть, один из фрагментов окончательной
правды о войне. Потом Алесь Адамович и Даниил Гранин тем же методом
сделали «Блокадную книгу». Это тоже книга свидетельств. Я к тому, что
«Хатынская повесть» — художественное произведение. А вот эти докумен¬
тальные книги — они мера правды. Ее, эту правду, уже нельзя не прини¬
мать во внимание.
— Ты имеешь в виду правду записанных событий?
— Саму запись событий, детали, ощущения людей, масштаб этих собы¬
тий... Немцы быстро захватили Белоруссию, Минск пал, по-моему, через
семь дней после начала войны. Сперва людям казалось: все не так страшно,
жить можно. Хотя, естественно, бои, жертвы первые — словом, война. Но
потом выяснилось, что жить невозможно, а белорусы умеют сопротивлять¬
ся. Немцам это не понравилось...
События в Белоруссии не вписываются в план «Ост» — план уничтоже¬
ния восточных славян. Я читал инструкцию Гиммлера (она приведена в
«Огненной деревне»), где, в частности, предлагается уничтожить все или
почти все население Белоруссии, оставив лишь минимум людей-рабов,
чтобы они строили на этой территории немецкие колонии. Распахать всю
Белоруссию, изменить полностью ее природу, чтобы это было некое ги¬
гантское поле, засеянное коксогызом (из коксогыза добывается только ре¬
зина, в пищу он не идет). Поэтому Адамович правильно говорит, а он зна¬
ет лучше меня этот вопрос: на территории Белоруссии проводилась репе¬
тиция того, что постепенно в той или иной форме должно было случиться
со всеми покоренными народами Европы. И по этим причинам в Белорус¬
сии настал ад, ад геноцида, когда жгли, убивали, уничтожали. Что там тво¬
рили каратели, никакое воображение, даже безнадежно больное, не в состо¬
янии представить. Я знаю столько случаев, которые в фильме показать не¬
возможно. Ну невозможно на это смотреть. Как сожгли, например, одну де¬
ревню — взрослых всех согнали в амбар, а детей оставили. А потом, пьяные,
окружили их с овчарками и заставили овчарок съесть детей. То есть это
уже убийство как извращение.
— Шабаш смерти..
— Детей сажали на колья в заборе...
— Наверное, что-то такое гнойное вскрывала в человеке эта работенка.
— То самое, о чем Достоевский сказал: «Человек — это бездна. Ты в нее
смотришь, а она смотрит в тебя». Оттуда может такое выползти из челове¬
ка! Это важная линия фильма: во что могут превратиться люди, когда пе¬
реступают порог нравственности, морали. Это уже не война, а тотальное
убийство и озверение. Короче. После встречи и разговоров с Адамовичем
я вдруг ясно понял: вот она, моя тема, где можно святое дело сделать, рас¬
сказать о величайшей трагедии целого народа, о войне, которая, как мы
сейчас говорили, перерождается в подобие ада. И посмотреть на человека
в пограничной, экстремальной ситуации: что он такое есть и что он может
выдержать. И увидеть, насколько сильны человек и народ, который может
такое вынести.
— Хотелось бы понять, как возникла шоковая эстетика фильма, его, я бы
сказала, режущая острота. Кому-то это нравится, кого-то отталкивает,
здесь впечатления и суждения разделились, ты знаешь об этом. Многие наши
критики и зрители, а также восточные немцы (с которыми мне приходилось
разговаривать) недоумевают вот по какому поводу. Тема законная, не приду¬
манная, взятая из жизни, это бесспорно. Но обращение с материалом, эсте¬
тическое его формирование вызывают вопросы. Подобное отношение к мате¬
риалу было в первых советских фильмах об ужасах войны «Она защищает Ро¬
дину», «Радуга». Но тогда это преследовало и агитационную цель, подобно во¬
енным плакатам и легендарному стихотворению «Убей его». Что ты можешь
сказать на этот счет? Если тебе захотелось восстановить именно детские,
первичные ощущения от войны, сформированные в том числе и теми фильма¬
ми и плакатами, то почему, по какой причине?
— От подобной критики мы защищены тем, что народ не забыл ниче¬
го, он не может забыть. Эта память продолжает жить в генах детей и
внуков, еще живы многие, кто сам пережил все это. И она, эта война,
вошла в кровь народную. Никакие мемориалы, какими бы прекрасны-
ми они ни были, как тот же Хатынский, не могут унять эту боль и за¬
глушить память, понимаешь?
— Все так. И одновременно «Иди и смотри» — весьма эстетизированная
вещь.
— Там многое красиво, ничего не скажешь.
— Ты не делал белорусскую картину.
— Нет, естественно, тема шире.
— Надо начать с того, что это универсальная картина.
— Мы сейчас к этому подойдем. Но конкретика фильма вся белорусская,
и все, кто снимался, — белорусы, которые видели войну или хорошо о ней
знают.
— Кроме Алеши Кравченко...
— Да. Очень важно было насытить его информацией, «перевоплотить»
его в белоруса, да и он очень постарался. Кстати, он хорошо говорит по-бе¬
лорусски, сам научился. Знаешь, говорят: тот, кто забывает свое прошлое,
обречен пережить его заново. А сейчас мир так тревожен, каждый день на
Ближнем Востоке, где-то еще свершаются свои Хатыни. Убивают женщин,
детей, беззащитных людей — в общем, расправляются с народом и вершат
его судьбы. Кто-то сказал, что Хатынь была репетицией Хиросимы, что это
наша Хиросима. А Хиросима — репетиция того, что с нами всеми может
произойти. После этого уже ни фильмов, ни критики фильмов больше не
будет. Мир чреват огромными опасностями.
Теперь о том, о чем ты спросила. У каждого человека как бы два созна¬
ния — бытовое и высокое...
— ...историческое.
— Высокое сознание отличает человека от других существ. Но живем мы
бытовым сознанием, и как бы там ни кричали газеты, что бы ни показывал
телевизор, бытовое сознание побеждает. Чтобы бытовое сознание стрях¬
нуть, поднять зрителя к высокому сознанию, то есть вернуть его к его сути,
необходимо потрясение. Для этого требуются острые, шоковые формы.
Фильм называется «Иди и смотри», ты, конечно, знаешь, что это рефрен
Апокалипсиса.
Вот сумма причин, по которым мы шли этой дорогой. Когда мы начали
работать, мы другого пути не видели, кроме как добираться до подлинных
фактур поведения наших персонажей. Чтобы зритель оказался как бы сам
в центре этих событий и забыл про режиссера, оператора, художника, акте¬
ров... Многие говорят, что с определенного момента картины про нас забы¬
вают, и слава богу. В какой-то мере фильм «Восхождение» добился этого
эффекта отождествления, когда кажется, что вроде как с тобой все эти ка¬
таклизмы происходят.
— Что ты думаешь о насилии в искусстве? Не только в связи со своим филь¬
мом. Видел ли ты картину Пазолини «Сало, или 120 дней Содома», кстати,
тоже о войне и фашизме, которая дальше всех ушла по этой дороге?
— Нет, не видел, к сожалению, не вышло.
— Но видел, наверное, что-то другое. Такого много в современном кино.
И не происходит ли через показ этих безумных ужасов и безмерных страда¬
ний выработка зрительской привычки к ним? Согласись, ведь такая опас¬
ность есть.
— Да, конечно, происходит привыкание к насилию.
— Скажем, «Ночной портье». Очень сильное произведение, но там измы¬
вательства над человеком, унижение его достоинства облачены в какую-то
зловещую красоту.
— Важна авторская позиция. Показ насилия — это протест против не¬
го или мода, коммерция? Тут эффект снежного кома. Показал насилие —
в следующем фильме надо поперчить еще крепче, а потом еще и еще, и
у зрителя вырабатывается привыкание, что-то похожее на наркома¬
нию. А если к тому же здорово сделано, испытываешь соблазн и само¬
му совершить нечто подобное. Кинематограф показывает жизнь в фор¬
мах самой жизни, и часто для фильмов — западных, в частности, — спе¬
циально придумывают сюжет, чтобы показать насилие. В картине, о ко¬
торой мы ведем речь, это непридуманное насилие, такое было... Мы
только отражаем то, что было.
— Происходит, с одной стороны, привыкание зрителя, а с другой...
— ...эскалация насилия в жизни. Насилие заполонило мир, въелось во все
его поры.
Почему люди убивают, насилуют, истязают друг друга? У меня нет отве¬
та на этот вопрос, но он меня преследует.
— Уже сорок лет, как кончилась Великая война, и сорок лет мир не жи¬
вет без войны. Война идет именно в этих, в бандитских формах. Война без
правил, когда на маленькие народы наваливается гигантская сила. Про¬
цесс насилия предполагает жертву и насильника. Насильник ведь тоже че¬
ловек. И как таковой он, наверное, тоже является предметом искусства.
— Да, безусловно.
— В «Иди и смотри» есть эта тема, хотя она и не основная.
— Правильно, не основная, но она присутствует. Потому что кто это все
делает? Это же люди делают. Как бы мы их там ни обзывали, но это люди.
Почему одни жертвы, а другие — насильники? И во что могут превратить¬
ся и те, и эти?
— «Иди и смотри» может быть причислен к огромному, длинному ряду
фильмов антивоенных, антифашистских. У подобных картин всегда есть
две духовные доминанты: с одной стороны, страдания безмерные, ужасы
невиданные, а с другой — сопротивление, несмотря на все страдания. Поч¬
ти во всех фильмах, согласись, начиная с самых ранних — «Она защищает
Родину», «Рим — открытый город», «Пепел и алмаз», — во всех выдающих¬
ся фильмах есть тема сопротивления, желание сохранить честь свою или
народа. Даже не честь, а просто...
— ....свое будущее сохранить.
— Сохранить будущее — эта тема очень сильно реализована.
— Есть как бы внутренний аспект: во что война может превратить крес¬
тьянского мальчика, а он ведь плоть от плоти своего народа? Обстоятель¬
ства могут превратить его в монстра, в нелюдь, в убийцу — в общем, обсто¬
ятельства против него. И для этого нам понадобился монтаж хроникально¬
го в основном материала: время откручивается назад, перед нашим героем
младенец Гитлер, и мальчик должен решить, стрелять в младенца или не
стрелять в младенца. Он не стреляет, хотя и помнит, что это невинное со¬
здание, став взрослым, сделало с его народом.
— У Брехта есть: «Еще способно плодоносить чрево, которое...
— ...вынашивало гада». Мы предоставляем нашему герою право расстре¬
лять, так сказать, историю.
— Это фигура речи и историческая гипотеза.
— Естественно. Но мы психологически подводим мальчика к этому.
— Как хочешь, но то, что этот мальчик не стреляет в мальчика Гитлера, —
неправда. Я в это решительно не верю. Этот мальчик будет стрелять.
— Ну, хорошо, это авторское предположение.
— Это больше, чем просто авторское видение. Это манифест, некий гума¬
нистический проект. А вот скажи, пожалуйста, права я или нет, что ог¬
ромная сцена острова изгнания связана с темой самостояния, с которой и
я себя связываю внутренне, когда думаю, как выстоять, сохранить себя, не
дать себя исказить — ни угодничеством, ни сотрудничеством, ничем? Эта
крестьянская массовка, причитающая всеми голосами столетнего фолькло¬
ра, ведет основную тему духовного сопротивления объятых ужасом, но все
же несломленных людей, сохраняющих в себе человеческое.
— Они остаются людьми, и, конечно, этот остров в значительной сте¬
пени метафора или модель истории. То есть когда Алексей соединяет¬
ся с теми, кто на острове, а потом снова от них уходит, он чувствует се¬
бя одним из них. Поэтому я и говорю: он несет тему народа. А потом он
опять попадает в эту деревню несчастную, где вместе со всеми оказыва¬
ется в кошмарных обстоятельствах. Поэтому то, что он один вышел от¬
туда, словно бросил их там, — груз на его совести. Кстати, я консульти¬
ровался с психологами, с психиатрами. Вернее, еще сценария не было,
я им просто задал вопрос: что может произойти с человеком после та¬
кого стресса? Сойдет с ума? Но мы не хотим клиники. Мне ответили:
он уснет, сон — спасение для организма. Герой наш тоже уснул, потому
что иначе сошел бы с ума.
Многие жертвы из «огненных деревень» рассказывают и другое: «Я ус¬
нула под трупами, когда всех расстреливали. Потом каратели ушли, я вы¬
ползла, смотрю: все лежат — дети мои здесь, родные, все соседи лежат, все
убитые, никто уже не шевелится, вечер. Я пришла на берег реки и поняла,
что никого уже в мире нету, я одна. А что ж я жить-то буду? Я решила уто¬
питься».
— Мы уже говорили о том, что незнакомые зрителю лица на экране гаран¬
тируют фильму дополнительную подлинность.
— Мы руководствовались принципом — снимать в предельно подлинных
обстоятельствах.
— В первом варианте все-таки предполагалось участие известных акте¬
ров. Стефания Станюта должна была играть.
— Она не была тогда известной актрисой... Я предполагал, что старосту
сыграет Петренко. Но, в общем, все это были игры... Знаешь, может, и хо¬
рошо, что я не тогда, а сейчас этот фильм снимал. Что-то во мне измени¬
лось за эти годы.
— Ты считаешь, что принцип работы с непрофессионалами себя полно¬
стью оправдал?
— Другого пути я не видел и не вижу. Если бы я сейчас начинал фильм,
вообще ни одного актера в нем не было бы.
— Большинство из непрофессионалов были причастны к тому, что пред¬
стает на экране, и таким образом они возвращались к себе, а не влезали в чу¬
жую шкуру?
— И понимали, для чего они это делают. Старик, который старосту игра¬
ет, на этом острове был. Он и начинает фильм. Но чтобы оценить его актер¬
ский подвиг, надо понимать психологию и особую этику деревенского че¬
ловека. Его, совершенно раздетого, а вокруг четыреста баб, дети, полкило¬
метра несут по болоту на носилках, потом кладут на мокрый мох, все во¬
круг стоят, а он еще должен монолог произносить. Это не так просто для
него, он же не актер. Тем не менее мы синхронно этот кусок сняли, он сам
все сказал, это его голос.
— Я была уверена, что это актер.
— А вот и нет. Это и есть наш старик. Казимир Рабецкий.
— Поляк.
— Да. Человек, очень пострадавший в войну, с пробитой головой, с тубер¬
кулезом. И недавно его дочка погибла. В общем, многое на его долю выпа¬
ло, но он не потерял ни жизнелюбия, ни юмора. Какой-то он жутко живу¬
чий. И талантливый человек.
Важно было проявить в них эту память, задеть за живое. Много пожи¬
лых людей снимались, а работали мы как раз в тех местах, где все в вой¬
ну и происходило. Там буквально каждая деревня пострадала. О чем бы
ни зашел разговор, через две минуты он переходит на войну. Невоз¬
можно от этого уйти. И поэтому они снимались. Нам их и жалко было,
потому что они должны были второй раз все пережить. Мы, признаюсь,
довольно жестко, серьезно с ними работали. А люди все-таки наивные.
Кто-то пустил слух, что их действительно сожгут, мол, бегите отсюда,
киношники — это такие черти, они все могут сделать. И когда мы подо¬
жгли амбар, вокруг стояла огромная толпа, ждала этой съемки. Мои
помощники предложили трех-четырех человек в амбар завести, чтобы
они из окон высовывались, а потом через заднюю дверь оттуда выбежа¬
ли. Там через десять секунд уже бы все погибли, трагедия произошла
бы. И вдруг во время съемки я слышу вой за спиной. И думаю: вот ка-
кое впечатление зрелище производит. Нет, оказывается, один шутник —
он играет переводчика с завязанной шеей — пошутил: ну, говорит, ба¬
бы, ничего, не горюйте, там всего семь человек осталось. И такой вой
поднялся!
— Знаешь, мне, честно сказать, не нравятся в картине пустые горящие
дома. Может быть, этим бабам и кажется, что там кто-то есть, а я ви¬
жу, что горят декорации...
— А это не декорации, мы жгли пустые деревни.
— По-моему, ты отходишь от своих же принципов подлинности. Я бы это
убрала. Я думаю, что и ты, и Адамович, видимо, отдавали себе отчет, что
картина может вызвать сильное недовольство публики в других странах,
прежде всего в Германии.
— Мы это понимали, конечно, но менее всего этим заботились.
— Вы считали, пусть они сами разбираются?
— Конечно. Вот один, кстати, западный немец, молодой, умный человек —
он очень высоко оценил картину — подошел после просмотра и сказал мне:
«Элем, это мы должны были сделать эту картину. А сделали вы».
— В том-то и дело. Об этом и мой вопрос.
— Но они же не делают об этом картины. А ты знаешь, что про Хатынь
никто в мире не знает? Никто. Про Катынь знают, поскольку вокруг нее
много сложных борений. Катынь — это под Смоленском, Катынский лес.
А Хатынь — одна из тысяч сожженных немцами белорусских деревень.
Про нее все забыли и не хотят ничего знать.
— Не знали, это же война в тылу.
— У нас же пишут, что-то издают на эту тему.
— Адамовича не издают.
— Не хотят люди это вспоминать.
— Конечно. Как мы не хотим про Катынь, извини меня, вспоминать. Есть
ли у тебя намерения в ближайшее время работать и над чем?
— Намерения-то есть, но...
— А силы?
— Силы вроде бы есть.
— А возможности?
— Я хочу «Бесов» делать. Мечтаю давно, ты знаешь, и вроде как к этому
подошел. Как мне кажется, смогу. Может, практика покажет обратное, но
сейчас у меня такое чувство, что смогу. Вопрос в том, как это дело решит¬
ся, дадут — не дадут.... Мне сказано было: «Да нет, да зачем, ты же знаешь,
сколько в этом романе напластовано всякого...» С него, с романа, еще не
сняты обвинения. Я говорю: «Может, хватит? Уже новые времена».
— Обвинения сняты. Если в Госкино не знают об этом, их надо просве¬
тить.
— В общем, разговор такой: «Давай-давай, подумай, я там посоветуюсь,
ты тоже подумай, перечитай...»
— А не хочешь что-нибудь этакое беззаботное сделать?
— Беззаботное? Ну вот у нас был сценарий с братом Германом, он, прав¬
да, не очень беззаботный. Приключения немца в России XVIII века.
— Ничего себе беззаботный сценарий!
— Ну да, страшненький, но там много смешного.
— К тому же гигантская постановочная работа!
— Да, гигантская.
— Значит, ты теперь хочешь только эпопеи делать?
— Нет, просто прилив энергии имеет место.
— А просто для разрядки ничего не предполагается?
— На разрядку все равно уйдет два года, понимаешь? Никуда не денешь¬
ся, таков процесс.
Два года я на разрядку пущу, мне будет уже пятьдесят четыре. А в пять¬
десят четыре сложнее, чем в пятьдесят два, большую картину делать, та¬
кую, где надо действительно выложиться.
— А так ты пять лет будешь пробивать тему.
— Посмотрим. Хотя энергия и бродит, а мне надо поехать отдохнуть.
Я все-таки год работал без выходных...
Запись 1985 года, сентябрь.
Опубликовано в журнале «Искусство кино», № 5, 2004 год
Элем Климов - Александр Липков
Полной мерой правды
— Что явилось побудительным толчком к созданию «Иди и смотри»?
— Вскоре после окончания «Агонии» кто-то дал мне почитать «Хатын¬
скую повесть» Алеся Адамовича. Прочитав ее, я понял, что это тот матери¬
ал, который мне нужен, который я обязан воплотить: не имею права уме¬
реть, не сняв этого фильма.
Желание сделать его наложилось во мне на давний замысел рассказать о
войне. Только прежде по привычному стереотипу брезжил фильм, постро¬
енный на собственных воспоминаниях. Представлялось, что рассказ будет
вестись через мальчика, то есть через себя, и детские впечатления посте¬
пенно будут расширяться, перерастая в Слово о Войне.
Мне было восемь лет, когда началась война. Мы жили на электростан¬
ции, на СталГРЭС — тогда она была единственной в городе. И отец и мать
строили ее. Мать преподавала физкультуру в местной школе, отец пошел
на стройку по комсомольскому призыву, тут же учился. Он хорошо рисо¬
вал, собирался в Ленинград поступать на архитектурный, но по законам то¬
го времени отпущен не был — нужны были люди. И он стал конструктором,
пошел работать на станцию.
Сталинград — город длинный, вытянувшийся, как кишка, вдоль Волги.
Если смотреть с реки, то поселок наш находился километрах в двадцати от
центра. В начале войны я пошел в первый класс, но практически учился
уже на дому — начались бомбежки, школу закрыли. Когда немцы прибли¬
зились вплотную к городу и все вокруг уже было в огне, нас эвакуировали.
Время Сталинградской битвы мы провели на Среднеуральской ГРЭС, под
Свердловском.
В общем, я испытал и увидел то, подобное чему выпало тогда всем детям
войны: был путь на пароме через горящую Волгу под падающими с неба
бомбами, был голод, холод, была жизнь в разрушенном Сталинграде, куда
мы вернулись сразу же после окончания битвы, были детские игры с таки¬
ми игрушками, от которых многие остались без рук, без глаз и просто по¬
гибли (оружие, патроны, гранаты можно было найти буквально под нога¬
ми, или по крайней мере поблизости, причем в количествах неограничен¬
ных), были шрамы, оставшиеся мне на долгую память.
Все эти краски военного времени продолжали жить во мне, и я верил,
что когда-то расскажу об этом в фильме. Форма его была еще очень и
очень неопределившейся, но желание сделать его было, и лишь ждало сво¬
его часа.
Немаловажным, думается, было и то, что книга Адамовича попала мне в
руки после «Агонии», работы, которую я далеко не во всем считаю удав¬
шейся. Распорядиться таким богатым, интересным, открывающим огром¬
ные возможности материалом мне как следует не удалось. Так что хотелось
уроки, вынесенные из этой работы, приложить к большой теме, требующей
и глубины понимания истории, и всего профессионального умения. С это¬
го начались первые подступы к картине.
Мы с Адамовичем познакомились. Понадобилось совсем немного време¬
ни, чтобы понять, каков масштаб его личности, ее глубина и особость, ка¬
кой гражданской страстью он жив. Это человек такой же большой неуспо¬
коенной совести, как Распутин, Астафьев, Белов, то есть писатели, не за¬
мыкающиеся лишь своей литературной работой, которая конечно же пер¬
востепенна, но ощущают себя общественными деятелями, ответственными
за все, что происходит в стране. Но и среди них Адамович поражает широ¬
той, разноплановостью своих интересов. Он ученый, литературовед, фило¬
лог, член-корреспондент Белорусской академии наук, он литературный
критик, публицист, писатель. Особо надо говорить о его деятельности бор¬
ца за мир, которой он отдает себя до конца всерьез, глубоко и истово. Это
еще и удивительно цельный, скромный, самоотверженный человек: за каж¬
дой из его книг — огромный, кропотливейший труд. Дважды со своими то¬
варищами, без всяких творческих командировок, за свой счет он объезжал
всю Белоруссию, записывая на магнитофон свидетельства людей, пере¬
живших трагедии, подобные хатынской. Сколько труда надо было поло¬
жить, чтобы разыскать этих людей, добраться до них, вывести на этот тяго¬
стный для них разговор, а потом, чтобы пробить эту книгу — «Я из огнен¬
ной деревни». Это теперь кажется непонятным, что могло препятствовать
ее выходу, но время тогда было иное. Тогда и Василю Быкову не просто
жилось — это сейчас он общепризнан, увенчан лаврами, и уже забывается
то, что было когда-то.
Два этих очень разных писателя — Адамович и Быков — являют собой
два столпа интереснейшего в нашей литературе явления — белорусской
военной прозы. У них все несходно — и манера писать, и слог, и склад
таланта, но цель и суть едины: писать правду о войне, о том, что с чело¬
веком на ней происходит, выражать свое нравственное отношение к это¬
му. Василь Быков с его нескончаемой чередой военных повестей (лич¬
но мне хочется, чтобы она никогда и не кончалась), наверное, потому
так убедителен в каждой из них, что живет постоянным внутренним
ощущением своей предназначенности этой теме и этой правде. Кстати,
Быков неизменно шире собственной военной тематики (в «Знаке беды»
это стало особенно очевидно): все, что происходит с его героями на вой¬
не, все их поступки предопределены тем, что было прежде, как они до
войны жили.
Что же касается Адамовича, то книгой «Я из огненной деревни» он открыл
нечто новое в литературе о войне: отныне любой хорошо придуманный сю¬
жет не может не споткнуться об эту окончательную, что ли, правду — прав¬
ду, сказанную самим народом. Эта книга стала рубежной, пороговой: она
перечеркнула любую полуправду и четвертьправду, любую фальшь, на ко¬
торые так щедры сочинители военных повестей. Она стала эталоном чест¬
ности, дала толчок рождению подобной же литературы. Тот же Адамович
вместе с Граниным сделали «Блокадную книгу», молодая писательница
Светлана Алексиевич написала «У войны не женское лицо» — подвиг ее на
эту работу Адамович.
Я говорю обо всем этом, потому что не только «Хатынская повесть», из
которой взяты герои и сюжетная канва, стала основой сценария, но также
и «Каратели», над которыми Адамович в то время уже работал, и фрагмен¬
ты дилогии «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой», и его размы¬
шления, и материалы его архива, и люди, которых он привел с собой, и лю¬
ди, которых мы нашли уже вместе, объездив немало мест в Белоруссии.
Вся плазма творчества Адамовича питала наш сценарий, а контролером
подлинности, по которому проверялось все написанное и снятое, была
книга «Я из огненной деревни», всегда лежавшая на моем столе.
Когда настало время съемки хатынского эпизода, было много волнений:
как привести людей в нужное нам состояние? Причем среди участников
массовки было немало тех, кто сам пережил подобное сорок лет назад, и их
надо было заставить вспомнить кошмар, через который они прошли. Вооб¬
ще в Белоруссии память о войне жива, наверное, как нигде. Заговори с лю¬
бым, особенно в деревне, и через минуту разговор перейдет на войну — обя¬
зательно, непременно. Все сегодняшние отношения между людьми подо¬
плекой своей, уходящим в глубь лет шлейфом имеют события войны. «А ты
где была? В твоем дворе что происходило? А как твой свояк оказался в по¬
лицаях?..» Все на войне замешано, все с ней связано.
И тем не менее эмоционально настроить людей на обостренно глубокое
переживание трагедии тех лет, заставить их заново окунуться в тот ужас,
память о котором живет в каждом из них, а в молодых, можно даже ска¬
зать, живет генетически, было делом совсем не простым. Приехал Адамо¬
вич, мы сидели в гостинице, советовались: как быть? Как? Криками, при¬
зывами в микрофон мало чего можно добиться, а помимо всего я понимал,
что нельзя переступить и через какой-то порог, после которого мы сами
уже не сможем управлять людьми, не сможем вывести их из того состоя¬
ния, в которое сейчас хотим их привести. И тогда пришла мысль: а что, ес¬
ли собрать их всех в кружок и прочесть страницы «Я из огненной дерев¬
ни» — ведь это же книга их собственных свидетельств? Взялся ее читать
сам Адамович, и правда этой книги поразительно повлияла на сознание,
на состояние, на чувства людей. Реакция была очень бурной — и молодых,
и совсем детей, и тех, кто сам пережил или мог (по возрасту) пережить по¬
добное.
Одним словом, основа нашего фильма — Адамович. Его творческая и
гражданская деятельность. Но написанный нами сценарий — вполне ори¬
гинальное произведение, самостоятельная кинематографическая литера¬
тура, предназначенная для данного конкретного фильма. Скажем, финаль¬
ный эпизод, где Флёра расстреливает Гитлера, возвращая каждым выстре¬
лом время вспять, пока не оказывается перед дилеммой — стрелять или не
стрелять в Гитлера-младенца, был придуман мной уже вне Адамовича.
Мне казалось важным замкнуть фильм этим как бы нравственным тупи¬
ком, привести к нему нашего героя, охваченного справедливой жаждой
возмездия. Его чувства, его желание уничтожить человека, воплотившего в
себе все безумие и ужас, через которые ему пришлось пройти, вполне по¬
нятны, но если стрелять в Гитлера-младенца, это все равно что стать царем
Иродом, велевшим убивать всех младенцев. Как узнать, кто из них полу¬
чится: в каком-нибудь да гнездится будущий изверг...
Сценарий был готов к началу 1977 года. Картина была уже в производ¬
стве, мы сделали режиссерскую разработку, подобрали актеров, сняли
пробы, нашли мальчика на главную роль, поразительного, готовились к
худсовету. Уже выехала в экспедицию группа (художником тогда был
Шавкат Абдусаламов, оператором — Донатас Печура из Литвы, компози¬
тором — Альфред Шнитке), считанные дни оставались до съемок, но кар¬
тина так и не состоялась. Причин три. Прежде всего, мы запаздывали с вы¬
ходом на натуру, я это понимал. А значит, надо было прерывать съемки на
зиму, переносить их на следующее лето (павильонов, которыми можно бы¬
ло бы заполнить зимние месяцы, у нас не было, перерыв был неизбежен),
что в любом случае чревато многими осложнениями. У нас же к ним до¬
бавлялось еще и то, что в центре фильма — юный герой, в том самом воз¬
расте, в котором за полгода можно так сильно перемениться, что вообще не
узнаешь. К тому же от волнений, перенапряжения я заболел, и очень все¬
рьез. Но и в этом состоянии я, наверное, не отказался бы от начатого, если
бы в последний момент Госкино не предъявило нам список из одиннадца¬
ти поправок, что в общем-то и не слишком много, но все они были связаны
с узловыми, принципиальными для нас моментами. Все это вместе взятое
вынудило нас отказаться от продолжения работы.
Я очень тяжело пережил этот срыв, потом сумел как-то прийти в себя,
потом случилась эта трагедия с Ларисой, и я должен был продолжать нача¬
тую ею работу над «Прощанием с Матерой». Но что касается сценария, на¬
зывавшегося тогда «Убейте Гитлера», то он продолжал во мне жить, я при
любом удобном и неудобном случае рассказывал его знакомым, так что в
результате такой обкатки он начал приобретать уже почти идеальную за¬
вершенность, что в общем-то было ему не на пользу, поскольку для реаль¬
ной кинематографической работы требуется иное.
Ну, а потом случилось так, что в очередной раз не прошел очередной сце¬
нарий, надо было думать о какой-то другой работе, и зашла речь об экрани¬
зации «Карателей», которые к этому времени получили уже огромный ре-
зонанс. Но я и тогда считал, и сейчас тем более в том уверен, что к вопло¬
щению на экране прозы Адамовича надо идти не через «Карателей», а че¬
рез «Хатынскую повесть» — она и образнее, и поэтичнее, да и внутренне мы
с ней как-то уже срослись. Так что рискнули вновь начать переговоры на
эту тему, и не без труда уговорили все же запустить нас в работу.
— Какова нравственная сверхзадача «Иди и смотри»? Ради чего надо бы¬
ло обрекать и себя на мучительную работу, и зрителя — на мучительные
переживания?
— Нравственная сверхзадача, я думаю, здесь та же, что и в любом произ¬
ведении искусства — познание человека. Только познание это ведется
здесь в особых, предельных обстоятельствах, в моменты, когда с конечной
полнотой проявляется, что есть человек, что он способен выдержать, како¬
вы его духовные глубины, в том числе и те, которые были скрыты и от не¬
го самого. Подобно тому, как герой Василя Быкова Сотников познает себя
по-настоящему, пройдя через фашистский плен, пытки, ожидание казни,
саму казнь, так и наш мальчик Флёра, в начале фильма находящийся в не¬
ведении о себе самом, вообще по малолетству не пытавшийся задуматься
«кто я?», пришедший на экран, так сказать, чистым листом, а потом вверг¬
нутый в пучину геноцида, в кромешный ужас, в непрекращающиеся круги
ада, постепенно открывает в себе такие качества, которые и нам дают веру
в то, что он способен выстоять, выдержать многое. Из этого и рождается па¬
фос фильма, утверждающий человека и человечность. Финальный невыст-
рел Флёры в младенца-Гитлера тому подтверждение.
Все пережитое им на экране — отчаяние, когда вокруг гибнут люди, ко¬
торых он даже как бы предал, избегнув смерти, ужас осознания, что все
его близкие и все односельчане убиты,— не уничтожило в нем нравствен¬
ных основ, не привело к озверению. Если человек способен не сломиться
и под такой тяжестью, значит, не потеряна надежда и на будущее всего
человечества.
Мы не закрываем глаза на то, во что может превратиться человек, дай он
себе волю переступить границы нравственных установлений, выработав¬
шихся человечеством на протяжении веков своей истории. Но безмерность
падения одних не перечеркивает той нравственной высоты, которую во¬
преки всему могут сохранить другие.
После просмотров уже завершенного фильма я не раз слышал от зрите¬
лей, главным образом зарубежных: нужно ли теперь, когда мы живем мир¬
ной спокойной жизнью, ворошить пожелтевшие страницы сорокалетней
давности? Зачем вспоминать то, что пора забыть? И здесь возникает наи¬
существеннейший нравственный вопрос: имеем ли мы право забыть о том,
что было? Забыть людей, которые без всякой своей вины были стерты с ли¬
ца земли? Вправе ли мы захлопнуть плиту над их небытием навсегда? Или
все-таки они продолжают жить с нами, молят о нашей памяти?
Вопрос этот возникает не только в связи с трагедией Хатыни. Ибо па¬
мять о прошлом нужна не во имя прошлого, а во имя настоящего и будуще-
го. Лишив себя памяти о прошлом, пусть горькой, трагической памяти, мы
совершаем нравственное преступление прежде всего по отношению к са¬
мим себе. Преступление, равносильное самоубийству. Так что «Иди и смо¬
три» в каком-то смысле есть фильм-предупреждение. Как сказал один му¬
дрый японец: «Забывшие прошлое обречены пережить его заново». А если
это заново произойдет, то следующая Хиросима будет уже всемирной.
— О фашистском геноциде в Белоруссии фильмов не было. Но было немало
других, нередко глубоких и сильных фильмов о геноциде — о лагерях смерти,
о гетто, о мученичестве и борьбе людей, брошенных в этот ад. Есть ли
принципиальное отличие вашего фильма от них?
— Мне представляется существенным, прежде всего, само отличие места
их действия. Одно дело, когда мы видим людей за колючей проволокой —
бараки, вышки с охранниками, собаки, пулеметы, наглухо запертое прост¬
ранство. А у нас все происходит, что называется, на природе: деревенский
пейзаж, пение птиц, люди вроде бы живут нормальной сельской жизнью,
но внезапно становится ясно, что и здесь ни спастись, ни укрыться. Здесь
тот же кошмар.
Еще Белоруссия существенна и потому, что для гитлеровцев это была
экспериментальная площадка, опыт которой они собирались перенести и
на весь Советский Союз, и на всю Европу. Выбор этот, видимо, произошел
в силу приграничного географического положения республики, оказав¬
шейся в нашей стране первой, на кого обрушился фашизм. Казалось, что
белорусы — народ тихий, мирный, по душевному складу невоинственный,
но и они на геноцид ответили таким нежданным и казавшимся невозмож¬
ным сопротивлением, что завоевателям пришлось заплатить за свои экспе¬
рименты кровавую цену.
То, что выпало пережить Хатыни, происходит и сегодня — в Ливане, в
Кампучии. Если какой-то один человек или целая нация уверуют в свое
превосходство над остальными, последующее уже способно принять лю¬
бые формы — самые уродливые, самые отвратительные.
— Как шла работа над фильмом? Какие художественные задачи вы перед
собой ставили? Как добивались их осуществления?
— Наш фильм начинается так, как начинается привычное всем кино.
Зритель, даже непрофессиональный, чувствует, что снято все статичной,
поставленной на штатив камерой, кое-где камерой, перемещающейся на
тележке,— ничего нового с точки зрения киноязыка здесь нет. Мы и хоте¬
ли, чтобы было именно так. Затем действие переходит в некий «партизан-
фильм», с привычно знакомыми картинами лесного лагеря. Но затем зри¬
тель — мы этого добивались — постепенно начинает забывать о камере, о
том, что перед ним кино, все более погружаясь в магму действия, проника¬
ясь ощущениями тотального ужаса. Поначалу нет даже прямых признаков
чего-либо ужасающего, но все равно сам воздух, звуковая среда, атмосфе¬
ра — все уже ощущается как враждебное человеку. Все возмущено войной,
все искажено в своем естестве.
С какого-то момента камера начинает вести себя уже совсем по-иному.
Она отрывается от штатива, от всех привычных привязок, становится
вольной и в то же время словно бы неощущаемой. Нам хотелось, чтобы
зритель забыл об операторе, о художнике, обо всем, что связано с кинема¬
тографом, и отдался бы во власть материала — вместе с героями плыл бы
по волнам событий, ощущал себя их участником. Удалось ли нам это и в
какой мере — судить другим, но замысел был именно таков.
Кое-каких проколов избежать нам все же не удалось. Самый главный из
них: мы не успели снять большой, очень важный эпизод, следовавший не¬
посредственно после расправы над карателями,— последний бой на горя¬
щем торфянике, круговой бой, в котором гибнут все, горит земля, не садит¬
ся за горизонт солнце, проваливаются в горящий торф лошади, нет ни ис¬
хода, ни спасения. Апокалипсис, в котором суждено уцелеть лишь считан¬
ным единицам, остаткам человечества, а выводит их оттуда мальчик Флё¬
ра. Постепенно изображение должно было становиться обесцвеченным,
черно-белым, переходя в военную хронику, к которой в ее же стилистике
должны были добавиться подснятые нами кадры.
Не исключаю, что отсутствие этого эпизода пошло картине на пользу.
Зритель мог бы не выдержать такой эмоциональной перегрузки, а помимо
того здесь уже начинались какие-то киноигры с формой — стилизация,
превращение изображения в черно-белое, а нам не хотелось, чтобы зритель
хоть как-то фиксировал свое внимание на форме.
Весь фильм снят на природе, в подлинных атмосферных состояниях.
Скажем, эпизод, где два партизана подрываются на минах, был снят в «ре¬
жим», в короткое предзакатное время, — все шесть кадров за двадцать ми¬
нут. Подсознательно зритель ощущает реальную непрерывность этого кус¬
ка: ни цвет неба, ни состояние погоды не успели перемениться. Не успей
мы снять все в один вечер, подобной цельности уже не удалось бы добить¬
ся — вылезло бы «кино».
Иногда работа велась почти по методу «хеппенинга»: долго готовили съем¬
ку, создавали для героев обстоятельства, максимально близкие к подлинным,
а потом снимали почти хроникально. Так, в ночном эпизоде гибели Рубежа и
коровы мы поняли, что нет средств, позволяющих сымитировать стрельбу
трассирующими пулями, и потому пошли на то, чтобы стрелять настоящими
боевыми патронами, причем не от камеры, а на камеру. Естественно, приняты
были все меры безопасности, была полная гарантия, что какие-либо случай¬
ности исключены, но все равно от ощущения жути трудно было избавиться.
А когда снимался хатынский эпизод — загон толпы в сарай, избиение, —
все это тщательно готовилось, опять же с учетом всех возможностей преду¬
предительных мер, а затем снималось одновременно двумя-тремя камера¬
ми. Случалось, что-то из задуманного снять не успевали, а, наоборот, сни¬
мали то, что спонтанно возникало на площадке. Ассистент оператора уви¬
дел, допустим, что возникает что-то интересное, схватил камеру, побежал,
снял — и потом это вошло в монтаж картины.
— По какому принципу вы выбирали своих актеров? Как работали с ними?
— Многие из ролей в нашей картине исполнили непрофессиональные ис¬
полнители, типажи. Для кинематографа это опыт не новый: типажи обла¬
дают неоспоримой подлинностью, достоверностью, способны органично
вести себя в кадре. И тем не менее при сравнении с профессиональными
актерами они часто оказываются в проигрыше: игре их недостает внутрен¬
ней наполненности, экспрессии. Мы же предложили нашим исполнителям
играть куски напряженные, эмоционально насыщенные. Мужика с телегой
перед хатынским эпизодом; обгоревшего старосту, лежащего на болотном
мху; партизан, подрывающихся на мине и, конечно, самые сложные задачи
выпали юным героям — Алеше Кравченко и Оле Мироновой.
Я еще не знал, кого буду снимать, но знал, что ему достанется очень кру¬
то — я буду «сдирать с него кожу», выворачивать его наизнанку. Иначе не
привести его к чувству высокой любви и высокой ненависти, к потрясению
от пережитого, к постижению народного горя, народного гнева.
Откуда у современного подростка может быть подобное знание? Что он
читал, что видел? Ну, детективы, фантастику. Смотрел в дырку телевизора,
войну знает по фильмам, главным образом плохим. Школе Станиславско¬
го не обучен, воссоздать внутри себя состояния, которых никогда в жизни
не переживал, не способен. Если какое-то знание о происходящем в филь¬
ме у него и есть, то самое поверхностное, глубин души не затронувшее. Зна¬
чит, нужно всем этим его насытить, причем за очень короткий срок.
Все режиссеры мечтают снять фильм кадр за кадром, в их экранной по¬
следовательности, но для производства это крайне неудобно, и потому по¬
добный эксперимент никому не удавался, в том числе до «Иди и смотри» и
мне самому. Но здесь я понял, что это условие принципиально необходи¬
мое, ведь весь фильм по сути — это сквозной крупный план героя, от нача¬
ла и до конца. Этому принципу мы ни разу не изменили на всем протяже¬
нии съемок, что конечно же отняло массу времени, сил, средств. Мы опаз¬
дывали со сроками, не успели снять «Апокалипсис» в финале, но дали ак¬
теру прожить роль в ее непрерывном развитии.
И самая главная проблема, которая перед нами стояла, — как защитить
мальчика. Слишком памятна печальная судьба Фальконетти, исполни¬
тельницы главной роли в фильме Дрейера «Страсти Жанны д’Арк», после
съемок сошедшей с ума. Здесь была та же опасность психической травмы,
срыва — мальчик просто мог бы остаться инвалидом. Сыграть так, как то¬
го требовала роль, означало пропустить через себя ток высокого напряже¬
ния. Это страшно. Не каждый актер способен на это. Из тех, с кем мне до¬
водилось работать, их наберется не больше, чем пальцев на одной руке.
Далеко не каждый решится сделать с собой такое. И все же мы надеялись,
что найдем мальчика, который захочет это сделать и доверится нам полно¬
стью. А это накладывало на нас тем большую ответственность. Мы долж¬
ны были располагать научным знанием того, что есть человек этого возра¬
ста, какова его психика, как с нею обращаться, каков этот конкретный че-
ловек, наш исполнитель. Я консультировал сценарий с учеными, психоло¬
гами и психиатрами; наших юных героев мы проверили по всем извест¬
ным сегодняшней психологической науке тестам, включая цветовой тест
Люшера, что дало нам объемную картину их психологических координат.
Готовясь к съемкам этой картины в 1977 году, я предполагал снимать
Флёру в постгипнотическом состоянии, естественно, соблюдая все прави¬
ла этики, то есть не делая человека безвольным, не заставляя его сомнам¬
булически выполнять наши команды, не подменяя его сознательное пове¬
дение бессознательным, но проведя его через стадию гипноза для освобож¬
дения каких-то душевных клапанов, для преобразования его внутреннего
мира в необходимом нам направлении с тем, чтобы насытить его психику
требующимся по роли психологическим материалом, а затем, сняв это со¬
стояние, высвободить дарование исполнителя, форсировать, мобилизовать
его, помочь тем самым воплощению напряженных эмоций. Но сейчас, в
1984-м, встретившись с конкретным и очень особенным, просто подарен¬
ным нам судьбой подростком — Алешей Кравченко, я понял, что могу от
предполагавшейся методики отказаться, что он и без того способен сыграть
все необходимое нам. Мы даже хотели, просто ради эксперимента, один его
крупный план, а именно — финальный, снять в постгипнотическом состо¬
янии, но позднее отказались и от этой идеи.
Мой давний принцип, усвоенный еще в студенческие времена: с испол¬
нителями-детьми любого возраста говорить откровенно, по-взрослому, не
унижая их возрастной дистанцией. Только так может возникнуть взаимо¬
уважение и взаимное доверие. Поэтому Алеше Кравченко я со всей прямо¬
той и честностью изложил весь свой замысел, всю партитуру его роли: ка¬
кие ему предстоит пережить состояния, как в них надо себя вести, как себя
к ним готовить, для чего мы все это делаем, как будет двигаться камера, как
все должно выглядеть на экране. Естественно, до конца осознать то, что мы
ему рассказывали, он не мог, и потому встреча с уже законченным филь¬
мом оказалась для него огромным переживанием. Картину он увидел в
минском кинотеатре «Октябрь», где и состоялся первый ее показ на зрите¬
лях. Реакция была поразительной: в зале кричали, плакали, к концу вооб¬
ще творилось что-то невообразимое. Алеша был совершенно сражен: стоял
в углу и плакал. Потом он признался, что не мог ассоциировать себя с эк¬
ранным героем — он казался ему каким-то другим человеком.
— В свете того, что вы говорите, возникает какой-то новый взгляд на ре¬
жиссерскую профессию. Сегодня она приобретает неведомые прежде пара¬
метры, становится не просто художнической, но еще и исследовательской,
поистине научной.
— Это неизбежно. Кино обладает какими-то совершенно уникальными
особенностями: за очень краткое время крупного плана оно способно дать
новое знание о человеке. Но как пользоваться этим крупным планом? Что
касается нас, то мы сознательно избегали всех мыслимых ухищрений —
световых, звуковых, ракурсных и т.п., ставя своей целью просто зафикси-
ровать то, что являет собой человек в данный момент. Само его состояние
мы старались передать максимально обостренно, во всей его сложности:
смотрите, каков может быть человек, что ему дано пережить.
Действительно, наука в наши дни поднялась до неведомых прежде высот,
но при этом наука о человеке, самая главная, по-прежнему далека от требо¬
ваний сегодняшнего дня. В наполненном всевозможными познаниями ми¬
ре о человеке мы знаем менее всего. И если науке предстоит пережить ка¬
кой-то революционный взрыв, то, я думаю, им и станет новое знание о че¬
ловеке. Искусство к этому имеет самое прямое отношение.
Интуиция, которой оно обладает, его вечное стремление во всем разо¬
браться и все познать, изначальное отношение к человеку как к мере всех
вещей, тяготение проникнуть в его возможности, его тайники, подняться к
высотам его духа и опуститься к безднам зла, таящимся все в той же чело¬
веческой душе, — вот что делает искусство важнейшим, не уступающим на¬
уке инструментом познания, от которого неизменно можно ждать новых
открытий. Естественно, по-прежнему сохраняют свою важность и эстети¬
ческая, и социальная, и политическая функции искусства, но для человека
оно всегда было и останется важнейшим источником самопознания.
— Какова была роль документального материала в создании художест¬
венного мира картины?
— Много часов и дней у нас ушло на один только отсмотр хроники. Надо
было бы посмотреть вдвое, втрое больше — такая возможность есть, в гос-
фильмофондовском собрании бесконечное богатство материала о войне, —
но больше мы просто физически не успели.
Прежде всего, для тестирования претендентов на главные роли мы отоб¬
рали, смонтировали и перевели на видео хронику Нюрнбергского процесса,
нашу и американскую: это страшные обвиняющие документы, запечатлев¬
шие горы трупов, подробности и свидетельства массовых уничтожений в
концлагерях, их жертв, узников, людей, переставших быть похожими на
людей. Наших будущих актеров мы оставляли в зале наедине с этим ужа¬
сом на два часа, а потом смотрели, какова их реакция. Были ребята, даже де¬
вочки, воспринимавшие все абсолютно спокойно: не знаю, не могу объяс¬
нить, в чем причины этой обездушенности. Может быть, слишком многое
они уже видели на экранах кино и по телевизору, может быть, у них не про¬
изросли в душе какие-то человеческие основы, которым пора бы уже про¬
израсти, но так или иначе, когда они в ответ на мои вопросы торопились от¬
ветить: «Да, да, это так страшно», я чувствовал, что на самом деле у них, как
говорится, ни в одном глазу. А вот Алеша отреагировал на этот тест пре¬
дельно эмоционально, с этого и началась наша с ним дальнейшая работа.
Документальный материал, который изучали и мы, и вся группа, был тем
камертоном, по которому проверялась правда лиц, костюмов, фактур, аксес¬
суаров, штрихов поведения — всего того, чему в кино далеко не всегда уде¬
ляется достаточно внимания. Из какого изобразительного материала стро¬
ился «Иди и смотри»? Из природы и человеческих фигур и лиц — вот, по
сути, и все. Поэтому не могу не быть благодарным моим соавторам и «еди¬
новерцам» — оператору Алексею Родионову и художнику Виктору Петро¬
ву: они доскональнейшим образом изучили огромный фото- и киноматери¬
ал, выпуски «Вохеншау», фашистскую кинохронику, журналы и т.д. Повто¬
ряю, можно было бы изучать и дальше, потому что документ будит фанта¬
зию, дает множество подсказок и предложений, идущих от самой жизни, но
внутри нас уже произошло насыщение этим материалом, мы знали, какова
была правда, и, стало быть, готовы распознать и не допустить на экран ложь.
За любой крючочек на немецком мундире, за любой значок или нашивку
шла упрямая борьба — никакой неточности ни в чем не должно было быть.
Нашим художником по костюмам была Элла Семенова с «Беларусь-
фильма» — она оказалась человеком столь преданным делу, столь трудо¬
любивым, что просто можно было дивиться, как этой хрупкой женщине
удавалось буквально сворачивать горы. Если прикинуть, сколько людей
занято в фильме, во всех его эпизодах и массовках, то костюмов было заго¬
товлено раз в десять больше.
Костюмы почти не шились, это так называемый подбор — подлинная, но¬
шеная, сослужившая свое одежда, причем одежда тех самых времен, скуп¬
ленная буквально за копейки. Но из тонн этой одежной макулатуры мож¬
но было выбирать, комбинировать, составлять костюмы и для каждого от¬
дельного персонажа в соответствии с его характером, и для больших массо¬
вок. Вся эта огромная трудоемкая работа опять-таки базировалась на зна¬
нии хроники, подлинных фактур тех лет. В противном случае на экране
были бы все те же виденные-перевиденные стереотипные немцы, партиза¬
ны, крестьяне.
Могу поставить в заслугу нашей группе и то, что мы сумели постричь
массовку. Это может показаться незначащей частностью, но это же драма
кинематографа! О каком бы времени ни снимался фильм, на экране стати¬
сты с прическами по сегодняшней моде. С главными исполнителями этой
проблемы нет: ради заметной роли актер пойдет на любые жертвы, но мас-
совочник, человек, который не ждет за свою работу ни славы, ни прилич¬
ного заработка, — ради чего ему портить себе внешность?
Но по ходу съемок на площадке возникала такая атмосфера, такая погло¬
щенность общим делом, все было настолько накалено, исполнено ощущения
важности и серьезности, что просто стыдно было не сделать того, в чем нуж¬
дался фильм. «Как? Мы тут такое дело делаем, а ты бакенбарды жалеешь?»
Ни в одной из своих прежних работ я не встречался с такой массовой са¬
моотверженностью, с такой преданностью делу. Все время съемок мы жи¬
ли в деревнях, в глухих углах, изъездили тысячи километров по чудовищ¬
ным дорогам, на которых бедные наши машины то и дело ломали свои ко¬
стыли, стояла скверная погода — все, все было не за нас. Мало того, что к
месту съемки приходилось ехать десятки километров, потом еще надо бы¬
ло километр или два добираться до него пешком — дальше машины прой¬
ти не могли. И все-таки находились люди, которые шли к нам сниматься за
пять рублей, хотя за то же время они могли заработать вдесятеро в том же
лесу на грибах и ягодах. Но они понимали, ради чего мы это делаем, все го¬
товы были вытерпеть, позволяли себя остричь и обрить, вымазать гримом
и грязью, одеть в старье, обдуть пылью. А затем уже на съемке мы доводи¬
ли их до истерики, до ора, до ужаса, так что они часами не могли успоко¬
иться. Алеша Кравченко потом признавался, что ничего страшнее, чем на¬
ходиться внутри этой массы кричащих, охваченных ужасом людей, в жиз¬
ни своей он не испытывал.
А Оля Миронова, сыгравшая Глашу! Я не говорю уже о сложностях чис¬
то актерских ее роли. Если б кто знал, чего стоила хотя бы одна съемка сце¬
ны на болоте! Что видно на экране? Толща болотной ряски, через которую
продираются герои. А внизу под ней то, что и представить трудно, — коря¬
ги, острые, как бритва. Тело ее было изрезано, исполосовано ими. Туда в ги¬
дрокостюме страшновато залезть, а она ничем не защищена — по кадру ей
надо будет потом вылезти на берег с голыми ногами. Для женщины, в лег¬
ком платье, практически обнаженной, погрузиться в эту вонючую гадость и
играть там — все это требовало каких-то особых человеческих качеств.
Сложность была еще и в том, что группа наша была составлена из работ¬
ников двух студий и две эти половинки не сразу прирастились друг к дру¬
гу. К тому же далеко не все пришли в картину из соображений творческих:
как это всегда бывает, достаточно многие оказались здесь просто волею
производственных, бытовых и прочих случайностей. Но к концу съемок
группа в подавляющей своей массе пришла настолько сплоченной, на¬
столько преданной общему делу, что я был бы счастлив, если хоть раз в
жизни мне еще повезет иметь такую.
У меня уже был случай на практике убедиться, что «чем жутче, тем луч¬
ше». Хуже погода — лучше результат. Труднее, невыносимее условия рабо¬
ты — полновесней ее итог. Другая сосредоточенность, другое настроение
работы, кадр по-иному выглядит. Все в нем жизнь. Все правда.
— Видимо, современный кинематограф требует какого-то гораздо более
требовательного, чем прежде, уровня достоверности. Ваш фильм — под¬
тверждение того во всех своих компонентах.
— Да, мы много думали об этом и очень кропотливо работали. Скажем, в
фильмах о войне мы достаточно небрежно обращаемся с речью персона¬
жей-немцев: могу судить об этом и на основе своих, не самых глубоких
языковых познаний, и по отзывам людей, которые немецким владеют дос¬
конально.
Мы это учитывали и занимались речевым озвучанием многотрудно и
долго. Отрабатывали произношение так, чтобы прочитывалось, что в этой
команде карателей собраны люди из разных мест Германии, следили, что¬
бы в лексикон персонажей не затесались какие-то современные слова, что¬
бы это была не просто немецкая речь, а солдатский сленг, причем именно
эсэсовский. Сцену расправы, с большими кусками немецкой речи, озвучи¬
вали немцы, но не актеры, поскольку на них у нас не было денег, а непро-
фессионалы — студенты, которые учатся в Москве, журналисты. Потом я
допытывался у коллег из ГДР и ФРГ, насколько подлинно это выглядит.
«Молчим, — говорят. — Претензий нет».
Внешний облик карателей тоже был подсказан кинохроникой, фотогра¬
фиями. Мы обратили внимание: они всегда выглядели грязными, пыльны¬
ми, что вполне естественно — война! Достаточно проехать десяток киломе¬
тров по белорусским дорогам, чтобы понять, как выглядит человек, помо¬
тавшийся по ним несколько недель. Поэтому помимо всех операций, про¬
делываемых над одеждой персонажей (костюмы тщательно обживались,
сушились, проветривались, дырявились), мы еще перед самой съемкой об¬
дували их специальными пылевыми прыскалками.
Наш оператор Алексей Родионов очень точно подметил по хронике, что
люди носили вещи чуть большего размера, мешковато на них висевшие,—
видно, так было удобнее. Поэтому мы не подгоняли форму на карателей, а,
наоборот, так сказать, ее отгоняли, напихивали им что-то в карманы, иска¬
ли каждому свою особенность облика. И из этого по крупицам складыва¬
лась подлинность того, что увидел на экране зритель.
— Ваш фильм, наверное, оттолкнет часть аудитории жестокостью
правды. Все ли можно и нужно показывать на экране? Не оказывается ли
при этом превзойденной мера допустимого в искусстве?
— Вопрос о будущей зрительской реакции на картину беспокоил нас с са¬
мого начала. При первой же встрече я сказал Адамовичу, что если буду де¬
лать такую картину, то только жестко, по-настоящему, к чему зрители не
готовы — слишком долго их кормили манной кашкой, у них от нее зубы
размягчились. Нашу пищу они не смогут есть. Он ответил: «Мы все равно
должны этот фильм сделать», и повторял эту фразу много раз с маниакаль¬
ной убежденностью. Люди должны знать о Хатыни. Да, есть Хатынский
мемориал, но надо наполнить его живым чувством, живой эмоциональной
памятью. Таково его убеждение, и я его целиком разделяю.
Конечно, мы понимали, что зрителя нельзя насильно затащить в зал,
привязать к креслу, вставить в глаза распорки, чтобы уже нельзя было их
закрыть. Человек сам должен захотеть это видеть. Ясно было, что захотят
далеко не все.
Что же касается меры допустимого, то мне судить об этом трудно. По
собственному ощущению, все время работы казалось: «Слабо! Надо делать
все еще резче, еще сильнее!» Но другую половину мозга сверлила мысль:
«Не будут смотреть! Отвернутся от экрана!» Так что всю картину мы ба¬
лансировали между собственным художническим ощущением и голосом
внутреннего редактора, не позволявшего идти дальше в изображении кар¬
тин жестокости.
А идти было куда. Даже если взять одну только книгу «Я из огненной де¬
ревни», то примеров из нее можно почерпнуть больше чем достаточно. Ну,
вот хотя бы такой фрагмент. Фашисты захватили деревню. Загнали всех
жителей в амбар, но, в отличие от истории, показанной у нас в фильме, ос-
тавили на улице малышей. А когда амбар сожгли, окружили детей кольцом
и спустили на них овчарок. И гоготали, глядя, как собаки рвут их на части.
Можно ли такое показать на экране? Даже не впрямую, а хотя бы дать по¬
нять отраженно, что происходит? Не знаю, смог ли бы зритель перенести
такое. Хотя все это правда.
Некоторые из зарубежных зрителей упрекают меня в том, что на экране
показана какая-то банда убийц и насильников, а ведь это была армия, ис¬
полнявшая идеологический приказ, это были кадровые военные. Зачем же
чернить их облик?! Ну что же, можно было бы рассказать им в ответ, как
эти военные насаживали на колья заборов детей или прилюдно насилова¬
ли девочек.
Мы старались говорить обо всем сдержанно, не доводить свои отноше¬
ния со зрительным залом до конфликтной ситуации. Нам хотелось и хо¬
чется, чтобы картину смотрели.
Я слышал о фильме мнения самые противоречивые. Меня спрашивали:
зачем о том давнем уже времени вы говорите так, как будто это происходит
сегодня? Во время войны накал страсти и непримиримости «Радуги» или
«Она защищает Родину» был естествен. Можно ли с теми же чувствами де¬
лать картину спустя сорок лет?
Вместо ответа на этот вопрос скажу о реакции на «Иди и смотри» самих
немцев. Когда я зашел в западноберлинский кинотеатр во время показа
фильма, то не смог там оставаться дольше пяти минут — такая тяжкая ат¬
мосфера была в зале. Можно было понять, что переживают зрители. А по¬
том на обсуждении фильма встал пожилой немец и сказал: «Я солдат вер¬
махта. Больше того — офицер вермахта. Я прошел всю Польшу, Белорус¬
сию, дошел до Украины. Я свидетельствую: все рассказанное в этом филь¬
ме — правда. Прошло уже более сорока лет, воспоминания об этом стали
стираться в моем сознании, я начал уже засыпать спокойно. Теперь до кон¬
ца своих дней мне спокойно заснуть не удастся. Самое страшное, что этот
фильм увидят мои дети и внуки, которым об этом я не рассказывал. Но
увидеть этот фильм они должны обязательно. Как потом я буду с ними
объясняться, пока не знаю».
Западногерманский критик, посмотревший картину на фестивале в
Москве, подошел ко мне со словами: «Мы должны были сделать этот
фильм, а сделали его вы».
В нашей стране с прокатом «Иди и смотри» тоже произошел необычный
феномен. Мне рассказали об этом сами кинофикаторы. «Мы думали, что
мало кто пойдет на картину, — говорили они. — Но случилось то, чего мы
пока не можем объяснить. Залы переполнены. Идет в основном молодежь.
Не хватает копий, хотя по стране их напечатано семьсот — для такого
фильма тираж очень большой. Приходится тираж допечатывать. В Бело¬
руссии успех фильма понятен — там до сих пор нельзя достать на него би¬
лета. Но почти то же происходит и в России. Мы думали, что мы знаем зри¬
теля, а, оказывается, мы его не знаем».
Я сам пока не могу до конца разобраться в реакции, которую фильм вы¬
звал, но постоянно ощущаю ее глубину и серьезность Могу судить об этом
и по откликам прессы, и по письмам и высказываниям зрителей, по степе¬
ни потрясения одних и по мере неприятия других. Все это очень дорогая
для нас награда за труд, который в картину вложен.
Из книги А. Липкова «Профессия или призвание». 1991 год
Элем Климов - Анатолий Павленко
Цель творчества — самоотдача
— Элем Германович, как известно, талант, каким бы великим он ни был,
нуждается в образовательной базе. Скажите, пожалуйста, с чего для вас
началась учеба на режиссерском факультете?
— С поступления. Три тура. Когда я туда поступал, то к чему-то уже был
приобщен. На сцене выступал еще в МАИ — у нас были свои капустники,
мы придумывали какое-то сатирическое обозрение. Потом я внештатно ра¬
ботал на радио, продолжая учиться в МАИ, — тогда радио «Юность» по¬
явилось. Здесь я познакомился с Юрой Визбором. Потом — на телевиде¬
нии на Шаболовке («Останкино» еще не было) какие-то передачи делал
смешные. То есть я понял, что меня уже заносит в эту сторону. И отцу сво¬
ему — мудрейшему человеку и добрейшему — сказал: «Пап, наверное, я из
МАИ уйду». Он ответил: «Тебе всего-то осталось восемь месяцев доучить¬
ся — защити диплом! Эту профессию я понимаю, а вот той — нет...» Он сам
конструктор был. «...И ты не понимаешь толком еще, а уже хочешь бро¬
сать!» Короче говоря, диплом я защитил.
— Что изучали тогда первокурсники ВГИКа? Что действительно приго¬
дилось, а к чему в принципе можно было и не обращаться, вот как к истории
КПСС, которую преподавали у нас в консерватории?
— И это все проходили. Нам повезло с педагогом по философии — был
такой очень хороший Евгений Михайлович Вейцман, который нас как-то
по-умному учил, умел расположить к себе, в общем, наш был человек. Сту¬
дентов в гости приглашал, кормил их... На первом курсе изучаются многие
предметы — киноведение, например, то есть история кино зарубежного и
отечественного, актерское мастерство, знакомят и с операторским мастер¬
ством, монтажу учат. Дай бог вспомнить, что там еще только не проходят.
И конечно, очень многое зависит от того, какой мастер набирает курс. Я хо¬
тел поступать к Михаилу Ильичу Ромму. Но он меня не взял. О том, как
это произошло, я уже не раз рассказывал, даже в книге о Ромме описано.
(О нем есть много книг — каждый режиссер чего-то обязательно написал.
Хотели и обо мне, но я отказался — пусть другие занимаются увековечени¬
ем себя, любимого.) Итак, первый тур я прошел, второй прошел, а третий,
последний, — это встреча с мастером. Ты входишь в аудиторию, там сидят
его ассистенты, и надо прочесть басню, стихотворение и отрывок из прозы.
— Это на режиссерском факультете?
— Да, на режиссерском. Я все это прочел, и даже вроде очень удачно по¬
лучилось, благо уже каким-то сценическим навыком обладал. Ромм гово¬
рит: «Садитесь». Я сажусь напротив комиссии — конгломерат такой сидит,
судилище. Михаил Ильич начинает объяснять, что вопросы будут задавать
мне любые — по живописи, по истории культуры...
— Коллоквиум?
— Не коллоквиум, а допрос! Причем меня предупредили: учти, Ромм на¬
изусть знает «Войну и мир» — всю книгу и наверняка задаст вопрос по это¬
му произведению. А у меня уже не было времени эти «кирпичи» перечиты¬
вать, я лишь полистал — в общем, к подготовке отнесся небрежно. И вот
после того как я прочел басню, стихотворение и прозу, ответил что-то там
по живописи — я ведь всю Третьяковку обошел, все альбомы пересмотрел,
все знал, — Ромм задает вопрос: «Войну и мир» читали?» Я: «Конечно, Ми¬
хаил Ильич». Он говорит: «Сейчас проверим». (Смеется.)
— Да, вас предупреждали!
— Меня предупреждали, но я не удосужился перечитать. И Ромм спраши¬
вает: «Вот раненый Андрей Болконский и Наташа Ростова — где они встре¬
тились?» Я говорю: «В палатке, в госпитале». — «А в каком месте?» Отве¬
чаю: «В Подмосковье». Что-то я еще помнил. —«А где конкретно?» И он ви¬
дит, что я растерялся. «У вас дача есть?» Я говорю: «Ну так, на лето, вре¬
менная дача у отца есть». — «А по какой дороге?» — «По Ярославской». —
«Где?» — «В Мамонтовке». — «Так вы же мимо этого места и ездите на да¬
чу! На электричке?» Я говорю: «Да». — «Ну, вот вы мимо и ездите, тоже на
букву «м» название...» — пытается помочь мне Ромм. А меня замкнуло!
«Извините, — говорю, — не помню...» Оказалось — Мытищи... И я на него
обиделся — за то, что он меня поставил в такое неловкое положение. Хотя
я сам виноват был. (Смеется.) Но тогда я, конечно, это не анализировал...
— Вы вообще вспыльчивый человек?
— Я никогда не ору, вы знаете.
— Да.
— Хотя цыкнуть могу так, что в Турции услышат... Ну а Ромм мне потом
говорит: «Хорошо, хорошо, успокойтесь. Скажите, а каких современных
советских писателей вы больше всего чтите, уважаете, кто вам нравится?»
Я отвечаю: «Никто мне не нравится!» (Это уже шлея мне под хвост попа¬
ла.) — «Как никто?» Я говорю: «Так. Никто мне не нравится». — «Ну, хо¬
рошо, тогда давайте сделаем сейчас пару этюдов. Вот два часа ночи. Вы
идете по Москве — полуподвальные или первые этажи, свет в окнах. Рас¬
скажите, что вы там видите?» То есть проверял мою наблюдательность, как
я знаю жизнь — более-менее или вообще никак. Я говорю: «Михаил Иль¬
ич... — а шлея под хвостом! — ...в чужие окна не заглядываю!» В конце кон¬
цов, Ромм сказал, что набирает две группы — режиссеров и актеров, что
ему очень понравилось, как я читал, нравится моя внешность, и предложил
пойти на актерское отделение. Я сказал: «Нет, я актером быть не хочу».
— Вы никогда не хотели стать актером?
— Нет.
— Но вы снимались.
— Да. В «Агонии», например, снялся — у меня два крупных плана, в про¬
тивогазе, правда. Я там в яме стою... Так вот, когда я понял, что провалил¬
ся на экзамене и уже собрался уходить, мне вдруг говорят: «Вы же авиаци¬
онный инженер, хотите на научно-популярное отделение пойти без всяких
экзаменов?» — «Нет, не хочу». — «Ну, тогда на документальное отделение
хотите?» — «Нет, не хочу». И уже все — я, как говорится, лыжи надел до¬
мой ехать... И тут ко мне снова подходят: «Вы подождите, молодой человек.
У нас Ефим Дзиган в экспериментальную мастерскую набирает. Вы знаете
Дзигана?» Я говорю: «Видел замечательный его фильм «Мы из Кронштад¬
та». — «Вот он и набирает на режиссеров кино и телевидения». А телевиде¬
ние еще только начинало существовать, это 58-й год был. Я сказал: «Хоро¬
шо, пойду». И так я оказался у Дзигана. Очаровательный человек, добрый-
добрый, у которого во внутреннем кармане пиджака всегда была плоская
бутылка коньяка. Как за занавес в мастерской заходил и что-то буль-буль-
буль — все знали, понимали. Он приглашал нас, своих студентов, к себе до¬
мой. Мы дружили... Он тогда только что снял «Железный поток» по Сера¬
фимовичу и позвал нас посмотреть. Но что-то такое мне настолько в филь¬
ме не понравилось — нам всем не понравилось... И вдруг я понял, Толя: на¬
до учиться от обратного. Вот он говорит: надо делать так. А я решил, что
вечно буду делать наоборот. (Смеется.) Я это к чему рассказываю? К тому,
что будущему режиссеру нужно не только ориентироваться на себя, на
свою интуицию, на свое понимание жизни, но и слушать что-то полезное,
чему-то учиться. Потому что кино — это не просто философия поведения,
это еще и технология, которую надо знать. Режиссер должен разбираться
во многих профессиях — понимать, что такое художник, гример, оператор,
композитор. Это важно.
— Элем Германович, специальность инженера вам как режиссеру приго¬
дилась?
— Конечно. Это, кстати говоря, только кажется, что между такими про¬
фессиями нет ничего общего. Ведь чему в основном учили в МАИ кроме
многих наук и дисциплин? Расчету. А режиссер должен уметь делать рас¬
чет. Так что мне учеба в МАИ пошла на пользу.
— А учеба во ВГИКе?
— Нас во ВГИКе действительно учили. Учили люди из МХАТа — прихо¬
дили педагоги, знаменитые артисты. Мы играли театральные отрывки (я Ас¬
трова играл, кстати, с Ларисой Лужиной из Роммовской мастерской). Была
учебная работа — снимали со студентами-операторами, с художественного
факультета. То есть там, во ВГИКе, был такой вот единый организм.
— Что представлял собой первый учебный фильм?
— Первая работа — это конец второго курса — немой этюд. Это три-четы¬
ре минуты. Ты должен либо придумать сам, либо где-нибудь найти сюже-
тик, где органично не требуется слов. Приглашаешь какого-нибудь студен-
та-оператора... Потом делаешь преддипломную работу, это уже среднемет¬
ражный фильм, а может быть, короткометражный. Затем выходишь на
дипломную, это тоже может быть среднеметражный фильм. У меня было
так. Я поступил на первый курс. Ну а куда едут осенью все первокурсники?
На картошку. А меня Алексей Салтыков — который потом снял фильмы
«Председатель», «Друг мой Колька» — пригласил на роль в своем преддип¬
ломном фильме «Ребята с нашего двора». Так что вместо картошки я поехал
сниматься в Коломну. В роли дворового хулигана Васьки Ржавого дебюти¬
ровал Савелий Крамаров, инженер-лесотехник, — правда, потом он немно¬
го в ГИТИСе поучился. А я играл положительную роль. Вот с этих съемок
и началась моя учеба. И характер проявил там — были моменты, когда надо
было проявить характер... Потом ко мне как-то подходит Роман Кармен-
младший, студент операторского факультета, и говорит: «Слушай, у нас
Анатолий Головня...» — был такой великий оператор, он возглавлял опера¬
торский факультет — «...дал нам задание снять цветной этюд, документаль¬
ный. Давай ты будешь режиссером?» Я говорю: «У меня первый семестр, я
еще себя режиссером как-то не ощущаю...» Ведь немой этюд — это конец
второго курса. «Да ладно, — говорит, — ощутишь...» И я придумал этюд про
рыночные поделки — коврики раскрашенные, слоники и прочее. Так по¬
явился фильм «Осторожно: пошлость!». В цвете, десять минут — одна
часть, со звуком, с музыкой. И этот фильм вдруг такую славу получил! Его
показали по Центральному телевидению, он вышел в прокат. Его Польша
купила! (Смеется.) Потом — премьера в Доме кино. Там были такие суббот¬
ние... Ну, как же они назывались? Устные журналы, что ли? Это когда все¬
го понемногу, винегрет настругивали — и поют там, и читают, и фильмы по¬
казывают. В общем, показали этот фильм, весь зал был в восторге...
— У вас нет этого фильма?
— Да есть у меня, Толя! Но если вы его посмотрите, то вообще больше не
захотите меня видеть... (Смеется.) Кончается фильм, аплодисменты, пол¬
ный зал — а я уже гений, без вариантов! Ну, все первокурсники — гении.
Да какой там Феллини, какой Антониони! Еще ничего не знаешь, ничего
не умеешь, но ты уже гений. Тут у меня и роль, и фильм — и все в первом
семестре. И аплодисменты в Доме кино. Разряженная публика — полный
зал... А после просмотра (я уже в зале был) ведущий объявляет: «А сейчас
мы хотим познакомить вас с поэтом. Может быть, вы его не знаете, но это
поэт необычный — он не просто сочиняет стихи, он еще и пишет к ним му¬
зыку, играет на гитаре и сам исполняет эти песни — Булат Окуджава!»
Никто никакого Окуджавы тогда еще не знал — 58-й год... Выходит какой-
то хлюпик, немножко лысоватый уже. Табуретку ему выносят. Он на нее
ногу ставит, гитару кладет на колено, подстраивает ее. (Это как-то не по¬
нравилось.) Потом тихим голосом говорит в микрофон: «Я сейчас спою
вам песню из кинофильма, сценарий к которому еще не написан». (Это
уже совсем не понравилось.) И потом начинает петь: «Женщины глядят
из-под руки в шали голубой...» И вдруг в зале начинают шуметь — мол, по-
шел бы куда подальше. Потом посреди зала встает Леонид Кмит, который
Петьку в «Чапаеве» играл, и кричит: «Осторожно: пошлость!»: название
нашего фильма. Затем — свист, и певца сгоняют со сцены... После выхожу
я в вестибюль, ко мне бросаются люди, поздравляют с успехом фильма.
Кругом корреспонденты. А я вижу — лестница, и стоит там какая-то ком¬
пания породистых господ и дам. Вдруг кто-то из них просит меня подой¬
ти к ним. Я говорю: «Сейчас, вот только с журналисткой договорю, и
все...» Потом направляюсь туда, весь сияющий от успеха — ну, я гений, это
ясно, — и весь вестибюль как-то постепенно притихает. А самый главный в
этой компании, пузатый такой господин, вот вроде вас, Толя...
— Спасибо вам большое!
— ...говорит своим друзьям: «Позвольте вам представить героя нынешне¬
го вечера. Я вам одно хочу сказать: есть теперь на кого Россию оставить!»
Я, конечно, чуть не взлетел от этих слов. Потом он наклоняется ко мне — а
весь вестибюль молчит, прислушивается — и говорит: «Вы только к моим
словам серьезно не относитесь. Дело в том, что у меня в кавалерийской ата¬
ке голова саблей пробита...» (Смеемся.) Это был Иосиф Прут — сценарист,
юморист и главный в Москве хохмач. И тут я понял, что в дерьме полном.
Вот так он меня подлечил от гениальности.
— Вот так сразу.
— Да, сразу, публично! Но фильм-то — дерьмо.. Покажу потом.
— Элем Германович, а все-таки за что должен в первую очередь браться
человек, который хочет снимать кино? Я имею в виду поиск знаний, а не
финансов.
— Даже не берусь ответить на этот вопрос. Вот Ромм первокурсникам со
всех факультетов в актовом зале читал очень мудрую и всем известную
вступительную лекцию. (Он, конечно, в основном к режиссерам обращал¬
ся.) Лекция начиналась так: «Я сейчас назову вам, сколько профессий су¬
ществует в кино, причем все даже не смогу перечислить...» Далее он гово¬
рил о том, что каждый занимается своим делом. Оператор — снимает. Ведь
кино — что такое? Во-первых, изображение. Значит, оператор должен
знать и уметь то-то и то-то. Он помогает оформлять павильоны, строить
декорации и так далее. Композитор пишет музыку. Звукооператор ее запи¬
сывает.. Актеров мы видим на экране, и в основном фильм воспринимает¬
ся через актеров. Осветители делают свет... А потом Михаил Ильич добав¬
лял: «Есть еще одна профессия. Человек, который ничего не делает, но без
которого фильма не бывает».
— Режиссер.
— Да. Человек, который не играет, не снимается, не записывает, не рисует.
— Он как дирижер.
— Ну да. И вот Ромм тогда говорил, что был в двадцатых — начале трид¬
цатых годов «Персимфанс», первый в Советском Союзе симфонический
оркестр без дирижера. И он недолго просуществовал — без дирижера нель¬
зя... Короче, через полгода, как я начал учиться во ВГИКе, подходит ко мне
ассистентка Ромма и говорит: «Элем, Михаил Ильич приглашает вас пе¬
рейти на его курс, он все устроит». Я сказал: «Нет, с этим человеком я во¬
обще ничего в жизни общего иметь не буду». Еще через полгода она опять
подошла с тем же предложением. Но и в этот раз я отказался.
— Не жалеете сейчас?
— А я ходил подслушивать его лекции... (Смеется.) Когда я сделал «До¬
бро пожаловать», и Ромм попросил меня показать, он в восторг пришел от
фильма.
— Фильм потрясающий.
— Ну, тогда я так не считал. Да и сейчас не считаю.
— Но ведь его уже не одно поколение смотрит.
— Ну, это да, это правда.
— Это как музыка, которую можно слушать и слушать бесконечно. И это
ведь был первый ваш фильм, и сразу — в десятку.
— Я сам удивлен этим. Ну, рядом был Тарковский, он уже сделал «Ивано¬
во детство»... Вообще, Толя, это очень сложное занятие — кинорежиссура,
если по-настоящему ею заниматься. Я вот, например, не согласен ни с Лари¬
сой (Лариса Шепитько — кинорежиссер, жена Элема Климова. — А. П.), ни
с Тарковским, которые говорили: кино — это вся жизнь; если я не буду де¬
лать кино, тогда лучше умереть. Я не согласен с этими людьми, потому что
исповедую другую формулу, которую Юрий Нагибин выразил в послед¬
нем интервью. Его спросили: «Юрий Маркович, для чего человек живет?»
Он ответил коротко: «Чтобы жить». Жизнь самоценна. Жизнь — божест¬
венный дар, она самоценна, при чем тут еще кино? Просто тебе интересно
заниматься этим видом искусства, ты хочешь что-то людям сказать. По той
же причине один пишет стихи, другой — прозу, третий рисует, музыку со¬
чиняет, в театре что-то делает...
— Сейчас с этим легче. Есть средства — бери и снимай.
— Да, бери и снимай. Но мы говорим об очень сложной профессии. Ре¬
жиссеру надо знать и живопись, и литературу, и психологию и уметь рабо¬
тать с актерами и оператором, и оптику знать, и химию — там столько все¬
го нагружено, если серьезно этим заниматься. Просто я вам отвечаю на са¬
мый главный вопрос: стоит ли этим заниматься? Вдруг вы овладеете про¬
фессией и будете снимать только клипы? Вот сейчас есть Высшие режис¬
серские курсы. И чем ребята, которые там отучились, потом в основном за¬
нимаются? Клипы делают. Я не хочу ни у кого отбивать желания учиться
на режиссера, нет. Просто говорю честно, откровенно, со всей, так сказать,
большевистской прямотой, о том, что зачастую происходит.
— Элем Германович, но ведь бывают талантливые люди, которые нигде не
учатся.
— Бывают, да. Вот Орсон Уэллс, может, и не учился.
— Ваши рекомендации относительно того, что должен знать и уметь че¬
ловек, который хочет заниматься режиссурой, — это вполне достаточный
минимум?
— Конечно, нет, Толя. То, о чем мы сегодня говорили, — это, так сказать,
только первый этаж. А этажей этих столько! И никогда не нужно стеснять¬
ся учиться. Что касается того, с чего начать...
— Вот если бы я, предположим, к вам пришел и сказал: «Элем Германович,
хочу снимать кино, научите» — что бы вы мне ответили?
— Я спросил бы, есть ли у вас видеокамера.
— Считайте, что есть.
— Тогда придумайте себе какой-нибудь этюд, запишите. Потом снимите
его с друзьями, со знакомыми, тем более среди них есть артисты. Смонти¬
руйте и посмотрите, что получилось. Потому как одно дело — вы мыслите
так, а другое дело — переводите на изображение. Ну, даже, может быть, осо¬
бо и звуком не занимайтесь. Вот просто сделайте все так, как вы представ¬
ляете. И потом будете вспоминать это как первый свой опыт.
— Хорошо, но, предположим, за неделю я бы этого сделать не смог.
— Ну, не за неделю — за две, за три, когда захочется.
— А камеру, наверное, лучше использовать профессиональную?
— Нет, профессиональной не надо. Зачем сейчас тратить зря деньги, пор¬
тить пленку? Снимите просто на видео. Придумайте немой этюд.
— По жанру это должно быть что-то комическое или серьезное? Навер¬
ное, как одессит, я предпочел бы комедию.
— Не зарекайтесь.
— Я не зарекаюсь, я просто мечтаю! Ведь учиться не стыдно, вы сами го¬
ворите.
— Нет, и я до сих пор учусь, это правда. Я куда-то с этажа на этаж пере¬
хожу, стараюсь двигаться дальше... Можете снять, что хотите. Потом пока¬
жете мне, я что-то подскажу. То есть вам бы я посоветовал попробовать
что-нибудь снять сразу. Потому что куда в вашем возрасте-то кончать
ВГИК?
— Ну что же вы так!
— Нет, ну я знаю пример. Ромм рассказывал, как в Нанте, в университет
под Парижем, поступил русский эмигрант дядя Вася — в восемьдесят два
года. Хотелось ему учиться, и все.
— Мне всего лишь сорок один!
— Ну-у, это еще самый лучший возраст... Но главное — то, о чем мы сего¬
дня в начале говорили, — нужно знать, зачем этим заниматься.
— Это понятно. Но я все-таки считаю, что не жалко потратить еще
тридцать лет жизни на то, чтобы хотя бы приблизиться к тому уровню
мастерства, которым, например, владела Лариса Шепитько.
— Никогда не приблизитесь и не надо это в голову брать.
— Да, не надо, вы правы. Я просто хочу сказать, что человек мог снять и
один фильм и больше вообще ничем не заниматься. Потому что он гений.
Хотя такие натуры на достигнутом обычно не останавливаются. Но если
бы меня спросили, почему я снял фильм в сорок четыре или сорок пять лет,
я бы ответил: секундочку, в двадцать я записал пластинку, играл на бара-
банах — возьмите, послушайте; потом записал еще одну, потом еще, а по¬
том я работал в театре...
— Я понимаю. Лев Николаевич Толстой, кстати, очень поздно начал пи¬
сать. Так что «каждому свое» — Suum cuique. Древнеримское выражение,
которое встречалось на воротах фашистских концлагерей... Живопись на¬
до изучать, историю живописи. Потому что кино — это, во-первых, изобра¬
жение. Музыки ведь может и не быть — были и немые замечательные
фильмы. Хотя от сценария, конечно, тоже немало зависит. Но чем был си¬
лен Тарковский? Он просто меня тогда поразил «Ивановым детством».
Когда я снимал «Добро пожаловать», еще не осознавал, что кино — это дви¬
жущиеся картины. Так что «Добро пожаловать» — она изобразительно ни¬
какая.
— Но чем-то она зрителя ведь притягивает!
— Ну, она простодушная, смешная... Задача режиссера — суметь передать
энергию на расстоянии. Свою энергию. Это, кстати, сказал не я, а Вася
Шукшин. Каким образом она передается? Через эту химию, через эту оп¬
тику, через эту машинерию. А если не передается, значит, ее там и не было
вложено, значит, получился целлулоид, мертвое вещество.
— Получается, что режиссером нужно родиться, научиться этому ре¬
меслу нельзя?
— Вот Лариса рассказывала о Довженко — она его обожала: «Набрал наш
курс и на вступительной лекции сразу сказал: «Научить вас режиссуре я не
смогу, и никто не сможет. Моя задача — как я ее понимаю — сделать из вас
интеллигентных людей». И учились, говорит, мы только на его примере —
стать таким человеком. Потому что свет от него шел. А все остальное — тех¬
ника. Вот это он точно, между прочим, сказал: научить режиссуре я вас не
берусь. Вы меня поняли, да?
— Да.
— Все остальное — упражнение. Для этого не надо перечитывать Стани¬
славского. Хотя какие-то азы, безусловно, пригодятся, ведь, так или иначе,
по Станиславскому работает весь мир, даже если его и не читали. Потому
что есть какие-то естественные законы работы с актерами и самого актера,
даже если он нигде не учился — таких, кстати, немало, это от природы та¬
лантливые люди. Вот в том же «Иди и смотри» старосту играл крестьянин,
алкоголик. Его почти сутки гримировали под обгоревшего. Потом его,
практически голого мужика — лишь какой-то тряпочкой прикрыли одно
место, долго-долго по болотистому лесу, где по сценарию прятались жите¬
ли деревни, таскали на носилках бабы. В результате он все это внутренне
пережил — чуть ли не в слезах весь был — и такой гениальный монолог
произнес, так его потрясающе рванул! Я не знаю, какой бы актер еще так
сыграл. До сих пор помню, как его зовут — Казимир Рабецкий. И этому Ка-
зику, как мы его звали, совсем немало лет было. Потом, когда было озвуча¬
ние (это сложнейшая вещь — попасть синхронно, восстановить внутреннее
состояние героя, даже если ты сам играл роль), у него получилось с перво-
го раза! Другой крестьянин тоже озвучивал — и в первый, и во второй раз
получилось синхронно, все точно по интонации. Вот это от природы та¬
лантливые люди. Им все равно, что Станиславский — они не слыхали о
нем, — что Немирович-Данченко. И они ведь не себя играли, а образы.
— Элем Германович, вы предпочитали работать больше с актерами кино
или с театральными?
— Конечно, режиссер должен уметь разговаривать с актером любой шко¬
лы. Но я всегда предпочитал работать с людьми, которые играют в театре.
Потому что они в репертуаре, в тренаже, все время на сцене, с публикой —
это очень развивает. А с киноактерами иначе. Хотя, безусловно, нельзя
всех под одну гребенку.
— Лев Константинович Дуров мне как-то говорил, что хорошо может сы¬
грать либо суперактер, либо просто человек с улицы.
— Ну, при Станиславском еще в МХАТ однажды из какой-то деревни
привезли бабушку с невероятной типажной внешностью. Выпустили ее в
каком-то спектакле на сцену — и все: перестали актеры существовать. Ста¬
ли очевидны манерность эта, наигранные жесты, интонации, посыл этот на
верхний балкон.
— Мне это так не нравится в театре — чтобы речь доходила до послед¬
него ряда, жестикуляция...
— Да. А как у нас греческие трагедии играют? Приезжаю я в Грецию в
первый раз и иду в театр. Шла какая-то древнегреческая трагедия. Там все
другое! Я обалдел совершенно! Это действительно было что-то грандиоз¬
ное. Во-первых, они одеты совсем по-другому — мы же утратили все цвета,
забыли или не знали по недоумию или по лени своей, как люди тогда оде¬
вались. У греков все было другое — и гамма цветовая, и игра... То есть, То¬
ля, надо все время помнить о словах Довженко.
— Элем Германович, Лев Константинович мне однажды рассказал о вашем
особом методе работы с подсознанием актера...
— Да дядя Лева про это сам ничего не знает! Во всем мире этим методом
владею только я — как входить в подсознание человека, как снимать его в
постгипнотическом состоянии и так далее.
— Лев Константинович, может, и не знал о сути метода, однако на это
не согласился.
— Да я его хотел в астральное состояние вывести...
— Он сказал: не надо, я так все сделаю.
— Ага.
— Но он, по-моему, хорошо сыграл.
— Да, хорошо. Но я его довел до этого состояния.
— Все же довели?
— Да. Я даже боялся за его сердце. Но, слава богу, к тому времени я уже не¬
много научился беречь людей. Таких актеров, которые могут рискнуть — не
играть, а на самом деле переживать, так сказать, крайнее состояние, в мире
очень мало. Я вот чуть не угробил Петренко тогда на «Агонии». Он поте-
рял сознание, еле до больницы довезли. Потом несколько месяцев его не
снимали. Тогда я осознал, какую ответственность несу.
— Кто из артистов способен на этот риск?
— Алиса Фрейндлих такая. Инна Чурикова. Есть еще актеры, но их, по¬
вторяю, очень мало даже среди талантливых. Де Ниро такой, кстати.
— А дядя Лева?
— Нет.
— Он не обидится на ваши слова, как вы думаете?
— Да нет, я его люблю, он мой друг. Вообще, это особый разговор, Толя.
Не будем сегодня об этом. Это уже другие этажи.
— Хорошо, Элем Германович. Давайте поговорим о лучших, с вашей точки
зрения, фильмах.
— Мы можем сейчас вспомнить очень много хороших — действительно
хороших — фильмов, их не перечесть. Это и новая волна, и французское
кино, и английское.
— Мне как зрителю нравится современное кино. Но только не эти перево¬
рачивающиеся машины и отстреливающиеся бандиты. Это мне не инте¬
ресно.
— Мне тоже. Это все отвратительно. Но если говорить о пристрастиях —
у каждого, конечно, свои. Можно, условно говоря, пятерку фильмов выде¬
лить, которых я назвал бы примером для подражания. Хотя подражать в
искусстве — самое бессмысленное дело.
— Но, хочешь не хочешь, на этом учиться надо.
— Да... Борис Васильевич Барнет. Гениальный был человек. «Окраина» —
это полузвуковой, полунемой фильм, в котором он как-то пророчески по¬
чувствовал, что надо в кино вообще делать. Красавец мужчина, голубогла¬
зый — все женщины влюблены — чемпион Москвы по боксу... «Окраина» —
потрясающий фильм. Это я со своей точки зрения говорю... Ну, Чаплин —
это за пределами, как говорится, всех обсуждений. Это явление природы —
любой его фильм или почти любой... «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса,
сыгравшего и главную роль — газетного магната, прототипом которого был
Уильям Херст. «Гражданин Кейн» считается чуть ли не лучшим фильмом
всех времен и народов вместе с «Броненосцем «Потемкиным». В 58-м году
на Всемирной выставке достижений науки и культуры в Брюсселе прово¬
дился опрос кинокритиков из разных стран, и «Броненосца «Потемкина»
назвали самым великим фильмом. И фильм действительно по-своему за¬
мечательный. Хотя один критик — Семен Черток, он давно уже в Израиле
живет, а был наш, — написал, что это абсолютно ангажированный режис¬
сер и абсолютно ангажированный фильм. Ладно, оставим «Броненосца»,
хотя у него, естественно, свои достоинства. Про Эйзенштейна вообще раз¬
говор особый... Орсон Уэллс был фигурой какой-то совершенно до конца
не опознанной. Он ведь прославился, будучи еще совсем молодым челове¬
ком. Сделал радиопередачу по Герберту Уэллсу — в уникальном варианте
изложил, как марсиане напали на Землю. И в Америке началась дикая па-
ника — люди бежали, прятались, у кого-то сердечный приступ и так да¬
лее. Потом он снял фильм «Гражданин Кейн». Ему тогда было 28 лет, и
он сыграл пожилого человека. Виртуозный грим, потрясающая актерская
работа. И вообще это какой-то странный фильм. Его не так давно показы¬
вали, я еще раз пересмотрел и убедился, что это, как мой сын говорит,
«супер»... Конечно, надо отдать должное великому режиссеру Феллини,
практически все фильмы которого я видел. Но один его фильм я смотрел
одиннадцать раз.
— Какой?
— «Ля страда». То есть «Дорога». Не видели?
— Великий фильм с Энтони Куином и Джульеттой Мазиной.
— Да. Но, когда он у нас вышел в прокат, его обезобразили до полной не¬
узнаваемости озвучанием, дали другое название — почему-то любили ме¬
нять названия: «Они бродили по дорогам». Чепуха! Дорога там такой фи¬
лософский смысл имеет, вот эта «ля страда»! Так фильм и надо было назы¬
вать... Жан Виго. Совершенно странное существо, какое бывало на земле.
Французский режиссер, рано ушедший из жизни. До сих пор в Париже су¬
ществует клуб его поклонников... Он сделал всего два фильма: «Ноль за по¬
ведение», очень хорошая картина, и самое главное, что он успел сделать, —
«Аталанта» с Мишелем Симоном в главной роли. Симон, кстати, потряса¬
ющий человек, я у него когда-то интервью брал... Конечно, замечательный
режиссер Акира Куросава. Особенно выделяется его фильм «Расемон», где
с трех точек зрения одна и та же история. Куросава, кстати, когда у нас за¬
претили «Агонию», снимал здесь «Дерсу Узала». Он все-таки посмотрел
мой фильм. И, говорят, после просмотра — в зале кроме него были только
двое каких-то сопровождающих, — когда зажегся свет, он встал и пять ми¬
нут демонстративно аплодировал... К чему я это рассказываю? К тому, что,
когда узнаешь такие вещи, ты лучше понимаешь людей. Коллеги ведь все
друг с другом соперничают. А вот он, Куросава, пошел потом скандалить к
первому заместителю генерального директора «Мосфильма»: почему этот
фильм не пускают на экран? Тот: да я хороший человек, я тут ни при чем,
это же, говорят, Брежнев посмотрел на даче и сказал: «А зачем это нам?»
Вот тут и разорался Куросава: а зачем вам Достоевский? Зачем вам Пуш¬
кин и вообще все вам зачем? Тот говорит: но я-то ни при чем.
— Чиновник...
— Ну да. А этим фильмом занималось не Госкино даже, а Политбюро —
десять лет. Нечем было им больше заниматься... Когда я в очередной раз
приехал в Швецию, в те еще застойные времена, там в кинотеатрах нача¬
ли показывать мои фильмы. И мне переводчица, которая работала с Тар¬
ковским на его последнем фильме, говорит: «С вами хочет познакомить¬
ся Свен Нюквист». (Это замечательный оператор, который снимал
«Жертвоприношение» Тарковского.) Он пригласил меня в театральный
ресторанчик, как-то сразу меня расположил к себе... И он признался:
«Знаете, Элем, когда мы с Бергманом посмотрели «Агонию», он вышел из
зала и сказал, что, если бы это было возможно, фильм получил бы Нобе¬
левскую премию».
— И почему не дают Нобелевской премии за кинофильмы!
— Там только по литературе... Я, естественно, был тронут словами Берг¬
мана — еще бы, такой мастер! Так что я имею два комплимента — от Куро¬
савы и от Бергмана.
— Элем Германович, я думаю, что, продолжая наш разговор о лучших
фильмах, вы вспомните и «Восхождение».
— «Восхождение» Ларисы мне очень близко, я считаю его шедевром.
«Сотников» — безусловно, замечательная повесть, но после выхода филь¬
ма стали говорить о том, что он получился еще лучше. И Василь Быков да¬
же ревновал — это, конечно, естественная реакция творческого человека.
— «Восхождение» для меня это тот фильм, который заставляет внут¬
ренне меняться всякий раз, сколько бы ни смотрел. Вот прошел какой-то
отрезок времени, я снова смотрю — и снова чувствую себя совершенно дру¬
гим человеком. Музыка Шнитке, почти документальная точность жизни
на экране — картина настолько сильная, что долгое время находишься под
впечатлением. Наверное, это и есть истинное искусство.
— Конечно. Я тоже так анализировал «Восхождение». Особое воздейст¬
вие фильма на зрителя обусловлено и тем, что здесь два основных персона¬
жа, два характера, две судьбы и все очень четко предложено. Во-первых,
это просто захватывает. А во-вторых, вдруг осознаешь, что ты зритель — и
примериваешь на себя: как бы ты поступил в этих обстоятельствах — вот
как Рыбак или как Сотников? И я себя об этом спрашивал. А еще там есть
одна очень хорошая деталь, надо отдать Ларисе должное, — как на ветру, на
веревках, раскачивается застывшее белье. Железное белье. Так впервые в
фильме появляется образ смерти. Это дорогого стоит... Вот так называемое
образное мышление. Присущее Довженко... Кстати, он свой последний
фильм успел лишь начать...
— «Поэма о море».
— Да. Даже студентов своих поснимал немножко, и Лариса там моло¬
денькая совсем... Так вот он отмечал, что строительство Каховской гидро¬
электростанции — это, с одной стороны, драматическое событие для тех,
кого выселяют, а с другой — прогресс, и хотел передать восторженное от¬
ношение к этому. После смерти Довженко Юлия Солнцева, его жена, наша
«Аэлита», взяла фильм в свои руки и досняла. Точнее сказать — сняла. Ла¬
риса взялась за ту же тему, но с прямо противоположным знаком, хотела
показать отношение автора, Распутина, к этой проблеме. И ведь как распо¬
рядилась судьба! Начала снимать, погибла. И муж продолжил вместо же¬
ны. Что это такое, что? Придумать такую мизансцену невозможно...
— Вас с Ларисой воспринимали всегда как одно целое.
— Да, так нас и воспринимали. На самом деле. И не только по искусству —
по внешности даже. Говорили: вы так похожи — как брат и сестра. Хотя
все-таки два режиссера в семье — это непростой момент, да?
— Еще бы! Истерика...
— Нет, никакой истерики — никогда. И я знал, я сразу ощутил, что она
очень тонко чувствует актеров — а это особое свойство. Лариса — это нату¬
ра, характер. Съемки «Зноя» по Чингизу Айтматову — она в инфекцион¬
ном бараке, не может ходить, ее носят на носилках, и при этой жаре — плюс
сорок пять, полупустыня — работает, не вставая. И побеждает... «Восхож¬
дение» — мороз минус сорок.. Это я видел, я туда в Муром ездил. От каме¬
ры она отойти не может, осветители приносят ее на себе в гостиницу, а там
теплой воды даже нет. Это что? Натура!
— Фильм «Прощание» вы снимали заново?
— Ну да. Лариса успела очень мало снять. И сценарий мы переписали
под себя. И правильно сделали — посмотрели материал и решили, что под¬
ражать бессмысленно — на первой съемке я начал было, но потом быстро
понял, что это провал. Поэтому все делали по-своему, заново. К тому же
поначалу, когда я только приехал на съемки, потрясенный, мозги вообще
плохо работали... И потом, я не готовился к этому, я был рядом, и с моей
легкой руки Лариса взяла эту повесть. Все равно это она должна была де¬
лать.
— Актерский состав остался прежним?
— Старался максимально его сохранить... Да, тогда Ваня Бортник не в
форме оказался. А мы от натуры зависим, там шутки прочь, ждать, пока он,
как говорится, придет в себя, не было возможности, хотя он мне очень нра¬
вился. Вот тогда я вспомнил белорусского актера Леню Крюка.
— Замечательный актер.
— Да, что говорить. Он умер на сцене, прямо на глазах у публики.
— Для актера это, наверное, потрясающая смерть.
— Да. Никто ничего не мог понять... Шакуров выбыл. Появился Петренко.
— Ваш брат Герман тоже работал над «Прощанием»?
— Да, Гера помогал. Был со мной, не отходил от меня... Когда я закончил
работу над картиной, меня на «Мосфильме» хотели исключить из партии.
Хотели отдать фильм другому режиссеру, чтобы он его весь перемонтиро¬
вал, порезал. И все уже просто было на грани — и Ларисы не было, и под¬
держки не было, в общем, я был один. Ну, Герман Германом — что он мо¬
жет сделать, да? Вот и помогли одни люди — они сделали вид, что приня¬
ли этот фильм. На самом деле его в Союзе не видел никто. Он был широко
известен за границей во время перестройки. Ну а как всегда бывает на
«Мосфильме?» Несколько просмотров. Новый фильм — люди приходят,
работники «Мосфильма», смотрят. И вот одна уже немолодая дама — кото¬
рую я не знал, не помню даже, кто она, — подошла ко мне и говорит: «Я вче¬
ра чуть не покончила с собой...» Я спрашиваю: «Что такое?» — «Посмотре¬
ла ваш фильм! Я живу около Лужников, у Новодевичьего, и когда иду до¬
мой пешком, обычно перехожу мост. А в этот раз дохожу до середины — ве¬
чер был уже — остановилась и чувствую: не могу идти дальше и сейчас бро¬
шусь в воду!» Я говорю: «В чем дело? При чем здесь фильм-то?» — «Я его
посмотрела и поняла, что бессмысленно прожила свою жизнь». Это была
лучшая рецензия, которую я получил на фильм «Прощание».
— Элем Германович, зная о том, что вы очень любите творчество Андрея
Платонова, не могу не спросить: «Родина электричества», с вашей точки
зрения, лучшая экранизация его произведения?
— Безусловно. Лариса снимала в муках. Под Астраханью нашла такое се¬
ло — Сероглазка — умирающая деревня, большая очень, на правом берегу
Волги. Никаких знаменитых артистов не было — ни одного. Крестьяне все
изможденные — ну, видели, какие там типажи. Речь ведь о голоде, о засухе
шла... И там титры есть в фильме: «Благодарим жителей села Сероглазка
Астраханской области за участие в съемках». В Госкино фильм посмотрели
и говорят: откуда такие люди в Стране Советов? Да все голодные, оборван¬
ные какие-то, изможденные! Да еще такое название села — Сероглазка —
поэтическое, а люди вот такие там живут. К Платонову ведь известно, ка¬
кое у нас отношение было — полузапрещенный писатель... Короче говоря,
фильм — долой. «Ангел», которого Андрей Смирнов снял, за жестокость —
там молотом голову разбивают на наковальне — тоже долой, скандал... И до
нас доходит слух: завтра увезут с «Мосфильма» обе картины. А еще не на¬
печатано ничего, то есть существует рабочий материал, но смонтирован¬
ный, озвученный. Потом просочился слух, что дан приказ в Госкино — там
тоже свои люди были, как говорится, можно было узнать кое-чего — унич¬
тожить эти фильмы. Но Паша Лебешев, хороший оператор, замечательный
малый и, в общем, такой лихой, смелый человек, сумел спасти оба фильма.
Я не знаю, чего он там сделал — бутылку ли принес в лабораторию, конфет
ли несколько коробок, но ночью напечатали по одной — слава богу, оба
фильма черно-белые — позитивной копии и спрятали их в монтажной. Так
что монтажеры тоже рисковали... Обычно неугодные картины клали «на
полку», а тут уничтожили — не смыли, а сожгли. Аутодафе такое сделали
этим двум фильмам.
— Сожжение.
— Ну да, средневековый термин... И вот эти две копии пролежали двад¬
цать с лишним лет — до перестройки. Когда V съезд кинематографистов
прошел, тогда мы все начали вынимать «с полок» фильмы. И один замеча¬
тельный парень из лаборатории — очень талантливый, армянин, я забыл,
как его зовут, — сумел отреставрировать эти копии, сделать новый негатив
и того и другого фильма. Вот такая история у «Родины электричества».
Тарковский правильно сказал, что кинорежиссура — это преодоление...
Преодоление, преодоление, преодоление... Я это все к чему рассказываю?
В Индии каждый год снимается около тысячи фильмов — в одной только
Индии! Значит, по всему миру производится около четырех тысяч филь¬
мов. В Советском Союзе, вот именно когда я работал, рекорд был сто двад¬
цать — средняя цифра. А в Индии даже декорации не разбирают — там же
снимают и танцы, и прочее. Хотя были у них и талантливые люди... Так
что режиссеров пруд пруди, а настоящих, таких как Тарковский, как Ла-
риса, — их очень мало. И они отличаются от остальных тем, что не могут
снимать фильм, если этого не просит душа, если это не самое главное, что
они хотят сказать людям. Только тогда режиссеры такого плана делают то,
из-за чего мы их выделяем среди других. Естественно, если им еще сопут¬
ствует удача и многие прочие обстоятельства. Вот такой режиссурой зани¬
маться — я за. А не за то, чтобы просто лудить очередной фильм, как на на¬
шем жаргоне говорят: «Ну, ты слудил что-нибудь там?» — «Слудил, слу-
дил, да...» Это «лудеж». А мне интересно говорить только о режиссуре...
Ну вот, например, Шукшин. Это особое существо. Я всегда его и любил, и
чтил, и до сих пор чту, и помню, и дружили мы. Он был такой разносто¬
ронне одаренный деревенский парень.
— Прекрасный фильм «Калина красная».
— Прекрасный фильм. Шукшин и писатель был прекрасный. Но больше
всего мне в нем нравится то, что он замечательный актер. Вот вдруг это
удивительное лицо увидишь, вот эту походку, манеру его вести себя так —
и просто ну все!
— Он и в жизни был таким, как на экране?
— Он весь был такой настоящий. Проживал, как говорится, свою жизнь
публично. Я же его на Распутина хотел пробовать... Помню, однажды, ког¬
да я снимал на «Мосфильме» «Агонию», а Шукшин в это же время в со¬
седнем павильоне — «Калину красную», у нас совпал обеденный перерыв.
Я вышел покурить, мы сели на большое толстое бревно около павильонов.
Я сказал ему: «Вась, ты не куришь, наверное, но давай посидим. Ну, что у
тебя со Степаном Разиным?» Я знал, что ему не давали начать этот фильм.
И он вдруг заплакал. Это было так неожиданно для меня. Я: «Что ты?» «Да
вот, — говорит, — суки, гады, не дают, и все! Сценарий есть, я хочу снимать,
хочу играть эту роль. Но теперь должен писать роман о Степане Разине,
нужно, чтобы он вышел в печать — и тогда, может быть, мне дадут возмож¬
ность...» И — мат-перемат и так далее на эту тему...
— Элем Германович, на кого еще из наших режиссеров стоит обратить
внимание?
— Ну, Глеб Панфилов — замечательный режиссер. И конечно, Кира Му¬
ратова. Я не поклонник ее искусства, но она очень многим нравится... Ле¬
ша Герман. С ним мы, кстати, познакомились немножко странным обра¬
зом. У него отобрали фильм — «Лапшина» — рабочий позитив забрали,
все. Госкино ведь тогда делало что хотело. А он уже был «полочный» ре¬
жиссер, потому что «Проверка на дорогах», или, как она поначалу называ¬
лась, «Операция «С Новым годом!», уже лежала «на полке». Единствен¬
ный фильм, который прошел нормально — «Двадцать дней без войны» с
Юрием Никулиным. А тот сразу у него отобрали. Более того — заставили
внести какие-то жуткие изменения, порезать фильм. И он приехал к нам.
Мы с моим братом Германом сидели на кухне и, как я называю, отпаивали
его водкой. И я ему сказал: «Леша, я тебя умоляю, ты себя уважать не бу¬
дешь, если не вернешь ту версию фильма, которую снял! Верни ее, выкра-
ди этот позитив любым обманом и вмонтируй то, что ты не выбросил». Ну,
короче говоря, так он и поступил... И вот, помню, приехали мы с операто¬
ром в Ленинград, и там, в гостинице «Советской», у меня был огромный
номер, проходили видеопробы — ассистенты приглашали девочек и маль¬
чиков, в общем, искали исполнителей на «Иди и смотри». И Леша меня
позвал на просмотр своего фильма. Сказал, что все восстановил и вставил
пару лишних кадров для успокоения начальства. Мы вместе с оператором
и художником приехали на «Ленфильм». Андрей Смирнов тоже оказался
рядом. А Леша, человек остроумный и симпатичный мне, произнес: «Сей¬
час вы увидите нечто гениальное...» — ну, это я и сам так шутить могу. Кон¬
чился просмотр, мы, как сейчас помню, зашли в выкрашенный зеленой
краской лифт, и Леша наконец поинтересовался нашим мнением. Я пер¬
вый начал говорить. Я сказал: «Леша, вот из такой пушки, которой ты об¬
ладаешь, не по воробьям бы стрелять». Андрей Смирнов добавил: «Согла¬
сен полностью — с твоими талантами в твоем возрасте пора уже делать что-
нибудь посерьезнее». Ну, естественно, Леше это обидно было слышать, тем
более о такой многострадальной картине... Вечером я был у него в гостях,
на Марсовом поле, ужин был прекрасный, но чувствовалось, что как-то все
не так, задели его наши слова...
— Кстати, о воробьях и пушках. Сейчас многие режиссеры, даже талант¬
ливые и именитые — не будем их называть, стали творить откровенно
конъюнктурные вещи. Как вы думаете, Элем Германович, почему наши экра¬
ны заполонили коммерческие фильмы, на массового зрителя?
— Сейчас вот этим молодым зомби — естественно, не всех молодых так
называют, но столько зомби появилось — им бесполезно что-либо расска¬
зывать, они ничего не поймут... Как-то давным-давно, годах в семидесятых,
я спросил у восемнадцатилетней дочки знакомого оператора, замечатель¬
ного друга, знает ли она, кто такой Сталин. Она ответила: «Какой-то на¬
чальник». (Смеется.) Потом я понял, что она и на самом деле не знала...
Сейчас, конечно, другое поколение, полно хороших ребят, но столько раз¬
велось тех, кто ничего не помнит и не хочет и у кого основы в душевном ор¬
ганизме вообще никакой нет! Поэтому, Толя, сейчас снять такие фильмы,
какие снимали Тарковский, Шепитько, Шукшин...
— Климов...
— ...Климов, предположим, Панфилов, практически невозможно — по со¬
стоянию души зрителя. Ведь что такое кино? Это действительно самое
массовое из искусств — было, по крайней мере. Но сейчас вам не пойдут на¬
встречу, даже если вы зададитесь той высокой целью, о которой мы сегодня
говорили. Сейчас, когда государство перешло на коммерческо-рыночные
отношения, такой фильм, как «Восхождение», смотреть не пойдут. Зомби
не пойдут. И поэтому никто денег на такой фильм не даст. Все сложно в
нынешней ситуации.
— Да, вы правы. Но признайтесь, что не всякий зритель воспринимает на¬
турализм в «Иди и смотри» как художественно оправданный прием.
— Взрывы — так взрывы, поле — так настоящее поле.
— Но внутри что-то начинает возмущаться: как же можно такое пока¬
зывать? Ведь мы и так знаем, как и сколько погибло тогда людей.
— Я все это понимаю, Толя. Дело в том, что Роберто Росселини в свое
время снял — это, собственно, может, и было началом итальянского нео¬
реализма — «Рим — открытый город». Очень жестокий фильм по тем вре¬
менам. Тоже много было всяких выступлений: зачем нам все это показы¬
вают — как мучают людей, как пытают и так далее. Он тогда сказал: «Ес¬
ли люди сумели это пережить, сумейте хотя бы посмотреть на это...»
«Иди и смотри» — фильм сдержанного сентимента. Нет, ну, я знал, как
его надо снимать. Иначе тогда уже действительно никто бы не смог смо¬
треть. И, как ни странно, очень много зрителей — очень много по всему
миру, и у нас в том числе, — посмотрели фильм. Десятки миллионов —
чего я совершенно не ожидал. Еще очень многие не пошли, потому что им
сказали, что «это так тяжело, ты там сознание потеряешь, за людьми на
«скорой помощи» приезжали...». Ну а если у человека больное сердце, что
же он пойдет себя мучить, на эти ужасы смотреть?.. Сценарий писали с
Алесем Адамовичем. Я говорил ему, что уже столько материала знаю, все
изучил; я мальчик из Сталинграда, и если буду делать этот фильм, то сде¬
лаю по-настоящему. Но понимал, что должна быть какая-то пауза, чтобы
люди просто могли хоть чуть-чуть смотреть на экран. Адамович мне отве¬
тил: «Пусть не смотрят, мы должны это сделать». То есть у него перед сво¬
им народом, перед трагедией, которую он пережил, был святой долг. А на
пороге была третья мировая война. И он знал, чем она кончится, — все
знал. Это был великий человек... Пусть не смотрят, но мы должны это
сделать. Я должен был это сделать. Она, Лариса, так говорила: «Я долж¬
на это сделать»... Семь лет мне не давали начать фильм. Наконец все-та¬
ки разрешили — к сорокалетию Победы. Когда сдавали фильм Госкино (а
я им до этого ни метра рабочего материала принципиально не показал),
председатель Ермаш — он уже к тому времени знал, что со мной бесполез¬
но бороться, — призвал всех киногенералов, как мы их называли, наших
гениев, на просмотр в министерском зале. Уже назревал Московский фе¬
стиваль, и речь шла о том, чтобы этот фильм туда не попал. Короче, ни¬
кто не хотел брать ответственность за приемку этой картины. А Сергей
Аполлинариевич Герасимов, царство ему небесное, был уже назначен
председателем жюри. И вот Ермаш позвал всех в этот зал. Когда я при¬
шел с Адамовичем, то ничего не понял. Обычно смотрят министры, как
правило, без режиссера, со своими редакторами. И вдруг я вхожу — все
гении здесь. Было обсуждение. Чухрай что-то говорил, другие... Лев
Александрович Кулиджанов, который долгие годы был руководителем
союза. Обсуждали, обсуждали... Мы с Адамовичем вышли во двор, там и
Герман был, и оператор Леша Родионов. Потом пошли в кабинет к мини¬
стру. И Кулиджанов сказал такую, очень точную, фразу: «Я понял, что
этот фильм нужно смотреть с конца в начало — вот из-за того, что не уби-
вают Гитлера-мальчика. Тогда ты понимаешь нравственную позицию ав¬
торов». А Герасимов сказал: «Если этот фильм не примете и он не попа¬
дет на Московский фестиваль, то я не буду работать в жюри». А к нему
прислушивались, это мощный был товарищ... Фильм получил главный
приз. Что творилось в зале!.. Вот иногда, Толя, интереснее даже не сам
фильм, а что было вокруг него, история создания.
— Как родился этот финальный эпизод?
— В Карловых Варах. Лариса туда ездила лечить болезнь Боткина. Союз
кинематографистов помогал путевки доставать. Поехали мы вместе. Ну,
красиво там все. Она говорит: «Тебе полезно, да любому полезно, там такие
процедуры делают, воду пьешь эту замечательную...» А мы как раз с Адамо¬
вичем писали уже сценарий — по его «Хатынской повести». От повести
там, конечно, остались только какие-то фрагменты, это, кстати, очень та¬
лантливое произведение. Но сценарий — это сценарий, а повесть — это по¬
весть. И вот я чувствую, что мне в этой повести — которая мне очень нра¬
вилась, иначе я бы ее в руки, как говорится, не взял — какого-то парадокса
не хватает. И я маюсь, мучаюсь — что-то не приходит мне. Что-то — зерно
какое-то важное для фильма. И ходим мы с Ларисой по этим прекрасным
долинам. (Кого только в Карловых Варах не было — в общем, все гении там
побывали в свое время, курорт действительно замечательный.) И вот гуля¬
ем, гуляем, и вдруг я вижу этот эпизод расстрела в обратную сторону, рас¬
стрела Гитлера. Я даже остановился. Сказал Ларисе, что сейчас не могу по¬
нять, что это такое вообще, как это он не убивает. Сценарий тогда называл¬
ся «Убейте Гитлера»... Так что эта идея пришла в Карловых Варах. Я — до¬
мой, сразу ничего не понял... А вот скажите, «Иди и смотри» и «Добро по¬
жаловать...» — это один человек снимал?
— Нет.
— Нет, конечно.
— Они и по жанру разные.
— Ну, настолько разные! Это к вопросу о том, как мы меняемся. То есть
в принципе мы не меняемся, но в одном человеке живут разные ипостаси.
— Элем Германович, а литература и кино — насколько это разные виды
искусства?
— В кино и литературе — совершенно разные законы. На бумаге вы мо¬
жете написать какие-то мысли, воспоминания героя, а кино — это все-таки
более действенное, более зримое и, я бы сказал, более грубое искусство.
— Вам нравится Солженицын?
-Да.
— «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор»...
— И то, и то прекрасно.
— «Москва — Петушки» Ерофеева?
— Замечательная вещь. Но все уже снято, по-моему. Потом, когда в сле¬
дующий раз встретимся, напомните мне — я вам найду видеозапись по¬
следней беседы с Веничкой Ерофеевым.
— Спасибо. Но я ее уже видел года два-три назад. Недавно прочел «Саноч¬
ки» Жженова. Это что-то потрясающее. Автобиографический рассказ о
его семнадцати годах на Колыме.
— Георгия Жженова? Не читал. Кстати, мне на днях позвонили из одной
газеты — ну, у них там такая манера спрашивать мнение разных людей:
«Как вы относитесь к тому, что на родине Жженова ему при жизни устано¬
вили памятник?» Я отвечаю: «Не знаю, первый раз слышу». — «А можно
ли устанавливать памятник при жизни?» Я говорю: «Вообще-то при жиз¬
ни не особенно принято, хотя раньше много раз случалось, в том числе и в
нашей стране. Но я — за. Потому что это добрый, талантливый человек, ко¬
торый, как говорится, дважды родился...» — «А вы его знаете?» Я говорю:
«Знаю по творчеству и мельком в жизни. Мельком — просто вот так случи¬
лось...» Ну, я самые добрые слова сказал. «А кому бы вы еще из актеров ус¬
тановили памятник?» Я хотел сказать: «Дяде Леве». Вот такие дела, в об¬
щем, опасные.
— Сейчас вы знаменитый человек?
— Сейчас я знаменитый все равно. Да все знают, абсолютно...
— Но это уже иная слава. Устоявшаяся.
— Да. В «Агонии», в начале фильма царь говорит: «Мой народ любит ме¬
ня». Вот и я вам повторяю: мой народ любит меня. Идешь по улице — «Вы
не больны?» — женщина немолодая спрашивает. Отвечаю: «Да вроде нет,
Господь милует». — «У вас какой-то усталый вид». Я говорю: «Ну, сейчас
такие грустные дни один за другим идут, чудовищный август». — «А вот у
меня муж...» И начинается разговор. Захожу в магазин, куда я шел, — дру¬
гая подходит: «Ой, вы! А как вы...» То есть я все время со всеми общаюсь...
Ну, конечно, я в шутку это сказал: мой народ любит меня.
— Я понимаю.
— Да. Хотя мой народ любит меня.
— Элем Германович, расскажите, пожалуйста, о том знаменитом V съез¬
де кинематографистов.
— Всем тогда настолько надоел весь этот паноптикум, эта конюшня, и со¬
юз, который был задавлен Госкино — задавлен, хотя возглавлял его хоро¬
ший, очень симпатичный человек. И все понимали, что уже наступило дру¬
гое время — Горбачев пришел, перед ним был Черненко... Короче говоря,
маразм тогда достиг апогея. Госкино было, как мы его называли, «пыточ¬
ная». И мы знали, что это лишь исполнитель пыток — их заказывают чуть
повыше.
— Политбюро.
— Да. Поэтому тогда появилось массовое настроение свергнуть, сломать
все это. Люди всегда носом чувствуют, что другое время наступает, и надо
проявлять решительность. И все это разрушили — разрушать ведь легко...
Это был революционный съезд. Итальянские журналисты статью в своей
главной газете назвали «Землетрясение в Кремле». Там все обалдели от то¬
го, что у нас происходило. Трудно даже сейчас представить. Хроника, кста-
ти, есть. Меня избрали практически единогласно — все мои коллеги, това¬
рищи, а не кто-то безликий... И я столько шрамов, как говорится, на своем
теле уже имел. И мои друзья, наше маленькое поколение, которое пролез¬
ло тогда — «в узкую щель приоткрылась дверь», хрущевская оттепель. Мы
скользнули. Кто успел — пролез. Кому-то прищемили попу, как мне в «До¬
бро пожаловать» — запретили сразу.
— Элем Германович, как к вам пришла идея снимать «Мастера и Марга¬
риту»?
— Мне захотелось невозможного. Я себя попробовал во многом. Коме¬
дию снял. Притчу снял — «Похождения зубного врача». Коллажный
фильм снял — методом, как я его назвал, гармонической эклектики. Супер¬
монтажный. («Спорт, спорт, спорт». — А.П.) Вместе с Марленом Хуциевым
завершил фильм Михаила Ромма «И все-таки я верю...». Мы оба были в его
объединении — меня он пригласил к себе после «Добро пожаловать» и,
кстати, дал мне сценарий «Похождений зубного врача». Ромм успел лишь
собрать какие-то документальные кадры, снять за границей какие-то ин¬
тервью — и все. И сценария не было — наговорил немножко на домашний
диктофон, это и использовали, чтобы не пропал материал, чтобы замысел не
пропал. Хотя, пожалуй, и замысла-то по-настоящему еще не было... Затем —
«Агония». Чудовищный скандал, десять лет «на полке». Потом эта трагедия
с Ларисой, начали снимать «Прощание». Потом фильм «Лариса» — малень¬
кий, самый трудный мой фильм.
— Самый трудный?
-Да.
— Извините, что спрашиваю...
— Нет, все в порядке... И наконец, «Иди и смотри». Семь лет не давали де¬
лать, но все-таки прорвался. И я понял: этот фильм — настоящая трагедия.
Поэтому, когда я его закончил, подумал: ну, что мне еще делать? И вроде
бы попробовал себя со всех сторон. (Да, еще «Фитилей» наснимал не¬
сколько штук, и, кстати, неплохих — для денег). Куда двигаться дальше?
Вот тогда и появилось желание сделать невозможное, обрести на этом пу¬
ти, в этой работе, новое сознание. Мне мое сознание к тому времени надо¬
ело. Я захотел нового. А для этого нужно было через свою работу забрать¬
ся на гору, как Заратустра, в разреженный воздух. Я даже в космос соби¬
рался лететь, благо блат был.
— Действительно?
— Ну, МАИ-то я окончил, ребят знал... (Смеется.) А потом я понял, что
это глупость, потому что твой космос, твоя гора, здесь — внутри тебя. Вот
туда заберись, внутрь, там самая высокая гора. Да, я уже что-то снял, что-
то людям дал. И почему сейчас все считают, что у меня происходит какая-
то драма? Ничего со мной драматического не происходит. Не снимаю ки¬
но, но пишу стихи, существую, и не просто вдыхаю и выдыхаю, а мне жить
интересно — с возрастом жить становится все интереснее, это правда. По¬
тому что, когда познаешь какие-то глубины жизни, понимаешь, что такое
сознание, когда постепенно приближаешься к другой реальности, ставишь
перед собой новые задачи — тогда становится интересно жить. И если что-
то можно назвать драмой, то она заключена во мне. И именно потому, что
мы вместе с Германом, братом, побывали в почти безвоздушном прост¬
ранстве, в разреженном воздухе, на высокой-высокой горе. Мы оторва¬
лись от земли — это очень важное обстоятельство, его описал Ницше в
«Так говорил Заратустра». Мы оторвались от себя, бытовых, и перемес¬
тились в другие выси. Мы столько узнали! И драма теперь состоит в том,
что я там побывал и знаю, где находится эта гора, я знаю путь к ней через
невозможное. Андрей Платонов в письме жене написал: «Невозможное —
невеста человечества, и к невозможному летят наши души». Какая красо¬
та и какая точность! Уникальный писатель... Я хотел изменить сознание.
Это как новое рождение. Вот Лариса уже какую-то другую жизнь много
раз жила и, я надеюсь, будет жить еще. Хотя, конечно, она только смутно
помнила, где она жила и когда. А я знаю, где гора и примерный путь к
ней... Вот, как говорится, я вам рассказал свою фильмографию. Кстати,
мечтаю не полениться сесть и написать эссе о тайне, о том, что без нее че¬
ловека не существует. Как только нас лишат тайны, мы перестанем быть
людьми. Отсюда у меня это двустишие: «Стою в восторге на коленях пред
навсегда закрытой дверью». Тайна — это формула многих религий... Во¬
обще, Толя, если говорить о жизни схематично, очень арифметически —
чего в нашем возрасте пора бы уже не делать, благо я знаю разницу меж¬
ду арифметикой и высшей математикой, — существуют две формы созна¬
ния: бытовая и бытийная. Можно обрести бытийное сознание, а потом
возвратиться жить в бытовом. Я немного сейчас велеречиво говорю. Но
перед вами сидит человек, который, так сказать, с первым, бытийным, со¬
прикоснулся, а со вторым вынужден жить.
— Элем Германович, хочу все-таки вернуться к «Мастеру и Маргарите».
Столько уже об этом писали, столько говорили...
— Да восемьдесят процентов под водой.
— Что значит под водой?
— А под водой... Вот туда надо нарабатывать — под воду все.
— Значит, «Мастера» будете снимать?
— Ну, как Господь решит. Несите в конверте сто миллионов... (Смеется.)
— Элем Германович, я знаю одного очень талантливого композитора, на¬
писавшего цикл произведений по мотивам Булгакова. Думаю, вас это заин¬
тересует.
— Толя, дело не в композиторе. Да, режиссура — это, во-первых, очень
интересно. Во-вторых, это очень сложно. Но еще раз маниакально повто¬
ряю: этим надо заниматься только тогда, когда ты хочешь и тебе есть что
сказать людям. Иначе это «лудеж».
— Это верно. Но все же у некоторых ваших коллег по цеху иная позиция.
И в ваш адрес порой звучит критика, причем необъективная...
— Толь, предложение.
— Какое?
— Не заниматься сплетнями.
— Я думаю, что это вообще к сплетням не относится.
— Я ничего ни про кого не хочу знать. Я сам про всех все знаю, и даже
больше, чем вы. Ну, может, не про всех, но про многих. И вообще не люб¬
лю я эти разговоры, мне это не интересно. Поговорим лучше о чем-нибудь
другом, столько тем разных...
— Но как быть, если приходится в ком-то разочаровываться? Например,
когда человек сначала производит одно впечатление, а потом — другое, от¬
рицательное.
— Значит, я это все от себя отодвину. В любом сообществе есть замеча¬
тельные, скромные, талантливые люди. Действительно скромные. А вот о
тех, других, я не хочу говорить. Мне не интересно... Кстати, никогда не де¬
лайте движения пальцем в сторону другого человека, ни в коем случае.
Знаете, почему?
— Почему?
— Потому что нас окружает биополе. Когда вы указываете на меня паль¬
цем, то сразу протыкаете мое поле. Я в вашу сторону, естественно, ни разу
этого не сделал... Американцы почему-то любят этот жест.
— Хорошо, Элем Германович, я понял, больше не буду... Если уж мы затро¬
нули тонкие материи, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: не кажет¬
ся ли вам, что фильмы и фотографии, снятые при помощи популярных сей¬
час цифровых технологий, при всех своих достоинствах, все же что-то ут¬
ратили? Они словно менее «живые».
— Это необъяснимо пока, но чувствуется. Так же, как чувствуется нежи¬
вая музыка. Вы можете в этом не разбираться, но вы ощущаете.
— Есть в «цифрах» какая-то фальшь.
— Да, потому что синтетика, целлулоид. Вот как это объяснить, я не по¬
нимаю. Или нам так только кажется.
— Потому что привыкли к другому изображению?
— Может быть. Вот один мой знакомый шведский прокатчик — хорошо,
кстати, русский знает — говорит: «Элем, понимаешь, я прокатываю ваши
фильмы, в том числе и на телевидении. Но как поставлю фильм в програм¬
му — зрители через пять минут выключают телевизор или переключаются
на другой канал. Я задавал себе вопрос: в чем дело, ведь хороший же фильм?
Просто пленка советская, а люди здесь уже привыкли к «Кодаку» — другой
цвет, другая разрешающая способность, другая четкость изображения. А у
вас какой-то мрак сразу на экране, и они выключают...» Я сказал: «Ну нет
у нас «Кодака»! А то бы и мы снимали с удовольствием, организовали бы
проявку в Венгрии...»
— Сейчас уже все фильмы на «Кодак» снимают?
— Сейчас — да.
— И все-таки, Элем Германович, если говорить о технических новшествах,
раньше ведь и без них как-то обходились.
— Да. Вот, например, «стедикам», который изобрели ребята из НАСА
(У них, у американцев, вообще-то давно уже принято использовать со вре-
менем в быту продукты высоких военнопромышленных технологий. Те¬
перь и мы берем это на вооружение.) Для чего нужно это устройство? Для
того чтобы гасить колебания камеры, если оператор будет бежать. Ведь
ему при этом придется смотреть в маленький экранчик на камере, рабо¬
тать на ходу, а она килограмм двадцать весит, то есть надо обладать еще и
определенными физическими данными. Так вот, Леша Родионов и без
этого приспособления великолепно обходился. Мы полтора километра
пробегали — по холмам, в лес, с поворотом и обратно, то есть сложнейшая
схема была, — и все одним кадром. Но, чему я рад, этого в фильме вы не
чувствуете, не замечаете. Только специалисты понимают, те же операто¬
ры, например, как это снято... Был такой у нас Сергей Урусевский, вели¬
кий оператор, снявший «Летят журавли», «Я — Куба». В фильме «Я — Ку¬
ба» есть такие кадры, которые никто повторить не сможет. Там он из од¬
ного небоскреба перемещался в другой — поднимаясь на лифте, проходя
через табачный цех, где делают гаванские сигары. И все это в одном кадре,
десять минут... Европейцы предпочитают на своих камерах снимать. Аме¬
риканцы «Арефлексом» пользуются, ее в Мюнхене производят. Я был на
этом заводе. Его даже и заводом-то назвать трудно, потому что это, скорее,
такое КБ. Они там уже и новые камеры изобретают, потому что при ры¬
ночных отношениях вынуждены существовать в условиях конкуренции.
Теперь и мы начинаем вроде бы, правда, пока плохо получается. Но полу¬
чится когда-нибудь. А они уже изобрели камеру для широкой пленки. Мы
хотели «Мастера» снимать на 70 миллиметров, на широкую.
— Элем Германович, а как вы отнесетесь к тому, что кто-нибудь другой
захочет снять «Мастера»?
— Да ради бога.
— Да, но важно, на каком уровне это будет. Можно ведь и посредственно
снять, но зато так разрекламировать! «Слудить», как вы говорите, и со¬
вершенно не думать о том, что вообще останется после тебя, какой след...
— Толя, не заботьтесь об этом. Нужно ставить перед собой высшую цель
и не терять времени. Заниматься своим сознанием. Постигать, для чего мы
рождены, для чего живем. Можно быть и монахом, но столько всего сде¬
лать... И не нужно никому подражать, интересоваться чужим успехом. По¬
тому что, как Борис Леонидович написал: «Цель творчества — самоотдача,
а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у
всех...» Позорно, действительно. И мы видим эти примеры позорного пове¬
дения... Надо расставлять какие-то фишки — туда нельзя, сюда нельзя.
Профессия — это все-таки второе.
— А что первое?
— Главное — выбрать: вертикаль или горизонталь...
— Элем Германович, 9 июля вам исполнилось 67 лет. Как вы отметили
свой день рождения?
— А я не отмечал.
— Почему?
— Не помню почему. Как-то так получилось. Это уже меня мало волну¬
ет... Июль — это мягкий и самый светлый месяц. Это Раки. Я — Рак. Антон,
мой сын, тоже Рак, он 21 июля родился... 2 июля погибла Лариса. Все в
этом месяце как-то сгрудилось.
— Ну, вы-то еще лет сто проживете.
— До ста не буду — надоест...
2000 год
Элем Климов - Виктор Матизен
«Мне интересно только невозможное»
Беседа со знаменитым режиссером, в 1986-1988 годах возглавившим
революцию в советском кинематографе, а потом отошедшим от кино,
состоялась вскоре после его 70-летнего юбилея. За два месяца до его
смерти.
— Элем Германович, а это правда, что ваше имя образовано от «Эль» и
«Эм», то есть от первых букв слов «Ленин» и «Маркс»?
— Неправда.
— Откуда же оно взялось?
— Из романа Джека Лондона «День пламенеет». Это имя героя, чье про¬
звище было «Время не ждет».
— Но героя «Время не ждет» звали ЭЛАМ Харниш...
— В худшем переводе — Элам, в лучшем — Элем. Моя мама воспользова¬
лась лучшим переводом.
— Вы носите свое имя уже 70 лет. Каково это — чувствовать за плечами
такой возраст?
— Когда мне стукнуло 20, я чувствовал себя намного хуже.
— Почему это?
— Казалось, что все кончено. Что уже старик, осталось только доживать...
Это был 1953 год, полгода назад умер Сталин... Для меня его смерть мало
что значила. Хотя на похороны я все же пробрался.
— А перемены, начавшиеся после его смерти, — значили?
— Да. Когда мы впервые узнали о том, что творилось. Это было потрясе¬
нием и для моего отца, который работал в Комитете партийного контроля —
разбирал дела репрессированных и занимался их реабилитацией. Он воз¬
вращался с работы, ничего не ел, запирался в комнате, гасил свет, садился
около окна, которое выходило на Москву-реку, и сидел до поздней ночи.
Потом ложился спать, раньше обычного вставал и уезжал на работу. И так
месяц за месяцем. Забросил все свои любимые занятия — живопись, фото¬
графию, рыбалку. Мы не знали, как его вытащить из этого состояния. Че¬
ловек сходит с ума у тебя на глазах, а помочь нечем. Постепенно он вернул¬
ся к жизни, но уже никаких увлечений не осталось.
— Вы тогда жили на Кутузовском?
— Да. Почему вы спрашиваете?
— Слышал, что Сергей Герасимов после вашего фильма «Иди и смотри»
сказал: «Не понимаю, откуда у этих мальчиков с Кутузовского такая жес¬
токость!»
— Он не знал, что я мальчик не из Москвы, а из Сталинграда. И сцена¬
рист Алесь Адамович, мой друг, тоже не с Кутузовского, а из белорусских
партизан. Я — дворовый пацан. Мне было 10 лет в 1943 году, когда Сталин¬
град еще пах трупами. И чердак у нас был набит оружием, как сейчас ка¬
кой-нибудь склад террористов. Когда у человека в доме оружие, у него сов¬
сем другая психология, чем у безоружного. А Герасимов, когда посмотрел
«Агонию», лежавшую на полке, дал в мою честь обед. Он был большой ку¬
линар.
— Говорят, даже больший, нежели режиссер. А что, особо важным персо¬
нам разрешалось смотреть «полочное» кино?
— С особого разрешения начальства. Куросава, например, когда снимал у
нас «Дереу Узала», вдруг тоже попросил показать ему «Агонию». Я зван не
был, мне потом передали, как это происходило.
- Как?
— Когда окончились финальные титры, он встал и несколько минут де¬
монстративно аплодировал. Потом пошел к заместителю гендиректора
«Мосфильма» Олегу Агафонову, хорошему, кстати, мужику, и спросил:
«Как вы могли запретить такой фильм?!» Олег от растерянности сказал:
«Это не я». — «А кто?!» Олег показал глазами наверх. Куросава не понял.
— Я думаю, у них в Японии этот жест не принят...
— Возможно. И тогда Олег ему сказал, что фильм возили на дачу к Лео¬
ниду Ильичу, который после просмотра промычал: «А зачем нам это?» Тут
японец совсем не выдержал: «А Пушкин вам зачем?! А Достоевский?!»
— В самом деле, зачем этим маразматикам был нужен фильм о маразме
российской власти?
— То-то и оно.
— Плохо вам было в той атмосфере?
— Невыносимо. И безнадежно. И не только мне. Так же чувствовал себя
Андрей Тарковский, с которым мы в те годы были довольно близки. Един¬
ственная была отдушина — командировки в провинцию от Бюро пропаган¬
ды советского кино, где можно было показать отрывки из фильмов и пого¬
ворить с живыми людьми. Я уж не говорю о том, что это была материаль¬
ная поддержка безработному режиссеру — по 9 рублей 50 копеек за вечер.
— Кстати, изменилось ли со времен «Агонии» ваше отношение к Нико¬
лаю II, которому вы с Анатолием Ромашиным дали довольно жесткую худо¬
жественную оценку? Между тем сейчас Николай причислен к лику святых,
а ваш коллега Глеб Панфилов снял картину «Романовы. Венценосная семья»,
где последний русский царь в исполнении Александра Галибина представлен
идеальным семьянином и благороднейшим, воспитаннейшим человеком.
— Не изменилось. Просто тогда я не имел возможности вполне выска¬
заться на экране. Николай был слаб, и это был его великий грех. Слабость
частного лица - его личное дело, но тот, кто управляет гигантским государ¬
ством, не имеет права быть безвольным. А он был безвольным царем, и от
этого многое произошло — погиб он сам, погибла его семья и погиб рус¬
ский народ. В Госкино, между прочим, осудили мое сочувствие царю. Я ему
действительно сочувствовал, потому что он попал в переделку, которая
оказалась выше его сил.
— У вас, как я понимаю, были очень нежные отношения с Госкино?
— Нежнее некуда. Я к Ермашу (предпоследний председатель Госкино
СССР. — В.М.) как на свидание приезжал. Заходил в кабинет и уже до по¬
следней мелочи знал, как все будет. Он спросит: «Готов?» — «Готов». —
«Садись». Сажусь за огромный стол с кучей телефонов. «Ну, что?» — «Все
то же». — «Руки на стол!». Кладу. А у него на столе ремешки с застежками.
Пристегивает он мне к столу левую ладонь, потом правую. Достает из вну¬
треннего ящичка коробок, вытаскивает нарезные иголки и начинает ввин¬
чивать мне под ногти. Поначалу кричал, потом привык. Больно, но терпеть
можно. Он довертывает последнюю иголку и спрашивает: «Ну что, догово¬
рились?». — «Нет». — «Ну, до следующего раза».
— Так вот она — подноготная. Вот с чем вы возглавили в 1986 году Союз
кинематографистов СССР...
— Таких, как я, было много — весь наш революционный секретариат. Да,
первым нашим желанием было смести с лица земли эту пыточную во гла¬
ве с Ермашом. И мы это сделали! Мы освободили две с лишним сотни
фильмов. Освободили людей. Освободили дорогу...
— Что ж, я сам был в числе тех, кому вы ее освободили. Но что случилось
потом?
— Что потом, каждый должен был решить сам. До этого все решали за не¬
го. Представьте себе, что мы долбили стену. Долбили кирками, долбили
молотками, долбили кулаками, рвали ногтями, долбили головой. И вот
рухнула стена. И открылось зеркало, в котором каждый увидел себя. То,
что он собой представляет. И не каждый смог вынести это зрелище. Очень
многие поняли, что они — не те, за кого себя выдают, и не те, кем себя счи¬
тают. А ведь каждый член СК считал, что он — гений...
— Художникам это свойственно.
— Да уж.. А если позволишь себе усомниться в его гениальности, то по¬
лучаешь врага на всю жизнь. Я такого нахлебался за те два года, что был
первым секретарем, что на всю оставшуюся жизнь хватит.
— Я нашел в архиве стенограмму вашего заявления об отставке. Вы ска¬
зали, что полностью истощены работой. Что у вас уже начались генетиче¬
ские изменения в организме.
— Так оно и было. Мой брат сказал, что я, согласившись стать во главе
СК, совершил самую крупную ошибку в своей жизни.
— Вы сами в тот день написали: «Я попал под поезд».
— Написал, но еще не представлял себе, что это такое.
— Иными словами, сломав стену, вы сломали себя?
— В каком-то смысле — да.
— Вы сняли свою последнюю картину 20 лет назад. Вы ушли с поста
первого секретаря СК 15 лет назад, едва отбыв половину срока, и с тех
пор не занимали руководящих должностей. Я бы сказал, что вы сделали
свое дело, как художник и гражданин, и ушли, как спортсмен, — на пике
своей формы.
— Белое мгновение...
— Не понял.
— Это название книги Юрия Власова (рекордсмен мира по штанге. —
В.М.). Там речь как раз о том, что человек достиг такой высоты, когда все
вокруг светится, а потом уходит из спорта, и жизнь становится ненавистна,
потому что в ней было это белое мгновение, а теперь нет и уже не будет...
— Хотелось вам в эти годы вернуться в кино? Уж у вас-то проблем с по¬
иском денег на фильм бы не было.
— Не буду врать — хотелось. Только есть слова Андрея Платонова: «К не¬
возможному летят наши души». После «Иди и смотри» мне интересно
только невозможное. И я его придумал. Но снять его невозможно. У кине¬
матографа просто нет таких художественных средств.
— А на меньшее, чем невозможное, вы не согласны?
— Нет.
— И что же вы теперь делаете?
— Познаю самого себя. Написал пять килограммов стихов. И это никому
ни во что не обходится, кроме меня самого.
— Вы иногда думаете о том, что бы сейчас делала Лариса Шепитько, если
бы она не погибла в той роковой автокатастрофе?
— Иногда думаю, что перестала бы снимать еще раньше, чем я. Думаю о
том, что сейчас делал бы Андрей Тарковский, если бы был жив. Какого
«Андрея Рублева» он бы захотел снимать, глядя на то, что происходит?
Произведение не рождается в безвоздушном пространстве, оно рождается
в определенной духовной среде. А среда сейчас такая, что вы выходите на
улицу и видите вместо глаз — пятаки. И с другой стороны — людей с мерт¬
выми глазами, роющихся в выгребных баках. Вы видите эту молодежь
(ставит ударение на первое «о». — В.М.), этих пупкообразных девиц...
— Неужели для вас современная жизнь более маразматична, чем в бреж¬
невские годы?
— А вот вы мне скажите: вам хоть один из современных наших фильмов
по-настоящему нравится? Что вас потрясло?
— Если брать картины этого и прошлого года — «Любовник», «Кукушка»,
«Старухи»....
— «Кукушка» — хороший фильм, но это не потрясение. Остальных не ви¬
дел. Но хоть один шедевр за эти годы был?
— Для вас — был: «Хрусталев, машину!» Алексея Юрьевича Германа.
— Герман — исключение, которое лишь подтверждает правило. А осталь¬
ное? Мне во время перестройки казалось — свобода, как взрыв, встряхнет
людей, и наступит расцвет. А мы вступили в такое, что и называть-то сво¬
им словом не хочется.
— Кто же в этом виноват?
— В России никто, никогда и ни в чем не виноват. Только все здесь все¬
гда вот так и происходит...
«Русский курьер», 2003 год
Элем Климов - Феликс Медведев
«А памятника не надо...»
Однажды, это было лет семь тому назад, Элем Климов, будучи за рулем,
нарушил правила. Сотрудник ГАИ остановил машину, проверил докумен¬
ты, а потом спросил: «Где вы работаете?» «На «Мосфильме», — ответил
задержанный. «Кем?» — «Режиссером». — «Такого режиссера на «Мос¬
фильме» нет». И автоинспектор перечислил фамилии многих известных
именитых режиссеров, назвал фильмы, которые были тогда «на кону», то
есть оказался настоящим знатоком официально признанного кинемато¬
графа. Свою тираду он закончил фразой: «Так что не надо обманывать, то¬
варищ водитель. Нехорошо». Элем Климов стал широко популярен в по¬
следние годы, и не все знают о его нелегкой и необычной творческой био¬
графии. Споткнуться можно уже на имени, редкостном, таинственном и
намертво привязанном, как мне, во всяком случае, казалось, к своему вре¬
мени. Элем — Энгельс, Ленин, Маркс.
— Вы ошибаетесь, — начал свой рассказ Элем Германович,— здесь другая
история.
Я родился в 1933 году, когда повсюду звучали новые советские имена:
Марлен, Стален, Индустрий, Детектор... Однажды, уже будучи режиссе¬
ром, я получил два письма. Одно от женщины, брат которой Элем, молодой
лейтенант, погиб на войне. Она засомневалась: не остался ли он в живых,
уж очень редким именем он обладал. А во втором письме мне сообщили,
что фашисты под Псковом расстреляли мальчика за то, что его звали Элем.
В этих случаях, по-видимому, имена связаны своим происхождением с ва¬
шей версией.
Так вот, в ожидании моего появления на свет мама увлеченно читала
Джека Лондона. Герой романа «День пламенеет» — золотоискатель, чело¬
век мужественный и цельный, носил имя Элем Харниш, очевидно, от
французской фразы «Эль эм» — «Она любит», а Харниш по-немецки «бро¬
ня», и им увлекались многие женщины, но он никого к себе не подпускал.
Лишь потом полюбил единственной и сильной любовью. Вот и назвала ме¬
ня мама именем своего любимого героя.
А широко известными стали в последнее время и другие режиссеры:
Кира Муратова, Алексей Герман, Александр Сокуров. Скоро на экраны
выйдет фильм «Комиссар» Александра Аскольдова. А ведь эти люди
жили и работали не на другой планете, а здесь, рядом с нами, в нашей
стране.
Да, странные для нашего искусства переживали мы времена. Печатали
лагерные повести, антисталинскую «Тишину», а Пастернака исключали
из Союза писателей, предлагали покинуть Родину. Показывали «Чистое
небо», а рядом истязали «Заставу Ильича», закрывали «Андрея Рублева».
А погромы так называемых «абстракционистов»?
В это же время родились «Современник» и «Таганка», появилась и про¬
явилась целая когорта молодых поэтов, прозаиков, кинематографистов.
Я как раз принадлежу к довольно малочисленному поколению режиссе¬
ров кино, которое заявило о себе тогда, в начале шестидесятых: Тарков¬
ский, Шукшин, Шепитько, Иоселиани, братья Шенгелая, Параджанов,
Кончаловский, Муратова, то есть те, кто успел сделать свои первые и вто¬
рые фильмы, успел, как мы говорим, пролезть в узкую историческую
«щель» — во времена такого кратковременного и странно противоречивого
нашего «ренессанса».
Одна из моих ранних картин называлась «Похождения зубного врача»,
фильм о судьбе таланта, извечно сложной судьбе. «Разве может быть в на¬
шей стране сложная судьба у талантливого человека? — заявляли нам. —
Это опорочивание, оскорбление нашего общества, нашего строя». Тогда же
я познакомился с еще одним выражением — «киноконтра». Так уже окон¬
чательно, не успев еще твердо встать на ноги, я попал в «черный список»,
где пребывал отнюдь не в гордом одиночестве. Моих соседей по этому спи¬
ску теперь знает весь мир, они — гордость нашего искусства.
В это же время стала заполняться пресловутая «полка», то есть по¬
явились запрещенные и полузапрещенные фильмы. Одним из них и
стал этот фильм о враче, недавно, кстати, показанный по Центральному
телевидению. А сколько погибло замыслов! Сколько сценариев не дали
снять, сколько судеб исказилось и сломалось вовсе! У многих тогда по¬
явилось ощущение, что в кинематографе ничего серьезного, проблемно¬
го, оригинального сделать уже нельзя. И это было страшно, потому что
ты как бы лишался будущего или должен был приспособиться, изме¬
нить своим принципам, устремлениям. Некоторые так и поступали,
предали себя.
Я помню, кстати, расхоже-популярное тогда выражение «зарезали» кар¬
тину, «ленту обкорнали».
Да, приказывало «резать», перемонтировать, сокращать, переозвучивать
наше начальство, а резали мы, режиссеры. Или не резали, не шли на уступ¬
ки. С соответствующими, естественно, последствиями. Паузы между филь¬
мами достигали порой пяти-шести лет.
А у Александра Аскольдова она продолжается уже двадцать лет!
Были, конечно, и другие кинематографисты, жизнь у них складывалась
совсем по-иному, скажем, благополучно, а у некоторых и весьма. Конечно,
вопреки всему и фильмы хорошие, честные появлялись, не хочу мазать все
одной черной краской. Но кто вернет многим талантливым людям лучшие
годы их жизни, проведенные в бессмысленной, отупляющей борьбе? Ка¬
ким мог бы стать наш кинематограф, все наше общество, не случись этого
самого застоя? И где теперь ревнители идейных догм, приведшие страну на
грань катастрофы? Одни покоятся в самом сердце России, у Кремлевской
стены, а города, районы, улицы, пароходы продолжают носить их имена,
другие доживают свой век в полном и завидном благополучии и с искрен¬
ним интересом следят за драматическим ходом перестройки. Третьи про¬
должают трудиться, они рядом с нами, и их немало. Надо, конечно, разли¬
чать людей, что-то осознавших, переосмысливших, и тех, кто готов выпол¬
нить любое задание любого правительства.
Что нас спасало тогда, что помогало выстоять? Одним словом не отве¬
тишь, да и у каждого это было по-своему. Мне повезло, что рядом со мной
была Лариса Шепитько, у которой тоже все складывалось не лучшим об¬
разом, далеко не лучшим. Два режиссера в семье, а нам порой почти не на
что было жить. Постоянно брали в долг. Под будущие картины. А потом,
когда этих будущих картин что-то совсем не было видно, перестали и в
долг давать. Вообще, хочу заметить, обывателям, как правило, кажется,
что режиссеры получают бешеные деньги. Это не так. Когда случаются хо¬
рошие заработки, то они обычно уходят на отдачу долгов. Пока делаешь
следующую картину, накапливаются новые, а между картинами зарплата
у нас не идет...
После окончания Московского авиационного института Элем Климов
работал в конструкторском бюро у известного создателя отечественных
вертолетов М.Л. Миля. Работал недолго, год с небольшим. Но уже в МАИ
подумывал он о поступлении во ВГИК, никаких серьезных на то основа¬
ний не имея. Ну, занимался самодеятельностью, студенческой сатирой.
Поступал к Ромму, но он его не взял. ВГИК Элем Климов все-таки окон¬
чил в 1964 году, его мастером был Ефим Дзиган, режиссер классического
фильма «Мы из Кронштадта», а с Михаилом Ильичом судьба свела его
вновь, когда на «Мосфильме» он сделал дипломную картину «Добро пожа¬
ловать, или Посторонним вход воспрещен». Ромм посмотрел картину,
очень доброжелательно к ней отнесся и пригласил молодого режиссера в
свое творческое объединение «Товарищ». С Роммом они подружились, и
так вышло, что, когда он умер, Элему Климову пришлось вместе с Марле-
ном Хуциевым и Германом Лавровым участвовать в завершении послед¬
ней работы Михаила Ильича «И все-таки я верю...»
Во ВГИКе на первом курсе Климову пришлось сняться впервые в жизни
в преддипломной работе Алексея Салтыкова «Ребята с нашего двора». На
первом же курсе студент испытал себя в качестве режиссера. Вместе с опе¬
ратором Карменом-младшим, ныне корреспондентом советского телевиде¬
ния в Будапеште, они сделали одночастевой цветной звуковой фильм «Ос¬
торожно, пошлость!»
— Ни ВГИК, ни Госкино не поддержали вашу новую вместе со сценариста¬
ми Лунгиным и Нусиновым работу «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен»...
— ...и все время боролись против нее, пытались остановить начатое. Мы
спешили, торопились снимать, и фильм сделали очень быстро, на четыре с
половиной месяца раньше срока — своего рода производственный рекорд.
Но готовую картину закрыли, и она пролежала несколько месяцев, пока ее
не посмотрел Хрущев.
— В чем дело, каковы причины столь высокого внимания к той давней ра¬
боте?
— Дело в том, что кое-кто посчитал фильм антихрущевским, и возникло
«мнение». Мнение, как всегда, анонимное. «Где-то», «кто-то», «что-то»...
Официально нам, авторам, ничего предъявлено не было. Воцарилось мол¬
чание, неизвестность. К защите диплома не допускают...
Потом, много позже, стало кое-что проясняться. В фильме есть эпизод,
где мальчику, герою картины, привиделись похороны бабушки. Такие ко¬
медийные, пародийные похороны. Несут ее друзья-старики большой фото¬
портрет. А бабушка полная, лицо круглое, и волосы как-то расплылись, ис¬
чезли при большом увеличении. При просмотре кто-то из редакторов вос¬
кликнул: «Да они Хрущева хоронят!» Мы, естественно, ничего подобного в
виду не имели, это была сатира на обюрокрачивание детской жизни, на ее
«заноменклатуривание». Тогда я впервые узнал выражение «антисовет¬
ский фильм», ярлык, который впоследствии лепили кинокартинам, чем-то
кого-то не устраивавшим. Я уже рассказывал коллегам о фразе, примерно
в то же время услышанной мной от одного из редакторов Госкино: «Мы,
редакторы, цепные псы коммунизма». Я думаю, что коммунизм в «цепных
псах» не нуждается, иначе это уже не коммунизм, а что-то иное. Но, между
прочим, последователи у этого редактора не исчезли, мы и сейчас с ними
сталкиваемся. Они бдят и бдеть еще долго намерены, иссушая все живое и
неординарное, диктуя нам, во что и как надо веровать, по каким законам
творить.
— Ну и что Хрущев?
— Он фильм посмотрел, и именно он разрешил пустить его в прокат. Хо¬
тя страсти не утихали и после.
В один такой период, когда надежды на получение работы не было, мой
брат Герман, к тому времени заканчивавший учебу на Высших сценар¬
ных курсах, предложил взяться за тему нейтральную — о спорте. И вме¬
сте мы сделали фильм «Спорт, спорт, спорт». В это же время параллель¬
но мы с Марленом Хуциевым занимались материалом неоконченной
картины Ромма. Задача была непростая. Кто может довести картину ре¬
жиссера, сделавшего «Обыкновенный фашизм»? Кстати говоря, я ду¬
маю, что молодые зрители, очевидно, не знают этого прекрасного филь¬
ма, а хорошо было бы его повторно показать в прокате и наконец по те¬
левидению. Это этапная вещь в истории нашего кино. Итак, Михаил
Ромм готовил новый фильм. Мучительно сложно шла работа. Он хотел
сделать фильм-размышление на материале маоистского Китая. Потом
ясно стало, что этого не дадут. И взял тему шире: о западной молодежи,
о состоянии духа на Западе. Он хотел вместе со зрителями подумать, от¬
куда грозят миру основные беды, из чего они могут родиться. Наконец,
каким будет мир, если ему суждено продолжиться. Михаил Ильич со¬
брал огромный хроникальный материал, снял отдельные интервью, бы¬
ли записаны и наброски голоса «от автора». Потом Ромма не стало. Что
было делать с этим материалом? Уничтожить его? Отвезти на склад? За¬
консервировать? Или попытаться придать ему какую-то форму, сохра¬
нить наметки замысла? Мы с Марленом Хуциевым взялись за эту рабо¬
ту, втянулись в нее, увлеклись и наконец смонтировали картину под на¬
званием «И все-таки я верю». Конечно, это был не роммовский фильм,
чуда не произошло, не могло произойти. Эта работа — дань уважения к
памяти выдающегося мастера кино, и мы не жалеем, что делали ее.
...Смена кинематографического начальства, вместо А. Романова пред¬
седателем Госкино СССР становится Ф. Ермаш. Он-то и предлагает
Элему Климову, что по тем временам, в конце 1972 года, было рискован¬
но, взяться за фильм «Агония». Работа эта стала принципиальной в на¬
шем кинематографе, с самых разных точек зрения. О ней в свое время
много говорили, околодомокиношные кумушки чесали языки, фантазе¬
ры слагали легенды. О ней не устают говорить и сейчас. И у нас, и за ру¬
бежом. Поэтому я попросил Элема Климова подробнее рассказать обо
всем, что связано с «Агонией».
— На «Агонию» меня подбил Иван Александрович Пырьев. После скан¬
дала с «Зубным врачом» он позвал меня к себе и со всей присущей ему пря¬
мотой сказал: «Ты понимаешь, Елем (он так меня называл), что тебе теперь
до-о-олго не дадут снимать?» — «Что делать?» — «Приближается пятиде¬
сятилетие советской власти, тебе надо сделать юбилейный фильм». — «Не
умею делать юбилейных фильмов и не научусь никогда». — «Ты вот что, не
горячись и прочти пьесу Алексея Толстого «Заговор императрицы». Я про¬
чел и говорю: «Извините, Иван Александрович, не хочу обижать автора, но
пьеса написана вблизи событий, в угоду обывательскому пониманию исто¬
рии». «Хорошо, — настаивает Пырьев, — возьми тома протоколов допросов
комиссии Временного правительства, в которой работал Александр Блок...
И Распутина, Распутина Гришку там не пропусти». Я прочел эти удиви¬
тельные документы и понял, что у меня в руках уникальный материал.
Вскоре началась работа над сценарием, но от съемок нас отделяло еще семь
лет, дважды мы приступали к работе над фильмом, дважды нас «закрыва¬
ли». И только с третьего раза картину удалось снять. Так что к тому юби¬
лею мы не поспели, к следующему тоже. Очень много времени ушло на
изучение документов, знакомство с мемуарной литературой. Прочитали
немыслимое количество книг, сутками сидели в архивах, много ездили,
встречаясь со многими людьми, которые что-то помнили, среди них были
и те, кто лично знал и Распутина, и царя. Узнав, изучив всё это, мы тем не
менее не хотели на экране просто реконструировать исторические собы¬
тия, да это в полной мере и невозможно. Иногда мы умышленно отступали
от факта, допускали неточности в пользу образного решения...
— В чем, к примеру, вы отступали от конкретики?
— Ну вот, скажем, сцена убийства Распутина, известная по воспоминани¬
ям самих убийц, полицейским донесениям и т.д. Во-первых, мы показали
ее фрагментарно, показали не все убийство — ведь это преступление, эта
безумная ночь русской истории — целая эпопея, многосложная повесть со
многими подробностями. Это и события в подвале дома Юсуповых,
стрельба в саду, избиение кистенями вроде бы уже мертвого Распутина,
можно было показать, как везли его в автомобиле, как бросили в прорубь
на Малой Неве, что испытывали при всем этом участники убийства... Мы
сняли, собственно, только начало убийства, иначе надо было посвятить
этому событию целый фильм, а это не входило в наши намерения. Имея
подлинные фотографии юсуповского подвала, отделанного как дорогая
бонбоньерка, мы тем не менее сделали его более аскетичным, более «сред¬
невековым». Для чего? Чтобы у зрителей возникла ассоциация с целой че¬
редой дворцовых политических убийств, которыми так богата российская
история, преступлений во имя власти. Через фильм идет несколько образ¬
но-смысловых пунктирных линий, одна из них связана с этой сценой.
Разрешительное удостоверение на показ «Агонии» у нас и за рубежом
мы получили 12 апреля 1975 года. Некоторое время все шло как бы нор¬
мально, а потом пошел тревожный слух, что с картиной неладно, что кто-
то ее посмотрел и остался недоволен. Однажды ко мне подошел Тарков¬
ский и попросил показать фильм. И я организовал едва ли не последний
тогда просмотр на «Мосфильме». Зал был свободен только в восемь утра,
но Андрей пришел. После просмотра он сразу же сказал: «Ты погиб». —
«Почему?» А картину смотрели и другие мои коллеги, и она многим понра¬
вилась, хотя сам я уже относился к ней критически. «Ты погиб потому, что
«Агония» далека от стереотипов советского исторического фильма, разру¬
шение которых тебе не простят».
На экраны страны «Агония» вышла весной-летом 1985 года, а за грани¬
цу ее продали значительно раньше, после показа на закрытии Московско¬
го кинофестиваля 1981 года. За границу продавали, у нас не пускали. Я не¬
доумевал. Выходило, что нашему зрителю меньше доверяют, чем зарубеж¬
ному?!
В одной крупной латиноамериканской стране фильм был арестован «за
пропаганду революционных идей». Во Францию продали «Агонию», поз¬
волив ее перемонтировать и сократить на 45 минут, в США урезали на це¬
лый час. В этих странах вырезали как раз политические сцены, сокращали
в угоду кассе. О чем это говорит? А о том, что советские режиссеры прак-
тически лишены авторских прав и с нашими работами можно делать все,
что заблагорассудится. Но это же цинизм — все на продажу, все на валюту!
— Ну, а кто все-таки конкретно запрещал картину?
— Запрет шел, насколько мне известно, и от Суслова, и от Гришина, и от
Косыгина. Но были, я знаю, и другие поборники «правильного» кино. И хо¬
тя даже академик Минц — один из главных специалистов по истории Ок¬
тябрьской революции — дал самый благожелательный отзыв, все равно это
не имело значения. Преобладали вкусовые пристрастия, «дачные мнения»:
«Слишком много Распутина, царь не тот (не карикатурен), где роль партии
большевиков?..» Но задача у нас была иная: на пороге смены исторических
эпох показать распад верховной власти в империи, безнравственность и де¬
каданс всех институтов правления, разложение верхов, которые не могли
править по-новому, а низы не хотели жить по-старому.
Короче, прогноз Тарковского оказался верен. Таковы перипетии одной
работы, которой я так или иначе отдал почти двадцать лет своей жизни.
Творческая биография Элема Климова действительно необычна, нео¬
быкновенно насыщена драматическими событиями, поворотами. В ней не
только отметины сложного периода нашей жизни, но и, как противостоя¬
ние этим сложностям, воля, характер, мужество человека, который отдавал
всего себя искусству. Двадцать лет отдано «Агонии», десять лет (включая
параллельно десять из двадцати предыдущих) фильму «Иди и смотри»,
получившему высшие кинематографические призы и ставшему событием
в нашем искусстве.
— В 1976 году мы вместе с Алесем Адамовичем затеяли делать фильм
«Убейте Гитлера» по «Хатынской повести» писателя. Дело предстояло
большое, сложное, и нас очень поддерживал, был нашим, так сказать, доб¬
рым гением первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Мироно¬
вич Машеров, замечательный человек. Он летал с нами по республике на
вертолете, показывал места партизанских боев, где он и сам сражался, где
казнили его мать в Рассонах, на Витебщине. Он всячески нам помогал, и
это вселяло надежду.
К сожалению, Петр Миронович тогда заболел, уехал лечиться в
Москву, и тут я вспомнил о том, что «аппарат сильнее Совнаркома».
Началась тихая, «кабинетная» атака на сценарий. Я всегда изумлялся,
откуда у этих людей такое изощренное сознание, такая своеобразная,
странная фантазия. Парень и девушка, герои фильма, пробираются че¬
рез топкое болото — «пропаганда эстетики грязи»; нога деревенского
старосты наступает на муравейник — «унижающее уподобление наше¬
го народа муравьям»; немецкая пуля убивает на ночном поле корову —
«натурализм, смакование»; далее: «Где размах партизанского движе¬
ния, почему позволили сжечь деревню?»... А 628 полностью, со всеми
Жителями сожженных деревень, а два с четвертью миллиона погибших
на территории Белоруссии? Фашистская машина была отлажена, рабо¬
тала беспощадно, на полное уничтожение. Об этом и снимали: какого
зверя нам удалось победить, что преодолеть и в себе в том числе — не
вызвериться, не уподобиться врагу, остаться людьми. В сценарии был
эпизод, когда наш юный герой, пройдя все круги военного ада, расстре¬
ливает как бы всю биографию Гитлера и гитлеризма, но в последний
момент опускает винтовку, не стреляет в Гитлера-младенца, еще без¬
винного ребенка. Сложный момент, но объяснимый и нормально те¬
перь воспринимаемый зрителями фильма «Иди и смотри». «Все-
прощенчество, абстрактный гуманизм, неклассовый подход»... Этот по¬
следний «невыстрел» был принципиальной позицией для нас, авторов,
согласиться с претензиями Госкино мы не могли, работы по фильму
были приостановлены. Через несколько дней мы должны были начать
съемки. Шло лето 1977 года...
Нервный срыв, «перестресс», тяжелое заболевание, депрессия. Все мрач¬
нее и мрачнее становилось вокруг, казалось, что теперь-то уж точно конец,
финиш. Надеяться больше было не на что. Такое ощущение, естественно,
было не только у меня, иначе я бы и не говорил об этом. А вокруг гремели
победные трудовые реляции, из всех приемников неслось ликующее
«БАМ, БАМ, БАМ!..», наверху, не уставая, награждали друг друга высоки¬
ми наградами, произносили длинные бумажные речи. Окреп и расцвел
жанр анекдота. Да, мы все равно смеялись. Все равно верили, что справед¬
ливость придет, не может быть по-другому.
В июле 1979 года случилось самое страшное в моей судьбе. И все преж¬
ние беды показались вмиг мелкими и ничтожными...
В самом начале съемок фильма «Матёра» по повести В. Распутина «Про¬
щание с Матёрой» погибла режиссер Лариса Шепитько, жена Элема Кли¬
мова. Оператор Владимир Чухнов, художник Юрий Фоменко и еще три
члена съемочной группы попали вместе с ней в автомобильную катастрофу
на Ленинградском шоссе неподалеку от Калинина. Никого не осталось в
живых. Климову было предложено продолжить эту работу. Он согласился.
— ...Я продолжил работу Ларисы, не мог иначе. Это, я думаю, помогло
мне хоть как-то пережить сильное горе. «Работа лечит» — точно говорят.
«Жизнь — это преодоление» — тоже согласен. Однако одно дело — преодо¬
ление естественных препятствий, пусть и самых сложных, закаляет харак¬
тер, приносит удовлетворение. Другое — когда чуть ли не вся наша жизнь
построена на борьбе с абсурдными, бессмысленными преградами, с тупос¬
тью, чванством, хамством. Тогда и жизнь сама превращается в долгосроч¬
ную муку, теряет свой смысл. Вот тут мы, кажется, преуспели.
Итак, с готовым фильмом (теперь он назывался «Прощание») мы оказа¬
лись в Малом Гнездниковском переулке, в Госкино СССР. Первое, что мы
услышали: «Уберите ку-клукс-клан!» — это про людей, распутинских по-
жогщиков, которые в прозрачных полиэтиленовых накидках приехали
сжигать Матёру. «От имени какой власти они приехали?!»
«Крестов не надо!» — «Но это единственный надмогильный крест, кото¬
рый принесли с варварски разрушенного кладбища». — «Крестов нам не
надо!» И т.п.
Фильм оказался «мрачным, излишне трагедизированным, авторская по¬
зиция базируется на неприятии научно-технического прогресса, зиждется
на реакционных почвеннических позициях, есть налет религиозности».
Никакие объяснения мои и автора повести успеха не имели. «Пока мы
здесь сидим и служим, картина в таком виде принята не будет».
Сдавали мы фильм почти год. Дело дошло до того, что мне намекнули:
надо будет уходить с «Мосфильма», так как план студией не выполнялся.
Я подводил огромный коллектив. Говорили, что если не я, то другие поре¬
жут фильм, отберут его у меня. Тогда я стал интересоваться авторским пра¬
вом, есть оно у нас или его нет. Встречался с юристами и с вааповцами, вы¬
яснил, что авторское право кинорежиссера настолько размыто, что практи¬
чески оно не имеет силы. Кстати, с той поры мало что изменилось. Сейчас
идет большая работа над новым авторским правом, но идет очень туго, по¬
ка никак не удается убедить наших оппонентов в главном: авторское право
должно принадлежать авторам, людям, которые, собственно, и творят ки¬
нопроизведение — сценаристу, режиссеру, оператору и т.д. (сейчас право
принадлежит студии).
— Так что же «Прощание»?
— Фильм был неожиданно принят, принят, что называется, в одночасье.
Все эпизоды остались на своих местах, работники «Мосфильма» получили
премии, сотрудники Госкино продолжали сидеть в своих креслах.
— И так бывало?
— Бывало и так... Приближалось сорокалетие Победы, и возник вопрос,
что, быть может, все-таки следует поставить тот фильм, который мы с Ада¬
мовичем задумывали семь лет назад. Мы уже как-то к тому времени поос¬
тыли — замыслы тоже тухнут. Но вот от разговора к разговору вновь вхо¬
дим в материал, вновь возвращаемся к пережитому, к когда-то обдуманно¬
му. Удалось отстоять все основные положения сценария. Я уехал в Бело¬
руссию уже с новой группой, с новыми исполнителями. Съемки начались
весной 1984 года, и девять месяцев я не был ни одного дня дома, девять ме¬
сяцев я не видел сына... Весь ушел в водоворот съемок. Для меня это были
даже и не съемки, а подлинная борьба за рождение фильма. Я чувствовал,
что если хотя бы на один день выйду из того магнитного поля, которое там
возникло, то все разрушится. И я не позволил себе ни разу отлучиться, и не
только я — мои товарищи вели себя так же. Заканчивали съемки на льду
реки Березины. Так возник фильм под новым названием «Иди и смотри»...
К сожалению, мы не успели снять нашу центральную кульминационную
сцену, из-за которой фильм, собственно, и получил такое название. «Иди и
смотри» — это один из поэтических рефренов Апокалипсиса.
— Не успели почему?
— Не хватило времени, организация съемок была далеко не идеальной.
Вот мы и уперлись в зиму. К тому же фильм снимался кадр за кадром от
начала к концу, чего обычно в кино не бывает, в силу определенной специ¬
фики: учитывается занятость актеров, возможность съемок того или иного
объекта... А тут из-за подростка, который должен постепенно пройти (он
же не актер, ему 14 лет) самый страшный отрезок своей жизни, духовно пе¬
ремениться, возмужать, сделаться другим, надо было снимать последова¬
тельно, ничего не пропуская. Эта последовательность и стоила лишних по¬
лутора месяцев работы, которых на ту важную сцену и не хватило. Правда,
если честно, то прокручивая в своей голове все обстоятельства, мы пришли
к выводу, что зрители могли и не выдержать, если бы мы сделали эту сце¬
ну. Это апокалипсическая сцена на гигантском торфяном поле и с лесом,
чудом сохранившимся на нем, вокруг которого идет бой равных сил: нем¬
цев и партизан,— никуда в сторону нельзя шагнуть, уйти, ускакать, потому
что провалишься в горящий торф, как в ад, и нет этому бою конца, бой идет
до полного уничтожения. Солнце как бы остановилось над лесом и ждет,
когда люди добьют друг друга. А тут же и мирные жители, и коровы, и де¬
ти, и раненые — одним словом, конец света. Сцена была бы очень мощной.
Жаль, что мы этого не сняли.
«Жаль, что мы этого не сняли...» Мой собеседник не раз произносил та¬
кие слова. Он говорил о муках недовоплощения, неудовлетворенности той
или иной работой. Собственно, нет ни одного снятого им фильма, который
успокоил бы его душу и сердце, дал бы ему возможность умиротворения,
успокоенности. Он не удовлетворен «Агонией». Причем почувствовал это
сразу же после окончания работы над фильмом. Вдруг понял, что по-насто¬
ящему не был готов к работе над материалом, хотя долго его добивался, го¬
ворил себе: «Буду снимать, и все». Даже на грани полного поражения твер¬
дил: «Буду!» Но, снимая, не всегда доверял какому-то чутью уникальности
материала, неординарности фигуры Распутина. И сам себе предъявлял су¬
ровый счет. Но, к сожалению, в чем-то уже было поздно, поезд ушел. И он
захотел реабилитироваться в собственных глазах, доказать себе, что все-та¬
ки может снимать сложные и сверхсложные человеческие состояния. На¬
толкнулся на повесть Алеся Адамовича. Сделал картину, получившую вы¬
сокие отзывы, но снова неудовлетворенность. Конечно, не во всем, но... Он
говорил Адамовичу, что если делать такой материал, а более или менее ав¬
торы фильма знали правду о фашизме в Белоруссии, ведь она поведана, за¬
фиксирована, все знают, что такое Хатынь, что такое фашистский геноцид,
то это надо делать так страшно, считал Климов, что люди не смогут смот¬
реть. Александр Михайлович возражал: «Так и надо делать. Будут смот¬
реть». Но решительности все же авторам не хватило, зрителей поберегли.
...История с избранием Элема Германовича Климова первым секретарем
правления Союза кинематографистов СССР тоже неожиданна и драма-
тична. Он и не предполагал, и не собирался заниматься никакой админис¬
тративной деятельностью. Как считает, не имеет к этому расположения. Но
на выборах не нашел в себе силы для самоотвода. Надо было отказаться,
воспротивиться избранию, но, как рассказывал мне Элем Германович, в
нем в тот момент возобладало чувство уникальности того исторического
мига, момента, когда, как ему казалось, можно многое в киноискусстве из¬
менить к лучшему. Он как бы мгновенно ощутил меру и значимость ответ¬
ственности, на него возлагаемой. И согласился.
— Пройдет несколько лет, и я, быть может, по-другому расценю свою
слабость, свой «неотказ», ибо никаких тщеславных притязаний у меня не
было. Я всегда хотел быть просто режиссером, чтобы, по возможности, сво¬
бодно выражать то, что мне хотелось выразить. Годы бегут, идет, условно
говоря, вторая половина жизни, и надо спешить делать фильмы, каждый из
которых может оказаться последним. У режиссеров, увы, так получается,
что только до определенных лет они могут себя проявлять по-настоящему,
многое связано с возрастом, с восприятием мира. Я понимал, что лучшие
годы прошли или проходят, надо спешить... И вдруг надо перестраивать це¬
лый кинематограф.
Удовлетворен ли я — одним словом не скажешь. Прожита, быть может,
самая бурная полоса моей жизни, много сил и душевной энергии отдано
новому делу. Когда энергия отдается произведению, то она потом воспол¬
няется произведением. А здесь ощутимые результаты появятся когда-то
позже, в отдаленном будущем. Кинематограф должен переориентировать¬
ся, активизировать свой творческий потенциал, осознать и ощутить новые
задачи, обрести новое мышление. Только тогда произойдет явственный
качественный скачок. Как этого добиться? Путь тут только один: демокра¬
тизировать нашу творческую деятельность во всех ее аспектах, получить
действительную, а не мнимую самостоятельность в решении наших общих
кинодел — финансовых, производственных, кадровых. Мы спутаны по ру¬
кам и ногам бесчисленным количеством инструкций, многие из них про¬
исходят еще с тридцатых годов. Я как-то попросил нашего юриста собрать
их все и показать мне. Он принес много книг разной толщины общим ве¬
сом, как мы прикинули, около семи килограммов. Все это мешало и меша¬
ет нам работать, сковывает в каждом движении, учит хитрить, обходить,
ловчить. И я подумал: вынести бы все эти книги на какой-нибудь помост
или эстраду и сжечь публично. Вот это был бы настоящий праздник для
кинематографистов!
Все надо строить теперь совершенно по иным, разумным и справедли¬
вым, законам. Невозможно дальше двигаться с путами на ногах и руках, с
кляпом во рту, который мы еще так хорошо ощущаем.
Гласность. Гласность — полугласность — четвертьгласность. Мы гово¬
рим, пишем, снимаем и все время на кого-то оглядываемся, с кем-то внут¬
ри себя шепчемся. Так нас приучила жизнь, и боюсь, что это еще надолго.
А вы хотите, вы требуете скорейшего появления нового кино... Прошед¬
шие десятилетия не прошли даром ни для кого, страх, долгий страх посе¬
лился в наших генах, раздвоил нас, расщепил на разные существа, прожи¬
вающие в одном телесном обличье. Навести бы и мне поскорее порядок в
собственной душе, а потом пожелать этого и для других. До подлинной
гласности, до настоящей демократии нам еще предстоит продираться че¬
рез бурьяны прошлого, постепенно отвыкая от привычки к рабскому по¬
виновению, к безголосому существованию. Придется учиться диалогу, не
только говорить, но и слушать. Эх, как это трудно — слушать и слышать.
Знаю по себе. И по другим. Гласность и демократию еще предстоит сотво¬
рить. Нам, всем нам. Поэтому с фанфарами на эту тему не будем пока спе¬
шить. Один из участников недавнего пленума Союза кинематографистов
с тревогой говорил: «Существует ли уже механизм, созданы ли уже те де¬
мократические механизмы, которые гарантировали бы нас от возврата к
прежнему? Первая и главная задача творческой интеллигенции — спо¬
собствовать, в том числе всей своей работой, созданию этих демократиче¬
ских механизмов, этих гарантий». Вот в какую сторону сейчас должен
быть направлен вектор всех наших сил, отдана наша гражданская и твор¬
ческая энергия.
...Ну, а V съезд Союза кинематографистов, вы знаете, был особым съез¬
дом — острым, принципиальным, бурным (не всегда даже парламентские
формы соблюдались). Почему? Вы попросили, я вам рассказал историю
своих фильмов, а теперь помножьте ее на большое множество подобных
историй, на развал кинопроизводства, низкий уровень техники, неспра¬
ведливую оплату труда, авторское бесправие, давно сбитые критерии оце¬
нок, утерю контактов со зрителями, все нарастающий поток киномакула¬
туры, серятины... С этого съезда, собственно, и началась перестройка в ки¬
но. Идет она трудно, тягостно трудно, но идет. Съезд консолидировал на¬
ши силы, но нас же частично и разобщил. Подумайте, кого-то покритико¬
вали, кого-то куда-то не выбрали— появились обиды, люди замкнулись,
стали злиться. Дотронулись и до наших «недотрог» — киногенералов, ко¬
торых прежде критиковать в печати было не принято. Так проявилась оп¬
ределенная поляризация некоторых групп, слоев в нашем киносообщест¬
ве. Вернее, все это существовало и раньше, но было, что называется, «под
водой». Другие же, у которых явно недостает дарований, поняли, что ре¬
форма в кино осложнит их жизнь, ибо теперь только талантом своим мож¬
но будет доказывать право на постановку, на работу. Некоторые в силу
привычек, возраста, необратимых внутренних процессов, может быть, уже
не смогут соответствовать новым требованиям жизни, им надо помочь по-
другому устроить свою судьбу, но не отмахиваться от них. Это драматиче¬
ский момент. Сегодня определилась и другая когорта кинодеятелей, лю¬
дей с «крепкими локтями», со связями, с громким голосом. Эти без боя
свое не отдадут, они уже и пошли в бой. На «Мосфильме», скажем, они
требуют разделения студии на две по примеру МХАТа (весьма дорогое
удовольствие), призывают вернуться к прежним, а лучше к предпрежним
временам. Такого рода люди пытаются удержать, сохранить самое главное
для них— привилегии, свое место под солнцем, у пирога жизненных благ.
Процесс переустройства выявляет, высвечивает многое — и кто за чем сто¬
ит, и кто за что стоит. Меня радует то, что самые достойные люди в кине¬
матографе категорически поддерживают перестройку. И замечательно,
что среди них много молодежи.
— Элем Германович, вспомним еще раз те фильмы, которые лежали на
полке до создания той самой конфликтной комиссии, которая появилась по¬
сле V съезда Союза кинематографистов и которая «реабилитировала» мно¬
гие талантливые картины.
— Два фильма Муратовой — «Короткие встречи» и «Долгие проводы»,
«Проверка на дорогах» Германа, «Ангел» и «Родина электричества» Анд¬
рея Смирнова и Ларисы Шепитько по Олеше и Платонову, «Иванов ка¬
тер» Осепьяна, «Интервенция» Полоки и много других.
— Вы забыли «Комиссара».
— Да, этот фильм спорный для некоторых по своим художественным до¬
стоинствам. Тем не менее почему он должен был больше двадцати лет ле¬
жать в забытьи?
— Осталось что-то еще из забытого, неопубликованного?
— Вы знаете, основную массу фильмов комиссия уже просмотрела, но ра¬
бота еще не окончена.
— Комиссия распадется или будет существовать?
— Она будет существовать постоянно, может быть, переменятся ее функ¬
ции, но споры, дискуссии, конфликты, я думаю, не оставят нас. Дело-то
творческое.
— В кинематографе сегодня существует цензура или нет?
— Дело в том, что цензура в кино была и есть. Цензура, которая следит
за тем, чтобы не были показаны или раскрыты какие-то государственные
и военные тайны, чтобы на экране не было порнографии, сцен умышлен¬
ной, самоцельной жестокости, могущих ранить психологию молодого
зрителя, чтобы фильмы не создавали враждебного отношения к тем или
иным народам, нациям. Практически с официальной цензурой мы не
имели конфликтов. Но создалась другая цензура, которая присвоила се¬
бе право говорить от имени народа, судить о том, что народ поймет или не
поймет, что ему вредно, а что не вредно. Это редактура Госкино, о кото¬
рой мы говорим, она присвоила себе право цензурирования, а точнее, ос¬
копления сценариев, готовых фильмов, вмешивалась даже в актерские
пробы. Я столкнулся с этим еще при работе над первой своей картиной
«Добро пожаловать», когда мне заявили, что актер Евстигнеев не должен
играть начальника пионерского лагеря, а должен играть такой-то актер.
Потому что, дескать, тогда этот образ в случае чего можно списать на «ду¬
рака», а не на социальный момент. Но кто же, кроме режиссера, может ре¬
шать такие вопросы?
— А как сейчас решаются эти вопросы?
— Работать стало уже легче и проще. Подобные рецидивы прошлого вряд
ли уже возможны. Хотя бдительность терять не следует. Одно из важных
достижений прошедших месяцев — это то, что мы, Союз кинематографис¬
тов, начали находить с Госкино, с его новым руководством общий язык, ра¬
ботать в товарищеском, деловом взаимодействии. Это делает всех нас
сильнее, увереннее. Это вселяет надежду.
— Вы можете назвать имена тех, кто стоял на пути всего талантливо¬
го, насущного, передового? Пусть им будет стыдно.
— Зачем убивать людей? Самым совестливым из них, наверное, и так не¬
легко. А некоторые просто ничего не поняли из того, что происходит сего¬
дня в нашем обществе. Только обозлились. Об этом сужу, потому что ино¬
гда приходится с ними встречаться, видеть глаза. В глазах — ненависть. Но
и в их грудь не хочется вбивать осиновый кол, называть имена, клеймить.
Это их любимый жанр, им его и оставим.
— А из тех, кто продержался, выдюжил, не сломался?
— Многие. Лариса Шепитько выдержала. Алексей Герман. Иоселиани.
Тарковский выдержал. К сожалению, ценой жизни. Эльдар Шенгелая не
изменил себе ни в чем. Кира Муратова, Александр Сокуров. Правда, мно¬
гие? Шукшин, хотя он и не сумел сделать своей главной работы — о Степа¬
не Разине. Каждый режиссер должен иметь в своей творческой жизни ка¬
кой-то главный фильм, центральную работу. Для Шукшина, как он сам
считал, такой работой и должна была стать экранизация романа «Я пришел
дать вам волю...». Ведь поначалу он написал просто сценарий, сценарий не
пропускали, тогда он написал роман, чтобы через него вновь вернуться к
фильму. Возвращение к фильму через роман стоило ему огромных сил, но
в конце концов и они иссякли. Дело остановилось. И вот уже не хватило
ему ни здоровья, ни самой жизни. А ведь он хотел играть Разина. И фильм
этот должен был быть абсолютно авторским...
— А что вам не удалось, что не осуществилось?
— «Левшу» хотел снимать, не удалось. Фильм про Ивана-дурака — не
удалось. «Бесы» Достоевского мечтал экранизировать, но в свое время и
говорить-то об этом было нельзя серьезно. В свое время мы с Юрием Ка¬
рякиным, блестящим знатоком материала, человеком по-настоящему глу¬
боко понимающим Достоевского, много работали над «Бесами». Мы хоте¬
ли воплотить на экране самый спорный, самый пророческий роман вели¬
кого писателя, но увы... С Виктором Мережко подготовили экранизацию
неоконченного рассказа Василия Шукшина «А поутру они проснулись...».
Жесткий был сценарий, назывался «Пьяные». Действие должно было
происходить в вытрезвителе, который как бы не имел конца, такой всесо¬
юзный вытрезвитель. Один из наших руководителей прочитал и сказал
нам: «Ну, ребята, напугали. После такого фильма у нас вообще пить пере¬
станут, ха-ха. Вы что?» Не дали поставить сценарий, который мы написа¬
ли с моим братом Германом в 1982 году, — «Преображение». Сложный и
необычный замысел, очень российская история, действие происходит в
малоизвестном нам по литературе и экрану XVIII веке. Тут дозволяли
снимать только первую часть, а вторую нет. А мы ради второй и писали в
основном этот сценарий.
— А «Мастер и Маргарита»?
— Я, как и многие (наверное, почти все) наши режиссеры, мечтал экра¬
низировать этот роман с момента его напечатания. Однажды на короткое
время мечта почти стала реальностью. Это произошло, когда у нас сни¬
мался совместный советско-итальянский фильм «Красная палатка».
Тогда мы познакомились и подружились с Клаудией Кардинале и ее му¬
жем, продюсером Франко Кристальди. Они-то и предложили идею
странного сочетания двух режиссеров в одном фильме «Мастер и Мар¬
гарита». Линию Христа должен был снять Федерико Феллини, а «совет¬
скую» часть — мало кому тогда известный Элем Климов. На роль Мар¬
гариты, естественно, без проб приглашалась Кардинале. Проект сущест¬
вовал недолго, тогда осуществление его казалось фантастичным. Дело
это, конечно, лопнуло.
— Элем Германович, простите за такой вопрос, но некоторые говорят о
том, что вы воспользовались служебным положением и «захватили» моно¬
полию на экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Что вы
можете сказать по этому поводу?
— Если бы я вам сейчас рассказал, что про меня и других секретарей на¬
шего Союза говорят «некоторые», подписка на «Огонек» выросла бы еще.
Лжетворчество, сплетни, слухи — это у нас сейчас весьма популярный
жанр. Но это и оружие в борьбе «некоторых» против перестройки.
«Мастера» мне разрешили снимать еще до V съезда. Договоренность уже
тогда существовала. И если бы не съезд, который так повлиял на мою судь¬
бу, я был бы уже на пороге съемок.
Я все больше понимаю, что прямая экранизация романа, текст которого
знают досконально миллионы читателей, невозможна. Неизбежно люди
начнут сравнивать, сличать. Большая часть зрительской энергии уйдет
именно на это. Роман очень литературен, во многих своих фрагментах не
поддается экранизации в обычном понимании этого слова. Значит, надо
искать другой путь.
Есть еще одно обстоятельство, о котором я мучительно и долго размыш¬
лял. Вот текст «Мастера». В сознании большого количества людей он как
бы канонизирован, незыблем. Способствует этому и наше знание драмати¬
ческой судьбы самого автора, его романа. Создалось триединство — «Бул¬
гаков — роман — читатель». И к этому моменту надо отнестись очень бе¬
режно, сберечь его. Должна быть создана, как мне представляется, парал¬
лельная киноверсия романа, в какой-то мере даже фантазия на главные те¬
мы великого произведения, без претензий экранизировать всю вещь. Это
потребует кропотливой и долгой литературной работы. И определенного
рода смелости. Но Михаил Афанасьевич и сам занимался такой работой
для кино. Вспомним хотя бы его работу над сценарием по мотивам «Мерт¬
вых душ». И не робел.
Вы, может быть, слышали уже, что существует две экранизации «Мас¬
тера и Маргариты», польская (фильм снимался в Западном Берлине, но
режиссер польский — Анджей Вайда) и югославская, режиссер Алек¬
сандр Петрович. Два крупных мастера потерпели неудачу. Нет ни одной
по-настоящему убеждающей театральной постановки. Роман «кусается».
Не надо забывать, что на его страницах навсегда поселились и Иешуа, и
Воланд со своей небезопасной свитой. Короче, как сказал бы наш дорогой
мессир: «Vorsicht!» — «Осторожно!» (нем.)
— А фильм о современной жизни вам не хотелось бы сделать?
— Хотелось бы. Но пока не попался подходящий сценарий, не поверхно¬
стно-актуальный, а подлинно проблемный и человечный. Может быть, он
уже кем-то пишется, этот сценарий. Для театра, кстати, эти пьесы еще то¬
же не написаны. И литература нас пока не балует.
Сейчас у нас лидируют документалисты. Работы у них оказалось много.
Столько в обществе наболевшего, столько неразвязанных узлов, так стре¬
мительно развиваются события — только снимай. Они и снимают, снима¬
ют, зачастую жертвуя художественностью, не очень-то успевают «вылизы¬
вать» свои картины, за что и получают критические оплеухи от наших лю¬
бителей совершенного. Вот этим-то картинам, которые на передовом крае
перестройки, сейчас приходится труднее всего. Они для кого-то опасны.
Конечно, опасны. Они кого-то затрагивают. Да, затрагивают. Они же для
того и снимаются, чтобы на что-то повлиять, что-то изменить в лучшую
сторону. Теперь появилась новая форма, нет, не запрета, а полузапрета. Не
«полка», а, как мы грустно шутим, «этажерка». Фильм— я имею в виду ос¬
трые, проблемные работы документалистов — принимают, но практически
зрителям не показывают. Или только условно, смехотворно малым тира¬
жом выпускают на экран. А вы говорите — расформировать конфликтную
комиссию...
Над этим интервью мы работали с Климовым три полных дня и три... пол¬
ных ночи. В самом прямом смысле. За это время я чуточку понял характер,
натуру этого неординарного человека. С одной стороны, он человек медли¬
тельный, плотно обдумывающий обстоятельства, действия, предпринимае¬
мые им ежедневно, ежечасно, подолгу работающий, как мы уже знаем, над
каждым из своих фильмов, с другой стороны, бывает так, что те или иные
действия, поступки его непредсказуемы, непрогнозируемы. Отсюда невоз¬
можность ответной реакции, сложность контакта с ним. Элем Германович
«нажимал» на меня с тем, чтобы отложить это интервью: «Некогда», «По¬
том», с другой стороны, «поддался» моему нажиму и, оставив почти на про¬
извол судьбы свой родной, уважаемый нами «киношный» союз на три рабо¬
чих дня, с головой ушел в размышления о нашем сложном времени, о судь¬
бах кинематографа, о своих личных перипетиях. Темы наших бесед, помимо
всего, рождались спонтанно, неожиданно. Я увидел на столе только что вы¬
шедшую книгу «Лариса» о его жене Ларисе Шепитько, и мы несколько ча¬
сов проговорили о ней. Перед тем как поехать в Кремль 25 декабря на при¬
ем по случаю вручения Государственных премий СССР, мы долго говорили
о Владимире Высоцком. Поскольку разговоры были откровенными, я спро¬
сил Элема Германовича вот о чем:
— Некоторые называют вас экстремистом. Как вы думаете, почему?
— Опять «некоторые»... Давайте лучше применим понятие максимализ¬
ма, «экстрема» — это совсем другое. Да, исповедую максимальную отдачу
человеческих сил, самое интенсивное использование наших возможностей.
Мечтал и мечтаю добиться предельно больших результатов. И в творчест¬
ве, и решая общественные и гражданские задачи. Но не «любыми» средст¬
вами.
Наверное, кого-то раздражил фильм «Иди и смотри», его образы, автор¬
ские приемы, его «шоковая терапия». Я за «сверхкино», когда надо срывать
коросту с оплывших жиром душ. Особенно теперь, когда мир живет еще в
великой тревоге. Я за то, чтобы в правде идти до конца и жить с открыты¬
ми глазами. И на этом пути быть последовательным.
Я хотя уже и не мальчик, но многое еще не перестает меня удивлять.
Вот, к примеру. Закончился наш V съезд, меня избрали первым секрета¬
рем Союза кинематографистов, и уже буквально на следующий день я
ощутил на себе совсем другие взгляды моих же товарищей. Некоторых.
Много в этих взглядах было оттенков: воспаленное любопытство, слишком
быстро обнаружившаяся неприязнь, чуть более меры проявленный вос¬
торг и даже заискивание. А ведь во мне ничего не изменилось, я был тот же,
что и вчера. Добавился только пост, должность. А если я завтра уйду с этой
должности, покину этот пост и снова стану «рядовым», они, эти люди, уже
каким-то третьим взглядом будут смотреть? Эх...
О Ларисе Шепитько (6 января ей исполнилось бы пятьдесят лет), самом
родном и близком человеке, друге, соратнице:
— ...Лариса ушла из жизни, находясь на самой вершине своей судьбы.
Только что пережила всемирный успех «Восхождения», ей разрешили сни¬
мать «Прощание с Матёрой», а отношение руководства к повести было тог¬
да негативное. Потребовался большой дипломатический дар, которым она
обладала сполна, весь ее ум, обаяние, чтобы убедить, добиться этой работы.
Через неделю после похорон Ларисы и ее товарищей осиротевшая группа
с новым режиссером, оператором, художником приехала на место съемок.
Что делать? Как делать? Вначале попытались подражать. Одну сцену
сняли в подражание, другую. Поняли, что это не путь, надо находить свой
подход к материалу, создавать свой замысел и даже писать свой сценарий.
По ночам с моим братом мы работали над сценарием, днем — съемки. По-
года ухудшалась, лето кончилось, дожди, неудачной была и осень. Досни¬
мались до снега. Нам дали паузу до следующей весны, и в эту паузу мы сде¬
лали маленький фильм «Лариса». Потом была закончена и основная кар¬
тина. Мы решили назвать ее «Прощание». Могли, конечно, оставить назва¬
ние, выбранное Ларисой, — «Матёра», оно, может быть, более точное для
этого фильма, но выбрали «Прощание». Это мы прощались с нашими дру¬
зьями, а я и с родным человеком. Я даже полагал одновременную демонст¬
рацию двух фильмов в одном сеансе: «Лариса» и «Прощание».
— Еще о Ларисе Шепитько. Ведь она человек поразительный, может
быть, даже уникальный.
— Редчайший случай в истории кино, чтобы на режиссерский факультет
приняли молодого человека, да еще девушку семнадцати лет, сразу после
окончания десятилетки. И к кому? К Довженко, выдающемуся мастеру!
Вот интуиция! Как он почувствовал, каким образом? Да еще на вступи¬
тельных экзаменах. Он опекал ее, как родной отец, и Лариса обожала его до
последних дней жизни, боготворила, исповедовала его личность, его высо¬
кие нравственные принципы. Она считала, что если и свершилась, то свер¬
шилась в те полтора года, когда он учил ее. Полтора года всего!
Лариса была человеком предельной честности, озаренности и истовым
художником. Поэтому, наверное, не каждый чувствовал себя рядом с ней
уютно. Далеко не всякому дано быть таким. Но и не было в ней никакой
фанаберии, гениальничания, хотя и скромницей не прикидывалась. Лари¬
са тоже не сразу нашла себя, она шла через преграды, спотыкания, пробы,
но к высокому в искусстве двигалась упорно и в результате пришла к
«Восхождению». Не случись трагедии, взошла бы, я уверен, и на следую¬
щую ступень своего творчества. Она сама себя созидала, и этот процесс
продолжался до конца ее дней. Напряженная жизнь духа меняла ее и
внешне. С каждым годом она становилась прекраснее.
Мало сделала Лариса фильмов — всего четыре с половиной («половина» —
это короткометражный «Родина электричества»). Но все они выстраданы,
выношены. Она любила повторять фразу Довженко о том, что надо делать
каждый фильм, как последний, и думать, что после этого фильма тебя мо¬
жет не стать и это последнее, что ты скажешь людям, что они по этой рабо¬
те будут потом о тебе судить.
Каким-то странным образом предсказала возраст, в котором ее не станет.
На встречах со зрителями или в интервью она говорила, что по статистике
средний срок жизни кинорежиссеров, а также летчиков-испытателей равен
41,5 года. Ларисы не стало в 41,5 года. Она предчувствовала, что что-то слу¬
чится, говорила об этом часто: «Меня скоро не будет, я скоро умру». Перед
выездом в экспедицию на Селигер прощалась с друзьями навсегда. Очень
изменилась, какая-то стала другая: мягкая и отрешенная.
Предчувствия ее сбылись. А вообще она верила в то, что живет на земле
не первый раз. Что и говорить, человек — самый неисследованный, самый
таинственный пока предмет на земле.
— Как вы познакомились?
— Когда я пришел во ВГИК после своего недолгого авиационного
опыта, то сразу попал в совершенно иную атмосферу и был поражен,
сколько там красивых и оригинальных людей. ВГИК тогда переживал
пору своего расцвета — 1958 год. Лариса училась там с 1955 года, но по
возрасту она была на пять лет моложе меня. Среди когорты вгиковских
красавиц я сразу выделил ее, но чтобы подойти, познакомиться — мне
это и в голову не приходило, так она была хороша. Познакомились и
ближе узнали друг друга уже тогда, когда она приехала из Киргизии с
материалом дипломного фильма. Он назывался тогда «Верблюжий
глаз» по повести Чингиза Айтматова. Помню, мы сидели в кафе «Наци¬
ональ», в угловом знаменитом кафе, пили кофе, и она все время меня
мучила: «Какое название придумать?» Я и предложил почему-то
«Зной». Ей понравилось...
Из Киргизии Лариса приехала совершенно разбитой, обессиленной, бо¬
лезнь — инфекционная желтуха. Лежала она в больничном бараке, а съем¬
ки надо было продолжать. В полупустыне Анархай при большой жаре, как
мне рассказывали, ее на носилках за сорок километров туда привозили из
города, так она и вела съемки. Киргизская студия тогда только начиналась,
профессионалы почти отсутствовали. Ларису в шутку прозвали матерью
киргизского кино. «Матери» было 25 лет. Отношение к картине было
сложное. Прямо в экранных копиях вырезали целые куски, резали по жи¬
вому. Успех пришел чуть позже — фильм был увенчан многими наградами.
Так она дебютировала.
Съемки фильма «Восхождение» — прямо противоположные обстоятель¬
ства: холод, Муром, гостиница без теплой воды. Съемки в поле, в лесу, в де¬
ревне на продувном ветру, мороз доходил до 35 градусов, спрятаться неку¬
да. Актеры одеты легко. Я видел рабочий материал, когда герои ползут по
снегу, — длинный-длинный кадр, панорама: Сотников и Рыбак и прямо
видно — а снимают довольно крупно, — как в кадре у них белеют щеки, они
обмораживаются прямо в кадре.
Но если актеры могли уйти погреться, спрятаться куда-то в автобус теп¬
лый, то режиссер, как правило, не имеет права и возможности отойти со
съемочной площадки. Как она это выдержала, непонятно. Были дни, когда
ее приносили в гостиницу, укладывали на кровать и отогревали, у нее не
было сил идти. Фильм «Восхождение» — это еще одно крупное испытание
в ее жизни. Без веры в то, что твой замысел нужен, необходим людям, та¬
кого не выдержишь.
Но, может быть, главной победой своей жизни Лариса считала рождение
ребенка. С ее здоровьем вообще опасно было идти на это. К тому же сотря¬
сение мозга, травма позвоночника во время беременности — надежд оста¬
валось все меньше. И тем не менее она родила.
Во дворе «Мосфильма» она встретила Андрея Тарковского и похваста¬
лась ему, что у нее есть сын, на что он ей ответил: «Я вас, во-первых, позд-
равляю, а во-вторых, я вообще не понимал, как вы можете работать в искус¬
стве, снимать фильмы, не имея детей».
«А это, может быть, и будет мой лучший фильм, мое лучшее произведе¬
ние. По крайней мере, теперь я знаю, что жила не зря».
— ...Элем Германович, оказывается, есть такой фильм “Великое проща¬
ние» о том, как Сталина хоронили. Почти трехчасовая лента, которая
хранится на складе, почему сегодня не показать эту хронику? Может
быть, некоторые зрители и себя увидят со слезами на глазах у гроба «вож¬
дя и учителя».
— Думаю, что он запрещен для показа.
— Кем? Когда?
— Очевидно, после XX съезда. И запрет действует до сих пор.
— Сколько же уникальных свидетельств нашей истории, нашей советской
эпохи упрятаны в киноархивах! Есть даже кадры, как в тридцать седьмом
году по ночам арестовывали людей, «маруськи» у подъезда. И сегодня, когда
мы как бы заново открыли целые пласты нашего прошлого, необходимо все
отдать зрителю.
— Да, невероятное количество материалов лежит в гигантском хранили¬
ще в, Красногорске под Москвой, которое, как я слышал, находится в пла¬
чевном состоянии: лента сыреет, плесневеет, просто гибнет.
Принадлежит оно Центральному архивному управлению Совмина
СССР, и мы ставим вопрос о том, чтобы хранилище принадлежало и нам.
Мы помогли бы заботиться о нем лучше.
— Ваше мнение о «Покаянии»?
— Общественное мнение по поводу фильма раздвоенное. Одни говорят,
что такой фильм — ошибка, другие — победа демократии.
Фильм Абуладзе очень важен в нынешней обстановке, как знак опреде¬
ленного позитивного поворота по отношению к нашей истории, к опреде¬
ленным ее страницам, тем более что картина шире по теме. Она утвержда¬
ет, что любые нарушения социальной справедливости, где бы они ни про¬
исходили, отвратительны.
Московский зритель проявил к фильму очень большой интерес, его по¬
смотрело более двух миллионов человек. По стране он, к сожалению, про¬
шел хуже. За десять месяцев проката «Покаяние» увидело десять миллио¬
нов зрителей.
— Это не так много. Почему?
— Думаю, потому, что данные страницы истории впрямую не касаются
жизненного опыта молодежи, и ей неинтересно смотреть это трагическое
полотно. Для кого-то переусложненной оказалась форма изложения, кому-
то показалось, что если уж рассказывать, то надо рассказывать в конкрет¬
ных, реальных формах, так, как это происходило, а не в метафорическом
стиле.
Очень важно, я думаю, что «Покаяние» сделали грузинские кинемато¬
графисты не по заказу Госкино, не на деньги Госкино, не на деньги Госте-
лерадио, а на деньги Совета Министров Грузии. Он был сделан в 1984 го¬
ду, когда и подумать о такой теме было сложно. А если бы работа над кар¬
тиной шла нормальным путем, картины не было бы.
— Остается ли актуальным сегодня лозунг Ленина о том, что из всех ис¬
кусств для нас важнейшим является кино?
— Да, остается. И оно сейчас теснит телевидение, видео. Все равно, ко¬
нечно, в основе этого натиска так или иначе лежит кинематограф, его фор¬
мула, его опыт. Много фильмов мы смотрим по ТВ. Правда, в этих случаях
исчезает зрелище, соборный эффект восприятия, ведь мы смотрим филь¬
мы разобщенно, не в зале, в своих квартирах, теряется феномен коллектив¬
ного сопереживания, соучастия в действии, а это очень важный момент.
Видео можно остановить, отмотать ленту в обратную сторону или уско¬
рить действие. А это разрушает эффект цельного восприятия. Тем не менее
я думаю, что кинематограф все более является важнейшим из искусств, по¬
тому что люди, к сожалению, все меньше читают и все больше смотрят.
Тревожит, конечно, что падает посещаемость кинотеатров. Но это уже осо¬
бый разговор, почему она падает. Она падает нынче во всех странах, кине¬
матограф перестал во многом удовлетворять людей, снизилось его качест¬
во, он исхалтурился, потерял элемент первоощущения, новизны. В кино
люди идут, стоят в очередях за билетами, но смотрят уже с большим разбо¬
ром, идут не вообще в кино, а на конкретного режиссера, актера, на кон¬
кретное событие или тему, ставшую предметом создания фильма. Статис¬
тика констатирует, что самый частый зритель имеет возраст от 14 до 23 лет.
Кинематограф должен учитывать это обстоятельство, не подстраиваться
под него, но учитывать обязательно должен.
— А можно сказать, что нынешняя публика болев интеллектуальна, поло¬
жим, чем была двадцать лет назад?
— Образованней? Наверное.
— Отсюда, наверное, и выборочность?
— Считаю, что кинематограф вообще должен предоставлять возмож¬
ность выбора, он должен быть разнообразней. Пусть зритель выбирает, что
ему посмотреть и среди наших фильмов, и среди тех, которые мы закупаем.
— А как оплачивается труд киноактера?
— Фильмы, как правило, снимаются за два-три месяца. Не каждый день
и далеко не каждый актер занят на съемках ежедневно. Много людей заня¬
то в массовых сценах. Еще недавно один съемочный день стоил три рубля,
теперь пять рублей. Но что такое пятерка в сегодняшней жизни? Расскажу
забавный случай, который произошел во время съемок фильма «Проща¬
ние» на озере Селигер. Готовились снимать сельский праздник, танцы,
русские песни. В отдаленную деревню за озером мы послали ассистенток
подобрать людей для массовки. Собрали бабушек, женщин и сказали:
«Откройте сундуки, достаньте свои старинные одежды, будет съемка.
Съемка стоит пять рублей». Договорились. Приехали снимать. Пришли
наши разнаряженные бабушки и все принесли по пятерке. Раз в кино сни-
мают, за это платить надо, думали они, ведь это большая честь. Вот такой
эпизод. А знаете, сколько стоит массовка в Америке? 100 долларов и бес¬
платный обед.
— Элем Германович, завершая нашу беседу, снова и снова хочу повторить
свой вопрос: что будет с нашим кино? Каким будет наше кино? Когда по¬
явится наше новое кино, достойное эпохи демократии, гласности?
— Что будет с нашим кино? Любые пророчества — неблагодарное заня¬
тие. Так, кажется, говорят? Давайте вместе пожелаем нашему кинемато¬
графу — а это искусство великих революционных, духовных традиций —
поскорее подняться на новую, качественно новую ступень своего разви¬
тия. Пожелаем ему не на словах, а на деле повернуться лицом к своему
зрителю, лучше узнать его дела, заботы, боли и радости. И говорить с
ним, как с равным, а не как с недоумком, не минуя в этом разговоре и са¬
мых сложных мест. Только тогда мы вернем к себе и доверие, и уваже¬
ние. Не у всех еще выпали зубы от постоянного кормления с ложечки
подслащенной манной кашей. Зубы еще есть, было бы что жевать. Поже¬
лаем кинематографистам побыстрее выговориться, памятуя, что слиш¬
ком долго мы творили в узде, с шорами на глазах.. Может быть, и про¬
изойдет на какой-то период перекос в так называемую «чернуху», не бу¬
дем пугаться, не будем шарахаться, снова «тащить и не пущать». Мы
ведь сейчас как бы заново все увидели.
Вспомним и старую аксиоматическую истину, что главная цель искусст¬
ва — формировать духовный, нравственный идеал, возвращать и возвра¬
щать душе чувство гармонии и красоты. Не уставать напоминать человеку,
что он существо достойное, божественное, «вертикальное», а не «горизон¬
тальное», пользуясь образным выражением нашего удивительного сооте¬
чественника философа Федорова (да, спорного, спорного, конечно!). Раз
уж вспомнил Николая Федоровича, вспомню и других героев нашей вели¬
кой истории. Декабристов, к примеру. Напомнить бы зрителям о них не
очередной олеографией, а фильмом о трагедии великого и отчаянного де¬
ла, о слабостях человеческих, таких нам близких и понятных. А Герман Ло¬
патин? Можно ли так прожить свою жизнь? Оказывается, можно. Вот уж
вам настоящий максималист. А истовый, неукротимый протопоп Аввакум!
Циолковский Константин Эдуардович. Что мы знаем о нем по-настояще¬
му? Как отвечал он себе в тиши калужского домика на главный вопрос
жизни, который себе же и задал: «Зачем все это?» Известна ли нам его меч¬
та о светозарном человечестве? Вернадский, Чижевский, Вавилов... Чис¬
тые страницы, предмет возможного интереса мастеров экрана. Пушкин,
наконец.
Не забудем, надеюсь, и людей сегодняшних, ныне живущих на одной с
нами земле, рассеянных по огромной нашей равнине. Скромных, добрых,
злых. И зачастую очень бедных. Это они в отдалении своих деревень и по¬
селков смотрят наши московские телепередачи, как сигналы с Марса. Что
мы знаем о них, об их жизни? А они — это всё. И мы от них.
XXI век. Я жду от него самого главного открытия. Должен произойти ре¬
шительный сдвиг в самой отсталой науке и самой важной — науке о чело¬
веке. Том самом, который «мера всех вещей». О котором знаем пока ни¬
чтожно мало. И кинематограф с его возможностью заглянуть в глубину на¬
ших глаз, в пропасть человеческой души пусть движется параллельно на¬
учным изысканиям, способствует им, а в чем-то вдруг и опережает. Если не
ошибаюсь, Андрей Платонов в письме к жене писал: «Невозможное— неве¬
ста человечества. К невозможному летят наши души». Будем же ставить
себе «невозможные» задачи, пытаться отвечать на «проклятые» вопросы.
Иначе не будем двигаться вперед. А остановка — это смерть.
— Расскажите, как вам чуть не поставили памятник...
— А, это было после «Агонии». Она уже «отдыхала на полке», но надеж¬
ды у меня еще теплились. Меня пригласили в большой кабинет. Хозяин ка¬
бинета, человек ко мне сочувственно относившийся, знал тогда мое поло¬
жение лучше меня. «Вот что, давай делай фильм о Февральской револю¬
ции с переходом в Октябрьскую, короче, о семнадцатом годе. Сделаешь —
памятник поставим при жизни». Я спрашиваю: «А до иконы можно дотро¬
нуться?» — «Нет, нельзя». — «А хотя бы пыль стереть?» — «Нет». «А прав¬
ду тех событий показать, назвать всех исторических персонажей?» «Нет, —
говорит, — не стоит». «Ну, — говорю, — тогда памятника мне не надо».
А ведь поставили бы. Жаль.
Журнал «Огонёк», № 2, 1988 год
Элем Климов - Нинель Исмаилова
Идеалы против догм
Элем Климов дебютировал в 1964 году, вгиковский режиссерский дип¬
лом он снимал на «Мосфильме», — случай редкий. Сюжет был прост и
мысль ясна: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Са¬
тирический фильм с элементами фантасмагории о бюрократизме, о вреде
конформизма, о бумаготворческой деятельности людей, которые живут по
инструкциям, предписаниям, не в контакте с живой жизнью, с живой ду¬
шой. Вожатая постоянно считает на пляже детей или их тапочки, докторша
поминутно измеряет градусником температуру воды в реке и, наконец, за¬
вхоз и физкультурник по команде вытаскивают из воды сети с ребятами...
Зато в финале над тупостью и скукой торжествует свободная фантазия —
мальчик с бабушкой летают над речкой... Какое в самом деле имеют значе¬
ние программа и мероприятия, дисциплина и распорядок, когда люди и
плавают, и летают!
— Был еще очень смешной эпизод: вечером в кабинете начальника лагеря
(его играл Евгений Евстигнеев) разбирались скандалы. В холодильнике-
сейфе хранились досье на всех пионеров: кто сколько прибавил в весе, кто
как себя ведет. Чего-то не обнаружив, начальник лез в холодильник, и каме¬
ра — за ним. Оказывалось, что холодильник-сейф имеет продолжение — это
такой коридор-картотека, а в конце его дверь, — и мы выходили наружу, ви¬
дели холмы, повсюду на холмах — трибуны, и на всех кто-то выступает...
Жалко, это все полетело. Кстати, один замечательный энтузиаст в Госфиль-
мофонде собирал вырезанные эпизоды — тоже историография. Смонтиро¬
вать бы сейчас все вырезанные эпизоды из всех фильмов за эти годы, не
только моих, конечно, вот был бы комментарий к работе творческих комис¬
сий Союза кино. И смешно. И наглядно. И грустно. Об этом, собственно, и
та картина. Хотя я к ней сразу отнесся критически, у меня не было не толь¬
ко опыта, но и подлинного вкуса, интереса, пристрастия к изображению...
Это он говорит о фильме, увидев который Ромм позвал в свое объедине¬
ние молодого режиссера и предложил работу: «Сценарий прислан для ме¬
ня из Ленинграда театральным автором Александром Володиным — «По¬
хождения зубного врача». Я его прочел, посмотрел твой фильм, и мне ка¬
жется, что это дело не мое, а твое».
Сценарий-эссе, даже не в непривычной сценарной форме написан — как
его ставить? Притча, иносказание о судьбе таланта, об извечно драматич¬
ной судьбе талантливого человека. Но на каком странном материале! Ге¬
рой — стоматолог, зубы сами вылетают к нему изо рта без боли.. Как это де¬
лать? А тут еще драматург, чьи пьесы ставят Товстоногов, Ефремов, Львов-
Анохин. «Фабричная девчонка», «Старшая сестра», «Назначение»... Какие
эстетические баталии!
— Он просто гирей повис у меня на шее, его авторитет меня задавил. Ему
казалось, что все надо делать серьезнее, а мне хотелось — смешнее. Работа
шла со скрипом, и удачи не последовало. Фильм в Москве шел в одном ки¬
нотеатре, до сих пор его мало кто видел.
А во ВГИКе его крутят по сей день. Какие-то вещи устаревают, какие-то,
наоборот, приобретают новое. В то время вгиковцы увлекались Брехтом,
Климов готовился снимать «Господина Пунтилу и его слугу Матти», а Бо¬
рис Бланк, его художник, оформлял «Карьеру Артуро Уи», поставленную
Зигфридом Кюном на герасимовском курсе с Николаем Губенко в главной
роли (дипломный спектакль стал шумной театральной премьерой Моск¬
вы). Эстетические принципы брехтовского театра, его несравненная зарази¬
тельность и политическая заостренность — как хотелось соединить это с ки¬
нематографом! Климов пробует ввести условные элементы в подлинную
реальность: театрализованная манера подачи материала на плоскости, отст¬
раненная игра артистов, брехтовские интонации, зонги. Улицы Калуги ка¬
зались плоскими, как картина. И комната с огромным, в стиле модерн нача¬
ла XX века, круглым окном-иллюминатором, — герой жил как в аквариуме,
без занавесок, на виду у всех, а на втором плане, например, быстро всходи¬
ло солнце... тоже как живая картина. Изобретательно, неожиданно, ново.
— Идея фильма уж очень дорогая. Нам надо научиться ценить талант, а
главное — не мешать, не громоздить искусственные препятствия, талант и
без того живет в борьбе с косностью, застойностью, привычкой. Теперь ча¬
сто говорят о сером фильме, все озабочены, какие же фильтры поставить на
студиях страны или в Госкино, чтобы серые фильмы отлавливать до запу¬
ска. Кое-что, конечно, можно сделать, и мы пытаемся — серьезнее обсуж¬
дать тематические планы, улучшить всю сценарную службу кинематогра¬
фа, но самое надежное средство — дать дорогу таланту, не держать, не пря¬
тать по полкам фильмы, непривычные для глаза, экспериментальные,
сложные по стилистике и структуре: открыть широкие возможности для
обновления языка, жанровых поисков, смелых замыслов. Конфликтная ко¬
миссия Союза кино уже работает, смотрит фильмы, обсуждает сценарии, и
мы уверены, что судьба многих лент будет решена. Уже вышла «Тема»
Панфилова, будут показаны фильмы молодого ленинградского режиссера
Сокурова. Как режиссер, знаю, что такое неосуществленная работа, ведь
это целый раздел в творческой биографии почти каждого нашего серьезно¬
го художника. Не хочется говорить о себе, потому, что свои самые дорогие,
трудные, глубоко сидевшие во мне замыслы все же осуществил — «Аго¬
ния» имела три запуска и в целом длилась в моей жизни почти двадцать
лет, «Иди и смотри» — два запуска. А ведь известны случаи более тяжелые:
один крупнейший наш режиссер, который, кстати, начинал зрелым челове¬
ком, на многие годы оставил творческое устремление к современности и
«ушел в экранизацию», а кинематограф потерял удивительной силы и глу¬
бины художника-публициста; Шукшин не снял своего Разина, Панфилов
не снял «Жанну д’Арк». А Владимир Наумов, сняв с Александром Аловым
по Достоевскому «Скверный анекдот» (прекрасный фильм) и не увидев
его на экране, с годами вообще уверовал, что успех и художественная цен¬
ность вовсе не обязательно должны совпадать... И вот я думаю: но почему?
Почему так случилось? И что же сегодня должны мы сделать, чтобы в кор¬
не изменить положение таланта, его место и значение в нашем отечествен¬
ном кинопроизводстве?..
Со многими так было: успешный дебют, потом вдруг все труднее и труд¬
нее. «Похождения зубного врача» не имели проката; в 1966 году первый за¬
пуск «Агонии» — фильм еще назывался «Антихрист» — закрыли; неудача
с замыслом по Э.-Т. Гофману — такие требования к сценарию, что при¬
шлось отказаться от постановки. Климов «психовал, кис, сильно гневал¬
ся». В это время Герман Климов, брат Элема, заканчивал сценарные курсы
Госкино и в качестве диплома представил сценарий «Спорт, спорт, спорт!».
Его запускали в производство... А почему бы не сделать фильм о спорте?
Что в спорте как жизнедеятельности, как форме проявления человеческой
личности можно открыть людям или открыть для себя? Во-первых, надо
разрушить стереотип восприятия спорта, открыть трагическую сторону, и
так помочь людям понять, что «суть судьбы — есть вечный бег к победе.
Все прочее недвижно и мертво» (Белла Ахмадулина).
Фильм был широко показан и у нас, и за рубежом, получил премии на
Всесоюзном фестивале спортивных фильмов и в Оберхаузене, можно счи¬
тать, имел счастливую судьбу, но режиссер недоволен...
— Был опробован метод, который я называл методом органической эк¬
лектики, — он представлял собой попытку соединить в единое гармониче¬
ское целое несоединимые вещи: подлинную хронику, событийные съемки,
интервью; в условной манере снятые игровые новеллы; стихи, дикторский
текст. Попытка не удалась. А почему, я это понял только потом. Это связа¬
но с новеллами о массажисте, которые проходят через весь фильм, — они
настолько условны, что снимать их следовало не в условной манере, а как
бы документально.
Но главное — этот фильм не мог изменить мое творческое самочувствие: я
ждал и надеялся, отчаивался и снова надеялся, что буду снимать «Агонию».
Фильм для Климова рубежный, он сам так считает, да и нам видно: голос
человека, всегда остававшегося верным себе, мужал, обретал силу и мощь.
И даже то, на что он дерзал теперь, что ставил себе задачей, было ни с чем
несравнимо. Судьба народа, России, история, живая и близкая, ее еще лег¬
ко угадать в страстях и печалях, история, досконально изученная не для то¬
го, чтобы лепить гипсовые маски с нее, но для того, чтобы понять и увидеть
образ времени, лик эпохи, новой эпохи, рождающейся в страшных судоро¬
гах. Российская империя 1916 года—агония дома Романовых, инфляция
всех понятий, мистицизм, «гнилость, гнусность, цинизм», с Распутиным на
вершине политического авантюризма. Роль Распутина задумана по форму¬
ле Христос — Антихрист. Одни считали его новым мессией, другие назы¬
вали предтечей Страшного суда. Актерский темперамент Петренко позво¬
лил сочетать фарс с трагедией. Весь фильм сделан на контрастах, драма¬
тизм истории и драматизм человеческой судьбы слились воедино. Истори¬
ко-документальный план и художественно-игровой сплетены не эстетиче¬
ской прихотью авторов, а самим ходом вещей в мире.
— Если бы не было хроники, получилась бы дворцовая история. Антина¬
родность режима самовыявлялась, обретала неопровержимость факта и
ощущения. Работа с историческим материалом — дело обоюдоострое. Нуж¬
на точность. И нужна свобода мышления, без которой нельзя извлечь ис¬
тинного исторического знания. Нас некоторые обвиняют, что мы не совсем
так воспроизводили события, например сцену убийства Распутина. Есть
разные версии: Юсупова, в доме которого это происходило, и Пуришкеви-
ча — тоже один из убийц. Можно было сочинить некую среднюю версию, но
мы пошли другим путем, мы в каждой сцене перерабатывали свое знание
исторических реалий и подробностей в пользу образа, метафоры... У Распу¬
тина загорелась рубашка, он механически стряхивает огонь и не чувствует
боли. Мы знали, что рубашка у него не горела, но как было трактовать, что
его не взяли яды, и столько пуль в него вонзили, а он еще бегал, убегал, лез
на ворота? Мистика? Решили трактовать только в пользу образа: убивают
мертвого человека, внутренне мертвого человека. Целая линия идет к этому
эпизоду по всему фильму. Метафорический язык полезен — мы таким об¬
разом ассоциируем материал с большим кругом культуры. Мы не только об
этом рассказываем, но напоминаем о чем-то другом. Исторический фильм
всегда должен иметь более общий контекст...
Фильм «Агония» получил главный приз ФИПРЕССИ на фестивале в
Венеции, но и к нему Климов относится критически. Даже договорился с
одним из журналистов, что сам напишет о нем критическую статью. Прав¬
да, судьба картины сложилась так, что было не до критических статей. По¬
сле первых просмотров на «Мосфильме» и в Госкино ее положили на пол¬
ку. Долгой, тяжкой, нелепой была дорога фильма к зрителю. Зато теперь,
когда его все посмотрели и обсуждают, он «дорвался» до самокритики.
— Я понял, что, так долго мечтая об этом фильме, оказался не готов к не¬
му, не готов работать с очень сложным человеческим материалом. Имея та¬
ких исполнителей, таких соавторов — сценаристов, оператора, художни¬
ков, я все-таки недотянул. Все грехи отношу только к себе. Режиссер вооб¬
ще должен все относить к себе: все удачи отдавать коллегам и все недостат¬
ки брать на себя.
Так ощущает он проблему авторства. Наблюдая многие годы Климова, я
понимаю, что имел в виду Герасимов, когда говорил, что «режиссер должен
обладать старшинством мысли». Только не знаю, вопрос ли это воспитания
и самовоспитания или коренных свойств натуры. Всегда и во всем, в пылу
спора и в тихой беседе, в кругу коллег и друзей, во всех делах, на собрани¬
ях, на съемочной площадке и в кабинете секретаря союза кино — твердость
суждения, ясность, внимательность и серьезность, привычка смотреть в
глаза и держать спину прямо, не затрачивая на то усилий. Должно быть,
многие это замечают, потому и избрали кинематографисты на V съезде
Элема Климова первым секретарем союза.
Впрочем, эти заметки на полях не мешают выяснить, что же именно не
получилось в «Агонии», за что сетует на себя автор?
— Режиссура фильма стала видимой. Привожу пример: Распутин, пад¬
ший, после избиения, когда все от него отвернулись (он заболел, а Христос
не может болеть), одевается в тряпье, в котором бродягой пришел в Петер¬
бург, валяется в луже, уничижает себя окончательно, превращается в не¬
что имеющее нечеловеческий вид и фантастическим образом попадает в
спальню царицы, где — царь, царица и Вырубова. Эта сцена — явная неуда¬
ча. Мы должны были снимать иначе: появляется Распутин, камера не от¬
рывает от него взгляда. Если он так силен, что может переломить ситуа¬
цию, заставить думать, что его преступно обидели, тогда мы, потрясенные,
можем увидеть и потрясенных участников этой сцены, ибо переносим свое
чувство на них и их понимаем. Я этого не сумел сделать, в результате —
монтаж, отдельные кадры, небо, купола падают, галки летят... Актер хоро¬
шо действует в этих обстоятельствах, я, режиссер, плохо действую, непра¬
вильно — много всего, режиссура подменяет подлинный художественный
накал. Я это понял и дальше жить спокойно не мог и искал материал, что¬
бы реабилитироваться в собственных глазах... Мне попала в руки «Хатын¬
ская повесть», и встало давнее желание сделать фильм о войне. Познако¬
мился с Алесем, и мы начали работать. Фильм был запущен, собрана груп¬
па, были опробованы фрагменты нового метода, суть которого заключалась
в том, чтобы помочь исполнителям-непрофессионалам воспроизвести
сложные ощущения, запредельные человеческие состояния. (Метод вклю¬
чал в себя и средства защиты от психической травмы.) Мы были уже на по¬
роге съемок, группа в экспедиции, выбрана натура. И тут Госкино предъя¬
вило нам одиннадцать замечаний по самым существенным моментам,
практически уничтожая замысел. Я отказался снимать, очень сильно забо¬
лел, уехал из Белоруссии и долго-долго выходил из этого. А когда немного
пришел в себя, произошло...
Известный советский кинорежиссер, автор фильмов «Зной», «Крылья»,
«Ты и я», «Восхождение», Лариса Шепитько погибла на съемках фильма
«Прощание с Матёрой». Лариса была женой Элема Климова.
— В один день надо принять решение: берусь я за эту работу или фильм
закрывают. Я дал ответ, плохо соображая, но помня, с каким трудом Лари¬
са добивалась этой работы, и понимая, что она должна жить.
«Прощание» — фильм о самом главном. О самом главном написал Вален¬
тин Распутин, о самом главном, без чего жить незачем, думал Климов. Ду¬
ховная субстанция, если нам дано ее ощутить. Если только люди могут по¬
делиться друг с другом, понять друг друга до конца. Если все, что было, на¬
всегда остается с человеком, потому что память — это есть человек, его ум
и сердце. Если люди способны любить землю, жизнь и друг друга. Пусть уз¬
нают все — любовь эта вечна.
...Матёру начали сжигать, спалили немало изб, люди жили в новом по¬
селке, а Дарья все никак не могла попрощаться со своим домом. Воды Ан¬
гары скоро должны затопить и старую сибирскую деревню, и остров, на ко-
торм она стояла веками. «Кончай, бабы, копаться. Завтра последняя баржа
уходит». И пошла Дарья в свою избу... Отодвинула стол в пустой комнате,
начала мыть потолок. Моет Дарья потолок, подруги, что помоложе, по¬
мощь предлагают, но нет, сама должна. Моет стены, прибирает сено, отти¬
рает песком пол. Печку белит. «Мать, ты в своем уме-то? Ты, что, жить тут
собралась?» В самом деле так любовно, так тщательно, так свято к свадьбе,
к празднику избу моют. А что ж она?... Дарья чистит, моет стол. Мальчик
приносит охапку полевых цветов. Дарья ставит цветы в ведро, на стол. Ти¬
хий свет льется в окна. В простенке меж окон высится букет. Пустая при¬
бранная изба. Строгая красота дерева. Красота порядка, уважения к дому.
Дарья одна в избе. Вышла, запирает дом. Закрываются ставни... «Правда в
памяти, — говорила Дарья, — у кого нет памяти, у того нет и жизни».
Происходит невероятное, материализация духовной работы — мы ви¬
дим, осязаем труд души человеческой. Записать эту сцену, передать слова¬
ми ощущение от нее невозможно. Этот эпизод климовского «Прощания»
войдет в антологию кинематографических находок.
— Прикоснувшись к бытийному пласту народной жизни, понимаешь, что
обратно хода нет, снижаться в замыслах стыдно. Единственное, за что я мог
взяться после этого фильма, — наша работа с Адамовичем, я ею жил. И ког¬
да стало ясно, что можно к ней вернуться, мы включились сразу, точно и не
было остановки.
Фильму «Иди и смотри» был отдан год и вся жизнь, с ее страданиями,
стоицизмом, горем. Вся сила характера, вся отчаянность, вся ненависть к
нелюдям, нечисти и злодейству. И вся нежность, и вся любовь к людям.
Потому что только любящий встает на защиту и только любовь сохраняет
жизнь.
Мы молчали, каждый по-своему вспоминая фильм. Говорить о нем не хо¬
телось - слишком близко все и слишком много уже сказано и написано.
Главный приз Всесоюзного кинофестиваля и Московского международно¬
го — фильм вышел на мировой экран... И он еще раз заставляет нас думать
об искусстве как о занятии чрезвычайно серьезном и нравственно ответст¬
венном. Шедевры не рождаются по заказу или стечению обстоятельств, ху¬
дожника ведет к вершине стремление выразить нравственный идеал. Чем
мрачнее мир на экране, тем яснее должны ощущаться идеал, возможность
выхода на новую духовную высоту.
Теперь вопрос к первому секретарю Союза кинематографистов СССР:
— Элем Германович, как видится вам влияние творческого союза на кино-
процесс? Каковы права и обязанности секретарей?
— Ни одно дело, каким бы важным оно нам ни казалось, не принесет
пользы людям творчества, если будет сделано механистично, старыми ме¬
тодами. Новые идеи требуют обновления всей методологии общественной
работы. Мы сделаем гласность нормой нашей творческой жизни. В союзе у
нас явно ощущается дефицит коллективного самосознания. Мы должны
изменить это, наладить свободный творческий обмен мнениями, обсужде¬
ния не просто отдельных фильмов, но и художественных направлений,
идей. Такие творческие дискуссии будут полезны художникам и создадут
с течением времени авторитет коллективных решений, оценок, рекоменда¬
ций. Многоступенчатая подчиненность творческой личности редсоветам,
коллегиям, худсоветам, под маркой которых скрывались часто субъектив¬
ные, вкусовые представления отдельных людей, мне кажется, повлияла на
образ мышления части кинематографистов. Мы хотим вернуть творческой
личности ее исконное право на собственный взгляд и способ мышления,
ибо только это создает художественную индивидуальность. Велика сила
инерции, но мы надеемся ее победить, каждый в себе и в общем деле.
Проблема «индивидуальность — коллектив» никогда не была элементар¬
ной, только вульгарное представление об общественной жизни и сущности
человеческих объединений позволяло нам недооценивать ее серьезность и
сложность. Особенно в искусстве, особенно когда художество становится
формой проявления личности. Я бы хотел, чтобы авторитет нашего прав¬
ления был поддержан не только добросовестной и справедливой его дея¬
тельностью, но и художественной продукцией каждого кинематографиста,
избранного в руководящий орган союза. Это я назвал бы неоспоримым ав¬
торитетом в нашей среде. Вместо того чтобы учиться у жизни, вслушивать¬
ся, спрашивать, мы обрели амбицию обвинять и читать с экрана мораль, ос-
нованную к тому же на догматическом представлении о личности. Нам ви¬
дится особая роль союза в формировании и становлении личности молодо¬
го человека, вступающего сегодня в кинематограф, в его глубоком духов¬
ном самоутверждении. Нравственный климат нашего творческого содру¬
жества, безусловно, воздействует на мышление, расширяет полигон твор¬
ческой инициативы, вселяет надежды. Ради этого надо работать, хочется
работать. Помня, что нас поднимает правда и тянет назад привычка.
«Советская культура», 1986 год
Карен Шахназаров
Элем Климов свою миссию выполнил
Элем Климов в моей жизни сыграл большую роль. Я часто вспоминаю
его после того, как он ушел, думаю о нем, хотя в последние годы его жизни
мы почти не встречались. Да и не могу сказать, что когда-нибудь я очень
близко с ним общался. Но какая-то у меня с ним особая связь все-таки су¬
ществует. Может быть, потому, что это именно он тогда, в восьмидесятые,
ввел меня в свой секретариат. Я был самый молодой секретарь и не играл
большой роли, зато наблюдал много. Наблюдал и за ним.
Он был человек порядочный и честный. Идеалист. Миссионер. Он отно¬
сился к кино, как к некой миссии. Был настоящим художником. Как Тар¬
ковский, Шукшин, и прежде всего — вот по такому отношению к кино, как
к миссии. Можно по-разному относиться к его картинам, но не признать
этого невозможно. Я считаю лучшей его картиной «Иди и смотри», которую
сегодня почти не показывают. Ее именно сегодня надо показывать, чтобы
помнить, что могло бы быть сотворено с Россией. Элем показал это — мощ¬
но, сильно. А «Прощание»? Тоже какая мощь, какие образы! При этом я не
могу сказать, что он оказал на меня принципиальное влияние как режис¬
сер. Но за всем, что он сделал, стоит огромная, яркая, очень мощная лич¬
ность. Можно опять-таки не соглашаться с ним, не принимать того, что он
сделал, но вот этого отрицать нельзя.
У меня всегда было ощущение, что он очень незащищенный внутренне
человек. На меня, по крайней мере, он производил именно такое впечатле¬
ние — уязвимого человека. Он на посту главы Союза кинематографистов
довольно быстро стал уязвим для критики, на него стали сваливать все
просчеты, издержки, перегибы в деятельности нового руководства, секре¬
тариата. Было, конечно, всякое. Но для меня все, что произошло, было аб¬
солютно логично, это был объективный ход событий. По крайней мере, все,
что при Климове делалось, было искренним, и я чувствовал, что люди го¬
ворили и делали что-то искренне, потому что их это действительно волно¬
вало. Пусть часто и ошибаясь, как время показало, но — искренне. Хоть и
говорят сегодня, что V съезд Союза кинематографистов ничего не дал, да
неправда это! V съезд — это был очень хороший, правильный разговор. По¬
сле такого уже не было. И, может быть, невозможно было сделать все, что
хотел, что задумал Климов, но это было красиво — честно это было. И ни¬
чего он не «разваливал», как некоторые теперь утверждают. Разваливали
другие, те, кто пришел следом, возник на этой первой волне, как это часто
и бывает. Какие-то люди непонятные вдруг стали возникать в секретариа¬
те и вокруг него, как крысы сбежались, вот они-то и начали что-то там де¬
лить, прибирать к рукам, и вот тогда все и стало постепенно превращаться
в очень некрасивую историю.
Думаю, почувствовав это, Элем ушел тогда со своего поста, скорее всего,
это была одна из главных причин. Справиться с этим он не мог. Он был, в
сущности, очень мягкий и добрый человек. А надо было в той ситуации
быть очень жестким. Мне кажется, он надорвался на этой работе. Надо¬
рвался душой, так что уже и в кино не смог вернуться. И это его большая
личная драма, трагедия. Я об этом часто думаю. Потому что из всех, кто с
ним был, он самый достойный человек. Не хочу никого обидеть, но он был
выше всех.
А предъявлять претензии, что он должен был нести ответственность до
конца, отвечать за тех, кто пришел за ним... Думаю, это жестоко. Нельзя
этого требовать. У каждого своя миссия. Климов свою выполнил. Он сде¬
лал даже свыше своих сил. Очень много хорошего сделал. И сам был ка¬
мертоном, вводил систему критериев, очень высоких, во все, что происхо¬
дило, и этого ему многие не смогли простить. Наверно, он ошибался как че¬
ловек, как художник, но ошибался искренне, не хитрил. Вот этого — хит¬
рить — он не мог абсолютно.
Ирина Рубанова
Восхождение Элема Климова
Нет, я, конечно, знаю, что фильм «Восхождение» поставил не режиссер
Климов, а его жена Лариса Шепитько. Но лучше, чем этим высоким сло¬
вом, не определить линию его творческой жизни. От фильма к фильму он
усложнял свою авторскую задачу: от человека социального он двигался к
человеку бытийному, от видимости к сущности, от мира физического к
пространствам метафизическим, если не сказать мистическим.
Его путь был подъем.
Так он себе назначил, так выбрал. Чтобы убедиться в этом, достаточно
вспомнить его картины, одну за другой, а потом прочитать эти сценарии,
которые уже тогда, когда они только писались, он видел готовыми фильма¬
ми. Но фильмами они — увы! — не стали.
Однажды, в самом начале 90-х годов, солидный немецкий критик, к тому
же директор весьма уважаемого кинофестиваля, сетовал: трудно, дескать,
составить ретроспективу фильмов Элема Климова.
— Почему же? — удивлялась я. — Всего шесть фильмов, ну, шесть с поло¬
виной, если быть точными. И все такие разные.
— Вот именно: такие разные, что не верится, будто их сделал один и тот
же человек. Я, например, хотя и знаю, что «Добро пожаловать» и «Проща¬
ние» сняты одним режиссером, а понимать не понимаю, как возможно так
далеко от себя уйти.
Что и говорить, контраст разительный. Только неверно, что между эти¬
ми произведениями нет никакой переклички. Да и лучше разве, когда ки¬
нематографист ли, писатель или композитор всю жизнь выдает похожие
друг на друга вещи, которым зрители и пишущая братия потом присваи¬
вает наименование «фирменного продукта» или того чище — бренда?
Бренд сам по себе — уже программа, серия, в нашем случае — ретроспек¬
тива. Для того чтобы в разнообразии узреть единство, нужна работа ума,
души, сердца.
Что действительно удивляет, так это то, что жизнь Элема Климова — и
творческая, и частная — таинственным образом подчинена некоей целесо¬
образности. Все важное, произошедшее в ней или ее сопровождавшее, ото¬
звалось в его работах или в его поведении. Конечно, кое-что могло быть
случайностью, совпадением, стечением обстоятельств. Но этих случайнос¬
тей и совпадений было так много, что сам Климов в зрелом возрасте скло-
нен был во многом из того, что с ним самим или рядом произошло, видеть
предчувствие, знак судьбы, иногда предзнаменование.
И в самом деле.
Он родился 9 июля 1933 года в городе, который тогда назывался Сталин¬
градом — уже не Царицыном, еще не Волгоградом. Его родители — Герман
Степанович и Калерия Георгиевна — окончили царицынскую среднюю
школу имени Достоевского. В 20-е годы такие школы в стране еще были
возможны. В жизнь старших Климовых автор «Преступления и наказа¬
ния», кажется, не постучался, но настал момент, и в сознание их старшего
сына он вонзился неотвратимо и навсегда. Это выразилось не только в чте¬
нии, частом цитировании в разговорах, постоянных отсылках, но главное,
в неотвратимой потребности переложить гениальную прозу на язык кино.
Сначала он примеривался к повести «Село Степанчиково и его обитате¬
ли», потом ухнул в «Бесов» и в течение не менее 10 лет надеялся их экра¬
низировать.
Но мы еще в Сталинграде, в самый канун войны. Отец — инженер Стал-
ГРЭС, комсомолец-активист, мать — преподавательница физкультуры в
местном мединституте. У Элема уже есть брат, в будущем его ближайший
друг, сотрудник, соавтор, в том числе и этой книги. Согласимся, не всегда
и не обязательно родство выливается в нерасторжимую близость.
Видно, действительно в этой семье каждое событие на что-то указывает,
что-то предвосхищает. Брат появляется на свет в год начала войны и в
день ее победоносного окончания: 9 мая 1941 года. К тому же и имя ему
дают, впрямую указывающее на супостата: Герман. Ничего такого Климо¬
вы-старшие конечно же не могли иметь в виду. Хотя сапог вермахта уже
топтал Европу, мы-то и наш прозорливый вождь его, этого конкретного
супостата, ни капельки не боялись. Мы-то с ним исхитрились за две неде¬
ли до начала Второй мировой войны задружиться и подписать неруши¬
мый договор о ненападении. Герман Степанович просто назвал младшего
сына своим именем, потому что надеялся, что сын проживет свою жизнь,
как позовет его призвание, а отцу пришлось прожить свою, как заставили
обстоятельства.
В разгар битвы за Сталинград отец сумел отправить семью из города.
Элем всю жизнь помнил, как он с братом и матерью на катере-тарахтелке
переплывает Волгу, а вода в ней горит багрово-желтыми всполохами, а не¬
бо над ней застлано черными, как ночь, дымами. Сверху сыпятся бомбы,
вокруг грохочет артиллерия. Тогда, вспоминал он, «я чувствовал себя в ти¬
сках какой-то мрачной силы, только по малолетству не знал еще, что это за
сила». Когда спустя сорок с лишним лет он снимал «Иди и смотри», он
знал, что эта сила - смерть.
Калерию Георгиевну с ребятами привезли в небольшой городок побли¬
зости от тогдашнего Свердловска. Совсем рядом с этим местом находилась
Штольня шахты, куда убивцы сгрузили тела царской фамилии.
Бывают странные сближения...
Потом они вернулись в Сталинград. Элем окончил школу, в 1951 году
поехал в Москву поступать в МАИ. Все 30-е годы авиация и летчики были
главными образами советской романтики, сейчас бы сказали: цементирую¬
щей национальной идеей. Так что Климов не случайно связывал свое буду¬
щее с самолетостроением, точнее сказать — с вертолетостроением. Впро¬
чем, весьма скоро выяснилось, что все-таки случайно.
Дело в том, что в МАИ помимо сопромата, дифференциальных исчисле¬
ний и прочих физико-механико-математических премудростей был еще
студенческий эстрадный театр «Вертолет». В народе, да и сами студийцы
именовали его «Вентилятором». «Вертолет-Вентилятор» был известен в
столице не меньше, чем эстрадный театр МГУ «Наш дом». А если и меньше,
то самую малость. «Вертолет» был сатирическим театром, а поскольку как
раз закапала первая капель «оттепели», границы дозволенного стали посте¬
пенно раздвигаться. И «Вентилятор» с упоением чистил воздух времени.
Элем там был всем: сочинителем, исполнителем, режиссером и, главное де¬
ло, мотором всей затеи. Ко времени диплома и госэкзаменов он уже не впол¬
не понимал, кто он - конструктор вертолетов или сочинитель озорных па¬
родийно-обличительных представлений, по понятиям того времени — фи¬
зик или лирик? Стальная воля этого человека, в которую позже упрутся
армия советских киноначальников и отдельные коллеги, решила сомне¬
ния: он выбирает авиастроение, он будет строить эти самые «авиа». После
МАИ Климов два года работает в знаменитом КБ Миля, строит-таки вер¬
толеты. А параллельно с тем же воодушевлением, что и во времена «Верто¬
лета», делает КВН. Дело оборачивается именно так, как не раз случалось в
истории русской культуры: есть законная жена и есть любовница. Как и в
случае доктора Чехова, «любовница» Климова оказалась весьма напорис¬
той. Он не просто днем строил вертолеты, а по вечерам играл в самодея¬
тельности. Он мало-помалу из самодеятельности вырастал. Забытый
штрих биографии режиссера Климова: он был в числе первых ведущих
КВН: инженер-конструктор КБ Миля вел прямые передачи из студии Все¬
союзного телевидения, расположенной на московской улице Шаболовка.
Ведущий был неотразим: красив, статен, находчив, изобретателен. И не¬
утомимо весел. Увлечение наращивало все признаки призвания.
И он, конечно, очутился во ВГИКе. Формально его мастером был Ефим
Дзиган, автор знаменитой картины «Мы из Кронштадта». Но Элем чаще
называл своим учителем Михаила Ильича Ромма. Сокурсники и знакомцы
по институту помнят кучу подробностей студенческого периода Климова.
Здесь, в кратком жизнеописании, нельзя не упомянуть о трех его курсовых
работах «Осторожно: пошлость!» (1959), «Жиних» (1960), «Смотрите, не¬
бо!» (1962). Он еще не успел окончить науку, а уже знал, что будет рабо¬
тать на «Мосфильме». Туда он пришел снимать свой дипломный фильм,
там сделал и все остальные.
Сухая статистика свидетельствует: Элем Климов прожил 70 лет, прора¬
ботал в профессии 39 лет, снял 7 фильмов. В его жизни много виражей, за-
На съемках фильма «Иди и смотри».
Белоруссия. 1984 г.
«Иди и смотри».
«Иди и смотри». С оператором Алексеем Родионовым
и художником Виктором Петровым.
«Иди и смотри».
«Иди и смотри». Элем, Герман, Алесь Адамович и Виктор Петров
с Казимиром Рабецким, игравшим «сгоревшего старосту».
«Иди и смотри». С жителями окрестных деревень,
снимавшимися в фильме.
«Иди и смотри». С оператором Алексеем Родионовым
и Германом Климовым в роли партизана.
«Иди и смотри». Элем Климов, Алесь Адамович, жители окрестных
деревень, снимавшиеся в фильме.
«Иди и смотри». Элем Климов и Виктор Петров.
Первая роль Алексея Кравченко — первая победа.
Перед премьерой.
1985 г.
Победа на XIV Московском международном кинофестивале.
С Алесем Адамовичем и исполнителями главных ролей
Ольгой Мироновой и Алексеем Кравченко.
1985 г.
С английским продюсером Дэвидом Паттнэмом.
1985 г.
С писателем Валентином Распутиным на ретроспективе фильмов
Э. Климова в Академии Искусств в Берлине.
Март 1987 г.
1986 год — первый год секретарства в Союзе кинематографистов.
С Клаудией Кардинале, предполагаемой Маргаритой
в предполагаемом итало-советском фильме «Мастер и Маргарита».
1972 г.
В Лос-Анджелесе на переговорах по фильму «Мастер и Маргарита».
Оператор Алексей Родионов, Элем, Герман, Раиса Фомина,
представитель «Мосфильма» Анатолий Рассказов,
художник Виктор Петров.
1989 г.
В Израиле на выборе натуры к фильму «Мастер и Маргарита».
Справа оператор Алексей Родионов и художник Виктор Петров.
С Джульеттой Мазиной.
1987 г.
Серебряный бор. С художником В.Петровым и Г.Климовым
во время работы над сценарием «Мастер и Маргарита».
Декабрь 1988 г.
Серебряный бор. Идет работа над режиссерским сценарием фильма
«Мастер и Маргарита». Слева художник Виктор Петров.
Декабрь 1988 г.
С Ванессой Редгрейв и Джулией Кристи.
Лондон. 1985 г.
Слева направо: С.Бондарчук, Э.Климов, Ф.Феллини,
А.Камшалов, Р.Де Ниро.
1987 г.
С Джейн Фонда.
1987 г.
С Глебом Панфиловым в Берлине.
1988 г.
Братья Климовы на чествовании Грегори Пека.
Лос-Анджелес. 1989 г.
гадочных мест, таинственных периодов, но короткая фильмография ни за¬
гадкой, ни тайной не является. Публикуемые сценарии, замыслы, оставши¬
еся короткими набросками, замыслы, о которых остались лишь воспомина¬
ния сотрудников, друзей, близких (например, эпопея, предшествовавшая
так и не случившемуся созданию сценария к мегафильму «Бесы»: задумы¬
валось 10 кинотеатральных серий!), - все говорит о том, что этот человек
не знал творческих и интеллектуальных простоев, как бы ни трактовать
молчание последних лет его жизни.
В малокартинье крупных художников загоняла система: фильмы сдава¬
лись месяцами, не выпускались годами, разрешения на запуск в производ¬
ство добивались десятилетиями. Для сравнения — «статистика» Тарков¬
ского и Авербаха. За 35 лет профессиональной деятельности Андрей Тар¬
ковский снял 8 фильмов, Илья Авербах — 7. Оба прожили только 56 лет, и
ни один не пожертвовал ни годом своей жизни на общественную работу.
Путь больших художников при советской власти был крестным путем.
Что уж тут говорить.
Вспомним, как он выглядел у Элема Климова.
Он начинал как дитя счастья, надежд, везения.
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ¬
ЩЕН» (1964) снят по сценарию тандема драматургов Семена Лунгина и
Ильи Нусинова. Картину по сей день регулярно показывает телевидение. Ее
давно уже следует считать народным фильмом, а одного из персонажей —
нелепого пацана со скособоченным ртом «А чегой-то вы тут делаете?» —
мифологической фигурой русского национального менталитета. Этот
фильм — по-настоящему молодая комедия, озорная, веселая, острая. Речь
здесь о забавном бунте малышей в пионерлагере против унылого директо¬
ра-бюрократа «товарища Дынина», сыгранного Евгением Евстигнеевым в
традициях и на уровне лучших достижений актерской школы МХАТа. Ко¬
мизм основан на том, что дети реализуют свои намерения в формах взрос¬
лого общества. С одной стороны, герой картины десятилетний Костя
Иночкин ведет свое «сопротивление» против директора-чинуши по образу
и подобию антифашистских фильмов, которых он насмотрелся, наверное,
вдосталь. С другой — дети с легкостью подхватывают конъюнктурные рас¬
поряжения «товарища Дынина» и герой в охотку рядится в костюм, дол¬
женствующий изображать початок кукурузы: в стране бушевала кукуруз¬
ная страда. В своем первом фильме Климов воспользовался художествен¬
ной формулой, которой охотно пользовались советские кинематографис¬
ты-шестидесятники: здесь мир увиден глазами ребенка, естественного, не
деформированного общественными условностями и установлениями су¬
щества, но склонного к игре, фантазии, преувеличению.
Когда режиссер снимал, озвучивал, монтировал свой фильм-первенец,
он был счастлив и относительно свободен. Когда принес его сдавать на¬
чальству, открылись первые страницы его хождений по мукам.
«Нормальная антисоветская картина» — такой вердикт вынесли в Госки¬
но. Но затолкать «на полку» не решались: все же оттепель еще не сдала по¬
зиции. В течение нескольких месяцев картину возили по ведомствам, пока¬
зывали на одном верху, на другом, на третьем... Так он доплыл до самого-
самого верха: на даче его посмотрел тот, кого начальники поменьше боль¬
ше всего боялись, — верховный кукурозовод страны Никита Сергеевич
Хрущев. Хрущев смеялся, ему фильм понравился. И тогда все покатилось
с горки вниз, у картины в официальных кругах обнаружилось множество
сторонников и даже почитателей. Хор грянул здравицу. Корифеи тогдаш¬
него кино сулили Климову светлое будущее режиссера-комедиографа.
На следующий год Климов опять снял комедию — «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА» (1965). На этот раз он ставил сценарий Александра
Володина, чрезвычайно авторитетного автора-драматурга 50-60-х годов.
Здесь история и вовсе фантастическая. Ее герой — молодой дантист Чесно¬
ков (его играл Андрей Мягков) — странноватый, стеснительный, немного
несуразный, на деле же, как и дети из первого фильма, человек чистый, ре¬
шительный, бескомпромиссный. У него волшебный дар: Чесноков рвет зу¬
бы без малейшей боли, за что его обожают страдальцы-больные и ненави¬
дит пошлое провинциальное окружение, прежде всего начальнички и кол¬
леги. Брызжущее веселье картины «Добро пожаловать» сменилось в этом
фильме резкостью, порой беспощадностью, сатирических красок, перебив¬
кой которым служили песни-зонги в исполнении молодой Алисы
Фрейндлих.
За картиной последовал очередной перегон дороги по мукам. Позже
Климов понимал, что это закономерно, что иначе и быть не могло, но ни
юлить, ни выстраивать стратегию приспособления он органически не был
способен. «В момент, когда в искусстве, в культуре (да и разве только в
культуре!) разворачивалась неистовая, героическая битва за искоренение
всего талантливого, неординарного, мы выходили с притчей о том, как в
одном провинциальном городишке губят зубного врача с редким даром без
боли рвать больные зубы. Ну как дать зеленый свет такому фильму?» (Из
интервью с В. Фоминым.) Он вроде бы даже входил в положение своих го¬
нителей, но в застойном болоте квакать не собирался.
Пять лет молодой, полный сил художник не может дорваться до камеры.
Все его предложения, разработки, наметки с ходу перечеркиваются. Его
строптивость настораживает начальников даже тогда, когда Климов пред¬
лагает самые, казалось бы, невинные замыслы. Например, экранизацию
«Левши». Удалось проскочить с самым нейтральным материалом.
«СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ» (1971) в некотором смысле семейная рабо¬
та: сценарий написан братом Германом, в недавнем прошлом чемпионом
СССР по легкоатлетическому десятиборью. В новелле «Песня про купца
Калашникова» московскую царицу играет жена режиссера Лариса Ше¬
питько, тоже режиссер. Фильм представляет собой сочетание игрового
материала и монтажа документальных фрагментов. Драматургически эпи-
зоды соединены комедийным приемом: фильм развертывается как серия
побасенок, рассказанных бывалым человеком — старым спортивным мас¬
сажистом. Ударные «главы» этой причудливо-насмешливо-восхищенной
повести — рассказ о возвращении в спорт после автокатастрофы олимпий¬
ского чемпиона по прыжкам в высоту Валерия Брумеля; триумф черноко¬
жего Джесси Оуэнса на Олимпиаде в Берлине 1966 года; победный фи¬
ниш Хуберта Пярнакиви, пробежавшего 10 тысяч метров в удушливом
сан-францискском смоге. В качестве лирического комментария звучат сти¬
хи Беллы Ахмадулиной в авторском исполнении.
Конечно, и тут не обошлось без проблемы. В авторском варианте был за¬
бавный эпизод, построенный на хронике начала прошлого века. Массажист
хвастается, что именно он обратил в писательство графа Льва Толстого.
Далее следовал монтаж известных сюжетов хроники: Толстой верхом, Тол¬
стой осваивает велосипед и т.д., а за кадром Толстой «произносит» текст,
из которого следует, что именно спорт сделал его писателем. «Приемщи¬
ки» фильма сочли этот сюжет профанацией одной из главных святынь рус¬
ского национального пантеона, к тому же «матерого человичища» и «зер¬
кала русской революции». Пришлось графа изъять. Но в отличие от двух
первых картин, «Спорт, спорт, спорт» шел в широком прокате, участвовал
во множестве фестивалей спортивного кино, наполучал кучу наград.
«...Фортуна как будто подобрела, — комментировал впоследствии этот са¬
мый благополучный эпизод своей жизни Элем Климов. — Мне словно по¬
давали знак, как следует себя вести, чтобы все в жизни шло хорошо и глад¬
ко. В следующий раз выбери тему еще спокойнее, еще нейтральнее, осо¬
бенно на многое не претендуй, уважай и слушай начальство, и цены тебе не
будет! Но я из этой истории сделал свои выводы...» (Из интервью с В. Фо¬
миным.)
Следствием этих «своих выводов» была «Агония ». Три года он добивал¬
ся ее запуска и еще шесть ждал, когда она отлежит свой срок на злополуч¬
ной «полке». Наряду с «Андреем Рублевым» это был самый скандальный
запрет в послевоенном советском кино.
Этот первый долгий промежуток режиссерской биографии Климова, во¬
преки внешнему впечатлению, не был мертвым временем. Его фантазию
распирали многочисленные замыслы, вместе с братом они написали сцена¬
рий для своего второго фильма, который, однако, не случился. В этой кни¬
ге он публикуется («Вымыслы»). Поставил телевизионный фильм «Ново¬
годняя сказка» (1968), вместе с Марленом Хуциевым завершил оставший¬
ся в материале после смерти М.И. Ромма документальный фильм, который
они назвали «...И все-таки я верю» (1974). В эти годы творческий мир Эле-
ма Климова формируют два основных направления - игра сказочно-фан¬
тастического воображения и острый интерес к объективности, безусловно¬
сти документального изображения.
«АГОНИЯ» (1975-1981) - грандиозная фреска-фантасмагория о закате
Российской империи. Фильм снят снова по сценарию Лунгина и Нусино-
ва. Его основной сюжет — последний год жизни Григория Распутина —
царского фаворита, народного лекаря и самозваного политика. Но прежде
всего великого мистификатора. На роль Распутина Климов выбрал в ту по¬
ру малоизвестного молодого ленинградского актера Алексея Петренко,
ныне одного из крупнейших русских артистов театра и кино. Тема и назва¬
ние фильма определяют и его причудливую стилистику — лихорадочные
деформации изображения, вздыбленность ритмов, цветовая и пластичес¬
кая избыточность. Игровые, актерские куски прослаиваются хроникаль¬
ными кадрами и фрагментами старых художественных фильмов, обрабо¬
танных под хронику. Они даны как объективный, документальный камер¬
тон хитросплетениям дворцовой интриги и перипетиям распутинской
одиссеи. Время показало, что у «Агонии» огромный запас прочности: про¬
лежавшая семь лет мертвым грузом в закромах Родины, картина, едва ее
выпустили в мир, получила награду самых взыскательных судей — кино¬
критиков: с Международного кинофестиваля в Венеции 1982 года Климов
увез премию ФИПРЕССИ.
Этот приз случился в самый страшный период жизни Элема. 2 июля
1979 года страшно погибла Лариса Шепитько: ее и пятерых ее товарищей
по съемочной группе фильма «Прощание с Матёрой» на трассе раздавил
большегруз. Внешне казалось, что Климова поразил столбняк, на самом де¬
ле он проходил сквозь свою трагедию, ведомый той стальной волей, о кото¬
рой здесь уже шла речь. Еще не наступил девятый поминальный день, а он
уже знал, что снимет картину, которую готовилась снять Лариса. Спустя
неполные две недели после похорон он уже приехал в экспедицию с новы¬
ми сотрудниками и отдельными новыми исполнителями.
«ПРОЩАНИЕ» (1983) — экранизация повести очень тогда почитаемого
писателя-деревенщика Валентина Распутина. Повесть называлась «Про¬
щание с Матёрой», но Климов сократил ее название, придав ему более
обобщенный и очень личный смысл. До этого никогда не работавший над
сельским материалом, в сущности, не знавший деревни, Климов вынужден
был на ходу, без всякого подготовительного периода включиться в труд¬
нейшую работу. Картина рассказывает о выселении жителей сибирской де¬
ревни с обжитых мест - с острова Матёры, потому что из-за строящейся на
реке гидроэлектростанции остров «подлежит затоплению». Героиня филь¬
ма — старая крестьянка, которую с библейским величием играла белорус¬
ская актриса Стефания Станюта, необычайно остро ощущает нерасторжи¬
мость связи с малой родиной - своим домом и своей деревней. Последнее
лето Матёры предстает в «Прощании» в стилистике, содержащей элемен¬
ты языческой ритуальности русского крестьянства с ее пантеизмом, маги¬
ческой самопогруженностью и строгой классической завершенностью.
Одновременно с экранизацией прозы В. Распутина Элем снял докумен¬
тальный фильм-реквием по погибшей жене «ЛАРИСА» (1981). Это его
второе прощание с дорогим человеком было удостоено Главной премии ки¬
нофестиваля в Мангейме (ФРГ).
«ИДИ И СМОТРИ» (1985) — последняя кинематографическая работа
Климова — снята по произведениям белорусского писателя Алеся Адамо¬
вича. Название взято из евангелического текста — из Откровения св. Ио¬
анна Богослова. Этот фильм раскален протестом против войны, расовой
ненависти, насилия и жестокости. Против убивания людей людьми же.
Масштаб этой работы определен не только характером рассказанной в ней
истории и ужасными судьбами ее героев. Так же, как и в «Прощании», ав¬
торские мысль и воображение взмывают в сферы метафизические. «Иди и
смотри» — фильм об обличьях Зла, о хрупкости, но и неуступчивости До¬
бра. Эмоциональный накал фильма, его смысловые акценты воздействуют
таким образом, что произведение оказывается в той же мере взятым из
прошлого, что и обращенным в будущее. Этим фильмом кончается реаль¬
ная режиссерская биография Климова.
Все говорит о том, что потрясшая его трагедия пробудила в Элеме Кли¬
мове влечение к запредельности, к пространствам потусторонним и выс¬
шим. Он заглянул в бездну, она его испугала, но она же его и околдовала.
А вообще-то при внимательном всматривании пусть не бездны, но «без-
дночки» (словечко Достоевского) угадываются во всех картинах режиссе¬
ра, даже в ранних, как будто совсем веселых и совсем беззаботных. В «Аго¬
нии», «Ларисе», «Прощании», «Иди и смотри» чувствуется присутствие
художника-мистика. В нереализованных «Бесах» по Ф.М. Достоевскому, в
непоставленном сценарии «Мастера и Маргариты» бездны разверзлись бы
еще шире. В этом нет сомнения.
В мае 1986 года Элема Климова выбрали председателем Союза кинема¬
тографистов СССР. Под его водительством союз много сделал. И самое
главное, он превратился в показательную модель демократической струк¬
туры. Правда, не до конца и не слишком надолго. Но это отдельная тема, и
другие люди говорят по этому поводу в этой книге.
И вообще, чегой-то вы тут читаете, статья-то кончилась.
2005 год
Армен Медведев
Имя Элема Климова
забвению неподвластно
Чем больше я вспоминаю Элема Климова, тем яснее в его необычайно
блистательно талантливой личности, одной из крупнейших в XX веке,
прорисовываются черты трагические. Это был интеллектуальный чело¬
век, уникального достоинства, кристальной честности, несуетности. Тра¬
гически насыщенный. И я для себя пытаюсь понять природу этого трагиз¬
ма. Конечно, в жизни Элема было много трагических потерь и событий.
Это — гибель его жены Ларисы Шепитько, это — судьба почти всех его
фильмов, в особенности принципиально для него важных. Это судьба его
замыслов, список которых завершился «Мастером и Маргаритой». Но,
как ни странно, по-моему, дело даже не вполне в обстоятельствах его жиз¬
ни и творческой биографии. Дело в самом складе его мироощущения.
Элем был из тех редчайших людей, которые искренне и свято верят в
цельность мироздания. И очень тяжело переживают, когда эта цельность
рушится у них на глазах.
Элем это не раз в своей жизни переживал. И всякий раз из обломков ста¬
рого пытался сложить нечто новое. Я не берусь здесь обозначить в его судь¬
бе какие-то точные временные циклы, но это была его судьба — верить,
опять и опять переживать крушение надежд и идти на попытку восстанов¬
ления надежды, целостности и гармонии. Недаром после V съезда Союза
кинематографистов 1986 года, когда он возглавил союз и начал работу над
новой моделью нашего кинематографа, то в процессе этой сложнейшей ра¬
боты самым ненавистным словом для него стало слово «фрагменты», или,
как он говорил, «фрагментики». И недаром он все повторял: «Где же целое,
общее, где модель?»
Смею предполагать, что это стремление к целостности везде и во всем
скрыто где-то в недрах его биографии. Что есть детство Элема? Это восста¬
новление после войны разрушенного Сталинграда, его родного города. Мо¬
жет быть, именно в тот период он поверил, что из обломков необходимо и
возможно сложить нечто целое, гармоничное и прекрасное? Далее — его
приход в искусство. Он пришел в кино на рубеже 50-60-х из авиастроите¬
лей, в обстоятельствах для тех лет неоригинальных: Тарковский — из вос¬
токоведения, Шукшин — из учительства, Иоселиани — из математики.
Элем пришел после Московского авиационного института, даже не отрабо¬
тав положенных лет, что создало некоторые сложности при его зачислении
во ВГИК уже после блестяще выдержанных им экзаменов. Периодически
возникают дискуссии: что такое шестидесятник, хорошо ли это — быть ше¬
стидесятником? Звучат и голоса, осуждающие это поколение, наше поко¬
ление. Для меня шестидесятник — это не звание, не направление деятель¬
ности. Это самоопределение поколения. Не надо никуда воспарять мыслью
или, напротив, углубляться в какие-то недра: 60-е — это просто годы, в ко¬
торые мы жили. Разумеется, шестидесятник шестидесятнику рознь, и я ни¬
когда не поставлю себя на одну доску с Элемом, но время у нас было одно
на всех. И это было время надежд, когда лопнуло старое идолоподобное от¬
ношение к жизни, стране, рухнул сталинский культ личности и из-под об¬
ломков засветил свет. Свет надежды. И для Элема в высшей степени.
Я вспоминаю первую вгиковскую работу Климова «Жиних». Если бы
был какой-нибудь всемирный конкурс на высшую материализацию чисто¬
ты и надежды, то этой картине, если бы это зависело от меня, присудили бы
первое место. Перенести историю Ромео и Джульетты в первый класс со¬
временной тогдашней школы и выдать такой ее сложный и одновременно
бесхитростный парафраз, такую вот оду радости — в этом весь Элем, веря¬
щий в силу, красоту и гармонию мира. Эта цельность, победительность
взгляда на мир была и в других его студенческих картинах «Смотрите —
небо!», «Осторожно: пошлость!». И конечно, в первой его полнометраж¬
ной, дипломной работе, ставшей абсолютной классикой, воспринимаемой
удивительно современно и сегодня, спустя сорок лет, — «Добро пожало¬
вать, или Посторонним вход воспрещен!».
Конечно, трудно понять со стороны, сколько пришлось выдержать Эле-
му за его жизнь как художнику. У Алексея Толстого, кажется, есть выска¬
зывание о том, что в Африке человеку для того, чтобы погибнуть, нужна пу¬
ля, а в Париже, бывает, достаточно и слова. Поэтому можно лишь догады¬
ваться, что могло значить для Элема одно недоброжелательное слово или
замечание по его картине. Хотя, если смотреть, судить со стороны и в срав¬
нении с тем, что пришлось ему пережить потом в связи с последующими
его фильмами, «Добро пожаловать» прошла относительно легко.
Тридцатилетний Элем был сразу же принят в круг мастеров нашего ки¬
но, о нем стали писать, говорить, это все так. Потом были «Похождения
зубного врача», фильм, которым сам он был недоволен. И если говорить
уже о драматизме, связанном с выходом его картин, то это, конечно, исто¬
рия с «Агонией». Как это ни парадоксально, но и эту картину он делал о
цельности мира и о той злой силе, которая способна обволакивать красоту
мироздания. И разорвать эту злую силу — тоже означает победу той самой
цельности. Ему навязывалась идея снять картину о революции к ее 50-ле¬
тию, о последних днях правления последнего императора России, но он де¬
лал свой фильм совсем не про это. И как известно, «Агония» увидела свет
спустя почти двадцать лет...
А история с созданием «Иди и смотри»? О том, что довелось пережить
Элему тогда, на протяжении нескольких лет, когда картину не раз закры-
вали, известно достаточно, в том числе и им самим рассказано в печати.
Это мучительная история, закончившаяся для него болезнью в прямом
смысле слова. Такую мощнейшую и трагичнейшую картину о войне мог
снять именно человек, детство которого связано с не равнодушным, а сер¬
дечным созерцанием картины разрушенного, разваленного мира огромно¬
го города, где он родился и жил. Только такой человек мог так глубоко по¬
нять войну как всеобъемлющее, бессмысленное, всеохватывающее зло, как
опять-таки ту злую силу, которая пытается разрушить мир и цельность бы¬
тия. Первоначально картина называлась «Убейте Гитлера». Убейте Гитле¬
ра в себе — это имел в виду Элем. Наивно? Может быть. Но и в этом про¬
явились его честный, прямой взгляд на вещи, его удивительно цельное,
здоровое мироощущение. Ему говорили: «как это — Гитлера в себе»? А во
мне нет никакого Гитлера!» К сожалению, не получилась задуманная им
ключевая, важнейшая для него сцена «кругового боя» на горящем острове
под заходящим солнцем, когда уже непонятно, кто кого убивает... И в «Ма¬
стере и Маргарите» его интересовали не забавные похождения воландов-
ской свиты, а сила сатанизма, разрушающая целостность мира, — потому и
ввел он в самом начале фильма сцену взрыва храма Христа Спасителя.
Цельность, прямота, честность были главными качествами Элема. Пото¬
му и так логично было видеть его на посту первого секретаря Союза кине¬
матографистов. Да, теперь это не секрет, что его вызывали в ЦК КПСС, го¬
товили, так сказать, на эту должность, съезд ничего не знал. С недавних пор
стало модным всячески критиковать и V съезд, и деятельность Элема, и его
последовавший спустя два года добровольный уход со своего поста. Но я
снова вернусь к этой потребности Элема восстанавливать. Советское кино,
что бы там ни писали, ни говорили, было к 80-м годах разрушено оконча¬
тельно. Оно стало дотационным, основные кассовые сборы делали зару¬
бежные фильмы (вспомним острую нашумевшую газетную статью тех лет
«Зачем пришла к нам «Анжелика»?»). По меткому слову одной дамы-кри¬
тика, наше кино впервые за свою историю стало провинциальным. Лучшие
советские картины были созданы не в 80-е годы, а раньше. Наши кинема¬
тографические «генералы» отметились в 80-е фильмами, каждый из кото¬
рых, не будем называть, для каждого из них был если не падением, то ша¬
гом назад. И кстати, что касается Элема, он «генералом» не был, но он-то
как раз в эти годы снял шедевры — «Иди и смотри», получивший главный
приз Московского международного фестиваля в 1985-м, и «Прощание»,
снятое им в память о Ларисе, вместо Ларисы, — еще раньше, в 1980-м.
Состояние советской кинематографии в 80-х — это была катастрофа,
Элем воспринимал ее как личную, потому что все, связанное с нашим ки¬
но, с его историей, с его славными именами, было для него свято и дорого,
и катастрофу эту он переживал очень сильно. Советский кинематограф —
это было то, в чем он вырос, что любил, и думаю, он и согласился возгла¬
вить союз, веря в возможность его возрождения и возрождения нашего ки¬
но, которое, по-моему, ощущается только лишь сегодня. Я в те годы как раз
был по некоторым важным вопросам оппонентом Элема, и даже предлага¬
лось из-за этого исключить меня тогда из союза. А теперь я являюсь одним
из, мне кажется, очень немногих людей, понимающих, что все, что произо¬
шло на V съезде, было необходимо. Это было нашей верой, счастьем, судь¬
бой. Другое дело, это было часто очень наивно. Например, везде, во всех ре¬
формах и начинаниях «просвечивал» принцип — чтобы государство дава¬
ло деньги, но при этом ни во что не вмешивалось. Этот принцип проник
и в другие сферы нашей жизни. Но это же невозможно, тем более в ки¬
нематографе, который напрямую завязан с производством, со множест¬
вом людей, который в конечном итоге и не может быть чистым творчест¬
вом, потому что и сам по себе — производство. Поэтому, когда государст¬
во рушится — то в большей степени, чем в других видах искусства, это гу¬
бительно сказывается на кинематографе. Так и случилось в конце концов.
Но при чем здесь Элем? Говорили, что он жесток, беспощаден, негибок.
Непримирим — да. Он был непримирим, потому что раньше других уви¬
дел, понял, что люди, которым он верил, которых любил, ради которых все
кардинальные перемены и задумывались, и свершались, не очень-то и хо¬
тят этого. Зато очень многого хотят каждый лично для себя. Элем называл
это свое понимание «отравлением человеческим фактором».
Я начал с того, что Элем — фигура трагическая. Если бы он был отстра¬
нен от времени, был равнодушен к нему, если бы он нашел в нем свою ни¬
шу — ему было бы легче жить. А все трудности, потери его жизни были бы
просто фактами его биографии, а не проявлениями этой общей изначаль¬
ной трагичности его не биографии — судьбы. Он верил в этот мир. Было в
нем это — «соберем и восстановим», и жило до самого его ухода из жизни.
Соберем и восстановим. А когда он окончательно понял, что мир обманул
и опять обманет, вот тогда-то дверь и закрылась им, и он остался один с са¬
мим собой. Да, не пускал никого, не хотел пускать. Но ни в коем случае не
должно быть у каждого из нас, кто был близок к нему, самооправдания.
Элема можно и нужно понять. Но и свою вину найти, не забывать тоже
нужно.
То, что читатель прочтет в этой книге, — это Климов нереализованный.
Можно говорить теперь о чувстве вины перед ним, о том, что, когда он
ушел из кабинета на Васильевской, устранился от всего, нужно было бы
стучаться к нему, звонить... Но мне думается, он бы никого и не пустил, по¬
тому что снова обрел тогда свой мир и ту самую его цельность, к которой
всегда стремился.
В последние годы мы крайне редко его видели и слышали. Но при этом
подсознательно была и осталась, по крайней мере у меня, некая оглядка на
него: а что бы он сказал, как бы поступил? Думаю, что и дальше он будет
беспокоить нас, как Россия беспокоит весь мир... Имя Элема Климова, я в
этом убежден, забвению не подвластно.
2005 год
Андрей Плахов
Последняя жертва
Элем Климов был не только лидером кинематографической перестрой¬
ки в России, но и одним из важнейших режиссеров своего поколения. То¬
го самого, к которому принадлежали и старший на год Андрей Тарковский,
и на четыре —Василий Шукшин, и младшая на пять лет Лариса Шепитько:
их объединяло то, что все они — «дети войны». Это была вторая волна, рас¬
шатавшая основы тоталитарного кинематографа. Первыми это дело нача¬
ло поколение фронтовиков, но вскоре они интегрировались во вторую вол¬
ну, более радикальную. Судьба оказалась почти ко всем жестока: Шукшин
умер в сорок пять, Тарковский дожил до пятидесяти четырех, Шепитько
погибла на самом взлете, когда ей было едва за сорок. Климов пережил их
всех, но жизнь эта оказалась не менее трагичной.
Его ранние фильмы — шестидесятнические комедии или полукоме¬
дии: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Похож¬
дения зубного врача» — до сих пор любимы народом. Его поздние кар¬
тины любить сложнее, но не уважать нельзя. Первой фирменно кли¬
мовской киноработой стала «Агония». Это кино об импотенции власти
и всегда гуляющих рядом бесовских силах, толкающих Россию на тота¬
литарный путь. С нее для режиссера началось хождение по мукам. Уже
отснятая картина подверглась множеству переделок и купюр. Ее неод¬
нократно снимали «с полки» и объявляли о выпуске в прокат, но каж¬
дый раз, словно по мановению костлявой руки Распутина, укладывали
обратно. Когда фильм наконец увидел свет в изуродованном виде, он
уже не мог стать сенсацией.
С тех пор «легкая муза» совсем перестала окрылять режиссера: его жан¬
ром стал трагический эпос. Лариса погибла, едва приступив к съемкам
«Прощания с Матёрой». Эту картину снял Климов, и она принадлежит им
обоим. Он прощался не только с патриархальным микрокосмом уходящих
традиций, но и с обостренно модернистским миром Ларисы Шепитько.
При советской власти Климов успел снять еще один фильм — «Иди и смо¬
три». К тому времени лучшие мастера в лице Тарковского и Германа пре¬
вратили образ войны из монументального в интимный. Климов, делая свое
«Иваново детство», возвращает войне утраченную грандиозность. Но это
грандиозность не батальной героики, а тотального безличного зла. В одном
недавнем английском фильме, посвященном проблеме насилия среди со¬
временных подростков, зачином служит сцена школьного урока: учитель
объясняет психологический механизм насилия на материале климовского
«Иди и смотри».
В 1986-м Климов становится мотором кинематографической перестрой¬
ки. Ее пафос был чисто романтическим. Ее деятели взялись соединить не¬
соединимое: провозгласили рыночную реформу в киноиндустрии и в то же
время пытались возродить мечту революционного авангарда об идеальном
искусстве и идеальном зрителе. Для них стало полной неожиданностью,
когда публика потребовала грубых зрелищ, а кинематографисты стали
снимать ей на потребу.
Тем не менее революция на V кинематографическом съезде не была
напрасной. Она освободила кинематограф от догм и запретов. И она
обеспечила как минимум десятилетие практически неограниченной
свободы. Как ею воспользовались кинематографисты, привыкшие тво¬
рить в позиции перманентного сопротивления или попыток обмануть
цензуру, — другой вопрос. Практически все старшее поколение режис¬
серов, а за ним и среднее увязло в затяжном творческом кризисе. Ис¬
ключения лишь подтверждают правило. А казус Климова словно на¬
рочно был придуман для того, чтобы подвести черту под советским ки¬
но и принести его богам последнюю жертву.
У него было все, чтобы поразить человечество каким-то грандиозным до¬
стижением. Талант. Опыт. Бескомпромиссность. Плюс административный
ресурс и внимание всего мира, загипнотизированного перестройкой. Его
«Мастера и Маргариту», другие суперпроекты готов был в ту пору легко
финансировать Голливуд. Но Климов так к ним и не подступился. Доста¬
точно скоро он ушел в тень с общественной арены, предпочтя одинокое,
почти затворническое существование.
В течение двух лет активной фазы перестройки мы виделись с
Элемом Германовичем практически каждый день — на секретариате, в
который он меня пригласил, на бурных заседаниях Конфликтной
комиссии, в зарубежных поездках. Никогда не забуду, как в Праге (там
еще царил махровый социализм) после официозной встречи к нам,
крадучись, подошла Вера Хитилова и тайно, под покровом ночи, увела
в свой дом, где собрались чешские кинематографисты-диссиденты.
Авторитет Элема среди них был незыблем: в нем видели надежду
меняющегося мира, человека, олицетворяющего совесть и высокие
моральные принципы. Но как только «процесс пошел», Климов
предоставил рулить и верховодить другим: в этом тоже был его
жизненный принцип.
Это единственный из кинематографистов, кто не поимел от перестройки
никаких дивидендов — ни студий, ни домов, ни должностей, никакой соб¬
ственности. И он единственный, кто действительно пострадал как худож¬
ник — а отнюдь не низвергнутые с пьедестала советские божки. Те продол¬
жали работать, хотя давно прошли свой творческий пик, и считали себя
жертвами чуть ли не якобинского террора. Жертва Климова, находившего¬
ся на взлете, в апогее творческой формы, была абсолютно добровольной, а
его выбор — свободным. Будучи на самом верху перестроечной пирамиды,
он первым почуял гниль в ее основе. И не захотел участвовать в ее стреми¬
тельном оползании в потребительство. Он остался идеалистом, и в царстве
прагматиков ему было делать нечего.
2007 год
Валерий Фомин
Непобежденный
Ночные разговоры с Элемом Климовым
В брежневские времена писать о Климове было, по сути дела, запреще¬
но. Все прекрасно знали: нет такого режиссера. Негласный запрет работал
безотказно.
В эпоху горбачевской гласности, когда Климов вдруг оказался в фаворе
и возглавил мятежный Союз кинематографистов СССР, писать о нем ста¬
ло как бы неприлично — того и гляди, обзовут лизоблюдом.
С неожиданным уходом с поста лидера СК Климов опять оказался в глу¬
хой тени. Когда в июле 1993-го ему стукнуло шестьдесят, юбилей выдаю¬
щегося русского режиссера и недавнего киновождя никто не заметил. Тог¬
дашним властям он стал «до фени» — даже Ельцин постарался забыть, кто
и где давал ему трибуну для пламенных антигорбачевских спичей. Что до
молчания болтливой критической братии — и тут загадок не было. Климов
не снимал, не устраивал презентаций, скандалов вокруг него — никаких.
Хотя именно то, что такой могучий, видный человек, режиссер милостью
Божьей вдруг ушел в тень и не снимает, — и было скандалом. Причем вы¬
сочайшей степени. Вот тут-то я и порешил, что самое мне время браться за
Климова всерьез...
Сам исчезнувший с киногоризонта режиссер отнесся к интересу к его-
персоне с моей стороны, мягко сказать, с ледяной прохладой. Достаточно
сказать, что более года длилась телефонная осада и на все настойчивые
просьбы и страстные моления о встрече, о разговоре неизменно следовал
жесткий и безоговорочный отказ. Лишь когда я, не выдержав, пожаловал¬
ся своему начальнику, тогдашнему директору НИИ киноискусства Алесю
Адамовичу, что его ближайший друг и соратник срывает подготовку цент¬
рального материала для книги «Кино и власть», неприступную крепость
наконец удалось взять.
Первая серия наших разговоров состоялась в июне 1993 года, причем
свидания наши по воле (просьбе) Элема Германовича происходили исклю¬
чительно по ночам. Случилось их тогда сразу пять или шесть подряд, в ре¬
зультате чего у меня оказалась целая коллекция магнитофонных записей.
Некоторые из фрагментов этих ночных разговоров я положил в основу
данной публикации вперемежку с собственными воспоминаниями.
Без воспоминаний мне, увы, никак не обойтись, хотя, как явствует из
предыдущих строк, я никогда не был близок с Климовым, не входил в его
окружение, тем более в число его истинных и даже мнимых друзей. И тем
не менее без личных слов и интонаций мне в данном случае невозможно.
Дело в том, что — уж признаюсь сразу — за сорок лет пребывания в кине¬
матографической среде судьба подарила мне достаточно встреч, знакомств
и даже дружб с поистине замечательными людьми и мастерами кино. Но
вышло так, что сердце мне разбил именно Элем Климов.
Случилось это давненько, еще в годы моей учебы во ВГИКе, на блиста¬
тельной защите дипломной работы Климова — знаменитого ныне фильма
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». В ту пору (начало
60-х) преотличные дипломные работы — иные ныне стали классикой — шли
просто косяком. Достаточно сказать, что Андрон Кончаловский защищался
«Первым учителем», Булат Мансуров — «Состязанием», Лариса Шепить¬
ко — «Зноем», Виктор Туров — фильмом «Через кладбище». Но даже на
этом фоне фильм Климова сразил меня просто наповал. Рискованное соче¬
тание антисоветчины, невыговариваемой крамолыцины с какой-то неверо¬
ятной легкостью и озорством изложения тогда настолько поразили вообра¬
жение, что я впервые в своей жизни, преодолев страх и профессиональную
неумелость, сподобился написать рецензию и даже опубликовал ее в туль¬
ском «Юном коммунаре». Но несопоставимо больше, чем фильм, меня про¬
сто оглушил и загипнотизировал сам его автор — высокий, сильный, неотра¬
зимо обаятельный, весь какой-то светящийся, словно летящая комета в бес¬
просветном ночном небе. Поскольку защита диплома для Климова оберну¬
лась защитой в самом прямом смысле этого слова, особенно поразила его
прямота и непоколебимая твердость в ответах на щекотливые вопросы. По
законам отработанного вгиковского жанра, а уж по условиям тех времен тем
более, выпускнику, ожидающему получения государственного диплома, сле¬
довало бы вести тебя как-то менее осанисто, быть помягче и поделикатнее в
выражениях, а еще лучше, чтоб совсем на пятерку, еще и повилять хвостиком
перед суровой комиссией. Климов эту привычную холуйско-предохрани¬
тельную стилистику поведения не принял, был резок и прям в своих ответах.
И позднее, в насквозь лживой и протухшей атмосфере брежневского време¬
ни, Климов задал такую линию бескомпромиссного поведения, которая лич¬
но для меня стала самым настоящим образцом — столь же недосягаемым,
сколь и притягательным. Конечно, были мне ведомы тогда и другие приме¬
ры высокого поведения, но они приходили либо со страниц книг, из глубин
истории, либо из столь далеко отстоящих сфер тогдашнего бытия (Солжени¬
цын, генерал Григоренко), что невольно представлялись такими же вирту¬
альными художественными образами, что и герои литературы. А Климов бы-
л абсолютно свой, варился в нашей общей киношной буче, все его поступки,
фильмы, судьба были у всех на виду. И потому это был живой, конкретный,
жутко привлекательный пример того, что и на своем поприще можно не по¬
зориться, не прогибаться, не продаваться и еще много-много чего «не».
И всякий раз, когда жизнь загоняла в очередной тупик, когда, искушая,
власть подсовывала какой-то особо соблазнительный пряник и надо было
пожертвовать чем-то очень дорогим, в памяти, как красный свет на семафо¬
ре, вспыхивало магическое имя «Элем». И должен признаться, что этот не¬
ведомо откуда и кем посылаемый сигнал-предупреждение буквально огра¬
дил от изрядного числа сомнительных поступков. И это еще при том, что
достаточно долго, до середины 70-х, я не был со своим кумиром даже ша¬
почно знаком. Впрочем, его судьба и высокое поведение были видны и ока¬
зывали свое воздействие даже издалека. Думаю, не один я побывал в зоне
этого излучения...
КАК ХРУЩЕВА ДОСРОЧНО ХОРОНИЛИ...
Рассказывают, будто легендарный Борис Павленок (один из главных ко¬
стоправов советского кино, человек № 2 в иерархии киноначальников за¬
стойных времен), отчаявшись в своих попытках «исправить» неуправляе¬
мого Климова, однажды в сердцах заявил тогдашнему министру кинемато¬
графии Филиппу Ермашу: «Ну, пора уж с ним кончать (тра-та-та!). Неуже¬
ли не ясно?!»
Негодование ответственного блюстителя соцреалистической чистоты
понять было можно. С Климовым и в самом деле наши доблестные кино¬
начальники нахлебались по горло. Причем начались их страдания уже с са¬
мой первой его картины.
«Сценарий «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», —
вспоминал режиссер, — не сразу раскусили. Посчитали, видно, что это бу¬
дет такая легонькая, глуповатая комедия про детишек. Что-то такое «арте¬
ковское». Спохватились позднее, когда посмотрели первую партию отсня¬
того материала.
Хотя нас и запустили, небо над нами не было безоблачным. Произошла
острейшая схватка за Евстигнеева. Его ни в какую не хотели утверждать на
главную роль. Говорили: «Берите Пуговкина. Его зритель любит». И дей¬
ствительно, Пуговкин актер яркий, в народе очень популярный. Но когда
его стали навязывать, мне стало ясно, что доброхоты заботятся не столько
об успехе нашей картины, сколько на всякий случай хотят перестраховать¬
ся и соломку подстелить. Евстигнеев — актер острый, современный, с под¬
текстом. А с утверждением Пуговкина все в фильме неизбежно бы упрос¬
тилось. И какие уж тут подтексты...
Я уперся: «Не хотите утверждать Евстигнеева, тогда снимайте сами».
Студийных начальников тогда просто передернуло: «Ничего себе мальчик
к нам пришел работать! Его, можно сказать, осчастливили: дали без дипло¬
ма снять полнометражный фильм на главной студии страны, а он нам та¬
кие ультиматумы лепит...»
И все-таки утвердили. Но тут ВГИК встал на дыбы. Там вообще с само¬
го начала были категорически против того, чтобы я снимал «Добро пожа¬
ловать» в качестве дипломной работы. Ректор ВГИКа Грошев, вечная ему
память, стоял насмерть. Верно сообразив, что уж чего-чего, а пламенный
гимн в честъ пионерской организации я снимать не собираюсь, он во все
инстанции строчил протесты, требовал прикрыть это безобразие, пока еще
не поздно... И, видно, достиг своего.
После нашего возвращения из первой экспедиции комитет потребовал
показать отснятый материал. Набился полный зал редакторов. После
первых просмотров я уже более или менее представлял реакцию зрите¬
лей. А тут ни реплики, ни единого смешочка. Гробовая тишина, лишь ино¬
гда какие-то странные звуки раздаются — то ли рыдает кто-то, то ли хрю¬
кает... И так, при ледяном молчании, идет весь фильм...
Потом зажигается свет. Все так же молча, угрюмо встают и с каменными
лицами, не глядя на нас, уходят. Наверное, если бы сразу кто-то стал на нас
орать, ругаться, было бы легче. А тут этот лед, жуткое молчание нас всех
просто парализовало.
В холодном поту выходим из зала в длинный, мертвый коридор. Стоим.
Ничего сказать друг другу не можем, ничего не понимаем и не знаем даже,
что делать дальше. Вдруг какая-то дверь тихонечко приоткрывается. Выхо¬
дит один из редакторов — Игорь Раздорский. Настороженно оглядывается
и, делая вид, будто собирается прикурить, нервно дергаясь и постоянно ози¬
раясь, идет в нашу сторону. Подходит и, наклоняясь, шепчет мне в ухо: «По¬
трясающе смешная картина! Я оборжался...» И мгновенно уходит. Кафка!
Потом уже и высшее начальство посмотрело. Ну, тут все быстро проясни¬
лось. Один из комитетских деятелей — Сегеди — поставил четкий диагноз:
«Нормальная антисоветская картина». Кто-то посчитал, что картина анти-
хрущевская. Кто-то, толком не разглядев, пустил даже слух, что у нас в
иронически гротескном эпизоде сна героя похоронная процессия пенсио¬
неров несет портрет дорогого Никиты Сергеевича в траурной рамке!..
С перепугу не знали, что делать с картиной. Вроде бы ее куда-то еще во¬
зили, кому-то показывали. Но это уже все за моей спиной. Я был отстранен
и жил в полном неведении. В томительной неопределенности прошло не¬
сколько месяцев. Я оставался без диплома — в такой обстановке о защите
не могло быть и речи. Вдруг накануне майских праздников телефонный
звонок. В трубке восторженный патетический голос, почти вопль — Марк
Донской: «Элем, это ты? Я говорю с тобой, стоя на коленях! Мы только что
посмотрели здесь, в Болшево, твой гениальный фильм. Послали тебе теле¬
грамму. Немедленно приезжай!»
Потом трубку берет Юткевич, говорит уже более спокойно: «Элем, доро¬
гой, Марк прав. У вас прекрасная картина. Приезжайте скорее в Болшево,
мы вас все очень ждем!»
Я стою контуженный, ничего не могу понять. Все было так безнадежно,
и вдруг такой фортель. Случилось нечто на небесах?
Мы с Ларисой приехали в Болшево на электричке. Подходим к Дому
творчества. Высыпает толпа сплошных классиков. Меня обнимают, позд¬
равляют. Полный фурор!
Приехал Пырьев. Ему наперебой начинают рассказывать про мою карти¬
ну. Он не выдерживает: «Все. Иду смотреть». — «И мы пойдем! По второ¬
му разу...»
Все снова спускаются в зал. Картина идет на ура. Хохот беспрерывный.
Пырьев просто катается по полу.
Кончился просмотр, идем в столовую обедать. Вдруг несут огромный
торт. Марк Донской заказал в нашу честь. Мы с Ларисой режем этот торт,
разносим по столам. Ну, просто праздник души! Одно только неведомо: че¬
го это вдруг так все сказочно переменилось?
Вскоре узнаем. Оказывается, перед праздником наш «антихрущевский»
фильм у себя на даче посмотрел Хрущев. И будто бы смеялся, и будто бы
даже похвалил. И ничего «такого» не узрел...»
«МЫ, РЕДАКТОРЫ, ЦЕПНЫЕ ПСЫ КОММУНИЗМА...»
Итак, с первой картиной более или менее пронесло. Но, как говорится,
недолго музыка играла... Во-первых, бесшабашного генсека-кукурузовода
смели, и время стало поворачивать вспять. Во-вторых, сам Климов первую
и, кажется, последнюю улыбку Фортуны в его судьбе использовал весьма
своеобразно...
«После «Добро пожаловать» меня пригласил работать в свое объедине¬
ние Михаил Ильич Ромм, предложив конкретный сценарий — «Похожде¬
ния зубного врача» Александра Володина.
Володин к тому моменту, как мы начали с ним работать, ушел из театра.
Со скандалом. Каждую его новую пьесу кромсали со все большим остерве¬
нением. Он не выдержал и, как рассказывают, послал министру культуры
РСФСР авторучку с краткой запиской: «Пишите сами». И ушел из театра
в кино. Надо сказать, он от этого мало что выиграл. В кино его поджидали
держиморды еще более крутые. Конечно, история про то, как у человека
обнаруживается необычнейший талант, а все его дружно, по всем совет¬
ским обычаям затаптывают, не могла вызвать в стенах комитета особого
воодушевления. Никак не решались нас запустить. К тому же сценарий по¬
пал в комитет в конце 1964 года. Только что убрали Хрущева. От общей
смуты комитетские чиновники были в двойном перепуге. Всем редактор¬
ским войском тогда командовал Дымшиц. На обсуждении он изворачивал¬
ся, как уж: и либералом, высоким ценителем искусства очень хотелось про¬
слыть, и запустить нас было страшно. «У вас город Глупов... Вы принижа¬
ете и упрощаете простых советских людей». Потом вцепились и другие.
«Почему у вас герой не борец? Почему он неврастеничен?» Стали внушать,
что мы живем в таком обществе, где талант ценят и защищают, что в нем не
может быть завистников.
А там в команде спецы были отборные. Один из них — тот же Сегеди,
когда мы остались у него в кабинете с глазу на глаз, распахнул душу:
«Мы, редакторы, цепные псы коммунизма...» Но я в этом уже и сам успел
убедиться.
Я помню, на одном из таких обсуждений Володин уже не выдержал и по¬
сле выступления некоего Скрипицына саданул матом и хлопнул дверью.
Измотав все нервы, все же запустили. Но пока мы снимали, времена сов¬
сем переменились. Страна быстро откатывалась назад. В литературе, теат¬
ре, кинематографе — везде дружно, организованно, воодушевленно души¬
ли, давили все то живое, что успело народиться в период «оттепели». В ко¬
митете картину встретили в штыки...
По правде сказать, я и сам был не очень доволен фильмом. Сценарий Во¬
лодина мне очень нравился, но снимать его было очень трудно. Строго го¬
воря, это был никакой не сценарий — текст был записан в форме эссе, и
трудно было найти ему конкретный жанр, стиль, интонацию. Это была та¬
кая притчевая история — жанр по тем временам для нашего кино совсем
новый, неосвоенный.
К тому же я, как постановщик в этом фильме, замахнулся на сложные,
рискованные эксперименты со звуком, музыкой, пластикой и не во всем
вышел победителем. Не хватило для этого опыта, в частности, опыта рабо¬
ты с актерами. Но претензии ко мне, конечно, были совсем не по этой час¬
ти. Били совсем за другое.
В момент, когда в искусстве, в культуре (да разве только в культуре!)
разворачивалась неистовая, героическая битва за искоренение всего та¬
лантливого, неординарного, мы выходили с притчей о том, как в одном
провинциальном городишке губят зубного врача с редчайшим даром без
боли рвать больные зубы. Ну, как дать зеленый свет такому фильму?
На все лады пытались локализовать «несчастье». Особенно навалились
на финал. Фильм завершался тем, что удивительный дар, который пропа¬
дал у нашего героя, неожиданно открывался у его ученицы. Хеппи-энд!
Но мы давали понять, что все, что случилось с героем, неизбежно повто¬
рится и с его ученицей. Тут нас пытались поправить еще на стадии запус¬
ка. Дымшиц в заключении своем настрочил: «Было бы желательно, чтобы
авторы продумали финальную реплику Учителя и выстроили ее таким об¬
разом, чтобы не возникло впечатления обязательности неприятностей для
каждого талантливого человека». Теперь уже не советовали, а требовали.
«Выпустим фильм, если срежете часть финальной фразы с намеками на
повторение». Я отказался. На меня потом напустился Володин: «Да брось
ты! И так все ясно. Давай уберем!» — «Нет, ни за что...»
Начальство тогда просто озверело. Так-то нас отблагодарил за доверие?! «По¬
хождениям» дали третью категорию и соответствующий тираж — 25 копий на
весь могучий СССР. Фильм вроде бы и не запрещен, но зато его практически
никто и не увидит. Наиболее тихая форма убийства. Как из пистолета с глуши¬
телем. Выстрела не слышно, а человек почему-то вдруг неожиданно падает...»
«СУПРОТИВ НАШЕЙ ПАРТИИ?!»
Сегодня мало кто помнит, что помимо крамольных «Похождений зубно¬
го врача» Климов еще более «запятнал» свою репутацию громким выступ¬
лением на пленуме Союза кинематографистов СССР в апреле 1966 года,
вызвавшим грандиозный скандал в благородном семействе СК. В присут¬
ствии гостей пленума со Старой площади Климов, поднявшись на трибу¬
ну, заявил, что власти уже до такой степени затянули цензурную удавку,
что работать стало практически невозможно.
Выступление молодого режиссера было столь резким и страстным, что
тогдашним лидерам союза Льву Кулиджанову и Сергею Герасимову при¬
шлось поневоле вспомнить, что они недаром носят возле сердца партийные
билеты и входят в номенклатуру ЦК КПСС. Герасимов, вроде бы пытаясь
выгородить Климова и ссылаясь на его якобы ораторскую неопытность, не
постеснялся обвинить молодого режиссера в том, что тот покусился на свя¬
тая святых — принцип партийного руководства искусством. Следом то же
страшное по тем временам обвинение не побрезговал повторить и Кулид¬
жанов. Климову тогда пришлось повторно выходить на трибуну и еще раз
объяснять, что именно он хотел сказать: «Я призывал к тому, чтобы исклю¬
чить из нашей жизни роковые оценки случайных людей, толстокожих бю¬
рократов, которые редко, но все же встречаются. (Аплодисменты.) Я при¬
зывал активизировать ответственность и действенность нашего союза.
Сейчас приходишь в союз, где работают очень хорошие, милые и симпа¬
тичные люди, и такое ощущение, что ты в раю и поют птички. (Аплодисмен¬
ты.) Но надо действовать! Вот к чему я призывал». (Аплодисменты.)
Взрывное это выступление Климова всколыхнуло тогда весь пленум, пу¬
стило под откос все заранее тщательно подготовленное действо по очеред¬
ному принесению ритуальной присяги родимой КПСС от лица всех ее
пылко любящих кинематографистов. Климову этого не забыли, тем более
что на дворе стоял еще только 1966 год и до знаменитого V съезда СК ос¬
тавалось целых двадцать лет...
«У меня началась потом, — вспоминал Климов, — долгая, тяжелая поло¬
са. Я был тогда полон сил, желания работать, но все, что я ни предлагал, ре¬
залось на корню. Для альманаха «Начало неведомого века», который потом
загремел на «полку», предложил экранизировать рассказ Бабеля «Изме¬
на». Поскольку весь альманах тогда задумывался как экспериментальный
(что-то вроде киношного «Метрополя»), я тоже размечтался, напридумы-
вал всего. Изобразительный ряд — до самого финала — представлялся мне
как фотофильм. А весь финальный блок должен был монтироваться из на¬
иболее экспрессивных фотокадров, запечатлевших обрывки движения, и в
кульминационный момент все должно было переходить уже в чисто кине¬
матографические, движущиеся кадры. Лихо был задуман и очень необыч¬
ный звуковой ряд. Но Баскаков пресек всю эту затею одной фразой: «На
фиг нам этот Бабель!..»
Дважды — в 1967-м и 1969-м — попытался запуститься с «Агонией». Не
дали!
Западные немцы искали русского режиссера — был проект сделать
фильм «Сказки Гофмана». Быстро с ними договорились. Сорвалось!
Предложил делать «Левшу» по Лескову. Я не собирался снимать этот
фильм откровенно лубочно-буффонным. Хотел пойти более сложным пу¬
тем. Все как бы всерьез, натурально. Например, когда уронили Левшу, голо¬
ва у него раскололась. Веревкой ее перевязали. Но на экране все равно долж¬
но было быть видно: трещина настоящая. И вот он, бедолага, лежит и на по¬
следнем издыхании предупреждает: «Не чистите, ребята, ружья кирпичом —
проиграете войну...» Много там было всякого напридумано, а завершаться
фильм должен был... «кинохроникой» Крымской войны — кадрами, стили¬
зованными под старую хронику.
Но, видно, я уже был в «черном списке», и все начальники хорошо себе
представляли, что я им на этом материале выдам. Талант и власть, гибель
художника, пьянство — все лесковские мотивы накладывались на наш род¬
ной «развитой социализм» со страшной силой. И мне сразу было сказано:
«Не надо!»
Тогда же впервые возник проект экранизации булгаковского «Мастера и
Маргариты». С таким предложением вышел итальянский продюсер Фран¬
ко Кристальди. Он хотел, чтобы я стал постановщиком картины, а в глав¬
ной роли снималась Клаудиа Кардинале. В комитете этот проект быстрень¬
ко похоронили.
Но особенно мне жалко несостоявшийся фильм «Вымыслы». Мой брат
Герман придумал написать сценарий по мотивам русских народных сказок.
Веселый, озорной, с массой каких-то забавных придумок. Там все было: и
юмор, и сатира, и лирические образы, много жуткого, страшного. Были
очень яркие характеры: Иван-дурак, царь, а главная тема была, как власть
народ дурачит. Я на этой работе завелся, нафантазировал, наверное, столь¬
ко, что в жизни больше столько не придумывал. И все у нас там было, что¬
бы сделать настоящий зрелищный фильм. А по сути, очень серьезный
фильм о Руси. Не случайно действие у нас начиналось в традиционном
сказочном духе — весело и лихо, а потом перерастало в другое измерение —
горькое и печальное. К этому и цеплялись: «Русская сказка веселая, а вы
мрачность нагоняете», «Русский народ показан диким и темным», и т.д.
С боями пробились в запуск. Мне удалось собрать прекрасную группу
(оператором фильма должен был быть фотограф Микола Гнисюк), и мы
уехали на выбор натуры. Исколесили весь Русский Север. Столько увиде¬
ли всякой красотищи, столько открыли для себя, столько узнали! А какие
места нашли! Я после этой поездки уже просто пылал. Можно было начи¬
нать съемки. Но вот тут-то на самом взлете нас и подстерегли...
Тогда в Малом Гнездниковском произошли крутые перемены. Комитет
по кинематографии получил наименование Госкино СССР, а в кресле
главного киноначальника вместо дедушки Романова оказался энергичный
и поначалу еще не напуганный до смерти Филипп Ермаш. Вот он-то и при¬
тормозил нашу работу над «Вымыслами» весьма неожиданным предложе¬
нием: «Элем, какие «Вымыслы», какие сказки! Брось эту ерунду. Я новый
министр. У меня есть полтора года — давай запускайся со своей «Агони¬
ей»...» А я так долго бился за «Агонию» и, уже дважды успев побывать с
ней в запуске, так ею заболел, что не смог отказаться от неожиданного
предложения Ермаша.
Эта рокировка впоследствии кончилась двумя бедами сразу. В 1975-м
«Агония» оказалась на «полке». А после такой «осечки» меня уж тем более
не могли подпустить к «временно отложенным» «Вымыслам»...
Короче говоря, из всего-всего тогда задуманного мне удалось проскочить
только с фильмом «Спорт, спорт, спорт». Это, конечно, не самая дорогая и
важная для меня вещь, хотя я и делал ее с увлечением. После того как мне
подряд завернули целый букет предложений, я понял, что ничего «такого»
мне сейчас сделать просто не дадут. А в это время мой брат Герман Климов
как раз заканчивал Высшие сценарные курсы. Для диплома он писал доку¬
ментальные новеллы из жизни спорта, так как сам он профессиональный
спортсмен и эту сферу жизни очень хорошо знал. Я ему предложил все эти
новеллы объединить и сделать сценарий для полнометражного фильма. Он
говорит: «А может, ты его сам и снимешь?» Я подумал-подумал. Перспек¬
тив у меня никаких, а тут — тема нейтральная, никого не напугает. Заодно
и брату помогу. Приближались Олимпийские игры в Мексике. Мы при¬
шли к директору «Мосфильма» Сурину (надо отдать должное — он все-та-
ки хорошо ко мне относился) и говорим: «Хотим такой глобальный фильм
о спорте сделать: коллаж из хроники, документальных съемок, игровых
эпизодов. С юмором...»
Совратили Сурина. Написали сценарий. Придумали объединяющий все
новеллы ход — такого завирального массажиста дядю Володю, закадровые
рассказы и комментарии которого помогали связать воедино весь этот пе¬
стрый, разнородный материал.
Работа — в кои-то веки — шла благополучно, при попутном ветре.
Правда, как режиссер, я совершил одну грубую и непростительную ошиб¬
ку. Я взял на роль массажиста дяди Володи профессионального актера. А у
этого персонажа был вполне реальный прототип — мы с ним не раз встре¬
чались. Человек с невероятным юмором и грандиозный рассказчик.. Его-то
и надо было снимать! Но у меня почему-то не хватило сообразить это сра¬
зу. Понял, когда уже поезд ушел. Кусал потом локти...
Сдали мы эту картину без особых проблем. Правда, две пробоины все
равно получили. Был у нас очень эффектный эпизод, когда наш дядя Во¬
лодя-массажист рассказывал, как именно ему удалось сделать Толстого
великим писателем. Мы поехали в Ясную Поляну, сильно подмолодили
дядю Володю, сняли несколько кусков под дореволюционную хронику,
смонтировали ее с подлинной старой хроникой и сделали монтаж из из¬
вестных хроникальных кадров и фотографий Льва Николаевича, когда
он гарцует на лошади, катается на велосипеде и т.д. И все это озвучили
закадровым «голосом Толстого». Он признавался у нас в том, что если
бы не спорт, то ему бы никогда и ни при каких обстоятельствах не стать
писателем...
Пришлось с этой забавной новеллой расстаться — был страшный пере¬
пуг, что мы тут на великого русского гения замахнулись. И еще одну новел¬
лу ликвидировали, уже чисто политическую. После разрушенной Олим¬
пии у нас шел эпизод из современной китайской жизни. Заплывы Мао
Цзэдуна. Это был монтаж из хроники. Поляки каким-то образом умудри¬
лись снять это невообразимое действо, а мы у них пленку добыли. Полу¬
чился очень выразительный монтаж. К тому же мы нашли китайского дик¬
тора, который по-русски восторженно всю чудовищную галиматью «про¬
комментировал». Полный блеск!
Но тут тяжелая артиллерия вступила в дело — мой «ангел-хранитель»
Владимир Евтихианович Баскаков сделал серьезное заявление: не фига
нам лезть в «политику», эпизод вызовет серьезные осложнения с Китаем и
очередной кризис в мировой политике. Ну, чего не сделаешь для улучше¬
ния отношений с великим соседом...
Но впервые фильм приняли почти что с ходу. Дали аж вторую катего¬
рию. Пустили широко на экран. Мы получили за него массу призов, и я да¬
же стал считаться главным специалистом по спортивному кино.
Юткевич вообще считал «Спорт, спорт, спорт» моим лучшим фильмом.
А ведь то была картина, которую я если и не делал вполсилы, но и не го¬
рел особенно. И вот, пожалуйста: Фортуна как будто подобрела. Мне слов¬
но подавали знак, как следует себя вести, чтобы все в жизни шло хорошо и
гладко. В следующий раз выбери тему еще спокойнее, еще нейтральнее,
особенно на многое не претендуй, уважай и слушай начальство, и тебе це¬
ны не будет! Но я из этой истории сделал свои выводы...»
НА КРАЮ
Прародителем «Агонии» Климов считал Пырьева, который еще в 1966
году неожиданно предложил ему поставить к 50-летию Октябрьской рево¬
люции «юбилейный фильм» по пьесе А. Толстого «Заговор императрицы».
Молодой режиссер не нашел в пьесе ничего для себя интересного и пошел
к Пырьеву отказываться от предложения.
«Тут нет драматургии, — сказал я Пырьеву. — Нет позиции. Картонная
вещь. Спасибо. Это я делать не буду».
И тут Пырьев просто взвился: «Черт с ней, с пьесой! Но там же — Гриш¬
ка!.. Гришка Распутин! Это же фигурища... Я тебя умоляю, Елем (так он
меня называл), достань и прочитай протоколы допросов комиссии, в кото¬
рой работал Александр Блок. И самое главное — Распутина, Распутина там
не пропусти...»
Из восемнадцати томов отчетов, изданных комиссией, я тогда с ходу про¬
чел томов восемь. Их в библиотеке ЦК КПСС раздобыл для меня отец, рабо¬
тавший в Комитете партийного контроля. От прочитанного я просто обал¬
дел. Передо мной словно распахнулась бездна российской истории.
Пришел к Пырьеву: «Берусь. Действительно потрясающий материал,
особенно — Распутин». Иван Александрович просто засиял. Видимо, фигу¬
ра Распутина занимала его не на шутку. У меня даже мелькнуло тогда, что,
может быть, он сам не прочь попробовать сыграть эту роль.
Я предложил сначала взяться за сценарий Александру Володину, но он
не вдохновился: «Нет, это не мое...» Тогда обратился к Илье Нусинову и
Семену Лунгину, с которыми я начинал и по сценарию которых снимал
«Добро пожаловать». Они согласились с ходу...»
Расчет киношного начальства, давшего добро на первоначальный за¬
пуск будущей «Агонии» (напомню, что это случилось еще при Романове,
в 1966-м), скорее всего, состоял в том, что Климов, так ярко проявивший
сатирический талант в своих первых двух фильмах, на сей раз щедро изо¬
льет свой сарказм на последнего русского царя и его окружение.
И в самом деле, в первых вариантах сценария, носившего примеча¬
тельное название «Антихрист», преобладали образы сатирически гро¬
тесковые, шаржированные, намеренно преувеличивающие уродливые
стороны жизни. «Святой старец» тут представал сразу в двух ипоста¬
сях. С одной стороны, это был живой, «настоящий» Распутин, подан¬
ный в жестком реалистическом ключе. С другой — появлялся еще и его
фольклорно-легендарный двойник, чья характеристика перешла в сце¬
нарий из народных анекдотов и самых невероятных слухов о чудесах и
похождениях «святого старца». Этот двойник действовал в озорных,
подчас пикантных ситуациях, которые предполагалось воспроизвести
на экране в откровенно лубочном стиле.
Заполучив столь неординарное повествование, комитетская редактура
не на шутку переполошилась. Балаганно-лубочная линия была восприня¬
та как непозволительное и глубоко аполитичное озорство, и авторам суро¬
во напомнили, что их первейшая задача — «выпороть царскую камарилью»
и доказать «необходимость революции», ее «доброту и справедливость».
Авторы закрытых отзывов на сценарий (М. Блейман, Р. Юренев, Е. Сурков
и прочие) чуть ли не хором твердили, что выбранная историческая тема
требует «истовой серьезности».
Между тем Климов вместе со своими сценаристами независимо от коми¬
тетских понуканий и сами делались все серьезнее и серьезнее. После сры¬
ва с первым запуском они продолжили работу в архивах, собирали неизве¬
стные материалы и свидетельства, штудировали труды запрещенных авто¬
ров. Перед ними все глубже, все страшнее распахивались бездны россий¬
ской истории. И когда Климову наконец представилась возможность снять
долгожданный и выстраданный фильм, то комитетские ценители прекрас¬
ного, так настоятельно требовавшие от режиссера «истовой серьезности»,
просто оцепенели от предъявленного им результата истинно серьезных
размышлений.
Их поразило, что вместо Николашки, ничтожного придурка и кровавого
тирана одновременно, чей устойчиво-уничижительный образ был давно и
намертво вылеплен советской историографией и «искусством», на экране
явился в образе Анатолия Ромашина глубоко страдающий и интеллигент¬
но сдержанный человек. Актер словно бы забыл, кого по традиции должен
был бы сыграть и ни одним мимическим или пластическим жестом, ни од¬
ним оттенком интонации не позволил себе упростить, снизить, а тем более
окарикатурить образ последнего русского императора.
Еще более решительно и непоправимо вывалился из рамок соцреалисти-
ческой благопристойности Алексей Петренко. На эту роль, по словам Кли¬
мова, поначалу пробовались актеры такого масштаба, как Евгений Лебедев
и Михаил Ульянов, Анатолий Папанов и Леонид Марков. А еще раньше
роль Распутина согласился сыграть Василий Шукшин, и только почти
синхронный запуск «Агонии» и «Калины красной» не позволил осущест¬
виться этому варианту. Но Петренко сыграл внезапно доставшуюся ему
роль так грандиозно, на таком накале страстей, что жалеть о каких-либо
иных вариантах не приходится.
Петренко сыграл человека-помойку, создав настоящую энциклопедию са¬
мых что ни на есть мерзейших человеческих пороков. И в тоже время его
Распутин на экране и отталкивает, и необъяснимо завораживает, буквально
гипнотизирует своей незаурядностью, богатырской мощью, энергией.
Совсем не зря комитетские начальники и тайные рецензенты затревожи¬
лись, угадав, унюхав еще в первых вариантах литературного сценария не¬
кую «пугачевщину» в поведении климовского Распутина, или, как они ви¬
тиевато строчили в своих закрытых отзывах, «сублимацию народного ду¬
ха». И не зря тревожились: вопреки марксистско-ленинским прописям о
«сознании народных масс», в сценарии, а потом и в фильме представили
нечто совсем иное: бурление темных начал «коллективного бессознатель¬
ного», зловещую игру необузданной и разрушительной стихии, готовой до
основания разрушить Россию.
Хуже того, те, кому тогда довелось вершить судьбу климовской «Аго¬
нии», увидели в ней — и не без основания — не просто картину давно ушед¬
шей исторической эпохи, а чуть ли не прямую аналогию разлагающейся
эпохи брежневской. Если учесть еще, что к решению судьбы фильма на¬
прямую и весьма умело подключились и «киноведы с Лубянки», а это се¬
годня подтверждено уже и документально, то конечно же никаких альтер¬
натив, кроме «полки», у этого фильма просто не было... А картина досталась
Климову, по его словам, страшно тяжело. Уже когда начались съемки, он
вдруг обнаружил, что попал в капкан...
«Только уже в конкретной работе на съемочной площадке мне откры¬
лось, что собственно никакой концепции у нас в сценарии нет. Да, по-види¬
мому, ее и не было. Был страшный интерес к эпохе, людям, судьбам. Мы с
азартом копали уникальный материал, чувствовали себя первопроходца¬
ми, и что-то важное, интересное, живое уже было нами нащупано, прочув¬
ствовано. Но вот такого полностью отработанного проекта, какой у меня
был потом на «Иди и смотри», тут и в помине не было.
Уже будучи на ходу, мы поняли, что ни при каких сокращениях сюжет¬
ных линий мы не уложимся в одну серию. Нам позволили сделать две, но
денег при этом не добавили. Всего не хватало. Особенно — пленки. Мы
снимали на дефицитнейшем «Кодаке», и практически весь фильм при¬
шлось снимать буквально с одного дубля. Большего себе позволить просто
не имели возможности. Даже обязательную хлопушку не снимали — эко¬
номили пленку буквально по миллиметру. Помню вечно окровавленные
руки у нашего ассистента оператора. Когда раздавалась команда «стоп!»,
он пытался мгновенно остановить руками вращение бобины с пленкой,
чтобы камера по инерции не намотала «лишние» полметра пленки до ее ес¬
тественной остановки. На его руки с сорванной кожей смотреть было не¬
возможно — такой вот ценой нам доставалась вынужденная экономия.
Туго шла роль у Петренко, хотя были и поразительные находки. Все-та¬
ки первая большая работа в кино, никакого опыта, и сразу — Распутин! Та¬
кая бездна... Надо сказать, что и мне самому моего прежнего опыта работы
с актерами тут оказалось тоже недостаточно. Ведь тут мы имели дело с со¬
вершенно особыми, не просто сложнейшими, но поистине «запредельны¬
ми» психическими состояниями героя.
У Петренко к тому же оказался очень и очень непростой характер. Ну, а
потом еще одна неожиданность, надолго вырубившая нас из напряженного
графика работы и жутко осложнившая ее. Леша внешне, по стати своей, ка¬
зался могучим богатырем, чистым Ильей Муромцем. Но, вероятно, от
слишком больших перегрузок во время съемок — физических, нервных,
психологических — у него вдруг обнаружилось тяжелейшее сердечное за¬
болевание.
С некоторых пор снимать его было уже просто опасно, потому что он мог
работать только с дозированной нагрузкой. Но никто не мог сказать даже
приблизительно, где предел этой «дозированности», за который уже нель¬
зя переступать. На карту была поставлена его жизнь. Мы, конечно, подст¬
раховывались, как могли. На съемочной площадке, бывало, дежурила «ско¬
рая помощь», врачи стояли со шприцами наготове...
Сам я тоже был на пределе. Дело, которого я столько лет добивался, те¬
перь обернулось для меня тяжелейшим испытанием, настоящим кошма¬
ром. Мне все чаще начинало казаться, что я не могу совладать с ситуацией,
с ходом работы, с той глыбищей исторической эпохи, которую предстояло
распознать и показать. Меня вдруг начинало грызть ощущение, что я не
совсем изучил материал, что я все время упускаю что-то очень важное, мо¬
жет, даже главное, что я не на высоте задачи.. Сложные люди. Все более
усугубляющаяся производственная ситуация. Опасная болезнь Петренко,
которого я по неведению чуть было не угробил...
Каждый съемочный день пудами накапливал отчаяние и неудовлетво¬
ренность тем, как все идет. Дважды я и сам «постоял на краю» — чуть бы¬
ло не покончил с собой. Один раз чуть в Мойку не кинулся. Другой раз со¬
брался броситься с седьмого этажа. Да, было дело...»
БЕДА ОДНА НЕ ХОДИТ...
После запрета «Агонии» в судьбе Климова, и без того не самой лучистой,
наступила, пожалуй, самая черная и безнадежная полоса.
«Я работал, — рассказывал он, — как зверь. А ни один проект — ни с ме¬
ста. Как заколдовало. И вокруг все совсем уж прокисло. Страна просто за¬
дыхалась от лжи и лицемерия. А на съемках фильма «Прощание с Матё¬
рой» погибла Лариса. Она меня вытаскивала как-то из безнадеги, помога¬
ла держать удар. И ее не стало...
На свою беду, я сам и насоветовал ей это снимать. Она готовилась экрани¬
зировать «Село Степанчиково». У них с Наташей Рязанцевой был практиче¬
ски готов сценарий. Можно сказать, были уже почти что в запуске. Но Лари¬
са сама еще как-то колебалась и окончательного решения не приняла. И вот
сидим, с нами наш сын Антон, еще маленький совсем. Идет полушутливый
разговор, игра такая — мы объясняемся не напрямую, а через Антона. Лари¬
са говорит ему: «Спроси папу, какой фильм мне все-таки снимать?»
Я отвечаю: «Передай маме, что «Село Степанчиково» ей снимать не на¬
до». Антоша «докладывает» ей мою резолюцию слово в слово. «А ты спро¬
си тогда у папы, почему не надо?» «А потому не надо, — скажи маме, — что
для того, чтобы «Село Степанчиково» снимать, надо иметь чувство юмора.
А у нее его нету». — «А ты спроси тогда, Антоша, что же маме в таком слу¬
чае делать?» — «Скажи маме, что ей надо снимать «Прощание с Матёрой».
Это как раз для нее...»
Я обычно в доме все первым читал. И «Матёру» тоже раньше Ларисы
прочитал. И некоторое время даже прикидывал, не взяться ли мне самому
за эту вещь. А потом показалось — нет, Ларисе это ближе, она лучше сдела¬
ет. И вот так все дьявольски перевернулось, пришлось мне все же это
«Прощание» самому снимать. Уже за Ларису...»
Позволю на этом месте прервать исповедь режиссера маленьким личным
воспоминанием о том, как состоялось однажды наше знакомство. Случи¬
лось это столь долгожданное для меня событие на фильме «Восхождение».
Я тогда еще не потерял надежды написать продолжение своей книги «Пе¬
ресечение параллельных», куда должен был войти очерк о том, как работа¬
ет Лариса Шепитько. Таинственные особенности ее «творческой лаборато¬
рии» я тогда и изучал, усердно посещая тонстудию «Мосфильма», где на¬
чалось озвучание картины. И вот как-то в разгар трудов праведных Лари¬
са Ефимовна не без иронии сказала: «Сейчас перейдем в просмотровый
зал, там один безработный советский режиссер продемонстрирует нам свое
искусство монтажа. Из чувства классовой солидарности мы дали ему воз¬
можность смонтировать один очень важный для нас эпизод».
Мы перебрались в другой зал, где, как оказалось, нас поджидал худю¬
щий, одни глаза — «Бухенвальдский набат» в чистом виде — безработный
советский режиссер Элем Климов. Шепитько подчеркнуто церемонно с
ним раскланялась и представила мою светлость. Наконец-то я пожал руку
своему кумиру и божеству! Остановись, мгновенье — ты прекрасно!
Но оно, проклятое, не остановилось — Шепитько тут же деловито ско¬
мандовала: «Ну-с, уважаемый Элем Германович, покажите нам свое знаме¬
нитое искусство. Что у нас там получилось с боем партизан?»
Мрачноватый Климов сел за микшер, на экране побежали кадры скоро¬
течного партизанского боя из самого начала фильма. Я просто ахнул: уже
много раз виденный мной ранее рабочий материал этого эпизода просто за¬
играл. Мне подумалось, что Шепитько как «хозяйка фильма» должна быть
просто на седьмом небе от того, что в лице «безработного советского ре¬
жиссера» у нее появилась такая волшебная палочка-выручалочка. Но по¬
следовал совсем иной поворот событий. Едва в зале зажегся свет, как Ла¬
риса Ефимовна в одну секунду вскипела праведным гневом: «Боже, что ты
натворил!» Она кинулась к Климову, и мне показалась, что она в ярости
его сейчас укокошит, задушит, порвет в клочья или прекратит и без того
мученическую жизнь моего кумира каким-нибудь иным самым зверопо¬
добным образом. «Ты зарезал лучшие мои кадры!!! Я что, американский
боевик делаю?! Что это за монтаж, что это за мелькания?!!»
И понеслось!
К сожалению, я не в силах передать шекспировский масштаб разгорев¬
шейся баталии. Шепитько, как обезумевшая от горя мать, потерявшая
своих любимых детей, страстно перечисляла кадры, которые, по ее мне¬
нию, «зарезал» Климов. «Ты просто изверг!..» — клокотала «пострадав¬
шая». Между тем «изверг» был по виду спокоен и непоколебим как скала.
«Да это все дедушкино кино, то, что ты наснимала!» — хладнокровно па¬
рировал он. «Дедушкино?!» — совсем уж вскипела уязвленная Лариса
Ефимовна. И тут у них начался такой «симпозиум», какового я не виды¬
вал и не слыхивал. Стенка на стенку пошли два могучих талантища, два
незаурядных и равновеликих мастера со своим особым мировидением и,
понятное дело, столь же особым представлением о том, что такое есть «на¬
стоящее кино».
Но в какой-то момент этой невероятной баталии я, признаться, вырубил¬
ся из спора и потерял нить «дискуссии», невольно залюбовавшись дуэлян¬
тами. В этом страстном, почти на кулачки поединке они оба были просто
неотразимо прекрасны! И тут же в голове промелькнуло что-то совсем не¬
сусветно бытовое и совсем из другой оперы: «Боже, как это они дома друг
друга не поубивают с эдакими темпераментами?!.»
А победил в разыгравшемся на моих глазах страшенном сражении — ес¬
ли не тогда, не сразу, не словами — все-таки Климов. Могу засвидетельст-
вовать — в окончательный вариант фильма эпизод партизанского боя, да
еще и многое-многое другое, вошло именно в его монтажной редакции.
А вскоре мне довелось побывать у Климова и Шепитько дома, в их ка¬
кой-то совершенно необычной квартире, где, как мне тогда показалось, во¬
все не было никаких перегородок и где хозяйка этого неделимого прост¬
ранства, увидев подаренную мной именно Климову, а не ей и не обоим сра¬
зу книгу с пылким любовным посвящением, шутливо сделала мне ревни¬
вый выговор. Дескать, никакому коварному врагу никогда и ни при каких
обстоятельствах, никакими пылкими словесами и посягательствами не
разрушить их дружный семейно-режиссерский союз...
А вскоре она уехала на Селигер снимать свою роковую «Матёру», куда
вскоре собирался поехать и я. И не только собирался: именно в тот день,
когда случилась беда и Лариса Ефимовна погибла вместе со своей съемоч¬
ной группой, я уже должен был быть вместе с ними. В кармане лежало ко¬
мандировочное удостоверение от «Советского экрана», для которого я под¬
рядился написать репортаж о съемках «Матёры». Был в кармане и желез¬
нодорожный билет до Осташкова. Но судьбе суждено было вывернуться
так, что буквально накануне отъезда у меня дома у самого стряслась беда —
жена попала в реанимацию, и мне пришлось остаться в Москве. А уже не¬
сколько дней спустя я вместе со всеми стоял, словно контуженный, в па¬
вильоне «Мосфильма», где обитые невыносимым красным кумачом выси¬
лись на постаментах, кажется, семь (не было сил сосчитать) гробов и фото¬
графии прекрасных, совсем молодых лиц, жизнь которых тогда разом обо¬
рвал роковой случай. И именно тогда, в минуты невыносимо тяжкого про¬
щания почему-то промелькнуло и навсегда застряло в душе ощущение, что,
если бы я приехал на Селигер вовремя, этого кошмара наверняка удалось
бы избежать....
Но судьбу не повернешь...
ВЫСТРЕЛ НА ХУДСОВЕТЕ
Вернусь из рокового 1979-го к рассказу о том, что ему предшествовало.
Запрет «Агонии» на несколько лет опустил шлагбаум на пути любого но¬
вого климовского проекта. Ему долго ничего не давали снимать. С другой
стороны, как ни странно, он, по его признанию, вышел из этой работы с
ощущением, что картина у него не очень-то и получилась.
«Я не сумел по-настоящему воспользоваться этим грандиозным истори¬
ческим материалом, выжать из него все, что можно было выжать. Картину
били совсем за другое, но у меня были серьезные претензии и к самому се¬
бе. Я так был недоволен своей работой, что тут же стал искать материал для
нового фильма, чтобы как можно быстрее «реабилитироваться». Наверное,
если бы я предложил тогда что-либо простенькое, незатейливое, может, и
не возникло бы особо больших проблем. Но снимать абы снимать — об
этом не могло быть и речи. А уж тогда, в той ситуации — тем более. Вот по¬
чему я тогда так упорно искал какой-то особо сверхсложный и сверхтруд¬
ный для реализации материал, чтобы взять «реванш», чтобы доказать всем,
а прежде всего себе самому, что я — могу. Вот тогда я и набрел на «Хатын¬
скую повесть» Алеся Адамовича.
Мы познакомились, мгновенно подружились, и оба загорелись этой ра¬
ботой, ее возможностями. Мы договорились, что делаем не обычный «пар¬
тизанский» фильм, а попробуем заглянуть в бездну, в нечто сатанинское, в
глубины ада. Если я искал встречи с «запредельным» материалом, то тут
его было с головой...
Я собирался делать эту картину на «Беларусьфильме». Поначалу все
шло нормально. Как-никак интерес к нашей работе проявил сам Машеров,
хозяин республики. Была сформирована очень хорошая группа. Мы нашли
интересного паренька на роль главного героя. Всесторонне проверили его
возможности, подготовили к сложнейшей работе. Можно было уже начи¬
нать съемки. Но...
Неожиданно в Минск прикатили посланцы Госкино Борис Павленок и
Даль Орлов. Они привезли с собой официальное заключение комитета на
наш сценарий, где было двенадцать замечаний. Любое из них убивало
фильм наповал. Дорогие гости, собственно, затем и пожаловали.
Кстати, случайно мы заранее узнали, как именно нас собираются «кон¬
чать». Павленка и Орлова возил на «Волге» шофер, который до этого мо¬
мента работал в нашей группе. Он-то и рассказал, как московские началь¬
нички надрались в ресторане, а по дороге в гостиницу, не выбирая выраже¬
ний, обсуждали ход предстоящей «боевой операции». Так что сценарий на¬
шей казни был нам известен наперед.
Все должно было произойти на худсовете, к которому мы тщательно го¬
товились. Мы показали пробы. Выставили эскизы, старые фотографии,
весь собранный нами обширнейший иконографический материал. Полу¬
чилась целая выставка, на которой в довершение всего мы еще решили по¬
казать одну из «героинь» фильма — настоящую партизанскую винтовку.
На стене висел портрет Гитлера, а винтовка была нацелена прямо на него.
Наш пиротехник спрашивает: «А может, ее и зарядить?» Я, не долго размы¬
шляя, говорю: «А что, давай». Зарядили. К счастью, холостыми...
Народу на этот худсовет пришло невероятное количество. Казалось, что
в комнату набился весь Минск...
Началось обсуждение. Грандиозную речь произнес Адамович. Хит¬
рый Павленок оставался все время где-то в тени, а главным палачом
был Даль Орлов. Зачитал он свои замечания. Слушать все это было не¬
возможно. Алесь слушал-слушал и вдруг вскочил. Я будто прочитал его
мысли: сейчас он схватит винтовку и жахнет в нашего мучителя. И у ме¬
ня у самого было абсолютно то же желание. И я тоже вскочил! И Алесь,
наверное, понял это и схватил меня за руки. А я схватил его. Наверное,
это было зрелище! Наступила какая-то мертвая пауза... Потом как-то
разом все поднялись. Мало кто понял, что с нашим фильмом все кон¬
чено. Кто-то уже было двинулся ближе к двери, кто-то стал рассмат¬
ривать эскизы, фотографии, которые так всем понравились. Вот тут-то
и наступила неожиданная развязка. У нас был директор картины, по¬
жилой замечательный дядька. Он подошел к винтовке и, не зная, что
она заряжена, почему-то нажал курок. И грохнул выстрел, да еще ка¬
кой!
Что тут было! Все врассыпную. Женщины завизжали. Кто-то рухнул на
пол. В этот момент я увидел лицо Даля Орлова. Он в одну секунду все про¬
играл и понял, к чему шло дело, когда мы с Алесем вскочили и схватили
друг друга за руки. Он весь побелел...
Но свое дело он сделал. Ультимативные требования, которые нам тогда
предъявили, принять было невозможно. Я отказался их выполнить. Тогда
картину мгновенно и с радостью закрыли...»
О последствиях этой истории Алесь Адамович позднее вспоминал так:
«Для меня лично закрытие фильма не стало безвыходной трагедией. Я сно¬
ва мог вернуться в свою литературу. А для Климова это был страшнейший
удар. Я пошел тогда провожать его на вокзал. Он никогда не жаловался, а
тут вдруг сказал: «Я был на пике своих возможностей. Они ударили меня
под коленки. Все! Больше не могу — ухожу из кино...»
Но Элем так глубоко погрузился в эту работу, так вошел в нее, что
остановиться вот так, с ходу, уже не мог. И произошла сшибка, нерв¬
ный срыв. У него началась какая-то жуткая болезнь. Он весь — с голо¬
вы до ног — стал покрываться волдырями, язвами. Кожа трескалась,
сползала с него прямо кусками, Лариса мазала его каждый день каки¬
ми-то мазями, бинтовала. Всего — с ног до головы. Ходить он мог еле-
еле. Да и то только с палкой.
Долго — почти целый год — он не мог восстановиться, более или менее
прийти в себя. Но вот характер: даже в таком состоянии он не сложил лап¬
ки, не смирился и все еще пытался спасти нашу работу, продолжал обивать
пороги начальников, настаивал на своем, пытался что-то доказать. А те
плевать хотели...»
И все-таки Климов опять победил в этом неравном поединке. Семь лет
спустя он таки снял свой фильм. Уступил только одно — название —
«Убейте Гитлера». А больше не отступил ни на шаг. И снял поистине вели¬
кий фильм. Летом 1985-го на сцене Кремлевского Дворца съездов он вски¬
нул над головой главный приз Московского международного кинофести¬
валя. В стране в первый же год проката он собрал для такого невыносимо
страшного и беспредельно трагичного фильма просто невероятную аудито¬
рию — больше сорока миллионов. Триумфально он обошел и многие экра¬
ны мира. Но какой ценой была оплачена эта победа!
НЕСПЕТОЕ
После запрета «Агонии» и катастрофы с запуском фильма «Убейте Гит¬
лера» Климов просто уперся в глухую стену и, пребывая в состоянии край¬
него отчаяния, в качестве ближайшего проекта выбирает экранизацию...
«Бесов» Достоевского. По тем временам и по той ситуации, в какой он тог¬
да оказался, это был, конечно, самый безнадежный вариант. Тем не менее,
не оглядываясь ни на кого и ни на что, он начал работать...
«Я поехал тогда к Юрию Карякину, мы с ним давно дружили. Говорю:
«Давай «Бесов» делать...» Оказалось, что я не первый к нему с таким пред¬
ложением пожаловал. Еще раньше о том же просил Жалакявичюс. Каря¬
кин меня спрашивает: «Ты мне скажи, из-за чего ты собираешься делать
эту вещь?» Я говорю: «Из-за Ставрогина». — «О, тогда я с тобой...»
Мы поехали в Малеевку, засели за работу. Начали читать всего Достоев¬
ского, размышлять, набрасывать сценарий. Возможно, это и помогло мне
тогда как-то подняться, распрямиться после всего, что произошло. Работа¬
ли с таким упоением! Я погрузился в такую пучину — прекрасную, страш¬
ную, завораживающую...
Мы выработали конкретный план сценария, написали заявку. Наш про¬
ект — не боюсь этого сказать — был уникальным. И сам фильм, и работа над
ним должны были идти необычным путем. У нас предполагался открытый
финал, мы не могли его заранее угадать и записать. Финал должен был ро¬
диться в результате параллельной работы двух групп — съемочного коллек¬
тива и научной лаборатории по изучению человека, неразгаданных тайн его
психики. Дело в том, что мы собирались привлечь к работе над картиной
специальную группу профессиональных психологов и гипнологов с тем,
чтобы исследовать сложнейшие психологические состояния человека...
Но разве могли в Госкино запустить сценарий, финал которого заранее
неизвестен?
Вот в это и уперлись. Хотя на этот раз мы постарались не раскрывать все
свои карты, обложили заявку ватой и навели должный камуфляж. Но и вся
эта конспирация нам нисколько не помогла. Нас забодали еще на дальних
подступах.
Мы не сразу сдались. Ходили, кланялись в ЦК, пытались сделать сво¬
им союзником Загладина. Водили хороводы вокруг Феликса Кузнецова:
«Ну помоги!» И чего только еще не предпринимали. И все нам говорили:
«Да-да-да... Интереснейший проект... Надо пробивать!» Но никто не по¬
мог. И безнадега была полная...
Заворачивали меня тогда со всем подряд. Наверное, если бы однажды
предстал пред светлые очи начальства со сценарием по легендарной «Малой
земле», то результат был бы тот же, что и с «Бесами» и со всем остальным...
Потом последовала еще одна безнадежная затея: с Виктором Мережко
мы написали сценарий «Пьяные» по незаконченной повести Василия
Шукшина «А поутру они проснулись...». Все действие там происходило в
вытрезвителе, который как бы не имел никаких границ. Такой всесоюзный
вытрезвитель. В одной из ролей должен был сниматься Владимир Высоц¬
кий. Сценарий получился жестким, страшноватым, но в то же время и
очень смешным. Мы хотели сделать фильм с любовью к этим несчастным
людям, к России.
Мне очень нравился там финал. Зима. Раннее утро. Герои наши выходят
из вытрезвителя. Мы видим, как их встречают. Кого — мать, кого — жена, ко¬
го — верные дружки. А компания настоящих «профессионалов» сразу же на¬
правляется к ближайшему гастроному. И тихо-тихо идет снег — чистый, пу¬
шистый. А за кадром поют «Шумел камыш». Но по-настоящему красиво...
Когда-то у меня во ВГИКе была курсовая работа — такой небольшой
этюд о снеге. Как он падает чистый-чистый, как потом его топчут ногами,
потом убирают машинами, сбрасывают в Москву-реку. А кончалось все
тем, что на серых грязных кучах, что плывут по реке, сидели вороны — та¬
кое вот кладбище снега. И я решил, что, может быть, повторю в финале
«Пьяных» этот этюд под «Шумел камыш».
Лариса тогда прочитала сценарий, говорит: «Ребята, спрячьте это по¬
дальше, чтобы никто не видел...»
Конечно, когда понесли этот сценарий в Госкино, его завернули нам в
одночасье.
Еще один замысел там угробили — «Преображение». Был здесь, в Моск¬
ве, западный немец, журналист Кухинке. Он снялся у Данелии в «Осеннем
марафоне». Так вот, этот Кухинке познакомил меня с одним богатым неф¬
тепромышленником. И вот он решил помеценатствовать: предложил мне
сделать фильм, где были бы немцы и Россия. Может быть, даже что-нибудь
из давней истории. Что-нибудь положительное о наших взаимоотношени¬
ях, а не в очередной раз про войну. Ведь бывало, что Россия и Германия не
только воевали.
А время на нашем дворе стояло совсем сумрачное. У меня успело образо¬
ваться уже целое кладбище неосуществленных проектов, и я подумал: «А
что? Быть может, на этом «маршруте» удастся проскочить?» Вместе с мо¬
им братом Германом стали искать подходящий материал. Наткнулись на
очень интересный рассказ С. Наровчатова «Абсолют». Выяснилось, что
сам-то рассказ написан на основе вполне реального случая, который даже
Бальзак в своем русском романе упоминал. Сохранились и воспоминания
де Сегюра, французского посла времен Екатерины, где упоминается дико¬
винная история о том, как не поняли распоряжения царицы, будто бы по¬
велевшей сделать из одного западного банкира чучело, и взялись испол¬
нять это распоряжение самым ретивым образом.
Мы в этот сюжет вцепились. Стали фантазировать. Полезли в эпоху.
Прочли горы литературы и загорелись еще больше. Сценарий получился
очень занятным. Кстати, многое в него перенесли из того, что было напри¬
думано еще в зарубленных «Вымыслах». И все это как-то хорошо вписа¬
лось в новую вещь.
Потащили «Преображение» в Госкино. Ермаш прочитал. «Ну, ладно.
Первую серию делайте, а вторую не надо». А вторая часть действительно,
могла показаться как бы отдельной, самостоятельной. Там от локальной,
конкретной истории мы уже переходили в другое измерение: это уже был
рассказ про народ, про Россию-матушку. Давался как бы срез российской
жизни — разных слоев, нравов, характеров.
Ермашу все это не. понравилось: «Дико... Страшно... Жутко... Там, на За¬
паде, не разберутся, когда это происходит. Еще подумают, что сегодня...» —
«Как это?! Не поймут, что XVIII век?» — «А кто их знает...»
Уже не было Ларисы, которая раньше после таких начальственных
«ласк» спасала, выхаживала, помогала. Жить становилось уже невмоготу.
Кстати, тогда я опять стал всерьез думать о том, чтобы поставить «Мас¬
тера и Маргариту». Безнадежная, конечно, по тем временам была затея. Но
все равно пошел к Ермашу просить. Он меня завернул: «Да брось ты... Это
же семейный роман Булгакова! Чего он тебе дался?» Я настаивал. «Не-не-
не-не... Успокойся, в этом веке этого не будет...»
Потом уже, когда грянули перестроечные времена, перед самым V съез¬
дом я опять был у него на приеме. Он уже помягчал, потеплел — начал «пе¬
рестраиваться». «Ну, чего ты хочешь делать?» — «Мастера». — «Мастера?»
Ну, что ж... Давай снимай».
Сбылось заветное желание: я наконец получил разрешение! Но не успел
я по-настоящему этому порадоваться, как тут же «попал под поезд» — гря¬
нул наш революционный V съезд, меня избрали руководителем союза. Уж
какой тут Булгаков — я «вырубился» на несколько лет...»
«ПОПАЛ ПОД ПОЕЗД...»
В майские дни 1986 года, когда разразился знаменитый V съезд Союза кине¬
матографистов СССР, я оказался далеко от Москвы, в низовьях родной Каны,
где с энтузиазмом предавался любимому рыбацкому занятию. В эту пору изго¬
лодавшаяся за долгую нашу зиму рыба идет на нерест на самые мелкие и более
прогретые места и ловится по-страшному. Как-то в один из вечеров, наловив¬
шись вволю, успев засолить рекордный свой улов и отужинав, я улегся на ка¬
кую-то громадную корягу у костра и уже почти совсем задремывал, слушая по
плохонькому транзисторному приемнику последние известия из Москвы. Но¬
вости были привычные — где-то задули новую домну, в стране «растет и ши¬
рится», мировой империализм никак не может смириться с победной посту¬
пью социализма... И вдруг в этом бесконечном переливании из пустого в по¬
рожнее буквально ударили и обожгли две фразы: «В Москве только что закон¬
чился очередной съезд Союза кинематографистов СССР. Первым секретарем
правления избран кинорежиссер Элем Климов». От неожиданности я едва не
свалился со своей коряги. Может, ослышался, не разобрал фамилию?! Фами¬
лию — да можно было и не расслышать, но ведь имя Элем не спутаешь ни с кем!
Еле-еле дождался очередного новостного выпуска «Маяка». Нет, не
ошибся, не ослышался — он!!!
Новость, конечно, была совершенно сногсшибательная, абсолютно неве¬
роятная и абсолютно необъяснимая. «Боже, неужели что-нибудь может пе¬
ремениться к лучшему в этом советском болоте?»
За короткое время — буквально считанные дни — совершенно сонный, за¬
мороченный, полузадохнувшийся союз, доставшийся Климову в наследст¬
во, уже невозможно было узнать. Все там сразу пришло в движение, забур¬
лило. Васильевская, 13, где находился штаб СК, напоминала проснувшийся
вулкан. Оттуда все время извергались все новые и новые инициативы, име¬
ющие отношение к кино и далеко выходящие за его пределы. То в Кремль
отправляли официальную бумагу с требованием немедленно вернуть совет¬
ское гражданство Солженицыну или посмертно увенчать Государственной
премией творчество Владимира Высоцкого, то объявляли бойкот тогдашне¬
му телевидению, создавали Фонд защиты гласности, «крышевали» выдви¬
жение в нардепы академика Сахарова и прочая, прочая, прочая.
Не забывали и собственные кинематографические проблемы. Буквально
через неделю после V съезда уже была создана Конфликтная комиссия, ко¬
торая немедленно занялась освобождением из «полочной» тюрьмы запре¬
щенных фильмов. Быстро и решительно прижали хвост тогда еще могуче¬
му Госкино, отучая его от повадок цензурного держиморды. Закон о печа¬
ти, принятый на закате советской власти, еще только-только вызревал в го¬
ловах его инициаторов, а в кино стараниями климовского союза цензурная
гадина практически была уже похоронена явочным порядком. Со страш¬
ной силой проснувшийся СК стал выискивать и продвигать засидевшуюся
на скамейке запасных в последние застойные годы молодую кинопоросль.
Месяца не прошло после майского кинобунта в Кремле, как в союз, в обход
всех существовавших тогда правил, были демонстративно приняты Юрий
Арабов и Александр Сокуров, устроена ретроспектива (!) их работ, тут же
показанная во всех Берлинах и Парижах. Союз раскочегарил фестивальное
движение, учредив целый букет принципиально новых, живых, интерес¬
ных фестивальных смотров и конкурсов. Был установлен совершенно но¬
вый уровень и характер зарубежных связей.
Но, конечно, самое главное дело, главная забота климовского СК заключа¬
лось в том, чтобы как можно скорее разработать, а потом и реализовать про¬
грамму радикального реформирования советского кино. Уже в декабре 1988
года она была дружно утверждена на очередном пленуме СК. И хотя до ее
официального одобрения властями прошло еще пару лет, на Васильевской
не стали дожидаться партийно-правительственного «одобрямса» и явочным
путем — пункт за пунктом — принялись реализовывать эту программу.
И вот именно тогда — не в пору немыслимо тяжкого старта, а когда все
уже было на таком впечатляющем подъеме, Климов неожиданно покинул
возглавляемый им корабль. Формально — умолил товарищей по секрета¬
риату отпустить его в творческий отпуск: «Умираю, хочу снимать». Так
оно, пожалуй, и было. Но, сдается, добавились и другие причины. И, может
быть, даже более существенные и глубокие.
Занимаясь общими делами, устройством личных судеб и непростых кон¬
фликтов в самой кинематографической среде, Климов успел изрядно на¬
глотаться разнообразного дерьма. Со стороны его секретарство многим ка¬
залось сладким пирогом, впечатляющим шествием от победы к победе. На
самом деле не все так было просто и красиво.
Это только на V съезде кинематографисты оказались монолитны. Надо
было одолеть общего врага. Когда же таковой был повержен, стало быстро
проясняться, что интересы у всех — разные. Монолитность разваливалась на
глазах. Разработка и утверждение «базовой модели кинопроизводства» —
главного детища климовской команды — только подстегнули и завершили
этот процесс.
По сути дела, программа реформирования киноотрасли, разработанная
командой Климова, слишком многих кинотворцов должна была неминуемо
оставить не у дел. Бездарям и непрофессионалам в ней не отводилось мес¬
та. Ничего хорошего не сулила она и маргиналам «авторского», «перпенди¬
кулярного», «артхаузного» и тому подобного синематографа, хотя разра¬
ботчики «модели» изо всех сил искали и пытались изобрести на сей счет ка¬
кие-то хитроумные «противовесы» и предохранительные механизмы.
Кто-то быстренько сообразил, куда рулит Климов. Кто-то долго еще про¬
зревал. Но отношение к своему лидеру уже стало меняться. Все чаще прояв¬
лялось раздражение, недовольство, а то и самая настоящая ненависть. Сна¬
чала еще кое-как сдерживаемая. Потом выхлестнувшаяся совсем открыто.
В ту пору я пребывал в рядах самых что ни на есть оголтелых перестрой¬
щиков. По настоянию моего старшего друга и вечного покровителя Викто¬
ра Демина меня назначили главным редактором «Информационного бюл¬
летеня» СК, и по роду этой деятельности, предписывающей красочно и
полно освещать работу союза, испепеляемый перестроечными страстями и
чувствами, я не пропускал ни одного заседания тогдашнего секретариата,
ни одного сколько-нибудь значимого мероприятия в стенах разбушевав¬
шегося тогда Центрального дома кинематографистов. И все, что тогда тво¬
рилось в союзе — явно и не совсем явно, было мне видно как на ладони.
Нельзя было не заметить, как быстро растет градус недовольства и ненави¬
сти к климовскому секретариату.
Помнится, на одной из открытых встреч руководства с членами союза
(был тогда такой обычай, когда из зала можно было прямо задать любой
вопрос секретарям или прислать записку) я по окончании поднялся в пре¬
зидиум, чтобы собрать записки, присланные из зала, — предстояло напи¬
сать отчет об этой встрече. В собранных записках был один гной. Злоба, за¬
висть, оголтелая ложь били просто через край.
Процитирую эти эпистолии (до сих пор зачем-то бережно храню эти
«реликвии»): «Уже сейчас совершенно ясно, что люди, занявшие ключе¬
вые позиции — секретари, худруки и примкнувшие к ним, — весьма ус-
пешно используют свое положение в личных целях. Как теперь бороться
с новой бюрократической системой? Ждать следующего съезда и начи¬
нать все сначала?» «Климову. Правда ли, что Вы и Распутин являетесь
членами общества «Память»?» «Ходите и оглядывайтесь! Ваша песенка
спета...» и т.д. и т.п.
Климов сидел с каменным лицом, сцепив зубы. Он отдал новому делу
столько нервов и сил, угробил столько бесценного времени. И вот нате, по-
жалте, получите благодарность — плевки в лицо от своих же товарищей.
Вот уж воистину «попал под поезд»...
ИСКУШЕНИЕ
Оказавшись на «воле», Климов, еще, по-видимому, не успев остыть от
прежних и совсем недавних, уже «перестроечных» боданий с советской
властью, первым делом вознамерился воздвигнуть ей достойный памятник
в виде большого фильма под названием «Краткий курс ВКП(б)». Напом¬
ню, что сам автор этого впечатляющего проекта был выходцем из высоко¬
поставленной партийной семьи, к тому же самолично носивший партий¬
ный билет еще со студенческой скамьи. Но задолго до того, как некоторые
лица стали сжигать свои партбилеты перед телекамерами, как сотни и сот¬
ни тысяч партийцев стали оставлять ряды, Климов, видимо, был очень
близок к тому, чтобы осуществить подобное сжигание мостов в виде мас¬
штабного фильма, в котором еще живому тогда режиму воздавалось бы по
делам и заслугам. И на всю катушку.
Климов с головой ушел в работу. Жадно собирал материал, залез в архи¬
вы, начал смотреть закрытую прежде кинохронику. Я очень ждал этого
фильма. Тогда дозволенная, разрешенная гласностью махровая антисовет¬
чина уже текла с экрана, не говоря уже о СМИ, целыми реками. Но все эти
бесчисленные разоблачения звучали как-то легковесно, конъюнктурно, ча¬
ще всего и совсем бездарно. Верилось, что уж кто-кто, а Климов даст по
мозгам по-настоящему — масштабно, страстно, предельно искренне и чест¬
но. К тому же со всех точек зрения это был абсолютно его материал.
И еще: впервые в своей жизни он мог работать совершенно свободно, ни¬
кто ему не мешал, не чинил препятствий. И вот сюрпризец: он сам, многое
уже накопав и сделав, на полном ходу остановился как вкопанный — свер¬
нул все работы по проекту.
Сколько я его потом ни расспрашивал, почему он это сделал, ответ был
исчерпывающе кратким и неизменным: «Видение нам было...»
После такой внезапной рокировки Климов вернулся к давнему, выстра¬
данному проекту «Мастера и Маргариты». В той работе он выложился на
все сто и даже больше. Максималист из максималистов, он полностью от¬
пустил здесь вожжи и без того буйной и неуемной фантазии. Снять про¬
сто добротное, даже очень хорошее, но традиционное кино — это его ни-
когда не интересовало. Он опять рвался за грань возможного. Были при¬
думаны такие вещи и решения, для реализации которых надо было созда¬
вать какие-то принципиально новые технологии. Их не было тогда даже
на самых мощных и продвинутых студиях за бугром.
Между тем пока Климов отшлифовывал до мельчайших деталей свой не¬
вообразимый проект, ситуация в кино резко изменилась. Никакого Ерма-
ша, который напоследок дозволял ему запуск «Мастера и Маргариты», уже
не было и в помине. Не стало и самого Госкино СССР с его гарантирован¬
ным немалым бюджетом. Где взять деньги на постановку? Прямо скажем,
денежки более чем серьезные.
Пока Климов озирался в поисках благодетелей, молодой удалец Юрий
Кара уже вовсю начал шустрить своего «Мастера». Впрочем, найдись де¬
нежки, ничто бы в тогдашних условиях уже бы не помешало запустить
хоть десяток экранизаций знаменитого булгаковского романа одновре¬
менно. И вот — чуден свет — столь желанные деньги вдруг объявились сами.
На одном из пленумов союза, когда какой-то очередной оратор страстно
рыдал на трибуне о гибели отечественной киномузы и ради пущей доказа¬
тельности сослался на то, что вот-де даже такой режиссер-гигант, как Элем
Климов, не может найти средств на свой потрясающий проект, с места не¬
ожиданно поднялся и подал голос новоиспеченный киномагнат и толсто¬
сум Таги-Заде и на весь зал возвестил: «А я дам Климову деньги». «Не хва¬
тит!» — злорадно и торжествующе загудело собрание. «Сколько надо,
столько и дам», — твердо заявил банкир.
Воцарилась гробовая тишина, и все, как по команде, повернулись к Кли¬
мову, который сидел тут же, в зале. Наступил момент, который принято
именовать «моментом истины».
Коллеги прекрасно знали, что в прежние времена власти, используя про¬
тив Климова кнут, подсовывали ему пару раз на всякий случай и соблазни¬
тельный пряник. Номер не проходил. Пытались купить, сделать попокла¬
дистее и при Горбачеве. Мимо! Он отказался, даже демонстративно отка¬
зался посещать полагавшийся ему по секретарской должности «райский»
партийный спецраспределитель. Но, пожалуй, даже в советские времена
автор «Агонии» и «Иди и смотри» не был загнан — всей ситуацией, вклю¬
чая, наконец, и возраст, — в столь безнадежный угол.
Скорее всего (так потом и оказалось!), это был самый последний для него
шанс снять заветный и самый невероятный свой фильм. Счастье само шло
навстречу, просто просилось в руки — только возьми! Но все же был тут
один неприятный нюансик. И Климов, и все сидящие в зале знали, что Та¬
ги-Заде, пожелавший облагодетельствовать безденежного режиссера, был
человек с мутной репутацией, от его внезапно нажитых капиталов разило за
версту. Поэтому Климов не думал ни секунды. «Хорошо бы знать, откуда
эти предлагаемые деньги», — стальным голосом отрезал он на весь зал...
В первую минуту, когда так наглядно и так позорно провалилась эта по¬
купка на глазах у всех, меня просто захлестнула волна восхищения и гор-
дости за своего кумира. Даже промелькнуло: пока есть такие люди, с Рос¬
сией еще не все кончено! Но тут больно кольнуло в сердце, и романтичес¬
кая пелена мгновенно развеялась: «Все, конец! Это же чистое самосожжен-
чество! Такие хлесткие пощечины на людях, такое «чистоплюйство» даром
не проходит. Теперь уж точно никто и копейки не подаст...» И не подали.
УХОД. МОЛЧАНИЕ
Все-таки великое это дело — наше беспамятство!
Что бы ни приключилось на нашей земле — хорошее, худое или даже сов¬
сем кошмарное, ясный и очевидный смысл свершившегося при необходи¬
мости всегда можно переиначить, скособочить, а то и совсем поставить с
ног на голову. И для этого даже не понадобится что-то уж совсем грубо и
нагло перевирать, присочинять факты и события, каковых вовсе и не было.
Для того чтобы переврать прошлое, надо просто прикинуться склероти¬
ком, кое-что ненавязчиво подзабыть, незаметно «упустить из виду» кое-ка¬
кие реалии и факты.
Вот, казалось бы, и самая близкая, едва отшумевшая эпоха киноперест¬
ройки чем дальше, тем откровеннее стала передвигаться в зону подобной
забывчивости. Кинематографисты, которые на своем знаменитом V съезде
потрясали стены Кремлевского дворца, одними из первых начав дружное
наступление на краснозвездный режим и госкиношную давильню, поти¬
хоньку одумались и отменили свое хоровое песнопение под названием «так
жить нельзя» и все громче, все откровеннее заностальгировали по былым
генсековским временам.
Вовсю загуляла красивая, завораживающая душу легенда про былой
коммунистический кинорай: жили чудненько, ни о чем не тужили, всего,
даже денег, в том же СК было навалом, вдруг откуда ни возьмись вылетела
оголтелая свора Климовых—Деминых—Смирновых, все в одночасье поло-
мали-поразрушили и смылись. Ну, прямо как у народного поэта: «Напыли¬
ли кругом, накопытили и пропали под дьявольский свист...»
Надо сказать, что в этих нынешних «страшилках» про оголтелых «пере¬
стройщиков» более всего поражает и удручает даже не столько эта очевид¬
ная, легко опровергаемая «фантастичность» россказней, сколько установка
на исключительно одноцветное, клишированное восприятие случившегося.
Невероятно сложная, многоцветная, неизбежно драматичная эпоха, кото¬
рая и не могла завершиться не чем иным, как грандиозной катастрофой, по¬
дается как нечто злонамеренно пакостное, а сама деятельность инициато¬
ров киноперестроечных преобразований, у которых побудительные мотивы
подчас действительно драматически не совпадают с результатами, тракту¬
ется в духе коварного замысла подлых и вероломных злоумышленников.
Климову в этом «черном списке» оголтелых «разрушителей» было ре¬
шительно отведено первое место. Хотя именно в пору его официального
секретарства ничегошеньки разрушено не было, наоборот, дела шли в гору,
и набирали силу созидательные процессы. Эпидемия разрушений началась
гораздо позднее, уже после того, как Климов оставил свой пост. В ее осно¬
ве лежали не какие-то ранее допущенные стратегические ошибки и просче¬
ты, а общее крушение самой «эссэсэрии». А уж окончательно завершило и
надлежащим образом оформило последствия этого смертоносного полити¬
ческого землетрясения вялое, дважды пролонгированное секретарство
Сергея Александровича Соловьева.
Но эта особенность нашей новейшей киноистории почему-то ускользну¬
ла из поля зрения современников, и все дерьмо наступившей эпохи было
списано персонально на Климова.
А он — вот уж где опять так показательно проявился его характер — не то
что смирился, но гордо отвернулся и ушел от всех. Сколько в его сторону
ни летело плевков, грязи, клеветы, он ни разу никого из своих поносителей
не удостоил ответа. Хотя ответить было что. Да и умел он при случае ска¬
зануть так, что могло не поздоровиться. Но тут он не отвечал. Почему?
В русском былинном эпосе самые храбрые, самые отчаянные богатыри
сформированы народной фантазией весьма своеобразно. Непобедимые в
бою, они ужасно уязвимы в обычной жизни. Могут умереть от маленькой
царапины. А еще того вернее — от горькой обиды, от учиненной несправед¬
ливости, от клеветы. Самый, пожалуй, красноречивый пример подобной
ранимости — русский былинный богатырь Сухман Одихментьевич. Этот
могучий и отважный воин был послан добыть невесту для князя, но неожи¬
данно столкнулся в чистом поле с полчищами врагов. Враги намерены тай¬
ком подойти к Киеву, чтобы врасплох захватить его. Спасая город, Сухман
в одиночку бросается в бой с несметными полчищами. В жестокой схватке
он получает тяжкие раны, но все-таки обращает врагов в бегство. По зако¬
ну эпического повествования тут бы и следовало ставить точку. Но были¬
на — русская, и здесь она, по существу, только начинается. Князь Влади¬
мир Красно Солнышко не верит рассказу богатыря. Не верит и ранам его
(ничего себе «солнышко»!). При всех он позорит, унижает славного героя
и не находит ему лучшей награды, как отправить в сыру темницу. Однако
рассказ Сухмана о битве с врагами подтверждается. И князь, желая загла¬
дить свою вину, освобождает богатыря из заточения, зовет ко двору, чтобы
осыпать его величайшими почестями.
Но могучий русский богатырь, славный Сухман Одихментьевич, на¬
столько оскорблен и унижен, что отказывается принять сладкие дары. Он
уезжает в чисто поле и там, в порыве душевной горечи и гнева, срывает со
своих ран повязки и, истекая кровью, тихо умирает в полном одиночестве...
Мне кажется, что вот так же уходил от всех нас и Элем Климов. Ушел от¬
верженным, но непобежденным.
Журнал «Кинофорум», № 1, 2004год
Эльдар Рязанов
Его талант не был реализован
и вполовину
Я хорошо помню Элема. Красивого человека. Высокий, с высеченными,
будто скульптором, чертами лица, говорящими о воле и уме, с замечатель¬
ной мягкой улыбкой. Таким в идеале и должен был быть настоящий кино¬
режиссер.
Первая же его лента «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспре¬
щен!» по блестящему сценарию Семена Лунгина и Ильи Нусинова сдела¬
ла его имя знаменитым и обнаружила, что в советском кино появился та¬
лантливый комедиограф с редкостным сатирическим талантом. Это случи¬
лось в 1964 году. Стали выяснять, кто такой, откуда взялся. Выяснилось,
что Элему 31 год. Окончил ВГИК Мастерскую Ефима Дзигана, режиссера,
который к комедийному жанру не приближался даже на пушечный выст¬
рел. Так что, очевидно, комедийное дарование проросло в Элеме само со¬
бой. Видно, «помогли» и идиотизмы нашей тогдашней жизни...
«Похождения зубного врача», следующая работа Элема, вызвала споры,
ибо притчевый сценарий Александра Володина требовал особой формы, и
режиссер, со всех сторон окруженный «социалистическим реализмом», по¬
пытался взломать правила, но, как мне кажется, это ему не во всем удалось.
Фильм, думается, не обладал стилевой стройностью, хотя в нем присутст¬
вовали яркие эпизоды и замечательные актерские работы. После первого
оглушительного успеха полу-успех, очевидно, не понравился молодому ре¬
жиссеру, и он занялся поиском нового пути. Вообще, должен сказать, что
по числу непоставленных сценариев, неосуществленных замыслов Элем,
вероятно, занимает «почетное» первое место в нашем кинематографе.
Сколько раз я слышал от него, что очередной его сценарий не пропущен
инстанциями. Все, что он писал в одиночку или с братом Германом, изуча¬
лось под микроскопом в поисках крамолы. Бдительные чиновники от кино
все время подозревали Элема в какой-то антисоветчине, даже когда он пы¬
тался поставить, скажем, сказку.
Только через шесть лет Элем осуществил свою новую постановку «Спорт,
спорт, спорт». Эта картина была сделана по-новому, так о спорте никто не
рассказывал. Документальные новеллы о выдающихся спортсменах соеди¬
нялись с игровыми элементами, подлинные состязания соседствовали с ав¬
торскими фантазиями и музыкальными пантомимами. Это был жанр худо¬
жественно-документального кино, достаточно редкого в то время.
Жена Элема Климова, Лариса Шепитько, была под стать своему мужу —
высокая, стройная, красивая. Они с Элемом были абсолютно выставочной
парой — два великолепных экземпляра человеческой породы. Лариса была
талантливым режиссером. Ее фильмы «Зной», «Крылья», «Ты и я» и в осо¬
бенности «Восхождение» стали заметным явлением в нашем кино. И вот
страшная авария во время подготовительного периода фильма «Проща¬
ние», где погибают пять человек, в том числе режиссер Шепитько и опера¬
тор Чухнов.
После трагической гибели жены Элем делает фильм «Лариса», прощаясь
со своей подругой. И завершает, а по сути, снимает от начала до конца, за¬
мысел Ларисы. Фильм «Прощание» был закончен Элемом в 1981 году, че¬
рез два года после ухода Ларисы.
Подлинно трагической стала судьба фильма «Агония» (сценарий С. Лун¬
гина, И. Нусинова). Годы и годы потребовались, чтобы фильм, где расска¬
зывалось о последних годах русского самодержавия, «выполз» наконец на
экран. Блистательная, крупная, мощная работа Элема была подвержена
многолетним мучительным издевательствам со стороны киночиновников,
а может, кого и покрупнее. От режиссера требовали поправок, странных и
бессмысленных, это тянулось годами. Попутно инстанции браковали но¬
вые сценарии, которые предлагал Элем, обрекая тем самым Климова на
творческое молчание. Картине с великолепными актерскими работами
Алексея Петренко в роли Распутина и Анатолия Ромашина в роли Нико¬
лая II много лет не удавалось пробиться к зрителю.
Наконец Климов приступает к новому замыслу... «Иди и смотри» —
мощное антивоенное полотно, очень сильный фильм, страшный и жесто¬
кий. Вспомним веселую комедию о пионерском лагере, озорного Евгения
Евстигнеева и смешную Лидию Смирнову и сравним с последней мрачной
лентой Элема Климова. Силу этой картине придает не только мастерство и
талант Элема, но и мощь его ненависти. Эта ненависть к войне, к ее бесче¬
ловечности. Думаю, что чувство питалось еще и личными переживаниями
постановщика, его тяжелой судьбой.
Я помню Элема, когда он во время перестройки возглавил Союз кинема¬
тографистов, когда рушились идеологические преграды. Он стал признан¬
ным вождем киношного сообщества. Даже меня, который никогда не зани¬
мался общественной работой, он уломал, чтобы я тоже вошел в его секре¬
тариат, где азартно громили цензурные глупости, зашоренность и догмы
той реакционной идеологии. Климова называли кинематографическим
Горбачевым. Это был тогда большой комплимент, за которым скрывалась
вера в нашего руководителя, доверие к нему и гордость за него.
Но, конечно, Элем — трагическая фигура. Он был наделен мощным талан¬
том, который не реализовал и вполовину. И даже в годы перестройки ему не
удалось осуществить свою мечту — поставить «Мастера и Маргариту».
Я знаю, что в 1983 году Элем ездил с выступлениями от бюро кинопро¬
паганды в Свердловск (ныне Екатеринбург). Без афиш, без рекламы. Пото-
му что показывал на свой страх и риск (и организаторов) четыре части из
запрещенной, вроде и несуществующей «Агонии». Подумать только, ведь
он уже был Мастером! И было это всего-то за год да начала перестройки...
Судьба Элема Климова — еще одно свидетельство того, как тоталитар¬
ный режим фактически уничтожил светлого, талантливого, прекрасного
Человека и Художника.
2007 год
Александр Сокуров
Элем Климов сделал картины,
которые не будут забыты
Элем Климов — это человек, который имел все возможности для саморе¬
ализации, в борьбе, преодолевая, но он имел эти возможности. Судьба в со¬
ветском кино была сложной у всех, кто относился к профессии серьезно,
ответственно. И сделал он не мало, а, напротив, много, очень много — по
степени самоотдачи. Когда я смотрел «Иди и смотри», думал — все, это на
пределе возможностей человека, прежде всего в работе с актерами, дальше
уже нет пути. Не случайно он стал последним фильмом Климова — в нем
все сделано, по-моему. Я даже не могу представить, что бы он делал после.
Наверно, он мог бы сделать и больше. Наверно. Но он сам распорядился
своею жизнью так, как распорядился.
Шесть картин? Слава богу, что он их снял. Все они достойные, сильные.
Ему была подарена значительность в судьбе, он сделал картины, которые
не будут забыты, останутся. Известность у него была мировая. Сам он был
очень сильный, мощный, красивый человек, абсолютно цельный, сложив¬
шийся кинорежиссер. Я не вижу в его картинах каких-то сомнений, и по
серьезности их тем, и по художественным ресурсам. «Агония» — очень
сильная картина. Может быть, ее идейно-политическая направленность
не позволила тогда еще глубже проявиться каким-то художественным по¬
искам. И дело даже не в цензуре. Дело в той ярости, в энергии борьбы, ко¬
торые вообще были свойственны тому поколению режиссеров советского
кино. И не только в кино. Насколько иначе сложились бы судьбы Шоста¬
ковича, Ахматовой, если бы они не тратили себя на эту борьбу, на какой бы
еще художественный уровень они вышли! И в кино на Климове это отра¬
зилось очень сильно. Он был внутренне очень историко-политизирован-
ный человек. И он был человек, абсолютно востребованный тем временем.
А когда востребованность в борьбе, в этой внутренней ярости отпала, он
перестал снимать.
Есть у него абсолютно пронзительная вещь — фильм о спорте. Он произ¬
вел на меня сильнейшее впечатление. В «Иди и смотри» я отдаю должное
высокому его профессионализму и мастерству, смелости, но я понимаю,
как это сделано. Здесь же есть абсолютно непостижимые блестящие вещи,
где проявились его внутренние художественные пристрастия, где он нео¬
жиданно мягок, нежен, где проявилась его художественность в такой гума¬
нитарной смягченной форме.
Яростный, мощный человек... Для него и кино было, наверно, довольно
тесной дорогой. А востребованность его в тот период, известный нам как
перестройка, во многом, думаю, ограничивала его как художника. И я вос¬
принимал тогда с некоторой тревогой его назначение первым секретарем
СК, понимая эту его яростную внутреннюю заряженность. В первую нашу
встречу у него в кабинете он был бодрый, очень собранный, энергичный, он
горел, я помню много бумаг на столе у него. Потом — еще встреча в Доме
кино на вечере памяти Андрея Платонова. Я сказал ему, что процесс пере¬
стройки, который начат, должен бы идти мягче. Он отреагировал очень
резко. Агрессивно. Он очень верил в то, что делал.
Затем он изменился. Вскоре он осознал: на него буквально обрушилась
бюрократическая, бумажная административная работа. Не выполнялись по¬
рой решения секретариата, и все увязало в разговорах. Начались взаимные
обвинения. Обвинять Климова и тот секретариат в том, что они все развали¬
ли, конечно, несправедливо. Выдающаяся роль Климова и, конечно, Андрея
Плахова — прежде всего в снятии с «полки» запрещенных картин. Новое ру¬
ководство могло начать с чего угодно — они начали именно с этого. Но та ра¬
бота была все-таки тактикой. Дальше началась стратегия — отношения ки¬
нематографа и государства, а здесь торопиться уже было нельзя.
2007 год
Юрий Карякин
«Бесы». Неснятый роман
Встреча наша с Элемом произошла на первый взгляд (думаю, лишь на
первый) совершенно случайно.
Все началось с того, что большой, сильный, добрый и какой-то незащи¬
щенный Георгий Куницын в один прекрасный майский день (1971 года)
растерянно встречал приглашенных на банкет и каждому говорил: «Надо
же, провалили! Но ведь все уже оплачено. Не пропадать же...»
Кто-то из тех, кто был на защите его докторской в Институте филосо¬
фии, уже знал о том, что произошло, и смущенно помалкивал. Кто-то, вро¬
де меня, еще не знал, что случилось, и неуклюже пытался поздравлять
«именинника», но тут же осекался, глядя на его вытянутое лицо вконец
расстроенного человека. Да, провалили его защиту. Уж не знаю, какую «ан¬
тимарксистскую ересь» нашли ученые мужи-философы в культурологиче¬
ских тезисах этого убежденного марксиста. Или просто неприятели его (а
их было предостаточно у этого открытого и талантливого человека) наки¬
дали «черных шаров». Только докторская накрылась, но банкет должен
был состояться. Все мы были еще молоды, полны энтузиазма и веселья, и,
в конечном счете, наши дружба и приязнь друг к другу были важнее всех
этих докторских степеней.
...Все бы жить, как в оны дни,
Все бы жить легко и смело,
Не высчитывать предела
Для бесстрашья и любви
Вот в таком настроении рассаживались мы за накрытыми столами, и я
очутился рядом с очень высоким красивым молодым человеком, выделяв¬
шимся среди собравшихся гордой осанкой и каким-то цепким и насмешли¬
вым глазом. Нас познакомили.
— Элем Климов.
— Конечно, знаю. «Спорт, спорт, спорт»... Великое кино. Так понять и,
главное, показать, что силы человеческие — неисчерпаемы.
Разговорились и, как это бывает у русских людей, умудрились за часа
полтора-два каждый рассказать о себе все.
Я тогда, после исключения из рядов, попал в «черный список» непуб-
ликуемых и недозволенных к выступлениям. У Элема закрыли (вернее,
дважды приостанавливали запуск съемок) фильм, который он вынаши¬
вал несколько лет, — «Агонию». Но остановить его фантазию, его творче¬
ские замыслы не мог, конечно, ни один чиновник. Элем буквально фон¬
танировал идеями и придумками. Иногда приезжал к нам на Перекоп¬
скую в нашу пятиметровую кухню, чтобы просто рассказать новое, что у
него сочинилось.
Однажды звонит и без всяких объяснений непререкаемым тоном коман¬
дира десантного полка приказывает:
— Немедленно приезжай на «Мосфильм». Пропуск заказан.
— Что случилось?
— Все объясню при встрече.
Несусь на «Мосфильм». Элему разрешили снимать. Мимоходом мне
объясняет срочный вызов.
— Видишь ли, я сам когда-то дал себе зарок — в каждом фильме снимать
жену и друга. Иначе — потерплю неудачу. Вот, будешь сниматься с Лари¬
сой в сцене пьяной оргии Распутина в московском ресторане. Иди, одевай¬
ся. Лариса уже ждет.
Действительно, снял нас в странной мизансцене (снимал полдня, а на эк¬
ране это длится 30 секунд): я, весьма достойный господин из дворян, пыта¬
юсь защитить и увести от пьяных глаз разгулявшегося мужика молодую
московскую красавицу. Снять-то он нас снял. Весь фильм снял. Горел, весь
выложился, все свои придумки воплотил... И начались бесконечные при¬
дирки: исправить, прояснить, отразить... Элем ни в чем существенном не
уступал. Фильм положили на полку.
Кажется, в 1975-м или 76-м году (я тогда не вылезал из Театра на Таган¬
ке, где репетировали «Преступление и наказание» по моей инсценировке)
брат Элема Герман привез ему из Минска «Хатынскую повесть» белорус¬
ского писателя Алеся Адамовича. Я уже читал ее, но самого Алеся еще не
знал. Видел, что Элем загорелся новым материалом. При наших встречах
рассказывал, что пишет вместе с Адамовичем сценарий фильма по повести,
называл свой будущий фильм — «Убейте Гитлера». Рассказывал Элем о
своих замыслах так, что, казалось, уже нечего и снимать: перед глазами
вставали такие яркие картины, будто все наяву.
Но увидели мы этот фильм только через десять лет, в 1985 году, под дру¬
гим названием — «Иди и смотри». В том же году фильм получил первый
приз на Московском международном кинофестивале. Вот что записалось
тогда по горячим следам.
Для меня финальная сцена фильма, сцена «невыстрела» — это великая
метафора гуманизма, одна из самых убедительных, убеждающих, неотра¬
зимых в отечественном и мировом киноискусстве. Гуманизма не сладкой
бессильной фразы, а именно горького, сильного, действенного. Гуманизма,
в котором слились воедино мудрость, благородство, одоление, казалось бы,
абсолютно неодолимого, а еще, главное, непосредственность детского до¬
верчивого взгляда, сохранившегося, несмотря ни на что. Это — завет поко¬
ления, воевавшего в последней мировой войне, более того — завет всех по-
колений, воевавших в бесчисленных войнах в течение веков и тысячеле¬
тий, завет новым будущим поколениям: не стреляйте!
Да, это великая метафора гуманизма, великая победа гуманистического
мировоззрения, верность великой гуманистической традиции русской ли¬
тературы, литературы Пушкина, Достоевского, Толстого.
И вдруг понимаешь, как ее до сих пор не хватало, этой сцены! Вот по¬
следняя точка в войне! Вот последняя точка во всех войнах! Вот истинное
«сведение счетов» искусства с войной.
...Я вспоминаю выражение Адамовича о том, что никогда еще формула
«убить человечество» не соприкасалась столь тесно с формулой «убить
человека». Ведь нельзя сказать — не убий человечество, но можешь убить
человека. Почему? Да потому, что все и началось именно с «убий челове¬
ка». А если «убий человека» означает — убий любого, то это и значит, что
в конце концов можно убить всех. Остальное лишь дело техники. Поэто¬
му высший и единственно реальный гуманизм состоит не просто в том,
чтобы сказать (и осуществить) — «не убий человечество», не сказав (не
осуществив) — «не убий человека». Иначе будет лишь новая отсрочка са¬
моубийства человеческого рода. Как в химической реакции: вы бросаете
какой-то реактив, щепотку, кристаллик в раствор, а через определенное
время получаете всеохватывающую реакцию. Или как в биологии: массо¬
вая эпидемия от какой-то одной «трихины». Так и тут. Если брошена в че¬
ловечество «трихина», кристаллик такой «убий человека», то в итоге и по¬
лучим «убий человечество». И ничего другого не получим.
Я думал об этом, глядя, как Климов заставляет историю откручиваться
назад. Возникло странное небывалое чувство обратимости истории. Се¬
кунда — и воскресли миллионы. Секунда — и фюрер не фюрер, а ефрейтор.
Еще секунда, и он же — нормальный малыш... Для Климова это не «прием»,
не просто «находка мастера». Здесь у него — мысль, мысль глубокая, миро¬
воззренческая: нет фатальности, нет абсолютной предопределенности в пу¬
тях истории. Конечно, история — это не шахматы, но порой бывает так, что
случившегося могло бы и не быть, будь найдены и сделаны другие «ходы».
Может быть, когда-нибудь ученые докажут неопровержимо, какие и когда
реальные шансы избежать Второй мировой войны были упущены, кем и
почему. Позволяет же домашний анализ проигранной шахматной партии
найти роковую ошибку.
И вот, глядя на это откручивание истории назад, я думал: а покажи лю¬
дям, зачинавшим эту войну, ее результаты, их собственный конец, покажи
людям, не желавшим этой войны, но и не сопротивлявшимся ее подготов¬
ке, покажи им пятьдесят миллионов убитых, покажи Освенцимы и Хаты¬
ни, Хиросиму и Нагасаки, — неужели бы война эта произошла?
Давно сказано Гегелем, что вся история учит только одному: тому, что на
ее уроках никто не учится. Но к этой трагической иронии наше время сде¬
лало одно, но решающее добавление: если и сейчас уроки истории не будут
извлечены, то не станет и самой истории, вообще закончатся все и всякие
уроки. Вы видели, читатели, как гитлеровцы сжигали детей в церкви и как
они, дети, летали там, в церкви? Ну, так дело и идет к тому, что все дети, все
люди будут также летать над всей землей.
Все это — лишь небольшая часть мыслей и чувств, которые вызывает
фильм «Иди и смотри». Он обжигает не только огнем войны прошедшей,
но и огнем той войны, после которой, если она случится, сгорит уже все.
Фильм этот не только, а может быть, и не столько оглядывается назад,
сколько заглядывает вперед: только «невыстрелом» может быть спасена
жизнь на Земле.
«Иди и смотри» — слова из Апокалипсиса (глава 6), но весь фильм — о
неприятии «конца света», о суде над помыслами и деяниями, ведущими к
такому концу, о спасительном суде, который должен состояться до и вмес¬
то всеобщей атомной Хатыни.
Достоевский говорил: «Где наши лучшие люди? Всплывут во время
опасности». Именно такими людьми создан этот фильм. И он множит чис¬
ло таких людей....
(Запись восстановлена по публикации в журнале «Век XX и мир», № 12,
1985 год)
Но все эти мысли — уже задним числом. А тогда, в 75-76-м годах, когда
Климов с Адамовичем уже начали вплотную работать над запуском карти¬
ны, из Москвы послали «расстрельную команду» и фильм запретили.
Грешно говорить: но нет худа без добра. Элем приехал ко мне в Малеев¬
ку и предложил делать сценарий по «Бесам» Достоевского. Предложение
принял с радостью, тем более что сидел в это время над инсценировкой
«Бесов» для Театра на Таганке. Дал себе зарок: никаких чужих инсцениро¬
вок не читать, хотя на столе передо мной в качестве приманки-раздражите¬
ля лежала переведенная для меня с французского одной милой старой да¬
мой пьеса Камю.
Началась работа. Прежде всего, снова и снова читали сам роман и черно¬
вики к нему. Это новое запойное чтение и бесконечные разговоры напом¬
нили мне те страшные и просвещающие ночи конца 50-х годов, когда я и
мои друзья читали все еще запрещенных «Бесов», сопоставляя прочитан¬
ное непосредственно, в лоб, с только что полученной из доклада Хрущева
на XX съезде информацией о преступлениях сталинского режима.
«О, у них все смертная казнь и все на предписаниях, на бумаге с печатя¬
ми, три с половиной человека подписывают...» Да это же о сталинских
«тройках»!
«Все они, от неуменья вести дело, ужасно любят обвинять в шпионстве».
Да все наше детство построено на рассказах о шпионах!
«Мор скота, например. Слухи, что подсыпают и поджигают. Вообще, хо¬
рошенькие словечки, что подсыпают и поджигают». Опять будто о наших
20-30-х годах.
«Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема влас¬
ти: умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом. Этого вы не долж-
ны конфузиться. Надо перевоспитать поколение, чтобы сделать достой¬
ным свободы». Чем не большевистская программа создания «нового чело¬
века», но в устах — Петруши Верховенского.
«Кто не согласен с ним, тот у него подкуплен...» А это уж прямо замыка¬
лось у нас тогда на Сталина, как замыкались на его коллективизацию и
другие провидческие слова писателя: «Вы не постыдитесь написать, что вы
даете 80 миллионам народу только несколько дней, чтобы он снес вам свое
имущество, бросил детей, поругал церкви и записался в артели...»
Читали и не верили своим глазам: все это мы знали, все это слишком хо¬
рошо помнилось. Читали и, перебивая друг друга, чуть не на каждой стра¬
нице: «Не может быть! Откуда он это знал?» Конечно, прежде всего было
потрясение непосредственно политическое. Но оба, Элем в особенности,
готовы были к духовному развитию, к художественным открытиям.
Мы будто нашли клад — великий роман-предупреждение, в котором да¬
на гениальная и самая ранняя диагностика бесовщины, той, что захватила
не только нашу страну на многие десятилетия, но и расползлась по всему
миру. В виде левого экстремизма и современного терроризма всех мастей и
религиозно-национальных одеяний. Мы хотели «перевести» роман на
язык кино и язык современности. Именно «перевести», а не пересказывать
его языком кино. К тому же сразу сошлись на том, что будет перекличка с
самыми современными сюжетами бесовщины. Вот хроника террора «крас¬
ных бригад»... Похищают Альдо Моро... Петруша Верховенский рассужда¬
ет о пушечном мясе прогресса, а современные бесы взрывают вокзал в Бо¬
лонье. Более того, Элем - он всегда фонтанировал идеями — предлагал уже
при написании сценария оставить открытым финал. Оба были уверены в
том, что жизнь принесет такие «сюрпризики», которые и Федор Михайло¬
вич не мог предвидеть.
Я вспоминаю, что как только мы с Климовым заговорили о возможности
киноинтерпретации «Бесов», услыхали (буквально!): «И заикаться, и ду¬
мать — не смейте! Чтобы эту дрянь (так, так было сказано) — в кино?!..» До
сих пор храню резолюцию из 12 пунктов бывшего большого идеологичес¬
кого начальника — П.Н. Демичева, согласно которой «советский зритель
никогда не увидит «Бесов» ни на сцене, ни в кино».
Запомнился трагикомический эпизод нашего проталкивания идеи экра¬
низации «Бесов». Пошли с Элемом к ответственному работнику ЦК
КПСС Вадиму Загладину... Поскольку я работал с ним еще в Праге и с тех
пор сохранял приятельские отношения, надеялся на подмогу. Принял он
нас у себя дома очень дружелюбно и гостеприимно. «Да» и «нет» — не го¬
ворил, но сомнения большие высказывал. Я ему об угрозе левого террориз¬
ма во всем мире, о бесчинствах «красных бригад»... Соглашается, но... И тут
я напоследок выпалил: «Ну, вам в вашем ЦК не хватает только, чтобы тер¬
рористы захватили какого-нибудь президента». Ушли.
Прихожу домой и первое, что вижу в телевизионных новостях, террори¬
сты в Италии захватили лидера Христианско-демократической партии
(премьера) Альдо Моро. Тут же звоню Вадиму: «Ну, поздравляю. Будете
ждать еще?.. Финал остается открытым!»
Естественно, «пробить» тогда «Бесов» ни в советском кино, ни в совет¬
ском театре было невозможно. Но сами-то мы с Элемом от идеи «перево¬
да» «Бесов» Достоевского на язык кино не отказались. Более того, у меня,
по крайней мере, именно после совместной творческой работы с Элемом
сложилась театральная композиция. И я на несколько лет буквально «за¬
болел» темой бесовщины.
Бесы у Достоевского — это не социально-политическая категория, равно
как и не религиозно-мистическое понятие, — нет, это художественный об¬
раз, образ духовной смуты, означающий сбив и утрату нравственных ори¬
ентиров в мире, образ вражды к совести-культуре-жизни, образ смертель¬
но опасной духовно-нравственной эпидемии. Любовь к человечеству, к
«дальним» — вместо любви к человеку, к «ближним», неспособность лю¬
бить другого, как самого себя, — та же бесовщина (потому и названо: «ад»).
Бесы — это и образ людей, одержимых «жаждой скорого подвига», жаждой
получить «весь капитал разом», одержимых страстью немедленно и в кор¬
не переделать весь мир «по новому штату» — вместо того, чтобы хоть не¬
много переделать сначала себя.
И нет у Достоевского, в сущности, ни одного социального слоя, группы,
«института», ни одного политического движения или духовного учения,
которому не угрожали бы свои бесы, — даже в православии их сколько
угодно. Да и героя почти ни одного нет, в котором не сидели бы бесы.
Помню, какое впечатление на Элема произвели последние сны Расколь¬
никова (у него родились фантастические киношные версии): «Появились
какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела
людей. Но эти существа были духи, одержимые умом и волей. Люди, при¬
нявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими...»
Элем всегда, как мне казалось, был немного склонен к мистике. Его не¬
удержимая фантазия уже рисовала картины вселения «бесовщины» в лю¬
дей, в города, в современный мир. Он очень легко в наших разговорах и при
наброске сценария переходил от текстов Достоевского к современности, к
страшному и точному образу современного бесовского террора, к угрозе
существования уже не только отдельных людей, народа, но и всего челове¬
чества, особенно в условиях технологической доступности ядерного унич¬
тожения мира (вот вам «сюрпризик» — несет себе в красивом лакирован¬
ном кейсе этакий современный человеконенавистник Петруша Верховен¬
ский очень элегантную ядерную бомбочку!).
Стали с Элемом перечитывать другие произведения Достоевского под
этим новым углом зрения и убедились в очевидном, в том, что нет среди
них ни одного, где не было бы этой темы бесовщины, не было бы образов
бесов. Вот Раскольников говорит: «А старушонку ту черт убил, а не я» (по¬
том из этого зерна вырастет разговор Ивана Карамазова с чертом). В чер¬
новиках Достоевский набрасывает образ Раскольникова: «гордость демон-
ская», «тут злой дух», «весь характер во всей его демонской силе», «бесов¬
ская гордость», «гордость сатанинская»... И то же самое о Свидригайлове:
«бес мрачный», «моменты черного духа», «бестиальные и звериные на¬
клонности»... Точно так же и о Ставрогине. Даже об Алеше Карамазове —
«бесенок сидит».
Вдруг по-новому зазвучали слова Степана Трофимовича, прозревающе¬
го перед смертью: «...это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и бе-
сенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России,
за века, за века!»
Тут о бесконечной трудности исцеления идет речь, а еще — о круговой
поруке, о незримом сговоре всех и всяких бесов — даже тогда (особенно
тогда), когда они борются меж собою. Бесы против бесов, бесы изгоняют
бесов — и такой есть вариант, и он-то самый опасный, потому что действи¬
тельно безысходный: получается все более «дурная бесконечность», когда
бесы всех видов нуждаются друг в друге, а потому без конца и порождают
друг друга. Но признать эту бесконечную трудность исцеления — это и есть
первый шаг к нему. А надежду на исцеление Достоевский не оставлял ни¬
когда: «Люди могут быть и счастливы, не потеряв способности жить на
земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состояни¬
ем людей» («Сон смешного человека»). Опять здесь прорывается не про¬
сто «неортодоксальная», но «еретическая», даже атеистическая, в сущнос¬
ти, надежда и — мука: «доводы противные» и «жажда верить».
«Великий и милый наш больной» — для Достоевского это, конечно,
прежде всего, больше всего Россия, но — тоже, конечно, — и весь, весь мир,
Земля наша и весь род человеческий, а бесы — это все язвы за все века. Пе¬
ред нами — высшее художественное обобщение, великий, поистине вселен¬
ский художественный образ (и уж, конечно, не только, да и не столько изо¬
бражение нечаевщины или бакунизма 70-х годов XIX века).
Тут у нас с Элемом было полное взаимопонимание.
Элем предлагал разрезать художественную ленту документальными кад¬
рами. Он не боялся самых парадоксальных столкновений реальности и ми¬
стики, характеров и фантазий.
На время мы с Элемом расстались. Он поехал в Москву — пробивать сце¬
нарий по инстанциям.
В июле случилась самая страшная трагедия в его жизни: погибла Лариса.
Элем был честен и в жизни, и в творчестве. Он сумел сделать свою хро¬
нику нашей жизни. Мог бы сделать больше? Кому дано право судить? Да,
хотелось бы увидеть снятое кино «Бесы». Его нет. Но замыслы творца по¬
рой важнее их воплощения.
Вадим Абдрашитов
Жизнь оказалась короче
Время его призвало, и Климов возглавил наше сообщество в очень слож¬
ный и противоречивый период. Я не знаю никого, кто бы мог взять то, что
взвалил на себя Элем.
Не всем он был удобен, не все успевали за ходом времени. И сам Элем
иногда не успевал — время менялось слишком быстро.
В каком-то смысле он был романтиком и пребывал в некоторых иллюзи¬
ях, жизнь и сообщество наши оказались сложнее.
Элем был абсолютным бессребренником, бескорыстным, честным, пря¬
мым человеком. Он отдавал себя делу целиком. Лидерство в союзе было
для него не общественной работой, а способом жизни. И, к сожалению, как
всегда бывает, эта жизнь, отданная общему делу, отдалила его от главного
призвания — режиссуры. Ради нашего сообщества он пожертвовал собою,
своими художническими амбициями. Думал вернуться в кино — жизнь
оказалась короче.
Эту драму художника и человека, драму нашего коллеги, товарища и дру¬
га не следовало бы забывать, ибо это часть нашей общей жизни. И в этой
жизни был крупный человек, замечательный художник — Элем Климов.
Журнал «Кинофорум», № 1,2004 год
До 1978 года мы едва были знакомы. Неожиданно он позвонил, оказыва¬
ется, он искал меня в Ленинграде, не знал, что я уже живу в Москве. Он
прочитал мою пьесу «Мы, нижеподписавшиеся» и хотел встретиться —
сказал, что у него есть соображения, как на основе этой вещи сделать кино.
Я снимал в коммуналке комнату для работы недалеко от метро «Кропот¬
кинская», Элема я встретил у выхода из метро, по пути мы купили что-то
выпить, не помню, коньяк или водку, и пошли ко мне.
Тут необходимо в трех словах рассказать сюжет моей пьесы. Комиссия
из Москвы приехала в небольшой город принимать новый хлебозавод. Об¬
наружив ряд недоделок, члены комиссии, их было пять человек, акт не под¬
писали и возвращаются поездом домой. В тот же вагон, что и комиссия, са¬
дится молодой человек, диспетчер стройки, с задачей: пока поезд доедет до
Москвы, сделать все возможное, чтобы акт был подписан. О том, как он
этого добивался, пока шел поезд, и почти уже было добился, но все-таки не
добился, и рассказывает пьеса.
По дороге от метро Климов сказал, что в этот сюжет надо внести таинствен¬
ное начало. Я несколько насторожился. Но только когда мы оказались в моей
комнате, выпили по рюмочке, Элем объяснил, что он имеет в виду. В поезде,
в этом же вагоне, где расположились действующие лица, едет еще один чело¬
век, высокий худощавый мужчина, с какими-то особенными глазами, облада¬
ющий безграничной силой воздействия на психику людей. Видя, как наш ге¬
рой бьется, чтобы получить подписи членов комиссии, поняв, что это необхо¬
димо для защиты руководителя стройки, честного человека, которого, если
акт не будет подписан, снимут с работы, «мистик» начинает помогать герою.
Под его воздействием — в каждом случае это весьма оригинальное воздейст¬
вие, учитывающее индивидуальные особенности членов комиссии, — акт ока¬
зывается подписанным. Это происходит фактически против их воли. Они
подписали акт, который подписывать не собирались. Ведь руководитель ко¬
миссии получил сверху указание — даже если хлебозавод в полном порядке,
акт все равно не подписывать. А они подписали. Председатель комиссии, опо¬
мнившись, требует подписанные экземпляры акта обратно, чтобы порвать.
Но акты исчезли — в портфеле, куда диспетчер их положил, их нет. Возника¬
ет скандал. А поезд уже подъезжает к Москве. Чем история закончится, Элем
еще не придумал, но не сомневался, что конец будет очень сильный.
Александр Гельман
Он был человек
с очень сложным,
особенным строением психики
Предложение Климова вносило серьезное изменение в мой замысел — по
существу, героем фильма становился другой человек, мистическая лич¬
ность. Я не был готов к такой подмене. Но Элем был уверен: присутствие в
моем сюжете мистического момента переводит эту историю совсем на дру¬
гой уровень. Советскую систему, сказал он, без вмешательства чудодейст¬
венных сил не одолеть, требуются совместные усилия таких людей, как
этот парень, твой герой, и своего рода Вольф Мессинг. Мне тогда показа¬
лось, что он и в самым деле всерьез надеется на спасительное вмешательст¬
во в нашу жизнь мистических начал. Элем был удивлен, что я не знаком ни
с одним московским мистиком, обещал познакомить. Несмотря на то что у
меня оставались некоторые сомнения, мы договорились: я за неделю на¬
бросаю проект заявки, он предварительно прозондирует отношение Госки¬
но к такого рода идее. На этом мы расстались.
Прошло дня три или четыре, звонит Климов: «Саша, ты уже начал писать
заявку?» — «Нет» — «Не пиши — они не хотят, чтобы я делал такой фильм.
По-моему, они вообще не хотят, чтоб я что-то снимал». Он не стал гово¬
рить, у кого он был, на вопросы не отвечал, голос был какой-то скрипучий,
произнес только: «Видишь, как...» — и положил трубку.
Когда через два года Татьяна Лиознова начала снимать для телевидения
фильм «Мы, нижеподписавшиеся», Элем позвонил, расспросил что да как.
Я ему рассказал, каких артистов на какие роли выбрала Лиознова, кто из
операторов будет с ней работать. Он послушал, послушал и сказал: «Она
снимет неплохую картину, можешь не сомневаться, но то, что я хотел сде¬
лать, это было бы совсем другое, не просто хорошая картина».
Общих творческих интересов у нас больше никогда не возникало. Изредка
встречались, оказывались иногда за одним столом или за соседними столика¬
ми в ресторане Дома кино, не более того. Во времена перестройки мы не¬
сколько раз обстоятельно разговаривали на сугубо политические темы, наши
взгляды на бурные события тех лет в чем-то расходились, но не сильно.
И только в самые последние годы его жизни, не могу толком объяс¬
нить, с чем это было связано, как это вышло, между нами возникли осо¬
бо доверительные отношения. Мы сравнительно часто встречались, не¬
редко только вдвоем, я бывал у него дома, подолгу говорили по телефо¬
ну. Элем читал мне по телефону свои новые стихи. Некоторые были по-
настоящему интересны, неожиданны. В Доме кино он в ту пору почти не
появлялся, выпивали в случайных забегаловках, о делах союза никогда
не говорили. Дети, здоровье, книги, политика — темы, которых мы чаще
всего касались. Помню минуты его необыкновенно яркого вдохновенно¬
го настроения, когда он вспоминал свое детство, какие-то странные слу¬
чаи, встречи, — он рассказывал живо, красочно, саркастически описывал
ситуации и личности, голос у него был молодой, звенел. Но почти каж¬
дый раз — неожиданно обрывал себя, умолкал, замыкался. Если дело
происходило в кафе, выкладывал на стол какие-то деньги, свою долю,
извинялся, просил не провожать, уходил. Спустя час-другой, обеспоко-
енный, я звонил ему домой, обычно он уже находился на месте, еще раз
извинялся, клал трубку.
Он был несомненно человек с очень сложным, сугубо индивидуальным,
особенным строением психики. Меня не покидало ощущение, что его тер¬
зали какие-то внутренние противоречия, которые ему не удавалось разре¬
шить или примирить. Душа его была ранена, рана не заживала, не затяги¬
валась. Ему трудно было ладить с собой. Были моменты, когда ему стано¬
вилось настолько тяжело, мрачно, что это мгновенно передавалось тем, кто
находился с ним рядом. Меня не было в Москве, когда он умер, когда его
хоронили. Я помню Элема только живым. Надеюсь, на том свете душа его
успокоилась.
2007 год
Юрий Норштейн
С первого фильма
он предъявил себя как личность
Я с Климовым познакомился в 1985 году, когда меня по совершенно непо¬
нятным мне причинам позвали в секретариат Союза кинематографистов
СССР. Он и был одним из инициаторов этой идеи. Хотя я не из тех людей,
которые могут этим всем заниматься. И через полтора года я ушел, потому
что совершенно не соответствовал той атмосфере стрельбы, тем стрелам, ко¬
торые там летали, я просто ничего не понимал. Так бывает, когда приходишь
в компанию людей, а они уже привыкли говорить на каком-то своем языке.
На V съезде я не был, но когда первым секретарем стал Климов... Ну, что
говорить. Климов — это была настолько сильная личность, это было имя.
Достаточно просто назвать его фильмы, чтобы понять масштаб его лично¬
сти и таланта. Уже первый фильм «Добро пожаловать....» исключительный
по всем координатам. Я и сейчас и тогда не «крутился» в киносреде, я про¬
сто пошел и посмотрел фильм в кинотеатре и был абсолютно ошеломлен.
Причем делать такой фильм достаточно опасно, можно легко скатиться в
сусальность или в комедийность такую, «детскую». А он сделал масштаб¬
ный грандиозный фильм, который, по-моему, сразу «прошил» всех кине¬
матографистов. Он, безусловно, стал тогда событием. Элем рассказывал
мне, что Евстигнеева никак не хотели утверждать на роль Дынина, тогда он
сказал, что вообще не будет снимать. Выбор актера — это понимание ре¬
жиссером будущего фильма, режиссура начинается с выбора актера.
Когда Климов пришел в кино, сразу стало понятно: пришел человек,
мужчина, который знал себе цену, понимал, что он обязан уважать зрите¬
ля, он себя сразу предъявил как личность. И я думаю, что начальство это
тоже сразу же отметило и ждало своего часа, чтобы его задавить, потому
что оно не любит ощущать себя в роли побежденного.
Я долго не был знаком с Климовым. Первый раз мы встретились в 1979
году, на получении Госпремии, он получал за Ларису уже после ее гибели,
вместе с ее мамой, и вот тогда мы с ним впервые как-то так переглянулись,
взглядами встретились. Наверное, он знал мои фильмы, потому что, когда
уже позднее он пришел ко мне в студию, подарил и надписал книгу о Ла¬
рисе и, подписывая, упомянул про «Ежика в тумане». А тогда мы просто
кивнули друг другу. Вот, собственно говоря, это и было наше, если можно
так сказать, знакомство. А потом уже, годы спустя, была работа в секрета¬
риате, с чего я и начал. А настоящее знакомство, это был 1986 год, когда од¬
на моя знакомая, которая работала в Союзе кинематографистов, предло¬
жила мне показать Климову материал к «Шинели». А нас тогда выставили
из павильона на студии, в общем, были проблемы. И Климов собрал на
просмотр весь секретариат. Он очень ко мне хорошо отнесся, материал ему
понравился. Надо сказать, что он был одним из немногих режиссеров, ко¬
торые чувствуют качество мультипликации. И, как правило, если режиссер
чувствует мультипликацию — это режиссер высокого класса. Вот тогда
Климов и начал пытаться мне помочь, хлопотать, возникла эта идея с со¬
зданием моей студии в будущем Доме-музее Тарковского. Но потом все это
затихло, Элем ушел со своего поста, музея Тарковского так и нет, да и сам
дом его на Щипке снесли...
Уже много позже я увидел «Агонию» и оценил картину по самым выс¬
шим категориям. Я вообще не понял, как у него могло хватить сил снимать
такое кино. Климов мне говорил, что напряжение было таково, что иногда
ему казалось, он не выдержит и покончит с собой. Но это все видно в мате¬
риале фильма, в его сосудистой системе. Он невероятно плотен, он весь
пронизан нервным кустом. Это абсолютно очевидно. У него всего шесть
фильмов — что это для режиссера такого масштаба? Сколько времени у не¬
го украли, сколько сил ушло в прорву!
Я знаю, что отношение и к Климову, и к его фильмам очень неоднознач¬
ное. Одни считали его таким жестким, жестоким, тираном, человеком, с ко¬
торым вообще невозможно разговаривать, не способным на добро, на по¬
ступки. Я категорически с этим не согласен. Судя даже по нашим немногим
с ним разговорам, я чувствовал, что внутри него таится такой тонкий, неж¬
ный человек. Но он не хотел, чтобы это выходило наружу, это было его
личное. Вот как он стихи писал и никому первое время их не читал, и мне
тоже ничего не читал, только говорил, что пишет стихи, и все. А по поводу
того, что кино не снимает, он говорил, что то кино, которое сейчас все сни¬
мают, он делать не хочет, а на то, которое хочет, денег не дадут. Вот такое
время было тогда. Это, кстати, был тогда тот самый синдром необузданной
свободы, которая понимается не как способность себя собрать, обузить и
тем самым возвысить. Это та свобода, которая никогда не соберется в яс¬
ную форму, как и свобода мышления, которая превращается в такую лужу,
когда нет в этом опрятности, строгости, когда просто идет и ничего больше.
Такое ощущение у меня давно. Кажется, что добрались до полной свобо¬
ды, на самом деле — до полного своего уничтожения. Это не означает, что
я апологет советской власти, но нельзя же так — давайте выбросим все к
чертовой матери и начнем с белого листа. Да не получится ничего с белого
листа! И все кинематографисты на себе ощутили этот колоссальной силы
удар. Если посмотрим на судьбы, то те, кто работал тогда, в советское вре¬
мя, оказались в состоянии полной растерянности, и творческой и человече¬
ской. Что же касается Климова, то я, повторяю, мог только чувствовать, что
у него внутри, он никогда об этом со мной не говорил. Но думаю, что он и
тогда знал, как снимать и про что снимать кино. Он не смог, по-моему, пе-
режить сам факт слома братства, товарищества. Произошел распад, то, что
Гамлет называл «распалась связь времен». И в этом разрыве появилась
чернота, которую ничем не заполнишь... Разорванные нервы не склеивают¬
ся. И вот это его последнее одиночество, когда он сам себя ото всего отре¬
зал, решительно, как и все, что он делал, так, как он всегда поступал, он был
человек решительный... И он просто решил, что, раз так, нужно просто се¬
бя вырвать из этого всего.
Конечно, система кровеносная разрушена. Конечно, все равно все реша¬
ет и спасти все может только братство, товарищество. Не знаю, как там в
Голливуде, но у нас своя кровная история кино, свои особенности, и надо
это знать, беречь и чувствовать. Я видел все климовские картины, кроме
«Иди и смотри», и каждый раз, когда они шли по телевизору, я ему звонил.
А «Иди и смотри» от меня постоянно «уходил». Однажды я даже пришел в
кинотеатр — отменили сеанс! И по телевизору когда он идет — я обязатель¬
но куда-нибудь должен ехать или идти.
У Климова было редчайшее сочетание — трагедийного дара и невероят¬
ного дара комедийного. Комедийный его дар не был рассчитан на массы,
быть может, в нем не было открытой клоунады, наоборот, был некий тай¬
ный трагизм, которым пронизана и картина «Добро пожаловать», иначе в
ней не было бы финальных кадров, когда Дынин среди молочных бидонов
с чемоданчиком уезжает из лагеря. У Климова нет желания растерзать это¬
го героя, обличить, растоптать. У него есть сочувствие к судьбе несостояв-
шегося, быть может, некогда талантливого человека.
Я вот думал, если снимать фильм о Гитлере, это еще до фильма Сокуро¬
ва «Молох» было, — как снимать? Что, о кровожадном злодее? Но ведь бы¬
ла же какая-то точка, когда все это началось? Хотя я и не видел «Иди и
смотри», но я знаю его финал, когда мальчик не может выстрелить в Гит¬
лера-младенца. Это абсолютно точная и тонкая придумка Климова — до
какой стадии человек дойдет и где не сможет поднять руку, даже зная, чем
этот младенец закончит?
А присуждение мне премии «Триумф» — это была его идея. Я ни сном,
ни духом. Могут подумать, что мы с ним дружили. Ничего подобного.
Один раз я был у него дома. Мы были на «вы» всегда. Я узнал о «Триум¬
фе» по телефону от приятельницы: “«Юр, тебе там какую-то премию при¬
судили!» А я не поверил ей. Опять звонок, уже от другого человека: «Пре¬
мия “Триумф»! Ну, уж тут я так и сел. «Триумф» — премия очень высоко¬
го уровня. И потом только я узнал, что, оказывается, это Элем меня выдви¬
нул. Наверно, кто-то думал, что вот я подольстился к нему, но ведь он в
принципе был не тот человек, его абсолютно нельзя ничем «купить» было.
И тогда я попросил жену написать натюрморт из «Сказки сказок» и отвез
в подарок Элему. Оказалось, тот день был днем рождения Ларисы, но о ней
мы с ним ни тогда и вообще никогда не говорили.
2005 год
Михаил Беликов
Марафонец
Время, которое прожил Элем Климов, — это мгновение. Слишком рано
для всех нас ушел он из жизни. Забег этот, длиною в жизнь, можно считать
рекордом в беге на самую короткую дистанцию. Бурный и яростный
спринт, когда на финише падаешь без сил. Жить ему и жить! Но если по¬
считать, сколько он успел сделать за это время, — это марафон. Пользуюсь
спортивной терминологией неспроста. Элем был спортсменом-профессио¬
налом, знал спорт, понимал и любил его. Если учесть, что профессионалом
он был и как режиссер, то это уже серьезно. Это диагноз! Из него следует,
что Элем — человек с определенной генетикой, которая еще при рождении
сформировала его характер.
Он поступил в Институт кинематографии в 1958 году. Тогда и состоя¬
лось наше знакомство. Он играл за сборную ВГИКа в баскетбол, я — за
сборную по футболу. Я не помню, был ли он капитаном, но лидером точ¬
но. И лидерство это было не крикливое, никакой дешевки. Оно было мол¬
чаливое, спокойное, без всяких претензий на диктатуру и очень последо¬
вательное и постоянное в своей жизненной позиции. Это качество дано
ему от Бога и на протяжении всей жизни составляло его главную черту
как режиссера, спортсмена и человека. Пришел он во ВГИК как уже со¬
стоявшийся гражданин и художник. В то романтическое время шестиде¬
сятников мода на Ремарка, Хемингуэя, Феллини и Тарковского была
ошеломляющая. Считалось дурным тоном, как минимум, не зарыдать на
каком-нибудь обсуждении о своей приверженности к этому вероиспове¬
данию. Климов, несомненно, зная, изучая и отдавая дань новым веяниям
в искусстве, никогда истерично не клялся посвятить себя в творчестве
«только самым высоким идеалам». На тему идеалов он вообще всегда
молчал. Даже его средневековая любовь к Ларисе не выпячивалась. Лишь
однажды, незадолго до смерти, он признался, что Лариса — самое доро¬
гое, что у него было в жизни.
Его первая большая картина «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен» имела огромный зрительский успех, что по тем временам в
элитных кругах не всегда являлось достоинством. Но в этом и был весь
Климов. Ему плевать было, что этот фильм по эстетике являлся классиче¬
ски традиционным. Его волновал классически традиционный маразм
функционеров — создателей нашего «светлого будущего». И он молчал...
Это молчание он погружал в себя, когда тысячи бездарностей вопили о
своей преданности идеалам светлого будущего, а через секунду проклина¬
ли это будущее, сжигая перед телекамерами копии партбилетов, оригина¬
лы которых прятали в двойных карманах.
Его единогласно избрали в 1986 году руководителем Союза кинемато¬
графистов, тогда еще СССР. Ситуация была абсурдна — голосовали едино¬
гласно, чтобы быстрее отправиться в банкетный зал и «врезать». Но был
сухой закон, и вместо водки налили сельтерскую. С недоумением избира¬
тели смотрели друг на друга: «Цирк!!!» Этот «цирк» остро чувствовал и по¬
нимал Элем и через пару лет, не дождавшись перевыборов, тихо ушел в от¬
ставку.
В его картине «Спорт, спорт, спорт» есть кадры, когда спортсмен-мара¬
фонец, не выдерживая напряжения, нечеловеческих нагрузок, падает... Это
и был Его финиш...
г. Киев.
Журнал «Кинофорум», № 1,2004 год
Шавкат Абдусаламов
У него будто бы открытая рана была.
А он не залечивал...
Сначала я познакомился с Ларисой Шепитько. Но работа с ней над «Бе¬
лорусским вокзалом» не сложилась. Потом Элем пригласил меня худож¬
ником на «Агонию». И первое, что я увидел, понял: он слушает, он умел
слушать то, что ему говорит, предлагает художник. Он вообще никогда не
играл «в режиссера» на площадке. Не кричал, все тихо, спокойно. Знаете,
часто так — придешь на площадку и сразу видно, кто главный. Он мог ме¬
ня попросить, когда я вроде и не нужен был на съемке: «Шавкат, приходи
завтра, просто посиди в сторонке». Он был теплый человек. К нему тяну¬
лись люди.
Элем сделал для меня на «Агонии» очень важную вещь — добился, что¬
бы «Мосфильм» снял неподалеку мне мастерскую, большую мастерскую,
где я мог работать во время съемок «Агонии». Он видел, что мне негде бы¬
ло работать. И там мы собирались, Элем приходил, приводил друзей, мы
фантазировали. У нас были очень дружеские отношения, никаких кон¬
фликтов. Я могу так сказать: он был товарищ. Далеко не про каждого ре¬
жиссера это можно сказать. И я тоже чувствовал, что могу помочь ему. Он
мог признать свою неправоту, но в этом я лишь вижу его силу. Он ни пе¬
ред кем не играл в режиссера, еще раз повторю, это надо бы сегодня моло¬
дым усвоить. И его не просто любили в съемочной группе, а глубоко ува¬
жали. Потому что он не давал другим команды, а сам первым все делал и
в болото лез, мы же всю натуру вместе с ним выбирали для «Иди и смот¬
ри». А я, знаете, в молодости был такой... дерзкий. Лариса говорила наше¬
му общему другу: «Ты скажи, чтобы Шавкат не вёл так себя с Элемом.
Элем очень хороший режиссер». А ему и нужен был человек-возмутитель,
чтобы вскочил, заорал, я и был такой. Сейчас другой. Потом картину
«Иди и смотри» закрыли, меня пригласил Тарковский на «Сталкера»,
Элем какое-то время был обижен, по-моему. Дальше девять лет я жил за
границей. Приезжал сюда на похороны Альфреда Шнитке, там увидел
Элема. Он мне говорил тогда, что пишет стихи: «Представляешь, чем я
стал заниматься?»
Он был чистый человек. И потому ранимый. Он и Лариса — это было не¬
раздельно. Есть такие люди, которые умеют любить всю жизнь. Он такой.
У него будто бы все время открытая рана была... Вроде надо бы присыпать,
залечить. А он не залечивал...
Он был мощный, стихийный, природный человек. Очень закрытый. От¬
крывался только самым близким, кто не воткнет в спину нож.
От съемок «Агонии» у меня остались самые замечательные впечатления.
Элем свел меня с БДТ, с Товстоноговым, я пересмотрел весь репертуар,
когда мы снимали в Ленинграде. Знаете, мы с ним устроили розыгрыш та¬
кой — пришли к Товстоногову, там застолье, и я прикинулся иностранцем,
ни слова не знающим по-русски, и так весь вечер «общался» только с Эле¬
мом, на «тарабарщине», и все поверили!
А как ему «сверху» мешали работать на «Агонии»! Если бы он мог сде¬
лать в этой картине все так, как им задумывалось! Он относился ко всему
в работе так: это надо знать! Мелочей, небрежностей не было и не могло
быть. Ни в деталях быта эпохи, ни в костюмах, ни в персонажах, ни в мас¬
совке. Мы обошли тогда, готовясь, весь Петербург, до самого «дна», пото¬
му что Элем говорил: «Шавкат, надо знать!» Приходили какие-то старуш¬
ки, приносили платья, шляпы старинные, вещи...
Об «Иди и смотри» я ему говорил, что это не кино, это большее, чем та¬
кое «гладкое» кино, единая неделимая масса такая, и она страшная. Не ис¬
ключено, что он гений, и он, и Лариса, а они нераздельны абсолютно! Не
исключено.
Мне кажется, ему не надо было идти в первые секретари. Он же худож¬
ник, зачем художнику должность, он должен был это чувствовать. Но он
верил в то, что делал. Мы все верили. Что такое была перестройка для нас?
Улучшить, отремонтировать. Это при Горбачеве. А потом является эта ма¬
рионетка Ельцин, громадный пьяный человек, и Дом кино стоя его привет¬
ствует, и все очарованы! Я думаю, Элем все это понимал и так и не смог се¬
бя простить, он был совестливый человек. Тонкий, нежный человек. Мог
быть и очень взрывным! Однажды в компании он дал человеку пощёчину...
Каждая его картина — это классика, начиная с «Добро пожаловать!». И ав¬
торитет у него был огромный, задолго до того, как он стал первым секрета¬
рем. Многие думали, что ему помогал отец, он работал при ЦК партии, это
вздор, у него были те же проблемы, что и у других.
Никогда Элем не кичился, у него не было никакой фанаберии: если ты
пошел в искусство — вкалывай, и все. Так он понимал это, таково вообще
было то поколение режиссеров.
2007 год
Алексей Кравченко - Анатолий Павленко
Климов для меня как космос
— Алексей, что для тебя на сегодняшний день режиссер Элем Германович
Климов?
— Элем Германович Климов — та личность, тот человек и режиссер, ко¬
торый научил меня всему, что я умею делать, и даже больше. Готовясь к ка¬
кой-то работе, всегда помню, как он научил меня сгорать на работе, зажи¬
гать и палить себя до той степени, пока не получится что-то, чего нельзя
объяснить словами, работать даже не на сто процентов, а больше, не жалеть
себя абсолютно. Сталкиваясь в своей профессии со многими режиссерами
и партнерами, понимаешь, что никому ничего не надо. Когда мне задают
вопрос, был ли у меня какой-нибудь фильм, который бы дошел до планки
«Иди и смотри», я всегда без стыда говорю, что такого фильма не было и,
думаю, не будет. Потому что мне не встретился больше такой режиссер, как
Элем Германович Климов.
У Климова был очень цепкий, колючий глаз — этого не описать словами.
Помню, как он подошел ко мне однажды перед командой «мотор» — ре¬
жиссер, который для меня просто бог — и говорит: «Это нужно сделать
так». Просто на меня смотрит своим колючим взглядом и не говорит —
как. И тут я реально почувствовал от него энергию, которую обязан был
принять, как-то в себе ее развить и выдать то, что было нужно режиссеру.
Причем как физический человек я на тот период не понимал смысла слов,
которые он мне говорил, но в этот момент я почувствовал, что мне не надо
его понимать на уровне слов, мне надо его понимать на уровне энергетики.
— Сколько лет тебе тогда было?
— Четырнадцать. И до сих пор я следую его учению, не побоюсь этого
слова, и считаю это абсолютно правильным. Без стеснения могу сказать,
что у меня был момент, когда я просто начал его копировать, но не специ¬
ально, как современные дети смотрят на кумира и начинают ему подра¬
жать, а на энергетическом уровне — наверное, как сын отца копирует. Кто-
то сделал мне замечание: «Ты зачем делаешь, как Элем Германович?» Я не
сразу понял, что желваками играю. Климов для меня как космос. Его мож¬
но было только принимать и следовать какому-то его настрою. Когда он
мне сказал: «Надо похудеть: сорок восемь часов голодания в неделю», то на
тот момент я достиг такой степени собственной отдачи во благо дела, что
голодал в начале недели, в конце недели, да еще и бегал при этом. Причем
бегал так далеко, что водители, которые ездили по той дороге на съемки,
спрашивали меня : «Кто тебя сюда привез?» Я отвечал: «Никто. Я сейчас
отдохну десять минут и побегу обратно». У людей был шок, они не пони¬
мали, как это. Видимо, ребенок с ума сошел и поэтому так занимается. Ни¬
каких психических сдвигов, естественно, не было. Просто я понимал: полу¬
чая такой плотный заряд, ты не можешь быть амебой. Ты готов был разо¬
рвать, спалить себя, лишь бы только сделать. Даже чувство самоудовлетво¬
рения было от сделанного. Помню, как снимали сцену, когда мы вылезали
из болота. И я понимал, что сделал, мне было тяжело, но я это сделал, и мне
хотелось еще большего — и это, конечно, заслуга режиссера. Никто так
больше ни с кем сегодня не работает. Даже наоборот, если работает — то
кардинально в обратную сторону: «А давай кино снимем... Нормально,
спальный район посмотрит», и ты понимаешь, что все очень плохо.
— Расскажи, как ты попал к Климову.
— Я учился в школе и был, мягко скажем, хулиганом. У меня была куча
«попадаловок» — когда я оказывался в ненужном месте в ненужное время.
Для директора школы я был просто изгоем. Мой одноклассник, зная о
том, что я оторва, предложил съездить на «Мосфильм». Я спросил его:
«Зачем?» Он говорит: «Там пробы проводятся». Раньше по радио объяв¬
ляли: приглашаются мальчики или девочки с определенным цветом во¬
лос, глаз. От меня все это было очень далеко: какой «Мосфильм», какое
кино? Я даже близко ни о чем таком не думал. Я болел, горел, спал и ви¬
дел электрогитару, для меня превыше всего была музыка, я не думал о ка¬
кой-то творческой деятельности в плане актерства. На «Мосфильм» я по¬
ехал просто за компанию. Я был мальчик с окраины, как я себя называю,
и «Мосфильм» увидел первый раз в жизни. Там была куча народа, все к
чему-то готовились, кого-то родители причесывали. И я приехал такой,
чуть ли не в телогрейке.
И, как всегда бывает, тот, кто очень хочет, — не попадает, а тот, кто про¬
сто приехал за компанию с корефаном, — попал. Во мне что-то вдруг по¬
вернулось. Когда я вошел в помещение, где помощники режиссера смот¬
рели и отбирали детей, я понял, что мимо всех проходят, а кого-то отберут.
Мимо кого-то сразу проходят — не подходят. Эти люди уходят, подходят
новые. А мимо меня проходят и задерживаются на мне взглядом. И я чув¬
ствовал — «нет», но отказывались нерешительно. Я переходил в другую
сторону круга. Помощники доходили, опять на меня смотрели, и я пони¬
мал, что в их взгляде не было: мы тебя уже видели. Снова подходили бли¬
же, смотрели — нет. Я даже помню, как мы специально одеждой поменя¬
лись с одноклассником, подумали, прямо детский сад какой-то — по не¬
скольку раз подходим. Я втиснулся в куртку своего товарища, которая бы¬
ла мне мала. Помощник режиссера уже была другая женщина, она подо¬
шла ко мне, подвела к окну и сказала: «У него синие глаза. Давайте попро¬
буем его сфотографировать». Сделали фотографию. Подвели меня к ком¬
нате, отгороженной ширмой. Я зашел туда, там находилось несколько че-
ловек, стояли кушеточка и тумбочка. И мне сказали: «Надо сыграть такую
историю. Представь, здесь умерла твоя мама. Твоя реакция». И все в уго¬
лок отошли и смотрят на меня. Не знаю, откуда у меня появилось: «Мама,
мамочка, мамочка»... Причем не громким криком «ма-а-а», а как-то с под¬
ходцем я это сделал, не играл ничего, просто слезы у меня появились. Я сам
от себя этого не ожидал, это для меня был нонсенс. Они сказали: «Все-все-
все, хорошо, все». Истерики не было. Я повернулся — они все в слезах сто¬
ят. Дальше назначили приехать в другой день знакомиться с режиссе¬
ром. Я пришел в его кабинет. Увидел первый раз Климова. Высокий.
— Красавец.
— На тот период я этого не понимал. Я понимал, что передо мной стоит
очень строгий дядька и от него почему-то невозможно оторвать глаз. Если
он на тебя смотрит — ты не можешь ничем другим заниматься, ты будешь
как кролик на удава смотреть. Это не значит, что я его боялся, но изначаль¬
но к нему было огромное уважение, трепет. Потому что сказать о нем, что
это безумно сильная личность — не сказать вообще ничего. Он сказал что-
то вроде: «Привет, как тебя зовут?» Я знаю, что на пробах прошло огром¬
ное количество детей — не только на «Мосфильме», но и по другим горо¬
дам. Потом Элем Германович говорит: «Надо посмотреть хронику концлаге¬
рей». Меня привели в маленький зальчик. Хроника длится четыре часа. Ска¬
зали: «Договоримся так: ты не переживай, надоест, будет неинтересно или
страшно — смело можешь выйти, дверь открыта». Я сидел один в этом зале,
просмотрел всю хронику до конца, понял, что сеанс окончен. Дальше — ни¬
когда этого не забуду, всегда буду помнить об этом — я вышел, вышел в шо¬
ке, потому что понял, что до сих пор я видел по телевизору только кусочки
из тех лент, которые мне тогда показали. Я увидел там крематории, пытки —
это словами не передать. Я пришел к Элему Германовичу в кабинет, сказал,
что посмотрел. Он даже не слушал — он и так понял, что я досмотрел до
конца. Вдруг он говорит: «Пойдем чайку попьем, там тортик стоит». Я счи¬
таю, что в этот момент в моем организме что-то щелкнуло, детство у меня
закончилось и началась юность, правильная юность. Я сказал: «Нет, торт я
не буду. Чай... Я вообще ничего не буду». Я считаю, что в начальный мо¬
мент переходного возраста Бог послал мне Климова, потому что именно он
сделал из меня личность, заложил правильные кирпичики, после чего я на¬
чал правильно думать, мыслить.. Я отказался от этого торта, отказался от
чая и потом уже понял, что это было первым шагом к тому, чтобы Элем
Германович допустил меня к пробам. Дальше было три пробы — сцены из
сценария.
— Понятно, если мальчик после увиденного пьет чай и ест торт — зна¬
чит...
— Да, если он не ест торт — значит, давайте его попробуем. А я наотрез
отказался. Три пробы длились три дня. Первая далась очень легко, прямо
как на льду; она показалась мне легкой. Вторая была чуть сложнее, она
дольше длилась, там были поправки. Режиссер смотрел, давал мне какие-
то новые введения. А третья проба мне не давалась совсем. Причем в пла¬
не физики я просто сидел на стуле, ничего не делал. Но, признаюсь, из все¬
го, что Элем Германович мне говорил, я не понимал ни слова — для меня
это были какие-то заумные слова, и я никак не мог схватить энергетику,
которая просто выливалась из него. Когда у него иссякали силы, он выхо¬
дил из кабинета, приходили другие люди, его помощники. Они со мной
работали, и так длилось, по-моему, целый день. Мне хотелось сделать то,
чего от меня хочет режиссер, но я не понимал, не знал как. Видимо, в ито¬
ге Климов все же довел меня до нужной кондиции, и я что-то такое сделал,
что они все запрыгали как дети, стали кричать «ура», и я понял, что про¬
бы прошел.
Но это было еще не все. Не менее важным фактором было следующее:
понять, гипнабилен я или нет, то есть поддаюсь ли я гипнозу?
— Я хотел коснуться этой темы, так как вокруг имени Климова ходило
много разговоров о том, что он занимался с актерами неким гипнозом... Ко¬
нечно, с теми его глазами, о которых мы говорили выше, — это неудивитель¬
но, мы понимаем, о чем речь. Я достаточно хорошо его знал, порой чувство¬
вал это на себе. Я хотел спросить тебя как человека, точно имеющего к это¬
му отношение. Для меня до сих пор остается загадкой, как четырнадцати¬
летний мальчик не из актерской семьи, из ниоткуда, смог такое выхлест¬
нуть на экран — это до истерики можно было смотреть, говорю совершен¬
но искренне, потому что я тогда уже повзрослее тебя был. После фильма
«Иди и смотри» я хотел бросить консерваторию, приехать к Климову и
сказать: «Хочу у вас учиться». И много позже судьба распорядилась так,
что я все-таки с ним познакомился... Скажи, пожалуйста, гипноз вообще
имел место у Элема Германовича?
— Лично у него? Думаю, что это было ему присуще. Вспоминаю его мане¬
ру разговора в простой, дружественной форме: очень негромкий голос, с ка¬
кой-то неимоверной иронией ко всему. Но в этой иронии нет пошлости —
знаешь, когда человек может иронию выплеснуть на тебя, и ты уже не хо¬
чешь заниматься тем, что тебе было интересно. Здесь наоборот — ты еще
больше хочешь этим заниматься. Уже потом, приезжая к нему, я рассказы¬
вал, что занимаюсь музыкой, и когда уходил от него домой, понимал, что я
полон сил, что хочу заниматься тем или иным.
По поводу гипноза. Элем Германович нашел психолога, и он со мной за¬
нимался. Дело было даже не в гипнозе, а в аутотренинге. Я знаю, что Элем
Германович сам этим занимался и часто говорил мне, что нужно научиться
аутотренингу, и объяснял, для чего. Опять-таки энергетически я понимал,
что это мне нужно, но осмыслил только потом и до сих пор практикую это
на себе. Я знаю, что всегда можно себя ввести в гипноз и отдохнуть, наст¬
роиться. А тогда мне надо было ездить в психиатрическую больницу, рабо¬
тать — имею в виду учиться аутотренингу. Были четвертые пробы — по
гипнозу. Меня привезли. Я не знал, что будет, что такое гипноз, мне даже
было чуть-чуть страшно. Надо мной стоял дядька и спокойным голосом го-
ворил, ставил какие-то задачи, я слушал только его — наверное, это и есть
гипноз. Уже шли съемки фильма. Наступила трудная сцена, — мы к ней
шли, мне о ней постоянно напоминали, я подсознательно готовился к ней —
когда мой герой Флера закапывает голову в болото. Я знал, что хотели, что¬
бы я играл ее под гипнозом. Перед съемками приехал этот врач, проводил
со мной сеанс. Но я понимал, что хочу эту сцену сыграть сам, без гипноза.
Я сказал это Элему Германовичу. Думаю, что он меня все-таки услышал и
доверился мне. С моей колокольни ситуация выглядела так: мне уезжать
на съемки, ко мне пришел врач и предлагает сейчас ввести меня в гипноз.
И тут у меня самосохранение сработало. Я понял: сейчас ты введешь меня
в гипноз, и в этом состоянии я отыграю эту сцену, а я этого не хочу. Тут
юношеское, правильное самолюбие взыграло во мне. И в момент гипноза я
просто взял и открыл глаза. Врач испугался, говорит: «Закрываем глаза,
ложимся, ничего не помним». И у меня было огромное облегчение, потому
что я понял, что, слава тебе господи, он не будет меня своим гипнозом му¬
чить и нормальный Кравченко поедет со всеми в автобусе, доедет и на съе¬
мочной площадке будет дальше работать над образом. В итоге так и вышло.
Съемки проходили в Березинском заповеднике. Снята сцена была с одно¬
го дубля. Начали снимать. Уже работает камера, я уже иду к месту, где я за¬
капываю голову, уже сажусь на колени, больше могу сказать, уже голову
опустил в болото, уже закопал себя, уже чувствую, как Оля, партнерша, ме¬
ня тянет (нужно правильно сесть по мизансценам), а я не знаю, как мне это
делать. Я только вижу, даже не вижу, а чувствую взгляд Климова. Не могу
даже объяснить, что это за взгляд был. А голос внутри меня говорит: «Я не
знаю, как это делать». И что-то во мне срабатывает, такое почти не бывает
в жизни — когда ты себя отпускаешь целиком и дальше себя не контроли¬
руешь. За тебя кто-то что-то уже делает. И была команда «стоп». Элем Гер¬
манович ко мне подлетел, обнял меня, поцеловал, и я понял, что получи¬
лось. Так что не все просто, думаю, мистики здесь много.
— Скажи, пожалуйста, на съемках что был за человек сам Климов?
— Меня часто по сей день спрашивают: Климов — тиран? Он кричал, бил
тебя? Начинают передавать слухи, будто он ни во что меня не ставил, изде¬
вался, как хотел.
— Нужно было посмотреть в глаза этого человека, чтобы понять, что он
никогда в жизни не мог этим заниматься.
— Я всегда говорю: ни разу он на меня не кричал. Когда мы жили в Бере¬
зинском заповеднике, я жил отдельно — мне специально сняли одноком¬
натную квартиру, чтобы я не в общей группе находился, а варился в своей
каше. Я у местных ребят нашел велосипед и катался на нем перед гостини¬
цей. Окно было открыто — лето, жарко. Климов стоит у окна, смотрит, как
я катаюсь. А я не просто катаюсь — мне же на дыбы надо встать, надо себя
показать — а я так умею, и так. Пацанство. И я понимаю, что он смотрит и
вижу, Климов мне кулак показывает. Меня вызывают к нему. И он мне
спокойно сказал: «Значит, так. Если ты упадешь — у тебя будут ссадины,
синяк или еще что-нибудь. Мы завтра снимаем продолжение того же кад¬
ра, который был вчера. Вчера у тебя этого не было, сегодня может быть».
Это было такое техническое объяснение. Я все понял: «Все. Больше не по¬
вторится». Я очень слушался его. Слышал, как он кричал на кого угодно, но
чтобы в мой адрес кричать, тем более бить — это же ненормальность. Элем
Германович долгое время не хотел, чтобы я был актером.
— Почему?
— Он мне как-то сказал: понимаешь, если ты пойдешь в театральное, там
тебя...
— Хочешь, я тебя опережу?
— Давай.
— Заставят очень много сниматься «в войне». Повесят на тебя авто¬
мат...
— Теперь я тебя опережу. Во всех фильмах, где я снимаюсь, в основном я
снимаюсь с оружием. Как меня зовут? — Мальчик с ружьем.
— Серьезно?
— Да. Когда мне в присутствии Климова задавали вопрос, как само собой
разумеющееся, о поступлении в театральное училище, он говорил: «Не на¬
до тебе никакого театрального — там тебя просто испортят». Жизнь повер¬
нулась так, что я, как все, пошел в армию служить. Более того, попал на три
года. Когда я попал на службу — именно попал, по-другому не скажешь —
во Владивосток на три года в подводный флот, по полной программе, то все
офицеры, кроме командира моей части, в которой я прослужил полгода и
ушел на повышение, говорили: «О, а чего это? Такие не служат... Ты дурак,
что ли, что попал на службу?» Меня никто не «отмазал», у меня не было
волосатой руки. Я был как все. Было много разных эмоций, но я понимал,
что не могу на службе превратиться в слизняка. Это был следующий ход
моего развития. Знаешь — огонь, вода и медные трубы? Огонь мне очень
нравится...
— То есть ты поступал в театральное после армии.
— Мне сказали: сначала иди послужи, а потом мы тебя возьмем. Я зимой
пришел со службы и понимал, что я не успеваю подготовиться, потому что
после трех лет службы особо умными не приходят, книжек, как правило,
не читаешь. К тому же я еще работал в кооперативе, у меня была семья —
такой молодой да ранний был. И получилось так, что, отработав в коопе¬
ративе, я понял, что не могу там работать, мне чего-то не хватает, потому
что постоянно назойливо возникает мысль: а дальше чем заниматься?
Только театральное училище, потому что ничего другого не хотелось. За¬
ниматься музыкой в нашей стране — дорогое удовольствие, и оно не при¬
несет ничего. Значит, надо иметь профессию. Я приехал к Элему Германо¬
вичу и осторожно сказал, что хотел бы поступать. Вдруг он меня спросил:
«А куда?» Я говорю: «В Щукинское». Он говорит: «На сегодняшний день
хороший выбор. Давай». Но не больше. Я пошел поступать. Дальше у меня
все складывалось очень странно. Мне позвонила одна известная режиссер-
ша и предложила главную мужскую роль в картине. Я съездил в ее город,
попробовался. Затем встала проблема партнерши — не могли найти подхо¬
дящую актрису, перепробовали кучу людей, все было не то. Вдруг мне зво¬
нит какая-то женщина и говорит, что ее дочь завтра должна ехать на пробы
и ее возьмут в том случае, если там буду я. На что я ей ответил, что при¬
ехать не могу, так как заранее предупреждал о том, что у меня вступитель¬
ные экзамены в Щукинское училище. Она мне трезвонила всю ночь. К ут¬
ру начались угрозы: «Ты вообще никуда не поступишь! Думаешь, на «Иди
и смотри» свет клином сошелся?»
А дальше я начал поступать, и сейчас станет ясно, к чему я об этом рас¬
сказываю. Я сдал экзамены и недобрал одного балла. Как выяснилось
впоследствии, кто-то кому-то что-то шепнул. Уже много позже, через че¬
тыре года, Владимир Абрамович Этуш выпускал спектакль. Я играл в нем
главную роль и постоянно опаздывал на две минуты на репетиции. И за
каждые две минуты Этуш объявлял мне строгий выговор с предупрежде¬
нием и однажды дословно сказал: «Сука, я тебя люблю, но еще раз опозда¬
ешь — я тебя выгоню». Я понял, что опаздывать нельзя. Потом, в Венесу¬
эле, мы сыграли этот спектакль, завоевали первое место, разговорились с
Владимиром Абрамовичем . Он пошел навстречу — я понял, что авторитет
завоеван. И Этуш в первый раз мне сказал: «У тебя тяжелое было поступ¬
ление, там был кто-то против тебя». А тогда я приехал к Климову и сказал,
что недобрал одного балла. Элем Германович спросил: «А ты им сказал, что
снимался в «Иди и смотри»? Я говорю: «Нет, но они же знают, наверное».
Он или написал письмо, или позвонил Этушу — я точно не знаю — и ска¬
зал: «Завтра отвези ему диск». Я отвез диск, а на следующий день я учился
в Щуке. И до сих пор в моей жизни ничего просто так не делается. У меня
такое ощущение, что у Климова было много завистников и врагов.
— Причем сам он был совершенно не враждующий человек.
— Но тем не менее ему завидовали. Сколько раз слышал, как ругали
«Иди и смотри»: так кино снимать нельзя, это вообще не кино, а что-то не¬
вообразимое. Как правило, я уходил от этих разговоров — я такой человек,
что мне проще по голове настучать, чем с такими людьми разговаривать.
Помню, как я получал грант от премии «Триумф». Элем Германович был
членом жюри. Я к тому времени уже снялся в нескольких фильмах. Меня
вызвали на церемонию, вручили грант. Я был безумно счастлив. Увидел
Элема Германовича, подошел к нему, и он мне с грустью сказал: «Это с мо¬
ей подачи». И я понял, что если бы не Элем Германович — ничего бы не бы¬
ло. И до сих пор ничего не бывает просто так.
— Диск с фильмом «Иди и смотри», по-моему, мог быть серьезным осно¬
ванием для поступления в любое высшее театральное заведение. А сам бы не
додумался принести его на экзамен?
— Во-первых, диск был только у Климова. А во-вторых, я ему благодарен
за то, что он научил меня не только какой-то там глобальной энергетике
или передал какое-то учение, а за то, что научил меня обыденной гребан-
ной этой жизни, тому, как у нас все делается. Что тут еще скажешь — и так
все ясно.
— На сегодняшний день сколько у тебя фильмов?
— Не знаю, никогда не считал их. Много. Некоторые я даже вспомнить
не могу. «Мальчику с ружьем», как правило, предлагают однотипные ро¬
ли. У нас сейчас всем продюсеры заправляют. Продюсеры говорят: «Мы
хотим на эту роль Кравченко». Режиссер спрашивает: «А можно я его на
другую роль попробую?» — «Попробуй, если он захочет, а сыграет он спец¬
наз». Категория ролей такая: боец спецназа, менты, следователи и фээс-
бэшники — то есть все силовые структуры. Когда я заканчивал училище,
мы играли дипломный спектакль по Достоевскому «Чужая жена и муж под
кроватью». Это комедия. На спектакль я позвал Климова. Он пришел. По
училищу разнеслось: Климов, Климов в театре! Я никогда не забуду, как
сыграл этот спектакль. Сколько за год успеваешь отыграть дипломных
спектаклей? А это был единственный, сыгранный на таком подъеме. Пото¬
му что я понимал, что у меня один зритель в зале сидит — Климов. Зритель,
который не будет умалчивать, успокаивать, что все нормально. Если будет
плохо, он скажет об этом так, что потом еще год над собой работать будешь.
Но слава богу, что энергетика, которая постоянно от него исходила, пере¬
далась мне и спектакль я на правильном драйве сыграл.
Поэтому когда до сих пор пытаешься сменить амплуа, всегда очень слож¬
но. Надо постоянно доказывать какому-то дяде, что ты можешь это сыг¬
рать. Например, у меня есть работа, которая, слава богу, не связана с ору¬
жием — мелодрама, комедия. И еще не видя меня в работе, продюсеры
спрашивают: «А зачем вы Кравченко взяли? Он же костолом, он будет го¬
лову отворачивать, из автомата стрелять, как вы его на эту роль взяли?»
Режиссер или съемочная группа говорят: «Вы посмотрите, а потом погово¬
рим». Смотрят, потом мне перезванивают: «Слушай, мы не ожидали». Ме¬
ня это на самом деле обижает.
Но при этом у меня есть еще другая стезя — театр. Потому что без театра
актеру конец. Семь лет я отработал в Театре Вахтангова пятым грибом с
левой стороны на заднем плане. Изливал душу Климову. Потом всех моло¬
дых артистов, тех, кто поработал в театре до десяти лет, вызвали к Ульяно¬
ву. Причем всех вызывали командами по несколько человек, а меня Улья¬
нов вызвал одного. Я знал, что у театра нет средств содержать большую
труппу — просто шла чистка, убирали ненужных. Я пришел к Михаилу
Александровичу. Ему было очень тяжело говорить, он пыхтел, стонал,
охал. В итоге вымолвил, что я плохой актер и контракт со мной больше за¬
ключаться не будет — то есть мы тебя выгоняем. Для меня это был удар. Он
мне сказал, что у меня в кино очень хорошо получается, а вот в Вахтангов¬
ском театре я не могу играть. А я понимал, что у меня просто ролей в теат¬
ре нет и это опять чьи-то интриги. И я честно сказал: «Хорошо, я вас понял,
Михаил Александрович, я ухожу». Спокойно встал — я же люблю себя
(знаю, были такие, кто рыдал у Ульянова в кабинете: отец родной, не выго-
няй). И, не побоюсь сказать, был у меня человек, на кого хотелось равнять¬
ся, который никогда ни под кого не гнулся. Климов.
Более ничего Ульянову я не мог сказать. Мы пожали друг другу руки, и
я ушел. Мне рассказали, что Ульянов потом кричал: «Я ему еще ничего не
сказал, а он уже встал, такой крутой, и уходит. Ну и пускай идет отсюда».
В конце года, когда я доигрывал спектакль, мне было сказано, что состоял¬
ся худсовет — а в него входит почти вся труппа театра — и постановил не
заключать со мной контракт. Правда, в итоге выяснилось, что худсовета не
было, просто несколько человек решили меня убрать — их раздражал мой
мобильный телефон и то, что я ни от кого не завишу. Было какое-то преду¬
беждение: вроде, кого растим? Снова интриги. Актеры убедили меня еще
раз подойти к Михаилу Александровичу и попросить еще год поиграть на
контракте. Я наступил на себя, подошел. Какое бы у меня ни было отноше¬
ние к Михаилу Александровичу, царствие ему небесное, но все-таки каж¬
дый человек любит себя. Я сказал, что год еще могу поиграть, а там решим.
Через год он снова меня вызывает, но говорит уже другое: «Ты настолько
талантлив, что в театре тебе ничего не светит. Я тебе как старший брат го¬
ворю, без объяснения причин, просто поверь, что здесь у тебя работы не бу¬
дет... Но ты талантливый, молодой, ты себя найдешь». После этого разгово¬
ра я уже окончательно ушел.
А дальше все вышло так, как и сказал Ульянов. Не прошло года, как мне
позвонил театральный режиссер Кирилл Серебренников и пригласил на
главную роль в спектакль на малой сцене Пушкинского театра. После ака¬
демического театра, где все помпезно и пыль священна, я столкнулся с со¬
временной пьесой, с нецензурными выражениями. Это было сложно для
меня, и первые пять дней все думали, что я убегу, да и я сам уже начал при¬
думывать ходы, чтобы свалить с этого спектакля. И слава богу, что не сва¬
лил, потому что с этого момента началась моя театральная стезя. Ведь не
секрет, что кино — оно то есть, то его нет, к сожалению. Мы играли этот
спектакль, потом Кирилл начал ставить в МХТ им.Чехова, и на данный мо¬
мент у меня уже четвертый спектакль Кирилла Серебренникова. Каждый
его спектакль — это ощутимая волна и в прессе, и среди зрителей. Сейчас
мы выпустили новый спектакль — «Человек-подушка»... Мне очень помо¬
гает в этой работе все учение Климова, потому что эту роль нельзя сыграть,
в нее можно только погрузиться. Я играю героя — моего ровесника, но с
развитием семи-восьмилетнего ребенка. Он не дебил, не даун, но в детстве
родители его пытали, мучили, и хотя физиологически он рос, психологиче¬
ски он закрылся, остался на уровне маленького мальчика. Это очень слож¬
ная роль. В день спектакля уже с утра я отключаю телефон, начинаю кон¬
центрироваться, как учил меня Климов, и понимаю, что по-другому ниче¬
го не получится. Можно выйти на сцену, сыграть это технически, но я счи¬
таю, что это неправильно. Здесь надо проживать, палить себя, просто жечь.
Собственно, я так и делаю. Причем зрители, которые смотрят в театре мои
разные спектакли, не ассоциируют меня с моими киноролями. Они гово-
рят: «Не может быть! Это тот самый из «Спецназа»? Мы думали, что Крав¬
ченко — это только спецназ, а он вообще другой». Или такое: «Это вы сни¬
мались в «Спецназе»? Не может такого быть!» У зрителей даже нет этих
ассоциаций, и мне это нравится. Театр — это единственный мой конек, где
я могу сломать свое амплуа.
Могу сказать, что все артисты, которые снялись у Элема Германовича в
первый раз, впоследствии сделали блестящую карьеру — по меркам страны,
в которой мы живем. У него была своя «фишка»: он никогда не брал на глав¬
ную роль узнаваемого человека. Климов открыл зрителям Евстигнеева,
Алису Фрейндлих, Петренко, Мягкова. Благодаря этому человеку столько
удивительных актеров появилось на экранах.
Когда я узнал, что Элем Германович ушел, у меня был шок. Я даже гово¬
рить не мог. Всегда можно было к нему приехать, рассказать свои страхи,
свои радости. Я закрутился, но всегда звонил ему, узнавал, как дела. Все
было в порядке. Когда случилась эта трагедия, я не поверил. Позвонил Гер¬
ману Германовичу, он все объяснил, и я понял, что помочь уже ничем нель¬
зя. Светлая память!
2007 год
Алексей Герман
Немигающие глаза
Климов, каким я его помню, был человеком, что называется неоднознач¬
ным. Если говорят, что человек сложный, это почти всегда одни только об¬
щие слова. Но он был действительно сложный, он был человек безумный.
Достаточно вспомнить его немигающие глаза.
У человека гибнет жена. Мужчина молодой, красивый, даже веселый —
больше никогда ни на ком не женился! У него был абсолютный культ Ла¬
рисы. И когда он показывал мне «Иди и смотри», то посадил в зале меня,
Светлану, еще кого-то, и сказал: «Извините, хочу показать сначала «Лари¬
су». Показал эту картину, и потом уже пошел тот фильм, на который он нас
позвал.
На фестивале в Голландии, в отеле, я упер у консьержки бланк и попро¬
сил написать Плахова: с вас столько-то и столько-то за просмотр 11-й теле¬
программы порно. Плахов долго упирался, но потом написал по-англий¬
ски, и я подсунул под дверь Климову. Мы со Светланой съезжаем, и вдруг
видим, как Климов с долларами и с нашим бланком идет платить. Я мчусь
за ним, говорю: не плати, это я написал. Он говорит: «Да нет, это я, навер¬
ное, ткнул вечером и уснул, там канал до утра и работал, вот же из гости¬
ницы бланк». — «Да их же тут спереть можно, вот же они лежат, бери — не
хочу!»
— Нет, я на всякий случай заплачу.
И вдруг:
— Как же это ты мог, ты же не пишешь по-английски!
Я говорю:
— Это Плахов написал!
Пришел Плахов, говорит:
— Я написал эту глупость под диктовку Германа, извини.
Элем говорит:
— Нет. На бланке, и я должен заплатить.
С фильма «Иди и смотри» я вышел с ощущением леденящей ненависти
к немцам, американцам, к кому угодно, кроме русскоговорящего населения.
Но этому виной, безусловно, была мускулатура, железная мускулатура ре¬
жиссуры. Я всегда, когда смотрю, нравится мне или не нравится, вижу: сде¬
лано это рукой мастера или подмастерья. Я всегда чувствую, где Страдива¬
ри, а где «Красный Октябрь». По первым кадрам. Так вот в этом смысле
это, конечно, был Страдивари. Я «Агонию» смотрел два раза, потому что
чувствую тяжелую руку художника. Как там, в «Медном всаднике», — «тя¬
желозвучное скаканье»?..
Как-то я сидел у Климова, он в это время был дико знаменитый, потому
что его «Агония», запрещенная здесь, пошла на Западе. Раздался звонок в
дверь. И пришла какая-то делегация венгров, поклониться патриарху со¬
ветского кино. Они его восхваляют. И вдруг Элем сделал следующее, он
сказал: «Я предлагаю выпить вот за этого человека, вы его не знаете, пото¬
му что он запрещен. Я предлагаю выпить за него, потому что он умеет
больше, чем мы все». Сам ведь он так не считал, режиссеры так друг про
друга считать не могут. Но я был в это время в чудовищном положении.
Снимать не мог, везде запрещен, чем заниматься, не знал. И Элем это ска¬
зал, я запомнил.
Помню, как пригласил я их с Андреем Смирновым смотреть «Лапшина»,
тогда еще пребывавшего на полке. Элем всегда говорил очень резко, и тут
рубанул наотмашь: нет, мне не нравится кино. Это было очень обидно.
«Нет, мне не нравится, это гигантский шаг назад после «Двадцати дней»,
это стена, в которую ты уперся, демонстрация мастерства». А из другого уг¬
ла раздался крик Смирнова: «Так вот, мы с ним не разговариваем несколь¬
ко лет и не здороваемся, но я могу слово в слово повторить все то, что ска¬
зал он. Я присоединяюсь к каждой запятой. И если два противоположных
человека тебе говорят, что это катастрофа, что это не смонтировано, ты
должен лечь». Тут я тоже вскочил и закричал: «Вы два Сумарокова, сторон¬
ники трех единств, старперы, которые работают только с народными арти¬
стами. Что вы вообще понимаете в попытках другого языка, другой форма¬
ции, это картина о том, что никогда не получится» и т.д. Крик продолжал¬
ся полтора часа. Но вот интересно — чем то время отличалось от этого. Мы
поехали ко мне, продолжая чудовищно оскорблять друг друга, поехали до¬
пивать и ругаться. И каждый стоял на своем. Более того, когда эту картину
стали смотреть в Комитете по Ленинским и Государственным премиям
СССР, никто не досмотрел и все ушли, тогда именно Климов со Смирно¬
вым быстро перебросили документы в комитет РСФСР, и я получил Гос-
премию России. Они это сделали, совершенно не принимая картину. А тог¬
да мы прокричали до пяти часов утра. И это совершенно не отразилось на
наших отношениях. Сейчас это кажется чем-то странным и невозможным.
А тогда вот как было.
Записала Любовь Аркус
Алексей Петренко
Это был настоящий пророк
Он был моим родителем в кинематографе — редкий, красивый, русский,
вселенский человек. Какое страшное испытание ему было и от судьбы и от
людей! Его гноили в бездействии, но в духовном противостоянии этому
проявились его сила и величие, он давал нам урок своим мужеством и вы¬
держкой. Какая сумасшедшая фантазия у него была! Как он рассказывал о
том, что не мог осуществить! С каким юмором! При этом — до ногтей мис¬
тик. Это был настоящий пророк. Мистический кинопророк с юмором. По¬
трясающий, неподражаемый и ни с кем не сравнимый. Прости нас, Элем,
что никто не смог тебе помочь выйти из бездействия, что никто не раскрыл
для тебя свои кошельки. Те люди, кто мог это сделать, наверное, не пони¬
мали, насколько это нужно, а те, кто понимал, этого не хотели. Прости.
Прощай.
«СК-новости», № 15-16, 6.11.2003 года
Глеб Панфилов
Он ушел победителем
Ушел Элем Климов, наш товарищ. Невольно окидываешь взглядом то,
что он сделал. Он стал патриотом Родины 22 июня 1941 года. Говоря о нем,
испытываешь интимное чувство — не для фразы, не для прессы, тем более,
не для телевидения. Для ощущения себя в этом мире. И этим чувством про¬
низаны все его работы, начиная с первой, остросатирической, талантливой
и кончая его великими трагедиями. Трудна жизнь режиссера в кино, это
каждый знает. Недаром ее сравнивают с самыми тяжелыми и опасными
профессиями. Самое сложное испытание ему выпало в последнее десятиле¬
тие, когда он выключился, перестал снимать и думал о том, что будет сни¬
мать дальше. Но снимать не удавалось, и здесь, мне кажется, трудности
приобретают звенящий трагический смысл. В такой ситуации устоять, ос¬
таться самим собой, не предаться отчаянию, злобной ненависти на судьбу,
на жизнь могут только особые, крупные личности, каким был наш Элем
Климов. Меня поражало, каким он в последние годы стал мягким, добрым,
доброжелательным. Ушло желание показать, что мы можем и лучше, кото¬
рое является необходимым качеством в петушином возрасте. Остались до¬
брота, любовь к друзьям, желание им помочь. Это его делало мудрым и, по-
моему, счастливым человеком, несмотря на трудности, которые ему выпали
в жизни. Потому что он был человеком гармоничным, жил в ладу с самим
собой. Материальное его никогда не интересовало, а в последние годы —
особенно. Он жил напряженной, содержательной жизнью — Элем писал
стихи. Мне кажется, это было высшим выражением гармонии, в которой он
пребывал. Он ушел победителем.
«СК-новости», № 15-16, 6.11.2003 года
Письмо Фреда Келемена
Элему Климову
Глубокоуважаемый Элем Климов!
Я уже давно хотел Вам написать. Долго не получалось. А теперь уже по¬
здно. Вам открылась последняя тайна жизни — смерть. Мысль написать
Вам письмо впервые пришла мне в голову восемь лет назад, когда я спра¬
вился о Вас у Андрея Плахова и узнал, насколько плохи у Вас дела.
Вы уединились в своей московской квартире, предались отчаянию. Я хо¬
тел обратиться к Вам с призывом. Не запирайте в темноте свою бесценную
душу, возобновите борьбу и занимайтесь своим бесценным искусством. Я не
воображал, будто письмо мое станет спасением, ведь другого человека спа¬
сти нельзя; но я надеялся, что оно будет для Вас весточкой из далекого и
при этом очень близкого мира человека, о существовании которого Вы да¬
же не подозревали, но который жил на этой земле одновременно с Вами.
Мой жизненный путь лишь однажды мимолетно пересекся с Вашим. Ваши
картины оставили в моей душе глубокий след, который не изглаживается
вот уже пятнадцать лет, со времени ретроспективы Вашего кино в западно¬
берлинской Академии искусств. Там я впервые увидел Ваши фильмы и ус¬
лышал, как Вы о них говорите. После просмотра Komm und Sieh («Иди и
смотри» в немецком переводе) я еще несколько часов не мог произнести ни
слова. Ни в одном игровом фильме боль войны не была так глубоко и не¬
изгладимо вплавлена в души многих людей. Ни в одном фильме бесконеч¬
но важная мысль о пощаде не была показана так выразительно, как в той
сцене, когда поседевший на войне, исстрадавшийся мальчик не стреляет в
фото с изображением маленького Адольфа Гитлера.
Во многом именно Ваши фильмы, а также стоящая за ними моральная
ответственность, которую вы презумировали и сами же приняли на себя,
оказались решающим фактором, побудившим меня заняться режиссурой и
развившим во мне веру в легендарную силу и общественную необходи¬
мость этого вида искусства.
Любой фильм по-своему политичен, ведь перед каждым режиссером
встает вопрос о моральной ответственности. Но не всякий отвечает на не¬
го с вашим мужеством и последовательностью, не всякий принимает этот
ответ. Не всякий обладает позицией, проявляющейся в каждом кадре и
каждой сцене, поясняющей отношение автора и создающей ту редкую ду¬
ховную эстетику, которую можно назвать эстетикой человечности. Созна¬
ние собственной уязвимости и постепенного угасания в темной битве рын¬
ка за прибыли, которая искореняет в человеке все тонкое, тихое и ценное,
при этом не создавая новых ценностей, и в которую уже вступили слишком
многие, может вылиться в скорбь, ведущую к отчаянию и смерти. Противо¬
стоять ей тяжело и зачастую даже безнадежно, но можно и необходимо.
Это противостояние будет всегда, пока существуют люди, которые несут в
себе тайну святости их искусства и их жизни, которая не продается. «Ког¬
да не остается ничего святого, наши души лишаются прибежища. Они жи¬
вут в этом мире неприкаянными. И вскоре мы теряем их. Для нас благо¬
творно, если мы оставим в жизни место святому» (А. Грюн). По-моему, од¬
но из таких прибежищ — кино. И Ваши фильмы всегда превращали кино в
святое, исцеляющее искусство. Ведь благотворнее всего на души в этом ми¬
ре действует потрясение. Уважаемый Элем Климов, Ваши фильмы-потря¬
сения не должны исчезнуть. И Вам самому нельзя было умирать.
Фред Келемен. Берлин, октябрь 2003 года
Швейцарский журнал Filmbulletin
Ференц Коша
Письмо Элему Климову
по случаю премьеры «Агонии»
Дорогой друг, спешу сообщить тебе радостную новость: сегодня я опять
видел «Агонию». Как пришел домой с показа, так и сижу за письменным
столом, уставившись в темноту за окном. Мозг будто в лихорадке, сон не
идет, совсем как в конце зимы 1975 года, когда я впервые посмотрел твой
фильм в Москве. Я помню, когда я в это же время вышел из зала, валил
снег, холодный восточный ветер шуршал по асфальту, в свете уличных фо¬
нарей метались снежинки. Я пошел в гостиницу пешком. У портье на боку
висела кобура, в руках был веник, и он смахивал с возвращающихся посто¬
яльцев снег. Он делал это серьезно, со знанием дела, меня тоже обработал
с головы до ног. Я растянулся на кровати, смотрел в потолок. Не мог, да и
не хотел спать. Я оделся и снова вышел на улицу, покружил вокруг гости¬
ницы, сел на заснеженную лавочку и закурил. Ветер да и весь город затих¬
ли, время близилось к полуночи. Я долго сидел на лавочке, вдвоем с «Аго¬
нией», пытался найти подходящие слова, предложения, которыми мог бы
точно передать, что я видел, что обрел, что со мной произошло. Поначалу
во мне не возникало мыслей, пригодных для предложений. Наплывали
чувства, воспоминания, обрывки моей жизни: тополь, на который я впер¬
вые осмелился залезть, то, как стучало мое сердце, когда я в первый раз пе¬
реплыл Тиссу по-собачьи. Первая встреча с морем, с голубизной и тиши¬
ной обозримой бесконечности. В голову пришел живший среди заключен¬
ных орел из сибирского дневника Достоевского. Странно, но чем глубже я
вдумывался в «Агонию», тем определеннее чувствовал, что я свободен. Так
как в решении проблемы свободы я скорее скептик, чем легковер, то такое
чувство возникает во мне довольно редко. Во всяком случае я тогда так
сформулировал свои впечатления от фильма.
Вернувшись домой из Москвы, я рассказывал друзьям и знакомым об
«Агонии». Лица, сцены, кадры засели во мне так крепко, будто то, что я ви¬
дел в фильме, произошло со мной. Однако напрасно пытался я выразить
словами не видимые, в буквальном смысле, а прямо-таки протекающие в
фильме процессы, скрытую в произведении силу, свет, незыблемую мо¬
раль, неотделимую от стиля духовность, — несовершенства живой речи не
приблизили меня к разгадке тайны, намагниченности произведения. Осо¬
бенно сильно я мучился, пересказывая сцены военного совета и следую¬
щие за ними кадры. Невероятная глубина и точность сцены пальбы по во-
Элем с мамой Калерией Георгиевной и отцом Германом Степановичем.
Сталинград. 1935 г.
Капитан юношеской сборной г. Сталинграда по баскетболу.
Сталинград. 1951 г.
С папой, мамой и братом.
Сталинград. 1952 г.
Первый год учебы во ВГИКе — 1958 г.
Положительный герой в студенческом фильме Алексея Салтыкова
«Ребята с нашего двора».
Отрицательный герой — Савелий Крамаров.
Первый год учебы во ВГИКе — 1958 г.
В студенческой самодеятельности МАИ.
1958 г.
Первый в киножизни Элема актер. Студенческий фильм «ЖИних».
1959 г.
Студенческий фильм «ЖИних».
1959 г.
Студенческий фильм «ЖИних».
1959 г.
Элему 25 лет.
1958 г.
Золотая свадьба родителей: Калерии Георгиевны и Германа Степановича.
1987 г.
Элему — 50! Открытие памятника юбиляру.
1983 г.
С Юрием Норштейном. После «Триумфа».
С Наумом Клейманом: «Только об Эйзенштейне!»
С Рональдом Рейганом: «Не хотите ли попробоваться на Воланда?»
1986г.
С Джонни Вайсмюллером «Тарзаном». Олимпиада в Мехико.
1968 г.
С Адриано Челентано.
1987 г.
Слева направо Элем Климов, Джордж Ганд, Рон Холлоуэй.
Слева направо: Алесь Адамович, Элем Климов, Габриэль Гарсиа Маркес.
1987 г.
Рабочие будни секретарства в Союзе кинематографистов.
С Арменом Медведевым.
С режиссером Милошем Форманом.
1987 г.
На детском кинофестивале в Артеке с Элемом Медведевым,
названным в честь Элема Климова.
1996 г.
ронам не передается словами. Также трудно было передать минуты напря¬
женности, в которые пять выстрелов обрывают жизнь Распутина и т.д. и т.п.
Но несмотря на все это, я рассказывал фильм, где и когда только было воз¬
можно, на свой собственный лад, как монах, проповедующий даже птицам,
потому что я чувствовал, что молчать об этом фильме грешно.
Шли годы, молчание вокруг «Агонии» все сгущалось. Посмотреть фильм
было невозможно, оставалось надеяться и гадать. Я ходил на разные про¬
смотры, но смотрел фильмы с упрямым предубеждением: вот опять вместо
«Агонии» показывают что-то другое. Все равно что, но другое. Слабые и уж
совсем бездарные картины.
Во мне бушевало чувство справедливости, я все время спрашивал сам се¬
бя — а при случае и компетентных товарищей — почему не показывают
«Агонию»? Ответов по существу, как правило, не получал, хотелось ру¬
гаться и скрипеть зубами. Напрасно я ломал голову, я не мог понять, поче¬
му «Агонию» не выпускают. Хотя должен сказать в свое оправдание: у ме¬
ня есть опыт в борьбе, есть некоторые представления о том, какие битвы
разыгрываются вокруг проблемы границ дозволенного в момент выхода
фильма. Я достаточно хорошо знаю, чем слабее фильм, тем легче его сде¬
лать и тем быстрее он попадет на экраны. Это меня не особенно трогало. Но
случай с «Агонией» родил во мне болезненное подозрение: может, чем
правдивее, сильнее, совершеннее фильм или чем порядочнее его создатель,
тем труднее его судьба?! Неужели ничто пожрет нечто?
Естественно, я старался перебороть зародившееся подозрение. Я снова и
снова вспоминал кадры из фильма, диалоги, вдруг отыщется что-то дву¬
смысленное, что затрагивает какие-то табу, порочит славу какой-нибудь
священной коровы. Я был ошеломлен: в «Агонии» ни прямо, ни намеком
нет ни одной необдуманной мысли, ни одной двусмысленности или даже
фразы, дающей возможность неверного толкования. Напротив: фильм
стремится к максимально точному и выразительному раскрытию истин¬
ных взаимоотношений человека, общества и истории. Я не знаю другого
фильма, который бы так полно отразил неудовлетворенность всеми аспек¬
тами социального устройства. Я не знаю режиссера, который бы яснее ви¬
дел и показал этот всемирно-исторический момент, когда в русском госу¬
дарстве «пропасть между властью и народом еще никогда не была такой
глубокой», когда мирное решение вопроса было уже невозможно, «когда
только сам народ мог решить свою судьбу». Со времен «Ивана Грозного»
Эйзенштейна во всем мировом киноискусстве не встречалось историческо¬
го видения такой силы и насыщенности... Наконец-то появился фильм, ко¬
торый не поддается моде нерешительности, не лепечет, а говорит, который
создан не из тьмы, а из света, который не торгуется, а творит суд, стремит¬
ся и берет на себя смелость думать о всемирно-исторических альтернати¬
вах. Он показывает нам, что можно ждать от изжившей саму себя системы
власти, которая любой ценой пытается сохранить свои позиции. Народ на
другом полюсе не только все сносит, вымирает, но и бунтует; громыхая,
приближается революция. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. В схватке
сошлись люди, социальные силы, сталкиваются исторические альтернати¬
вы. Зритель может выбирать, должен выбрать: нагайки, цензуру, залпы ог¬
ня, войну, полное подчинение или достойную человека жизнь... Слепую ве¬
ру или разум. Верить ему в божество, распевающего о курочке-рябе, бого¬
творимого Распутина с глазами бешеной собаки или в скрытого в нас бога
борьбы...
Чем больше я убеждался в безобидности, истинности «Агонии», тем
прочнее укоренялось во мне недоброе чувство по отношению к тем обще¬
ственным механизмам, которые затрудняют ее путь. Чем дольше я думал,
тем острее вставал вопрос: в шуме киношного мира, сенсациях, возникаю¬
щих по пустякам, каким образом молчание по поводу «Агонии» сохраняет¬
ся так долго? От подозрений может избавить только несомненность. Я из¬
мучился от размышлений, как бы мне обрести эту несомненность. Так во
мне родилась идея «Миссии». Посмотрим, что произойдет с человеком, ко¬
торый сделал все, что было в его силах, чье произведение обладает той же
бесспорной ценностью, что и «Агония». Так на экран попал наш общий
друг Андраш. Мои сомнения стали известны. Теперь, когда все позади, я
могу признаться: твое мнение было для меня самым важным. Я никогда не
забуду, как мы стояли в дверях зала и ты сказал: теперь ты можешь спокой¬
но умереть, Ференц, ты сказал все, что нужно.
Опять прошли годы, и вот я вновь посмотрел твой фильм.
Что я могу сказать?
Если кто-нибудь из нас и может умереть спокойно, так это ты.
Именно поэтому ты не должен думать ни о чем другом, кроме как о рабо¬
те. Не обращай внимания на тех, кто испугался твоей судьбы и в поисках
легкого пути отдалился от тебя и от самих себя... Думай о своем отце, кото¬
рый в разрушенном до основания волжском городе был готов умереть ра¬
ди спасения электростанции, даже тогда, когда во всем городе не осталось
ни одной целой лампочки.
Обнимаю, Ференц Коша.
Венгерский журнал Film kultura, декабрь 1982 года
Дэвид Паттнэм
Это был бы великий фильм
Когда я впервые встретился с Элемом? В Москве, в 1986 году. Я приехал
на форум по культуре из Великобритании. Я был представителем Велико¬
британии, а Элем соответственно — России. И это было действительно
фантастическое время, потому что не было больше официальной цензуры.
Мы все вместе и были цензурой. Элем рассказывал о своей работе, о цен¬
зуре в русском кино, как одного киноначальника он однажды привел в
ярость. У нас с Элемом состоялся настоящий разговор, настоящий контакт.
А на следующий день он уехал, и мы разговаривали по телефону, он сожалел,
что нам не удалось пообщаться подольше. Со мной общались многие из Сою¬
за кинематографистов, но мне хотелось говорить именно с ним. А потом я от¬
правился в Москву по приглашению Британского совета. Мы договорились
о встрече. И два человека показывали мне Москву, Элем Климов (он был
тогда председателем Союза кинематографистов) и Павел Чухрай. Это были
великолепные два дня. Я общался тогда со многими людьми. Но Элем был
действительно ключевой фигурой. А потом мы встретились на Московском
кинофестивале в 1987 году.
— И вы тогда уже видели его фильмы?
— Да, уже видел. Я встречался с ним три раза: в Будапеште, в Москве на
форуме, и потом он еще раз пригласил меня приехать в Москву. И я был
первым — и очень горжусь этим — самым-самым первым не российским
режиссером, а представителем другой страны, выступавшем на пленуме
Союза кинематографистов. Я рассказывал о том, что западный кинемато¬
граф может предложить, чем мы отличаемся друг от друга, и о сотрудниче¬
стве. В тот момент мы еще не знали, как конкретно могли бы сотрудничать,
какой именно будет эта работа. Я только помню, что мы все были потрясе¬
ны — мы видели направление, по которому нам идти.
И вот еще одно замечательное воспоминание. Это был вечер, когда мы от-
сматривали фильмы... Напомню, это был 1986 год. И я рассказал такую шут¬
ку: «Коммунизм — это самый-самый долгий и самый сложный путь к демо¬
кратии». И это был замечательный момент: сначала молчание, а потом — смех.
И только сейчас я осознал, какой это был момент. Я был абсолютно наивен.
Это был замечательный момент. Мы смеялись — громко, открыто, все
вместе. Конечно, все знали эту шутку, но никогда прежде она не звучала на
публике.
Климов был большой человек. Значительный человек. Я понял это сразу.
И еще я помню, как популярен он был среди других кинематографистов.
Я пытался помочь ему — он хотел тогда снимать «Мастера и Маргариту».
Он хотел, чтобы я познакомился с одним его старинным приятелем. И он
привел меня к тому человеку. И я с первого взгляда понял: это не те люди.
Я понял, что он пытается работать с очень нехорошими людьми.
— Но прошло время, а он так и не снял тот фильм. Вы видели «Иди и смо¬
три»?
— Да. И считаю, что это — шедевр. Это один из десяти лучших фильмов
мирового кинематографа о войне. Невероятный фильм. Необычный
фильм.
Для себя я самой интересной из работ Элема считаю «Иди и смотри».
Это — произведение искусства. И очень зрелый фильм. Многие другие его
фильмы — более русские, их труднее воспринять человеку другой культу¬
ры. Поразительный фильм. Поразительный. Очень трогательный, но ниче¬
го сентиментального. И об очень тяжелой вещи — о прощении. Простить на
самом деле очень тяжело. Это очень сложная тема. Фильм захватывает. Но
он не сентиментальный. Ничего даже отдаленно сентиментального нет.
...Я думаю, это трагично — то, что Элем не снял «Мастера и Маргари¬
ту», думаю, это был бы очень значимый фильм. Такие фильмы должны
сниматься там, где создавались такие книги. Это был бы великий фильм.
И сейчас, возможно, поэтому у меня есть чувство вины, огромной, психо¬
логической вины, — что я не сделал всего, не приложил все силы, чтобы по¬
мочь ему собрать деньги на создание картины. И познакомить его с людь¬
ми... Я бы проехал сотни миль, только бы работать с ним вместе...
Его место в мировом кинематографе — прочное. Полагаю, что он был не
только режиссером, но и представителем особого движения в российском
советском кинематографе, в то переходное время, в очень-очень трудный
переходный период. У меня есть ощущение того, что на нем все держалось.
Он был, если хотите, героем переходного периода, центральной фигурой.
Действительно, великой личностью в российском кинематографе. Он сде¬
лал то, что я бы назвал переосмыслением, нахождением себя, открытием
себя самих заново. И если бы я был молодым российским режиссером, то в
том, как бы я начинал, как бы отталкивался от всего привычного, стандарт¬
ного и перепрыгивал на новый уровень видения мира, — Элем стал бы для
меня отправной точкой. Отвергая все компромиссы и половинчатость —
только вперед и вверх. Вот так я ощущаю его.
Для того чтобы быть режиссером, надо понимать, для чего ты работаешь.
Он был великим человеком и оказал огромное влияние на мою жизнь,
и я хотел бы верить, что я был для него таким же другом, каким он был
для меня.
Записала Ингеборга Дапкунайте, 2007 год
Кшиштоф Занусси
Он был открыт к тайне
Еще до знакомства с Элемом, меня заинтриговало его имя. Мне казалось,
что он — азиат. В христианской традиции я не встречался ни с одним свя¬
тым Элемом. С Элемом я познакомился во время какого-то из московских
кинофестивалей. Он слыл бунтарем (в то время грозное слово «диссидент»
еще не использовалось).
Помню, что во время первой встречи мы долго и страстно разговаривали.
Это было в его квартире, в монументальном доме, который мог бы служить
памятником сталинской архитектуры (к дому я еще вернусь). Помню так¬
же Ларису — красивую и глубоко талантливую жену Элема, которая, так
же как и он, тоже была звездой на тогдашнем небосводе советского кино.
(Свидетельствую, что Лариса неоднократно говорила мне о своем предчув¬
ствии близкой смерти.)
Помню ли я, о чем мы тогда разговаривали? Наверняка о так называемой
«ситуации». В странах, в которых вся наша жизнь зависит от каких-то вла¬
стей, в тоталитарных странах, «ситуация» была единственной темой, кото¬
рая распаляла дискуссию: «Что происходит? К чему это ведет? Что с нами
будет? Что с кино?» Мы часто разговаривали на закате семидесятых годов.
Потом в Польше наступило военное положение. А затем уже пришел Гор¬
бачев - началась перестройка, и Элем с Андреем Смирновым возглавили
Союз кинематографистов. В Польше все еще оставался генерал Ярузель¬
ский, и на какое-то время наши традиционные роли как бы поменялись ме¬
стами. Обычно в Польше было больше свободы слова и больше творческой
свободы. Но в самом конце восьмидесятых годов в Москве было больше
свободы, чем в Варшаве. В доме Элема можно было смелей строить планы
на будущее, в надежде, что свобода явится для всех нас началом райской
жизни. И как же нелегко было нам позднее смириться, когда наши прежде¬
временные иллюзии развеялись и свобода предстала трудным началом
жизни в мире, которому мы должны были учиться заново.
Я встречался с Элемом в восьмидесятые и девяностые годы, был под ог¬
ромным впечатлением от его фильма «Иди и смотри». С согласия автора я
процитировал его в своей немецкой телевизионной картине «Угасшие вре¬
мена» — где воспользовался кадрами с отступающими в прошлое снимка¬
ми Гитлера, которые старается расстрелять его жертва-подросток. Гитле¬
ра-ребенка, которого хотел убить ребенок — чтобы повернуть историю
вспять, чтобы не возник национал-социализм и не вспыхнула Вторая ми¬
ровая война...
В разговоре с Элемом я восхитился тем, как замечательно точно он пе¬
редал соответствующее состояние природы в тех кадрах, а он ответил, что
целую неделю вся съемочная группа каждое утро выезжала снимать рас¬
свет, пока погода не оказалась такой, как было нужно — с легкой дымкой.
Я тогда почувствовал, что Элем принадлежит временам, которые уже ухо¬
дят. Я много работал на Западе и знал, что с приходом свободы и рынка ху¬
дожник, который вместе со съемочной группой мог неделями ожидать по¬
явления рассветного тумана, лишается своих привилегий. Когда позднее
Элем строил планы совместного производства с Западом «Мастера и Мар¬
гариты», я понимал, что он расходится с трезвым рыночным мышлением.
Переговоры велись годами, и у меня складывалось впечатление, что Элем
так упорно отстаивает свои творческие позиции, не желая идти на уступки,
поскольку предчувствует, что рынок хочет получить от него комикс или те¬
лефильм — и потому он предпочитал оттягивать это приключение. Так оно
все и тянулось, пока Элема не стало.
Я уже упоминал его квартиру. Во время одного из московских кинофес¬
тивалей Элем мне рассказал, что однажды у него в гостях был какой-то ре¬
жиссер из Восточной Германии (тогдашней ГДР). Этот режиссер, впервые
оказавшись в прекрасной квартире Элема, уже в прихожей отметил, что ка¬
кая-то стенка там была передвинута. Так оно и было. Элем спросил, как не¬
мецкий гость догадался, что в квартире были произведены какие-то изме¬
нения? А тот ответил: «Я строил этот дом. Будучи военнопленным, уже по¬
сле войны, прежде чем смог вернуться в Германию». Он хорошо вспоминал
те времена. До этого было хуже — в Сибири он строил железную дорогу.
Как каждый настоящий режиссер, Элем умел выхватывать из жизни со¬
бытия, которые обладают большой драматургической силой и могут слу¬
жить метафорой. Вспоминая того самого немца, он рассказал, как, отбывая
свой срок в Сибири, тот стал свидетелем испытания только что проложен¬
ного в тундре участка железной дороги. Немцы строили как могли лучше,
но уложенные на вечную мерзлоту шпалы не имели надежной опоры, и ра¬
зогнанный пьяным машинистом локомотив сошел с рельсов и свалился в
болото. Машинист погиб, а охранники хотели тут же расстрелять пленных
за саботаж. Немцы, которые уже предвкушали возвращение на родину,
впали в отчаяние и на коленях умоляли какого-то Ивана или Васю сохра¬
нить им жизнь. И тот позволил себя уговорить и сказал: «Трясина скоро
проглотит и паровоз, и труп машиниста. Мы никому не скажем, что он тут
ехал. Нужно только быстро отремонтировать дорогу и сделать вид, что ни¬
чего не произошло».
В искусстве не все должно совпадать с действительностью, достаточно,
если показанное искусством обладает силой метафоры. Фильм «Иди и смо¬
три» не впрямую передает реальность, но выражает правду, так же как рас¬
сказ о паровозе, утонувшем в болоте, красив, но не должен быть правдивым.
Когда я вспоминаю Элема и Ларису, я вижу двух по-настоящему пре¬
красных людей. Прекрасных в буквальном смысле этого слова — строй¬
ных, статных, красивых; но прекрасных также и духовно — светлых, от¬
крытых к людям и к искусству. Открытых к тайне. Может, кто-то, кто знал
их лучше, улыбнется, прочитав, что я называю их светлыми людьми, по¬
скольку оба они делали мрачные фильмы и, в каком-то смысле, имели
мрачную жизнь — если называть мраком вечную нестабильность и борьбу,
которую они вынуждены были вести за свое творческое существование.
Однако я в своей памяти вижу их очень светлыми, потому что в них была
какая-то надежда и вера. В мире бывают шутники, которые несут в себе
мрак отчаяния, но бывают также и светлые люди с серьезными лицами.
Таким в моей памяти сохранился Элем.
Перевод Владимира Фенченко, 2007 год
Ханс-Иоахим Шлегель
Встречи до, во время и после
Берлинале
Первая моя встреча с Элемом Германовичем Климовым была заочной —
в его фильмах: в 1976 году мы с Евой Хофманн показали на «Днях запад¬
ногерманского короткометражного кино» (Westdeutsche Kurzfilmtage) ре¬
троспективу работ студентов ВГИКа под названием «Путь к соседу» (Ein
Weg zum Nachbarn). Тогда сторонники «холодной войны» как на Западе,
так и на Востоке восприняли показ, скорее, как провокацию.
Ретроспективу фильмов студентов советского Института кинематогра¬
фии с 1960 по 1975 год удалось организовать исключительно благодаря
разногласиям между советскими ведомствами: проект поддержало Минис¬
терство образования, которое хотело показать свою независимость от Гос¬
кино и помогло преодолеть мощное сопротивление демонстрации студен¬
ческих фильмов периода «оттепели». Таким же образом в Оберхаузене
оказались курсовые и дипломные работы режиссеров, которым в уже на¬
ступившем брежневском «похолодании» запрещали снимать или создава¬
ли им серьезные препятствия. Наряду с другими в показе участвовали «Ка¬
ток и скрипка» Андрея Тарковского, «Чугун» Отара Иоселиани, «Мальчик
и голубь» Андрона Кончаловского, «Друг мой Колька» Александра Митты,
«Свадьба» Михаила Кобахидзе, «Алавердоба» Георгия Шенгелия, «Зной»
Ларисы Шепитько и, не в последнюю очередь, «Добро пожаловать, или По¬
сторонним вход воспрещен» Элема Климова. Показ дипломного фильма
Элема Климова сопровождала хвалебная аннотация Сергея Герасимова,
написанная еще в «оттепельном» 1964 году: «В сатирической комедии
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» описывается про¬
исшествие в пионерлагере. Однако автор так расставил акценты, что ему
удалось не просто рассказать забавную историю о детях, но и обратить всю
мощь своей сатиры против взрослых глупцов, клеветников, льстецов и
подхалимов». В ФРГ 1977 года этот фильм смотрели с особым интересом.
Здесь никто не ожидал увидеть столь открытое и явное выступление про¬
тив самого духа неосталинистской государственной бюрократии. Он не
вписывался в рамки всеобщей и беспросветной уравниловки, которая, со¬
гласно образу, пропагандируемому западногерманскими бюрократами от
культуры, царила тогда в СССР. Более того, он отражал антиавторитарные
настроения европейских бунтарей 1968 года, которые тоже надеялись на
«возрождение» несталинистского, социально-прогрессивного социализма.
Фильм восхищал как беспримерным гражданским мужеством, так и све¬
жестью творческого поиска самодостаточных сатирических образов. То,
что дипломная работа Элема Климова тронула сердца зрителей в запад¬
ногерманском Оберхаузене, бывшем тогда Меккой новаторов как в кино,
так и в политике, говорит еще и о том, что молодых кинематографистов
по обе стороны «железного занавеса» объединяло общее настроение —
жажда перемен.
Уже тогда намечалась перспектива, для которой Элем Климов во време¬
на гласности сделал намного больше, нежели иные перестроечные полити¬
ки — перспектива развития, начало которому положило символическое ру¬
копожатие Элема с Джеком Валенти, президентом Американской ассоциа¬
ции кино (МРАА), на Берлинале в 1987 году, и которое он начал со спон¬
танного приглашения к реальному сотрудничеству; я перевел его слова не
без внутреннего волнения. Исторические масштабы события были ясны
всем: о нем сообщали даже в телевизионных выпусках новостей по всему
миру. Комментаторы назвали эту встречу «Рейкьявиком кинематографис¬
тов». Киношники в самом деле, что удается редко, изменили мир: вступив
на новый, еще не пройденный политиками путь к новому началу, они при¬
вели нас к историческому перелому мирового масштаба.
Однако от дипломного фильма Элема Климова, снятого в 1964 году, этот
перелом отделял долгий и очень тернистый путь, хотя энергия и фантасти¬
ческое чувство юмора Элема проявились уже на Днях спортивного кино в
Оберхаузене, где он представил документальный фильм «Спорт, спорт,
спорт» (1971), созданный в соавторстве с его братом Германом.
Тем не менее при первой нашей встрече в Москве Элем произвел на ме¬
ня впечатление человека, уставшего от высокомерия бюрократов и почти
опустившего руки. Лишь в конце семидесятых, вдали от Москвы, на спор¬
тивной базе «Раубичи» близ Минска я снова увидел полного энергии Эле¬
ма, с иронией и оптимизмом ожидавшего возвращения к московским бю¬
рократам. В то время он совместно с Алесем Адамовичем работал над очень
трагическим материалом: они искали свидетельства чудовищных преступ¬
лений СС и вермахта в Белоруссии. Впрочем, как вскоре выяснилось, ис¬
точником его энергии и уверенности была не призрачная надежда, что бю¬
рократы беспрепятственно позволят ему работать над фильмом о Великой
Отечественной войне. Из наших разговоров на белорусской спортивной
базе мне стало ясно, что он собрался снимать вовсе не «заказной» фильм о
героическом патриотизме в официальной интерпретации, а рассказ о без¬
жалостной реальности, невыносимых страданиях простых людей. О трав¬
ме войны. И в первую очередь, о психологических нарушениях у пережив¬
ших войну детей. Немало проблем по этой теме уже поднял Андрей Тар¬
ковский - не только в фильме «Иваново детство», но и в радиопостановке
«Полный поворот кругом» по Уильяму Фолкнеру, которую запретили с
формулировкой «за пацифизм». Для Элема Климова война также была
связана с глубокой детской травмой: он не единожды упоминал о незабы-
ваемом зрелище горящего Сталинграда, виденном им с другого берега Вол¬
ги во время бегства с матерью в 1943 году. Элем был переполнен энергией,
ведь он наконец-то вышел на важную для себя тему — свою детскую трав¬
му, которую он обязательно должен преодолеть. Как он не раз говорил, от¬
вергнутое чиновниками первоначальное название фильма — «Убейте Гит¬
лера» — подразумевало уничтожение воплощенного в Гитлере милитариз¬
ма и как бы призывало «убить Гитлера в себе».
На белорусской спортбазе Элем долго пересказывал мне собранные Ада¬
мовичем воспоминаниях о преступлениях нацистов в Белоруссии. Он рас¬
сказывал о них рожденному во время той же войны немцу и нуждался в
этом разговоре. Он ни в коем случае не обвинял, а просто говорил как че¬
ловек, для которого воспоминания о чудовищном, непостижимом являют¬
ся предпосылкой для преодоления самого себя. Это был диалог, без кото¬
рого он не нашел бы пути к действительно новому сотрудничеству. Наши
беседы в Минске в этом смысле были чрезвычайно важны и для меня, ведь
анализ этой трагедии и вины, которого всячески избегало большинство
учителей истории в эпоху Аденауэра, для меня и моих сверстников стало
ключевой проблемой как в спорах с нашими отцами, так и в поисках при¬
чин и альтернатив. Когда много лет спустя я увидел на Московском кино¬
фестивале 1985 года «Иди и смотри», то воспринял его как тяжелый, но со¬
вершенно необходимый и обновляющий фильм.
Принципиально иным, хотя и родственным по теме и месту действия был
фильм «Восхождение» подруги Элема Ларисы Шепитько; я видел его на
конкурсном показе во время Берлинале вместе с Вольфом Доннером и Ро-
ном Холлоуэем, а затем — между прочим, вопреки мнению Райнера Верне¬
ра Фассбиндера — он первым из советских фильмов получил «Золотого
медведя». Разумеется, берлинский триумф Ларисы стал и для Элема боль¬
шим воодушевляющим и обнадеживающим событием. Однако при встрече
в московской квартире Элема и Ларисы я почувствовал тоску Элема по его
собственному, все еще лежащему на полке проекту... Несомненно, сила и
успех Ларисы были для Элема стимулом, однако и некоей проблемой, в ко¬
торой он ни за что бы не признался и которую вынужден был подавлять из
бесконечной любви к Ларисе. На первом дне рождения Элема после ее тра¬
гической гибели в автокатастрофе мне почудилось нечто гагиографическое
в том культе изображений Ларисы, который создал в память о ней Элем.
Позже я со сходным чувством посмотрел его фильм «Лариса», а затем и ее
незавершенную работу «Прощание», которую Элем закончил и обильно
снабдил эмоциональными акцентами; в историческом 1987 году фильм с
большим успехом прошел во внеконкурсном показе на Берлинале (а в ГДР
его подвергли яростной критике). Однако, возможно, мои впечатления —
традиционная реакция западного протестанта на по-восточному пафосное
отношение к изображениям. Я не раз беседовал об этом в Софии с Весели-
ной Геринской, близкой приятельницей Элема и особенно Ларисы, которая
родила сына Антона в то же время, что и Веселина свою дочь.
На упомянутом выше дне рождения незримо присутствовал еще один че¬
ловек, у которого с Элемом, судя по всему, были чрезвычайно сложные
взаимоотношения — его отец Герман Климов, чьи связи в высших партий¬
ных кругах неизбежно приводили к конфликтам с сыном, бунтующим про¬
тив официального истеблишмента. Когда на дне рождения упомянули от¬
ца, мать Элема быстро замяла эту тему примирительными словами. В ме¬
муарах Павла Судоплатова, недоброй памяти стратега кровавых преступ¬
лений НКВД, я коротенько прочел о роли Германа Климова в его реабили¬
тации. Жаль, что уже не смогу спросить Элема об отце...
Он получил необычное имя Элем, которое многим ошибочно, как я поз¬
же узнал, напоминало об Энгельсе, Ленине и Марксе. Это имя — здесь мне
трудно умолчать — вдохновляло и мои левацкие надежды 1968 года: в кон¬
це концов, его носил человек, которого я считал прежде всего мужествен¬
ным борцом с государственно-бюрократическими извращениями надежд и
чаяний революции. Во многих беседах Элем доказывал мне наивность мо¬
ей настойчивой утопии. Однако в этих разговорах постоянно присутство¬
вал электризующий общий знаменатель: размышления о судьбе историче¬
ского предвидения, в которых Элем также заводил речь о незаконченной
работе своего великого учителя Михаила Ромма, с упрямо мессианским
названием «А все-таки я верю». В этих беседах и родилась дружба, которая
пережила немало испытаний. К примеру, в июле 1987 года, когда Алек¬
сандр Аскольдов едва ли не силой добился показа своего фильма «Комис¬
сар» на Московском кинофестивале. Разумеется, я сразу же пригласил его
на Берлинале, где показ фильма стал историческим событием с невероят¬
ным международным резонансом. Я много писал об этом фильме и его
судьбе, да и с режиссером поддерживал тесные отношения после его пере¬
езда в Берлин. Однако я так и не смог понять, в чем была суть его конфлик¬
та с Элемом Климовым. Мне было ясно только одно: главную причину
нужно искать в несовместимости двух в корне различных характеров. По¬
казательным в этом смысле был и 1997 год: через десять лет после запозда¬
лой премьеры «Комиссара» в Бремене шел симпозиум под названием «Пе¬
рестройка... что дальше?». Естественно, я пригласил на него среди прочих
Элема Климова и Александра Аскольдова. Еще в аэропорту оба дали по¬
нять, что предпочли бы жить в разных отелях. Но и это не помогло им из¬
бежать шумного конфликта: он разразился сразу после того, как Михаил
Горбачев во вступительной речи сердечно поприветствовал Элема Климо¬
ва как «своего главного перестройщика», а Александра Аскольдова даже не
упомянул. В перерыве Аскольдов осыпал Элема совершенно непечатными
тирадами, полными намеков на его отца. А меня при этом наградил звани¬
ем «агента Климова». Разумеется, Горбачев в данном случае был абсолют¬
но прав, назвав Элема Климова своим «главным перестройщиком», ведь
тот служил делу переустройства общества с самого начала, еще со своих
первых студенческих фильмов. Работал он с почти пророческим предвиде¬
нием грядущих исторических процессов. В этой связи, конечно, стоит упо-
мянуть его историческую притчу «Агония», о которой я 6 августа 1981 го¬
да написал в «Зюддойче цайтунг» (Suddentsche Zeitung) статью с нарочи¬
то символическим заглавием «Москва под знаком агонии». Эта картина о
конце династии Романовых обратила наконец глаза и умы людей к нарас¬
тающей агонии все более гротескно стагнирующего СССР. Процесс начал¬
ся, ведь жажду перемен, пробивавшуюся в упрямом «И все-таки я верю»,
было уже не заглушить. По крайней мере, это было не по силам зловещим
номенклатурным политикам с их непоследовательным поведением. Если
кто-то и заронил в сознание людей необходимость «гласности», а затем и
«перестройки», то это был избранный в 1986 году председателем Союза ки¬
нематографистов Элем Климов. Заняв этот пост, он со своими сотрудника¬
ми не строил воздушных замков и не отделывался пустыми фразами. Они
последовательно воплощали все то, к чему Элем стремился в своих филь¬
мах и бескомпромиссных спорах утверждали открытость и демократиза¬
цию как в структурах Союза кинематографистов, так и в исторических
изысканиях Конфликтной комиссии под руководством Андрея Плахова,
благодаря которой удалось вызволить из сейфов цензоров множество ки¬
нокартин. Однако решающим достижением все-таки была гласность — сво¬
бода нового кино, которое стало не только зеркалом, но и двигателем обще¬
ственной перестройки. Именно кино привило новое мышление и сознание
и тем самым помогло изменить действительность. Начавшийся процесс
иногда приводил к совершенно другим результатам и нередко — к болез¬
ненным и отрезвляющим событиям.
Элем Климов очень глубоко переживал провал, которым обернулось вы¬
сказанное при рукопожатии с Марком Шпигелем желание начать творчес¬
кое сотрудничество кинематографистов Востока и Запада. Большие на¬
дежды, связанные с основанием Советско-американской киноинициативы
и его принятием в Американскую киноакадемию, удивительно быстро рас¬
сеялись. Встреча с настоящим Западом стала для него таким же отрезвля¬
ющим разочарованием, как и для Андрея Тарковского, который, будучи в
западноевропейском изгнании, провел аналогию между идеологическим и
рыночным материализмом и определил оба как «попрание духовности».
От идеи Элема Климова экранизировать «Мастера и Маргариту» Булгако¬
ва совместно с Голливудом пришлось отказаться из-за несовместимости
его творческой концепции с банальными рыночными критериями продю¬
серов. С горькой иронией этот закаленный в борьбе с тупоголовыми чинов¬
никами режиссер повторял, что, по представлениям деловитого американ¬
ского продюсера, Мастер в фильме должен был говорить Маргарите
«О’кей». С подобной коммерциализацией культуры и духа Элем Климов
не мог примириться точно так же, как раньше — с идеологами государст¬
венной бюрократии. Однако на сей раз ему пришлось за это очень дорого
заплатить: именно тогда, когда, не в последнюю очередь благодаря его
фильмам и общественно-политической деятельности, старый режим по¬
давления оказался на свалке истории, он не смог реализовать ни одного
своего кинематографического проекта. Более того, у него на глазах прост¬
ранства новых возможностей заняли конъюнктурщики, позарившиеся на
деньги и карьеру «веселой вдовы» Банальности. У него на глазах творчес¬
кое сообщество коллег-кинематографистов превратилось в тусовку, танцу¬
ющую на ярмарке тщеславия вокруг золотого тельца.
В нашу последнюю встречу он говорил об этом даже с большей горечью,
чем в свое время о наглом произволе советских функционеров. Его охвати¬
ло, кажется, безысходное отчаяние, погрузив в пессимизм и глубочайшую
депрессию. Он ожесточенно замкнулся в себе, так что его последний день
рождения праздновали вместе с ним лишь несколько человек — его брат
Герман, с которым он еще планировал написать сценарий, а также Глеб
Панфилов с Инной Чуриковой, о которых он всегда отзывался с особой
теплотой. Порой у меня создавалось впечатление, что горечь Элема понем¬
ногу уступает место надежде, с которой он смотрел на молодежь, уже при¬
метившую слабый свет в конце туннеля. Новое поколение отвергло пош¬
лость импортированных картинок и начало постигать ценность собствен¬
ного творческого взгляда на вещи; в этом смысле они были похожи на Эле¬
ма 60-х годов. В год смерти Элема вышел фильм Андрея Звягинцева «Воз¬
вращение» — и не только он один олицетворял собой надежду...
Берлин, 2007 год
Рон Холлоуэй
Поездки с другом
«Человек на все времена» — так Джордж Ганд представил Элема Климо¬
ва Роберту Редфорду. «Титан среди карликов», — заметил один голливуд¬
ский гость на Московском фестивале. «Самый достойный из всех людей,
когда-либо живших на земле», — сказал его русский друг и коллега.
Элем был действительно и тем, и другим, и третьим — в зависимости от
времени, места и обстоятельств. Джордж Ганд III, друг и спонсор фестива¬
лей в Сан-Франциско, Теллурайде и Санденсе, чью любовь к восточноев¬
ропейскому кино превосходит лишь страсть к хоккею, сразу полюбил Эле¬
ма Климова. Тому было много причин.
Джордж перемещался с фестиваля на фестиваль в быстром частном са¬
молете. Элем окончил авиационный институт, прежде чем поступить во
ВГИК.
Джордж владел хоккейным клубом «Акулы Сан-Хосе», в которой были
русские игроки. Элем вместе со своим братом Германом, спортсменом и
сценаристом, снял документальный фильм «Спорт, спорт, спорт».
Джордж служил в юности во флоте. Элем подростком видел разрушен¬
ный Сталинград. Джордж шел плечом к плечу по жизни с голливудскими
диссидентами Фрэнсисом Фордом Копполой и Робертом Редфордом.
Элем был признан хребтом диссидентской части Союза кинематографис¬
тов, прежде чем Михаил Горбачев позвонил ему и дал полномочия на ра¬
дикальные преобразования.
В течение бурных 1980-х годов не было большого перепада по шкале
Рихтера между голливудским и советским диссидентом. Однажды, в 88-м,
Джордж Ганд посадил Элема Климова и Роберта Редфорда в свой самолет,
чтобы нанести тайный визит на Каннский фестиваль.
Элем уже был известной фигурой на Ривьере — год назад он был здесь
членом международного жюри. Теперь Жиль Жакоб хотел, чтобы Редфорд
представил свой фильм «Война на бобовом поле в Милагро» (Milagro
Beanfield War, 1988), который показывали вне конкурса в Канне. Они при¬
ехали, поприветствовали публику и уехали.
Элем Климов не любил представительские функции и как мог избегал
помпезных церемоний. Глубоко внутри он чувствовал, что плата за эти бес¬
смысленные публичные выходы настигнет его, и в конце концов они его
разрушат. Вместо того чтобы мчаться на самолете в Мадрид для еще одних
бессмысленных переговоров с еще одним министром культуры, он предпо¬
чел бы провести больше времени со своей семьей, друзьями и коллегами.
Когда, познакомившись с Элемом Климовым, озадаченные кинематогра¬
фисты спрашивали меня, каков же он на самом деле, я сравнивал его с ге¬
роем Германа Мелвилла — сложным, основательным, подлинным. Он был
интеллектуалом, философом, человеком мира. Он любил горячие споры,
когда аргументы отскакивали. Он мог, рассказывая историю, держать в на¬
пряжении слушателей до последнего момента, а при самом последнем по¬
вороте сюжета в его глазах вспыхивала искра.
У меня такое впечатление, что у него было столь же много врагов дома,
сколько друзей за границей.
Спросите у Элема о проблемах, с которыми он сталкивался как киноре¬
жиссер, и он начнет с улыбкой красноречиво рассказывать о нападках со
стороны властей на его ранние сатирические фильмы: короткометражку
«Осторожно, пошлость!» (1959), детский фильм (для взрослых) «Добро
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964) и аллегорию «По¬
хождения зубного врача» (1965).
Спросите его о причинах, по которым «Агония» (1975-1985) на десять
лет была запрещена, он только с отвращением пожмет плечами: баналь¬
ность не лечится.
Начните допытываться у него, что он чувствовал, когда был наконец снят
двухлетний запрет на его «Прощание» (1981-83), и вы явственно увидите,
как он борется, чтобы сдержать свои эмоции. Ведь он сделал этот фильм во
имя своей любимой жены Ларисы Шепитько, которая трагически погибла
в загадочной, таинственной автокатастрофе на второй день съемок своей
адаптации «Прощания с Матёрой», противоречивой повести Валентина
Распутина. Элем сократил название до «Прощания», прибавив ему тем са¬
мым личную окраску.
Моя первая встреча с Элемом Климовым произошла в 1977 году, когда я
работал в отборочной комиссии Берлинского кинофестиваля. Каким-то об¬
разом, возможно, с помощью Леонида Мосина, заместителя председателя
Госкино, мы с Вольфом Доннером уговорили Филиппа Ермаша позволить
включить в конкурсную программу фестиваля фильм Ларисы Шепитько
«Восхождение». Окончание истории: она получила «Золотого медведя».
Но это уже другая история.
Настоящая причина нашего визита в Госкино не была тайной ни для са¬
мой Шепитько, ни для большинства московских кинематографистов. Все
знали, что на самом деле нам нужен был фильм Элема Климова «Агония»,
его эпопея, рассказывающая о царе Николае II и Распутине, но даже Канн
и Венеция не смогли соблазнить власть предержащих «Золотой пальмовой
ветвью» и «Золотым львом».
Мы не получили фильма, зато наше знакомство стало началом золотой
дружбы..
«Вы ходите по тонкому льду», — пошутила Раиса Фомина, когда услы¬
шала, как я мямлю по-немецки с Элемом Климовым. Она сопровождала
Климова и, как отличный английский переводчик, иногда, наверное, спра¬
шивала себя, о чем мы там, черт возьми, болтаем!
Но Элем неплохо говорил по-немецки. Что же касается моего немецкого,
то, как американский журналист, живущий в Берлине, я говорил немного
лучше. Но для нас было достаточно этого запаса слов и более чем достаточно
жестов, чтобы добраться благополучно до конца разговора. А когда при раз¬
говоре присутствовала и Доротея, то разговор по-немецки с моей женой — ак¬
трисой проходил так непринужденно, словно они с детства были друзьями
и вновь встретились после долгого расставания.
Когда мы с Доротеей оглядываемся назад на эти годы согревающего об¬
щения, у нас возникает масса воспоминаний.
Некоторые из них печальны, поскольку Элем обладал талантом, который
мог поставить его в один ряд с великими режиссерами современного кино.
Другие — очень волнующие, особенно когда я вспоминаю, как ловко и в то
же время галантно он отвечал на порой нескромные вопросы на пресс-кон¬
ференциях. Иногда же я с ужасом вспоминаю, как он, заведомо потенци¬
альный проигрывающий, вступал в полемику только для того, чтобы вый¬
ти из нее победителем, срывающим спонтанные аплодисменты критически
настроенной публики.
Элем был потрясающим рассказчиком. Достаточно только посмотреть на
Климова в 1988 году в документальном фильме, который он сделал вместе
с Четвертым каналом, и вы получите непосредственное впечатление от
рассказа о его похождениях в Государственной библиотеке во время изуче¬
ния событий 1917 года для работы над «Агонией». Во время просмотра
фильма в Госкино было сделано много возражений. Личность царя Нико¬
лая II была изображена «слишком сочувственно», по мнению цензоров, в
то время как «Распутин выглядел недостаточно революционно».
Ну да ладно. Элема, как интеллектуала, завораживала та страница исто¬
рии, которая поставила Россию с ног на голову. Он по памяти мог переска¬
зать все семейные детали, обнаруженные в дневнике царя. Он мог расска¬
зать эпизод за эпизодом всю историю попыток убийства Распутина в хро¬
нологической последовательности, в результате которых он должен был
погибнуть, но все же ухитрялся оставаться в живых, вплоть до попыток
утопить его в замерзшей реке.
«Агония», вышедшая на экраны в конце концов в 1985 году, оказалась от¬
жившей свое время. «Фильмы очень быстро стареют, — сказал Климов на
показе «Агонии» на Денверском кинофестивале. — Этот фильм должен
быть сделан заново!»
На том же самом фестивале состоялась продолжительная беседа между
русским режиссером и губернатором штата Колорадо. Ричард Ламм, пре¬
подававший когда-то в университете, был ходячей энциклопедией по Вто¬
рой мировой войне. Он только что посмотрел климовский фильм «Иди и
смотри» (1984) и хотел побольше узнать о партизанском движении, пока¬
занном в фильме, о том, что видел Элем после Сталинградской битвы, и о
сомнительной героике Второй мировой войны в киноэпосах, равно как
русских, так и американских.
Их расставание было теплым. «Дайте мне знать, если надумаете занять
мою должность в университете», — сказал губернатор Ламм на прощание.
Берлинский фестиваль 1987 года больше всего запомнился так называе¬
мым саммитом между Элемом Климовым и Джеком Валенти. Но было еще
одно весьма важное событие, произошедшее за закрытыми дверями рос¬
кошного ресторана отеля «Кемпински».
Опять-таки состоялся разговор о войне, на этот раз между Элемом Кли¬
мовым и Оливером Стоуном.
Климовский фильм «Прощание» показывался вне конкурса этого фести¬
валя. Фильм же Стоуна «Взвод» выдвигался на «Золотого медведя», ока¬
завшегося тем не менее в руках Глеба Панфилова за его некогда отложен¬
ную «Тему» (1979-86) — изящно начертанную психологическую драму с
общественно-политическим уклоном. Стоуну пришлось уезжать из Берли¬
на с «Серебряным медведем» в чемодане за лучшую режиссуру.
Когда я предложил европейскому дистрибьютору «Взвода» организо¬
вать закрытый ланч для Стоуна и Климова в ресторане отеля «Кемпин¬
ски», тот с готовностью согласился. Как и я, он горел желанием присутст¬
вовать при этом разговоре. К тому же он мог бы разузнать для лос-андже¬
лесского «Орион Пикчерз» что-нибудь о следующем проекте Стоуна.
Насколько Климову понравилось техническое решение «Взвода», на¬
столько же он не понравился ему как фильм, и уж никак как художествен¬
ный. Общие критические замечания сводились к излишней романтичнос¬
ти. Он говорил, основываясь на личном опыте и позиции режиссера, опа¬
ленного войной лично. Шквальный огонь с вертолетов над вьетнамскими
джунглями во «Взводе», хотя и взятый из жизни, — это было одно. А ужа¬
сающие сцены партизанской войны в «Иди и смотри», до мозга костей про¬
чувствованные тысячами белорусов, было совсем другое. В данных обсто¬
ятельствах Стоун хорошо понимал сдержанность Климова. Ход войны во
«Взводе» закончился по предсказуемому плану.
Затем Оливер Стоун решил сменить тему. «А знаете, Элем, — сказал он, —
я как-то побывал в Москве инкогнито как турист. Я хотел сделать фильм о
русских диссидентах. «Международная амнистия» дала мне список имен и
адресов, которые я должен был запомнить до выезда из Штатов». С про¬
снувшимся интересом Элем подался вперед, чтобы услышать, что было
дальше: «И что же?» Ответ: «А дальше был Горбачев с перестройкой, и
проект оказался ненужным. Локомотив истории не остановить!» Климов
расхохотался. Ему это было очень знакомо. В тупики попадали все талант¬
ливые режиссеры.
Элем всегда о ком-то заботился. Когда его брату Герману понадобилась
дорогая операция на руках, которую можно было сделать только в Лос-Ан¬
джелесе, Элем обратился к голливудским коллегам с просьбой помочь со¬
брать необходимые средства. Когда директора фестивалей приехали на
Московский фестиваль в разгар перестройки, очереди перед кабинетом в
Доме кино напоминали толпу в поликлиниках в разгар эпидемии гриппа.
«Он редко кому-то отказывает», — со вздохом заметил уставший помощ¬
ник.
С течением времени его несколько утомила роль русского Джека Вален¬
ти. Он часто поговаривал о том, что ему хочется вернуться на стул режис¬
сера. «Мастер и Маргарита», классический роман Булгакова, был его лю¬
бимым проектом. Сэр Дэвид Паттнэм, тогдашний глава «Коламбия Пик-
черз», хотел помочь ему в ко-продукции. В дверь уже стучались некоторые
именитые голливудские актеры. Он даже говорил о том, чтобы найти «аме¬
риканскую Маргариту». Почему это не прошло — никто не знает.
Как-то на яхте Джорджа Ганда, во время круиза по Сан-Францисской
бухте, мы были очень увлечены разговором о создании «Мастера и Марга¬
риты», и вдруг вся бухта покрылась туманом, полностью скрывшим мост
Золотые ворота. Все, что мы могли видеть от этого моста, — это только его
балки, когда мы под ним проплывали. Элем пророчески заметил: «Совсем
как я — потерявшийся в тумане».
Что же до моего последнего разговора с Элемом — а он состоялся не¬
сколько лет тому назад, — то он был коротким и с фатальным оттенком.
Мне позвонил Кен Власчин из Американского института кино в Лос-Анд¬
желесе. Он сказал, что может предложить место с хорошим окладом для
восточноевропейского режиссера с приличными достижениями. При этом
никаких ограничений. Он может располагать временем и деньгами по сво¬
ему усмотрению. Может быть, это интересно Элему Климову?
Я тут же позвонил Элему.
«С удовольствием, — тут же ответил он. — И рад тебя снова слышать».
Вот и все.
Это я рад был тебя слышать, Элем.
2007 год
Ханна Шигулла
Я снова вижу его перед собой
В 1985 году, едва закончились месяцы съемок фильма «Петр Первый» в
России, как я снова собралась в Москву — на кинофестиваль. В аэропор¬
ту меня должен был встретить Элем Климов, но волей случая я сумела
прилететь только следующим рейсом. Что же это за человек, который хо¬
чет со мной познакомиться и о котором я почти ничего не знаю? Я спра¬
шиваю о нем у моих русских друзей, и они отвечают: «Он у нас один из
лучших». Я передала ему, что в следующий раз обязательно с ним встре¬
чусь, и вскоре представился удобный случай. И вот на пороге собственной
квартиры меня встречает эффектный мужчина, заглядывает глубоко в гла¬
за, и я, сама не знаю почему, даже не выдержав положенной паузы, как со¬
мнамбула, захожу в квартиру и иду к распахнутым дверям салона, где за¬
стываю перед огромным портретом красивой женщины; вокруг стоят гро¬
мадные букеты цветов: кладбище прямо в гостиной. Тем временем собира¬
ются многочисленные гости, на столе много еды и напитков... Элем Кли¬
мов говорит, как он рад видеть меня у себя в гостях... и, чем полнее бокалы
и ближе к полуночи, тем больше развязывается язык у этого вообще-то
молчаливого человека с сияющими глазами. Он уже подсел ко мне, а пере¬
водчик признается, что его друг Элем не говорил так много со дня смерти
жены. Мы втроем засиживаемся до утра.
Лишь позже я попадаю на показ фильма Климова «Иди и смотри» о бе¬
лорусских деревнях, сожженных немцами. Естественно, я помню о магне¬
тическом воздействии нашей первой встречи и размышляю, насколько яв¬
но мы, послевоенное поколение, призваны судьбой или — говоря не столь
помпезно — имеем внутреннюю потребность пролить свет примирения на
гигантскую тень, которую до сих пор отбрасывает на нашу жизнь история.
В этой связи я вспоминаю и о моей первой долгой заграничной поездке.
В 1963 году я, чтобы попрактиковаться во французском языке, работала в
Париже помощницей по хозяйству. И вот, через двадцать лет после паде¬
ния нацистского рейха, каждый третий из тех, кто заговаривал со мной в
моем любимом кафе на Монпарнасе, оказывался евреем. Несмотря на про¬
шлое — или именно из-за него? Вырасти с грузом национальной вины на
плечах само по себе странно, но еще удивительнее то, сколько любовных
романов разворачивалось между недавними жертвами и преступниками
уже в следующем поколении, там, где двадцать лет назад гремела война.
Мое сердце забилось быстрее, когда во времена перестройки Элем Кли¬
мов приехал в Париж на Неделю российского кино в качестве официаль¬
ного представителя. Все хотят побеседовать с этим харизматичным челове¬
ком; он уступает напору на собственную персону и полностью отдается об¬
щению уже на пределе человеческих возможностей.
Тем не менее он еще находит время посетить с друзьями могилу Тарков¬
ского; в этот день мы с ним засиделись допоздна. Он немного говорит по-
немецки, и я узнаю, о чем он мечтает, если в ближайшее время у него сно¬
ва будет время подумать о себе. Он мечтает экранизировать «Мастера и
Маргариту» Булгакова. Если удастся договориться с продюсерами на За¬
паде, он пригласит меня на роль «своей» Маргариты. Хорошо бы!
В следующий раз мы увиделись в Москве, у Горбачева, на встрече деяте¬
лей культуры Востока и Запада. И снова я оказываюсь у него дома вместе
с его приятелем Милошем Форманом. Я привезла его сыну «Космическую
одиссею» Стэнли Кубрика. Элем как раз обзавелся видеокамерой и рад как
ребенок. Он весь вечер снимает, и почти только меня. Может, думает о
«Мастере и Маргарите»?
Наша следующая встреча состоялась в Берлине на вечере в Берлинской
академии искусств. И опять он в центре всеобщего внимания. В президиу¬
ме сидит и Хайнер Мюллер. Лишь под конец он улучает момент в своем рас¬
писании, которое, подобно тугому ремню, стягивает его вновь обретенную
свободу. Мы сидим вдвоем, и я спрашиваю, есть ли еще в его переполнен¬
ной жизни место для наших общих дел. Или об этом лучше забыть? «А ты
сможешь?» — грустно спрашивает он в ответ. Когда я села в такси, он еще
долго махал мне вслед рукой.
В следующий раз мы оба оказываемся членами жюри конкурса Европей¬
ской киноакадемии. В поездку Элем взял с собой сына, который уже почти
повзрослел; отец всячески опекал его и показывал ему Берлин. В этот раз
я вижу Элема как бы издалека, хотя и сижу с ним рядом. Я еще не знаю, что
это наша последняя встреча... или уже отчего-то знаю?
Лишь много позже, в 2004 году, я снова еду в Москву: на фестивале с кра¬
сивым названием «Лики любви» (Faces of Love) мне должны вручить на¬
граду — вправленную в металл стрелу Амура. Уже по дороге из аэропорта
в город я спрашиваю у переводчицы об Элеме Климове. Она говорит, что
он недавно скончался после длительной комы.
Я снова вижу его перед собой, каким увидела тогда, в его лучшие годы,
ведь я конечно же не знаю, какие беды погрузили эти бриллианты в дурман
забвения.
«Смерть велика, мы смеемся, но мы ей подвластны когда мы видим во¬
круг только жизнь смерть плачет у нас внутри». (Райнер Мария Рильке).
2007 год
Милош Форман
Классный парень
Элем Климов был не только блестящим писателем и режиссером, но так¬
же потрясающе классным парнем.
В шестидесятые годы, будучи молодым кинематографистом, Элем при¬
ехал в Прагу вместе с одним партийным ветераном, представителем совет¬
ского киноофициоза. Ветеран каким-то образом еще в Москве услышал о
новом пражском магазине, где есть большой выбор модных итальянских
свитеров. Мы все двинулись туда. Я лично никогда не видел до этого тако¬
го количества великолепных свитеров. Ветеран померял семь или восемь,
прежде чем обратил внимание на ценники. Внимательно изучил их и про¬
изнес вслух цену. Дважды. Затем отбросил свитера и решительно повер¬
нулся к Элему: «Они уродские. Совсем уродские. Тебе не кажется?» Элем
снисходительно кивнул: «У меня тоже не хватит денег, чтобы купить лю¬
бой из них». Затем с улыбкой повернулся к продавщице: «Извините нас».
У него был по-настоящему благородный характер.
2007 год
Костас Папанастасиу
Харизматик
Актер, хозяин ресторана «Терцо Мондо»
в Берлине
До того как открыть ресторан и после отъезда со своей родины, Греции,
я учился в актерской школе. Получил роль в фильме Бернхарда Викки
«Взятие крепости», его показали в дни Берлинского фестиваля, а «Терцо
Мондо» стал местом встречи фестивальных гостей. Там я познакомился с
Конрадом Вольфом, а он дружил с Ларисой Шепитько, которая привезла в
1977 году фильм «Восхождение» в конкурс Берлинале. Через год она опять
приехала в Берлин членом жюри Берлинале и, несмотря на занятость, при¬
ходила в ресторан. У нее был проект следующего фильма, и мы обсуждали
возможность того, чтобы я в нем сыграл. А в 1980-м — в год московской
Олимпиады — я узнал о гибели Ларисы.
Через три-четыре года в «Терцо Мондо» появился Элем Климов. Он це¬
леустремленно зашел и начал искать меня. Представился: «Элем Климов,
муж Ларисы Шепитько». Ресторан был заполнен. Подошла молодая не¬
мецкая режиссерша, шепнула: «Хочу пригласить этого человека снимать¬
ся». Она его не знала и среагировала на его шарм, его харизму. Он тогда
привез «Прощание» и попросил пригласить на просмотр знакомых. Показ
был в галерее нашего ресторана. Элем с большим уважением относился к
делу, начатому его женой, и преподносил картину публике с большой лю¬
бовью. Я знал от Ларисы и от Конрада, что у него были проблемы с цензу¬
рой. После объединения Германии во Дворце конгрессов я видел Элема в
последний раз. Шла политическая конференция с участием Вилли Бранд¬
та. Берлину была хорошо известна фигура Климова, его политическая ори¬
ентация, с ним здесь считались. Очень яркая личность!
2007 год
Вера Чехова - Андрей Плахов
Он был из числа посвященных
— Когда и в какой ситуации вы впервые встретились с Элемом Климовым?
— Первый раз я видела Элема, когда он праздновал свое пятидесятиле¬
тие в доме одного московского скульптора. Это был прекрасный вечер, и
Элем находился в самой лучшей форме, какую только можно вообразить.
— Как бы вы коротко определили его тип личности?
— Он — мистик, преданный своим идеям, из тех, кого называют посвя¬
щенными.
— Как вы лично воспринимали Элема?
— Это был экстраординарный человек с уникальной творческой потен¬
цией, всегда готовый принимать судьбу и противостоять ей. Где бы он ни
находился, с кем бы ни говорил, он всегда был — Элем Климов!
— Что вас сближало и какие темы вы чаще всего затрагивали в своем об¬
щении?
— Прежде всего различие между русским и западным искусством, теат¬
ром, и как эти разные традиции влияли друг на друга.
— Что вы почувствовали, узнав о кончине Элема?
— Это огромная потеря — и человеческая, и для искусства: он был боль¬
шим кинематографистом и режиссером.
2007 год
Александр Клюге
Навигатор
Я видел его и плотно общался с ним дважды. Сначала — в Москве в на¬
чале горбачевской эры, тогда во время Московского фестиваля и горбачев¬
ского форума шли дискуссии широкого плана — не только о кино, но о по¬
литике и глобальных изменениях в мире. Потом мы встречались в Берли¬
не, когда в Академии искусств проходила его персональная ретроспектива.
Я принимал участие в ее обсуждении вместе с Хайнером Мюллером и
Луиджи Ноно. Мы выступали с авангардистских позиций, а Климов — с
центристских, где-то между авторским и коммерческим кино. Но даже ес¬
ли мы в чем-то не соглашались, его фильмы, прежде всего «Иди и смотри»,
произвели на нас колоссальное впечатление.
Климов был первым избранным президентом, это был живой пример
торжества перестройки и гласности. До сих пор гласность и перестройка —
это то, что связывает наши две страны в очень специфическом аспекте. Все
реформы, происходившие в Германии, в XIX веке или в XX, после разгро¬
ма фашизма, шли сверху вниз и были инициированы правительством. И в
России — точно так же. Избрание и деятельность Климова обозначили раз¬
деление общества и государства, независимость общественной сферы. По¬
зднее я подружился также с Никитой Михалковым, но по своей общест¬
венной позиции Климов был мне ближе. Я люблю фильмы Михалкова, но
он представляет другие структуры и другое время — когда нет больше глас¬
ности и перестройки.
Одна из моих книг называется «Общественная сфера и опыт». Нужна
независимая общественная сфера, чтобы принять личный, даже интим¬
ный опыт в сознание большого количества людей. Нужно слышать мнение
других, нужна свободная дискуссия — и это не роскошь, не удовольствие,
а кровная необходимость. Если ее нет, возникает комплекс непонимания.
И вот для нас — Хайнера Мюллера, Луиджи Ноно и меня — Климов стал
навигатором. Его центристская позиция на самом деле очень демократиче¬
ская, ибо она учитывает мнение широких масс. От этого человека, который
своей искренностью вызывал стопроцентное доверие, я научился понима¬
нию того, что нужен не только авангард, но и арьергард. С тех пор я опре¬
деляю свою позицию как арьергард авангарда.
2007 год
Отар Иоселиани
Предписанная трагедия
Когда-то Климов снял чудную короткометражку «Жиних» — удиви¬
тельно точную и тонкую. Мальчик, влюбленный в одноклассницу, переда¬
ет ей шпаргалку — вот и все, но как это сделано! Чего стоит старая учи¬
тельница, увлеченно читающая «Ромео и Джульетту»! После вгиковского
просмотра этой ленты, выходя из зала, я поцеловал Элема. Между кинош¬
никами редко возникают такие отношения, чтобы испытывать восторг от
работы коллеги. Это было настоящее чудо. И я любил Элема до самого его
конца. Калатозов, увидев «Похождения зубного врача», позвонил мне, по¬
просил: «Приведи этого мальчика». Это вторая картина Элема, которую я
люблю, — кино про цензуру, талант, про почившие надежды, снято одним
духом. В сценарии Володина мерцали отблески советской системы, но ки¬
но получилось несоветским. Сама «зубная» метафора напоминала библей¬
ское «око за око, зуб за зуб», в этом был потрясающий метафизический
смысл, никто в это время таких серьезных картин не делал. Элем был чело¬
век абсолютно асоветский. Через всю картину он протянул тему: как хоте¬
лось бы быть свободным, несмотря на присутствие стукачей.
В то же время Климов происходил из партийной семьи. Когда я впервые
пришел в их дом, увидел там очень высокие потолки. Правда, в Тбилиси у
всех были высокие потолки, подумал я тогда. В ту пору даже партработни¬
ки были ущемлены и придушены и терпеть не могли то, чем занимаются.
Элем был похож на Маяковского: он не принимал систему, но считал, что
ее можно поправить. Когда возникла надежда, что Горбачев переменит си¬
стему, он решил засучить рукава и взять на себя этот груз.
Верить в Горбачева и перестройку было безумием. Пытаться исправить
мир — тоже безумие. И это толкает человека к тому, чтобы перестать быть
художником. Мой дорогой товарищ Климов запутался в этих соблазнах.
К сожалению, и это тоже надо сегодня вспомнить. Самое ужасное, что мо¬
жет произойти с человеком, это ощутить себя талантливым. Он уподобил¬
ся Довженко и Эйзенштейну, которые упивались тем, что они талантливы.
Но иногда он снисходил до нас, простых смертных, и выпивал с нами. А это
значит, что он был человек грустный.
Когда Горбачев решил все менять на этом свете, в том числе и в кино,
первой жертвой стал Кулиджанов. Я радостно воспринял, что на его место
пришел Элем, но мне не понравилось, что нежного, тактичного Кулиджа¬
нова забыли. Так принято в этой стране, так же потом забыли самого Эле¬
ма. Климов не соизмерил свои возможности, и тот груз, который пришел¬
ся на его плечи, упал и раздавил все.
Мне с самого начала не понравилась идея снимать «Агонию». Нельзя бы¬
ло делать кино о царском режиме в то время, когда требовалось оплевать
этот режим, когда Николая обязательно надо было изобразить идиотом, а
Распутина — преступником. Это изначально не мог быть правильный
фильм о том, как погибло российское дворянство. Получилось, что оно са¬
мо во всем виновато. Пускай Николай — не самый блестящий ум в России,
а тема Распутина до сих пор никем не распутана, но стоило ли ворошить
ее? Ведь он делал кино не просто чтобы сделать, он углублялся в предмет,
общался с Бадмаевым. Его предупреждали, что не надо трогать тему ша¬
манства. А потом произошла трагедия с Ларисой, которую он привязывал
постфактум к этим предупреждениям.
Смерть Шепитько оставила такую отметину на Элеме, от которой он так
до конца и не смог избавиться. Он перестал работать и даже долго не про¬
тянул на посту функционера, который ему как благородному, тонкому,
чуткому человеку был противопоказан. У него сформировался взгляд на
жизнь как на предписанную трагедию, которую он должен прожить.
Вспоминаю, как мы, совсем молодые, садились за ВГИКом на берегу Яу¬
зы — Элем, я и Витя Туров. Каждый брал камень, было опасно, если отой¬
дешь от метро, Борю Анроникова недавно избили вусмерть. Покупали че-
кушку и очень медленно ее распивали. Мои коллеги обычно лишены чув¬
ства беды, им маячат лавры, успех, Ленинская премия. А он сидел и гово¬
рил: «Какой ужас. Как они могут носить на себе груз этих медалей ценой
проституции».
Иногда с нами бывала Лариса. Элем учился у Ромма, мы с Ларисой — у
Довженко. Он был молодой, горячий самец. Горел кинематографом. У не¬
го не было и намека на жест, на позу — поэтому мы и подружились. Мне
было так приятно, что я такого человека знаю, и так жаль, что может плохо
кончиться судьба, которая началась так хорошо. У него были очень серьез¬
ные намерения. Мы говорили о том, почему и зачем надо заниматься этим
делом кинематографическим. И мы так сформулировали: построить мост
между тем, что было до этого советского безобразия, и теми, кто потом при¬
дет. Мы считали, что можно делать цензурные уступки, главное — протя¬
нуть мост. «Мост! Мост!» — возбужденно повторял он. Цепь времен, пре¬
емственность цивилизаций, водопровод, построенный еще в Риме и пере¬
живший варваров.
2007 год
Фридрик Тор Фридриксон
Человек севера
Мы встретились с Элемом Климовым только один раз — на фестивале в
Карловых Варах, куда он приехал со своим сыном Антоном. Редко, но бы¬
вает, когда человека после одной встречи можно назвать другом, и это был
как раз тот случай. Мы хорошо выпили как северные мужчины и быстро
нашли общий язык — помимо того условного немецкого, на котором объ¬
яснялись. Это был очень серьезный человек, но с большим чувством юмо¬
ра. В этом я убедился еще раз, посмотрев его раннюю комедию «Добро по¬
жаловать, или Постороннним вход воспрещен».
В свое время я показывал в Исландии «Восхождение» Ларисы Ше¬
питько. Узнав об этом, он расцвел: видно было, как это для него важно.
Потом я узнал, что Климов горячо боролся за мой фильм «Дети приро¬
ды». Он был номинирован на Приз европейского кино по категории
«лучший молодой фильм», ведь я считался тогда начинающим режиссе¬
ром. Так вот, Элем, входивший в правление и жюри Европейской кино¬
академии, сказал, что не выйдет из комнаты, если картине не дадут хотя
бы еще одну номинацию. Кроме него, все остальные там были предста¬
вители южной Европы — итальянцы, испанцы, французы. Элему как че¬
ловеку Севера моя картина, связанная с суровой поэзией природы, ока¬
залась ближе всех. И он добился своего: актрису Сигридур Ханалин но¬
минировали за лучшую женскую роль. Это было очень важно для этой
пожилой женщины, которая довольно скоро умерла. А я сохранил чувст¬
во благодарности моему русскому другу. Потом мы общались по телефо¬
ну. Я знал о том, как он боролся за проект «Мастера и Маргариты», и до¬
гадывался, что ему трудно. Судьба нас больше так и не свела.
Записал Андрей Плахов
От составителей 8
Герман Климов
Это кино оставалось только снять 10
Глава 1 25
Неснятое кино
Герман Климов
Элем Климов
Вымыслы 26
По мотивам русских народных сказок
Герман Климов
Элем Климов
Преображение 74
От авторов 74
Часть I 76
Часть II 116
Эпилог 145
Глава 2 147
Элем Климов: «Я сам выбрал свой удел»
«И от тебя зависит так мало и так много» I48
Запись и подготовка материала 0. Алдошиной
«Агония» I59
Документальная хроника
Публикация и комментарий Ю.Мухина и Л.Пушкаревой
Элем Климов - Людмила Донец
Преодоление 164
Элем Климов - Марина Мурзина
«Мы должны сберечь товарищество» I77
Элем Климов - Ирина Рубанова
Бездна I82
Элем Климов - Александр Липков
Полной мерой правды I9I
Элем Климов - Анатолий Павленко
Цель творчества — самоотдача 206
Элем Климов - Виктор Матизен
«Мне интересно только невозможное» 230
Элем Климов - Феликс Медведев
«А памятника не надо...» 235
Элем Климов - Нинель Исмаилова
Идеалы против догм 258
Глава 3 267
Восхождение Элема Климова
Карен Шахназаров
Элем Климов свою миссию выполнил 268
Ирина Рубанова
Восхождение Элема Климова 270
Армен Медведев
Имя Элема Климова забвению неподвластно 278
Андрей Плахов
Последняя жертва 282
Валерий Фомин
Непобежденный 285
Ночные разговоры с Элемом Климовым
Эльдар Рязанов
Его талант не был реализован и вполовину 312
Александр Сокуров
Элем Климов сделал картины, которые не будут забыты 315
Юрий Карякин
«Бесы». Неснятый роман 317
Вадим Абдрашитов
Жизнь оказалась короче 324
Александр Гельман
Он был человек с очень сложным, особенным строением психики 325
Юрий Норштейн
С первого фильма он предъявил себя как личность 328
Михаил Беликов
Марафонец 33I
Шавкат Абдусаламов
У него будто бы открытая рана была. А он не залечивал... 333
Алексей Кравченко - Анатолий Павленко
Климов для меня как космос 335
Алексей Герман
Немигающие глаза 345
Записала Любовь Аркус
Алексей Петренко
Это был настоящий пророк 347
Глеб Панфилов
Он ушел победителем 348
Глава 4 349
Письма издалека
Письмо Фреда Келемена Элему Климову 350
Ференц Коша
Письмо Элему Климову по случаю премьеры «Агонии» 352
Дэвид Паттнэм
Это был бы великий фильм 355
Записала Ингеборга Дапкунайте
Кшиштоф Занусси
Он был открыт к тайне 357
Ханс-Иоахим Шлегель
Встречи до, во время и после Берлинале 360
Рон Холлоуэй
Поездки с другом 366
Ханна Шигулла
Я снова вижу его перед собой 371
Милош Форман
Классный парень 373
Костас Папанастасиу
Харизматик 374
Вера Чехова - Андрей Плахов
Он был из числа посвященных 375
Александр Клюге
Навигатор 376
Отар Иоселиани
Предписанная трагедия 377
Фридрик Тор Фридриксон
Человек севера 379
Записал Андрей Плахов
«Элем Климов. Неснятое кино»
Составители Герман Климов, Марина Мурзина, Андрей Плахов, Раиса Фомина
Редакторы Герман Климов, Марина Мурзина
Дизайн, вёрстка Владимир Пантелеев, Иван Пантелеев
Технический редактор Людмила Картузова
Корректор Галина Евдокимова
Работа с архивными материалами Герман Климов, Марина Мурзина
Перевод архивных материалов в электронную форму Светлана Картузова
Фотографии Николай Гнисюк, Игорь Гневашев, Алексей Родионов,
Любовь Урицкая, Лев Луппов, Валерий Плотников, Лев Шерстенников
из семейного архива Элема Климова, Германа Климова
Переводы с английского Раиса Фомина и Андрей Плахов
Издательский дом «Хроникёр»
123007, Москва, Хорошевское ш., д. 62
Тел. 724-12-95
Генеральный директор Дмитрий Мурзин
Подписано в печать 12.03.08. Формат 60x90/16.
Печать офсетная. Гарнитура Petersburg. Бумага ВХС.
Печ.л. 27. Тираж 2000 экэ.
Заказ № 2004
Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14