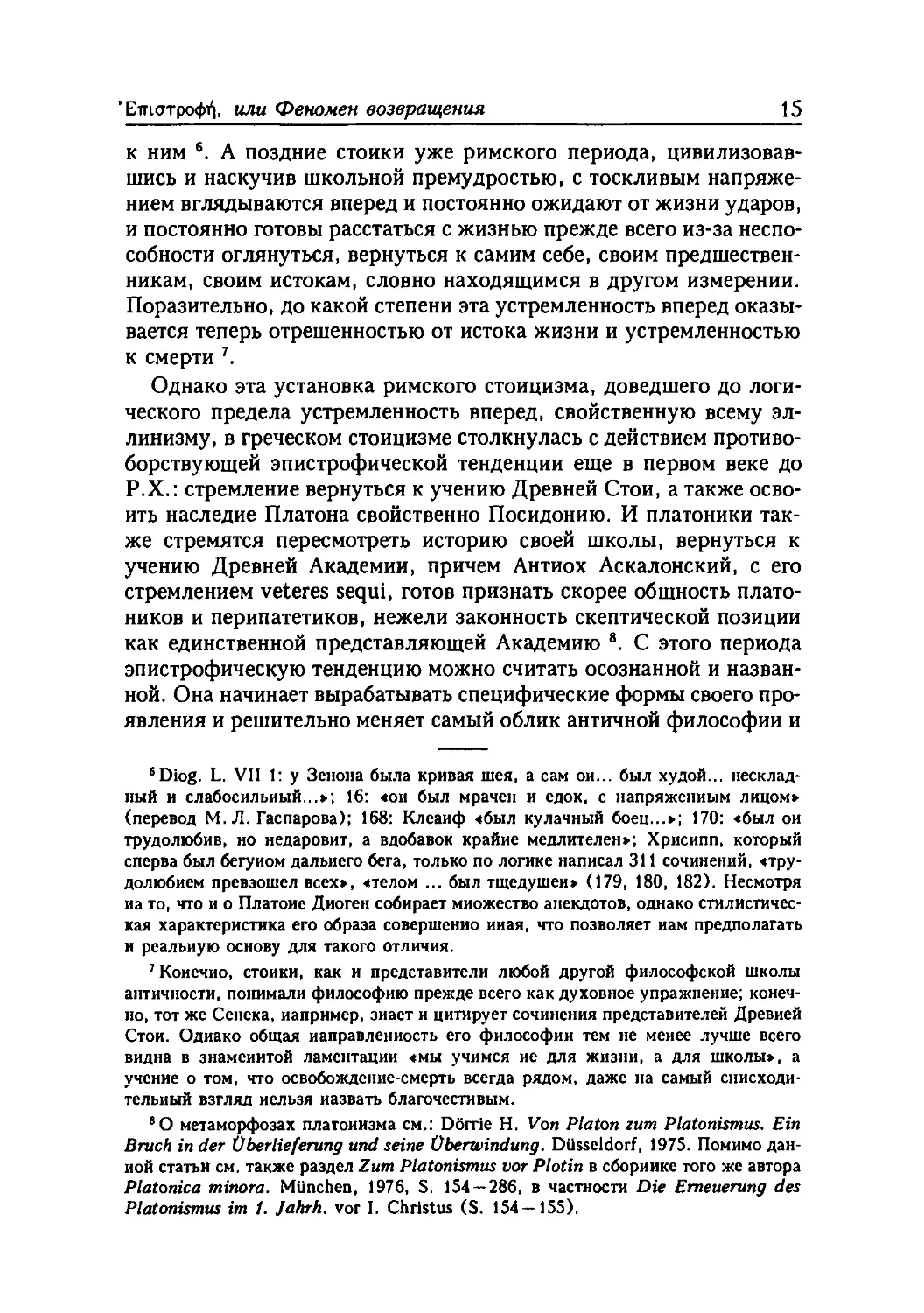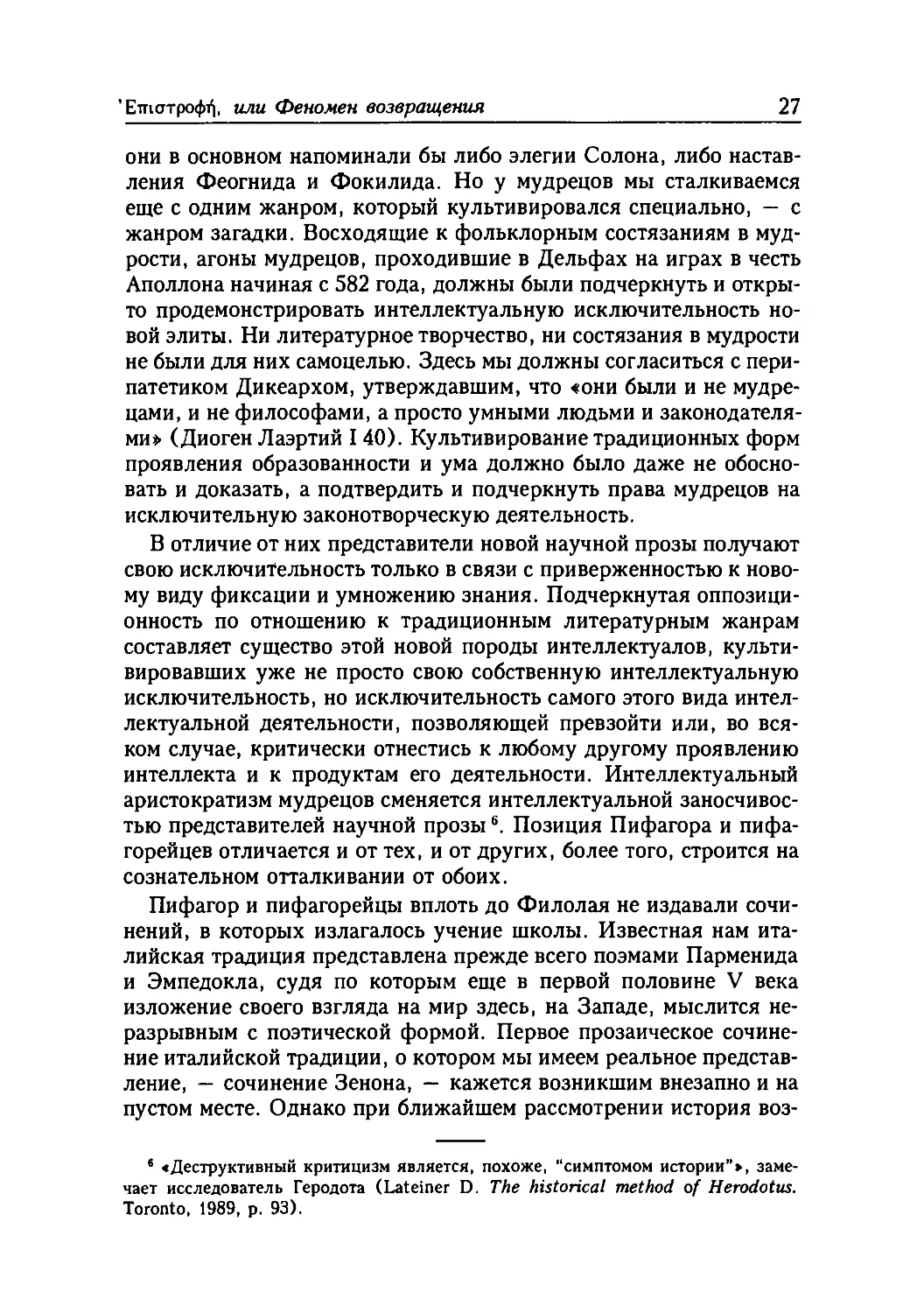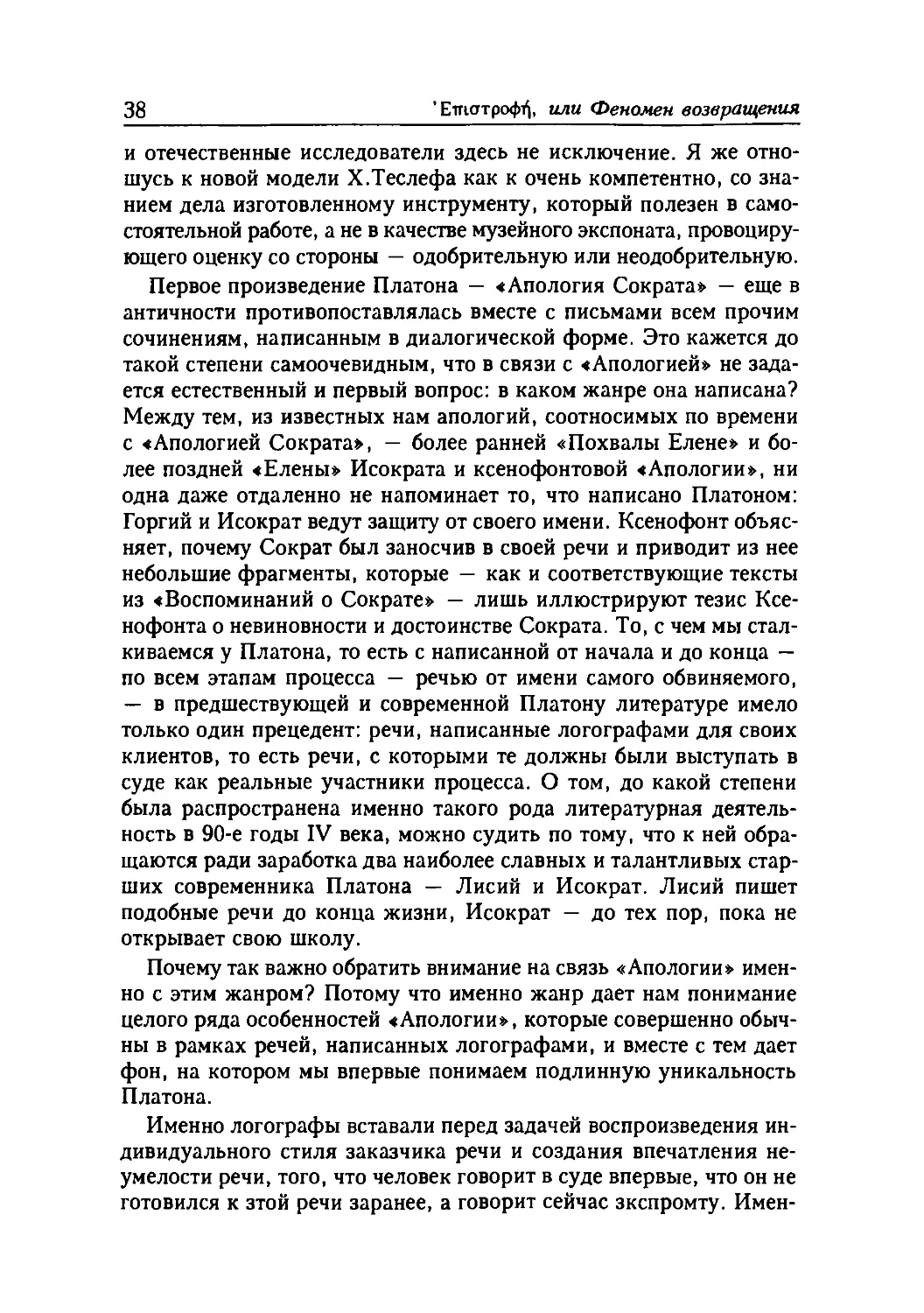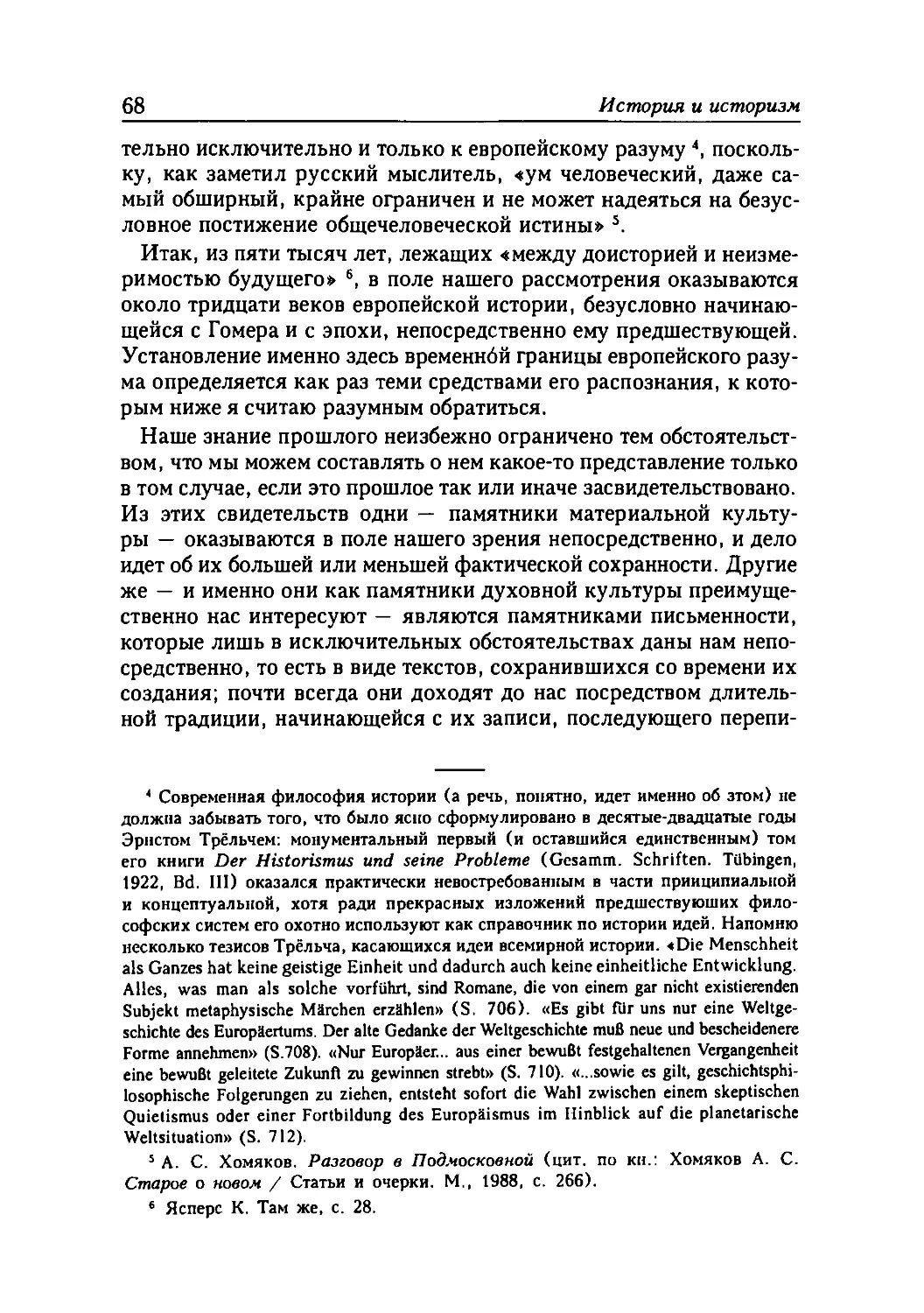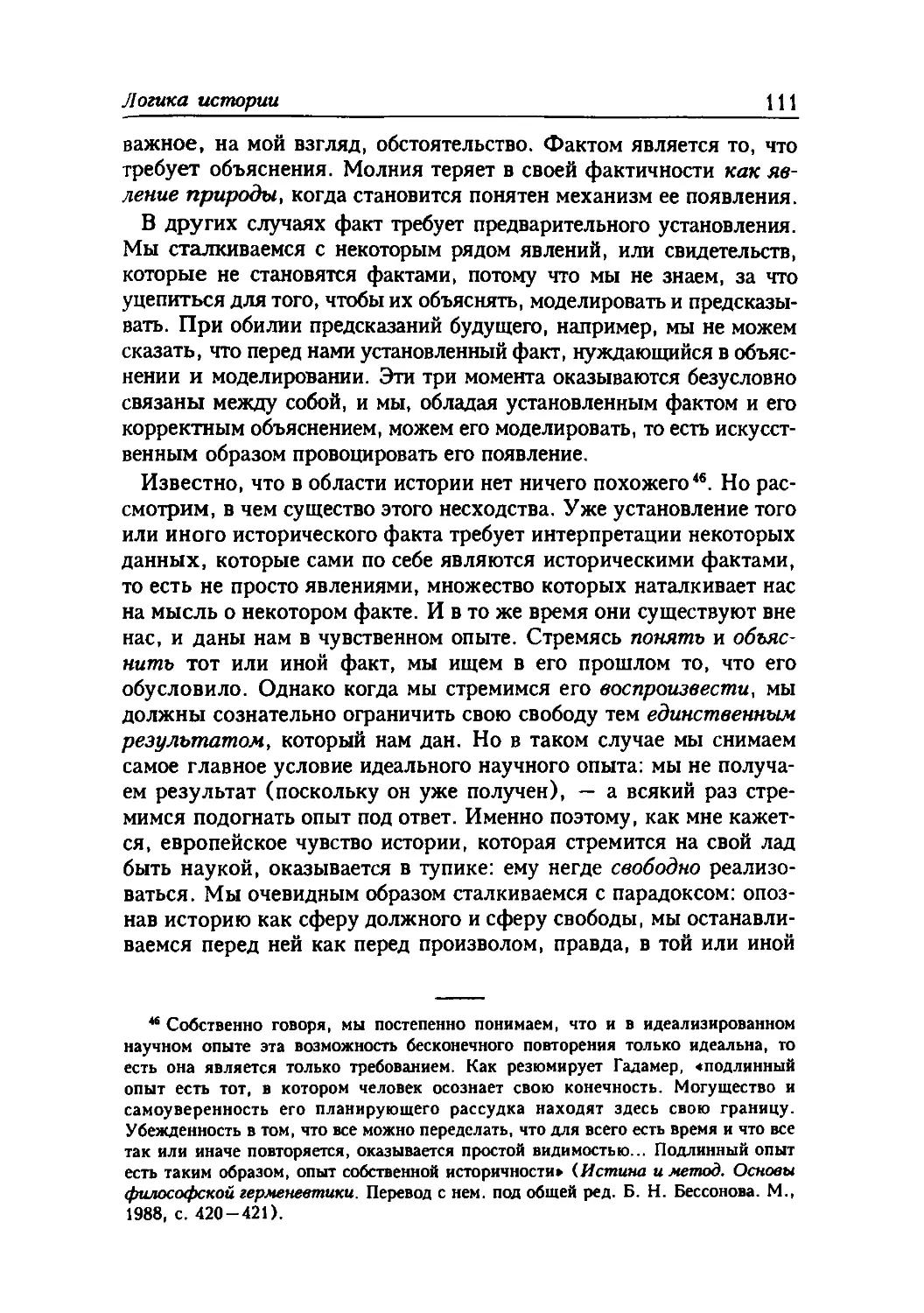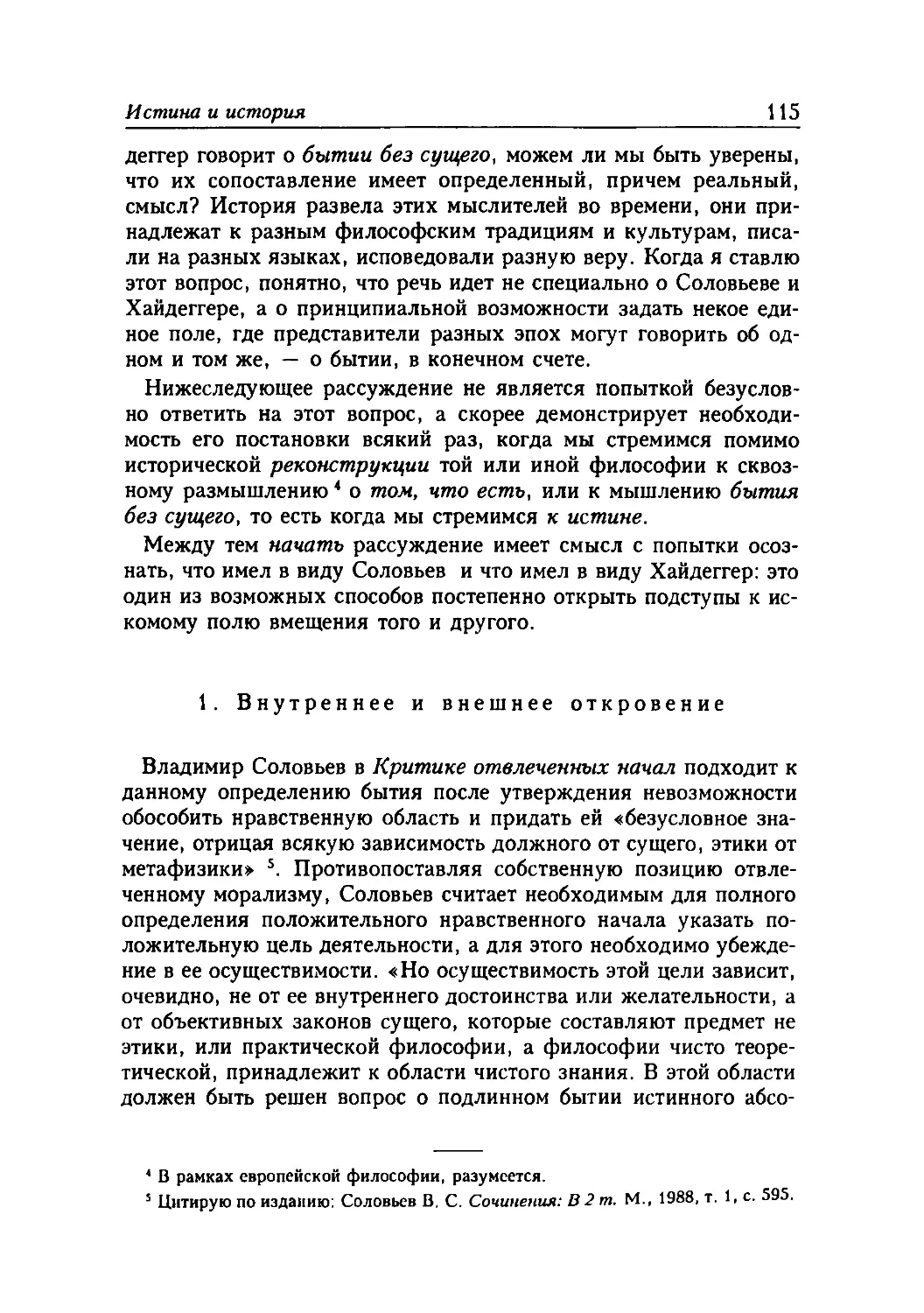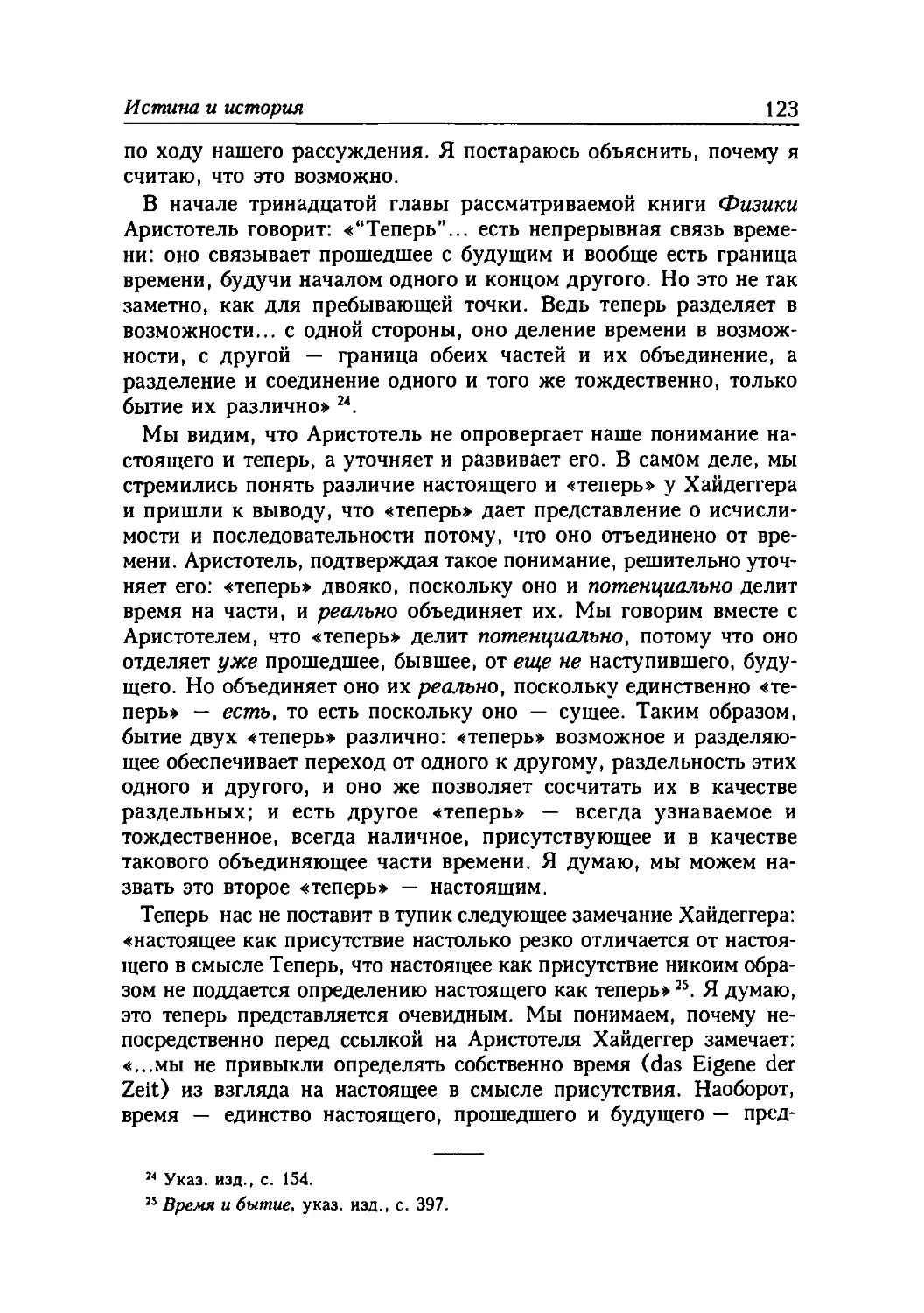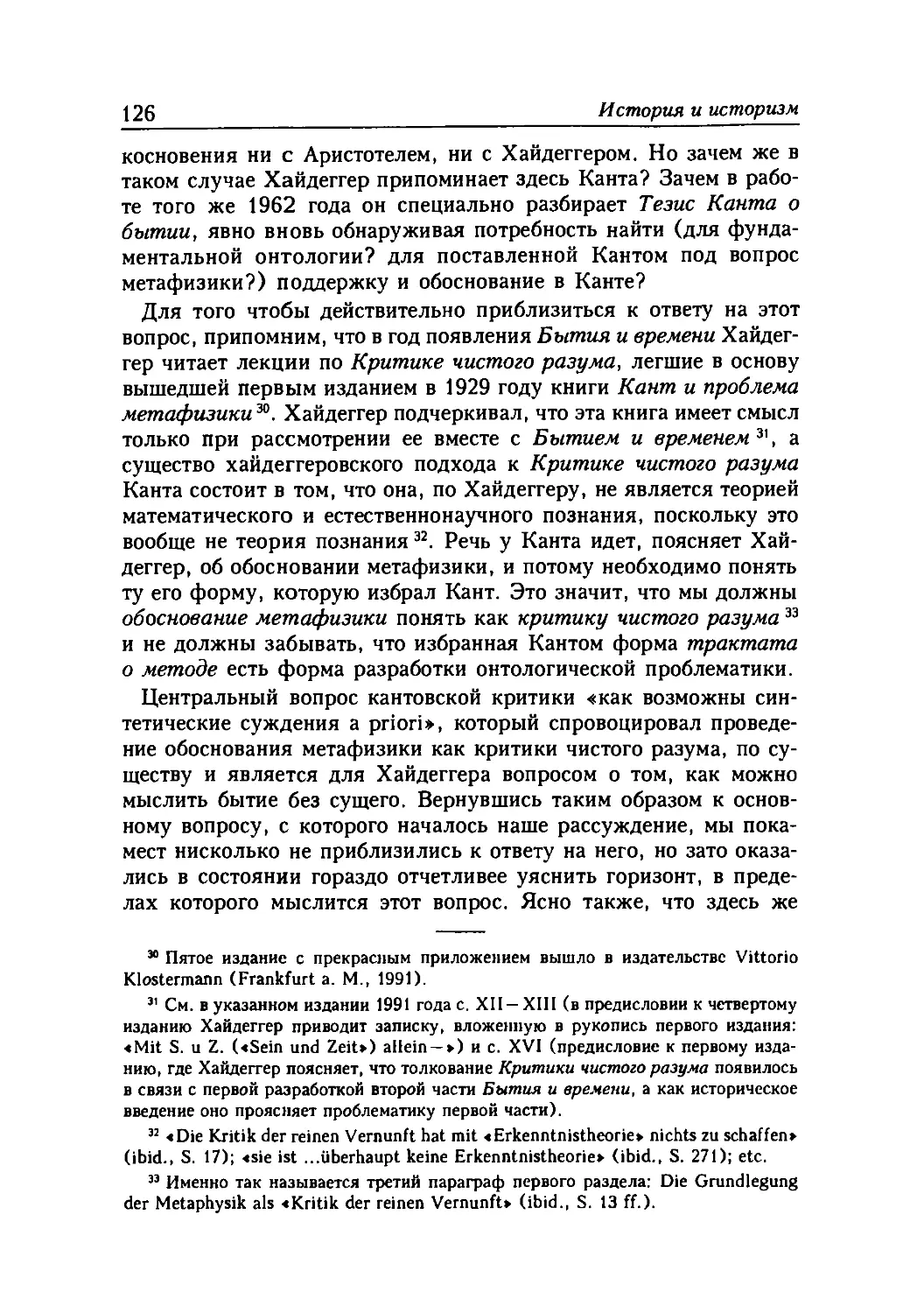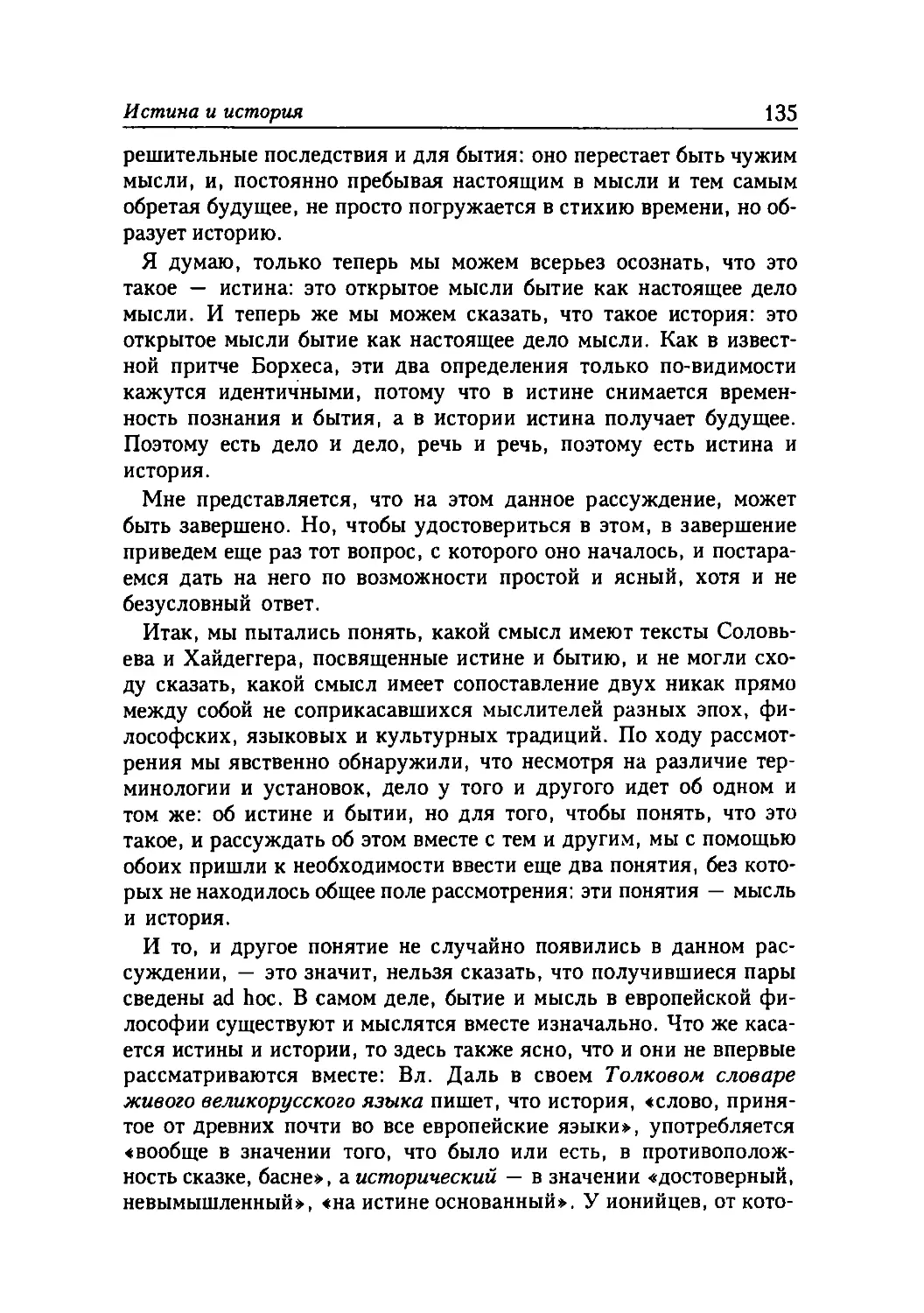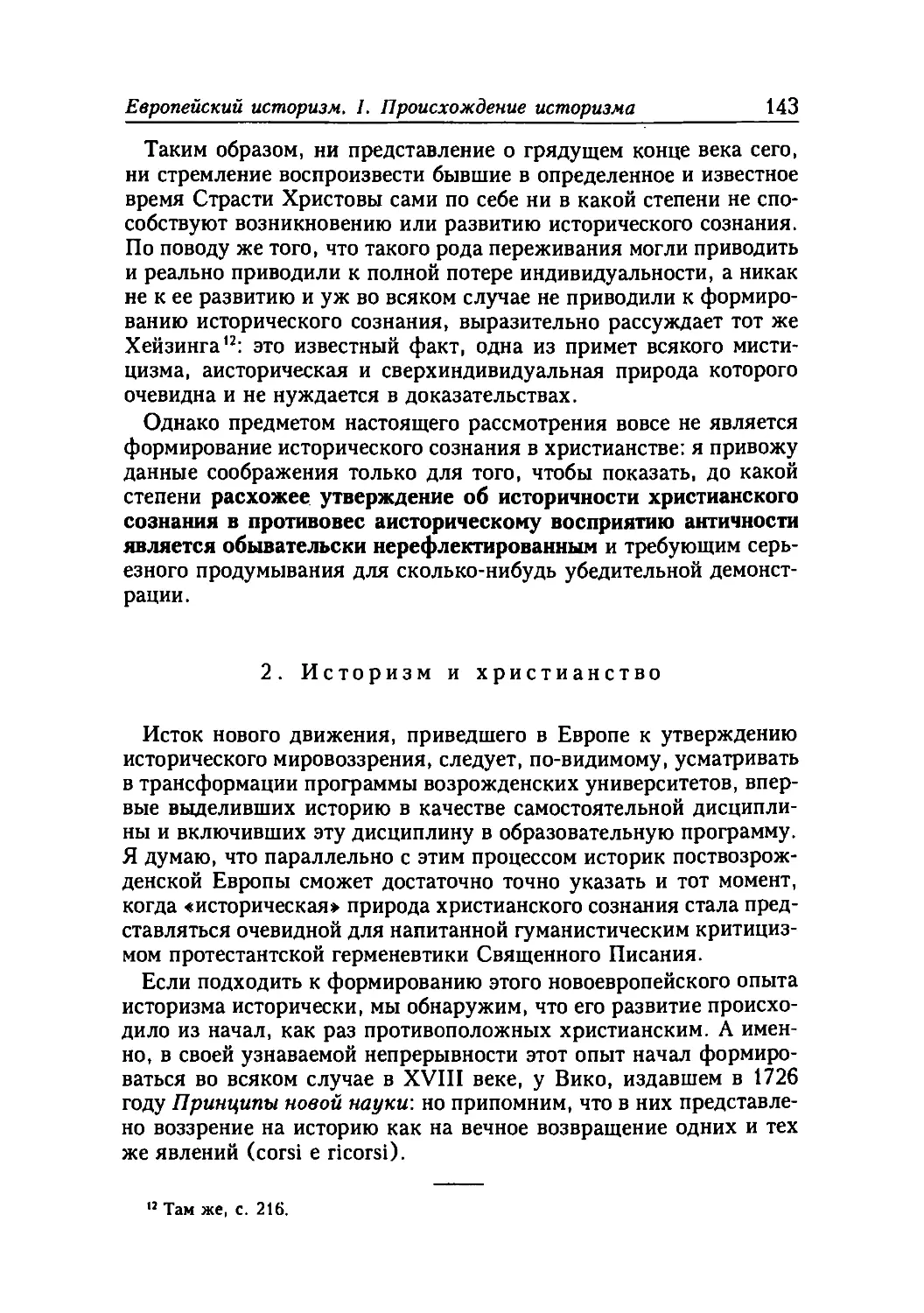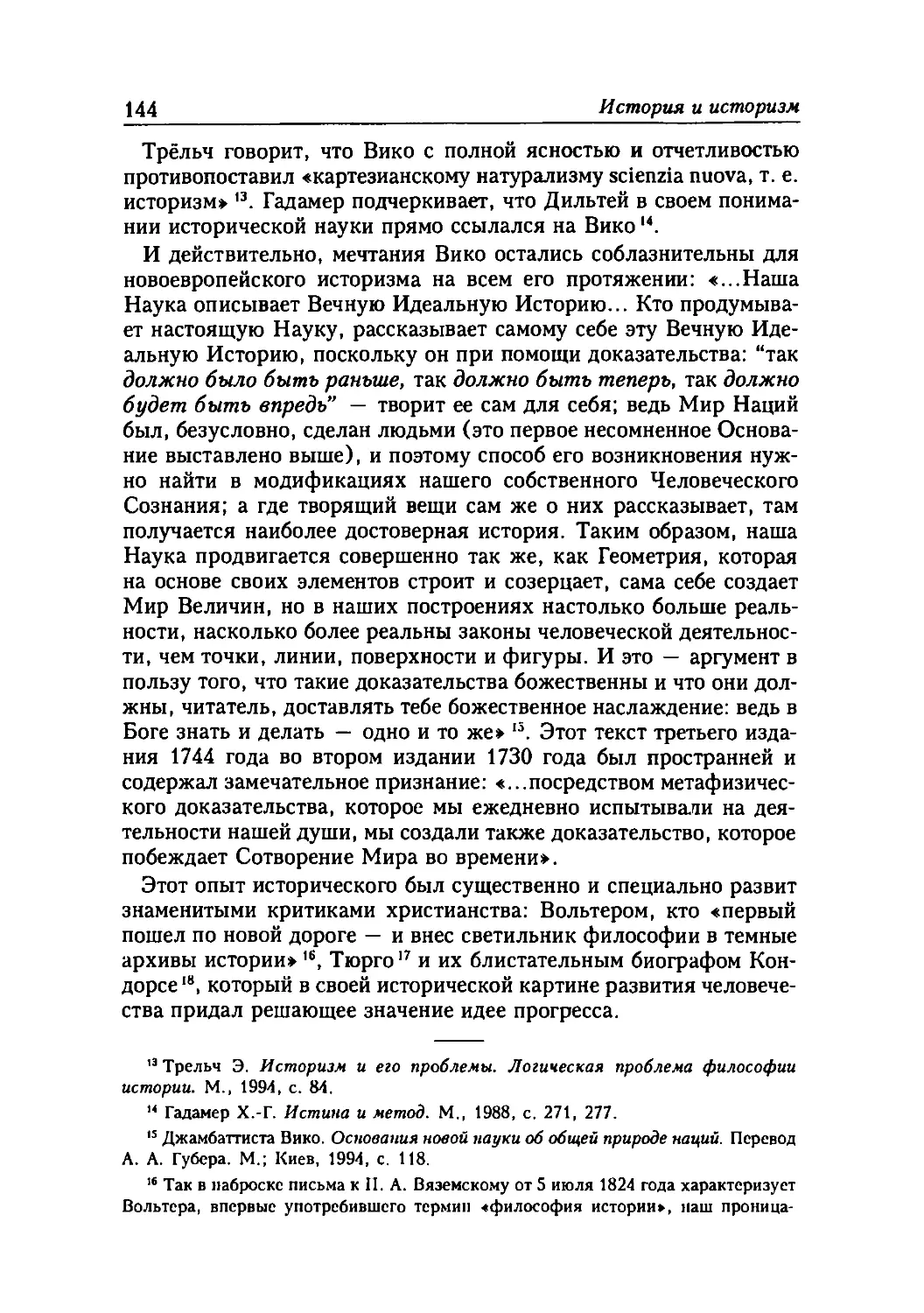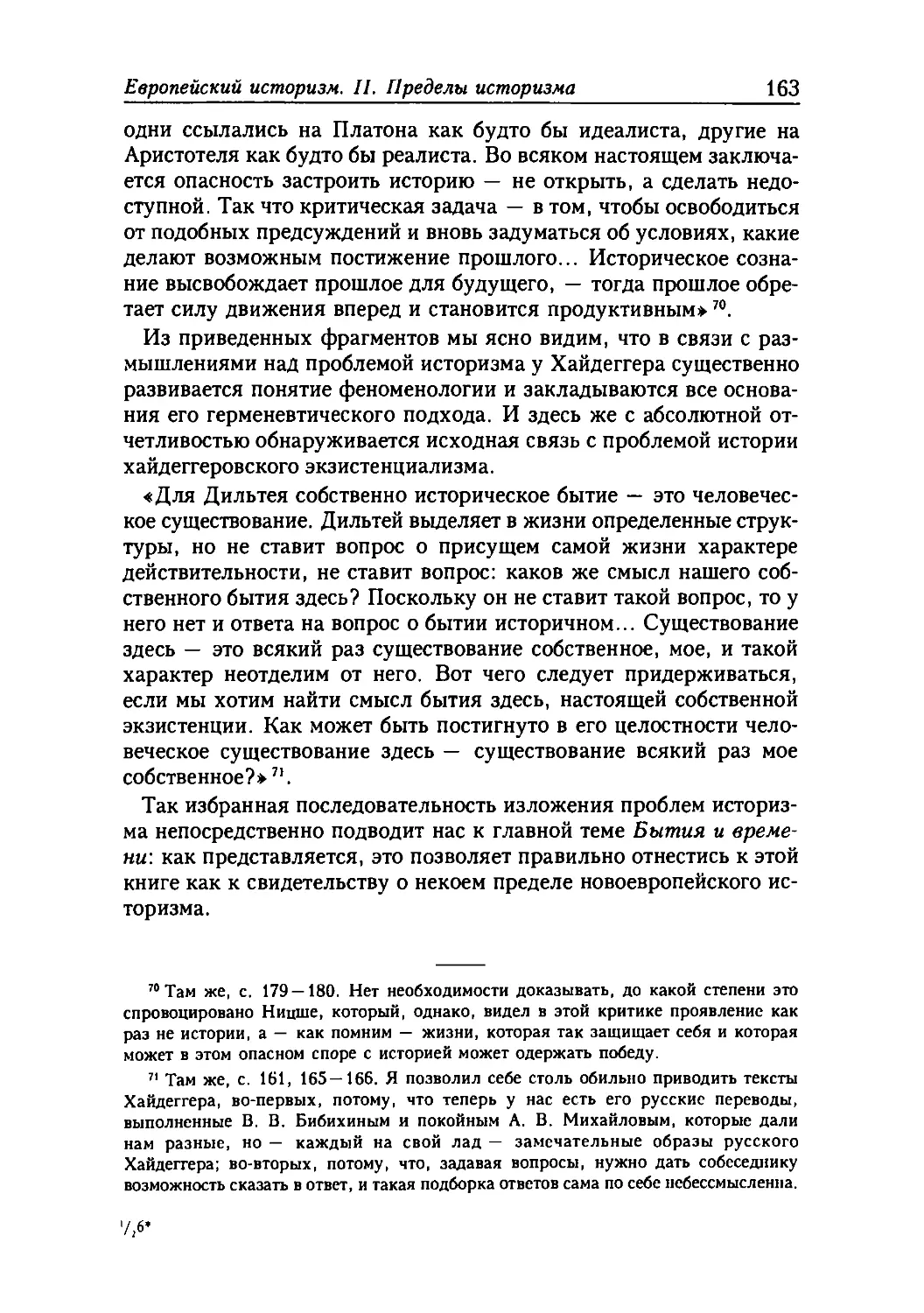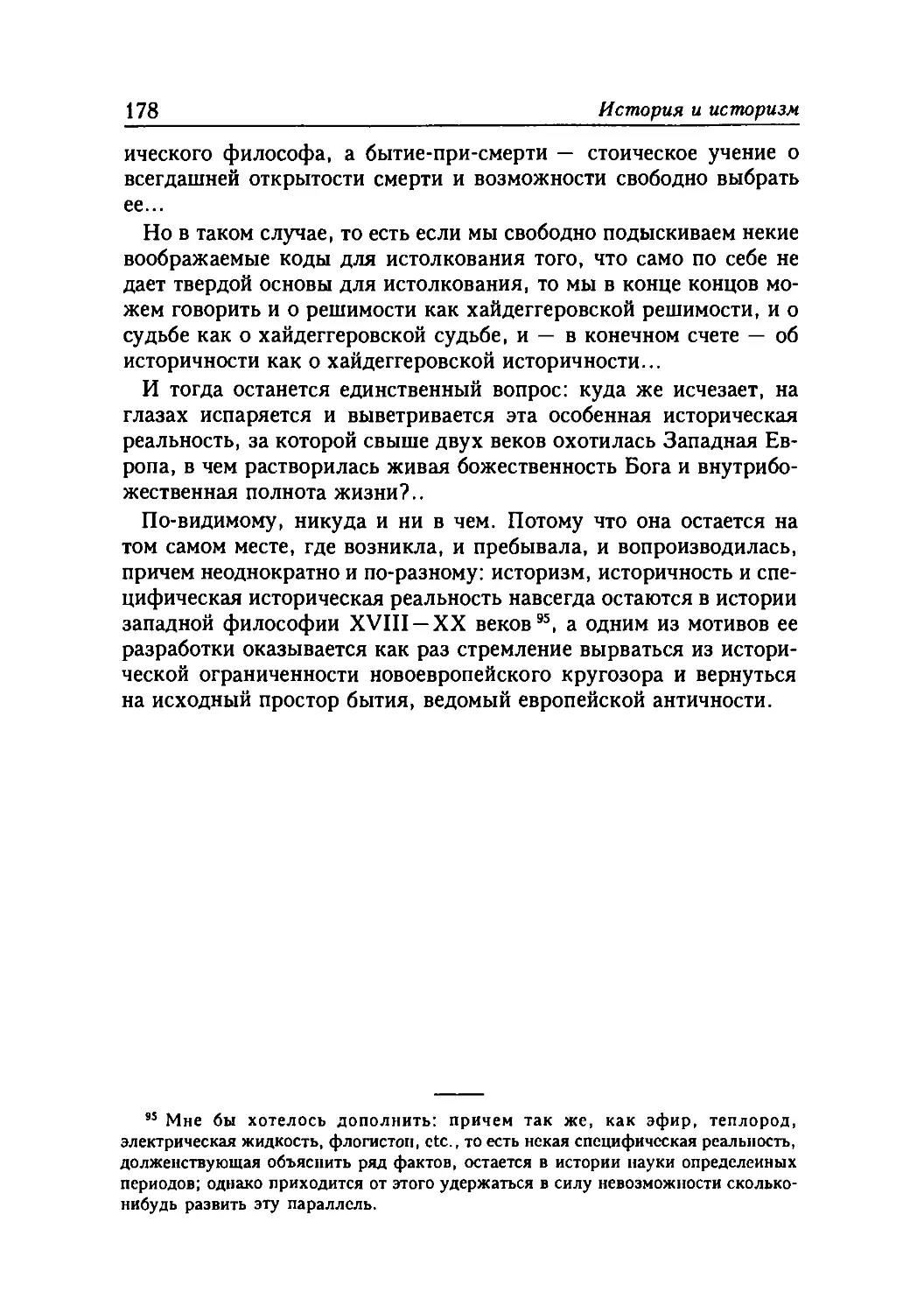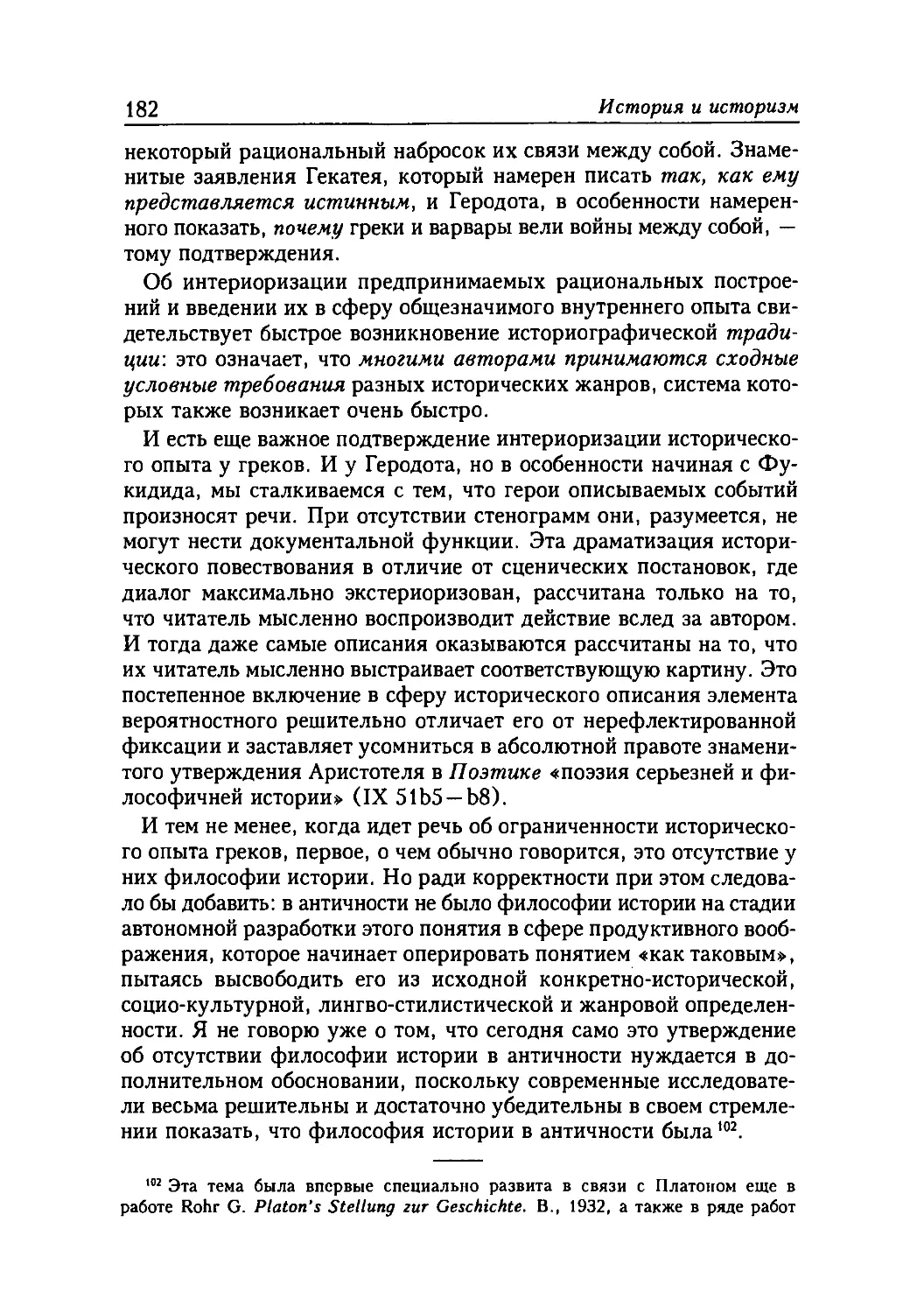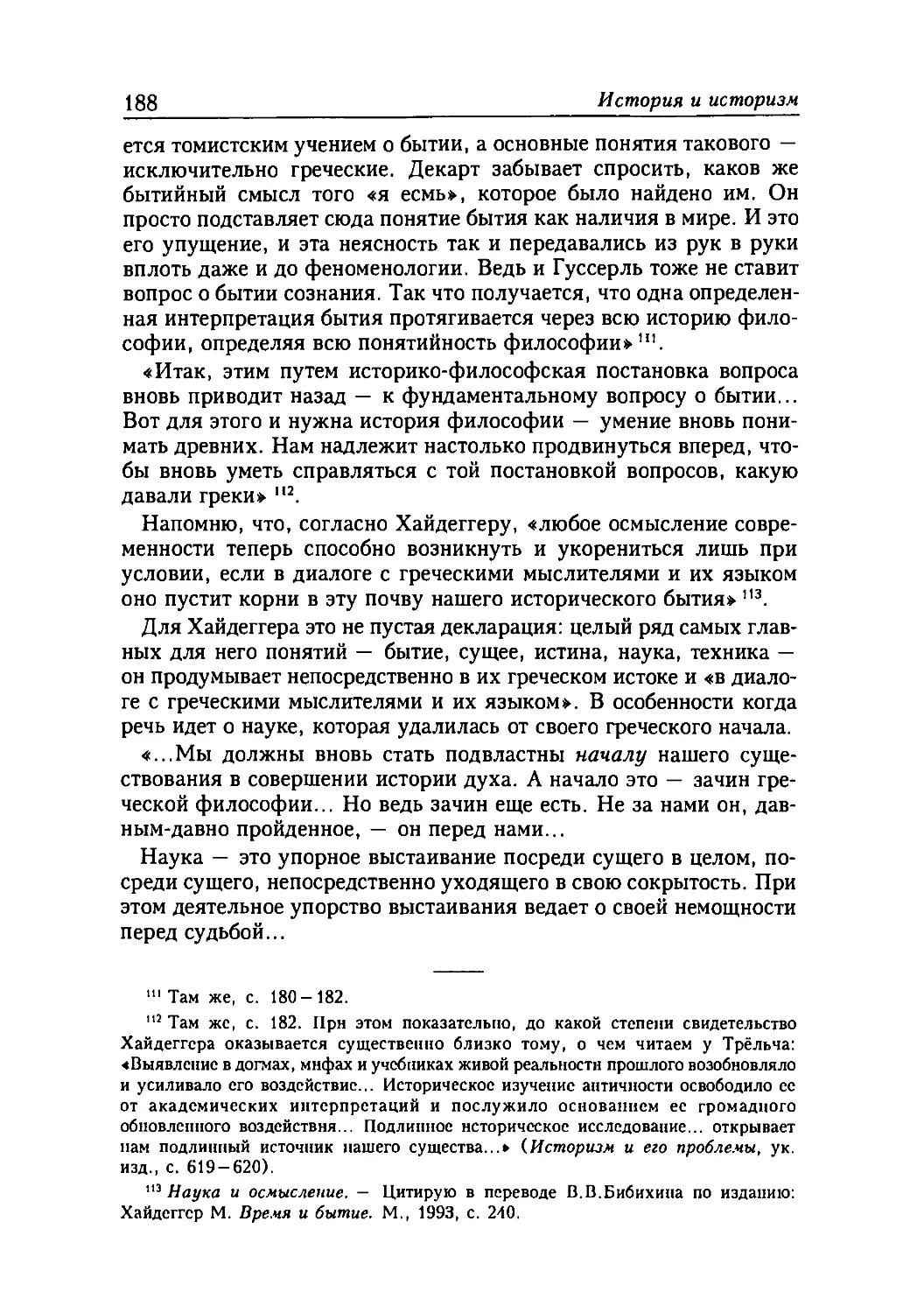Текст
Институт философии Российской Академии наук
Ю.А.Шичалин
АНТИЧНОСТЬ
ЕВРОПА
ИСТОРИЯ
Москва 1999
Ю. А. Шичалин
Античность — Европа—история.
М., 1999. 208 с.
Книга Ю. А. Шичалина, старшего научного сотрудника Института
философии РАН, директора Греко-латинского кабинета, «Античность —Европа —
история» анализирует условия возможности сохранения европейского
менталитета в наши дни.
D разделах книги «Феномен возвращения в первой европейской культуре»,
«Осевые века европейской истории», «Логика истории», «Истина и история»,
«Европейский историзм (происхождение историзма, пределы историзма,
историзм и европеизм)» рассматриваются основные проблемы единства и
периодизации европейской культуры от Гомера до современности, опыт
новоевропейского историзма у некоторых его вершинных представителей
(Трёльча, Хайдеггера и др.), завершение эпохи историзма и невозможность
философии истории как науки.
Книга предназначена для философов, культурологов, педагогов и широкого
круга читателей, интересующихся философскими проблемами гуманитарного
знания.
ISBN 5-87245-044-3
Ю. А. Шичалин. 1999
«Греко-латинский кабинет» 10. А. Шичалина
ЛР № 040433 от 3 июня 1997 г.
Подписано в печать 10.06.99. Формат 60 χ 90 Vl6.
Гарнитура Петербург. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 13,0. Тираж 2000 экз. Зак.974
ISBN 5-87245-044-3
AD LECTOREM
Одним общим названием, вполне, впрочем, описательным,
объединены рассуждения, достаточно самостоятельные, однако
безусловно связанные между собою — не композиционно, а
благодаря тому, что они суть рассуждения об одном и том же.
Поначалу я определял для себя эту общую тему как
образование (formation, Bildung) европейского разума. Но все
настойчивее она оказывалась вопросом о новоевропейском историзме, а
он в свою очередь непосредственно — хотя и неожиданным для.
меня образом — обращал к проблеме церкви и церковности.
Эта последняя проблема выходит за рамки научного
рассмотрения. Поэтому для всех приводимых рассуждений,
написанных в 1993—1996 годах, остаются действительны
установки начального подхода, в силу чего я исходил не из проблемы
объекта и субъекта, например, а из проблемы факта; не из
реконструкции и критики тех или иных концепций, а из попытки
оценить, как в них реально расширяется единый опыт
европейского философствующего разума; не из попытки так или иначе
(более полно или фрагментарно) строить некую имагинатив-
ную систему, а устанавливать доступные нам в общем опыте
константы, предметные области, etc.
Поэтому же в самой глубине всех предлагаемых
рассуждений и в качестве их фона присутствует общий вопрос: что из
доставшегося нам от двадцати восьми веков европейской
истории может войти в учебные программы школы, которую сегодня
не стыдясь можно было бы назвать российской. В конечном
счете смысл этих рассуждений и состоит в попытке установления
исходных условий возможности такой программы сегодня, то есть
в попытке сказать, можем ли мы сегодня в принципе
предполагать некую область уверенного знания вопреки затянувшемуся
тотальному кризису новоевропейских наук, приведших человека
к невиданному могуществу ив то же время к ставшему привыч-
ным дезориентированному блужданию в предчувствии
катастрофы.
Это произведенное post factum окончательное
установление смысла нижеследующих рассуждений кому-то может
показаться не совсем убедительным. Но все же я надеюсь, что
ясное осознание обозримости европейской истории неизбежно
приведет именно к этому: к поиску сферы уверенного знания, не
влекущего человека к погибели, — да не вкусит плодов единого
зла от древа, давшего нам возможность отличать добро.
Επιστροφή,
или ФЕНОМЕН
ВОЗВРАЩЕНИЯ
В ПЕРВОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
История европейской культуры естественным и в то же время —
как и всякий раз — неожиданным образом опять оказывается в
центре внимания европейцев. Естественным — поскольку,
оказавшись одной из множества культур, Европа неизбежно оказывается
перед необходимостью осознать в очередной раз свою специфику.
Неожиданным — поскольку именно европейская культура —
хотим мы того или не хотим — является сегодня безусловно
доминирующей, более того — единственно ответственной за все те
метаморфозы, которые произошли и происходят на земном шаре
последние два века. Можно сколь угодно решительно браниться
европоцентризмом, однако факт остается фактом: именно
достижения европейской в своих истоках науки привели к сегодняшнему
состоянию человечества, которое без преувеличения следует
назвать катастрофическим. Но как катастрофу мы оцениваем наше
настоящее тоже только потому, что выход из создавшейся
ситуации мы всерьез ищем в европейской системе ценностных
ориентиров. Данная точка зрения может показаться спорной, однако именно
она лежит в основе предлагаемых замечаний об одном
интереснейшем феномене европейской культуры, который, как
представляется, следует признать конституирующим для нее: речь идет о
феномене возвращения культуры к своим истокам, о стремлении
осознать и представить свое прошлое даже в том случае, когда для
такого осознания и представления нет достаточных оснований.
Постоянный пересмотр своего прошлого оказывается условием
возможности как самого существования, так и дальнейшего
развития европейской культуры: в основе наших представлений о
настоящем лежит так или иначе понятое прошлое, и именно на
основе создаваемого образа прошлого мы строим то, что избираем в
качестве будущего.
При всей своей специфике Россия — европейская держава. Ее
реальная история начинается с того момента, когда она
сознательно избирает своей религией православное христианство, а своей
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
7
историей — европейскую историю в том ее виде, какой знала
Византия — другая чрезвычайно специфическая, но также
европейская держава. Основные механизмы европейской культуры
безупречно работают в России. Во всяком случае, начиная с Карамзина
и Пушкина, мы совершенно сознательно и твердо числим в своем
прошлом культуру первых европейских народов — греков и
римлян. Изучая их, мы давно уже — как и прочие европейские
народы — научились изучать себя, а значит — соответствующим
образом осознавать свое настоящее и строить будущее.
Представляемый цикл лекций, таким образом, имеет не только академический
интерес, — во всяком случае, для меня'.
Ю. А. Шичалин
1 В основе данной работы лежит русская версия докладов, прочитанных мною
в мае 1993 года в Collège de France. Материал докладов был использован в курсе
Введение в античную культуру, который я читал в Университете истории культур
(Москва) в декабре того же года. Впервые вариант этого текста опубликован в
1994 году (Москва, ЛИА «Док»).
I
В «Тимее» Платон приводит рассказ Солона о его пребывании в
Египте. «Солон рассказывал, что когда он в своих странствиях
прибыл туда, его приняли с большим почетом; когда же он стал
расспрашивать о древних временах самых сведущих среди
жрецов, ему пришлось убедиться, что ни он сам, ни вообще кто-либо
из эллинов, можно сказать, почти ничего об этих предметах не
знает. Однажды, вознамерившись перевести разговор на старые
предания, он попробовал рассказать им наши мифы о древнейших
событиях — о Форонее, почитаемом за первого человека, о Ниобе
и о том, как Девкалион и Пирра пережили потоп; при этом он
пытался вывести родословную их потомков, а также исчислить по
количеству поколений сроки, истекшие с тех времен. И тогда
воскликнул один из жрецов, человек весьма преклонных лет: "Ах,
Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди
эллинов старца!"» Причина этого, поясняет жрец, в том, что из-за
потопов, пожаров и множества бедствий другого рода
большинство населения земли подвергается почти полному истреблению, и
только в Египте цепь непосредственного преемства не прерывается
и с древнейших времен сохраняются достоверные документы обо
всех прошедших событиях. «Какое бы славное и великое деяние
или вообще замечательное событие ни произошло, будь то в
нашем краю или в любой стране, о которой мы получаем известия,
все это с древних времен запечатлевается в записях, которые мы
храним в наших храмах; между тем, у всех прочих народов
всякий раз, как только успеет выработаться письменность и все
прочее, что необходимо для городской жизни, вновь и вновь в
урочное время с небес низвергаются потоки, словно мор, оставляя из
всех вас лишь неграмотных и неученых. И вы снова начинаете все
сначала, словно только что родились, ничего не зная о том, что
совершалось в древние времена в нашей стране или у вас самих...»
(Тим. 21е - 23Ь) «.
Если бы у греков действительно существовала некая
непрерывная традиция, которая обеспечивала бы для них достоверное и
' Перевод С. С. Авсринцсва.
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
9
документированное знание своего прошлого на протяжении
многих тысяч лет, мы, по-видимому, никогда бы не существовали в
том виде и качестве, в каком существуем: мы никогда не были бы
представителями культуры, возникшей во всей своей специфике,
во всяком случае, уже в поэмах Гомера и с тех пор сохраняющей
для себя свою узнаваемость, свою идентичность с собой и
возможность своего развития без потери себя самой.
Я начинаю счет европейской истории с Гомера потому, что у
него впервые обнаружилась эта удивительная и столь
специфическая для европейской культуры тенденция: вернуться к своему
прошлому, в достоверном и ясном виде восстановить то, чего уже
безусловно нет, для восстановления чего нет достаточных
оснований. Но чем меньше оснований для этого прорыва к своему
прошлому, чем больше угроза потерять его окончательно и
бесповоротно, тем отчетливее осознается эта потребность вернуться, тем
явственнее проявляет себя этот возвратный порыв, впервые
создающий прошлое как безусловно драгоценный элемент культуры,
как ее исходную данность.
Я не ставлю своей задачей рассмотреть все проявления этой
возвратной тенденции в греческой культуре 2, первой и
образцовой для всей последующей Европы. Однако я хотел бы
рассмотреть роль этой тенденции в развитии античной философии, в
частности, в истории античного платонизма, которым я занимался
более специально. Возможность такого подхода к истории античной
философии подсказана самими древними. В одном из поздних
неоплатонических текстов, в комментарии Дамаския на «Филеба»
Платона (р. 29 — 30 Westerink) дается интересная оценка мифа о
Прометее: Прометей не просто осуждается в своей деятельности,
направленной на разрушение идеального образца, на отход от него
и переход к становлению (πρόοδος), но и противопоставляется
Эпиметею, который является символом возвращения к
изначальной целостности (επιστροφή) и потому достоин предпочтения. Ясно,
что Дамаския занимает не сам миф, а его символическая
значимость, проявившаяся уже в именах ПРОметея и ЭПИметея, но
тем показательнее этот пассаж в целом. Очень примечательны
также термины, используемые здесь Дамаскием: πρόοδος и επιστροφή.
В неоплатонизме была разработана триада категорий, имеющая
универсальный методический смысл и применимая к любому про-
2 Соответствующее понятие возвращения-обращения (conversion)
применительно к античной и — шире — европейской культуре рассматривает Пьер Адо: Hadot Р.
Exercices spirituelles et philosophie antique. P., 1981, p. 175—182.
]0 'Επιστροφή, или Феномен возвращения
цессу: μονή (пребывание), πρόοδος (исхождение) и επιστροφή (в°3"
вращение). В случае, когда речь идет о том, что изъято из сферы
времени, эти три категории характеризуют способы бытия по
отношению к более высокому началу или к себе самому:
изначальное пребывание в силу своей полноты провоцирует выступление
за свои пределы, исхождение в сферу большей дробности,
отступление от самого себя; а затем наступает процесс возвращения к
себе, к изначальной целостности, причем в ходе этого
возвращения достижение исходной полноты не отменяет смысла процесса
исхождения, а впервые обнаруживает этот смысл в структуре
целого. Разработка этих категорий, намеченных еще у Плотина, была
произведена Порфирием и воспринята и развита Проклом и Да-
маскием. Хотя применение всякой метафизической конструкции к
реальному историческому процессу всегда в существе своем
некорректно, однако в данном случае мы сталкиваемся с особенной
ситуацией: стремление рассмотреть эволюцию античной мысли в
категориях, выработанных самой этой мыслью, во всяком случае
имеет своего рода педагогический смысл и более продуктивно, чем
навязывание античности наших собственных категорий.
В свое время Гегель предложил схему рассмотрения истории
философии, которая отражала его же построения в «Логике».
Помимо того, что сама «История философии» Гегеля оказалась
одним из первых ярких проявлений новоевропейского историзма,
ее влияние на развитие интереса к античной философии было
чрезвычайно велико и спровоцировало целый ряд конкретных
историко-филологических исследований. Достаточно назвать
монументальный и до сих пор сохраняющий свое значение труд
Эдуарда Целлера «Философия греков», в котором безупречный
профессионализм историка и филолога не скрывает исходного
провоцирующего влияния гегелевской схемы. Тем более интересным
представляется применение неоплатонической триады «пребывание-
исхождение-возвращение» к истории античного платонизма. При
некоторой привычке глаза к этой схеме история платонизма
представляется иллюстрацией трех составляющих ее категорий, или
же сама схема кажется результатом осмысления истории школы.
В самом деле, в истории античного платонизма мы можем
выделить три совершенно очевидных этапа.
Первый этап это философия самого Платона и Древней
Академии. Едва ли нужно специально объяснять, что философия
основателя школы, просуществовавшей девять веков, должна
содержать в себе целый ряд исходных моментов, долженствующих
пребывать на всем протяжении существования школы. В истории пла-
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
11
тонизма мы сталкиваемся с большим: на протяжении IV века до
н. э. создается корпус текстов, который сохраняется,
переписывается, изучается и комментируется на протяжении всей античности
и впоследствии передается через средневековье эпохе
Возрождения и Новой Европе. Именно Платоновский корпус оказывается
тем, что материально репрезентирует пребывание, исходную
данность и устойчивость платоновского начала в истории платонизма.
Не говорю уже о том, что в платоновском корпусе и в Академии
были принципиально продуманы и так или иначе
сформулированы все основные положения платонизма, причем если в
платоновских текстах мы не находим системы догм, то Ксенократ дает
прекрасную и чрезвычайно влиятельную схему догматизации
платоновского учения. Таким образом, еще раз подчеркну, Платоновский
корпус и Древняя Академия идеально представляют это исходное
состояние пребывания — точку отсчета и цель возвращения.
Вся эллинистическая философия под интересующим нас углом
зрения есть отход от исходного целостного образа бытия и знания,
представленного в платонизме. При этом речь идет именно обо
всех эллинистических школах, а не только об Академии,
обратившейся к тотальному скептицизму. Прекрасно понимая, что пан-
платоническая интерпретация философии эллинизма может
вызвать подозрения в известной пристрастности интерпретатора, я,
тем не менее, совершенно уверен в том, что для такой
интерпретации есть свои основания, в особенности, если мы рассматриваем
философию эллинизма именно как πρόοδος, исхождение,
дробление и частичное воспроизведение изначального образца, развитие
его отдельных моментов и проигрывание скрытых и невыявлен-
ных его возможностей.
Начав рассмотрение со школы Аристотеля, отметим, что, во-
первых, философия самого Аристотеля во всех ее основных
пунктах имела предпосылки у Платона или в Академии. Именно
Академия с ее специфическим духовным климатом спровоцировала
все то, что можно считать приоритетными характеристиками
Аристотеля. Прежде всего речь идет о логике. Сама ее необходимость
была декларирована Платоном, а в Академии ко времени
появления там Аристотеля диспуты были тем главным элементом
академической жизни, который и характеризовал ее как сложившуюся
школу. Задать правила ведения диспутов, закрепить культуру
споров и обсуждений такова была потребность, вполне осознанная в
Академии, о чем мы можем судить хотя бы по «Эвтидему» и «Пар-
мениду» Платона. Как реализация этого запроса возникает
«Топика», а «Аналитики» решают задачу, которую Платон ставил перед
12
' Επιστροφή, или Феномен возвращения
своей диалектикой, возвышающейся над всеми прочими науками.
В данном случае не столь важно, что Платон сам не создал такого
инструмента научного исследования, который создал Аристотель:
Аристотель был гениальным исполнителем того общего задания,
которое предложил Платон.
То же в значительной степени касается и риторики. Платон мог
либо совсем отрицать риторику, как он это делает в раннем «Гор-
гии», либо находить некоторые компромиссы, позволяющие ее в
каком-то виде допустить, может быть, под влиянием того же
Аристотеля, как то было в позднем варианте «Федра» 3.
Но сама необходимость сформировать отношение к риторике
была осознана именно в Академии, в связи с ее постоянным
противостоянием риторическим школам, в частности, Исократу. Адепт
Академии, Аристотель изрекает знаменитое: «Стыдно молчать,
позволяя говорить Исократам!» и создает пособие, заполнившее
лакуну непродуктивного противостояния философов и риторов,
сделавшее риторику одним из законных предметов философской
рефлексии.
Не буду говорить подробно о содержательных построениях Ста-
гирита и их отличии от платоновских: со времен античности это
слишком разработанная тема. Но не могу не отметить для всей
философии Аристотеля тот же характер спровоцированности
Платоном и Академией. Приведу только один пример, который
демонстрирует это, как мне кажется, достаточно ярко. Речь идет о
концепции неподвижного двигателя, который движет как цель
стремления или предмет мысли. В шестой главе XII книги
«Метафизики» Аристотель отмечает некорректность платоновского учения о
душе как о перводвигателе, которое Платон развивает в «Федре».
Однако собственная концепция Аристотеля свою основную
интуицию — неподвижная сущность движет как предмет желания, то
есть движет, не будучи приведена в движение, — черпает у того
же Платона, в «Государстве» которого изложено учение о благе
как универсальном предмете желания, а в «Федре» — учение о
красоте, безусловном предмете влечения для всякой души. Я
далек от мысли сводить философию Аристотеля к философии
Платона, но хочу подчеркнуть, что аристотелевская философия могла
взрасти только в оазисе платоновской Академии, только при том
3 Сравнительная хронология Платона и Аристотеля по Теслефу и Дюрингу, а
также гипотезу о двух редакциях платоновского Федра, см. в издании: Платон.
Федр. Перевод А. Н. Егунова, редакция, вступ. статья, комментарии Ю. А. Ши-
чалина. М.: Гнозис, 1989.
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
13
условии, что платоновская Академия уже существовала, уже была
некоей пребывающей данностью. Заметим также, что в период
эллинизма Аристотель был представлен своими эсотерическими
сочинениями, диалогами, то есть даже в жанровом отношении его
философия была мыслима на фоне Платона.
Эволюция Академии, пришедшей после Аркесилая к
глобальному скептицизму, также вполне может быть описана с помощью
понятия πρόοδος — исхождения. После исследования X. И. Креме-
ра в его книге «Платонизм и эллинистическая философия» мы
совершенно ответственно можем квалифицировать скептический
этап развития Академии как абсолютизацию одного момента
академической жизни: диспутов 4. То, что в состоянии μονή
представлено как составная часть целого, как очень важный, но далеко не
единственный элемент жизни школы, в состоянии πρόοδος
оказывается изолированным, гипертрофированным, вышедшим на
первый план и заслонившим все остальное. Не забудем также, что
техника ведения диспута имела общеобразовательное значение и
среди прочих предметов была наиболее доступной. А переход от
школьной замкнутости к большей эксотеричности, к известной
популяризации — также является одной из характеристик
состояния πρόοδος.
Не случайно поэтому основатель школы стоиков Зенон именно
этим — искусством диалектики — занимался с особым рвением, и
Хрисипп впоследствии прославился именно этим. То, что у
Аристотеля было великолепным жестом гения, оказавшегося в
идеальной творческой обстановке платоновской Академии, то становится
школьной рутиной в скептической Академии и в школе стоиков.
Восторг первооткрывателя определяет отношение к диалектике у
Платона, восторг необразованного провинциала и школьного
педанта характеризует отношение к диалектике у стоиков. Общее
деление философии на физику, этику и логику также восходит к
Академии и Аристотелю, но будучи изъято из стихии
академических диспутов, теряет свою прикрепленность к этой живой
школьной практике и воспринимается как субстанциальные области, или
виды, или роды философии. Для стоиков философия уже есть,
она уже пребывает в своей определенности, и нужно только
уяснить и определить, что она такое. И в отдельных областях
философского рассмотрения мы сталкиваемся у стоиков как бы с
4 См.: Krämer Η. J. Piatonismus und hellenistische Philosophie. В.; N.Y., 1971,
S. 1—57, а также мою рецензию К вопросу о платонической традиции... //
ВДИ (М., 1981. № 3, с. 190-194).
14
Έτηστροφή, или Феномен возвращения
наивностью стороннего наблюдателя, который издалека
рассуждает о том, что ему не слишком хорошо известно. Если для Платона
понятие космоса как совершенного живого существа было своего
рода непосредственной жизненной данностью, то для стоиков
положение «мир — живое существо» вытекает из незамысловатого
силлогизма: живое лучше неживого, разумное лучше
неразумного, мир лучше всего, следовательно, мир — живое и разумное
существо. Если Платон строит свое учение о добродетели, исходя
из рассмотрения человеческой души и государства, которое
отражает структуру души в сфере человеческого общежития, точно так
же, как сама душа до известной степени воспроизводит универсум
в целом, то стоики исходят из платоновского набора добродетелей,
как из данности, и по поводу этой данности устанавливают,
например, такой важный факт, как взаимозависимость добродетелей
одна от другой 5. Опять-таки, не буду перебирать все учения
стоиков и не хочу сказать, что все они зависят от Платона или
Академии. Но по отношению к Платону и Академии они существуют как
то, что исходит из некоей данности и в меру своего вхождения в
нее и своего понимания ее получает собственное значение и смысл.
Поэтому, если предшествующий период был периодом постановки
вопросов о мире, и вопросы о мире физическом, мире наук, мире
души, мире социальном решались как вопросы о данности, теперь
все вопросы решаются применительно к созданной человеком
культуре и ее проявлениям, и центр мироздания все больше
приближается к человеку, а человеческий горизонт сужается. Повсюду, где
стоик выходит за рамки школы, ему неуютно, тоскливо, страшно.
Он вынужден воспитывать свою душу как то, что противостоит
миру и чему противостоит мир. Поэтому ранний стоицизм с его
неглубокой погруженностью в издалека притягательный
школьный мир — достаточно безмятежен. Это поддерживается и тем,
что схолархи ранней Стой — люди грубые, не слишком
даровитые: купец Зенон, мрачный, едкий, с напряженным лицом;
кулачный боец Клеанф, трудолюбивый, недаровитый и крайне
медлительный; Хрисипп, бесконечно трудолюбивый, неблагородно
плодовитый, погруженный в свои сочинения и бесконечные выписки
3 Ср. изложение «совокупности учений всех стоиков» у Диогена Лаэртия VII
38 — 160. Конечно, не приходится доверять Диогену безусловно, но в данном
случае перед нами популярная сводка, по которой учение стоиков опознавалось в
античности, а мы на его основе не можем не обратить внимание на целый ряд
положений, заимствованных из академической традиции.
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
15
к ним 6. А поздние стоики уже римского периода,
цивилизовавшись и наскучив школьной премудростью, с тоскливым
напряжением вглядываются вперед и постоянно ожидают от жизни ударов,
и постоянно готовы расстаться с жизнью прежде всего из-за
неспособности оглянуться, вернуться к самим себе, своим
предшественникам, своим истокам, словно находящимся в другом измерении.
Поразительно, до какой степени эта устремленность вперед
оказывается теперь отрешенностью от истока жизни и устремленностью
к смерти 7.
Однако эта установка римского стоицизма, доведшего до
логического предела устремленность вперед, свойственную всему
эллинизму, в греческом стоицизме столкнулась с действием
противоборствующей эпистрофической тенденции еще в первом веке до
Р.Х.: стремление вернуться к учению Древней Стой, а также
освоить наследие Платона свойственно Посидонию. И платоники
также стремятся пересмотреть историю своей школы, вернуться к
учению Древней Академии, причем Антиох Аскалонский, с его
стремлением veteres sequi, готов признать скорее общность
платоников и перипатетиков, нежели законность скептической позиции
как единственной представляющей Академию 8. С этого периода
эпистрофическую тенденцию можно считать осознанной и
названной. Она начинает вырабатывать специфические формы своего
проявления и решительно меняет самый облик античной философии и
6Diog. L. VII 1: у Зенона была кривая шея, а сам он... был хулой...
нескладный и слабосильный...»; 16: «он был мрачен и едок, с напряженным лицом»
(перевод М. Л. Гаспарова); 168: Клеанф «был кулачный боец...»; 170: «был он
трудолюбив, но недаровит, а вдобавок крайне медлителен»; Хрисипп, который
сперва был бегуном дальнего бега, только по логике написал 311 сочинений,
«трудолюбием превзошел всех», «телом ... был тщедушен» (179, 180, 182). Несмотря
на то, что и о Платоне Диоген собирает множество анекдотов, однако
стилистическая характеристика его образа совершенно иная, что позволяет нам предполагать
и реальную основу для такого отличия.
7 Конечно, стоики, как и представители любой другой философской школы
античности, понимали философию прежде всего как духовное упражнение;
конечно, тот же Сенека, например, знает и цитирует сочинения представителей Древней
Стой. Однако общая направленность его философии тем не менее лучше всего
видна в знаменитой ламентации «мы учимся не для жизни, а для школы», а
учение о том, что освобождение-смерть всегда рядом, даже на самый
снисходительный взгляд нельзя назвать благочестивым.
8О метаморфозах платонизма см.: Dörrie H. Von Platon zum Piatonismus. Ein
Bruch in der Überlieferung und seine Überwindung. Düsseldorf, 1975. Помимо
данной статьи см. также раздел Zum Piatonismus vor Plotin в сборнике того же автора
Platonica minora. München, 1976, S. 154 — 286, в частности Die Erneuerung des
Piatonismus im 1. Jahrh. vor I. Christus (S. 154 — 155).
16
' Επιστροφή, или Феномен возвращения
характер школьной жизни. Даже эпикурейцы существенно
цивилизуются: библиотека Филодема, найденная на знаменитой вилле
папирусов в Геркулануме, свидетельствует, что последователи
Эпикура, признававшего ненужность обычного образования,
занимаются историей платонизма и стоицизма 9.
Претерпевает метаморфозу также и скептицизм: по
знаменитому сочинению Секста Эмпирика мы можем судить, какова была
его основная тенденция ,0. Вероятно, в том же первом веке до Р.Х.
потребность систематического (по всем основным темам) и
всеобщего (по всем основным школам) опровержения догматической
философии заставляет начать систематическую и всеобщую
подборку материала по истории философии, то есть включает
скептицизм в русло той же эпистрофической тенденции. Наряду с
компендиями по основным философским проблемам и школам,
составленными Евдором Александрийским и Арием Дидимом,
скептическая подборка материалов создавала твердую почву для того,
кто хотел обернуться и получить общее представление о
предшествующей философской традиции.
Но этим дело, как известно, не ограничилось. Помимо знания
основных проблем философии и основных философских школ
необходимы были тексты основателей этих школ в качестве
последней инстанции, в которую можно было обратиться со всеми
недоумениями и за всеми подтверждениями или опровержениями. И
здесь всеобщая устремленность эпохи к прошлому, это стремление
вернуться к истокам, наиболее ярко проявилось у последователей
Аристотеля и Платона, научившихся культивировать не систему
идей, но корпус текстов основателя школы.
Появление из небытия — почти двухсотлетнего — так
называемых эсотерических сочинений Аристотеля, их издание и
двухсотлетнее их изучение и толкование перипатетиками от Андроника
Родосского до Александра Афродисийского и немногочисленных
перипатетиков III века оказалось одним из решающих событий и
достижений для всей последующей культуры Европы, а также для
арабов. Корпус текстов и работа с ним в школе оказались более
прочным и долговременным феноменом культуры, нежели
произведения скульптуры, памятники архитектуры, города и государства,
'Gigantc M. La bibliothèque de Philodème et l'épicurisme romain. P., 1987.
,0O том, что разработка доксографии была не индивидуальным достижением
Секста, ср. замечание фон Арнима: «Сочинения Секста содержат не столько
достижения его собственной авторской мыслительной деятельности, сколько
результаты всей работы пирроновской школы со времени ее обновления во времена
Цицерона ...» (Arnim H. von. Sextus Empiricus // PWRE II A 4, 1923. Sp. 2058).
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
17
V
тем более — их правители. У перипатетической традиции был один
недостаток: она не была достаточно всеобщей, и школьная
ограниченность стала причиной того, что к концу III века школа
перипатетиков перестает быть реальностью ".
Но как раз к этому времени развитие платонизма достигает того
этапа, который мы называем неоплатонизмом: это была
единственная школа, которая смогла в полноте вместить практически все
разнообразие духовной жизни античности и в глобальном
возвращении к началам собственной культуры обрести реальную силу
ν для ее сохранения.
^^ Поскольку в главе II о неоплатонизме речь пойдет специально,
Mi а для составления общей картины возвратного движения античной
Y* культуры как раз неоплатонизм является наиболее очевидным
примером, я опущу этот пласт в настоящем вводном изложении и
позволю себе обратить внимание читателя на факты хотя и всем
известные, но приобретающие, как мне кажется, некий
дополнительный — причем важный — смысл при взгляде на них как на
проявление того élan épistrophique — возвратного порыва, о котором идет
речь.
Цицерон (Брут, 67 — 68) говорит о римлянах, которые
восхищаются греческой стариной и хотят быть Гиперидами и Лисиями. Но
почему не Катонами? — вопрошает Цицерон. И сам Цицерон
проявляет это патриотическое внимание к истории собственного
красноречия, а также того, что так или иначе связано с
культивированием мудрости в Риме. Но чем занят сам Цицерон, как не тем, чтобы
стать для римлян Платоном? — И это понятно: у римлян, уже
признавших греческую культуру своим прошлым, наряду со
стремлением найти в собственной римской истории аналоги греческой,
все отчетливее проявляется тенденция эти аналоги создать. И если
великий Платон написал «Государство» и «Законы», — то же
делает Цицерон. Если у греков были Феокрит, Гесиод и Гомер, то у
римлян их сознательно замещает Вергилий. Гораций
воспроизводит эолийскую поэзию, как до него Катулл воспроизводил
александрийцев. Еще Теренцию удалось стать латинским Менандром,
с меньшим успехом на Софокла и Еврипида ориентирован Сенека.
Тот же Сенека стремится оспорить авторитет Цицерона, а его
племянник Лукан Вергилия. Но почти мгновенная
классицистическая реакция только укрепляет позиции Цицерона и Вергилия
" Могеаих Р. Der Aristotelismus bei den Griechen. Bd. 1: Die Renaissance der
Aristotelismus im 1. Jh. v. Chr. В.; N.Y., 1973. Bd. 2: Der Aristotelismus im I. und
II. Jh. n. Chr. В.; N.Y., 1984.
18
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
как классических авторов. Классицизм становится доминирующей
тенденцией, и римские авторы входят в когорту бессмертных —
объект восхищения и подражания. Стаций, состязаясь с
божественным Гомером, подражает божественному Вергилию. Марциал пишет
о другом представителе классицистической тенденции того времени
— Силии Италике, что он, «восторженный поклонник Цицерона и
Вергилия, хранит гробницу великого Вергилия, будучи также
владельцем земли, принадлежавшей красноречивому Цицерону» (XI48
sqq.)|2. Квинтилиан оценивает Цицерона как безусловный
авторитет, с которым необходимо считаться. По замечанию издателя Квин-
тилиана Жана Кузена, «фундаментальная моральная установка Квин-
тилиана требует оглядки назад» ,3. Цицерон и Вергилий становятся
Платоном и Гомером римлян, и позднее Макробий будет описывать
универсум римской культуры с Цицероном и Вергилием в центре
точно так же, как в центре греческой культуры стоят Платон и
Гомер ,4.
Тенденция сблизить две культуры — римскую и греческую —
характеризует как греков, так и римлян. Плутарх восстанавливает
прошлое греков параллельно с прошлым римлян. В конце первого
века по Р.Х. римляне, некогда бранившиеся ничтожными греками
(graeculi), обнаруживают самый живой интерес к греческим
древностям; но во втором веке мы уже констатируем значительно более
существенную метаморфозу: Антонины, в частности Адриан,
поддерживают тенденцию восстановления греческой культуры. Мы
видим, что правители и литераторы, политики и школьные учителя,
римляне и греки культивируют классическую древность. Адриан
благодетельствует Афинам. Марк Аврелий восстанавливает в
Афинах четыре кафедры философии. Но прежде всего мания архаиза-
торства проявляется в Риме, а поскольку римской архаики не было,
приходится обращаться к древности греческой. Каждый
обеспеченный римлянин почитал за честь собрать собственную коллекцию
греческих древностей, со всеми нелепицами, иногда карикатурными.
И помимо собирательства древностей подражание древним
вдохновляло и собственное творчество,5. Аристид считает, что для
писателя нет иного спасения, кроме тщательного выправления своего сти-
12 О Стации и классицистической реакции в первом веке по Р.Х. см. мою
статью Гениальный поэт в бездарную эпоху в кн.: Публий Папиний Стаций.
Фиваида. М.: Литературные памятники, 1991, с. 127 — 159.
13 Quintilien. Institutio oratorio, texte éd. et trad, par J. Cousin. T. 1. Introd., p.
LVI.
14 Mras K. Macrobius' Kommentar zu Cicero's Somnium // Sitzungsberichte der
preußischen Akademie der Wissenschaften, 1933, 57.
"Aymar Α., Auboyer J. Rome et son empire. P., 1959, p. 396.
' Είτιστροφή, или Феномен возвращения
19
ля в соответствии с классическими писателями. Он требует
подражания полного и рабского. Прежде всего он подражает Демосфену,
с которым он надеется в конце концов сравняться. Он многим
обязан также Платону. Иной раз он стремится воспроизвести
отвлеченность и энергичную точность Фукидида16. В то же время Арриан
восхищается Фукидидом, но предпочитает Ксенофонта и
рассматривает себя не его скромным учеником, а вторым Ксенофонтом ". Не
забудем, что речь идет об авторах, писавших за пять веков до
рассматриваемого времени.
Император Адриан смотрит на Рим как на греческий город.
Также находят своих почитателей и маленькие греческие города18. Вся
римская империя обращается к прошлому и стремится его
возродить. Адриан основал в Риме Атенеум. Одно письмо Симмаха
позволяет предположить, что он создавался для греческих преподавателей
философии, что означает стремление не развить свою
традиционную римскую культуру, а развивать в Риме греческую культуру,9.
Расцвет римской культуры оказывается безусловно связан с ее
обращением к греческой. Нам это кажется естественным, но
только потому, что римляне стали образцом вхождения в европейскую
культуру новых народов через обращение к Греции, и мы
привыкли к тому, что все европейцы равно обращаются к Греции, как к
своим истокам, что культурное строительство в Европе с тех пор
всегда связано с таким обращением. И то, что в первые века по
Р.Х. и греки, и римляне, хотя и по-разному, но вместе устремлены
вспять, обеспечило неоднородность, но взаимную узнаваемость
Востока для Запада и Запада для Востока в пределах одной
европейской культуры в Средние века и в эпоху Возрождения. Но для
того, чтобы отчетливее представить роль той тенденции, которую
я называю élan épistrophique, в античной культуре вообще, и
специально в античной философии, необходимо внимательно
рассмотреть не только этот последний этап ее развития, но и само
зарождение философии в VI веке, которое тоже было результатом акта
επιστροφή, осознанного и декларированного.
16 Boulanger A. Aelius Aristide et la sophistique dans la province d'Asie au II'
siècle de notre ère. P., 1923, p. 446.
17 Tonner H. Recherches sur Arrien. Sa personnalité, ses écrits atticistes.
Amsterdam, 1988. Vol. 1, p. 281.
18 Bowie Ε. L. Greeks and their past in the second sophistic // Past and Present,
46, 1970, p. 3-41.
"Bardon H. Les empereurs et les lettres latines d'Auguste à Hardrien. P., 1940,
p. 426-427.
и
Когда мы говорим о понятии «эпистрофе» применительно к
культуре вообще и в особенности применительно к истории
философии, ясно, что мы понимаем под ним прежде всего наличие
рефлексии, умение культуры в целом и философской мысли в
частности вернуться к себе, к своим истокам, а вернее — к той твердой,
пребывающей почве, оттолкнувшись от которой культура и
мышление осознают себя в своей специфичности, существо которой
состоит прежде всего в отсутствии наивности, неосознанности,
спонтанности, безоглядной устремленности вперед. Ясно также, что с
этой небходимостью самоосознания, с этой рефлексией культура и
мысль сталкиваются постоянно, что собственно в этом
самоосознании и рефлексии в значительной степени и состоит само существо
культуры и мысли в отличие от природы и бытия. Не только
история античного платонизма, но и античная культура в целом с
хрестоматийной отчетливостью может быть рассмотрена как
последовательность этапов μονή — πρόοδος — επιστροφή, что примерно
соответствует периоду классики, смененной эллинизмом и
завершившейся в философии и культуре поздней античности. Но при
всем том мы прекрасно понимаем, что необходимость
возвращаться к себе ради сохранения собственного тождества должна была
проявляться в первой европейской культуре с того самого
момента, с какого мы ее несомненно фиксируем.
Чтобы не забираться в слишком проблематичное прошлое, мы
признали это несомненное начало Европы в Гомере. Чему были
посвящены его поэмы, как не возвращению к тому прекрасному
периоду, когда сознательно объединившиеся европейские племена
устремились супротив Азии, когда вожди были героями и герои —
вождями? Но какие реальные возможности для такого
возвращения были у Гомера? — Я думаю, невеликие после периода так
называемых «темных веков». Вернуться к прошлому в
значительной степени означало создать его. Конечно, не для Гомера: как и у
всякого подлинного гения, его поэтическая — то есть креативная —
способность состояла столь же в творчестве, сколь и в прозрении,
умении разглядеть, увидеть. Для Гомера и всей современной ему
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
21
культуры его поэмы были поэтому подлинным возвращением. Но
для всего последующего времени, для всей последующей
греческой культуры Гомер создал это вожделенное прошлое, этот
бесконечно воспроизводимый образец, занимавший свое
исключительное место не только во время праздничных рецитации, но — что,
может быть, даже более важно — и в школе. В акте возвращения
Гомер создал то, что оказалось точкой отсчета для всей
последующей культуры. Поэтому и мы так охотно начинаем европейскую
культуру с Гомера. Его «возвращение» обернулось для
последующей культуры «пребыванием». И такого рода возвращений,
которые оборачивались началом, исходным пунктом, точкой отсчета,
мы можем указать в греческой культуре немало. Одно из таких
возвращений-начал — возникновение философии.
Не доказывая специально, хочу сделать одно предварительное
замечание. Мы не можем говорить о появлении в культуре какого-
либо феномена, предмета или факта до тех пор, пока сама
культура его не осознает и фиксируя это — не назовет. Мы можем
сколько угодно рассуждать о прото-науке или прото-философии, но пока
культура не осознаёт этих феноменов и не называет их, мы,
исследуя эти «прото»-феномены, — только сами себе закрываем глаза
на что-то другое, реально бывшее и осознаваемое. В этом, на мой
взгляд, специфика истории культуры, в отличие, например, от
истории биологии: здесь данные и факты предстают перед нами,
осознаются нами и нами же называются. Но когда речь идет об
истории культуры вообще и истории философии в частности, то
есть когда объект нашего внимания — так или иначе мыслящий
субъект, в этом случае указание на то, что некий феномен
существует и может быть изучен нами, хотя его не знает та культура, к
которой он относится, автоматически свидетельствует о нашей
некомпетентности и фиктивности изучаемого предмета.
Поскольку речь идет о философии, мы — применительно к
нашей европейской философии — находимся в счастливой
ситуации: мы знаем, кто, по мнению самих греков, назвал философию
философией, — Пифагор; и знаем, что слово «философ» впервые
встречается в цитате из автора, безусловно соотносимого с
Пифагором и хронологически, и ситуационно, — у Гераклита1.
Действительно, устойчивая традиция передает, что Пифагор «первым
1 «Многого знатоками должны быть любомудрие мужи» (Frg. 35 DK = frg. 7
Marcovich). В греческом тексте цитирующего Гераклита Климента
Александрийского (Строматы, V 140, 5) φιλόσοφοι — прилагательное; вероятно, оно
употреблено Гераклитом иронически в том же смысле, в каком у Геродота (I 30, 2) в
22
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
ввел в Элладу философию» (Исократ, «Бузирио, 28)2, и
«впервые назвал философию этим именем, а себя философом» (Герак-
лид Понтийский у Диогена Лаэртия 12); называл же он свое
учение «философия», а не «софия» — мудрость, «упрекая семерых
мудрецов...: он говорил, что никто не мудр, ибо человек по
слабости природы часто не в силах достичь всего, но тот, кто стремится
к нраву и образу жизни мудрого существа, того правильно назвать
"философом" — "любомудром" (Диодор Сицилийский X 10, 1).
И Ямвлих говорит, что одно из слов, за которым Пифагор прятал
необозримое богатство умозрения, было слово «философия»
(Ямвлих, «Жизнь Пифагора», 162).
качестве просто модного слова употребляется причастие φιλοσοφέων
применительно к путешествующему из любознательности Солону. Имея в виду тот же текст
Гераклита Порфирий (De abst. II 49) субстантивирует употребленное в нем
прилагательное: ϊστωρ γαρ πολλών δ δντως φιλόσοφος. Этот фрагмент Гераклита
вызывает разного рода сомнения, сводка которых дана, в частности, в издании
Марковича (Eraclito. Firenze, 1978, с. 26 — 29). Сомнение вызывает как раз слово φιλόσοφοι
(φιλόσοφος). В пользу принадлежности его Гераклиту (Маркович говорит: in early
fifth-century Ionic) приводятся следующие аргументы: указанный текст Геродота,
приведенное свидетельство Гераклида Понтийского о Пифагоре, впервые
назвавшем философию философией, а себя философом, приводимое Диогеном Лаэрти-
ем I 12 (frg. 87 Wehri); кроме того, слово φιλόσοφος оказывается вполне в духе
других гераклитовских иронических новообразований: κακοτεχνίη, πολυμαθίη,
άγχιβασίη. Как представляется, нельзя также выпускать из поля зрения название
сочинения Зенона Προς τους φιλοσόφους (Суда), что вполне объяснимо,
если мы принимаем, что данное слово — ироническое обозначение пифагорейцев
(учеником, но и оппонентом которых был учитель Зенона Парменид),
придуманное или использованное Гераклитом для их обозначения. Без прилагательного
«любомудрые» фрагмент Гераклита просто теряет смысл, тогда как изложенная
выше интерпретация позволяет выделить совершенно осмысленный блок
гераклитовских отзывов о Пифагоре и пифагорейцах (ср.: Vogel С. J. de. Pythagoras and
Early Pythagoreanism. Assen, 1966, p. 96—102, где, в частности, ряд аргументов
приводится со ссылкой на: Joly R. Le thème philosophique des genres de vie dans
l'Antiquité classique. Bruxelles, 1956). Впервые «философия» как технический
термин встречается у софистов и относится к практике ведения спора. Ср.: Гор-
гий, Похвала Елене, 11, 85: φιλοσόφων λόγων άμιλλας, έν αίς δε'ικνυται καΊ γνώμης
τάχος ώς εύμετάβολον ποιοΰν τήν της δόξης πίστιν; Двойные речи, 1, 1—2: Δισσοϊ
λόγοι λέγονται έν τάι Ελλάδι υπό των φιλοσοφοΰντων περί τώ άγαθώ κα'ι τώ κακώ.
2Бузирис написан не позднее середины 80-х годов IV века, когда Академия в
лучшем случае только-только была основана. Отметим, что вплоть до Платона мы
не найдем контекста, где бы φιλοσοφία и соответствующие глагольные формы
употреблялись в привычном для нас значении философии, но что речь идет либо
о любознательности в широком смысле, либо о некоей специфической
осведомленности, учености, без позднейшего противопоставления «фило-софии» и «софии>.
Нет никаких сомнений, что Платон переосмыслил как сам термин, так и его историю;
но что и термин, и его история существовали до Платона и независимо от него, что
именно данная история данного термина (в частности, связь его с Пифагором)
спровоцировали платоновский узус, — сомневаться едва ли приходится.
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
23
Каков реальный смысл этой традиции и как мы можем
корректно интерпретировать эти указания на появление философии и
самого имени «философия»? Представляется, что сделать это до
известной степени легче, нежели выстраивать историю философии,
начиная с Фалеса. Как известно, никому вплоть до Аристотеля не
приходило в голову считать Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена
философами3 и поэтому задача построения истории философии,
начинающейся с тех, кто не знал о философии и, очевидно, не
испытывал в ней потребности, должна быть значительно более
сложной, чем попытка проследить за реальными процессами,
приведшими в последней четверти VI века до н.э. к возникновению
философии.
Примерно с середины VI века до н.э. в Греции происходит одна
решительная перемена, которая с этих пор определяет все
дальнейшее развитие греческой культуры: возникает и
распространяется проза. Объяснять ли это развитием скорописи в связи со все
большим употреблением папируса или же какими-то другими
обстоятельствами, факт остается фактом: наряду с развитой
системой поэтических жанров проза осознается как самостоятельная и
значимая система фиксации и передачи знания. Если мы
посмотрим в целом на систему текстов, то примерно до середины VI века
среди записывавшихся прозаических текстов единственными
представительными были законы. Писаные законы были первыми
прозаическими текстами, которые заметно раздвинули систему
поэтических текстов примерно с конца VII века и решительно изменили
атмосферу городской жизни. Об этом выразительно говорит Феог-
нид (53 слл.): «Кирн — наш город — все тот же, но люди в нем
стали другими: потому что прежде они не знали судов и законов».
Законы отделялись от законодателя, становились
самостоятельной и независимой реальностью. Известная история Солона,
покинувшего Афины после составления законов, подчеркивает этот факт
возникающей автономности права4. Появляются тексты, чья функ-
3 Собственно говоря, и Аристотель говорил о Фа лесе не как о философе, а как
о «родоначальнике такого рода философии» (Metaph. A3 983 b 20), имея в виду
учение о природе, хотя для обозначения первых философов использовал не только
субстантивированное причастие οι φιλοσόφησα ντες, но и οι φιλόσοφοι.
4 Аристотель, Афинская политая II (перевод С. И. Радцига): «Когда Солон
устроил государство таким, как сказано, образом, к нему стали то и дело обращаться
с докучливыми разговорами о законах, одни пункты порицая, о других
расспрашивая. Ввиду этого он, не желая ни изменять их, ни навлекать на себя вражды,
оставаясь в своем отечестве, предпринял путешествие в Египет... сказав, что не
вернется в течение десяти лет. Он не считал себя вправе... истолковывать законы,
24
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
циональность оказывается перманентным явлением — независимо
от их воспроизведения по тому или иному поводу. В самом деле,
любая песня функционирует в момент ее исполнения; эпическое
произведение также функционирует в момент исполнения — на
празднике или на пиру. Закон, будучи записан, функционирует
непрерывно, поскольку нарушитель закона является таковым
всегда и везде; место и время, где и когда действие закона
прекращается, указано в том же законе. Вокруг закона возникает судебное
разбирательство, судопроизводство, вынесение и исполнение
приговоров и все то, что повергает в такой ужас Феогнида. Главное,
нарушается традиционная иерархия благородства и родовитости,
мир социальных отношений становится более плоским: закон
уравнивает. Не менее решительные изменения связаны и с
возникновением прозаических сочинений.
Покамест не была развита скоропись, записывались и
запоминались произведения так или иначе исключительные. Особенно
редкие и драгоценные переписывались из поколения в поколение.
Проза пробует вместить часть того, что хорошо известно как текст
стихотворный: Акусилай Аргосский переписывает прозой Гесиода
(Климент Александрийский, Стром. VI 2Ь). Но попробовав
воспроизводить уже существовавшее, проза очень быстро осознает,
что может решительно заместить существующие стихотворные
жанры. В особенности это касается тех сфер, где обилие
информации обеспечивает ценность произведения. Поэтому первые
прозаические сочинения прежде всего осваивают именно эти жанры:
«Генеалогии», «Героологии», «Землеописания», пересказы
мифологических циклов и пр.
В самом деле, какое требовалось искусство, чтобы — вместив в
стих — на века сохранить имена героев и названия памятных мест.
Вспомним, например, стихи «Илиады» (II 494 слл.):
Рать беотийских мужей предводили на бой воеводы:
Аркезилай и Леит, Пеиелей, Профоенор и Клоний.
Рать от племен, обитавших в Гирии, и камнистой Авлиде,
Схен населявших, Скол, Этеон лесисто-холмистый,
Феснии, Грей мужей и широких нолей Микалесса;
но думал, что каждый обязан исполнять написанное». Ср. Геродот I 29: «...в
Сарды стали стекаться все жившие тогда в Элладе мудрецы... Прибыл... и афинянин
Солон, который дал афинянам по их желанию законы и затем на десять лет уехал
из страны. Отплыл Солон якобы с целью повидать свет, а на самом деле для того,
чтобы его не вынудили изменить законы...» (перевод Г. А. Стратановского).
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
25
окрест Илезия живших и Гаумы и окрест Эрифры;
всех обитателей Гил, Элеои, Петеон населявших,
также Окалею и пр.
Но возникающая и развивающаяся проза была избавлена от
необходимости приспосабливаться к ограничениям стихотворной
формы и поэтических жанров: Гекатей Милетский уже счел себя в
силах описать всю Европу и Азию, и речь у него идет об Испании,
Лигурах и Кельтах, Тирренцах и островах Тирренского моря,
Авсонии, Ойнотрии, Сицилии, Италии, Япигии и Певкетии, Ионии,
Греции, островах Фракии и Азиатского побережья, Македонии,
Скифии, Кавказе, Черном море, Геллеспонте, Троаде, Эолиде,
Ионийских городах, Лидии, Карий, Памфилии, Киликии и пр., и
пр. Суда называет Гекатея первым, написавшим «историю»: ίστορνη
— усмотрение, установление, исследование, наука, — вот та
новость, которая тут же начинает развиваться вслед за открытием
прозы. Когда создание ткани произведения становится делом
простым и человеческим, Музы освобождаются ради других задач:
пройти мысленно и зафиксировать на письме все прошлое и
настоящее, пройти пешком, проехать, проплыть и описать все
доступные земли, острова, моря. Фалес, по свидетельству Диогена Лаэр-
тия (I 35), изрек: «Быстрее всего мысль, ибо она бежит без
остановки». И мысль очень быстро добирается до начала времен и
пределов земли. «Смешно видеть, — замечает Геродот (IV 36),
как многие люди уже начертили карты земли, хотя никто из них
не может даже правильно объяснить очертания земли. Они
изображают Океан обтекающим Землю, которая кругла, словно
вычерчена циркулем». Сограждане Фалеса Анаксимандр и Гекатей
как раз и были составителями первых карт: «Анаксимандр
Милетский первым решился дать изображение вселенной; после него
многое решился уточнить Гекатей Милетский, который много
путешествовал...» (12 А 6 DK).
Как при записи законов очень быстро автономизировалось
право, так при записывании новых знаний мгновенно происходит ав-
тономизация знания. Если одного из первых прозаиков Анакси-
мандра еще заботят соображения стиля, и он еще пользуется
поэтическими метафорами и глубокомысленными образами, то уже
Анаксимена хвалят за стиль простой и безыскусный (Диоген Ла-
эртий II 3), а о стиле Гекатея — незамысловатом, но цепком и
информативном — мы можем судить по дошедшим фрагментам.
Поразительное чувство высвобожденности, которое давала
проза и «научный» взгляд на вещи, породило свободомыслие: «Я пишу
26
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
это так, как мне представляется истинным, потому что рассказы
эллинов многочисленны и смехотворны, как мне кажется», —
замечает Гекатей (Деметрий, «О стиле», 12). Теперь не идет речи о
том, чтобы излагать то же, что уже было изложено в
стихотворных текстах: проза стремится уже не заместить, а вытеснить
поэзию. Но понятно также, что речь идет не об абстрактных
поэтических жанрах, подлежащих вытеснению, а прежде всего о
совершенно конкретных авторитетных текстах, прочно вошедших в
обиход и определяющих привычный взгляд на мир. Прежде всего
речь идет об эпосе.
Чем сильнее действие, тем более решительное противодействие
оно вызывает. И в данном случае реакция на вторжение новой
прозы и связанного с нею научного мировоззрения была
незамедлительной и энергичной. Во-первых, наиболее значительные
эпические тексты уточняются и консервируются; во-вторых,
создается множество эпических текстов, приписывавшихся Орфею, Му-
сею, Лину — древнейшим теологам! И в том, и в другом процессе
была велика роль пифагорейцев, с которыми действие переходит
из прогрессивной и передовой Ионии в более консервативную и
замкнутую в себе Италию.
Прежде чем обратиться к пифагорейцам, отметим, что
появление прозы вызвало к жизни два типа общественной и
литературной активности. Один — законодатели и мудрецы, то есть
обретшая себя политически и интеллектуально новая элита, не всегда и,
в принципе, не обязательно связанная с родовой аристократией5.
Почти все мудрецы так или иначе занимаются литературной
деятельностью. Но в жанровом отношении эта литературная
продукция вполне традиционна: Диоген Лаэртий сообщает, что все
мудрецы писали стихи (I 40). У Хилона — элегические стихи в 200
строк (I 68), песни и элегические стихи в 600 строк у Питтака
(78—79), у Периандра стихотворные наставления в 2000 стихов
(97), 800 стихотворных строк у Анахарсиса (101), Эпименид
сочинил «Происхождение куретов и корибантов» и «Теогонию» в
500 строк, а также о построении «Арго» и отплытии в Колхиду
6500 строк. Если бы перед нами оказались сочинения мудрецов,
5 Питтак, тиран Митилены, был фракийцем (Диог. Л. I 74). Об Анахарсисе
Диоген приводит следующий анекдот: придя в Афины, он хотел познакомиться с
Солоном, но тот велел ему передать, что друзей лучше заводить на родине; «Но
Анахарсис тотчас нашелся и сказал, что Солон как раз у себя на родине, так
почему бы ему не завести друга? И пораженный его находчивостью Солон
впустил его и стал ему лучшим другом» (101 — 102).
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
27
они в основном напоминали бы либо элегии Солона, либо
наставления Феогнида и Фокилида. Но у мудрецов мы сталкиваемся
еще с одним жанром, который культивировался специально, — с
жанром загадки. Восходящие к фольклорным состязаниям в
мудрости, агоны мудрецов, проходившие в Дельфах на играх в честь
Аполлона начиная с 582 года, должны были подчеркнуть и
открыто продемонстрировать интеллектуальную исключительность
новой элиты. Ни литературное творчество, ни состязания в мудрости
не были для них самоцелью. Здесь мы должны согласиться с
перипатетиком Дикеархом, утверждавшим, что «они были и не
мудрецами, и не философами, а просто умными людьми и
законодателями» (Диоген Лаэртий 140). Культивирование традиционных форм
проявления образованности и ума должно было даже не
обосновать и доказать, а подтвердить и подчеркнуть права мудрецов на
исключительную законотворческую деятельность.
В отличие от них представители новой научной прозы получают
свою исключительность только в связи с приверженностью к
новому виду фиксации и умножению знания. Подчеркнутая
оппозиционность по отношению к традиционным литературным жанрам
составляет существо этой новой породы интеллектуалов,
культивировавших уже не просто свою собственную интеллектуальную
исключительность, но исключительность самого этого вида
интеллектуальной деятельности, позволяющей превзойти или, во
всяком случае, критически отнестись к любому другому проявлению
интеллекта и к продуктам его деятельности. Интеллектуальный
аристократизм мудрецов сменяется интеллектуальной
заносчивостью представителей научной прозы6. Позиция Пифагора и
пифагорейцев отличается и от тех, и от других, более того, строится на
сознательном отталкивании от обоих.
Пифагор и пифагорейцы вплоть до Филолая не издавали
сочинений, в которых излагалось учение школы. Известная нам
италийская традиция представлена прежде всего поэмами Парменида
и Эмпедокла, судя по которым еще в первой половине V века
изложение своего взгляда на мир здесь, на Западе, мыслится
неразрывным с поэтической формой. Первое прозаическое
сочинение италийской традиции, о котором мы имеем реальное
представление, — сочинение Зенона, — кажется возникшим внезапно и на
пустом месте. Однако при ближайшем рассмотрении история воз-
6 «Деструктивный критицизм является, похоже, "симптомом истории"»,
замечает исследователь Геродота (Lateiner D. The historical method of Herodotus.
Toronto, 1989, p. 93).
28
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
никновения италийской прозы начинается раньше, и начало ее
очевидно связано с осмыслением эпической традиции.
Мы не знаем, чем была литературная традиция орфиков до
пифагорейцев. Но начиная с пифагорейцев мы, во всяком случае,
можем сказать, что орфическая литература интенсивно
развивалась путем создания эпических произведений. Орфическую поэму
написал Керкоп, другие эпические сочинения приписывались Бро-
тину, Никию, Тимоклу, Зопиру, Орфею из Камарины, Орфею
Кротонскому. Ион Хиосский утверждал, что Орфею приписал ряд
своих сочинении и сам Пифагор7. Независимо от того,
инициировали пифагорейцы этот всплеск эпического творчества,
связываемого с почтенными древними Орфеем, Мусеем, Лином, или
поддержали уже наметившийся неожиданный расцвет эпоса, — связь
между пифагорейцами и орфической литературой несомненна8. А
эта литература была огромна, причем впервые мы сталкиваемся
здесь с сознательным и тенденциозно направленным массовым
литературным творчеством, использующим все удобства нового
способа хранения и передачи информации. В самом деле, представить
столь активную литературную деятельность по совершенно
определенному идеологическому заданию без наличия удобных писчих
материалов и возможности тиражировать тексты — просто
невозможно. А о том, что речь идет в данном случае о создании целых
библиотек, мы можем судить по свидетельствам V и еще IV века,
7 Соответствующие свидетельства собраны Отто Керном в его собрании
Orphicorum fragmenta (Berolini, 1922), а также в соответствующих разделах у
Дильса-Кранца в знаменитых Die Fragmente der Vorsokratiker, в собрании
свидетельств и фрагментов пифагорейцев Maria Timpanaro Cardini (Firenze, 1958), и
др. Во Фрагментах ранних греческих философов (Ч. I. От эпических теокосмо-
гоний до возникновения атомистики. Издание подготовил А.В.Лебедев. М., 1989)
см. с. 36-37,98-99, 150-151, 418.
8 Мы вообще не можем с уверенностью сказать, что до пифагорейцев
орфическая литература существовала. Но когда мы иачинасмотреть списки ли сочинений
«Орфея», списки ли сочинений пифагорейцев, то обилие эической литературы
бросается в глаза. Кстати заметим, что едва ли не самое раннее упоминание «слав-
ноименного Орфея» мы находим Ивика, работавшего при дворе Поликрата на
Самосе, откуда перебрался в Италию Пифагор. И если вместе с Уэстом (West
M. L. The Orphic Poems. Oxford, 1983, p. 2: «Я говорю об орфической литературе,
а не об орфизме или орфиках») можно усомниться в самом существовании такого
самостоятельного течения как орфизм в шестом веке (чего я, впрочем, делать не
склонен), то в существовании орфической литературы сомневаться не
приходится. Нужно согласиться с Уестом (там же, с. 18), что у пифагорейцев не было
монополии на орфическую литературу (хотя Геродот II 81 и утверждает, что все,
называемое орфическим и вакхическим, на самом деле — египетское и
пифагорейское), но в настоящем изложении важно обратить внимание именно на них.
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
29
когда множество орфических сочинений еще были у всех перед
глазами. Еврипид в «Ипполите» (953 — 955) пишет: «...'Ορφέα τ'
ανακτά έχων βάκχευε πολλών γραμμάτων τιμών καπνούς» 9. У
комедиографа IV века Алексида (Керн. 220) в комедии «Лин»
приводится список книг, выставленных у книгопродавца: на первом
месте — Орфей, а уже за ним — Гесиод, трагедии, Херил, Гомер,
Эпихарм. О куче книг Мусея и Орфея под руками жрецов
говорит Платон («Государство», II 364е).
Этот неожиданный расцвет эпической литературы
представляется совершенно неоправданным и необъяснимым, если мы
непосредственно не свяжем его с происходящим в то же время
расцветом прозы и ионийской науки. Угроза, которую проза и научное
мировоззрение представляли для эпической традиции и
традиционных авторитетов, вызвала стремление защитить,
законсервировать эту традицию, и даже — как видим — взять своеобразный
реванш. Этот же период начала развития прозы был временем,
когда, в частности, были проведены установление и запись
гомеровских поэм. Цец во введении к чтению Аристофана «О
комедии» (Керн, 189) сообщает, что Ономакрит вместе с Орфеем из
Кротона и Зопиром из Гераклеи и составили так называемую
«комиссию Писистрата» по установлению и записи гомеровских поэм.
Как видим, те же фигуры, которые участвовали в создании новых
эпических произведений, приписывавшихся древним теологам
Орфею, Мусею, Лину, стремились сохранить и наиболее
авторитетные гомеровские тексты. Имя Ономакрита в этом ряду также очень
показательно: как и пифагорейцы, он занимался изготовлением
подделок — текстов, приписывавшихся Мусею, и он же был
собирателем одной из первых библиотек при Писистратидах10; ему же
приписывались и орфические стихотворные тексты ('Ορφικά επη).
Показательно также, в каком направлении Ономакрит исправлял
Гомера и что устраивал Орфею. Атетируя стихи 602 — 604 из XI
песни «Одиссеи», где речь идет о противопоставлении самого
Геркулеса и его тени (εϊδωλον, αυτός δε), древние схолиасты приписы-
9 В переводе Аннелского (950 слл.) читаем: Когда б твоим рассказам
шарлатанским / Поверил я. — я не богов бы чтил, / А лишь невежд в божественных
одеждах. / Ты чванишься, что в пищу не идет / Тебе ничто дышавшее, и плутни /
Орфеевым снабдил ты ярлыком. / О, ты теперь свободен — к посвященным /
На праздники иди и пылью книг / пророческих любовно упивайся...
10 Согласно Геродоту (VII 6), Гиппарх выгнал Ономакрита из Афин за то, что
он вставил оракул в стихи Мусея и был уличен Ласом из Гермионы.
30
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
вали их Ономакриту. Сам же Ономакрит приписывал Орфею
новейшие представления о строении мира: Секст Эмпирик сообщает,
что Ономакрит в Орфической поэме (έν τοις Όρφικοίς) называл
началами всего огонь и воду и. Последний момент очень важен, и
на него нужно обратить специальное внимание. В своем
противостоянии новой науке защитники традиционных авторитетов и
текстов, признававшихся священными, — недаром в этой же
традиции составлялись 'Ιεροί λόγοι — не отказывались от нового
взгляда на мир, но стремились показать, что почтенная древняя
мудрость уже обладала этим знанием. Для этого изыскивались разные
средства: для того, чтобы у Гомера более отчетливо усматривалось
то, что было очевидно для адепта орфических учений, ему можно
было добавить несколько стихов; для того, чтобы стало очевидно,
что еще до Гомера Орфею было известно учение об элементах,
можно было сочинить поэму; для того, чтобы показать, что вообще
вся древняя поэзия отнюдь не противоречит новому
мировоззрению, находится специальный метод толкования этих поэм,
которому было суждено долгое будущее и роль которого для всей
последующей европейской мысли трудно переоценить. Речь идет об
изобретении аллегорического толкования текстов. Открытие этого
метода связано с именем Феагена из Регия, и время его
деятельности, ее место и направленность безусловно связывают его с орфико-
пифагорейскими кругами и фигурами типа Ономакрита.
Заносчивая современность может улыбаться толкованиям Феагена. В
самом деле, забавно, что, согласно Феагену, Гомер называл огонь
Аполлоном и Гефестом, воду — Посейдоном и Скамандром,
воздух — Герой и т. п. Однако параллельно с этим Феаген работал
над текстом гомеровских поэм, и его аллегории позволяли
закрепить за этим текстом тот безусловный авторитет, который
пытались поколебать ионийские ученые|2.
Время Феагена — последняя треть VI века до н.э. Тогда же
расцветает в Ионии новая научная проза, Пифагор с Востока
уезжает на Запад, записываются ради регулярного исполнения
гомеровские поэмы в Афинах; там же появляется первая библиотека, связан-
" Русский перевод свидетельств об Ономакрите см.: Фрагменты ранних
греческих философов, с. 98 — 99.
12 Русский перевод свидетельств о Феагене см.: Фрагменты ранних греческих
философов, с. 89—90. О Феагене как первом толкователе, первом грамматике,
первом сочинителе жизнеописания Гомера см.: Pfeiffer R. History of Classical
Scholarship, I. Oxford, 1968, p. 11-12.
Επιστροφή, или Феномен возвращения
31
ная с именем Ономакрита; библиотека была и у Поликрата на
Самосе ,3, откуда Пифагор перебрался в Кротон; очевидно, н в
пифагорейских кружках также возникают библиотеки — отчасти
из вновь и специально сочиняемых текстов, отчасти из
традиционных авторитетных текстов, отчасти из комментариев к тем и другим.
До сравнительно недавнего времени такого рода заявление было
бы чистым предположением, и для того, чтобы связывать
возникновение комментариев с толкованием священных текстов в орфико-
пифагорейских кругах, у нас были только умозрительные
основания. Но открытие в 1962 году в местечке Дервени папирусных
фрагментов комментария к орфическому гимну к Зевсу совершенно
меняет ситуацию м. Главный интерес найденный текст представляет
потому, что является абсолютно рядовым и обычным|5. Дервени-
папирус совершенно очевидно продолжает ту традицию
аллегорического толкования священных текстов, которая восходит к орфи-
ко-пифагорейским кружкам конца VI века; одним из самых
ранних представителей этой традиции был Феаген из Регня, в этом
жанре у него было много продолжателей |6. Одних мы знаем,
поскольку это толкователи Гомера: Стесимброт с Фасоса, Метродор
Лампсакский, Главк из Регия, Фрасимах Халкедонский,
Анаксагор, Демокрит, Антисфен, — как видим, даже по тем крохам,
которые дошли до нас, мы можем говорить о развитой традиции
толкования в V—IV вв., после Феагена из Регия и как раз до того
времени, к которому относится Дервени-папирус. Но эта традиция
явно не ограничивалась толкованием Гомера, и по Дервени-папи-
русу мы можем судить, что она стала школьной, рутинной,
обычной частью внутреннего обихода орфико-пифагорейских кружков.
Именно из этих соображений мне представляется не слишком
перспективными попытки определить автора комментария, найденного
в Дервени: перед нами школьный комментарий к школьному тексту,
13 Тот же Пфайффср (с. 7 — 8, здесь же ссылки на литературу) достаточно
критически относится к традиции о библиотеках в шестом веке, в особенности
остерегая от предположений о публичных библиотеках, с чем нельзя не согласиться.
Но ведь в данном случае речь идет только о том, что во множестве появляются
записанные тексты, и, очевидно, появляются те, кто их целенаправленно собирает.
Не следует также забывать, что библиотеки при дворцах восточных владык (см.
там же, с. 1718) могли служить образцом и Поликрату, и Писнстратпдам.
,4 См.: West M. L. Op. cit., p. 75-115.
15 Ср.: Жмудь Л. Я. Орфический папирус Дервени // ВДИ, № 2, 1983, с. 118 —
139.
" См.: Poeticapre-platonica. Testimonianze е fragmenti a cura di Giuliana Lanata.
Firenze, 1963.
32
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
в котором большее значение имеет традиция, нежели
индивидуальное творчество. Значительно лучше документированная
история неоплатонизма дает нам тексты такого рода, и было бы
опрометчиво по текстам, дошедшим от Элиаса или Давида судить об их
взглядах и даже об индивидуальной манере преподавания.
Но обратим внимание и вот на что. С появлением комментариев
появляется и новый вид прозы. Законы были связаны с теми, кого
традиция назвала мудрецами. Научная проза была связана с теми,
кого называли первыми прозаиками (συγγραφείς, λογογράφοι) и
писателями исследований, а сама традиция получила название
ΐστορίη. Новый вид прозы в свою очередь создает новый
специфический тип интеллектуальной деятельности, а также тех, кто этой
деятельностью занимается: появляется философия и философы.
Таким образом, наряду с традицией толкования текстов,
признаваемых священными, наряду с отчетливым проявлением
консервативной стороны греческого духа, наряду со стремлением быть не
открывателем новых истин о мире и человеке, но хранителем и
истолкователем того, что уже содержится у «древних теологов»,
возникает и слово, обозначающее это явление. А это
свидетельствует о том, что культура осознала этот феномен и что он тем
самым действительно существует. К нашему счастью, мы можем
говорить об этом не только на основании поздних свидетельств о
Пифагоре, впервые назвавшем философию философией, а себя
философом, но и на основании современных описываемому
процессу текстов. Таковы тексты Гераклита.
Позиция Гераклита замечательна тем, что он — одиночка,
который не желает принимать ни одной из современных ему точек
зрения и тенденций: ему не милы Гомер и Гесиод, то есть
представители традиционного эпоса, являющиеся авторитетами для
большинства; не мила ионийская наука, которая отвергала
традиционное мировоззрение и эпическую форму его выражения; не мил
Ксенофан, который сохранил традиционную эпическую форму
выражения идей, но излагал новое — в духе ионийской науки —
понимание мира; наконец, не милы Пифагор и пифагорейцы, то
есть те, что открыто объявили о своем почтительном отношении к
традиционной мудрости, выраженной в традиционной форме,
стали собирать, выправлять, переписывать и даже сочинять
«священные тексты» (ιεροί λόγοι), а также с подчеркнугым смирением
толковать их. Для Гераклита неприемлемо их начетничество,
неприемлемо их смирение, которое кажется ему показным и которое
проявляется в том, что они, мол, не мудрецы (σοφοί), а только
почитатели мудрости —философы (φιλόσοφοι). Позиция Геракли-
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
33
та анахронистична: он-то как раз чувствует себя последним из
мудрецов, хотя и знает, что взрослый муж глуп перед богом, как
ребенок — у взрослого (frg. 79 DK); ему-то милей других мудрец
Биант, сказавший: «большинство людей — дурны» (frg. 39 DK).
«Многого знатоками должны быть те, кто называет себя
философами» (frg. 35 DK), между тем как многознание уму не научает,
иначе оно научило бы Гесиода и Пифагора, равно как и Ксенофа-
на с Гекатеем (frg. 40 DK). Гераклит знает и называет их всех, и в
своем гордом противостоянии всему свету влечется умом к
Владыке, чье прорицалище в Дельфах (frg. 93 DK); к гордым
законодателям, собиравшимся там, чтобы почтить этого бога состязаниями
в мудрости; к мудрецам, каждый из которых дороже десяти
тысяч, которые провозгласили «познай себя», и Гераклит
подчиняется этой заповеди (frg. 101 DK). Поэтому ему так отвратительно
то, что (frg. 129 DK, перевод А. В. Лебедева) «Пифагор, сын
Мнесархов, занимался собиранием сведений больше всех людей
на свете и, понадергав эти сочинения, выдал за собственную
мудрость многознание и мошенничество» и.
Странным образом, философия начинается как своего рода
мошенничество и обман. Позиция Гераклита представляется такой
соблазнительно понятной и привлекательной. Так хочется
поверить ему и встать на его сторону. Но с другой стороны, при
трезвом взгляде на вещи, нельзя не заметить и того, что сам Гераклит
также до известной степени выдает желаемое за действительное: в
своем обращении-возвращении к позиции мудрецов он забывает,
что те были практическими деятелями, а не мечтали о такой
деятельности; что мудрецы — решали загадки, а не задавали их в
своих сочинениях; что они, будучи новаторами в одном, в
законодательстве, не пытались вообще порвать с миром традиционных
ценностей; наконец, мудрецов признавали мудрецами их
современники, а Гераклиту остается только пенять на непонимание даже
тех, кто ознакомился с его сочинением. По сравнению с ним
пифагорейцы совершают возвращение гораздо более широкое и
решительное, и действительно в ходе такого возвращения создают
совершенно новое явление: философию, которая вмещает всю пред-
" Если задаться целью восстанавливать пусть не сочинение Гераклита целиком,
что заведомо обречено на неуспех, но некоторые осмысленные тематические блоки
сентенций, из которых, скорее всего, и состояла его «книга», то выпады против
ученых современников и предшественников, в частности, против Пифагора и
пифагорейцев, по-видимому, и представляли бы один из таких блоков.
2 - 974
34
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
шествующую традицию и в очень скором времени вместит и
Гераклита, и всех прочих противников и сторонников пифагорейцев.
В ходе анализа и толкования авторитетных текстов
пифагорейцы задают парадигму и для того, что мы теперь могли бы назвать
философской школой. Учитель — авторитетный текст и его
толкование — ученик — эта структура задает образ европейской
философской школы до сего дня и она же провоцирует возникновение
того, что является второй необходимой компонентой философской
школы и философского образования: диспутации по поводу
определенных тезисов — их обсуждение, защита и опровержение.
Заданная пифагорейцами модель была настолько эффективной,
что начинает репродуцироваться у их первого серьезного
оппонента — Парменида. Как и положено учителю, Парменид пишет
«священную речь», то есть сочинение в гексаметрах, долженствующее
подчеркнуть не совсем земной, не приниженно человеческий
статус ее сочинителя. Гераклит мог бы опять сказать «обман!»,
«надувательство!». Увы, Гераклит не был педагогом: у него не было
чувства юмора и педагогического лукавства. Появление
«священной речи» Парменида вызывает потребность истолковать ее уже у
его непосредственного ученика Зенона. На стихотворную поэму
Парменида он, как и полагается по правилам игры, пишет —
разумеется, в прозе — сочинение, в котором толкует основной тезис
учителя. Как говорит сам Зенон у Платона («Парменид», 128Ь),
«... мое сочинение вовсе... не заносчиво... на самом деле это
сочинение — своего рода защита тезиса Парменида...». Помимо этого
Зенон («Суда») писал «Против философов», что показывает его
непосредственное знакомство с пифагорейцами, а также дал
толкование стихов Эмпедокла. Воспроизводя заданную
пифагорейцами структуру «учитель-текст-ученик», Зенон изобретает
диалектику, которая дополнила толкование текстов и стала второй
главной приметой философской школы.
В заключение, задумаемся еще раз, что дает историку
философии специальное внимание к эпистрофической тенденции в
античной культуре. Во-первых, мы получаем возможность с самого
начала правильно установить тот момент, когда возникает
философия: специфическое отношение мысли к природе и культуре,
названное философией, возникает у Пифагора и в раннем
пифагореизме. Во-вторых, становится ясно, что философия возникает не из
натурфилософских спекуляций, а в качестве противовеса
безоглядности возникающей науки (но не самой науке); о том,
насколько внушительным оказался этот противовес, можно судить по тому,
что ориентированный на предшествующую культуру и духовность
тип знания в античности был доминирующим, а естественно-науч-
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
35
ные изыскания в чистом и самодовлеющем виде практически
отсутствовали. В-третьих, мы отмечаем исконную связь философии
и комментария, а взлеты и падения комментаторской культуры
наилучшим образом свидетельствуют о состоянии культуры в
целом: появление комментариев всегда свидетельствует о
консервативной реакции, о стремлении сберечь уже существующее и
сохранить его в качестве непреходящей ценности наряду с тем, что
признается наиболее ценным и важным в каждый данный момент.
При этом интересно, что первые вспышки комментаторства
сопровождаются попытками творчества в том жанре, который грозит
исчезнуть. Так поступали пифагорейцы; так же — первые
александрийские филологи, собиравшие, издававшие и
комментировавшие древних эпиков и трагиков, которые, вдобавок, сами
сочиняли эпические и драматические произведения. Наконец,
внимание к эпиметеевскому типу философствования лишает
исследователя эволюционистских иллюзий при подходе к истории
философии и позволяет видеть плодотворность не только
преодолевающей и борющейся, но и возвращающейся к своим истокам мысли.
2*
Ill
Рассмотрение Платона с точки зрения того, что было названо
élan épistrophique, может быть проведено по-разному. Если
вспомнить «Тимея», фрагмент из которого приводился в самом начале,
то можно сказать, что Платон пытается представить не только
ближайшее прошлое Афин, но даже то время, когда город еще не
имел ничего общего с современными Афинами, но в глубокой
древности решал судьбы едва ли не всего мира. Более того, Платон
припоминает то состояние мира, когда еще была знаменитая ныне,
но мало кому ведомая во времена Платона Атлантида. А если
вспомнить диалог «Политик», то Платон явственно обнаруживает
интерес к тем временам, когда люди жили еще под властью Кроноса. В
том же диалоге идет речь об эпохах, когда движение космоса
меняло свое направление, а с ним в другую сторону начинало идти
время. И тогда уже нужно припомнить, что в «Тимее» речь идет о
начале времени как такового, о самом создании людей и
стремлении постичь начало начал мира — то есть создавшего его
демиурга. Это стремление вернуться умом к самым истокам бытия мира и
человека, несомненно, свидетельствует об интересе Платона к
прошлому.
Помимо этого можно было бы указать еще и на то, что Платон в
своем творчестве внимательно относится и тому, что было сделано
до него мыслителями самых разных направлений. Платон говорит
о семи мудрецах, называет их, рисует образ Фалеса, преданного
умозрению и равнодушного к заботам житейским. Он, правда, всего
один раз упоминает Пифагора, но зато в его диалогах мы
встречаем пифагорейцев — Симмия, Кебета, Тимея, — а также
изложение взгляда на человеческую душу и переселение душ, которое так
или иначе было связано с пифагорейскими учениями. Вообще
Платон подчеркнуто внимателен к тому, что связано с древними
преданиями и мифами. Помимо этого мы встречаемся у него с
Парменидом и Зеноном, с многочисленными софистами, точки
зрения которых иной раз подробно разбираются, как, например,
тезис Протагора о человеке как о мере всех вещей. Мы узнаем из
Платона и об Анаксагоре, и о младших софистах, и об Аристофане,
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
37
Агафоне и о прочих деятелях V века. И, конечно, перед нами
постоянно Сократ, год смерти которого задает для Платона ту
временную границу, за пределы которой он выходит разве что в VII
Письме, где рассказывает о собственной жизни, а также о том, что
сам он ничего и никогда не говорил от своего имени, а что все, о
чем он писал, говорилось Сократом.
Кроме того, можно было бы указать на ряд учений Платона,
которые также свидетельствуют об этом специальном внимании к
возможности и необходимости для человеческого ума обращаться
вспять и возвращаться к самому себе. Достаточно вспомнить
учение Платона о знании-припоминании, то есть учение о
возвращении души к себе самой в своей чистоте, когда она, еще не будучи
обременена телом, видела истину, красоту, справедливость как
таковые.
Но несмотря на то, что такого рода материалы могут быть
реально использованы для раскрытия рассматриваемого феномена,
несмотря на то, что мы можем найти достаточное число текстов-
иллюстраций, мне кажется, что все это представляет собой некий
результат, некие вторичные проявления того «возвратного
порыва», о котором идет речь. Все то, о чем шла речь, не касается
самого существа платоновского творчества, так сказать, условий
самой его возможности. Именно поэтому подобного рода
материалы и тексты не подводят нас к необходимости восстановить
исторический контекст появления платоновских сочинений и никак не
объясняет их уникальности.
И в данном случае мне кажется важным присмотреться к
жанровой специфике платоновских сочинений: по-моему, как
понимание жанровой специфики только-только возникающих
прозаических жанров позволяет понять нам реальную историческую
специфику возникшей философии, так и платоновская философия
может быть более адекватно интерпретирована при понимании той
формы, которую избирал Платон для своих сочинений, а также
при понимании их жанровой эволюции. В предлагаемой картине я
опираюсь по-прежнему на новую модель платоновского
творчества, предложенную в 1982 году Х.Теслефом в его работе
«Хронология Платона» '. Насколько можно судить, эта модель до сих пор
не встретила достаточного понимания у исследователей Платона,
'Thesleff Η. Studies in Platonic Chronology. Helsinki, 1982; Idem. Platonic
Chronology // Phronesis 34, 1989, p. 1—26. См. также совсем недавнюю работу
Теслефа: In Search of Dialogue // Plato's Dialogues. New studies and
Interpretation. Ed. by Gerald A. Press. Maryland, 1993, p. 259-266.
38
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
и отечественные исследователи здесь не исключение. Я же
отношусь к новой модели Х.Теслефа как к очень компетентно, со
знанием дела изготовленному инструменту, который полезен в
самостоятельной работе, а не в качестве музейного экспоната,
провоцирующего оценку со стороны — одобрительную или неодобрительную.
Первое произведение Платона — «Апология Сократа» — еще в
античности противопоставлялась вместе с письмами всем прочим
сочинениям, написанным в диалогической форме. Это кажется до
такой степени самоочевидным, что в связи с «Апологией» не
задается естественный и первый вопрос: в каком жанре она написана?
Между тем, из известных нам апологий, соотносимых по времени
с «Апологией Сократа», — более ранней «Похвалы Елене» и
более поздней «Елены» Исократа и ксенофонтовой «Апологии», ни
одна даже отдаленно не напоминает то, что написано Платоном:
Горгий и Исократ ведут защиту от своего имени. Ксенофонт
объясняет, почему Сократ был заносчив в своей речи и приводит из нее
небольшие фрагменты, которые — как и соответствующие тексты
из «Воспоминаний о Сократе» — лишь иллюстрируют тезис Ксе-
нофонта о невиновности и достоинстве Сократа. То, с чем мы
сталкиваемся у Платона, то есть с написанной от начала и до конца —
по всем этапам процесса — речью от имени самого обвиняемого,
— в предшествующей и современной Платону литературе имело
только один прецедент: речи, написанные логографами для своих
клиентов, то есть речи, с которыми те должны были выступать в
суде как реальные участники процесса. О том, до какой степени
была распространена именно такого рода литературная
деятельность в 90-е годы IV века, можно судить по тому, что к ней
обращаются ради заработка два наиболее славных и талантливых
старших современника Платона — Лисий и Исократ. Лисий пишет
подобные речи до конца жизни, Исократ — до тех пор, пока не
открывает свою школу.
Почему так важно обратить внимание на связь «Апологии»
именно с этим жанром? Потому что именно жанр дает нам понимание
целого ряда особенностей «Апологии», которые совершенно
обычны в рамках речей, написанных логографами, и вместе с тем дает
фон, на котором мы впервые понимаем подлинную уникальность
Платона.
Именно логографы вставали перед задачей воспроизведения
индивидуального стиля заказчика речи и создания впечатления
неумелости речи, того, что человек говорит в суде впервые, что он не
готовился к этой речи заранее, а говорит сейчас экспромту. Имен-
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
39
но этот жанр заставлял отказываться от традиционных
риторических приемов, так широко используемых в эпидиктических речах у
тех же Горгия и Исократа, и исключал использование
разъяснений и толкований события и текста от лица автора, как мы видим
это у Ксенофонта. Естественная разговорная речь как продукт
литературного творчества возникает именно здесь, и именно этим
славен Лисий 90-х годов, Исократ и Эсхин2. Но именно на этом
фоне — естественном и правильном для «Апологии» — отчетливо
выступает ее уникальность: Платон выступает в роли логографа и
пишет речь для процесса, завершившегося смертью обвиняемого
семь лет назад.
Сократа помнили все, помнили его манеру речи, наверняка
помнили основные аргументы и ход процесса. Тем большее искусство
требовалось от Платона, причем задача осложнялась тем, что
Платон должен был продемонстрировать двоякую неумелость,
непрофессионализм, как бы случайный характер своего сочинения: то,
чего Лисий достигал благодаря сознательной и длительной
разработке приема, Платон достигает в первом же публикуемом
произведении, при том, что все знают, что писание судебных речей —
совсем не главное для него.
Задача воспроизведения сократовского стиля оказалась до
такой степени увлекательной, что в конечном счете определила весь
характер литературного творчества Платона: Сократ становится
обязательным персонажем платоновских сочинений, а это
определяет целый ряд условностей, которые необходимо было соблюдать
при их написании. Этих условностей придерживался не только
Платон, но и его ученики и подражатели в Академии: об этом
свидетельствуют не принадлежащие Платону сочинения,
входящие в Платоновский корпус. Но первоначально Платон не
чувствовал настоятельной потребности выработать ту литературную
форму, которая впоследствии оказалась доминирующей в его
творчестве. Если мы попытаемся представить Платона после
написания и опубликования «Апологии», то перед нами будет примерно
такая картина. В какой-то форме у Платона к этому времени
сложилось его учение о государстве. Каким бы предварительным оно
ни было, в нем уже были такие черты, которые позволяли ему
'The Dialogues of Plato. Vol. 1. Transi, with analysis by R. F. Allen. N.Y., 1984,
p. 63: «The man who cannot make a speech is providing a textbook example of a
forensic exordium». Ср.: Plato's Euthyphro, Apology of Socrates and Crito. Ed.
with notes by John Burnet. Oxford, 1924, p. 66; Mayer Th. Platons Apologie.
Stuttgart, 1962, S. 10-13. Ср. также: Dies A. Autour de Platon. P., 1927, p. 408.
40
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
сделаться известным и узнаваемым как именно платоновское
учение: Аристофан, высмеивая это учение в «Экклесиазусах»,
показывает, что оно было так или иначе известно афинской публике,
— в противном случае его намеки и насмешки были бы лишены
всякого смысла3. В какой литературной форме были выражены
мысли Платона о государстве, — мы сказать не можем. Может
быть, они и не были письменно зафиксированы, но только
высказаны в близком Платону кругу заинтересованных лиц, причем
высказаны от лица Платона. Скорее всего, это именно так и было,
потому что среди существовавших к тому времени литературных
жанров еще не было таких, для которых изложение подобных
концепций было бы обычным. Поэтому «Апология», блистательно
начавшая публичную литературную активность Платона в одном
из самых развитых жанров, провоцировала и соответствующее
продолжение: Платон начинает писать речи, и первый период его
литературного творчества отмечен именно пристрастием к речам,
воспроизводящим их разные, уже существовавшие формы и
жанры. Продолжая подражать Лисию, Платон пишет эпитафий,
вошедший впоследствие в диалог «Менексен»; от имени того же Лисия
пишет парадоксальную речь, вошедшую в «Федра» и
пародирующую, вероятнее всего, Антисфена; помимо этого — по образцу
Исократа — пишет вторую речь «Федра» и на тему,
предложенную тем же Исократом в «Елене», пишет палинодию, то есть
третью речь, вошедшую в «Федра». В «Протагоре» также две речи,
воспроизводящие показательные выступления софистов: миф о
происхождении добродетели и толкование стихотворного текста.
Наконец, в «Пире» мы находим сразу семь речей.
Наиболее изолирована и самостоятельна речь в «Менексене».
Рамка диалога, представляющая собой встречу Сократа с Менек-
сеном, подчеркнуто функциональна: Сократ отмечает, что тому,
кто получил подготовку у хороших учителей, ничего не стоит
произнести хорошую речь экспромту. Мы ничего не узнаем о
собеседнике Сократа, кроме того, что он уже закончил образование и
намерен заняться государственной деятельностью. Помимо этого,
упоминаются учителя Сократа, а также жена Перикла Аспасия.
Речь была написана, вероятно, вскоре после заключения Анталки-
дова мира в 386 году, и в связи с этим событием был очевиден ее
иронический смысл. Но для кого могла быть написана рамка? —
Явно, не для широкой публики, потому что для широкой публики
3Экклезиазусы («Женщины в народном собрании») были поставлены в 392
году, стихи 571—710 пародируют учение об общности жен и детей, изложенные в
«Государстве», II 369b-V 466d. См.: Theslcff Η. Studies... p. 102-105.
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
41
в ней недостаточно охарактеризованы и собеседники, ни
обстоятельства беседы. Само имя Менексена и указание на Аспасию как
на автора речи имело смысл только для тех, кто привык видеть их
в числе лиц, связанных у Платона с беседами Сократа. Так, Ме-
нексен вместе со своим братом Ктесиппом встречается в «Лисиде»,
а также в «Федоне», Ктесипп участвует также в «Эвтидеме».
Помимо этого, сочинение «Менексен, или о власти» принадлежало
сократику Антисфену, а диалог «Аспазия» — сократику Эсхину.
Таким образом, если мы предполагаем, что рамка возникает в
середине 70-х годов, она оказывается совершенно осмысленной и
действительно вводит речь из «Менексена» в круг — уже
существующий — платоновских диалогов, которые могли соотноситься
с более широким кругом сократических диалогов. В середине 80-х
годов эта рамка не имела бы смысла.
И еще одно замечание относительно рамки «Менексена».
Формально «Менексен» представляет собой диалог между Сократом и
Менексеном. Но по существу, этот диалог только повод,
позволяющий Сократу передать то, что он услышал от Аспасии. Этот факт
сближает рамку «Менексена» с диалогами, пересказанными
самим Сократом некоему другу, который иногда называется —
например, Критон в «Эвтидеме», — иногда не имеет имени и нужен
только в качестве того, к кому Сократ обращает свой рассказ. Эти
замечания непосредственно заставляют нас обратиться к группе
диалогов, имеющих рамку. Таких диалогов два вида: одни, как мы
видели, пересказаны самим Сократом, другие — кем-либо из его,
учеников. К первой группе относятся диалоги «Государство», «Про-
тагор», «Эвтидем», «Лисид», «Хармид», признаваемые
безусловно подлинными, а также не принадлежащие Платону
«Соперники» и «Эриксий». Ко второй группе — «Пир», «Федон» и «Пар-
менид»: здесь рассказчиком выступает один из присутствовавших
при беседе (Федон, Пифодор), или тот, кто запомнил беседу с
чужих слов и при этом имел возможность уточнить детали у
самого Сократа (Аполлодор в «Пире»). По хронологии X. Теслефа все
эти диалоги были написаны после первой Сицилийской поездки
Платона в 487 году и до второй Сицилийской поездки в 466 году.
Таким образом, перед нами неполные два десятилетия, когда от
спорадических выступлений перед не вполне определенной
афинской публикой Платон перешел к чрезвычайно интенсивному
литературному творчеству в рамках созданной им Академии. Этот
всплеск литературного творчества был возможен только потому,
что была создана соответствующая литературная форма и
сформирована среда, могущая регулярно потреблять создаваемые про-
42
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
изведения и провоцировать их создание. И созданы были эта
литературная форма и среда благодаря тому «возвратному порыву»,
с которым мы сталкиваемся уже в «Апологии Сократа»..
При создании «Апологии» Платоном руководили два мотива,
непосредственно побуждавших его к литературному творчеству:
один — свойственное всякому, вступающему на литературное
поприще — авторское честолюбие, исходящее из уверенности, что
создается нечто превосходящее то, что уже существует в том или
ином жанре; другой — создать для себя ту исключительную нишу,
в которой все, связанное с соперничеством и доказательством
собственной состоятельности, отступает на второй план, а главным
оказывается наиболее полное и адекватное выражение
собственных идей и условия, обеспечивающие наибольшую продуктивность.
При создании «Апологии» и прочих речей, перечисленных выше,
доминирующим был безусловно первый мотив: Платону важно
показать, что и в существующих литературных жанрах он
безусловно может создавать превосходные произведения. Но этот
мотив постепенно отходит на второй план, поскольку гораздо более
сильным и захватывающим оказывается та задача, с которой
Платон так блестяще справился уже в «Апологии»: создание иллюзии
того, что старший друг, дорогой Платону Сократ,
справедливейший из живших тогда людей, как говорит сам Платон в VII
Письме, вновь беседует и вновь оказывает то исключительное влияние,
какое он оказывал при жизни. Эта задача могла иметь
нравственные предпосылки, могла провоцироваться состоянием чисто
психической или даже метафизической тоски, но главное было в том,
что решаться она могла средствами чисто литературными. При
той литературной одаренности, которой отличался Платон,
чувство литературного соревнования могло очень долго питать его
творчество. Но второй мотив оказывался сильнее, глубже. Как
пишет сам Платон в «Пире» (173 с): «...когда я слышу другие
речи, на меня нападет тоска, и мне становится жаль вас, моих
приятелей, потому что вы думаете, будто дело делаете, а сами
только напрасно время тратите».
Успех «Апологии», показавшей, до какой степени удобной
может быть маска Сократа для выражения самых важных для
Платона идей, провоцировал повторить и закрепить однажды
достигнутое. В «Апологии» была отчетливо сформулирована мысль о
том, что ни один порядочный человек не может при
существующем государственном устройстве занимать официальные посты и
при этом бороться за справедливость. Ту же тему Платон
развивает в «Горгии». В этом огромном и чрезвычайно рыхлом диалоге
Платон возлагает на Сократа слишком много слишком разнород-
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
43
ных задач: он должен высказать отношение Платона к риторам, к
политикам и отдельным политическим теориям, раскрыть
происхождение и сущность справедливости и просто излить
накопившееся раздражение и негодование по поводу состояния дел в Афинах
и по отношению к афинянам. Разговор с обеих сторон ведется
агрессивно, и правота Сократа оказывается неутешительной: он
по-прежнему один, и велика ли разница, что перед ним не судьи,
а Горгий, Пол, Калликл, если он опять готов встретить смерть
легко и спокойно (522 d)? «Горгий» — помимо того, что он,
вероятно, неоднократно переделывался — несет явственные черты
этого переходного для Платона состояния, когда новая форма
грезится, но еще не обретена, а ее возможности не ясны и не
используются полностью. Ситуация решительно меняется в «Протагоре», о
чем мы можем судить по дошедшему до нас варианту, а
произошел перелом, видимо, в «Федре», первый вариант которого был
пересказанным диалогом. Поскольку подробно об этом я уже
писал в статье к изданию «Федра» \ теперь позволю себе сделать
только несколько замечаний.
Очень похоже, что в «Федре» Платон впервые сумел перейти
от несколько агрессивной, партийной и пристрастной точки
зрения к новой позиции, при которой агрессия сменяется мягкой
иронией, а партийная принципиальность — светским и педагогически
толерантным подходом. Сократ у Платона впервые забывает о
грядущей казни, и это сразу делает его взгляд более свободным и
широким, не прикованным адамантовой скрепой к мигу смерти. В
«Федре» мы не просто узнаем, в чьем доме идет беседа, как это
было в «Горгий», но знаем время, когда она началась, знаем
откуда и куда идет Федр, знаем точно то место, за городом, куда
попадают собеседники, видим Илисс и знаменитый платан, под
которым они расположились, знаем, как они были одеты и где Федр
прятал сочинение.
Все эти детали могут показаться несущественными, но сама
готовность и умение их видеть, умение задать для блестяще
написанных речей соответствующую обстановку и форму их
произнесения — все это как раз и свидетельствует о происшедшем переломе:
прошлое перестает быть болью настоящего и видится во
временной перспективе. Это возможно потому, что в настоящем появи-
4 См. прим. 3 к главе I; ср. также опубликованные мною статьи на ту же тему:
«Ουδέ γαρ ουδέ τον σαν έταΐρον δει παρελθείν» (Phèdre 278c) // Understanding the
Phaedrus. Proceedings of the II Symposium Platonicum. Ed. by L. Rosetti. Sankt
Augustin, 1992, p. 226-228; Les deux rédactions du Phèdre de Platon // Separata,
I 1, Moscou: Museum Graeco-Latinum, 1993, p. 1 — 12.
44
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
лась та реальная дружественно настроенная среда
слушателей-учеников, которая снимает напряженное противостояние Сократа и
его оппонентов, которая с пониманием и сочувствием следит за
литературной игрой Платона и сама может принять в ней участие.
Вероятно, именно в момент написания первого варианта «Федра»
Академия как школа Платона становится реальностью, и тогда-то
акценты в платоновском творчестве начинают меняться: ради
школы Платон стремится восстановить ту атмосферу приобщенности к
особенному и высокому, в которой он сам ощущал себя при
Сократе. На самом деле ему приходится создавать эту атмосферу
заново, но формой этой созидательной деятельности становится
воссоздание уже некогда бывшего, возвращение к нему и
воспроизведение его. Эта высокая педагогическая игра уже сама задает
правила и провоцирует активную литературную деятельность в
рамках постепенно создаваемого жанра. Первый блестящий
продукт литературного творчества Платона, получившего новую
ориентацию, это, как уже сказано, «Протагор».
Собеседники — Сократ и друг. Начало беседы — красавец Ал-
кивиад, продолжение — еще более прекрасный Протагор. Сократ
с радостью готов пересказать беседу с ним, друг — с
благодарностью выслушать. Сократ подробно рассказывает события,
предшествующие беседе: ранний визит мужественного и пылкого
Гиппократа, к душевным движениям и порывам которого Сократ
исключительно и подчеркнуто внимателен. Поэтому он терпеливо и
деликатно узнает, почему Гиппократ так хочет стать учеником Про-
тагора, и они по дороге к дому Каллия, где остановился Протагор,
обсуждают это и выясняют, чем нужно питать душу. Беседа
продолжается у самого порога дома, куда привратник не сразу их
впускает. Но когда они все-таки входят — кого только там нет!
Тут и хозяин дома Каллий, его брат Парал, Хармид, Ксантипп,
Фидиппид, Антимер — все люди не безвестные; потом —
знаменитые софисты со своими поклонниками: Гиппий из Элиды и с ним
— Эриксимах, Федр, Андрон и другие; Продик Кеосский, близ
которого — Павсаний и с ним красавец Агафон, оба Адиманта и
другие; вслед за Сократом вошли Алкивиад и Критий, и,
осмотревшись и всех разглядев, Сократ и Гиппократ подходят, наконец,
к самому Протагору. Платон не просто перечисляет
присутствующих: он так или иначе их характеризует, указывает, что Гиппий
сидит в портике на кресле, Продик возлежит, укрытый
покрывалами, и у него низкий и гулкий голос. Не забудем, что среди
присутствующих — родственники Платона (Хармид и Критий) и
вообще люди его круга: это не те ничтожные софисты, против
которых так уместно писал Исократ, это все люди достойные, большей
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
45
частью очень обеспеченные, приличная публика, благородные
юноши, которые все готовы отдать ради хорошего образования и
воспитания. И Сократ в их кругу чувствует себя превосходно, потому
что и он — не нищий острослов, оборванец-насмешник, а человек
прежде всего благородный, и это благородство его души —
главное, что влечет к нему юношей и обеспечивает превосходство над
всеми окружающими. А сам он постоянно восхищается своими
собеседниками и, даже одолевая их в беседе, никогда не опускается
до открытой насмешки и язвительности. И что самое
поразительное, — он совершенно как живой и настоящий, и его собеседники,
и обстановка! Это теперь уже далекое время оказывается таким
прекрасным! И нужно знать его вместе с Платоном, чтобы
принадлежать к одному с ним кругу, чтобы понимать, о ком он пишет,
чтобы писать в подражание ему.
А у Платона это стремление к правдоподобию при
воспроизведении бесед Сократа для тех, кто постепенно составлял его школу,
привело к созданию поразительных по точности и тонкости сцен,
психологическая достоверность которых кажется почти
немыслимой в античности. Я считаю, что в знаменитой книге Эриха Ауэр-
баха «Мимесис», посвященной развитию реализма в литературе,
пропущена одна очень важная глава: это глава, посвященная
Платону. В этой главе необходимо было бы отметить по крайней мере
один прием.
В том же «Протагоре» есть один эпизод, на первый взгляд —
незначительный: выяснив, что Протагор софист, Сократ
спрашивает Гиппократа: «"А сам-то ты кем собираешься стать, раз идешь
кПротагору?" — Гиппократ покраснел, — уже немного рассвело,
так что это можно было разглядеть» (312а). Эта краска стыда на
лице Гиппократа, ранним утром разбудившего Сократа, чтобы
отправиться вместе с ним к Протагору, для современников Платона
была откровением в области изображения человека,
поразительным приемом, вся безусловная эффектность которого была
осознана и самим Платоном, и его подражателями. О ней необходимо
сказать потому, что она наиболее ярко демонстрирует, насколько
мощным и подчиняющим, насколько захватывающим было
влияние Платона, который в своем возвратном движении к реальности
ушедшего V века заново создавал этот V век со всеми его
историческими ограничениями, создавал новое видение души человека,
саму эту душу благородного юноши-европейца и в то же время —
создавал свою Академию.
Этот простой прием используется во всех диалогах,
пересказанных самим Сократом. Вслед за Гиппократом в «Протагоре» краснеет
Клиний в «Евтидеме»: «Скажи-ка, Клиний, учатся знающие или
46 'Επιστροφή, или Феномен возвращения
невежды?» — начинает допрашивать софист Евтидем. « Мальчик,
понятно, покраснел, потому что вопрос серьезный, и ззглянул на
меня, — рассказывает Сократ. — Я же, чувствуя, что он смутился,
говорю: Смелей, Клиний, храбро отвечай, что думаешь...» (275d).
Клиний — двоюродный брат Алкивиада. Беседу с ним Сократ
передает Критону. И тому, и другому в платоновском корпусе
посвящены отдельные диалоги. Все прочие действующие лица
также реальные исторические фигуры, время действия можно
определить достаточно точно. За Клинием краснеет Гиппотал из
диалога «Лисид» — после того, как Сократ спрашивает, кто Гиппоталу
нравится; когда же Сократ отмечает, что тот не просто влюблен, а
поглощен страстью, Гиппотал краснеет еще больше (204Ь — с). Кто
такой Гиппотал, мы не знаем, но Лисид, в которого он влюблен, —
юноша из богатой и знатной семьи, с Ктесиппом мы уже
сталкивались в «Евтидеме», Менексен — его двоюродный брат. Затем краска
смущения покрывает нежные щеки красавца Хармида, дяди
Платона, в этом же диалоге — Критий, здесь же упоминается о
предках Платона, начиная с Солона. Точно известно время диалога и
место, где он происходит: все это каким-то образом оказывается
небезразлично для определения добродетели, которой посвящен
диалог. Даже в огромном «Государстве» Платон не забывает
заставить покраснеть Фрасимаха, который после долгой беседы
вынужден признать, что справедливый — человек достойный и
мудрый, а несправедливый — невежда и недостойный (350с —d).
Поразительно, что в не принадлежащих Платону, но входящих
в Платоновский корпус «Соперниках» и «Эриксии» — диалогах,
также пересказанных самим Сократом, использован тот же прием.
После удачной реплики одного из поклонников краснеет другой, и
хотя здесь нет реальных исторических лиц, действие происходит в
школе Дионисия, где, если верить Диогену Лаэртию и Олимпио-
дору, учился Платон. В «Эриксии» краснеет главный герой, и
присутствуют Критий и Эрасистрат, так или иначе связанный
родством в Феаком, известным политиком времен Пелопоннесской
войны5. В диалогах, пересказанных не самим Сократом, никто не
5 Открыв для себя «краснеющих мальчиков» у Платона при перечитывании
пересказанных диалогов, я с удовольствием убедился с помощью индекса Бренд-
вуда (Brandwood L. A Word Index to Plato. Leeds, 1976), что именно и только в
них и употребляет Платон (и неведомые авторы прочих текстов, входящих в
Платоновский корпус) соответствующие глаголы и причастия: άνερυθριάσας Charm.
158с5; έρυθριάς Lys. 204с4; έρυθριρ Lys. 204d8; έρυθριών Eryx. 395c6; έρυθριώντα
Resp. I 350d3; έρυθριάσας Pro t. 312a2; ήρυθρίασε Amat. 134b4; ήρυθρίασεν Euthyd.
275d6, 294a8; Lys. 204b5, c3, 213d.
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
47
краснеет, но всем памятна икота Аристофана в «Пире», Сократ,
потирающий ногу, освобожденную от оков, в «Федоне», Зенон и
Парменид, с удовлетворенной улыбкой поглядывающие один на
другого во время речи Сократа в «Пармениде». Не буду говорить
о том, сколько здесь изображено реальных людей, действительно
могших собраться на пиру у Агафона, в день казни Сократа и в
день приезда Зенона и Парменида на Великие Панафинеи.
Отмечу только одну деталь. Платон в качестве собеседника Парменида
во второй части диалога выводит Аристотеля, желая намекнуть на
появление в Академии грядущего основателя Ликея: но он не
забывает указать, что это тот самый Аристотель, который
впоследствии стал одним из Тридцати, то есть и здесь не нарушает
правдоподобия. Более десяти лет понадобилось Платону для того,
чтобы приучить своих слушателей к этому условному жанру бесед,
помещенных в реально удаляющийся, но все более привычный и
обживаемый в Академии V век. О том же самом мы можем сказать
по-другому: более десяти лет Платону понадобилось для создания
школы. Этот момент, когда школа уже есть и нет необходимости
подробно изображать окружение Сократа, потому что уже есть
окружение Платона, отмечен очень четко: в «Теэтете» Евклид
читает запись давней беседы Сократа, причем оговаривает, что такие
разъяснения, как «а я заметил», «на это я сказал», — он убирает
и передает только последовательность реплик — живой разговор,
иллюзию непосредственно происходящей беседы. С этого времени
в Академии появляется и приобретает все большее значение
диалог, написанный в собственно драматической форме: от
прекрасных рассказов Платона о беседах Сократа Академия переходит
преимущественно и только к беседам, исключительное значение
которых все больше осознавалось.
Чем занимались ученики риторов? Об этом подробно говорит
Исократ, например: упражнялись в красноречии подобно борцам,
упражнявшимся в борьбе. Умение вести беседу, направлять ее
искусно поставленными вопросами, умение защищать выдвигаемые
тезисы — это и было той специфической способностью, которая
также нуждается в упражнении и которая культивировалась в
Академии. Не показательные выступления — эпидиктические речи,
не споры, не логические ловушки, — хотя все это тоже нужно
знать, — а беседы, ведущие к добродетели и истине, такие, какие
вел когда-то Сократ, — вот чему учит Платон своих учеников.
Для него самого эта форма очень быстро становится адекватной
выражению своего учения. И очень быстро условные правила
литературной игры становятся формой мысли, — но только для Пла-
48
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
тона и его ближайшего окружения, для тех, кто, будучи вовлечен
в игровое поле школьной жизни, перестал ощущать его
искусственность и условность. Между тем, сами беседы — обсуждения,
диспутации — оказываются сферой автономной и самостоятельно
развивающейся. Они очень быстро выходят из-под контроля
Платона, обезличиваются и перестают быть сократовскими беседами.
Платон однажды создав диалог персонифицированный, прочно
связанный с образом Сократа, оказывается неспособен отнестись к
нему как к самостоятельно значимой форме школьной жизни, уже
не предполагающей оглядки на Сократа, или Парменида, или
Афинского гостя. Платон никогда не свыкнется с мыслью, что все
равно, кто говорит, что можно анализировать саму речь,
доказательство, прием, логическое построение. Поэтому бесконечно
превознося диалектику, живя ею, Платон не может дать ее законы:
ему не хватает отстраненности от содержательной полноты
создаваемых им текстов. Поэтому нужен был молодой провинциал
Аристотель, который, попав в Академию и включившись в уже
созданную академическую жизнь с ее дискуссиями, отстраненным
взглядом начинает устанавливать совсем другие правила ведения бесед:
правила, доступные для всякого рационального существа,
безотносительно к тому, был у него дядя Критий или прапрадед Солон.
Для Платона важно вернуться к славному прошлому родных
Афин, — пусть даже это прошлое нужно отчасти придумать.
Аристотель же описывает 158 государственных устройств, и
государственное устройство Афин — всего лишь одно из них. Этот
отстраненный взгляд на вещи формировался в той же Академии, но ее
глава не может, а может быть, и не хочет усвоить его. Поэтому он
вновь начинает испытывать затруднения, связанные с формой
выражения своих мыслей. Задумывается величественная трилогия
— «Тимей», «Критий», «Гермократ», но при всей очевидной
интеллектуальной и литературной мощи Платона, полностью
удается написать только один диалог — «Тимей». Задумывается другая
трилогия, посвященная одному из ведущих для Платона вопросов
о подлинном правителе государства: «Софист», «Политик»,
«Философ»; но последний диалог Платон написать не может. В
«Законах» нет Сократа, но он еще раз появляется в очень позднем «Фи-
лебе» — в этой прощальной попытке вернуть благословенные
времена становления Академии, когда — возвращаясь к ушедшему V
веку и воссоздавая его — Платон во второй раз после Пифагора
создал европейскую философию и школу, очень быстро ставшую
неуправляемо самостоятельной и в полноте вернувшейся к своему
создателю спустя несколько веков.
IV
Порфирий в «Жизни Плотина» сообщает, что первый трактат,
который был записан Плотином, — трактат «О прекрасном» (16).
Эта тема традиционна для платонизма, и Плотин решает ее на
основе знаменитых текстов Платона из «Пира», где речь идет об
иерархии красоты, о постепенном переходе от красоты тел к
красоте поступков и занятий, о переходе от чувственной реальности к
реальности умопостигаемой. И когда Плотин показывает, что
подлинный исток красоты коренится в уме, он призывает душу
обратиться к уму, обратиться от подобий к тому, что является
образцом. При этом Плотин цитирует Гомера: Φεύγωμεν δη φίλην ές
πατρίδα — «Так бежим в дорогое отечество!», и продолжает: «А
отечество наше там, откуда мы пришли, и там наш отец». Но что
это за бегство? — Его не совершить пешком или на колеснице, или
на корабле. Для этого нужно пробудить в себе то внутреннее
зрение, которым обладает всякий, но которым пользуются очень
немногие. Эта тема бегства отсюда к подлинной реальности
проходит через большинство трактатов Плотина и является для него
одной из главных. По существу она является темой возвращения
души к своему духовному истоку.
Эта же тема замечательно выражена в трактате (VI 9) «О благе,
или о едином», девятом по хронологии, где Плотин говорит о
переходе от подобия к образцу как о цели путешествия, и само это
путешествие называет бегством к единственному. Но почему души
забывают об отце, как получается, что они не помнят о своем
происхождении и ценят многое низшее больше? — Потому что они
начинают радоваться своей самостоятельности и своему
самоволию, и подобны детям, рано отнятым у родителей. Об этом
Плотин рассуждает уже в трактате V 1 «О трех начальных
ипостасях», десятом по хронологии. И здесь мотив возвращения к отцу,
в свое подлинное отечество — один из главных. Нужно вспомнить
о том, что является нашим собственным существом, о «внутреннем
человеке», нужно возвратиться к этому внутреннему, и, отбросив
все внешнее, хранить душу в чистоте для восприятия горних звуков.
50
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
Перед Плотиной все время находится эта иерархия
реальностей — путь от низшего, чувственновоспринимаемого мира через
посредство души к уму и к единому. Этот вертикальный срез
бытия, восходящего к вышебытийному началу, изъят из сферы
времени и по-видимости никак не связан с историей. Однако
иерархия бытия имеет в то же время и ценностное наполнение: путь
вверх — это не просто путь к подлинному бытию и к первоначалу,
которое выше бытия, но и путь к более высокому типу знания, к
более совершенной жизни. Поэтому и те, кто избирает тот или
иной тип жизни, также представляют собой своего рода иерархию.
В трактате V 9 «Об уме, идеях и сущем», пятом по хронологии,
Плотин сравнивает людей с птицами: одни — грузные и не
могущие подняться ввысь, прочно связаны с землей, чувственным
ощущением и физической реальностью; другие несколько поднялись
над этой низшей областью: лучшая часть души движет их к более
прекрасному, нежели удовольствие, — они не способны еще
узреть горнее, но культивируют добродетель и добрые поступки;
третьи же — мужи божественной породы, зоркие и окрыленные
— возвышаются над облаками и — ведомые горним светом —
устремляются в свою подлинную отчизну.
За этим образом нетрудно различить эпикурейцев, стоиков и
платоников, а если мы припомним другие тексты Плотина и
неоплатоников, то иерархия эта может быть дополнена. Так Аристотель — в
отличие от божественного Платона (θείος) — всегда величался у
неоплатоников демоническим (δαιμόνιος): его место, очевидно,
между стоиками и платониками — выше первых, но ниже последних1. В
каком-то смысле выше Платона оказываются древние богословы и
учредители таинств — Пифагор, Орфей, Мусей, — с ними мы
подбираемся к сфере единого, и таким образом вся иерархия
онтологическая оказывается у нас странным образом совмещена не
только с определенными типами жизни и философии, но и с историей.
Вертикальный срез бытия приобретает историческую глубину, и
возвращение к подлинной реальности оказывается возвращением
к самым древним и бесспорным, к божественным авторитетам.
В первой главе речь шла о том, что начало глобального
возвращения в платонизме было осознано и отчетливо сформулировано
' Более школярская традиция, отраженная в памятнике более позднего времени
— Анонимных пролегоменах к платоновской философии — утверждает: «И до
Платона, и после него существовало множество философских школ; Платон же
без труда превзошел их все как учением своим и умом, так и во всех прочих
отношениях» (2).
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
51
еще Антиохом Аскалонским, осознавшим необходимость veteres
sequi («следовать древним»). С того времени эти два устремления
к древности с ее мудрецами и к высшей духовной реальности и
даже еще выше — за ее пределы — объединяются — может быть,
не всегда осознанно — и постепенно становятся одним. И в том, и
в другом случае началом возвратного движения оказывается
осознание пропасти между тем, что происходит с нами здесь и теперь,
и тем, что когда-то — исконно и по существу — было нашим, что
было открыто и доступно нам, чем мы были. Это общее для эпохи
чувство утерянной связи с собой и своим почти не связано с
различием мировоззрений, школ, конфессий, религий. Эпикуреец
Лукреций описывает то время, когда боги непосредственно являлись
людям. Платоники восстанавливают главную цель занятий
философией — уподобление божеству. Гностики учат об отпадении души
от их духовного отечества и необходимости вернуться к
изначальной полноте — «плероме». Притча о блудном сыне становится
символом практически всех духовных движений, но формы, в
которых эта возвратная тенденция, этот élan épistrophique
проявляется, — всякий раз разная. Присмотримся к тому, какова она была
в платонизме, и обратим внимание на эволюцию литературной
формы, в которой проявления этой тенденции оказывались
естественными и продуктивными.
Полемика, дискуссии, рассуждения за и против, — таково было
наиболее адекватное жанровое выражение платонизма в его
скептический период. Мы очень плохо знаем его историю — очевидно,
потому, что эти формы имели сиюминутный и преходящий
интерес и не приводили к общезначимым результатам. Первый
безусловно значимый корпус текстов, связанный с платонической
традицией, хотя и стоящий в стороне от ее основного русла, —
сочинения Филона Александрийского. Его комментарии к греческому
переводу священных древнееврейских текстов — Пятикнижию
Моисееву — придают первостепенное значение исконному для
греческой философии методу аллегорезы и прокладывают путь для
грядущего объединения Моисея и Платона: истина, открытая
Моисею, была усвоена греческими философами, поэтому понять ту
форму, в которой она была выражена в Пятикнижии, можно с
помощью греческой философии. В какой-то мере повторяется
ситуация, сложившаяся в момент рождения греческой философии:
истина была открыта Гомеру, и то, что теперь мы знаем благодаря
рационализму ионийской ίστορίη, может быть прочитано и у
Гомера при его аллегорическом толковании. Но в целом платоническая
традиция шла по другому пути: ее задачей было пока не макси-
52
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
мальное расширение кругозора за счет освоения все новых и
новых текстов, но максимальная сосредоточенность прежде всего на
текстах основателя школы.
Потребность дать новое издание текстов Платона, разбив их на
тетралогии, вероятно, была в основе своей воспитана еще старыми
подходами к Платону как к великолепному стилисту, столь же
литератору, сколь философу: тетралогиями издавали
драматургов. Но она оказалась включенной в основное русло развития
платонизма, поскольку давала последователям Платона корпус
текстов2, а не сводку мнений, как мы видим это еще у Ария Дидима
и Евдора Александрийского. Эту консервативную тенденцию очень
важно было своевременно обозначить, поскольку первая
тенденция уже была достаточно развитой и в принципе чрезвычайно
перспективной. Для платоновской школы было важно, чтобы на
занятиях давались не только рассуждения на отдельные темы, но и
непосредственное толкование конкретных текстов Платона.
Поэтому в знаменитых «Моралиа» Плутарха мы находим наряду со
школьными рассуждениями по поводу отдельных проблем также
и толкования затруднительных мест: у Плутарха они сведены в
традиционный жанр «проблем», и так и называются
«Платоновские проблемы». Но помимо этого с толкованиями отдельных
платоновских текстов мы встречаемся в «Пиршественных вопросах»
и в отдельных трактатах. Но в целом жанр толкования — если
судить о нем по Плутарху — еще не стал ведущим 3. Если мы
попытаемся охарактеризовать в целом систему жанров,
используемых платониками II века по Р.Х., то общей ее особенностью по
сравнению с предшествующим периодом будет большая
противопоставленность жанров эксотерических эсотерическим, то есть
жанров, имеющих более широкое хождение и не связанных
непосредственно со школой, жанрам, не имеющим смысла вне школы.
Первые — достаточно традиционны. Это прежде всего
полемические трактаты, с какими мы сталкивались и у Плутарха, полемизи-
2 В отличие от предшествующих изданий платоновского корпуса издание
Трасилла, о котором идет речь, едва ли можно считать чисто филологической
затеей: сама личность Трасилла — придворного астролога при Тиберии — позволяет
предполагать, что его отношение к платоновским текстам носило не отвлеченно
научный интерес. X. Дёрри предполагает {Der Piatonismus der frühen Keiserzeit /
Platonica minora. München, 1976, S. 182), что «Трасилл связывал платонизм с
пифагореизмом и также, естественно, с астрологией».
30 развитии комментаторской традиции в данный период см. мою статью
Комментарий к классическому произведению как вид учебного текста в сборнике
статей Проблемы школьного учебника (Вып. 19. М., 1990, с. 72 — 91).
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
53
ровавшего со стоиками и эпикурейцами; правда, круг оппонентов
у платоников расширяется: в их числе — Аристотель, приобретший
новую значительность благодаря развитию перипатетической
школы. Против него пишет Никострат и некий Лукий. Эта полемика с
Аристотелем, в частности, с его учением о категориях4, была
начата еще Евдором Александрийским, но во втором веке она
приобретает важное значение потому, что в самом платонизме развивается
противоположная тенденция: объединять Платона и Аристотеля.
О различии платонизма и учения Аристотеля пишет Кальвен Тавр,
против перипатетиков пишет Аттик5, антиаристотелевскую
позицию занимает Север. Перед нами не просто полемика по
отдельным вопросам, а важный для самосознания платонизма момент.
Помимо полемических сочинений мы сталкиваемся в платонизме
II века с популярными докладами. Прекрасный пример — Διαλέξεις
Максима Тирского. На этом примере видно, какие темы,
разрабатываемые школой, могли выходить и выходили за ее пределы: во-
первых, самые общие и принципиальные — например, «Что есть
Бог по Платону», «Какова цель философии» и т.д.; во-вторых,
самые доступные — например, «Нужно ли молиться», «Нужно ли
воздвигать статуи Богам»; в-третьих, темы, школьная разработка
которых стала эффектным трюком, который можно
продемонстрировать и дилетанту — таковы парные рассуждения pro и contra,
4 Как подчеркивает Hans В. Gottschalk {The earliest Aristotelian commentators /
Aristotle transformed. The Ancient Commentators and their influence edited by Richard
Sorabji. L., 1990, p. 69), предметом исключительного интереса были аристотелевские
Категории, которые вызвали реакцию как платоников Евдора Александрийского,
так и стоиков Афинодора; из перипатетиков их комментировали Андроник, Боэт и
Аристон (Simplicius, In Categ. 159, 32). Пифагорейцы создали версию Категорий
на дорийском диалекте, и приписали ее Архиту из Тарента. Еще раз подчеркну,
что полемический задор части платоников от Евдора до Плотина, безусловно
свидетельствующий о необходимости четче осознать специфику платоновского
учения, нисколько не препятствовал постепенному вбиранию как перипатетической,
так и стоической философии. В частности, ученик Плотина Порфирий, поддерживая
тенденцию включения аристотелевской логики в курс платоновской философии,
прямо декларирует не только единство учений Платона и Аристотеля (Sorabji R.
The ancient commentators on Aristotle / Ibid., p. 2 — 3), но и гармонию между
Плотиной, решительно критиковавшим, в частности, аристотелевское учение о
категориях, и Аристотелем (Hadot P. The harmony of Plotinus and Aristotle according
to Porphyry / Ibid., p. 125-140).
5 Сочинение Аттика называлось Против тех, кто пытается объяснить Платона
посредством Аристотеля (см.: Atticus. Fragments. Texte et. et trad, par Ed. Des
Places. P., 1977, p. 8 et frg. 1—9); кроме того, Аттику принадлежал полемический
комментарий к аристотелевским Категориям (р. 17—18 et frg. 40 — 44).
54
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
жанр которых был разработан еще софистами V в. до н.э.: «Кто
полезнее для государства, воины или земледельцы? — речь
первая: полезнее воины; речь вторая: полезнее земледельцы». «Что
лучше — жизнь практическая или теоретическая? — речь первая
— лучше жизнь практическая; речь вторая — лучше
теоретическая» и т. д. Вообще речи Максима Тирского открывают очень
много для понимания школ среднего платонизма: множество тем,
представленных у Максима, мы находим потом у Плотина и Прокла,
что показывает замечательную консервативность школы6. Но для
II века разработка этих тем в виде популярных докладов еще
естественна, а затем школа все более замыкается, специализируется и
эксплуатирует другие жанры.
Наряду с эксотерическими жанрами, задача которых была
оборонить и положительно представить школу, были жанры для внут-
ришкольного употребления, которые также можно разбить на два
типа. Один — учебники, другой — комментарии. Они
развиваются параллельно, причем учебники представлены во II веке лучше,
чем комментарии. И тот, и другой жанр — результат возвращения
к подлинному Платону и поиск его наиболее адекватного
изложения. Но первый — учебники — более прогрессивен, а второй —
более консервативен.
До нас дошли от II века тексты Алкиноя («Учебник
платоновской философии»), Апулея («Платон и его учение»), а также
Диогена Лаэртия (III книга его сочинения) и Альбина («Введение к
чтению Платона»), и из более позднего времени, но в той же
традиции — «О богах и о мире» Саллюстия и «Анонимные
пролегомены к платоновской философии» 7. О месте этих сочинений в
6 Один пример, достаточно выразительный, на мой взгляд. В Комментарии на
Государство Прокл подробно и обстоятельно рассуждает о том, почему Платон,
будучи ревнителем Гомера, изгоняет его из государства. Для правильного понимания
этого необходимо прежде всего различать виды мифов, отделяя воспитательные
от боговдохновенных (In Remp. II 76, 24 sqq.). Очевидно, уже в школах Среднего
платонизма данная проблема рассматривалась в том же ключе, о чем свидетельствует
XVII речь Максима Правильно ли Платон изгнал Гомера из своего государства,
где проведено аналогичное противопоставление мифов, и замечание в XVIII речи
Любовное искусство Сократа: «недостойные речения символизируют прекрасные
деяния».
'Переводы текстов Альбина, Алкиноя, Апулея, Саллюстия-философа, также
Анонимные пролегомены и третья книга Диогена Лаертия собраны в подготовленной
мною книге Учебники платоновской философии (М.: Греко-латинский кабинет,
1994).
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
55
школьной программе можно судить из них самих, а также из
свидетельств древних авторов: их целью было дать элементарное —
начальное — и систематическое изложение учения, что можно было
делать после того, как слушатель протрептических —
увещательных — речей откликнулся на них и готов примкнуть к данной
философской школе.
Определение того, что такое это наставительное сочинение —
διδασκαλικός λόγος — дал еще Аристотель (De soph, elench. 2,
165а 38 — 165ЬЗ): оно излагает каждую науку, исходя из
свойственных ей начал. Такого рода учебные сочинения требовали от их
составителя обращения к максимальному числу релевантных
текстов основателя школы, а также ко всем другим текстам,
долженствующим придать платоновскому учению полноту и
совершенство за счет усвоения лучших достижений других философских
школ. Поэтому в «Учебнике платоновской философии» Алкиноя
излагается логика Аристотеля и ряд стоических положений, —
разумеется, без ссылок на источники, наоборот, с указанием, что
это уже было у Платона. Таков прежде всего раздел,
посвященный логике. Используя сводку перипатетической логики для
изложения платоновского учения, Алкиной замечает: «Описание того,
как использовать софизмы, мы можем найти у Платона,
внимательно прочитав «Евтидема»... На десять категорий есть указания
в «Пармениде»... Его прямо-таки великолепные и
необыкновенные определения и разделения все демонстрируют чрезвычайную
диалектическую силу...» (VI 9—10). Стремление к полноте
сочеталось в учебнике со стремлением к систематизации Платона, —
постоянная тенденция в платонизме, начиная с древней Академии.
Но в данном случае речь идет не просто о стремлении, а о
сложившейся школьной традиции, о чем можно судить по
многочисленным совпадениям между Алкиноем и Апулеем, хотя они
представляют разные течения в платонизме II века.
Таким образом, форма учебника вполне отвечала стремлению
вернуться к Платону и его учению, но у нее был и очевидный
недостаток: как и всякая рациональная конструкция, учебник —
даже в совершенстве представляя предмет — обращает внимание
ученика только на логическую структуру этого предмета, но не на
форму его выражения: учебник, таким образом, не только
открывает предмет, но и скрывает его. Войдя по учебнику Алкиноя в
курс основных проблем платоновской философии, мы нисколько
не приближаемся при этом к платоновскому тексту: учебник до
известной степени замещает его. Это терпимо, когда речь идет о
вводном курсе для дилетантов. Но специалист — подлинный адепт
56
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
платоновской философии — этим ограничиться не может.
Подлинное возвращение к Платону мыслимо только через усвоение
его диалогов, что в школах Среднего платонизма и делалось,
причем комментарии к диалогам записывались, о чем мы можем
судить по фрагментам комментария к «Теэтету». Но все же мы не
можем сказать, что жанр комментария уже становится ведущим.
Чего недоставало в этот период платоновской школе, почему
трактаты по отдельным вопросам, вводные курсы, учебники остаются
в школе доминирующим жанром, хотя толкование платоновских
диалогов очевидно занимает важное место в платоновских
школах?
Ответ на этот вопрос может показаться на первый взгляд не
слишком убедительным, но я думаю, что по некотором
размышлении мы можем согласиться с тем, что причина эта состоит в
слишком светском характере платоновских школ. Во втором веке у
платоников еще нет сознания того, что тексты Платона священны, а
сам Платон — божествен. Когда мы читаем «Введение» Альбина,
у нас нет чувства того, что нас приобщают к чему-то особенному и
превосходящему обычные человеческие возможности. Диалог —
это речь, составленная из вопросов и ответов, со своей
специфической тематикой и способом выражения; со своими видами:
диалоги посвящены физике, этике, логике или политике; они бывают
испытательными, опровергающими и т. п. Их нужно читать в
определенном порядке, который зависит от целей и способностей, а
также подготовленности читателя. Конечно, Альбин знает, что в
конечном счете дело идет о созерцании божества и достижении
высшего интеллекта, но эти задачи ставятся вполне светским
образом: среди прочих достойных задач, стоящих перед достойным
человеком, есть и такие; но они значимы не абсолютно, а только
для тех, кто предпочел платонизм прочим философским учениям.
Потребность обрести подлинный священный текст как
безусловно притягательный предмет, к которому нужно обратиться
целиком в силу его абсолютной предпочтительности, заставляет искать
экзотических средств. Одним из таких средств было обращение к
душе самого Платона, которому можно было задать вопросы и
получить ответы: зафиксировав их, можно было обращаться к ним
как к истине в последней инстанции, не нуждающейся более ни в
каком дополнительном обосновании и проверке. Именно это
предпринимает Юлиан Халдей, который заставил вступить душу
своего сына Юлиана Теурга в контакт с душой Платона и таким
образом имел возможность спрашивать Платона обо всем, что его инте-
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
57
ресовало. Профессор Адо, который в своей великолепной и
чрезвычайно близкой и важной для меня статье передает этот эпизод в
соответствии с Пселлом, справедливо замечает, что текст Пселла
не дает никаких оснований заключать, что результатом этого
вызывания души Платона стали именно те «Халдейские оракулы»,
которые мы знаем по многочисленным цитатам у неоплатоников8.
Но то, что в русле платонизма в конце II века проводятся такого
рода опыты и появляется текст «Халдейских оракулов», —
независимо от связи этих двух фактов, — чрезвычайно знаменательно.
Для сохранения определенной культурной традиции
необходимо в какой-то момент ее сакрализовать и в качестве сакрализован-
ной культивировать. С этого, как помним, началась греческая
философия как таковая: пифагорейцы придают сакральное значение
эпической традиции, создают ряд текстов, объявляемых
священными, и культивируют сакрализованную традицию, подвергая
тексты аллегорическому толкованию. Нужно отметить, что для
сакрализации платоновских текстов необходимую основу создали
опять-таки пифагорейцы, и благодаря им в конце концов меняется
сам статус Платона и отношение к его сочинениям. Столь
необходимая для дальнейшего развития платонизма сакрализация образа
основателя школы, очевидно, осознается с самого начала
обновления платонизма у того, кого принято считать первым
представителем Среднего платонизма, у Евдора Александрийского. Именно
Евдор подчеркивает, что Платон соглашался с Пифагором и
признавал целью философии уподобление богу. Именно образ
Пифагора служил безусловным образцом основателя школы, который
сам обладает более чем человеческим статусом. Именно в
пифагорейских кругах платоновские сочинения получают
аллегорическую интерпретацию, и то развитое учение об иерархии бытия,
восходящей к сверхсущему единому, которое отделило неоплатонизм
от Среднего платонизма, было впервые сформулировано
пифагорейцем Модератом, вероятно, в ходе толкования платоновского
«Парменида» 9. Евдор начинает критику Аристотеля, но и прояв-
8 Hadot P. Théologie, exégèse, révélation, écriture dans la philosophie grecque /
Les règles de l'interprétation. Ed. par M. Tardieu. P., 1987, p. 280.
9 Джон Диллон (Dillon J. The Middle Platonists. L., 1977, p. 347) замечает, что
необходимо также иметь в виду толкование Второго платоновского письма,
провоцирующего подобного рода концепцию. Если учесть, что Второе письмо и
было специально добавлено к группе сочинений Платона, чтобы подчеркнуть
пифагорейский характер платоновского учения, то решительность, с которой
формируется пифагорейский характер платонизма, заставляет обратить на себя
58
' Επιστροφή, или Феномен возвращения
ляет к нему безусловный интерес. Но роль пифагорейцев на этом
не заканчивается: те тенденции, которые привели к своего рода
неоплатонической схоластике, возникают опять-таки в
пифагореизме. Очевидно, именно в пифагорейских кругах возникает
понимание того, что необходимо перейти от деклараций о следовании
Платону к разработке определенной образовательной программы,
включающей прежде всего математические дисциплины. Поэтому
появление во II веке «Введения в арифметику» Никомаха Геразс-
кого и «Изложения математических предметов, полезных для
чтения Платона» Феона Смирнского чрезвычайно показательны.
Никомах стал классическим пособием, изучавшимся в школе и
подлежащим толкованию. Феон подчеркнул одну очень важную
тенденцию, к которой мы сейчас и обратимся: сочинения Платона
для своего понимания нуждались в специально разработанных
науках, — точно так же, как и физический мир.
Прежде, чем перейти к этому моменту, припомним только, что
Ямвлих, проведший реформу платонизма и продумавший его
строгую школьную организацию, пишет свод пифагорейских учений и
подчеркнуто ориентирует платонизм на учение пифагорейцев. В
последний период существования античной философии
пифагореизм выполняет ту же функцию, какую он выполнил в самый
момент своего возникновения и возникновения философии: он
отбирает круг священных текстов, и комментарии к ним оказываются
ведущим жанром, безусловно доминирующим в течение трех
веков. Эта поразительная верность той роли, которую пифагореизм
играет в греческой культуре, сопровождается и культивированием
одних и тех же средств: подчеркнутое почтение к священным
текстам, не мешающее их созданию, то есть созданию подделок;
аллегорическое толкование, призванное защитить эти тексты от
развивающейся светской науки; культивирование науки, совмещаемое с
традиционной религиозностью и школьной рутиной.
внимание в той же мере, в какой все более необходимым оказывается обращение
к платоновским текстам. Ср. очерк истории толкования Второго письма во введении
к изданию: Proclus. Théologie Platonicienne. Livre II. Texte et. et trad, par H. D.
Saffrey et L. G. Westerink. P., 1967, p. XX —LIX. Признавая, что идея триады
первых принципов была исконно пифагорейской и восходила, вероятно, еще к
псевдоорфическим теогониям, издатели замечают, что Второе письмо скорее всего
было неопифагорейской подделкой, призванной подчеркнуть пифагорейский
характер платоновского учения. См. особенно с. XII —XXVI и вывод на с. XXV:
«...письмо было написано в поздний период для того, чтобы уточнить характер
отношений между Платоном и пифагорейцами и его зависимость от их учения и
способа его изложения».
Επιστροφή, или Феномен возвращения
59
Итак, пифагорейское влияние постепенно придает образу
Платона и платоновским текстам то подчеркнутое сверхъестественное
значение, которое позволяет им занять исключительное место по
сравнению со всеми другими текстами. Вокруг них в IV —V вв.
собираются все прочие тексты: в качестве вводного
пропедевтического курса может быть привлечен даже стоик Эпиктет, хотя ради
приобщения к определенным этическим нормам есть и « Золотые
стихи» пифагорейцев 10. Логическое введение в философию дает
Аристотель. Помогает освоить Аристотеля Порфирий.
Арифметика — Никомах, геометрия — Евклид, астрономия — Птолемей
или Павел Александрийский, музыка — Аристоксен. Затем
великие таинства платоновской философии 12 диалогов: обязательного
курса и некоторые другие по выбору. Помимо этого —
орфические тексты и «Халдейские оракулы». Не остается без внимания
божественный Гомер и Гесиод. Все науки, все сферы бытия
представлены в школе текстами. Писаный текст оказывается
единственной реальностью, замещающей всякую другую: он и интереснее
всякой другой, и глубже, и значительней. И изучение этих текстов
есть служение богу и уподобление ему.
Но почему с таким тщанием нужно изучать платоновские
тексты? — Да потому, что платоновский диалог — это своего рода
космос, и космос — своего рода диалог, и как лучшее живое
существо — космос, так и лучший вид речи — диалог. Об этом с
подкупающей непосредственностью и определенностью говорится в
замечательном памятнике VI века «Анонимные Пролегомены к
платоновской философии». В диалоге есть все то, что есть в мире. «В
диалоге материи соответствуют действующие лица... Форме
соответствует стиль... Аналогом природы является в диалоге способ
ведения беседы... Доказательства... аналогичны душе... Уму же
соответствует проблема... Богу же в диалоге соответствует благо»
(16—18). Аналогичное отношение у учеников воспитывалось и к
мифологии, и в сочинении IV века «О богах и о мире» мы читаем
сходное рассуждение о мифах. Все, что можно узнать и изложить, —
уже известно и изложено. Нужно только вернуться к этому, и
лучшим инструментом возвращения оказывается школа. Она сама
— весь мир, и она ведет ученика по всем его ступеням, приобщая
его в процессе комментирования священных текстов ко всем
добродетелям: физическим, этическим, политическим, катартическим
10 Hadot I. Le problème du néoplatonisme alexandrin: Hiéroclès et Simplicius. P.,
1978, p. 160-164.
60
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
и теоретическим. Высшие добродетели воссоединяют нас с богами
и приближают к единому.
Мы знаем расписание дня в платоновской школе времени Про-
кла. День занят с восхода солнца до его захода: молитвы солнцу,
толкование авторов по программе, собственная работа,
философские беседы с коллегами, незаписываемые занятия άγραφα δόγματα
и семинары и. Вся жизнь наставника и его учеников целиком
обращена к текстам, которым грозит уход в небытие. И еще — к
обрядам, над которыми давно нависла та же угроза. Прокл хотел быть
«иереем целого мира» 12. Религиозная практика, ритуалы были
необходимы для искусно и искусственно заполненной жизни так же,
как строгое школьное расписание. Это впервые понял Ямвлих, с
которого начинается расцвет неоплатонической схоластики. Это
прямолинейный Юлиан пытался сделать нормой для всей
империи. То, что для Плотина было еще индивидуальным порывом,
стало школьной рутиной.
Если Плотина страстное желание вернуться к своей солнечной
отчизне устремляет за пределы этого мира к его истоку, и в
исключительные миги его душа видит его, как бы солнце, встающее над
поверхностью моря, и прикасается к нему; если он всякий раз
бесконечно удивляется, как его душа, целиком охваченная этим
стремлением уйти и вернуться, опять оказывается здесь в этом
теле; если это тело, рождение которого так отвратительно, —
предмет постоянного стыда для него, и он не хочет вспоминать ни
своих родителей, ни место рождения, — то Прокл — совсем иной.
Конечно, Марин писал не научную биографию, а энкомий
учителю. Но ведь и Порфирий — не объективный исследователь,
безразличный к тому, о ком он пишет. И когда Марин называет свое
сочинение «Прокл, или О счастье», — это менее всего
агитационный прием, это искреннее восхищение и удивление: «Я положу в
основание моей речи мысль о счастье человека блаженного... я
уверен, что он был самым счастливым из людей, прославляемых
во все века». Прокл отличался всеми телесными добродетелями:
остротой чувств, силой, выносливостью, красотой и здоровьем. И
11 Saffrey H. D. Proclus, diadoque de Platon // Proclus, lecteur et interprète des
anciens. P., 1978, p. XX.
12 Марин. Прокл, или О счастье, 19: «...праздничные дни он отмечал все, даже
чужеземные... он говорил, что философ должен быть не только священнослужителем
одного какого-нибудь города или нескольких, но иереем целого мира» (перевод
М. Л. Гаспарова).
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
61
эти достоинства были только предвозвестниками его душевных
достоинств.
Всякий, читающий сочинения Прокла, не может не верить
Марину: перед нами человек, полный достоинства и спокойного
величия, безусловного знания и понимания того, что можно объяснить,
а чего нельзя. Неутомимый, потому что он занимается тем, что ему
свойственно и естественно для него. Невозмутимый, — потому что
он стоит не только на уровне современной науки, но и на уровне
толкуемых образцов. Прокл — из тех самых благородных
платоновских юношей, которые не только полны чистого стремления
овладеть философией и обрести добродетель, но достигли этого.
То, что грезилось Платону в IV веке до Рождества Христова,
неожиданно прекрасным и полным образом осуществилось в V веке
после Рождения Христа, которого Прокл и знать не хотел.
Причем с Проклом родился не второй Платон, а именно тот
совершенный ученик, которого Платону так хотелось обрести. Это не
безродный Плотин, он родился от достойных родителей, блиставших
добродетелью, родом из Ликии. Но это и не провинциал
Аристотель, вторгшийся в цветущий сад Академии и тут же начавший
насаждать там свои порядки. Нет. Афина опекала Прокла со дня
его рождения в Византии, и он естественным образом
возвращается в Афины, в школу божественного Платона, на свою духовную
родину. И Афины принимают его множеством благоприятных
знамений. Им восхищаются учителя, и он прилежно записывает их
толкования. То, что Плотин прозревал в экстатическом порыве,
Прокл открывает на кончике пера: Плотин впервые открыл все
великолепие универсума и полностью узрел всю иерархию
единого, ума, души и космоса; Прокл никогда не видел генад, но с
точностью описал их, указав их местоположение между уровнем
единого и умом, а также описал множество промежуточных
ступеней между остальными ступенями иерархической структуры.
В этом развитом и подробно разработанном сооружении есть
место для всех богов, демонов, героев, божественных мудрецов и
основателей таинств, для всех их сочинений. Но для того, чтобы
поддерживать в безупречном порядке этот многоэтажный
небоскреб, нужен был также Прокл; поэтому после кончины этого
исключительного и единственного диадоха, в котором élan épistrophique
нашел свое успокоение и удовлетворение, следы неухоженности и
запустения все явственнее видны, несмотря на отдельных
блестящих педагогов и толкователей платоновского наследия в Афинах и
Александрии. Здесь не идет речи о прослеживании истории
школы, но о последнем схолархе сказать необходимо.
62
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
Дамаский довольно поздно обратился от риторики к
философии. Но само это обращение произошло под знаком возвращения
его души к собственной природе. Возможности такого
возвращения открыл для Дамаския Исидор. Как пишет Л. Г. Вестеринк,
«несомненно, по своему призванию и философской ориентации
Исидор до некоторой степени был Сократом, который, видимо,
открыл для Дамаския горизонт "возвращения", то есть эту
возможность для души вернуться к своему "единству с Богом"
благодаря отказу от своей "разделенности на многое" и своей
"оторванности"» 13. Я уже упоминал, что Дамаскию принадлежит выбор
между Прометеем и Эпиметеем в пользу Эпиметея. И его
поразительное по глубине и тонкости сочинение «О первых началах»
содержит обширные рассуждения, раскрывающие проблему
«эпистрофе» со всей возможной подробностью и обстоятельностью.
Приведу несколько пассажей.
«Познаваемое является предметом стремления для познающего;
следовательно, познание есть обращение познающего к
познаваемому, а всякое обращение есть соприкосновение. Обусловленное
некоторой причиной соприкасается с самой причиной или на
уровне познания, или на уровне жизни, или на уровне самого бытия,
причем обращению на уровне познания предшествует обращение
на уровне жизни, ему — обращение на уровне бытия, а до
названных отдельных обращений существует обращение и
прикосновение как таковое; причем оно либо тождественно знанию как
таковому, либо вернее — единству, которое ему предшествует, поскольку
единое также предшествует и уму, и жизни, и бытию, даже тому,
которое всецело объединено. Таким образом, единство — за
пределами каждого вида знания. Вот почему обращающееся к
единому обращается к нему не как познающее и не как к предмету
познания, но как единое к единому, причем посредством единения, а
не познания, потому-то и следует к первому обращаться
посредством первого обращения, тогда как знание не является первым, а,
по крайнем мере, третьим; <а то обращение является первым>, и
оно скорее является общим для первых трех, а вернее —
предшествует и ему» (I, р. 72 — 73).
«Ум, претерпев в себе самом разделение, стал целиком и во всех
своих частях знающим и знаемым, потому что, будучи
разделенным с самим собой и остановившись в таком разделении, он
посредством знания сохраняет связь с самим собой... Но он и к еди-
13 Damascius. Traité des premiers principes. Texte et. par L. G. Westerink et trad,
par J. Combes. Vol. I. P.: Les Belles Lettres, 1986; Introduction, p. XIV.
'Επιστροφή, или Феномен возвращения
63
ному устремляется посредством знания... Восхотев
соприкоснуться и сочетаться с ним, он свел все свое знание в единую сводку
всех знаний и, произведя одно объединенное знание, изо всех, так
сказать, сил стал устремляться к предмету своего знания, который
поистине неразделен... И хотя он устремился к нему как знающий
устремляется к предмету своего знания, поскольку он удален от
него, однако же соединившись с ним и достигши его, он понял, что
это соединение не знающего с предметом его знания, а бытия с
бытием: оказалось, что восхождение к нему — бытийное, а к себе
самому — скорее в знании» (И, р. 154—155).
«Нелегко человеку — в особенности пока он еще живет здесь, на
земле — проводить такой род умопостижения, однако же мы
стремимся хотя бы каким-то образом, но все-таки созерцать и
тамошнее, сокрытое в тамошней глубине и как бы размытое (во всяком
случае, для нашего взора), попытавшись охватить тамошнюю
природу так, как можем, то есть еще не сведя на уровень единого
умопостижения, который мы выше назвали средоточием всех
постижений... И тем не менее мы любим хотя бы так узревать его и
именовать, с одной стороны — как не само единое мы называем
его множественным, с другой стороны — поскольку оно все же
оказалось единым — применяем к нему имя приобретшего
единство. Но тамошняя природа — едина...» (III, р. 89 — 90). «... и
тогда, убоявшись этой растерзанности наших мыслей, поистине
чудовищной и титанической (причем растерзанности не в сфере
делимого ума, а той, что нечестивым и бесконечно дерзостным
образом проявляется по отношению к целиком и всецело
неделимому), мы довольствуемся восприятием триады; рискуя быть
совлеченными к крайнему разделению и ограничивая себя в таком
падении, мы дерзаем предицировать умопостигаемому тройное
разделение, потому что хотим ограничить наши понятия, не
способные к большей собранности, однако не могущие также и
отказаться от умозрительных построений, касающихся умопостигаемой
сферы, в этом нашем страстном влечении к исходным причинам
природы в целом» (III, р. 91 —92).
При чтении этого сочинения возникает странное и неожиданное
впечатление. Для того, кто совсем незнаком с этой
проблематикой, текст Дамаския кажется парением в безвоздушном
пространстве, может быть, даже своего рода легким надувательством,
виртуозностью в неощутимом и даже несуществующем. Но того, кто
приобщен к сфере этих размышлений, поражает другое: хотя Да-
маский исчерпывает логические возможности анализа предмета,
его ведет не формальная логика и вообще не логическая структура
64
' Επιστροφή, или Феномен возвращения
предмета, потому что он очевидно выше возможностей рассудка.
Дамаский описывает то, что ему не только хорошо известно, но и
то, что уже пережито. Как в «Жизни Исидора» он анализирует
историю школы, так в этих рассуждениях он рассматривает все
пути мысли, жизни и бытия, уже реально пройденные. Странное
ощущение при чтении его текстов создается именно этим:
средствами обычного человеческого языка, с помощью привычного
письма, Дамаский каким-то образом передает то, что превосходит
знание, а составляет самую сердцевину жизни целой культуры, ее
сущность. Он называет все, что можно назвать, но разумеет то,
что не поддается именованию. И он показывает нам, что один из
главных элементов античной ментальности не только осознан им,
но и уже прожит ею14.
Благодаря анализу и формулировкам Дамаския мы получаем
возможность гораздо отчетливей понимать специфику обращения-
возвращения к прошлому историческому и к родине
метафизической в европейской культуре. Мы легче понимаем, до какой
степени каждый шаг вперед оказывается действительным только в том
случае, если в нем есть момент остановки и возвращения к тому,
от чего он уводит. То, что вся история духовной жизни Европы
есть история возвращений, — иногда к тому, чего не было, но что
— именно в обращении к нему — обретает жизнь, — заставляет
нас и сегодня — для утверждения в собственном бытии и ради
сохранения жизни, — еще раз вернуться к самим себе и вновь
пройти нехожеными путями нашей собственной мысли.
14 Я надеюсь, что соблазнительная возможность представить три стадии
неоплатонизма как момента триады бытие —жизнь —ум, которым лучше всего
соответствуют фигуры Плотина (бытие), Прокла (жизнь) и Дамаския (ум),
использована мною хотя и определенно, однако не слишком навязчиво и
прямолинейно.
ИСТОРИЯ
и
ИСТОРИЗМ
3-974
«Осевые века» европейской истории *
После того как в современное сознание вошли схемы мировой
истории, отражающие стремление постичь прошлое
объединенного человечества как некое единство, странной может показаться
попытка вновь погрузиться в самое, казалось бы, ведомое и
частное прошлое — европейское. «Интерпретирующее рассмотрение
становится моментом воли. Единство становится целью человека.
Изучение прошлого соотносится с этой целью... Мы ищем
единство... в целостности мира человеческого бытия и созидания.
Стремясь к этому, мы обретаем единство предшествующей истории
посредством выявления того, что касается всех людей,
существенно для всех». Так Карл Ясперс '.
Но замечательным образом сегодня существенной для всех
оказывается как раз эта самая частность, приобретшая столь
всеобщее значение: европейская история, культура, ментальность. С
болезненной остротой это ощущал другой великий века сего, Хай-
деггер: «...действительность, внутри которой движется и пытается
оставаться сегодняшний человек, все больше определяется тем, что
называется западноевропейской наукой... в западной части мира
на протяжении веков ее истории наука развернула нигде более не
встречающееся могущество и идет к тому, чтобы в конце концов
наложить свою власть на весь земной шар...» 2. История Европы
безусловно не сводится к истории европейской науки, которая
именно в качестве европейской стала планетарной; но нельзя
закрывать глаза и на то, что планетарным стало европейское
образование и что именно оно обеспечило вселенское торжество
европейской науки. Более того. Не без некоторого колебания поначалу, но
по зрелом размышлении неизбежно, мы должны констатировать:
* С небольшими изменениями воспроизведен текст, опубликованный в журнале
«Вопросы философии» (1995, М° 6, с. 75 — 86).
1 Ясперс К. Истоки истории и ее цель. Перевод М. И. Левиной / Смысл и
назначение истории, М., 1994, с. 269.
2 Хайдеггер М. Наука и осмысление. Перевод В. В. Бибихина. 72 / М. Хай-
деггер. Время и бытие. М., 1993, с. 239.
«Осевые века* европейской истории
67
планетарное значение сегодня вообще может приобрести только то,
что приобщено ко всеобщему коммуникативному пространству —
европейскому в своих истоках. И в разных формах
проявляющаяся безусловно всеобщая и едва ли обратимая — планетарная —
тенденция приобщиться к тому, что называется цивилизацией, также
оказывается в конечном счете приобщением к европейскому
образу жизни и мысли.
Можно относиться к этому по-разному. Можно предаваться
ламентациям или негодовать по поводу агрессивной природы
европейского духа. Можно вместе с тем же Хайдеггером — и это будет
вернее — усматривать истоки спасения от техники, например, — в
той же технике. Но в любом случае вопрос о правильном
отношении к европейскому не снимается, а остается болезненным и
острым именно потому, что европейское стало планетарным.
Не выпустим из виду еще и того, что тот же Ясперс с его волей
к единству мировой истории отразил одну из весьма
существенных черт европейского менталитета, а его подчеркнутый историзм —
также новоевропейское достижение (в действительности весьма
редуцированное у Ясперса). Стремление к глобальному единству
взгляда на мир обусловлено всепоглощающей открытостью
европейского разума и его готовностью вместить всю полноту данного
человеку в опыте. Европейцы первыми научились вмещать все иные
культуры, попадающие в поле нашего зрения, и, заметим, в этом
остались единственными. Браниться европоцентризмом
придумали также европейцы, специальное внимание к экзотическим
культурам культивировалось европейцами, идеалы равноправия
культур и народов — европейские идеалы.
Поэтому сегодня мне представляется вполне уместным
намерение еще раз рассмотреть века европейской истории и
присмотреться к европейскому разуму прежде, чем более эрудированные и
смелые умы продолжат решение глобальной задачи изучения духа
человечества в целом. В свое время — время младенчества
европейского историзма — именно эту задачу ставил перед собой
Вильгельм фон Гумбольдт, который полагал необходимым для ее
решения ответить на три вопроса: «В чем состоит этот дух? Как он
распознается? и Как он формируется?» 3 Касаясь только по ходу
дела первого вопроса, я хочу предложить один из возможных
ответов на второй и более специально заняться третьим примени-
3 Гумбольдт В. фон. О духе, присущем человеческому роду. Перевод С. А.
Старостина. / Язык и философия культуры. М., 1985, с. 343.
3*
68
История и историзм
тельно исключительно и только к европейскому разуму 4,
поскольку, как заметил русский мыслитель, «ум человеческий, даже
самый обширный, крайне ограничен и не может надеяться на
безусловное постижение общечеловеческой истины» 5.
Итак, из пяти тысяч лет, лежащих «между доисторией и
неизмеримостью будущего» 6, в поле нашего рассмотрения оказываются
около тридцати веков европейской истории, безусловно
начинающейся с Гомера и с эпохи, непосредственно ему предшествующей.
Установление именно здесь временной границы европейского
разума определяется как раз теми средствами его распознания, к
которым ниже я считаю разумным обратиться.
Наше знание прошлого неизбежно ограничено тем
обстоятельством, что мы можем составлять о нем какое-то представление только
в том случае, если это прошлое так или иначе засвидетельствовано.
Из этих свидетельств одни — памятники материальной
культуры — оказываются в поле нашего зрения непосредственно, и дело
идет об их большей или меньшей фактической сохранности. Другие
же — и именно они как памятники духовной культуры
преимущественно нас интересуют — являются памятниками письменности,
которые лишь в исключительных обстоятельствах даны нам
непосредственно, то есть в виде текстов, сохранившихся со времени их
создания; почти всегда они доходят до нас посредством
длительной традиции, начинающейся с их записи, последующего перепи-
4 Современная философия истории (а речь, понятно, идет именно об этом) не
должна забывать того, что было ясно сформулировано в десятые-двадцатые годы
Эрнстом Трёльчем: монументальный первый (и оставшийся единственным) том
его книги Der Historismus und seine Probleme (Gesamm. Schriften. Tübingen,
1922, Bd. III) оказался практически невостребованным в части принципиальной
и концептуальной, хотя ради прекрасных изложений предшествующих
философских систем его охотно используют как справочник по истории идей. Напомню
несколько тезисов Трёльча, касающихся идеи всемирной истории. «Die Menschheit
als Ganzes hat keine geistige Einheit und dadurch auch keine einheitliche Entwicklung.
Alles, was man als solche vorführt, sind Romane, die von einem gar nicht existierenden
Subjekt metaphysische Märchen erzählen» (S. 706). «Es gibt für uns nur eine
Weltgeschichte des Europäertums. Der alte Gedanke der Weltgeschichte muß neue und bescheidenere
Forme annehmen» (S.708). «Nur Europäer... aus einer bewußt festgehaltenen Vergangenheit
eine bewußt geleitete Zukunft zu gewinnen strebt» (S. 710). «...sowie es gilt,
geschichtephilosophische Folgerungen zu ziehen, entsteht sofort die Wahl zwischen einem skeptischen
Quietismus oder einer Fortbildung des Europäismus im Hinblick auf die planetarische
Weltsituation» (S. 712).
5 А. С. Хомяков. Разговор в Подмосковной (цит. по кн.: Хомяков А. С.
Старое о новом / Статьи и очерки. М., 1988, с. 266).
6 Ясперс К. Там же, с. 28.
«Осевые века» европейской истории
69
сывания (и таким образом хранения), изучения, издания, перевода,
толкования. Наиболее драгоценные свидетельства
преимущественной деятельности европейского разума всегда связаны с его
обращением к письменной фиксации результатов этой деятельности. Этот
вообще говоря очевидный и безусловно известный факт и
позволяет нам чисто эмпирически7 определить временную границу нашего
рассмотрения европейского разума: ею оказывается время
непосредственно следующее за изобретением греками алфавита8 в эпоху,
предшествующую Гомеру, когда с использованием этого нового
изобретения, которому было суждено столь великое будущее, был
создан текст гомеровских поэм9.
7 Требование эмпирического обнаружения основополагающих фактов,
помещаемых в основе любой исторической, в частности, историко-философской
концепции, а тем более при попытках построить философию истории, должно быть
признано безусловным. В этом требовании единственная сильная сторона подхода
Ясперса: «Ось мировой истории, если она вообще существует, может быть
обнаружена только эмпирически, как факт, значимый для всех людей...» (там же,
с. 32), то есть факт, допускающий проверку, позволяющий каждому, независимо
от его философских, методологических и пр. установок, признать его и сделать
предметом самостоятельного анализа. Именно поэтому имеет смысл считать факт
изобретения и мгновенной утилизации алфавита основополагающим для духовной
истории Европы, сопоставимым с фактом овладения железом, основополагающим
для сферы материального производства.
8 В связи с этим подчеркну, что греки именно создают, изобретают алфавит,
заимствуя значки финикийского квазиалфавитного письма, то есть открывают новый
принцип фонематического, или буквенного, письма, используемого затем
римлянами и другими европейскими народами. Ср.: Блумфилд Л. Язык. М., 1968, с.
320; Gelb I. J. A study of writing. L., 1952, p. 184. Ср. также замечание John F.
Healey, сделанное им со ссылкой на точку зрения 1. J. Gelb: «...the true alphabet
in our modern sense came into existence when the Greeks, who seem to have got their
idea of the alphabet and the main letter-forms from the Phoenicians, began to use
certain signs, ones of which they did not need for consonants in Greek, to represent
the vowels» (The Early Alphabet / Ancient Writing from Cuneiform to the Alphabet.
L.: British Museum Press, 1990, p. 203).
9 Я всецело и безусловно разделяю точку зрения, согласно которой гомеровские
поэмы не просто были сразу записаны, но вообще могли быть созданы во всей
своей композиционной сложности и сюжетной развитости только благодаря
возможности их сразу письменно фиксировать. Вот как описывает создание
гомеровских поэм А. И. Зайцев: «...около 800 г. до н.э., греки заимствуют у
финикийцев и приспосабливают к греческому языку финикийский алфавит. В
течение VIII века до н.э. он распространяется, как об этом свидетельствуют надписи,
по всему греческому миру... И вот в то самое время, когда начавшийся подъем все
ускорялся в восходящем темпе, где-то в ионийских колониях - на островах или в
Малой Азии - традиционное искусство аэда усвоил юноша, наделенный от
природы поэтическим гением, какой не появлялся до того и появился с тех пор всего
несколько раз на протяжении всей истории человечества. Имя его — Гомер...
70
История и историзм
Гений Гомера сказался именно в этом: в умении блистательно
применить новое письмо и создать поэмы, в которых сохранялось
то, что грозило совсем уйти из памяти потерявшей письменность
культуры. До какой степени остро чувствовали эту угрозу сами
греки, можно судить по Платону. В Тимее египетский жрец
рассказывает Солону о записях, которые хранятся в тамошних храмах, и
замечает: «...между тем у вас и прочих народов всякий раз, как
только успеет выработаться письменность и все прочее, что
необходимо для городской жизни, вновь и вновь в урочное время с небес
свергаются потоки, словно мор, оставляя из всех вас лишь
неграмотных и неученых. И вы снова начинаете все сначала, словно
только что родились, ничего не зная о том, что совершалось в
древние времена в нашей стране и у вас самих... ибо выжившие на
протяжении многих поколений умирали, не оставляя по себе никаких
записей и потому как бы немотствуя» (23 а —с, перевод С. С. Аве-
ринцева).
Гомеровские поэмы и для своего времени, и для всех
последующих эпох представляют собой явление исключительное: так
исключительно всякое начало10. Но одна черта гомеровских поэм
оказалась безусловно конституирующей для всего последующего
развития европейского разума. Если мы всерьез задумаемся над
тем, что предпринял Гомер, то ответ на этот вопрос будет
ошеломляющим и почти невероятным. Гомер впервые осознает
необходимость прошлого для сознательной ориентации в настоящем
и — поскольку реальных оснований для воссоздания
реального прошлого во времена, непосредственно следующие за
темными веками, было очень немного, он создает это прошлое и его
героев с почти невероятной очевидностью и осязаемостью.
Создание собственного прошлого именно как прошлого и помещение в
этом созданном прошлом своих корней и истоков было открытием
того специфически европейского взгляда на мир, который
определяет самотождественность Европы по сей день.
На всю последующую греческую литературу и культуру
создание гомеровских поэм имело решающее влияние: большинство ав-
«Илиада» и «Одиссея»... были записаны самим поэтом или под его диктовку при
помощи совсем недавно созданного греческого алфавита» {Древнегреческий
героический эпос и *Илиада* Гомера / Гомер. Илиада. Л.: Наука, 1990, с.
399 — 400). Ср. главу Гомер и письменность в кн.: Гордезиани Р. В. Проблемы
гомеровского эпоса. Тбилиси, 1978, с. 257 — 269.
10 Заметим кстати, что сама идея Европы была в своем полемическом существе
сформирована Гомером; ср. Hartog Fr. Fondements grecs de l'idée d'Europe /
Quaderni di storia 43, gennaio/giugno 1966, p. 5—17.
*Осевые века» европейской истории
71
торов дошедших до нас литературных текстов седьмого-шестого
веков так или иначе ориентированы на Гомера. Став точкой отсчета,
Гомер оказался одним из первых и преимущественных объектов
рефлексии для всех тех, кто вообще был склонен к рефлексии.
Как предмет подражания или отталкивания Гомер оказывается
необходимым фоном всякого словесного творчества и тем самым
постоянным фоном всей сознательной греческой духовной жизни.
Ситуация кардинально меняется только к шестому веку,
оказавшемуся для греческой и всей последующей европейской культуры
первым из «осевых веков».
Я решаюсь с оглядкой на Ясперса предложить это понятие,
поскольку для европейской культуры мы можем на основе общих и
очевидных критериев выделить три эпохи сквозных перемен в
разных областях материальной и духовной жизни — перемен
одновременных, но при этом непосредственно не связанных между собой
причинно-следственными отношениями. Из последующего
изложения станет очевидным, что четвертый осевой — поворотный — век
европейской истории начался во второй половине нашего века и
уже успел себя проявить с достаточной определенностью, чтобы
быть опознанным в качестве замыкающего череду
предшествующих. Выделив эмпирическим путем эти три осевых
периода, следующих за изобретением алфавита, я намерен их
характеризовать только в той мере, в какой это необходимо для раскрытия
основной цели данного пересмотра хорошо ведомых веков
европейской истории: ею является, как было сказано, образование
европейского разума.
Если при предлагаемом подходе к духовной истории Европы ее
началом оказалось изобретение греками алфавита, опознание в нем
нового инструмента творческой мысли и использование его как
удобного средства фиксации ее результатов ", а одним из первых
результатов такого осознания и использования оказалось создание
" В настоящее время можно сколько угодно говорить о том, что абсолютное
превосходство алфавита над другими видами письменности, признаваемое в
качестве идеала европоцентристской традицией, представляется une notion qui а
fait son temps (Pour une théorie de la langue écrite. Ed. N. Catach. P., 1988,
p. 100): для европейской культуры алфавит сыграл свою тридцативековую роль,
и сегодня нельзя сказать, что в рамках этой культуры ему уже есть серьезная
угроза или реальная замена. Но нельзя не согласиться с автором вступительной
статьи к названному сборнику докладов, что открытие письменности весьма сходно
с открытием информатики сегодня (там же, с. 9), хотя, конечно, вернее
говорить не о сходстве, а об единой тенденции развить и универсализировать средства
хранения, передачи и распределения информации.
72
История и историзм
гомеровских поэм, — то едва ли удивительно, что первый осевой
век в истории европейского разума оказывается связан с весьма
существенными изменениями в способах фиксации и передачи
результатов интеллектуальной деятельности и, в частности,
осознания и осмысления любой информации. Одним словом этот
революционный переворот можно охарактеризовать так: появляется
проза. Осмысление этого феномена заставляет обратить
специальное внимание на следующие факты и обстоятельства, при другом
подходе кажущиеся маргинальными и несущественными.
Конец седьмого — шестой век — время появления у греков
записанных законов. Законы были первыми представительными
прозаическими текстами, сопоставимыми со множеством
стихотворных текстов, которые до сих пор были у греков преимущественной
сферой применения письменности. До какой степени непростым
было овладение прозой, можно судить на примере прекрасного
стихотворца, законодателя Солона, который, по сообщению
Плутарха, поначалу и законы хотел изложить в стихах ,2; однако текст
его законов был прозаическим, и Аристотель относительно этого
текста замечает: «...так как законы не были написаны просто и
ясно... то неизбежно возникало много споров... Некоторые
думают, что Солон нарочно сделал законы неясными, чтобы решение
дел зависело от народа. Однако это предположение
неправдоподобно, а скорее этот факт объясняется тем, что он не умел в общей
форме выразить наилучшее» 13. Однако несмотря на очевидные
трудности, с которыми сталкивались первые составители
прозаических текстов, конец VII —VI век оказываются временем
активного законотворчества.
Дальнейшее развитие прозы связано с распространением в
Элладе папируса — самого удобного в то время писчего материала.
Папирус начинает регулярно поступать к грекам после основания
ими (согласно Страбону, — милетцами) в конце VII века Навкра-
тиса — поселения в Канопском устье Нила, ставшего центром
торговых отношений между Египтом и греками. Сочетание удобного
алфавита с использованием доступного папируса привело к
быстрому развитию и решительному преобладанию прозы в областях,
12 Плутарх, Солон, 3: «Некоторые говорят, что Солон и законы пробовал
изложить стихами и приводят такое начало его поэмы: Будемте прежде молиться
владыке Крониону Зевсу: / Этим законам судьбу да пошлет он и славу
благую*. Привожу по книге: Аристотель. Афинская политая.
Государственное устройство афинян. 2-е изд. Перевод и примечания проф. С. И. Радцига.
М., 1937, с. 173.
13 Афинская полития, 9, 2 / Там же, с. 18 (курсив мой).
«Осевые века* европейской истории
73
где греки до тех пор либо вообще обходились без записей, либо
пользовались стихами. В частности, расцветают генеалогии, героо-
логии и прочие сводки как мифологического материала, так и
реальных исторических фактов. До сих пор это было прерогативой
опять-таки стихотворных жанров: тот же Гесиод написал Теогонию,
ему приписывается Эойя — перечень знаменитых женщин. В стихах
повествовалось об основании городов, исключительных событиях и
составлялись биографии. Проза перехватывает инициативу поэзии и
вводит единственный новый принцип: историзацию героической эпохи
за счет рациональной хронологии ,4. Но поскольку мы не знаем
хроник архаического периода, эти хронологические конструкции не
выдерживали проверки и едва ли всерьез предполагали ее. Гораздо
важнее было осознание самого принципа рационального
летосчисления и стремление провести его при изложении мифологического
прошлого как исторического.
Параллельно с комплексом знаний по истории естественным
образом развивается география (в сочетании с этнографией),
метеорология и астрономия. И если раньше сведения по астрономии и
метеорологии, полезные для мореплавателей, были включены в
общий свод полезных рекомендаций в гексаметрах Труды и дни,
сочиненный Гесиодом, или излагались в стихотворной Астрономии для
мореходов, составление которой приписывалось Фалесу, а
энциклопедией сведений по географии служил Гомер, которого Страбон (I
1,11) помещает у истоков этой науки, то теперь этим занимаются
специально, причем результаты исследований фиксируются в прозе.
Так, Анаксимандр Милетский «первым открыл равноденствие,
солнцевороты, [изобрел] часы и [установил], что Земля находится в
самом центре [космоса]» (12 А 2, перевод А. В. Лебедева), «первым
соорудил гномоны для распознавания солнцеворотов, времени,
времен года и равноденствия» (12 А 4), первый занялся географией,
начертил географическую карту (12 А 6) и сконструировал
небесный глобус (12 А 1); при этом он же «первым из известных нам
эллинов осмелился написать и обнародовать речь о природе» (12
А 7). Оставим на совести Аристотеля и древних доксографов это
название сочинения Анаксимандра о природе, но зафиксируем
несомненный факт: Анаксимандр написал прозаическое сочинение, в
котором «сделал суммарное изложение своих воззрений» (Диоген Л.,
112).
Как и писание прозой первых законов, писание первого прозаи-
14 Lasserre F. L'historiographie grecque à l'époque archaïque // Quaderni di
storia, 4, 1976, 117-119.
74
История и историзм
ческого научного сочинения — дело трудное и абсолютно
непривычное: Анаксимандр явно использовал в своем сочинении
поэтические образы и глубокомысленные метафоры. Но уже его
согражданин Анаксимен составил прозаическое сочинение написанное,
согласно Диогену Лаэртскому (II 3), «слогом простым и
безыскусственным». О стиле Гекатея Милетского мы можем судить сами по
дошедшим фрагментам15.
Даже о Геродоте многие ученые спорят: был ли он историком в
нашем понимании, или же первоначально он был скорее географом
и этнографом. Однако нужно сказать, что четкое разделение на
отдельные научные дисциплины было менее всего свойственно
ионийской ίστορίη. Развитие дисциплинарной структуры науки —
дело будущего. Общим пафосом этого первого
рационалистического взгляда на мир было стремление исчерпать его мысленно в его
временном и пространственном протяжении. Важно было дойти до
предела в пространстве и во времени, то есть дойти до края мира и
мысленно вернуться к его началу. Подобного рода рациональное
конструирование мира означало рождение европейской науки,
которое сопровождается рождением философии в школе пифагорейцев.
Правильно понять феномен возникновения европейской
философии мы сможем только в том случае, если свяжем его с этим
процессом развития прозы и связанного с ним возникновения науки.
Само имя философия вопринимается уже в IV веке в оппозиции к
«мудрости», то есть как реакция на деятельность
мудрецов-законодателей, авторов первых писаных законов; а основная
направленность и основное содержание деятельности первых философов, — а
так традиция называет Пифагора и пифагорейцев, — состоит в том,
чтобы поместить энергичную деятельность рациональной по своим
установкам науки в общий контекст традиционных ценностей и
авторитетов. Научная проза замещает и вытесняет круг
традиционных авторитетных поэтических текстов, а общее критическое
отношение к традиции, культивируемое ионийской наукой, ставит под
угрозу культурное единство послегомеровской Греции. В качестве
реакции на это пифагорейцы начинают искусственно развивать
эпическое творчество, причем во множестве создают гексаметрические
15 С некоторыми оговорками, о которых непосредственно ниже, мы можем
сказать вместе с G. L. Huxley (The Early Ionians. L., 1966, p. 135): «...critical
history, like critical philosophy, begins with the writing of prose by the Milesian
thinkers... What Anaximander did for the origins of natural science, Hecataeus,
another Milesian nobleman, did for the writing of history».
^Осевые века* европейской истории
75
поэмы, приписываемые «более древним», чем Гомер, авторам:
Орфею, Мусею, Лину. Божественная мудрость прочно связывается со
стихотворной формой, а человеческая (прозаическая) речь может
служить разве что комментарием к этим священным речам (ιερόν
λόγοι). Европейская философия возникает как любовь к
божественной мудрости, выраженной в священном тексте боговдохновенными
мудрецами древности, а вся рациональная наука служит для
толкования авторитетного текста. Насколько стабильной была эта
ориентация новорожденной европейской философии, можно судить по
тому, что вплоть до эпохи Возрождения именно она была основной.
В ходе консервации авторитетных текстов и их толкования
возникает не только философия, но ряд наук, которые мы теперь
называем гуманитарными: грамматика и стилистика. Их изобретателем
можно считать близкого к пифагорейцам Феагена из Регия, открывшего
аллегорический метод толкования Гомера |6. Помимо этого
Пифагор, согласно Порфирию (14 А 8 а—Ь), умело различал виды речей
и тем самым заложил основы красноречия. В пифагорейской школе
мы впервые сталкиваемся с самостоятельной (неприкладной)
разработкой математических наук, арифметики и геометрии.
Одним словом, именно это одновременное возникновение
основных научных дисциплин и философии, протекающее на фоне
изменения социальной жизни, и позволяет нам считать шестой век до
Р.Х. первым осевым веком европейской истории.
Несмотря на очевидность всех перечисленных выше процессов и
их несомненную связь с развитием письменности, приходится
сделать еще дополнительное замечание относительно этого первого
периода, поскольку именно здесь мы сталкиваемся с целым рядом
предрассудков, связанных с пониманием специфики греческой
культуры, которые укоренились и представляются едва ли не
основополагающими фактами. Один из них — устный характер греческой
культуры. Знаменитые рассуждения Платона в Федре о
превосходстве живой беседы, отражающие один из этапов межшкольной
полемики IV века между сторонниками записанных речей и
сторонниками импровизации, эта литературная игра одного из самых
плодовитых прозаиков Европы, воспринимается буквально. Дело
доходит до того, что за греками вообще не признается способность
читать «про себя», «глазами». Нет необходимости вступать по этому
16 «It is at any rate clear that what... Theagenes wrote was in prose», — замечает
К. Pfeiffer (.History of classical Scholarship. Oxford, 1968, p. 12).
76
История и историзм
поводу в полемику ,7, поскольку как серьезная научная концепция
данная точка зрения проведена быть не может, — она может
существовать лишь как один из вариантов «физиогномического
подхода» к непонятному историческому процессу.
Другой предрассудок — происхождение философии из мифа,
постепенное преодоление «мифологического мышления», путь «от
мифа к логосу». Наивность и спекулятивный характер этой
эволюционистской и квазиисторической точки зрения очевидны 18.
Третий — начало философии у Фалеса. Только почтенная
древность такого изложения начала философии (во всяком случае уже
у Аристотеля) объясняет его распространенность по сей день,
несмотря на то, что четкое различение «эпохи мудрецов», ионийской
науки и последующей философской и софистической традиции
проводится современной историко-филологической наукой
достаточно отчетливо. Но в особенности позитивисты должны были
придавать такому подходу принципиальное значение, поскольку он
производил философию от «естественно-научного исследования».
Предлагаемое в данной работе понимание специфики европейской
философии и науки 19 естественным образом вытекает из
постепенного отрезвления европейского разума от иллюзий
рационалистского подхода и от возникших ему в противовес различных вариантов
неоромантического взгляда на вещи.
Одновременное возникновение и развитие прозы, европейской
науки и философии мы можем рассматривать либо в
непосредственной связи с распространением папируса, либо в более опосредован-
17 См.: Гаврилов А. К. Чтение про себя в древности (обзор античных
свидетельств) // Hyperboreus. Vol. 1 (1994/1995). Fase. 2, p. 17 — 33.
18 См. критику этого понятия в докладе А. И. Зайцева <Миф: религия и
поэтический вымысел», напечатанном в сборнике Жизнь мифа в античности.
Часть I. Доклады и сообщения. М., 1988, с. 278 — 286; ср. там же на с. 287 — 305
доклад Л. Я. Жмудя О понятии ^мифологическое мышление*.
19 Это понимание отчетливо присутствовало еще у Фрэнсиса Бэкона и было
решительно утрачено в результате побед новоевропейской науки: <...в начале нашего
труда мы возносим к Богу-Отцу, Богу-Слову и Богу-Духу смиреннейшие и
пламеннейшие моления о том, что не в нашей власти, — чтобы они удостоили
подать семье людей через наши руки новый дар своего милосердия. И еще мы
коленопреклоненно молим о том, чтобы человеческое не оказалось во вред
божественному... чтобы чистый разум, освобожденный от ложных образов и
суетности и все же послушный и вполне преданный Божественному Откровению,
воздал вере то, что вере принадлежит. Наконец, чтобы, отбросив тот влитый в
науку змием яд, от коего возносится и преисполняется надменностью дух
человеческий, мы не мудрствовали лукаво и не шли далее трезвой меры, но в кротости
чтили истину» (из Предисловия к Великому восстановлению наук, цит. по изд.:
Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1971, т. 1, с. 70, перевод Я. М. Боровского).
«Осевые века» европейской истории
77
ной. Но тот факт, что все рассматриваемые феномены безусловно
связаны с новой формой фиксации, хранения и передачи
информации, делает данную констатацию исторически более осязаемой. В
особенности это оказывается важным после того, как мы уже
приняли, что первое явственное обнаружение европейского
менталитета связано с изобретением алфавита. Наличие и сочетание этих
двух моментов — удобный алфавит и удобная форма фиксации и
хранения письменных текстов — позволяет интенсивно
эксплуатировать возможности, открываемые таким типом письменной
культуры. До какой степени полно используют эти возможности греки, а
вслед за ними и по их примеру римляне, — мы можем в полноте
оценить, рассматривая историю античной литературы, философии и
науки в течение примерно шести веков.
В той мере, в какой предлагаемый подход к периодизации
европейской истории уже осознан и принят, совершенно очевидным
оказывается другой осевой век европейской истории: им является
рубеж новой и старой эры, потому что именно в это время
происходит открытие и постепенное освоение кодекса, в конце концов
сменившего свиток 20. О чрезвычайной важности именно этой
метаморфозы свидетельствует уже тот факт, что мы до сих пор
пользуемся ее плодами, поскольку привычная для нас книга с
нумерованными страницами, полями, рисунками, вступлением, заключением,
сносками, указателями и всеми прочими необходимыми приметами
приличного издания обязана этому прекрасному и простому
техническому открытию и восходит к этой изначальной практике
разделять рулон на страницы и складывать большие листы в тетради,
хотя открывались эти возможности и вводились в повсеместный
обиход очень постепенно.
20 Roberts С. H., Skeat Т. С. The Birth of Codex. L., 1987. Практически
полная замена свитка на кодекс произошла в Европе к IV веку (ср.: Reynolds
L. D., Wilson N. G. D'Homère à Erasme. La Iransmission des classiques grecs et latins.
Nouv. éd. revue et augm. Trad, par G.Bertrand, et mise à jour par P. Petitmangin. P., 1984,
p. 23), тогда как в Китае, например, где форма свитка была строго
регламентирована (вплоть до числа колонок и количества букв), постепенный переход к
кодексу только начинается в IX веке, а его использование поначалу ограничивается
сферой административных документов и справочников (Drège J.-P. Du rouleau
manuscrit au livre imprimé en Chine / Le texte et son inscription. Textes réunis par
R. Laufer. P., 1989, p. 43—48). Интересно, что такого же рода административные
документы в виде книги со страницами были уже в 1 веке до н. э. в Риме.
Светоний сообщает о Цезаре: «Как кажется, он первый стал придавать им вид
памятной книжки со страницами, тогда как раньше консулы и военачальники
писали их прямо на листах сверху донизу» (Божественный Юлий, 5).
78
История и историзм
При этом важно отметить, что — как и в случае с алфавитом,
который мгновенно использовал Гомер, — с самого начала это
изобретение как принципиально новый способ хранения и представления
информации было тут же использовано представителями тех
духовных движений, которые в значительной степени сформировали
новый облик Европы: я имею в виду прежде всего неоплатоников и
христиан2|. В частности, само появление главной Книги
христианской Европы связано с использованием именно формы кодекса. У
неоплатоников, как замечает М. Тардье, в качестве такой Книги
Порфирий издал Эннеады Плотина.
Попытаемся осознать, почему так важно, что этот период —
рубеж двух эр, отмеченный целым рядом самых разнообразных
изменений во всех сферах человеческой и космической жизни, —
оказался также временем очередной метаморфозы средств
хранения и передачи информации.
Как раз этот второй осевой век европейской истории до такой
степени очевиден в качестве ее переломного века, что мы перед
лицом и в силу этой очевидности теряем критерий последовательного
рассмотрения и периодизации и как бы даже и не нуждаемся в нем.
Однако это не так. Именно в те эпохи, когда очевидно меняется все,
историк должен быть особенно внимателен к тому, насколько
действен избранный им критерий констатации изменений и насколько
последовательно и единообразно он может его применять.
Мы видим, что специальное внимание к средствам хранения и
передачи информации и к их изменению абсолютно
самостоятельно и независимо от других критериев помечает это время
всеобщих перемен и позволяет понять действие весьма специфических
механизмов развития европейского разума без их редуцирования
к каким бы то ни было иным процессам.
Мы обнаруживаем, что появление важнейших текстов,
определяющих духовную жизнь Европы, составляет важнейшую и суще-
21 Согласно М. Тардье, и те, и другие, а также гностики и манихеи, утверждая
собственное мировоззрение, выступали против корпуса священных книг евреев:
«Le dénominateur commun à l'antibiblisme de ces groupes est au tournant de l'histoire
du livre en Occident. En effet, néoplatoniciens, gnostiques, manichéens et chrétiens
matérialisent la nouveauté de leurs Ecritures propres par l'adoption du livre à pages,
c'est-à-dire le codex comme forme du livre de révélations, par opposition aux Ecritures
juives qui étaient sur rouleaux (volumina)». (Tardieu M. L'antibiblisme comme
problème doctrinal et critique historique dans l'Antiquité tardive // La conférence
internationale Le type médiéval de la rationalité et ses prémisses antiques. Moscou.
11.12. - 14.12.1990. Moscou: Museum Graeco-Latinum, 1993, p. 30.
«Осевые века* европейской истории
79
ственнейшую, ни на что другое не сводимую и самостоятельную
часть ее истории, часть, которая некоим прекрасным и до известной
степени таинственным способом оказывается сердцевиной всех
происходящих в культуре изменений.
Так, в это же самое время, о котором идет речь, заново
открывают и издают самые представительные корпусы текстов
предшествующего периода — сочинения Платона и Аристотеля, ставшие
основой развития всей последующей европейской (ив
значительной степени арабо-мусульманской) культуры. В это же время
появляются — осознаются как таковые — римские классики, потому
что Вергилия и Горация начинают изучать в школах. В это же
время меняется сама школа, о чем речь должна вестись
специально. Константы европейской духовности отбираются и
консолидируются в переломные эпохи, отмеченные решительными
изменениями в средствах хранения и передачи информации.
Следующая эпоха глобальных изменений во всех сферах
европейской культуры также совершенно отчетливо опознается с
помощью выдвинутого нами критерия: во второй половине
пятнадцатого века открыто и распространяется книгопечатание. Отметим, что
третья революция среди последствий имела примерно те же
явления, с какими мы сталкиваемся после первых двух. Поскольку
данный период ближе и очевиднее, скажем о них в связи с ним.
Новый способ хранения информации предполагает активный
отбор самого ценного в прошлом, того, что нужно передать будущему
в первую очередь. Отсюда — коллекционирование, развитие
библиотек, развитие филологии и филологической критики.
Специальное внимание в первую очередь уделяется древним, наиболее
авторитетным текстам: их изданию, переводу, комментированию.
Возникают сообщества, в которых независимые интеллектуалы
культивируют свою премудрость и — главное — свою независимость
(обычно под чьим-либо могущественным и благожелательным крылом
или — в рамках соответствующего института). Необыкновенно
расширяется кругозор эпохи, и все это естественным и поспешным
образом вмещается в рамки печатной книги, которая поначалу
рабски почтительно копирует рукописную книгу, а затем очень быстро
и автономно эволюционирует.
Ряд современных исследователей показывают: именно после
появления книгопечатания, то есть возможности изготовлять тиражи
книг, коренным образом меняется менталитет европейца, впервые
ставшего не в отдельных культурных прослойках, а как
преобладающий вид «человеком читающим и пишущим». Все
предшествующие открытия — алфавит, проза, книга, печатный станок — вместе
80
История и историзм
формируют его новый облик22. О расширении географического и
исторического кругозора, а также о развитии образовательных
институтов необходимо говорить специально, сейчас же заметим
только, что в конце пятнадцатого века в итальянских университетах
появляется жаргонное словечко humanista, обозначавшее
преподавателей древних языков, истории и моральной философии, что
свидетельствует об утверждении гуманистической ориентации в
университетах, а такие фигуры, как Меланхтон и Рамус
свидетельствуют о том, до какой степени решительно и сознательно
реформировалась высшая школа. В то же время происходят те знаменитые
метаморфозы в естественных и точных науках, которые позволяют
прямо говорить о рождении новоевропейской науки.
В связи с абсолютно очевидным выделением данного периода на
основе избранного критерия напомню о том, какие трудности
вообще вызывает периодизация европейской истории, в частности
духовной истории и культуры. Считать ли XIV —XV века
первыми веками Возрождения или «осенью Средневековья»? — Вообще
говоря, возможно и то, и другое: все зависит от того, какой аспект
рассмотрения выбрать и что подчеркивать в рассматриваемой
эпохе. Но как быть с другими европейскими странами, со
славянскими и, в частности, с Россией, для которой само понятие
Возрождения является проблематичным или — вернее говоря —
нерелевантным? Вычеркнуть Россию из общего хода духовного развития
Европы? В очередной раз говорить об ее особенном пути развития, об
отдельной судьбе Запада etc.? — Понятно, что все эти вопросы
требуют специального рассмотрения, но тем не менее даже беглый
взгляд на нашу общую европейскую историю с предлагаемой точки
зрения отмечает, что принципиальных поводов для обособления
России и изъятия ее из общих процессов развития европейского
разума нет.
Усвоив от византийцев греческий алфавит и создав на его основе
свой, Русь сейчас же начинает его интенсивную утилизацию,
создает переводы богослужебных текстов, а также разрабатывает все
основные литературные жанры средневековой Европы. На Руси
создаются великолепные памятники рукописной книги, что
немыслимо без наличия соответствующей — пользуясь современным
жаргоном — инфраструктуры.
Первые славянские (напечатанные кириллицей) книги
появляются в Кракове в 1491 году, причем текст их отражает особенности
22 Chartier R. Les pratiques de l'écrit / Histoire de la vie privée sous la direction
de Ph. Ariès et de G. Duby, 1986, p. 113—161.
<Осевые века* европейской истории
81
русской редакции церковно-славянских книг м. В первой половине
XVI века славянские типографии есть в Европе повсюду, тиражи
славянских книг изготавливаются с расчетом на их сбыт в России,
а со второй его половины Русь заводит печатное дело у себя.
Войдя благодаря Византии в общее русло развития европейского
разума, Россия никогда с тех пор не покидала его и, сохраняя свою
самостоятельность и самотождественность, естественным образом
участвовала во всех его метаморфозах. Появление широкого слоя
читающей публики в России идет параллельно с тем же процессом в
Европе. Поэтому ясно, что просто опустить названные явления в
истории русской культуры или не придать им того значения, какое
они поистине ич меют во всякой европейской культуре, — никак
нельзя. Но ясно также, что этот вопрос должен быть рассмотрен
отдельно как с точки зрения специального внимания к русской
культуре и духовности, так и с точки зрения правильного понимания
общего хода европейской истории.
Поэтому сейчас, не забывая поставленной выше весьма
ограниченной и конкретной задачи настоящего изложения, мы
естественным образом обращаемся к современной эпохе, поскольку именно
теперь и на наших глазах сделано изобретение и происходит
повсеместное распространение персональных компьютеров, так что
мы на собственном опыте можем оценить решительность и
кардинальность перемен, связанных с новым способом фиксации,
хранения, передачи и распределения информации.
^Информация, коммуникация, пронизанные всеобщей
взаимопереплетенностью, повелевают рефлексией сегодня» 24.
Относительно эпохи компьютеров — одной из самых животрепещущих
проблем настоящего — сделано и делается множество как общих, так и
более специальных исследований, в силу чего непродуктивным
представляется даже беглый обзор этой проблемы в целом. Что же
касается проводимого здесь подхода, то необходимо заметить
прежде всего, что перед нами очередной (не имеет смысла гадать, —
последний или нет) осевой век европейской истории, спецификой
которого является то, что эта европейская история приобрела
планетарный размах.
Помимо этого сделаю еще одно частное, но чрезвычайно
существенное замечание. Утилитаризм, прагматизм и решительное безду-
23 Яновский Ф. Я. Печатное дело / БЕ, том XXIII \ СПб., 1898, с. 522-
530, особ. 525-526.
24 Russ J. La marche des idées contemporaines. Un panorama de la modernité.
P., 1994, p. 439.
82
История и историзм
шие представляются основной чертой нынешнего времени. Однако
безусловно отрадным и весьма симптоматичным представляется тот
несомненный факт, что здоровые рефлексы самосохранения
безусловно живы и прекрасно работают в современной культуре. Как и
всякая другая эпоха решительных перемен в средствах хранения и
передачи информации, наша также заботится прежде всего о том,
чтобы перенести на новые носители ту информацию, которая
является наиболее драгоценной. Именно поэтому существует и
пополняется Thesaurus Linguae Graecae, который хранит в памяти все
классические тексты на греческом языке от Гомера до византийских
авторов, причем наряду с расширением числа охватываемых
текстов упрощаются способы работы с ними. Компьютеры сначала
замещают и дублируют традиционные формы бытования
информации и уже открывают новые, долженствующие вытеснить то, что
было прежде. Но при этом — как и всякий раз — охранительный
рефлекс культуры заставляет беречь самое драгоценное в наиболее
удобной форме с помощью наиболее перспективных носителей.
Безусловная очевидность всех названных перемен после самого
изобретения первыми европейцами — греками — алфавита
драгоценна для историка, поскольку позволяет ему исходить в своих
построениях из реальных и бесспорных фактов. Можно по разному
интерпретировать, в какой связи с ними находятся другие — не
менее очевидные — метаморфозы европейской культуры,
происходившие в то же время. Шестой век до Р.Х. — время возникновения
европейской науки и философии (ориентированной на личность
основателя школы), которые с распространением кодекса
оказываются безусловно вмещены в ставший доминирующим
комментаторский тип культуры (основанный на признании безусловного
авторитета за определенными группами текстов); распространение
книгопечатания и одновременное возникновение новоевропейской науки,
подчеркнуто освободившейся от авторитетов и авторитетных
текстов и переключившейся на чтение книги природы, не менее
очевидно; до какой степени перспективы дальнейшего развития
европейской философии и науки могут быть соотнесены с распространением
компьютеров, — покажет ближайшее будущее.
Будучи на первый взгляд далеко не самыми заметными
феноменами в развитии культуры, средства хранения и передачи информации
неизбежно провоцируют коренные изменения всей инфраструктуры
порождения, хранения, трансляции, распределения и переработки
мудрости, знания, информации. Эта инфраструктура пронизывает
буквально все общество и оказывает формирующее воздействие на
любого человека, который оказывается в нее так или иначе вовлечен.
«Осевые века* европейской истории
83
Первым и главным элементом этой инфраструктуры является школа
(понимаемая в данном случае в самом широком смысле
образовательного учреждения, могущего иметь функции научного центра) с
изучаемыми в ней дисциплинами, которая абсолютно определяет
кругозор и мировоззрение любого нормального среднего ученика,
каковых всегда большинство, тогда как действительно выдающийся
воспитанник сам становится главой школы и стремится к этому.
Когда в первом веке по Р.Х. Сенека жалуется non vitae sed scholae
discimus, он фиксирует ситуацию не исключительную, а
нормальную. В самом деле, образованные люди в сколько-нибудь
развившемся европейском государстве составляют всегда
привилегированную часть общества, воспитание которой гарантировано хорошей
школой. С создания школы начинает свою политическую, научную,
религиозную деятельность Пифагор. Школы организуют все
сколько-нибудь одаренные ученики Сократа, в том числе Платон. Школу
создает гениальный ученик Платона Аристотель. Эллинский тип
школы тиражируется в эпоху эллинизма на всей территории
империи Александра Македонского, ученика Аристотеля. Греческую школу
начиная с III века перенимает Рим и развивает по ее образцу свою;
греко-римская школа сохраняется христианами и становится самой
прочной скрепой европейской культуры в Средние века. И всегда
европейская школа учит писать, читать, понимать письменный текст.
Этот главный институт письменной культуры дополняется рядом
производных, но не менее значительных факторов, определяющих
реальное развитие европейца. Речь идет в первую очередь о системе
жанров, разрабатываемых на все случаи жизни в той же школе.
Мы упоминали, до какой степени было непростым овладение
прозой у первых прозаиков. Ситуация решительно меняется с
созданием первых учебников и появлением учителей риторики. Различие
между стилем Геродота и Фукидида в преимущественной степени
определяется риторической вышколенностью последнего, точно так
же, как различие между стилем Эсхила и Еврипида.
Принадлежность к разным риторическим школам определяет различие стиля
Цезаря и Цицерона, — хочется спросить: только ли литературное?
Набор дисциплин, изучаемых в школе на разных уровнях,
постепенно провоцирует развитие круга наук и тем самым кругозора
европейца. Вот почему, строя идеальное государство, Платон
прежде всего озабочен тем, чему учить его стражей, а Отцы Церкви, в
большинстве своем безупречно образованные, пекутся о том, чтобы
при воспитании христиан — в особенности, монахов — не были
забыты основные скрепы языческой системы образования: набор
дисциплин, навыки чтения и толкования текстов, а также о том,
84
История и историзм
чтобы переписывание текстов понималось как священная
обязанность и долг благочестия25.
Но еще раз напомню, что на данном этапе изложения для нас
важнее всего убедиться в том, что выстраивая историю
европейского разума, — а это главная и сокровеннейшая часть истории всей
европейской культуры в целом, — мы обладаем четким и вполне
объективным критерием периодизации этой истории. Почему это
так важно?
Ограничивая рамки «всеобщей истории» историей Европы, мы
получаем целостное поле нашего реального исторического опыта.
В свое время Кант настоятельно убеждал европейскую
философию в необходимости «сделать чувственным (sinnlich) всякое
абстрактное понятие, т. е. показать соответствующий ему объект в
созерцании, так как без этого понятие (как говорится) было бы
бессмысленным (ohne Sinn), т. е. лишенным значения» 26. Точно в
таком же смысле следует понимать и Трёльча, который совершенно
справедливо настаивал: «Для нас есть только универсальная
история европейской культуры, которая естественным образом и
практически, и теоретически нуждается в сравнивающем взгляде на
чужие культуры, чтобы понять самое себя и свое отношение к
другим, но которая тем не менее ни в какой мере не может слиться в
одну всеобщую человеческую историю и всеобщее развитие
человечества...» 27.
Для того чтобы хотя в малой степени претендовать на
действительное понимание истории, мы должны уметь понять ее как нечто
независимое от нас и в то же время как нечто доступное нам в том
23 В связи с пониманием исторической преемственности образовательных
институтов и набора дисциплин может быть исторически корректно освещен и
такой, например, вопрос, как иерархия наук. Когда К. Ясперс в своей Философии,
первый том которой призван дать ориентацию в мире, заявляет по этому поводу,
что «очевидно нет никакой универсально значимой иерархии наук», что *всякая
иерархия представляется относительной* (цитирую по французскому переводу,
который оказался под руками: trad, par J. Hersch, Springer-Verlag, Paris —Berlin-
Heidelberg—New-York—Tokyo, 1986, p. 158), то его абсолютная правота
определяется только тем, что он не сказал ничего. Жесткая иерархия наук, достаточно
консервативная в рамках европейской культуры, обнаруживается при первом же
взгляде на последовательность обучения в европейской школе. Консервативность
школьной программы явственнее всего демонстрирует зазор между новой научной
концепцией, отдельным методом и действительным развитием отдельных дисциплин
и науки в целом.
26 Кант И. Критика чистого разума / Сочинения. М., 1964, т. 3, с. 302.
"Tröltsch Ε. Der Historismus... / Ibid., S. 710.
«Осевые века* европейской истории
85
смысле, в каком нам доступно наше собственное произведение. Мы
должны опознать ее как поле нашего исторического опыта,
имеющего свои бесспорные константы, которые как раз и организуют
его как наш опыт. Обнаружение такого рода констант дело далеко
не праздное и не легкое28, поскольку именно с них только и может
начаться реальное осознание той весьма специфической реальности,
какова историческая реальность. И только при таком понимании
исторической реальности, осознанной и данной нам как наш опыт, и
может начаться действительное ее познание и тем самым
продолжиться познание духа человечества в целом.
28 Например, от него благоразумно отказался до лучших времен Мишель Фуко:
«Нелегко установить статут прерывностей для истории вообще. Без сомнения,
еще труднее это сделать для истории мысли. Если речь идет о том, чтобы наметить
линию раздела, то в бесконечно подвижной совокупности элементов любая граница
может, пожалуй, оказаться лишь произвольным рубежом... Как может отступить
мысль перед чем-то другим, чем она сама? ...В крайнем случае здесь ставится
вопрос об отношении мышления к культуре: как это случилось, что мысль имеет
в мире определенную сферу пребывания, что-то вроде места возникновения, и как
ей удается повсеместно возникать заново? Но, может быть, постановка этой
проблемы пока несвоевременна; вероятно, нужно подождать того момента, когда
археология мышления прочнее утвердится, когда она лучше выявит свои
возможности в деле прямого и позитивного описания, когда она определит специфические
системы и внутренние сцепления, к которым она обращается, и лишь тогда
приступить к обследованию мысли, подвергая ее анализу в том направлении, в
каком она ускользает от самой себя» (Мишель Фуко. Слова и вещи. Археология
гуманитарных наук. Перевод с французского В. П. Визгина и Н. С. Автономовой.
Вступит, статья Н. С. Автономовой. М., 1977, с. 98 — 99).
Логика истории *
Преамбула
В старых работах по философии истории — вспомним хотя бы
Генриха Риккерта и Эрнста Трёльча ' — одним из самых острых и
мучительных вопросов, совершенно точно поставленных
новоевропейским историзмом, был вопрос о наличии специфической
логики исторического процесса и, соответственно, логики
исторического познания. Еще История философии Гегеля вызвала со стороны
Эдуарда Целлера в статье 1843 года2 упреки в смешении двух
логик и в подчинении исторического развития науке логики. Эта
специфическая логика истории, не дававшаяся новоевропейскому
историзму, отыскивалась на путях противопоставления наук о духе
* Я сердечно благодарю проф. П. П. Гайденко и проф. А. И. Зайцева за ряд
замечаний и предложений, высказанных по данной статье и открывающих мне
перспективы в рассмотрении предлагаемой темы.
1 Риккерт отмечает, что хотя логические проблемы поставили в применении к
истории Навиль, Зиммсль, Виндельбанд, однако же они вызывают великие
споры; постичь логическую сущность истории не труднее, чем логическую сущность
других наук, если только идти верным путем, но как раз относительно него и нет
ясности; натурализм, материализм, психологизм и даже биологизм (Шпенглер)
процветает в исторических исследованиях; к этому нужно добавить влияние
математических наук на философию, которая стремится быть систематической; но
история никогда не сможет стать систематической наукой, справедливо замечает
Риккерт, так что даже встает вопрос об антагонизме между исторической и
философской мыслью; но это еще больше провоцирует построение логики истории
(Rickert H. Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Eine Einführung. Heidelberg,
1924, S. 9—13). Трёльч (Tröltsch E. Der Historismus und seine Probleme /Ge-
samm. Schriften, III. Tübingen, 1922, S. 24 sqq.) уточняет, что речь идет о
логической независимости исторического метода, об органическом соединении понятия
причинности с понятиями цели и ценности, которое было выдвинуто в противовес
психологизму Лотце, Зигвартом, Вундтом, Дильтеем, Риккертом, Виндельбан-
дом, Ласком, Зиммелем.
2 Zeller Ed. Die Geschichte der alten Philosophie in der letztverflossenen 50
Jahren mit besonderen Rücksicht auf die neuesten Bearbeitungen derselben / Kleine
Schriften. В., 1910. Bd I. S. 52-53.
Логика истории
87
наукам о природе, в попытках вместить понятие ценности в
качестве основного для — скажем мы — гуманитарных наук,
подчеркиванием этического начала в истории, стремлением опереть историю
на филологию — по образцу естественных наук, опирающихся на
математику. Наконец, не была оставлена возможность отказаться
от специфической логики истории путем построения универсальной
логики (прекрасной древности софистический идеал!), равно
применимой ко всем областям человеческого знания, а также
проявлена твердая профессиональная воля не входить в
общефилософские проблемы исторического метода и ограничиться констатацией
единой от века существовавшей традиционной исторической
науки, начала которой мы находим еще у Геродота (о том, до какой
степени такая историческая наука с такой ее историей является
новоевропейской конструкцией, припоминается очень редко).
Специальное рассмотрение вопроса о становлении европейского
историзма, по-видимому, необходимо при попытке реально
осознать его возможности и перспективы сегодня, в особенности, если
речь идет о понимании современной ситуации в философии. Во
всяком случае, это безусловно поучительно, о чем можно судить
хотя бы по тому же Трёльчу, и неслучайно у представителей
ведущих философских направлений сего века мы обнаруживаем это
законное стремление и потребность пересмотреть в этом аспекте
новоевропейскую философию и либо укоренить себя в
новоевропейском историзме, либо отмежеваться от него3.
Понятно, что в особенности герменевтика культивирует эту
тенденцию. Так, лекции Ханса-Георга Гадамера 1962 года,
предварившие его главную книгу, а также соответствующие главы
Истины и метода, прежде всего экскурс Герменевтика и историзм4,
содержат материал, долженствующий показать законность
перехода европейской философии от проблем историзма к проблемам
герменевтики.
Но также и Эрнст Кассирер в Логике наук о культуре,
опубликованной в 1942 году5, начинал с анализа понятия историзма марш
своих размышлений о претензиях философии символических форм
3 См. одну из недавних сводок в кн.: Russ J. La marche des idées
contemporaines. Un panorama de la modernité. P., 1994, p. 281 — 290; L'histoire nouvelle.
* Gadamer H.-G. La problème de la conscience historique. Louvain; P., 1963 (в
основном в первых трех разделах, с. 7—46); Истина и метод. Основы философской
герменевтики. Перевод с нем. под общей ред. Б. Н. Бессонова. М., 1988, с. 580 —
614; см. также с. 221—316.
5 Я знакомился с этой книгой по французскому переводу: Cassirer Ε. Logique
des sciences de la culture. Trad, par J. Carro avec la collab. de J. Gaubert. P., 1991.
88
История и историзм
на единство и универсальность, которые догматическая
метафизика не смогла сохранить за собой.
И Эдмунд Гуссерль в лекции Философия в эпоху кризиса
европейского человечества, прочитанной в Вене в мае 1935 года,
бранит Дильтея, Виндельбанда и Риккерта за то, что они не
справились с задачей, которая стоит перед науками о духе (=перед
гуманитарными науками, в том числе перед историей) и не избавились
от объективизма и психологического натурализма, а сам стремится
показать, что как раз науки о природе — как произведения
человеческого духа — предполагают науку о духе6.
Но каким бы естественным ни представлялся всякий раз этот
переход от исторической проблематики и логики истории к
любому из названных философских направлений, мы тем не менее
скорее принуждены констатировать, что проблема исторического
сознания размылась, с одной стороны, символическими формами,
феноменологией, герменевтикой; с другой, — психологизмом,
биологизмом, социологией etc. и перестала ощущаться с той
великолепной немецкой отчетливостью, которую проявили
напоследок Риккерт и Трёльч 7.
Иногда это проскальзывание мимо исторического подхода и его
проблем делается с великолепной артистической тонкостью,
какую встречаем, например, у Поля Рикёра, сочетавшего
герменевтику и феноменологию и сумевшего увернуться от проблем
историзма путем сведения истории к вымышленному рассказу: «Дело
не в том, что прошлое нереально: просто реальное прошлое
оказывается в собственном смысле слова неверифицируемым. Посколь-
6 Включено в VI том Husserliana: Die Krisis der europäischen Wissenschaften
und die transzendentale Philosophie. Haag, 1954.
7 Как реакцию на предшествующий историзм Э. Ю. Соловьев рассматривает
также и философию Хайдегтсра, причем уже в Бытии и времени: «Тезис "Dasein
и только оно одно изначально исторично" по самому своему существу есть
высказывание-возражение. Оно направлено против предшествующих концепций
историзма, ставивших во главу угла историчность мира, человеческого рода,
общества и его институтов и видевших во временных связях отдельной человеческой
судьбы в лучшем случае воспроизведение этой макро-истории... В этом стремлении
сводить проблему историчности человека к факту его включенности в объективную
историю человечества Хайдеггср усматривает главное заблуждение новейшей
европейской философии, еще более опасное по своим идеологическим последствиям,
чем свойственное XVII и XVIII столетию откровенно нсисторическое воззрение,
настаивавшее на включенности индивида в систему вечных и неизменных природных
зависимостей» (Соловьев Э. Ю. Попытка обоснования новой философии истории
в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера / Новые тенденции в западной
социальной философии. М., 1988, с. 21 — 22).
Логика истории
89
ку его больше нет, к нему можно отослать только косвенно —
рассказывая историю. Вот где обнаруживается это родство с
вымыслом» 8.
Я поистине восхищаюсь этим тонким подходом к проблеме
истории (причем тем в большей степени, что им отнюдь не
ограничивается эта прекрасная, во многих сочинениях разработанная
философия), но испытываю настоятельную потребность вернуться к тому
более простодушному времени, когда особая логика истории
ощущалась с меньшей тонкостью, но гораздо более ясно. Поэтому я
постараюсь рассуждать и, главное, ставить вопросы с
максимальной доступной мне отчетливостью и той ясностью, которая
грезится мне у многих представителей прежней европейской философии.
Это мне представляется тем более разумным, что, на мой взгляд,
который я надеюсь со временем развить специально, вся
европейская философия после Канта внутренним стержнем и стимулом
развития имела как раз это стремление освоить не дававшуюся
специфику все более осознаваемого, переживаемого и
разрабатываемого историзма. Великий кризис европейских наук с
наибольшей очевидностью проявился как кризис естественных наук. Но к
его глубинному существу несомненно принадлежит также и
очевидный факт: Европе философски и жизненно не давалось
освоение того, что было таким же ее великим достоянием и
достижением, как и точные науки — гуманитарные науки и гуманитарное
образование.
Великим провокатором в постановке вопросов о специфике
гуманитарных наук, в частности истории, оказался, безусловно, Кант.
Если считать, что первое обнаружение пропасти между историей и
математическими науками о природе впервые явственно
продемонстрировал восставший против Декарта Вико, то Кант откликнулся
скорее на установку мысли Декарта: предприняв анализ наук о
природе, он дал обоснование чистой математики и чистого
естествознания, но не провел аналогичного рассмотрения наук о
культуре. Параллельно с учением о природе Кант дал учение о
свободе, но как быть с объектами гуманитарных наук вообще и
исторического познания в частности, — об этом нужно было
догадываться самостоятельно, ориентируясь неясно каким способом на его
критические работы.
Пожалуй, дополнительная сложность состояла в том, что Кант
до известной степени прикоснулся к этому вопросу в анализе
способности суждения, вкуса, продуктивной способности вообра-
8 Ricocur P. Du texte à l'action. Essais d'herméneutique, II. P., 1986, p. 18.
90
История и историзм
жения; но эти его исследования скорее сбивали с толку и не
давали желанной параллели его безупречному анализу чистой
математики и чистого естествознания. Мы, правда, должны заметить, что
гуманитарные науки, в частности, история, были далеко не столь
развиты к концу XVIII века, как были развиты естественные. Но
дело решительно меняется в XIX веке. Успехи исторической
науки как таковой позволяют, как мы упоминали, уже Эдуарду Цел-
леру критиковать позицию Гегеля с точки зрения развитой
самостоятельно существующей науки истории. Но когда в результате
такого рода критики и реального прогресса исторического знания
оказалось, что логика развития мирового духа не позволяет
индивидуальному духу выстроить логику истории, когда тем самым
сфера исторического бытия отчетливо обособилась и стала
самостоятельной перед лицом познающего ее разума, тогда с новой
силой обнаружилась образцовая природа кантовской позиции и
выявилась потребность произвести аналогичный анализ
исторического опыта.
Рассматривая позицию Дильтея, предпринявшего эту попытку,
Гадамер9 так описывает его спровоцированность Кантом: «В
ситуации, когда история так же мало, как и природа, может мыслиться
как способ проявления духа, возникает проблема, каким образом
человеческий дух может познать историю. Здесь имеется прямая
аналогия тому, как для него проблемой стало познание природы с
помощью конструкции математического метода. Следовательно,
наряду с кантовским ответом на вопрос, как возможно чистое
естествознание, Дильтей должен был искать ответ на вопрос, как
исторический опыт может стать наукой. Следуя явно примеру Канта,
он поэтому ставил вопрос о категориях исторического мира,
которые были бы способны нести на себе построенное науками о духе
здание исторического мира».
Я действительно уверен, что самостоятельное и специальное
рассмотрение этой проблемы в чисто историческом аспекте
решительно необходимо и весьма поучительно; но сейчас я привожу эту
характеристику Гадамера с единственной целью: указать на
прецедент и отметить законность подобного подхода для европейской
философии, в рамках которой я мыслю свои рассуждения. Поэто-
9 Гадамер Х.-Г. Истина и метод, с. 270; ср. La problème de la conscience
historique, p. 23 — 24: «...философия в действительности подошла к следующей
проблеме: как для мира исторического сознания продуцировать нечто подобное
тому, что удалось Канту для научного познания природы? Есть ли средство
оправдать эмпирические познания в истории решительно отказавшись от
догматических построений?».
Логика истории
91
му, оставив исторические экскурсы, я хочу сосредоточить свое
внимание (и внимание читателя) на самом предлагаемом подходе к
логике истории.
1. Предметные области
Когда Кант в Пролегоменах задается вопросом о том, как
возможна чистая наука, он прежде всего вводит общее деление
суждений на аналитические и синтетические |0, причем фиксирует, что
все математические суждения синтетические. Это означает, что ни
в понятиях 5 и 7, например, ни в понятии их суммы ни в каком
смысле не содержится понятие 12, и только выйдя за пределы
этих понятий и прибегая к помощи созерцания, мы его обретаем ".
То же самое с геометрическими положениями: «Что прямая линия
есть кратчайшее расстояние между двумя точками, это —
синтетическое положение, так как мое понятие прямого не содержит
ничего о величине, а содержит только качество. Понятие кратчайшего,
следовательно, целиком прибавляется и никакими расчленениями
10 Хотя это разделение было оспорено Куайном в его известной статье 1951
года, опровергающей основные положения логического позитивизма, не забудем,
что сейчас речь идет не о наивном Венском кружке, а о философии Канта и его
подходе к математике и опыту.
11 Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1965, т. 4, ч. 1, с. 82. Замечательным образом
Кант почти воспроизводит мысленный опыт Платона: « Разве ты не остерегся бы
говорить, что когда прибавляют один к одному, причина появления двух есть
прибавление, а когда разделяют — разделение? Разве ты не закричал бы во весь
голос, что знаешь лишь единственный путь, каким возникает любая вещь, — это
ее причастность особой сущности, которой она должна быть причастна, и что в
данном случае ты можешь назвать лишь единственную причину возникновения
двух — это причастность двойке... А всяких разделений, прибавлений и прочих
подобных тонкостей тебе даже и касаться не надо» (Федон 101с). Эта особая
сущность — идея, то есть некое интеллектуальное созерцание, обеспечивающее
получение двойки из двух единиц или из разделения некоего целого. Но в сфере
представления, которое по существу конструирует этот образ, он до такой степени
схож со зрительным, что несведущие люди могут, не «рассмотрев» должным
образом, принять его за другой: хотя мысленно нельзя спутать одинадцать и
двенадцать, тем не менее «если кто-то будет рассматривать про себя пять и семь...
которые, как мы говорили суть знаки, запечатленные на дощечке из воска... так
вот, спрашивая себя, сколько же это будет вместе, какой-то человек, подумавши,
скажет, что одиннадцать, а какой-то — что двенадцать? Или все подумают и
скажут, что двенадцать?... - Многие скажут, что одиннадцать... — Ты правильно
думаешь. И заметь, тогда происходит вот что: те самые оттиснутые в воске
двенадцать принимаются за одиннадцать» (Теэтет 19, а —Ь).
92
История и историзм
не может быть извлечено из понятия прямой линии. Здесь,
следовательно, необходимо прибегнуть к помощи созерцания,
посредством которого и возможен синтез» 12.
Кант утверждает, что «чистая математика как априорное
синтетическое познание возможна только потому, что она относится
исключительно к предметам чувств» 13; он подчеркивает, что «чистая
математика, и в особенности чистая геометрия, может иметь
объективную реальность только при том условии, что она направлена
единственно на предметы чувств» 14. Но чувства, через которые
рассудку для рефлексии даются явления, оставляют рассудку
суждение, так что «дело вовсе не в явлениях, когда наше познание
принимает видимость за истину» ,5. Так, «чувства представляют
нам движение планет то с запада на восток, то в обратном
направлении, и в этом нет ни лжи, ни истины, так как, пока мы
довольствуемся тем, что это прежде всего только явление, мы еще не
составляем никакого суждения об объективном свойстве движения
планет. Но когда рассудок не старается предостеречь, чтобы этот
субъективный способ представления не был принят за
объективный, вследствие чего легко возникает ложное суждение, тогда
говорят: кажется, что планеты возвращаются назад; но в этом
«кажется» виноваты не чувства, а рассудок: только ему подобает
составлять объективное суждение на основе явления» 16.
Я позволяю себе столь обильно цитировать эти знаменитые
страницы из Пролегоменов только для того, чтобы еще раз напомнить себе
и читателю это классическое чувство реальности и здравого смысла,
исходно — начиная с Платона — свойственные подлинной
европейской философии. Заметим, что именно это качество отличало и
европейскую науку. Поэтому, когда я читаю изложение мысленного
эксперимента, на основании которого Эйнштейн показывает
существо теории относительности, я абсолютно уверен в том, что
нахожусь в пределах одного и того же, причем того же самого
европейского разума. В самом деле, имея перед глазами опыт Майкельсона-
Морли и тем самым очевидно убеждаясь в том, что скорость света
постоянна, можно заключить что плохи приборы, что при
движении сквозь эфир тела сплющиваются, или что наши привычные
рассудочные понятия об однородном и изотропном пространстве и
неизменном времени неадекватны, — совершенно точно так же, как
оказались неадекватны наши представления о движении планет.
12 Там же, с. 83. 13 Там же, с. 99. " Там же, с. 103. " Там же, с. 107.
16 Там же, с. 107 — 108. Кант почти цитирует Аристотеля: «Очевидно, что если
нет чувственного восприятия, то необходимо отсутствует и какое-либо знание...
чувственно воспринимаемое направлено на единичное, иначе ведь получить о нем
знание невозможно» (.Вторая аналитика, гл. 18, 81 а 38 — 81 b 8).
Логика истории
93
Ощущения не могут заблуждаться, поскольку заблуждение
состоит в вынесении ошибочного суждения, а это дело рассудка. Так,
когда мы имеем дело с двухмерным изображением, дающим
полную иллюзию трехмерного пространства, то дело рассудка —
правильно оценить то множество элементов, которые создают этот
эффект: не чувства, а оценивающий рассудок может вынести
суждение, что трехмерное тело содержит большее количество точек,
нежели его двухмерное изображение; но он же может прийти к
выводу, что эти множества равномощны, и укрепиться в своем
заключении, создав не только алгебру множеств, но и специальное
приспособление, позволяющее поточно продуцировать голографи-
ческие изображения.
Создание разных научных дисциплин в европейской традиции
определяется тем, что осознается некая специфическая
предметная область чувственных данных ", а реально развивается наука
тогда, когда по поводу разрозненных наблюдений над данной
областью удается вынести несколько связных суждений,
позволяющих принципиально исчерпать данную предметную область.
Иными словами, наука возникает и развивается тогда, когда удается
убедительно выявить и — опираясь на некоторые установленные
константы — специально рассмотреть определенную предметную
область в общем потоке чувственно воспринимаемого.
Наука в каком-то смысле является рационализацией
определенного участка чувственности, для которого удается найти свою
специфическую логику. Инструментарий рационализации постоянно
пополняется, но уже его первая выявленность в числе,
геометрических образах и музыкальных интервалах прекрасно
демонстрировала это различие логик и подчеркивала явственно ощущаемую
несводимость в нечто единое их предметных областей.
Однако почти сразу (еще у софистов) в европейской мысли
возникает потребность объединить под опекой единого метода все
разные логики и поставить их под его начало. Об этом говорит Гор-
гий, объясняя в Похвале Елене, что в совершенстве владеющий
речью может составить речь по любому поводу. То же грезилось
Платону, когда он восхвалял диалектику как венец наук.
Но первый серьезный успех в этой сфере был достигнут все-таки
Аристотелем, разделившим риторическое доказательство, диалек-
" Я думаю, осознается и даже опознается — вернее, чем изобретается, хотя
часто возникает именно такое впечатление, в особенности при рассмотрении
квантовой механики или современной космологии; однако ни эти последние, ни
любая другая наука как наука (= определенная предметная область со своими
специфическими аксиоматикой и логикой) на сей день не выходят за пределы
того, что называется здесь европейским разумом.
94
История и историзм
тическое доказательство, софистические опровержения и научный
силлогизм, или доказательное знание.
Аристотель, как представляется, поддерживал ту же тенденцию:
найти общий всякому знанию метод. В ранней одиннадцатой главе
первой книги Второй Аналитики Аристотель еще на
платоновский лад называет такой общий всем наукам метод диалектикой.
Однако в девятой главе той же книги Аристотель предупреждает,
что при этом «каждую вещь можно доказывать не вообще, а
только из свойственных ей начал». «Каждую вещь мы тогда знаем
непривходящим образом, когда мы по тому, в силу чего нечто ей
присуще, познаем ее из начал, свойственных ей как таковой». «Так
как очевидно, что каждая вещь может быть доказана не иначе как
из свойственных ей начал, то есть когда доказываемое присуще
вещи как таковой, то [без этих начал] нельзя это [доказываемое]
знать...» ,8. Это возможно только в некоторых случаях: когда у
наук есть общие начала, например, когда геометрические
доказательства используются в механике и оптике, а арифметические —
в гармонии.
Но в любом случае при доказательстве мы пользуемся теми или
иными языковыми средствами. Вот почему в трактате Об
истолковании, традиционный перевод названия которого почти не
позволяет догадаться, что речь в нем идет об языковом выражении,
о высказывании, Аристотель анализирует типы высказывающей
речи, специально выделяя (в главе девятой) высказывания о
будущем 19. Эти высказывания обладают по крайней мере одной
существенно важной особенностью: будучи произведены в настоящем,
они изъяты из сферы истины и лжи. Можно охарактеризовать эту
особенность по-другому: высказывания о будущем не необходи-
'* Цитирую по изданию: Сочинения: В 4 т. М., 1978, т. 2, с. 272 — 273. Кант,
начиная свою Логику, сразу оговаривает этот важный момент: «Все правила, по
которым действует рассудок, или необходимы, или случайны. Первые — те, без
которых не было бы возможно никакое применение рассудка; последние те, без
которых не было бы лишь некоторого, определенного их применения... например,
в математике, метафизике, морали и т.д.» (Трактаты и письма. М., 1980, с.
320). Канта в Логике понятным образом интересуют прежде всего необходимые
правила, тогда как «всякое познание, которое мы должны заимствовать от
предметов», он оставляет в стороне.
19 Эта глава была предметом пристального внимания специалистов по логике и
истории логики; так и в русском издании сочинений Аристотеля ей посвящен
специальный параграф небольшого введения к тому логических сочинений
Аристотеля Проблема справедливости tertium non datur для будущих единичных
событий (с. 31—44; см. также примечания к девятой главе на с. 608 — 609) со
ссылками на Бохеньского, Лукасевича и фон Райта.
Логика истории
95
мы. В самом деле, высказывание «возможно, что завтра
произойдет морское сражение» истинно в той же степени, что и
высказывание «возможно, что морское сражение завтра не произойдет», и
оба они означают: «не необходимо, что морское сражение завтра
произойдет (не произойдет)».
Рассмотрим эту ситуацию следующим образом. После того как
морское сражение произошло, мы можем совершенно ответственно
анализировать причины, по которым оно произошло.
Проанализировав ситуацию, мы можем прийти к следующему выводу: в том,
что предшествовало морскому сражению, были определенные
обстоятельства, которые можно рассматривать как его причину.
Иными словами, если нечто произошло, необходимо, чтобы у данного
события была причина. И даже если мы выделим обстоятельства,
ему препятствовавшие, все же общая ситуация вчера была такова,
что назавтра данное событие произошло, то есть вчера в целом
спровоцировало события своего завтра, или явилось их причиной.
Но ничего подобного мы не можем сказать, когда речь идет о
будущем. В настоящем нет ничего, что с необходимостью требует
такого именно будущего. Сегодня равным образом может
оказаться и не оказаться причиной для завтра, и именно поэтому оно не
есть его причина. Иными словами можно сказать так: настоящее
не есть причина будущего. Это кажется парадоксальным, но по
существу мы приходим к выводу не неожиданному и совершенно
естественному: не может быть необходимых суждений о будущем,
следовательно не может быть рациональной науки о будущем20. В
самом деле, когда астроном «предсказывает» то или иное
положение планет через несколько лет и это «предсказание»
«сбывается», то оно сбывается только потому, что ведомая нам часть
космоса не претерпела катастрофических изменений. Когда речь идет о
предсказаниях в сфере более близкой и доступной нам, мы видим,
что самые точные расчеты не являются предсказаниями. Точно
рассчитав траекторию космического корабля, мы не можем
предсказать, что завтра полет состоится, но всего лишь констатируем,
что корабль должен пролететь по указанной траектории. Мы можем
стремиться к тому, чтобы создать максимально благоприятные
условия для осуществления того или иного научно рассчитанного
проекта там, где это в наших силах; но мы не владеем наукой,
позволяющей делать утверждения о необходимости будущего. Сле-
20 Можно сформулировать это и так: будущее не дано нам в опыте. Кант в
очередной раз говорит об этом в Критике чистого разума, анализируя постулаты
эмпирического мышления (с. 280 слл.). Я вернусь к этому тексту ниже при анализе
специфики исторического опыта.
96
История и историзм
довательно, мы не можем утверждать, что настоящее есть причина
будущего21.
Итак, мы не можем утверждать, что нечто будет или нечто не
будет, но мы можем утверждать, что нечто может быть и не быть,
а также что нечто должно быть и не быть. Задумаемся над тем,
каков в данном случае смысл возможности и долженствования
при том, что мы не можем говорить о необходимости наступления
именно такого будущего.
Когда речь идет о возможности того или иного грядущего
единичного события, мы можем построить суждение, которое будет
истинным, если в нем не идет речь о том, что изъято из сферы времени,
например о геометрической реальности. Мы можем утверждать
возможность того, что морское сражение состоится (не состоится)
завтра, и это будет истинным утверждением; но мы не можем (и
не будем) утверждать в рамках евклидовой геометрии, что завтра
сумма углов треугольника будет больше или меньше двух прямых
углов; но и утверждение того, что завтра сумма углов
треугольника будет равна двум прямым также лишено смысла, поскольку
речь не идет о событии или процессе, который меняется с течением
времени22. Точно так же мы не можем утверждать в рамках
классической физики, что завтра величина ускорения падающего тела
будет больше или меньше 9,81 м/сек2; но и утверждение, что
завтра величина ускорения будет именно такой, также не будет иметь
смысла, поскольку эта величина в рамках ньютоновской физики
никак не связана с ее отнесенностью к тому или иному времени.
Не умножая числа примеров, мы можем сформулировать это
так: можно построить истинное суждение относительно
возможности будущего тех событий, фактов, явлений, которые не входят в
21 Одним из первых, кто это отчетливо понял, был, судя по Ксенофопту {Метог,
III, 69), Сократ: «...дела необходимые (τα αναγκαία) он советовал делать так,
как... их можно сделать всего лучше; ...чтобы стать хорошим плотником, кузнецом,
земледельцем, или хорошим счетчиком, домохозяином, военачальником, — всеми
такими знаниями, думал он, может овладеть и человеческий ум; но самое главное
в них, говорил он, боги оставляют себе, и ничего из этого люди не знают. Так,
например, кто превосходно засадил для себя деревьями участок земли, не знает,
кто будет собирать плоды; кто превосходно построил себе дом, не знает, кто будет
жить в нем... Кто воображает, будто в подобных случаях нет ничего зависящего
от бога, а все будто бы зависит от человеческого рассудка, тот — безумец» (перевод
С. И. Соболевского).
22 С этой точки зрения допустимое высказывание «параллельные линии никогда
не пересекутся, сколь бы долго мы их ни продолжали» не содержит решительно
никакой информации о будущем, а только устанавливает некоторые константы
нашего опыта.
Логика истории
97
предметную область той или иной науки, то есть не являются
предметом рассмотрения в соответствии с некоими установленными
положениями некоей рациональной науки, научной теории, научной
концепции.
2. Область должного
Человеческий рассудок, не довольствуясь только возможными
суждениями о будущем, до такой степени энергично расширял сферу
своих притязаний, что в настоящий момент мы с большим трудом
найдем ту область, которая не стала бы уже предметом специальной
научной рефлексии и в рамках которой не возникало бы соблазна
сделать либо только утвердительное, либо только отрицательное
суждение о будущих событиях. Мы стремимся избавиться от того,
относительно чего можно с одинаковым успехом сказать и то, что
оно будет, и то, что этого не случится. Мы стремимся избавиться
от единственно возможных истинных суждений о будущем.
Вместо этого мы вводим суждения, статус которых достаточно
специфичен: речь идет об упомянутых суждениях долженствования.
Что мы имеем в виду, когда говорим «завтра должен быть дождь»,
а не «завтра может пойти дождь»? Идет ли речь о том, что во
втором случае мы имеем в виду некое равенство шансов для того,
чтобы дождь пошел и чтобы он не пошел, а в первом —
преобладание условий для того, чтобы дождь пошел? Или же мы, говоря
о долженствовании, таким образом просто подчеркиваем, что мы
ожидаем и хотим наступления того или иного события, то есть что
оно нам небезразлично? Или таким образом мы — вольно или
невольно — стремимся изъять то или иное событие из сферы чисто
природных событий, включенных в сферу определенного опыта,
предписывающего ему включенность в определенную систему
причинно-следственных связей, и потому приписываем ему некоторое
качество, свойственное скорее поступкам, сознательно
совершаемым в соответствии с теми или иными нормами поведения? Не
пытаясь добиться от анализа способа языкового выражения
больше, чем он может дать, констатируем только, что такой тип
высказываний обособляет определенный тип явлений, или, говоря
иначе, облуживает некоторый вполне определенный и достаточно
специфический опыт.
Обратим внимание также и на то, что подобными
утверждениями мы пользуемся при описании некоторых событий прошлого,
преимущественно в применении к действиям, совершаемым созна-
4-974
98
История и историзм
тельно, причем тогда, когда хотим подчеркнуть как раз их изъя-
тость из сферы привычных причинно-следственных связей, но также
и по отношению к другим событиям. Описывая крушение мощи
этрусков под одновременным натиском римлян и кельтов, Мом-
мзен замечает: «Однако на минуту могло показаться, что два
народа, грозившие существованию Этрурии своим одновременным
нападением, неизбежно должны столкнуться, и что вновь
расцветавшее могущество Рима будет уничтожено иноземными
варварами. Такой оборот дел противоречил естественному течению
политических событий, но его вызвали сами римляне своим
высокомерием и недальновидностью»23.
Отметим это противоречие того, что должно было произойти, и
естественного течения политических событий. Другой пример
также показателен. Моммзен описывает положение Филиппа перед
вторжением Рима в Македонию: «...восточные государства,
которые должны были бы соединенными силами воспротивиться
всякому вмешательству римлян в их дела и которые при других
обстоятельствах может быть действительно стали бы действовать
сообща, до такой степени перессорились между собой, главным
образом по вине Филиппа, что или вовсе не были расположены
противиться римскому нашествию или даже были готовы помогать
римлянам»24. Реально перессорившиеся между собой и с
Филиппом восточные государства должны были бы объединиться против
римлян.
Я взял эти примеры наугад из русского перевода Моммзена,
который оказался под руками, после чего мне естественным
образом показалось необходимым посмотреть оригинальный русский
текст. Обратимся к Карамзину.
Карамзин регулярно употребляет «должен был», «должны
были» в значении «принужден был», «принуждены были».
Например: «Черниговцы долженствовали итти к Ростову и встретить
Великого Князя на берегах Волги»25. «Сей старец, утомленный
походом, должен был остаться за войском»26. Другое регулярное
употребление: «был должен» имеет в виду выразить «был
обязан», «получил поручение». Например: «Изяслав... отправил сына
своего благодарить Короля Гейзу. Сей Посол именем отца должен
был сказать ему следующие выразительные слова...»27. Еще одно
регулярное значение слова — «естественным образом приводить к
23 Моммзен Т. История Рима, I. М., 1936, с. 313. " Там же, с. 664.
25 История государства Россиийского, том II. Издание 2-е, испр. СПб., 1818,
с. 228. х Там же, с. 253. 27 Там же, с. 247.
Логика истории 99
чему-то». Например: «Счастливые войны и торговля Россиян,
служив к обогащению народа, долженствовали, в течение ста лет и
более, произвести некоторую роскошь, прежде неизвестную»28.
Итак, когда мы говорим о долженствовании, мы имеем в виду
либо вольное действие, идущее вразрез с естественным ходом
событий; либо естественное течение событий, которое соответствует
нашим представлениям о них; либо вынужденное подчинение чьей-
либо воле или обстоятельствам; либо осознанную обязанность
совершить то или иное действие. При этом еще раз хочу
подчеркнуть, что долженствование, о котором идет речь, равным образом
относится и к действиям определенных лиц, и к событиям и
процессам. И в том, и в другом случае мы говорим о долженствовании
потому, что не можем сказать о необходимости. «Был должен»
означает, что «мог и по-другому, но поступил так», «мог и по-
другому, но был обязан поступить так»; «должно было» означает
«могло быть и по-другому, но произошло так вопреки
обстоятельствам», «могло быть и по-другому, но произошло так в
соответствии с обстоятельствами».
Еще раз подчеркну: мы говорим о долженствовании тогда, когда
действие или событие, о котором идет речь, не является предметом
рассмотрения той или иной науки, установившей некоторую
закономерность, под которую подпадает рассматриваемый феномен.
Он остается в некоей свободной сфере, которую мы вольно или
невольно стремимся оградить от посягательства частных точных
наук, декретирующих необходимость того или иного действия или
события. В этой сфере мы оставляем за собой право их
самостоятельной оценки, поскольку мы признаем за событиями этот их не
вдруг формулируемый свободный характер.
3. Четвертый постулат эмпирического мышления
Итак, мы выделили совершенно определенный тип суждений о
будущем, которые не допускают утверждения необходимости того
или иного события, но только равной возможности его
наступления или ненаступления. Помимо этого мы рассмотрели весьма
специфические утверждения долженствования, которые в равной
степени могут относиться и к будущему, и к прошлому, и к которым
мы также прибегаем тогда, когда хотим показать отсутствие безус-
28 Там же, том I, с. 245.
4·
100
История и историзм
ловной — исходящей из требований той или иной науки —
необходимости наступления того или иного действия или события, его
свободный и в то же время неслучайный характер. Мы таким
образом выделили некую сферу, в которой равная возможность
наступления или ненаступления того или иного события
предполагает ограниченную применимость закона исключенного третьего, но
не исключает подчиненность данного события специфической
законосообразности, а именно соответствие некоему закону
долженствования.
Выше, характеризуя специфическое отношение настоящего и
будущего, мы заметили, что в силу отсутствия у нас реального
опыта будущего мы не можем построить рациональной науки о
нем, а потому не можем утверждать, что настоящее есть причина
будущего, так как установление причинно-следственных связей —
дело рациональной науки. Данное прошлое, будучи организовано
как тот или иной опыт, то есть будучи связано некоими
формальными условиями его рассмотрения, является причиной данного
настоящего, то есть мы можем, анализируя данное настоящее,
усмотреть его безусловную спровоцированность данным прошлым.
Но как настоящее не является необходимой причиной именно
такого будущего, точно так же и прошлое содержит в себе некий
элемент свободы, не позволяющий с необходимостью вывести из
него данное настоящее2а. Характеризуя отношения между данным
прошлым данного настоящего и самим данным настоящим как
отношения между данным настоящим и его будущим, мы и вступаем
в поле того специфического опыта, который можно назвать
историческим опытом.
Поясню это примером. Попадание молнии в громоотвод мы
можем рассматривать как частный случай электрического разряда
между облаком и телом, которое представило меньшее
сопротивление, и в таком случае установить, что при определенном
положении заряженного облака по отношению к громоотводу
необходимо произошел разряд. При таком рассмотрении данное
настоящее — удар молнии в громоотвод — является необходимым
следствием именного такого предшествующего ему соположения
облака и громоотвода, следствием, предусмотренным законами
науки об электричестве. Пытаясь рассмотреть, почему облако ока-
29 О тех окольных путях, которыми современные исследователи подходят к
данному, вообще говоря — очевидному, положению, см.: Маркова Л. А.
Исторические реконструкции в контексте разных соотношений настоящего с
прошлым (Принципиальная множественность реконструкций прошлого) // Время
и бытие человека. М., 1991, с. 18 — 62, особенно с. 42 — 46.
Логика истории
101
зал ось над громоотводом, мы можем объяснить это совершенно
определенным направлением ветра, ветер — соотношением
теплых и холодных масс воздуха и т. д. Исходя из
действительности того или иного события, мы заключаем об его возможности при
определенных условиях, а обнаруживая наличие данных условий,
заключаем об его необходимости. Но пытаясь таким образом
объяснить необходимость настоящего, мы неизбежно уходим в дурную
бесконечность частных причин и в конечном счете ничего не
узнаем о данном событии как о настоящем. По отношению к
настоящему мы можем только заключить, что молния должна была попасть
в громоотвод в силу действия определенных законов природы; но
мы не должны при этом забывать, что законы природы,
сформулированные, например, наукой об электричестве, решительно не
призваны говорить и ничего не говорят о данном событии, потому
что они не включают категории прошлого, настоящего и будущего
как исторические категории, относящиеся к данному конкретному
времени.
Рассматривая в Критике чистого разума постулаты
эмпирического мышления вообще, Кант формулирует их так:
«1. То, что согласно с формальными условиями опыта (если иметь
в виду созерцание и понятия), возможно.
2. То, что связано с материальными условиями опыта
(ощущения), действительно.
3. То, связь чего с действительным определена согласно общим
условиям опыта, существует необходимо»30.
Свои пояснения к постулатам Кант начинает с указания:
«категории модальности имеют ту особенность, что как определение
объекта они нисколько не расширяют понятия, которому они
служат предикатами, а выражают только отношение к
познавательной способности»31. И далее замечает: «В одном лишь понятии
вещи нельзя найти признак ее существования... если понятие
предшествует восприятию, то это означает лишь возможность его, и
только восприятие, дающее материал для понятия, есть
единственный признак действительности. Однако если вещь находится в
связи с некоторыми восприятиями согласно принципам их
эмпирического связывания (согласно аналогиям [опыта]), то
существование ее можно познать также и до восприятия ее, стало быть, до
некоторой степени a priori»32. Математика и естествознание, то
есть то, что для Канта является наукой par excellence и
обоснованием которых является кантовская критика, начинаются здесь, в
30 Указанное издание, с. 280. 3| Там же, с. 281. 32 Там же, с. 285.
102
История и историзм
этом последнем случае, когда вещи «находятся в связи с некоторыми
восприятиями согласно принципам их эмпирического связывания».
Тогда мы уходим от несовершенства наших чувств и с
необходимостью устанавливаем существование того, чего
непосредственно не усматриваем: Кант приводит в пример «магнитную
материю».
Но мы прекрасно понимаем, что нельзя таким же образом
устанавливать исторические факты: они не вовлекаются в поле
необходимых суждений рассудка. Однако мы установили, что исторический
опыт предполагает связывание определенных фактов в сфере
должного, и что именно здесь мы и обретаем его специфику. Для того,
чтобы расширить сферу применения нашего рассудка и включить
в нее историческую реальность, мы должны сформулировать
соответствующий постулат, показывающий специфическое отношение
исторического опыта к нашей познавательной способности.
Особенность этого опыта и соответственно связанного с ним
релевантного типа суждений стала, как мне представляется, понятней после
установления его принципиальной идентичности со сферой
будущего и суждениями о будущем; но при этом нельзя забывать, что
хотя мы не обладаем «особой основной способностью созерцать
будущее»33, мы безусловно можем опираться на свидетельства о
прошлом, то есть на независимые от нас данные, приобретаемые
эмпирическим путем и создающие основу для этого
специфического опыта истории. Вот почему мы можем расширить сферу
традиционного опыта за счет опыта истории: как и в случае с
рассмотренными Кантом чистой математикой и чистым естествознанием,
история со всеми своими понятиями абсолютно лишена содержания
без приобретаемого извне чувственного материала. Но если
первые два постулата эмпирического мышления вместе с третьим дают
нам математическое и естественно-научное познание, то они же в
сочетании с четвертым дадут некую науку sui generis — историю.
Разъясняя третий постулат, Кант, в частности, рассматривает
проблему возможного и действительного. «На первый взгляд в
самом деле кажется, что количество возможного превышает
количество действительного, так как к возможности должно еще что-то
прибавиться, чтобы получилось действительное. Однако я, —
продолжает Кант, — не знаю этого прибавления к возможному; ведь
то, что должно было бы быть еще прибавлено к возможному, было
бы невозможно... из того, что дано, нельзя заключать, будто в
непрерывной связи с тем, что дано мне в восприятии, возможен
33 Там же, с. 283.
Логика истории
103
иной ряд явлений, стало быть более чем один единственный
всеохватывающий опыт...» м.
Выше Кант формулировал это так: «Все, что происходит,
гипотетически необходимо — таково основоположение, подчиняющее
изменения в мире закону, т. е. правилу, необходимого
существования, правилу, без которого не могла бы существовать даже
природа»35.
Попробуем для примера проанализировать отношение некоего
исторического факта к нашей познавательной способности.
Рассмотрим в качестве такового смерть Сократа.
В понятии «смерть Сократа» нет ничего такого, что не
допускало бы его возможности, поскольку речь идет о смерти человека, то
есть смертного существа. По целому ряду независимых свидетельств
мы узнаем, что этот факт действительно имел место и произошел
в 399 году до Р.Х. в Афинах. Мы знаем также, что Сократ выпил
цикуту, смертельный яд для человека, и что с этой точки зрения
его смерть наступила необходимо, на что и рассчитывали те, кто
вынес ему этот приговор и привел его в исполнение.
Но указав на эти три момента, мы сразу же чувствуем, что
подобное объяснение необходимости смерти Сократа, абсолютно
убедительное с точки зрения его физического уничтожения,
совершенно неудовлетворительно даже в том случае, если мы
продолжим причинный ряд следующим образом: Сократ выпил яд
потому, что был приговорен к этой казни решением суда, которое было
спровоцировано тем, что он вызвал величайшее раздражение у
вернувшихся к власти демократов.
Мы чувствуем, что в нашем опыте остается совершенно
незатронутой одна чрезвычайно важная сфера: наше знание того, что
Сократ, выступая на процессе, не захотел защищаться так, чтобы его
защита могла иметь успех, и что он не захотел бежать из тюрьмы,
хотя у него была такая возможность. Мы понимаем, что хотя
Сократ в принципе мог поступить иначе и с этой точки зрения его
смерть не необходима, но на самом деле он так не поступил, то
есть он должен был умереть и действительно был казнен. К
самому факту смерти Сократа наше суждение ничего не прибавляет,
но оно открывает существенно новое отношение данного факта к
нашей познавательной способности. Не будем спешить с
характеристикой этого специфического отношения, а рассмотрим другой
пример.
34 Там же, с. 292-293. ж Там же, с. 290.
104
История и историзм
Во второй половине XV — в начале XVI века в Европе
необыкновенно развивается рукописная книга. В несомненности этого
факта нас убеждает просто количество дошедших рукописей,
непосредственно находящихся в наших хранилищах, а также ряд
косвенных свидетельств. Рассматривая не создание каждой
отдельной книги, а этот процесс в целом, мы понимаем, что во время
всеобщего расцвета европейской городской и культурной жизни
могла расцвети и данная область производства, более того, на
основании материальных свидетельств мы убеждаемся, что она
действительно развилась. Рассматривая возникновение каждой
отдельной книги данного множества, мы безусловно убедимся, что
при правильном применении соответствующих материалов и
инструментов каждая данная рукописная книга необходимо должна
была появиться и существовать в качестве таковой.
Но нам также совершенно очевидно, что все такого рода
причины, необходимо приведшие к появлению множества экземпляров
рукописных книг, никак не объясняют самого факта расцвета
рукописной книги в указанный период. Более того, при
минимальной осведомленности в истории, этот факт нас скорее поразит,
поскольку мы знаем, что в этот период уже было изобретено и
энергично развивалось книгопечатание. Рукописная книга могла
более не развиваться. Однако по размышлении мы придем к
выводу, что именно эта парадоксальная связь развития рукописной книги
и книгопечатания, пожалуй, может нам многое объяснить. Именно
угроза уничтожения целой отрасли производства, исходящая со
стороны новой техники книгоиздания привела к своеобразной
защитной реакции и попытке сохранить за собой традиционное
значение у всех тех, кто с этой отраслью производства был связан.
Мы, таким образом, понимаем, что расцвет рукописной книги
должен был произойти именно в это время. Но не будем спешить с
выводами и здесь, а рассмотрим еще ряд примеров.
Вспомним знаменитый анекдот о Цезаре, который, попав в бурю,
успокаивал отчаявшихся корабельщиков: «Не бойтесь, вы везете
Цезаря». Мы можем сомневаться в реальности именно этого
эпизода, но мы не можем сомневаться в его возможности, потому что
такое поведение было свойственно Цезарю и мы знаем множество
такого рода реальных фактов его биографии. Как писал Моммзен,
«его... никогда не покидало сознание, что во всем от счастья, т. е.
случая, зависит главное; и с этим, быть может, связано то, что он
так часто бросал вызов судьбе и в особенности с отважным
равнодушием неоднократно рисковал собой. Подобно тому, как рассу-
Логика истории
105
дочные люди по преимуществу предаются азартной игре, так и в
рационализме Цезаря был пункт, в котором он до известной
степени соприкасался с мистицизмом»36.
Мы можем припомнить также знаменитый эпизод с
Наполеоном, посетившим в Яффе госпиталь зараженных чумой, столь
поразивший Пушкина: «Он, не бранной смертью окружен,
нахмурясь ходит меж одрами и хладно руку жмет чуме...». Бурьен
отрицает, что Наполеон прикасался к больным, но по существу,
конечно, прав Пушкин: Наполеон мог свершить это. В истории мы
сталкиваемся с целым рядом подобных фактов, и всякий раз мы
заключаем, что несмотря на невероятность такого рода случайных
событий, они должны были произойти, поскольку в противном
случае не было бы всего дальнейшего развития истории. Мы
прекрасно понимаем, что в данном случае не происходит нарушения
законов природы и что мы можем объяснить необходимость того,
что корабль с Цезарем спасся, или того, что Наполеон не
заразился чумой; но не эта необходимость, а совсем другого рода
долженствование определяет такого рода факты.
Если я теперь сформулирую четвертый постулат эмпирического
мышления вообще, он поистине покажется банальным, каковыми,
вероятно, кажутся и все предшествовавшие этому рассуждения.
Но ведь я в данном случае вовсе не стремлюсь к оригинальности
или открытиям, а хочу только показать, что наше эмпирическое
мышление, то есть мышление, основанное на существующих вне
нас фактах, нуждается в рассудочном понятии долженствования и
эмпирически его применяет. Кант замечает: «В самом деле, если
категории имеют не одно только логическое значение и не должны
быть аналитическим выражением форм мышления, а должны
относиться к вещам и их возможности, действительности и
необходимости, то они должны быть направлены на возможный опыт и
его синтетическое единство, в котором только и могут быть даны
предметы познания»37. Мы можем дополнить эту формулу:
«Категории мышления должны относиться к вещам в их возможности,
действительности, необходимости и долженствовании».
Тем самым четвертый постулат эмпирического мышления
вообще может быть сформулирован так:
4. То, связь чего с действительным определена согласно
историческим условиям опыта, должно существовать.
36 Моммзен Т. История Рима, III, с. 381.
37 Критика чистого разума, указ. изд., с. 281.
106
История и историзм
4. Историческая наука, математика, естествознание
и моральная философия
Кант формулирует свои три постулата после рассмотрения
аналогий опыта. «Принцип их таков, — объясняет Кант, — опыт
возможен только посредством представления о необходимой связи
восприятий*38. Сам этот раздел входит в
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ О СПОСОБНОСТИ СУЖДЕНИЯ, которое
начинается с изложения схематизма чистых рассудочных понятий.
Кант показывает, что «схемы суть не что иное, как априорные
определения времени, подчиненные правилам и относящиеся (в
применении ко всем возможным предметам согласно порядку
категорий) к временному ряду, к содержанию времени, к порядку
времени и, наконец, к совокупности времени*39.
Не рассматривая среди категорий модальности долженствование,
Кант тем самым ограничивает сферу опыта двумя предметными
областями: математикой и естествознанием, а тем самым
ограничивает представление о пространстве и времени только их всеобщей
формой, то есть такой, которая обеспечивает эмпирическому
представлению продолжительность, последовательность и
одновременность существования субстанций как явлений, причем во
всякое время. Когда Кант в Пролегоменах решает вопросы Как
возможна чистая математика? и Как возможно чистое
естествознание?, этого оказывается совершенно достаточно. Но когда в
Критике чистого разума он синтетически выстраивает его
систему, мы теперь можем обнаружить ее существенную неполноту.
В самом деле, априорные формы чувственности суть
пространство и время; но когда мы имеем дело с историческим опытом, эти
априорные формы выступают в совершенно конкретной форме
места и даты. Применительно к математике и естествознанию в
той их форме, в которой они оказались предметом рассмотрения
Канта, «абсолютное время не есть предмет восприятия, который
мог бы объединить явления»40; но в историческом опыте мы имеем
дело как раз с абсолютно фиксированными датами, и нечто
оказывается рассмотренным в рамках исторического опыта ровно
постольку, поскольку удается воспринять его в этой системе
абсолютно фиксированных и соотнесенных дат.
В этом небольшом рассуждении нельзя выстроить соответствую-
38 Там же, с. 248. м Там же, с. 226. 40 Там же, с. 278.
Логика истории
107
щую систему категорий, основоположений, аналогий опыта и пр.41
полностью. Более того, я думаю, что полнота в данном случае не
является не только идеалом, но даже и законным требованием. Но
для того, чтобы принципиально узаконить специфический опыт
истории в общей системе эмпирического мышления, необходимо
сделать еще одно замечание, существо которого также легче
понять при рассмотрении его на фоне кантовской философии.
Выше, иллюстрируя применения категории должного в
суждениях о прошлом, я намеренно привел ряд разных примеров,
которые должны были показать, что категория долженствования
применяется нами не только в том случае, когда мы ведем речь об
исполнении морального долга и вообще не только в применении к
действиям людей как мыслящих существ. Категория должного
распространяется и на явления природы, поскольку они
оказываются вовлечены в сферу исторического опыта. Буря должна была
пощадить Цезаря, и чума должна была обойти Наполеона, чтобы
сохранить действительность нашего исторического опыта.
Определенные события должны были происходить не только потому, что
они были результатом естественного развития событий или
свободного произволения одного человека или группы людей, но и
для того, чтобы не вступить в противоречие с данными нашего
исторического опыта. Мы можем установить их причины, и эти
причины будут действительными причинами данных событий; но
мы не можем сказать, что действие, вызванное этими причинами,
произошло необходимо, а только что оно должно было произойти.
Законы, действующие в истории, суть не законы необходимости, а
законы долженствования. И в то же время эти законы не суть
моральные законы.
Начиная Критику практического разума с понятия свободы как
опоры, скрепы (Schlußstein) «всего здания системы чистого, даже
спекулятивного, разума»42, Кант замечает: «...свобода
действительна, так как эта идея проявляется через моральный закон»43.
Свобода есть основание морального закона в качестве ratio essendi, а
моральные закон есть в свою очередь ratio cognoscendi свободы.
Возможность свободы мы не постигаем, а знаем a priori, и мы
41 Собственно говоря, это можно было бы сделать только при систематическом
рассмотрении кантовской философии как очерка европейского разума па фоне
всей иерархии бытия и знания, до сих пор полно представленной только в
философии неоплатонизма.
42 Сочинения: В 6 т. М., 1965, т. 4, ч. 1, с. 314.
43 Там же.
108
История и историзм
также знаем моральный закон. Кант замечает, что в данной
Критике ему приходится заново пересматривать ряд понятий уже
рассмотренных в Критике чистого разума, имея в виду прежде всего
как раз понятие свободы, и отсылает читателя к заключительной
части аналитики (где им проводится различие феноменов и
ноуменов). Понятия свободы Кант специально касается также при
рассмотрении антиномий чистого разума. Объясняя космологическую
идею свободы в связи со всеобщей естественной необходимостью,
Кант противопоставляет рассудок и разум и утверждает, что
последний «совершенно особо и существенно отличается от всех
эмпирически обусловленных способностей», а именно «имеет свою
причинность», что «ясно из императивов, которые мы
предписываем как правила действующим силам во всем практическом.
Долженствование служит выражением особого рода необходимости и
связи с основаниями, нигде больше во всей природе не
встречающейся. Рассудок может познать о природе только то, что в ней
есть, было или будет. Невозможно, чтобы в природе нечто должно
было существовать иначе, чем оно действительно существует во
всех временных отношениях; более того, если иметь в виду только
естественный ход событий, то долженствование не имеет никакого
смысла. Мы не можем даже спрашивать, что должно происходить
в природе, точно также как нельзя спрашивать, какими
свойствами должен обладать круг...»44.
Но если мы рассматриваем поступки человека не как явления и
не для того, чтобы их объяснить, а рассматриваем их
порождающую причину, то есть разум, определяющий некое новое состояние,
но не определяемый им, то тут-то мы и сталкиваемся со сферой
свободы. «Нельзя спрашивать, почему разум не определил себя
иначе, можно только спрашивать, почему разум своей
причинностью не определил явления иначе. Но на этот вопрос невозможно
ответить. В самом деле, другой умопостигаемый характер дал бы
другой эмпирический характер... Но почему умопостигаемый
характер приводит именно к такому-то эмпирическому характеру при
данной обстановке — этот вопрос выходит за пределы всякой
способности нашего разума; более того, он даже не вправе задавать
подобные вопросы, точно также как нельзя спрашивать, почему
трансцендентальный предмет нашего внешнего чувственного
созерцания дает нам только созерцание в пространстве, а не какое-
либо иное созерцание». «Свобода, — заключает Кант, — может
иметь отношение к совершенно иному роду условий, чем
естественная необходимость, и поэтому закон этой необходимости не влияет
и Там же, т. 3, с. 487-488.
Логика истории
109
на свободу, стало быть, и то, и другое могут существовать
независимо друг от друга и не препятствуя друг другу» 45.
Это блистательное рассмотрение видимого противоречия
свободы и естественной необходимости вызывает только одно
недоумение: Кант связывает свободу только со сферой человеческих
поступков, связывает понятие долга только со сферой морали и не
принимает в расчет того, что наше эмпирическое мышление
сталкивается с определенной предметной областью, где постулат
долженствования действен в той же мере, что и постулат
необходимости в области природных явлений.
В историческом опыте мы именно таким же образом никогда не
можем указать, почему из данных условий проистекло именно
данное следствие (поскольку в принципе могло произойти и другое),
хотя и понимаем, что оно должно было произойти. И в данной
сфере — сфере истории — точно также бессмысленно
спрашивать, почему явления нам даны только как датированные события,
происшедшие в определенном месте. И здесь точно так же
объяснение явлений и их порождение не смыкаются одно с другим, о
чем непосредственно ниже. Но при этом мы далеко не сразу и
вообще необязательно добираемся до моральных поступков
(поскольку природные явления в ряду исторических событий также
подлежат действию постулата долженствования) и продолжаем
находиться в сфере рассудка и его эмпирического применения. Не
входя в более подробное рассмотрение встающих здесь вопросов,
ограничимся данной констатацией: исторические явления
существенно и принципиально расширяет сферу нашей чувственности и
предполагают специфическое применение рассудка, допускающего и
вмещающего свободу в сфере явлений и только косвенным
образом апеллирующего при этом к разуму и ноуменальной сфере.
Или, формулируя иначе, можно сказать так: одна и та же вещь в
себе в зависимости от того, к какой предметной области она
принадлежит, является по-разному.
5. История и герменевтика
Теперь я хочу еще раз вернуться к мысли, которой уже касался
и которая, на мой взгляд, существенным образом приближает нас
к пониманию логики истории. Теперь ее можно сформулировать
" Там же, с. 493.
no
История и историзм
так: интерпретация исторического процесса (от наличного в
данном известном прошлом — к его причине в том, что ему
предшествует) и его моделирование (от наличного в данном известном
прошлом — к тому известному, что из него вытекает) —
несводимы одно к другому. Это означает следующее: если верно, что
причиной некоего реального А было некое реально предшествующее
ему В, то данное В должно иметь в качестве исторически
реального следствия действительно бывшее таковым А. Каждый момент
известного нам и реально бывшего прошлого может быть объяснен
из ограниченного набора определенных предшествующих ему
фактов; но это ни в каком случае не означает, что этот ограниченный
набор совершенно определенных фактов с необходимостью
производит тот факт, который мы только с их помощью объяснили.
Другими словами, каждый момент прошлого по отношению к
своему будущему оказывается так же свободен, как и настоящее по
отношению к будущему. В то же самое время при объяснении
прошлого работает обычная логика: А в настоящем (прошлом)
произошло по причине некоего В в прошлом (предшествующем
данному).
Пиндар справедливо заметил, что даже Время, всему отец, не
может сделать бывшего небывшим. Но оно не может также
сделать любое настоящее необходимым следствием из того прошлого,
которое реально было его причиной. Это достаточно очевидное
обстоятельство причиняет множество хлопот как при понимании,
так в особенности при построении модели некоего исторического
процесса. То, что каждый момент прошлого чреват многими
возможными исходами, хотя в действительности мы сталкиваемся с
одним, заставляет нас совершенно особым образом подходить к
понятию исторического факта.
Наблюдая молнию, мы постепенно можем прийти к выводу, что
перед нами электрический разряд, направленный в тело,
оказывающее наименьшее сопротивление. Понимая это, мы поднимаем над
землей проводящий электричество металл и добиваемся нужного
эффекта: молния попадает в громоотвод. Найдя объяснение
явлению, то есть поняв причины, по которым оно происходит, мы
моделируем его, и те же причины провоцируют понятый с их
помощью эффект. Первоначально установленным фактом оказывается
многократно повторяемое явление молнии. Затем, поняв, что в
данном случае перед нами только один из случаев электрического
разряда, мы именно разряд считаем фактом и изучаем как
таковой, рассматривая разного рода явления разряда, причем молния
остается одним из явлений. Я не специалист по электричеству, и
этот пример привожу только для того, чтобы сформулировать одно
Логика истории
111
важное, на мой взгляд, обстоятельство. Фактом является то, что
требует объяснения. Молния теряет в своей фактичности как
явление природы, когда становится понятен механизм ее появления.
В других случаях факт требует предварительного установления.
Мы сталкиваемся с некоторым рядом явлений, или свидетельств,
которые не становятся фактами, потому что мы не знаем, за что
уцепиться для того, чтобы их объяснять, моделировать и
предсказывать. При обилии предсказаний будущего, например, мы не можем
сказать, что перед нами установленный факт, нуждающийся в
объяснении и моделировании. Эти три момента оказываются безусловно
связаны между собой, и мы, обладая установленным фактом и его
корректным объяснением, можем его моделировать, то есть
искусственным образом провоцировать его появление.
Известно, что в области истории нет ничего похожего46. Но
рассмотрим, в чем существо этого несходства. Уже установление того
или иного исторического факта требует интерпретации некоторых
данных, которые сами по себе являются историческими фактами,
то есть не просто явлениями, множество которых наталкивает нас
на мысль о некотором факте. И в то же время они существуют вне
нас, и даны нам в чувственном опыте. Стремясь понять и
объяснить тот или иной факт, мы ищем в его прошлом то, что его
обусловило. Однако когда мы стремимся его воспроизвести, мы
должны сознательно ограничить свою свободу тем единственным
результатом, который нам дан. Но в таком случае мы снимаем
самое главное условие идеального научного опыта: мы не
получаем результат (поскольку он уже получен), — а всякий раз
стремимся подогнать опыт под ответ. Именно поэтому, как мне
кажется, европейское чувство истории, которая стремится на свой лад
быть наукой, оказывается в тупике: ему негде свободно
реализоваться. Мы очевидным образом сталкиваемся с парадоксом:
опознав историю как сферу должного и сферу свободы, мы
останавливаемся перед ней как перед произволом, правда, в той или иной
46 Собственно говоря, мы постепенно понимаем, что и в идеализированном
научном опыте эта возможность бесконечного повторения только идеальна, то
есть она является только требованием. Как резюмирует Гадамер, «подлинный
опыт есть тот, в котором человек осознает свою конечность. Могущество и
самоуверенность его планирующего рассудка находят здесь свою границу.
Убежденность в том, что все можно переделать, что для всего есть время и что все
так или иначе повторяется, оказывается простой видимостью... Подлинный опыт
есть таким образом, опыт собственной историчности» (.Истина и метод. Основы
философской герменевтики. Перевод с нем. под общей ред. Б. Н. Бессонова. М.,
1988, с. 420-421).
112
История и историзм
степени понятным и, соответственно, оправданным. Это тем более
невыносимо, что мы действительно многое понимаем в
исторической традиции и целый ряд локальных исследований позволяет
достичь реального прогресса в ее познании. Но, скажем вместе с
Коллингвудом, идея истории при этом остается неуловимой.
Заостряя в настоящей заметке внимание именно на этом
парадоксе исторической стихии — долг и свобода в сфере
феноменов — я делаю это не в последнюю очередь для того, чтобы
показать реальность проблемы истории, несводимой ни к каким
другим проблемам. Прежде всего важно указать на безусловную
невозможность увернуться от проблемы историзма к проблеме
языка, — я говорю «прежде всего», поскольку именно этот путь
ускользанья47 от проблемы историзма избран направлением, ближе
всего чувствующим с нею живую связь.
Мне представляется неслучайным, что Гадамер такое внимание
уделяет именно письменной речи. Здесь дело не только в том, что
эта проблема унаследована герменевтикой еще от XIX века. Тот
факт, что европейская культура является культурой изначально
(то есть начиная с Гомера) письменной, является для нее одним из
конституирующих моментов. Здесь один из реальных корней
европейского историзма48, но герменевтический подход, как
представляется, ухватывает только один аспект проблемы письменной
культуры, поскольку процесс понимания и истолкования, какими
бы тонкими сетями он ни опутывал проблему, не схватывает
второго необходимого аспекта: им упускается из виду тот аспект
свободы появления текста, который дается нам только в
моделировании этого процесса нашими собственными средствами.
Задача, как представляется, состоит не в том только, чтобы пра-
47 Я часто задаюсь вопросом, не придумано ли мною это ускользанье от историзма
в ведущих философских направлениях нашего столетия. Сталкивались ли мы с
подобным феноменом в предшествующей европейской культуре? Мне
представляется, что сталкивались. Речь идет о понятии актуальной бесконечности в
античности. Оно очевидно не давалось античности, хотя античность постоянно ходила
рядом. Но что-то в структуре этого этапа развития европейского разума не позволяло
его вместить, почему и изобретались многочисленные запреты этого парадоксального
понятия.
48 «Читающее сознание потенциально владеет своей историей... Ведь
письменность это не просто какое-то случайное добавление к устному преданию, ничего в
нем качественно не меняющее. Воля к сохранению, воля к деятельности может,
разумеется, существовать и без письма. Однако лишь письменное предание способно
отделить себя от простого бытия остатков исчезнувшей жизни, позволяющих
человеческому бытию строить догадки о себе самом» (там же, с. 455).
Логика истории
113
вильно истолковать текст, открыв его для нас во всей нашей
определенности и открывшись ему во всей его определенности и
завершенности и вместе с тем в его реальной жизни в культуре. Задача
состоит в том, чтобы нащупать и ухватить условия самой его
возможности, то есть условия его свободы. Как всякий момент
настоящего дает нам правильное чувство исторической специфики времени
(истинно только то, что возможно бытие и небытие данной вещи),
поскольку понимание настоящего состоит в понимании
долженствования, но не необходимости наступления того или иного
события, точно так же и по отношению к прошлому наша задача
состоит не в подчинении себя тому, что уже свершилось именно так, а
не иначе, и не в элиминации себя из толкуемого текста, но также и
не в ведении герменевтического разговора, а в том, чтобы — уже
зная условия возможности появления некоей данности — осознать,
что именно так свободно реализовалась не необходимость, но долг.
Настоящее рассуждение призвано не развить проблему, а только
поставить, вернее — восстановить ее. То, что фоном приведенных
размышлений постоянно служил Кант, должно, на мой взгляд,
способствовать ее правильному пониманию. Для меня это
казалось естественным и потому, что именно Кант спровоцировал
добрую половину современных философий; а о злой в данном случае
не идет речи.
Истина и история *
В маленькой статье для Энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона Истина ' Владимир Соловьев формулирует:
«Истина сама по себе — то, что есть, в формальном отношении —
соответствие между мыслью и действительностью. Оба эти
определения представляют Истину только как искомое. Ибо,
во-первых, спрашивается, в чем состоит и чем обусловлено соответствие
между нашею мыслью и ее предметом, а во-вторых,
спрашивается, что же в самом деле есть? Первым вопросом — о критерии
Истины, или об основании достоверности, занимается
гносеология, или учение о познании; исследование второго — о существе
Истины — принадлежит метафизике...» 2.
Хайдеггер в позднем докладе (1962 года) Время и бытие 3
ставит следующую проблему: «Дело идет о том, чтобы сказать
немного об опыте мышления бытия без оглядки на обоснование
бытия из сущего. Попытка мыслить бытие без сущего становится
необходимой, потому что иначе, как мне кажется, не остается
больше возможности ввести особо в поле зрения бытие того, что
сегодня есть по всему земному шару, не говоря уж —
удовлетворительно определить отношение человека к тому, что до сих пор
называлось "бытием"».
Ставя рядом две цитаты, принадлежащие двум разным
философам прошлого, мы прежде всего должны задаться вопросом:
когда Владимир Соловьев говорит о том, что есть, а Мартин Хай-
• Впервые опубликовано в 1996 году в журнале «Логос» (№ 7, с. 62—80).
1 ЭСБЕ, том XIII (25 полутом). СПб., 1894, с. 473.
2 «О постепенном внутреннем развитии понятия Истины или сущего от простого
факта ощущения до идеи абсолютного всеединого существа см., — продолжает Вл.
Соловьев, — «Критику отвлеченных начал» Вл. Соловьева (вторая половина)»
(там же).
3 Хайдеггер М. Время и бытие. Составление, перевод, вступительная статья,
комментарии и указатели В. В. Бибихина. М., 1993, с. 391; Zeit und Sein / M.
Heidegger. Zur Sache des Denkens. Tübingen: Max Niemeier Verlag, 1949, S. 2.
Истина и история
115
деггер говорит о бытии без сущего, можем ли мы быть уверены,
что их сопоставление имеет определенный, причем реальный,
смысл? История развела этих мыслителей во времени, они
принадлежат к разным философским традициям и культурам,
писали на разных языках, исповедовали разную веру. Когда я ставлю
этот вопрос, понятно, что речь идет не специально о Соловьеве и
Хайдеггере, а о принципиальной возможности задать некое
единое поле, где представители разных эпох могут говорить об
одном и том же, — о бытии, в конечном счете.
Нижеследующее рассуждение не является попыткой
безусловно ответить на этот вопрос, а скорее демонстрирует
необходимость его постановки всякий раз, когда мы стремимся помимо
исторической реконструкции той или иной философии к
сквозному размышлению4 о том, что есть, или к мышлению бытия
без сущего, то есть когда мы стремимся к истине.
Между тем начать рассуждение имеет смысл с попытки
осознать, что имел в виду Соловьев и что имел в виду Хайдеггер: это
один из возможных способов постепенно открыть подступы к
искомому полю вмещения того и другого.
1. Внутреннее и внешнее откровение
Владимир Соловьев в Критике отвлеченных начал подходит к
данному определению бытия после утверждения невозможности
обособить нравственную область и придать ей «безусловное
значение, отрицая всякую зависимость должного от сущего, этики от
метафизики» 5. Противопоставляя собственную позицию
отвлеченному морализму, Соловьев считает необходимым для полного
определения положительного нравственного начала указать
положительную цель деятельности, а для этого необходимо
убеждение в ее осуществимости. «Но осуществимость этой цели зависит,
очевидно, не от ее внутреннего достоинства или желательности, а
от объективных законов сущего, которые составляют предмет не
этики, или практической философии, а философии чисто
теоретической, принадлежит к области чистого знания. В этой области
должен быть решен вопрос о подлинном бытии истинного абсо-
4 В рамках европейской философии, разумеется.
s Цитирую по изданию: Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. М., 1988, т. 1, с.
116
История и историзм
лютного порядка, на котором единственно может основаться
действительная сила нравственного начала. Но... вопрос об истине
предмета предполагает вопрос об истинности познания, задача
метафизическая требует предварительного решения задачи
гносеологической...» 6.
Мы, таким образом, видим, что у Соловьева вопрос об истине
может быть решен только в определенной последовательности,
которая определяется иерархией
гносеология-метафизика-этика. Начинать философию с проблем достоверности познания само
по себе не новость: еще у античных философов эпохи эллинизма
учение о критерии, или каноне, познания часто ставилось в
качестве начальной проблемы философии. Согласно Диогену Лаэр-
тию (VII 40), «Зенон... Хрисипп, Архедем и Евдром ставят
логику на первое место, физику на второе, этику на третье»; и
Эпикур также придерживался порядка «каноника—физика —этика»
(X 29), усматривая в канонике науку о критерии познания,
дающую подступ к предмету.
Но нужно заметить также, что в философских школах позднего
платонизма, например, вопрос о последовательности нашего
продвижения к истине решался безусловно в пользу этики как
необходимого начального этапа: с нее необходимо начать тому, кто
намерен овладеть философией и тем самым приблизиться к
истине. Правда, неоплатоники в отличие от Соловьева — и это
отличие весьма существенно — говорили о том, с чего следует
начинать обучение, и тем самым предполагали учителя и школу,
которая знает, как должно учить. Соловьев же, критикуя
отвлеченный характер новоевропейской (последекартовской) философии
и рассматривая отвлеченный реализм, натурализм и атомизм (с
их еще античными корнями), сенсуализм, отвлеченный эмпиризм
и позитивизм, тем не менее стоит на том поле, которое возделано
именно этой последекартовской философией: одно измерение этого
поля — субъект, другое — объект, и они безусловно разделены
между собой, так что познание состоит в преодолении этой
разделенное™, почему и приходится начинать решение вопроса об
истине с проблем гносеологии. Именно неприемлемость
принципиальной отвлеченности познающего от предмета познания и
приводит Соловьева к понятию всеединства. Однако возможно ли в
принципе решение этого вопроса, когда перед нами всего два
измерения: субъект и объект?
Для целей данного рассуждения нет необходимости излагать
6 Там же, с. 596.
Истина и история
117
всю систему опровержений предшествующих философских
воззрений, проводимую Владимиром Соловьевым. Но заключение
раздела об истине необходимо привести, тем более что для
Соловьева оно оказывается практически заключением и всей его
Критики, то есть переходом к положительной постановке вопроса.
«...истина познания определяется истиною предмета, истина же
предмета состоит, во-первых, в его действительности и,
во-вторых, в его универсальности... предмет в своей настоящей и
полной действительности определяется, во-первых, как безусловно-
сущий (ens, όντως öv), во-вторых, как некоторая неизменная и
единая сущность (essentia, ουσία), или идея, и, наконец,
в-третьих, как некоторое актуальное бытие или явление (actus,
phaenomenon), ...соответственно этому и действительное
познание предмета (объективное познание) определяется, во-первых,
как вера в безусловное существование предмета, во-вторых, как
умственное созерцание или воображение его сущности или идеи
и, наконец, в-третьих, как творческое воплощение или
реализация этой идеи в актуальных ощущениях или эмпирических
данных нашего природного чувственного сознания.
Первое сообщает нам, что предмет есть, второе извещает нас,
что он есть, третье показывает, как он является. Только
совокупность этих трех фазисов выражает полную действительность
предмета.
Затем остается еще вопрос о втором существенном элементе
истины, об универсальности предмета, от которой должна зависеть
универсальность нашего сознания» 7.
Мы видим, таким образом, не неожиданное в европейской
философии понимание предмета как единства явления, сущности и
бытия (Соловьев говорит соответственно об актуальном бытии, в
качестве какового для него выступает явление; идее, доступной
нам в умственном созерцании, или воображении; и безусловно
существующем — терминология не должна нас здесь сбивать, если
мы понимаем существо дела8); предмет понимается при этом в
универсальной связи со всем, хотя каждый данный предмет и не
7 Там же, с. 734.
8 При этом условии меня решительно не заботят ни особенности языка того или
иного автора, ни стилистика перевода: они в данном случае не относятся к
существу дела, поскольку при желании понять существо мы обладаем такой
способностью независимо от этого; когда же философ утверждает, что существо дела именно
в этом, заподозрим его в лукавстве и отнесемся к нему с улыбкой Сократа, в
платоновском Кратиле (439Ь) заметившего, что «не из имен нужно изучать и
исследовать вещи, по гораздо скорее из них самих».
118
История и историзм
есть все. И именно предмет, пусть даже универсально
понимаемый, определяет наше сознание и его универсальность. Таким
образом, и здесь Вл. Соловьев вполне вписывается в рамки
критикуемой им новоевропейской философии 9.
Выше Вл. Соловьев подробно раскрывает сущность каждой из
трех ступеней. Приведем только характеристику того, с чего
начинается, по Соловьеву, процесс нашего действительного
познания какого-нибудь существующего предмета: «Во-первых, мы
утверждаем с непосредственной уверенностью, что есть некоторый
самостоятельный предмет, что есть нечто, кроме субъективных
состояний нашего сознания... Это его бытие в себе не может быть
дано ни в каких относительных состояниях познающего, а может
быть доступно субъекту только в том его внутреннем единстве с
предметом, в силу которого он есть в предмете и предмет есть в
нем (его безусловное бытие = безусловному бытию предмета),
связь, которая сама по себе лежит глубже нашего природного
сознания, но и в нем находит себе некоторое выражение, именно
в акте непосредственной уверенности, предшествующем всякому
ощущению и всякой рефлексии» 10.
Необходимо специально обратить внимание именно на этот
момент.
Во-первых, именно здесь мы имеем основу постижения истины,
заключающуюся в этой несомненной, причем дорефлективной
уверенности в том, что другое — есть; а имеем мы эту основу потому,
что она — общая бытийная основа субъекта и предмета познания.
Во-вторых, мы понимаем, что хотя Соловьев и утверждает, что
«вопрос об истине предмета предполагает вопрос об истинности
познания», что «задача метафизическая требует
предварительного решения задачи гносеологической...», мы тем не менее уже в
решении познавательной задачи сталкиваемся с подлинным
бытием и истиной не на уровне истинного суждения и тем самым не
на уровне рассудка, а на уровне, более глубоком, чем сознание.
Можно зафиксировать этот вывод в следующем утверждении:
бытию данного предмета и тем самым его истине предшествует
бытие как таковое и тем самым истина как таковая, совпадающие
с бытием как таковым и истиной как таковой познающего субъекта.
9 Проф. А. Ф. Лосев при изложении Критики отвлеченных начал пишет, что
отдельные ее страницы (посвященные диалектике всесдиного сущего) являются
«наилучшим образцом построения именно в духе классической философии Гегеля
и Шеллинга» (Владимир Соловьев и его время. М., 1990, с. 129—130).
10 Там же, с. 732.
Истина и история
119
Познание, основанное, по Вл. Соловьеву, на вере, то есть на до-
рефлективной уверенности в том, что наряду с нами есть нечто вне
нас, и это нечто обладает безусловным бытием, которое одно у него
и у нас, позволяет нам достичь истины принципиально, поскольку
это бытие — истина столь же наша, сколь и всего того, чем мы не
являемся. Эта изначальная уверенность есть то мистическое в нас,
что проявляется как «в душе человеческой (через внутреннее
откровение), так и в своем внешнем проявлении, в истории
человечества (откровение внешнее, или положительное)»".
В статье Откровение, написанной для той же энциклопедии
Брокгауза и Ефрона, что и статья Истина, Владимир Соловьев
настаивает на том, что «самый ясный и полный тип откровения
представляет нам развитие еврейско-христианской религии. Здесь (с
христианской точки зрения) различаются три главные степени или
фазиса: подготовительное откровение, памятник которого есть
Ветхий Завет, центральное, содержащееся в Новом Завете, и
окончательное, имеющее совпасть с исходом мирового процесса»,2.
Когда у нас перед глазами явственно помещен этот исторический
фон рассуждений Соловьева, мы отчетливее понимаем, что
парадоксальное обстоятельство, отмеченное нами выше, а именно,
полная возможность рассмотреть круг рассуждений Соловьева в
пределах мысленного поля критикуемой им западноевропейской
философии, получает свое обоснование и тем самым снимается в
другом парадоксе: подлинное мысленное поле, умственный окоем, в
пределах которого мы можем правильно разместить отдельные
рассуждения Соловьева, — это не только и не столько последекартов-
ская европейская философия, но и вбирающая ее область
человеческой истории, которая сама получает подлинный ход и меру
потому, что вмещает божественное откровение. Поэтому ни
гносеология, ни отвлеченная философия, ни позитивные науки не дают нам
истины в ее полноте. Это может дать только «свободная и научная
теософия»,3, призванная заменить традиционную теологию и
организовать в полную систему всю область истинного знания.
11 Там же, с. 739. Непосредственно выше Соловьев отмечает, что «необходимый
для истинного знания синтез элементов, мистического и природного, при
посредстве элемента рационального есть не данность сознания, а задача для ума, для
исполнения которой сознание представляет только разрозненные и отчасти
загадочные данные», — обратим на это специальное внимание уже сейчас, чтобы
осознанно воспринять это впоследствии.
12 ЭСБЕ, том XXVII. СПб., 1897, с. 424.
13 Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. М., 1988, т. 1, с. 742.
120
История и историзм
Мы можем правильно понять запрос Соловьева и откликнуться
на него только в этом единственном случае: когда в качестве
предметной области знания в наш умственный кругозор оказывается
вмещенной и христиански понимаемая история с ее
несомненными фактами божественного откровения. Соловьев требует: «Вся
природа, все эмпирические элементы нашего бытия должны быть
организованы, должны быть внутренно подчинены нашему духу,
как наш дух должен быть внутренно подчинен божественному»;
«для истинной организации знания необходима организация
действительности. А это уже есть задача не познания, как мысли
воспринимающей, а как мысли созидающей, или творчества» ,4.
Завершая на этом первый подход к пониманию соловьевского
фрагмента, я еще раз хочу напомнить: я не стремлюсь дать
интерпретацию философии Соловьева, а только стремлюсь найти
релевантное пространство для понимания некоторых
утверждений Соловьева о бытии и истине. Специфика этого пространства,
как мы видим, состоит в том, что Соловьев строит свои
рассуждения на концептуальном фоне и в контексте новоевропейской
философии, в рамках которой он задает резонные вопросы и
проводит критический подход к ее положениям; но сущностным фоном
и постоянным подтекстом его размышлений служит также
христиански понимаемая история, требующая вмещения в сферу
нашего опыта таких несомненных фактов, как откровение Бога
Моисею или земная жизнь Иисуса15.
2. Время и бытие
Попытаемся теперь сходным образом определить контекст и
разглядеть некий мысленный горизонт, найти пространство, в
пределах которого мы могли хотя бы до некоторой степени уверенно
понять то, что хочет сказать Хайдеггер, стремящийся намекнуть
на опыт мышления бытия без сущего |6.
14 Там же, с. 743.
15 Можно было бы подробней обосновывать предлагаемое пространство
интерпретации рассматриваемых соловьевских текстов, по в этом нет необходимости для
настоящего рассуждения. Внимательный и сочувственный ум может провести их
сам, а для опровержения принципиального оппонента нужно знать его точку
зрения и отправные пункты его рассуждения. Пусть же труд опровержения лежит на
нем, поскольку предлагаемый мною подход здесь уже в принципе изложен.
16 Ради вхождения в эту проблематику у Хайдеггсра, может быть, имеет смысл
в первую очередь припомнить вводные замечания из Бытия и времени: «Бытие не
Истина и история
121
По ходу рассуждений в своем тексте-намеке Хайдеггер,
припоминая рассуждение Аристотеля, подходит к следующему тезису:
«то, что от времени есть, то есть присутствует (d. h. anwest), это
каждое теперь. Прошедшее и будущее суть μη öv τι: нечто не
сущее, хотя и не просто ничтожное, а такое присутствующее
(Anwesendes), которому чего-то не хватает, каковая нехватка
обозначается через "уже не" — "еще не"» ". Так Хайдеггер простейшим и
отчетливейшим образом противопоставил сущее и бытие: в самом
деле, прошлое и будущее безусловно присутствуют, то есть они
так или иначе прйчастны бытию '\ или охвачены им; но они при
этом не существуют, то есть они не суть сущие, сущее их не
охватывает.
Поскольку Хайдеггер для рассмотрения понятия времени
привлекает Аристотеля, припомним и мы вместе с ним
соответствующие главы из четвертой книги Физики Аристотеля. Начиная
рассуждение о времени в главе десятой 19, Аристотель приводит
апории, возникающие в связи с этим понятием: «Одна его часть была,
и ее уже нет, другая — будет, и ее еще нет... А то, что слагается
из несуществующего, не может, как кажется, быть причастным
существованию. Кроме того, для всякой делимой вещи, если только
она существует, необходимо, чтобы, пока она существует,
существовали бы или все ее части, или некоторые, а у времени,
которое [также] делимо, одни части уже были, другие — будут, и
ничто не существует. А «теперь» не есть часть...»20.
Мы можем обнаружить еще ряд моментов, подтверждающих,
что текст Аристотеля — реальный фон хайдеггеровской мысли21,
может быть постигнуто как сущее; enti non additur aliqua natura: бытие ne может
прийти к определенности через приписанис ему сущего. Бытие по определению не
может быть выведено из высших понятий и представлено посредством низших...»
(17. Aufl. Tübingen: Мах Niemaycr Verlag, 1993, S. 4).
17 Хайдеггер M. Указ. изд., с. 397 (cd. cit., S. 11).
18 Ср.: Heidegger M. Vom Wesen der Wahrheit / M. Heidegger. Gesamtausgabc.
1. Abtl., Veröfentlichtc Schriften 1914-1970. Bd. 9. Wegmarken. Frankfurt a. M.:
Vittorio Klostermann, 1976, S. 96: "Im Begriff des »Wesens« aber denkt die Philosophie
das Sein". Вообще заметим, что из этой статьи Хайдсггсра можно многое
почерпнуть для нашего рассуждения, хотя по существу тема ее — иная.
19 На эту главу из Физики в связи с аналогичным рассуждением о jetzt-nicht-
mchr и jetzt-noch-nicht прошедшего и будущего Хайдеггер указывает в § 81 Бытия
и времени (17. Aufl. Tübingen: Max Niemaycr Verlag, 1993, S. 421).
20 Цитирую по переводу В. II. Карпова в издании: Аристотель. Сочинения: В 4 т.
М., 1981, т!з, с. 145.
21 На это всякий раз очень важно обращать внимание, поскольку включение
того или иного имени или сочинения в текст некоего рассуждения еще не означает,
122
История и историзм
в частности, можем отчетливей понять подтекст и реальный смысл
рассуждений о различии настоящего и теперь.
Попробуем продумать следующее утверждение Хайдеггера:
«...настоящее в смысле присутствия (die Gegenwart im Sinne von
Anwesenheit) настолько отлично от настоящего в смысле Теперь, что
настоящее как присутствие никоим образом не поддается
определению из настоящего как Теперь. Скорее возможным кажется
обратное (ср. Бытие и время, §8122). Окажись это верным, настоящее
как присутствие и все принадлежащее к такому настоящему
должно было бы называться собственно временем, хотя непосредственно
оно не имеет в себе ничего от привычно представляемого времени в
смысле исчислимой последовательности Теперь» 23.
Припомним приведенное рассуждение Аристотеля: время состоит
из настоящего, прошедшего и будущего, — они его части. По-
другому можно сказать: части времени суть настоящее,
наставшее и имеющее наступить. Все три части времени так или иначе
присутствуют, то есть они опознаются нами в качестве так или
иначе причастных бытию, но прошедшее и будущее — в качестве
уже не сущего и еще не сущего — не причастны сущему.
Бытийное присутствие объединяет части времени, но единственно сущее
Теперь не есть в собственном смысле часть времени. Оно
отъединено от частей времени и тем самым от времени как такового и
в качестве отъединенного разделяет время, делает его счислимым.
Выше мы попытались понять Хайдеггера на фоне Аристотеля.
Но правильно ли мы поступаем, интерпретируя на сей раз
Аристотеля с оглядкой на Хайдеггера? Мне представляется, что
правильно, если мы сможем убедиться, что правильно найдено то
мысленное поле, которое действительно дает возможность
встретиться Аристотелю и Хайдеггеру, а тем самым и нам встретить их
что данные имя или сочинение в действительности являются реальным фоном
включающего их рассуждения. Ближайший пример — из Соловьева: когда в Критике
отвлеченных начал Соловьев в качестве элементарных форм гилозоизма приводит
«натуралистические воззрения начинающей философии» (указ. изд., с. 616 слл.),
то мы менее всего можем усмотреть здесь реальную стихию греческой мысли, но
зато с легкостью угадываем расхожий в историко-философских изложениях
прошлого века образ начала античной философии. Античность как таковая не была
реальным фоном размышлений Соловьева; единственно Платон постепенно
просыпался как таковой от летаргии к алетейе в мысленном круге доступного Соловьеву
мира. В то же время реальная включенность в ход иной мысли нисколько не
означает совпадения с ней, как не означает единомыслия реальная включенность
собеседников в общий разговор.
22 "Das »Jetzt« ist wesenhaft Jetzt-da..." (Sein und Zeit, S. 422).
23 Хайдеггер M. Указ. изд., с. 397-398 (ed. cit., S. 12).
Истина и история
123
по ходу нашего рассуждения. Я постараюсь объяснить, почему я
считаю, что это возможно.
В начале тринадцатой главы рассматриваемой книги Физики
Аристотель говорит: «"Теперь"... есть непрерывная связь
времени: оно связывает прошедшее с будущим и вообще есть граница
времени, будучи началом одного и концом другого. Но это не так
заметно, как для пребывающей точки. Ведь теперь разделяет в
возможности... с одной стороны, оно деление времени в
возможности, с другой — граница обеих частей и их объединение, а
разделение и соединение одного и того же тождественно, только
бытие их различно» 24.
Мы видим, что Аристотель не опровергает наше понимание
настоящего и теперь, а уточняет и развивает его. В самом деле, мы
стремились понять различие настоящего и «теперь» у Хайдеггера
и пришли к выводу, что «теперь» дает представление о исчисли-
мости и последовательности потому, что оно отъединено от
времени. Аристотель, подтверждая такое понимание, решительно
уточняет его: «теперь» двояко, поскольку оно и потенциально делит
время на части, и реально объединяет их. Мы говорим вместе с
Аристотелем, что «теперь» делит потенциально, потому что оно
отделяет уже прошедшее, бывшее, от еще не наступившего,
будущего. Но объединяет оно их реально, поскольку единственно
«теперь» — есть, то есть поскольку оно — сущее. Таким образом,
бытие двух «теперь» различно: «теперь» возможное и
разделяющее обеспечивает переход от одного к другому, раздельность этих
одного и другого, и оно же позволяет сосчитать их в качестве
раздельных; и есть другое «теперь» — всегда узнаваемое и
тождественное, всегда наличное, присутствующее и в качестве
такового объединяющее части времени. Я думаю, мы можем
назвать это второе «теперь» — настоящим.
Теперь нас не поставит в тупик следующее замечание Хайдеггера:
«настоящее как присутствие настолько резко отличается от
настоящего в смысле Теперь, что настоящее как присутствие никоим
образом не поддается определению настоящего как теперь»25. Я думаю,
это теперь представляется очевидным. Мы понимаем, почему
непосредственно перед ссылкой на Аристотеля Хайдеггер замечает:
«...мы не привыкли определять собственно время (das Eigene der
Zeit) из взгляда на настоящее в смысле присутствия. Наоборот,
время — единство настоящего, прошедшего и будущего — пред-
24 Указ. изд., с. 154.
25 Время и бытие, указ. изд., с. 397.
124
История и историзм
ставляют исходя из теперь». Но мы понимаем теперь, что единство
настоящего, прошедшего и будущего обеспечено тем, что все они, а
не только настоящее, на свой лад присутствуют, то есть обладают
бытием.
Точно так же очевидными для нас окажутся и многие другие
замечания Хайдеггера, продуманные на фоне Аристотеля, в
частности замечание о невозможности удержать попытку в Бытии и
времени §70 «возводить пространственность человеческого
присутствия к временности»26.
Я не буду продолжать это сопоставление текстов Хайдеггера и
Аристотеля, поскольку основная его цель — в том виде, в каком
она мне представлялась, — достигнута. А именно, мы с
очевидностью обнаружили, что мысленный горизонт рассмотрения текста
Хайдеггера включает в себя Аристотеля, причем Аристотеля как
такового, как античного мыслителя, как принадлежащего
античности, как реального представителя античной философии, а не
как некий ее новоевропейский образ27 или некое хайдеггеровское
новообразование, некая фикция, родившаяся у Хайдеггера
только из определенного рода негативности, из осознания
необходимости «деструкции», то есть пересмотра перекрывающих,
удерживающих от будущего и тем самым скрывающих прошлое
последующих эпох. Даже если в других текстах Хайдеггера мы
найдем и такого рода фикции, существенней то, что античность как
таковая тем не менее высвечивалась в его мысли, и он реально
вступал в ее мысленное пространство. Однако этот чрезвычайно
важный пласт и фон рассматриваемого хайдеггеровского текста
недостаточен для его подлинного понимания. Здесь необходимо
по крайней мере еще одно указание.
Продолжим приведенную выше цитату из Времени и бытия,
рассмотрение которой спровоцировало обратиться к Аристотелю.
26 Там же, с. 405. Ср. Sein und Zeit, ук. изд., с. 369: *Nur auf dem Grunde der
ekstatisch-horizontalen Zeitlichkeit ist der Einbruch des Daseins in den Raum möglich*.
Изменение взгляда Хайдеггера на проблему соотношения пространства и времени
представляется кардинальным, то есть поворотным, и пограничным,
очерчивающим границу применения и значимости хайдеггеровского опыта.
27 Вспомним, что выше именно ориентация на этот новоевропейский образ
античности была отмечена у Соловьева, интерпретирующего античную философию: в
поле зрения — умозрения — Соловьева античность как таковая еще не показалась,
не проросла, хотя, как предположено выше, и готовилась прозябнуть в
платоновской делянке.
Истина и история
125
3. Разум и история
«Прошедшее и будущее суть μή δν τι: нечто не сущее, хотя и не
просто ничтожное, а такое присутствующее, которому чего-то не
хватает, каковая нехватка обозначается через "уже не" — "еще
не". Так увиденное, время оказывается рядом последовательных
Теперь, из которых каждое, едва названное, сразу исчезает в "вот
только что" и уже гонимо наступающим "вот сейчас". Кант
говорит о так представленном времени: "У него только одно
измерение"».
Постараемся понять, зачем Хайдеггер вспоминает здесь своего
постоянного оппонента-опору, и ради этого приведем несколько
рассуждений Канта о времени. В Трансцендентальной эстетике
о времени читаем: «Время имеет только одно измерение:
различные времена существуют не вместе, а последовательно...
Различные времена суть лишь части одного и того же времени... мы...
представляем временную последовательность с помощью
бесконечно продолжающейся линии, в которой многообразное
составляет ряд, имеющий лишь одно измерение» 2в.
Я продолжу эти цитаты рядом рассуждений из
Трансцендентальной логики, из Второй главы Аналитики основоположений.
«Между двумя мгновениями всегда имеется время... всякий переход из
одного состояния в другое совершается во времени, причем первое
из этих мгновений определяет состояние, из которого выходит вещь,
а второе — состояние к которому она приходит... Изменение не
состоит из таких мгновений, а производится ими, как проявление
их... Это продвижение вперед во времени определяет все и само по
себе ничем не определяется, то есть части его даны только во
времени и посредством синтеза времени, но не раньше времени...» 29.
Начиная прислушиваться к такого рода рассуждениям и входя
в них, мы обретаем и на мгновение можем сохранить иллюзию,
будто речь идет о том же, о чем мы только что говорили с
Аристотелем и Хайдеггером: о времени. Но стоит нам убрать
многоточия и восстановить контекст, нелепость такого предположения
бросится нам в глаза: априорная форма чувственности как
таковая может быть понята только в другом контексте и, как на
первый взгляд представляется, не имеет сущностных точек сопри-
28 Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1964, т. 3, с. 136-138.
29 Там же, с. 272-273.
126
История и историзм
косновения ни с Аристотелем, ни с Хайдеггером. Но зачем же в
таком случае Хайдеггер припоминает здесь Канта? Зачем в
работе того же 1962 года он специально разбирает Тезис Канта о
бытии, явно вновь обнаруживая потребность найти (для
фундаментальной онтологии? для поставленной Кантом под вопрос
метафизики?) поддержку и обоснование в Канте?
Для того чтобы действительно приблизиться к ответу на этот
вопрос, припомним, что в год появления Бытия и времени
Хайдеггер читает лекции по Критике чистого разума, легшие в основу
вышедшей первым изданием в 1929 году книги Кант и проблема
метафизики30. Хайдеггер подчеркивал, что эта книга имеет смысл
только при рассмотрении ее вместе с Бытием и временем 31, а
существо хайдеггеровского подхода к Критике чистого разума
Канта состоит в том, что она, по Хайдеггеру, не является теорией
математического и естественнонаучного познания, поскольку это
вообще не теория познания32. Речь у Канта идет, поясняет
Хайдеггер, об обосновании метафизики, и потому необходимо понять
ту его форму, которую избрал Кант. Это значит, что мы должны
обоснование метафизики понять как критику чистого разума33
и не должны забывать, что избранная Кантом форма трактата
о методе есть форма разработки онтологической проблематики.
Центральный вопрос кантовской критики «как возможны
синтетические суждения a priori», который спровоцировал
проведение обоснования метафизики как критики чистого разума, по
существу и является для Хайдеггера вопросом о том, как можно
мыслить бытие без сущего. Вернувшись таким образом к
основному вопросу, с которого началось наше рассуждение, мы
покамест нисколько не приблизились к ответу на него, но зато
оказались в состоянии гораздо отчетливее уяснить горизонт, в
пределах которого мыслится этот вопрос. Ясно также, что здесь же
30 Пятое издание с прекрасным приложением вышло в издательстве Vittorio
Klostermann (Frankfurt a. M., 1991).
31 См. в указанном издании 1991 года с. XII —XIII (в предисловии к четвертому
изданию Хайдеггер приводит записку, вложенную в рукопись первого издания:
«Mit S. u Ζ. («Sein und Zeit») allein — ») и с. XVI (предисловие к первому
изданию, где Хайдеггер поясняет, что толкование Критики чистого разума появилось
в связи с первой разработкой второй части Бытия и времени, а как историческое
введение оно проясняет проблематику первой части).
32 «Die Kritik der reinen Vernunft hat mit «Erkenntnistheorie» nichts zu schaffen»
(ibid., S. 17); «sie ist ...überhaupt keine Erkenntnistheorie» (ibid., S. 271); etc.
33 Именно так называется третий параграф первого раздела: Die Grundlegung
der Metaphysik als «Kritik der reinen Vernunft» (ibid., S. 13 ff.).
Истина и история
127
должен встать и вопрос об истине, и нас теперь нисколько не
удивит, что Хайдеггер ставит этот вопрос в том самом параграфе,
где хочет показать, что означает обоснование онтологии как
критика чистого разума.
«Поскольку к существу любого познания принадлежит его
истинность, трансцендентальная проблема внутренней
возможности синтетического познания a priori является вопросом о
существе истины онтологической трансценденции. Это означает
определение существа "трансцендентальной истины", "которая
предшествует всякой эмпирической и делает ее возможной". "В самом
деле, никакое знание не может противоречить ей, не утрачивая
вместе с тем всякого содержания, то есть всякого отношения к
какому бы то ни было объекту, стало быть, всякой истины".
Истина существующего необходимо следует истине бытия» м.
«Истина существующего» означает «истина настоящего», разумеется
— «настоящего времени», ибо только оно — в отличие от
прошлого и будущего — по-настоящему существует. И если мы
сейчас устанавливаем понимание этого, перед нами открывается
определенный горизонт, очерчиваемый таким пониманием.
Выше мы убедились, что «уже не» и «еще не сущее», то есть
прошлое и будущее, так или иначе — каждое на свой лад —
охвачены бытием. Предлагая мыслить бытие без сущего,
Хайдеггер по существу предлагает нам мыслить время без того, что
является его первой приметой: без последовательно наступающих
теперь, делающих время счисляемым и отделяющих настоящее от
будущего. Время в смысле сплошной объединенности, единения
того, что мы знаем как прошлое, настоящее и будущее,
оказывается сплошным настоящим. В так понимаемом времени ничто не
скрыто, всё явлено как настоящее. Это значит, что так
понимаемое время оказывается абсолютной (=отрешенной от «уже не» и
«еще не сущего») открытостью, или, говоря иначе, сферой
сплошного откровения. Это, собственно, уже не время, или если угодно
— это еще не время.
Точно так же сущее, когда оно оказывается изъято из оппозиции
к уже не и еще не сущему, до известной степени перестает быть
сущим. Оно безусловно сохраняет свою охваченность бытием, и
тогда истина сущего следует истине бытия постольку, поскольку
открываемая нам в настоящем истина следует истине как таковой,
34 Ibid., S. 17. Хайдеггер цитирует Канта по первому (А) и второму (В)
изданию Критики чистого разума Р. Шмидта в Meiners philosophische Bibliothek ( 1926):
А 146 (русск. перевод, с. 268), В 185; А 62 f. (русск. перевод, с. 162), В 87.
128
История и историзм
которая на сей раз изъята из сферы перехода от «уже не» к «еще
не», объединяющей для нас обе истины. В таком случае вся сфера
собственно времени (последовательных теперь) может
рассматриваться как сфера постоянного частичного откровения истины
бытия, которое однако все-таки остается для нас — насколько мы
смогли к нему приблизиться — сферой сущего, то есть того, что в
принципе предполагает еще не сущее и уже не сущее.
Покамест для нас эта сфера откровения абсолютно пуста. Сам
Хайдеггер предпочитает в данном случае говорить о безымяннос-
ти35. В отличие от Соловьева, который знает, что в рамках
христианского мировоззрения есть предварительное, центральное и
окончательное откровение божественной истины людям,
Хайдеггер, находясь в хорошо описанном им состоянии Sorge, этого уже
не знает. Но к чему приходит он при осмыслении этого
состояния? — Один из ответов, важный для нас: к истории.
Посвящая ряд параграфов в Бытии и времени истории,
историчности, мировой истории, а также затрагивая этот вопрос во
Времени и бытии, Хайдеггер настоятельно подчеркивает, что речь
идет не о том, что называется исторической действительностью,
которая как объект предстает познающему субъекту, и не о науке
истории: обе они исходят из прошлого, остатки которого могут
остаться и в настоящем или быть оценены на основе
последующих событий и в их свете как «эпохальные»36. Но «историческое
раскрытие обретает временной характер из будущего» 37. В чем
смысл этого заявления?
Когда мы предположили это странное время, которое все
целиком и сплошь открыто нам как настоящее, мы не могли не
отметить его принципиальной предрасположенности к уже не и еще
не сущему. И тем не менее мы рассматриваем его как сплошное
настоящее. В чем же проявляется эта его предрасположенность к
«еще не» и «уже не»?
Говоря, что это странное время ограничено настоящим, мы по
существу отказались мыслить в нем будущее: мысленно открыв
все время, мы по существу открыли все прошедшее время и
отказались от возможности наступления будущего, потому что все
то, что в свое время воспринималось как будущее, уже настало.
Перед нами оказалось то, что Владимир Соловьев назвал сферой
33 «Чтобы человек мог... снова оказаться вблизи бытия, он должен сперва
научиться существовать на безымянном просторе». — Письмо о гуманизме (в книге
Время и бытие, с. 193).
36 Sein und Zeit, § 73, S. 378 f. 37 Ibid., S. 395.
Истина и история
129
окончательного откровения, и при этом, создав такой его
мысленный образ, мы понимаем и Хайдеггера, утверждающего, что
«историческое раскрытие обретает временной характер из
будущего». Сфера исторически раскрывающегося бытия может быть
определена нами теперь как то, что в прошлом присутствовало
как будуицее, в модусе настоящего.
Но это же есть и сфера откровения, то есть сфера истины. «Быть
истинным (истина) означает быть открывающими» м. Однако мы
можем понять это неправильно, если не учтем один, ясный для
обоих мыслителей момент. Выше39 обращалось внимание на
замечание Соловьева о том, что «необходимый для истинного знания
синтез элементов, мистического и природного, при посредстве элемента
рационального есть не данность сознания, а задача для ума
(выделено мной — Ю.Ш.), для исполнения которой сознание
представляет только разрозненные и отчасти загадочные данные». О
том же говорит и Хайдеггер, в статье Тезис Канта о бытии:
«Тезис Канта о бытии остается в силе: бытие есть «просто полага-
ние»... «Просто» имеет в виду чистое отношение объективности
объекта к субъективности человеческого познания... Различие в
способах полагания определяется из источника исходного полага-
ния. Это — чистый синтез трансцендентальной апперцепции. Она
есть первоакт познающего мышления»40.
Мы можем при правильном следовании тому, о чем идет речь,
увидеть еще одну общую заботу обоих рассматриваемых
мыслителей. Для того чтобы подобраться к истине, необходимо
«продумать бытие без оглядки на метафизику» 41. «...то главное, что
имеет в виду наш ум в своей теоретической деятельности, —
познание самой истины, то есть познание сущего не только в его
данной действительности, но и в его целости, или
универсальности, познание всего в единстве, — говорит Соловьев, — эта цель
столь же мало достигается положительною наукою, как и
отвлеченной философией»42. Эта общая забота явственно усматривается
несмотря на различие терминологии и конкретной задачи, стоящей
перед каждым. Попытаемся нащупать ее общий смысл.
м Ibid., S. 219.
39 См. примеч. 11.
ю Цит. по Время и бытие, с. 374. Kants These über das Sein / M. Heidegger.
Gesamtausgabe. 1. Abteilung, Bd. 9, S. 296: "...Immer noch gilt Kants These über
das Sein: es ist »bloß die Position«..."
41 Там же, с. 406.
42 Цитирую по изданию: Соловьев В. С. Сочинения: В '2 т. М., 1988, т. 1,
с. 739-740.
5-974
130
История и историзм
4 . Истина
Мне сильно сдается, что с вопросом о смысле общей заботы
Соловьева и Хайдеггера мы вновь вернулись к тому, о чем шла
речь в начале этих заметок: о принципиальной возможности задать
некое единое поле, где представители разных эпох могут
говорить об одном и том же, — о бытии, в конечном счете.
Обратившись к этой главной задаче, стоящей в данном случае перед нами,
пройдем еще раз тот путь, по которому мы к ней возвращаемся.
Пытаясь понять, что имеют в виду в своих размышлениях об
истине Соловьев и Хайдеггер, мы пришли к необходимости
включить и того, и другого в релевантный для каждого мыслительный
контекст: для Соловьева таким контекстом оказалась
новоевропейская философия, для Хайдеггера — античная, в частности
Аристотель.
Соловьев осознает неудовлетворительность указанного
контекста, и именно осознание его неудовлетворительности
провоцирует его к формулировке того, что является главным, на его взгляд,
недостатком непосредственно предшествующей ему мысли. Ни
отдельные науки, исходящие из находящихся вне мыслящего
субъекта фактов, из внешней реальности, ни рациональная философия,
усматривающая основание истины в разуме, —
неудовлетворительны сами по себе, в силу чего Соловьев формулирует идею
всеединого, но не в отрицательном смысле, а в положительном,
каковое есть «не то, что содержится во всем, а то, что все в себе
содержит, что есть абсолютное не как отрешенное (ото всего), а
как совершенное (во всем)».
«Всеединство, как настоящая форма истины, — продолжает
Соловьев, — не может существовать ни само по себе, ибо форма
сама по себе, то есть форма без содержания, есть бессмыслица,
ни в нашем разуме только, ибо тогда это будет только наша
субъективная мысль; всеединство, как форма истины, предполагает
безусловную реальность того, чего оно есть форма, то есть
всеединого, которое, следовательно, определяется не как
истинно-мыслимое только, но как истинно-сущее» 43.
Соловьев противопоставляет истинно-сущее всякому
конкретному бытию, отмечая при этом, что истинное познание есть преж-
43 Критика отвлеченных начал / Ук. изд., с. 681.
Истина и история
131
де всего познание сущего, которое мы должны различить с его
относительным бытием44. Именно устремленностью к этому
положительному всеединству, к этому истинно-сущему без его
относительного бытия отличалась традиционная теология, которая однако
в силу ее отвлеченного догматизма, отрицательно относящегося к
разуму и науке, была сменена рационализмом (теоретической
философией) и реализмом (научным знанием, исходящим из опыта).
Но «если истина не может определяться как только мысль
разума, если она не может определяться как только факты опыта, то
она точно так же не может определяться как только догмат веры»45.
Истина необходимо должна быть и тем, и другим, и третьим и
обнимать все эти исторические сменяющие друг друга подступы к
истине, «...истина не только вечно есть в Боге, но и становится
в человеке, а это предполагает, что в последнем она еще не есть,
предполагает в нем двойственность между истиною (всеединством),
как идеалом, и неистиною (отсутствием всеединства), как фактом
или наличной действительностью, предполагает, что эта наша
действительность не соответствует правде Божией. Соответствие между
ними, еще не существующее, только устанавливается в процессе
мировой жизни, поскольку истина становится в
действительности»46. Вот почему, пытаясь понять более полно тот фон, на
котором мысль Соловьева выявляет свои самые общие, а не только
конкретно-эмпирические задачи, мы прежде пришли к выводу,
— и теперь утверждаемся в нем, — что у Соловьева этот фон —
человеческая история, то есть — с христианской точки зрения —
история как откровение, имеющее ряд этапов.
Рассматривая подходы к решению Хайдеггером проблемы
бытия без сущего (то есть того, что Соловьев разумеет под истинно-
сущим без его актуального бытия), мы обнаружили, что именно в
этой сфере решается проблема истины, а также пришли к тому,
что в данном случае мы также неизбежно обращаемся к истории.
Но о какой истории идет речь здесь? — Не об исторических
фактах и не о науке истории, а о той парадоксальной сфере, которую
мы определили как ставшее прошлым будущее в модусе
настоящего. Более конкретно мы обратили внимание на то, что для
Хайдеггера таким настоящим оказалась европейская мысль в ее
истоках: античность, античная философия47.
« Ibid., с. 697. " Ibid., с. 741. " Ibid., с. 745.
47 Для Соловьева это настоящее мысли — прежде всего область
положительного, или божественного, откровения.
5·
132
История и историзм
Помимо этого, несмотря на очевидную противопоставленность его
позиции Канту, Хайдеггер именно в Канте ищет ту опору, которая
позволяет размышлять о бытии без сущего. В отличие от
Соловьева, умудренный опытом уже XX века Хайдеггер не стремится
построить новое исходя из недостаточности прежнего и настоящего, он
не занят также проблемой синтеза уже бывшего, но полон заботы о
том, чтобы сохранить как настоящее то, что является подлинным
откровением бытия в сущем48. Эта сфера раскрывающегося бытия
и есть сфера истины, но не как непосредственная данность, а как
«задача для ума» (как говорит Соловьев), не как «грубая отмычка,
открывающая все загадки мышления, но αλήθεια — сама загадка,
дело мысли», — формулирует уже Хайдеггер49.
Поэтому, если мы сейчас еще раз зададимся вопросом, зачем
Хайдеггер так внимательно присматривается к Канту и делает его своей
опорой, я думаю, ответ будет состоять в том, что именно здесь, в
Канте, открылась истина, и дело мысли — продумать характер ее
откровения. Точно так же и Парменид, и Платон, и Аристотель —
не просто древние мыслители, а откровение истины, то есть некое
прошлое, из будущего открывающееся мысли как настоящее.
Собственно говоря, к чему-то сходному мы прийдем и в том
случае, если вместе с Соловьевым пересмотрим историю
предшествующей мысли: мы можем, конечно, вместе с ним
констатировать ее неудовлетворительность, но можем и задуматься над тем,
как в ней явила себя истина — всегда та же самая, настоящая.
Когда Соловьев утверждает, что для истинного познания
необходимы вместе теология, философия и наука, то ведь они и
существуют вместе, причем в своем настоящем месте, где и остаются,
став прошлым, и где опознаются из будущего. Это настоящее место —
48 По-видимому, так в данном случае можно понимать основную интенцию
философствования Хайдеггера, тогда как его ранняя идея деструкции должна
рассматриваться как мучительная задача, по самому своему существу
нефилософская (как и всякая идея сокрушительной критики). Она возникает от
чувства шока, которое неизбежно испытывает ум, неожиданно столкнувшийся с
истиной. Само это обнаружение представляется «экстатическим выступлением»
(эк-зистенцией) в истину и в то же время — отступлением назад, заставляющим
«отбросить заученные философские мнения» (Письмо о гуманизме / Время и
бытие, с. 199, 208). В Бытии и времени, словно оправдываясь, Хайдеггер
настойчиво повторяет, что в деструкции не идет речи о том, чтобы обратить
прошлое в ничто, что ее критика поражает «сей день» и господствующие
способы толкования истории онтологии (Sein und Zeit, ук. изд., с. 22 — 23). Но и во
Времени и бытии Хайдеггер не растается с ней.
49 Гегель и греки. — Цитирую по книге: Хайдеггер М. Время и бытие, с. 388.
Истина и история
133
история, но не как набор сведений о прошлом и не как так или
иначе систематизированные факты прошлого, а как сфера
откровения, разгадать которое как таковое — дело мысли.
Собственно говоря, именно в этом мысленном поле прошлого,
опознаваемого из будущего как настоящее, или, говоря иначе,
именно в этой сфере откровения бытия в сущем мы и можем
рассмотреть вместе Соловьева и Хайдеггера, но опять-таки только
если нам удается рассмотреть их как настоящее дело мысли.
Мы живем не в истине, и потому мы не познаем истину, —
заключает Соловьев. Но настоящая истина живет в мире50, и,
собственно, только это и является гарантией того, что мы не вовсе ей
чужды или имеем надежду к ней приобщиться; и если мы познаем
вообще, то только истину, а всякое другое познание ложно. Мы
можем сказать по-другому: всякое другое познание антиисторично.
И скрывающий мрак такого неистинного, неисторического
познания сдерживает нашу мысль на каждом шагу. Это наше еще не
истинное познание, неистинность которого мы можем усмотреть и в
прошлом, и в настоящем, свидетельство не того, что истина тогда
или теперь еще не открыта и что поэтому прошлое и настоящее нас
не удовлетворяет, — Хайдеггер грворит: это «такое "еще не",
которому не удовлетворяем и не отдаем должного мы» ".
История в том ее понимании, к которому мы стремимся
подойти, — ставшее прошлым будущее как настоящее, сфера бытия,
открывшаяся в сущем, — требует именно этого: познания истины и
всматривания в нее. А возможность познать истину в истории и
историю как истину, то есть как то, что есть, как подлинно сущее
50 Приведу полностью контекст высказывания Соловьева с необходимыми для
его правильного понимания акцентами: «...уже один тот основной факт, что
мир, в котором мы существуем, вместо того, чтобы быть реализацией нашего
глубочайшего божественного существа, есть для нас мир внешний и чуждый,
очевидно означает, что в нашей действительности нет истины, что мы живем не
в истине, а потому и не познаем истину. Конечно, истина вечно есть в Боге, но,
поскольку в нас нет Бога, мы и живем не в истине: не только наше познание
ложно, ложно само наше бытие, сама наша действительность. Итак, для
истинной организации знания необходима организация действительности. А это уже
есть задача не познания, как мысли воспринимающей, а мысли созидающей, или
творчества» (Вл. Соловьев. Критика отвлеченных начал / Указ. изд., с. 743).
Ср.: «Если бы мир, в котором мы живем, вовсе не был причастен идеальному,
или истинному бытию, то самый идеализм был бы невозможен...» (Оправдание
добра, там же, с. 321).
51 Гегель и греки. — Цитирую по книге: Хайдеггер М. Время и бытие, с. 390.
134
История и историзм
без его актуального бытия (Соловьев), как бытие без сущего, как
время без ограничивающего и разделяющего «теперь» (Хайдеггер),
как сферу откровения (оба), — эта возможность обеспечена тем,
что истина — это столь же наше бытие, сколь и бытие
познаваемого предмета.
В истине, таким образом, снята временность (нашего) познания и
(нашего) бытия. Но она ни в каком случае не снята в истории52.
Вспомним еще раз замечание Хайдеггера — «историческое
раскрытие обретает временной характер из будущего» — и продолжим его
рассмотрение наряду с замечанием Соловьева о мысли созидающей,
необходимой для организации действительности.
Не нужно ли понимать это так, что для раскрытия истины в
истории, или — что то же самое — для раскрытия истории как
истины у ставшего прошлым будущего будущее должно
сохраняться и в настоящем? Не в этом ли смысле нужно понимать то,
что истина в истории, или история как истина не теряет своего
временного характера: у бытия, открывшегося в истории, нет
прошлого, но есть будущее, то есть свобода в обретении настоящего?
Мы можем сформулировать это по-другому: бытие в истории
вольно расширить сферу своего настоящего.
Но что позволяет быть этому странному бытию,
расширяющему сферу своего настоящего и потому постоянно имеющему
будущее? Мы можем дать два ответа: один ответ, старинный и от века
известный европейской философии, — мысль, постоянно
отличающая его от небытия; другой, к которому мы постепенно
подходим в данном рассуждении, — история, сохраняющая открытость
бытия для мысли. История, в которой бытие открывается,
сохраняет бытие как истину, однако в том только случае, если мысль
делает истину своим настоящим, — я полагаю, здесь
разумеется: своим настоящим делом.
Когда истина действительно оказывается настоящим делом
мысли, это имеет для мысли самые решительные последствия: она
перестает быть чужой бытию и, постоянно обретая бытие как
настоящее и тем самым давая ему будущее, не просто погружает
бытие в стихию времени, но образует историю. Это имеет самые
32 На всякий случай прошу именно здесь припомнить, что у истории есть
начало и конец, — но никак не у истины. Об этом мы отчетливо знаем вместе с
Соловьевым, вместившим полноту положительного откровения, тогда как
внутреннее (индивидуальное) откровение Хайдеггера здесь менее полно и отчетливо,
но в силу этого не менее драгоценно.
Истина и история
135
решительные последствия и для бытия: оно перестает быть чужим
мысли, и, постоянно пребывая настоящим в мысли и тем самым
обретая будущее, не просто погружается в стихию времени, но
образует историю.
Я думаю, только теперь мы можем всерьез осознать, что это
такое — истина: это открытое мысли бытие как настоящее дело
мысли. И теперь же мы можем сказать, что такое история: это
открытое мысли бытие как настоящее дело мысли. Как в
известной притче Борхеса, эти два определения только по-видимости
кажутся идентичными, потому что в истине снимается
временность познания и бытия, а в истории истина получает будущее.
Поэтому есть дело и дело, речь и речь, поэтому есть истина и
история.
Мне представляется, что на этом данное рассуждение, может
быть завершено. Но, чтобы удостовериться в этом, в завершение
приведем еще раз тот вопрос, с которого оно началось, и
постараемся дать на него по возможности простой и ясный, хотя и не
безусловный ответ.
Итак, мы пытались понять, какой смысл имеют тексты
Соловьева и Хайдеггера, посвященные истине и бытию, и не могли
сходу сказать, какой смысл имеет сопоставление двух никак прямо
между собой не соприкасавшихся мыслителей разных эпох,
философских, языковых и культурных традиций. По ходу
рассмотрения мы явственно обнаружили, что несмотря на различие
терминологии и установок, дело у того и другого идет об одном и
том же: об истине и бытии, но для того, чтобы понять, что это
такое, и рассуждать об этом вместе с тем и другим, мы с помощью
обоих пришли к необходимости ввести еще два понятия, без
которых не находилось общее поле рассмотрения: эти понятия — мысль
и история.
И то, и другое понятие не случайно появились в данном
рассуждении, — это значит, нельзя сказать, что получившиеся пары
сведены ad hoc. В самом деле, бытие и мысль в европейской
философии существуют и мыслятся вместе изначально. Что же
касается истины и истории, то здесь также ясно, что и они не впервые
рассматриваются вместе: Вл. Даль в своем Толковом словаре
живого великорусского языка пишет, что история, «слово,
принятое от древних почти во все европейские языки», употребляется
«вообще в значении того, что было или есть, в
противоположность сказке, басне», а исторический — в значении «достоверный,
невымышленный», «на истине основанный». У ионийцев, от кото-
136
История и историзм
рых к нам пришло слово ιστοριη, оно также мыслится в качестве
оппозиции вымыслу, лжи, а глагол ίστορενν означает отыскивать,
устанавливать — истину, разумеется53.
Таким образом, то поле, где встречаются и рассуждают о бытии
мыслители разных эпох, — это история, а находят они общий
язык потому, что у них одно дело — истина. В каком-то смысле
мы знали это с самого начала, но в ходе настоящего рассуждения
реально обнаруживается, что Соловьев и Хайдеггер сплетают
голоса в пределах общей мысли о бытии, истине, истории. Мы же
при этом, по ходу дела прислушиваясь к тому и другому, а также
к Аристотелю и Канту, имели дело с тем, о чем взялись
рассуждать, а не с чужими мысленными построениями 54.
53 Гекатей Милетский, автор одной из первых Историй, начинает свое
произведение так: «...я пишу это так, как мне представляется истинным, ибо рассказы
эллинов многоразличны и смехотворны» (fr. 1 Jacoby, перевод Л. В. Лебедева).
54 В виду весьма специфической и ограниченной задачи настоящего
рассуждения я вынужден здесь ограничиться лишь упоминанием книги Витторио Хсслс
Истина и история (Höslc V. Wahrheit und Geschichte. Stuttgart; Bad Cannstatt,
1984), которую намерен специально рассмотреть в работе, посвященной
периодизации античной философии.
Европейский историзм
(некоторые аспекты проблемы)
Нужно вернуться к тайникам
исторической жизни, к ее внутреннему
смыслу, к внутренней душе истории
для того, чтобы осмыслить ее и
построить настоящую философию
истории. Это третий период, третья
эпоха, эпоха возвращения к
историческому.
Николай Бердяев
I
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСТОРИЗМА
1. Христианство и историзм
В работе Смысл истории, из которой приведена цитата в
качестве эпиграфа к данному рассуждению ', Бердяев рассуждает о
том, что у европейской культуры два начала: эллинское и
еврейское, а также о том, что у великих греческих философов нельзя
найти философии истории. Разумеется, здесь он совсем не одинок.
Более того, в нашем XX веке, уже традиционно чутком к
проблемам истории и историзма, речь идет о том, что «в античной душе
отсутствовал орган истории», «что античность в общем лишена
1 Бердяев Н. Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. Париж,
1969, с. 10 — 11. В основе книги — курс лекций, прочитанный в Москве в Вольной
академии духовной культуры зимой 1919—1920 года.
138
История и историзм
чувства истории»2. Утверждение отсутствия исторического
измерения в античности стало общим местом в историко-философском
и историко-культурном осмыслении первой европейской культуры
в Новое и Новейшее время и в качестве такового вошло в
учебники и учебные пособия.
«Историзация культурного сознания в специфическом
европейском смысле происходит только с утверждением христианства.
Судьбы западно-европейского исторического сознания в
практических и теоретических своих формах на протяжении многих
веков были нераздельно связаны с судьбами западно-христианского
сознания»3. Христианство же оказывается исторично уже, так
сказать, в своих еврейских истоках, поскольку уже Ветхий Завет
противопоставил античному циклизму линейное развитие во времени.
Такова основная идея.
Не могу сколько-нибудь подробно коснуться проблемы
«историчности» Ветхозаветного образа мира, хотя и уверен в том, что дело
здесь далеко не так очевидно, как представляется на первый взгляд.
Но вместе с тем не могу не вспомнить, что Томас Манн,
воспроизводя в «Иосифе и его братьях» опыт осмысления мира в Книге
Бытия, в значительной степени строит его на основе идеи
цикличности. Согласимся также, что мысль о бренности и бессмысленной
повторяемости всего в здешней жизни заставит европейца скорее
вздохнуть вместе с Екклесиастом о том, что все «было уже в
веках, бывших прежде нас» (1, 10), нежели вспомнить Платона или
Аристотеля. Если же задуматься над тем, какие именно черты уже
собственно христианского мировоззрения обусловили его
историческую специфичность по сравнению с античностью, то их связь с
историческим мировоззрением более чем неочевидна.
Во введении к названному учебному пособию эти черты
перечислены с необходимой для учебного пособия отчетливостью:
интеграция учения о творении; факт историчности появления Иисуса
Христа; разделение времени на до и после Рождества Христова;
эсхатологическое измерение христианской веры; индивидуально-
историческое понимание христианином своей жизни как истории
отношения между Богом и душой4. Наконец, общий вывод относи-
2 Так у Шпенглера и сочувственно цитирующего его в 20-е годы А. Ф. Лосева
(привожу по изданию: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии.
М., 1993, с. 47 — 60; ср. об отсутстви в античности опыта истории в Истории
античной эстетики, М., 1963, с. 87, etc.).
3 Кимслев Ю. А. Философия истории. Системно-исторический очерк /
Философия истории. Антология. М., 1995, с. 10. 4 Там же, с. 10—11.
Европейский историзм. I. Происхождение историзма
139
тельно христианства и историзма таков: «Таким образом,
христианство представляет и родовую и индивидуальную человеческую
жизнь как развертывающуюся в качественно
дифференцированном времени и исполненную всеобъемлющим и высшим смыслом
драму отношения человека с Богом... Христианская вера своим,
конститутивно присущим ей, содержанием неизбежно историзиру-
ет сознание...»5.
До какой степени эта историзация сознания в христианстве
нуждается в специальном рассмотрении и требует специального
толкования, можно судить хотя бы по следующему замечанию Гердера,
автора — как всем памятно — Идей к философии истории
человечества: «...эпоха христианства прямо примыкает к эпохе
наилучших историков Греции и Рима, — теперь, в христианскую эру, на
долгие века и совершенно неожиданно, почти полностью
утрачивается подлинная история. История опускается, превращается в
хронику епископов, церквей, монахов...»6.
Хотя мне совсем не близок общий тон автора Идей, я не могу не
согласиться с тем, что у блистательно развитой традиции античной
исторической прозы не оказалось сколько-нибудь достойного
продолжения на протяжении многих веков христианства. Здесь, разу-
5 Там же, с. 11 — 12. Я ссылаюсь на указанное введение именно в силу его
дидактической прозрачности. Но в определенном смысле и главные для этого
рассуждения свидетели новоевропейского историзма, Э. Трёльч и М. Хайдегтер,
говорят о том же. Эрнст Трёльч в монументальной сводке проблем европейского
историзма хотя и отмечает, что мышление, основанное на переплетении античной
всеобщей истории с библейско-церковной историей ничего общего не имело с
действительно историческим мышлением, тем не менее безусловно дает повод для
подобного толкования роли христианства: «Это — вера в человечество, откровение
и спасение, а тем самым и учение о решающем значении истории для познания
смысла и ценности жизни. Решающее историческое событие направило в ночь
неведения и греха спасительный свет познания; падение, спасение и конечное
завершение превратило историю человечества в нечто неповторимо-индивидуальное
etc.» (Трёльч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии
истории. М., 1994, с. 19). Точно так же Хайдеггер в Кассельских докладах делает
замечание об античности, которое вне контекста провоцирует слишком
прямолинейные выводы: «Первобытные народы живут — и мы сами долгое время жили —
без истории. Правда, уже у греков был известный опыт исторического. Однако
известное ведение относительно перемен еще не слагает исторического сознания»
(Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за
историческое мировоззрение в паши дни. Десять докладов, прочитаных в Касселе
(1925) / 2текста о Вильгельме Дильтее. М.: Гнозис, 1995, с. 140—141).
6 Иоганн Готфрид Гердер. Идеи к философии истории человечества. Перевод
и примечания А. В. Михайлова. М., 1977, с. 484.
140
История и историзм
меется, можно возразить, что речь идет не об историках и истории
в специальном значении этих слов, а о более общем понятии
истории и историзма. Но тогда тем более необходимо уточнить, о
каком именно. Поэтому рассмотрим другие тезисы, связывающие
христианство с историзмом.
О том, что учение о творении прямо никак не связано с
историзмом, можно судить не только потому, что и в целом ряде
языческих культур мы сталкиваемся с представлениями о демиурге, но и
потому, что расцвет исторического сознания в новоевропейской
культуре совершенно не нуждался в идее креационизма или в чем
бы то ни было подобном. Но если беспрецедентное развитие
исторического сознания начиная с XVIII века чуждо идее
креационизма и, с другой стороны, эта идея присутствовала во многих
культурах, которым мы отказываем в историческом сознании, в
частности, в той же Греции, — ясно, что креационизм не является
обязательным условием исторического сознания.
Историчность Иисуса Христа для христианина — факт
исключительный по своему значению, но не единственный исторически
достоверный и безусловный факт: это факт в ряду других фактов,
к числу которых относится, например, потоп, разделивший
человечество на допотопное и послепотопное, причем представление о
допотопном периоде до сих пор остается не только в сознании7,
но и в языке, или Вавилонское столпотворение, приведшее к
совершенно новому состоянию человечества, разделенному на множество
языков, то есть к состоянию, реально наблюдаемому до сих пор.
Но эти последние мифы (как их назовет современный историк
культуры) — не христианские и даже не исключительно
иудейские: аналогичные конструкции мы находим и у других народов.
Что же касается разделения времен на «до Рождества Христова»
и «по Рождестве Христове», то оно далеко не было таким
самоочевидным водоразделом времен в Европе вплоть до эпохи
Возрождения, а в России — до конца XVII столетия: счет лет от сотворения
мира подчеркивал единство истории для христиан так же, как счет
лет от основания Города — единство римской истории, а сомнения
в историчности Христа со своей стороны никак не мешали
развитию новоевропейского историзма. Сам же принцип начинать счет
времени с определенного года (начала эры, если воспользоваться
этим поздним латинским словом) никак не связан с христианством:
7 Так, это представление присутствует в массовом сознании современности,
активно разрабатывающей идею допотопного человечества в связи с идеей
пришельцев, принесших на Землю более высокую цивилизацию, etc.
Европейский историзм. I. Происхождение историзма 141
например, счисление лет по начавшейся в 312 году до Р.Х. эре
Селевкидов употреблялось в некоторых странах Востока вплоть
до XX века. Напомним, что вновь завоевав Вавилон в 312 году,
Селевк I начал считать с него годы своего правления, и эта дата
стала началом периода, который иудеи и сирийцы называли «годы
греческого господства»8.
Эсхатологическое измерение христианской веры с точки зрения
самоощущения индивидуума ни в каком смысле не может
рассматриваться как некое подобие чувства исторической перспективы.
Напротив того, эсхатологические чаяния первых христиан
провоцировали их видеть в Христе того, кто положит предел царству Сатаны,
отменит течение времени и установит свое вечное царство, причем
при их жизни. Бл. Иероним в толковании на Матф. 6,11 приводит
вариант молитвы Иисусовой из «Евангелия евреев»: panem nostrum
crastinum da nobis hodie, то есть «хлеб наш завтрашний дай нам
сегодня», что прекрасно отражает чаяния первых христиан обрести
грядущее блаженство здесь и теперь и ни в каком смысле не
предполагает чувства исторической перспективы9.
Что же касается некоего специфического аффекта, чувства
грядущего конца мира, то оно было свойственно не только
христианству, но весьма ярко было представлено, например, в римском
стоицизме. К тому же такого рода аффективные приступы (в
отличие от твердого знания о грядущем конце мира и Страшном
суде) были не доминантой христианства, а только фрагментами
его истории: об этом можно заключать из сопоставления такого
рода чаяний хотя бы с неизменно повторяющимися событиями
церковного года, почитанием святых, изымаемых традиционной
верой из ограниченного исторического контекста их реальной
жизни и неизменно и действенно во всякое время присутствующих
здесь и теперь, и многими другими моментами.
Но и обращение к истокам христианской веры, переживание
земного пути и в особенности Страстей Христа как таковое никак не
8 Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1975, с. 66; см. там же о других
эрах: с. 65 — 72.
9 См.: Апокрифы древних христиан. Исследования, тексты, комментарии.
М., 1989, с. 56, 73; ср. замечание И. С. Свснцицкой на с. 11: «У первых христиан
не было потребности в записи своих проповедей еще и потому, что они ждали
скорого прихода воскресшего Иисуса "во время сие", как сказано в Евангелии от
Марка (10. 30)»; с этими ожиданиями конца времен безусловно связаны и
откровения, ставшие «одним из первых жанров христианской литературы» (там
же, с. 12); отметим, что с аналогами этого жанра мы сталкиваемся не только у
еврейских пророков, но и в других памятниках Востока, Греции и Рима.
142
История и историзм
способствовало (и не способствует) развитию чувства исторически
конкретного прошлого. И совершенно очевидно, что ссылку на
включение в Символ Веры точного указания на время распятия
Иисуса («при Понтийстем Пилате») нельзя признать корректным
подтверждением историчности христианства, если эта ссылка
предполагает рассмотрение Символа Веры только как исторически
корректной справки.
Мысленное воспроизведение эпизодов жизни Иисуса имело
целью, разумеется, не исторически корректное восстановление его
биографии, но выход за пределы земного времени и пространства.
Ряд замечательных примеров религиозного сознания,
свойственного западному христианству, приводит Й. Хейзинга: «Жизнь
средневекового христианства во всех отношениях проникнута,
всесторонне насыщена религиозными представлениями. Нет ни одной
вещи, ни одного суждения, которые не приводились бы постоянно
в связь с Христом, с христианской верой. Все основывается
исключительно на религиозном восприятии всех вещей, и в этом
проявляется невиданный расцвет искренней веры. Но в такой
пресыщенной атмосфере религиозное напряжение, действенная транс-
ценденция, выход из «здесь-и-теперь» не могут наличествовать
постоянно...» |0. Ясно, таким образом, что «связь с Христом»
предполагает «выход из "здесь и теперь"», но никак не в стихию
исторического времени.
Ни интенсивное религиозное напряжение, ни его спад ни в какой
степени не предполагали развитие исторического чувства. «С
раннего детства образ распятого Христа взращивался в нежных
душах как нечто столь сильное и столь тягостное, что затмевал все
впечатления своей серьезностью... Св. Колетта, будучи
четырехлетним ребенком, каждый день слышит рыданья и вздохи своей
матери, когда та во время молитвы вспоминает Страсти Христовы,
переживая вместе с Господом осмеяние, бичевание и
мученическую кончину. Память об этих минутах с такой яркостью
запечатлелась в ее чуткой душе, что ежедневно, в час, когда происходило
распятие, она чувствовала сильнейшее стеснение и боль в сердце;
читая же о Страстях Господних, она испытывала страдания
большие, нежели те, которые у иных женщин бывают при родах» ".
Как видим, существом описываемого аффекта является его
регулярная повторяемость, а не констатация некоего единственного
неповторимого события в прошлом.
10 Цитирую в переводе Д. В. Сильвестрова по изданию: Хёйзиига Й. Осень
средневековья. М., 1988, с. 164-165. " Там же, с. 207-208.
Европейский историзм. 1. Происхождение историзма 143
Таким образом, ни представление о грядущем конце века сего,
ни стремление воспроизвести бывшие в определенное и известное
время Страсти Христовы сами по себе ни в какой степени не
способствуют возникновению или развитию исторического сознания.
По поводу же того, что такого рода переживания могли приводить
и реально приводили к полной потере индивидуальности, а никак
не к ее развитию и уж во всяком случае не приводили к
формированию исторического сознания, выразительно рассуждает тот же
Хейзинга12: это известный факт, одна из примет всякого
мистицизма, аисторическая и сверхиндивидуальная природа которого
очевидна и не нуждается в доказательствах.
Однако предметом настоящего рассмотрения вовсе не является
формирование исторического сознания в христианстве: я привожу
данные соображения только для того, чтобы показать, до какой
степени расхожее утверждение об историчности христианского
сознания в противовес аисторическому восприятию античности
является обывательски нерефлектированным и требующим
серьезного продумывания для сколько-нибудь убедительной
демонстрации.
2. Историзм и христианство
Исток нового движения, приведшего в Европе к утверждению
исторического мировоззрения, следует, по-видимому, усматривать
в трансформации программы возрожденских университетов,
впервые выделивших историю в качестве самостоятельной
дисциплины и включивших эту дисциплину в образовательную программу.
Я думаю, что параллельно с этим процессом историк поствозрож-
денской Европы сможет достаточно точно указать и тот момент,
когда «историческая» природа христианского сознания стала
представляться очевидной для напитанной гуманистическим
критицизмом протестантской герменевтики Священного Писания.
Если подходить к формированию этого новоевропейского опыта
историзма исторически, мы обнаружим, что его развитие
происходило из начал, как раз противоположных христианским. А
именно, в своей узнаваемой непрерывности этот опыт начал
формироваться во всяком случае в XVIII веке, у Вико, издавшем в 1726
году Принципы новой науки: но припомним, что в них
представлено воззрение на историю как на вечное возвращение одних и тех
же явлений (corsi е ricorsi).
12 Там же, с. 216.
144
История и историзм
Трёльч говорит, что Вико с полной ясностью и отчетливостью
противопоставил «картезианскому натурализму scienzia nuova, т. е.
историзм»,3. Гадамер подчеркивает, что Дильтей в своем
понимании исторической науки прямо ссылался на Вико м.
И действительно, мечтания Вико остались соблазнительны для
новоевропейского историзма на всем его протяжении: «...Наша
Наука описывает Вечную Идеальную Историю... Кто
продумывает настоящую Науку, рассказывает самому себе эту Вечную
Идеальную Историю, поскольку он при помощи доказательства: "так
должно было быть раньше, так должно быть теперь, так должно
будет быть впредь" — творит ее сам для себя; ведь Мир Наций
был, безусловно, сделан людьми (это первое несомненное
Основание выставлено выше), и поэтому способ его возникновения
нужно найти в модификациях нашего собственного Человеческого
Сознания; а где творящий вещи сам же о них рассказывает, там
получается наиболее достоверная история. Таким образом, наша
Наука продвигается совершенно так же, как Геометрия, которая
на основе своих элементов строит и созерцает, сама себе создает
Мир Величин, но в наших построениях настолько больше
реальности, насколько более реальны законы человеческой
деятельности, чем точки, линии, поверхности и фигуры. И это — аргумент в
пользу того, что такие доказательства божественны и что они
должны, читатель, доставлять тебе божественное наслаждение: ведь в
Боге знать и делать — одно и то же» 15. Этот текст третьего
издания 1744 года во втором издании 1730 года был пространней и
содержал замечательное признание: «...посредством
метафизического доказательства, которое мы ежедневно испытывали на
деятельности нашей души, мы создали также доказательство, которое
побеждает Сотворение Мира во времени».
Этот опыт исторического был существенно и специально развит
знаменитыми критиками христианства: Вольтером, кто «первый
пошел по новой дороге — и внес светильник философии в темные
архивы истории» ,6, Тюрго17 и их блистательным биографом Кон-
дорсе18, который в своей исторической картине развития
человечества придал решающее значение идее прогресса.
13 Трельч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии
истории. М., 1994, с. 84.
14 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988, с. 271, 277.
15 Джамбаттиста Вико. Основания новой пауки об общей природе наций. Перевод
А. А. Губера. М.; Киев, 1994, с. 118.
16 Так в наброске письма к II. А. Вяземскому от 5 июля 1824 года характеризует
Вольтера, впервые употребившего термин «философия истории», наш проница-
Европейский историзм. I. Происхождение историзма 145
Содержание исторического было существенно расширено
благодаря Канту, который продумал принципы выделения самой
сферы исторического, свел христианство к морали и,
разумеется, не признавал в традиционном смысле ни творения", ни
конца света20, но зато — вполне в духе французского
Просвещения — уповал на разработку всеобщей истории в соответствии с
тельный Пушкин (Полное собрание сочинений. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937.
Т. 13. С. 102). До какой степени прямо враждебным было христианское
представление о творении мира, Богочеловеке и конце света для исторических воззрений
опиравшегося на человеческую природу Вольтера, можно судить хотя бы по
следующим его высказываниям из замечательной подборки В. Н. Кузнецова для
Антологии мировой философии (М., 1970, т. 2, с. 533—535): «Платоновская
метафизика, соединенная с христианскими мистериями, образовала основу
непонятного учения; этим оно обольщало и запугивало слабые умы. Это была
цепь, которая простиралась от сотворения мира до его конца». «Вот основа
христианской религии. Вы не найдете здесь ничего, кроме сплетения самых пошлых
обманов, сочиненных подлейшей сволочью, которая одна лишь и исповедовала
христианство в течение первых ста лет». «Во вступительном рассуждении (к «Опыту
о нравах и духе народов»), озаглавленном «Философия истории», мы попытались
выяснить, каким образом родились основные мнения, которые вначале объединили
общества, а затем разъединили их и вооружили одни против других. Происхождение
их мы искали в природе — оно не могло быть иным». Иудейский народ «стал
главным объектом и основой наших историй, претендующих называться
всемирными, — историй, в которых определенный род авторов, копируя друг
друга, забывает три четверти человеческого рода».
17 Тюрго сформулировал свои идеи в речах, произнесенных в Сорбонне в 1750
году, и в незаконченном Рассуждении о всеобщей истории 1751 года.
18 Разумеется, не нужно доказывать, что воззрения Кондорсе также прямо
противоположны самым основам христианства, в частности христианской
антропологии; но все же некоторые цитаты, равным образом свидетельствующие как об
этом, так и о развитии новоевропейского историзма, представляются нелишними.
Кондорсе специально подчеркивает, что история — наука, причем наука опытная:
картина прогресса человеческого разума «является исторической, ибо... она
создается путем последовательного наблюдения человеческих обществ в различные
эпохи, которые они проходят» (Кондорсе Ж. А. Эскиз исторической картины
прогресса человеческого разума. М., 1936, с. 5). И в счастливом грядущем, «когда
солнце будет освещать землю, населенную только свободными людьми, не
признающими другого господина, кроме своего разума», «священники и их глупые
и лицемерные орудия будут существовать только в истории и на театральных
сценах» (там же, с. 227).
19 «История природы... начинается с добра, ибо она произведение божье; история
свободы — со зла, ибо она дело рук человеческих». — Кант И. Предполагаемое
начало человеческой истории / Трактаты и письма. М., 1980, с. 50.
30 Ср. замечание Канта в работе Конец всего сущего: «Даже при наличии хороших
целей говорить о конце всего сущего, которое доступно людям, — глупость; это
значит употреблять средства, противоречащие целям» (там же, с. 287). Хотя к
146
История и историзм
планом природы21. У Гердера находим сформированное
представление о неопределенном будущем человечества: только в этой
неопределенной перспективе исполнятся все чаяния
совершенства человеческого рода и его переход на более высокую
ступень. Сходное представление у Лессинга сопровождается
отказом от признания Воскресения и даже своего рода возвращением
к учению о метемпсихозе22.
Этот новый и уже достаточно развитой опыт историзма
значительно расширен у немецких романтиков с их специальным
интересом к национальному прошлому и в то же время — к
общеевропейскому, то есть к античности (у Фр. Шлегеля), что
объединяло их с классицизмом; этот опыт был осознан в своей
понятийно-диалектической отвлеченности и в то же время в его
конкретной наполненности Фихте, который разработал, в частности,
учение о пяти эпохах всемирной истории, а христианству
придавал преимущественно моральное значение; Шеллингом с его
учением о мировых эпохах и философией мифологии, предполагавшей
периодическую повторяемость мифологических моделей в
истории; и Гегелем, который составил важнейшую эпоху в развитии
христианской идее конца света это утверждение Канта относится косвенным
образом, тем не менее имеется в виду и она, а само христианство сводится к
моральности: «...присущая христианству моральность, которая делает его достойным
любви, все еще светится сквозь внешние наслоения, несмотря на частую смену
мнений, и спасает его от антипатии, в ином случае неминуемо бы его поразившей.
Как ни странно, в эпоху небывалого ранее просвещения эта моральность выступает
в наиболее ярком свете (и только она одна может сохранить за ним сердца людей)»
(там же, с. 291).
21 В Идее всеобщей истории во всемирно-гражданском плане (Кант И.
Сочинения: В 6 т. М., 1966, т. 6, с. 22 — 23) Кант, утверждая, что «попытка
философов разработать всемирную историю согласно плану природы,
направленному на совершенное гражданское объединение человеческого рода, должна
рассматриваться как возможная и даже содействующая этой цели природы», замечает
впрочем, что вернее речь следовало бы вести не о природе, а о провидении.
22 «Можем ли мы теперь доказать, что он воскрес, что он творил чудеса —
этого я касаться не буду. Не буду я также касаться и личности Христа. Тогда, для
того чтобы его учение было принято, это могло иметь значение, теперь, для того
чтобы признать истинность его учения, это уже не столь важно». — Лессинг Г.
Воспитание рода человеческого // Лики культуры. Альманах. М., 1995, т. 1, с.
491). «Почему бы каждому человеку не пребывать в этом мире больше одного
раза? И не потому ли столь смешна эта гипотеза, что она самая древняя? Не
потому ли, что рассудок человека сразу же обрел ее, до того как школьная софистика
внесла в него рассеянность и слабость?» (там же, с. 498).
Европейский историзм. I. Происхождение историзма
147
европейского историзма23. Наконец, этот богатый опыт историзма
был несколько прямолинейно, но выразительно подытожен Огюс-
том Контом, провозгласившим новую религию, почитающую
нового бога — Великое существо, или развивающееся человечество.
Кант в свое время бранил Гердера за то, что он «портит головы»,
поскольку пытается строить всеобщие суждения «исходя только
из эмпирии»24. Но ориентация Гердера оказалась совершенно
правильной: параллельно с изменением духовных ориентиров Новой
Европы и в качестве основы для развития историзма шло развитие
исторической науки и отдельных так называемых гуманитарных
наук, либо получивших новую ориентацию, либо заново
развиваемых в историческом плане25.
В применении к истории христианства и толкованию
христианских Священных Книг наука дает мощное развитие протестантской
герменевтики (Шлейермахер), а также приводит к появлению
таких фигур, как Штраус и Ренан. Не случайно этот последний, под
влиянием Гегеля испытав религиозный кризис, начал свою лите-
23 Считая, что наиболее жизненный бог всякого народа есть его национальный
бог, Гегель считал Иисуса Христа «национальным богом человечества». Но он же
утверждал необходимость перехода от католицизма через протестантизм к
философии, вернее сказать — к религиозной философии и философской религии.
Христианство должно уступить новой религии, новому нравственному духу, «который
может обладать смелостью принять свою чистую форму на собственной
почве, исходя из собственного величия. Всякий отдельный человек есть
слепое звено в цепи абсолютной необходимости, в которой развивается мир. Всякий
человек может возвыситься до господства над значительным отрывком этой цепи
лишь в том случае, если познает, куда стремится великая необходимость и с
помощью этого может высказать волшебные слова, вызывающие се образ. Только
философия способна доставить это знание, дающее возможность одновременно
заключать в себе всю энергию страдания и противоположностей, господствовавших
в течение двух тысяч лет над миром и всеми формами его развития, и в то же
время подняться над ними... С этих пор абсолютный дух и его откровение в
развитии мира становится основным понятием и основною темою учения Гегеля». —
Привожу по изд.: Куно Фишер. Гегель. Его жизнь, сочинения и учение. Первый
полутом. М.; Л., 1933, с. 41-43.
24 См. статью А. В. Гулыги Гердер и его <Идеи...> / И. Г. Гердер. Идеи к
философии истории человечества. М., 1977, с. 638-639.
25 Достаточно указать хотя бы на появление лингвистики и блистательное
развитие сравнительно-исторического языкознания (исторической фонетики,
исторической морфологии и пр.). Что касается философии, то, как показывает
U. J. Schneider, автор написанной не без влияния М. Фуко книги Die Vergangenheit
des Geistes. Eine Archäologie der Philosophie (Frankfurt a. M., 1990), причины ее
революционного развития в XVIII веке прямо связаны с появлением истории
философии и превращением философии в дисциплину, вошедшую в курс школьного
и университетского образования.
148
История и историзм
ратурную деятельность с сочинения «Будущее науки» (1848), где
провозглашал замену религии поэзией и торжество единой науки
о человеке — филологии. Так совместными усилиями
протестантов, мыслителей, порвавших с католицизмом, а также прямых
атеистов26 Европа пришла к тому состоянию, которое после
Тургенева и Ницше именуется нигилизмом, провозгласившим смерть Бога
и окончательно зафиксировавшим в Западной Европе конец эпохи
господства христианских ценностей.
Постепенно сведенное к морали, христианство именно в
качестве такового было подвергнуто критике Ницше27. Выходом из
кризиса, наиболее перспективным для философии, Ницше
считает возвращение к тем эпохам, когда люди еще не расстались под
влиянием погибельного по отношению к жизни христианства с ее
подлинными ценностями, — таковы греки, до софистов
включительно опиравшиеся на инстинкты, тогда как уже «Сократ и
Платон... были иудеями или не знаю чем»28, — так почти с
комическим негодованием29 Ницше воспроизводит вольтеровскую
нелюбовь к платоновскому пласту в культуре христианской Европы и,
вызывая из небытия тень архаической Греции и иранского
пророка, пытается утвердиться в исторически независимом от
христианства и платонизма истоке.
3. Христианский историзм — историческое
недоразумение
Таким образом, первый этап формирования исторического
опыта Европы только в порядке недоразумения (в буквальном смысле
этого слова) можно считать развитием тенденций, которые в
26 Наиболее знакомая нам разновидность — марксизм, а впоследствии —
марксизм-ленинизм с его историческим материализмом и атеистическим террором.
27 «Гибель христианства — от его морали (она неотделима)... Скепсис по
отношению к морали является решающим». — Ницше Ф. Воля к власти. Опыт
переоценки всех ценностей. 1884 — 1888. Под редакцией Г. РачинскогоиЯ. Бермана.
М., 1910, с. 7.
28 Там же, с. 189.
29 Хайдеггер в Европейском нигилизме назвал отношение Ницше к Платону
«надрывным препирательством» (цитирую по изданию: Хайдеггер М. Время и
бытие. Статьи и выступления. Перевод В. В. Бибихина. М., 1993, с. 158).
Хайдеггер очень точно описывает европейский нигилизм как самое историю, то
Европейский историзм. I. Происхождение историзма 149
противоположность античности обнаружились в христианстве: путь,
пройденный Европой XVIII —XIX столетий, был
последовательным отказом от идеи Богочеловечества в пользу идеи
исторической эволюции человечества.
Совершенно очевидно также и то, что европейский историзм стал
интенсивно разрабатываться только тогда, когда для Западной
Европы начало мира оказалось проблематичным и во всяком случае
неопределенно удаленным в прошлое, реальность Христа была
поставлена под сомнение, а мысль о конце света и Страшном суде
решительно перестала заботить Запад30; но в то же самое время
растущая забота Европы о собственной идентичности заставляла
уделять все большее внимание античности — как самой по себе,
так и в сопоставлении с другими культурами. При этом в ходе
развития новоевропейского историзма неизменно — от Вольтера
до Ницше — присутствуют две тенденции.
Одна стремится объединить христианство и платоновский пласт
античности и в этом единстве противопоставить их современному
взгляду на вещи, который хотя и может искать для себя опору в
«античном» материализме или в «античной» близости природе,
но при этом отнюдь не считает греко-римскую античность чем-то
исключительным для современной Европы, и тем более для
мировой истории31.
С другой стороны, христианство противопоставляется
дохристианской античности в целом, которая воспринимается как подлин-
ссть принципиально новое состояние Европы: «Нигилизм есть история. В ниц-
шевском смысле он, среди прочего, составляет существо западноевропейской
истории... Нигилизмом определяется историчность этой истории» (там же, с. 93).
30 Такова одна из заключительных констатации Мишеля Фуко: появление
отдельных исторических дисциплин, истории вещей и слов, лишает западного
человека того, «что раньше было самым очевидным содержанием его Истории:
природа уже более не говорит ему о сотворении или конце мира, о его подвластности
или предстоящем судном дне — теперь она говорит лишь о своем природном
времени...» (Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Перевод
В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. М., 1977, с. 466 — 467).
31 Достаточно припомнить у Вольтера хотя бы седьмой и восьмой из Диалогов
Эвгемера (О философах, процветавших у варваров, Великие открытия
философов-варваров; греки по сравнению с ними — дети), чтобы оценить этот
несколько наивный, но прекрасный исконно европейский пафос свободного
расширения интеллектуального горизонта вослед географическому; а у Ницше —
его Заратустру и нигилизм, понимаемый им как европейский буддизм,
принципиально расшатывающий значение границ умозрения (системы ценностей) греческой
философии после Сократа.
150
История и историзм
ный исток современной Европы, к которому необходимо
вернуться; но при этом развивается представление о том, что можно
назвать «историческим кретинизмом» античности32.
Причина этого, как она усматривается в ходе этого
рассуждения, по-видимому, такова: противопоставление христианству
античности как подлинного духовного истока Европы следовало
компенсировать представлением о том «вкладе», который
христианство — причем именно христианская церковная организация —
внесло в общеевропейскую духовную сокровищницу. Благодаря
этому представлялось возможным сохранить «историческую»
преемственность европейской культуры33. Вот почему, заменив
традиционность и церковность христианства рационалистическим
конструктом — историзмом в философском смысле этого понятия, то
есть специально разрабатываемой философией истории,
западноевропейские философы истории именно в христианстве (ради
этого тщательно «очищенном») начинают усматривать
происхождение этого конструкта и постепенно приписывает христианству то,
что свойственно новоевропейскому историзму, но никак не
христианскому мировоззрению34.
32 Так можно оценить то описание дохристианского мироощущения, которое
дает, например, К. Ясперс: «...люди жили целиком в настоящем, словно в
вечности...; они не задавались вопросами etc.» (см. об этом непосредственно ниже).
В рассуждении об «осевых веках» европейской истории упоминалось о других
аналогичных новоевропейских предрассудках: мифологическом мышлении,
неумении в античности читать про себя. Я думаю, эти концепции суть своеобразная
защитная реакция европейского разума на необыкновенное расширение сферы его
применения и связаны они с неизбежной ломкой образовательной системы, не
справляющейся с теми кардинальными изменениями интеллектуального кругозора
и духовных ориентиров, с которыми столкнулся европеизм в XX веке.
33 Ср. у Трёльча подчеркнутое понимание Церкви как посредника между
античностью и Новым временем, обеспечившим единство Европы: «Христианская
церковь в качестве поистине последней жизненной формы античности принесла
варварам государство и право, культуру и науку» (ук. соч., с. 651). Но «в
качестве носителя прогресса и тем самым подлинного предмета истории выступает
уже не церковь, а понятое в государственном и культурном аспекте народное
единство, самосозерцание которого ощущается как владеющее движением
истории» (ук. соч., с. 21 — 22).
34 «Поэтому современные представители ортодоксального христианства, подобно
К. С. Льюису, ставят под сомнение саму возможность христианской интерпретации
истории и заявляют, что предполагаемая связь между христианством и историзмом
есть в значительной степени иллюзия... философы, наделявшие историю высшей
ценностью и наиболее решительно настаивавшие па связи христианства и истории,
такие, как Коллингвуд, Кроче и Гегель, не были сами христианами и, видимо,
склонны были интерпретировать христианство в терминах собственной
философии» (К. Досон. Христианский взгляд на историю / Философия истории.
Антология... С. 248-249).
Европейский историзм. I. Происхождение историзма 151
К каким курьезам может привести оснащение христианства
новоевропейскими историческими добродетелями, рассмотрим на
примере довольно позднем, но показательном, поскольку речь идет о
работе К. Ясперса 1946 года Ницше и христианство. Привести
этот пример тем более уместно, что именно до Ницше мы и
добрались по ходу рассмотрения новоевропейского историзма.
Ницше, согласно Ясперсу, считает, что Иисус — «некий
психологический тип, которому нужно дать психологическую
характеристику». Реальность Христа «не имеет к истории христианства
решительно никакого отношения»35, поскольку «христианство с
самого начала есть полное извращение того, что было истиной для
Иисуса»36, а первые христиане представляли собой «мир, словно
вышедший со страниц русского романа, — прибежище отбросов
общества, нервных больных и инфантильных идиотов» 37.
Но тем не менее, утверждает Ясперс, у Ницше, для которого
христианство — «лишь один из феноменов во всемирной истории»,
а эту «историю в целом он не склонен воспринимать как некую
завершенную картину» ж, «сама по себе возможность увидеть
мировую историю как нечто целое обязана своим возникновением
христианству»39. При этом для самого Ясперса очевидно, что в
мышлении Ницше «не осталось и следа от христианского
содержания этих христианских формальных структур»40. Поэтому ему
необходимо показать, откуда взялись и как все-таки связаны с
христианством эти «христианские формальные структуры».
Ясперс это и делает, но его незамысловатая демонстрация
обескураживает своей неосновательностью.
«Большая часть человечества прекрасно обходилась без
истории: люди жили вне ее, целиком в настоящем, словно в вечности,
словно все всегда было и будет точно так же, как сегодня; они не
задавались вопросами и не сомневались, что сами принадлежат
размеренному круговороту явлений. Откуда же могла взяться эта
новая, столь возбуждающая человека мысль, в зависимости от
обстоятельств способная наполнять его чувством невыносимого
бессилия или, наоборот, сознанием сверхъестественной власти над
ходом вещей? — Мысль эта христианского происхождения. Именно
христианство со всей строгостью настаивало на том, что все в
истории человечества совершается только один раз: творение,
грехопадение, воплощение Сына Божия, конец света, Страшный Суд.
Христианству известен ход мировой истории в целом etc.»41.
35 Привожу выдержки по переводу Т. Бородай (М., 1994, с. 16).
* Там же, с. 24. эт Там же, с. 28. м Там же, с. 37. и Там же, с.
40 Там же. 41 Там же, с. 45.
152
История и историзм
Я не говорю даже об отсутствии вкуса и дурной стилистике
такого рода философствования, когда под обывательское
представление о народах без истории автоматически попадают и греки. Не
говорю также о философской беспомощности подхода, при
котором произвольно конструируется некое понятие, а затем для него
отыскивается та или иная «историческая» полочка. Это в
особенности забавно, когда таким образом конструируется само понятие
истории, историчности, историзма etc. В самом деле, если
рассмотреть все эти «христианские формальные структуры» даже в
той форме, в которой их рисует Ясперс, они все равно ничего
общего не имеют с новоевропейским историзмом, поскольку,
согласно тому же Ясперсу, «история... таит в себе бесконечные
возможности», а «завершение истории кажется нам невозможным,
она движется из одной бесконечности в другую...» 42.
И действительно, новоевропейский историзм по своему
существу и принципиально не знает ни начала, ни конца мира, ему
неизвестен ход мировой истории в целом, он постоянно склоняется
к идее периодического возвращения, повторения, цикличности и
пр., а в настоящее время все больше подчеркивает
принципиальную многозначность прошлого и возможность его бесконечной ре-
интерпретации. И в то же время, если присмотреться к
вершинным проявлениям исторического мировоззрения после Ницше, мы
обнаружим в них явственное осознание истории как особой
реальности, впервые открывшейся европейцам как раз в античности.
42 Истоки истории и ее цель. — Цитирую в переводе М. И. Левиной по
изданию: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994, с. 276 — 277.
π
ПРЕДЕЛЫ ИСТОРИЗМА
1. Новая реальность: от Ницше к Хайдеггеру
Итак, начиная с Ницше мы можем считать окончательно
осознанным и потому закончившимся переход Западной Европы к
торжеству исторического взгляда на мир: с этого времени аисторичес-
кий или антиисторический подход к любому явления может
встречаться и даже защищать себя, но это всегда некое «недо-». Более
того, всем памятно, что Ницше уже определяет это новое
состояние как историческую болезнь: «Избыток истории подорвал
пластическую силу жизни, она не способна больше пользоваться
прошлым как здоровой пищей... Познание предполагает жизнь и
поэтому настолько же заинтересовано в сохранении жизни,
насколько каждое существо заинтересовано в продолжении своего
существования» 43.
Выделяя три типа воззрения на историю — монументальный,
антикварный и критический — в силу которых человек ценит,
изучает и — по зову темной, влекущей, ненасытно ищущей самое
себя силы жизни — разбивает и разрушает прошлое44, Ницше столь
же выразительно описывал историю и как то, что имеет отношение
не только к прошлому.
История должна быть подчинена интересам жизни, но это
подчинение небезусловно, поскольку в каком-то аспекте она
совпадает с жизнью: «После того, как мы разучились верить в этот [se.
сверхчеловеческий] авторитет, мы все еще по старой
привычке ищем иного авторитета...»; в качестве такового выступает
43 Ницше Ф. О пользе и вреде истории // Философия истории. Антология,
с. 140.
44 В работе О пользе и вреде истории для жизни, на которую Хайдегтер ссылается
в Бытии и времени (§ 76) и — имея в виду проведенное в ней троякое разделение
истории — замечает: *Ницшевское разделение неслучайно. Начало его
"рассмотрения" позволяет предположить, что он понял больше, чем высказал» (ук. изд.,
с. 396).
154
История и историзм
«"история" с неким имманентным духом, — история,
имеющая цель в себе и которой можно свободно отдаться» 45.
Эти моменты, присутствующие в диагнозе Ницше, вольно или
невольно развивает Дильтей с его философией жизни, специально
занимавшийся Построением исторического мира в науках о духе
(так называется работа Дильтея 1910 года); от Дильтея (а сказать
вернее — через него46) идет та линия развития европейской
философии, которая дала веер наиболее отчетливых форм рефлектиро-
ванного историзма у Виндельбанда, Риккерта, Трёльча, а
впоследствии — у Хайдеггера.
Первая мировая война решительно поубавила исторический
оптимизм Западной Европы, но отнюдь не отменила уже набравшего
силу исторического мировоззрения с его представлением об
имманентных потенциях развития, имеющего не только цель, но все
свое прошлое, настоящее и будущее в себе самом. В исторических
построениях Трёльча и Хайдеггера постепенно начинает
ощущаться один очень важный пласт, который хотя и не отсутствовал у
Гегеля или Шеллинга, например, но выступал у них в
несобственной форме, поглощался системой как целым, не приобретал
значения как бы совершенно самостоятельной реальности.
Между тем, эта все более открывающаяся реальность
настоятельно требовала для своего освоения нового чувствилища ради
того, чтобы приобрести с его помощью некий новый внутренний
опыт. Это имеет в виду Хайдеггер, когда говорит, что есть «нечто
большее, чем гегелевская систематика, которая якобы способна
сделать закон своей мысли законом истории и заодно эту
последнюю тоже поднять до системы» 47; а в другом тексте утверждает:
«Дильтей пробился к такой реальности, которая в собственном
смысле есть в смысле бытия историческим, — к человеческому
существованию. Дильтей достигает того, что эта реальность
становится данностью»48. Что это за реальность, открывшаяся (или
пригрезившаяся) новоевропейскому сознанию?
45 Ницше Ф. Воля к власти / Ук. изд., с. 17.
46 Издание в 1923 году переписки между В. Дильтеем и графом Паулем Йорком
фон Вартенбург, а также обширные цитаты из писем последнего, которые приводит
во Времени и бытии Хайдеггер (§ 77), сделали графа Йорка одним из важных
авторитетов в области рафинированного историзма. Лучшему представлению о
характере его мысли способствовало издание его рукописных набросков и
фрагментов (Bewußtsein und Geschichte. Tübingen, 1956).
47 Хайдеггер M. Письмо о гуманизме (1947). — Цитирую в переводе В. В.
Бибихина по изданию Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993, с. 204.
48 Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея... / Ук. изд.,
с. 157.
Европейский историзм. II. Пределы историзма
155
То, что речь идет не просто о тех или иных концепциях, а
именно о реальности, на которую с определенного момента
наталкивалась новоевропейская мысль49, подтверждается явственным
несходством как существа, так и стиля философий Трёльча и Хайдегге-
ра, и вместе с тем их общей уверенностью в самостоятельности
феномена истории. Попытаемся подойти к освоению этой
исторической реальности через приведение и осмысление ряда текстов
названных мыслителей, причем не ради реконструкции их учений,
а именно ради схватывания этой специфической реальности.
Однако прежде я хочу воспроизвести в схематическом виде
предшествующее рассуждение, то есть припомнить, как и когда, из каких
потребностей возникает европейский историзм.
Итак, европейский историзм возникает из критики
представленного католицизмом христианства и стремится противопоставить
христианской картине созданного Богом мира, у которого есть
начало, центр и завершение, идею естественным образом
эволюционирующего, проходящего определенные циклы,
возвращающегося на новом этапе к своим пройденным моментам человечества,
которое неведомым образом возникло в мире, не имеющем
твердого начала (потому что таковое должно быть документированным,
а это с точки зрения европейского историзма принципиально
невозможно) и в принципе могущем существовать бесконечно; точно
так же и человечество, находящееся в весьма неопределенных
отношениях к этому вполне автономному и бесконечному миру,
может развиваться бесконечно и тем самым обретать для своей
истории в принципе бесконечное продолжение.
В то же самое время историческому христианству постепенно
приписывается некая «историческая установка», якобы
оказавшаяся исходной для европейского историзма вообще, хотя ради
проведения этой установки Западная Европа в большей или меньшей
степени сознательно, но во всяком случае последовательно закры-
49 Хотя я сознательно не касаюсь здесь русской философии истории, это не
мешает привести заклинающе настойчивого Н. Бердяева в качестве подтверждения
того, что идея истории как особой реальности «в иерархии реальностей, из которых
состоит бытие», носилась в воздухе. Историзм для Н. Бердяева «есть осознание
совершенно особого, совершенно своеобразного объекта, неразложимого на другие
объекты, материальные или духовные... "Историзм" есть спецификум, есть
реальность особого рода, особая ступень бытия, реальность особого порядка». И даже:
«Историческая реальность есть реальность конкретная, а не абстрактная, и никакой
другой реальности кроме исторической не существует и существовать не может»
(Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. Париж, 1969, с. 20).
156
История и историзм
вает для себя сокровище христианства, поскольку лишает его
сердца, существа и единственного смысла: реальности творения мира
и человека Богом, Боговоплощения и земной жизни Богочеловека
Иисуса Христа, Воскресения Христова, Христовой Церкви,
Второго Пришествия и Страшного Суда.
Хайдеггер называет это мутилированное христианство «чистыми
формами христианской жизни», ведущими «внутрь истории»: «В
гуманизме и реформации, в споре с католицизмом стала
пробуждаться историческая критика. Стали стремиться к возвращению в
чистые формы христианской жизни, что и вело внутрь истории» ж.
Трёльч рассуждал в связи с этим о «свободном христианстве»:
«Что может помешать благочестивым людям представлять себе в
своей фантазии Иисуса, окруженного хором пророков Ветхого
завета и великих религиозных личностей последующего времени,
и обращаться к нему как к источнику наших религиозных сил и
веры?.. Только от одного надо отказаться: от отношения к Иисусу
как к центру мира или даже как только к центру истории
человечества и обоснования именно на этом его главного значения».
«О космическом положении и значении Иисуса не может быть и
речи. Но так же трудно выполнимо желание видеть в Иисусе
завершение человечества и стремление окончательно завоевать все
человечество с помощью проявившихся в Иисусе религиозных сил...
И нас не должно смущать, что в великой божественной мировой
жизни существуют другие сияющие круги с другими источниками
света»51.
Еще раз подчеркну: я не считаю, что феномен историзма, уже
более двух веков являющегося первой приметой и первой
проблемой европейского человечества, сводится к тому, что можно
назвать утратой церковности западным христианством; но что этот
момент в нем чрезвычайно важен, — сомнению не подлежит. И
наряду с ним мы обретаем все более явственные указания на то,
что история, историзм, историческое в какой-то момент начинают
выступать как эрзац-традиция, эрзац-мистика, и едва ли не эрзац-
церковь52.
30 Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея.../Ук. изд., с.
141.
51 Трёльч Э. О возможностях христианства в будущем / Лики культуры.
Альманах. М., 1995, т. 1, с. 416-418.
52 Я думаю, о сходной потребности заполнить опустевшее связтое место
свидетельствует необыкновенное развитие в западном сознании (с последующим, можно
сказать, планетарным распространением) наряду с историзмом понятия культуры,
возникшем у немцев и распространившемся в XIX веке у нас, в XX — у французов
и англичан наряду и в противовес понятию цивилизации.
Европейский историзм. II. Пределы историзма
157
2. Трёльч: внутрибожественная полнота,
созерцаемая конечной индивидуальностью
В самом деле, на фоне унылой перспективы христианства в
будущем, рисуемой Трёльчем, обратим внимание, в сколь высокой
степени у него же развито поистине мистическое переживание
исторического процесса.
«То, что было искусственной логической конструкцией и делом
человека, становится созерцаемой реальностью, которая, как и
всякая реальность, целиком пропитана идеей, законом и смыслом.
Чистое созерцание и глубоко внедряющееся, объединяющее
всевозможные виды опыта и переживаний исследование может... глубоко
проникнуть в действительную реальную связь, которая вместе с тем в
равной степени пронизана и фактами, и идеей. Конечно, доказать
очень многое при помощи такого тождества нельзя. Ведь монада все-
таки сохраняется, и хотя она и познает основу своей собственной
сущности только в Боге и поэтому вообще только в связи с
жизненным потоком, она все же остается конечной сущностью... Но она
может достичь известного, принципиально удовлетворяющего
потребность в объективности приближения к интуиции внутрибожествен-
ной полноты жизни и жизненных связей...» я.
Еще раз остановим внимание на том, что речь у Трёльча идет об
истории. Это специфическая форма развития, в основе которой
«должна лежать собственная и самостоятельная логика,
пронизывающая созерцание идеальным» м. Ее нельзя свести к психологии,
космологии, биологии. По существу это и не собственно
логическая проблема: «это поистине теоретико-познавательная
проблема, и решена она может быть только теорией познания»55. Но дело
идет и не о том, чтобы утвердить застывшее картезианское
понятие мыслящей субстанции, а о некоем Я, постигаемом как монада,
«которая посредством бессознательного или своего тождества с
тотальным сознанием соучаствует в общем содержании
действительного и виртуально несет в себе "внешний мир", мир
телесный, и мир другой души...»56.
Именно в связи с этим Трёльч обращается к опыту Лейбница с
его учением о монадах: «монада... означает тождество конечного
и бесконечного духа при сохранении в ней конечности и индиви-
53 Трёльч Э. Историзм и его проблемы, с. 520 — 522. ы Там же, с. 510.
33 Там же, с. 516. м Там же, с. 518.
158
История и историзм
дуальности». «Содержащиеся в продуктах созерцания
расширенные и дополненные человеческим мышлением понятийные формы
суть внутренние связи самого божественного духа, обнимающего
всю конкретную действительность... Поскольку тем самым в
содержание познаваемой из опыта телесной природы и в
проникновение в чужую душу была влита внутренняя, постигающая,
связывающая и логически выражаемая жизнь, оказалось возможным
наряду с механицизмом новое, вполне осуществимое созерцание
природы и прежде всего глубокое внутреннее проникновение в
историческую жизнь».
В таком подходе Трёльч видит особенность немецкой
исторической науки, которая «своим интуитивным постижением
принципиально противостоит науке западноевропейской и
позитивистской», — разумеются французы и англичане. «Ключ к решению
нашей проблемы представляет... существенное и индивидуальное
тождество конечных духов с бесконечным духом и именно
вследствие этого интуитивное участие в его конкретном содержании и
подвижном жизненном единстве» ".
Эти цитаты из Трёльча представляются мне достаточно
выразительными именно с указанной точки зрения: за ними стоит
совершенно отчетливое усмотрение некоей реальности, которая
несводима ни к какой другой и в то же время неотделима от
действительной наличности и представленности конечного человеческого
бытия. Помимо этого чрезвычайно важно осознание Трёльчем того,
что это отчетливое усмотрение исторического доступно в первую
очередь немцам. Эта особенная роль немцев в постижении
исторического отчетливо осознавалась Ницше, точно так же она
несомненна для Хайдеггера. Этот момент представляется
небезразличным для данного изложения: мы тем самым убеждаемся в том, что
предложенная нами выборка свидетельств о наиболее развитых
формах новоевропейского историзма находит для себя оправдание
в самосознании наших свидетелей.
3. Хайдеггер: история Бытия, живая
Божественность Бога
Хайдеггер, как и Трёльч, дает много поводов для того, чтобы
именно в нем усмотреть драгоценного свидетеля, стремящегося
"Там же, с. 518-520.
Европейский историзм. II. Пределы историзма
159
представить себе и нам максимально правдивый отчет о
метаморфозах европеизма и новоевропейского историзма в XX веке х. О
том, до какой степени Хайдеггер соответствует основному руслу
этого рассуждения, я сужу по целому ряду его замечаний разного
времени, некоторые из которых хочу привести, прежде чем
перейти к рассмотрению пассажа об истории и историчности из Бытия
и времени.
«Мысль, осмысливающая истину бытия, в качестве мысли
исторична. Нет никакой "систематической" мысли и рядом с ней, для
иллюстрации, историографии прошлых мнений. Но есть и нечто
большее, чем гегелевская систематика, которая якобы способна
сделать закон своей мысли законом истории и заодно эту
последнюю тоже поднять до системы. Есть, в более исходном
осмыслении, история Бытия, которой принадлежит мысль как память этой
истории, самою же историей осуществляемая. Такая память в корне
отличается от подытоживающей фиксации истории в смысле чего-
то происшедшего и прошедшего. История совершается прежде всего
как событие, не как происшествие. И что сбылось, не уходит в
прошлое»59.
«Мы еще слишком неопытны и слишком невдумчивы, чтобы
осмыслить существо истории из посланности, миссии и
следования ей. Мы еще слишком бездумно склонны по привычке
представлять себе историю исходя из процесса, а в этом последнем
видеть последовательность фактов, фиксируемых
историографией. Мы очерчиваем историю рамками происходящего, вместо того,
чтобы осмыслить историческое соразмерно его настоящим
истокам, из события»60.
«Историография есть изучение событий. Но история вовсе не
создается впервые историографическим рассмотрением. Все исто-
рико-научное, все представленное и установленное по способу
историографии отправляется от событий, опирается на их послан-
58 Эти метаморфозы нас в России коснулись только одной своей стороной, —
той, которою придавили. Именно поэтому я думаю, что необыкновенный российский
интерес к Хайдеггеру сегодня, несколько странный для нынешних европейцев,
неслучаен и глубоко оправдан: мы с его помощью добираем то, чего в нашем
духовном развитии были насильственно лишены, и потому не знаем, нужно ли
нам это, и если нужно, то в какой мере.
59 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме (1947). — Цит. в переводе В. В. Бибихина
по изданию Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993, с. 204.
60 Хайдеггер М. Поворот (1949). — Цитирую в переводе В. В. Бибихина по
изданию Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993, с. 253.
160
История и историзм
ность. А события совсем не обязательно вписываются в
историографию»61.
Эти замечания Хайдеггера взяты из его работ, написанных через
двадцать и более лет после Бытия и времени. Из них очевидно,
что в хайдеггеровском опыте истории и исторического явственно
(и вполне традиционно62) противопоставлены, с одной стороны,
отдельные факты и их последовательность и, с другой, —
события, то, в чем свершается и мыслится бытие. В связи с этим
противопоставляется историография и история. История не есть
процесс. Для Хайдеггера она связана не с уходом настоящего в
прошлое, а с бытием, которое сбывается как сбывается истинное
предсказание. Это же самое противопоставление временной
последовательности и того, что свершается, сбывается, — истории, Хайдег-
гер стремится выявить и в связи с рассмотрением искусства,
стремясь примерно через десять лет после Бытия и времени опознать
и указать исток художественного творения.
•«Всегда, когда совершается искусство, то есть всегда, когда есть
начало, в чреду свершений — в историю — входит первотолчок
побуждения, и история начинается, или же начнется заново. Исто-
рически-свершающееся, история [Geschichte], не подразумевает
здесь последовательности каких бы то ни было, пусть даже
чрезвычайно важных, событий во времени. История-совершение есть
отторжение народа вовнутрь заданного ему, и такое отторжение
есть вторжение народа в данное и приданное ему» и.
«Искусство совершительно [ist geschichtlich], и, как соверши-
тельное, оно есть созидательное охранение истины внутри
творения. Искусство совершается как поэзия, а поэзия есть учреждение
в трояком смысле: поэзия есть приношение даров,
основоположение и начинание. Искусство как учреждение сущностно соверши-
61 Хайдеггер М. Наука и осмысление (1953) / Там же, с. 249.
62 Уже у Канта мы находим это противопоставление, но здравый автор Идеи
всеобщей истории doc. cit.) замечает, что идея своего рода философской истории
должна расматриваться только как попытка, ни в коей мере не могущая отменить
все более обстоятельную, чисто эмпирически составляемую историю в собственном
смысле слова.
63 Хайдеггер М. Исток художественого творения. Истина и искусство
(1936). — Цитирую в перев. А. В. Михайлова по сборнику Работы и размышления
разных лет. М.: Гнозис, 1993, с. 106—107. До некоторой степени забавно, с
какой прямолинейностью и настойчивостью именно то, что Ницше считал
нсисторическим (искусство) и надысторическим (религия), Хайдеггер утверждает
в качестве исторического par excellence. Так мы явственно видим, за счет чего
идет обогащение исторического.
Европейский историзм. II. Пределы историзма
161
тельно, исторично. Это значит не только то, что у искусства есть
история в поверхностном и внешнем смысле... но это значит, что
искусство есть история в существенном смысле: оно закладывает
основы истории» ы.
Еще раз подчеркну: я не реконструирую те или иные концепции
Хайдеггера, а рассматривая его тексты и производя из них
релевантную выборку стремлюсь убедиться в том, что в
новоевропейском опыте историзма содержится нечто совершенно особенное и с
трудом формулируемое, опознаваемое в некоем буквально
мистическом переживании. Это то, о чем Трёльч говорил как об
«интуиции внутрибожественной полноты жизни», и к чему Хайдеггер,
который в свое время определял нигилизм как основополагающее —
по преимуществу историческое — движение в западной истории,
подбирается так:
«Не позабыть до времени слова Ницше...: "Опровержение Бога —
опровергнут, собственно, лишь моральный Бог".
Осмысляющему мышлению тем самым сказано: если Бог
мыслится как ценность, пусть даже и наивысшая, это не Бог. Итак,
Бог не мертв. Ибо жива Божественность его. И она мышлению
даже ближе, чем вере, если только верно, что Божество, бытий-
ствуя, воспринимает свой исток от истины бытия, а бытие как
внезапно разражающееся начало "есть" нечто иное, нежели
основание и причина сущего» 6S.
4. Хайдеггер: «мы есмы само свершение истории»
Наконец, приведу несколько выдержек из докладов,
посвященных Вильгельму Дильтею, прочитанных Хайдеггером в Касселе
за два года до выхода в свет Бытия и времени. Они
чрезвычайно показательны несмотря на то, что внимание Хайдеггера к
64 Там же, с. 107.
65 Хайдеггер М. Записки из мастерской (1959) / Там же, с. 267. Один из
поводов заметки — еще раз задуматься о существе современной техники и
приписанной к ней науки, поскольку «многие в наши дни, кажется, изо всех сил
стараются подыскать для властвующей в современном мире техники и тождественной
с нею науке такое представление об истории, чтобы мировое состояние, определяемое
этой самой техникой, вошло в него и тем самым было уловлено некоторой
вразумительностью»; другой поистине значимый повод — обязанность «продумать
заявление Никиты Хрущева», его констатацию безусловного исторического факта:
«мы первые в мире, кто проложил путь по небу от Земли до Луны» (с. 265).
7,6 - 974
162
История и историзм
существу историзма здесь несколько размыто стремлением
одновременно уяснить и сформулировать существо
феноменологического подхода. И то, и другое оказывается тем более непросто,
что ни Дильтей, ни Гуссерль, по Хайдеггеру, не понимали того,
что делали: Дильтей «не ставит вопроса о самой историчности...
Уяснить себе такой вопрос мы в состоянии лишь после того, как
сформировалась феноменология» к; в то же время «Гуссерль сам
не понимал своей собственной работы... он дал совершенно
неверную интерпретацию в духе понимания феноменологии как
улучшенной психологии»67.
Хайдеггер и в этом тексте, посвященном осмыслению роли Диль-
тея в формировании исторического мировоззрения, исходит из
противопоставления Geschichte и Ιστορία: «История означает
такое совершение, какое есть мы сами, такое, где мы сами тут же.
Так что есть различие между историей и движением, например
движением звезд. Лишь в предельно широком смысле имеется и
история мира. История формально есть определенный вид
движения... Движения происходят в мире. История же совершается со
мною самим, я есмь это совершение... Такое совершение и не
смена, и не простое протекание, но — поскольку мы же сами идем
пред собою, мы есмы само же свершение истории. Структурно от
такового неотъемлемо то, что мы сами знаем о нас же самих»6*.
«Α ιστορία (ίστορείν — выведывать, подавать весть о
совершившемся) подразумевает познание совершающегося. Способ
познания, дающий возможность подавать весть о прошлом, называется
историческим. Он осуществляется как обнаружение, критика и
интерпретация источников и как изложение всего, найденного в
них. Почему же тем выражением, какое означает знание о
свершающемся, мы пользуемся для обозначения самого
совершающегося? Потому что это совершающееся совершается нами же самими.
Совершающееся сохраняется в знании о нем» 69.
«В объективной историографии по большей части делается
наивное допущение о том, что понятия, какие она подхватила и какими
она пользуется, разумеются сами собою. Так, в истории
философии марбургская школа пыталась понимать и историю, пользуясь
кантовскими понятиями. В католической философии Аристотеля
толковали исходя из Фомы Аквинского. А в споре разных школ
66 Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба
за историческое мировоззрение в наши дни. Десять докладов, прочитанных в
Касселе (1925) // 2 текста о Вильгельме Дильтее. М.: Гнозис, 1995, с. 157.
67 Там же, с. 160. и Там же, с. 178. «» Там же.
Европейский историзм. II. Пределы историзма
163
одни ссылались на Платона как будто бы идеалиста, другие на
Аристотеля как будто бы реалиста. Во всяком настоящем
заключается опасность застроить историю — не открыть, а сделать
недоступной. Так что критическая задача — в том, чтобы освободиться
от подобных предсуждений и вновь задуматься об условиях, какие
делают возможным постижение прошлого... Историческое
сознание высвобождает прошлое для будущего, — тогда прошлое
обретает силу движения вперед и становится продуктивным»70.
Из приведенных фрагментов мы ясно видим, что в связи с
размышлениями над проблемой историзма у Хайдеггера существенно
развивается понятие феноменологии и закладываются все
основания его герменевтического подхода. И здесь же с абсолютной
отчетливостью обнаруживается исходная связь с проблемой истории
хайдеггеровского экзистенциализма.
«Для Дильтея собственно историческое бытие — это
человеческое существование. Дильтей выделяет в жизни определенные
структуры, но не ставит вопрос о присущем самой жизни характере
действительности, не ставит вопрос: каков же смысл нашего
собственного бытия здесь? Поскольку он не ставит такой вопрос, то у
него нет и ответа на вопрос о бытии историчном... Существование
здесь — это всякий раз существование собственное, мое, и такой
характер неотделим от него. Вот чего следует придерживаться,
если мы хотим найти смысл бытия здесь, настоящей собственной
экзистенции. Как может быть постигнуто в его целостности
человеческое существование здесь — существование всякий раз мое
собственное?»71.
Так избранная последовательность изложения проблем
историзма непосредственно подводит нас к главной теме Бытия и
времени: как представляется, это позволяет правильно отнестись к этой
книге как к свидетельству о некоем пределе новоевропейского
историзма.
70 Там же, с. 179—180. Нет необходимости доказывать, до какой степени это
спровоцировано Ницше, который, однако, видел в этой критике проявление как
раз не истории, а — как помним — жизни, которая так защищает себя и которая
может в этом опасном споре с историей может одержать победу.
71 Там же, с. 161, 165—166. Я позволил себе столь обильно приводить тексты
Хайдеггера, во-первых, потому, что теперь у нас есть его русские переводы,
выполненные В. В. Бибихиным и покойным А. В. Михайловым, которые дали
нам разные, но — каждый на свой лад — замечательные образы русского
Хайдеггера; во-вторых, потому, что, задавая вопросы, нужно дать собеседнику
возможность сказать в ответ, и такая подборка ответов сама по себе небессмысленна.
7,6·
164
История и историзм
Этот не вдруг подступ к Бытию и времени в значительной
степени спровоцирован самим отношением Хайдеггера к этому
сочинению как к Книге, требующей многократного и вдумчивого
обращения к ней и осмотрительного ее толкования. Предмет
непосредственного рассмотрения — Пятая глава Второго раздела
Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit — предпоследняя глава книги ".
5. Хайдеггер: человеческое бытие между
рождением и смертью
Давая Экзистенциально-отологическую экспозицию проблемы
истории (§72), Хайдеггер напоминает, что речь идет о том, чтобы
очертить границы феномена понимания бытия, подчеркивая, что
это последнее относится к бытийной устроенности нашего здешнего
человеческого бытия73. Только когда данное сущее
предварительно получило достаточную исходную интерпретацию, может быть
понято включенное в его бытийную устроенность бытийное
понимание, а на этом основании может быть поставлен вопрос, как в
нем понято бытие, и о «предпосылках» этого понимания74.
Хайдеггер рассматривает человеческое бытие в его временности,
обусловившей то состояние заботы, в котором находится человек
как существо временное и конечное. Целостность его бытия может
быть рассмотрена как раскрытость человеческого бытия между
рождением и смертью ". В самом бытии здешнего человеческого бы-
72 Постоянно опираясь на переводы А. В. Михайлова и В. В. Бибихина, сам
я ни в каком смысле не представляю себя переводчиком великого, но неблизкого
мне немца и потому ограничиваюсь вразумительным в доступную мне меру
пересказом указанной главы Бытия и времени за исключением §§ 76 — 77, из
которых первый посвящен экзистенциальному происхожению науки истории из
историчности нашего здешнего человеческого бытия, а второй представляет собой
выдержки из переписки В. Дильтея с графом Йорком, — они безусловно интересны
для исследователя философии Хайдеггера, но не столь существенны для нашей
цели. Курсив и кавычки по ходу изложения соответствуют тексту Хайдеггера.
73 Переводчику, разумеется, нельзя было бы переводить компактное Daseins
«нашим здешним человеческим бытием». Но для перелагателя, стремящегося к
пониманию существа дела, забота о воспроизведении жаргона отступает на второй
план, хотя я и стараюсь до известной степени «погрузиться» в стихию хайдегте-
ровского рассуждения, не стремясь, впрочем, к славе делосского ныряльщика.
74 С. 372. — Здесь и далее отсылаю к страницам указанного издания 1993 г.
73 Там же, с. 373.
Европейский историзм. II. Пределы историзма
165
тия заложено это «между», причем как оба «конца», рождение и
смерть, так и это «между» — суть, то есть бытийно
представлены, причем они суть как эта лежащая в бытийной основе
конечного человеческого бытия забота. В качестве заботы человеческое
бытие и есть это «между».
Таким образом, жизненное единство здешнего человеческого
бытия, то есть его специфическая раскрытость, подвижность и
устойчивость, опирается на временную устроенность этого сущего76.
Эту специфическую подвижность раскрывшегося самораскрытия
Хайдеггер называет свершением (событием, сбыванием) нашего
здешнего человеческого бытия (das Geschehen des Daseins).
Вопрос о «связности» человеческого бытия оказывается
онтологической проблемой его свершения, то есть того, как совершаются
события, в которых оно сбывается. Выявление структуры
свершения-события-сбывания и экзистенциально-временных предпосылок
ее возможности означает достижение онтологического понимания
историчности (der Geschichtlichkeit).
Здесь мы обращаемся к проблеме, кто обладает здешним
человеческим бытием и устанавливаем место проблемы истории (der
Geschichte). Эту проблему, замечает Хайдеггер, нельзя свести ни
к теоретико-познавательному объяснению исторического
постижения (Зиммель), ни к логике образования понятий исторического
изображения (Риккерт), поскольку и в том, и в другом случае
речь идет об истории как об объекте некоей науки77. Но то, каким
образом историческое свершение (die Geschichte) может стать
содержанием исторической науки (der Historie), можно понять
только из понимания того, каково бытие исторического, из
историчности и ее укорененности во временности.
В самом деле, поскольку бытие того сущего, которое есть
здешнее человеческое бытие, конституируется посредством
историчности, онтологическая проблема истории выступает как
экзистенциальная и оказывается неразрывно связана с понятиями заботы, в
которой человеку дано бытие, и временности, в которой эта забота
коренится78. Однако, прежде чем рассмотреть эту конститутивную
основу историчности (die Grundverfassung der Geschichtlichkeit),
Хайдеггер считает необходимым показать Обычное понимание
истории и характер свершения-события-сбывания нашего
здешнего человеческого бытия (§ 73).
76 Там же, с. 374. " Там же, с. 375. п Там же, с. 382.
166
История и историзм
6. Хайдеггер: исходно историчное —
мир человеческого бытия
Для того чтобы понять экзистенциальную конструкцию
историчности, необходимо отталкиваться от исходно историчного.
Оставив до времени историю как историческую науку, Хайдеггер
замечает, что с историей мы преимущественно связываем прошлое, о
чем свидетельствует обычное выражение «это принадлежит
истории». Здесь мы имеем в виду, что прошлое больше не
наличествует, а если и наличествует, то в каком-то смысле без «воздействия»
на «настоящее».
Однако мы знаем и прямо противоположное значение слова
«история», когда говорим «следы истории — повсюду»: мы тем
самым предполагаем, что история продолжает оказывать воздействие,
и прошлое так или иначе наличествует в настоящем, как,
например, руины греческого храма.
Таким образом, история означает не столько прошлое в смысле
уже прошедшего, сколько исток. То, что имеет историю, то стоит в
некоей непрерывности становления. «Развитие» при этом может
оказаться и взлетом, и падением. То, что «имеет историю», может
ее создавать. А то, что создает эпоху, дает настоящему будущее.
Тут история означает уже то, что простирается через «прошлое»,
«настоящее» и «будущее». И в таком случае у прошлого нет
особенного преимущества.
История означает скорее целостность сущего, которое
перемещается во времени, но — в отличие от природы — эти перемещения и
судьбы связаны с человеком, человеческими связями и
«культурой». История (Geschichte) в данном случае имеет в виду не столько
свершение-события-сбывания (das Geschehen) как определенный
вид бытия, сколько определенную область сущего, которую
можно отличить от природы, хотя и эта последняя в известном смысле
принадлежит так понятой истории.
Наконец, как «историческое» выступает «традиционное»,
независимо от того, знаем мы его историю или же оно само собой
разумеется и его происхождение неясно79.
Все четыре значения связаны своей отнесенностью к людям как
к «субъекту» того, что происходит. Не воспроизводя семи
вопросов, следующих за этим утверждением Хайдеггера, понимаю изло-
79 Там же, с. 378-379.
Европейский историзм. II. Пределы историзма
167
женный в них подступ к делу так: история оказывается данным во
времени специфическим свершением-события-сбывания нашего
здешнего человеческого бытия; и оно не потому становится
историчным, что попадает в один переплет с разного рода
обстоятельствами, которые выдаются то так, то эдак, а потому, что самим
этим свершением-события-сбывания и дается наипервейшее
бытийное установление нашего здешнего человеческого бытия; и только
потому, что наше здешнее человеческое бытие исторично в своем
бытии, онтологически возможны разного рода обстоятельства и
все «так выдалось» и «так выпало».
Но почему во «временной» характеристике свершающегося «во
времени» нашего здешнего бытия именно у прошлого оказывается
особая функция?80
В самом деле, хранящаяся в музее домашняя утварь,
представляющая исторический интерес, принадлежит «прошедшему
времени», но наличествует и в «настоящем». Что же прошло, и что
сделало то или иное орудие чем-то историческим? — То, что оно
изъято из употребления, и прошел тот мир, с которым было
связано его употребление. Мира больше нет, а то, что прежде в нем
было, осталось. Но что значит «мира больше нет»?
Мир есть только в смысле существующего человеческого
бытия, которое в качестве бытия-в-мире есть фактически. Поэтому
когда мы говорим об историческом характере сохранившихся
древностей, то дело здесь не в «прошедшем времени» как таковом, а в
том, что прошлым стало некое человеческое бытие, миру которого
они принадлежали.
Но можем ли мы говорить о том, что наше человеческое бытие
прошло, если под прошедшим мы понимаем «то, чего больше нет в
наличии, с чем мы лично больше не сталкиваемся»? Ясно, что
наше здешнее человеческое бытие не может когда-нибудь пройти,
однако не потому, что оно непреходяще, а потому что оно не
может в какой-то определенный момент быть целиком в наличии:
когда оно есть, оно просто существует.
Поэтому, если это наше здешнее человеческое бытие больше не
существует, это значит не то, что оно прошло, а что оно в
онтологически строгом смысле есть наше былое81. И до сих пор
наличные древности относятся к прошлому и истории на основе их
принадлежности как определенного рода орудий к некоему миру
нашего былого человеческого бытия, а также на основе их проис-
"° Там же, с. 379. ■' Там же, с. 380.
168
История и историзм
хождения из этого мира. В этих «принадлежности к» и
«происхождении из» и состоит первично историческое, причем это бытие
есть не только наше былое, но и наше настоящее и будущее82.
Однако утверждение «наше здешнее бытие — исторично» имеет
в виду не только бытийный факт, что человек является более или
менее важным «атомом» в ходе мировой истории и пребывает
игралищем обстоятельств и случайных событий, но и ставит вопрос:
в какой мере и на основе каких онтологических условий
историчность принадлежит субъективности «исторического» субъекта
как то, что конституирует его существо?
7. Хайдеггер: основа историчности —
обреченность человеческого бытия смерти
Подчеркивая, что решение этого вопроса предполагает
изложение онтологической проблемы истории как экзистенциальной, то
есть через понятие заботы, коренящейся во временности,
Хайдеггер (§ 74) стремится отыскать то свершение-события-сбывания,
которым существование определяется как историческое. Так
интерпретация историчности здешнего человеческого бытия
оказывается только более конкретной разработкой временности,
которая открывалась при усмотрении способа человеческого
существования в собственном смысле.
Этот способ Хайдеггер характеризует как свойственную человеку
исходную решимость затаив страх проецировать себя на
собственную виновность-провинность, которую совесть обнаруживает в
самом факте человеческого бытия. «Быть здесь» означает для
человека «провиниться», то есть «быть виновным» и «быть виною».
В этой исходной решимости здешнее человеческое бытие
понимает, что, будучи выброшено в бытие и тем самым начав жить, оно
все проходит перед лицом смерти как той единственной
возможности, которая неизбежно будет реализована, и только через это
понимание он может в своей заброшенности отождествить себя с тем
сущим, каковое и есть он сам83.
Хотя наше здешнее бытие брошено на себя самого и сдано на
руки своей возможности быть, однако же оно остается бытием-в-
мире, существующим вместе с другими, в силу чего то, чем
является каждое индивидуальное бытие само по себе, теряется в безлико-
82 Там же, с. 380-381. и Там же, с. 382.
Европейский историзм. II. Пределы историзма
169
сти этих не вдруг осознаваемых усредненных отношений. Поэтому
решимость, в которой наше здешнее бытие возвращается к себе
самому, открывает свойственные его времени возможности
собственного существования, исходя при этом из того наследия,
которое решимость получает, будучи выброшена в этот мир. Это
решительное возвращение к своей брошенности таит в себе
самосохранение и передачу унаследованных возможностей, хотя и не
обязательно как унаследованных84.
Чем более свойственным ему способом наше здешнее
человеческое бытие проявляет свою решимость, то есть, чем более
недвусмысленно оно понимает себя в преддверии смерти, тем более
определенным и неслучайным оказывается у него избирающее
обретение возможности его существования. Только эта свобода по
отношению к смерти дает нашему здешнему человеческому бытию
цель как таковую и ввергает существование в его конечность,
каковая, будучи понята, приводит наше здешнее человеческое бытие
к простоте его судьбы. Так обозначает Хайдеггер лежащее в
решимости как таковой исходное свершение-события-сбывания нашего
человеческого бытия, в котором оно передает себя себе самому
свободным по отношению к смерти в возможности,
унаследованной, но в то же время принятой в результате выбора.
Наше здешнее человеческое бытие только потому может быть
настигнуто ударами судьбы, что в основе своего бытия оно в
указанном смысле и есть судьба. Когда мы заранее позволяем смерти
обрести в нас силу, тогда мы — свободные по отношению к
смерти — понимаем себя в свойственной нам осиливающей силе нашей
конечной свободы, чтобы в этой свободе, которая «есть» только в
том, что этот выбор выбран нами, обрести в нас самих бессилие
нашей исходной оставленности и проницательность по отношению
к случайностям открывшейся ситуации.
Но когда мы в соответствии с нашей судьбой как некое бытие-в-
мире по самому нашему существу существуем в некоем
совместном бытии с другими, эта свершаемость нашего бытия
оказывается свершаемостью, совместной с другими, и определяется как
участь. Так Хайдеггер обозначает событийное
свершение-сбывание общества, народа, следя за переливами истории (Geschichte) в
судьбах отдельных людей (Schicksal) и людских сообществ
(Geschick). Участь народов не складывается из отдельных судеб,
поскольку в совместном бытии в одном и том же мире и в открытости
по отношению к определенным возможностям отдельные судьбы
уже заранее предуказаны м.
ы Там же, с. 383. в5 Там же, с. 384.
170
История и историзм
Именно здесь усматривает Хайдеггер полное и подлинное
свершение-события-сбывания нашего здешнего человеческого бытия.
И только когда в бытии некоего сущего смерть, вина, совесть,
свобода и конечность в одинаковой исконности совместно
обретаются так, как это происходит в заботе, то есть так, как это
определяется нашей временностью, мы можем существовать в модусе
бессильной и все осиливающей судьбы, то есть быть в основе
своего существования историчными.
Только то сущее, которое в существе своего бытия есть
будущее, так что оно, свободное по отношению к своей смерти, может —
разбиваясь об нее — отбрасывать себя в свое фактическое
здешнее и человеческое; итак, только то сущее, которое — будучи —
одновременно и по существу обретает свое былое, может —
передавая себе самому унаследованную возможность — воспринимать
собственную брошенность и быть настоящим мигом по
отношению к «своему времени». Только временность как таковая,
которая вместе с тем конечна, делает возможным нечто вроде судьбы,
то есть историчность как таковую.
Непосредственно вслед за этим выразительно выделенным
пассажем идет замечание, на первый взгляд, неожиданное. Нет
необходимости, говорит Хайдеггер, чтобы решимость положительно
знала о происхождении тех возможностей, на которые она себя
проецирует. Но во временности нашего здешнего человеческого
бытия и только в ней полностью содержится возможность на
основе переданного традицией понимания нашего здешнего
человеческого бытия положительно утвердить способность быть
существующим, на которую мы себя проецируем86.
Возвращающаяся к себе, сохраняющая себя в предании решимость
становится постоянно повторяющимся подтверждением некоей
унаследованной возможности экзистенции. Это повторение и есть
положительное предание, та традиция, в пределах которой мы
возвращаемся к нашему былому человеческому бытию здесь.
Повторение возможного не есть ни возвращение «прошлого», ни некая при-
крепленность «настоящего» к тому, повторением чего оно является.
Повторение скорее есть отклик на определенную возможность
нашего былого существования. Но этот отклик на возможность в
принятии решения есть вместе с тем — как настоящее мгновение —
отказ от того, что в сегодняшнем сказывается как «прошедшее».
Повторение не предается прошедшему, но точно так же оно не
нацелено на продвижение вперед. И то, и другое безразлично
существованию в настоящем мгновении87.
86 Там же, с. 385. «7 Там же, с. 385-386.
Европейский историзм. II. Пределы историзма
171
Говоря о повторении, Хайдеггер обозначает так модус
сохраняющей себя в предании решимости, в каковом модусе наше здешнее
человеческое бытие положительно существует как судьба. Но
поскольку судьба конституирует исходную историчность здешнего
человеческого бытия, история не обретает своей существенной
важности ни в прошедшем, ни в сегодняшнем и его «связанности» с
прошедшим, но в свершении-события-сбывания как таковом,
которое проистекает из единого для всех людей будущего. Корень
истории как некоего образа нашего бытия здесь по самому своему
существу находится в будущем. Собственное бытие,
приговоренное к смерти, то есть конечность свойственной нам
временности, и есть незримый фундамент историчности нашего здешнего
человеческого бытия. И дело обстоит не так, что наше здешнее
человеческое бытие впервые становится историчным в том
повторении, о котором шла речь; наоборот, поскольку мы историчны
благодаря самой нашей временности, постольку мы и можем
обрести эту возможность повторения в нашей истории. И для этого нам
не нужно исторической науки.
Повторение впервые делает для нас очевидной нашу
собственную, свершаемую нами событийно сбывающуюся историю. Само
же свершение-события-сбывания и необходимая для него и потому
принадлежащая ему и обретаемая нами нескованность
основывается в своем существовании на том, что — будучи временным —
наше здешнее человеческое бытие экстатически открыто.
Именно это лежащее в исходной решимости свершение-события-
сбывания Хайдеггер называет собственной историчностью нашего
здешнего человеческого бытия. Из коренящихся в будущем
феноменов предания и повторения выяснилась важность нашего
былого для свершения-события-сбывания собственной истории.
Однако тем более загадочным остается, в каком смысле это свершение-
события-сбывания в качестве судьбы должно конституировать всю
«связность» нашего здешнего человеческого бытия от нашего
рождения до нашей смерти.
Далее в связи с отмеченной загадочностью следуют жанрово
традиционные хайдеггеровские вопросы. В частности, Хайдеггер
премудро вопрошает: не должна ли «связность» нашего собственного
свершения-события-сбывания, образующего нашу собственно
историю, состоять из некоей лишенной лакун последовательности
решений? Почему вопрос о конституции «связности жизни» не
находит вполне удовлетворительного ответа? Может быть,
прежде нужно убедиться в правомерности вопроса? Весь
предшествующий ход экзистенциальной аналитики явственно обнаружил
постоянное скатывание онтологии нашего здешнего человеческого
172
История и историзм
бытия к соблазнам обыденного понимания бытия, и можно
методически противопоставить этому только внимание к
происхождению столь «само собой разумеющегося вопроса» о конституции
этой связности нашего здешнего человеческого бытия и
установление того, в каком онтологическом горизонте он движется.
Если историчность принадлежит к бытию нашего здешнего
человеческого бытия, тогда и несобственное существование должно быть
историчным. Именно несобственное существование и
несобственная историчность и могут провоцировать ряд вопросов о
собственной историчности, сами по себе не находящие ответа88.
8. Хайдеггер: решимость повторения, теряясь
в людской безликости, образует историю мира
Поэтому следующая анализируемая проблема — Историчность
нашего здешнего человеческого бытия и история мира (§75). Здесь,
как мне представляется, Хайдеггером руководит в большей
степени «требование системы»89, нежели ясная и четкая интуиция,
определявшая силу предшествующих параграфов, интуиция,
которая в существе своем исчерпывается этим осознанием
неизбежности наступления смерти, что позволяет Хайдеггеру характеризовать
наше здешнее человеческое бытие как бытие-при-смерти.
Это действительно сильное положение, которое существенно
развивает наше знание времени и состоит в том, что среди множества
пребывающих в неопределенности сего дня возможностей одна будет
неизбежно реализована, и тем самым мы благодаря сознанию
собственной смертности впервые получаем единственное достоверное
знание о будущем, единственный факт, которым, по Хайдеггеру,
реально ограничивается наш опыт будущего. Утверждение Хай-
деггера «ведь решена задача: все умрут», носившееся в воздухе
обезбоженной Европы первой четверти XX века, этой эпохи ее
великих потрясений, хорошо продумано и является подлинным
основанием всей его «фундаментальной онтологии» и
«экзистенциализма» .
Но при этом сам же Хайдеггер чувствует ограниченность этого
опыта и потому по ходу дальнейшего рассуждения об истории
огонам же, с. 386-387.
89 Ср. приводимое выше замечание из Касселъских докладов: «Лишь в
предельно широком смысле имеется и история мира» (ук. изд., с. 178).
Европейский историзм. II. Пределы историзма
173
варивается, что он не может входить в проблему онтологической
структуры событийного сбывания-свершения истории мира (она
же — Weltgeschichte — всемирная история), дабы не преступать
границ его темы90.
И тем не менее Хайдеггер, несмотря на ясную и для него самого
невыводимость истории мира из его основной интуиции,
позволяющей разглядеть исток собственной историчности каждого, — тем
не менее Хайдеггер находит хороший — хотя скорее
риторический — ход: для того, чтобы понять несобственную историчность, в
собственной историчности необходимо подчеркнуть решимость к
воспроизведению, к повторению, что обеспечивает возможность
возвращения прошлого, проистекающую из будущего. Помимо этого
здесь же начинает работать и другая основная интуиция Хайдегге-
ра, лежащая уже в основе его «феноменологии»: человек живет в
окружении других людей и в окружении того, что ими создано;
этому до известной степени подчинено даже то, что называют
природой.
Хайдеггер в своей трактовке истории мира понятным образом
исходит из традиционного противопоставления субъекта и
объекта, по поводу чего ему приходится фиксировать, что ни связность
движений, характеризующая изменения объекта, ни свободно
парящая последовательность пережитых субъектом событий не дают
нам истории. Не относится ли в таком случае событийное
свершение-сбывание истории к «сцепленности» субъекта и объекта? Если
мы, таким образом, переходим к свершению-события-сбывания
субъект-объектной связи, то мы можем спросить о способе бытия
этой «сцепленности» как таковой, раз она есть то, что лежит в
основании «свершения-события-сбывания».
Положение об историчности нашего здешнего человеческого
бытия предполагает историчность не изъятого из мира субъекта, но
того сущего, которое существует-экзистирует как бытие-в-мире.
Свершение-события-сбывания истории есть свершение-события-
сбывания бытия-в-мире. С экзистенцией исторического бытия-
в-мире все попадающееся и выпадающее, все подручное и
наличное оказывается уже включенным в историю. И поэтому книги
имеют свою «судьбу», а произведения архитектуры и
установления права — свою историю. И даже природа оказывается
историчной, но не в смысле «естественной истории», а как ландшафт, как
то, что заселяется и эксплуатируется, как поля битв и места
богослужений91.
90 Там же, с. 389. " Там же, с. 388.
174
История и историзм
Наша затерянность в том, чем не являемся мы сами и что в
нашем фактическом бытии как предмет заботы обще нам с
«людьми», с этим «мы» и в то же время нашим общим «оно»,
провоцирует нас к тому, чтобы понимать историю нашего здешнего
человеческого бытия как историю мира и в конечном счете — как
всемирную историю. И поскольку история мира открывает себя нам и
обнаруживается нами прежде, нежели мы замечаем скоротечность
ежемгновенно предсмертного бегства того бытия-при-смерти,
которое и есть каждый сам по себе, постольку мы пытаемся
объяснить связность нашего здешнего бытия исходя из некоторой
последовательности событий, пережитых субъектом92.
Собственная историчность лежит в бессилии и неодолимой мощи
нашей судьбы, в том, что мы решительно возвращаемся к
унаследованным возможностям и непосредственно воспроизводим их как
наши. Сама эта решимость, то есть решимость самости
противостоять неустойчивости рассеянья, и есть пространство
устойчивости, в которой наше здешнее человеческое бытие в качестве
судьбы содержит рождение и смерть и их «между» в качестве
«включенных» в его существование и в то же самое время соотнесенных
с историей мира в каждой данной ситуации. И не совокупность
этих мгновений соотнесения образует устойчивость, но она
проистекает из уже распространившейся временности имеющего
сбыться повторения93.
В отличие от нее в несобственной историчности исходная
распространенность судьбы утаена. В неустойчивости, свойственной нашему
здешнему человеческому бытию как постоянно теряющему свою
самость в нашей общей людской безликости, оно отводит сферу
настоящего для сего дня — «сегодня». Предстоя в настоящем
наступлению ближайшего нового, оно уже забыло древность. Безликое
людское в нашем здешнем человеческом бытии избегает выбора. Будучи
слепо по отношению к возможностям, оно не может воспроизвести
былое, но удерживает и содержит остатки «действительности»
былой истории мира и сохранившиеся источники о ней.
Потерявшись в том, что стало настоящим сего дня и сегодня
оказывается настоящим, наше здешнее человеческое бытие
понимает «прошедшее» из «настоящего». А временность собственной
историчности — как миг предварения и повторения, — напротив,
есть некое сопротивление настоящему сего дня, то есть тому, что
сегодня оказывается настоящим и становится настоящим «сегодня»;
91 Там же, с. 389-390. м Там же, с. 390-391.
Европейский историзм. II. Пределы историзма
175
она также есть чуждость безликости людского обыкновения:
собственная историчность понимает историю как «возвращение»
возможного и потому знает, что возможность возвращается только
тогда, когда наше существование здесь, ежемгновенно обреченное
судьбе, открыто для возвращения возможности в своей решимости
повторения.
Экзистенциальная интерпретация историчности нашего
здешнего человеческого бытия непременно неприметно уходит в тень. Эта
несколько неожиданная кода данного раздела нужна Хайдеггеру
для того, чтобы перейти к Экзистенциальному происхождению
исторической науки из историчности нашего здешнего
человеческого бытия (§ 76). Однако у Хайдеггера и здесь явственно нет
никакой специальной интуиции помимо того справедливого
замечания, что историческая наука должна способствовать
исторической деструкции истории философии. В силу этого я не буду
излагать этого параграфа, а перейду к формулировке некоторых
замечаний по поводу изложенного, имеющих непосредственное
отношение к нашей теме.
9. Реальность новоевропейского историзма —
в сфере продуктивного воображения
Тот путь, который прошел новоевропейский историзм от своего
возникновения до Хайдеггера, можно представить как путь от
величественной и глобальной картины развивающегося человечества,
гипотетически выстраиваемой на основе известных фактов, к
максимально отчетливому усмотрению констант некоего
специфического опыта истории, констант, принципиально наличных в
индивидуальном опыте каждого человека в качестве констант его
собственного, свойственного ему внутреннего опыта.
В других категориях этот путь может быть охарактеризован как
переход от максимально верифицируемой, достоверной,
объективной картины автономного развития человечества, к подчеркнутому
переживанию ее автономности и стремлению к убедительному и
изнутри понятному ее подвижному образу, который в конечном
счете воспринимается совпадающим с человеческим «я», былым
субъектом, перед которым объективная картина выстраивалась.
Незавершенность картины рассматривалась как ограниченность
на данном этапе человеческих возможностей (субъекта); постепенно
она осознается как принципиальная (наличествующая в объекте);
176
История и историзм
и в конце концов оказывается осознанной человеческой
временностью и конечностью.
Принцип рисуемой картины автономного развития
человеческого социума поначалу усматривается в естественной (природной)
эволюции (от неорганического к органическому, животному,
социальному), потом в более общем понятии жизни, индивидуальной
жизни, и наконец — в данном конкретном человеческом
существовании.
Само понятие историзма и исторического все более стремится
отделиться от истории как одной из опытных (эмпирических) наук
и противопоставляет ее фактической предметности некую
совершенно самостоятельную реальность, специфика которой
формулируется с большим трудом и — использовав в качестве ряда
промежуточных ступеней тождество субъекта и объекта, общего и
индивидуального, специфической логики и свободы, бытия в
качестве ценности, etc. — в конечном счете оказывается реальностью
свободно избираемой человеческой судьбы.
Способ ограничения этой свободы и лежит в основе
историчности: свобода ограничена рамками человеческой жизни и
неизбежность смерти есть единственная возможность, реализация которой
гарантирована.
Этот главный опыт нашего бытия-при-смерти позволяет Хайдег-
геру максимально интериоризировать понятие историчности, а все
прочие категории, в которых оно осознается, поддерживают эту
интериоризацию и дают возможность максимально освободить его
от необходимости его внешнего коррелята и «автономно»
разрабатывать в сфере воображения94.
Но если мы посмотрим, в каких именно категориях Хайдеггер
описывает это исходно историчное, то возникает странное
ощущение. В самом деле, уже упомянутая судьба не предполагает судьи.
Виновность не предполагает определенной провинности, и
неизвестно, что чему виною, кто в чем и перед кем. Совесть не означает
решимости исповедания добра и отречения от зла, но, как
кажется, не означает и обратного. Заброшенность и оставленность не
м *Воображение есть способность представлять предмет также и без его
присутствия в созерцании... Поскольку способность воображения есть спонтанность,
я называю ее иногда также продуктивной способностью воображения и тем самым
отличаю ее от репродукттивной способности воображения, синтез которой подчинен
только эмпирическим законам, а именно законам ассоциации, вследствие чего оно
нисколько не способствует объяснению возможности апперцепции знаний и потому
подлежит рассмотрению... в психологии» (Кант И. Критика чистого разума /
Сочинения: В б т. М., 1964, т. 3, с. 204-205).
Европейский историзм. II. Пределы историзма
177
предполагает вопроса «куда?», «где?» и «кем?». Любой акт
художественного творения означает всякий раз начало или
возобновление истории, но это не предполагает вопроса о начале истории как
таковой. Зовы и призывы бытия ничего принципиально не меняют
в нашей заброшенности-покинутости-оставленности и не спасают
ни от нее, ни от неведомой исходной вины. Да и кого спасать — по
меньшей мере неясно, потому что — каким бы личным и
собственным не объявлялось «здесьбытие», — это не я, не ты и не он, а
некое отличное от сущего «бытие», но только «здесь», хотя и
неясно, где, потому что бытие-в-мире — другое.
Но, может быть, поскольку тем не менее речь в данном случае
идет об историзме, нам следует усмотреть здесь — вместе с Яспер-
сом — некоторые формальные структуры христианства, которые —
на манер Трёльча — мы будем представлять в своей фантазии?
В самом деле, представим все эти утверждения в некоем
мысленном контексте некоего воображаемого христианства,
поданного в некоей абстрактной, или «чистой» форме: тогда провинность
Адама окажется виною исходной для всякого и каждого данного
человека виновности от рождения и причиной неизбежности его
смерти; мы будем знать, как пробудилась его совесть, стыд
наготы, стремление ее скрыть; мы поймем брошенность согрешившего
человека на него самого и его собственные труды, и выброшен-
ность человека в мир, и его решимость в поте лица трудиться до
самой смерти; и призыв к человеку Того, Кто сказал о Себе «Аз
есмь Сущий».
Или мы мысленно осознаем решимость как решимость Сына
Человеческого пронести свое человечество от рождения до смерти;
и поймем вину как всю вину человека, как грех мира, который
берет на себя Тот, Кто один без греха; и осознаем необходимость
выполнить всю унаследованную правду, причем не как
унаследованную, а как сознательно избранную; и благодаря Сыну Божию
поймем всю глубину оставленное™ человека Богом перед лицом
неизбежности смерти...
Но мы прекрасно понимаем, что ни о каком христианстве тут по
существу не может быть речи как раз в силу того просто факта,
что христианство никак не относится к сфере
представления-воображения, в которой его стремится поместить Трёльч, оно не
подлежит той чистке, о которой говорит Хайдеггер, и его нельзя
формализовать, как предлагает Ясперс, безущербно для формализатора.
Эта необязательность псевдохристианской интерпретации
вытекает и из того, что мы можем представить дело и так: судьба — это,
например, стоическая судьба, а решимость — это ревность сто-
7 - 974
178
История и историзм
ического философа, а бытие-при-смерти — стоическое учение о
всегдашней открытости смерти и возможности свободно выбрать
ее...
Но в таком случае, то есть если мы свободно подыскиваем некие
воображаемые коды для истолкования того, что само по себе не
дает твердой основы для истолкования, то мы в конце концов
можем говорить и о решимости как хайдеггеровской решимости, и о
судьбе как о хайдеггеровской судьбе, и — в конечном счете — об
историчности как о хайдеггеровской историчности...
И тогда останется единственный вопрос: куда же исчезает, на
глазах испаряется и выветривается эта особенная историческая
реальность, за которой свыше двух веков охотилась Западная
Европа, в чем растворилась живая божественность Бога и внутрибо-
жественная полнота жизни?..
По-видимому, никуда и ни в чем. Потому что она остается на
том самом месте, где возникла, и пребывала, и вопроизводилась,
причем неоднократно и по-разному: историзм, историчность и
специфическая историческая реальность навсегда остаются в истории
западной философии XVIII —XX веков95, а одним из мотивов ее
разработки оказывается как раз стремление вырваться из
исторической ограниченности новоевропейского кругозора и вернуться
на исходный простор бытия, ведомый европейской античности.
" Мне бы хотелось дополнить: причем так же, как эфир, теплород,
электрическая жидкость, флогистон, etc., то есть некая специфическая реальность,
долженствующая объяснить ряд фактов, остается в истории науки определенных
периодов; однако приходится от этого удержаться в силу невозможности сколько-
нибудь развить эту параллель.
Ill
ИСТОРИЗМ И ЕВРОПЕИЗМ
1 . Греки и история
Еще раз подчеркну, что цель данной работы — не очерк истории
новоевропейского историзма даже в самом схематическом виде96,
но установление того факта, что абсолютный аисторизм античности
и христианское происхождение исторического миросозерцания суть
некие прижившиеся у нас новоевропейские мифы, необходимые
для становления самого новоевропейского исторического
мышления и ставшие формами его распространения и вульгаризации.
Рассмотренные выше тексты Трёльча и Хайдеггера были
призваны показать обычный путь, по которому идет усвоение той или
иной умозрительной реальности европейской мыслью. Приведу
главные этапы этого пути, основные пункты, через которые это
усвоение проходит, принципиальные моменты, которые его
характеризуют:
— опознание некоторой умозрительной реальности и ее
именование97;
96 Именно поэтому, представляя необозримый горизонт возможного
исследования, я даже не касаюсь отдельных концепций исторического развития в
XIX веке (некоторые из них — Ранке, Гизо и др. — рассмотрены Трёльчем в
заключительном разделе его Историзма) и опускаю все законные попытки XX
века отменить историзм, поставив под сомнение глобалистские концепции историзма
или сам его принцип (Поппер, Арон), отказавшись от историзма в пользу
структурализма или этноцентризма (Леви-Стросс), объявив «конец истории» (Ток-
виль, Кожев, Фукуяма), или существенно модифицировать его в аналитической
философии истории, герменевтике (Гадамер, Рикер), etc. Вне данного рассуждения
остается также тема, представляющая, как мне кажется, чрезвычайный интерес и
необыкновенную важность для нас сегодня, — формирование философии истории
и исторического мировоззрения в русской философии: эта тема по существу своему
требует специального рассмотрения и безусловно заслуживает такового. Полезную
подборку текстов и инструктивное введение в русскую историософскую мысль
см. в книге: Очерк русской философии истории. Сост. и ред. Л.И.Новикова,
И.Н.Сиземская. М., 1996.
97 Вариант: усмотрение некоей неочевидной для обычного взгляда реальности
за обиходным словом, так или иначе на нее намекающим, и использование этого
слова для преимущественного обозначения данной реальности. Прекрасный пример
7·
180
История и историзм
— установление данной реальности как факта, так или иначе
наблюдаемого нами, то есть присутствующего в сфере
чувственного опыта, и стремление расширить эту сферу за счет накопления
ближе не определяемых фактов того же рода;
— попытка освоения уже данной в чувственном опыте реальности
на уровне рассудка, то есть создание ее мысленного наброска98;
— интериоризация мысленного наброска, осознание его
данности в общезначимом внутреннем опыте, допускающем его
концептуальное (понятийное) схватывание, совместное обсуждение и
рационально обоснованное определение ";
— введение уже не реальности, а того или иного ее рассудочного
концепта в сферу продуктивного воображения ради его
«автономной» разработки'00.
дают слова связанные с глаголом διαλέγεσθαι, диалектик, диалектика, диалог:
на наших глазах в текстах Платона происходит переход от той или иной вполне
реальной беседы, которую ведет Сократ с одним или многими собеседниками
(Апология 21 с: «и когда я побеседовал с ним, я решил...»; 37 а: «я не могу вас
убедить, Афиняне, потому что мы мало времени беседовали друг с другом»), к
диалектику, контролирующему установителя имен (Кратил 390 с —d) и
постигающему рациональную структуру сущности каждой вещи (Государство 534
Ь: τόν λόγον έκαστου λαμβάνοντα της ουσίας) в процессе безмолвной беседы, которую
его душа ведет сама с собой (Софист 263 е).
98 Это выражение «мысленный набросок» (επιβολή της διανοίας) использовалось
Эпикуром, когда он хотел показать устремление мысли к непосредственно
воспринимаемому предмету; так, в Письме к Геродоту читаем: «...главным
признаком совершенного и полного знания является умение быстро пользоваться
бросками мысли» (у Диогена Лаэртия X 36, перевод М. Л. Гаспарова). Затем это
понятие было интериоризовано, замечательным образом развито в применении к
сверхчувственному миру Плотиной и использовано Дамаскием для объяснения
того, как мы обретаем знание единого.
99 В качестве примера приведу только два момента в эволюции античного
понимания времени: Платон дает в Тимее картину небесного свода со светилами,
«назначенными участвовать в устроении времени» (37с —39е), а в Политике
рассматривает возможность отмеченного в известном мифе об Атрее и Фиесте
попятного движения во времени; его слушатель и читатель Аристотель в IV книге
Физики обращается к данным внутреннего опыта, который любой из его слушателей
или читателей может воспроизвести: («если даже темно и мы не испытываем
никакого воздействия на тело, а какое-то движение происходит в душе, нам сейчас
же кажется, что вместе с тем протекло известное время»), а также дает анализ и
определение времени (гл. 10—14).
100 При специальной разработке данной схемы следовало бы указать, что в
начале ее — то состояние томления-тревоги, которое описано Платоном в Федре и
Пире: именно оно и является основой для опознания реальности; завершающий
момент схемы — возвращение от «автономно» разработанного понятия к
породившему его началу, исходной умозрительной реальности; что же касается
общезначимого внутреннего опыта, то мы сталкиваемся с ним, выявляя те регулярно
Европейский историзм. 111. Историзм и европеизм 181
Имея в виду эту схему, зададимся вопросом: какого аспекта,
освоенного Европой в последние три века историзма, решительно
не было у первых европейцев — греков? Что имеет в виду тот же
Трёльч, обобщивший опыт новоевропейского историзма, когда он
пишет, что «полная и сознательная постановка вопроса» об
историзме «была достигнута лишь на стадии зрелости современного
мира, от Вольтера и Гердера до Конта и Гегеля и их нынешних
продолжателей» ,01?
Именно греками была опознана и наименована история — та
специфическая реальность, которая предполагала специальное
внимание к человеку, месту, времени и условиям его обитания,
реальность, которая все более осмыслялась как связанная с «великими
и достойными удивления деяниями как греков, так и варваров»,
которые следует уберечь от забвения, как пишет в начале своей
Клио «отец истории» Геродот.
Когда данная реальность была опознана, у греков возникает
специальный жанр прозаических сочинений, которые создаются в
великом множестве и посвящаются собиранию и так или иначе
систематизированному изложению «всех преданий отдельно для
каждого народа или государства, которые сохранялись у местных
жителей или были записаны в религиозных и светских книгах»,
как пишет Дионисий Галикарнасский в сочинении о Фукидиде (5).
К этим сведениям добавлялись те, которые были специально
добыты в ходе специально предпринимаемых путешествий.
Уже на самой ранней стадии у греков возникает потребность
проверить сообщения и объяснить события, что как раз и
свидетельствует о том, что наряду с простой фиксацией некоторых
сообщений возникает мысленный образ событий, о которых идет речь,
возникающие в истории Европы в рамках определенных субкультур состояния,
когда философ (в самом широком смысле этого слова: тот, кто стремится
принципиально осмыслить явление из условий его возможности) опирается как
на данность на то, что внутренне убедительно для всякого, но не всегда и не
вдруг явственно осознается и формулируется. Особенно отчетливо это
наблюдается в области моральных, эстетических, вкусовых и других оценок.
101 Историзм, с. 618. Трёльч прекрасно описывает далее это современное ему
историческое сознание европеизма, еще не утратившего своих творческих сил,
дающих возможность развиться в мирового лидера колонии Европы Америке и
ожидающего, что принесет включение России в европеизм (с. 619 — 624). К
сожалению, именно эта историческая конкретность и точность прогнозов не позволяет
ему философски продумать и сформулировать существо этого нового так ясно
описанного им феномена. В конечном счете проблемы и перспективы конкретного
исторического исследования оказываются для Трёльча интереснее. Именно поэтому
(и это совершенно справедливо и понятно) первой наиболее существенной
проблемой для него оказывается проблема объективной периодизации.
182
История и историзм
некоторый рациональный набросок их связи между собой.
Знаменитые заявления Гекатея, который намерен писать так, как ему
представляется истинным, и Геродота, в особенности
намеренного показать, почему греки и варвары вели войны между собой, —
тому подтверждения.
Об интериоризации предпринимаемых рациональных
построений и введении их в сферу общезначимого внутреннего опыта
свидетельствует быстрое возникновение историографической
традиции: это означает, что многими авторами принимаются сходные
условные требования разных исторических жанров, система
которых также возникает очень быстро.
И есть еще важное подтверждение интериоризации
исторического опыта у греков. И у Геродота, но в особенности начиная с Фу-
кидида, мы сталкиваемся с тем, что герои описываемых событий
произносят речи. При отсутствии стенограмм они, разумеется, не
могут нести документальной функции. Эта драматизация
исторического повествования в отличие от сценических постановок, где
диалог максимально экстериоризован, рассчитана только на то,
что читатель мысленно воспроизводит действие вслед за автором.
И тогда даже самые описания оказываются рассчитаны на то, что
их читатель мысленно выстраивает соответствующую картину. Это
постепенное включение в сферу исторического описания элемента
вероятностного решительно отличает его от нерефлектированной
фиксации и заставляет усомниться в абсолютной правоте
знаменитого утверждения Аристотеля в Поэтике «поэзия серьезней и
философичней истории» (IX 51Ь5 —Ь8).
И тем не менее, когда идет речь об ограниченности
исторического опыта греков, первое, о чем обычно говорится, это отсутствие у
них философии истории. Но ради корректности при этом
следовало бы добавить: в античности не было философии истории на стадии
автономной разработки этого понятия в сфере продуктивного
воображения, которое начинает оперировать понятием «как таковым»,
пытаясь высвободить его из исходной конкретно-исторической,
социо-культурной, лингво-стилистической и жанровой
определенности. Я не говорю уже о том, что сегодня само это утверждение
об отсутствии философии истории в античности нуждается в
дополнительном обосновании, поскольку современные
исследователи весьма решительны и достаточно убедительны в своем
стремлении показать, что философия истории в античности была,02.
102 Эта тема была впервые специально развита в связи с Платоном еще в
работе Rohr G. Platon's Stellung гиг Geschichte. В., 1932, а также в ряде работ
Европейский историзм. III. Историзм и европеизм
183
Разумеется, мы не будем пытаться найти в античном историзме то
мутилированное христианство, которое так или иначе окрашивает
отчеты об историческом Трёльча и Хайдеггера. Что же касается
практически всех других моментов, связанных с освоением истории
как специфической реальности, входящей в сферу нашего опыта и в
виде определенного понятия уже получившей интериоризацию, то,
как ясно из вышеизложенного, в античности мы их найдем даже
при самом традиционном взгляде на вещи. Поэтому рассуждающие
о принципиальном аисторизме античности отнимают у нее как раз
то, что именно античностью и было создано, осмыслено и
представлено в весьма развитом и дифференцированном опыте не чего
иного, а именно истории.
При сколько-нибудь трезвом взгляде на вещи именно у греков, а
не в первоначальном, то есть минимально эллинизированном
христианстве мы находим все приметы общеевропейского
исторического сознания. И после того как к V веку до Р.Х. постепенно
установился сам термин история — ίστορίη и возникла система
соответствующих жанров прозаических сочинений, которые при
любом отношении к античности никто никогда не переставал
считать историческими, исторический жанр на протяжении всей
античности был предметом специальной рефлексии|03.
Уже у первых историков вырабатывается ряд требований,
которые до сих пор признаются конституирующими исторический взгляд
на вещи |М. К их числу относится твердое понимание того, что
историк должен опираться на документы и достоверные
свидетельства. Это понимание было одним из первых достижений
первой европейской научной традиции, каковой была ионийская исто-
Конрада Гайзера: Gaiser К. Piaton und Geschichte. Stuttgart, 1961; Piatons unge
schriebene Lehre. Stuttgart, 19682; La metafisica delta storia in Piatone. Milano,
1988. «Философия истории» Гесиода, Эсхила, Демокрита и Платона рассмотрена
в книге: Destopoulos С. Philosophy of History in Ancient Greece. Athens, 1991.
103 Об этом можно судить хотя бы потому, что специфику своего подхода
чувствуют уже первые историки, они же первые прозаики — логографы; и через
восемь веков развития исторической прозы на закате античности в сочинении
О том, как писать историю законы исторического жанра иронически
рассматривает Лукиан, всегда реагировавший на самый поверхностный срез общегрсческого
сознания.
104 См.: Strasburger H. Die Wesensbestimmung der Geschichte durch die antike
Geschichtsschreibung. Wiesbaden, 19682. Автор подчеркивает, что хотя у греков
не было сочинений, специально посвященных разработке исторического метода,
но по отдельным замечаниям в самих исторических сочинениях мы с абсолютной
уверенностью заключаем, что для их авторов в процессе работы как законы
истории, так и методы се изложения неизменно были в поле зрения.
184
История и историзм
рия. Именно греки первыми осмыслили историческое развитие
отдельных народов и составили представление о развитии
человечества в целом, понимаемого как некий единый народ. У греков
получил четкое осознание тот факт, что историк должен понимать
законы развития. Именно греки создали представление об
истории человечества, которая уходит своими корнями в
неопределенное ^относительно которого нет надежных свидетельств) прошлое
и обращена в столь же неопределенное, но до некоторой степени
зависящее от человека будущее.
Наконец, именно по отношению к истории было разработано — в
частности Полибием — представление о той отчетливо постигаемой
post factum и совершенно неопределенной во множественности
своих перспектив реальности, которое вполне сопоставимо с
представлением об имеющей в себе некую имманентную силу истории: речь
идет о развитом в стоицизме понятии судьбы-τύχη, к которому
неизбежно обратился и новоевропейский историзм в лице Хайдеггера,
усмотревшего в судьбе самое существо историчности|05.
Не забудем также, что начиная во всяком случае с I века до Р.Х.
«в римскую литературу впервые вступает... наряду с
национальной историей и всеобщая или, вернее сказать, объединенная греко-
римская история... Подобно Полибию, и авторы этих трудов
старались заменить локальную историю историей всех государств по
берегам Средиземного моря... Эти всемирные летописи — не что
иное, как учебники для школьного преподавания или справочные
книги... Построенная как единое целое эллино-италийская
история, в чем Полибий опередил свое время, изучалась теперь уже и
105 Трсльч отмечает, что в античности осознавали значение истории и философии
истории: «Своего рода подступы к этому обнаруживаются уже в период поздней
античности у следующих за Полибием эрудитов... С того момента, как внимание
людей было обращено на сложность всего содержания культуры и была
предпринята попытка овладеть этим содержанием посредством исторического анализа,
при наличии соперничества различных культурных содержаний и их мифических
супернатуралистичсских обоснований, возникла необходимость выявить на почве
истины и доверия к истине подлинные сложные исторические проблемы и свести
тиранические обоснования мифических ценностей и веры в чудеса к их подлинному
значению. Это было совершено уже в античности» (там же, с. 618 — 619). По-
видимому, мы должны здесь существенно уточнить Трёльча и признать, что
«необходимость выявить на почве истины и доверия к истине подлинные сложные
исторические проблемы» была исходной для исторического опыта античности.
Что же касается теологического подхода к истории в классической древности,
то цитированный выше Н. Strasburger отмечает, в частности, что оно встречается
только у Геродота, причем и его нужно рассматривать в данном случае не как
первого историка («отца истории»), а как последнего представителя архаического
времени (с. 32).
Европейский историзм. III. Историзм и европеизм 185
греческими и римскими мальчиками в школе» ,0ί. И как ни
жалуется цитируемый Т. Моммзен на безотрадность литературных
достоинств этой историографии, именно распространение
исторического взгляда на мир, приобретенного греками, и усвоение его
•♦римскими мальчиками в школе» послужило основой той «историза-
ции» христианства, которая в западной традиции впервые
отчетливо проявляется только у получившего обычное образование в
языческой школе Августина.
2. Новоевропейский историзм как возвращение
к античности
Мы, таким образом, можем предположить, что как раз эта
безликая движущая сила истории в античности и стала в конце
концов ближе новоевропейскому историческому сознанию нежели
личный Бог Авраама, Исаака, Иакова, непосредственно
вмешивающийся в ход земных событий и человеческих свершений, Бог,
ради спасения созданного Им человека пославший на крестную
смерть Сына Своего, «страдавша, и погребенна», и «воскресшаго
в третий день по Писанием».
Но помимо этого нельзя забывать, что само это обращение
новоевропейской мысли к античности, потребность возвращения к ней
как к своему началу и прямая необходимость ее нового
осмысления и осознания как своего исторического прошлого, — все это
было очень важной составляющей самого процесса историзации
европейского сознания, в ходе которой образ нашего здешнего
человеческого мира с Голгофой в центре постепенно заменялся
научной картиной исторического развития Европы от Гомера до
современности. И с этой точки зрения новоевропейский историзм
также, разумеется, ни в каком смысле не предполагает
враждебного отношения к античности. Напротив того: мы видим, что
главные выразители исторического самосознания Европы призывают к
ее подлинному — исторически корректному, философскому,
жизненному — освоению.
В ходе исторически корректного рассмотрения европейской
истории Трёльч, выделяя четыре первичные силы, определяющие
развитие европеизма, три из них связывает с античностью. Говоря
106 Моммзен Т. История Рима, III. Русский перевод под ред. Н. А. Машкина,
М., 1941, с. 514-515.
186
История и историзм
о самом начале европеизма, Трёльч подчеркивает, что все то, что
было связано с Востоком, имело значение для последующей
Европы ровно постольку, поскольку было усвоено греками и прошло
соответствующую переоценку. К числу этих полностью
переоцененных ближневосточных элементов относится и еврейское
пророчество и еврейская Библия, значимые для Европы только
благодаря их усвоению греческой культурой.
Вторая основная сила — классическая Греция, третья — мир
античного империализма. Ясно, что четвертая сила — западное
средневековье — могла стать определяющей современный европеизм
только после того, как им был воспринят критический и
рациональный дух античности, ее ощущение существования внутри мира
и ее художественное чутье т.
Политика, педагогика, наука и искусство возрожденской и пост-
возрожденской Европы с одинаковым рвением ангажируют
античность, чтобы с ее помощью осмыслить самих себя, свое
происхождение, свои место и роль в том мире, где «"христианский Бог"
утратил свою власть над сущим и предназначением человека» 108.
Так, интерпретируя Ницше, Хайдеггер определял существо того
исторического движения, пронизывающего Запад, которое
называется европейским нигилизмом. И сами Ницше и Хайдеггер —
представители рафинированного исторического сознания — суть
лучшие примеры этого уже не научного, а бытийно и жизненно
серьезного обращения к античности.
«Греки постепенно научились организовывать хаос; этого они
достигали тем, что в согласии с дельфийским учением снова
вернулись к самим себе, то есть к своим истинным потребностям,
заглушив в себе мнимые потребности. Этим путем они снова
вернули себе обладание собой; они не оставались долго
переобремененными наследниками и эпигонами всего Востока; они сумели
даже после тяжелой борьбы с самими собою стать путем
применения на практике этого изречения счастливейшими обогатителями и
множителями унаследованных сокровищ, первенцами и прообра-
зователями всех грядущих культурных народов.
Вот символ для каждого из нас: он должен организовать в себе
хаос путем обдуманного возвращения к своим истинным
потребностям...»109.
107 Трёльч Э. Историзм и его проблемы, с. 650 — 651.
108 Хайдеггер М. Европейский нигилизм. Пять главных рубрик в мысли
Ницше. — Цитирую в переводе В. В. Бибихина по изданию: Хайдеггер М. Время
и бытие. М., 1993, с. 64.
1М Ницше Ф. О пользе и вреде истории / Философия истории. Антология,
с. 140.
Европейский историзм. III. Историзм и европеизм 187
Но греки не только символ. Они для Ницше — подлинный
идеал, к которому необходимо вернуться. Для Ницше важно, что
сделать это могут, на его взгляд, именно немцы.
«Немецкая философия представляет собою... волю продолжать
открытие и раскопки античной философии, преимущественно
предшественников Сократа... Всякое притязание на «оригинальность»
звучит ничтожно и смешно по сравнению в более высоким правом
немцев — утверждать, что ими восстановлена казавшаяся
порванной связь с греками, этим самым высшим из до сих пор
сложившихся типом «человека». Мы снова приближаемся теперь ко всем
основным формам того миротолкования, которое избрал
греческий дух в лице Анаксимандра, Гераклита, Парменида, Эмпедокла,
Демокрита, и Анаксагора; мы становимся с каждым днем все
более и более греками, вначале, конечно, в понятиях и
оценках словно грецизирующие призраки, но в надежде когда-нибудь
сделаться греками и телом! На этом я строю (и всегда строил)
все мои надежды на немецкий дух!» ио.
Что касается пафоса возвращения к античности у Хайдеггера,
пафоса, который несомненно был в значительной степени
инспирирован Ницше, то прежде всего приведу выдержки из Кассельс-
ких докладов, где Хайдеггер на примере истории философии
показывает существо и самое возможность исторической науки,
обретающей значение благодаря тому, что она обеспечивает
обращение-возвращение к грекам.
«Историческую науку и ее возможность мы наглядно
представим себе на примере истории философии... Мы проводим свое
рассуждение на такой основополагающей проблеме, какую мы уже
постоянно имели перед своими глазами и только не ставили пока в
явном виде, — на вопросе о бытии сущего... Этот центральный
вопрос первым поставил Платон в «Софисте»... Декарт... пользу-
110 Ницше Ф. Воля к власти / Ук. изд., с. 179—180. Эту античную природу
философствования у воскресителя древнего перса — у немца Ницше — хорошо
формулировал Φ. Ф. Зелинский («его философия — последний крупный вклад
античности в современную мысль»), отмечавший впрочем, что и немец Лассаль
начинал как филолог-классик, как автор книги о Гераклите Темном (Ницше и
античность / Из жизни идей. СПб., 19082, с. 339 — 346). Припомнив Φ. Ф.
Зелинского, нельзя не вспомнить и об его прямолинейном и недалеком, но по
существу правильном понимании того, что понятие исторического прогресса связано
не с христианством, а с античностью: «Прогресс — лозунг той культуры, которая
коренится в античности; к нему относится вся та игра идей, которую нам завещала
античность... все мои доводы в пользу античности имели основанием веру в прогресс,
в его возможность и необходимость. Решитесь отрицать прогресс — и все, что я
сказал, будет опровергнуто» (Древний мир и мы. СПб., 19052, с. 144).
188
История и историзм
ется томистским учением о бытии, а основные понятия такового —
исключительно греческие. Декарт забывает спросить, каков же
бытийный смысл того «я есмь», которое было найдено им. Он
просто подставляет сюда понятие бытия как наличия в мире. И это
его упущение, и эта неясность так и передавались из рук в руки
вплоть даже и до феноменологии. Ведь и Гуссерль тоже не ставит
вопрос о бытии сознания. Так что получается, что одна
определенная интерпретация бытия протягивается через всю историю
философии, определяя всю понятийность философии» ηι.
«Итак, этим путем историко-философская постановка вопроса
вновь приводит назад — к фундаментальному вопросу о бытии...
Вот для этого и нужна история философии — умение вновь
понимать древних. Нам надлежит настолько продвинуться вперед,
чтобы вновь уметь справляться с той постановкой вопросов, какую
давали греки» ,|2.
Напомню, что, согласно Хайдеггеру, «любое осмысление
современности теперь способно возникнуть и укорениться лишь при
условии, если в диалоге с греческими мыслителями и их языком
оно пустит корни в эту почву нашего исторического бытия» из.
Для Хайдеггера это не пустая декларация: целый ряд самых
главных для него понятий — бытие, сущее, истина, наука, техника —
он продумывает непосредственно в их греческом истоке и «в
диалоге с греческими мыслителями и их языком». В особенности когда
речь идет о науке, которая удалилась от своего греческого начала.
«...Мы должны вновь стать подвластны началу нашего
существования в совершении истории духа. А начало это — зачин
греческой философии... Но ведь зачин еще есть. Не за нами он,
давным-давно пройденное, — он перед нами...
Наука — это упорное выстаивание посреди сущего в целом,
посреди сущего, непосредственно уходящего в свою сокрытость. При
этом деятельное упорство выстаивания ведает о своей немощности
перед судьбой...
1,1 Там же, с. 180-182.
112 Там же, с. 182. При этом показательно, до какой степени свидетельство
Хайдеггера оказывается существенно близко тому, о чем читаем у Трёльча:
«Выявление в догмах, мифах и учебниках живой реальности прошлого возобновляло
и усиливало его воздействие... Историческое изучение античности освободило ее
от академических интерпретаций и послужило основанием ее громадного
обновленного воздействия... Подлинное историческое исследование... открывает
нам подлинный источник нашего существа...» (Историзм и его проблемы, ук.
изд., с. 619-620).
113 Наука и осмысление. — Цитирую в переводе В.В.Бибихина по изданию:
Хайдсггср М. Время и бытие. М., 1993, с. 240.
Европейский историзм. III. Историзм и европеизм 189
Но если мы сладимся с располагающим нами из своей дали
зачином, то наука станет основополагающим совершением нашего
народного существования в духе.
А если самому исконному существованию нашему еще суждено
ныне великое преобразование, если верно сказал страстно
искавший Бога последний немецкий философ, Фридрих Ницше, — "Бог
мертв!" — и мы обязаны принять всерьез эту оставленность
человека наших дней посреди сущего, — что тогда, как тогда обстоит
дело с наукой?
Тогда терпеливое выстаивание греков перед сущим, их
первоначальное удивление перед ним преобразуется в иное — мы, ничем
не защищенные, не прикрытые, выброшены в сокрытое и
неверное, то есть во все сомнительное и стоящее вопроса... Такое вопро-
шание разбивает изолированные сосуды обособившихся научных
дисциплин, изымает их из безбрежного и бесцельного рассеяния
по отдельным наукам и уголкам знания и вновь непосредственно
полагает науку на основе плодородия и благословения всех сил
исторического существования человека, какие только есть в мире,
а они таковы: природа, история, язык; народ, обычай,
государство; поэзия, мышление, вера; болезнь, безумие, смерть; право,
хозяйство, техника» ,14.
Насколько я могу судить, в своей определенности и глубинной
серьезности призыв Хайдеггера вернуться к грекам — последний
и по существу уже не нашедший отклика в западной мысли,
которая, похоже, все больше теряет вкус и к историческому взгляду на
мир. И уже никто более в самых глубинах своего мироощущения,
в той предельной серьезности, с какою язычник вопрошает о своей
судьбе, похоже, никто более не ощущает себя в истоке своем
древним греком, как это ощущал еще Хайдеггер.
Это, разумеется, не мешает развиваться науке об античности.
Но и она очень быстро приобрела и продолжает культивировать
инертные черты технически оснащенного и бытийно не наполненного
бездумного жеста, так что и в отношении античности с абсолютной
очевидностью сказывается все большая утеря навыка к
историческому исследованию: на фоне все возрастающего размаха и
детализации исследовательской работы над античностью "5, включенной
114 Из речи, произнесенной Хайдеггером при вступлении в должность ректора
Университета во Фрейбургс-ин-Брсйсгау 27 мая 1933 года и названной им
Самоутверждение немецкого университета. Цитирую в переводе А. В. Михайлова
по сборнику Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993, с. 227.
115 Ср. замечания Л. II. Карсавина семидесятипяти летней давности: «Настаивать
на значении исторической выучки сейчас, при расцвете технической стороны
190
История и историзм
и в Европе, и в Америке в государственную машину обеспечения
всеобщей занятости, само обращение к античности перестает быть
обращением к самим себе и самопознанием и тем самым лишается
исходного воспитательного смысла, что в свою очередь постепенно
обессмысливает изучение античности в школе и уже вызвало
фактический развал системы классического образования в Европе116.
Именно поэтому редкие и драгоценные попытки современности
всерьез сохранить античность как основу нашей европейской
идентичности оборачиваются сегодня — как в свое время это было и в
случае с христианством — ее моральной интерпретацией"7.
истории, необходимости нет... И нужно теперь говорить не о том, что необходимы
техника и работа над источниками, но о том, что не в них только дело. Техника
историческая развилась; зато угрожает исчезновением сама история... Яд мнимо-
научной точности проникает глубже: историк считает необходимостью прочесть
всю литературу вопроса и, уж конечно, не забывает оповестить о том своих
читателей, хотя девять десятых ее никому и ни для чего не нужны... Только наше
безвкусное время может терпеть и даже ценить книги, в которых после каждых
трех слов стоит скобочка с цифрою... а внизу петитом приведены цитаты на всех
языках и ссылки на страницы разных книг, где о том же вопросе говорится. При
этом «низ» страницы нередко оставляет для верха только три-четыре строчки.
Можно ли вообще читать такую книгу? Можно ли без содрогания держать ее в
руках» (Философия истории. СПб., 1993, с. 216 — 217). Я отнюдь не сочувствую
пафосу Л. П. Карсавина, но понимаю причины его раздраженности.
116 Показательно, что именно с этой констатации начинается XXVI том серии
Entretiens sur l'Antiquité classique Классические штудии в XIX и XX веке: их
место в истории идей (Vandcevres; Genève, 1980): определявшие среднее и
гимназическое образование в XIX веке и дававшие право поступления в университет
не только филологам и историкам, но и физикам, химикам и даже инженерам,
классические штудии сегодня занимают разве что маргинальное положение в
интеллектуальной и духовной жизни Европы.
1,7 При знакомстве с инструктивной сводкой современной философской и
околофилософской мысли, предложенной Jacqueline Russ в книге La marche des
idées contemporaines. Un panorama de la modernité (P., 1994), я с великой отрадой
нашел в разделе Свет античности (с. 380 слл.) осмысленные слова о моем дорогом
коллеге и друге Пьере Адо, а также выдержки из его Exercices spirituels et
philosophie antique (P., 1981, 1993 э). В течение долгого времени только ученики,
друзья и близкие коллеги Пьера Адо могли вполне оценить глубокий нравственный
смысл его античных штудий; ситуация решительно изменилась после выхода в
свет его Exercises spirituels, переведенных на итальянский и немецкий, но в
особенности после книги о Марке Аврелии La citadelle intérieure (P.: Fayard,
1992); затем появился сборник Philosophy as a way of life (Ed. and with an
introduction by Arnold 1. Davidson. Oxford UK; Cambridge USA, 1995); недавняя книга
Пьера Адо Qu'est-ce que la philosophie antique? (P.: Gallimard, 1995) может
считаться классическим образцом сочетания безупречной историко-филологической
вышколешгасти с глубиной философского и нравственного отношения к античности.
Европейский историзм. III. Историзм и европеизм 191
В свое время развитие науки о классической древности было
спровоцировано развитием университетского образования
(прежде всего в Италии) и возникшего в его рамках движение за
придание курсам древних языков, истории и этики самостоятельного
значения. Это движение, как известно, получило название
гуманизма. С развитием отдельных европейских стран
гуманистическая традиция распространялась, и развивались национальные
традиции классической филологии, которая достигла
необыкновенного взлета в Германии XIX века в связи с общим изменением
структуры прежде всего среднего (классические гимназии)
образования. Поэтому именно с Германией в это время связаны наивысшие
завоевания в области развития исторических и
историко-филологических дисциплин, а также то предельное понимание историзма,
о котором речь шла выше.
И сегодня интерес к античности и классическому образованию
характеризует определенное состояние очередной культуры,
выходящей на мировую арену в качестве ведущей: после второй
мировой войны классические штудии почти индустриально
развиваются в Америке, последние десятилетия — в Японии; на очереди
Китай. Россия — особая статья, и о ней здесь речи не идет. Но в
любом случае я не думаю, что в какой-то стране сегодня и впредь
мы еще можем столкнуться с нетронутым и безупречным пафосом
открытия античности и ностальгическим стремлением вернуться к
грекам как к нам самим в нашем самом чистом и подлинном виде.
Точно так же мы никогда не будем свидетелями воплощения
мечты Николая Бердяева о наступлении «третьего периода, третьей
эпохи, эпохи возвращения к историческому». Этот эпиметеевский
призыв прозвучал слишком поздно, когда западноевропейский
историзм уже по существу исчерпывал себя.
И все же... — Хайдеггер говорил, что для нашей мысли
философия греков оказывается «в некотором "еще не"», но что это такое
«"еще не", которому не удовлетворяем и не отдаем должное мы*,18.
Я думаю, это действительно так, по крайней мере в том смысле,
что многие направления как античной, так и христианской мысли,
были обойдены или редуцированы новоевропейским историзмом.
Прежде всего речь идет об опыте самооценки античности,
обретенном ею в позднем платонизме, а также о рецепции античности
нераздельною христианской церковью. Традиционные дисциплины —
то есть возникшие в VI —V веках до Р.Х. в Греции история,
филология, философия, теология — должны сказать здесь свое слово.
И если первые две на Западе — начиная с сороковых годов и в
"· Гегель и греки / Там же, с. 390.
192
История и историзм
первые послевоенные годы — с новым пафосом приступили к
освоению этого пласта, достигли здесь прекрасных результатов и тем
самым уже до известной степени поистощили свой пафос "9, то две
вторые почтенные дисциплины, на мой взгляд, еще ждут своей
полуночи.
В XIX веке, плоды философских трудов которого по рецепции
античности в большинстве своем давно превратились в шаблоны и
перешли в сферу предрассудков, прекрасно характеризующих этот
ушедший век, но уже не имеющих отношения к делу, эта работа в
Западной Европе шла или параллельно, или даже с
провоцирующим опережением философии. Россия, которая до Октябрьского
переворота еще не успела, а после него уже не имела возможности
всерьез включиться в общеевропейские историко-филологические
научные труды, создала такие псевдоморфозы, как религиозная
философия, активно поддержала и постаралась развить грубые
философские поделки Маркса и Шпенглера, атеизм и позитивизм.
Теперь — период срочного и преимущественно беспринципного
усвоения того, чем был, что пережил и передумал Запад в XX
веке, и пока — отсутствие здравого и продуктивного отношения к
собственному прошлому.
Но сама возможность сохранения и поддержания в России как
философской, так и богословской традиции зависит сейчас не от
обстоятельности и полноты анамнеза и точности в постановке
диагноза, а от практической общеоздоровительной и
профилактической работы по созданию соответствующих образовательных
учреждений — светских и духовных.
Я думаю, в их образовательных программах философия
истории со всеми проблемами историзма будет присутствовать только
в качестве раздела в курсах философии и истории, а не в качестве
самостоятельной дисциплины.
1,9 Приметой для меня служит серия Sources Chrétiennes, издатели которой
постелено сумели привлечь лучших специалистов и из того, что задумывалось как
серия французских переводов, сделали серию, как правило, лучших критических
изданий текстов христианских авторов; в области изучения поздней античности
таким прекрасным символом новой исследовательской мощи служит издательская
деятельность Л. Вестеринка (t 24.01.1990), образцовая и в полном смысле
титаническая работа которого над изданиями текстов неоплатоников и византийских
авторов открыла новую эпоху в пашем понимании платоновской традиции.
Postscriptum
ко всякой философии истории,
имеющей претензию сформироваться в науку
После того как этот сборник был составлен (к октябрю 1996
года), мне пришлось трижды обсуждать его в целом и по частям: в
Российском институте культурологии МК РФ и РАН, в Институте
философии РАН, а также в Московской Духовной Академии. В
основном внимание коллег было привлечено к последней части,
посвященной историзму, и для меня это обсуждение оказалось весьма
поучительным: это было настоящим развитием моего собственного
опыта историзма, потому что только в ходе первых двух обсуждений
я впервые понял, до какой степени историзм вошел в самое существо
отечественного образа мысли сверстного и старших поколений и в
какой неприкосновенной целостности у нас сохранился этот феномен,
в своей живой и первобытной форме почти совсем незнакомый
теперь даже Европе, не говоря уже об Америке. Только этим можно
объяснить крайнее напряжение и страсть, отметившие оба собрания
академических ученых. Лекция в M ДА прошла спокойно.
В этой заметке я хочу обратить внимание читателя на некоторые
моменты, которые, на мой взгляд, преимущественно и вызвали
непонимание. К числу таких моментов относится прежде всего мое
стремление не столько конструировать ad hoc те или иные понятия,
сколько констатировать реальные факты, могущие служить
отправными точками для размышления.
В докладах, посвященных феномену возвращения, я обращаю
внимание на то, что сознательное отношение европейцев к
собственному духовному опыту с определенной периодичностью провоцирует
целые эпохи сделать своим знаменем возвращение к истокам.
Внимание к этим эпохам дает реальную возможность показать
явственные перерывы той иррациональной сплошности, которая, пугая
исследователя духовной истории, провоцирует построение фиктивных
или искусственных барьеров между эпохами и культурами, вроде
тех, например, что установил Шпенглер1. В связи с вниманием к
1 В ходе обсуждения неоднократно возникал вопрос, почему в связи с
феноменом возвращения речь идет только о европейцах: разве возвращение к
194
Postscriptum
этому феномену удается помимо нескольких частных наблюдений
сделать и ряд более общих, например, о периодизации античной
философии и невозможности начинать ее с ионийцев, об
исключительной роли сакрализованных и сакральных текстов для
понимания как самого феномена возвращения, так и специфики
европейской философии, начавшейся у пифагорейцев с « любви к
мудрости», заключенной в этих текстах, etc.
Однако внимание к феномену возвращения без инструментализа-
ции его понятия еще не дает четкого критерия для сплошного
рассмотрения всей европейской духовной истории вплоть до наших дней.
Дело меняется, когда мы опознаем — поначалу в качестве
обязательной приметы глобального возвращения, а затем и как безусловный
повод для него — изменение средств и способов хранения и передачи
информации. Осевые века европейской истории призваны показать,
что после первой блистательной акции, с которой началась Европа,
то есть после изобретения алфавита и составления и записи с его
помощью гомеровских поэм, именно свиток, кодекс, печатная книга
и сегодняшний компьютер замечательным образом оказываются
сердцевиной всех изменений в духовной сфере. Все эти явления
абсолютно наблюдаемы и изучаемы независимо от наших общих
представлений о развитии культуры, ходе истории и пр., а потому могут
лежать в основе такого рода представлений.
Но опознав некие опорные пункты общей картины духовного
развития европейцев, я невольно вступил в сферу, уже более двух
веков закрепленную в новой Европе за философией истории, в
частности, соприкоснулся с той проблематикой, которая
традиционно закреплялась за логикой истории. Предварительно рассмотреть
претензии первой и установить специфический характер второй и
призвана статья Логика истории.
В ней идет речь о специфике того опытного знания, которое дает
история, в связи с чем к трем известным кантовским
формулируется четвертый постулат эмпирического мышления («4. То, связь чего
с действительным определена согласно историческим условиям опыта,
должно существовать»). Наши суждения об историческом прошлом
оказываются по своему характеру принципиально близки к
суждениям о будущем, специфика которых привлекла внимание еще
Аристотеля: в трактате «Об истолковании» (гл. 9) Аристотель по суще-
истокам не общий принцип развития всякой культуры? — Может быть, так оно
и есть, но и это утверждение можно сделать только на основе конкретных и
систематических наблюдений над другими культурами, долженствующих
показать, что и эти культуры сделали возвращение предметом постоянной рефлексии
и принципом духовного самоопределения, как это явственно наблюдается в Европе
начиная с античности.
Postscriptum
195
ству обращает внимание на то, что по отношению к единичным
событиям в будущем нерелевантны закон исключенного третьего и
закон противоречия. Косвенный вывод, который я в связи с этим
делаю, состоит в невозможности науки о будущем, поскольку оно
не дано нам в опыте и о нем как о таковом (т. е. как о будущем)
нельзя построить необходимых суждений. Но совпадение суждений
в сфере истории и суждений о будущем означает также
принципиальную невозможность любого рода философии истории как науки.
Установление определенных поворотных моментов европейской
истории и понимание специфического характера самого
исторического знания провоцирует постановку вопроса об истине.
Возможность истины в истории означает принципиальную проницаемость и
прозрачность друг для друга и для нас духовных феноменов,
фактически данных нам в виде прежде всего определенного рода
текстов. В связи с этим в статье Истина и история я попытался
понять все разнообразие проявлений европейской духовности как
единую сферу откровения, предполагающую наличие определенных
скрепляющих ее констант, проявляющихся в самых разных
точках зрения, концепциях, системах и пр.2
Не нужно объяснять, что здесь мы также оказываемся в сфере
философии истории, что провоцирует понятное стремление
осмыслить релевантные аспекты этого феномена. Так появился последний
раздел работы, вызвавший столь жаркую полемику. В связи с этим
— три замечания.
1. Я, как мне кажется, могу понять позицию моих оппонентов, с
большей или меньшей степенью горячности вставших на защиту
историзма и его христианских корней; но я не могу ее принять,
потому что не усматриваю во всех высказанных возражениях того,
что опровергло бы мой основной тезис: историзм3 как определенный
2 Приведу пример, может быть, несколько прямолинейный, но позволяющий
правильно понять характер искомых констант. Позиция Сократа, защищающего
в Государстве Платона большее могущество справедливости по сравнению с
несправедливостью, может быть осознана как имеющая действительный и
существенный смысл при столкновении ее с позицией Фрасимаха и нахождении
общих для обеих позиций констант: Фрасимах вынужден признать, что для
существования даже несправедливых сообществ должны действительно
применяться хотя бы элементы справедливости. Иными словами можно сказать, что
искомые константы являются условием возможности истины в реальном
историческом многообразии мнений.
3 Или историцизм, или историка, или философия истории, историософия
и историология, — я имею в виду то, что старались обозначить в Европе этим
множеством имен, за которыми тем не менее грезилось примерно одно и то же,
а именно, «наука о законах развития человеческого общества», которая «дает
196
Postscriptum
феномен духовной жизни Западной Европы XVIII — середины XX
века, возникший в ходе критики христианской Священной истории и
христианства в целом, не только не является наукой, но и по
существу не может ею быть, поскольку — в отличии от теологии,
философии, филологии и истории и вместе с культурологией, например,
или т. н. религиозной философией, etc. — не имеет своего предмета
(собственной предметной области). Именно поэтому историзм
стремится конструировать свой предмет и — разбирая и собирая
собственную конструкцию — имитирует тем самым научное исследование.
До известной степени это на сей день просто констатация факта4,
хотя я, как уже сказано, и постарался привести для этого
некоторые основания в Логике истории, где идет речь о специфике наших
суждений об истории, принципиально совпадающих с суждениями
о будущем, а потому не являющихся суждениями необходимыми и
тем самым научными.
Что стоит за этим утверждением? Одно простое обстоятельство,
известное историкам с тех самых пор, как наука история вновь
стала развиваться на своей собственной почве, каковою является
европейский разум. Приведу пример из истории философии. Как
только наука история вновь осознает себя как таковая, история
философии как историческая наука, опирающаяся на реальные
достижения филологической науки и других вспомогательных
дисциплин, объединяемых классической филологией, тут же оказывается
в решительной оппозиции к философской истории философии, —
в качестве примера этого я приводил в той же Логике истории
знаменитого Эдуарда Целлера, поначалу гегельянца.
единственно научное понимание истории и служит методом познания общественных
явлений», особый подход к общественным явлениям, без которого «невозможно
существование и развитие науки об истории, ибо только такой подход избавляет
историческую науку от превращения ее в хаос случайностей и в груду нелепейших
ошибок» (из статей Историзм и Исторический материализм в Большой
Советской энциклопедии, т. 19 ИСТОРИЗМ — КАНДИ, Государственное
научное издательство «Большая Советская Энциклопедия», 1953, с. 3, 17). —
Поистине, не будь этих обсуждений, мне не пришло бы на ум заглянуть в БСЭ
ради указанных статей.
4 Ср., например, у Ю. Хабермаса: «...философия истории в действительности
не является бациллой, если ей повсеместно оказывается сопротивление...
Познавательные притязания философии истории чрезмерны, а ее концептуальное
оснащение оказывается непригодным для теории общественной эволюции» (О
субъекте истории. Краткие замечания по поводу ложных альтернатив. —
Цит. по кн.: Философия истории, с. 283). Но необходимо заметить, что некие
историософские палочки все-таки существуют и продолжают поражать беспечную
мысль: тому свидетельство необыкновенное развитие культурологии, футурологии
и прочих разносчиков бактерий историзма, не уживающихся на почве истории.
Postscriptum
197
В самом деле, для того, чтобы в научном плане успешно
заниматься историей античной философии, например, и для Гегеля, и
для любого другого философа и нефилософа необходимо по
меньшей мере знакомство с соответствующими памятниками на языке
оригинала и представление о состоянии историко-философской и
историко-филологической науки на сей день; в то же самое время
для историка античной философии принципиально и по существу
нет никакой необходимости в изучении историко-философских или
историософских или «логических» конструкций Гегеля или любого
другого философствующего историка, хотя фактически этот
историк философии (тот же Целлер) может быть спровоцирован
Гегелем, другой — Ницше с его аполлоновской и дионисийской
культурой, третий — хоть Львом Толстым с его интересом к Марку
Аврелию, например;, но кто-то может испытать интерес к античности и
благодаря переводу того или иного античного автора, кто-то —
натолкнувшись на латинские и греческие цитаты у ряда почтенных
новоевропейских авторов, еще один — побывав на раскопках...
Все эти разные отправные пункты могут поначалу очень сильно
влиять на возникающий у исследователя образ античности, но
существо научной работы (если до нее дойдет дело) не может ими
определяться. Поэтому несмотря на разницу национальных школ и
индивидуальных подходов (например, несмотря на разницу стиля и опыта
Пьера Адо и Ханса-Рудольфа Швицера) реальный научный вклад
того или иного исследователя в изучение той же античной философии
не определяется ни пригородом Парижа Лимуром, ни Цюрихом и всей
немецкой закваской этой части Швейцарии.
Что еще стоит за этой констатацией? Опять-таки, простое
наблюдение. История философии того же Гегеля замечательным образом
характеризует философию Гегеля и уровень
историко-филологических штудий его времени; но пытаться разглядеть сквозь призму
Гегеля хотя бы Гераклита — дело абсолютно безнадежное; и если
нас интересует Гераклит, необходима кропотливая работа с его
фрагментами и с тем историческим фоном, на котором становится
понятен реальный контекст возникновения его текста и хода его мысли,
а не с гегелевскими конструкциями.
У историка есть его предметная область, и если он не может
определить, на каких началах она строится, — мы не будем не
только требовать у него ответа на этот вопрос, но не будем и
ставить его перед ним: как раз это входит не в его компетенцию, а в
компетенцию философа; точно так же не входит в компетенцию
геометра определение начал его науки и установление существа
геометрической реальности, потому что это — предметная область
философа. При этом замечу, что речь идет не о философии истории
198
Postscriptum
или философии геометрии, а о философии как таковой, исходно
(во всяком случае — уже у Платона и Аристотеля) имеющей дело с
принципами, или началами, отдельных наук.
По-другому это можно сформулировать так: Гегель (как и Лас-
саль или Хайдеггер, etc.) — не источники наших сведений о
Гераклите, и поэтому они принципиально безразличны для историка,
исследующего Гераклита. Точно так же благодаря Братьям
Карамазовым мы можем очень многое понять в феномене старчества и в
отношении к нему в России XIX века, а также в Достоевском и его
творчестве, и мы можем, например, постараться выяснить, кто
послужил прототипом для старца Зосимы; но мы никогда не станем
искать места захоронения литературного персонажа и, можно
надеяться, никому не придет мысль обрести его мощи или всерьез
молиться герою романа о заступничестве.
Именно поэтому историк Трёльч абсолютно прав, называя все
схемы развития мировой истории романами. Это не значит, что в
таких схемах не может быть отдельных интересных наблюдений и
ходов мысли, или что они вообще не играют никакой роли в нашем
понимании истории или вообще никому не нужны; но это значит,
что по существу нет такой предметной области как мировая
(или всемирная) история, которую можно было бы исследовать
столь же основательно и всерьез, как историю Греции или России.
И хотя при изложении результатов исследования в этих реальных
областях также легко впасть в романистику, тем не менее эти
предметные области есть, а всеобщая, мировая, универсальная etc.
история как предмет научного рассмотрения — не существует.
Откуда же берется эта странная идея такого несуществующего
предмета исследования, как мировая история, и такой
несуществующей и не могущей существовать науки, как философия истории?
Здесь мы переходим ко второму пункту настоящего рассуждения,
предпринятого post scriptum. Начну его несколько издалека.
2. Декарт в седьмой части своего Discours de la méthode говорит,
qu' il n'y a point d'hommes si hébétés et stupides, sans en excepter
même les insensés, qu'ils ne soient capables d'arranger ensemble divers
paroles, et d'en composer un discours par lequel ils fassent entendre
leur pensées. Декарт далее замечает, что ни одно животное этой
способностью не обладает. Что же касается способности понимать
речи других, то она, судя по всему, почти никак не связана с
первой, потому что понимание — поистине благодать, Божий дар,
причем им наделены все живые существа, почему иной раз бывает
легче найти понимание у собственной собаки, нежели у иных
людей, соединяющих вместе разные слова. И, пожалуй, еще труднее
Postscriptum
199
человек находит alterum se в совместном исследовании некоего
неочевидного, но подлинно прекрасного предмета.
Именно поэтому те, кому такое понимание дается, отнюдь не
смущаются временем, отделяющим их от драгоценного собеседника.
Так, античная математика иногда на долгие века как бы прекращала
свое существование, а затем вновь появлялись не только блестящие
математики, но и множество соответствующих текстов, реально
развивающих традицию этой науки. Поскольку до самого недавнего
времени подлинная значимость и собственно научность в
европейской традиции никак не были связаны с практической пользой, ею
приносимой, эти века под паром не несли ущерба математической
науке как таковой, так что родственные математические души
благодаря этой способности понимания опознавали друг друга и через
века ощущали свою родственность.
С этой точки зрения весьма небезразличен тот факт, что уже в
умственном и литературном движении, которое вероятнее всего уже
к концу VI века до Р.Х. называлось «историей» (ίστορίη), мы
обнаруживаем явственные подступы к европейской науке как
таковой: здесь опознается ряд предметных областей, освоенных потом
астрономией, метеорологией (ив античном, и в современном
понимании), географией, этнографией и историей в привычном нам
понимании, и намечаются некоторые методы, научные по своей
тенденции, среди которых в первую очередь следует упомянуть
правило критически оценивать и проверять источники.
Ставшая вскоре вполне самостоятельной, история развивалась в
пределах европейского разума и естественным образом переходила
от описания отдельных событий, стран, народов к попытке создать
более общую картину в рамках тогдашнего кругозора. Но даже у
знаменитого Полибия, преуспевшего здесь более всех других, это
стремление вполне умерено осознанием скромных и вполне
определенных возможностей занятого историей разума: он стремится
ограничить себя сферой того, что известно по источникам и
принципиально допускает проверку. Поэтому о начале мира, например, вели
речь поэты, философы и мифографы, но в компетенцию настоящих
историков, у которых была их собственная сфера исследования
(предметная область), это не входило.
Ситуация решительно меняется, когда рациональные построения
греческих и римских историков, но также и мифографов оказались
вмещены в несопоставимо более мощную картину мира,
построенную на совершенно иных основах: речь идет о Священной истории,
выстраиваемой Церковью в свете христианского откровения. Для
истории греко-римской, — то есть европейской, светской,
языческой и в доступную меру научной, основанной на самостоятельном
исследовании, — это в значительной степени оказалось катастро-
200
Postscriptum
фой: покамест Европа усваивала церковный взгляд на мир и
вмещала азы Священной истории, о самостоятельном исследовании речь
могла идти разве что спорадически и случайно. Поэтому
соответствующий навык исторической работы утеривался, причем не
только на христианизированном латинском Западе, где традиция
исторического исследования была заимствованной и менее развитой, но и
на грекоязычном Востоке, опиравшемся на традиционные
классические образцы исторической прозы5.
Явный ущерб серьезных исторических жанров в эпоху раннего
христианства (ср. приводимые в работе отзывы Гердера, Моммзе-
на, Трёльча, которые, впрочем, суть общее место по отношению к
историкам этого периода) и общий упадок литературы как на
латинском, так и на греческом языке к VII —VIII векам сопровождается
необыкновенным развитием жанра всемирной хроники популярного
(то есть в полном смысле простонародного) толка. Именно в этих
сочинениях изложение ведется от сотворения мира до современной
автору эпохи и представляет собой обычно некритическую
компиляцию из разных (чаще всего немногочисленных) источников.
Примером может служить знаменитая Пасхальная Хроника VII века и
множество других как более ранних (Иоанна Малалы, Иоанна Ан-
тиохийского), так и более поздних хроник (Георгия Синкелла,
Феофана, Георгия Амартола, etc.). На русской почве, где
византийские хронисты были хорошо известны, сходный жанр представляет
Хронограф — сводка библейских событий и мировой истории,
составленная в XV веке.
Может быть, именно к такого рода сочинениям и должны были
бы возводить свои построения сторонники христианского
происхождения новоевропейского историзма и авторы историософских
построений?6
5 Некоторая неполнота и явные аберрации в оценке традиции европейской
исторической науки возникали в Новой Европе в связи с недостаточной
изученностью византийской литературы вообще и исторической в частности, поскольку
первым общезначимым достижением в этой области на Западе были работы
Крумбахера (1856—1909). Но уже Ш. Диль отмечал: «Византийцы всегда очень
любили историю, и с VI по XV в., начиная от Прокопия, Агафия и Менандра до
Франдэи, Дуки и Критовула, литература Византии была богата именами
выдающихся историков. По своему умственному развитию и нередко по своему таланту
они значительно превосходили современных им западных авторов» {Основные
проблемы византийской истории. М., 1947, с. 151 — 152, перевод с французского
издания 1943 года). Ш. Диль специально выделяет из этой десятивековой
традиции Пселла (XI в.); но хотя он и отмечает, что не один Пселл заслуживает
высокой оценки, историческая традиция в Византии представлена очень неровно.
6 Но, видимо, речи не может идти даже об этом. Признанно первый «философ
истории» и во всяком случае один из первых в новой Европе мыслителей,
Postscriptum
201
Но тогда им тем более следует отказаться, во-первых, от
претензий на научность «историзма»; и, во-вторых, им нужно решить
вопрос о соотношении т. н. всемирной истории и Священной истории:
дело в том, что понятие о Священной истории дается нам в
результате откровения, и ни один здравомыслящий человек не станет
искать здесь иных источников и свидетельств помимо тех, которые
даны в Библии, то есть в установленном Церковной традицией
своде Книг Ветхого и Нового Завета. Однако научные разыскания в
этой сфере находятся в ведении теологии, а не историологии; а если
мы хотим отменить предмет теологии, то хотя мы тем самым
отменяем и самое науку теологию, но еще никак не заменяем ее новой
наукой в силу отсутствия самостоятельного предмета исследования.
Когда же речь идет о науке истории, то здесь перед нами единая
предметная область и единое поле исторических сочинений, причем
к первой равно принадлежат отдельные истории отдельных эпох,
стран и народов, а ко второму — Гекатей, Геродот, Фукидид, Ксе-
нофонт и Полибий, Тит Ливии, Тацит, Иоанн Маркеллин,
средневековые западные, византийские и возрожденские историки, а также
узнающие своих предшественников и признающие их таковыми
историки XIX и завершающегося XX века. Несмотря на различия на
протяжении всех этих двадцати пяти веков историки собирают,
критикуют и интерпретируют источники — с большим или меньшим
успехом и сознательностью, но всегда (как и геометры) с
пониманием общего дела и общей предметной области.
Всемирная история и философия истории появляются тогда,
когда мы пытаемся редуцировать специфику науки истории и в то же
время как бы обобщить ее, то есть создать некие фиктивные
построения, в действительности не имеющие своей собственной
предметной области и не слишком успешно конкурирующие даже с
популярными всемирными хрониками, излагавшими фрагменты
Священной истории для простецов. Поэтому попытки построения
всемирной истории и философии истории поистине подобны Вавилонскому
столпотворению, и явственное ныне повсеместное разнообразие
языков и непонимание друг друга в самых простых вещах уже давно
предложивших самостоятельный (независимый от Священной Истории) взгляд
на всемирную историю, Вико в понимании исторического развития общества
решительно вернулся к античной схеме «боги —герои —люди», каковая схема,
на мой взгляд, была больше по зубам новоевропейскому гуманизму, нежели
реальность Священной истории. Не случайно книга его открывается
аллегорической картиной с изображением Гомера, завершается — «вместе с Платоном»,
а эпоху распространения христианства Вико считает временами вернувшегося
варварства.
204
Postscriptum
puu. В предисловии к примечаниям в издании, подготовленном С.
С. Хоружим (СПб., 1993), упоминаются (с. 337) отклики на книгу,
принадлежащие Г. В. Флоровскому и П. М. Бицилли, чей общий
пафос нельзя не разделить: о. Георгий замечает, что «православие
автора имеет весьма мало общего с историческим Православием», а
в разборе П. М. Бицилли «ставится под вопрос сама
принадлежность мысли Карсавина руслу христианской метафизики». И с тем,
и с другим я — в отличие от автора примечаний — склонен
согласиться. Поистине грустное чувство возникает, когда читаешь
следующие рассуждения Л. П. Карсавина: «Мы не утверждаем, что
большевики — идеальная власть, даже — что они просто хорошая власть.
Но мы допускаем, что они — власть наилучшая из всех ныне в
России возможных... По существу своему политика большевиков
была если и не лучшим, то, во всяком случае, достаточным и, при
данных условиях, может быть, единственно пригодным средством
для хранения русской государственности и культуры...» (с. 307 —
308). Л. П. Карсавин видит, конечно, и недостатки коммунистов: их
«необразованность», «деспотизм и нетерпимость фанатиков,
беспринципность, лукавство и лживость, одним словом, некоторые, к
сожалению, распространенные в русской интеллигенции и русском
народе свойства» (с. 307). Вместе с тем он отмечает, «что концепция
большевиков по своему характеру и типу ближе к господствующей
современной историографии», чем концепции их противников (с.
306). Замечательным образом наш философ истории при
рассмотрении коммунистического режима не заметил только одного: того, что
это власть — безбожная и что воинствующих атеизм —
непреходящая константа всей большевистской политики.
Известно, что Прот. Георгий Флоровский охарактеризовал
феномен религиозной философии как один из самых западнических
эпизодов в русском развитии8. О. Георгий замечал, что «историю
этого времени писать еще трудно, может быть, и рано» 9. Вероятно, он
был прав: в его собственной системе взглядов — как в Путях
русского богословия, так и в ряде работ, посвященных
христианству и культуре и специально задачам христианского историка, —
мы видим, как трезвость в отношении к религиозной философии
совмещается у о. Георгия с явственной подверженностью обаянию
современного ему историзма... Но еще раз хочу подчеркнуть, что
'Пути русского богословия. Париж: YMCA-PRESS, 1983, с. 492. Ср.:
Осипов А. И. Богословие и *Богословский вестник* // Богословский вестник, 1,
Сергиев Посад, 1993, с. 15.
9 Пути русского богословия, с. 493.
Postscriptum
205
русская религиозная философия и русская историософия, а тем
более русское богословие — не предмет для беглых замечаний.
Отдельные наблюдения данного сборника позволяют, как мне
представляется, сформировать более общий взгляд на духовную
историю Европы. Имея в виду эту возможность и перспективу, я, однако,
далек от мысли «составлять план... посредством которого
принимают важный вид творческого гения, требуя того, чего сами не
могут исполнить, порицая то, что не умеют исправить, и предлагая
то, что сами не знают, где найти» |0.
Собственно говоря, в развернутых планах и нет особенной
надобности — в особенности у нас, в России ", — при той бездне работы
для историка, филолога, философа и теолога, которая всем ведома,
конкретна и нам решительно необходима.
У всякого свое сокровище, а «где сокровище ваше, там и сердце
ваше», которое и подлежит испытанию Испытующего.
Эпоха историзма завершилась так же, как завершилась эпоха
мушек или эпоха великих метафизических систем.
Это не значит, что при желании нельзя украшаться мушками или
сочинять новые метафизические системы, и уж во всяком случае
можно получать немалую пользу от изучения величественных
построений прежней метафизики.
Это значит только, что уже наступила новая эпоха, и хорошо
было бы честно осмыслить ее требования и откликнуться на них.
Ю. А. Шичалин
10 Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться
как наука / Сочинения: В 6 т. М., 1965, т. 1, с. 77.
11 Хотя, разумеется, не только у нас. Современный специалист по «истории
истории» Франсуа Артог, рассуждая о конце «режима историзма» в 1989 году
(в связи с падением Берлинской стены и выходом книги Фукуямы), задается
вопросом: «Now, how would one write the history of the GDR? From the point of
view of West Germany, or as an announced catastrophe? No, but rather by rewriting
the history of all of Germany, elaborating a comparative list of questions. If we are
supposed some day to have European histories, they cannot be the mere juxtapposition
of national histories, even if it is paid for by Brussels!» (Hartog Fr. Time, History
and the Writing of History: the Order of time / KVHAA Konferenser 37:95 —
113. Stockholm, 1996, p. 111).
Содержание
Ad lectorem 3
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ИЛИ ФЕНОМЕН ВОЗВРАЩЕНИЯ
В ПЕРВОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 5
I 8
II 20
III 36
IV 49
ИСТОРИЯ И ИСТОРИЗМ 65
4Осевые века» европейской истории 66
Логика истории 86
Преамбула 86
1. Предметные области 91
2. Область должного 97
3. Четвертый постулат эмпирического мышления 99
4. Историческая наука, математика, естествознание
и моральная философия 106
-f-5. История и герменевтика 109
Истина и история 114
1. Внутреннее и внешнее откровение 115
2. Время и бытие 120
3. Разум и история 125
■ 4. Истина 130
Европейский историзм (некоторые аспекты проблемы) 137
I
Происхождение историзма
1. Христианство и историзм 137
2. Историзм и христианство 143
3. Христианский историзм.— историческое недоразумение 148
и
Пределы историзма
1. Новая реальность: от Ницше к Хайдеггеру 153
2. Трёльч: внутрибожественная полнота, созерцаемая
конечной индивидуальностью 157
3. Хайдеггер: история Бытия, живая Божественность Бога .... 158
4. Хайдеггер: «мы есмы само свершение истории» 161
5. Хайдеггер: человеческое бытие между рождением
и смертью 164
6. Хайдеггер: исходно историчное — мир человеческого
бытия 166
7. Хайдеггер: основа историчности — обреченность
человеческого бытия смерти 168
8. Хайдеггер: решимость повторения, теряясь в людской
безликости, образует историю мира 172
9. Реальность новоевропейского историзма — в сфере
продуктивного воображения 175
III
Историзм и европеизм
1. Греки и история 179
2. Новоевропейский историзм как возвращение
к античности 185
Postscriptum ко всякой философии истории,
имеющей претензию сформироваться в науку 193