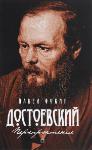/
Автор: Топоров В.Н.
Теги: русская литература история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран история филология
ISBN: 978-5-02-036015-0
Год: 2009
Текст
ЯаМятники
отегеств-енной
HUU1QI
В. Н. ТОПОРОВ
Петербургский
текст
НАУ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
НАУЧНЫЙ СОВЕТ
Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН
«Издание трудов выдающихся ученых»
XX
век
«Памятники отечественной науки. XX век»
Серия основана в 2005 году
Главная редакционная коллегия:
академик Ю.С. ОСИПОВ (председатель),
академик А. Б. КУДЕЛИН (зам. председателя),
академик А. Ф. АНДРЕЕВ, академик К. А. ВАЛИЕВ,
член-корреспондент РАН В. И. ВАСИЛЬЕВ,
академик Г П. ГЕОРГИЕВ, академик А. И. ГРИГОРЬЕВ
академик А. В. ГУРЕВИЧ, академик А. П. ДЕРЕВЯНКО,
академик Д. М. КЛИМОВ, академик Н. П. ЛАВЕРОВ,
академик В.Л. МАКАРОВ, академик Е.Ф. МИЩЕНКО,
академик Н.Ф. МЯСОЕДОВ, член-корреспондент РАН ГА. СОБОЛЕВ,
член-корреспондент РАН Д.Е. СОРОКИН,
академик В. А. ТАРТАКОВСКИЙ,
академик О. Н. ФАВОРСКИЙ,
В. Б. ЧЕРКАССКИЙ (ответственный секретарь)
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
В.Н. ТОПОРОВ
Петербургский
текст
МОСКВА НАУКА 2009
УДК 821.161.1.0
ББК 83.3 (2Рос)
Т58
Рецензенты:
доктор филологических наук H.A. БОГОМОЛОВ,
член-корреспондент РАН Т.М. НИКОЛАЕВА
Топоров В.Н.
Петербургский текст / В.Н. Топоров ; Отделение историко-филологических
наук РАН. - М. : Наука, 2009. - 820 с. - (Памятники отечественной науки. XX век). -
ISBN 978-5-02-036015-0 (в пер.).
Книга выдающегося русского ученого В. Топорова, открывшего в нашей культуре такое
сверхъявлениеу как ее петербургский текст, собирает его исследования, посвященные «мифо-
поэтическому пространству» Петербурга. В книгу входят работы, охватывающие всю «биографию
города-текста» и посвященные началам «петербургского текста» и процессу его формирования и развития:
от Пушкина и его предшественников, от Достоевского до Серебряного века русской литературы и далее
«Петербургский текст» Достоевского, в котором кристаллизован и образ города и образ человека
(«петербургский тип», занимает в книге центральное место).
Для специалистов в области культуры, истории, филологии.
По сети «Академкнига»
ISBN 978-5-02-036015-0 © Российская академия наук и издательство
«Наука», серия «Памятники отечественной
науки. XX век» (разработка, оформление),
2005 (год основания), 2009
© Редакционно-издательское оформление.
Издательство «Наука», 2009
С.Г. Бочаров
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ТОПОРОВА
Владимир Николаевич открыл в нашей культуре такое сверхъявление,
как ее петербургский текст. Но можно с уверенностью сказать, что он
создал для нас его, эту мысленную реальность, что он сотворил и выстроил
собственный петербургский текст в большом цикле работ, запечатлевших
то, что он сам назвал в одной из этих работ своим полувековым
петербургским «романом» (см. с. 749 в настоящем томе1) - исследовательским и
душевным. И он словно бы завещал оставшимся после него собрать в его
память работы этого цикла вместе.
Петербургский замысел автора был, однако, гораздо более
обширным, чем то, что можно сегодня собрать. И то, что можно собрать, мы
читаем как фрагменты огромного замысла2. План его остался в бумагах
автора и публикуется (факсимильно) в настоящей книге как план
двухтомника «Петербургский космос и хаос». Этим названием петербургский
замысел автора, универсальный сам по себе, включается в еще более
универсальный круг его мысли. В знаменитых «Мифах народов мира»
В.Н. Топоров писал о космосе как благом мироустройстве, и сам во всей
совокупности им написанного творил не что иное, как собственный
личный умственный космос, расширявшийся от работы к работе и от темы к
теме словно бы концентрическими кругами. Лишь одним из таких кругов,
словно вписанным в более общие горизонты мысли, был и петербургский
замысел автора, но и у этого как бы частного петербургского круга
каков был внутренний горизонт!
Автор идеи петербургского текста настаивал на принципиальном
отличии этого сформулированного им «концепта» от таких обычных
представлений, как петербургская литература или Петербург в литературе. В
семиотическом движении термин текст стал визитной карточкой, но работал он
в разных случаях неодинаково убедительно и продуктивно. В топоровской
теории петербургского текста он, этот термин, максимально на месте, он,
собственно, сам по себе и является этой теорией. Универсальный ее размах
и строится этим термином, соответствующим здесь не отдельному
ограниченному предмету, так сказать, отдельному тексту (произведению), но
тексту особому, неопределенно-протяженному и всеобщему, сверхперсональ-
Далее отсылки к его страницам даются в тексте.
Предисловие «От автора» к центральной работе о петербургском тексте автор в 2003 г.
завершал отсылкой к своим «последующим книгам», предполагая, что завершающий том
можно будет назвать «по аналогии с известным старым изданием - "Весь Петербург"»
(с. 26).
5
ному и «кросс-персональному», в конечном счете - самому Петербургу как
сверхсобытию русской истории.
Петербургский космос и хаос... Петербургский текст - конструктивный,
творческий термин. Безбрежный, кажется, материал петербургской
истории - литературной, умственной, но и просто человеческой, до
подробностей городского быта - уплотнен и организован, осмыслен этим термином,
представляющим, таким образом, космическое начало в хаосе материала.
Но как изначально петербургское творчество было борьбой с природным
хаосом, так и далее оно в себе содержало эту борьбу и даже питалось ею как
творческим материалом. Присутствующий в этом томе этюд об
Аптекарском острове как городском урочище заключен словами Евгения
Павловича Иванова, задушевного друга Блока: «творчество не над хаосом, а из
хаоса, как писал мне Блок». Петербургское творчество и было творчеством из
хаоса и над хаосом одновременно.
Батюшков первый в 1814 г. дал гармонический лик петербургского
космоса, но он не хотел замечать, какие силы хаоса неустранимо таятся за этим
ликом. Но рядом с ним Карамзин, его учитель в культуре, уже сказал
тяжелое слово о «блестящей ошибке Петра»3: А значительно позже, уже на
исходе истории «города трагического империализма» (Н.П. Анциферов4),
будущий петербургский поэт повторит слово Карамзина в беспощадной
редакции: ...Только камни из мерзлых пустынь Да сознанье проклятой ошибки.
От «блестящей ошибки» у Карамзина до «проклятой ошибки» у
Иннокентия Анненского. Разница, но и общее слово - «ошибка». Кажется,
самый момент «ошибки» почти незаметно уловлен во Вступлении к
«Медному Всаднику». Назло надменному соседу - мы помним это; но,
видно, недаром здесь такое слово явилось: еще до Пушкина князем
Вяземским проговорено было то же слово в панегирическом, заметим это,
стихотворении «Петербург» (1818), где было сказано прямо - назло
природе - о том же строителе-демиурге ( Чей повелительный, назло
природе, глас..?5). Но и у Пушкина в панегирической также картине великого
замысла все же заложена и двусмысленность. Природой здесь нам
суждено - природой? Но вчитаемся - окружающей бедной природы он просто
не видит, что тонко фиксирует текст: И вдаль глядел. Пред ним широко I
Река неслася... - следует бедный пейзаж, мимо которого, мимо того, что
пред ним, устремлена великая дума - вдаль.
Но блестящая все же вышла ошибка, о чем и рассказывает Вступление
к «Медному Всаднику». Почему «Медным Всадником» открывается в книге
история петербургского текста? Потому что он, наконец, явился первым
духовным событием, как бы равным значению Петербурга в нашей истории в
полноте такого значения - столь остропротиворечивой, двуликой его
полноте. Объем того, что будет названо петербургским текстом, «Медный
Всадник» вместил в свой единый текст. Жанровый объем в том числе,
поскольку свою поэму-оду Пушкин в жанровом отношении определил
прозаически как «петербургскую повесть», безумием же героя повести дал траги-
3 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. М., 1991. С. 37.
4 Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Пб., 1922. С. 27.
5 Вяземский П.А. Стихотворения. Л., 1986. С. 119.
6
ческий ответ на свою же оду. Один из первых критиков опубликованной уже
без Пушкина поэмы, Степан Шевырев, писал о внутреннем родстве двух
хаосов в ее действии - «хаоса природы» и «хаоса ума»6. Два петербургских
хаоса в ответ на блеск петербургского космоса.
История петербургского текста, по Топорову, имеет границы, довольно
четко очерченные: «от "Медного Всадника" до "Козлиной песни"» (с. 663).
Столетие: 1833-1928. От союза-противоречия поэмы и петербургской
повести, оды и трагедии до союза-противоречия трагедии и пародии, «козлиной
песни». Пушкин был «открывателем смыслов» города, Вагинов заявил себя
его гробовщиком7. Но, так или иначе, «трагедийное начало» оставалось
ядром истории петербургского текста на всем ее протяжении.
Если Пушкин открыл историю петербургского текста, то Достоевский
назван в книге первым его сознательным строителем. Читатель заметит,
как тесно работы о Достоевском сопутствуют в книге ее петербургской
теме. В петербургской картине В.Н. Топорова много имен, но Достоевский -
центральное имя. Ранний по преимуществу Достоевский, наиболее
петербургский - от «Господина Прохарчина» до «Преступления и наказания» (не
пропустить читателю и этюд, посвященный «Слабому сердцу» - «Мотив
несостоявшегося счастья у Достоевского и Островского»). Книгу о
«Господине Прохарчине» (потому что это была не статья, а книга, изданная в
Иерусалиме четверть века назад) хочется сегодня перечитать внимательнее. Кто
так пристально прочитал и, главное, полюбил эту «обделенную счастьем
повесть», не возбудившую «любознательности и в современных
исследователях»8, - что можно за Иннокентием Анненским повторить и сегодня? Кто
так прочитал и так полюбил? В нынешнем достоевсковедении таких нет.
Только двое они - поэт-критик Анненский и филолог-поэт Топоров.
Творчество из хаоса, не над хаосом - как будто об этой несчастной
повести сказано. Творчество из петербургского хаоса, непосредственно
претворившегося в этот «чадный», по слову Анненского, трудночитаемый текст.
Текст с болезненными чертами, словно бы заразившийся диким
косноязычием рассказанного мира. Яркие искры большого таланта сверкают здесь в
непроглядной густой темноте - таков был отзыв растерявшегося
Белинского. Топоров сурово ответил Белинскому в первых строках своей работы, но
исследовал в ней те самые черты («гипертрофия косноязычной стихии»),
которые и породили близорукое, но выразительное впечатление
разлюбившего Достоевского критика. Своеобразно патологические черты
петербургской поэтики раннего Достоевского описываются в сильных словах -
говорится об «удаленности от широкого мира прямого слова, ясного взгляда,
открытых пространств», - всего того, к чему шел Достоевский сквозь этот
мучительный текст, и иначе идти не мог. Творчество из хаоса - еще не над
хаосом. Мог и не состояться автор такого творчества автором «Преступления
и наказания», подвергнись он расстрелянию на Семеновском плацу «за свой
"Прохарчинский" бунт» - ведь так посчитал возможным назвать событие
6 Москвитянин. 1841. № 9. С. 245.
7 «Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается - автор по
профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер».
8 Иннокентий Анненский. Книги отражений. М, 1979. С. 27.
7
1849 г. Анненский9. Но состоялся - и состоялось открытое нравственное
пространство романа. И стал Достоевский на этом страдном пути от
«Господина Прохарчина» к «Преступлению и наказанию»
строителем-конструктором топоровского петербургского текста.
Словно бы трое они в строительстве этом соавторы - Достоевский,
Анненский, Топоров.
У последнего из соавторов пространство «Преступления и
наказания» - преимущественный предмет внимания и анализа. Но петербургское
пространство и вообще непрерывно присутствует в петербургском тексте -
и как его художественное, поэтическое пространство, и как эмпирическое,
реальное городское, и в непрерывных переходах и претворениях реального
в поэтическое. Владимир Николаевич был великий знаток и того и другого,
до отдельных домов и дворов, и петербургское пространство было героем
его многолетнего романа с Петербургом, о котором он сам нам
рассказывает. Он оставил нам монографию об Аптекарском острове как городском
урочище и дал графически-топографический портрет его островной
экстерриториальности в городе - остров, «как бы нанизанный на проспект» (Ка-
менноостровский - ср. описание «туго натянутой магистрали», гудящей
сквозь тихий остров, у автора наших дней, уроженца Аптекарского острова
Андрея Битова в самом раннем его рассказе 1959 г., только недавно
опубликованном10; так повезло урочищу - два поэта у него явились - прозаик
Битов и исследователь В.Н. Топоров, в исследовании которого Битов как
«лучший описатель» родного места, конечно, существенно присутствует).
На сам Медный Всадник он дал нам взгляд из реального окружающего
пространства и предложил оптимальный к нему подход и осмотр - не
прямолинейный спереди по центральной оси (что чаще всего выбирает
«неопытный зритель»), а «круговой обход с остановками» (см. фотографии
монумента с разных точек такого обхода, выполненные в свое время для автора
Татьяной Владимировной Цивьян, с. 800-804) - в грозную минуту этот путь
(Кругом подножия кумира...) избрал и герой поэмы и петербургской
повести. Дом сенатора Половцова и «миф» его на Каменном острове он описал в
отдельном очерке как блаженное петербургское место и описанием этим
дал почувствовать нынешнему незнающему читателю, что ведь это то самое
место, где был написан пушкинский «Памятник», - а рядом выписал (списал
со стен) граффити на лестничной клетке другого дома, на Фонтанке
(с. 765-769); а мы говорили с ним о других надписях, виденных11 на
современной лестничной клетке «дома Раскольникова» на Столярном
(«Родя, я с тобой!» - с топором, нарисованным рядом).
Наконец, еще один дом, для реального опознания которого в
литературном тексте исследователь проделал такую топографическую работу, какая в
нашем литературоведении не только совсем исключительна, но просто
исключена и в нем ее не бывает - «анализ топографического слоя» «Крестовых
9 Там же. С. 35.
10 Битов А. Первая книга автора (Аптекарский проспект, 6). СПб., 1996. С. 15.
11 В свое время, в 1960-70-е годы. Сейчас двор «дома Раскольникова» закрыт на ключ
автоматической современной решеткой, и попытка проникнуть в это запертое пространство вызывает
злобный протест обитателей дома - собственников квартир - с угрозой вызвать милицию.
8
сестер» (см. статью «О "Крестовых сестрах" A.M. Ремизова. Поэзия и правда»
в кн. В.Н. Топоров. Петербургский текст русской литературы. СПб., 2003.
С. 519-549), представляющий удивительный синтез реально-мифологического
контекста повести Ремизова. Герой ее, Петр Алексеевич Маракулин, в
критическую минуту идет к своему державному полному соименнику, к Медному
Всаднику, и произносит ему полубезумный монолог как собственное Ужо те-
бе\ - это в повести, а за ее границами он мог встречать, и не раз, другого
«злого духа русской истории», имя которого и сменило затем изначальное первое
имя в имени города и который в то самое время действия повести (1906)
должен был постоянно бывать в том самом опознанном исследователем доме на
Фонтанке («Бурков дом» у Ремизова), где в типографии печатались
большевистские газеты, редактором которых он был. Сам Ремизов обитал в соседнем
доме, а еще в соседнем жил в то же время Розанов, о встречах с которым там
Ремизов вспоминал в мемуарной «Кукхе». Dichtung und Wahrheit - мотив,
постоянно присутствующий, играющий в книге. Исследователь как художник
выстраивает виртуальный сверхсюжет, в котором встречаются Петр
Алексеевич Маракулин, Медный Всадник как тоже Петр Алексеевич, Ленин,
Ремизов и Розанов - материалом же фантастического сюжета служит ему
поразительное топографическое изучение и подомное знание Петербурга.
Подомное и панорамное - в том же многостороннем обзоре Фальконе-
това монумента важнейшая роль принадлежит воздушной, «небесной
кулисе» как главному фону; ср. замечания о значении петербургской «небесной
линии», с отсылкой к специальной статье Д.С. Лихачева12: «В Петербурге в
"панорамных" позициях (например, на Неве) небо огромно...», огромнее,
чем в Москве. Для характеристики же открытости петербургских
пространств предлагается мысленный эксперимент - установка и как бы
подсчет условных наблюдателей в определенных точках, чтобы в их сумме
просматривался весь город, - и, конечно, их понадобилось бы «в десятки раз
меньше, чем для Москвы» (с. 673)13. Наблюдения, обязанные не только
мысли - живому глазу, живому присутствию автора, исходившего и
высмотревшего городское пространство насквозь, но наблюдения, из стратегической
мысли автора исходящие и к основному мифу ведущие, к тому же «космосу
и хаосу»: те же два полюса «хаотической слепоты» и «космического
сверхвидения» в философском образе петербургского пространства.
В мысли автора это знакомое на глаз и на ощупь реальное пространство
обращается в идеальное пространство петербургского текста, по которому
бродят тени Петра и Павла, Германна и Раскольникова (с. 699), и тени эти
для чувствующих и сегодняшнее по-прежнему, несмотря ни на что,
фантастическое пространство, реальны. Ведь под аркой на Галерной I Наши тени
12 Наше наследие. 1989. № 1.
13 О том, что пространственный аргумент может быть решающим даже в спорах по
вопросам текстологии и атрибуции, может свидетельствовать история опознания автора
известного «Романа с кокаином» М. Агеева-Леви. Роман с подробной аргументацией
приписывали Набокову, но не был учтен аргумент пространственный: роман существенно
московский, с интимным знанием московского пространства, какого у Набокова, не знавшего и не
любившего Москву, быть не могло. Какой-то город, явный с первых строк, I Растет
и отдается в каждом слоге - вот что определяет принадлежность литературного текста
к петербургскому тексту. Непринадлежность к нему «Романа с кокаином» определяется
«с первых строк».
9
навсегда. (Воспоминание личное, связанное с Галерной, я это уже вспоминал
в нашей общей с В.Н. статье-предисловии к книге о Достоевском общего
нашего друга Георгия Алексеевича Федорова. Некогда, в 70-е годы, гуляя по
Ленинграду с известным специалистом по Достоевскому, я завел его в тот
самый двор на Галерной, 20, где выбросилась с образом из окна в 1876 г.
швея Марья Борисова, и Достоевский, прочитав об этом в газетах, написал
свою «Кроткую». Мы постояли, и достоевсковед, ленинградец, урожденный
петербуржец, недоуменно сказал: - Ну и что? - Для изучения Достоевского
что нам это дает? - хотел он сказать. В самом деле - это был обычный и не
слишком выразительный ленинградский двор, не очень, наверное, с тех пор
изменившийся. Но это был тот самый двор, то самое место, и тень
Кроткой с образом на груди осталась там навсегда. Осталась или же не осталась
для моего сопутника, специалиста по книжному изучению Достоевского, для
него этой тени там, во дворе на Галерной, не было.)
Итак, «Преступление и наказание» и его пространство - петербургское
и художественное, принадлежащее Петербургу и Достоевскому,
побуждавшее нас переживать его в Ленинграде наших 70-х годов, отыскивать дом Ра-
скольникова и мерять своими шагами измеренное в тексте расстояние от
него до дома старухи (я мерял, и при моем достаточно широком шаге шагов
выходило все-таки больше), и в то же время прямым путем от топографии
возводящее к мифу и философии. Роман рассматривается в работе, ему
посвященной, «в связи с архаичными схемами мифологического мышления».
В романе, «как и в космологической схеме мифопоэтических традиций,
пространство и время не просто рамка (или пассивный фон), внутри которой
развертывается действие; они активны (и, следовательно, определяют
поведение героя) и в этом смысле сопоставимы в известной степени с сюжетом»
(с. 398). Вновь петербургский текст отсылает к общим концепциям автора и
к широким кругам его мысли.
У автора есть работа, в которой рассматривается, как в представлениях
человечества возникала история - история как человеческий процесс и,
далее, история как наука - «О космологических источниках раннеисториче-
ских описаний». Переход к истории состоялся, когда время и пространство
«из участников космологической драмы превратились в рамки»
исторического процесса14. Этому описанию словно противоречат характеристики
пространства и времени в «Преступлении и наказании» - они там именно
«не просто рамка», силы скорее мифологические, чем исторические (хотя
действие точно прикреплено к историческому моменту 1860-х годов) -
мифологическое внутри исторического.
Понятия художественного времени и пространства сравнительно
недавно возникли в литературной теории и поэтике - и возникли именно не как
характеристики-рамки, но как внутренние силы того, что стало видеться как
художественный мир, как интенсивные, не экстенсивные силы такого мира.
По Топорову можно сказать, что они - сохраняющиеся внутри назревшего
историзма искусства - силы космологические. В художественном
пространстве более или менее, но сохраняется энергия пространства
мифологического, и оно возводится к основаниям более крупным. Речь идет о способности
Труды по знаковым системам. Т. 6. Тарту, 1973. С. 134.
10
человека строить пространство («пространство созерцания») в сознании,
которое само непространственно. «Это - поразительное приспособление
сознания к внешнему миру» - цитирует автор Николая Гартмана, обращаясь в
специальной статье от философа XX в. к «феномену Батенькова»,
проведшего более двадцати лет в одиночной камере на пространстве в нескольких
шагах (строка из поэмы Батенькова) и вынесшего из этого
сверхчеловеческого опыта такие представления, предвещавшие будущие теоретические, в
том числе поэтологические, понятия, как «пространство мысли» и
«пространства веры и упования» (определения в письмах Батенькова)15.
(Взгляни на лик холодный сей.., - обращает на Батенькова
исследователь строку Баратынского, и примеры такого слияния исследования с
поэтическим словом, какие в его работах встречаются постоянно, очень в
научном стиле В.Н. По убеждению и по выбору в жизни он тщательный, строгий
ученый, - но он ученый-художник, и у него всегда стихотворная строчка
рядом с научным тезисом - не как украшение или же иллюстрация, но
точнейший по-своему аргумент. Таковы в его петербургском тексте строчки
М.Н. Муравьева, Пушкина, Баратынского, Аполлона Григорьева, Блока,
Волошина, Гумилева, Ахматовой, Мандельштама, Кушнера. Стихотворная
строчка, прописанная всегда его особенным топоровским курсивом, чтобы
она прозвучала.)
Тема «Пространство и текст» (еще одна большая работа
«пространственного» цикла) стоит на различениях внутри обоих понятий. «Усредненно-
нейтральному», экстенсивному, количественному, «профаническому»
пространству противостоит представление об интенсивном, качественном и так
или иначе индивидуализированном пространстве, которое соответствует
«текстам "усиленного" типа» - мифо-поэтическим, художественным,
мистическим, - и которое автор работы о пространстве и тексте именует,
перефразируя известное откровение Паскаля, «пространством Авраама,
пространством Исаака, пространством Иакова, а не философов и ученых»,
в отличие от «геометризованного и абстрактного пространства
современной науки»16. Также и это единение Топорова с Паскалем характеризует
научно-поэтический стиль Владимира Николаевича. Такими же, «паскале-
выми» глазами он видел и «чуткое и отзывчивое» пространство
«Преступления и наказания».
Есть особая петербургская историософия, начиная с Карамзина, и
есть петербургская историософия В.Н. Топорова. Последняя зиждется на
нескольких нетривиальных основных убеждениях. Одно из них,
продемонстрированное на всем пространстве его «Петербургского текста», -
«сродство историософского метатекста о городе с самим "объектным"
текстом города, с Петербургом» и, как следствие, сродство в его
историческом понимании идеологического и «интуитивно-мистического»,
15 Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995. С. 446,458,465. - Ср. у Гоголя,
отличавшегося, как сказал о нем В.Н. в статье о пространстве и тексте, фантастической
«пространственной одаренностью», хрестоматийное о Пушкине: «В каждом слове бездна
пространства...». Батеньков единственную в своей жизни статью о литературе писал о Гоголе,
о «Мертвых душах» (там же, с. 461).
16 Там же. С. 446-447; Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 229, 231.
11
поэтического, благодаря чему «мастера» петербургской историософии это
«поэты по преимуществу», и имена поэтов, выше названные, действуют на
правах таких «мастеров» здесь в союзе с именами Карамзина, Георгия
Федотова и Даниила Андреева, осуществляя в петербургском тексте «миссию
вестничества» (с. 685).
Хочется в петербургской историософии В.Н. Топорова отметить
особенно два ее пункта, или, лучше, два акцента.
Первое и главное - центральное убеждение, скрепляющее картину
петербургского текста, - убеждение в провиденциальной роли Петербурга в
русской истории. Гоголь сказал когда-то, как отчеканил, что Москва нужна
России, а Петербургу нужна Россия. У топоровского петербургского текста
пафос другой - пафос, потому что его петербургский текст это текст
патетический, - что Петербург был нужен России. Убеждение наперекор
сильной линии национальной мысли.
Раздвоение национального центра в петербургский ее период стало
болезненной темой русской мысли от Карамзина и славянофилов до
Солженицына. «Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же
государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом»17. Мысль
Пушкина в 1833 г. (в «Путешествии из Москвы в Петербург») вторила его
же ключевой фразе в написанной только что «Пиковой даме» о двух
неподвижных идеях, которые «не могут вместе существовать в нравственной
природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то
же место». Та же математическая конструкция определяла в «Пиковой
даме» «точку безумия»18 Германна. Две столицы тем самым уподоблялись
точке безумия в государстве. Это словно в нашей истории шизофренический
пункт - раздвоение национального центра.
Наконец, уже в наши дни Александр Солженицын причислил к роковым
ошибкам русской истории (вновь то же - ошибка) петровскую «безумную
идею раздвоения столицы»19. «Точка безумия» в нашей истории. Не
предопределяла ли она тем самым «Двойник» Достоевского как петербургскую
тему?
В петербургской историософии В.Н. Топорова картина иная, и то, что
может в длительной уже традиции национальной мысли представляться
«безумной» (как бы «шизофренической») особенностью нашей истории20,
здесь с затаенной, кажется, полемичностью утверждается как
провиденциальная ее особенность: «"Инакость" обеих столиц вытекала не только
из исторической необходимости, но и из той провиденциальности, которая
нуждалась в двух типах, двух стратегиях, двух путях своего осуществления»
(с. 658).
Петербург противопоставил себя России и бросил ей вызов, и по
Топорову этот вызов был ей нужен - и В.Н. увенчал его таким высоким словом,
как провиденциальность.
17 Пушкин A.C. Поли. собр. соч. 1949. Изд-во АН СССР. Т. 11. С. 247.
18 Если воспользоваться здесь лирическим словом Осипа Мандельштама из стихотворения
1937 г.: Может быть, это точка безумия...
19 Новый мир. 1997. № 7. С. 137.
20 У Г. Федотова также об основании Петербурга: «В его идее есть нечто изначально
безумное» (Федотов Г.П. Судьба и грехи России. СПб., 1991. Т. 1. С. 51).
12
Весь отрицательный комплекс антипетербургского национального
чувства при этом не только исследователем не забыт, но прописан усиленно,
местами со стилистически-ироническим усилением, начиная уже с
предисловия к «Петербургскому тексту», где сказано про окно в Европу, «в которую
Петербург старался втащить всю Россию». И тут же рядом - что
«внутренний смысл Петербурга» - в «не сводимой к единству антитетичности и анти-
номичности» (с. 25). Антиномичность высшая - в высшей, сакральной идее
города, изначально записанной в его святом именовании, но быстро
присвоенной его земным демиургом, его безумным демиургом21, Петром
историческим, так что уже и пушкинское Красуйся, град Петров обращено не к
граду святого апостола, а к городу Медного Всадника. А в будущем состоится
новое присвоение имени следующего безумного демиурга, и будет на нашей
памяти целая эпоха двуликого Петербурга-Ленинграда.
Раздвоение национального центра и имело следствием внутреннюю дву-
ликость нового центра. Такую двуликость, какая не отличала Москву
никогда. И - кстати, но не в последнюю очередь, - надо сказать, что
петербургский текст описан у В.Н. как явление единственное и исключительное в
нашей культуре; хотя идея эта и возбудила охотников составлять подобные
тексты - московский прежде всего, но также сибирский, крымский и пр., -
автором твердо заявлено, что обширные материалы московской
литературы особого московского текста как структурного целого той же
конструктивной оформленности, напряженности, плотности - такого московского
текста не образуют.
Двуликость, какая сразу сказалась в имени города. Но и сакральному
изначальному имени стал сразу сопутствовать сакральный тоже двойник.
Петр-камень есть основание Церкви, двойник же есть апокалиптическая
«блудница, сидящая на водах многих» (Откр. 17, 1), какую с особенным
проникновением в начале XX в. (в 1907 г.) увидел в лике родного города
уже поминавшийся выше Евгений Иванов22. На водах многих\ - не
петербургский ли это пейзаж? В статье В.Н. Топорова «Текст города-девы и
города-блудницы в мифологическом аспекте»23 почти нет речи о
Петербурге, только в конце вспоминается, что Москва это матушка, а Петербург
это батюшка, и еще, что в мифологической традиции городу как таковому
присвоена женская сущность и ей противопоставляется мужское ядро,
сердцевина - -бург или кремль. Но вспоминается и
катастрофически-библейское из Ахматовой той роковой осени 1917-го: Когда приневская
столица, I Забыв величие свое, I Как опьяненная блудница, I Не знала, кто
берет ее... Город был заложен назло — недаром это слово у Пушкина (и, мы
помним, у Вяземского), был заложен как -бург, т.е., видимо, как мужской
субъект по отношению к матушке Москве и матушке России, но вот два
художественных свидетельства - Евгения Иванова и Ахматовой -
открывают в нем изначально заложенную также в народной памяти вторую
сущность апокалиптической блудницы.
21 На тонях вод, закованных в гранит, I Он создан был безумным Демиургом...
(Максимилиан Волошин. Петербург, 1915).
22 «Москва - Петербург: pro et contra». СПб., 2000.
23 Топоров В.Н. О мифопоэтическом пространстве. Pisa, 1994. Р. 245-259.
13
Так что другой топоровский текст - текст города-девы-блудницы - не
принадлежит к его петербургскому тексту прямо, но со своей стороны его
существенно комментирует.
Итак, высокое оправдание Петербурга в нашей истории, провиденци-
альность его - один акцент, который хочется в картине петербургского
текста не упустить. Другой акцент ложится на общеизвестную,
хрестоматийную петербургскую катастрофичность. Но и она получает высокое
оправдание. И больше чем оправдание - что-то вроде парадоксальной ее
апологии.
Надо почувствовать методологию, проникающую картину.
Автор-соавтор воссоздаваемого петербургского текста (соавтор с самим
Петербургом24 и русской культурой) заявил его острую антиномичность, но заявил и
то, что она не сводима к единству, к внешнему примирительному единству;
автор идет навстречу этой антиномичности и ищет единство внутри нее.
Он ищет обоснование своему петербургскому тексту не помимо, а сквозь
его самые острые антиномии. Он говорит парадоксами, методология же
его - в заострении антиномий. Сквозь пресловутую петербургскую
бесчеловечность он ищет начала «высшего для России и почти религиозного
типа человечности» (с. 25). Он опирается на странности в высказываниях
замечательнейших участников-создателей петербургского текста, в
парадоксальных признаниях их о том, за что они этот город любят - странною
любовью, которая не сродни ли лермонтовской к самой России? Как
Лермонтов о России, так Аполлон Григорьев о Петербурге: Да, я люблю его,
громадный, гордый град, I Но не за то, за что другие... Для любви к
невозможному городу поэт избирает причиной и основанием - страдание, им
порождаемое {Его страдание под ледяной корой, I Его страдание
больное) - и автор исследования о петербургском тексте признает эти
строки его поэтической доминантой. Но не один Григорьев. Природный
москвич Герцен, попав в Петербург, рассказывает, за что полюбил его
и разлюбил свою Москву - «за то, что она даже мучить, терзать не умеет».
А «Петербург поддерживает физически и морально лихорадочное состояние».
Герцен его полюбил за это! За страдание, как и поэт Аполлон Григорьев.
За сверхобычное напряжение, ведущее в крайних точках или к безумию
{петербургское безумие как наш особый русский вклад в историю
человеческого безумия - тема, заслуживающая внимания и изучения - историков
русской литературы прежде всего), или к духовным прорывам и взлетам, -
но точки эти могут соприкасаться, когда, по слову Г. Федотова о
Петербурге, здесь выжималась под прессом эссенция духа25. Статистическая
картина петербургского текста: город шел впереди всей России в
социальной статистике по числу душевнобольных и самоубийств и в духовной
статистике по «обилию видений, дивинаций, снов, пророчеств, откровений,
прозрений, чудес» (с. 666).
В Петербурге жить - словно спать в гробу. Вот предельное
высказывание (1931), возникшее на последнем уже рубеже того, что названо петер-
24 Сам Петербург выступает «равно как объект и субъект» петербургского текста «(удел
многих подлинно великих текстов)».
25 Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 1. С. 52.
14
бургским текстом, в советской его ночи, но унаследовавшее и по максимуму
выразившее старую петербургскую ноту. Нота эта звучит в пространстве
настоящего исследования множеством голосов, с которыми автор голоса
своего не сливает. Вернее, он хочет прослушать в них иное (Я прозираю в
нем иное... - в том самом стихотворении Аполлона Григорьева). Сквозь
голоса петербургского страдания и отчаяния он хочет прослушать весть о
смысле и цели того трагического опыта, каким явился в нашей и
общечеловеческой истории Петербург. Здесь сердцевина петербургской
историософии В.Н. Топорова, и это историософия религиозная. Парадоксальным
образом автор описывает свой петербургский текст в его предельной
катастрофичности как текст спасения. «... Ибо, как сказано, где о-пасность,
там и с-пасение» (с. 651) - этот афоризм мы встретим в нескольких работах
автора, с отсылкой к первоисточнику («как сказано») - к стихотворению
Гёльдерлина «Патмос»26, но в такой редакции перевода, которая позволяет
корнесловить по-русски и строить свой афоризм27.
У Владимира Николаевича есть неподписанный и не всеми опознанный
текст - анонимная (по условиям времени) вступительная статья к изданным
в 1982 г. в Париже «Философским сочинениям» A.A. Мейера28. Автор статьи
подхватывает «последнее слово» русской религиозной философии XX в.,
которую Мейер продолжал катакомбно в советской России 30-х годов, и
называет этим словом «жизнестроительную христианскую философию
спасения»29. Наверное, это главное сокровенное, сердцевинное слово и в
философском языке самого В.Н., если читать внимательно корпус его, особенно
поздних, текстов. Спасение - ключевое слово и позднего топоровского
литературоведения (если условно определить его так: через лингвистику -
семиотику - мифологию В.Н. постепенно возвращался к первичному интересу,
который когда-то привел его на филфак, - к литературе; но и в своих
последних работах о русской, но далеко не только, словесности он
литературоведом не стал; в самом деле для этого автора не хватает определений).
Несколько раз в топоровских текстах возникает цитата из «Фауста»,
опрокинутая в нашу литературу; «Господин Прохарчин» - один из примеров:
приговор герою от «низкой жизни» - Er ist gerichtet! - но ему ответствует «Голос
сверху: Er ist gerettet! (ситуация, не раз "разыгрываемая" в русской
литературе)» (с. 239). - ей это «Голос сверху»? - художника Достоевского и фило-
26 Nah ist I Und schwer zufassen der Gott I Wo aber Gefahr ist, I Wächst das Rettende auch. Перевод
В.Н. Топорова. Близок I И труден для понимания Бог. I Но где опасность, там
вырастает I И спасительное. См.: Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. С. 96. - Можно ли
сблизить это поэтическое слово с «аграфом» Христа, т.е. не введенным в Евангелие, но
записанным в трех первохристианских источниках Его словом: «Кто близ Меня, тот близ
огня; кто далек от Меня, тот далек от Царства»? В начале XX в. эти слова подчеркнул и
высветил П.А. Флоренский в своем «Столпе» (Свящ. Павел Флоренский. Столп и
утверждение Истины. М., 1914. С. 250), а затем вспоминал по ходу века в своих религиозно-
философских сочинениях СИ. Фудель (Фудель СИ. Собр. соч. М., 2001. Т. 1. С. 184).
27 «Именно русский язык открывает, казалось бы, парадоксальную связь высшей угрозы
(о-пас-ность) и конечного избавления от нее как высшего блага (с-пас-ение)...»
(Топоров В.Н. «Спор» или «дружба»? //Aequinox. Сборник памяти о. Александра Меня. М., 1991.
С. 107). Два ключевые слова по-русски, в отличие от оригинала, - однокоренные слова.
28 Близкого знакомого-единомышленника М.М. Бахтина в Ленинграде 20-х годов.
29 Мейер A.A. Философские сочинения. La Presse Libre. Paris, 1982. С. 22.
15
лога Топорова. Вслед за и вместе с великим художником филолог берет на
себя задачу высшую - и кого же спасает он своим высшим судом? Самых
малых, «последних» в нашей литературе - господина Прохарчина и «прореху
на человечестве» - Плюшкина30 (но в этом случае спасать приходится от
самого художника - Гоголя; в этой странной своей «Апологии Плюшкина»,
вызвавшей столько недоумений и некоторыми новыми филологами,
вооруженными последней французской методологией, воспринятой как
неожиданный и непонятный у такого строгого ученого срыв во что-то
расплывчато-старомодное, - в этом странном тексте автор выходил из
филологического анализа вместе в религиозную философию и в живую литературную
критику, наивно - на изощренный ученый глаз - защищая героя от автора и тем
следуя В.В. Розанову, взявшему в свое время под защиту Акакия
Акакиевича от оклеветавшего его Гоголя. Строгий филолог возобновляет
утраченную традицию - смотреть глазами живого и современного как бы критика
на классический текст; при этом он словно бы забывает о стратегическом
замысле Гоголя спасти Плюшкина, вместе с Чичиковым - именно их двоих -
в третьем томе поэмы31, но тем самым этот утопический замысел художника,
забыв о нем, подтверждает).
Не хватает определений - может быть, популярная «культурология»?
Но в упомянутой вступительной статье к Мейеру сказано: «Ни культура, ни
история в этих условиях совершающейся катастрофы не могут
рассматриваться как полностью надежные точки опоры, как вехи пути: и культура, и
история могут не пережить катастрофы...»32 Философия спасения имеет
ориентир поверх истории и культуры.
Мысль автора «Петербургского текста» чувствовала себя «в условиях
катастрофы» и этим чувством роднилась с предметом. Читавшие Топорова
знают, что значат у него примечания к основному тексту - излюбленная
форма работы и построения текста. Собственно, все круги его мысли
можно почувствовать как примечания к некоему синтетическому основному
тексту, сверхтексту. К книге о петербургском тексте таких примечаний - в
прямом, буквальном смысле - более сотни - и вот мы вздрагиваем,
прочитавши одно из них, очень короткое. В основном тексте сказано, что, когда
мы спускаемся «от метаистории к истории», от метафизического
Петербурга к реально-историческому городу, перед нами «возникает евангельски-
раскольниковский вопрос о цене крови» - в коротком же примечании к
основному тексту сказано дополнительно, что «Россия - храм на крови» и что
эта «цена крови в истории российской государственности» еще не
оплачена - «и что без этой оплаты благой России не быть» (с. 693, 742).
Благой России... Космос - благое мироустройство, а «благое» - одно из
главных и любимых слов в словаре Владимира Николаевича. Взгляд его
словно ищет благое, и положительная установка в общем определяющая в
его филологической оптике (как и по-человечески в жизни, по отношению
30 Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. С. 82.
31 В письме Н.М. Языкову в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «О, если б ты мог
сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома
"Мертвых душ"!» (Гоголь Н.В. Поли. собр. соч. Изд-во АН СССР, 1952. Т. VIII. С. 280).
32 Мейер A.A. Философские сочинения. С. 23.
16
к людям так было) - настолько, что можно бы счесть ее благодушной, или,
скорее, прекраснодушной - когда бы вдруг не столь
сурово-бескомпромиссные заключения, как только что приведенное. Но это шоковое одно из
более сотни примечание к основному тексту позволяет почувствовать топо-
ровскую историософию (не одну петербургскую, но общую), широко
растворенную в корпусе его текстов, не специально по теме своей
исторических.
При получении Солженицынской премии В.Н. сказал историософскую
речь об итогах XX в., которые «вынуждают оглянуться на всю русскую
историю» с тем, чтобы уяснить себе нас самих и понять, наконец, что с нами
случилось в этом веке - что мы до сих пор понимаем слабо. Был май
1998-го, поворотный момент уже в постсоветской истории, и было чувство,
что еще одна возможность будет упущена. «А история не всегда склонна к
долготерпению» - так закончил он эту речь33. В его исторических
размышлениях становились слышны профетические, сродни библейским, тона, как
в этом высказывании о цене крови в нашей истории.
Хочется не пропустить, заметить и прочувствовать это определение -
евангелъски-раскольниковский вопрос. Как это сказано и каков духовный
объем этой формулы! Определение, стянувшее и связавшее в мертвый узел
наше литературное и наше петербургское (раскольниковское) с
евангельским вечным. Стяжение грандиозно-точное: цена крови - это оценка крови
Христа (Мф.9 27, 6) и судьбы Раскольникова. Словно бы единица, квант то-
поровской художественной историософии.
Как-то единственным топоровским образом установка на благое
совмещалась в его космосе с катастрофическим чувством, русская святость с этой
евангельски-раскольниковской ценою крови, а то и другое с любовным
вниманием к мифологии божьей коровки: пусть читатель откроет «Мифы
народов мира» и прочитает статью об этой Божьей твари В.Н. Топорова34.
История петербургского текста шла к своему финалу (к «Козлиной
песни»), когда историк-философ, близкий по мысли автору этой идеи,
сказал (в 1926-м) о Петербурге, что «здесь остается если не мозг, то нервный
узел России35». Остается - уже тогда речь шла об «остатке» от
петербургской сущности и судьбы. А сейчас? Последняя фраза «Петербургского
текста» Владимира Николаевича очень грустная - что город тяжко болен, и ему
нужно помочь. Очевидно, великая идея петербургского текста стала ему
великой помощью - и очевидно также, что не сохрани город этого свойства
быть и сейчас нашим нервным узлом, как и не сохрани он своей культурной
«инакости», - не было бы и великой идеи.
Владимир Николаевич сказал свое слово о петербургском тексте
русской литературы, а мы говорим о петербургском тексте Владимира
Николаевича Топорова. Разве это не то же самое? В том-то и дело, что то же самое.
Но он нам создал эту мысленную реальность и, повторим, настаивал, что
33 Литературная газета. 13.V.1998.
34 Поэт Анри Волохонский сочинил стихотворную «Похвалу Топорову за его поэму
"Поэт"» - за статью в. тех же «Мифах» - и, честное слово, статья-поэма о божьей коровке
там же заслуживает такого же гимна.
35 Федотов ГЛ. Судьба и грехи России. Т. 1. С. 55.
17
это не то же, что Петербург в литературе. В самом деле, Петербург в
литературе это то, что в литературе есть, а петербургского текста как такового
в литературе, собственно, нет, он есть в нашей мысли благодаря Топорову -
как его личный «ноосферический вклад в русскую и мировую культуру»
(согласно его же характеристике самого петербургского текста).
Он есть, этот ноосферический вклад, как результат того «романа», о
котором В.Н. нам сам рассказал, - полувекового романа великого филолога с
великим городом.
Как Петербург - пространство, которое автор знал интимно, так его
петербургский текст - пространство идеальное, по которому бродят тени, о
чем была выше речь. Ведь под аркой на Галерной I Наши тени навсегда.
Тень Владимира Николаевича Топорова в этом пространстве теперь -
навсегда36.
В настоящем издании нами сохранены особенности оформления текстов такими, какими
они представлены в прижизненных публикациях В.Н. Топорова.
ТВ. Цивьян
ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
В последние годы жизни Владимир Николаевич Топоров много думал о
переиздании своих работ. Это стало для него первостепенной задачей, и
собирание «рассеянных по миру» (в буквальном смысле - см. его
библиографию) статей и книг означало не только и не просто подведение итогов, но
стремление выявить основные направления собственной деятельности
(можно сказать, и собственной жизни) и эксплицировать их в нужном
порядке. Эти направления В.Н. перечислил в своем куррикулуме, датируемом
2000-м годом, и в многочисленных планах предполагаемых изданий. Планы
(каждый из которых существует в нескольких вариантах) имеют
самостоятельное научное значение: строго говоря, это детально разработанные
программы разных научных дисциплин, и поразительно то, что все пункты, или
ячейки, заполнены одним человеком, так что практически В.Н. не надо
было ничего дополнять и дописывать - поставленные им задачи были
выполнены.
За исключением плана по Петербургу и Петербургскому тексту.
Но этот план имеет свою историю. В 2000 г. Петербургское издательство
«Искусство-СПб» обратилось к В.Н. с предложением издать книгу его работ
о Петербурге, и это предложение автор встретил с радостной готовностью.
В письме к издателю Надежде Григорьевне Николаюк он представил план
издания, скрупулезно разметив вышедшие, находящиеся в печати, в
рукописи или только еще задуманные работы. По поводу последнего пункта он
писал, что на выполнение или окончание их ему надо очень мало времени - все
подготовлено, «надо только сесть и написать». Но при напряженной работе,
при жизненных обстоятельствах оказывалось, что как раз на последнее
времени и не хватало. Так случилось и на этот раз, и через два года В.Н.
написал второе, объяснительное письмо, с просьбой о пролонгации. Однако
издательство, которое обязано было издать книгу к 300-летию Петербурга,
ждать не могло, и само определило состав книги, включив в нее часть из
предложенного и присланного (в ксерокопиях) автором. Так вышел том:
Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. Избранные труды.
СПб., 2003 (612 с). Из авторского предисловия явствует, что издание
мыслилось в нескольких томах.
Появление книги вызвало у В.Н. и радость, и растерянность, даже что-
то вроде детской обиды: оказался изменен задуманный им план.
Окружающие постарались убедить В.Н., что он не оставил издателям выбора: книга
должна была выйти непременно и в срок, иначе не состоялся бы «юбилейный
проект». Сама по себе книга оказалась цельной: кроме общетеоретической
части, в нее вошло практически все, что было написано В.Н. по XX веку.
19
Таким образом, петербургский текст начался с конца - а к его истокам
отсылала последняя работа «Блок - Жуковский».
Обидно было то, что оказался неиспользованным громадный
иллюстративный материал: по просьбе В.Н. и по его непосредственным указаниям
было отснято огромное количество петербургских пейзажей. Этот
материал был предназначен для нескольких тем, которыми В.Н. был увлечен в
последние 5-7 лет: вода в Петербурге, зелень в петербургских дворах и
петербургские памятники. «Странствующие энтузиасты» В.Н. и фотограф
Е.А. Поликашин, прошли с ним по маршрутам, которые могли бы удивить
и петербуржцев.
Первая тема предполагала регистрацию всех сохранившихся сейчас в
городе малых рек, речек, ручьев (включая и аглицкие реки в парках) -
прежде всего. В соответствующем разделе они должны были быть представлены
de visu, в своем нынешнем облике и антураже. Их имена в этимологической
интерпретации должны были послужить созданию того, что В.Н. называл
«исторической подоплекой» города. И вся эта водная сеть (речный текст,
как называл его В.Н.) приводила к историческим началам Петербурга,
сохраненным в его настоящем (и, возможно, будущем).
Можно предположить, что и зелень во дворах, жалкая, по сравнению со
знаменитыми петербургскими парками и садами, также ощущалась В.Н. как
некое свидетельство «догородского» прошлого, воспоминание о лесе,
неведомом лучам в тумане спрятанного солнца (мрак, сохраняемый дворами-
колодцами). «Закрытость» зелени, видной только изнутри двора, особенно
трогала В.Н., и он тщательно переписывал и пересчитывал деревья,
растущие во дворах и центральных улиц города, и его окраин.
Тема памятников занимала В.Н. в совершенно особом ракурсе. Он
рассматривал монумент в движении. Двигался, естественно, не памятник, а
зритель, перед которым объект открывался с разных точек (эффект
стробоскопа) и виделся разным. Эти перемены происходили в городской декорации
и на фоне небесных кулис. Для подготовительной работы В.Н. вычерчивал
«маршрут зрителя» и размечал точки для фотографирования. Первый
такой эксперимент он осуществил с Медным Всадником (статья была
написана и опубликована). Второй, с Александровской колонной, не успел.
Осталось несколько десятков фотографий. Внимание к этому монументу было
связано с особым отношением В.Н. к личности Александра I, нравственные
качества которого он ценил чрезвычайно высоко.
Выбор петербургской темы был определен для составителей прежде
всего живым ощущением ее особости для В.Н., того, что С.Г. Бочаров
назвал «романом великого филолога с великим городом». Этот роман
начался в 1951 г. Июлем-августом датирована первая поездка В.Н. вместе с
женой, петербурженкой Татьяной Яковлевной Елизаренковой.
Последняя поездка была в сентябре 2005 г. В конце ноября-начале декабря В.Н.
должен был ехать в СПб. еще раз - на заседание по присуждению анци-
феровских премий, но заболел своей последней болезнью. Он очень
волновался и просил домашних обязательно предупредить петербуржцев,
что не сможет приехать. А далее, уже в меркнущем сознании, говорил,
что точно не понимает, где он - в Москве или в Петербурге. И так и ушел
жителем двух городов.
20
Надеемся, что петербуржцы признают его «своим», но не потому что он
знал город так и в таких подробностях, в каких не знают его даже коренные
жители. Дело не в этом, - В.Н. при всей своей энциклопедичности всего
знать не мог, и стратегия его поездок состояла в том, чтобы обязательно
увидеть знакомое и - столь же обязательно - приобрести новые знания.
Дело в его особой эмоциональной укорененности в Петербурге при том, что он
оставался (и считал себя) москвичом (с ковровскими корнями), а каждую
встречу с Петербургом воспринимал как чудесный (в этимологическом
смысле слова - чудо) подарок.
Будучи человеком систематическим, он готовился к каждой поездке,
намечая строгий план и прогулок, и занятий (обычно в рукописном отделе
Публичной библиотеки) и брал с собой книги, прямо или косвенно
связанные с темой Петербурга. И увозил из Петербурга неподъемный (его
выражение) груз новых книжных приобретений. Начав с путеводителей, он
расширял свое собрание книг о Петербурге. Теперь это собрание составляет
особый раздел в библиотеке «Кабинета В.Н. Топорова» в РГГУ. Едва ли не
первым путеводителем стало издание 1957 г.1, объемистый (более 900
страниц текста) томик в зеленом коленкоровом переплете, с изображением
Дворцовой площади и Александровской колонны на титульном листе.
Книга весьма квалифицированная и подробная, включающая и пригороды.
Судя по тому, что переплет распадается, пользовались ею усердно. А на
последней странице В.Н. отмечал даты своих поездок - всего их за 54 года
было 107, и «сотый раз» (6-16 IX 2003) подчеркнут красным2.
К сожалению, В.Н. стал отмечать точное количество дней только с мая
1962 г. Если условно (с преуменьшением) считать каждую поездку равной
неделе, то можно сказать, что он прожил в Ленинграде/Петербурге более
двух лет, причем это была чрезвычайно интенсивная жизнь, каждая минута
которой была посвящена и подчинена городу, что в полной мере ощущали
его постоянные спутники, жена и дети, затем и внуки. Татьяна Яковлевна
была «причиной» первых поездок В.Н., потом он стал их инициатором и
сделал их обязательными. Год без поездки в Ленинград, сначала одной, а потом
двух и более, стал невозможным3.
Т.Я. вспоминает, что увиденный впервые, в 1951 г., Ленинград
показался В.Н. чуждым. Т.Я. считает, что толчком к возникновению особого
чувства к городу, стало знакомство с Островами, которое произошло позже,
после того, как на Островах впервые побывала она сама. Во время своего
предвоенного ленинградского детства, проходившего под прессом
непосредственно коснувшихся ее семьи трагических событий советской эпохи,
Островов она не знала, и, увидев их впервые в 50-х годах, была под таким сильным
Путеводитель по Ленинграду. Редколлегия: Л.Н. Белова, Н.Я. Борисов, П.Я. Канн,
В.В. Мавродин, A.B. Предтеченский, М.М. Смирнов. Лениздат, 1957.
Есть и еще скудные уточнения: наводнение в сентябре 1979 г. (ему очень хотелось застать
наводнение в Петербурге); Лиза - поездка со старшей внучкой в 1996 г.; похороны Д.С.
Лихачева в 1999. Получение премии Андрея Белого в 2004 г. В.Н. не отметил.
Приходится непоследовательно называть город. При всем отталкивании от имени Ленина,
город для В.Н. (как и для многих «иногородних» его современников, не считавших себя
вправе говорить Питер) был Ленинградом. После переименования В.Н. сознательно и
принципиально «переучился» на Петербург.
21
впечатлением, что, вернувшись в Москву, сказала В.Н., что и он должен
обязательно там побывать. С тех пор Острова стали для В.Н. обязательным
пунктом в каждой поездке, и к «хрестоматийным» прибавились Гутуев,
Вольный...4
Эти мемуарные уточнения показались уместными составителям потому,
что они оказались в сложном положении. Подробный план книги,
составленный В.Н. вплоть до деталей состояния каждого текста (новый,
опубликованный, в рукописи, в ксерокопии), был исчерпывающим. Более того, В.Н.
рассказывал о своих планах, подробно излагал отдельные темы (например,
Я. Бутков в связи с Достоевским, «островитяне», петербургские трущобы у
Крестовского, Анненский, эпитафии, граффити и т.д.). Действительно,
оставалось только «сесть и написать»... Но В.Н. этого не успел.
Книга готовилась, когда не прошло года после смерти Владимира
Николаевича, и когда его архив еще не был разобран. Теперь найден массив
подготовительных записей: это и конспекты источников, и ксерокопии
произведений, которые предполагалось анализировать, и иллюстрации, и,
главное, конспекты прогулок по Петербургу. Петербург и был для В.Н.
основным текстом, и он в буквальном смысле переписывал его, создавая текст
города. В последнее десятилетие к этому прибавились и фотографии.
Записывая торопливо, на ходу и «на весу», фиксируя адреса, расстояния, В.Н. в
то же время не удерживался и от анализа, и в этих записях, часто на
клочках, на библиотечных требованиях, на библиографичесикх карточках вдруг
проступают фрагменты будущих текстов. Восстановить их, «дописать»
невозможно, да и сам автор этого никогда бы не допустил. Не допустил бы он
и другого: публикации недописанного и недоработанного текста, в котором
не поставлена окончательная точка.
Но, к сожалению, настало время, о котором В.Н. говорил в одном из
своих последних выступлений: «когда писатель уходит из мира сего, он теряет,
в некотором смысле, право собственности на свой текст»5 - а приобретают
это право читатели и издатели. Мы воспользовались этим правом,
поскольку нам показалось очень важным опубликовать «петербургский текст» В.Н.,
здесь и сейчас, не уповая на те времена, когда архив будет разобран
полностью, но при этом, насколько возможно, следовать воле автора, как мы ее
понимаем.
Мы взяли за основу план, составленный В.Н. для издательства
«Искусство-СПб». Он опубликован здесь в факсимильном варианте, и с него мы
начинаем. Мы исключили из настоящего издания весь XX век,
опубликованный в петербургской книге, но взяли оттуда краткое вступление «От
автора», поскольку оно относится ко всему задуманному труду, и «Введение
в тему» Петербурга и петербургского текста. Далее: те указанные в плане
4 Точный В.Н. отмечал, что в стихотворении Н. Тихонова «Равновесие» острова
перечисляются не в том порядке, Крестовский идет перед Петровским:
Воскресных прогулок цветная плотва
Исполнена лучшей отваги.
Как птицы, проходят, плывут острова
Крестовский, Петровский, Елагин...
5 Текст и комментарий. Круглый стол к 75-летию Вяч.Вс. Иванова. М., 2006. С. 40.
22
работы, которые нам удалось найти, мы расположили в порядке,
определенном В.Н., отметив их в факсимиле звездочкой (и сохранив в оглавлении
авторскую нумерацию разделов).
Но мы включили и несколько других работ6. Во-первых, две статьи,
которые не могли быть включены в план, поскольку появились после его
составления. Первая - посвященная памяти друга В.Н., голландского
литературоведа Яна Ван дер Энга статья «О сердце в ранних произведениях
Достоевского», опубликованная в 2003 г. в журнале «Russian Literature»;
вторая - найденная в архиве неоконченная статья о «Сне смешного
человека» Достоевского. Нет сомнения, что В.Н. включил бы их в раздел
Петербург и «петербургский текст» Достоевского.
Во-вторых, мы включили в раздел Топография {Памятники) статью
«О динамическом контексте "трехмерных" произведений изобразительного
искусства (семиотический взгляд). Фальконетовский памятник Петру».
«Динамический контекст» отсылает к пейзажу города, к его «культурной
топографии». Следующим объектом, как уже было сказано, должна была
стать Александровская колонна. Кроме подготовительных фотографий, в
предварительных записях остался набросок «Небо над Дворцовой
площадью», в котором просматриваются мотивы Золотого века, моря,
Архипелага, столь дорогие В.Н. в связи с Достоевским7.
Набросок воспроизводится в разделе Топография города. Ландшафт.
Реки. Зелень. Этот последний раздел, по сути, представлен лишь названием.
Мы отказались от первоначальной идеи поместить в него большой блок
иллюстраций, предпочтя посвятить этому отдельную книгу, посвященную
«ненаписанному» или «недописанному» петербургскому тексту В.Н. Топорова.
Ее основу составят архивные материалы, записи и наброски, прежде всего
из «серого блокнота», наиболее подробного петербургского дневника В.Н.,
относящегося к 2000-м годам, заметки на отдельных листках, на полях книг.
В предполагаемую книгу войдут, в частности, составленные В.Н.
«фотографические каталоги», которые потребуют особого комментария-анализа.
Это прежде всего каталог малых, окраинных петербургских рек, о которых
уже шла речь. Их изображения могут показаться не столь эффектными по
сравнению с одетыми в гранит реками центра города. Относящийся к ним
авторский текст представлен лишь подписями В.Н., указывающими на
мельчайшие топографические подробности8. Но именно эти подписи формируют
речный предтекст, которому не суждено было превратиться в текст. То же
касается и каталога петербургской «зелени» и соответствующего текста:
скрупулезность описания петербургских дворов не только делает
выразительными изображения обычных деревьев в этих обычных дворах, но и
подводит к мысли о «первоначальной» природе места сего, пробивающейся
сквозь город и существующей вопреки ему или в слиянии с ним - и с челове-
6 Все тексты, не вошедшие в составленный В.Н. план, отмечены в оглавлении книги звездочкой.
7 О них см.: «Сон смешного человека» в наст, книге, с. 464-465.
8 Например: «Смоленка с моста ок(оло) Смол(енского) кладб(ища) (вид на восток)»; «Утка
150 м выше устья. Снято с трубы и мостка через реку, в стор(ону) верховья»; «Вид с моста
между Петровск(им) и Крестовск(им) о-вами на стрелку Петрогр(адской) стор(оны) и устье
Ждановки; ближн(ий) план, справа - восточная часть островка под мостом».
23
ком. Об этом, как и о конфликте жизни и смерти и победе жизни (по
определению В.Н., основной стержень петербургского текста) - публикуемая
здесь запись в «сером блокноте».
* * *
Фотографии создателя петербургского текста относятся к последнему
десятилетию, когда В.Н. стал собирать свою петербургскую «фототеку».
Сниматься В.Н., как можно легко предположить, не любил. Согласившись
на просьбы, не мог избавиться от несчастного или недовольного выражения
лица. Другое дело, когда его «ловили»: это можно было сделать во время
записей. На таких фотографиях частый персонаж - тот самый «серый
блокнот». Мы публикуем небольшое собрание портретов В.Н. в петербургском
пейзаже - без уточнения мест9.
Составители глубоко благодарны издательству «Искусство-СПб», его
главному редактору Надежде Григорьевне Николаюк, фотографу Евгению
Александровичу Поликашину - и не только за любезное разрешение
использовать иллюстративный материал. Идея книги, задуманной и
вынашиваемой ее автором очень давно, пусть даже осуществленной в полном
объеме лишь на уровне плана, была актуализована благодаря издательству.
Благодаря ему она «материализовалась» в первой, петербургской, книге и
продолжается во второй, московской, - настолько, насколько это в силах ее
составителей.
В ряде случаев оказалось невозможным их отождествить.
ОТ АВТОРА
Петербург познавал самого себя не столько из описания реалий жизни,
быта, своей все более и более углубляющейся истории, сколько из русской
художественной литературы. Позже Россия пыталась осмыслить суть своей
природы, понять последнее слово о самой себе в свете феномена
Петербурга, столицы Российской Империи. Восстав из «топи блат», Петербург
расколол русское общество на две непримиримые части: для одной это был
«парадиз», окно в Европу, в которую Петербург старался втащить всю Россию,
для другой он был бездной, предвещанием эсхатологической гибели.
Попытки примирения двух крайностей не удавались, более того, сама идея их
синтеза представлялась неосуществимой. Не следует ли признать или, во
всяком случае, принять допущение, что внутренний смысл Петербурга,
самая глубочайшая идея его лежит именно в этой не сводимой к единству
антитетичное™ и антиномичности - категорий, которые самое смерть кладут
в основу новой жизни, понимаемой как ответ смерти и как ее искупление,
как достижение более высокого уровня духовности. «Бесчеловечность»
Петербурга оказывается органически связанной с тем высшим для России и
почти религиозным типом человечности, который только и может осознать
бесчеловечность, навсегда запомнить ее и на этом знании и памяти строить
новый духовный идеал.
Около века ушло на появление, становление и развитие самой
петербургской темы, введение основных объектов города, как «природных», так
и «культурных», связанных с цивилизационной деятельностью человека.
Две трети XVIII и начало XX в. литература осваивала эту петербургскую
«целину», повторяя одно и то же, перепевая в который раз то, о чем было
уже сказано и, более того, запомнено и усвоено. И все это (за редчайшими
исключениями) не выходило за пределы эмпирического
петербургского бытия.
Батюшков был, пожалуй, первым, кто за наличным бытием Петербурга
узрел нечто общее и светлое, не только объединяющее разноплановые
реалии в целое, но и подведшее к порогу открытия новых смыслов, которыми
чреват Петербург. Первым же открывателем этих смыслов города суждено
было стать Пушкину, у которого петербургская тема обрела
самодовлеющую ценность и открыла новое широкое пространство для осмысления сути
города, если угодно, его души.
В пушкинском варианте развития петербургской темы угадывается
нечто провидческое, и в нем, возможно, впервые прозвучал отклик России
на явление Петербурга. И сам Пушкин, и те, кто шел за ними «по живому
следу», - Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Андрей Белый - были писатели-
25
непетербуржцы, и долгое время их главенствующая роль была
несомненной. (Среди фигур этой величины коренным петербуржцем был Блок,
однако для петербургской «укорененности» вряд ли значим факт рождения в
этом городе.)
Писатели этого направления, не забывая о петербургской эмпирии и ее
реалиях, умели увидеть и изобразить «сверхэмпирическое», относящееся к
самой сути города. Здесь начало историософского и метафизического
осмысления Петербурга, при котором целью становится не в ы б о ρ между
двумя противоречащими друг другу и взаимоисключающими или-или, но
совместное держание их: космического порядка, правила,
закона, гармонии и хаотического беспорядка, непредсказуемости, произвола,
дисгармонии. В сочетании несочетаемого и формировался особый
«петербургский» тип человека, о котором и оповестила Россию, а потом и весь мир
русская литература.
Ни об одном другом городе не было написано столько и так.
Итогом трехсотлетней жизни города стило огромное количество
конкретных текстов о Петербурге и, более того, формирование некоего
сверхважного в силу своей смысловой сверхуплотненности конструкта общего
характера - «Петербургского текста» русской литературы.
Предлагаемая вниманию читателя книга состоит из написанных за
последнюю треть века работ автора (в конце каждого раздела обозначается год
написания) и могла бы быть обозначена как «Избранное».
В ней основной акцент ставится на те произведения русской литературы,
которыми в основном и «держится» то, что называется «Петербургским
текстом» русской литературы. За пределами книги пока остаются
конкретные тексты о Петербурге, множившиеся без малого три века. Автор
предполагает обратиться к ним в последующих книгах. О Петербурге как о
порождающем тексты феномене будет рассказано в завершающем томе,
который было бы уместно назвать, по аналогии с известным старым изданием,
«Весь Петербург».
Санкт-Петербург
июнь 2003 года
В. Н. ТОПОРОВ. "ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОСМОС И ХАОС**. В 2-Х ТОМАХ
Состав 1~го и частично 2^го тома, график работы
^НАЗВАНИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ
ИСТОЧНИК
новый
текст
|СОСТОЯНИЕ
рукопись
СРОК npQÎОБЪЕМ
ПРОЦЕСС
II. ПЕТЕРБУРГ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА
1. "Одописной Петербург:
Ломоносов, Тредиаковский,
Сумароков, Петров и др.
2. Образ Петербурга в
русской поэзии XVIII в. -
|dii minores
Ь, Один год из жизни
р. Н.4Муравьева по его
рисьмам 1777 — жизнь
петербургская
р. Петербург в поэзии
Муравьева
5. Державинский Петербург
6. "Аптекарский остров,
|или Бедствие любви"
В. Попугаева
новый
текст
новый
текст
корректура
другого
издания
новый
текст
новый
текст
новый
текст
рукопись
рукопись
сделать
ксерокс и
выслать
рукопись
рукопись
машинопись
с рукописи.
дополнениями
ксерокс
выслать
Μ&ψ
ΛπΜψτ
до oep»
дины »
ротября
<$Μ**μ
Д*ПгШ
Шф*
i»·^
(Кимыю
У*«}.
Uuf.
u!r&
набор
набор
III. ПЕТЕРБУРГ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX В. (1800-1830)
1. Петербург у Батюшкова
2. Рецепция Петербурга у
Жозефа де Местра
3. На рубеже двух эпох.
Евреи в Петербурге: к
новой русско-еврейской
встрече (Л. Невахович
и его круг
4. Пушкинский Петербург
в стихах и прозе
5. "Петербургское" у
Лермонтова
новый
текст
новый
текст
ОПубЛ.:
"Славяне и
их соседи"
М., 1994.
С. 182-218
новый
текст
новый
текст
рукопись
рукопись
ксерокопия
рукопись
рукопись
*#lrfetf
({Utoff*·
ΛιλΚ-τΗϊΐΗ^Τ-ι
ДП Г€»р^-
ДИНЫь
Η*Αή*4
lôcty,
**4
36
полос
V*0
Ï0~2Sr
набор
IV. ПЕТЕРБУРГ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА (1830 — 1840)
1. Петербург в творчестве
В Ф. Одоевского
новый рукопись [ ^
текст »
η
27
2. Петербург
"Петербургских повестей" и ранних
писем Гоголя
3. "Петербургские" статьи
Белинского и Герцена
4. Петербург в
произведениях писателей
"натуральной" школы —
"физиология Петербурга"
5. "Петербургские
вершины" и "Петербургская
бездна" Я. П. Буткова
6. Петербургские повести
М. М. Достоевского
"Дочка", "Господин Светелкин"
7. Них. Мих. Достоевский
по материалам <Р0 РДО>.
Л8. Проза будней и поэзия
[праздника —
"Петербургские шарманщики"
Григоровича
9. Другие петербургские
тексты Григоровича ?
10. Петербург Некрасова -
стихи и проза
11. Петербург Аполлона
Григорьева
12. Петербург Гончарова
13. Жизнь на краю --
"Гавань" Генслера
<\crv*«cK
новый
текст
новый
текст
новый
текст
новый
текст
новый
текст
ОПубЛ.:
ОПУ6Л.:
Europa
Orientalis
XVI/1997:
2 Studi
ericerche
sni paesi
e le
culture dell'
Est Euro-
peo
C. 97-192?
новый
текст
новый
текст
новый
текст
новый
текст
CoortfjtHfc-e.
рукопись
рукопись
рукопись
рукопись
рукопись
сдеяЯТ&*^
КС\фиКОГЖ4в
рукопись
рукопись
рукопись
рукопись
еф^с
феб^ам,
фАри,
OfdiwAh
элказа/ь
дсХсере-
дин\/ок-
T«<£pJT\
trfau
Vf-
Sö«p.
Û<l4Y,
щ
φ
набор
V. ПЕТЕРБУРГ И "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ ДОСТОЕВСКОГО" (1840--1870)
1. Петербургское
"наваждение" (ранние тексты
\ 1846-1849)
новый
1 текст
рукопись
подготовить
®
ΊΙ
Ί|
*
*
i
\2: Γ Господин Прохарчин" :
к анализу петербургской
повести
| 3;. Мотив несостоявшегося ;
счастья (Достоевский и
Островский: об одной
возможной перекличке)
1 'S
|ЧД 0 структуре романа
Достоевского в связи с
архаистическими схемами
мифологического сознания
("Преступление и
наказание")
(5). Еще раз об
"умышленности" Достоевского
6. Из заметок об
"Униженных и оскорбленных",
"Идиоте" и "Подростке"
7. фитология "Кроткой"
опубл.:
Иерусалим,
1982
ОПубЛ.:
Russian
Literature
XIX-IIK?)
Amsterdam,
1986.
С.255-290
ОПубЛ.:
Structure
of Texts
and
Semiotics of
Culture
The Hagne-
Paris,1973
С 225-302
ОПубЛ.:
Finitis
ducdecim
lustris.
Сборник
статей к
60-летию
проф. Ю.М.
Лотмана
Таллин,
1982.
С.126-132
новый
текст
новый
текст
ксерокопия
е,Щ~ tot
*
Ъ
(и
«1
ι ОУТЧС*
ксерокопия
рукопись
рукопись
SaKÛOiMib;
д# серег-
ДеИНЫ ОК-!
т«Ябрп- !
0я к aj^aj.K
дони ок*
тября.
есть
1
заказать
до
середины
октября
35
полос
77
полос
6
полос
набор
ч
набор
набор
набор
VI. ПЕТЕРБУРГ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
1. Петербургские стихи
Тютчева
2. Петербург в поэзии --
Полонский, Апухтин, Над-
сон, Случевский и др.
3. Заметки о
"Петербургских трущобах"
В.В.Крестовского
4. "Петербургское у
Чернышевского и
Помяловского
5. Из лесковского
Петербурга : а). "Островитяне"
0 петербургском стра-
новый
текст
новый
текст
?
2
! ?
рукопись,
заметка
рукопись
1
i
29
6 : Тургеневский Петербург
новый
текст
рукопись
подготовить
[VU. ПЕТЕРБУРГ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА (1900--1960)
Jl. "Крестовые сестры"
Ремизова: поэзия и правда
2. Эсхатология Петербурга
у Ремизова
3. "Петербург" Иннокентия
Анненского
4. Заметки о "Петербурге"
Андрея Белого
j5j. 0 "евразийской" перс-
тпективе романа Андрея
Белого "Петербург" и его
фоносфере
(16/. Тяга к бездне — Блок
[и Жуковский: к проблеме
реминисценций
7. "Без лица и названья"
(к реминисценции
символистского образа)
8. Сны Блока и
"Петербургский текст" начала
XX века
9. "Петербургское" в
дневниках и записных
1 книжках Блока
ОПУбЛ.:
Влоковский
сборник.
Вып.5,Тарту, 1999
+ новый
текст
новый
текст
заметка
новый
текст
заметка
?
опубл.
*>
ОПубл.:
Тезисы I
Всесоюзной
конференции
"Творчество
А.Блока и
русская
культура ХХв. "
Тарту1975,
С.83-89
Тезисы
докладов
Летней
школы по
вторичным
системам,
4.Тарту,
1970. С.
103-109
новый
текст;
представит. авт.
новый
текст
ксерокопия
рукопись
рукопись
подготовлена
рукопись
подготовлена
ксерокопия
сделать
ксерокопию
сделать
ксерокопию
рукопись
рукопись
заказать
до
середины
октября
заказать
до
середины
октября
заказать
до
середины
октября
заказать
до
середины
октября
набор
набор
набор
набор
набор
&
\iô: "Русский бред" Блока.
Q. Елена Гуро: миф о
воплощении юноши и сына,
его смерти и
воскресении.
@. Ахматова и Блок (к
проблеме построения
поэтического диалога: "Бло-
ковский" текст Ахматовой)
13.
Ахматовский.Петербург
(Q). Об историзме
Ахматовой
15. Петербург
Мандельштама --стихи и проза
новый
текст
ОПубЛ.:
In
memorial*
Krystyna
Poroorska,
Boston,
199?
ИЛИ В :
Серебряный век.
Избранные
статьи
М., 1993
опубл.:
Berkeley,
1981
новый
текст
опубл.:
RussUan
Literature
199?
новый
текст
рукопись
сделать
ксерокопию
сделать
ксерокопию
рукопись
сделать
ксерокопию
подготовить
заказать
до
середины
октября
заказать
до
середины
октября
заказать
до
середины
октября
набор
набор
набор
VIII. "ПОСЛЕ КОНЦА" -- СВИДЕТЕЛИ
1. "Заблудившийся
трамвай" Гумилева
2. "Пещера" Е. Замятина
3. 'Голод" С. Семенова
4 s Петербург Вагинова
Г5. Петербургские стихи
ГЙтнатова (Д. Е.
Максимова)
6. Рефлексии о
Петербурге -- Н. П. Анциферов,
Г. П. Федотов, Л. П. Ка-
равин и др.
может быть исключено, т. к. входит в статью
"Петербургский текст"
может быть исключено, т. к. входит в статью
"Петербургский текст"
может быть исключено, т. к. входит в статью
"Петербургский текст"
новый
текст
опубл.:
????
рукопись
сделать
ксерокопию
набор
может быть исключено, т. к. входит в статью
"Петербургский текст"
31
<€>
Ι 7. Петербург в
мистической историософии Даниила
Андреева
8. Ленинградский
мартиролог (1937 — 1938)
9. Петербург в
метафизическом аспекте
-может быть исключено,, т. к. входит в статью
"Петербургский текст"
новый
текст
рукопись
может быть исключено, т. к. входит в статью
"Петербургский текст"
IX. УРОЧИЩА. "СВОЕ" И "ЧУЖОЕ" В ПЕТЕРБУРГЕ
(Т. Аптекарский остров как
городское урочище
2. Стихотворная эпитафия
по материалам
Петербургского некрополя
13£ Две странички из
истории "петербургско-италь-
янского" некрополя
Mfj Италия в Петербурге
ОПубЛ.:
Ноосфера
и
жественное
творчество .
М., 19??
новый
текст
новый
текст
опубл.:
Италия и
славянский мир.
Советско-
итальянский
симпозиум .
М., 1990
сделать
ксерокопию
рукопись
компьютерный набор,
распечатка
сделать
ксерокопию
; заказать
до
середины
октября
заказать
до
середины
октября
набор
набор
X. ТЕКСТ ПЕТЕРБУРГА И НИФОЛОГЙЯ ГОРОДА
/? " *
LJU Петербург и
"Петербургский текст" русской
нитературы
ί2'. Петербургские тексты
пи петербургские мифы
(Заметки из серии)
опубл.
опубл.
ксерокопия
ксерокопия
набор
набор
II ТОМ. XI. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ
XII. ТОПОГРАФИЯ ГОРОДА. ЛАНДШАФТ. РЕКИ- ЗЕЛЕНЬ
XIII. СТРУКТУРА. ПЛАНИРОВКА
ИЗ РАЗДЕЛА II:
ПЕТЕРБУРГ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА
ОДИН ГОД ИЗ ЖИЗНИ МУРАВЬЕВА
ПО ЕГО ПИСЬМАМ
ЖИЗНЬ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
Период с октября 1772 г. по апрель 1777 т., между возвращением из
Вологды и временем, к которому относятся рассматриваемые здесь письма
М.Н. Муравьева1, - в основном «петербургский» (если не считать довольно
длительного пребывания в Твери). Его протяженность - четыре с
половиной года. Время пребывания в Вологде (как и в Архангельске до этого) не
пропало даром для Михаила Никитича. Н.Л. Жинкин подводит краткий итог
этому периоду: «... во-первых, ум его обогатился массой новых впечатлений,
полученных от знакомства с новыми местами и лицами; а во-вторых, он по
возможности пополнял пробелы в образовании чтением классиков и
размышлением над прочитанным... Кроме того, в это время молодой Муравьев
впервые решился испытать свои силы на литературном поприще - "искушать
стал лиры тон"»2.
Петербургская жизнь сразу захватила его: ритмы столичного города и
сам образ жизни, когда каждый день был заполнен «многим и разным»,
сильно отличались от вольного и неторопливого вологодского
существования. Не дав даже осмотреться, через пять-шесть дней по приезде (25 октября),
Петербург объявил молодому человеку о себе, о своем распорядке жизни, о
своем ускоренном времени. 31 октября Муравьев был зачислен солдатом
лейб-гвардии Измайловского полка. 24 ноября - производство в капралы3.
22 сентября 1774 г. - стал сержантом. 1 января 1782 пожалован в
прапорщики (первый офицерский чин). Последовательное прохождение всей
лестницы военной службы и, судя по всему, позднее получение низшего
офицерского чина представляется несколько странным и, кажется, объясняет факт
несостоявшейся, к счастью, военной карьеры. Впрочем, «служба» оставляла
Муравьеву немало свободного времени, необходимого для образования и
самообразования, литературных занятий, встреч с многочисленными
знакомыми и друзьями, среди которых были и известные писатели 70-х годов.
Муравьев усердно посещает лекции профессоров Академии наук. Известно,
что математику он слушал у великого Л. Эйлера (что позже будет
отражено и в письмах Муравьева), а экспериментальную физику - у Крафта, лекции
которого пользовались столь большим успехом, что на них съезжались и
многие любопытствующие петербуржцы. Нередко посещал Академию
художеств. Хорошо зная немецкий, французский и латинский, он
погрузился в изучение древнегреческого, английского, итальянского. Отмечают,
2. В.Н. Топоров
33
что зародившийся у Муравьева в Московском университете интерес к
античной филологии возрос в петербургские годы, что и отразилось в его
творчестве в 70-е годы. В 1773 г. выходят из печати сразу две книги стихов
Муравьева - «Басни» (кн. 1, сдана в типографию еще в 1772 г.) и «Переводные
стихотворения». Две особенности муравьевских басен отмечают
исследователи (см. В.А. Западов) - использование, за немногими исключениями,
в баснях оригинальных сюжетов (в отличие от других баснописцев)
и выбор сатирической линии (вслед за Сумароковым и Майковым,
а не моралистической, которой следовал Херасков)4.
21 августа 1773 г. Муравьев подал «доношение» в Академию наук с
просьбой о напечатании сборника из переведенных ранее стихотворений
Анакреона, Буало, М. де Скюдери, Вольтера, Брокеса и отрывков из «Цин-
ны» Корнеля, «Истории» Тита Ливия, целого ряда текстов Горация,
особенно привлекавшего в это время внимание Муравьева. В сентябре книга уже
была отпечатана, а в декабре того же года Муравьев подает прошение о
напечатании «Похвального слова Михаиле Васильевичу Ломоносову», и в
январе 1774 оно было опубликовано. 24 января подан в печать перевод поэмы
«Гражданская брань», фрагмент поэмы Петрония, и в феврале она уже
выходит в свет. 17 марта сдается в печать большое стихотворение «Военная
песнь» (в типографских документах она называется «поэмой»),
напечатанная в мае, а потом переработанная в три отдельных самостоятельных
произведения. В августе появляется «Ода Ея Императорскому Величеству
Государыне Екатерине II, Императрице Всероссийской, на замирение России с
Портой Оттоманскою». Еще раньше, «1774 года 9 ма'1я», как отмечено в
рукописи, была завершена трагедия «Дидона», 1774 и начало 1775 г.
посвящены были также усиленной работе над сборником «Оды» (сдан в типографию
3 марта, а отпечатан 27 марта 1775 г.), в который были включены
стихотворения и других жанров. В 1774 г. (а может быть, даже с 1773-го) Муравьев
начал работать над трагедией «Болеслав», к которой после вынужденного
перерыва вновь обратился в середине 1776 г., а также над поэмами
«Раздраженный Ахиллес» и «Осада Нарвы». В 1774 г. было написано, пожалуй,
самое раннее из стихотворений, в котором происходит открытие большого
и подлинного поэта - «Эпистола к Его Превосходительству Ивану
Петровичу Тургеневу» {Не тот еще, мой друг, свободной человек, / Что предан сам
себе, ведет беспечный век...), «Эпистола» открывает двухлетний (1775-1776)
период, когда Муравьев не только много писал, но и создавал те полтора-два
десятка стихотворений, которые обеспечивают ему свое самостоятельное
место в русской поэзии - и в ее истории, и, так сказать, «поверх» ее5.
До сентября 1776 г. Муравьев, несмотря на молодость, успел
познакомиться (а в ряде случаев и подружиться) с целым рядом видных
петербургских литераторов. Особенно близкими были отношения с В.И. Майковым,
знакомство с которым произошло на обеде у родственницы Муравьевых
Анны Андреевны Муравьевой (1*1804)6, вдовы Николая Ерофеевича
Муравьева (1721-1770), инженера, математика, автора стихотворений и песен7
(отмеченных в «Опыте словаря» Н.И. Новиковым, 1772: «в молодых летах
писал весьма изрядные стихотворения, а особливо песни, которые весьма
много похваляются»), что не помешало его успешной карьере (сенатор и
проч.).
34
Через Майкова М.Н. Муравьев познакомился с М.М. Херасковым.
Известно, что Михаил Никитич вместе с отцом был приглашен в дом к
Хераскову, где на последовавшем за чтением ужине присутствовала и
Е.В. Хераскова, и, как полагают, Д.И.Фонвизин, Я.Б. Княжнин,
A.B. Храповицкий и др. В 1773-1774 гг. произошло знакомство и
сближение с H.A. Львовым и через него с И.И. Хемницером. В круг знакомств
(не всегда известно, когда они начались, но несомненно в 70-е годы)
входили также В.П. Петров, В.В. Капнист, Н.П. Николаев, М.И. Веревкин,
Д.И. Хвостов, A.B. Храповицкий, Е.С. Урусова и др. - особо же надо
отметить еще двух знакомцев Муравьева в эти годы - Николая Ивановича
Новикова, связи с которым были тесными и в журнале которого
«Утренние часы» Муравьев сотрудничал, и Василия Васильевича Ханыкова,
вероятно, ближайшего его друга (эта дружба сохранялась до конца жизни
Муравьева)...
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
... «Петербургский» письменный текст Муравьева несколько
богаче «московского» - 18 словоупотреблений «Петербург» и «Питер», не
считая этого слова в формульных указаниях места и даты отправления письма.
При этом «петербургский» текст в письмах Муравьева самый богатый,
разнообразный, содержательный и интересный. Именно он дает больше всего
сведений и о самом авторе писем, и о круге его родственников, друзей,
знакомых и даже незнакомых автору лично, но (обычно) известных людей. Но
об этом - также далее, в особом разделе. Здесь же - сухая эмпирия, также
не слишком богатая информацией8. И все-таки - в ней последние новости,
как городские, так и светские:
Наконец имею удовольствие донести о моем вПетербург
прибытии (263); - Государыня вчерашний день изволила приезжать
вПетербург для Преображенского праздника и кушать в Летнем дворце (269); -
Вот уже тому две недели, вчерась минувшие,что я живу вПетербург е,
а вас (отца. - В.Т.) не вижу уже близко трех недель (271); - Здесь вПите-
ρ е английская герцогиня Кингстон (272); - Красильников все сие лето в
Петербурге не был, а думают, что, конечно, в будущем месте он будет
(278); - Вчерась, т.е. в Александров день Государыня одна быть изволила в
Петербурге (283); - Завтра хотел бы я быть не в Петербурге
(288); - Кланяйся, матушка, от меня Ив(ану) Иван(овичу) и Вас(илию)
Ивановичу)... которые, может быть, скоро будут в Π и τ е ρ (301); - Здесь (в
Петербурге. - В.Т.) все подписываются, и Тверь, я думаю, захочет подражать
Петербургу (311);- Да нынче уж и прошло то время, что ходя
вскакивал. Никто не размеривает более шагов своих в Π и τ е ρ е, как я (314); -
Правда, сударыня, что вПетербурге жить можно весело9 с людьми, но
ежели прежде можешь жить с собою. Человеку, собой недовольному и
имеющему к тому причину, не веселы лучшие беседы (316); - Я приехал в
Петербург и, слава Богу, здоров и теперь стараюся об переводе (317); -
К сожалению моему слышу, сколько вы, милостивый государь батюшка,
беспокоитеся моим замедлением вПетербурге (345); - Ты довольно
->*
35
счастлива, ежели счастлива к себе. ВПетербурге есть недовольные.
Разум и сердце везде делают счастливых (349); - Ma chère, si vous étiez à
Pétersbourg, peut-être y serais-je plus souvent... (349)l0.
По сути дела, этот «петербургский» письменный текст многократно
расширяется и весьма сильно конкретизируется и дифференцируется в тех
письмах, где ясно, что речь идет о Петербурге или Петербург обозначается в
формуле «место-дата», и нет необходимости в специальном обозначении
города по его имени. Но о Петербурге как целом, вырисовывающемся из
писем Муравьева, будет сказано особо. Сейчас же следует сказать несколько
слов о д ρ у г и χ местах пространства, точнее, обо всем том, что «местооб-
разует» и вместе с тем не опускается ниже уровня жилья, квартиры,
комнаты, где начинается уже уровень вещей, здесь в принципе не
рассматриваемый (в этом смысле книга- более чем вещь, и о книгах речь пойдет далее).
Нужно также отметить, что функция местообразования не отменяет и не
исключает функции более специализированные и объясняющие
непосредственно, чем служат соответствующие объекты человеку и к а к и е
потребности они удовлетворяют. Также нужно отметить, что в целом ряде случаев
нужно отличать некие совокупности людей (рота, полк, школа, канцелярия,
академия, собрание, заседание и т.п.) от м е с τ а, ими занимаемого, которое
в указываемых далее примерах более актуально, чем то, ради чего
объединяются эти люди. Всего в письмах Муравьева за указанные десять с
небольшим месяцев встречается существенно более сотни таких
«местообразующих» и дифференцирующих пространство наименований (как апеллятивных,
подавляющее большинство, так и имен собственных, относительно немного).
Если учесть повторения, иногда многочисленные, целого ряда названий, то
общее количество подобных местообразующих элементов весьма
существенно увеличится. Ниже уместно упомянуть некоторое количество примеров
индексов «мест». Среди них как природные, так и культурные объекты,
созданные человеком, как то, что в любом случае является местообразующим,
так и то, что лишь отсылает к «месту», позволяет его реконструировать. Ср.:
лес, пустошь, низкие места, сторона, чужая сторона, берег, река, море,
остров и др.; город, дача, деревня, земля, мыза, жилище, жилье, дом, изба,
дворец, палаты, зал, квартира, горница, пристройка, кухня, поварня; трактир,
лавка, ряды (торговые), двор (гостиный), «ярманка», ямы (извозчичьи),
станции, мост, набережная, застава; церковь, монастырь, школа, университет
и т.п. Это многообразие местообразующих индексов позволяет говорить
о двоякой проработанности пространства - из некоего центра вширь и из
него же вглубь. Сочетание экстенсивной и интенсивной установок
существенно обогащает картину пространства, восстанавливаемую по письмам
М.Н. Муравьева. Той же цели в конечном счете служит и соположение двух
разных взглядов и оценок пространства - статического и динамического
(поездки, путешествия, изменения видов, неотделимые от движения)...
... стоит вкратце отметить то, чего Муравьев не мог не
видеть в Петербурге конца 70-х и что он успел увидеть из того, что
еще при его жизни исчезло и было заменено новым или прекратило свое
существование в ближайшие десятилетия после смерти Муравьева11. Письма
36
к отцу в этом отношении не могут претендовать на то, чтобы быть
источником соответствующих сведений. Но из писем известна очень высокая
«подвижность» адресата, успевающего нередко за день побывать в разных
местах города и встретиться со многими родственниками, знакомыми,
нужными «по делам» людьми. Учитывая любознательность и восприимчивость
Муравьева, нельзя сомневаться, что он многое видел в самом городе и не
был равнодушен к тому новому, что в нем появилось. Именно поэтому
представляется оправданной постановка вопросов, обозначенных выше. И в
этом случае основным источником является сам Петербург,
свидетельствующий о появлении новых градостроительных и архитектурных
объектов и об исчезновении старых. С большой долей вероятности можно
утверждать, что большая часть происходящего не укрылась от взгляда
Муравьева.
Достоверно известно, что Муравьевы прибыли из Вологды в Петербург
25 октября 1772 г. и, следовательно, к 1777 г., к которому относятся первые
из круга рассматриваемых писем, прошло около пяти лет - срок
достаточный для того, чтобы хорошо ознакомиться с городом в его основных частях
и тем более с его достопримечательностями, имеющими, помимо своего
прямого назначения, еще и отмеченную художественно-эстетическую
ценность.
Тот, кто поставил бы себя на место молодого, 15-20-летнего Муравьева
в середине 70-х годов, увидел бы панораму города, в которой довольно
четко различались два хронологических, соответственно - два «художественно-
эстетических» слоя.
Первый из них имеет прямое отношение к «первоначальному»
Петербургу, к «петровскому» и отчасти непосредственно «послепетровскому»,
т.е. к первым трем-четырем десятилетиям XVIII в.12, к архитектурному
облику города, в котором лучшие здания отмечены ранними формами
барокко («голландское» барокко), и к планировке его макропространства. Этот
Петербург в 70-е годы был представлен преимущественной застройкой на
Адмиралтейской стороне, Васильевском острове и Петербургской стороне,
линиями Васильевского острова, тремя перспективами с выделявшейся
среди них Большой перспективой (Невским проспектом); Летним садом,
членившимся на три сада, и Марсовым полем, еще именовавшимся Царицыным
лугом, Потешным полем и, видимо, Променадом, домиком Петра;
Петропавловским собором, бастионами, куртинами, стенами Петропавловской
крепости, еще не облицованными гранитом (облицовка началась в 1779 г. и
закончилась в 1787 г.); старым Гостиным двором на Васильевском острове,
зданием Двенадцати коллегий там же, Меншиковым дворцом,
Кунсткамерой, старой Биржей, обосновавшейся с конца 1720 г. на стрелке
Васильевского острова; Летним дворцом в Летнем саду; Вторым Зимним дворцом;
коробовским Адмиралтейством, третьим Зимним дворцом; зданием
Конюшенного ведомства; постройками Александро-Невской лавры -
Благовещенской церковью, уже отчасти измененной пристройкой М.Д. Расторгуева,
Духовским и Федоровским корпусами; Кикиными палатами; церквями
Сампсония, лютеранской церковью св. Петра (1730), Симеона и Анны,
Пантелеймона; «обывательскими» домами и прежде всего «домами для
именитых», к которым относились Александро-Невское подворье на 7-й линии
37
Васильевского острова, дом Троекурова на 6-й линии, и другие
«образцовые» строения в «каменных» линиях этого острова, дома Капниста (начало
XVIII в.), Умновой (1-я четверть XVIII в.), Шуберта (1-я четверть XVIII в.),
А.Я. Нарышкина (1736-1738, позже - Воронцова-Дашкова), заводчика
Никиты Демидова (1736-1738, позже - художника А.Ф. Гауша, последнего
владельца), Струкова (1-я треть XVIII в.), Ф.А. Апраксина (1735-1737, позже -
Абамелек-Лазарева), Гагариной (в начале 40-х годов XVIII в.) и др.
Планировка города и архитектурные проекты этого периода связаны с именами
Доменико Трезини, Леблона, Шлютера, Матарнови, Шеделя, Швертфегера,
Земцова, Коробова и других мастеров, чьи имена остаются неизвестными.
Второй хронологический слой - 1740-1760-е годы - время зрелого
барокко и в конце этого периода нарастания тенденций перехода к
классицизму, соответственно - время Растрелли, Чевакинского, В ал лен-Деламота,
Кокоринова и Ринальди, Фельтена, Баженова и др. Большая часть их
творчества прошла при жизни Муравьева, и, приехав в Петербург в 1772 г., он
мог видеть, кажется, всего «петербургского» Растрелли13 - и до сих пор
существующий Зимний дворец (1754-1762), и Воронцовский (1749-1757), и
Строгановский (1752-1754), и Смольный монастырь (1748-1764, вчерне), и
его корпуса (1749-1764), и Летний Дворец в Третьем Летнем саду
(1741-1745), и, вероятно, дом Г.Х. Штегельмана (1750-1753)14; но также и
Никольский Собор (1753-1762)15, и Шереметевский дворец (1750-1755), а
возможно, и дом в усадьбе Демидова (1755-1756, на углу набережной
Мойки и Демидова переулка) Чевакинского; Аничков дворец (1741-1750-е годы)
Земцова16; дворец Петра II, начатый еще при его жизни и достроенный
только в 1759-1761 гг. (архитектор неизвестен); Юсуповский дворец
(60-е годы), дворец И.Г.Чернышева (1762-1768, на месте позднейшего Мариин-
ского дворца, Баллен-Деламот); старое здание Биржи на стрелке
Васильевского острова (до 1783 г., когда началось строительство Биржи по проекту
Кваренги, которому было не суждено завершиться); дом Л.А. Нарышкина
(60-е годы, будущий дом Мятлевых); Андреевский Собор (60-е годы, проект
Виста), Благовещенская церковь (1750-1765), Владимирская церковь
(1761-1769, автор проекта неизвестен), Лютеранская церковь Св.
Екатерины (1768-1771) Фельтена, церковь Трех Святителей (1740-1760, авторство
приписывается еще Доменико Трезини) и др.; Старый Арсенал (1769, по
проекту Баженова); дом Академии наук (1750-е годы, перестроен) на
Николаевской набережной, «Гильдейский дом» (1752-1754), дом «с четырьмя
колоннадами» на углу Итальянской и Садовой (1750-1760), Митрополичий дом
(он же Архиерейский) Александро-Невской лавры (1756-1758),
Просфорный корпус Лавры (1761-1771), дома Сафонова, Веймара, Чичерина (60-
70-е годы) и многие другие.
Но все перечисленные постройки и им подобные для оказавшегося в
Петербурге Муравьева были данностью, хотя он, вероятно, представлял себе
время появления наиболее важных в архитектурном и в других знаковых
отношениях: многие из них имели не только архитектурное, но и
градостроительное значение, формировали лицо Петербурга середины XVIII в. и третьей
четверти его. Но уж тем более должны были привлекать внимание молодого
человека многочисленные и часто долговременные стройки Петербурга,
начинавшиеся раньше, иногда существенно раньше, приезда Муравьева в
38
Петербург и завершавшиеся нередко значительно позже 1777-1778 гг., к
которым относятся рассматриваемые здесь письма. Несколько примеров - здания
Малого Эрмитажа (1764-1775, Валлен-Деламот), Старого Эрмитажа
(1771-1778, Фельтен), Мраморный дворец (1768-1785, Ринальди), Каменно-
островский дворец (1776-1781, Фельтен), Академия художеств (1764-1788,
Валлен-Деламот), Новая Голландия (1765-конец 80-х, Валлен-Деламот, Чева-
кинский), Гостиный двор (1761-1785, Валлен-Деламот, переработавший
более ранний проект Растрелли), Исаакиевский Собор (1768-1802, Ринальди),
Гранитные набережные Невы от Галерного двора до Литейного двора
(1763-1788), решетка Летнего сада (1773-1784), Александровский институт
(1765-1775, Фельтен), Каменноостровский дворец (1776-1781, Фельтен,
Баженов (?)), Чесменский дворец (1774-1777, Фельтен), Князь-Владимирский
Собор (1766-1789, Ринальди, Старов), Троицкий Собор Александро-Невской
лавры (1776-1790, Старов), Лютеранская церковь Св. Анны (1775-1779,
Фельтен), Армянская церковь (1771-1780, Фельтен), Костел Св. Екатерины
(1763-1783, Валлен-Деламот), церковь Рождества Св. Иоанна Предтечи
(1776-1778), Чесменская церковь (1777-1780-е годы, Фельтен), Корпус для
игры в мяч (1771-1773, Кокоринов); дома, построенные в 70-е годы - Абаме-
лек-Лазарева на Миллионной (перестроенный вариант), дом Яковлевых
в Волховском переулке, дом Волконских на Мойке и др.
Подавляющее большинство этих объектов в письмах Муравьева не
упоминается вовсе, хотя кое-что из названного выше все-таки названо, как,
впрочем, и отдельные дома, здесь не отмеченные, но в которых Муравьев
бывал (и иногда часто) у родственников, друзей, знакомых. Поэтому
пытаясь восстановить жизнь Муравьева в Петербурге и то, с чем он в
Петербурге встречался, что видел в нем, нужно иметь в виду и суммарное заполнение
петербургского пространства градостроительными и архитектурными
объектами. Необходимо также помнить, что 70-е годы - время, когда в
Петербурге возникло или возникало-строилось большое количество выдающихся
архитектурных сооружений, с появлением которых постепенно осваивались
новые художественные стили и вырабатывались новые эстетические
моды. Но письма к отцу и сестре - не об этом, и судить по этим письмам
о его отношении к городу в художественно-эстетическом плане едва ли
правомерно.
«МУРАВЬЕВСКИЙ» ПЕТЕРБУРГ
О том, что представлял собою Петербург во второй половине XVIII в. и
особенно в 70-е годы в плане застройки и отчасти архитектуры, писалось
вкратце выше; при этом подчеркивалось, что эти сведения общеизвестны, и
как раз в письмах Муравьева к отцу и сестре 1777-1778 гг. они практически
отсутствуют, во всяком случае Петербург и в своем целом, и в своих частях,
в своем составе остается без оценки и, как правило, не затрагивает чувств
пишущего. Скорее его внимание привлекает в Петербурге природно-метео-
рологическая стихия - и то в ее крайних проявлениях17.
Тем не менее во время, охватываемое его письмами, Муравьев жил
почти все время в Петербурге и лишь «рамочные» письма этого собрания отно-
39
сятся к пребыванию Михаила Никитича в Москве (и в Твери). Но
пребывание в обоих этих городах осознавалось как временное и никак не меняет
общей картины - с 31 июля 1777 г. по 26 февраля 1778 г. Муравьев
безвыездно живет в Петербурге и осознает себя именно петербургским жителем. Все
занятия, все события этих семи месяцев связаны с Петербургом, и сам город
в письмах упоминается около трех десятков раз, не считая постоянного
названия города как хронотопической характеристики письма, ср.:
«Санктпетербург 1777 г. июля 31 дня» и т.п. при каждом письме, обычно
в той части, которая адресована сестре («1777 года августа 7 дня. С.
Петербург. Милостивая государыня матушка сестрица, Федосья Никитишна!). В
самих письмах Санкт-Петербург обозначается как Петербург, Питер или
просто город. Ср.: Наконец имею удовольствие донести о моем вПетербург
прибытии (263); - Напрасно говорят, что переменение климата имеет влияние
и на свойства наши: и под петербургским небом18 столько же я
люблю останавливаться на подробностях, как и при волжских берегах (264); -
Государыня вчерашний день изволила приезжать вПетербург для
Преображенского праздника (269); - Вот уже тому две недели, вчерась минувшие,
что я живу вПетербурге ... (271); - Здесь в Π и τ е ρ е английская
герцогиня Кингстон (272); - Красильников все сие лето вПетербурге не
был... (278); - Вчерась, т.е. в Александров день, Государыня одна быть
изволила вПетербурге (283); - Завтра хотел бы я быть невПетербур-
г е (288); - В народе всклепали на Эйлера, будто бы он пророчит
преставление света... - Не в одном народе, даже в городе утверждали за подлинное
(288); - Государыня изволила приехать в город 9 число к обеденному
кушанью (289); -У петербургского архерея так долго сидят за столом,
что мирские прелести не пойдут на ум (295); - На 25 число в ночь был здесь
весьма сильный ветер и тревога в городе (298); - Кланяйся, матушка...
моим милостивым государям, которые, может быть, скоро будут в Питер
(301); - Что будут говорить по г о ρ о д у для того, что письмо сие тайно
прибыть не может (311); - Здесь в городе все подписываются (на журнал
«Утренний свет». - В.Т.) (311); - ... и Тверь, я думаю, захочет подражать
Петербургу (311);- Никто не размеривает более шагов своих в Π и τ е ρ е,
как я (314); - Чистосердечно обитает в добродетельных; а в городе не все
смеют быть добродетельными (315); - Правда, сударыня, что в
Петербурге жить можно весело ис людьми, но ежели прежде можешь жить
с собою (316)19; - Я приехал вПетербург и, слава Богу, здоров... (317); —
Сочинение, которого вы от меня требовать изволите, будет под заглавием
«Письмо о теории движения... к Г... адъюнкту Санкт-Петербургская
Академия наук» (324); - Простите мне, милостивый государь батюшка, что я
моею леностью, моею оплошностью так долго продлил свое вПетербур-
г е житье (344); - ... к сожалению моему слышу, сколько вы, милостивый
государь батюшка, беспокоитеся моим замедлением в Петербурге
(345); -ВПетербурге есть недовольные (349); - Ma chère, si vous étiez à
Pétersbourg, peut-être y serais-je plus souvent... (349).
Михаил Никитич Муравьев часто, много, подолгу хаживал по улицам,
площадям, набережным Петербурга, выходя из дома и по делам, и на
прогулку, и отправляясь в гости, в театр, в Академию или Александровскую
40
библиотеку, в книжную лавку и Летний сад, наконец, в полк, в роты, в
«школу» и т.п. Исходным пунктом этих путешествий по городу было то, что
Муравьев называет домом. Этот дом был центром «муравьевского»
петербургского пространства, хотя дом для военного человека не мог иметь
абсолютного значения: человек подчиненный и зависимый, хотя и
обладавший довольно большой свободой распоряжаться своим временем, он все-
таки в любой день мог быть куда-то переведен или послан, и подлинным
домом был для него дом отца и сестры и не столько в его материальном
воплощении, сколько душевно и духовно. Петербургский дом Муравьева в
описываемое время, конечно, носил на себе черты относительности, но
молодой человек с активными интересами во вне вовсе и не требовал от
дома чего-то иного, но в своих письмах упоминал свое местожительство как
дом неоднократно20, помня одновременно и о том, что вне дома.
Говоря о Петербурге, Муравьев упоминает некоторые крупные
части города, чаще всего Васильевский остров (После обеда иду на
Васильевский остров к Ивану Матвеевичу с письмами (266); -
Вчерась и третьего дни обедали мы с Иваном Матвеевичем у Ивана
Матвеевича21 на Васильевском славном... (269); - Обедал я вчерась у Васи-
лья Евдокимовича (Адодуров. - В.Т.), откуда ходил на Васильевский
остров к академическому инспектору ... Итак, я опять на
Васильевский остров, где и ночевал (286); - Я был на Васильевском
острове у дядюшки (289); - Прошедший понедельник писал я к вам с
Васильевского острова и два раза (298); - Но как я сегодня
дома не обедал, так дядюшка с другим дядюшкой... уехали на
Васильевский остров (344); - Мы все обедали на острову у дядюшки (348)),
совсем редко остальные -Литейную, скорее даже улицу с
окрестностями, чем Литейную часть (Не было воды только у Владимирской и частью на
Литейной (290), ср.: С крепости ударили в барабан. Множество выехали
на Литейную (298)); Выборгскую сторону (По утру был я на
Выборгской стороне у Хемницера (343)), Галерную гавань
(В Галерной гавани люди спасались по кровлям, и несло домы
(290))22, Каменный остров (Нынешний день был я у Домашнева, он
недавно переехал сКаменного острова, где он все лето жил (288)).
Из улиц Петербурга в письмах Муравьева тоже упоминаются лишь
очень немногие (а площади и вовсе отсутствуют). Это - Литейная (см.
выше), Большая Морская (Живет (Анна Андреевна Муравьева. - В.Т.)
теперь в доме Александра Андреевича (Волков, брат A.A. Муравьевой. -
В.Т.) для того, что свой каменный дом вБольшой Морской
переделывает (268)), Владимирская (Не было воды только у
Владимирской (290) (речь здесь идет об улице, а не о церкви, давшей название
этой улице - В.Т.)), Пятая линия Васильевского острова (... между
прочим, купил (дядюшка М.Н. Муравьева. - В.Т.) себе дом вПятой
лини и ... (348)), Седьмая линия того же острова (...на острову по
набережной в Седьмой линии - большая барка с сеном, Седьмая
линия занесена пребольшими пластинами, так что пройти трудно (290)
(после наводнения в сентябре 1777 г. - В.Т.)).
Бросается в глаза, что при постоянном и многом хождении по городу
автор писем так скудно упоминает и отдельные большие и в известной
41
степени самодостаточные части, как, например, Городской остров
(Петербургская часть), Крестовский остров, Лисий остров (будущий Елагин),
Петровский остров, Аптекарский остров, Охта, три Адмиралтейские части,
Московское, Александро-Невское и Лифляндское предместье и такие
важные перспективы, улицы, дороги, как Невская, Гороховая, Вознесенская
перспективы, Загородная дорога (будущий Загородный проспект), Садовая,
Конюшенная, Троицкая ул. (до этого - Троицкий переулок), Большая
Мещанская (будущая Казанская), Большая перспектива (будущий Большой
проспект Васильевского острова), Большая дорога (будущий Большой
проспект Петербургской стороны) и многие другие важные улицы и дороги,
в отношении которых нельзя сомневаться, что Муравьев не только знал их
названия, но и , несомненно, бывал на них. Такая редукция больших частей
Петербурга и «уличного» состава города может показаться довольно
странной, но на это есть целый ряд объяснений.
Прежде всего в письмах М.Н. Муравьева, особенно отцу, главное -
люди и события, кто и что, а не где и как. Стиль писем живой и
непринужденный, и сообщение маршрутов было бы ненужным утяжелением. К тому же,
и сам Никита Артемонович достаточно хорошо представлял себе, где, кто и
что находится в Петербурге. В этом и сын и отец были едины: для них локус
имел несомненное преимущество перед путем к нему, маршрутом, а
большинство локусов были известны обоим и в повторных указаниях адресат
не нуждался.
Весьма существенно и другое объяснение. Нельзя забывать, что в 70-е
годы XVIII в. Петербург по своим рамкам весьма существенно отличался от
того, что известно о нем 30-40 лет спустя. Он был довольно невелик, и
разные его части были разъединены в гораздо большей степени, чем после
того, как был построен первый постоянный мост через Большую Неву
(1850) - Николаевский. Во время, к которому относятся рассматриваемые
здесь письма Муравьева, через Большую Неву существовали только два
наплавных (т.е. по необходимости временных) моста, не функционировавших
во время ледостава и ледохода, - Исаакиевский и Воскресенский. Попасть
на Петербургскую, Выборгскую стороны, на Охту пешеходу было
несравненно труднее, чем в XIX в.
Границы и состав Петербурга 70-х годов XX в. хорошо известны по
историческим источникам, и наглядно их можно представить себе по цылов-
скому плану, относящемуся как раз к 1777 г., когда было написано
Муравьевым 51 письмо из 6723. В самом деле, Васильевский остров к этому
времени был освоен не более чем на треть. Основной непрерывный массив
застройки находился в юго-восточной части острова - от Стрелки примерно
по 16-17-ю линии (от Смоленки до Большой перспективы), как бы
останавливаясь перед будущей Васиной деревней, и лишь узкая полоска застройки
протягивалась в полосе, примыкающей к Неве, несколько западнее, до
Горного Училища. Кроме того, небольшая и жалкая застройка существовала в
Галерной гавани, в западной части острова, к северу от Большой
перспективы, в заболоченной, заросшей хвойным лесом местности, постоянно
страдавшей даже от небольших наводнений24. - Застройка Петербургской
стороны в основном концентрировалась во времена Муравьева по оси будущего
Большого проспекта, отчасти в юго-восточном углу острова и в Колтовской
42
слободе на западе острова. К югу от Карповки в этой части острова было
много незастроенных мест, и это положение сохранялось весьма долго.
Аптекарский же остров, составлявший северную треть Петербургского
острова, практически был пустынен, как и почти четверть века спустя, когда
В. Попугаев описал это место в своей повести «Аптекарский остров или
бедствия любви» (1800)25. Тем более пустынен был Крестовский остров. С
конца 70-х годов, когда И.Л. Елагин стал владельцем названного позже по его
имени острова (ранее - Лисий нос), территория острова начала
благоустраиваться - разбивается парк, сооружаются пруды и каналы, начинается
строительство ансамбля усадьбы. В те же 70-е годы на Каменном острове на
месте усадьбы Бестужева-Рюмина начинает воздвигаться Каменноостровский
дворец, и тем не менее все эти острова (как и Петровский остров) в это
время не имели (что отчасти и сохраняется до настоящего времени) по сути
дела ни городской застройки, ни городского населения. Южная граница
города в 70-е годы доходила на отдельных участках до линии будущего
Обводного канала, но эта южная полоса пестрела пустотами. Восточная часть
невского левобережья была занята Александро-Невским предместьем, строго
говоря, не входящим в городскую структуру, и пустоты занимали больше
места, нежели застройка. Обширные пространства к северу и востоку от
Большой Невы и Невы (правобережье) не только не входили в черту
города, но и были практически лишены застройки кроме отдельных небольших
участков по берегам этих рек на Выборгской стороне и на Охте, где
сохранялся исходный природный ландшафт.
Из этого краткого обзора видно, что столь существенная
ограниченность городского пространства Петербурга в 70-е годы XVIII в. также
многое объясняет в неупоминании или редком упоминании в письмах
Муравьева обозначений и больших частей города и улиц или площадей:
автору писем или не приходилось бывать на этих пустых или полупустых
пространствах или, если он там и бывал, то он не находил того, о чем
можно было упоминать.
И, наконец, еще одно объяснение того же самого феномена. Оно
касается самой застроенной (и довольно густо) и самой заселенной территории
Петербурга - Первой и Второй Адмиралтейских частей, составляющих
центр города и непосредственно примыкавших к этому центру Третьей
Адмиралтейской части (с юга) и Литейной части (с востока). Но именно в
этом центре Петербурга и смежных с ним частях города все было известно -
от состава «заполнения» этих частей до расположения основных объектов
этого заполнения. Дворцы, правительственные и другие официальные
учреждения, объекты культурного назначения, дома известных горожан,
территории полков, расположенных в городе (и их казарм), церкви, набережные,
мосты и т.п. достаточно густо заполняют письма Муравьева и существенно
расширяют «муравьевскую» топографию. За всеми этими объектами
«заполнения», конечно, стоят улицы, площади, набережные и
соответствующие адреса, но указаний их местоположения не нужно, потому что
экономнее говорить о самих объектах. Их много, и они высоко эффективные индексы
заполнения городского пространства и его основных локусов, расположение
которых известно и адресату писем. Вот основные из них: Государыня
вчерашний день изволила приезжать в Петербург для Преображенского
43
праздника и кушать вЛетнем дворце, откуда через сад проходила на
набережную пешком (269); - оттуда ходил во дворец к Петрову,
которого не застал (285); -Во дворце в погребах потонуло 18 чел(овек) (290); -
На вчерашнем бале во д в о ρ ц е был ужин для генералитета (336); - В этот
день при дворе великие новости (296); - В прошедшую пятницу был при
дворе маскерад, в котором и я был (323); - При дворе сегодня не
было ничего объявлено... (ЗЗЗ)26; -вСенате эксекуторы пожалованы
новые (274); - Матвей Артемонович меньшой приехал по требованию Сена-
τ а (344); - Матвей Артемонович меньшой ... завтра подает письмо генерал-
прокурору и челобитную в Сенат (347); - ... и в вечерни был сигнал с
Адмиралтейства тремя выстрелами (304); -Скрепости
(Петропавловской, по случаю наводнения. - В.Т.) ударили в барабан (298); - Я знаю,
что в нем содержалось что-нибудь и от Собрания ... В Собрание
наше принят членом Зорич (316); - Это было год, как я принят в С о б ρ а -
н и е (323)27; - Что губернатор получил приглашение в
Экономическое общество, сие сделано в исполнение их устава (324); - Самойлов
заседает в 1 департаменте (299); - Приказ общественного
призрения потеряет через это (294); - Он пишет в коллегию
(290); -... за запрещением коммерц-коллегии не приступают к
расплате (319); - ...привез мне радостное известие, что вы уж вступили в к а -
зенную палату (316); - ...в плане, данном Академии Петром I,
сие самое сделано одною из должностей академика (294); - ...Хвостов,
сенатский переводчик, с которым я еще вАкадемии учился (297)28; -
Нынешнее утро был яв Академической библиотеке (279); - ...мне
надобно было зайти вакадемическую книжную лавку (312); -
оттуда пошел я к Миллеру (имеется в виду его книжная лавка. - В.Т.) и с час
рылся в книгах (285); - Новый актер и новая актриса (Прасковья Петровна
Черникова. - В. Т.) явились на τ е а т ρ е (280); - ...обедал у меня Ханыков и
просил меня изо всей мочи в τ е a τ ρ (282); - Часто ли бываю в τ е а т ρ е?
(284); - Того же дня после обеда, будучи в τ е а т ρ е, увиделся я с Семеном
Саввичем Муравьевым (285); - И жену и дочь видел при выходе из τ е а т -
ρ а (285); - Правда, что один раз в театре я не мог внимательно слушать
комедии и всю ее прозевал (288); -Театр открылся, обещают новую ита-
лианскую оперу (299); - Был в театре, представляли "Федру"»
(317-318); - С завтра зачнется театр (336); - Завтра маскерад (322); -
В прошедшую пятницу был при дворе маскерад, в котором и я был
(323); - Я, сударыня, был вмаскераде и застал несколько оперы
(323); - ...в четверг будет маскерад, говорят, будто их три будет друг за
другом (336); - У нас м а с к е ρ а д ы: на двух уже я и был, в четверг третий
(337); - Я нынешний вечер буду вмаскераде: это уже третий (339); -
...иные говорят, будто нынче маскерад. Ая слышал так завтре (342); -
От Киприана Иановича и жены его, которых я вчерась вмаскераде
нечаянно увидел, к сожалению моему слышу... (345); - В пятницу был я в мас-
кераде до четвертого часу (349); - Инде все дровами устлано, в
деревянном гостином дворе на аршин воды было. С каменного
крышу сорвало ветром (290); - Наш Красильников приказал в середу
выходить и с векселем на гостиный двор (313); - теперь едем еще в ρ я -
д ы кое-что покупать (353); - С(естрица) с сестрами... только теперь что
44
съехали в ρ я д ы (354); - Он ей советует занять в б а н к е, чтоб выкупить
(304); - Ошибкою почтамта, вместо того, чтоб послать в Тверь,
послали они в Москву (333); - Вчерась... нашел я у себя дядюшку Льва
Андреевича, который приехал по делам своим в б а н к е на несколько дней (322);
- ... оттуда я в "Лондон", там расспрашивать: нет его (285); - Он (князь
Козловский. - В. Т.) стоит и в "Любеке" (285) (речь идет о гостиницах в
Петербурге. - В. Т.); - Третьего дни обедал я с Анной Андреевной (Муравьевой. -
5.Г.)ваглинском трактире (326); - Подполковника ждали
вчерась из дивизии (266); -... прежде был он в дивизии (268); - ...а мен-
шой недавно сержантом вПреображенском полку (285); -...
ходил потом к Ермолову вПреображенский полк (285); - ... уж
казалось, будто я и впрямь офицер Преображенского полку
(285); - ... мой проект о переводе вПреображенский полк
остался без открытия (286); - О переводе меня в Преображенский
полк думает он через Петрова (294); -ВПреображенском полку,
сказывают, мал будет доклад... (321, ср. там же - в нашем π о л к у); - ... в
Преображенском полку две или три ваканции... (322); - Захар
Матвеевич переведен в здешний Канонерский полк (320); - Строи
в кадетской роте на сих днях кончатся... он (Н.В. Леонтьев. - В.Т.)
отдавал ротному писарю переписывать... установления для нашей роты
(266); - Я не обязан еще никакой должностью ни от ρ ο τ ы, ни от ш к о л ы:
нас оставлено на воле (276); - В ш к о л у вступили нынче (272); - В ш к о -
л у я свою ни ногой (280); - Нынешнюю неделю я наряжен на дежурство в
школу (321); - ... нынешнюю неделю явшколе на дежурстве (321); -
Вчерась, пришел изшколы в полдень, нашел я у себя дядюшку Льва
Андреевича (322); - Завтре маскерад, где разве по распущении школы я
буду ли иль нет (322); - Сие письмо пишу я, зашедши домой из ш к о л ы...
(342); - ... я писать более не могу затем, что должен бежать в школу
(342); - И ежели нет спокойства в себе, так нет его и в монастыре
(295); - Гора растворялась, и выходили девицы маленькие измонасты-
р я (336); - Она (Настасья Федоровна Муравьева. - В.Т.) хочет переменить
монастырь (339); - Настасью Федоровну отвезли вчерась в монастырь
(352); Вознесенская (церковь. - В. Т.) не нравится мне своей
архитектурой. Подворье Псковское далеко. Быть у Вознесенья,
ежели невполковой, 303 (Псковское подворье с Андреевской
церковью, перестроенной по проекту А.Ф. Виста в 60-е годы XVIII в. находилось
на Васильевском острове, на углу Шестой линии и Большой дороги;
полковая деревянная церковь Измайловского полка - Троицкая - стояла на месте
будущего одноименного каменного собора, построенного в 1835 г. - В. Т.); -
Он живет у Семионовского мосту, вАничковском доме (285); - Они
живут уАничкова (моста. - В. Т.) (313); - Дядюшка ... хочет здесь
купить дом Фаминцина (286); -Воронцова дом был наполнен
людьми (298); - Я нынешний вечер ... еду в дом Бакунина (328); - и
письмо мое было послано в дом Александра Андреевича Волкова
(347); - Он (дядюшка. - В.Т.) ...купил себе дом в Пятой линии у
Дан(ила) Афан(асьевича) Мерлина (348)29 (к этим домам, конечно, должны
быть присоединены многочисленные, но специально по имени не
называемые дома, где часто бывал Муравьев, - родственников (особенно дядюшек),
45
друзей, знакомых, в частности и писателей, о чем говорилось выше. - В. Т.). -
Он живет уСемионовского мосту (285); - Вода, сказывают, к
Измайловскому мосту выступила (304); - Могу ли я утонуть, хотя
через тот твердый и безопасный мост, каков Невский? (314); - Вчерась
на перевозе к Академии слышал я, что рассуждают о кометах
(288); - Государыня ... через сад проходила на набережную пешком
(269); - ... я, идучи тихонько, не один раз останавливался, особливо по
набережной, чтоб насладиться видом Невы и ее окрестностей (312).
Все это много- и разнообразие о б ъ е к τ о в30, заполняющих
пространство Петербурга в письмах М.Н. Муравьева, позволяет говорить не просто
о Петербурге 70-х годов XVIII в., но именно о «муравьевском» Петербурге,
выстраиваемом не только необходимостями, навязываемыми
петербургской жизнью молодого солдата или сержанта, ноисобствен-
ным выбором автора писем: никто не заставлял его ходить в
Академию и в ее библиотеку, в театр, в «маскерад» или в гости к известным
писателям того времени. Здесь все определялось желанием, внутренней, из
своих собственных потребностей вырастающей целью и личным выбором
путей к этой цели.
Картина Петербурга как «заполненного» пространства не была бы
полной, если пройти мимо его «природного» заполнения, с о д н о й стороны,
«культурного» - вплоть до «малого» универсума человека - дома-жилья в
его внутреннем устройстве или тех средств, без которых жизнь человека в
петербургском пространстве была сильно затруднена, с д ρ у г о й, и,
наконец, «природно-культурного» заполнения (усвоение «культурой» и
подчинение себе «природных» данностей), стретьей стороны.
Без этих начал описываемый в письмах город не был бы Петербургом:
ни его «внешняя» ширь и соприродность космическому или хтоническому,
ни тепло и чревность «внутренней» жизни человека,
материально-физической и душевно-интеллектуальной, не были бы поняты.
Воды, пути сообщения, рельеф, хотя и не часто, но достаточно
характерно обозначаются в письмах Муравьева. На первом месте, конечно, Нева, и,
хотя обычно речь идет о Большой Неве, об основном русле реки, но, можно
думать, Нева для Муравьева едина в сумме составляющих ее Нев с их
спецификациями, которые особо нигде в письмах не упоминаются31. Только Нева
и Фонтанка упоминаются в городе, где реки и каналы столь обильны даже
только в ограниченном пространстве трех Адмиралтейских частей. Вот
«речный» словарик Петербурга муравьевских писем, еще более
ограниченный, чем реальный словарь гидронимов этого «центрального» городского
пространства: - О Тверь! иславная нагорна сторона, I Ты Волгой
матушкой, не чем же вить, с л а в н а; \ с л а в н а, с л а в н а и здесь не
слышна (поливою), I покорный ваш слуга, сФонтанкой и H e в о ю... (269,
в шутливом стихотворении из приписки к сестре); -УФонтанки по
краям замерзло или застыло (302); - ... не один раз останавливался ... чтоб
насладиться видом Невы и ее окрестностей (312); - Вчерась стала H e в а; по
Фонтанке уж ездят, по H e в е положили доски (318); - Ив(ан) Матв(еевич)
за рекой (323); - Нашего полку первый капитан-поручик Леонтьев
прошлого года, переходя Фонтанку, утонул (339); - Его проводил я до
реки (349). Если Нева и Фонтанка почти ежедневная реальность для
46
Муравьева, то о море он вспомнил лишь при наводнении - ... всю ночь
стоял преужасный ветер с м о ρ я (290), и тогда «вода сравнялась с
горизонтом, авнизких местах и взошла на него» (298)32.
Не раз упоминаются дороги, ср.: Как-то, даст Бог, дойдет, а то
прежде сего по дороге пошаливали (279); - Наместнику есть нынче толчок по
делам о дорогах (296); - ...тысячи других мелкостей, которых и не
предвидишь, особливо когда отправляешься в дорогу, встретятся (351); - А
как теперь дорога немного поиспортилась, то думаю, что не прежде
восьми дней буду в Твери (351); - порукой в том погода, которая ежечасно
портит дорогу (352); - Ему уж нынешний день неделя в пути (281). Эти
дороги и пути, конечно, находятся далеко за пределами Петербурга, но
ведут, в частности, и в него и из него, ср. Сарскосельскую дорогу (см.
выше). В 70-е годы были дороги и в окраинных частях города, в
предместьях, где нередко находилась застава, после которой дорога спустя какое-то
расстояние или сразу могла переходить в улицу (у Руки, по Сарскосель-
ской дороге, не доезжая заставы, 285 - таков временный адрес Михаила
Никитича Кречетникова). Но улица, как правило, отсылает к
«городской» структуре (ср. о последствиях наводнения - Теперь еще куда ни
пойдешь, на всякой улице позорище, 290). Некоторые из них
именовались по схеме Adj. & дорога, что и было их названием.
Но то же самое петербургское пространство заполнено и объектами
«культурного» происхождения, представляющими слой культуры, чаще
всего не высокого уровня, обслуживающей людей с ограниченными
потребностями и невзыскательными в отношении жизненных условий. К этому
кругу относились какие-то несложные помещения для жилья, какого-либо не-
мудренного производства или какой-то городской службы. Но иногда
упоминаются в письмах Муравьева и отдельные части таких помещений или
средства, отвечающие некоторым довольно элементарным запросам
жителей Петербурга. Несколько примеров, поневоле разнородных: - Ульяна уже
подавала свое мнение, что делать спристройкою (285); -Вповар-
н е нашли кухарку всю в слезах (288); - Оттуда заезжал вкараульню
к Захару Матв(еевичу) (323); - У нас много стекол
повыбило ... M о с τ снесло иплашхоты разбросало по с в а я м ... люди
спасались по кровлям, и несло дом ы... И у нас снесло мост. Дюйма на три
была вода в наших горницах. Мы все носились начердак;вкухню
ездили на π л о τ у (290); - ...куда ни пойдешь... поваленные заборы,
пожитки жителей, груды к о к о р... на острову по набережной... -
большая барка с сено м... Белье, платье, соболи- все
перемочено... впогребах потонуло 18 чел(овек). Галиот перед ним поставлен
на сваях. Сколько барок занесено, изломано! Везде из нижних
ж и л ь е в отливаются. Инде все дровами устлано ... крышу сорвало
ветром ...палаты шатались (290); - Говорят, что уж будто и поменее
народу впередней (338) и др. Наводнение, своей стихийной силой все
перевернувшее вверх дном, переместившее все, что можно, вывело многое из его
привычного контекста, как бы способствовало остранению этого многого,
позволило увидеть его в новом и непривычном свете и тем самым
обострило зрение наблюдателей, замечавших то, что в обычном состоянии не
привлекало к себе внимания.
47
ПРИРОДНО-ПЕИЗАЖНОС И АТМОСФЕРНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ
Конечно, Петербург 1777-1778 гг., современный письмам Михаила
Никитича Муравьева, не может быть сведен только к городской
структуре, большим частям, на которые город делится (вернее было бы, видимо,
сказать - распадается), улицам, площадям, набережным, рекам,
застройке разного типа и разного назначения, к населению города, о чем уже
писалось в разных частях этой книги раньше. В нем есть многое важное,
которое мало зависит от человека или, напротив, только от него и зависит,
являясь и его порождением, и его пищей для ума, души, чувств человека.
Это «второе» важное весьма субъективно, и отношение к нему разных
людей существенно разное, особое, индивидуальное. В этом смысле
Муравьев не был исключением, но его индивидуальное переживание э τ о -
г о важного и его творчество, его роль в развитии и распространении
того, что через полтора века назовут «ноосферой», были и существенны и
индивидуальны, отмечены чертами его личности, и потому особенны и
существенны, даже когда речь идет о явлениях, независимых от человека
и как бы для всех одинаковых - по крайней мере в физическом плане,
хотя значащих разное для разных людей. Именно поэтому здесь в центре
внимания «муравьевский» Петербург, переживания, рефлексии и
их фиксация именно Муравьевым.
При известной неразвитости религиозного чувства Муравьев, как
показывают и его художественные произведения и некоторые записи, а
также другие, здесь не рассматриваемые эпистолярные опыты, не был
равнодушен к природе в разных ее проявлениях, был чуток к ней,
проницателен, склонен к переживанию природных явлений и испытывал
потребность в той или иной форме фиксации этих переживаний. Что
эстетическое чувство Муравьева распространялось и на природу, не может
вызывать сомнения: и стихи, и прозаическая трилогия, и письма, и
многое другое свидетельствуют об этом. Достаточно обратиться к его
письму к отцу от 6 ноября 1777 г. Кратко сообщив отцу «существенное»
(«Завтра ожидаю вашего письма, и сам завтра писать к вам буду, с чем и
перешлю месяц октябрь «Утреннего света»», 312), сын, зная, что отец
ждет от него делового отчета о здоровье, встречах, деятельности, не
может удержаться, чтобы не сказать о том, что сильнее всего затронуло его
за «отчетный» период:
Сегодня был прекрасный день, и я, идучи тихонько, не один раз
останавливался, особливо на набережной, чтоб насладиться видом Невы и ее
окрестностей: это еще первый мороз, но такой, что с жарким
солнечным сиянием его почти и не слышно33. Вместо того, что накануне грязь
было по колено, нынче не замараешь ноги. Тонкий тума н34, теряющий
почти синеву свою в солнечных лучах, стоял вокруг берегов.
Мне было мило, что я петербургский гражданин: вить все делает
воображение. Чувства наши таковы, что представления столько нас прельщают,
сколько мы хотим предаться прельщению и сладостным чувствованиям или и их
противным. Вот для чего стоики, может быть, и не совсем не правы, утверждая, что
истинный мудрец неразнствен к боли и удовольствию. Природа сама собою
ненавидит печальных представлений; но мягкость нравов и воспитание придают нам новые
чувства, владычество которых становится отяготительно. Сарданапал лучше хотел
48
сжечься, нежели вообразить лишение роскоши... Вот называется умствовать ни к
стати, ни к числу. Но я затем и прошу извинения ... В извинении имею я еще менее
удачи нежели в умствовании (312-313).
Нередкий случай последовательности яркого впечатления от
природного явления, его описания, философского осмысления и непременного
извинения. («Видите, каким помелом пишу; право нельзя» (263), - заключает
Муравьев письмо к сестре от 26 июля 1777 г.). Он, конечно, понимал, что не
всегда писал то, чего ждал от него отец, что иногда он сообщал то, что
занимало его самого, что порой его заносило, но это случалось тогда, когда
нечто было важно для него самого и он не считал для себя возможным не
поделиться впечатлением от того, свидетелем чего он был, с отцом. Вот,
например, письмо от 26 июля 1777 г. о том, как он выехал из Твери: «Дождь
шел беспрестанный, исолнца я не видал, выехав из Твери» (262) и
после некоторых сведений о путешествии в том же письме о том же: «Тьма
такая, что хоть глаз выколи ... дождь идет ужасный» (263). Путешествие
продолжается и в следующем письме от 31 июля опять о дожде -«День
был прекрасный, так все были на сенокосе. Особливо же как время
стоит дождливое, так эдакова дни им ни за что променять было не
можно» (264). - «Нынешний день только убрался идти, чтоб разносить письма,
дождь пошел и поневоле остановил дома» (266).
Атмосферные явления, похоже, имели особую власть над Муравьевым,
и он последовательно отмечает их в своих письмах. Ср. в первом письме от
8 мая 1777 г. из Москвы:
А с Черной грязи ехал без ямщика, для того что он убежал в лес. - В самое сие
время прогремел здесь гром. Все утро лил сильный дождь. А вот и еще
д о ж д ь, а я хотел ехать обедать к Майкову. -Сильный гром. Льет
величайший дождь, остался я. Д о ж д ь отнимает силы писать (259),
и непосредственно вслед за этим - самоодергивание:
«Где я эдак переучился врать? Мне много писать важного, а я мелю чепуху»,
(260)35; - Здесь были дней несколько ясных и хороших. Третьего дня стоял
ветер, вчерась и более того, а ныне тише (275).
Но особенно природная стихия в своей необузданности и
разрушительности захватывала Муравьева во время наводнений. Ему «повезло» в том,
что он видел 10 сентября 1777 г. одно из самых значительных наводнений в
Петербурге (321 сантиметр выше ординара), сопровождавшееся бурей. В
результате ее самые высокие и лучшие деревья на Васильевском острове и в
Коломне были вырваны с корнем. По преданию, небольшой купеческий
корабль проплыл мимо Зимнего дворца поверх каменной набережной (371).
Письмо отцу от 12 сентября позволяет считать текст Муравьева ценным
историческим источником, свидетельством страшного опустошения города и
гибели весьма многих людей:
На десятое число всю ночь стоял преужасный ветер с моря. У нас
много стекол повыбило. В пять часов поутру валом прибыла вода на 9 футов и 11
дюймов, или четыре аршина с четвертью. За двадцать лет назад было также
большое наводнение, но на полтора аршина меньше нынешнего. Мост снесло и плашко-
ты разбросало по сваям. В Галерной гавани люди спасались по кровлям, и несло до-
мы. Не было воды только у Владимирской и частью на Литейной. У нас, я думаю,
49
на аршин и более было. Рыжак стоял по брюхо в воде. Убывать стало в девятом
часу понемного и наконец везде вдруг осушилось. Людей почитают с тысячу утопших,
другие - три тысячи. Убитых полагают миллионами, но верно сказать не могу. И у
нас снесло мост. Дюйма на три была вода в наших горницах. Мы все носились на
чердак; в кухню ездили на плоту, и Иван Матвеевич варил кашицу из ветчины.
Теперь еще куда ни пойдешь, на всякой улице позорище печали и разорения,
поваленные заборы, пожитки жителей, груды кокор нанесенных, на острову по набережной
в Седьмой линии - большая барка с сеном. Вся Седьмая линия занесена
пребольшими пластинами, так что пройти трудно. У Олены Петровны в полокна было воды.
Белье, платья, соболи - все перемочено. Корова утонула, девчонку насилу
откачали. Во дворце в погребах потонуло 18 чел(овек). Галиот перед ним поставлен на
сваях. Сколько барок занесено, изломано! Везде из нижних жильев отливаются. Инде
все дровами устлано, в деревянном гостином дворе на аршин воды было. С
каменного крышу сорвало ветром. У дядюшки в это время было загорелось, и он говорил,
будто палаты шатались. Но мы не приметили ни малейшего знаку землетрясения ...
Мы, слава Богу, все здоровы (290-291).
Хаотическая сила буйства стихий приобретает в сознании описателя,
кажется, всеобщий, универсальный характер. Все и всюду - на небе, на водах,
на земле (недаром мысль и чувства были уже настроены на землетрясение,
которое, вопреки ожиданиям, не состоялось) - смешивается, а это
смешение, пресуществление порядка и формы в беспорядок и бесформенность -
верный знак начинающегося светопреставления, и это убеждение получило
широкое распространение. Непосредственно перед наводнением (и об этом
Муравьев пишет отцу в письме от 7 сентября, когда никаких сколько-нибудь
видимых признаков наводнения не было36, а содержание описываемого
относилось к еще более раннему времени) ученейший Эйлер в начале,
казалось, благословенного бабьего лета, после дурного лета, которое,
собственно, и обнаружило себя в тот несколькими погожими деньками, взбаламутил
горожан своим страшным предсказанием:
Здесь начало сентября обещало нам хорошее время. В самом деле, дней
с пять, кажется, пользовались летом37. В народе всклепали на Эйлера, будто
бы он пророчит преставление света: он, бедный, на
старости, сказывают, не знает, что делать (288).
Но если бы только Эйлер! Но ведь того же ждали и в простом народе, и
в самом Петербурге, соединяясь с Эйлером в ужасных предчувствиях:
Не в одном народе, даже в городе утверждали за подлинное. В поварне нашли
кухарку всю в слезах: - «О чем ты плачешь?» - «Эйлер предсказал преставление
света». - Вчерась на перевозе к Академии слышал я, что рассуждают о кометах.
Будто уж одна есть; другая тот год будет. Зорич, сказывают, упражняется в раздаче
денег всем неимущим: первое сентября в день его именин что-то ему пожаловано, и
указ в присутствующие места - давать везде деньги под расписку (288).
И это за полторы недели до генеральной репетиции светопреставления!
И уже после нее, в письме к отцу от 14 сентября, Муравьев, возвращаясь
к происшедшему, пишет:
Урон людей в нынешнее наводнение не столько велик, как я писал, а разве есть
человек триста. Герцогини Кингстон корабль посадило на мель ... Дни у нас очень
дождливые. Кн. Петр Ник(итич) [Трубецкой (1724-1791), сводный брат М.М.
Хераскова, в 1777 г. - камергер, «почетный любитель» Академии художеств. - В. Т.) был
50
еще на приморской даче и насилу спасся, севши в лодку, нечаянно прибитую, и с
дочерью и привязавшись к верху строения. Убыток миллионов на шесть, как молва
идет. Вчерни пророчили на вчерашний день потоп и на нынешний.
Поговаривают, но скрытно, о войне с теми же (292).
Такова была общественная атмосфера в Петербурге в сентябре того
года - и не только в сентябре. Природа и ее главная деструктивная сила в ту
осень Нева, противоборствующая с ветрами, обратными ее течению, не
переставали пугать жителей северной столицы. И уже в конце сентября, через
две недели после катастрофического наводнения 10 сентября, - новая
тревога и паническое состояние жителей, о чем Муравьев сообщает отцу в
письме от 28 сентября:
На 25 число в ночь был здесь весьма сильный ветер и тревога в городе: вода
сравнялась с горизонтом, ав низких местах и взошла на него.
Пальба была по предписанию. С крепости ударили в барабан. Множество выехали на
Литейную; Воронцова дом был наполнен людьми. Всякий нес с собой что-нибудь. По
утру был град и снег (298-299).
И еще через две недели - в письме к сестре от 10 октября:
Вчерась выпал снег, который и теперь лежит. Холод здесь по термометру
градусом выше замерзания воды. У Фонтанки по краям замерзло или
застыло (302).
Еще через несколько дней - в письме к отцу от 16 октября:
Нынче преужасный ветер, ив вечерни был сигнал с Адмиралтейства
тремя выстрелами. Вода, сказывают, к Измайловскому мосту подступила (304).
Спустя две недели, уже попривыкши к постоянным неприятностям
природы, в шутливом тоне адресованной сестре записке от 30 октября:
Не вздумай, что я с ума сошел: по эдакому воображению не трудно это
заключить. Умишко мой здоров: ни град, ни наводнение его не испортили
(310).
А в письме от 6 ноября к отцу Муравьев уже рассказывает, как он
вышел на набережную Невы и не один раз останавливался, чтобы
«насладиться видом Невы и ее окрестностей», о морозе и жарком солнечном сиянии, о
тонком тумане, теряющем свою синеву в солнечных лучах, о красоте этого
пейзажа, совпадающего с самыми смелыми взлетами воображения (см.
процитированный выше фрагмент - Письма, 1980, 312).
В приписке от 7 ноября 1777 г. к сестре - условный пейзаж
аллегорического характера не без дидактического элемента:
Матушка сестрица Федосья Никитишна! Будь ты к радостям моим велика!
Весела для себя и для батюшки, ивеселость есть нечто прельщающее,
порука чистоты душевной. Облако не дает нам видеть солнечного всхода,
туман холодный ложится по з е м л е, и птицы опасаются зачать свое
согласие. Конечно, за горизонтом далеко хранится грозная буря ....
Правда, что иногда и до половины дня ясный день, а после погодя ... Вот вздор
после половины дня... Прощай (314)38.
В письме к отцу от 16 ноября - сильно редуцированное «погодно-пей-
зажное», причем вторая часть могла бы стать пейзажем, если бы он не был
51
поглощен тоже «погодным» (следствия погоды) и не имел бы в виду иные
цели - практические, становящиеся для петербуржцев существенными
перед ледоставом. Ср.: «Эти дни был хороший мороз, так как и сегодня
довольно резкий. Вчерась стала Нева; по Фонтанке уж ездят, по Неве
положили доски» (318). Примерно о том же - и в следующем письме, от 23 ноября:
Погода здесь стоит гнилая; через реку хотя инде где и ездят, но если не
подоспеют морозы, так чуть ли ей не разойтиться (319).
Но в Петербурге погода меняется скоро - «Дядюшка Лев Андреевич
был остановлен здесь погодою, затем что зиму было совсем согнало. Но,
несмотря на все, намерен он завтра выехать» (324). Сходная ситуация - в от-
тепельные дни в конце февраля, о чем сын сообщает отцу в письме от 22
февраля: «Самое время гонит меня отсюда. Весь день ужасная
капель. Так надобно ускорять» (350).
БЫТ («ЗЛОБА ДНЯ»)
В русском языке и соответственно в русской модели мира слово быт и
понятие быта резко отличаются (как, например, жито и житие, ср. и быто
'скарб', 'имущество', 'пожитки' (см. Даль I, 365)) от слова бытие и понятия
бытия. В этой ситуации ощущается присутствие некоей напряженности,
чреватой взрывом: однокоренность этих слов на первый взгляд не только не
сближает их, но как бы дополнительно подчеркивает глубину их различия,
принадлежность к разным, отчасти даже противоположным сферам.
«Тупое» и «простое, как мычание» слово быт - как внезапно прерванный
разбег глухим взрывным -т, «его же не прейдеши». Эта несвобода,
замкнутость в самом себе осуществляется и в отсутствии выбора места ударения,
по всей парадигме склонения слова прикованного к единственно
возможному месту (не то, что в сходном, казалось бы, случае бык, ср. быка, быку и
т.п.), и в связи этого «принудительного» ударения именно с ы, гласным
среднего ряда и верхнего подъема, и в «тупиковом» характере твердого и
глухого конечного -т (иное дело - мягкое m в быть), особенно в столь
коротком слове.
При всем этом быт и бытие, слово разомкнутое, открытое, свободное,
безусловно соотнесены друг с другом не только их принадлежностью к
одному и тому же корню, но и тем, что по своей сути быт есть все-таки,
хотя и почти многократно сниженная форма бытия, как оно понимается в
философском умозрении, и что между бытом и бытием есть еще то, что
обозначается словом бытьё, которое, удерживая отдаленную (и тоже
ослабленную) связь с бытие, вместе с тем, по определению Даля, означает
«пребывание, жизнь в значении низшем; быт; иногда имущество» (Даль
I, 364). Само же слово быт там же (365) объясняется как «бытьё, житьё,
род жизни, обычай и обыкновения». Таким образом, быт есть обычное,
привычное, в принципе инерционное устройство жизни, его распорядок,
организующий дела, занятия, события, время и пространство,
человеческие связи, но и дом, вещи, окружающую обстановку, стереотипы
жизненного уклада. Быт по своей идее и по этимологии обозначающего это
понятие слова, нечто положительное, хотя бы в варианте - устойчивое. Конеч-
52
но, говорят и о неустойчивом быте, и о катастрофическом быте, но это
означает быт, ущербный в своей «бытности», опустошающийся в отношении
ее в первом случае и во втором тень быта, смутный очерк его, где уже
поселилось или поселяет небытьё-небытие.
Быт Муравьева, как он восстанавливается по его письмам 1777-1778 гг.,
был в этот отрезок времени устойчив и, кажется, вполне соответствовал
привычкам и желаниям автора. Он был (во всяком случае насколько об
этом позволяют судить письма) как минимум необременителен и в своей
буднично-прозаической части не доставлял Муравьеву каких-то
существенных сложностей, что, видимо, и объясняет то малое внимание к бытовой
стороне его жизни в письмах: отец знал, как устроен этот быт, знал степень
его размеренности, и потому не нуждался в дополнительной информации,
если не считать каких-то особых случаев. Быт-бытье молодого Муравьева
осуществлялся дома, где он отдыхал, читал, сочинял стихи, писал письма
каждые три-четыре дня и часто довольно пространные и т.п., и в о в н е, в
городе, где он посещал знакомых и родственников, встречался с нужными
людьми, посещал театр, библиотеку, книжную лавку, гулял и т.п., или
проводил время в роте, в «школе», на «службе», которая составляла особую
часть его быта, непохожую на «домашний» быт. Разумеется, для человека
столь энергичного, активного, открытого «внешним» впечатлениям, и столь
многостороннего в своих интересах, интеллектуальная сфера и сфера
художественных впечатлений, воображения, мысли к 20-м годам уже стали
настолько глубоко укорененными и необходимыми, что они образовали
составную часть его быта, конечно, вычленяемую как нечто особое, но
многое в его быте определяющее и с бытом связанное. О многих сторонах
быта Муравьева обширный материал был приведен ранее. Кое о чем
предстоит говорить далее. Подводя некий предварительный итог или, точнее,
составляя о нем представление, можно сказать, что быт Муравьева был
упорядочен, размерен, если угодно - во всяком случае, если речь идет о
«петербургском» быте, - однообразен, но необыкновенно богат
содержанием, встречами, впечатлениями. И то, и другое, и третье воспроизводились
чуть ли не ежедневно. Быт и бытьё-присутствие в нем доставляли чаще
всего удовлетворение, поднимали дух, приносили радость, хотя бывали и
сложности, разочарования, даже неприятности.
Эта размеренность быта прерывалась во время поездок Муравьева в
Москву и Тверь, которые в то время вполне можно сравнивать с
путешествиями39, сопровождавшимися нередкими приключениями, иногда
неприятного свойства. Хотя предметом этого раздела является
«петербургский» быт Муравьева, уместно все-таки сказать несколько слов и о «вне-
петербургском» быте, в отличие от петербургского достаточно
неустойчивом, неразмеренном, в отдельных случаях непредсказуемом. Именно
поэтому в письмах Муравьева к отцу и сестре из Москвы (8 и 11 мая 1777 г., 15 и
19 марта 1778 г.), из Твери (26 июля 1777 г.), с дороги быту (а иногда и без-
бытности, как отступлению от «порядка» быта) уделяется большое
внимание. Все, что сообщается в них, для отца и сестры неизвестное, новое. К
тому же, Муравьев отдает себе отчет в том, что отец и сестра испытывают
волнение, когда он путешествует, зная неожиданности и опасности, которые
могут поджидать путешественника в дороге.
53
В первом же московском письме к отцу начало несколько игриво (в
петербургских письмах сын не позволял себе такого тона) - «Развертывая сие
письмо, вы изволите угадать половину его содержания, а половину нет. Что
я в Москве, это правда. Но в которой горнице сижу?., наперед узнаю, что
неправда» (259).
Но не желая держать отца в неизвестности, сын спешит перейти к делу,
хотя по инерции еще раз сбивается с тона и говорит о пустяках, «врет», как
он сам говорит о таких своих шутливых «пассажах». И далее - о некоторых
деталях своего устройства в Москве - в доме дальнего родственника Петра
Семеновича Муравьева, в задней горнице, где «и постеля моя на лежанке,
довольно высокой», и «Весь дом переделан и так хорош, как игрушка» (259),
и, сбиваясь на репортаж с места событий - «Передо мной стоит парукмахер
ген(ерала) Афросимова ...» (259) и т.д.
После этого следует подробный отчет о том, как он, Муравьев,
примчался в Городню, разбудил трех мужичков, чтобы ехать в Москву, как за
одиннадцать часов проскакали сто верст, как в Черной грязи ямщик убежал в лес
и пришлось ехать без него, как беспрерывно лил дождь и т.п. И, уже
переходя к московской жизни, - о встрече с дядюшкой Матвеем Артемоновичем
меньшим и с родственницей Федосьей Алексеевной и о других деталях. Но
главное событие в Москве, которое подробно описывается в письме,
конечно, встреча с университетскими в Собрании40, где Муравьев «читал свою
диссертацию и свои оды», об атмосфере в Собрании, о некоторых курьезах
с нередким заключением - «Простите мне, батюшка, что я к вам нынче так
вздорно писал. Это только для того, чтобы хоть вас рассмешить» (260).
В приписке же к сестре - о посещении театра, о родственниках, о покупках.
В следующем письме, написанном спустя два дня на третий - опять о
родственниках, встречах, обедах и т.п., о том, что по сути дела мало отличалось
по содержанию от писем, которые посылались отцу и из Петербурга41.
Очередное письмо Муравьева (от 26 июля) уже из Твери, точнее, из «Хо-
тиловского яму». Оно - о путешествии до Вышнего Волочка, об остановке по
пути в Торжке, о сломанном колесе и усилиях починить его, о трудностях
(«тридцать шесть верст, дорога прескверная», 263), о слуге Ваньке, о
потерянном или похищенном плаще. Заключительные два письма - почти восемь
месяцев спустя - уже из Москвы, «из дому Арины Афанасьевны, у которой мы
сегодня обедали» (352), о хорошем приеме тетушкой Федосьей Алексеевной,
о продвижении в печати своих стихотворений, о родственниках и встречах с
ними и со знакомыми (письмо от 15 марта 1778 г.) и о тетушке, о покупке
сукна на кафтан «и все, что к нему надобно» (353), о сложностях передвижения
по Москве («Здесь так грязно по улицам, что пешком ходить никак (не)
возможно42; на дрожках ездить я и не при(вык), да и так перебрызгаешься, что
показать(ся) нельзя; карету же нанимать дорого. Это (меня) заставляет
самовольно лишаться удовольст(вий), которыми бы я здесь мог пользоваться»,
353), о новом посещении Собрания и чтении там своих сочинений, о
включении его «Рощи» в очередную часть трудов Собрания (письмо от 19 марта).
Этот московский, тверской, «дорожный», одним словом,
«непетербургский» быт, представленный в письмах Муравьева, помогает лучше
почувствовать специфику быта Муравьева и в Петербурге, его большую густоту,
насыщенность, разнообразие.
54
В том же письме от 31 июля 1777 г., которое только что упоминалось,
кроме дорожных происшествий есть и фрагмент отчета за первые сутки,
проведенные в Петербурге, - «Приехал я вчерась по утру, часу в осьмом,
слава Богу, благополучно, для того что маленькие беспокойства и
замедления, в дороге почти неминуемые, на счет противного ставить почти не
можно» (263-264). Кажется, что исчерпать эти «маленькие беспокойства и
замедления» трудно, но автор письма понимает, что пора и честь знать -
«Хотя и поневоле, я перебегу несколько приключений дорожных и мало
значащих, чтоб поберечь места петербургским» (264).
Этот отчет о первых сутках в Петербурге очень характерен для
понимания того, что составляло быт Муравьева, - много встреч с многими людьми,
много разговоров-бесед, между прочим, как бы походя, само собою, и дел,
подлежащих продвижению или улаживанию:
Вчера был все дома. Иван Матвеевич (старший. - В. Г.), будучи квартирмисте-
ром и, следовательно имея нужду в верховой лошади, приборе и пр., а будучи не в
состоянии жалованьем исправиться, сказывается больным и не живет в лагере. С
ним препроводил я день. Нынче, в моем дезабилье - для того, что еще мундира не
было, - ходил к Сергею Александровичу (Хотяинцеву, капитан-поручику
Измайловского полка. - В. Т.) Служить очень не авантажно: сам
всякий день и очень рано в строю, и бегает, как ефрейтор, строг и
горд до чрезвычайности, ипринуждением выше сил отнимает
охоту и рвение к службе. Был потом у Леонтьева (Николай
Васильевич Леонтьев, капитан Измайловского полка, литератор. - В.Т.), он просил ходить
к себе, разговаривал о Твери. Подполковник поехал в дивизию и будет в четверг.
Обедал с Иваном Матвеевичем у Аннибала (Иван Абрамович Аннибал. - В. Т.)
весело и с десятком италианцев. Иван Абрамович вам приказывал
засвидетельствовать свое почтение, меня просил ходить часто к себе. Бумага моя не будет с мой
день, и вечер остается неописанным. Был у Миллера (Карл Вильгельм, известный
издатель «Санктпетербургских ученых ведомостей», ближайший сотрудник
Н.И. Новикова по «Обществу, старающемуся о напечатании книг», к тому же
книгопродавец («Был у Миллера», т.е. в его книжной лавке) и переплетчик. - В. Г.), у
Петрова (Василий Петрович Петров, известный поэт и переводчик, человек
близкий к Потемкину. - В. Т.) с письмом был дядюшки, да не застал, пришел домой.
Павлушка приехал благополучно, и теперь разбираемся ... (264-265).
Только развернув, хотя бы в воображении, все эти многочисленные
встречи и визиты, предполагающие и соответствующие маршруты, не менее
полутора десятка людей, с которыми Муравьев виделся за эти сутки (и число это
увеличится, если вспомнить о тех, о ком говорили при встречах и кто в самих
этих встречах не участвовал), разговоры, за которыми стояли и
договоренности о делах, сугубо бытовые детали («дезабилье - для того, что еще мундира
не было», веселое времяпрепровождение «с десятком италианцев», разбор
вещей по приезде Павлушки и т.п.), - только тогда можно представить себе этот
фрагмент эпоса быта, на глазах разрастающийся и почти заполняющий
жизнь, сливающийся с нею и тут же, иногда почти синхронно описывающий
ее в письмах, которые ждут отец и сестра, как и он, Михаил Никитич, ждет их.
И обе стороны волнуются, если письмо опоздало на день-на два, а Михаилу
Никитичу не раз приходится извиняться за пропуски сроков отправки писем43.
В этом легко вообразимом быте сама, казалось бы, ко всему равнодушная
эмпирия несет в себе тепло этого человекосообразного быта.
55
Вот еще один обыкновенный, как всегда насыщенный день,
заполненный откликами службы (рота, дивизия, школа, офицеры, сержанты и т.п.),
встречами, разговорами, делами по дому и делами семейными, вне семьи
тайными, в которых на Михаила Никитича возлагаются особо важные
поручения. В письме от 3 августа 1777 г. - много о том, что прямо или чаще
косвенно связано со службой. Сообщается отцу, что господа майоры
оказали Михаилу Никитичу хороший прием, а Федор Яковлевич (Олсуфьев,
секунд-майор Измайловского полка. - В.Т.) расспрашивал его об отце и
«уверял, что он всегда рад будет оказать свое усердие в а м в рассуждении
моей пользы» (265). Такие разговоры при всей их краткости (скорее всего
не более нескольких фраз Олсуфьева) знаковы и весьма значимы: люди
XVIII в. хорошо знали прагматическое значение таких фраз,
произнесенных в особых условиях и тем тоном, который не мог означать что-либо
иное кроме покровительства44. Явление «покровителя» было положительно
отмеченным событием, связывавшим покровителя и покровительствуемого.
Что касается последнего, то его заинтересованность в покровительстве и
благодарность покровителю вполне понятны. В меньшей степени осознают,
что в покровительстве в XVIII в. был заинтересован не только
покровительствуемый, но и сам покровитель. Его покровительство не исчерпывалось
исключительно филантропией: оно нужно было и ему самому как
подтверждение своего высокого общественного (скорее, чем нравственного)
статуса, «рейтинга», как сказали бы в наши дни, который все время надо
подтверждать. За идеальным добрым намерением и его осуществлением стояли
и вполне прагматические цели: покровительствуемые одного и того же
покровителя образовывали как бы клан, группу поддержки, которая в
определенных ситуациях могла быть полезной ему, выполнять какие-либо
поручения, иногда весьма тонкого свойства. Знаковое и прагматическое
переплетались весьма тесно, как и покровительство и искательство - явления,
правильная оценка которых может быть сделана только при учете обычаев,
нравов, правил поведения, характеризовавших вторую половину XVIII в.
В том же письме от третьего августа развертывается далее эта тема,
хотя и прикровенно, тонко, в предположении, что обе стороны с полуслова
(а иногда и без него) понимают друг друга. Эта тема берется в связи со
службой, понимаемой и как служение-услужение, услуга («ваш
покорнейший слуга» как часто воспроизводимое клише концовки письма), и
терминологически -военная служба (ср. служивый, служба, о солдате, еще
у Дельвига в «Отставном солдате» -Пастухи. Спасибо, служба! Хлеба
кушай).
Достойная форма «искательства» была свойственна и Михаилу
Никитичу, но было бы исторически ошибочным ставить ему это в вину. Муравьев
жил в обществе, в определенном его круге, и не только вынужден был
принимать его правила, но и понимал, что это его обязанность как члена
этого общества: осуществление себя, своих способностей и возможностей
было полезно не только самому просителю, но и всему обществу;
добившись успеха, вчерашний проситель становился покровителем и
распространял свое покровительство на тех, кого он считал наиболее достойными,
наиболее заслуживающими его. Конечно, доля корысти могла присутствовать
и в этой достойной форме «искательства», но отнюдь не исключала ни бес-
56
корыстия, ни общей пользы общества. Став влиятельным человеком,
располагавшим большими возможностями, Михаил Никитич Муравьев всегда
оказывал щедрую и разнообразную помощь-поддержку многим людям,
нуждающимся в ней, но нередко даже не просившим об услуге.
Естественно, что система «искательство-просительство-покровительст-
во» оправдывала себя и даже была эффективной при четкости работы
каждой из сторон. Она требовала наблюдательности, догадливости, умения
понимать малейший намек, с полуслова. Именно так совершался отбор людей,
годных для участия в этой системе. С этой точки зрения третьеавгустовское
письмо Муравьева весьма характерно. Описывая отцу свои последние два
(максимум - три) дня после предыдущего письма, он развертывает перед
ним, как может показаться с первого взгляда, эмпирию своей жизни, своего
быта, то, что с ним происходило, что он делал, где был, с кем встречался.
При более внимательном взгляде становится ясным - главным в эти дни
были в с τ ρ е ч и (разумеется, и не отделимые от них разговоры) снужны-
м и л ю д ь м и45. Обращает на себя внимание обилие встреч с военными
людьми, в основном связанными с Измайловским полком, в котором служил
Михаил Никитич Муравьев. Существенна информация об их отношении к
нему и к его отцу - Федор Яковлевич ласков, расспрашивал об отце, уверял
в готовности помочь ему «в рассуждении пользы» сына; Г. Шипов «приказал
благодарить» отца, был тоже ласков и выразил готовность быть полезным
Муравьеву; Князь Петр Алексеевич «приказал кланяться» отцу и обещал
свое вспоможение сыну, а между прочим, хотя Князь «уж ныне не очень
входит в полковые дела», но «Государыня, сказывают, милостиво с ним
разговаривая, между прочим сказала, что она имеет для него особливое место»
(266). За всеми этими знаками внимания и заверениями в готовности помочь
едва ли стоит видеть только этикетные приемы, приличествующие
обстоятельствам. Во всяком случае за «этикетным» определенно узреваются и
черты некоей декларации о намерениях, точнее, о готовности к их
осуществлению, своего рода предложение в ответ на спрос или хотя бы в расчете на
него.
«Военная» тема, так или иначе имеющая отношение и к Муравьеву,
продолжается в письме от 3 августа и далее - Подполковника ждали вчерась из
дивизии; - Строи в кадетской роте на сих днях кончаются, и ежели есть, так
уже только, как говорит капитан-поручик, для смеху; - Как я был последний
раз у Николая Васильевича, так он отдавал ротному писарю переписывать
не знаю какие-то установления для нашей школы» (266)46. Все это
составные части «служебного» быта Михаила Никитича. Но существовал и
«домашний» быт, отдельные колоритные наброски которого можно
обнаружить в муравьевских письмах. Вот одна только фраза, позволяющая
заглянуть внутрь этого дома, увидеть совсем другой пласт жизни,
соприкосновение с ним хозяина, его планы и организационные инициативы: Чтоб
Павлушке дать между тем упражнение, я купил несколько товару, и он шьет
сапоги для Ваньки (266). И «домовые» люди заняты, и Ванька в сапогах, и
теперь, видимо, он в долгу перед Павлушкой и тоже должен ему отплатить
какой-то услугой.
Были встречи и с людьми своего круга, но не военными. Ср.: У Федора
Михайловича (Колокольцева, прокурора и «дворянина-откупщика». - В.Т.)
57
я обедал третьего дня, но как к нему приехала сестра Татьяна Михайловна
Флорова-Багреева и поэтому они все новоприезжими заняты, так я и не
успел с ним переговорить оперстне, что меня препятствует так скоро
отправить Павлушку (266). В день, когда писалось письмо, встрече с Татьяной
Михайловной помешал дождь, но он не мог помешать передаче ею поклона
Никите Артемоновичу, отцу Михаила Никитича Муравьева.
Впервые появившаяся здесь загадочная тема перстня, которая будет
занимать Михаила Никитича и, следовательно (в данном случае, по крайней
мере), его отца, почти шесть недель составляет содержание своего рода
эпопеи и вводит в коммерчески-деловой, финансовый круг муравьевского
быта. Прежде чем перейти к истории с перстнем, нужно сказать, что в жизни
Муравьева, его семьи, родственников, друзей, знакомых заботы в этой
области занимали существенное место. Соответствующие интересы
поддерживались и к ним относились серьезно47. Деньги считали точно, однако не
впадали ни в мелочность, ни в фетишизм, рассчитывали наперед, к материальным
ценностям подходили с чувством ответственности, помня о том, что они
переходят из одного поколения в другое, а они, люди, не более чем заботливые
держатели, хранители, а иногда и умножители их. При этом нужно
подчеркнуть, что Муравьевы обладали достатком, но не были богаты и, если чего и
достигали, то в силу личных достоинств (это относится в равной степени и к
Никите Артемоновичу, и к Михаилу Никитичу). Об этом контексте нужно
помнить и в связи с историей сперстнем.
Впервые тема перстня возникает в том самом письме от 3 августа 1777 г.,
которое в итоге оказалось столь богатым информацией - и явной и более или
менее легко имплицируемой. Замысел относительно перстня желательно
было, кажется, осуществить срочно или во всяком случае поскорее, а
осуществление его откладывалось из-за разного рода непредвиденностей. Михаилу
Никитичу было нужно поговорить об этом деле с Федором Михайловичем Коло-
кольцевым, владельцем огромного богатства - нескольких тысяч
крепостных, десятков тысяч десятин земли, миллионного состояния, человеком не
только трезвым и основательным, но и многоопытным, знающим, как
«делать» деньги. Денежные ссуды, которые он охотно давал и дворянам и
купцам, приносили постоянно возрастающий и надежный доход. Михаил
Никитич не только знал об этом, но и сам по всем вопросам, связанным с деньгами,
которых ему обычно не хватало, обращался к Колокольцеву, который с
симпатией относился к молодому человеку и давал ему ценные практические
советы, являясь как бы добровольным и даровым его консультантом по
финансовым вопросам. Скоро Михаил Никитич стал своим человеком в доме
Федора Михайловича. Через семнадцать(!) лет, 31 октября 1794 г., состоялась
помолвка Михаила Никитича с дочерью Федора Михайловича, тогда уже
сенатора и начальника одного из департаментов Сената, Екатериной Федоровной.
Свадьба была сыграна 10 ноября48. Но в тот день, о котором писал отцу
Михаил Никитич, ему не удалось поговорить с Федором Михайловичем из-за
того, что к нему, как уже писалось, приехала сестра, а при ней Михаилу
Никитичу не хотелось говорить о столь важном и, видимо, не подлежащим
преждевременно (по крайней мере пока) разглашению деле. Это была неприятная
для Муравьева задержка, поскольку дело было, кажется, спешное, и
Павлушка уже готов был приступить к своей части обязанностей.
58
Через неделю тема перстня снова всплывает в письме от 10 августа:
Павлушка все еще здесь: медленность сия происходит от Федора Михайловича.
Вчерась нарочно затем пошел я к нему обедать: говорит, что недосуг ему, за
домашними хлопотами и для того что у него гости, переговорить с ювелиром. Пятьдесят
рублей он уже уступил и с тем, ежели еще не нравится перстень, так он его
берет назад. Федору же Михайловичу кажется, что тут передано 20 или 30 рублей, за
эту сумму и отдавать назад, казалось бы, не для чего. Что касается до серег,
сказывает Федор Михайлович, все ценят их здесь в тысячу рублей, и сама княгиня
Юсупова, которая всегда весьма дешево покупает бриллианты, за находку почитают
купить сии за 800. Мария Ивановна (жена Ф.М. Колокольцева. - В.Т.) приказала
отписать, чтобы их иначе и не писать за сестрицею, как в тысяче рублей, что никто за
обман почесть не может. Нынче должен я еще к нему идти (270).
Через четыре дня в письме от 14 августа:
Ювелир перстень принимал без малейшей отговорки. Двадцать человек,
говорит он, будут на него охотников, а я только вам (т.е. Федору Михайловичу) в
угодность так уступил. Деньги подождать полторы недели. Итак, мы рассуждали
потом с Федором Михайловичем еще о перстне. Я Павлушку столько остановил
для перстня, а теперь еще ждать. Он показал перстень Татьяне
Михайловне. Она говорит, что недорого. Я также носил его к Прасковье Глебовне: у нее
точно такой дан 250 руб., и говорит - еще не дорог. Мы решились, наконец, его
оставить. Павлушку отправлю завтре, что свет. С ним посылать перстень поопас-
ся по нынешнему воровскому случаю по дороге. А берет у меня его Татьяны
Михайловны сын Аполлон Никифорович Флоров-Багреев. Он едет через Тверь (272).
На следующий день (письмо от 15 августа):
Павла, наконец, отправляю. Я его задержал долго и без пользы. Во вчерашнем
письме моем увидеть изволите прежде получения сего, что ювелир перстень
берет очень охотно назад, но что я немножко остановился на том, отдавать ли его
или нет. Федор Михайлович заключает также по скорому его согласию, что
неотменно перстень цены своей стоит. Все, которым он показывал, того же
мнения. У Прасковьи Глебовны словно такий же перстень дан двести пятьдесят
рублев. И еще доставлен он ей как недорогой. Татьяна Михайловна Флорова-Баг-
реева так же судит. Мое затруднение в том, скоро ли найдешь перстень,
найдешь ли ровно в ту цену, - а покупать вить положено неотменно. При том, чтоб и
совсем не быть обманутым, думая купить дешево. Что касается до с е ρ е г, то
сказывал Федор Михайлович, что Измайлов, который сам знаток, призывал другого
ювелира и заказывал точно такие же себе сделать. Ювелир попросил 1300 рублей,
и доторговались до 1200. Вы изволите писать, чтобы перстень мне до своего
отъезду оставить. Но как это будет долго, то я отваживаюсь послать его с
Аполлоном Никифоровичем Флоровым-Багреевым. Он едет через Тверь (273); - Третье-
годня, то есть во вторник, отправился отсюда Павлушка; а нынче хочу я отнесть
перстень к Аполлону Никифоровичу Флорову-Багрееву, который едет через
Тверь и отправляется сегодня (275); - Сей господин вручитель Аполлон
Никифорович Флоров-Багреев, сделал мне одолжение принять на себя доставление к вам
перстня. Я прежде писал к вам, милостивый государь батюшка, о причинах,
которые решили меня его оставить. Но если вы изволите его охотнее назад отдать,
время еще не потеряно и ювелир его всегда принимает... Я не мог найти
хорошенькой коробочки, куда положить, и принужден был употребить худо выдолбленную.
На всех сторонах ящичка по связкам ниток положены печати нашего герба, и
крышечка утверждена гвоздиками. Бриллиант в двух бумажках, в хлопчатой
бумаге, внизу подостланы охлопки (277-278); - По моему счету, должен быть уж
59
теперь Павлушка в Твери: он пошел отсюда 15 чис(ла), также и Аполлон Никифо-
рович Флоров-Багреев, с кем я бриллиант отправил, должно думать, что в
Тверь уж приехал (281); - В тот день обедал я у Федора Михайловича, у которого
видел записку вашей руки к Апол(лону) Никифоровичу оперстне (290).
Несмотря на весьма точную работу тогдашней почты в отношении
срока доставки писем (не в пример нынешней), некоторые сложности все-таки
возникали, в основном, кажется, по вине Михаила Никитича, иногда из-за
спешки или некоторой неаккуратности не успевавшего написать очередное
письмо в «срочный день» и сдать его на почту к дню и часу, когда почта
отправлялась. Естественно, что такой сбой, видимо, сильно волновавший отца,
вызывал и задержку с получением письма от отца. Все-таки подобные
случаи встречались редко, и тем не менее они были:
Нынешнюю почту не имел я счастия получить от вас писем и не знаю, дошли ли
к вам мои два, отсюда писанные. Первое не успел я в настоящее время отослать на
почту в понедельник и отослал уж во вторник, для того что на немецкой ввечеру не
приняли. Я опасаюсь, чтобы сие неполучение в настоящий срок не приключило вам
тщетного беспокойства и прошу в том извинения (268).
А что же с самим Михаилом Никитичем? Чем занят он в начале
последнего летнего месяца? Что попадает в сферу его внимания и о чем он пишет
отцу? Вот вопросы, ответы на которые могли бы бросить луч света и на
описываемые последние три-четыре дня после предыдущего письма, и на
житье-бытье автора писем.
Письмо от 7 августа 1777 г. весьма богато (как, впрочем, и другие
письма) информацией о «событиях» муравьевского «быта» и самими этими
«событиями». В этом же письме (с этого оно, собственно, и начинается, ср.
только что приведенную цитату из него) - забота о поддержании
информации, о недопущении нарушения ее, о своем участии в распространении ее.
Муравьев спешит заверить отца, что он делает все, чтобы обеспечить
письменные контакты и с ним, отцом, и с другими лицами, в которых Муравьев-
сын заинтересован. После скороговорочного «Я, слава Богу, здоров»,
которое сразу же прочтет отец и успокоится в отношении сына, следует
сообщение чуть ли не о главном занятии дня - «упражнение мое состоит по б о л ь -
шей части вразнесении писем, которого еще и теперь не кончил».
Эти письма, конечно, деловые, и известие о них тоже важно для отца,
которому как бы между прочим, сообщаются и причины незавершенности этого
«дела» - «Многие живут по дачам, других же не застаю, а при том же и не
многих разом обойдешь по утру». И сразу же подробности. Князю
Александру Алексеевичу Вяземскому Муравьев успел «подать» письмо отца еще
перед тем, как садиться в карету. Далее - посещение князя Михаила
Михайловича Щербатова и сообщение - «довольно хорошо меня принял и приказал
вам кланяться». Затем - заход к сыну Щербатова, «который мне прежде
знаком». Едва ли у Муравьева были к нему какие-то дела. Но подтвердить
«связь», напомнить о ней и о себе тоже дело. Далее, видимо, встреча с Заво-
ротковым, сержантом Измайловского полка, от которого Муравьев
услышал, что «наш капитан-поручик после, как у него был, хорошо обо
мне отзывается: это меня немножко порадовало, и потому, что о
нем сказывают, будто он строг, и потому, что он подполковнику ρ о д н я».
60
Но были и неудачи - «Князь Николай Васильевич (Репнин. - В.Т.) третьего
дня поутру уехал к Никите Ивановичу Панину, и я часом опоздал его застать
для того, что прежде был он в дивизии» (это - объяснение причины неудачи
и, следовательно, оправдание). Но уж коль скоро упомянута дивизия, нужно
сообщить и о том, что завтра вступят кадеты в школу, что дежурить будут
офицеры, а при них сержант, унтер-офицер и ефрейтор. Так, с большой
вероятностью, можно заглянуть и в «завтрашний день». И, возвращаясь в
«день нынешний», - сообщение о посещении Анны Андреевны
(Муравьевой, урожденной Волковой. - В.Т.), которую дважды не удалось застать
дома, и здесь открывается еще один участок быта, еще один пучок связей.
Михаил Никитич пробыл у Анны Андреевны долго, и все это время они
провели в разговорах. Она была, судя по всему, женщиной инициативной и
энергичной. Вся в делах и заботах, она, видимо, во многом рассчитывала и
на молодого Муравьева. Она предложила ему ехать завтра же в Петрушки-
но, с которым, возможно, был связан и Барышников, знакомый Михаила
Никитича, в то время состоявший в военной службе. Во всяком случае
фамилия Барышникова сразу, без видимой связи, сопряжена с планами
поездки в Петрушкино. Это предложение Анны Андреевны, кажется,
поставило Муравьева в затруднительное положение, но, вежливый молодой
человек, он пообещал постараться получить позволение в полку. А уж если
речь в письме зашла об Анне Андреевне, не лишним оказалось отметить и
то, что теперь она живет в каменном доме своего брата Александра
Андреевича в Большой Морской, а сам он с женою уехал в деревню.
Но не только Михаил Никитич ищет тех, кто ему нужен: ищут и его, и
связи встречны. Пока он ходил целое утро по нужным людям, к нему домой
заходил его друг Василий Васильевич Ханыков, с которым Муравьев пока
еще не успел встретиться. Этот визит несколько удивил Муравьева - «я не
знаю почему, спроведал (Ханыков. - В.Т.), что я здесь». Некоторая
неизвестность (дефицит информации) и в другом смежном случае - «Также
присылал ко мне Николай Иванович Новиков просить к себе, не знаю для
ч е г о». Но посланец в отсутствие Муравьева не оставил сообщения, где
Новиков «стоит», и Муравьев послал своего человека проведать, где сейчас
живет Новиков. Но такие нечаянности неизбежны. Так с одной из них
столкнулся и Михаил Никитич. «Дни с четыре тому назад, как я нечаянно
встретился на улице с Николаем Александровичем Львовым, который
тогда дни два еще, как приехал из чужих краев, живет по-прежнему у
Бакунина, который в отсутствие Никиты Ивановича (Панина. - В.Т.) сам по
иностранным делам своего департаменту докладывает Государыне». А
Николай Александрович при этой «нечаянной» встрече успел еще рассказать о
своих впечатлениях от путешествия, прежде всего художественных, о своих
опытах в «художествах», о том, что Михайло Федорович (Соймонов. - В. Т.)
прислал прошение об увольнении его еще на зиму, «что(бы) лечение свое
кончить путешествием в Италию по совету докторов», о Хемницере, как он
прогуливался в Париже с Руссо, о Государыне, приехавшей накануне в
Петербург на праздник Преображенского полка и посетившей Летний сад и
«кушавшей» в Летнем дворце.
Так от случайной встречи на улице протягиваются нити к широким
пространствам - от Петербурга и Летнего сада до Италии и Парижа, от Львова
61
и лиц его круга до Государыни и шведского короля, от описания
конкретного дня до рассуждений о стихах, от Руссо до г. Рубана, автора
низкопоклоннических стихотворных подношений, обращенных к фавориту
Императрицы С.Г. Зоричу. Время, о котором отчитывается автор письма, оказывается
переуплотненным и тесным для размещения чего-либо еще. И сын, прежде
чем перейти к ритуальным пожеланиям отцу, должен ритуально же
извиниться -«Янынче так, как и всегда, заговорился» (268-269). Стоит
сравнить эти регулярные отчеты отцу с приписками к сестре, чтобы
удостовериться, что именно первые служат источниками для реконструкции
петербургского быта Муравьева. И дело, конечно, не в том, что письма к отцу
пространнее, но в том, что они - совсем об ином. При всей краткости
(впрочем, относительной) писем к сестре и особенно приписок, они
оказываются источником сведений для реконструкции того, чем жили сердце
и воображение Михаила Никитича - искусства, театра, оперы и особенно
литературы, хотя, конечно, кое-что из этих областей попадает и в письма к
отцу, как, например, в письмо от 10 августа, три дня спустя после
последнего письма к нему.
Последние письма в переписке отца и сына разошлись в пути, сроки
сдвинулись, последовательность писем была нарушена. Естественно, что
письмо от 10 августа к отцу начинается с «информации об информации»
и частичного, видимо, дублирования «на всякий случай» того, о чем уже
писалось:
Тотчас после отправления моего прежнего письма получил я ваше с
приобщением другого, от Тимофея Ивановича (Чонжина, советника тверской казенной
палаты. - В. Т.) к его племяннику, которое я и отнес. По отпуске того письма вы еще
не изволили получать ни одного от меня, а я и с дороги писал к вам дважды: один
раз из Хотиловского яму, с трактирщиком Миллером, другой из Валдай.
Далее - о заботах, связанных с перстнем (см. ранее), после чего о том,
как было проведено прошедшее время. План ехать на дачу с Анной
Андреевной, о чем писалось в предыдущем письме, сорвался. Михаил Никитич,
«пришедши к ней рано, ее уже не застал и остался дома». Потеря была
возмещена - «Вместо того то утро просидел я у Новикова», а после этого он
был у князя Козловского («он принял меня очень учтивой предлагал
мне свои у с л у г и» - еще одно свидетельство реагирования на знаки
внимания и соответственно готовности к тому же со своей стороны). Со стороны
князя пока это декларация об отношении и намек на готовность к
продолжению ситуации благоволения, на открытость, т.е. нечто знаковое, пока
еще не реализованное практически. Но как нередко бывает в таких случаях,
важен знак, а повод к его воплощению в деле уже совсем близок
-«Стороною слышу я, что он (князь Козловский. - В.Т.) друг Зоричу»,
которому, очевидно, все возможно, и можно, не торопясь, но и не теряя времени,
обдумать дальнейшие планы. Пока же есть и другие дела, о которых надо
сообщить отцу: «"Ученые ведомости" ("Санктпетербургские ученые
ведомости" - В.Т.) до сих пор не выходили, но на этой недели должны выйти
четыре номера, после чего они, говорят, прекратятся выходом». «Издатели их
неизвестны и не хотят открываться», но, если верить Хераскову, то по
крайней мере один из них - Новиков. Кстати, сегодняшнее утро Михаил Никитич
62
провел у Хераскова: «он по-прежнему ласков и просил меня к с е б е
ходить», приглашает Муравьева участвовать в издании «Ежемесячного
сочинения», состоящего из переводов сочинений, относящихся к сфере
морали и истории. Кстати, Николай Иванович Новиков предложил Муравьеву
переводить Боэция - «О утешении философии», произведение, где стихи
смешаны с прозою. Но вопросы литературы не были обойдены и в то утро,
когда Муравьев был в гостях у Хераскова, намеревавшегося прожить здесь
до декабря. Херасков спрашивал своего гостя о надписях к «личным
изображениям» пяти писателей и художников, которые было предложено сделать.
Ряд поэтов, в том числе и Муравьев в апрельской книжке (№ 15, 115-116)
«Санктпетербургского Вестника», откликнулись на это предложение.
Херасков сразу же узнал муравьевские надписи, хотя они были напечатаны
анонимно. «О Майковых (надписях. - В.Т.) говорит: не так-то чтобы». Зашла
речь о Майкове - как не сообщить отцу, что издана пастушеская драма
Майкова «Деревенский праздник». Много времени уходит на деловые визиты.
Так, к Прасковье Глебовне Головцыной, близкой знакомой Михаила
Никитича, пришлось заходить шесть или семь раз, чтобы отдать ей письмо. Но
застать ее дома так и не удалось, и «письмо принужден был отдать девке».
Прасковья же Глебовна живет у Марка Федоровича Полторацкого (см.
выше), «во флигеле, где мы жили» и так далее, не очень различая важное и не
очень важное и даже последовательность событий, составляющих
содержание быта. «Вчерась у Федора Михайловича (Колокольцева. - В. Т.) взял я 25
рублей из числа оставшихся 214 руб(лей). Он давал мне и сто рублей, да я
попросил двадцать пять. Я по списку 79-тый человек. Строи уже кончились»,
и в заключение, перед тем, как спросить о жизни отца, - очередное
самокритическое признание: «Вот сколько написал я вздору о себе, и тут еще не все;
но я никогда не кончу, ежели все писать» (271). Потребность общения с
отцом - даже письменная - велика, и она приносит сыну глубокое
удовлетворение. А ведь вчера, 13 августа, всего две недели, как Михаил Никитич
вернулся в Петербург и «уже близко трех недель» как он не видит отца и
скучает по нем. «Во все это время получил я от вас только два письма. Не
подумайте, батюшка, чтобы я осмелился вам в этом упрекать. Нет, мне только
прискорбно то, что я неизвестен о вашем здравии. Вы сами изволили меня
приучать к вашим письмам: так, когда не получаю, вздумается иногда, что
вы на меня гневаетесь. Я оставил вас столько ко мне милостивым, что
перемены так скоро я не опасаюсь. Вы совершите мое искреннейшее
удовольствие, когда в этом сами уверить изволите». Это чувство любви к отцу и
сознание, переживание постоянной живой связи с ним пронизывает все письма
к отцу - и это тоже событие быта Михаила Никитича, хотя на глубине
своей оно одновременно и преодоление эмпирии быта. А далее - немного об
этой самой эмпирии - «В школу вступили нынче: нам воля, ежели хотим и
где хотим, учиться. Вчерась обедал я с Лепехиным у Прасковьи Глебовны.
Нынче у Хераскова, который вам кланяется. Он до меня очень добр, всем
домом я обласкан, больше быть нельзя» (272).
Следующее письмо - на следующий же день, 15 августа. Основная тема -
перстень (см. выше), но отчасти и «сущее несчастие ... которого
предупредить почти было не можно» - у Павлушки в дороге было украдено 3 рубля
и 75 копеек. Конечно, можно предполагать, что и Павлушка был недоста-
63
точно бдителен или слишком уповал на честность людей. Но дело здесь не
в Павлушке, тем более что у него был заступник, тотчас же по
происшествии, вне очереди спешащий сообщить отцу о происшедшем - «Как все это
принадлежит к обстоятельствам моего путешествия, то я вас прошу все это
мне собственно простить, чтобы не понес бедный человек
вашего гневу для меня». В этом же письме - о встречах, о
новостях, о лестном для Михаила Никитича и т.п.
«Вчерась приехала Христина Матвеевна Аннибалыпа, и Иван
Матвеевич зовет меня сегодня к ней. Обедал я вчерась у Михаила Матвеевича
Хераскова, где были также Петр Матвеевич (брат поэта. - В.Т.) с женою и
княжна Урусова. Случай быть у него часто льстит мне особливо, и он же
обхождением своим столь обязывает, что я заслужить не в состоянии. О τ -
зывается обо мне более, нежели я могу желать ... Даже жена его
столько интересуется мною и не иначе поступает, как со знакомым дома ... С
Иваном Ивановичем Лепехиным обедал я третьего дня у Прасковьи Глебовны»
(274) с дальнейшими сведениями о ее семье.
В первом из двух писем, направленных отцу 17 августа, очередное
сообщение -
«Письма свои я еще не совсем разнес. Живем мы с Иваном Матвеевичем, слава
Богу, спокойно. Он меня иногда не выпускает из кабинету и велит дело делать,
которое я взялся ... Вчерашний день был я в немецком театре ... В школе дежурят
понедельно офицер, сержант и унтер-офицер ... Сколько помню, так я исчерпнул
материю письма (его)».
В письме от 21 августа - сведения о родственниках и обед с двумя
Иванами Матвеевичами у Олены Петровны Яковлевой, слухи о Захаре
Матвеевиче и о предполагаемой поездке дядюшки Матвея Артемоновича
меньшого в Тверь к Никите Артемоновичу, отцу автора письма. Через три дня в
письме от 24 августа - о своих домашних занятиях, о встречах, о
театральных новостях, но и о школе и даже о своих трудных проблемах со временем:
«Я живу здесь и кажется, что живу, чувствую, хотя времени моего и не всегда
расположить умею. В школу я свою ни ногой. Сижу дома, читаю или перебираюсь
в своих бумагах; ежели выду, и выхожу нередко, тысячу мест входит в голову, где
еще быть надобно. Праздность эдакую терять не надобно, но не знаю, как
пользоваться. Нынче был у Вейдемейера и Тургенева, у которого взял перевод двух песен
"Энеиды". Все после обеда читаю своего Виргилия и сержусь на себя, что он так
хорошо писал. Здесь опять дожди зачинаются, и время пасмурно ... Я был у
Дмитревского во время балета за кулисами».
Следующее письмо - от 28 августа. Оно написано в нужный срок, в
ожидании письма от отца, в определенном недовольстве работой почты и
нарушением сроков обмена письмами («Нынче ожидаю я вашего письма:
обыкновенно приносят ко мне в понедельник и поздно. От этого случается, что и
хотел бы на что скорее ответствовать, да письмо уж услано») и по горячим
следам только что имевшей быть важной встречи:
«Нынешний день только застал я Якова Ефимовича (речь идет о Сиверсе,
одном из виднейших чиновников в царствование Екатерины II; в 1777-1778 гг. он был
наместником тверским, новгородским и псковским. - В. Т.) в его мызе для того, что
прежде и приезжал, так был в Сарском селе, где он почти по неделе живет. Я зашел,
64
он был в зале и читал просьбы нескольки(х) мещан, которые тут были. Я подаю ему
письмо; он, взяв меня за руку, ведет в свои покои, говоря по-французски, что со
мной имеет говорить. В третьей оттуда горнице, где его спальня, подал я ему
письмо. Прочитав его, говорит мне, что он сам на него будет вам ответствовать, чтобы
и я между тем уверил вас, что он служить вам старается. Потом, продолжая тоже
по-французски, сказал, что он смотрит случая в вашу пользу, но обещать не может.
Я ему ответствовал также по-французски, что вы для того только и писать к нему
изволили, чтобы напомнить, и тем кончился разговор».
По всему видно, что этот визит к Сиверсу для Михаила Никитича (как,
конечно, и для его отца) очень важен и ответствен. Отсюда та подробность,
с которой описываются детали встречи - комнаты и их последовательность,
обращение Сиверса к Михаилу Никитичу по-французски и ответ ему
последнего тоже по-французски, что, несомненно, имеет знаковый характер.
Сам разговор был, видимо, короток. По сути дела Сивере ничего не обещал,
кроме того, что «он смотрит случая в вашу пользу». Опытный чиновник, и
деловой и компетентный, возможно, знал, что в Петербурге к Никите Арте-
моновичу кое-кто относится сдержанно, и не хотел связывать себя словом.
Вероятно, и Михаил Никитич почувствовал, что продолжение разговора
излишне, хотя сама встреча излишней не была: в определенной ситуации она
может сыграть свою положительную роль, но зависеть это будет не
столько от описанной встречи, сколько от ситуации в высших сферах.
Впрочем, в тот день у Михаила Никитича было немало и других дел и
забот, более приземленных, но важных при том, что информация была
недостаточной. Приходилось гадать и рассчитывать. Получалось, что Петрушка
теперь должен уже быть в Твери («он пошел отсюда 15 чис(ла)»), да и
Аполлон Никифорович Флоров-Багреев, с которым был отправлен бриллиант,
тоже уже должен был бы приехать в Тверь («Ему уж нынешний день
неделя в пути»). «При сем посылается письмо от Конева и Попова. Новый
вексель следующим образом написан»49.
Да и о других делах надо сообщить отцу - Красильникова ожидают
«будущего месяца», кибитку продали за семь с полтиной («давали очень
дешево»), за коляску дают восемь рублей. В этом месте автор письма как бы
спохватывается - «Письмо мое более похоже на ведомости, нежели на что
другое; если бы ведомости сии были важны. Я живу спокойно, безызвестно».
На третий день (31 августа) очередное письмо. Волнение по поводу
Павлушки, который пока не попал в Тверь, хотя должен быть там «по моему
счету» 26-го, как и Флоров-Багреев. Красильникова по-прежнему ждут
(«дожидают») в сентябре. Вексель уже переменен, и копия его отправлена в
предыдущем письме. «Большой Иван Матвеевич» пошел сегодня в полк. Скоро
ждут здесь дядюшку Матвея Артемоновича, «старик Эйлер женился на
молодой», а «вчерась», т.е. в Александров день, Государыня изволила быть в
Петербурге одна: Великий Князь из-за беременности Великой Княгини из
Сарского не выезжает.
К 4 сентября накопилось много сообщений для отца, в которых легко
запутаться50. «Итак я зачну по старшинству происхождений». В пятницу автор
письма был у М.Н. Кречетникова, тогда наместника калужского и
тульского, остановившегося на даче Бутурлина по Сарскосельской дороге. Разговор
о Сиверсе и просьбе, обращенной к нему. «Я-де думал, - говорит Кречетни-
3. В.Н. Топоров
65
ков, - что по крайней мере нынче при открытии Псковской губернии
употребится) он хотя виц-губернатором. Я сожалею искренне батюшку и желаю
ему сердечно всякого добра; я сам бы не отрекся помогать ему, когда бы это
было в другой губернии, а то Як(ов) Еф(имович) неотменно сочтет, что я
это ему впреки делаю. Батюшка имеет всякое право быть им недоволен,
затем, что это сущая обида - определять мимо, молодших. Не сделает ли он
хоть того, чтоб дать батюшке место Фед(ора) Леонтьевича (Карабанова,
тверского вице-губернатора до назначения на эту должность H.A.
Муравьева. - В.Т.). Доброхоты и доброжелатели есть, но, будучи людьми
осторожными и осмотрительными, особенно когда дело касается высших сфер, они,
не имея уверенности в успехе, не спешат действовать более решительно и
пока присматриваются, вызнают все, что относится или может относиться к
ситуации. Вечером того же дня - встреча в театре с Семеном Саввичем
Муравьевым, дальним родственником Михаила Никитича, секунд-майором.
Знаково отмечены и приношение почтения Никите Артемоновичу и
приглашение к себе Михаила Никитича. И уж коли встреча родственником
произошла, то не обойтись без сведений о том, где он живет (в Аничковском
доме, «у Семионовского мосту»), что сын его (старший) уже давно
вахмистром, а младший - сержантом в Преображенском полку, что при выходе из
театра видел и жену, и дочь Семена Саввича.
«Следующий день не имеет ничего примечания достойного». И, тем не
менее, уже утром Михаил Никитич - у Попова, подарившего ему свои
«Досуги», потом у Ермолова в Преображенском полку, обед у Ханыкова.
Вечером - совет с Иваном Матвеевичем «делать разные предприятия будущее
утро». Конечно, и помечтали - «Мы так верно расположили, что уж
казалось, будто я и впрямь офицер Преображенского полку и не позже, как к
новому году». А «совет был в избе», и у служанки Ульяны было свое мнение о
том, что делать с пристройкой.
«В самом деле, по утру, то есть вчерась, Иван Матв(еевич) разбудил всех
очень рано, и снарядились мы идолопоклонствовать - он в свой полк, а я к
Козловскому. Пришел: но мне ответствовали, что его уж на той квартире
нет; оттуда я в "Лондону", там расспрашивать: нет его. А ходит-де сюда Зо-
ричев скороход, сказывал мне пьяный немец, он был знал это».
Оттуда - к Миллеру в его книжную лавку, где «с час рылся в книгах». От
Миллера - во дворец к Петрову, которого не удалось застать. На обратном
пути случай привел к Козловскому, стоявшему в «Любеке». А в этот день
было его рожденье, «наехало к нему пропасть ветреников с разными
известиями». Много говорили о том, что проект Михаила Никитича о переводе в
Преображенский полк «остался без открытия». «Вчерась» обед у Василья
Евдокимовича Адодурова, затем на Васильевский к академическому
инспектору («он вам кланялся»). Только пришел домой, а там человек от
дядюшки Матвея Артемоновича большого: оказалось, он вернулся в Петербург
еще 29-го и сейчас просит к себе. Легкий на подъем и избыточно
общительный, Михаил Никитич спешит к дядюшке и, конечно, остается у него
ночевать. А утром следующего дня («нынче») вдвоем отправились на мызу к
Якову Ефимовичу Сиверсу. Чего ради дядюшка и племянник отправились к
нему, ясно. Описание встречи весьма колоритно; посетители долго не могли
добиться успеха, но в конце-концов узнали нечто новое, им до того неизвест-
66
ное, и в то время это само по себе было успехом: в те времена информацией,
особенно приватной и тем более исходящей от человека высокого
положения, дорожили и умели извлекать из нее пользу.
«... Дядюшка стал просить о вас. Сивере ответствовал то же, что обещать не
могу, а стараться, уж конечно, буду. Потом погодя у меня спросил по-французски,
писал ли я к вам от него? Дядюшка после того, в другой раз, зачал просить усильно.
Он на это, с особливой миною, как будто принуждаем,
говорит: "Сделать я не могу сам собою: Государыня изволит определять, и вы знаете,
что у братца есть люди, которые его не любят". На вопрос дядюшкин: кто ж бы это
был? - еще подтвердил сособливыми движениями: "Есть люди, да
авось-либо мы их переможем. Я постараюся перемочь". - Потом прибавил
"Слышали вы, что Голохвастов виц-губернатором во Псков?" - Дядюшка ответствовал, что
слышал, и прибавил: "Вашим ли также предстательством?" - "Ну... нет, другие за
него просили... Государыня изволила". И потом откланялся».
Этот фрагмент столь информативен и характерен, что нетрудно
представить себе эту сцену реально, зрительно, всю эту вопросо-ответную игру,
цель которой у одного из собеседников получить ее в максимальном
объеме и - желательно - в положительном плане, а у другого собеседника -
тончайшая дозировка информации с расчетом, что sapienti sat.
Казалось бы, главное на сегодня выполнено, но свободные валентности
понуждают к новым встречам. И, действительно, после Сиверса - к Анне
Андреевне Муравьевой (урожденной Волковой), оттуда - к Петрову,
которому и рекомендовал дядюшка своего племянника. А у дядюшки
дальнейшие планы в отношении своего брата: в субботу он отправляется, чтобы
«выведать, каким образом князь в рассуждении» Никиты Артемоновича.
Но у дядюшки остается время и на свои дела: он хлопочет о покупке дома
Фаминцина, за который просят 9000 рублей.
Письмо, начавшееся с опасений «запутаться» в таком большом
количестве известий, кончается подтверждением своей неудачи - «Извините,
милостивый Государь батюшка, что так худо и смутно писал. Мне хотелось все
уместить, а описать не умел». Пожалуй, однако, Михаил Никитич здесь
слишком скромен: все, что надо, было сказано, и отец, несомненно, извлек
многое из этого письма.
Письмо от 7 сентября начинается с сообщения о получении двух писем
от отца, о своей «слабости» (любовь к нравоучению), о том, что сам он
здоров и что «с самого моего сюда приезда не заболела ни один раз голова». Тут
же, однако, признание, что один раз в театре он не мог досмотреть комедию
до конца, что, впрочем, объясняется вовсе не головой, а слишком обильным
обедом у Ивана Абрамовича, у которого «стол прекрасный». Осознав, что
сказанное и сбивчиво и не имеет никакого отношения к здоровью, Михаил
Никитич резко переходит к делу - «Чтоб не завраться, обращусь к делу»,
хотя сначала говорит уже об известном отцу - о векселе, о его копии с
добавлением, что он не знает, нужно ли письмо Конева возвращать в Тверь. Если
нужно, то Михаилу Никитичу предстоит сходить к Докучаеву (купцу) «для
надписания при нем на векселе издержанных на покупку 69-ти руб. 30 74
коп.», на что еще у автора письма пока не было времени. А не было его
прежде всего потому, что все эти дни Михаил Никитич был у дядюшки («с ним
кое-куда хожу и езжу»). Во вторник были вместе (а также с князем Мещер-
з*
67
ским) у Гавриила, митрополита Санкт-Петербургского и придворного
проповедника. А только что приходил лакей Василья Евдокимовича Адодурова
с письмами, предназначенными для пересылки к отцу. Сегодня же Михаил
Никитич был у Домашнева, директора Академии наук, и сегодня же в
Академии наук должны начаться «физические лекции». Адъюнкт Иван
Алексеевич (лицо, подробнее неизвестное) свидетельствует почтение к отцу
Михаила Никитича и более того - «он меня особливо просил не позабыть это
исполнить». В городе распространяются слухи о преставлении света,
предсказываемом Эйлером. Зорич раздает деньги неимущим. «Завтра хотел бы я
быть не в Петербурге. Ив(ан) Матв(еевич), который только теперь пришел
от дядюшки, уверяет, будто бы мы и он на завтре отозваны к Дьякову»,
обер-прокурору Сената, в доме которого Муравьев часто бывал (см. выше).
Письмо от 12 сентября переполнено событиями, встречами, зрелищами,
стихийными явлениями природы. Их последовательность такова - Михаил
Никитич на Васильевском Острове в доме дядюшки, оттуда они вдвоем
отправляются к Олене Петровне; до дому он добрался поздно. 9 сентября
Государыня приехала в Петербург. Въезд был торжественный, но без
пушечной стрельбы. Михаил Никитич наблюдал за въездом, находясь у Петрова.
Накануне, в день рождения отца, он был у дядюшки Ивана Матвеевича, где
пили за здоровье Никиты Артемоновича. Отобедав, Михаил Никитич
вместе с братом отправился в театр, где французские актеры давали «Заиру»
(«так худо, что поморили со смеху»). На выходе - встреча с Андреем
Лаврентьевичем Львовым (с ним «мы долго разговаривали как старые
комедианты одной банды»), уже майором и адъютантом у князя Репнина. На
другой день встреча у Львова. От него, видимо, Муравьев узнал о приезде
княгини Натальи Александровны Репниной, а «князя ждали третьего дня».
8 тот же день обед у Федора Михайловича Колокольцева. В то же время
становится известным, что контр-адмирал Грейг отпущен на четыре месяца
в отпуск в Англию. Кстати, и в Петербург прибыл «аглинский» корабль под
российским флагом. Но главная новость дня - наводнение: «всю ночь стоял
преужасный ветер с моря», и уже к пяти часам утра вода поднялась на
9 футов и 11 дюймов. Картина буйства стихий и разрушений описывалась
ранее. В доме Ивана Матвеевича, где наводнение застало и Михаила
Никитича, вода в горницах была дюйма на три, «мы все носились на чердак,
в кухню ездили на плоту».
14 сентября Муравьев получает «приятнейшее» письмо от отца («Я
несказанно тронут был, его читая») и тут же отвечает ему - «Ваши
милостивые советы проницают меня их пользою, и я только сержусь на себя, что
исполнением их медлю или иногда и сомневаюсь». Это письмо открывает
нечто существенно новое в жизни Муравьева, в его занятиях. А дело
заключалось в том, что он написал книгу по механике, о чем в предыдущих
письмах ни разу не упоминал, и хотел ее издать. В рукописях ОР РНБ
сохраняются следы этой работы. Однако, скорее всего, книга не была
издана. Во всяком случае никаких свидетельств этому не обнаружено. В
письме же его автор пишет о «множестве затруднений» изданием «Механики».
Прежде всего денежных. «Чего будет стоить печатание ее на свой счет?» -
задается вопросом Михаил Никитич. Видимо, дорого, а надеяться на то,
что издание книги возьмет на себя Академия, нельзя. Но, может быть, есть
68
и более существенные затруднения51. Они-то, видимо, и привели автора к
отказу от издания книги и от обращения к Академии с просьбой об
издании книги. Это место письма бросает луч света и на домашние занятия его
автора, о которых он предпочитал не говорить. Вероятно, не раз
Муравьев думал о судьбе своего детища, перелистывал рукопись своей
«Механики», критически рассматривал ее и постепенно приближался к тяжелому
для себя выбору - отказу от издания или, по меньшей мере, к тому, чтобы
отложить его до лучшей поры.
Но была в этот день после наводнения и неожиданная поддержка. Вчера
еще ходил Михаил Никитич к своему подполковнику, намереваясь подать
ему письма, но не застал его. Сегодня это удалось. «Подполковник ... сказал
мне, что мое прилежание к наукам и должности может всегда сделать ему
приметным. Я не упомню точных слов, но почти такое их было
содержание». Далее - о последствиях наводнения, о пророчествах среди черни и о
том, что сейчас, пока он пишет письмо, у него находится В.В. Ханыков.
Письмо от 18 сентября 1777 г. тоже нестандартное: оно своего рода
душевный разговор с отцом, в который он вовлекся, думая о нем52. И
спохватившись и как бы извиняясь: «Нечувствительно попал я разговаривать о
том, что меня занимает». И на фоне этого общения души с отцом все
остальное кажется второстепенным и проходным. «Вчерась и третьегодни
препроводили мы у дядюшки и ночевали. И на завтра нас просил. Я говорил ему об
отказе: он и не знает, где Светушкин. Дела ничего не сделано: крепости
растеряны. Наш Леонтьев, поговаривают, к 22 ч(ислу) будет майором. Я
позабыл к вам писать, что Петр Абрамович женился в Казани уже месяца два
тому назад, на немке ... Осип Абрамович (Ганнибал, брат Петра Абрамовича,
женившегося на О.Г. фон Даннерштерн. - В.Т.) поехал во Псков советн(иком)
наместнического правления. Мое письмо чересчур пестро. Этому причиною,
что я отрывками писал и между тем упустил время. Мое наказание, что
прежде кончить принужден, нежели хотелось».
21 сентября - новое письмо к отцу с сообщением, что на неделе было
получено два письма от отца, что письмо к дядюшке уже ему отнесено.
Кстати, - «мы вчерась у него обедали». Дядюшка, человек активный,
практичный и полный планов и идей и отчасти, говоря языком нашего времени, то,
что называют комбинатором, развивал, видимо, перед племянником
соображения, как через влиятельного Петрова перевести его в Преображенский
полк. Может быть, с этим связано было и планируемое Михаилом
Никитичем на завтра посещение князя Козловского. Но и другие, менее важные
заботы, не забыты. Еще вчера Михаил Никитич посылал к приказчику Твер-
дышеву, и вот «платье маскарадное и одеяло» доставлены уже в целости. Но
возникает и серьезная тема, связанная с судьбой «Механики». Об этом он
снова пишет к отцу (см. ниже в примечании к письму от 14 сентября).
Сообщается отцу и то, что письмо Дмитрия Васильевича (Волков, в это время
петербургский обер-полицеймейстер. - В.Т.) вручено Даниле Афанасьевичу
(Мерлину, генералу-поручику. - В.Т.) и то, что «намерение Ив(ана)
Ивановича) Вердеревского (председатель палаты уголовного суда в Твери. - В. Т.),
кажется, нельзя было предузнать», и то, что «Ив(ан) Матв(еевич) ищет
своего спокойствия в гусарах. Неотменно хочет премьер-майором лучше там,
нежели в артиллерии».
69
Письмо от 25 сентября непривычно кратко - «Вчерась был я у кн.
Михаила Михайловича Щербатова, который сидит дома, почитая себя обиженным
в рассуждении перемены 22 числа» (награждения в связи с годовщиной
коронации Екатерины II. - В.Т.); - «Наместнику есть нынче толчок по делам о
дорогах. Теща его умерла, и он живет теперь на мызе. Виц-губернатор подан
в доклад. Просил меня теперь Леонтий Степанович, г. Созонов (ранее голова
ржевской гражданской палаты, позже по ходатайству купечества и
мещанства Ржева привлекался к суду. - В. Г.), чтоб я отписал к вам об нем».
Несколько больше сказано в приписке - о ночлеге с Иваном Матвеевичем большим
у дядюшки, о том, что «вчерась был и Николай Федорович (Муравьев,
поручик артиллерии, брат А.Ф. Вульф, двоюродный брат М.Н. Муравьева. -
В.Т.), так Муравьевых был целый муравейник», о том, что Иван Матвеевич
обыгрывает в пикет дядюшку, приговаривая: Подбор не воровство: подбор
одно уменье I Через карты доставать у ближнего именье (приблизительная
цитата из поэмы В.И. Майкова «Игрок ломбера», 3-я песнь. - В.Г.), а
вечером играет в виск, пьет кофе, что 22-го он, Михаил Никитич обедал у
Новикова, а ужинал у Хераскова «в числе человек тринадцати», что при дворе
«великие новости» - повышения по службе и награждения.
Но 25 сентября, в тот же самый день, Михаилу Никитичу пришлось
писать к отцу еще одно письмо, правда, тоже недлинное. На всякий случай
повторяются сведения об обеде у Новикова и ужине у Хераскова, о ласковости
хозяйки Елизаветы Васильевны Херасковой, об участниках последнего
застолья - Алексее Ивановиче Васильеве, в это время обер-секретаре
экспедиции о государственных доходах, муже двоюродной сестры Хераскова
Варваре Сергеевне Урусовой, о Храповицком, Тургеневе, Хвостове, Гурьеве и
др. Сообщается и о приезде Ивана Ивановича Шувалова и разговоре с ним
на куртаге Екатерины II и Великого Князя, о награждениях при дворе.
Следующее письмо - от 28 сентября 1777 г. Начиная письмо с
сообщения, что «по два дни, то есть нынче и вчерась, имел я счастие получить от
вас по письму; эти дни почитаю я счастливыми», Михаил Никитич
сообщает отцу, что и другие дни благополучны - «Я не могу пожаловаться, однако,
ни на один из дней моих: они текут довольно спокойно, а это уж и
составляет сколько-нибудь благополучия». Благополучием, собственно, было
естественное течение жизни - общение с родственниками и друзьями, встречи и
развлечения, новости, неожиданно подвернувшаяся возможность, и даже
угроза наводнения настроения не портит, но возбуждает дух в некоем
ожидании неожиданности, - И страшной бездны на краю, но в сильно
ослабленном ожидании. А так эти два дня после предыдущего письма довольно
обычны, и эта заполненность их встречами, обедами, разговорами, театром, т.е.
обычными же делами не признак монотонности жизни и скуки, а, напротив,
ее устойчивости, которая сама по себе обеспечивает возможность жить, как
надо и как хочется, когда долг и желание идут в одной связке.
Прошедший понедельник писал я к вам с Васильевского Острова и два раза:
поутру с Созоновым и после обеда по почте. Письмо к Захару Матвеевичу, вложенное
в последнее, нижайше прошу отослать поскорее. Мы совестимся, что его так долго
оставили, и оно может его сколько-нибудь успокоить. Он писал к нам письмо,
делающее столько чести его сердцу, сколько нам, что мы его братья и друзья. Тот день
дядюшка удержал ночевать затем, что это было накануне именин Ивана Матвеевича.
70
Следующий день праздновали мы очень весело. Мы и Ник(олай) Федорович
(Муравьев. - В.Т.), который приносит вам свое почтение, опять ночевали, и поутру
отвезли нас рано домой. После обеда был я у Федора Михайловича (Колокольце-
ва. - В. Г.), где и ужинал. Тут много кое-кого было: между прочим, и Ив(ан)
Петрович Шагаров (офицер Измайловского полка. - В. Т.) с женою, который меня и отвез
с собой. Тут я слышал прежде, нежели сестрица меня уведомила, о жалостном
приключении с Федором Петровичем Чаадаевым...» и далее - о наводнении, пальбе,
барабанном бое с крепости, бегстве в более благополучную Литейную часть, о суете
в доме Воронцова, но и о столь разных делах, как продвижение по службе людей и
без того высокого положения (Самойлов, Неплюев, Голицын), как сведения об
открытии театра и обещании новой итальянской оперы, как случай со стенными
часами Прасковьи Федоровны, оставленными у часового мастера Принца, и за которые
«ничего не дают», тогда как «нынче пристает подмастерье Принцов, чтобы ему
отдать из полтину («что изволите приказать»).
Следующее письмо - от 2 октября. Оно - и о делах, и о погоде, и о
занятиях для своего удовольствия. Во-первых, - встреча с Михаилом
Яковлевичем Неручевым, орловским купцом («Он рассказывал дядюшке, что вы ему
помогли и дали все случаи исправить его надобности. Дядюшка этим так
веселился, что хотел нарочно вас благодарить»). Во-вторых, - о том, что
«с Покровом и морозы показались, которые, хотя и прежде зачались, но не
так сильны были, как вчерашний и нынешний». В-третьих, - о покупке на
этих днях барки за девять рублей с полтиной. В-четвертых, - о занятиях с
«кое-какими механическими книжками» и, в частности, «выписями» из них,
и о чтении одной французской поэмы о живописи «с двумя латинскими о том
же и рассуждениями от творца поэмы г. Вателета» («Вчерась после обеда
я уложил его (Ивана Матвеевича. - В.Т.) спать этим, что стал читать ее».
И в-пятых, в-шестых, и т.д. - те «бездельные приключения», которыми
«нечувствительно наполняется» это письмо, «не стоящими быть
пересказываемыми)». И тут же некое если не оправдание, то объяснение - «это затем,
что мое упражнение дни с два-три попромежутилось и я по большей части
сидел дома».
Письмо от 5 октября кратко. Больше половины его - оценка
приключения с Татьяной Петровной, о котором Михаилу Никитичу сообщил в
последнем письме отец. Кроме этого - вопрос (по просьбе Федора Михайловича
Колокольцева и его сестры) к отцу, получил ли он письмо, посланное ими
для передачи Анне Яковлевне Олсуфьевой, и, наконец, денежные дела -
«Не помню я, писано ли мною прежде к вам, что я получил от него (от
Ф.М. Колокольцева. - В.Т.) 150 рублей в сентябре месяце. Итак, с
полученными прежде 25 руб. всех будет взятых 175 руб.». Обрыв письма (да и то
неполный) неожидан - «Не прогневайтесь, что нынче пишу мало: у меня
заняты все люди, ломают барку, так боюсь опоздать на почту. Я купил себе
Козельского "Механику": писано довольно подробно, без вкусу и, может быть,
не очень далеко».
Следующее письмо - от 10 октября. Оно еще короче. «Нетерпеливо
ожидаю завтре милостивого письма вашего» - первая фраза о заботе уже
дня сегодняшнего. «О себе доношу, что я, слава Богу, здоров и весел»53.
Мотив совокупного здоровья и веселья-радости продолжается непосредственно
и дальше - «В один день с этим письмом изволите вы получить и от дядюшки
71
с радостным для нас известием. В субботу дядюшка и кое-кто,
которые случились у дядюшки, пили ваше здоровье, ия благодарил».
А причина всему этому - так долго ожидавшееся и иногда казавшееся
безнадежным произведение Никиты Артемоновича в «виц-губернаторы».
И сразу же - предупреждение и нечто о «кухне» производства. «Должно
думать, для того и велено молчать, чтоб не упредили опять с просьбой к
Государыне. Она не может сама свободно расположить: тысячи путей ее
окружают. Зорич, сказывают, у генерал-прокурора выпросил уж 200 дел. -
В сей самый час получаю наполненное милости письмо ваше».
Радостное известие, видимо, захватило Михаила Никитича (как и
предстоящий ему день рождения), и уже через день, 12 октября 1777 г. он пишет
отцу внеочередное письмо, первые фразы которого сразу же дают понять, в
каком настроении пребывал он и какие планы он строил на этот день (вещь
почти исключительная в эпистолярии Муравьева).
Скоро будет день моего рождения. Прекрасный зачин письма! Вот чем
занимается мое легкомыслие: располагаю, что буду делать утром и как дожидаться
вечера. Прежде нежели одеваться, пятый и шестой час препроведу я в своем кабинете.
После того одеваться и пить кофе. Кому подарить меня в этот день? Ну! живет и без
того. Я помню, что я бывало сержусь, что близко мое рожденье; нынче воображаю
я его под самым прелестным видом. Я схожу с первой ступени жизни: двадцать лет
мои минуются, двадцать лет бытия моего. Усугубятся ли они в другой раз: это
неизвестно. Причина размышлять и о том, что прошло, и о том, что будет. В о о б ρ а -
ж у, может быть, я себе сии прекрасные, невинные, но мало вкушенные годы
младенчества; воображу я нежную и рано отнятую мать; милости отца моего на
всяком шаге жизни моей вообразятся мне ясно. Здесь увижу себя учеником,
там воином. Представляется (по сути дела, тоже работа воображения. -
В. Т.) дружества младенчества, отрочества, юношества: игрушки, резвости,
глупости. Самолюбие автора, уничижение критики; иногда, может быть, с удовольствием
вспомню труд свой; иногда пожалею втуне проведенное время. Творец
природы удостоит, может быть, принять мгновение признания и обожения.
И тут же - в следующей фразе и далее:
Где я буду у обедни? И этот вопрос важен. Вознесенская не нравится мне своей
архитектурой (аргумент, возможно, обнаруживающий религиозную нечуткость
автора. - В. Т.). Подворье Псковское далеко. Быть у Вознесенья, ежели не в
полковой54. Дома, конечно, не обедать. Где же? Неотменно у Михаила Матвеевича
(Хераскова. - В. Т.) - Насилу проснулся.
Сон был гораздо долее, нежели дело. У меня только что отделались люди с
баркой. Нынче ночевал я у дядюшки, и хочется быть на физической лекции. Дядюшка
приказал отписать, изволили вы взять 50 руб. с Мячкова (Дмитрий Дмитриевич
Мячков, тверской помещик. - В.Т.); письмо его еще цело между бумагами у
дядюшки: так разодрать ли его?
Новостей на этот раз у Михаила Никитича не много («Новостей я не
знаю»), да и они довольно приблизительные: кажется, «Потемкину
пожалованы Ягужинского деревни, и не знаю что-то также Зорину в Польше.
Дмитр(ий) Вас(ильевич) Волков идет, сказывают, в отставку (речь идет
о наместнике в Смоленске в 1776-1777 гг., назначенном в 1777 же году
петербургским обер-полицмейстером; отставка состоялась лишь в
1782 г. -В.Т.)
72
«С пятницы был я столько счастлив, что уже получил от вас три письма,
за которые не могу изъяснить довольно своей благодарности», - так
начинается письмо к отцу от 16 октября 1777 г. Что нового случилось за
прошедшие три дня после последнего письма? Во-п е ρ в ы х, сведения о Татьяне
Петровне, отъезд которой из дома отца стал больным для него местом. Две
ночи она ночевала у дядюшки, принявшего ее «довольно благосклонно». От
него она уехала в Кронштадт, где и остается уже дней пять. «Дядюшка, как
обыкновенно, весел, передражнивает ее походку и как она качает головой».
Сценка, несомненно, колоритная, характерная, живо рисующая бытовую
сторону жизни муравьевского рода в комическом зеркале. Но не только
смех да смех. Дядюшка, при своей веселости и склонности к розыгрышам,
человек серьезный, и тетушке он «советует занять в банке, чтоб выкупить».
Во-в τ ο ρ ы х, что касается Федора Михайловича Колокольцева. Письмо
отца к нему пока еще не отнесено (это будет сделано «завтре»). А отсрочка
объясняется тем, что при последней встрече с Федором Михайловичем он
дал Михаилу Никитичу «перевесть на франц(узский) предисловие Целлари-
ева лексикона (видимо, второе издание, 1768 г. - В.Т.), где есть наставление
учителям, для его мадамы; а перевел я только вчерась и нынче
перебеливаю». В-т ρ е τ ь и х, напоминание отцу о смерти Сумарокова, о чем писал
Михаил Никитич еще в одном из августовских писем. В-ч етвертых, о
литературных и иных делах. Издатели «Утреннего света» пригласили
Михаила Никитича участвовать в издании («но я немножко заленился»). Не
совсем готов и перевод первой книги. Хлопоты о Преображенском списке и
надежда, что Ханыков привезет его сегодня же, но пока и «не бывал». И,
наконец, о «преужасном ветре», о сигнале тремя выстрелами с
Адмиралтейства: «Вода, сказывают, к Измайловскому мосту выступила». В общем за день,
кажется, почти ничего и не было сделано. Такое с Михаилом Никитичем
бывало, но довольно редко.
«С какою радостью получил я сегодня ваше драгоценное письмо! Я целовал его
и приготовлял себя ко чтению его. Изъяснения, в которых видна скука ваша,
наполнили меня горестью. Вы только мне желаете счастия, а сами отчаяваетесь. Ужели
вы не изволили получить письма от меня и от дядюшки, в котором мы уведомляли
вас, что вы определены виц-губернатором? Или известие сие вы почитаете
неосновательным?»
- так начинается письмо к отцу от 20 октября 1777 г. Сын напоминает
отцу, что сам наместник «сказывал сие дядюшке: неужто бы он стал так
жестоко играть людьми, которые унижаются перед ним до просьбы?»
(сознание этой «унизительности», оказывается, знакомо и Михаилу Никитичу).
Отец писал письмо сыну явно, когда он был сильно не в духе, и в письме
выплеснулось и все остальное, его тревожившее, о чем, в частности, можно
узнать и из ответного письма к отцу:
Вы изволите писать, что помочь мне не в состоянии, между тем как я вас
изобильнее деньгами. У меня теперь сто двадцать пять
рублей. Красильникова здесь нет. Благоволите приказать перевесть мне из
денег сих сколько изволите в Тверь: они здесь пройдут бесполезно55. Я, по
несчастию, стою вам денег; другие в мои годы сами достают. Сколько буду я утешен,
если сими деньгами сделано будет сестрице платье или что-нибудь употреблено
на ваши надобности.
73
Письмо от 26 октября, предпоследнее в этом месяце, отмеченное тем,
что 25-го был день рождения Михаила Никитича. Ему исполнилось 20 лет.
Отец прислал «милости наполненное письмо»
Вы (отец. - В. Т.) изволили меня подарить империалом без моих заслуг, и я
попрекаю себе маленькую нескромность в одном письме своем: я не знал, что мое
слово будет подстережено. Письмо г. Карманова (Диомид Иванович Карманов,
тверской публичный нотариус, с 1777 г. - сотрудник Вольного Российского собрания при
Московском Университете. - В. Т.), признаюсь к моему унижению было пищею
моего тщеславия. И я в нем, кажется, обязан собранию, которое его сделало
корреспондентом56. Никогда не был я щеголем, но этот день не дал покою Ульяне, покуда
не пришила сестрициных манжет. Никто в доме между тем не знал, что я на другой
день именинник.
Но немало было и отнюдь не праздничных дел:
Проклятый староста устрецкий приехал с крепостями: так мне было надобно
таскаться в полицию (комментатор писем указывает, что небольшое имение Устре-
ха было подарено М.Н. Муравьеву отцом (так в тексте! не Уст-река ли? - В.Т.)).
Встал я рано; а накануне Новиков меня просил к себе. Утро сидел у меня Ханыков;
однако ж обедал я у Новикова с Княжниным». Но и не только дела, включая деловые
встречи. Случись так, что это было день рождения Михаила Матвеевича; и так
вечером, или еще и засветло, съехали мы туда, где нас человек с 25 ужинало; Васильев
поздравил меня, что вы пожалованы виц-губернатором, и указ накануне дня того
вышел, и Михаило Матвеевич и все меня поздравляли ... Михаило Матвеевич всем
рассказывал, что наши вместе и рожденье и именины, и оба, говорит, стихотворцы.
Наконец, после его здоровья за ужином пили и мое. Так-то вчерась я бражничал.
Письмо от 30 октября - подтверждение готовности ехать в Тверь
(«когда приказать изволите»). Единственное препятствие - «теперь погода
немножко дурная, и, кажется, путь не так скоро станет». Извещение о
посылке объявления о подписке на журнал «Утренний свет» с одновременной
просьбой «разослать между тверских охотников» - тем более, что это
просьба Николая Ивановича (Новикова. - В.Т.), «которым я очень доволен». Не
может сын удержаться, чтобы не порадовать отца - он написал «стишки на
смерть Сумарокова, которые вчера читал Михаилу Матвеевичу. Тот
адресовал Михаила Никитича к Новикову с тем, чтобы напечатать их в Кадетском
корпусе. Но немного спустя «припали нам некоторые рассуждения, которые
нас поостановили» из-за того в стихах «дано ... много вольности
воображению», и Новиков хотел бы «ослабить инде» некоторые выражения.
Ноябрьская переписка начинается с письма от 2-го числа. Здесь
возникает тема недовольства Михаила Никитича своим служебным положением -
он все еще не офицер. Обсуждается вариант действий для того, чтобы это
производство в офицерский чин состоялось. «Я не осмеливаюсь отметать
ваших намерений в рассуждении письма к Зоричу ... Мне бы хотелось самому
сколько-нибудь подать причину меня вспомнить».
Что будут говорить по городу для того, что письмо сие тайно прибыть не
может? Правда, что теперь не спрашивают резонов: я хочу себе счастья, зачем?
Ежели я взял, так и прав. По крайней мере, нам ответствовать нечего, когда
спросят, что за причина? Теперь у Зорича секретарем Матвей Иванович
Афонин, человек вам знакомый и мне и который от этого не отпирается ... Нынче
был я у Анны Андреевны.
74
Немалое место уделено и тому, как идет подписка на «Утренний свет»,
и выражается надежда, что Тверь захочет в этом отношении подражать
Петербургу. Наконец, о поездке с меньшим Иваном Матвеевичем к Сивер-
су с благодарностью: «да он не сказался, для того, что тот же день ехал
в Новгород».
В письме от 6 ноября продолжается тема подписки на «Утренний свет».
Родственное-«Я нынче ночевал у дядюшки и уж другую ночь: он без
нас, как без рук, по крайней мере, как он говорит». А утром Михайло
Никитич должен был отправиться в академическую книжную лавку в связи с
подпиской на «Утренний свет» для Анны Андреевны. И - для души: прогулка
по набережной, чтоб «насладиться видом Невы и ее окрестностей», с
остановками, игрой воображения, чувством глубокого удовлетворения («Мне
было мило, что я петербургский гражданин: вить все делает воображение»)
и удивительно прочувствованным и проницательным описанием виденного,
и рассуждениями, вызванными невской панорамой, когда рождается то
чувство эйфории и принадлежности к космическому, которое не раз было
описано в русской литературе, особенно у Достоевского и Гоголя». От этих
впечатлений автору письма трудно оторваться и перейти к прозе жизни, к
«бытовому». Но надо и об этом. И, как бы спохватясь: «Да: вчерась был я,
разумеется, с дядюшкой у Семена Саввича (Муравьева. - В. Т.), там и обедали.
И обедали на серебре». И - несколько мелочей, перемежаемых с деловыми
сообщениями («Наш Красильников приказал в середу выходить и с
векселем на гостиный двор. Сегодня я посылал к нему, и он приходил; да меня
еще не было дома»). И последнее:
Сегодня получил я письмо от Захара Матвеевича, о переводе которого мы
только говорим, а о деле и не думаем. В именины мои хотелось бы мне быть у
именинника, которого я особенно почитаю, да не удастся...
Письмо от 7 ноября кратко. Оно начинается с сообщения о получении
письма от отца и при нем письма к Сиверсу и письма к Зоричу и с
извинением за пропуск почты со ссылкой оправдательного характера -
Пришел тогда только от дядюшки в ужасную грязь и хотел писать, да темень
была такая, что Ванька, вправду сказать, отсоветовал. Я чувствовал и тогда вину
свою и никогда ей (так! - В.Т.) не позабуду.
И предвидя беспокойство отца -
Могу ли я утонуть, ходя через тот твердый и безопасный мост, каков Невский?
Да нынче уж и прошло то время, что ходя вскакивал. Никто не размеривает более
шагов своих в Питере, как я.
А так, все идет своим чередом - «К завтрему назвался дядюшка ко мне
обедать, так у меня приготовляются. А "Утренний свет" за сентябрь уже
послан, и в скорости за сим октябрь, который теперь читает Хотяинцев», тоже
будет отправлен по назначению - к отцу.
Письмо от 9 ноября - в основном об обедах, гостях, развлечениях, но
отчасти и о делах.
Мы только что теперь отобедали у Храповицкого: это один капитан, который
дядюшке считается в своих. И они еще теперь остались, а я пришел вам
ответствовать. Я весьма на себя сержусь, что пропущением почты навел вам столько беспо-
75
койства. Я виноват, так как я уже писал о сем и прежде, письма тогда не писал...
Письма к Зоричу и времени еще подать не было. Вчерась обедал у меня дядюшка с
обеими (так! - В.Т.) Иванами Матвеевичами, Ханыков и Довилье, прежний
дядюшкин учитель. Играли в виск; я нет, для того что не умею. А нынче также надобно
было быть у дядюшки, и все были чужие, так говорить о письме было некогда.
Мы с большим Ив(аном) Матв(еевичем) советовались, и он думает, что наперед
попросить Ганнибала, которого-де Зорич особливо почитает, чтобы он взялся
подать. Как бы то ни было, подать постараюсь... Пропущение письмо произошло
только от того, что поздно пришел от дядюшки в превеличайшую грязь, и темень
была ужасная.
Письмо от 13 ноября 1777 г. начинается с изъявления радости по поводу
вступления Никиты Артемоновича в казенную палату, известие о чем
привез «вчерась по утру» Захар Матвеевич:
Мы все трое теперь от дядюшки; вчерась было его рождение. Четвертого дни
обедал я у Анны Андреевны, где нас всех с двадцатеро было. Тот вечер в комедии
виделся с многими моими приятелями. На другой день обедал у Ханыкова, где
также обедали Веревкин и Рубан.
Письмо от Барсова (видимо, по вине Рубана), где-то потерялось, что
«меня немножко и печалит», тем более что в нем содержалось что-то и от
Собрания. На улице «довольно хороший мороз, и с третьего дни пронесло
несколько льду, но теперь его нет. Красильников заплатил по своему
векселю, и я его уже выдал. Сивере еще не уехал, и буду я у него завтре».
В письме от 16 ноября информация богаче, и главное - более
разнообразна. Подтверждение получения двух писем (с тремя объявлениями и
двумя бланкетами для написания писем, а в последнем письмо к Федору
Михайловичу и еще бланкет), - завидная обстоятельность Михаила Никитича - от
отца. Очередная неудача с труднодоступным Сиверсом: «Во вторник ездил
я к Сиверсу, по несчастию, не дошел для того, что отказали, приводя будто
бы он тотчас едет в Новгород. Я уж не смею уверять об его отъезде.
С месяц едет он всякий день и никогда не уезжает. Принужден был идти без
успеху вон, счастлив, что еще близко было оттуду заехать к Новикову».
С Сиверсом все понятно: ропота нет, но настроение испорчено; его
поведение по сути дела отговорка, обида просителю. Может быть, потому и
хочется забыть эту неприятность и поговорить с отцом совсем о другом, близком
и безобидном:
В тот раз обновил я зиму с моим возницею Гараской, который опять вступил в
чин свой. Бедный Рыжак уже чувствует свою старость так, как Фаворитка мой.
Кажется, кормят; однако не очень казист, особливо шерсть стоит дыбом. Стоит
разъездиться, а уж куда ездить, недостатку не будет. Оттуда вздумалось ехать к Рубану, у
которого взял читать Пиндара. И тот день обедал у Колокольцева. Был в театре,
представляли «Федру» ... В ложе Анны Андреевны виделся с Александром Андреевичем
Ушаковым (прапорщик Измайловского полка, сын тверского помещика. - В. Т.),
который в пятницу едет в Тверь («Мне быть у него не удалось, хотя бы и хотелось»).
А по поводу «Федры» - наконец, чтобы сделать день сей совершенно прекрасным,
ничего не доставало мне другого, как разделять сии удовольствия с вами. Сколько бы
прибавилось к нему, если бы в представлении «Федры» был я с сестрицею.
А на улице - хороший мороз все эти дни, а сегодня даже и довольно резкий.
Нева стала, по Фонтанке уж ездят, по Неве положили доски.
76
Сегодня дядюшка именинник и звал нас. Однако мы не пошли, а обедали
с Иван(ом) Матв(еевичем) у Федора Михайловича, которому и вручил я письмо
Ваше... К Зоричу письмо стоит мне только переписать. Я с Афониным думаю
видеться завтре.
Собственно, так и проходит жизнь молодого двадцатилетнего человека.
И иногда, в зазорах между делами, развлечениями, снованием по
Петербургу, писанием и разноской писем, встречами с родственниками и знакомыми,
то есть тем, что происходит день за днем и безжалостно истощает время, в
голову приходят грустные мысли и о самом себе:
Может быть, не имею я довольно дарований и, во-первых, сих самых, чтоб
сделать свое счастье. Что касается до жизни моей, она спокойна, тиха, иногда и не без
увеселений, которые все протекают из вашей ко мне милости. Если вы здоровы и
ко мне будете всегда продолжать сию драгоценную милость, то я счастлив.
Отец продолжает оставаться тем центром, вокруг которого - в
конечном счете - вращается вся его жизнь, тем прибежищем, где он может всегда
найти укрытие, когда ему плохо или просто грустно.
Письмо от 21 ноября лаконично. Михаил Никитич вынужден писать его
«украдкой, затем что гости», зато «завтре буду писать по ямской».
Мы все трое теперь от Семена Саввича. Вчерась обедал я у Ададурова, в
пятницу - у Анны Андреевны, которая ко мне очень ласкова. Красильников считает
какие-то четыре рубли за нас, данные Лукьяну. Сказывают также, что Буренина
денег собрано тысяч сорок, да за запрещением коммерц-коллегии не приступают к
расплате. Государыня изволит ехать скоро в Сарское село.
Письмо от 23 ноября. Во вторник «ночевал у нас» Николай Федорович,
а «нынче обедал» Ипполит Тимофеевич Пучков (знакомый Муравьевых. -
В.Т.)... Рассказ о несчастной сшибке между «наших гусарских некоторых
полков и татар», в результате которой недавно произведенные в
полковники Любимов и Дунин убиты. «Государыня в понедельник изволила кушать у
нашего подполковника». Погода стоит гнилая; «через реку хотя инде где и
ездят, но если не подоспеют морозы, так чуть ли ей не разойтиться» - с
итогом: «Вот сколько ничего не значащих новостей». Михаилу Никитичу надо
бы просить у начальства отпуска, но явиться к нему стыдно, «ничего не
сделавши». К сожалению, ничего не сделано и сочинением «Механика», о
котором спрашивает отец - «выдавать показалось мне с моими знаниями чуть ли
не бесполезно». И более подробное объяснение больной темы - «Я не
говорю о трудности, без ней нет никакого дела на свете. Но чтоб на нее
отважиться, надобно ее измерить. Так я было зачал маленькое слово о движении
вообще». И о других планах. «Также хочется окончить первую книгу "Тус-
куланских вопросов" (собственно, бесед; произведение Цицерона, взятое
Муравьевым в "Собрании, старающемся о переводе иностранных книг" для
перевода и в рукописях не обнаруженное; о работе над книгой Муравьев
писал еще в 1776 г. - В.Т.). На сие беру я себе времени четыре недели». И
смиренно - «В прочем, нижайше прошу вас подвергнуть все сие собственной
воле вашей, которой повиноваться мне столь приятно, сколь и должно». Но у
Муравьева есть и другие планы, над которыми он сейчас работает. Так, для
московского Собрания одновременно с работой над «Тускуланскими
беседами» он пишет «Слово о происхождении и свойствах оды»: этим, - пишет
77
Муравьев, - «я и удовольствую на нынешний год звание члена». И
последнее сообщение о Захаре Матвеевиче, переведенном в здешний Канонерский
полк.
Письмо от 27 ноября кратко. Сообщается лишь о встречах с Петром
Андреевичем Мантуровым, асессором палаты гражданского суда в Твери, о
том, что «в Преображенском полку, сказывают, мол будет доклад, так что и
Демидовым, которые были прежде в нашем полку и старее меня ровно
двумя годами в сержантах, едва ли достанется», и что сам Михаил Никитич в
нынешнюю неделю наряжен на дежурство в школу, куда он и должен
поспешить в два часа пополудни. Но главное в письме - раскаяние его автора по
поводу своего небрежения «должностью», о котором - не в первый раз -
пишет ему отец. Такое, к вящему расстройству Михаила Никитича,
повторялось не раз, и раскаяния, просьбы к отцу о прощении и собственные,
периодически возникающие расстройства из-за небрежения своею «должностью»
были не только событиями его душевной жизни, но и элементами быта. Но
искренность чувств его не подлежит сомнению:
В сердце моем содержу я сии меня опечаливающие строки, в которых
нежнейший родитель дает мне знать небрежение моей должности. Я прошу нижайше
прощения...
Я не прежде получу маленькое успокоение, как когда удостоюсь быть разреше-
ну в гневе милости преисполненного родителя, и которого благодеяния тем больше
чувствую, чем более уверяюсь, что я их не заслуживаю. Нет ни одной моей
молитвы к Богу, разлученной с желанием вашего драгоценного здравия.
Эта же тема продолжается и в следующем письме от 30 ноября,
составляя его начало:
Сколько обрадован я, получив ваше драгоценное письмо! Я смущен, что мое
нетерпение вырвало у меня признание моей печали. Но сколь трудно чувствовать
свою винность и быть в оной доказану особой, от коей привык получать одни
только милости. Кажется, что уже тогда все тебя оставляет и нет извинения. Мало я знал
сердце ваше, которое всегда выше слабостей других. Чувствие вины моей было
весьма искренно, чтоб отвергнуть справедливое обвинение.
Такого рода исповедальные признания разбросаны и по другим его
письмам к отцу, и в сумме своей они образуют особый текст «сына»,
беспредельно любящего отца и признающего его непререкаемый авторитет и в то же
время то и дело проявляющего - совершенно невольно - небрежение к
своей сыновней «должности» в отношении отца.
Кажется, что эта ситуация рождалась не из гневности, грозности57 и
деспотичности отца, но скорее из того, что любимый отец виделся сыну
именно как абсолютный авторитет, обладающий всеми правами в отношении
сына, для которого он был своего рода подобием божества. В этих коллизиях,
похоже, отражается и почти женственная мягкость сына, и известная
неразвитость волевого начала, которая, конечно, объясняет и многое в судьбе
творческого наследия Михаила Никитича, отчасти компенсируемая богатой
жизнью его души и сердца, воображения и фантазии.
В этом же последнем ноябрьском письме - отчет о родственных и
служебных новостях. «Вчерась, пришед из школы в полдень, нашел я у себя
дядюшку Льва Андреевича (Батюшкова, деда будущего поэта, женатого на
78
сестре матери Михаила Никитича. - В. Т.), который приехал по делам своим
в банке на несколько дней». Более серьезная новость - дядюшка Матвей
Артем(онович) выдает Марью (побочную дочь Матвея Артемоновича
старшего. - В. Т.) за гарнизонного майора Рябова. Захар Матвеевич «наряжен на
завтре в трехсутошный караул». Сам же Михаил Никитич надеется попасть
на маскарад, но определенности нет - «Завтре маскерад, где разве по распу-
щении школы я буду ли иль нет». Есть и «служебные» новости, точнее,
слухи о них. Они всегда важны, поскольку речь обычно идет (если не о
происшествиях скандального характера) о тех изменениях, по которым можно
судить, кто чего стоит:
У нас слышно, что доклад будет велик и выдет около сорока человек
сержантов. Капитаны-поручики все, кроме входящих в капитаны, идут вон. Так что
Николаю) Александр(овичу) Соймонову из поручиков достается в капитаны. Напротив
того, в Преображенском две или три ваканции.
И еще одно сообщение практического характера - Новиков ожидает
выхода «третьего месяца ноября» журнала «Утренний свет» на этих днях,
чтобы послать его подписавшимся в Твери, «для того-де, что если бы послать
по месяцу, так бы не стоили книги пересылки». Николай Иванович потому,
между прочим, и был успешным издателем, что хорошо знал счет деньгам,
и был предупредительным к подписчикам на журнал.
Наступает последний месяц года. Первое декабрьское письмо к отцу от
4 декабря. Оно тоже из числа коротких. Из первых трех фраз письма не
трудно узнать, что Михаилу Никитичу, если не в тягость, то в скуку, и ч τ о
привлекает его:
Наконец, сменился я с своего дежурства. Должность нетрудная, но прескучная,
если хотеть сколько-нибудь ее исполнить (было ли это хотение у автора письма? -
В.Т.). Теперь с тем большим рачением обращусь к небольшим трудам своим, что
целую неделю от них почти вовсе отвращен был.
Из родственных новостей - дядюшка Лев Андреевич завтра
намеревается отправиться в Новгород, если позволит погода. У дядюшки Матвея
Артемоновича каждый день люди «по причине свадьбы Марьи». Сам Михаил
Никитич был в прошедшую пятницу на придворном «маскераде», и, как бы
опомнившись, что он потратил зря время на дела и что эта задержка
расстроит отца, тут же прибавляет - «Я нижайше прошу потерпеть еще на мне
медление в рассуждении исполнения вашего приказания, которое без
сомнения исполню». И еще - «К Рожеству, если приказать изволите, в Тверь
стараться буду приехать». Но кое-что зависит и от дороги. Так, Михайло
Матвеевич Херасков тоже «ожидает дороги, чтоб отправиться в Москву».
Разрешения Великой Княгини от бремени тоже ждут - пока «назначают на 10
или 11 число» (Великая Княгиня - вторая жена Павла Петровича Мария
Федоровна; те, кто «назначивал», ошиблись всего на один день - 12 декабря
Великая Княгиня разрешилась от первого из десяти бремени: новорожденным
оказался будущий Император России Александр I, так высоко оценивший
автора этого сообщения и возвысивший его до уровня, о котором Михаил
Никитич не мог думать даже в самых смелых мечтах. - В.Т.).
Письмо к отцу от 7 декабря - ответ на его письмо, которого он, как это
случалось нередко, побаивался. В своих ожиданиях худшего он ошибся и тем
79
более оценил «снисхождение» отца, тем подробнее описывает он свои
научные планы, зная, как серьезно относится к ним отец, сам бывший военный
инженер, кажется, неравнодушный к точным и прикладным наукам и,
видимо, передавший свой интерес к ним и сыну.
Признаюсь, - пишет Михаил Никитич, - что я долго не смел его (письмо. - В. Т.)
распечатывать, приготавливаясь ко справедливым обвинениям, которые все я очень
заслуживаю. Но снисхождение, с которым вы изволите пред глаза предлагать мою
пользу, мою должность или, справедливее сказать, дух кротости, дышащий во
всякой строке письма сего, наполнил меня утешающею радостью. Чувствие которое
водило пером вашим, переселяется в душу читающего. Я ласкаю себя, что моя,
может быть чувствует его еще живее, будучи с вашею сродни. Что ваше это
удовольствие, чтоб знать, что я вас люблю; не сие не могу я ответствовать так и столько,
как хотел бы (см. выше).
Надо отдать должное Михаилу Никитичу: он, как очень немногие в то
время, умел точно и соответственно заданию, описывать свои чувства.
Чтобы в этом убедиться, достаточно во всей совокупности его писем к отцу за
1777-1778 гг. прочитать начальные фрагменты их, составляющие
«прерывный» текст «сын - к отцу».
Возвращаясь к письму от 7 декабря, следует отметить, что именно в нем
Михаил Никитич обстоятельнее всего сообщает отцу о своих научных
занятиях и обнаруживает широту своего кругозора в этой области, признавая
при этом и недостатки своей подготовки к написанию труда на тему,
которой занимались до него крупнейшие деятели науки, среди которых
достаточно назвать Декарта, Ньютона и Лейбница.
Сочинение, которого вы от меня требовать изволите, будет под заглавием:
«Письмо о теории движения, одночлена Вольного российского собрания, к Г...
адъюнкту Санктп. Академии наук». Вступление в оное давно уже написано, и я им
доволен. Продолжается мною ныне действительно. Я не предложил себе из оного сделать
сочинение основательное, затем что сие не моих сил требует. Не такое, чтоб
математик читал с пользою, но человек, имеющий просвещения, чтоб жить в свете,
просмотрел бы с удовольствием. Я не имею еще установившегося слога в языке, но который
имею не довольно сообразен с важностью философа. И это будет приметно; но с
моей стороны тем выгодно, что наполнит то, чего не будет доставать в глубокости дела.
Зачинается выпискою понятий, которые имели о движении Аристотель, Картезий,
Вольф, затем что оно было понятие метафизическое. Таким образом, буду я иметь
случай почерпать и в метафизике и в математике, и округ материи расширится...
К этому оставалось добавить, что дядюшке Льву Андреевичу так пока и
не удалось уехать - «был остановлен здесь погодою, затем что зиму было
совсем согнало», что, впрочем, не подорвало его надежды «завтре выехать».
И еще - о получении губернатором приглашения в Экономическое общество,
что было сделано во исполнение устава.
»
Письмо от И декабря 1777 г., «отцовский» фрагмент которого был
приведен ранее, посвящено родственным и деловым новостям. О том и о
другом -
В прошедший четверг ... на вечер прискакал к нам Николай Федорович
(Муравьев. - В. Т.) с колокольчиком. Он поехал в отпуск, и первый ночлег его был у нас.
Вообразите, сколько нас тогда было. Лев Андреевич, который к нам так добр был
80
и с нами играл в шашки, к нему же пришедшие его родственники и один из ландми-
лицких служеб. Это обстоятельство важно. Нас четыре брата. Сколько разных
нравов. В пятницу, пуще по присоветованию дядюшки, пошел я с Зах(аром)
Матвеевичем). Он в театр, я к Афонину. Нашел его в зале у Зорича; открыл ему свою нужду
и получил совет его: ежели подавать, лучше подать ввечеру. Итак, я оттуда
опрометью домой. Не нашедши довольно по вкусу моему, что я прежде начеркал, сочинил
я опять снова письмо, прибежал, перерядившись в мундир, ждал, ждал со всеми до
второго часу, и как Зорич не выходил, так мы у него поужинав, и разъехалися. На
другой день по утру дядюшка поехал затем, что стала наконец зима. После обеда к
Зоричу, он вышел, и я письмо ему подал, спросил от кого, распечатал и,
обратившись к свечам, посмотрел. Сказал, что ответствовать будет. Потом, ко всякому
подходя, обошел кружок наш и откланялся. Надобно знать, что с ним говорить
улучают вечер. Вчера был у него по утру, но видел только со всеми. Афонин сказывает,
что он прежде чтения просил его обо мне. Другой секретарь, который читал,
говорит, что Зорич не сказал, как обыкновенно-де, ничего. Однако дело это не так
великое. Надобно будет напомнить. Третьегодни обедал я с Анной Андреевной в аг-
линском трактире. Вчерась у ней обедал, целый день сидел, читал, говорил. День
этот был для меня, столько весел, столько приятен, что я не много их знаю в моей
жизни.
И хотя уже было написано «Простите меня, батюшка, что я не пишу
более, у меня гости, и боюсь опоздать», Михаил Никитич все-таки не сумел
сразу остановиться.
Прошедшую почту разбили. Генерал-полицмейстер сменен, и Дм(итрий)
Васильевич) Волков на мое место. Мое механическое сочинение делается
действительно. Стоит только зачать, так и поневоле будешь привязан.
В письме от 14 декабря сначала, но после объявления о получении
письма от отца, ответ на вопрос последнего - и одеяло, и маскерадное платье,
посланные через приказчика Твердышева, давно уже получены, «первым
одеваюсь, а во втором был уже в маскераде первое декабря». И еще одно
соприкосновение с позавчера родившимся наследником престола - «Имею честь
поздравить с общею радостью нашего отечества, с рождением сына
Александра Великому Князю. Разрешилась от бремени Великая Княгиня 12
число (так! - В.Т.) в три четверти одиннадцатого по утру».
И далее -
В четыре часа был я у Зорича. Видна была радость на лице его; к чести его
должно признаться, что он не позабывает бедных и говорит, чтоб народ чувствовал
эту радость, должно ему напомнить милостями. И как толпа беспрестанно с ним и
вкруг его движется, дошел он и до меня, и как я ему поклонился, то он, также мне
поклонясь, сказал мне: "Вашему батюшке буду я отвечать". - Тут сказал мне Петр
Андреевич Мантуров, что он уже послал к вам новый календарь.... Печати я еще не
заказывал, а перед Алексеем Миничем (Муравьев, дальний родственник. - В.Т.)
виноват, что не ответствовал; дело же все исполнил, которое на меня он наложил.
Дядюшка ...занят свадьбою Марьи Гавриловны. Захар Матвеевич к вам ответствовал;
да я думаю, что на той почте, которая разграблена. В Москве он должен сорок
восемь рублей, что далеко вещи его превосходят.
Следующее письмо - от 18 декабря 1777 г. Его преамбула, описывающая
состояние Михаила Никитича, - «Всякое утро, что пробужусь, представится
мне множество дел, которые ожидают меня, и малое тех число, которые
81
исполнил». И далее перечисление этого множества дел, новостей, хотя
начинается письмо со счастливого исключения - дня, принадлежащего самому себе:
Вчерась был, например, для меня день весьма приятный, затем, что я был весь
дома и одинехонек. И делал кое-что, и это услаждает, когда чувствуешь свое
уединение не бесполезным. Третьегодня, напротив того, просидел до поздых (так! -
В. Т.) у Анны Андреевны. Нет ничего любезнее ее обхождения, и молодой человек
не одно только удовольствие почерпать в нем может, но и преполезнейшее
наставление, тем более, что не приметно. Но для меня, которому должно время быть так
дорого, терять целые дни неизвинительно.
Цена времени и удовольствие и польза общения с Анной Андреевной,
отношениями с которой он дорожил (как, несомненно, и она), соперничали
друг с другом. Во всяком случае встречами с нею Михаил Никитич,
кажется, никогда не пренебрегал и, видимо, многим был обязан этой
привлекательной женщине с большим жизненным опытом. С 1770 г., когда умер ее
муж Николай Ерофеевич Муравьев, инженер, математик, поэт, по 1778 г.,
когда Анна Андреевна сочеталась вторым браком с князем A.B. Урусовым,
она вдовствовала. Письма Муравьева 1777-1778 гг. как раз и отражают их
частые встречи, ценимые обоими. Можно предполагать, что Михаил
Никитич был неравнодушен к этой женщине, которая, будучи существенно
старше его, могла затронуть и его сердце. Удовольствие и польза влекли его к
ней, но время было так дорого, «терять целые дни неизвинительно». Во
всяком случае, наблюдая жизнь сердца двадцатилетнего молодого Михаила
Никитича, не лишне вспомнить и об Анне Андреевне, его свойственице и
старшем друге.
Чем еще были заполнены дни после предыдущего письма? Был у Зори-
ча, но, видимо, безуспешно («его не видал»), неважные сообщения соседят с
важными. «Афонин зашиб ногу и болен» и сразу же за этим - «Вчерась
было назначили быть крещенью новорожденного князя, но отсрочено.
Крестить будут сама Государыня, Императрица королева, Император, короли
прусский и шведский». Это - событие не только для царского дома, но и для
всей России. Но Михаил Никитич еще не может знать, что это событие и в
его жизни - речь идет о его будущем благодетеле, по желанию и воле
которого (а до этого его царственной бабки) жизнь Муравьева так существенно
изменилась, как и его творчество; времени для него стало очень мало, и сам
характер творчества изменился, будучи подчиненным уже совсем иным
целям. «Кто-то из людей, близких ко двору (возможно, A.B. Нарышкин)
обратил внимание Императрицы на талантливого и высокообразованного
офицера, и 30 ноября 1785 г. Муравьев был "взят в кавалеры", сначала к
Константину Павловичу, а потом и назначен воспитателем и учителем русской
истории, словесности и нравственной философии обоих Великих Князей -
Александра и Константина»58.
Вторая половина письма - вперемежку о разном. Нынешним вечером
Михаил Никитич по приглашению H.A. Львова едет в дом Бакунина, где
«собравшееся общество будут играть комедию и опера-комик. Комедия будет
"Игрок" г. Реньяра, в которой Николай Александрович будет играть отца, а
опера-комик называется "Колония", содержанием своим хотя и не много
значащая, но превосходной музыки. Петь будут Марья Алекс(еевна) и Катерина
Алексеевна Дьяковы, большой их брат и еще...». И сразу же - о другом:
82
Давно уж из Устрехи прислана ко мне копия с крепостей, немного позаваляв-
шаяся, с тем, чтоб ее здесь из книг выписать. Для сего надобно бы, чтобы вы
изволили ко мне прислать верющее письмо, так как и другое, для прошения об отказе.
Анна Андреевна давно просит меня отписать к вам, милостивый Государь батюшка,
свое чувствительнейшее благодарение. Она себя клеплет лению и просит
извинения. Татьяну Петровну дядя Матв(ей) что-то не полюбил и чуть не выгнал. Я не
знаю ей советовать; однако ж она почти живет у нас. Хочет идти к Анне Андреевне.
Я не нахожу для ней и в том ничего лучшего.
Следующее письмо от 21 декабря очень кратко и начинается с просьбы
сделать милость и поверить слову, что «леность моя не имеет боле власти
надо мной», а также не исключать его «из отеческого сердца». О себе же
совсем немногое - сегодня обедал у Хераскова. Иван Матвеевич и Захар
Матвеевич завтра отправляются в деревню. «Вчерась было крещение Великого
Князя». Безуспешное «дожидание» Зорича («Зорича я дожидаюсь,
дожидаюсь и дождаться не могу»). Петр Андреевич Мантуров собирается вскоре
возвратиться в Тверь с письмом к губернатору и наместнику («Я сам
слышал, что подполковник мой наместником и тому не рад»).
Письмо от 22 декабря не длиннее предыдущего. Ожидание ответа от
Зорича, потому что он «хотел ответствовать». Намерение издать «Новые
лирические опыты», к сожалению, не удавшееся, хотя все-таки одно из
стихотворений было опубликовано в «Санктпетербургском вестнике» за 1778 год
(два посмертно в 1819 г., четыре Л.И. Кулаковой в 1967 г.). Кстати,
накануне, 21 декабря, Михаил Никитич был в гостях у Хераскова и читал ему
именно «Новые лирические опыты». На их издание он испрашивает позволения
отца. Заключительные фразы письма ценны обращением к отцу и, главное,
той позицией смирения и «самоуниженности», которые обнаруживаются и
во многих других письмах:
Простите, милостивый Государь батюшка! я боюсь справедливо навлечь на
себя гнев ваш моим угрюмым письмом; но скорость времени и собственное мое
состояние вырвали его у меня. Одного только прошу, и прошу сердца моего устами, чтоб
вы сохранили к сыну своему милости, составляющие его спокойствие и счастье.
Я пребываю навек с униженнейшим почтением, милостивый Государь
батюшка! ваш нижайший сын и слуга.
Письмо от 25 декабря. Поздравление с сегодняшним праздником.
«Я нынче разговляюсь у дядюшки, который завтра поедет в Новгород и
пробудет, я думаю, до Крещения». Зорич все еще медлит «ответствовать», хотя
«Зоричев секретарь, г. Гизелевский (в 1778 г., уже после падения Зорича,
стал секретарем правления Новгородского наместничества. - В. Г.), уверяет
меня, что он еще доложит и избирает время». Предполагает быть у князя
Козловского ... «Я нынче часто бываю у Анны Андреевны и думаю это
сказать в свой авантаж».
Я не могу себя приневолить умолчать, что я нынешнюю неделю был на трех
спектаклях у Бакунина, которые заслуживали быть видимы. Я не знаю, буду ли я
иметь столько истинных удовольствий на святках. По крайней мере, уж я лишен
того, чтоб видеть вас и сестрицу ... Все мне предсказывает, что я скоро поеду в Тверь:
внутреннее мое удовольствие опять возвращается, как с начала моего здесь
пребывания. Ничто не может сравниться с горячностью желаний вас увидеть здоровых и
благополучных.
83
Следующее письмо - от 28 декабря.
Соблюдите сии для меня милые чувства. Что я говорю? Вы их всегда
соблюдали. Но прошу вас для ради общих сих удовольствий, внушаемых природою и
которых вы для меня священный источник, не беспокойтесь только для того, я позже
или ранее буду офицером. Сохрани меня Господи, чтоб я хотя тайно и сам подумал
возложить вину на вас: сколь утешений имел я вместо того, которые мне с
излишеством платят сию потерю, ежели она есть. Вы простите здесь мне мои забавы,
я довольно весел.
Все предыдущее - о своих чувствах к отцу и о сохранении «милых
чувствий» отца к себе. Разговор с отцом, скорее общение душ, конечно, главное.
По какому поводу оно возникает, не так уж и важно. Но ошибется тот, кто
решит, что своевременное производство в офицерский чин не повод для
исповедальных признаний отцу и что озабоченность Муравьева - признак
карьерных устремлений. Едва ли Муравьев был особенно усерден в несении
военной службы. Кажется, для нее не хватало времени: слишком
обширными были интересы в интеллектуальной и светской жизни. Да и сообщения о
своей службе в письмах к отцу отнюдь не часты и никогда не главные.
Понять, чем конкретно занимался Муравьев в Измайловском полку,
практически нельзя. В письмах нет указаний на то, что их автору не удалось попасть
в гости или в театр из-за занятости в полку - для этого время всегда
находилось. Видимо, такой была ситуация и с другими известными
современниками, состоявшими на военной службе в Петербурге и занимавшимися
писательской и/или светской деятельностью.
Производство в следующий чин в существенной своей части было
знаковым событием. В нужный момент нужный человек должен
получать нужный чин. «Нужный» и «должный» в этом контексте почти что
синонимы и вполне могут заменять друг друга. Они отсылают к ситуации
компенсации нужды-надобности долгом-«должностью». И как бы ни
исполнял Михаил Никитич свою службу (если только он не совершал
нарушений устава и обычая), он по всем понятиям того времени,
учитывающим и положение его и его отца в обществе, был достоин произведения
в офицерский чин, и несколько раз, видимо, начальство этого не делало,
тогда как Муравьев считал себя достойным этого чина и в своем
«непроизводстве» видел нарушение справедливости или - в ином аспекте -
правил игры, своего рода договора. Очень возможно, что так и нужно
расценивать эту ситуацию. Может быть, кого-то из военного начальства
раздражал образ жизни Михаила Никитича, его интересы вне полка, его
связи, его самодостаточность. Может быть, отношение к отцу, которого,
как выясняется, многие недолюбливали и чинили также и ему
препятствия в его продвижении, переносили и на сына. Во всяком случае
«непроизводство» в офицерский чин Михаил Никитич рассматривал как
серьезную неприятность, ставившую перед ним проблему дальнейшего выбора,
который в конце концов и был сделан.
Самих же новостей немного - «Между прочим, часто бываю у Анны
Андреевны»59; «Нынче я опоздал писать письмо и спешу застать почту»; - «Зо-
рич нельзя сказать, чтоб не был приятен; а и то правда, что не обо всем
пойдет к Государыне, а также час выбирает!» (наблюдательность и владение
языком дипломатии делают, несомненно честь Михаилу Никитичу); «Сей
84
вечер употреблю я над своим сочинением»; - «Дядюшка во вторник поехал
в Новгород и к вам писал».
В первый же день Нового 1778 г., 1 января, Михаил Никитич
отправляет свое очередное письмо к отцу. За прошедшие после последнего письма
три дня накопилось немало новостей, и они перечисляются без заметной
аранжировки и иерархии, если не считать, что первое сообщение все-таки
связано с Великой Княгиней - «При дворе сегодня не было ничего
объявлено, следовательно, и гвардейские доклады не вышли. А полагают днем всех
сих веселостей 23 число сего месяца, так как выздоровление Великой
Княгини». Федор Яковлевич, «наш майор» (у него сегодня утром был Михаил
Никитич), просит засвидетельствовать свое почтение Никите Артемоновичу.
Кстати, именно с Федором Яковлевичем был накануне Михаил Никитич у
Бакунина на представлении оперы. - «Не можно быть более довольным, как
я им. Он столько говорил со мной ласкового и собственно меня
обязывающего, что заставляет себя любить», и при переходе к дальнейшему
изложению событий дня как вздох облегчения - «Сколько я нынче обходил, это не
можно вдруг рассказать». И далее - сообщения: Марк Федорович
(Полторацкий. - В. Т.) уже с неделю, как в Петербурге. «Татьяна Петровна живет у
Анны Андреевны. Ее Гурьев здесь. Анна Андреевна в ее сторону ввела
Михаила Ивановича Мордвинова, который ему приятель. Он ответствует,
что отдать он хочет, но не ей одной, а разделяя с сестрою». Николай
Иванович Новиков собирается переслать свой журнал Никите Артемоновичу и
беспокоится, получены ли в Твери предыдущие номера, посланные ранее,
потому что «ошибкою почтамта, вместо того, чтоб послать в Тверь,
послали они в Москву», а поняв, что допустили ошибку, переслали не прямо
в Тверь, а в Петербург. Благородный Новиков все убытки, не по его вине
возникшие, берет на себя и «пошлет другие эксемпляры вновь».
В письме от 4 января, в самом его начале, повторяется - для надежности -
сообщение о том, чем заканчивается предыдущее письмо. И лишь после
этого - выражение радости, что отец зовет его в Тверь - «Меня зовут в Тверь:
мое послушание есть единственный ответ». Но поскольку Никита Артемоно-
вич не знает всех обстоятельств, сын спешит уведомить отца о них.
Доклады ни наши, ниже чьи-нибудь в новый год не вошли. Еще более, чтоб
придать некоторый вид этому, Государыня сама не выходила, как не очень здорова.
Отлагают их выход к 23 числу как срок выздоровления Великой Княгини. Нынешний
день, поутру, между прочим, был я и у Михаила Федоровича Соймонова, которого
и просил, чтобы он обо мне напомнил Семену Гавриловичу (Зоричу. - В. Т.), так как
он к нему часто ходит и для того, что двоюродный его брат, полковник Петр
Александрович Соймонов, секретарь Государынин при Зориче и управляет все те дела,
которые должны идти через него к Государыне.
В этой фразе, правда, довольно пространной, как в капле воды
отражается картина общих связей внутри того круга, где можно решить и свои
проблемы, «путей» к нужным людям, операций - зайти или даже ходить,
напоминать, просить, добиваться. Соймонов «весьма охотно обещал и назначил
еще не нынче, так-де послезавтре, то есть Крещенье. Следовательно, ответ
Зоричев ему уж совершенно удовольствует нашу неизвестность. До этого
здесь погодить, кажется, требуют обстоятельства». Такие
фрагменты, будь они собраны вместе, могли бы служить своего рода руко-
85
водством к достижению успеха в екатерининское царствование. В этом
руководстве учитывается все, что нужно - и цели, и обстоятельства, и люди, и
средства и даже, на метауровне, способы языкового выражения подобных
ситуаций.
Кроме того, в эти дни Михаил Никитич уже дважды виделся с Марком
Федоровичем Полторацким. Много времени должно было уйти на развезе-
ние писем отца - к Федору Яковлевичу, Ададурову, Соймонову, «которые
хотели отвечать», к Васильеву, к Анне Андреевне и прочим. «Развезение
писем» тоже своего рода этикет; к иным адресатам можно было с письмом
послать и Ваньку, не привезти лично письмо к уважаемым людям было бы
нарушением нормы: и непосредственное дело должно было завершиться
беседой, хотя и короткой и - желательно - сообщением о том, будет ли сам
адресат отвечать на письмо или попросит Михаила Никитича поблагодарить
за него. Естественно, что со своей задачей Михаил Никитич не успел
справиться. Отцу он сообщает - «Завтре разнесу последние к Аннибалу и Петру
Алексеевичу». И снова об Анне Андреевне в связи с Татьяной Петровной.
Зайдя к Анне Андреевне, Михаил Никитич застал у нее Татьяну с Гурьевым.
«Татьяна Петровна, вся в слезах рыдает. Довольно было крику и проклина-
ний Гурьеву. Вышло на том, что Гурьев отдает закладную в руки третьего,
который есть Мордвинов, покуда она получит письмо от сестры из Пскова,
требует ли она части или нет. Тридцать душ еще такие, которые надобно
выхлопотывать. Верного только пустошь, которая в год приносит 18
рублей». С Зоричем опять некоторая незадача: нынче Михаил Никитич его
видел, «но сам не зачинал, думая, что он захочет: обманулся. Третьегодня он
было занемог, а нынче собирается прогуливаться в санях». Удастся ли
разговор с Зоричем, сказать трудно: он «крепкий орешек».
Письмо от 8 января 1778 г. начинается с отчета о письме отца от 29
декабря и приложенных к нему трех письмах. Одно из них было
предназначено князю Александру Алексеевичу, которого, однако, не оказалось дома.
Князю Петру Никитичу письмо было передано, он приказал кланяться
Никите Артемоновичу и благодарить его сам хотел; о третьем письме ничего
не говорится. Как и следовало ожидать снова возникает зоричевская тема.
Накануне («вчерась») среди ряда визитов, нанесенных Михаилом
Никитичем, был он и у Михаила Федоровича Соймонова -
Он сам зачал говорить, что еще по обещанию своему с Зоричем обо мне не
говорил, а хотел видеться тот же день на бале. В полдни был я и у Зорича: ничего
было не слышно. Уж у Хераскова ввечеру узнал, что доклады наши вышли затем, что
и Василий Никитич Трубецкой, который был нашего полку поручик, пожалован в
капитан-поручики60. Все пожалованные были по гвардии, и из армейских один
Хорват вышел в полковники. В нашем полку вышло 24 сержанта все старее меня, из
коих 12 в прапорщики и 11 в армейские капитаны. Что мне всего удивительнее, что и
Ермолаевы не оставлены в полку, а выпущены в капитаны; также один
Вельяминов, человек предостойный и которого я считал точно в наших офицерах, выпущен.
Чемоданову досталось и обоим князьям Львовым. Чуть ли мне теперь не проситься
в отпуск?...
Уже из этого фрагмента письма видно, каким событием было
производство в следующий чин. Оно и подведение итогов, и поощрение, и оценка, с
помощью которой осуществляется контроль и устанавливается на офицер-
86
ском уровне, кто есть кто в полку, и, наконец, «знаковый парад», т.е. своего
рода праздник всего полка, который и перед не отмеченными чинами ставит
проблему выбора, хотя бы и временного («Чуть ли мне теперь не проситься
в отпуск?» - спрашивает отца Михаил Никитич).
И вообще наступает пора праздников, отмечающая начало года. Из
Новгорода уже приехал дядюшка, у которого не преминул обедать Михаил
Никитич. Во дворце вчера был бал с ужином для генералитета, «и за ним были
деланы какие-то штуки, о которых я беспорядочно слышал. Гора
растворялась, и выходили девицы маленькие из монастыря, пели и не знаю что еще».
Но и это только начало. «С завтре зачнется театр; в четверг будет маскерад,
говорят, их три будет друг за другом». А у дядюшки дел невпроворот: он
«снаряжает свою Марью Гавриловну». С него берут обязательства рядные.
Он божится, уверяет и сердится; дает вексели в заклад. «Я думаю, что
станет в копейку. Несколько семей укрепляет ей. И она выходит замуж под
титулом племянницы...»
Следующее письмо от 15 января 1778 г. Как и большинство других, оно
начинается с «почтовой» темы.
Ваше милостивое писание от 5 и 9 января получил я нынче по почте. Оно меня
наполнило удовольствием, которое не теряет ничего учащением. Кольми паче,
когда я не получал писем ваших с неделю. Я сам ужасно виноват. Обнадеявшись на
сержанта, от вас присланного, думал, что он в пятницу поутру ко мне зайдет, и в
четверг не писал. Дай Бог, чтоб вы не приняли этого чувствительно. Сколько упреков
сам себе я должен делать! Явсе тот же: часы удовольствия чередятся с
другими - скуки и равнодушия. Знаю, сколько мгновение дорого в исполнении, но, все
откладывая, сделаю наконец ужасные расстановки61.
Но были и дни, которые приносили Михаилу Никитичу и утешение, и их
было несравненно больше, по крайней мере, в эти годы.
Вчерась ... был я поутру у Петрова и обедал у Анны Львовны, которая с
неделю в городе. Какой это милый человек муж ее Иван Семенович Караулов
(тверской помещик, заседатель верхнего земского суда, премьер-майор; его
жена Анна Львовна была дочерью Л.А. Батюшкова и двоюродной сестрой
М.Н. Муравьева. - В.Т.), и особливо младший брат его. У нас маскерады: на двух
уже я и был, в четверг третий, вчерась была у дядюшки свадьба Марьина, дело
для меня прескучное. И нынче был я уж совсем у Марка Федоровича, который
звал меня обедать: дядюшка прислал, чтоб быть к нему неотменно. Принужден
там распрощаться, и в третьем часу еду с Захаром Матвеевичем, который три
дни как приехал.
И как бы устав при припоминании всех «развлечений» этих дней,
перед лицом отца и это еще не законченное письмо кажется Михаилу
Никитичу «наполненным таким вздором: боюсь, чтобы вы не опечалились,
видя меня занята эдакими безделицами. Ячувствую сам
пустоту моей жизни и, оставив ее, может быть, скорее, нежели думаю,
в Тверь уеду». И, как бы не желая оставлять отца на этой печальной
ноте и стараясь смягчить впечатление отца от столь мрачных мыслей
сына, - в утешение ему:
Я сообщаю при сем маленькую пьесу в гексаметрах, которую я вчера читал
Петрову (речь идет, очевидно, о стихотворении «Роща». - В.Т.) счастлив, ежели сия
безделица заслужит ваше чтение и будет за меня ходатайствовать. Я до четвертого
87
часу бродил вчерась в маскераде. Теперь голова моя наполнена картинами света,
своей собственной мглою и ... в ней всегда еще остается свежее воображение
родительской нежности.
Письмо от 18 января - рядовое, о многом и разном и к тому же
достаточно калейдоскопическое. За два дня получено три письма от отца: одно с
тверским знакомым Пестовым, два других по почте, из которых в одно
вложено письмо к Татьяне Михайловне с ассигнацией, тотчас же ей отосланное.
Новиков благодарит Никиту Артемоновича за извещение, а то уж он
собирался посылать ему потерянные экземпляры «Утреннего света».
Недавно был у меня майор Батюшков (предполагают, что речь идет о майоре
санктпетербургского гарнизона Матвее Батюшкове, см. Письма, 1980, 376; род
Батюшкова родственный Муравьевым. - В.Т.) человек бедный, которому я писал
письмо к Зоричу и другое для подачи Государыне, в котором он из милости просит
награждения за службу его на Тифинском карантине. Неделю бродил он туда;
наконец отказал Зорич такими словами, которые ни малейшей надежды не оставляют.
По всему видно, что милосердие так же, как и другие страсти, временем находит и
исчезает так же. Говорят, что уж будто и поменее народу в передней. Будет время,
что и не будет жаловаться на докуки.
Разнесшийся по Твери слух о смерти Николая Александровича
(Львова. - В.Т.) «превесьма не основателен, а, может быть, причиною было
сходное имя». А вот, кто действительно умер, так это «нам знакомый, по
крайней мере, по Наталье Александровне, сын ее капитан-поручик
Николай Александрович Левашев». И смерть была скоропостижной -
«шутя с офицерами и в уборе, как должно было идти на караул» И вообще
«на капитан-поручиков, и то первых по полку, нынче несгодье». Так, в
прошлом году, переходя Фонтанку, утонул первый капитан-лоручик
Измайловского полка Леонтьев, и без передышки - «Я нынешний вечер
буду в маскераде: это уж третий. Завтре получу я от Зах(ара) Матв(еевича)
25 рублей. В Тверь собираюсь ... Здесь я мало привязан: там буду иметь
случай вперять полезнейшие наставления жизни чувствием, слыша их от
вас». И далее, как бы развивая отцовско-сыновнюю тему: «Недавно
читал я письма Расиновы к сыну, я восхищался, видя единое везде чувствий
действие. Мне казалось читать ваши письма к себе. Но вы мне простите
сию свободу все говорить ... Я довольно счастлив и более, должно
признаться, нежели заслуживаю, кроме тех минут, в которые попрекаю я сам
себе, и это бывает часто».
Далее - просьба простить его за то, что он пишет «что припамятует ему
(собств. - мне) тогдашнее состояние. Излиять свое сердце есть облегчить
оное. Всякий день определяю я на дело, иначе покажет вечер...» - Такие
фрагменты многое дают для реконструкции портрета «души» Михаила
Никитича, его глубинного слоя, обычно не замечаемого из-за того, что и жизнь
на «поверхности», в свете, среди развлечений и веселья кипела и бурлила и
могла затмевать в образе Муравьева наиболее сокровенное и иногда
мучительное для него сознание своего «недостоинства» перед отцом.
И тут же, в нарушение исповедального тона и высоких материй, - о
приезде Ипполита Тимофеевича и предполагаемом посещении вместе с ним ма-
скерада, о поездке Захара Матвеевича с Настасьей Федоровной
Муравьевой, двоюродной сестрой Михаила Никитича и Захара Матвеевича, монахи-
88
ней, к архиерею с просьбой переменить ей монастырь, о том, что «состояние
ее бедственно», о завтрашнем посещении Чаадаевых.
Письмо от 27 января варьирует, так сказать, синхронное (hic et nunc)
с тем, что неоднократно повторялось и в других письмах, что составляло
содержание его каждодневной, если угодно, «низкой» жизни, обыденного
бытового слоя. Общий тон письма минорный, сплошное «несгодье». Вот
Михаил Никитич, только что пришедший из школы, где он дежурил, домой
пишет письмо:
Несчастье мое таково, что когда хотел было проситься (в отпуск. - В.Т.), так
должность наложили. Вчерась по утру не застал ни Леонтьева, ни майора. А
сегодня, как был у нас слух, что с завтряго распустят на три дни, так я и сочел
благопристойнее проситься в отпуск в этот промежуток времени, а не в самый тот день, как
наряжен в отпуск. Ныне же после обеда приехал наш подполковник, которого все
боятся: новое приключение. Недавно уехал в Москву Михайло Федорович Соймо-
нов: он был все это время болен и так, чтобы я так скорого отправления и не чаял.
Приехал к нему: сказывают, что теперь только съехал с двора. Все это Божий час,
то есть моя вина. Я и просить прощения не смею, что как будто нарочно, все
лучшие попечения наши (не ваши ли? - В.Т.) опровергаю. Письмо мое, поданное к
Зоричу, теперь у Афонина, так, как и все прошлогодничные письма. Он обещает, я
думаю, бесполезную помощь; затем, что и сам не тверд.
Остальное - мелочь: как переслать полученные от Захара Матвеевича
пятьдесят рублей медью (заходил к Михаилу Никитичу Пестов, с которым
можно было бы переслать деньги, но хозяин дома отсутствовал); дядюшка
Матвей Артемонович ждет ответа на письмо о пустоши Свечина (о ней
говорилось несколько ранее, и письмо от Никиты Артемоновича еще не
пришло); Гурьев «выдал закладную Татьяны Петровны дядюшке с надписани-
ем, но с условием исполнить завещание бабки ее, чтоб разделить между
сестрами...». И, наконец, о до сих пор не сделанном - «Завтра праздник или
нет, буду проситься в отпуск и будет, что Бог даст».
Письмо к отцу от 25-29 января перебивается неожиданно короткой
запиской к сестре. Оно (первая его половина, писавшаяся 25 января) снова
начинается с «почтовых» извинений - «... вижу беспокойство, которое я нанес
вам и сестрице пропущением почты... Виною тому было ожидание
присяжного ундер-офицера, который в тот же день в Тверь хотел отправиться и ко
мне за письмом зайти, чего не сделал». Далее о двух письмах, посланных к
Леонтьеву и к майору с просьбой об отпуске и написанных на бланкетах,
которые прислал (возможно, для вящей убедительности) отец. Первый
ответствовал: «Изрядно стараться буду», а Федор Яковлевич посоветовал
направить прошение об отпуске по первое мая самому Николаю Васильевичу,
скорее, пожалуй, Леонтьеву, капитану Измайловского полка, нежели
Репнину, подполковнику того же полка и тоже Николаю Васильевичу. Дав этот
совет, Федор Яковлевич действовал по принципу «do ut des» и попросил,
чтобы Михаил Никитич «отписал о его (Федора Яковлевича. - В.Т.) нужде
отцу. Дело заключалось в том, что ему поручены деревни брата его в
Краснохолмском уезде, а «их обижает Краснохолмский городничий Шубинский», и
Федор Яковлевич просит, чтобы Никита Артемонович изволил отписать к
сему городничему, чтоб «он не нападал более». Вывод же о возможности
отпуска таков - «Теперь мой отпуск зависит от Леонтьева, для того, что по на-
89
шей роте докладывает он прямо Репнину». И вопрос к отцу, как перевести
ему полученные от братьев 50 рублей. И просьба - «отписать» о деньгах
Петра Антоновича (Костливцева, родственника Муравьевых. - В.Т.) к
Федору Михайловичу.
Вторая половина письма помечена 29 января. Начало - о том же, но
другими словами - «Письмо, которое определял я на четверговую почту, по
несчастью к величайшему оскорблению моему опоздало затем, что тот вечер
приехал к нам нечаянно дядюшка Матвей Артемонович. Так я уж пишу
теперь цыдулку, которую и влагаю в то ж письмо, принужден будучи его
распечатать». Не трудно представить себе, как воспринимал Никита
Артемонович эти объяснения и извинения.
Еще раз Михаил Никитич просил своего полковника об отпуске, и тот
ответил, что «он это помнит». - «Дай Бог! чтоб меня отпустили поскорее», -
восклицает он. - Это время, думал я, что уж буду в Твери; обманулся и,
может быть, обманул тех, которые меня более всех прочих в свете любят».
И далее - «Я теперь от Анны Андреевны, где я обедал». Узнал Михаил
Никитич, что в его отсутствие заезжал к нему Иван Семенович Караулов. Утром
был у Хемницера на Выборгской стороне. Тот просил засвидетельствовать
Никите Артемоновичу свое почтение. Третьего дня давали итальянскую
оперу «Ахиллес», но быть на ней не удалось из-за дежурства. Брату Ивану
Матвеевичу пожалован чин капитана. И в заключение - о главном, все
затмевающем:
Я прошу вас нижайше милостиво меня в разговорах ваших вспомнить. Сколько
молодых людей, которые служат удовольствием их родителям; я отчаяваюсь быть
считаем между ими.
Письмо от 1 февраля 1778 г.
Зачин письма обычный по теме, но новый по оформлению - в виде
бытовой сценки, организуемой диалогом. Тема же оказывается тем более
актуальной, чем усерднее и чаще отец пишет сыну. «Неуспевание» последнего
в этой переписке вызывает в Михаиле Никитиче жгучее чувство вины,
которую он пытается избыть в своих покаяниях перед отцом. Чего бы легче
как своевременно отвечать отцу или несколько сократить срок между
письмами, хотя он и так краток (обычно два-четыре дня)! Но, похоже, сам
Михаил Никитич нуждается в этом покаянии: оно сладко ему и снимает или
ослабляет комплекс вины. Письма Никиты Артемоновича, кажется,
неизвестны. Едва ли, однако, сын не хранил их и не перечитывал. Если бы они были
обнаружены, то, возможно, кое-что или даже многое могло бы получить
свое объяснение. Но и по письмам самого Михаила Никитича можно
составить некоторое «млечное» представление и об отце, и о его письмах.
Никита Артемонович был любящим отцом, несомненно, заботящимся о сыне,
пристрастно следящим за его успехами, но и более суровым, иногда даже и
жестоким. Военный инженер, затем крупный провинциальный чиновник,
которого судьба бросала по всей России, человек, не имевший
сколько-нибудь значительного состояния и живший в основном тем, что приносила ему
служба, наконец, муж, рано ставший вдовцом, взявшим на себя все заботы о
малолетних детях, Никита Артемонович бесспорно был человеком
уважаемым другими уважаемыми его современниками, значительным, серьезным,
90
возможно, сдержанным в зримых проявлениях своих чувств и, видимо, не
баловавшим детей, во всяком случае своего сына. Принадлежа к старинному
дворянскому роду, он чтил и старую родовую традицию и ее строгие
правила. По письмам сына, двадцатилетнего молодого человека, ведущего
самостоятельную жизнь в Петербурге, служащего в Измайловском полку,
вхожего в круг знаменитых писателей своего века, старших и более известных,
чем он, можно составить представление о том, чем он был обязан отцу и его
воспитанию, что перешло к нему от отца и стало своим. При всей пылкости
чувств к отцу и их готовности вылиться наружу, Михаил Никитич в письмах
к отцу (скорее всего, и при личных встречах) всегда соблюдал дистанцию.
«Милостивый Государь [мой] батюшка! Никита Артемонович!» -
неизменное клишированное начало62. Иначе он к отцу никак не обращался, и само
это формульное обращение нигде более, как в начале не встречается.
Наложив на себя ограничение в обращении к отцу в ходе писания письма
(единственное именование - естественное в этой среде вы), изъяв все «ласковое»
(дорогой, любезный, милый, папенька и т.п.), Михаил Никитич безусловно
принимает на себя это правило «дистанции» и ищет выражения своих чувств
к отцу, переполняющих его, в других ракурсах и пространствах. А правило,
конечно, шло от отца, от родовой муравьевской традиции. И никогда
никаких шуток (смешное - другое дело), в которых так легко находит себе нишу
сомнительное, запанибратское, пошловатое - все то, что могло бы намекать
на равенство общающихся. Для Михаила Никитича ясно с самого начала -
отец вверху, высоко над ним уже но одному тому, что он - отец, он Г о с у -
д а р ь и обладатель многих положительных качеств, из которых для сына
важнее всего его милость (Милостивый мой Государь). Сам же сын -
внизу, более того, в самом низу, откуда и заключительная формула его
писем - «ваш нижайший сын и слуга». И это «нижнее» и «подчиненное»
положение сына не результат какой-либо дискредитации, унижения паче
гордости, а сознательный выбор самого естественного и уже потому
лучшего состояния: милость изливается только в н и з, и субъект-производитель
ее всегда вверху; иного «физикой» (или «метафизикой») божественного
не предусмотрено, как не предусмотрено иного ни смирением, ни доброй
волей, ни благим выбором человека смиренного.
А теперь можно вернуться и к упомянутому выше началу письма от
1 февраля 1778 г.:
Вчерась имел я счастье получить от вас письмо, сегодня другое. Виноват,
ужасно виноват, но в части вины моей и господин мой полковник,
замешанный на медленности. Вчерась поутру пришел я к нему и ничего не говорю;
сам, как будто бы и присутствие мое ему досаждало, говорит мне таким скучным
голосом: - «Помню, помню, дайте мне доложить» - Оттуда зашел я майору, тот
приказывает: - «Пожалыста, не уезжай, не побывавши у меня...» - Да куда ж я
поеду, ежели и не отпущен еще? Тут выпросил я пашпорт Ив(ану) Матв(еевичу)
маленькому, а себе нет!
Симметрично этому начальному фрагменту (о своей вине) в конце
письма появляется «покаянно-исповедальный» фрагмент, обнаруживающий и
поразительную откровенность сына перед отцом, и сознание своего
несовершенства, и нужд в оправдании себя перед отцом:
91
Простите меня, милостивый Государь батюшка, что я моею леностью, моею
оплошностью так долго продлил свое в Петербурге житье. Поверьте, батюшка, что
я очень стараюсь отсюда вырваться, чтоб только вас более ожиданием не
беспокоить. Я чувствую нужду оправдания; пора окончить мое отшествие в чужую сторону.
Не нашел я из молодых людей беспечнее меня. Имея погрешность возраста, буду ли
я иметь счастие пользоваться и выгодами оного? Буду ль я иметь право к сему
снисхождению, которое их извиняет? По крайней мере, я льщусь его найти
в сердце нежнейшего отца, который более меня любит, нежели я себя. Я у вас
прошу прощения, что, может, без пользы останавливаю ваше внимание над сим
мараньем. Дай Боже, чтоб ваше здравие с причинами удовольствия не разлучено было;
чтоб скорый мой приезд был также в их числе. Я целую ваши руки с почтением и
чувствием сына, ожидающего от вас своего утешения, милостивый Государь
батюшка! ваш нижайший сын и слуга.
Новостей в письме немного. «Вчерась был фейерверк, на котором я н е
б ы л». Иван Матвеевич был прикомандирован к фейерверку с ротою.
«Стук слышал я, не выходя из горницы». Причиною приезда, видимо, были
«беспокойства» воеводы суздальского князя Вяземского, «будто бы
дядюшка не сдал порядочно канцелярии». Поскольку сегодня Михаил Никитич
дома не обедал, «так дядюшка с другим дядюшкой, который, без меня же, к
нему приезжал, уехали на Васильевский остров». Печальное известие из
деревни - у Анны Львовны «дочь умерла оспой», и мать в печали. А
дядюшка Лев Андреевич наложил на Михаила Никитича комиссию выбрать
учителя. В непосредственно следующей фразе, обращенной прямо к отцу, он
говорит о своей л е н о с τ и63. Не исключено, что о ней он вспомнил в
связи с поручением дядюшки подыскать учителя.
Письмо от 5 февраля совсем коротко. Опять неудача - не только
Михаил Никитич еще не отпущен в отпуск, но он узнал от забежавшего к нему
утром Завороткова, что Леонтьев и капитан Лобанов-Ростовский условились
между собой никого не отпускать, «в рассуждении малого числа
наличных в Кадетской роте». - «Странное условие! - пишет Михаил
Никитич. - Уже не лучше ли бы, чтоб вы отписать изволили к подполковнику о
моем отпуске. Я уж стыжусь распложать мои письма, ничего не
заключающие». Автор письма серьезно расстроен и за себя и особенно за отца.
«Вчерась в маскераде нечаянно увидел» Киприана Ивановича с женой. -
И «к сожалению моему слышу, сколько вы, милостивый Государь батюшка,
беспокоитесь моим замедлением в Петербурге».
На следующий день, 6 февраля, Михаил Никитич пишет отцу
внеочередное письмо (еще через день, 8 февраля, он напишет и третье за четыре дня
письмо). Дело в том, что солигаличский предводитель дворянства Петр
Иванович Черевин, собираясь уезжать из Петербурга, «сам назвался вручить»
письма Михаила Никитича отцу, а также «книжку сестрице, которая ...
может попасть ей на вкус ее. Уединение меньше чувствуется, когда есть что-
нибудь прочесть приятное». Автор письма в состоянии полной
неопределенности - «Отпуск мой я и сам не знаю, как выдет», но что-то, почти по
инерции, он все-таки предпринимает: «Сегодня по утру взял у Василья
Ивановича) Майкова письмецо к своему полковнику; но его не застал дома» (кстати,
Василий Иванович приехал уже недели с две назад и сожалеет, что,
проезжая Тверь ночью, не смог заехать к Никите Артемоновичу). Но еще важ-
92
нее - и отец Михаила Никитича мог быть уже извещен об этом, - что
Василий Иванович представлен в герольдмейстеры: «дают чин, две тысячи
жалованья. Сама Государыня изволила приказать ему быть сюда, без его
искания». Что касается дядюшки, то он еще здесь и старается о своем деле. Но
главное в письме - внеочередно вырвавшаяся фраза - «Я сам ничего
столько не желаю, как отправиться в Тверь», и в связи с нею - «хорошо бы было,
если вы отписать изволили (к Федору Михайловичу. - В. Т.) о деньгах Петра
Антоновича». И снова о своем нерадении:
Простите мне, милостивый Государь батюшка, что я раза два опоздал писать на
почту. Никакой причины, что иногда пропустишь время, иногда недосуг.
Так я нижайше прошу, если паче чаяния вперед случится то же, так скоро не
беспокоиться. Я ничем не могу заплатить сии минуты беспокойства, причиненные
неосторожностью. Здешние новости, знаю, что не привлекают вашего любопытства,
так я их и оставляю. А рассказывать мои ежедневные приключения столь мало, что
я их и не упоминаю.
Письмо от 8 февраля и подробнее, и содержательнее предыдущего
письма, несколько выпадающего из ряда других писем. Сначала - беспокойство
по поводу письма, которое было послано отцу с Черевиным,
отправлявшимся в Москву, но не успевшим уехать в назначенный срок. Далее - о хлопотах
по поводу известного дела.
Все сии дни ездил я к своему полковнику (в данном случае так называет
Михаил Никитич Н.В. Леонтьева, в то время ставшего майором, как считают,
в отличие от Олсуфьева, которого он везде именует майором; подполковник
(см. ниже) - Н.В. Репнин, см. 377) с записочкой от Василья Ивановича Майкова
(см. выше. - В. Г.), но его не заставал дома. Нынче застал, и он долго говорил со
мною. «Напрасно трудитесь, - говорит он, - не думайте, чтоб я не старался о вашем
отпуске. Еще на прошедшей неделе, между прочими моими надобностями, докладывал
я и о вас подполковнику; он все принял благоприятно и приказал отдать записочку
Федору Яковлевичу. Но я не знаю, каким образом опоздал он ему напомнить, так что
как зачал он докладывать по записке, то подполковник, видно, позабывшись, что он
сам позволил, сказал: - «Этого уж много будет». - Но я, - продолжает он, - не
удовольствовался этим и искал времени с ним объясниться. Ездил третьего дня и вчерась и не
застал дома. Сегодня он угощает Государыню, строит горы и распоряжает все этакое,
так ему теперь не до отпусков. Подождите до субботы. - Вот был его ответ.
И другая попытка не была успешной. Дядюшка Матвей Артемонович
большой, заезжавший поутру к Михаилу Никитичу, рассказал, что он
ездил к князю Николаю Васильевичу Репнину и «ему отказали за тем же
самым».
Из других событий и дел - Матвей Артемонович меньшой, «который с
нами живет», завтра подает письмо генерал-прокурору и челобитную в
Сенат, «чтоб его уволить от напрасной высылки в Суздаль; в самом деле не что
иное, как сущие привязки, не делающие чести тому, кто их делает. Будто бы
непорядочна была сдана канцелярия, что в росписных списках есть описки и
недописки»64. Майков назначен герольдмейстером. «Вся сия неделя при
дворе в празднествах; и разложены дни по знатным, которые поочередно
угощают Государыню».
И еще - дядюшка Матвей Артемонович меньшой подарил Никите Арте-
моновичу печатку с родовым гербом. Иван Матвеевич большой
93
нанял себе квартеру в роте, став капитаном. Что касается до отпусков, не
известно как об них думает подполковник; по крайней мере, приключение тех,
которые в нынешний доклад выпущены в армию в капитаны, людей с особливыми
достоинствами, должно что-нибудь значить. И как я вчерась от одного из них слышал,
конечно, не майору, а ему приписать должно. Все они почти не служили.
Это письмо, может быть, полнее, чем другие, вводит читателя в дебри
бюрократического засилья, делопроизводства и крючкотворства, как и в
способы преодоления препятствий и достижения своих целей. Михаил
Никитич, несмотря на широкий круг знакомств в разных сферах, нередко
оказывался неудачником и, как чаще всего оказывалось, далеко не всегда игра
стоила свеч.
Следующее письмо было отослано десять дней спустя - 18 февраля.
Вот и Великий пост, а Михаил Никитич все еще не в Твери. Вчера видел
двух людей, которые могли сообщить ему кое-какие сведения об отце,
правда, давнишние - Николая Федоровича и Неручева. «Мы все обедали на
острову у дядюшки, как водится в последний день масляницы». Дядюшка
собирается вскоре ехать в деревню, а пока он купил себе дом в Пятой линии у
Даниила Афанасьевича Мерлина. Покупка обошлась ему «за тысячу с чем-то
рублей». У Михаила Никитича же «теперь денег на лицо около 140 рублей.
Так не прикажете ли каким-нибудь образом перевести из них к вам какую-
нибудь сумму? Я чувствую, чего я вам стою, сам, по несчастию,
ничего не присовокупляя моими трудами. Но прошу, хотя знаю, что и права
просить не имею, чтобы для того вы на меня не прогневались». Проблема
денег не встает пока со всей остротой, но все-таки о деньгах приходится
думать.
И я жаловаться не смею, - продолжает свое письмо Михаил Никитич. Опытный
«дядюшка Матв(ей) Арт(емонович) меньшой говорил мне, чтоб лошадь я ему
оставил, а он бы свел в деревню свою после моего отъезда. Я теперь один живу; может
быть, что сие уединение мне будет полезно.
Наконец, письмо от 22 февраля сообщает о давно ожидаемых
переменах - об отпуске:
Это будет, как я надеюсь, конечно предпоследнее мое письмо, затем что
отправление мое теперь зависит только от меня. Третьего дня ввечеру яотпущен и
только мне стоит взять пашпорт. Самое время гонит меня отсюда. Весь день
ужасная капель. Так надобно ускорить. Срок мой первое июня, хотя и просился по май65,
а просился-то целый месяц. Майор велел сказаться, когда поеду: видно, хочет что-
нибудь наказывать... Полковник, когда я пришел к нему благодарить, говорил мне:
«Много беспокойств навел мне ваш отпуск». - Я не понимаю, для чего бы? Что тут
такое мудреное. Эти сомневающиеся люди и себе и другим несносны... - «Да
приезжайте, - продолжает, - подолее послужить здесь. А то только что приедете, да и
уедете. Это обидно...» - Тут позамялся наш разговор другими, после просил меня сесть
и был довольно ласков. Но у меня, я не знаю для чего, не лежит к нему сердце. Он
имеет таинство сделать холодными людей. Это не Сергей Александрович.
Михаил Никитич, добившись отпуска, имел бы все основания быть
довольным: просимый им отпуск он получил с превышением. Полковник, у
которого, видимо, помимо беспокойств могли быть и неприятности, в беседе с
«отпускником» был корректен и внимателен. Конечно, его беспокоил не
94
только трехмесячный отпуск, но и дальнейшая служба Михаила Никитича в
полку. Отсюда это «просительное» обращение и признание в своем
отношении к происходящему: «Да приезжайте ... А то только что приедете, да и
уедете. Это "Обидно...» В этой истории правота, по существу, на стороне
полковника. Конечно, Михаилу Никитичу было приятнее увидеть отца, получить
передышку от службы, которая и без того была весьма необременительной,
для чего он и воспользовался высоким положением своего отца и
покровительством влиятельных лиц. Полковник оказался поставленным в сложное
и ложное положение. Понял ли это Михаил Никитич? Вероятно, понял или,
по крайней мере, почувствовал. Более того, складывается впечатление, что
Муравьев мог оставаться в полку только при условии значительного запаса
свободного времени для литературных занятий, встреч с родственниками и
друзьями, посещений театра, Академии наук, Академии художеств,
праздников и, конечно, постоянного общения с довольно широким кругом
литераторов, людей искусства и науки. Но и этого свободного времени не хватало:
нужно было длительное свободное время, т.е. отпуска, и в следующие года
он обильно пользовался ими66. Похоже, что с начала 1778 г. военная служба
Муравьева в Измайловском полку стала быстро превращаться в фикцию.
В том же письме от 22 февраля 1778 г. Михаил Никитич сообщает отцу
о том, что на днях он был у Анисима Титовича Князева, тщетно
ожидающего ответа на его два письма, посланные к Никите Артемоновичу в связи с
ржевским воеводой Шишкиным. Дядюшка собирается в воскресенье ехать в
деревню. Но это все скороговоркой. Все мысли уже с отцом, и не только
мысли - «я уж почитаю себя одной ногой в Твери».
Следующее письмо - от 26 февраля. Его могло бы уже и не быть, если
бы Михаил Никитич выехал в Тверь, как это предполагалось. Но
произошла непредвиденная задержка:
Маленькие кое-какие должности меня поостановили еще здесь: ко мне был
прислан человек от дядюшки Льва Андреевича для сыскания ему учителя67, мне
самому должно было разнести книги, которых я довольно понабрал, распрощаться. -
Притом же тысячи других мелкостей, которых и не предвидишь, особливо когда
отправляешься в дорогу, встретятся. Слава Богу, почти все уже я исполнил: иное как-
нибудь. Наконец, думаю, что это уж последнее от меня письмо получить изволите;
затем, что я на сих днях отправляюсь.
Некоторые соображения о дороге и длительности пути до Твери, вместе
с обсуждением вопроса экономии:
Сказывают, что благополучной ездою поспевают в шесть дней. А как теперь
дорога немножко поиспортилась, то думаю, что не прежде восьми дней буду в
Твери. Для того, что я еду на наемных, а не по почте. Это род епитимьи, которую я
наложил на себя, что(б), проживши здесь столько, как я, по крайней мере, переезд мой
не столько убыточным сделать. Мы было наняли за 6 руб. с полтиною, да наш
извозчик занекался и меньше семи рублей не едет. Хотя у нас и будет, что везти,
однако тройке, кажется, не тяжело. Я бы мог и по почте ехать и теперь уж быть в
Твери. Марк Федорович очень приставал ко мне, да мне не знаю, что-то взошло за
упрямство в голову; а он поехал прошедшую пятницу. Василий Иванович Майков
также хотел ехать около середы отсюда. Анисим Титович нетерпеливо ждет вашего
ответа на его два письма; он пробудет здесь долго и чуть ли не до лета ... Теперь
писать уж бесполезно, затем что я скоро и сам вас увидеть надеюсь.
95
Письмо от 15 марта 1778 г. направлено отцу уже из Москвы, куда
Михаил Никитич приехал из Твери вместе с сестрой, с Любовью Федоровной
Муравьевой, Анной Федоровной и Иваном Петровичем Вульфами. Письмо
писалось в доме Арины Афанасьевны (московская знакомая Муравьевых. -
В.Т.), у которой обедали все поименованные выше. Михаил Никитич
спешит успокоить отца:
Все мы, слава Богу, здоровы и, конечно, сами не опоздаем возвратиться в Тверь;
порукой в том погода, которая ежечасно портит дорогу. Приехали мы сюда во
вторник часу в седьмом после обеда. Приняты очень хорошо от тетушки Федосьи
Алексеевны, которая всегда вспоминает вас за столом. Не знаю, не обеспокоиваем ли
мы ее; а она нас столько покоит, что нельзя более ... Антон Алексеевич (Барсов,
профессор Московского Университета, издатель «Московских Ведомостей»,
бессменный секретарь «Вольного собрания», редактор «Опыта трудов». - В.Т.)
показывал мне листы четвертой части трудов нашего Собрания, и мои стихотворения
делают ее заключение. Прозаические же мои сочинения оставлены до пятой части.
В субботу будет заседание, в которое я особливо приглашен. Я хочу еще поместить
в сию часть трудов мою «Рощу», которая, по крайней мере, будет иметь
достоинство новости. Мне также хочется прочесть то, что я зачал об оде, и еще кое-какие
мелочи. Думаю, что одно заседание не истощит.
Кроме того, Михаил Никитич извещает отца, что Настасью Федоровну
Муравьеву «отвезли вчерась в монастырь». Можно догадаться, что
свободного времени у Михаила Никитича и его компании в Москве было мало.
«Прочих дел мы еще почти и не зачинали. Новостей не знаю никаких...»
И, наконец, последнее письмо из опубликованной серии писем Михаила
Никитича Муравьева к отцу - от 19 марта 1778 года. Все здоровы, но
письмо от отца письма нет. Все беспокоятся, особенно сестрица68. «Тетушка
изволит столько об нас стараться, что нам ни о чем думать не осталось». Но
кое о чем заботиться приходится и самому Михаилу Никитичу:
Я себе купил сукна на кафтан и все, что к нему надобно. Отдавать еще не отдавал и не
знаю еще, отдавать ли по краткости времени, которое мы здесь проживем, и по дорогой
цене, которую за шитье возьмут. Здесь так грязно, что пешком ходить никак (не) возможно; на
дрожках я и не при(вык), да и так перебрызгаешься, что показать(ся) нельзя; карету же
нанимать дорого. Это (меня) заставляет самовольно лишаться удовольст(вий), которыми бы я
здесь мог пользоваться. В субботу был в Собрании и читал из своих сочинений. Моя «Роща»
будет включена в нынешнюю часть трудов. Старые мои милостивцы приняли меня
по-прежнему очень хорошо (конец письма оторван. - В.Т.).
Москва гостеприимна, радушна, патриархальна; она «своя» и для
нынешнего петербуржца Михаила Никитича и для тверитянки Федосьи
Никитичны. Много свободного времени, но в отличие от Петербурга здесь оно не
расписано, а приятно заполнено- гости, лавки, ряды...
В этом же письме от 19 марта после основной его части и приписок к ней
Федосьи Никитичны, Анны Вульф и Любови Муравьевой - важная
упоминанием матери приписка и самого Михаила Никитича:
Сейчас хотел было я запечатать письмо. Сестрица с сестрами Анной
Федоровной и Любовью Федоровной и с ними Иван Петрович только теперь что съехали в
ряды69, а я нет затем, что мне места недостало в карете, и для того, что мне
надобно было переписывать для Собрания. Пришел постиллион с письмом, которое
сестрицу обрадует особливо. Мы за долг свой почитаем быть на гробе у
матушкин прежде уж положили быть в середу...
96
1 Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 259-377 (публикация писем
М.Н. Муравьева, осуществленная Л.И. Кулаковой и В.А. Западовым), далее -
отсылка к этому изданию даются в тексте в скобках после цитаты.
2 См. Жинкин H Л. М.Н. Муравьев (по поводу истекшего столетия со времени его
смерти) // ИОРЯС Импер. Акад. Наук. 1913. Т. XVIII, кн. 1. СПб., 1913. С. 273-352, 279
(цитата из Муравьева - Рукописи, папка № 3, 74-75).
3 См. запись в дневнике Муравьева: «1772 из Вологды сентября ... в Петербург 25
октября 1772; октября 31 Измайловского полка солдат. 1772 ноября 24 капрал» (цит. по:
Жинкин НЛ. Указ. соч. // Рукописи, папка № 23: на первой странице обложки).
4 Херасков, кажется, был недоволен баснями Муравьева и, главное, его выбором
сатирической линии: в одном из писем к отцу находим - «Мих. Матв. Херасков у Вас. Ив.
Майкова в доме попрекал мне, что я не читал их (басни. - В.Т.) никому из них прежде
печати».
5 Здесь достаточно перечислить наиболее значительные стихотворения Муравьева
(в их числе и лучшие), которые были написаны в 1775-1777 гг., т.е. до того времени,
которое отражено в опубликованных письмах писателя, начинающихся с 8 мая 1777 г.
В 1775 г. были написаны - «Скоротечность жизни» (Седины не возвращают...),
«Ода вторая к A.M. Брянчанинову» (Сколько крат ни вспоминаю...), «Ода третия»
(Смертный суетен родился...), «Ода четвертая» (Стихотворство нам открыло...),
«Ода шестая» (Как яры волны в море плещут...), «Ода» (Восприял я лиру β длани...),
«Ода седьмая» (О вы, которые хотите...), «Ода девятая» (Душой и сердцем
сокрушенным...), «Ода десятая. Весна. К Василью Ивановичу Майкову» (Весну хощу
гласить я ныне...), «Неизвестность жизни» (Когда небесный свод обымут мрачны
ночи...; в 1802 г. автор снова обратился к этому тексту), «Сонет к Василию
Ивановичу Майкову» (Я, Майков! Днесь пленен твоей согласьем лиры...), «Сонет к Музам»
(Исчезните, меня, пленявшие мечты!..), «Письмо к A.M. Брянчанинову на смерть
супруги его Елисаветы Павловны» (Елизы больше нет!.. Я лью потоки слезны...),
«Опыт о стихотворстве» (О вы, чей пылкий дух и несозрелы лета', вторично - 1780),
«Время» (Постоите, вобразим, друзья, бегуще время...), «Пускай завистники
ругают...», «Стихи на первое апреля» (Санковскому стремлюсь я ныне подражати...),
«Размышление» (О, пагубная сеть страстей необоримых!..), «Эпиграммы»,
«Эпитафии», «Возвращение весны» (В последний раз пустил дыханье Аквилон...),
«Прекрасной всход зари».
В 1776 г. были написаны - «Жалобы Музам» (О вы, что первою моею страстью
были...), «Эпистола к Н.Р. Р***» (Благополучие, которо нам толь лестно...), «С
брегов величественной Волги...», «Ода» (Священный замысл порывает...), «Ода»
(Тревожится кипяща младость...), «Ода» (Бежит, друзья, бежит невозвратимо время...),
«К Хемницеру» (Спокойствия пловец желает, бурю видя...), «Ода шестая (к Д***)»
(Твоею возбужден хвалою, воспаляюсь...), «Прискорбие стихотворца. К*** в 1777
году» (Узнаёшь ли томну лиру..., 1776, 1777), «Желание зимы» (Проникнув из земли,
былинка жить не чает...), «Ночь» (К приятной тишине склонилась жизнь моя...),
«Зрение» (О превосходное души орудье, Око...), «Бедственное мгновение. Сказочка»
(В деревне мальчик рос, Олешей звали...), «Примирение» (Прелестная и резва
Нина...), «Зила» (Рассеявалася зарею темнота.., ΙΊΊ6 или 1777), пять четверостиший-
посвящений Феофану Прокоповичу, Антиоху Кантемиру, Николаю Поповскому,
Антону Лосенкову, Евграфу Чемезову.
В 1777 г. было написано большое стихотворение «Роща» (Дашь ли свободный
мне вход под тихо колеблющись тени...).
6 Анна Андреевна, урожденная Волкова, была сестрой Александра Андреевича
Волкова, известного деятеля театра и литератора.
7 О Николае Ерофеевиче Муравьеве см. подробнее «Словарь русских писателей
XVIII века». Вып. 2. К-П. СПб., 1999. С. 313-314. В частности, он был связан и с
академическими кругами. Им было написано «Начальное основание математики» (ч. 1,
1758; часть 2 должна была касаться геометрии, но она не появилась). Позже состоял
в переписке с знаменитым М.-Р. Монталамбером.
4. В.Н. Топоров
97
8 В письмах Муравьев употребляет несколько вариантов названия города - Санктпе-
тербург, С. Петербург, С. Петерб., С.Пет. - все в формуле «место-дата»; Петербург,
Питер.
Ср. косвенные отсылки к Петербургу: «И под петербургским небом же я люблю
останавливаться на подробностях, как и при волжских берегах» (264); ... «я перебегу
несколько приключений дорожных и мало значащих, что поберечь места
петербургским» (264); «У петербургского архерея так долго сидят за столом, что мирские
прелести не пойдут на ум» (295).
9 К мотиву «веселой» жизни в Петербурге («Что за славная столица / Славный город
Питербург, / Испроездя всю Россию / Веселее не нашел...») см. с. 647 в наст, книге.
10 Наконец, однажды появляется и обозначение целого, «большого» пространства -
России (ср. «Сказывают, что Иван Иванович Шувалов возвращается в Россию», 276).
11 При этом необходимо подчеркнуть: этот круг данных почти не отражен в письмах
Муравьева, во всяком случае, 1777-1778 гг. Сам характер писем не предполагал
информации отцу о том, что строится или разрушается в городе и какие чувства вызывают
у пишущего те или иные архитектурные памятники. В письмах к отцу Муравьев писал
о самом себе, о своих делах, занятиях, встречах, о своем быте, т.е. о том, что
интересовало отца, иначе говоря, о том новом, что случилось с ним и о чем отец еще
не мог знать.
12 Если быть более точным, то в 70-е годы в Петербурге кое-где еще по недалеким и тем
более по далеким окраинам города сохранялись поселения, возникшие в допетровское
время и, очевидно, сохранявшие еще какие-то черты допетровской застройки.
Особенно это относится к двум ареалам, которые к 70-м годам стали уже осваивать, хотя
и довольно слабо. Речь идет о двух еще «негородских» пространствах: первое к
востоку от Невы до ее поворота на запад севернее Ниеншанца (Nyen-Stad) и к северу
от Невы же и Большой Невки и второе к югу от будущего Обводного канала. На
этих поросших лесом пространствах на плане 1700 г. до отмечено 46 поселений и/или
мыз, среди которых Rohilax-hof, Uckanova (Kivanity-by), Küskala (Kuskova-by), Wehary-
by, Torcka-by, Puttux, Eikie, Macura, Björkenholms-hof, Arizka-by (Anoka), Lilla-Aditzova-
by, Krog, Possola-hof, Wralofzina-hof, Wralofzina-by (Palaneha), Kanduia-by, Säbrina-by,
Parvuschma-hof (Kononoffs-hof), Usadit, Kaliina, Rämana-by и др. Сравнение планов 1700,
1705, 1725, 1738, 1756 гг. с планом 1777 г., с которого начинаются рассматриваемые
здесь письма Муравьева, достаточно хорошо фиксирует преемственность старых «до-
петербургских» поселений, в известной степени сохраняющих свою старую
изолированность от города и в 70-е годы и даже свой «лесной» контекст. См. Планы С.
Петербурга в 1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799, 1840 и 1849 гг. с приложением планов
13 частей столицы 1853 г. Составлены Н. Цыловым. СПб., 1853. Собственно говоря,
второй («южный») ареал, видимо, сохранял свою «поселенческую» структуру и в 70-е
годы с достаточной полнотой или, во всяком случае, оставался «лесным» по
преимуществу, тогда как в первом («северном») местами началось освоение
первоначального «допетровского» пространства городом, но и здесь речь могла бы идти лишь о
довольно робкой урбанизации. Не ясно, однако, в какой степени Муравьев был знаком
с этими пространствами. Во всяком случае можно с уверенностью утверждать, что
через «южное» он неоднократно проезжал при поездках в Москву и Тверь, а в
«северном» он бывал: в письме к отцу от 29 января 1778 г. Муравьев сообщает: «По утру был
я на Выборгской стороне у Хемницера, своего старого приятеля и
которого вы также любите» (343).
13 За исключением Третьего Зимнего дворца, построенного в 1732-1735 гг. и отчасти
дворца Разумовского (1730-е годы), построенного Растрелли для графа Левенвольде,
но в 1760 г. разобранного и в 1762-1766 гг. воссозданного по проекту Кокоринова и
Валлен-Деламота.
14 В 1764 г. дом Штегельмана был взят в казну и в последующие годы (с точностью
определить их не удается, но едва ранее 70-х) подвергся перестройке.
15 Авторство колокольни Никольского Собора теперь склонны приписывать Растрелли,
а не Чевакинскому, как считалось раньше.
98
16 Позже работы вели «архитектурии гезель» Г. Дмитриев, в 1778-1779 гг. И.Е. Старов.
Еще позже над корпусом «Кабинета» работали Кваренги и Л. Руска.
17 Отчасти это сохраняется и позже, причем даже в художественном творчестве
писателя, ср. стихотворение «Богине Невы» (Протекай свободно, плавно, I Горделивая
Нева...) (1794).
18 Блок, так охотно отказавшийся от исконного названия города, в стихотворении,
написанном 1 сентября 1914 г., вспомнит то же небо - Петроградское небо мутилось
дождем.
19 «Веселую» жизнь в Петербурге Муравьев заметил не первым и не последним.
Недаром первая петербургская земля была названа Lust-Eiland, т.е. Веселый остров
(Заячий о-в). Но и не только Заячий остров. Л.Ю. Эренмальм, оказавшийся в
1710-1720 гг. в Петербурге в качестве пленника, в своей рукописи, составленной в
1712-1714 гг., упоминает о «прекрасном устье» Невы, а также о «столь
многочисленных веселых островах». И после долгое время охотно распевали лакейскую
песню «Что за славная столица, ρ азвеселый (вар. - распрекрасный) Петербург*»
А «развеселый Питинбрюх» стало одно время главной характеристикой города. См.
с. 647, в наст, книге.
20 Ср.: Сижу дома, читаю или перебираюсь в своих бумагах; ежели выду, и выхожу
нередко, тысячу мест входит в голову, где еще быть
надобно (280); «Пришел домой (286); - Я был на Васильевском острову у
дядюшки ... так что домой уже пришел я поздно (289); - ... Мое упражнение дни с два-три
попромежутилось и я по большей части сидел дома (299); -Дома, конечно, не
обедать. Где же? Неотменно у Михаила Матвеевича (Хераскова. - В.Т.) (303); - Итак,
я оттуда опрометью домой (325); - Вчерась был ... для меня день весьма
приятный, затем, что я был весь д о м а и одинехонек. И делал кое-что, и это услаждает,
когда чувствуешь свое уединение не бесполезным (328); - Мне очень жаль, что г.
Пестов не застал меня дома (340); - Сие письмо пишу я, зашедши домой из
школы (342) ... я сегодня дома не обедал (344). - Разумеется, есть примеры, когда
Муравьев бывает дома и у других или не застает их д о м а.
21 Вот она, запутанность в отношении кто есть кто для «внешнего», ничуть не
смущающая Михаила Никитича, которому, как и его отцу, все ясно и объяснения не
требуются!
22 Галерная гавань (как и Литейная, названная по находящемуся в приневском конце ее
Литейному двору) не принадлежит к числу природных пространств, которые позже
были переинтерпретированы в административном плане. Создание Галерной гавани,
событие в сфере культуры, стало основанием для усвоения этого названия
соответствующему урочищу.
23 См. Планы С. Петербурга 1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799, 1840 и 1849 гг. с
приложением планов 13 частей столицы, изданные в 1853 г. Составлены Н. Цыловым.
СПб., 1853.
24 Еще Пушкин обозначил это место в «Медном Всаднике»: Почти у с а м о г о
залива I Забор некрашеный, да ива I И ветхий домик: там оне I Вдова и дочь, его
Параша. I Его мечта... Тот же, видимо, домишко ветхий, занесенный на остров
малый, появляется и в финале этой «петербургской повести» У порога I Нашли безумца
моего, I И тут же хладный труп его I Похоронили ради Бога. Следуя логике
художественного повествования и самого языка, они встретились, но уже по ту сторону
жизни, еще западней западной части Васильевского острова, ближе к царству смерти. -
Но подлинным летописцем Галерной гавани стал точный до дотошности и, пожалуй,
несколько скучноватый немец Иван Генслер в своем первом прозаическом
произведении «Гаваньские чиновники в домашнем быту, или Галерная гавань во всякое
время дня и года», опубликованном в 1860 г. в «Библиотеке для чтения» (том 162) и
вызвавшем очень разные отклики - от восторженных до более чем сдержанных, с
упреками в недостатках. Стоит напомнить, что Тургенев и Герцен согласно оценили этот
очерк Галерной гавани положительно. Никакая давно уже не гавань, эта местность и
сейчас носит свое прежнее название - Гавань.
4*
99
25 Ср. работу автора этих строк «Аптекарский остров как городское урочище (общий
взгляд)» (см. в наст, книге).
26 Но и двор не как обозначение царского дворца, а как частный дом, ср.: ... сказывают,
что теперь только съехал (Михаил Федорович Соймонов. - В.Т.) с двора (340).
Ср. вместе с тем - Он также был на куртаге 22 чис(ла) (297), что отсылает
непосредственно к царскому дворцу.
27 Упоминания Собрания (352, 353, 354) относятся к Москве.
28 Несколько, иной случай - «к Г... адъюнкту Санктп. Академии наук» (324).
29 Упоминается также дача Бутурлина по Сарскосельской дороге, ср.: Он (Михаил
Никитич Кречетников. - В.Т.) стоит у Руки, по Сарскосельской дороге, не
доезжая заставы, в сторону, на даче Бутурлина (285). Не раз упоминается и
само Сарское село, ср.: Нынешний день только застал я Якова Ефимовича (Сиверса. -
В.Т.) в его мызе для того, что прежде и приезжал, так был вСарском селе,
где он почти по неделе живет (281); - А Великий Князь по причине беременности
Великой Княгини не выезжает изСарского села (383); - Государыня изволит
ехать скоро вСарское село (319);- Теща его умерла, и он живет теперь на
мызе (296); - Дважды упоминается и Кронштадт, ср.: Вчерась ночевала (Татьяна
Петровна. - В.Т.) у дядюшки и завтра едет вКронштат (302); - Он (дядюшка. -
В.Т.) ее принял довольно благосклонно, и от него уехала вКронштат (304).
30 Следует помнить, что, помимо объектов sensu stricto, в письмах Муравьева немало и
объектов иного рода, имплицирующих, однако, объекты sensu sticto: когда в
тексте появляются слова рота, полк, Собрание, Экономическое
общество коммерц-коллегия, Академия, театр и т.п., то
имеются в виду не только соответствующие институции и совокупности людей,
объединяемых в них, но и материальное заполнение перечисленных локусов,
воплощенных вдома, здания, казармы и даже избу (ср.: «Совет был в и з б е »,
«совет с Иваном Матвеевичем») и т.п.
31 Муравьев был одним из ранних певцов Невы. Еще в конце 70-х он связал город и
реку словами, ставшими формулой и сохраняющими свою формульную силу
-«Великий город у Невы» (ср.: Но мы опять бы зреть желали / Великий
город у Невы, I Где пребыванье основали I Искусства, грации и вы. - «К Феоне», 1778
или 1779, с заключительным триадическим стихом, невольно откликнувшемся более
чем через полтора века в сходной же концовке стихотворения Ахматовой «Немного
географии» (1937) - Он, воспетый первым поэтом, I Нами грешными - и тобой).
В связи с цитатой из Муравьева {Великий город у Невы) и мотивом славы в первой же
строфе его стихотворения «Богине Невы» (1794), ср. славно, уместно вспомнить
строки из ахматовского стихотворения «Ведь где-то есть простая жизнь и свет...» (23
июня 1915. Слепнево), а именно - Но ни на что не променяем пышный I Гранитный
город славы и беды,/ Широких рек сияющие льды / ...Помимо
тоже формульного определения Петербурга как города славы и беды существенно
отметить еще два места - одно в согласии (и тоже невольном) с Муравьевым, другое -
в разногласии с ним. Первое - пышный город при муравьевском Оставив
пышный град («Ночь», 1776, 1785(?)) или же - Я твой меняю кров на π ы ш н ы й
Петрополь («Путешествие», первая половина 70-х годов (?). Вообще нужно
сказать, что эпитет пышный рано привязался к Петербургу-городу и к Неве-реке. Ср.
уже у Пушкина: Прошло сто лет, и юный град,/ Полнощных стран краса и диво, I
Из тьмы лесов, из топи блат I Вознесся пышно горделиво («Медный Всадник»);
Как я люблю, над пышною Невою,! Мечтать вечернею порою (Мятлев -
«Нева»); Да, я люблю его, громадный, гордый град, I Но не за то, за что другие', I Не
здание его, не пышный блеск палат, I И не граниты вековые (Григорьев -
«Город», 1 января 1845 г.); Любуйся ж, юноша, на η ы ш н ы й , гордый град
(Григорьев - «Город», 1845-1846) и т.п. Впрочем, и другой великий и святой город, отзвук
идеи которого так очевиден в Петербурге, Рим тоже пышный -Град
пышный, где твои чертоги? и тут же по соседству Ты был ли, г о ρ д ы й Рим, земли
самовластитель... (Баратынский - «Рим», 1821). Город и град, пышный и
100
гордый, блеск, слава, гранит, Нева и зданья по ее берегам - наиболее сильные
характеристики текста славы Петербурга, любви к нему ((я) люблю - тоже
нередкое признание поэта в своем главном чувстве к городу). - Но и о существенном
различии. Для Муравьева Нева одна и едина, она река по преимуществу, а именно она
персонифицируется в Богине; для него она течет не только мимо царского дворца, но
и мимо «тенистых островов» (омываемых, кстати, водами других Нев), ср.: Протекай
спокойно, плавно, /Горделивая Нева,/ Государей зданье славно I И
тенисты острова! Для Ахматовой - здесь широкие и разные реки, ср.: Широких рек
сияющие льды. Но в обоих случаях - здесь поэзия, творческое вдохновение, И голос
Музы еле слыШный.
32 Море (Немецкое) упоминается еще однажды в связи с отъездом конт-адмирала Грей-
га и каперами, разъезжавшими по этому морю (290).
33 Почти пушкинское Мороз и солнце, день чудесный...
34 Нередко используемый Муравьевым образ, утвердившийся вскоре в русской поэзии.
Ср., впрочем, Как может быть, чтоб тонкий пар среди зимы рождал пожар
(с акцентом скорее на физическом явлении, чем на поэтическом выражении).
35 В письме от 31 июля 1777 г. из Петербурга - важное заявление своей позиции:
«Напрасно говорят, что переменение климата имеет влияние и на свойства
наши: и под петербургским небом столько же я люблю останавливаться на
подробностях, как и при волжских берегах» (264).
36 Если не считать появления кометы.
37 Очевидно, оно было из тех нередких в Петербурге лет (украденных лет), о которых
сказал Пушкин в «Евгении Онегине»: Но наше северное лето, I Карикатура южных
зим, I Мелькнет и нет: известно это, I Хоть мы признаться не хотим (Глава
четвертая, XL).
38 Ср. элементы «минус-пейзажа» в функции причинного объяснения - «Пропущение
письма произошло только от того, что поздно пришел от дядюшки в превели-
чайшую грязь, и темень была ужасная» (315).
39 При самой быстрой в то время «частной» езде на лошадях обычно не проезжали
более чем десять верст, т.е. скорость быстрой езды превышала скорость пешехода
примерно вдвое. Расстояние и время растягивались, остановки становились чаще, и
простая поездка даже по меркам XIX в. превращалась в путешествие.
40 Речь идет о Великом Российском собрании (при Московском Университете),
организованном в 1771 г. И.И. Мелиссино.
41 Большая часть письма из Петербурга от 31 июля 1777 г. посвящена приключениям по
пути в Петербург. Основное место занимает случай с Павлушкой, по-своему весьма
колоритный - «Павла в Крестицах покрали на четыре рубли: тут принужден был
простоять - два дни меня дожидался; однако не дождался. Я его нашел в Бронницах
плачущего. Нашлись люди, которые, сжалясь на слезы его, овса и сена по нескольку ему
давали, так лошадь не исхудала. Сколько стоило мне труда сыскать кого-нибудь из
бронницких ямщиков, чтобы съехать на Полосы! ... Почтовый сержант, спасибо ему,
зная приключение Павлушкино ... много мне помогал. Он, наконец, нашел мне
богатого мужика, который взял дорого, да делать было нечего». И далее как компенсация
за приключение с Павлушкой (а приключения и путешествия, кажется, связаны
какой-то незримой нитью. - В. Т.) - встреча с дядюшкой Матвеем Артемоновичем
Муравьевым старшим, приехавшим за четыре дня до этого из Ряжска, ласковый прием,
долгие родственные разговоры о его «упражнении в экономии» («Сено грабил сам»),
о тверском житье, о воспитании Ивана Матвеевича Муравьева младшего, о других
родственниках и т.п. (264).
42 О Петербурге ничего подобного (кроме как в дни наводнений) Муравьев никогда не
писал, и в этом описании московской непролазной грязи, конечно, чувствуется автор,
петербургский житель.
43 Ср. характерные пассажи этого рода - «Я думаю, что вы уже изволили получить одно
мое письмо, хотя и не в настоящее время. Понедельничная почта упредила его, так
оно послано на вторичной. И я боюсь, чтобы сие замедление уже не приключило вам
101
беспокойства. В чем у вас, батюшка, нижайше прошу прощения. Ваше милостивое
письмо от 26 и(юля) я получил третьего дня и уже некоторые письма разнес» (265).
44 Покровительство имело многообразные формы. Можно было «замолвить» за
просителя доброе словечко. Можно было ограничиться и просто советом, поскольку
«покровители» располагали более широкой, чем проситель, информацией о положении
на этом «рынке услуг», в том числе и скрытой, и, конечно, обладали большим опытом
в том, что и как нужно делать для достижения успеха. Характерен в этом
отношении фрагмент из того же самого третьеавгустовского письма - «Я подал также
Федору Яковлевичу письмо от дядюшки Матвея Артемоновича; он, прочетши, сказал,
что дядюшка сам, будучи здесь, не мог выпросить (характерное слово. - В. Т.)
Ивана Матвеевича у князя в сержанты, так напоминание от меня (т.е. от Федора
Яковлевича. - В. Т.) еще будет слабее; не лучше ли подождать до тех пор, как
вступит в службу. Г. Шипов (Михаил Иванович Шипов, секунд-майор Измайловского
полка до 1782 г. - В.Т.) приказал вам благодарить, и как он говорит обыкновенно
ласково, так и сказал, что во всем, где только он будет мне
полезен, я могу требовать от него всякого
вспоможения (266). - Подобная система «искательства-покровительства»
удерживалась и 30-35 лет спустя, о чем можно судить по многим примерам того, как работает
эта система, описанным в «Войне и мире» Толстого.
45 За этот короткий срок Михаил Никитич встречался с господами майорами, с Федором
Яковлевичем Олсуфьевым, Николаем Васильевичем Леонтьевым, Александром
Ивановичем Лобановым-Ростовским, Михаилом Ивановичем Шиповым, князем Петром
Алексеевичем Голицыным, Сергеем Александровичем Хотяинцевым, - людьми
военными, но и занимавшими по большей части видное положение в светском обществе,
но также и с прокурором Адмиралтейской коллегии Федором Михайловичем Коло-
кольцевым, с его сестрой Татьяной Михайловной Флоровой-Багреевой, с видным
писателем и канцелярским протоколистом Михаилом Ивановичем Поповым, с
асессором Палаты гражданского суда Киприаном Ивановичем Гороховым, с петербургским
купцом Докучаевым, не говоря уж об Иване Матвеевиче, в доме которого он жил, и
своих слугах Павлушке и Ваньке, итого полтора десятка «человеко-встреч», не считая
неизвестное число «господ-майоров».
46 Неоднократное упоминание в письмах школы и кадетских рот требуют комментария,
тем более что это имеет непосредственное отношение и к Михаилу Никитичу. Еще в
1770 г. при Измайловском полку были учреждены две кадетские роты, имевшие
целью образование «в науках и фронтовой части» и рассчитанные на молодых дворян,
числившихся в гвардейских полках, от рядовых до сержантов. Учебный год,
продолжавшийся с 1 сентября по 1 мая, был заполнен обучением французскому и немецкому
языкам, математике, фортификации, истории, географии, фехтованию, верховой езде
и т.п. С 1 мая начинались «строи», т.е. строевые учения. См. Письма, 1980, 366.
47 Эти интересы не исчерпываются темой перстня. В письмах неоднократно говорится о
векселях, деньгах, счетах и расчетах, имущественных вопросах. Жажда наживы
отсутствует, но контроль над поддержанием на должном уровне материального достатка
несомненен, и он как бы предупреждает возможность дефицита: «Здесь купил карету
в 120 р. и едет на своих» (260); «Призвали кузнецов: придачи к нашей шине просят
полтину. Мы подавать двадцать копеек и так далее, ничего не помогло ... дать
принуждены» (262); «Павла в Крестицах покрали на четыре рубли» (264); «Показалось, так
будучи близко ... не заехать было бы не рассудительно (и) скупиться, дал 1.80 коп. и в
тот же вечер приехал на Полосы» (264); «Дал мне для перевозу к Ивану Матвеевичу
ассигнациями 200 руб.» (264); «Вчерась у Федора Михайловича взял я 25 рублей из
числа оставшихся 214 руб(лей). Он давал мне и сто рублей, да я попросил двадцать
пять» (271); «Что касается до денег, украденных у Павлушки, то это сущее несчастие
и которого предупредить почти было не можно. Украдено же 3 рубли и 75 копеек
(273); «Новый в е к с е л ь...: Вологда, мая 30 дня 1777 года, вексель на 493 р. 27
коп. в двенадцать месяцев ... по сему нашему одинакому векселю повинны мы
заплатить ... серебряною монетою денег четыреста пятьдесят три рубля двадцать
102
семь копеек» (281); ... ежели удастся, зайду к Докучаеву (петербургскому купцу, с
которым Муравьев имел дела. - В. Т.) для переменения векселя» (266), пишет
отправитель письма от 3 августа отцу; ср. также - «Мне надобно будет сходить к
Докучаеву для надписания при нем на векселе издержанных на покупку 69-ти руб.
3074 коп· (деньги счет любят! - В.Т.). Я еще в сие время не успел» (288); «Наш Кра-
сильников приказал в середу выходить и с векселем на гостиный двор»
(313);«Не помню, писано ли мною прежде к вам, что я получил от него 150 рублей в
сентябре месяце. Итак, с полученными прежде 25 руб., всех будет взятых 175 р.» (301);
«Дядюшка приказал отписать, изволили вы взять 50 руб. с Мячкова» (303); «В
Москве он (Захар Матвеевич Муравьев. - В. Т.) должен сорок восемь рублей, что далеко
вещи его превосходят» (327); «Тридцать душ еще такие, которые надо выхлопотывать.
Верного только пустошь, которая в год приносит 18 рублей» (335); «Завтра получу я
от Зах(ара) Матв(еевича) 25 рублей» (339); «От Захара Матвеевича получил я медью
пятьдесят рублей. Как изволите приказать их переслать? (340); «Полученные мною от
братьев 50 руб. как изволите приказать перевесть к вам? Притом нижайше прошу о
деньгах Петра Алексеевича (Костливцев, родственник Муравьевых. - В. Т.)
отписать к Федору Михайловичу (Колокольцеву. - В. Т.). Он с полгода назад хотел к вам
писать о них: что человек, у которого они теперь, просит их у него оставить, и все еще
не писал» (342); «К Федору Михайловичу хорошо бы было, если бы вы отписать
изволили о деньгах Петра Антоновича» (346); «Волосы, или лучше сказать букли,
куплены и лежат у меня. Заплачено 2.50 к.» (348); «Мы было наняли за 6 руб. с полтиною,
да наш извозчик занекался и меньше семи рублей не едет» (351); «... хочет (дядюшка.
В.Т.) здесь купить дом Фаминцина, просят 9000 руб(лей)» (286) и т.п.
Наследником огромных богатств деда стал старший сын Муравьева, родившийся
19 августа 1796 г. и ставший в будущем главой Северного общества декабристов.
Важные дела требуют точности, и Михаил Никитич в таких случаях пунктуален и,
естественно, зная цену деловому документу, приводит его в своем письме к отцу в
идентичном виде:
«Вологда, мая 30 дня 1777 года, вексель на 493 р. 27 коп. в двенадцать месяцев,
считая от сего тридесятого числа мая тысяча семьсот семьдесят седьмого года, по
сему нашему одинакому векселю повинны мы заплатить его превосходительству
действительному статскому советнику господину Никите Артемоновичу Муравьеву или
кому он прикажет серебряною российскою монетою денег четыреста пятьдесят три
рубли двадцать семь копеек: толикое число мы от его превосх(одительства) получили
сполна. Векселедавцы Петр Филиппов Попов, купец вологодский, Петр Стефанов
Конев, купец вологодский».
Деньги любят счет - до копейки и в этом случае - никакой приблизительности.
«Мне нынче много писать кое-каких известий, и как я их воображу, так кажется, что
без того не пройти, чтоб не запутаться».
Ср.: «В сей материи нового сказать нечего; я ж не имею столько силы, чтобы дойти
до источников ее и заслужить внимание знающих. Небольшое сведение
дифференциального исчисления делает почти бесполезным такое начальное сочинение и которое
не может иначе почесться, как прочие учебные книги - арифметика или геометрия.
Прежде уже издал Козельский «Предложения механические» (СПб., 1764. - В. Г.),
которые довольно пространны, но доказаны только по-геометрически литерами, без
присовокупления алгебры. Мне будет надобно их иметь, чтоб посмотреть, могу ли я
приступить к исправлению. Утруждать Академию о рассмотрении будет, я думаю,
дерзко, а вырезывание фигур очень дорого. Я, с позволения вашего, куплю себе еще
какие-нибудь основания математики, чтобы или обогатиться и взять их в порядок»
(Письма, 1980, 291-292). - Однако в письме от 21 сентября 1777 г. он снова
возвращается к той же теме, из чего видно, что окончательный выбор еще не сделан:
«О Механике думаю я, исправив ее сколько мне можно, попросить прочесть Ру-
мовского (Степан Яковлевич Румовский - академик, работал в области математики,
астрономии, геодезии, принимал участие в работе над "Словарем Академии
Российской". - В.Т.) и чтоб он дал свой ко мне письменный отзыв, с которым и поднести
103
рукопись подполковнику. Я думаю, что Румовский от этого не откажется, тем паче,
что в плане данном Академии Петром I, сие самое сделано одною из должностей
академика. Крафт (Вольфганг Людовик (Логин Юрьевич) Крафт, академик, математик,
работал с Л. Эйлером. - В.Т.) мог бы мне еще споручнее быть, да он не разумеет по-русски».
52 И такое общение души с отцом происходило два-три раза на недели и было
необходимым условием, постоянной живой потребностью любящего сына.
53 Здоров и весел требует комментария. Современному читателю это весел может
показаться некиим отклонением от нормы, элементом самоиронии, шутки, игровой
несерьезности, легкомысленности, некоего избытка чувств при общении с отцом, даже
и письменном. Но, зная язык М.Н. Муравьева, его тяготение к архаическому слою в
языке, вернее, укорененность в нем (разумеется, при владении нормами языка своего
времени), можно думать, что здоров и весел представляет собой архаическую
формулу глубокой (индоевропейской) древности (ср. эту формулу и в других письмах:
«Я, слава Богу, здоров, весел и всем обязан Вам». Письма, 1980, 310 и др.),
обозначающую состояние физически-телесного и духовно-нравственного здоровья -
целостности. К весел ср. лтш. vesels * здоровый', 'целый* при liksms 'веселый',
'радостный'. Язык Муравьева, к сожалению, еще не дождался своего исследователя.
54 Стоит напомнить, что церковь Вознесения находилась там, где и позже, до
разрушения в 30-е годы XX в., что Псковское подворье с церковью (перестроена в 1760-х
годах архитектором А.Ф. Вистом) располагалось на Васильевском острове на северном
углу 6-й линии и Большого проспекта, что небольшая Троицкая полковая церковь
Измайловского полка находилась напротив так наз. «холодной» деревянной Троицкой
церкви, стоявшей на месте одноименного каменного собора, законченного
архитектором В. Стасовым в 1835 г.
55 Явное проявление благородства сына: его деньги, переведенные в Тверь, где
пребывает отец, при нехватке средств, в любом случае могут стать и существенным
ресурсом отца.
56 Возможно, письмо Д.И. Карманова было вызвано «подстереженным словом»
Михаила Никитича, о котором он пишет в предыдущей фразе.
57 Можно напомнить, что с сердцем в русской традиции связаны противоположные
начала и эмоции, ср., с одной стороны, сердиться, серчать, в сердцах и, с другой,
сердечный, сердечность, сердобольный, усердный и т.п.
58 См.: Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 2. К-П. СПб., 1999. С. 310 (В.А.
Запалов); Жинкин Н. Указ. соч.
59 Эти визиты к Анне Андреевне были даже слишком часты, особенно в последние две
трети декабря. Ср. хотя бы: «Третьегодни обедал я с Анной Андреевной в аглинском
трактире» (письмо от 11 декабря); - «Третьегодня, напротив того, просидел до поздых
у Анны Андреевны» (18 декабря); - «Я нынче часто бываю у Анны Андреевны» (25
декабря). Имя ее встречается в декабрьских письмах Муравьева и в других контекстах
и будет встречаться и позже. Существенно, что эти частые посещения Анны
Андреевны Михаил Никитич относит «в свой авантаж».
60 Указ о производстве гвардейских офицеров от 7 января 1778 г. напечатан был в
«Санктпетербургском вестнике» (1778, ч. 1, 79) и «Санктпетербургских новостях» от
12, 16, 19, 26 января 1778 г. (см. Письма, 1980, 375). - В.Н. Трубецкой был сводным
братом М.М. Хераскова.
61 Несомненно, эта неровность в душевном состоянии, казалось бы, немотивированные
переходы от подъема энергии до ее исчезновения, состояния «скуки и равнодушия»
были признаками некоей болезни, парализовавшей волю и впоследствии не раз
отраженной в письмах, дневниковых записях и других высказываниях Муравьева, когда он
особенно болезненно испытывал знакомое ему taedium vitae.
62 Иногда «милостивый Государь батюшка» завершает последнюю фразу письма
непосредственно перед подписью или перед самохарактеристикой.
63 Слово леность применительно к себе не раз встречается в письмах Михаила
Никитича. Ср., в частности, в письме от 6 февраля: «Если я хочу делать свое счастие в свете
и меж людьми, мне только должно вспомнить ваши наставления. Беспечность моло-
104
дости, леность помрачили их перед моими глазами. Я виноват во всем и тем
больше, что со знанием вины».
64 «Росписные списки», «описки», «недописки» и т.п. - та бюрократическая казуистика,
о которой говорили - «пошла писать губерния».
65 Реально же Муравьев вернулся в Петербург лишь 3 июня.
66 Так, в 1779 г. Муравьев пребывал в отпуске с сентября по 3 июля следующего года, в
1780 г. отпуск вообще длился почти весь год.
67 Это лишь один из многочисленных примеров взаимной помощи в пределах муравьев-
ского рода.
68 В приписке к отцу Федосья Никитична выражает тревогу за отца еще определеннее -
«Милостивый Государь батюшко Никита Артемонович! Я не знаю, что мне думать о
вашем молчании; вот уже почта пришла, а мы не имели от вас писем; дай Бог, чтоб вы
были здоровы, все наше счастие состоит в том».
69 О посещении рядов и покупках пишет отцу и Федосья Никитична в приписке к
письму брата от 19 марта - «Я купила себе тафты белой на платье, также и всякой
всячины на накладку, которую буду делать дома (т.е. по возвращении в Тверь. - В.Т.). Я
чаю, что мы отсюда поедем в четверг, мне этого очень хочется; теперь мы едем еще
в ряды кое-что покупать» (Письма, 1980, 353-354).
ИЗ РАЗДЕЛА III:
ПЕТЕРБУРГ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
(1830-1840)
НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ:
К НОВОЙ РУССКО-ЕВРЕЙСКОЙ ВСТРЕЧЕ
(Л. НЕВАХОВИЧ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ)
Памяти Марии Сергеевны Гринцер
«По что сетуешь ныне, дщерь Иаковля? - чего тебе не достает? -
возвести! - Не созерцаешь ли ты того же Солнца, как и иноплеменные? - Лучи
его согревают всех вообще. - Стопы твои не попирают ли ту же злачную
землю, как и другие? - Не пользуешься ли ты тем же воздухом, тою же жиз-
нию, тем же общежитием, как и иные обитатели полушара земнаго? -
возвести! -
Ах! - нет не сие смущает меня, - вопиет дщерь Иаковля, - увы! я упадаю
духом, я уничижена пред лицем земли; я изключена из той связи, каковою
пользуются другие подсолнечные обитатели; я теперь себя не узнаю. - Но
прежде, нежели возвещу всю тоску мою, внемлите мне земные племена, или
вы паче, - возлюбленные Россияне! -
К вам преимущественно обращаюсь; пред вами осмеливаюсь отверсти
уста мои; пред вами, снисходительные и непоставляющие себе за стыд быть
собеседниками с несчастною дщерию Израиля, не взирая на то, что я
другого племени, закона и униженнаго жребия; - пред вами которые лишь
только узрели лучи просвещения; то в то же самое мгновение исполнились духа
терпимости; пред вами я изливаю сердце мое.
Так, - находясь в бездне ничтожества, я видела благодетельнаго сына
вечности, протекший 18-й век, век человеколюбия, век терпимости, век
кротости, век, в который знатные и сильные стали слушать истинну,
повествуемую людьми малыми и слабыми, век безпримерный в Истории, век,
который возвел Россию на вышнюю степень благополучия, - Россию, которою
я принята, как дщерь ... Дух мой воспаряет превыше звезд, и чувства мои
разширяются на подобие горизонта. Я вспомнила, что я человек, и сего уже
довольно к моему одобрению.
И так, с единой стороны великодушие ваше, Россияне, а с другой
унылый дух моих единоплеменников производят во мне те чувствия, которыя
силюся здесь изобразить. Две противоположные причины рождают во мне
едино движение. Первая ободряет, а вторая понуждает.
«Вопль дщери Иудейской»
106
Конечно, здесь есть и преувеличения, забегание вперед,
экзальтированность духа, чрезмерность оптимизма перед лицом будущего, на глазах
становящегося настоящим. Но в подлинности чувств, настроений, желаний,
надежд сомневаться нельзя. И именно это придает сказанному силу
достоверного свидетельства, приоткрывавшего - пусть на короткое время - окно в
некую новую жизнь. А преувеличения? - Они не нуждаются в оправдании и
легко могут быть объяснены тем, что молодому еврею-провинциалу,
попавшему в Петербург, показалось, что дней Александровых прекрасное начало
может разом разрешить и то, что его мучило, и то, что наполняло его
радостью, - боль за униженное положение своего народа и надежду стать
полноправным участником русской жизни и служить делу российского
Просвещения. Назначение нижеследующих страниц - в напоминании о новой1 русско-
еврейской встрече в начале XIX в., с которой связывались такие надежды и
благие плоды которой, казалось, столь зримы и реальны.
Факт встречи с еврейским этноязыковым и культурным элементом
составляет важный критерий в истории целого ряда европейских государств (в
российско-еврейской перспективе особенно существенными оказались
польско-еврейская и немецко-еврейская встречи), а то, как эта встреча
происходила и какие проблемы решались, становится своего рода показателем
вхождения в «пост-медиевальные» исторические структуры2. С вершины
второго тысячелетия становится очевидным, какую роль играли разные
варианты решения этой проблемы и как использовался этот критерий позже,
вплоть до настоящего времени, при все расширяющемся круге подобных
встреч. Каждая из европейских стран и культур решала по-своему, с
индивидуальными отличиями, проблему интеграции евреев и еврейской культуры
в гражданское общество и в национальную культуру. Специфика русской (и
российской) ситуации состояла в том (если говорить в общем), что «новая»
встреча с еврейским началом в сколько-нибудь значительном масштабе по
сравнению со странами Центральной и Восточной Европы произошла
поздно (практически на рубеже XVIII и XIX вв.) и что условия встречи - и с
еврейской и с русской стороны - были иными, нежели в Европе. Само
возникновение проблемы встречи и необходимость дать ответ на вопрос
интеграции для России были знаком начинающегося разрыва со Средневековьем и
в этой области и вхождения в цивилизацию Нового времени, а для евреев,
оказавшихся не по своей воле в России, - открытием еще одной
возможности приобщения к новой для них цивилизации, к идеям просвещения и на
российской почве и, следовательно (пусть сначала для ничтожного
меньшинства), разрыва со средневековым укладом жизни, с галутом - тесным и
жалким прозябанием в рассеянии-изгнании и в изоляции, разрешения
векового противоречия между тягой к светским формам культуры и жесткими
требованиями традиционной религиозной обрядности в ее раввинистиче-
ской форме (реакцией на нее изнутри отчасти и был хасидизм, особо
активно проявивший себя именно в то же порубежное, между XVIII и XIX вв.,
время и именно в Восточной Европе, в тех частях ее, которые вошли в состав
России). Эта история «новой» встречи пока коротка - всего два века,
вместивших в себя и вдохновляющие эпизоды взаимопознания и открытия своей
близости в «человечестве», и великие приобретения для обеих сторон,
отлившиеся в устойчивые культурные формы, и горькие и трагические
107
страницы, напоминающие, что то жало, которое имело свои религиозно-
идеологизированные корни в Средние века, все еще продолжает отравлять
атмосферу совместного и провиденциально-благого общежительства,
обрастая новыми все более и более измельчающимися и все более и более
несостоятельными мотивировками.
Не случайно, что новое появление еврейской темы в истории России
приходится на петровское царствование (хотя уже после Андрусовского
договора 1667 г. евреям было позволено или уйти в Польшу, или остаться на
территориях, отходящих к России, а история российского законодательства
о евреях восходит к еще более ранней дате - 1649 г.). Это еще не встреча:
скорее - «предвстреча», опробование возможностей, прикидка. Она
становится возможной не сама по себе, но при определенном посредничестве
Запада. Зная нужду Петра в опытных мастерах, амстердамский бургомистр
Витсен (а Петр вполне доверял ему) посоветовал ему пригласить в Россию
голландских евреев, опытных в ремеслах (причем с семьями). Петр будто бы
ответил примерно так: «Друг мой Витсен, ты знаешь жидов и образ мыслей
моих подданных, и я также знаю и тех и других. Не время еще дозволить
жидам приезжать и жить в моем государстве. Скажи им моим именем, что я
благодарю их за предложение и сожалею, что они желают селиться в
России; ибо хотя они почитаются за весьма искусных обманывать весь свет,
однако ж я думаю, что у моих русаков не много они выторгуют». Конечно,
здесь важна не сама буква, но угадываемый за нею дух. Надежнее дневник
одного из спутников Петра в его путешествии по Европе3, по которому
можно судить об интересе царя к жизни евреев, обнаруживаемом неоднократно.
Впрочем, известно, что из Голландии Петром был вывезен сын
португальского еврея Антон Мануйлович Дивьер, ставший в 1703 г. π е ρ в ы м
петербургским генерал-полицмейстером и возведенный в графское достоинство
(несмотря на последующую опалу и сибирскую ссылку, при Елизавете он
снова оказывается в Петербурге и в той же должности). И вообще в
петровское время в поле зрения оказываются евреи иностранного происхождения
(ср. шута-«карлика» Яна д'Акосту, происходящего из евреев-марранов4, и
др.); иное дело - Шафиров, внук еврея (остается неясным, откуда был родом
штаб-лекарь Семеновского полка Абрам Энс). Тем не менее и среди самих
евреев большинство не готово было променять Западную Европу на только
что возникшую северную столицу. К тому же были и такие, кто
отговаривал их от этого по религиозным соображениям. Еще в 50-х годах XVIII в. ке-
нигсбергский раввин Лев Эпштейн писал, что «провидением предуказано,
чтобы евреи не жили в Петербурге, так как в летние месяцы там нет ночи
(белые ночи) и, следовательно, нельзя определять время утренних и
вечерних молитв». Хотя по отдельным баловням судьбы нельзя судить о
положении евреев в России, все-таки характерно, что после смерти Петра следует
серия указов об изгнании евреев из пределов Российской Империи5. Нелепость
этих указов и их мелочность (запрещение не только на право жительства, но
и на временные приезды) начинали входить в противоречие с реальными
потребностями (между прочим, это отчасти касалось и связей с Западом,
где положение евреев уже было существенно иным), хотя они несколько
смягчались узусом («закрывание глаз» на исключения, что весьма широко
практиковалось в отношении евреев и позже, вплоть до начала XX в.).
108
Поэтому официально евреев в России к середине XVIII в. не было, но
фактически они и оставались и появлялись на время.
Такое положение существовало до Екатерины II. То, чего не сделал
Петр, было сделано ею по ее собственному желанию, и в этом тоже
следует видеть косвенное посредничество «западного» начала (как вся
просвещенная часть немецкого общества первой половины XVIII в., Екатерина не
имела предрассудков в отношении евреев и, кроме того, похоже, первой из
коронованных особ увидела, какую пользу они могут принести России).
Екатерина была озабочена необходимостью освоения пустующих земель Ново-
россии, и уже в 1764 г. поручила исполнение своего плана заселения
евреями этих территорий Леви Вульфу, еврею, проживавшему в Петербурге и
ведшему подрядные дела с казной6. И позже Екатерина проявляла
терпимость по отношению к евреям, попадавшим в столицу и, более того, зная
цену этой терпимости на Западе, не без гордости сообщала о ней. Характерно
письмо 1773 г. к Дидро, где Екатерина, как бы между прочим, сообщала, что
у ее духовника проживают трое или четверо евреев, которых «терпят
вопреки закону, делая вид, что не знают об их пребывании». Другой пример
того, как обходили закон: в том же 1764 г. Екатерина приказывает генерал-
губернатору Риги выдать паспорта, не указывая национальности, семерым
евреям, состав которых показателен - 3 купца, раввин, его помощник,
резник и слуга. В результате подобной политики и особенно, конечно, разделов
Польши, когда в пределах Империи впервые оказалось большое
количество евреев, которые были приняты в российское подданство, положение
быстро меняется, и в Петербурге, «сильном» месте русско-еврейских
контактов, образуется к концу царствования Екатерины и при Павле небольшая,
но устойчивая и представительная еврейская колония, состоявшая из
богатых или занимающих достаточно высокое положение (хотя бы по своим
реальным связям) лиц, а также из приезжающих евреев-иностранцев. Именно
в это время в Петербурге оказываются наиболее известные участники
первых встреч - коммерсанты, деловые люди с далеко идущими планами и
широкими проектами (среди них оказался и переводчик-писатель), причем их
деятельность с самого начала приобретает известный общественный
резонанс. Особенно характерной стала эта ситуация, когда наступило «дней
Александровых прекрасное начало» и велась подготовка к выработке
«Положения о евреях» 1804 г., когда оформился некий «общественный» актив
евреев (Нота Ноткин, Абрам Перетц, Лейба Невахович, Мендель Левин из
Сатанова /Сатановер/7 и др.) и прямые связи с такими деятелями
Александрова царствования, как Кочубей, Сперанский, Канкрин и др. (впрочем,
Нота Хаимович Ноткин, тогда еще Натан Ноте из Шклова, Натан «Шкло-
вер», постоянно общался с Потемкиным по делам поставок для армии еще
в конце 80-х годов)8.
Принятие евреев в российское подданство и образование еврейской
колонии (несколько десятков человек) в Петербурге по своей сути и своим
последствиям должны быть отнесены к эпохальным событиям, хотя осознание
этой эпохальности в полной мере становится фактом наших дней. Самым
важным и направленным своей сутью в будущее обстоятельством было
появление принципиально нового статуса существования евреев в России -
петербургский еврей, поскольку этот статус открывал евреям
109
кратчайший путь к русской культуре, а русским - путь к знакомству с
евреями, их жизнью и их потребностями (в полосе оседлости эти возможности
были, конечно, существенно более ограниченными). Удачей было и то, что
постоянный еврейский локус в Петербурге появился вхорошее время:
евреям позволялось приезжать с семьями и останавливаться надолго
(настолько надолго, что именно Петербург становился их главным, если
практически не постоянным, местожительством); складывались и некоторые
постоянные институции (в частности, при колонии были резник и моэль); не
прерывались торговые дела, ведшиеся евреями в столице, сюда же
постоянно приезжали депутации для каких-либо ходатайств или участия в работе по
законодательному урегулированию положения евреев (позже вошел в
обычай вызов в Петербург для консультаций представителей раввината и
еврейской кагальной верхушки) и т.п. В 1802 г. евангелическо-лютеранская
община Св. Петра уступила евреям часть своего Бретфельдского кладбища
(Волкова лютеранского), и первые евреи законно легли в сырую землю столицы
Российской Империи. Бесценны данные «пинкаса», памятной книги об
умерших, хранившейся при кладбище (первая запись - от 1 апреля 1802 г.):
Уважаемый и почтенный Натан-Ноте из Шклова; Р. Хаим Шмуклер (басон-
щик) из Брод; Р. Ошер сын Исайи Кац (ааронид) из Могилева; Р. Мордехай
сын Шраги-Файвиша из Шклова; Р. Мататия сын Ионы Кац; Р. Иегуда-Лейб
сын Озера из Шклова; Р. Элиезер сын Гершона из Новоместа; Р. Ицхак сын
Натана Сегаль (левит) из Могилева; Р. Иошуа сын Хаима из Шклова; Р. Саб-
батай сын уважаемого р. Натана-Ноте. Пинкас Бретфельдского кладбища -
та основа, на которой должна быть выстроена будущая история еврейского
родословия петербургского периода, имеющая стать важнейшим
источником истории евреев в российском рассеянии. Но не единственная основа.
Другую составляют сведения о первых наиболее активных и
представительных участниках «новой» русско-еврейской встречи - Ноткине, Перетце, Не-
ваховиче, прежде других перебросивших мост в своем личном жизненном
опыте от культуры Талмуда, мидрашей, Мишны, от пурим-шпилеров и клез-
меров к русской жизни в один из творческих ее периодов, крусскому
слову. Рождение в русском слове было, вероятно, самым важным и
решающим прорывом в решении задачи интеграции еврейства в русскую жизнь и
русскую культуру, хотя важность ее понималась сторонами не в одинаковой
степени.
Справедливость требует, однако, признать, что мост, соединявший обе
культуры, проходил не над бездной: земли Восточной Польши, Литвы,
Белоруссии, вскоре вошедшие в состав России, конечно, не знали тех
просвещенных гетто, какие были в Германии XVIII в., но влияния, шедшие
отсюда, доходили до Вильны, Полоцка, Шклова, все новое жадно ловилось и
хотя бы частично усваивалось; те, кому было это надо, хорошо знали о
великом просветителе немецких евреев Моисее Мендельсоне9, о созданном им в
1750 г. еженедельнике «Kohelet Mussar» на древнееврейском языке (хотя он
и прекратил свое существование на втором выпуске), об указе Фридриха II
«Об удержании в Прусском королевстве евреев», об основании в 1783 г. Ке-
нигсбергским кружком «любителей еврейского языка» органа еврейских
просветителей «Меасеф» (в 1786 г. кружок превратился в «Verein für Gutes
und Edles» и вскоре возобновил издание журнала в Берлине, 1788-1790), об
ПО
интересе к Маймониду (прежде всего к «More Nebuchim» - «Путеводитель
заблудших») и к естественным наукам. Еврейским умственным центром
стал Шклов, в Вильне предпринимаются попытки издания печатного органа
на еврейском разговорном языке, и позже виленским прогрессистам
удается начать издание «Pirche Zafon», в Варшаве появляется другой печатный
орган - «Sama dechaja», щебершинский и полоцкий раввин Иегуда Лейб Мар-
голиес пишет сочинения на естественнонаучные и социальные темы, ряд
произведений по анатомии, астрономии и математике издает виленскии врач
Борух Шкловер, а уже упоминавшийся шкловский меценат Иошуа Цейтлин
в своем имении Устье (в Чериковском уезде Могилевской губ.) собрал
вокруг себя ученых евреев и построил на свои средства, следуя древней
традиции, Бет га-Мидраш (букв. - 'дом исследования'), своего рода высшую
школу10, при которой была создана и библиотека; мудрецы-талмудисты,
получая все необходимое для жизни, могли сосредоточить все свои усилия на
богословских занятиях, там же зарождается идея издания еженедельника на
древнееврейском языке («Братья мои! - говорится в соответствующем
воззвании, - в настоящее время даже в маленьких городах немало людей,
жаждущих знания. Главной помехой является отсутствие книг»). Задача
распространения знания через налаживание периодической печати волнует евреев
в течение десятилетий - и в Шклове, умственном центре просветительского
движения, и в Вильне, и в Варшаве и даже в Одессе. Все это происходит в
обстановке нарастающего антагонизма между светским знанием и
обрядовой религией. Возникают разные планы, касающиеся типа издания, выбора
языка, общего направления. Замыслы чаще всего или лопаются, как
мыльные пузыри, или даже не успевают быть реализованными. Но прусские
центры еврейского просвещения оказываются все более влиятельными в
ареале, лежащем к востоку11. «Прусская» модель через польско-литовское,
шкловско-полоцкое, рижское посредство в несколько адаптированном
варианте переносится в еврейскую колонию в Петербурге: по словам
С.Л. Цинберга12, «петербургскими Итцигом и Эфраимом» (известными
берлинскими финансистами) становятся Абрам Перетц и Натан Ноте, а
«петербургским Мендельсоном» - поклонник «меасефистов» Лейба Невахович, и
первые их шаги, кажется, сулят успех и им самим и, главное, общему делу.
Уже в 1813 г. министр юстиции Вязмитинов докладывает Александру I, что
виленские евреи «желают издавать газету на своем языке», и получает
высокое разрешение с единственной оговоркой - «если еврейский кагал
примет на себя ответственность, что в газете ничего не будет помещаемо
неприличествующего».
Для полного представления о русско-еврейских встречах существенно
было бы реконструировать и взгляд с «русской» стороны. Говорить здесь о
подобной реконструкции нет возможностей, хотя кое-какие источники,
делающие ее возможной, существуют и некоторые из них заслуживают внимания,
даже если иногда речь идет о курьезных ситуациях. Таково, например,
воспоминание Эразма Ивановича Стогова, племянника одной из первых русских
поэтесс Анны Буниной и деда по материнской линии другой Анны -
Ахматовой. Эти воспоминания относятся к впечатлению от постановки оперетки
«Удача от неудачи, или Приключение в жидовской корчме», на которой
мемуаристу пришлось присутствовать на святках 1818 г.: «Помню, - пишет Сто-
111
гов, - весь театр хохотал, когда жид, одетый по-домашнему в чулках и
башмаках, со всеми характерными ужимками хитрого еврея, перепрыгивал с
одной стороны стоявшего спокойно господина на другую и пел: спию пану пис-
ню ладзирду(?) шинцер-кравер лицерби(?) шинимини канцерми, спию и
станцую ладзирду и пр. Не объясню, как могла память оживить слова
совершенно для меня непонятные». Цитирующий эту фразу Л.О. Гордон13
комментирует ее - «чистосердечно прибавляет этот добрый человек (Стогов. - В. Г.),
нисколько не подозревая, что эта тарабарщина состоит из несуществующих
слов, никакого смысла не имеющих»14. Текст, разумеется, испорчен, но нет
оснований сомневаться в его осмысленности (ср. шинимини канцерми =
Schöne Minna, komm zu mir, ладзирду = лтш. Lai dzirde 'пусть они слушают'
/или - 'он, она слушает'/ и под.) и в возможности более определенной
реконструкции как языковой формы высказывания, так и его смысла.
* * *
В этот период и возникает любопытная в летописях русско-еврейских
встреч фигура замечательного деятеля русско-еврейского просвещения,
автора первого литературного произведения на русском языке,
обращенного к русскому читателю, еврея-иудаиста Лейбы Неваховича,
стремительно вросшего в русскую жизнь и русскую культуру, познавшего радость
успехов и горечь поражений. Несколько слов о его жизненном пути, потому
что он очень характерен для поколения первых «ласточек»
русско-еврейской «весны».
Тот, кто вошел в историю русской культуры как Лев Николаевич Невахо-
вич, начинал свой жизненный путь как Иегуда Лейб бен Hoax (далее
последовательно - Лейба Невахович, Л. Невахович, Лев Невахович), родился 26 июня
1776 г. (по другим, видимо ошибочным, сведениям - в 80-х годах) в небольшом
городке Волынской (позже Подольской) губ. Летичеве (Latyczow, Latyczew) и
умер в Петербурге 20 сентября 1831 г. (похоронен на Волковом лютеранском
кладбище). О допетербургском периоде жизни Неваховича, кажется, почти
ничего не известно, кроме того, что его отец был варшавским банкиром.
В Петербурге Невахович появился, видимо, при Екатерине или при Павле, во
всяком случае в конце XVIII в., вместе со своим другом и бывшим учеником
Абрамом Перетцем (см. ниже), о котором сообщается, что он поселился
в Петербурге еще в 80-х годах XVIII в. Если эта дата верна и если Невахович
и Перетц действительно перебрались в Петербург вместе, то окажется,
что это событие произошло, когда первому из них было приблизительно -
немногим меньше, немногим больше - 10 лет (сколько лет было его ученику
Абраму Перетцу, дата рождения которого неизвестна, - сказать трудно, но
все-таки правдоподобно предположить, что ученик был старше учителя:
слишком смелым было бы предположение, что два еврейских мальчика
приехали самостоятельно в Петербург и поселились там). Сообщение о том, что
они поселились в столице без семей, т. е. без жен (по меньшей мере) и детей,
еще более порождает сомнения в верности хронологических показаний:
разрыв между 80-ми годами - временем появления в Петербурге, и 1776 г. -
годом рождения Неваховича, между возрастом учителя и ученика становится
зияющим и дает повод думать о каком-то дефекте хронологии.
112
Невахович начинал как переводчик: на переводах важных документов с
еврейского из дела по обвинению руководителя белорусских евреев Залмана
Шнеерсона15 помечено имя Лейба Неваховича. Он действительно знал
несколько языков, а русским владел очень хорошо. Немецкая литература эпохи
Просвещения была ему близка и любима. В частности, он неоднократно и с
видимым удовольствием цитировал Лессинга, но, кажется, более других ценил
Моисея Мендельсона, ученика и последователя Лейбница и Вольфа, автора
«Morgenstunden, oder Vorlesungen über das Dasein des Gottes», чей образ
отразился в лессинговском «Натане Мудром»16. Но мендельсонианство среди евреев
Германии и Речи Посполитой не было явлением, вызывающим удивление;
удивительным и, более того, исключительным (другие примеры, кажется,
неизвестны) было притяжение и любовь Неваховича крусской культуре,
стремление писать по-русски, интерес к русской литературе и истории и
художественное и философско-публицистическое творчество на практически
безупречном языке. «Далекие от русской культурной жизни, маскилим {maskilim,
т.е. поборники светского учения, ср. maskil 'уразумевший', 'просвещенный'. -
В.Т.) были космополитами, а Невахович почитал себя русским гражданином»
(Евр. Энц., XI, 622); можно было бы добавить - не по необходимости, но по
душевному желанию и свободному выбору. Невахович вполне обдуманно и
ответственно перешел на русский язык, «более известный и употребительный
в моем отечестве», как он с гордостью заявлял об этом.
Когда в 1803 г. Еврейский комитет приступил к выработке
законодательства о евреях, Невахович, судя по всему, вошел в него и работал в нем (или,
по крайней мере, имел существенное отношение к работе Комитета),
поскольку каждый из членов Комитета имел право пригласить к работе одного
еврея. Деятельность этого комитета, приведшая к появлению «Положения о
евреях 1804 г.», была замечательной инициативой русской государственной
власти по ее своевременности, актуальности, по либеральности и гуманности
принципов, которые были положены в основание этой деятельности, по
надеждам, возлагавшимся на результаты работы и, к великому сожалению, не
оправдавшимся, хотя все-таки исключительно негативная оценка результатов
едва ли была бы справедливой. Поэтому уместно сказать несколько слов о
предыстории самого этого предприятия и о том, как оно было организовано,
поскольку в этой теме соединяются и событие значительного общественного
звучания и, как можно предположить, «звездный час» в жизни самого
Неваховича, высший взлет его надежд и глубокое разочарование в итоге. Как
известно, идея пересмотра законодательства о евреях возникла еще в
царствование Павла: резкое увеличение еврейского населения Империи в результате
разделов Польши, два из которых приходились на 90-е годы, и полный хаос в
законодательной сфере, регулирующей жизнь евреев в новом для них
государстве, не позволяли откладывать решение «еврейского вопроса», и III
департаменту правительствующего Сената было поручено собирать
необходимый материал, что и делалось в течение четырех лет. Правда, сначала
«еврейский вопрос» понимался, скорее, как «крестьянский» вопрос, как оградить
крестьян от «вредной» и разрушительной деятельности евреев, от их
экономической экспансии и господства в этой области. Новое царствование сильно
изменило ситуацию, и в центре «еврейского вопроса» на этот раз
действительно должны были оказаться евреи. Указ Сената от 9 января 1802 г. пору-
113
чал особому Еврейскому комитету разрешение вопросов еврейской жизни.
Комитет 1802 г. официально назывался «Комитетом, для составления
положения о евреях учрежденным», или «Комитетом о благоустройстве евреев».
В Комитет вошло пятеро членов, причем за одним исключением его состав
нужно признать удачно подобранным - министр внутренних дел граф Виктор
Кочубей, товарищ министра иностранных дел князь Адам Чарторыйский
(Чарторыжский), граф Зубов, сенатор граф Северин Потоцкий и министр
юстиции Державин, позже замененный князем Лопухиным (Державин считался
крупным специалистом по еврейскому вопросу, поскольку при Павле он
составил «Мнение об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного
обузданием корыстных промыслов евреев, о их преобразовании и о прочем»,
поставившее, нужно сказать, в несколько щекотливое положение и самого Павла, не
испытывавшего недружелюбия к евреям и едва ли ожидавшего столь
странного поворота темы). Близкое участие в делах Комитета принимал
Сперанский, чье доброе отношение к евреям и понимание их роли и необходимости
законодательства о евреях были известны. Совершенно необычным и
чрезвычайно важным в работе Комитета было привлечение к обсуждению
реформы евреев, которые, с одной стороны, делегировались избранными
еврейскими обществами, а с другой, приглашались (с разрешения Александра I)
членами Комитета по личному выбору. Среди приглашенных был и Нота Ха-
имович Ноткин. С самого начала работы в качестве принципа деятельности
была избрана установка на осуществление реформы в духе прогресса и
государственной справедливости. Более конкретно руководящая идея работы
Комитета формулировалась так: «сколь можно менее запрещений, сколь можно
более свобод», с разъяснением: «везде, где правительства мнили приказывать,
везде являлись одни только призраки успехов». К сожалению, этот принцип
постепенно предавался забвению, даже тогда, когда оставалось сохраняющим
свою силу намерение принять действительные меры для преобразования
жизни евреев. Намерения направить деятельность евреев к производительному
труду и приобщить их к общерусской гражданской жизни и образованию,
«привлечь их ко всем выгодам и уважению, коими пользуются прочие
состояния под общим покровительством законов, терпимости и благоустройства»,
в ходе работы над «Положением 1804 г.» оказались не реализованными,
нужды еврейского населения в значительной степени забыты, а несколько позже,
на практике и как бы временно, допускалось применение к евреям и
насильственных мер (выселение евреев из сел и деревень)17.
К работе вокруг «Положения 1804 г.» Невахович относился серьезно и,
несомненно, питал радужные надежды. На этой почве он еще более
сблизился с Перетцем и Ноткиным и вошел в отношения с Кочубеем и, видимо,
другими важными лицами с русской стороны. Можно думать, что
Невахович - с достаточными основаниями - считал себя своего рода теоретиком-
идеологом готовящейся «еврейской» реформы в России с еврейской
стороны. Эта его позиция полнее всего была изложена в вышедшей в 1803 г. в
Петербурге небольшой книжечке «Вопль дщери Иудейской», посвященной
В.П. Кочубею18 (в следующем году она была в несколько переделанном
виде переведена на еврейский и издана в Шклове с посвящением Ноткину и
Перетцу - «Кол Шават бат Иегуда»). Появление этих книжечек самым
непосредственным образом было связано с работой Комитета и преследовало
114
гуманные цели (см. далее). То же можно сказать и о другом сочинении Не-
ваховича, опубликованном в 1804 же году, - «Человек в природе. Переписка
двух просвещенных друзей». Философичное по своему характеру, оно
связано с той же темой, что и «Вопль дщери Иудейской». Торжественно клянясь
в любви к своей новой родине, автор отдает себе отчет в том, что найдутся
и такие христиане, которые не признают в нем брата.
В самое недавнее время обнаружен еще один очень важный источник,
относящийся к Неваховичу. Речь идет об оде, текст которой написан от руки в
стихотворном (с рифмами) на древнееврейском и - параллельно -
прозаическом переводе на русский язык19. Эта ода и предшествующее ей посвящение
интересны тремя чертами: решимостью безвестного автора-еврея, не
обладающего, строго говоря, полнотой гражданских прав, обратиться к
Императору, необыкновенной оперативностью - (сразу после восшествия Александра
на престол)20 и, наконец, первым (видимо) опытом древнееврейского
стихотворного текста в рамках такого рода обращений с переводом его на русский
язык. Текст воспроизведен (в его русской части) А. Рогачевским (с. 129-130),
но в данной ситуации заслуживает повторного воспроизведения:
Его / Императорскому Величеству / Самодержцу Всероссийскому / Александру
Павловичу / на / Всерадостнейший день / Его / Восшествия на Прародительский
Престол / Марта в 12-й день 1801 года /
Верноподданнейший / Еврей Лейба Невахович
«Стихи
Уже роза расцветает, и возникает рог спасения;
Александр восходит на священнейший Престол России;
Не щастные паки получают свободу, возвращают себе
достояние и прежний блеск
и чувствуют, что каждая слеза их осушается
теплотою милосердия. Се предмет его песнохваления!
Красота Иосифа блистает в чертах образа Его,
а разум Соломона царствует в душе.
Народы о сем восхищаются во глубине сердец своих,
и взывают подобно как древле пред Иосифом: Се юн
в цветущих летах, но отец в научении!
Под его токмо Скипетром живущие народы чают, что
ни когда не произыдет между ними крамола от не
терпимости и разнообразия вер.
Отдаленнейших стран жители узря толь блаженный
жребий России,
прибегнут к освященнейшей Сени его покрова и торжественно
воскликнут:
в тебе водворяется небесная душа Екатерины
Великой;
и тогда юг и север, запад и восток взыщут мира
с обладателем полу-вселенной.
Сочинил по-еврейски и перевел на русский язык оный -
Еврей Лейба Невахович»
115
Публикатор оды правильно указывает на намеки, содержащиеся в
тексте, на дело Шнеур-Залмана (не щастные паки получают свободу), и таким
образом, в единый узел связываются и восшествие Александра на престол,
и освобождение Шнеур-Залмана, и сама ода, фиксирующая эти события, и
даже, возможно, причастность Неваховича к восстановлению
справедливости (перевод им на русский язык документов, относящихся к делу Шнеур-
Залмана). Нужно отметить, что в оде нет и следов сервильности или
неумеренности славословий. Зато она весьма дипломатична, в ней есть ряд тонких
намеков и, наконец, автор подчеркивает и свою принадлежность к евреям и
избранную им поэтику, ориентирующуюся на образы еврейской библейской
традиции (Иосиф, Соломон). Этот ранний опыт был лишь первой попыткой
вступить в контакт с Александром и, возможно, привлечь его внимание к
себе. Эта попытка не была единственной.
Возможно, что неудача с «Положением 1804 г.», крушение надежд,
возлагавшихся Неваховичем на деятельность Еврейского комитета,
вынуждают его несколько отступить в тень, в известной степени сократить сферу
своей общественной деятельности, но не сокращают его активности.
Похоже, что главная ставка делается на литературной деятельности - тем более,
что с 1805 г. внутренние дела страны и уж особенно положение евреев
отступают на задний план по сравнению с событиями на внешнеполитической
арене. Во всяком случае известно, что Невахович активно сотрудничает в
1804-1805 гг. в «Северном Вестнике» Мартынова, а в 1806 г. в августовском
номере «Лицея» того же Мартынова публикует «Примечания на рецензию
касательно Опыта Российской истории Г. Елагина» (тогда же выходит и
отдельное издание этих «Примечаний» книжечкой малого формата,
напечатанной в типографии Ф. Дрехслера, 51 с).
На этот раз Невахович вступает на почву российской истории: меняется
поле интересов, предмет исследования, но не меняется тот круг мыслей и
идей относительно русского народа и России, которые уже обнаружили
себя в «Вопле дщери Иудейской» и о которых можно судить по ряду других
свидетельств. Эти «Примечания на рецензию» - не просто попытка
защитить автора «Опыта Российской истории» Елагина, не
историка-профессионала, но человека, любящего прошлое своей страны, имеющего вкус к
истории и на старости лет погрузившегося в изучение исторических материалов
и захотевшего изложить свои соображения в несколько ином ракурсе, чем
это было принято в работах европейских историков, писавших о России.
Внимательный к конкретным фактам русской истории, Невахович,
конечно, видит за частным фактом появления в немецком ежемесячнике
«Allgemeine Literaturzeitung» (1804, Februar, N 56) рецензии на сочинение
Елагина нечто более общее, типовое, что можно сформулировать как
противоречие между профессионализмом немецких историков, писавших о России,
и той чаще всего невольной предвзятостью некоторых их взглядов,
проистекающих от непонимания ряда особенностей, определяющих характер
исторического развития России. Собственно говоря, сочинение Неваховича -
апология истории России, таковой, какова она есть, а не той, какою она
представляется из «прекрасного далека», столь отодвинутого и иного, чем
Россия, что искажение исторического взгляда оказывается почти
естественным. Эта апология обнаруживает себя повсюду, и она, похоже, для Невахо-
116
вича -главное даже тогда, когда он защищает Елагина от его
рецензента в каких-либо конкретных деталях (вообще говоря, положение автора
«Примечаний» было несколько щекотливым: по своей деликатности и
обстоятельствам выступления в печати, - возможно, «Примечания» были в
той или иной форме «заказаны» ему и отказ был связан с определенными
неудобствами - Невахович не касался очевидных несовершенств
елагинского «Опыта» и высказывал свое мнение только по тем вопросам, - очевидно,
лишь части их, - в которых рецензент был не согласен с Елагиным, а
Невахович с рецензентом). Но труд Неваховича не только апология, но и
попытка обобщить характерные ошибки западных историков России, связанные с
дифракцией исторического зрения, с одной стороны, а с другой, с незнанием
некоторых конкретных фактов или даже с плохим знанием русского языка,
порождающим ошибки, иногда весьма курьезные. Неверным, однако, было
бы думать, что задачей автора «Примечаний» было «спасти» во что бы то
ни стало Елагина, снять с него упреки в ошибках и несовершенстве. Верно
другое - Невахович давно хотел сказать (и независимо от труда Елагина) то,
что он сказал, воспользовавшись подходящим поводом. Тридцатилетний
автор в первой же фразе «Примечаний» делает свое признание: «Давно уже я
желал сказать нечто касательно невыгодного мнения чужеземцев о
Россиянах». Два более конкретных обстоятельства подвигли Неваховича
осуществить свое намерение:
«Первое. Сколь с одной стороны не простительно тем чужеземцам,
которые позволяют себе без должного размышления осуждать Россиян и
основывать суд свой на одних поверхностных сведениях, столь с другой стороны
прискорбно, что Россияне доселе допускали еще иноземцам думать о них так
превратно и предосудительно... Конечно упрек, что Россияне успехами в
науках и художествах не сравнились еще с другими Европейскими народами,
просветившимися за несколько веков прежде Россиян, уже сам по себе не
есть упрек. На против того, сравнение быстраго хода просвещения Россий-
скаго народа с постепенным ходом просвещения других народов, доставляет
первому ощутительное преимущество. Истина сия всем известна; да и
действительно ни какого бы не было места упрекам на щет Российскаго народа,
даже в умах слабейших или пристрастных, естьли бы он был народ
посредственный. Но от народа знаменитаго по быстрым и чрезвычайным успехам,
от народа великаго, ожидают и требуют великаго и чрезвычайнаго. Орел
должен парить выше и быстрее других птиц: посредственный же, или
обыкновенный полет, означает в нем недуг. По мнению разумных людей слепое
и непомерное пристрастие многих Русских ко всему не своему, родившееся
вместе со внезапным и сильным ударением света наук в полночную страну и
подкрепляемое неосторожным поручением воспитания Юношества
неблагомыслящим чужестранцам, и часто совершенно испорченным в
нравственности и невежам; и развлечение молодых людей при воспитании обучением
разным языкам, не смотря на природныя склонности и способности (ибо
здесь упражняется одна память, а не разсудок) - суть две между прочими
причины, которыя составляют сильную препону к возвышению народнаго
духа до свойственнаго величию его степени. Завистники России не умолкнут
до тех пор, пока не возгремят между (в тексте - жемду. - В. Т.). Россами
такие же великие умы по отношениям наук, каковые уже гремели и должны
117
еще греметь по отношениям политическим и военным, чего должно
ожидать от времени при исправлении образа мыслей и воспитания. Самыя ос-
корбительныя нарекания должны наконец воспламенить ревность Россиян.
Второе. В следующей Рецензии и в примечаниях на оную упоминается о
Г. Шлецере, с которым Г. Елагин не согласен в некоторых статьях
касательно происхождения Российскаго народа. Я долгом считаю предуведомить
благосклоннаго читателя, что обнаруживая несправедливость возведенных
Г. Рецензентом обвинений на Г. Елагина, не забываю однакоже должнаго
высокопочитания к Г. Шлецеру, сему знаменитому мужу нашего времени,
котораго отличныя дарования и долголетняя жизнь, препроважденная в
неусыпных трудах для человеческаго рода и главнейше в испытаниях
Российскаго бытописания, приобрели ему право на всеобщее уважение» (Указ, соч.
С. 4-7).
В этом духе - и дальнейшее изложение: стремление быть верным
истине, принципиальность позиции, обнаруживаемые, однако, мягко,
дипломатично, без драчливости и «немцеедства», которыми так грешили в ту пору
многие, и вместе с тем отстаивание собственного мнения о великих залогах
духовного развития России, распознаваемых по элементам государственного
величия.
О мотивах, побудивших автора взяться за свои примечания, сказано так:
«Не справедливости в суждении не менее прочих зол на свете тягостны
сердцу человеческому; обличение их уменьшает тягость сию. Но оне столь без-
числены, что при наших развлечениях и природной лености силимся и
успеваем обнаружить те только из них, коих отношение важнее и ощутительнее
для нас. Таким образом содержащияся в помянутой Рецензии укоризны на
щет России побудили меня объявить мои примечания на оную».
Далее текст этого труда строится в виде цитат из рецензии и примечаний
к каждой из таких цитат. Происходит своего рода вопросо-ответный диалог
Рецензента с автором Примечаний21. Некоторые из примечаний,
отталкиваясь от некоего утверждения рецензента, превращаются в самостоятельный
экскурс в область исторической психологии или психологии истории, как
она понимается народами, субъектами истории, так и самими историками,
эту историю описывающими, а иногда и в область философии истории (нет
сведений о том, знаком ли был Невахович с трудами Гердера, но по
временам кажется, что дух «Ideen zur Philosophie der Geschichte der
Menschheit» веет то здесь, то там в его сочинении, см. ниже). Такой экскурс,
например, следует за утверждением Рецензента, согласно которому
«Россияне везде жалуются на иностранцев за причиняемые им в сочинениях
последних несправедливости...» Невахович ссылается на многочисленные
примеры нелепостей и басен чужестранных историков, пишущих о России, и
объясняет многое в этой области тем, что они часто не знают языка, не
знакомы с Россией непосредственно и пишут по одной наслышке, а если и
видели Россию лично, не всегда понимали ее правильно: «Иностранцы, не зная
Русскаго языка, не знают и не могут знать духа Российскаго народа в
настоящем его существе ... Россияне на против знают себя, знают язык свой и
знают язык других народов. Они видят себя напрасно
оскорбленными в творениях иноплеменных, и вопиют. Но какое побуждение
имеют чужестранцы питать ненависть к Русским и толковать все до них относя-
118
щееся в худую сторону. - В одной политической зависти нельзя сыскать
тому довольно причины. Нетерпимость есть зло, происходящее от
самолюбия народов. Целый народ вообще имеет те же страсти, которым подвержен
человек частный. Не одно суеверие рождает сие зло; но и так называемое
просвещение. К крайнему сожалению просвещенные люди столько же
презирают непросвещенных, сколько суеверные ненавидят несуеверных. Всяк
мечтает, что кто иначе думает, тот уже ни куда не годится ... Россияне
долгое время не были знакомы с науками и художествами и не имели
взаимности с образованными народами Европы. Но Россияне всегда имели
мужественный дух, язык глубокий и обширный. ... Россияне вдруг озарились лучем
просвещения, вдруг удивили свет разными своими успехами. Они
познакомились с Европейцами, стали привлекать к себе ученых людей. Глаза их
открылись, и они увидели себя невыгодно описанными в книгах и в сердцах
иноземцев. Внешние писатели ... вместо того, чтобы вникнуть в познание
народа, им прежде не известнаго, старались токмо перетолковать все
усмотренное в пользу своих предубеждений. Стоит только захотеть, а
доказательства сыщутся. Кто знает сердце человеческое, тот знает, сколь далеко
простирается страсть ко мнениям своим, и сколь ослепителен ложный блеск
ея. Чуть ли она не причиною большей части самых важных дел в свете ...
Таким образом невыгодное мнение о Россиянах зделалось у иностранцев (за
изключением малаго числа великих умов или обрусевших) столь
существенным, что оправдание первых показалося им усилием, а похвала
достоинствам высокомерием. Вот здесь то проповедывание терпимости необходимо!
Доколе иностранцы не будут заниматься совершенным изучением Россий-
скаго слова и приобретать в том довольный успех, доколе не познакомятся
с Российскою словесностию, доколе не узнают Российскаго народа во всех
его состояниях и отношениях; до толе понятия их о нем не будут
основательны, до толе ни о чем до него касающемся не будут иметь права на решитель-
ныя суждения. Кто не знает целаго, тот не может правильно судить о части»
(33-38).
Подчеркивая в заключение, что рецензент говорит только о
недостатках труда Елагина и не говорит о достоинствах его, Невахович позволяет
себе закончить свое сочинение двумя замечаниями: «Мы чужия погрешности
легко примечаем, нечувствуя собственных слабостей и пороков» (49) и
«... осмеливаюсь притом сказать, что по моему мнению тот, кто прочитает
со вниманием творение Г. Елагина, найдет в оном много добра и пользу,
и будет весьма доволен, что оно издано в свет» (51). Доброжелательность
и широта взгляда, большая эрудиция в области русской истории (стоит
напомнить, что в это время Карамзин только еще начинал писать свой труд)
и несомненный интерес к общеисторическим проблемам, к философии
истории и психологии историка то здесь, то там обнаруживают себя в этой
маленькой и, кажется, прошедшей не замеченной в свое время книжечке.
Тем не менее Невахович обладал достаточной трезвостью, чтобы
понимать, что делать историю своей профессией в тогдашних российских
условиях и вообще невозможно, а для него, если можно так выразиться, тем более.
Что история (и не только русская) продолжала его интересовать и что у
него были определенные успехи в области художественного претворения
исторического материала, известно, и об этом будет еще сказано ниже. Но время
119
иллюзий начала Александрова царствования, совпавшее с его молодостью,
заставляло Неваховича задуматься о более надежном деле - о службе.
Недавно опубликованный документ - прошение об отставке, направленное
Александру I22, - позволяет выяснить кое-какие новые детали или уточнить
известное ранее. В частности, выясняется, что с 1806 г. Невахович служил в
Экспедиции о государственных доходах и что христианство он принял,
видимо, в 1806 г. (соображение А. Рогачевского), а не в 1809 г., как считалось до
сих пор (служба в Экспедиции отчасти объясняет и последующую его
служебную деятельность в Варшаве). Вот текст этого документа, цитируемого
по упомянутой выше публикации:
Всепресветлейший державнейший
великий Государь Император Александр Павлович,
Самодержец всероссийский Государь всемилостивейший.
Просит губернский секретарь Лев Николаев сын Невахович о следующем:
В службу Вашего Императорского величества вступил в 1806 году, а в
настоящем чине состою с 29 декабря 1809 года. Ныне же по случаю приключающихся мне
часто болезненных припадков имея нужду в путешествии для поправления моего
здоровья, всеподданейше прошу:
Дабы высочайшим Вашего Императорского величества указом повелено было
сие мое прошение приняв записать и от настоящей должности меня уволив снабдить
аттестатом.
Всемилостивейший Государь! Прошу Ваше Императорское величество о сем
моем прошении решение учинить. К подаче надлежит в экспедицию о
государственных доходах. С. Петербург, Генваря 15 дня 1813-го года. Сочинил и переписал сие
прошение проситель.
К сему прошению губернский секретарь Лев Николаев сын
Невахович руку приложил.
Чтобы закончить сказанное о служебной деятельности Неваховича,
«петербургский» период которой прекратился, думается, не только из-за
«приключающихся часто болезненных припадков», нужно напомнить, что в
1817 г. уже служил он в Варшаве при министре финансов Царства
Польского в чине титулярного советника (жив ли был к этому времени его отец или
играли какую-либо роль былые связи отца в финансовом мире Варшавы,
сказать трудно), а позже занимался коммерческими делами, в частности,
взял в аренду табачную монополию в Царстве Польском. Но и Варшаве не
суждено было стать последним прибежищем Неваховича - умер он в
Петербурге и там же был похоронен.
Возвращаясь же к 1809 г., важному в жизни Неваховича, нужно
отметить, что имя его появляется в числе подписчиков на «Меасеф» за этот год,
что очень любопытно, независимо от того, успел ли он стать уже
христианином или нет. Нужно особо напомнить, что этот знаменитый первый
еврейский ежемесячник - «Meassef» (от meassefim, букв. - 'собиратели'),
сыгравший важную роль в культурном движении еврейства (он стал выходить с
1784 г.) и сформулировавший программу поборников гаскалы23, с годами
сильно менялся, прекращался (в 1797 г.), но именно в 1809 г. снова был
восстановлен (под редакцией Шал ома Когена), чтобы просуществовать еще три
года24. Интерес Неваховича к восстанавливаемому журналу, конечно, не мог
быть случайным.
120
В этом 1809 г. состоялся дебют Неваховича в области русской
художественной литературы и τ е а т ρ а . На сцене Императорского
Александрийского театра была поставлена историческая драма Неваховича
«Сульёты, или Спартанцы осьмнадцатого столетия. Историческое
представление в пяти действиях» (отдельное издание - СПб., 1810. Типография
Губернского правления, 94 с). Пьеса подтверждает актуальность
исторической проблематики для Неваховича, тонкое чувство актуальной
политической ситуации и умение связать прошлое с настоящим и выбрать нужный
момент, когда эффект этой связи воспринимается полнее всего и
производит наибольшее впечатление. В условиях актуализации «греческой»
политики России, резкого обострения отношений с Турцией тема героической
борьбы греков-сульётов, обитавших в нижней Албании, против турок и
успешный исход этой борьбы за независимость не могла не привлечь
внимания русского зрителя и, более того, самого царя. В основе содержания -
решающее сражение греков-сульётов под началом Дзавеллы против Али-
Паши, «владетеля Албанского» в 1792 г.25 Пьеса Неваховича построена не
только драматургически грамотно, но и отличается «театральностью»,
мастерством развертывания действия и высоким искусством мизансцен и пери-
петийных сцен. Первые три действия происходят в городе Сулли (во дворце
Дзавеллы и на площади), а последние два в его окрестностях. Когда
необходимо, автор умеет нарисовать некую широкую панораму в манере, которая
была несвойственна русской драматургии начала XIX в. и стала достоянием
существенно более позднего времени (похоже, что в этом отношении Нева-
ховичем был учтен опыт немецкой драматургии, условно, «шиллеровского»
типа)26. В «реальном» центре пьесы стоит не Дзавелла, а его жена,
мужественная, мудрая, преданная Амасека. Вообще тема женщин в пьесе
подчеркнута, и такая их выделенность планировалась автором сознательно. Дело в
том, что внезапно обнаруживается, что над Сулли сгустились тучи: к городу
подступают турки, тревога охватывает жителей города, и усугубляется она
тем, что Дзавелла, «начальник Суллии» и муж Амасеки, незадолго перед
этим уехал из города, и от него нет вестей. Но есть и другая опасность, пока
никем не подозреваемая и тем более страшная: она внутри и связана с суль-
ётом Паласки, связанным с Али-Пашою и в решающий момент
изменяющим своим согражданам. Паласки только что вернулся в Сулли из дальнего
«европейского» путешествия, и драматург сразу вводит зрителя и читателя
im médias res: пьеса начинается с беседы Китона, племянника Дзавеллы и
Амасеки, с Паласки, в которой расставлены первые важные акценты, смысл
которых объяснится позже27, а пока слова Паласки зарождают лишь у
проницательной Амасеки какое-то смутное чувство: «О Паласки! - восклицает
она, - ты совсем переродился в чужих землях и в службе при Али-Паше
(сульёты должны были посылать своих граждан в распоряжение Али-
Паши. - В.Т.). Но когда судишь о делах сей земли: то помни, что страх есть
слово - для Сульёта непонятное!»
Темы турок, опасности, отсутствия Дзавеллы и той роли, которую
призваны сыграть сульётки в этих условиях, сгущаются, и обсуждение их как бы
взывает к чувству долга, воинственности, готовности дать отпор. Амасека,
сульётская «анти-Лисистрата», становится во главе предстоящего
сопротивления туркам. «Отсудствие (так в тексте! - В.Т.) супруга моего возложило
121
на меня попечение о Сульском народе ... Мне кажется, что молчание Дзавел-
лы возвещает бурю. И так, друзья, надлежит нам, как можно скорее собрав
из окружных местечек и селений и в городе военных граждан наших, быть
во всякой случай готовыми», - говорит Амасека. И несколько позже -
снова женская тема: «Сульётки в нежности не уступят никому. Но оне всего
нежнее любят свое отечество. Сия же нежность заставляет их извлекать
страшный меч, когда опасность угрожает Суллии, и раздражает их, подобно
львицам, у которых похищают детей».
Когда напряжение достигает предела, Фоклит, семнадцатилетний сын
Дзавеллы и Амасеки, захвачен в плен, Дзавеллы нет, турки наступают,
окружая город, и кажется, что спасения нет (ср. фиксацию ситуации Вестником:
/безпокойно/. «Обстоятельства наши в весьма худом положении! Громы и
молнии умножают ужасы сражения. - Китон! не возвещают ли они гнева не-
беснаго?»), - вдруг все, как бы каскадно, снимается: разоблачаются злодеяния
Паласки, Фоклит освобожден, является Дзавелла, победа совершилась, турки
бегут. Последняя партия пьесы по праву отдана Амасеке, организаторше
побед и победительнице: «Потомки Лакедемонцев! Достойные братья
храбрых Славян! (вдруг формулируемая ключевая идея, значение
которой выходит за пределы пьесы. - В. Т.). От собственных дел познавайте, что
может произвести единодушный народ при истинной любви к отечеству, -
народ, который не хочет быть побежденным, исполнен любви и доверенности к
своим начальникам, и уповает на Бога! - Поспешим во храм и принесем
совокупное благодарение за спасение отечества!»
В историко-литературном плане пьеса «Сульёты» и сейчас заслуживает
внимания28. Из всего литературного наследия Неваховича она и «Вопль
дщери Иудейской» представили бы наибольший интерес и для современного
читателя. Остается надеяться, что дань памяти писателю будет отдана и новый
читатель познакомится с этими произведениями столь необычного для
своего времени автора.
Остается сказать о «внелитературной» стороне пьесы. Она имела
огромный сценический успех. В ней участвовали А.Д. Каратыгина (Амасека),
Е.С. Семенова, М.И. Валберхова, Рыкалова, Бобров, Сахаров. На втором
спектакле присутствовал сам Александр I и оказавшийся «по случаю» в
Петербурге тогдашний правитель Сулли (как вспоминал позже в своих
«Записках» сын исполнительницы роли Амасеки известный актер и водевилист
П.А. Каратыгин, правитель Сулли и делегация сульётов поднесли А.Д.
Каратыгиной драгоценные подарки). С известным основанием можно
предполагать, что «Сульёты» были выполнением некоего «социального заказа», и
выполнен он превосходно и, так сказать, с запасом: пьеса была посвящена
Марье Алексеевне Нарышкиной, фигуре слишком известной в летописях
Александрова царствования29. Но и литературный успех тоже был велик.
«Сия драма есть одно из превосходнейших сочинений в своем роде», - писал
Н.И. Греч. Похвальный отзыв на «Сульётов» был опубликован в подробной
статье преждевременно скончавшегося писателя А.П. Бенитцкого
(30.XI/12.XII.1809), успевшего еще увидеть пьесу, в журнале «Цветник»
(1809 № 6). Уже отмечалось, что Бенитцкий выразил в этой рецензии
«эстетическое кредо, опережающее литературные пристрастия своего времени»:
«В драме сей нет идеальных добродетелей, нет мечтательных пороков -
122
пустых призраков ... люди показываются в своем виде, а не в заимствованном
из царства воображения»30. На сцене пьеса удержалась без малого 20 лет, до
начала следующего царствования. В том же 1809 г. Шаховским была
написана и в январе 1810 г. поставлена трагедия «Дебора, или Торжество веры»
(с Валберховой в роли Деборы и A.C. Яковлевым в роли Лавидона), она
тоже имела успех. В 1811 г. пьеса была издана. В работе над трагедией
немалое участие принимал и Невахович. Шаховской во «Вступлении» писал: «Я
молчал до успеха пиесы о сотруднике моем; но теперь, когда публика
удостоила ее благосклонного принятия, я почитаю своею обязанностью
сказать, что г-н Невахович, сочинитель "Сулиотов", воспомоществовал мне не
только своими сведениями в еврейской словесности, но даже он (по
сделанному нами плану) написал некоторые явления 1-го и 2-го действий,
переложенные мною с небольшими изменениями в стихи; многие мысли и
изречения в роли первосвященника извлечены им из Священного Писания;
политическая речь Деборы в судилище почти вся принадлежит ему. Итак, я с
удовольствием признаюсь пред всеми, что его дарования, сведения и здравый ум
много способствовали к успеху пиесы». Эта «политическая» партия Деборы,
судя по всему, представлена в третьем явлении третьего действия. Эти
стихи вполне профессиональны (как и партии первосвященника) и находятся на
средне-хорошем уровне драматургической поэзии начала XIX в., что
позволяет с основанием говорить как об открытии о Неваховиче - русском
драматическом поэте31. Но и на гребне успехов, после «Сульётов», когда,
казалось, была возможность претендовать на большее, Невахович не
пренебрегал и малым, менее престижной работой. Постепенно вырабатывалась
психология «мастера на все руки», никогда и ни от чего не отказывающегося,
особого варианта маленького человека, аутсайдера. Времена менялись: со
сцены сходили не только старые меценаты XVIII в., но и люди типа
Сперанского. С временами менялись люди и круг их интересов. Надеяться на
прогресс в решении «еврейского вопроса» тоже не приходилось. Конечно, Не-
ваховичу, вошедшему в пространство русской культуры и доказавшему, что
у него в ней свое место и свои перспективы, не хотелось покидать это
пространство, но в таком случае практично было несколько изменить свой
жанр. Опыт в этом отношении у него уже был - и в начале его
петербургского житья, и в удачные для него 1809-1810 гг., когда триумф «Сульётов»
не заставил его отказаться от менее престижной работы - перевода с
шведского драмы «Оден, царь скифский» (этот факт, видимо, свидетельствует и
о владении Неваховичем шведским языком), поставленной в октябре 1810 г.
на петербургской сцене. Особыми литературными достоинствами она,
кажется, не обладала или просто не привлекла к себе внимания публики, хотя
«шведская» тема в связи с войной за Финляндию и пробуждающийся
интерес к «северной» мифологии могли бы заинтересовать зрителя и этой
драмой. Тем не менее, видимо, пьеса, пользовалась некоторым успехом32.
Несмотря на литературные успехи в конце 1800-х годов, положение Не-
ваховича в тогдашнем петербургском обществе оставалось, вероятно,
неустойчивым. Война 12-го года и некоторые из ее последствий усугубили
сложности. Переезд в 1817 г. в Варшаву был, по-видимому, не случаен и
свидетельствовал о прощании Неваховича с лучшими из своих надежд. Но
«пописывать» он перестать не мог: конечно, более чем коммерсант и финансист
123
он был литературной душой. В литературе, словесности, публицистике
лежали его главные интересы, но осуществлять их теперь он мог лишь от
случая к случаю, по более или менее случайным поводам. Он стал
третьестепенным литератором-маргиналом, и, думается, сознание этого было для
него горькой растравой. Русская литература и русская общественность,
кажется, не заметили происшедшего и не помогли одному из честных и
талантливых своих тружеников. И это тоже жаль. То, что известно о литературной
деятельности последних полутора десятилетий жизни Неваховича, очень
немногочисленно и, однако, довольно пестро: в 1817 г. в «Сыне Отечества»
(№ 30-31) появляется сделанный им перевод «Речи говоренной покойным ...
Рейнботом»; в 1829 г. Невахович переводит гердеровские «Мысли об
истории человечества», что подтверждает высказанную выше версию о более
раннем знакомстве Неваховича с гердеровскими «Ideen» и что должно быть
расценено как немаловажное культурное событие, которое, однако, не
оказалось в фокусе интеллектуальных интересов николаевской эпохи; уже
после смерти Неваховича в Петербурге, в 1832 г., была поставлена его драма
«Меч правосудия, или Надир Кулихан». Это историческое представление
успеха, кажется, не имело и во всяком случае прошло незамеченным, хотя по
сути дела и здесь Невахович успел в последний раз откликнуться на
становящуюся популярной «восточную» тему.
Пора литературного успеха прошла, как вскоре прошла и вся жизнь
Неваховича. Что стоит за этими неудачами безусловно талантливого
даровитого писателя, усвоившего, если судить по «Сульётам», и законы сцены, и
стилистику и язык литературы его дней, и психологию зрителя и не
исчерпавшего свои большие внутренние возможности, сказать трудно. Как бы то ни
было (и если только недостаток средств к существованию заставил его
пойти по стопам отца, то это было бы наименьшей бедой), последние двадцать
лет жизни - не до конца видимая, но очень печальная история вытеснения
Неваховича и из литературы, и из русской общественной жизни, и из
прежнего круга знакомств и связей, и, возможно, погружение в одиночество:
старые друзья умерли, отношения с соплеменниками, оставшимися верными
своей религии, ослабли, «распался круг, который был так тесен...» по слову
поэта. «Сыновья его не любили говорить о своем родителе», - вспоминает
В.Р. Зотов33. Но сыновья были удачниками: им повезло и они вросли в
русскую жизнь. Кое в чем они пошли дальше своего отца, но, насколько
можно судить о них по воспоминаниям и другим свидетельствам, во многом они
уступали отцу. Он был значительнее, шире в своих интересах, глубже и
духовно богаче. Многого о Льве Николаевиче Неваховиче и еще более о
Иегуде Лейб бен Ноахе мы не знаем, кое о чем догадываемся, но есть и то
очень существенное, в чем мы не сомневаемся: он был мягким, добрым,
терпимым человеком; он был открыт людям и обстоятельствам, которых было
так много и таких разных на пути от еврейского местечка Летичева до
Петербурга, до общества Чарторыйского, Зубова, Кочубея, Сперанского или
Шаховского и актеров Александрийского Императорского театра. Много
радости доставило ему вхождение в мир русской литературы, театра, в
русскую жизнь. Многое нравилось ему в этой жизни и он сознавал с гордостью,
что и он может немало дать ей, чтобы она стала лучше. Ради этого он,
кажется, готов был на многое закрывать глаза, со многим мириться и многим
124
жертвовать: он умел идти навстречу людям. Но, конечно, он вкусил и
немало горечи, испытал и неудачи, и неблагодарность, и разочарования и
крушение иллюзий. Как, умирая, оценивал сам Невахович свою «русскую» жизнь,
мы не знаем, но в России на рубеже двух веков и двух тысячелетий память о
нем сохраняется, точнее - она оттаяла после десятилетий ледяной стужи,
беспамятства, равнодушия, и эта память - признательная и благодарная: она
прежде всего о самом человеке и о лучшем из того, что было им сделано.
Самым значительным делом жизни Неваховича, благодаря которому
имя его должно сохраниться в русской культуре, была книжечка «Вопль
дщери Иудейской», напечатанная в «привилегированной Брейткопфовой
типографии». Она состоит из трех частей, представляющих собой
самостоятельные тексты, тесно между собою связанные, - собственно «Вопль дщери
Иудейской» (11-49), «Собеседование между Синат-Гадатом, Эме-том и Ша-
лумом» (соответственно Нетерпимостью, Истиной и Терпимостью или
Миролюбием (50-56) и «Чувствование верноподданного на случай учреждения
... комитета о устроении Евреев на пользу Государственную и их
собственную» (57-66). Главная часть - первая. Но повод к написанию этой книги
указывается в самом начале - в посвящении и в заметке «От Сочинителя».
Имея в виду те благие перемены, которыми были ознаменованы первые
годы Александрова царствования, Невахович привлекает внимание к
скорбному контрасту: «Сколько сими предметами возвышается душа моя, столько
уничижается она прискорбием моих единоплеменников, отвергаемых от
сердец соотчичей их. Ощущая в себе таковыя движения, произведенныя
двумя противными между собою впечатлениями, я осмелился изобразить
слабым пером моим излияние моих чувств, которое известно будет под именем
Вопля дщери Иудейской. ... Любовь к ГОСУДАРЮ и к
Отечеству, восхищение о нынешних просвещенных временах, - удовольствие и
некоторый род любочестия и гордыни, что могу наименовать Россиян
соотчичами - и соболезнование, снедающее мою душу в разсуждении моих
единоплеменников; - вот изображение духа, который водит здесь слабым пером
моим!»
Ядро книги составляет обращение дщери Иудейской, как бы
персонифицирующей душу еврейского народа в ее страданиях, которое строится как
плач отчаяния, как вопль, и в книге немало остро эмоциональных и
напряженных монологических фрагментов, построенных в соответствии с
поэтикой плача. Дщерь Иудейская - вопленица, и вопль ее не о физических
утеснениях и страданиях, а о нравственных мучениях, которые нестерпимы и к
которым нельзя привыкнуть: «... увы! я упадаю духом, я уничижена пред ли-
цем земли; я изключена из той связи, каковою пользуются другие
подсолнечные обитатели; я теперь себя не узнаю. - Но прежде, нежели возвещу
всю тоску мою, внемлите мне земныя племена, или вы паче, -
возлюбленные Россияне! - К вам преимущественно обращаюсь; пред вами
осмеливаюсь отверста уста мои; пред вами, снисходительные и непоставляющие себе
за стыд быть собеседниками с несчастною дщерию Израиля, не взирая на то,
что я другаго племени, закона и униженнаго жребия; - пред вами, которые
лишь только узрели лучи просвещения; то в то же самое мгновение
исполнились духа терпимости; пред вами я изливаю сердце мое. Так; - находясь в
бездне ничтожества, я видела благодетельнаго сына вечности, протекший
125
XVIII век, век человеколюбия, век терпимости, век кротости, век, в
который знатные и сильные стали слушать истинну, повествуемую людьми
малыми и слабыми, век безпримерный в Истории, век, который возвел Россию
на вышнюю степень благополучия, - Россию, которою я принята как дщерь
... Дух мой воспаряет превыше звезд, и чувства мои разширяются на подобие
горизонта. Я вспомнила, что я человек, и сего уже довольно к моему
ободрению».
Чем больше монолог дщери Иудейской направляется на собеседника,
чем более он предполагает ответное диалогизирующее движение со
стороны русских людей, тем рациональнее и убедительнее звучат ее речи, тем
чаще апеллирует она к истине и справедливости, но и к здравому смыслу,
наконец, к голой и непредвзятой человечности, к самой природе. Различия в
вероисповедании не могут в этом деле отвергать самое человечность:
«Природа вопиет против слабого гласа такой неосновательной причины, - и сия
исчезает, уничтожается. Малыя невинныя дети, сколько бы различных вер
ни были их родители, играют между собою без всякой вражды, лобызают
друг друга без малейшей однаго к другому ненависти, но увы! они начинают
говорить, и родители разлучают их, разлучают на веки. Тот самый Христи-
янин, который в младенчестве своем толь ласково играл с младенцем
Иудейским, возмужав, ненавидит уже своего друга, он делается ему врагом
непримиримым; - по чему же?» Дщерь просит у вопрошаемых лишь одного -
благосклонного внимания. И начинает говорить об истине, заслоняемой
предрассудками, и о необходимости перед принятием крайних решений доверить
рассудку и рассуждению исследование ситуации. «Естьли желаем в сердцах
наших решить участь целаго народа, естьли желаем в мыслях наших изклю-
чить кого либо из круга Человечества: то не должны вдруг заключить сего
ужаснейшаго приговора, не зделав прежде строжайшаго о том изыскании;
поелику иначе непростительно грешим против других и против самих себя. -
Человек! - естьли твой ум не помрачен предразсудками: то внемли гласу
его! - Прежде, нежели начнешь обвинять кого-либо, приклони слух твой к
его спасительному вопросу: "на нем основываешь осуждение своего ближня-
го>\ Не мнишь ли удовлетворить его таким ответом: "на том, что тот то
сказал, что тот то написалТ" - Из чего же ты узнал, что тот то говорил,
или написал справедливо! - Может быть, он сам не уверен в подлинности им
сказаннаго? - Может быть, он так говорит или пишет по злобе, или по
каким ни будь другим пристрастиям?»
Но дело не в вопросах, не в тщеславии, которого не может быть в
унылом и сокрушенном сердце, которому сейчас не до порядка и не до правил.
И резкое движение из сферы разума и логики - к чувству, к состраданию, к
жалости: «Нет! - я здесь изливаю токмо ту горесть, которою чрез меру
наполнена душа моя. - Естьли хотя между десятью тысячами человек
найдется он, который примет участие в моем страдании: то сие весьма довольно к
облегчению тяжести моей скорби ... О Християне, славящиеся кротостию и
милосердием! - имейте к нам жалость! ... Покажите нам путь и подайте нам
в руки средства, чрез которыя мы зделаемся лучшими людьми и
гражданами». Но тут же: «отступать же от закона нашего с доброю совестию мы не
можем; и так какую пользу принесут вам собратия без совести? ... Оставьте
нам свободу мыслить и говорить по закону, доставшемуся нам в наследие от
126
Праотцев наших. Кто не нарушает общественнаго благополучия, кто
поступает согласно гражданским правам: тому оставьте спокойно говорить так,
как он мыслит, призывать Бога по своему, или предков его мнению и искать
блаженства там, где уповает оное найти. - Из чего же заключаете, что
еврейский народ заслуживает презрение? - по чему вы с такою решимостию
отвергаете оный от сердец ваших? ... «Остановитесь! - не осуждайте так
скоро! ...» - и несколько далее, имея в виду обвинения евреев в ритуальном
употреблении крови христиан: «Человеколюбивые Россы! - вы бы
содрогнулись из глубины добрых сердец ваших, естьли бы видели действие онаго
ужаснаго обвинения, котораго без трепета не могут вспоминать Иудеи,
бывшие самовидцами напрасной гибели своих единоплеменников. Не однажды
в младенчестве моем слезы мои смешивались со слезами матери моей, раз-
сказывавшей мне с горестию о тех ужасных произшествиях сокрушавших
сердце народа». Но ссылка на закон (о чем см. выше) вызывает
необходимость опровержения той лжи и тех заблуждений, которые приписываются
внутренней сути самого закона (ритуальное использование крови
христианских младенцев). «Ах! Християне! - обращается к ним дщерь Иудейская, -
вы, которые живете с ними (евреями. - В.Т.) вкупе, вы должны ведать, что
для них добродетель так же священна, как и вам; - примечайте токмо! - Но
каким оком вы на них взираете? ...вы ищете в человеке Иудея, - нет; ищите
в Иудее человека, и вы, без сомнения, его найдете».
Слишком тяжело быть вне человечества и вне человечности, когда
сердца народов европейских «между собою сблизились; когда уже слились в
едино». И - пронзительная просьба: «Я чувствую всю тяжесть сего мучения, и
прошу облегчения... Имея сердце сокрушенное, и находясь в крайнем
отчаянии, я взываю к всем чувствительным и сострадательным: что бы такое
ни было, за что осуждается целый мой народ на презрение; но буде
находится хотя один неповинный: то участь его не столь же ли достойна
пощады человеколюбивыху как и целого народа?»
И наконец, - заключительное обращение к «благородным Россиянам»:
«Когда вы повелеваете Року, - и Рок опускает долу тяжкий и страшный свой
жезл: то повелите ему, да престанет он гнать народ Иудейский! - Ведаю, что
переменить сердца и мысли есть дело труднейшее в Свете и требующее,
может быть, столетняго труда: но ведаю и то, что предприятия Россиян всегда
быстрейшие и почти неимоверные успехи. Дух Севера взыскует великих
дел, и так да утвердит он новую и блистательную Эпоху, переменив образ
мыслей об уничиженной и слезящей дщери Израиля!
Тако вопияла печальная дщерь Иудейская, - отирала слезы, -
воздыхала, - и была еще неутешима»34.
* * *
В начале своей деятельности, в частности в первые годы петербургской
жизни, Невахович не был одинок, напротив, он был дружен с Абрамом Пе-
ретцем и тесно связан по Еврейскому комитету с Ноте Ноткиным. Их всех
объединяло общее прошлое и общее дело в настоящем - борьба за
гражданские права евреев, за их достойную - при сохранении своей веры -
интеграцию в русскую жизнь. Разница в общественном и материальном положении
127
(а в случае с Ноткиным и в возрасте) была, конечно, значительной, но не
хочется соглашаться с Гордоном, когда он говорит, что Невахович был «чем-
то вроде козырной двойки у названных двух тузов». Он, действительно,
видимо, многим был обязан им, видел в них радетелей за дело еврейского
народа и возлагал на них большие надежды. В широком плане общей была и
судьба всех троих: многого добившись, они познали и горечь многих обид и
поражений; едва ли на склоне жизни они испытывали чувство
удовлетворения от сделанного ими. Но была и еще одна общая черта, объединявшая их
всех, - фантастический по обстоятельствам того времени прорыв в русскую
жизнь, и каждый из них осуществлял этот прорыв в своей области: Нота
Η ο τ к и н вошел в русскую жизнь, потому что он радел о материальных
основах жизни русского еврейства, об экономическом и имущественном
положении евреев и, ища решения этого вопроса внутри еврейской жизни, он
обращался к русским властям, без санкции которых осуществление его
планов было малореальным; Абрам Перетц был борцом за гражданские права
евреев в Российской империи, за сохранение человеческого достоинства, и в
этих своих усилиях он тоже не мог не апеллировать к помощи тех русских
людей и российских инстанций, без которых добиться этих прав было
нельзя; наконец, Лев Невахович решил сам войти в русскую жизнь, русскую
культуру и, как бы предчувствуя времена Пушкина, Гоголя, Достоевского,
Толстого, в лучшую и сильнейшую ее часть - русскую литературу. И этот
шаг, конечно, был самым радикальным, потому что он предполагал не
столько сотрудничество двух начал, сколько слияние их в едином и общем.
И благодарная память о них троих - тоже общая и у евреев, и у русских.
Вкратце об этих людях, соратником которых был Невахович.
Абрам Перетц (Абрам Израилевич) родился в Левертове
(Галиция); годы жизни его не указываются, хронология первой половины его
жизни далека от надежности; местом рождения в одном из источников
назван Любарь на Волыни. Отцом Перетца был левертовский раввин.
Мальчик обладал выдающимися умственными способностями, и слух о них дошел
до известного богача, ученого и мецената рабби Иошуа Цейтлина из Шкло-
ва. Тот приблизил мальчика к себе," уделял его развитию много внимания, и
вскоре Перетц, переехав в Шклов, женился на дочери своего учителя
(Перетц был и учеником Неваховича). В конце 80-х годов совсем молодым
человеком он приезжает в Петербург (оставляя жену и сына Гиршу в Шклове)
и быстро выдвигается на казенных подрядах по кораблестроению и на
занятиях откупами. Успехи были столь велики и достигнуты в такой короткий
срок, что уже в 1801 г. Павел жалует Перетца званием коммерции
советника. В Петербурге у Перетца открытый дом и большие связи в высших
кругах столичного общества. Особенно тесные отношения были у него со
Сперанским, часто посещавшим дом Перетца и пользовавшимся его советами
(Сперанский благоволил евреям, и когда в 1802 г. был образован комитет по
подготовке законодательства о евреях, благодаря высокому
покровительству Перетц стал участвовать в работе этого комитета). Домашним другом
Перетца был Канкрин, в будущем министр финансов и граф. Но после
падения Сперанского положение Абрама Перетца сильно покачнулось, и
притеснения со стороны Гурьева в итоге довели его до разорения. «О себе
ничего утешительного сообщить не могу, - писал он своему родственнику
128
С. Цейтлину 10 мая 1822 г. - Дела мои весьма плохи, и я не имею на кого
опереться как только на небесного Отца, который кормит всех и каждого, и
надеюсь, не оставит и меня на посмешище врагам». Конец жизни Перетца
был омрачен еще более: сына Григория (Гиршу), замешанного в
декабрьском деле, сослали в Сибирь, и отцу уже не суждено было его увидеть. В
начале царствования Николая I Абрам Перетц умер. Блестящие способности,
о которых он успел заявить, оказались востребованы лишь в
незначительной степени. Борьба за права евреев; успешно начатая в начале века, не
имела продолжения: более того, сразу же после смерти Александра Николай I
решительно отказался от продолжения политики своего предшественника и
стал еще больше ограничивать права евреев; Перетц переменив, веру (в
1813 г. он принял христианство и женился второй раз на немке), ослабил
свои связи с соплеменниками и не смог выправить свое положение в
российских условиях 10-20-х годов35.
Нота (Хаимович) Η ο τ к и н (или Натан Ноте из Шклова, Натан
Шкловер), умерший в 1804 г. в Петербурге, был старше и Неваховича и
Перетца. Он тоже был человеком удивительных деловых качеств, редких
организаторских способностей и выдающимся общественным до-вер-тов
ле-аммо, защитником своего народа, как написал Невахович в своем
посвящении ему (как и Перетцу) в книге «Кол-шават». Гармоническое
сочетание разных талантов составляло суть его натуры, а огромный размах
его активности и широта интересов определяли возможности этого
человека, также оказавшиеся востребованными лишь в небольшой части.
Выходец из среды шкловского еврейства, Ноткин первые свои шаги в
деловой сфере сделал как могилевский купец, вскоре получивший звание
надворного советника «польско-королевского двора». С 1788 г. он начинает
заниматься поставками для армии, и здесь у него завязываются личные
отношения с Потемкиным. Несколько позже в Москве им разворачиваются
обширные торговые дела в товариществе с русскими купцами. Смерть
Потемкина (как и падение Сперанского в случае с Перетцем) имела для
Ноткина следствием цепь неприятностей: ему не только не удалось
получить от казны причитающихся ему сумм, но он стал жертвой клеветы и
дважды оказался банкротом, сохранив, однако, как замечают
современники, уважение к себе в обществе. Но Ноткин не считал свои возможности
исчерпанными и смотрел далеко вперед, умея учитывать интересы как
еврейской, так и русской стороны. В 1797 г. он уезжал из Шклова в
Петербург с рекомендательным письмом генерала Зорича, в котором тот
просил генерал-прокурора Куракина содействовать Ноткину в справедливых
расчетах с казной. Однако Ноткин, воспользовавшись новым
знакомством, посвящает Куракина в свой «Проект о переселении евреев
колониями на плодородные степи для размножения там овец, земледелия и
прочего, там же заведения поблизости черноморских портов фабрик -
суконной, прядильной, канатной и парусной, на коих мастеровые люди были бы
обучены из сего (т.е. из евреев. - В.Т.) народа». Этот проект был своего
рода ответом на возникавшие обвинения евреев в эксплуатации крестьян
и способом отвлечь евреев от винного промысла, также вызывавшего
осуждение. Ноткин был убежден в необходимости для евреев
производительной деятельности и в этом он имел смелость пойти против общего
5. В.Н. Топоров
129
мнения евреев в Западном крае, отрицательно относившихся к этому
роду занятий. Проекту тогда не было дано хода, но в 1800 г., когда
Державин приехал в Белоруссию (в это время он собирался составить проект
еврейской реформы), Ноткин познакомил его со своим проектом, и позже
Державин засвидетельствовал лично, что он воспользовался
соображениями Ноткина. Переехав в Петербург, Ноткин оказывается в самом центре
складывающейся еврейской общины и обсуждения «Положения о евреях»
(из письма Державина от 9 декабря 1802 г. видно, что именно он
пригласил Ноткина работать в комитете по выработке законодательства о
евреях). Здесь Ноткии сотрудничает с Перетцем и Неваховичем и быстро
находит с ними общий язык. Не согласившись с мнением Державина как
неблагоприятным для евреев, Ноткин имел смелость представить в 1803 г. в
комитет записку, целью которой была нейтрализация влияния державин-
ского проекта. Взгляд Ноткина на суть ситуации был по тем временам
нетривиален и глубок. Его задача формулировалась так: «преобразовать
чувствительным образом состояние сего народа, отвратить
злоупотребления с его стороны, а главнейшим образом, уничтожить источник сих
злоупотреблений, - именно бедность». Признавая справедливыми жалобы на
вред, причиняемый евреями окружающему населению, он видел и
причины этого явления - скученность в пределах черты, бедность, отсутствие
иных источников существования, и частичное извинение этому вреду - его
противовольность. Выход, который Ноткин предлагал, состоял в том,
чтобы каждое еврейское общество имело свои фабрики с рабочими из
евреев. Эти фабрики должны были стать общей собственностью, а доходы,
за вычетом платы «фабрикантам» и необходимых издержек, должны
были идти на разные общеполезные цели. Ноткин был также поборником
еврейского образования и настаивал на том, чтобы каждая еврейская
община имела свою школу, в которой преподавались бы общие предметы,
русский и иные языки. Нужды евреев всегда были близки ему, и не раз его
авторитет спасал их от неприятностей (предотвращение плана выселения
евреев из Смоленска). Лучшего защитника у евреев, чем он, в это время
не было. Но не было тогда и лучшего посредника между евреями и
русскими: обращаясь к евреям, он указывал опасности, им угрожающие, и
выходы из них, помня при этом об интересах и претензиях русской
стороны; обращаясь к русским в лице высоких властей, он разъяснял им нужды
еврейского населения и призывал к гуманному отношению к евреям.
В конце жизни он писал графу Кочубею, формулируя идею общей пользы и
разумного, достойного компромисса: «Пламенея ревностным желанием
видеть на старости лет единоплеменников моих на той степени
благополучия, на которую Всемилостивейший Государь наш соизволяет их
возвести, я употребляю ныне неусыпные труды к поспешествованию сей
священной воли Августейшего Монарха. Некий патриотический дух
побуждает и ободряет меня принять на себя ходатайство за пользу общую».
И в этом весь Нота Ноткин36.
Смысл деятельности этих пионеров русско-еврейских встреч не может
быть понят полностью, тем более в его «русской» части, если пренебречь
тем, что выросло в дальнейшем из этого корня. Эти династии блестящих,
высокоталантливых или просто способных, честных, трудолюбивых людей,
130
так быстро вросших в русскую почву и так много отдавших ей, могут здесь
быть обозначены лишь пунктирно.
У Неваховича было два сына: младший Михаил был блистательным
карикатуристом, подлинным родоначальником русской литературной
карикатуры, пользовавшийся в свое время исключительным успехом («Ералаш»,
«Волшебный фонарь» и др.); его замечательное дарование не оценено по
достоинству до сих пор; старший сын Александр отдал свою жизнь театру:
он сменил Р. Зотова в качестве начальника репертуарной части. Он
переводил водевили с французского, в 1829 г. поставил «Гусмана д'Альфараша»,
веселый фарс, пользовавшийся у зрителей большим успехом, а в 1849 г. -
«Поэзию любви» (оба сына были женаты на русских актрисах - Михаил на
танцовщице Смирновой, Александр на известной певице Лебедевой).
Внуком Неваховича по матери был выдающийся ученый, лауреат Нобелевской
премии Мечников.
Абрам Перетц происходил из знатной марранской фамилии из Кордовы
или Севильи, известной многими выдающимися представителями в течение
столетий. Большие надежды возлагались на его сына Григория: ученик
самого Мендельсона; способности Григория проявились рано, хотя
распорядиться ими должным образом он не смог: быть первым евреем в русском
революционном движении - недостаточная компенсация за неиспользованные
возможности. Другой сын Перетца - Александр был видным горным
инженером, членом Государственного Совета и Горного ученого комитета,
плодотворно работал на Урале и сопутствовал знаменитому Ле-Пле в его
поездке по Уралу. Дочь Перетца от первого брака была замужем за сенатором
бароном Гребницем, а его внук стал государственным секретарем. Сын
Григория Перетца, тоже Григорий, унаследовал способности отца и проявил
себя на ниве русской словесности: кончив Петербургский университет, он
преподавал русский язык и русскую литературу в Главном Инженерном
училище и в Мариинском институте, работал в газетах и журналах, занимался
критикой и библиографией, заведовал отделом в «Правительственном
вестнике», а затем в «Голосе»; в журналах начиная с 1840 г. немало его
литературных публикаций (в 1845 г. появляется его книжка - «Стихотворения Петра
Штавера», вызвавшая одобрение Белинского). Другой сын Григория -
Николай - был талантливым педагогом и писателем, сотрудничавшим в
«Санкт-Петербургских ведомостях», «Семье и школе», «Народной школе».
К потомкам Абрама Перетца принадлежал и выдающийся специалист по
древнерусской литературе В.Н. Перетц, кстати, автор ряда ценных
исследований, посвященных влиянию средневековой еврейской литературы на
древнерусскую (ср. исследование о «Книге Руфи», материалы к истории
апокрифов и легенд, не говоря уж о многом другом). Другой крупный
исследователь по древнерусской литературе В.П. Адрианова-Перетц была
ученицей и женой В.Н. Перетца.
Нельзя пройти мимо того, как много было вложено представителями
этих родов в русскую литературу и сколь велик вклад в нее русских евреев
хотя бы только в XX в. Мысль об этом заставляет еще раз обернуться к
скромному и, по сути дела, совсем недавнему началу и отдать должное и ему
и его людям - известным и неизвестным: Шкловерам, Сатановерам, Пинске-
рам и тем, их же имена Сам веси.
5*
131
1 О «старых» русско-еврейских встречах времен Киевской Руси и Хазарского каганата
и периода с конца XV в. (ересь «жидовствующих») писалось ранее.
2 Сама условность границ между Средними веками и Новым временем (и в отношении
разных стран и культур, и в отношении отдельных явлений, существенных для
размежевания «времен») объясняется - или, в ином аспекте, предполагает - неодинаковой
скоростью движения «исторического» тела и неодинаковым характером самого этого
движения. Отсюда и разнообразие временных границ перехода из одного
исторического макропериода в другой. То, что в описываемой русско-еврейской «новой»
встрече «медиевальное» и «пост-медиевальное» не только соприсутствовали, но и
образовывали весьма противоречивую ситуацию, требовавшую своего разрешения, не
оставляет сомнения, но русская сторона, представленная высшей властью, как это
случалось в истории слишком часто, и в этом случае опоздала, упустив выгодную ситуацию.
Болезнь с самого начала не лечилась (хотя попытка все-таки была предпринята), но
загонялась внутрь тела, и это тоже повторялось не раз. С глаз долой неприятное,
которое от этого не перестает существовать, и, наоборот, на глаза, на вид то, что не
соответствует пока реалиям сего дня и не существует (ср. «потемкинские деревни» и -
шире - вообще «потемкинство» русской истории), - такова типичная рутинная
двухчленная конструкция решения проблем, многое определявшая в русской истории.
3 Опубликовано в «Русской старине» за 1879 г. Нужно отметить, что в путевых
записках ряда видных государственных деятелей петровского времени (и не только их) -
П.Л. Толстого, Б.П. Шереметева, A.M. Апраксина, Б.И. Куракина, И.Л. Нарышкина
и др. - не раз возникает еврейская тема, иногда сразу же по въезде в пределы Речи
Посполитой, ср.: «В том городе Магилеве много живет евреев, и зело богати, и домы
имеют изрядные», см. «Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе 1697-1699».
М., 1992. С. И, и т.п.
4 Ян д'Акоста (или Лакоста, как предпочитали его именовать в России) несколько лет
странствовал по Европе, пытался вести торговлю, но неудачно, познакомился в
Гамбурге с русским резидентом и с ним (по другой версии - с самим Петром I,
познакомившимся с ним на водах) отправился попытать счастья в Петербурге. Известна
гравюра, изображающая Акосту, умное лицо гордого человека типичной сефардской
внешности, но в парике и в костюме XVIII в.; с этим портретом мало вяжется
традиционное представление о «смешной фигуре», как она представлена в анекдотах о нем,
например у Шубинского (Исторические очерки и рассказы. 3-е изд. СПб., 1893.
С. 114-117). Хотя Петр и пожаловал Акосте титул «Самоедского короля», подарив
ему при этом безлюдный песчаный остров Соммера в Финском заливе, есть мнение,
что он держал его при себе не столько для забавы, сколько «как орудие осмеивания
грубых предрассудков и невежества тогдашнего русского общества». К
характеристике Акосты ср.: «Умение говорить почти на всех европейских языках, веселый нрав,
тонкое остроумие и находчивость бывалого человека - снискали ему расположение
при дворе, и Петр назначил его на "должность" придворного шута (ок. 1714 г.)...
Образованный европеец, он, вероятно, и в шутовстве умел проявлять много серьезного,
обличительного юмора. Акоста превосходно знал Св. Писание, и Петр любил вести с
ним богословские споры» (Еврейская энциклопедия. Т. I, 651, далее - Евр. энц.). Как
известно, Акоста был участником истории, напоминающей сюжет «Риголетто», но с
более счастливым исходом для него и несчастливым для соблазнителя его дочери.
Происхождение Акосты секрета не представляло: его знали как «португальского
жида Л акосту».
5 Некоторые акты послепетровского времени отличались жестокостью и особым
«средневековым» характером. Такова была история с отставным капитан-лейтенантом
русского флота Александром Возницыным, сожженным в 1738 г. в Петербурге за
отпадение от православия и принятие «жидовской веры». С ним вместе был предан
сожжению и его соблазнитель еврейский откупщик Борох Лейбов, живший в
Смоленской губернии и осмелившийся построить синагогу в селе Зверовичах для своих
единоверцев еще в 1727 г. При синагоге была построена и «жидовская школа», в которой
он «басурманскую свою веру отправляет», «ругался христианской вере» и избил свя-
щенника Авраамия, который «чинил ему, жиду, всякия противности в строении
школы», как доносили жалобщики, тут же делавшие обобщение: евреи-де, поселившиеся
в Смоленской губернии, совращают православных в «жидовскую веру». Существенно,
что Юстиц-Коллегия, куда было препровождено дело Возницына из Сената, сочла
следственный материал недостаточным и основанным исключительно на
вынужденном признании подсудимых в застенке. Но Сенат, по настоянию Анны Иоанновны,
находившейся под сильным влиянием такого страшного человека, как Ушаков, который
возглавлял тогда Канцелярию тайных розыскных дел, не потребовал, как должно,
дополнительного следствия, и осужденные были преданы казни с формулировкой -
«казнить смертью и сжечь, чтобы другие, смотря на то, невежды и богопротивники от
христианского закона отступать не могли и таковые прелестники, как оный жид
Ворох, из христианского закона прельщать и в свои законы превращать не дерзали».
Решение было приведено в исполнение, призрак «жидовствующих» ожил и вызвал страх
у властей, начались проверки численности еврейского населения в разных местах, в
частности на Украине, выселения («Вышеобъявленных жидов, по силе прежних
указов, из Малой России выслать за границу» - резолюция от 11 июля 1740 г.; чуть
позже Елизавета отняла у евреев даже право приезда по торговым делам), более того,
гонения на евреев подкреплялись особым вариантом идеологизирующегося
«антисемитизма», о котором в России, строго говоря, можно говорить, пожалуй, именно с этих
пор (во всяком случае отличия от гонений в эпоху «ереси жидовствующих» довольно
очевидны), ср.: Евр. энц. II, 592-594. Тем не менее у самой Анны Иоанновны были
интересы (прежде всего финансовые), ради которых она охотно прибегала к услугам
евреев. Любимцем императрицы был богатый агент курляндского герцога Бирона Лип-
ман (или Либман), занимавшийся крупными казенными откупами и поставками.
И, однако, русское общество, почти «избавившись» от евреев, все более
интересовалось ими заочно. Единственная в то время газета «Санктпетербургские
ведомости» сильно расширяла кругозор русского читателя в отношении евреев диаспоры.
Евреи практически всей Европы, но и Малой Азии, Северной Африки, Крыма
попадали в ее поле зрения. С годами информация о евреях становилась все более частой,
подробной и разнообразной. Тот факт, что евреи в целом, а равно и отдельные
выдающиеся представители этого народа как бы неожиданно оказывались там, где русские
люди не могли предположить их существования (Турция, Балканы, Марокко и т. п.),
привлекал внимание читателей. Столь же охотно писали и о «великом смятении в
простом народе» в Гамбурге на почве неприязни к евреям, и о баловнях судьбы
(«нынешний великий везирь Ягья Паша родом жид, и для того великое множество людей своей
нации в турецкой армии имеет», 14 августа 1738), даже если под конец судьба оставила
своим попечением бывших ее любимцев (в 1737-1738 гг. газета регулярно
публиковала сообщения о «славном жиде Сисе», придворном финансисте и фаворите герцога
Карла-Александра Вюртембергского, известном по роману Фейхтвангера «Еврей
Зюсс». История Иозефа Зюсса Оппенгеймера освещалась во всех драматических
подробностях, включая его казнь. См.: Фундаминский М. Заочное знакомство («Сведения
о еврейской диаспоре на страницах русской газеты первой половины XVIII в.») //
«In Honor of Professor Victor Levin. Russian Philology and History». Jerusalem, 1992.
P. 375-384.
6 В мае 1764 г. с помощью Леви Вульфа, купца, проживавшего в Петербурге,
Екатерина II вызвала трех митавских евреев, среди которых был и известный
«покровительствуемый еврей» (Schutzjude) из Риги Давид Леви Бамбергер (позже он пользовался
исключительным авторитетом и властью в рижской еврейской общине, хотя, как
говорят, нередко злоупотреблял своим положением). Цель вызова была связана с
планом колонизации Новороссии, который тогда по не вполне ясным причинам не
осуществился, но следы этих трех людей не потерялись: они осели в Риге, причем получили
право жить вне особого еврейского подворья, вариант тогдашнего гетто.
7 Мендель Левин (Лефин) из Сатанова, он же Сатановер, конечно, был не только самым
выдающимся человеком среди евреев, которые на рубеже XVIII-XIX вв. оказались в
Петербурге (правда, здесь он жил всего несколько лет как преподаватель знаменито-
133
го еврейского мецената и талмудиста Иошуа Цейтлина (Цейтельса), 1742-1822,
уроженца Шклова, который, будучи также подрядчиком и поставщиком, оказывал
большие услуги Потемкину, ездил с ним на юг и присутствовал при закладке Херсона;
Потемкин покровительствовал Цейтлину, и тот, нажив большое состояние и получив
звание надворного советника польского королевского двора, после смерти своего
благодетеля удалился от дел, посвящая много времени богословским занятиям и
размышлениям; кроме того Сатановер жил в Петербурге и у зятя Иошуа Цейтлина
Абрама Перетца, одной из самых замечательных фигур среди пионеров еврейского
Просвещения. Несколько слов о нем в этом общем, еврейско-русском, и более
частном, «петербургско-еврейском» контекстах не будут лишними. Сатановер (1741,
Сатанов - 1819, Миколаев, Подолия) получил традиционное религиозное воспитание
и с юности поражал окружающих глубокими талмудическими познаниями. Во всем
остальном он был скорее самоучкой, черпавшим отовсюду, где он мог найти для себя
нечто интересное и удовлетворить свою ненасытную жажду новых интеллектуальных
впечатлений. Юношей, случайно познакомившись с философско-математическим
трактатом «Elim» Иосифа Соломона дель Медиго, он воспылал интересом к
философии и математике и стал изучать труды средневековых еврейских ученых столь
ревностно, что испортил зрение и вынужден был отправиться для лечения в Берлин.
Здесь он не мог не сойтись с Мендельсоном, его кружком, познакомился и с рядом
немецких писателей. Быстро изучив немецкий и французский, Сатановер стал
знакомиться с современной наукой и философией. На обратном пути он поселился в
поместье Адама Чарторыйского в Миколаеве, где открыл посудную лавку. Чарторыйский
был поражен, найдя в простом лавочнике глубокого знатока Канта, друга
Мендельсона, человека высокого уровня европейской образованности (Чарторыйский брал у
Сатановера уроки математики и других наук, поддерживал его, и, видимо, эти связи не
были позабыты, когда и Чарторыйский и Сатановер с конца XVIII в. и в начале
царствования Александра I жили в Петербурге). Сатановер стремился открыть
возможности для просвещения своих соплеменников, писал много популярных работ
(ср. «Iggeret chochmah», 1789, естественнонаучная тематика; «Massaot ha-Jam», 1818,
описание далеких путешествий и др.). Особо отмечают его этику по системе
Франклина «Cheschbon ha-Neresch» (1811), популярную переработку «More Nebuchim»
(Сатановер был поклонником Маймонида) и попытку перевода Библии на разговорный
еврейский язык (перевод «Притч», 1812; были переведены и некоторые другие части
Библии, но переводчик не решился их опубликовать после неблагоприятной реакции
на перевод «Притч»). В отличие от берлинских деятелей еврейского Просвещения
Сатановер большое внимание уделял разговорному языку и даже написал сочинение
на жаргоне, о зарождении хасидизма «Der Erster Chassid», позже затерянное. То, что
в определенный период своей жизни такой человек, как Сатановер, вошел в круг
петербургских евреев, важный (хотя и недостаточно известный) эпизод в истории
русско-еврейских связей той поры.
8 Император Александр I унаследовал от своей бабки трезвое и либеральное
отношение к евреям; более того, существуют некоторые сведения (отчасти
апокрифического характера), свидетельствующие о «еврейских» эпизодах из жизни Александра и
даже, видимо, о чувстве симпатии к ним. Один из «исторических» курьезов о помощи,
оказанной в трудной ситуации русскому царю еврейским корчмарем, рассказан неки-
им ...онъ ...онъ в заметке «Император Александр I и корчмарь Гирша» (Еврейская
библиотека. СПб., 1908. Вып. 8. С. 197-201).
9 См.: Евр. энц. Т. X. 861-874.
10 В Бет га-Мидраше слушали Мидраш, т. е. занимались обсуждением и толкованием
закона. Это была школа высшего типа в отличие от Бет га-Сефер, рассчитанного
на детей до 13 лет, которым излагались элементарные знания. В одном из старых
источников сообщается, что в Иерусалиме было 480 синагог, причем в каждой
помещался бет га-сефер и бет-талмуд (то же, что и бет га-мидраш) для изучения
закона и устной традиции, но все это было уничтожено Веспасианом (Иер. Мег. Ш,
73 и и др).
134
11 О печатной продукции, прежде всего о еврейской периодике в России см. труды
С.Л. Цинберга, особенно: «История еврейской печати в России в связи с
общественными движениями». Пг., 1915; см. также: Иваск У.Г. Еврейская периодическая печать
в России. Материалы для истории еврейской журналистики. Вып. 1: Издания на
русском языке. Таллинн, 1935; и др. О старопечатных еврейских книгах и книжных
собраниях, прежде всего Моше Арье Лейб Фридланда (Льва Фридланда), подарившего
свою книжную коллекцию Азиатскому музею, см.: ХволъсонДЛ. Еврейские
старопечатные книги. СПб., 1896, а также труды Д.Г. Гинцбурга, в частности каталог и
описание рукописей Института восточных языков; ср. из недавних публикаций работу
СМ. Якерсона, 1988, и др.
12 См.: Цинберг С Л. Указ. соч.
13 См.: Русская старина. 1879. Янв. С. 50.
14 См.: Гордон Л.О. К истории поселения евреев в Петербурге // Восход. 1881. Год
первый. Фев. Кн. 2. С. 115-116.
15 Знаменитый деятель еврейского религиозного движения и просвещения, основатель и
систематизатор литовско-белорусского («рационального») хасидизма (система «ха-
бад») Залман Шнеерсон, собств. Шнеур (Шнеор) Залман бен Барух (1747-1812), был
одной из наиболее примечательных фигур своего времени. Знаток Талмуда и
Каббалы, выдающийся реформатор и организатор, человек широких взглядов с чертами ха-
ризматичности, он стремился придать своему учению философский характер и
приспособить его к умственным потребностям талмудистов. Он пытался найти
примирительную позицию с другими вождями хасидизма, вел переговоры в Витебске, Вильне,
Шклове, Лиозне, Могилеве, но, несмотря на исключительную популярность (за
короткое время число его последователей возросло до ста тысяч), успеха не добился.
Ревнители веры, некий Гирш Давидович из Вильны и бывший пинский раввин Авиг-
дор Хаимович, смещенный хасидами, прибегли к доносам, в которых деятельность
Шнеур-Залмана определялась как политически преступная. В результате интриг Шне-
ур-Залман в 1798 г. был арестован и привезен в Петербург, а Литовскому
губернатору было поручено начать расследование. Однако ответы Шнеура убедили
правительство в неосновательности доноса, и он тогда же был выпущен на свободу. Но
противники Шнеура не унимались. В 1800 г. Авигдор Хаимович приезжает в Петербург и
подает пространное прошение на имя Павла, сообщая о вредной деятельности Шнеура
(отправление больших денежных сумм в Турцию с преступными целями). Тогда же о
вредной деятельности Шнеура сообщает и Державин, ревизовавший Белоруссию (с
Шнеуром у него было личное столкновение). Шнеур снова был арестован, но
освобождение пришло в марте 1801 г., сразу же по воцарении Александра I. Что же
касается Державина, то это было не единственное темное пятно на его совести в
отношениях с евреями. Стоит особо отметить, что во время войны 1812 г. Шнеур, опасаясь, что
«победой Наполеона сокрушатся устои иудаизма», приложил весь свой
организаторский талант к созданию сети добровольных разведчиков из евреев и велел своим
последователям оказывать всяческое содействие русскому правительству, не считаясь с
опасностями (СМ. Гинзбург в своей работе «Отечественная война 1812 г. и евреи»
(1912) приводит любопытное воззвание Шнеур-Залмана на русском языке). При
приближении французов Шнеур с семьей уехал в Красное, присоединившись к обозу
русских войск. Подробнее о Шнеуре см.: Евр. энц. XVI. 55-60 (здесь же литература о
нем).
16 Нужно напомнить, что Мендельсону принадлежал ответ на антисемитские выпады
Михаэлиса в его разборе юношеской драмы Лессинга «Die Juden». В этом ответе -
слова, которым вскоре суждено было стать знаменитыми: «Нас не только презирают,
но возводят еще на нас ложные обвинения и клевету, чтобы этим оправдать жесткие
... преследования ... Но не посягайте на то, в чем мы неустанно черпали силы и
утешение в наших испытаниях - моральную нашу чистоту и духовную мощь ...». Эти слова,
по сути дела, определяли и позицию «русского» Мендельсона ceteris paribus - Невахо-
вича. Следует обратить внимание, что даже в просвещенной Германии XVIII в. за
успехами еврейского культурного движения и за высокой оценкой его со стороны луч-
135
ших представителей немецкой культуры, как тень, следовал подъем антисемитских
настроений в определенной части немецкого общества, и религиозные различия, на
которые, естественно, не переставали ссылаться, по существу уже не были
определяющими в системе аргументаций и мотивировок.
Еврейские комитеты 1806, 1809 и 1823 гг. вынуждены были латать прорехи,
вводить поправки, допускать исключения. Общая благоприятная установка оказалась
забытой, а обещанный прогресс в решении «еврейского вопроса» был
недопустимо медленным. Нужно сказать, что с определенного момента трактовка
«еврейского вопроса» в России определенным образом соотносилась с неблагоприятным
отношением Наполеона к евреям, укрепившимся в результате его личных
наблюдений в Польше, и с «еврейской» политикой в Варшавском герцогстве (ср.
одобрение Наполеоном плана лишения евреев политических прав и соответствующий
королевский декрет от 17 октября 1808 г., хотя гражданские права за евреями не
отрицались; выселение евреев из центральных районов Варшавы и т. п.). См.: Гес-
сен Ю. В эфемерном государстве. Евреи и Варшавском герцогстве (1807-1812).
СПб., 1910. - О «Положении 1804 г.» ср.: Голицын H.H. История русского
законодательства о евреях, 1649-1825. СПб., 1886; Оршанский И.Г. Русское
законодательство о евреях. СПб., 1877; Леванда И.О. Хронологический сборник законов и
положений, касающихся евреев, от уложения царя Алексея Михайловича до
настоящего времени, 1649-1873. СПб., 1874; Гессен Ю. Евреи в России. СПб.,
1906, и др. Помимо названной книги H.H. Голицына надо отметить и другие
его многочисленные работы по еврейскому законодательству в России; при
том, что им свойственны охранительно-антисемитские тенденции, нужно все-таки
помнить, что в свое время среди русских авторов H.H. Голицын был, пожалуй,
крупнейшим знатоком еврейского вопроса, а многие его труды богаты ценными
материалами.
См.: Вопль дщери Иудейской. Сочинение Лейбы Неваховича. С указанного
дозволения. Санктпетербург, печатано в привилегированной Брейткопфовой типографии,
1803 года (пишущему эти строки пришлось работать с экземпляром, находящимся в
Отделе редкой книги Российской государственной библиотеки; шифр MC XIX/ 8. Не-
вахович Л.). Текст посвящения Кочубею важен, потому что помимо определенного
набора клише он содержит в себе и некую вполне оригинальную часть, позволяющую
судить о настроениях автора, его взглядах и даже более далеко идущих намерениях.
Вот этот текст:
Его Сиятельству Господину действительному Тайному Советнику, внутренних
дел Министру и разных орденов Кавалеру, графу Виктору Павловичу Кочубею
Милостивому Государю
Ваше Сиятельство, Милостивый Государь!
Кто ясно понимает, и чувствует, кому он обязан всем своим блаженством и
свободой, тот может ли не пламенеть любовию к своему Государю и Отечеству? -
а кто исполнен такой любви; тот может ли утаить свое восхищение при
возвышении Державы на блистательнейшую степень торжества и благонравия? - Сыны
России начинают ныне ознаменовывать внутреннее благоустройство таковыми же
Героическими подвигами, каковыми удивили они подсолнечную на полях
ратных. - Юный, но мудрый и благотворный Монарх наш чрез Патриотов проницает
во все части Империи толико пространной и разнообразной в физическом и
моральном состоянии, - проницает, и все оживляется. Сколько сими предметами
возвышается душа моя, столько уничижается она прискорбием моих
единоплеменников, отвергаемых от сердец соотчичей их. Ощущая в себе таковыя движения, про-
изведенныя двумя противными между собою впечатлениями, я осмелился
изобразить слабым пером моим излияние моих чувств, которое известно будет под
именем Вопля дщери Иудейской. Я почитаю за величайшее счастье
посвятить сие сердечное мое излияние высокому имени Вашего
сиятельства, миротворца внутри России.
Сиятельнейший Граф! удостойте сие мое всеусерднейшее приношение благо-
склонаго приятия! - Я льщусь; - едино мановение руки Вашей может сближать сердца
веками и свойствами разделенныя..!
Сиятельнейший Граф! Милостивый Государь!
Вашего Сиятельства всенижайший и всепокорнейший слуга
Лейба Невахович
(Указ. соч., 5-7), вслед за тем следует:
От Сочинителя:
Любовь к ГОСУДАРЮ и к Отечеству, восхищение о нынешних просвещенных
временах, - удовольствие и некоторый род любочестия и гордыни, что могу
наименовать Россиян соотчичами - и соболезнование, снедающее мою душу в разсуждении
моих единоплеменников; - вот изображение духа, который водит здесь слабым пером
моим!
19 См.: Рогачевский Л. «Верноподданный еврей»: новые данные о Лейбе Неваховиче //
Вести Еврейского ун-та в Москве. 1992. № 1. С. 129-132. Публикатор указывает, что
в русской литературе XVIII в. существовала традиция прозаических переводов
стихотворных сочинений, иногда сохранявшаяся и значительно позднее (см.: Указ. соч.
С. 132). - Ода Неваховича находится в Отделе рукописей ГПБ. Ф. 143 (Г.И. Вилла-
мов). № 262.
20 Публикатор оды указывает, что она была зарегистрирована среди бумаг Архива
Кабинета Его Императорского Величества 20 марта 1801 г. под № 36 (404).
21 Несколько примеров. - Рец.: «Не многие ли из Российских Дееписателей умели
достигнуть той высоты, на которой однакож истинный Дееписатель должен стоять, той
высоты безпристрастия, где изчезает из виду всякое уважение, всякий предразсудок,
доброжелательство, самое даже отечество, вера, народ, и где взор устремлен ни на
что другое, как на одну истину». - Прим.: «Отечество - естьли разумные люди
допустили сие правило: то в ограниченном смысле. Дееписатель не должен прикрывать, а
еще менее утаивать пороки своего отечества. Но при всем том нет ни какой
надобности в погашении со всем любви к оному. Ему надлежит говорить о пороках своего
отечества и правителей онаго во всей истине; но не возбраняется говорить с
соболезнованием, подобно сыну, оплакивающему несчастную судьбину своего родителя. На
против того имеет он первейшим долгом защищать права и достоинство отечества
против всех напрасно унижающих оныя, и защищать с сугубым чувствованием любви
к истине, а вместе и к отечеству. Любовь к отечеству и безпристрастие могут и
должны существовать вместе. Г. Рецензент пропустил одну важную статью: привязанность
ученых ко мнениям своим, которую гораздо труднее преодолеть, нежели все другая
страсти» (8-9). - Рец.: «Есть ли вообще между всеми народами на земли Völkern der
Erde мало являлось Дееписателей, достигнувших сей высоты, то без сомнения ни
какие не оставались столь удаленными от оной, как Российские». - Прим.: «И так уже
Российские Дееписатели поставлены ниже всех народов на земли, ниже Турецких,
ниже Татарских, Киргизских, и пр.! Это слишком много сказано. Доказывать здесь, что
Россияне Нестором и другими источниками своей Истории не уступают ни кому даже
в Европе, было бы дело совершенно излишнее. Это был бы ответ без вопроса. Ибо
Г. Рецензент сколь много утверждает, столь мало доказывает. Но не льзя не заметить,
что выражение: между всеми народами земли, без сомнения, вырвалось у Г.
Рецензента без всякаго размышления, что ни мало не простительно немецкому ученому»
(И); - Рец.: «Они почти все очевидно имеют одинаков намерение возвышать
знаменитость и достоинство своего народа, и представлять оный во всех периодах Истории
всегда равно сильным, могущественным и самобытным». - Прим.: «Откуда почерпнул
это Г. Рецензент, не известно. На против во всех Российских Историях находим мы
описания наиблагополучных, так равно и смутных времен для России» (10-11) и т. п.
22 См.: Рогачевский Л. Указ. соч. С. 131. Речь идет о документе, хранящемся в
Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) под шифром 9022
LI6.64.
137
23 В программу гаскалы, сформулированную в проспекте «Меасефа» весной 1783 г.,
входило среди прочего - «распространять знание еврейского языка и его грамматики ...
давать полезные сведения о нормальном воспитании ... способствовать развитию
еврейской науки и литературы», ср.: Евр. энц. X, 729-730.
24 Следует напомнить, что в издании «Меасефа» в свое время принимал участие столь
много значивший для Неваховича Моисей Мендельсон и такие видные фигуры
еврейского Просвещения, как Саломон Маймон, Нафтали Вессели и др.
25 В пояснительной записке, предпосланной тексту книги, говорится, что «Сульёты суть
Греки, обитавшие в горах Сульских, находящихся в нижней Албании между городами
Яниною и Пиргою. Они составляют особую республику под названием Сулли. В
течение нескольких веков, когда почти все греки подвергались игу рабства, Сульёты
сохранили свою независимость. Сульёты подлинно равняются древним Спартанцам как
храбростию, так и любовию к Отечеству. Жены их, подобно Амазонкам, разделяют с
мужьями опасности сражений. История Сульётов наполнена удивительными
примерами храбрости и твердости духа. Содержание сей пиэсы заключает все обстоятельства
произшедшаго в 1792-м году сражения между ими и Али-Пашею, владетелем
Албанским».
26 Ср. перед началом V действия: «На правой стороне - башня, на которой видны воины;
подле оной узкий вход. - За башнею далее к правому углу видна часть одной горы.
В левом углу еще утесистая гора, окруженная водою; деревянный мост соединяет
сии горы. - На левой стороне две дефилеи; вдали пальба.»
27 Уже самое начало пьесы вводит в проблематику, играющую важную роль в гельдер-
линовском романе «Hyperion, oder der Eremit in Griechenland», написанном в самом
конце XVIII в. Китон, гордый своим сульётским происхождением и понаслышке знающий
о Европе, восхищающийся ею и живо в ней заинтересованный, спрашивает
вернувшегося только что путешественника, который - так ему кажется - может удовлетворить
его любознательность: «Паласки, ты возвратясь из путешествия, несколько раз
восхищал меня рассказами о просвещении Европейских народов, о почтении их к
древним Грекам, великим праотцам нашим. Удивляюсь, однако, что при всех похвалах
иноземным народам я никогда еще не слыхал от тебя, какова мнения они о гражданах
наших, о сих неустрашимых Сульётах, которые сохранили поныне свою
независимость и Спартанскую любовь к Отечеству, сражаясь безпрерывно с кровожадными
Оттоманцами, столь страшными поработителями всех почти Еллинских племен.
Желал бы я знать, почтенный Паласки, каким образом отзываются мудрые те народы о
обычаях и нравах сих обитателей Сульских гор, где женщины разделяют с мужьями
опасности сражения, где преимущества жен основаны единственно на храбрости
супругов?» - На что - разочаровывающий ответ Паласки: «Китон! там едва ли известно
имя Сульётское». Китон поражен и тут же пытается найти объяснение: «Возможно
ль? И так славныя дела нынешних Спартанцев погребены между сими горами? - Так -
иного и быть не может. Нашу землю окружают варвары и рабы: кто известит о
добродетелях народа сего? Албания, вражеская нам страна, сия стоглавая гидра,
извиваясь на границах Сулии, допустит ли, чтобы глас побед наших, - над нею же
одержанных, - дошел до слуха Европейских народов?»
28 Пьеса Неваховича «Сульёты» представляет интерес и еще с одной точки зрения.
Во втором явлении III действия, любопытном и самом по себе (площадь, на которую
собираются граждане Суллии в условиях турецкой угрозы), выступает Хор народа с
призывом в стихотворной форме: Отечество зовет; - внемлите! I Се глас его
гремит! - спешите! I Не сил число отчизне щит; I Кровь Бога - доблесть ей бронею. I
Пускай гроза висит над нею; I Но грудь Сулъётска отразит! I Отечество зовет, -
внемлите! I Се глас его гремит! - спешите! Вероятно, это первые русские стихи
первого писателя-еврея в русской литературе. - Довольно подробно говорится о
«Сульётах» в кн.: Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия начала XIX века
(1800-1815)//Учен. зап. Самарскогопед. ин-та. Вып. 35. Самара, 1959. гл. 12:
Историческая драма Л.Н. Неваховича «Сульёты, или Спартанцы осьмнадцатаго столетия».
С. 292-306.
138
29 Ср.: Ее высокопревосходительству милостивой Государыне Марье Алексеевне
Нарышкиной, Двора Его Императорского Величества Штате-Даме и Кавалерственной
Даме // Ваше Высокопревосходительство, / Милостивая государыня! // Почтение и
удивление к высокой душе женщины, были причиною сочинения Сульётов. Те же
чувствования побуждают меня поднести слабый труд свой Вашему
Высокопревосходительству. От Вас, Милостивая государыня, как от знатока и покровительницы
словесности, буду ожидать и суда сочинению, и снисхождения к погрешностям сочинителя.
Благосклонное принятие Вашим Высочеством сего приношения удостоверит меня в
успехе / С глубоким высоко-почитанием и совершенною преданностию честь имею
быть всегда, Милостивая Государыня, Вашего Высокопревосходительства
всепокорнейшим слугою Лев Невахович.
30 См.: Степанов К.П. Бенитцкий // Русские писатели 1800-1917. Биографический
словарь. М., 1989. Т. 1: А-Г. С. 237.
31 Несколько отрывков из «Деборы» в качестве образцов поэтического творчества Не-
ваховича: Что можем сделать мы, великий мой отец I То миру доказал. Иль силою
единой I Сисар мог завладеть обширной Палестиной? I Иль воины его храбрей
израильтян? I Нет, не оружие, а лесть, раздор, обман, I Служащие его намереньям
жестоким, I Израиль поразя унынием глубоким, I Сисару предали. Но цел сей град
Силом, I Твердыни стен его, и цел Господень дом ... или ... Сей царь есть тот, чья
злоба I Аода мудрого низвергла в мрачность гроба. I Какой чудесный свет; Чей
вопиет мне глас? I Аида грозна тень восстала между нас. I Она вещает мне: я ею
вдохновенна; I Десница мщения мне зрится вознесенна; I Убийца! трепещи: тебе
готова казнь, или: Станица вранов там, шумящая крилами; I Здесь стая хищных
псов, скрежещущих зубами, I Своей добычи ждут: уж близок мщенья час. I О враны
хищные! насытит скоро вас I Казнь нечестивого; псы алчущие крови, I Полижете
ее. Во знак своей любови I Убийцу Бог сразит. Ликуй, Иаковлъ дом: I Сияет скиния;
вознесся град Силом; /День славы наступил.
32 В письме Н.Ф. Грамматину от 6 октября 1810 г. А.Е. Измайлов писал: «У нас теперь
начались бенефисы. В прошедший понедельник представлен был "Оден, царь
скифский", рукоделье израильтянина Неваховича, творца драмы "Сульётов". От
сотворения мира не было на театре такой глупой пиесы, но пиеса эта - трагедия, а трагедии
даже глупые, очень любит наша глупая публика» (см.: Библиографические зап. 1859,
№ 13. Стлб. 413), в чем можно видеть некое свидетельство интереса публики и к этой
пиесе. Зная некоторые особенности А.Е. Измайлова, пожалуй, не следовало бы
делать тех излишне жестких выводов, которые были сделаны А. Рогачевским (см.:
Указ. соч. С. 132).
33 См.: Зотов В.Р. Петербург в сороковых годах (Выдержки из автобиографических
заметок) // Ист. вестник. Историко-литературный журнал. Год 11-й. 1890. VI. С. 103; о
Неваховиче ср. также: Гордон Л.О. Указ. соч. С. 33 и ел.; Гессен Ю.И. Сто лет назад:
(Из эпохи духовного пробуждения русских евреев). СПб., 1900. С. 16, 25 и др.; Он же.
Евреи в России. С. 79, 81, 85-97, 136-139; Евр. энц. XI, 622-624; Рогачевский А. Указ.
соч. С. 129-132 и др.
34 1. «Примечания на Рецензию...», опубликованные впервые в «Лицее» (1806. Ч. 3, кн. 2.
С. 15-48), подписаны - Н.; 2. Есть сведения об участии Неваховича в «Северном
вестнике», выходившем в СПб. в 1804 г. (Ч. 1-4, № 1-12), но какие материалы могли
в нем принадлежать Неваховичу, неясно, так как ни одна статья ни этим именем, ни
инициалом Н. не подписана (в «Северном Вестнике», как и в ряде других журналов
того времени число анонимных статей велико, причем вовсе не всегда это относится к
статьям издателя). Есть основания думать, что Неваховичу в этом журнале могли
принадлежать заметка «Нечто о Лессинге» (Ч. 2, № 3, 343-345), кое-что из материала под
заглавием «Иностранные книги. Объявление об одном Славянском периодическом
сочинении, издаваемом на Немецком языке, под названием: Славянка, посвященном
Г-ну Надв. Советнику и Профессору Людовику Шлёцеру, Доктору Антону и теням
Г е ρ д е ρ а , Гебгардия, Добнера, Дурича и Нестора», (ср. особенно Ч. 3, № 7-9,
103, где упоминаются «Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit» Гердера,
139
см. выше) и, возможно, большая статья «Изображение просвещения Россиян» (Ч. 1,
№ 1-3, 1-12, 115-132). Во всяком случае, некоторые места этой статьи отчетливо
перекликаются с соответствующими фрагментами других текстов Неваховича на эту
тему (ср. начало «Введения»: «Нигде всеобщее просвещение, сия главнейшая народная
потребность ...» вплоть до «Сие древо, рукою Александра насажденное ... чрез многая
тысячи лет простирать будет тень свою на благо человеческаго рода. Таковы
следствия мудрых постановлений», 1-2); 3. В рукописном отделе Государственной
Публичной библиотеки (СПб.), помимо уже упомянутой оды на день восшествия на престол
Александра I (из архива Г.И. Вилламова), хранится ряд других материалов, имеющих
отношение к сыновьям Неваховича и его потомкам в следующих поколениях. Среди
них письмо директора Императорских театров A.M. Гедеонова от 12 декабря 1842 г.
к некоему важному, но неустановленному лицу, где упоминается Mr. de Nevachovitch:
«Monsieur le Comte, d'après le désir, que Vous m'avez témoigné, j'ai donne ordre à Mr. de
Nevachovitch de s'entendre avec Votre Excellence pour tout ce qui sera nécessaire pour le
spectacle projette à la cour de Leurs Altesses J. Impériales...» (далее упоминается и князь
(В.Φ.) Одоевский). Архив В.Ф. Одоевского. Ф. 539. Оп. 2. № 1588. Другой документ -
записка вдовы Михаила Львовича Неваховича Татьяны Петровны, данная В.П.
Полякову в связи с передачей ему права на издание рисунков ее мужа с его биографией,
написанной Панаевым, октябрь 1851 г. (Архив В.П. Полякова. Ф. 605. Ед. хр. 59) и др.
Последний по времени материал - автограф П. [?] Неваховича, 21 февраля 1912 г. в
собрании автографов под названием «Дума за думой, Памятная книга на каждый день.
Издана под покровительством Ея Императорского Высочества принцессы Евгении
Максимилиановны Ольденбургской в пользу дома милосердия». СПб., 1885 (Ф. № 66.
В.Б. Бертенсон. № 1). В своей совокупности эти материалы позволяют проследить
историю рода Неваховича на протяжении более чем века; 4. Там же хранится, кажется,
единственное известное письмо Абрама Перетца от 18. VIII. 1800 г. Василию
Степановичу Попову (текст писан писарской рукой; подпись - автограф), см.: Архив B.C.
Попова. Ф. 609. Ед. хр. 283: письмо делового содержания, свидетельствующее об
энергичной посреднически-предпринимательской деятельности адресата, умении ценить
временной фактор, о его предусмотрительности. «Честь имею быть на всегда с
чувством глубочайшей преданности и высокопочитания Милостивый Государь Вашего
высокопревосходительства всепокорнейше... Абрам Перетц», - так заканчивается это
письмо; 5. Из иконографических материалов, относящихся к A.M. Дивьеру
(1682-1745), ср. его портрет, написанный неизвестным художником во время генерал-
полицмейстерства Дивьера.
35 Об Абраме Перетце, помимо уже упоминавшихся трудов Голицына, Гордона, Гессена
и др., см.: Евр. энц. ХП, 394-395.
36 О Ноте Ноткине, помимо указанной литературы, см.: Евр. энц. XI, 801-802; Шугу-
ров М.Ф. История евреев в России // Русский архив. 1894. Т. 1-5 и др.
ИЗ РАЗДЕЛА IV:
ПЕТЕРБУРГ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
(1800-1830)
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
ПО МАТЕРИАЛАМ РУКОПИСНОГО ОТДЕЛА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Михаилу Михайловичу Достоевскому в жизни очень π о в е з л о: он был
не просто братом, но любимым братом и ближайшим (если не
единственным) другом великого человека и писателя - Федора Михайловича
Достоевского. Отпущенные четверть века для непосредственного общения
подтверждают, что для каждого из братьев эта взаимная и глубинная связь была
преимущественной перед всеми другими. Что значил «незабвенный Миша»
для его младшего брата и как он его оценивал, хорошо известно, и здесь
можно лишь напомнить два-три хорошо известных свидетельства. Отвечая
на вопрос Следственной комиссии по делу Петрашевского (1849) о том, «с
кем он имел близкое и короткое знакомство и частые сношения», Ф.М.
ответил, подчеркнув первые слова: «Совершенно откровенных сношений не
имел ни с кем, кроме, как с братом моим ... Михайлою Достоевским».
Почти два десятилетия спустя в письме к А.Н. Майкову от 20 марта (2 апреля)
1868 г. Ф.М. признавался: «... ведь тут опять-таки покойный брат Миша.
А ведь Вы не знаете, чем всю жизнь, с первого моего сознания, был для
меня этот человек! Нет, Вы этого не знаете!». А вот показания свидетеля со
стороны, близкого обоим братьям: «Смотря на прощание братьев
Достоевских (при отправке Ф.М. из Петропавловской крепости по этапу на каторгу. -
В. Т.), всякий заметил бы, что из них страдает более тот, который остается на
свободе в Петербурге, а не тот, кому сейчас предстоит ехать в Сибирь на
каторгу. В глазах старшего брага стояли слезы, губы его дрожали, а Федор
Михайлович был спокоен и утешал его» (Русская старина. 1881. Т. 3. С. 702).
Но Михаилу Михайловичу и очень не повезло -ив жизни, где рок,
прикинувшись чем-то безобидно-обыденным, почти бытовым, преследовал
его с тех пор как он покинул отчий дом до его ранней смерти в возрасте
43 лет, и посмертно, когда обнаружилось, что корни невезенья - отчасти
именно в исходном, от природы данном и жизнью утвержденном и
поддержанном везенье. Михаил Михайлович, естественно, уже в силу своего
родства, оказался в большой и густой тени брата, так долго скрывавшей и все еще
продолжающей скрывать его от глаз исследователей и читателей1. И это
было первым невезеньем. Но в тени Достоевского оказались многие,
интерес к кому возник уже давно и был живым и творческим: как-никак они
входили в «контекст Достоевского», жили и творили в его дни и отчасти парал-
141
лельно ему. Ими не только интересовались, но и усиленно изучали их
творчество. Вторым невезеньем М.М. было то, что он в качестве «ближайшего»
оказался практически изъятым из этого контекста, как если бы факт
родства и первой близости аннулировал связи в художественно-литературном
творчестве. Действовала подспудная психологическая установка - брат
великого писателя, тоже осмелившийся вступить на эту же стезю, не может
быть не кем другим, как фигурой зависимой, принадлежащей к третьему
ряду и живущей лишь отраженным светом великого брата.
Но факт родства, конечно, не должен исключать или скрывать
художественно-литературной, идеологической, жизненно-настроенческой
близости обоих братьев. Поэтому со всей настоятельностью нужно подчеркнуть
факт вхождения М.М. как писателя в «контекст Достоевского» и важность
места, занимаемого им в нем: специфика этого места заключается, в
частности, в том, что тексты М.М. по разным причинам запаздывали по сравнению
с текстами Ф.М. на два-три года и «соратничество» как бы соединялось
отчасти с «эпигонством», хотя в случае М.М. «эпигонство» многого стоит,
нередко больше, чем иная оригинальность. В этом смысле литературное
творчество М.М. не может быть обойдено при исследовании «контекста
Достоевского», и оно открывает немало существенного и в ранних произведениях
Ф.М. Но дело не только в этом: и сам М.М. Достоевский должен быть
выведен из этой большой тени и понят как самостоятельная фигура русской
литературы в ответственнейший период ее развития.
В научном наследии Виктора Владимировича Виноградова одну из
лучших частей составляют работы, посвященные становлению натуральной
школы в русской литературе и ее эволюции. Гоголь и Ф.М. Достоевский -
центральные фигуры этого переломного периода, и именно им посвящены
наиболее важные исследования ученого, в которых тщательный анализ
текстовой эмпирии позволяет увидеть за нею общие проблемы, которые в свою
очередь бросают яркий свет на функцию и смысл этой эмпирии. Три
основы отчетливо выступают в этом круге исследований - языковая,
стилистическая, историко-литературная, и главные результаты относятся именно к
этим трем сферам. Характерно, что Виноградов был одним из первых, кто
оценил роль писателей второго ряда в решении основных проблем русского
«натурализма» — Панаева, Гребенки, Буткова, Машкова и др. В этом ряду
в сферу внимания исследователя попала и фигура М.М. Достоевского,
которая, однако, все-таки осталась за кадром. Несомненно, что работа, начатая
В.В. Виноградовым, должна быть продолжена, и, пожалуй, на очереди
первыми стоят М.М. Достоевский и Я.П. Бутков.
Имея в виду обращение к исследованию творчества этих писателей,
стоит самым кратким образом обозначить несколько узлов, в связи с
которыми фигура М.М. должна привлечь к себе внимание. Намечается шесть таких
узлов, и исследование каждого из них отсылает частично или полностью к
фигуре М.М. Достоевского:
I. Общая ситуация в русской литературе (почти исключительно в прозе) в
связи со становлением «натуральной» школы и ее поэтики: писатели и их
произведения до 1848 г. (круг «Физиологии Петербурга» - Белинский, Панаев,
Некрасов, Григорович, Гребенка, Даль Луганский, Говорилин (псевдоним
Кульчицкого), но и Бутков, Григорьев, Машков и др. и, конечно, прежде
142
всего Ф.М. Достоевский) как литературный контекст, в который вошел
М.М. Достоевский;
И. Характер, объем и глубина усвоения гоголевских уроков;
III. Разработка «петербургской» темы;
IV. Художественные тексты М.М. Достоевского в связи с «гоголевско-
петербургским» синтезом. Роль М.М. в формировании раннего варианта
«Петербургского текста» (точнее - «подтекста»). Поэтика прозы М.М.
Достоевского;
V. Биографический контекст - литературное творчество, издательская
деятельность, быт - заботы, радости, горести; самосознание и самооценка
(количество относящихся к этой теме материалов достаточно велико, чтобы
поставить на нем проблему реконструкции типа человека, деятеля, писателя,
каковым был М.М. и объяснить его уход из художественной литературы);
VI. «Био-генетическое» (родовое наследие) и «культурное» в их
соотношении (Ф.М. и М.М. Достоевские - общее и разное в контексте
художественной одаренности и/или чуткости их родителей, литературные опыты
Любови Федоровны, мемориально-дневниковые тексты А.Г. Достоевской,
A.M. Достоевского и др.).
Нужно думать, что М.М. Достоевский остается пока все еще не
оцененным по достоинству писателем. Эта «заниженность» его оценки -
дополнительный аргумент в пользу серьезного исследования творчества М.М. и
публикации не изданных еще его текстов (среди них - роман «Деньги», из
которого были опубликованы в «Пантеоне» за 1852 г. лишь три главы, и комедия
«Мачеха» (ОР РГБ. Ф. 93. Раздел III. К. 8. Ед.хр. 1-5), несомненно, открывшие
бы, будь они напечатаны, новый этап в творчестве М.М., - этап, начавшийся
в творчестве Ф.М. Достоевского несколько ранее). Обилие архивного (не
опубликованного или даже до сих пор не использованного) материала,
относящегося к нему, облегчает задачу исследователя. К сожалению, в последней
ценной статье о М.М. Достоевском («Русские писатели 1800-1917.
Биографический словарь». М., 1992. Т. 2: Г-К. С. 164-165) указан лишь один из
рукописных материалов, относящихся к М.М. и хранящихся в ГПБ. Нижеследующая
публикация отчасти и вызвана желанием восполнить эту лакуну.
В Рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки (ГПБ) в
Санкт-Петербурге хранится несколько материалов, принадлежащих перу
М.М. Достоевского или имеющих к нему отношение.
I
Наиболее ранним по времени (конец 1840-х - начало 1850-х годов)
оказывается письмо М.М. Достоевского известному писателю Дм.Вас.
Григоровичу, посланное ему из села Даровое (Архив Григорович Д. В. 222. Ед.хр. 8):
«Любезный Григорович,
Вчера, т. е. 6-го числа, я приехал в деревню, о чем и извещаю Вас
согласно обещанию. Не знаю, дома ли вы, т. е. в Дулебине ли? Мне очень хотелось
бы видеться с Вами, но не знаю, позволят ли мне разные хлопоты по
хозяйству приехать к Вам ранее чем через неделю. Если у Вас есть свободный
денек, приезжайте пожалуйста. Вы меня очень обрадуете. Везите с собой и
Яковлева, когда он у Вас; только не забудьте взять серебряных (не вполне
разборчиво; видимо, - ложек. - В. Т.): у меня всего одна.
143
Я все надеялся выехать с Вами в один день из Москвы в почтовой карете.
Прощайте, любезный Григорович; весь Ваш
М. Достоевский.
7 июля, с. Даровое».
[Дулебино - имение в Каширском уезде Тульской губ., приобретенное
отцом Д.В. Григоровича Василием Ильичом; здесь Д.В. Григорович провел
детские годы и неоднократно и подолгу живал позже: именно здесь были
написаны «Деревня», «Антон Горемыка», роман «Проселочные дороги» и др. О Ду-
лебине, не названном по имени, смотри у Д.В. Григоровича2; сравни также: «В
то время, как писалась вторая повесть, я узнал из писем об истории Петра-
шевского и горькой судьбе Достоевского и Плещеева»3. Нужно напомнить,
что Даровое находилось в том же Каширском уезде», что и Дулебино, т. е.
неподалеку от него. Как известно, Д.В. Григорович впервые увидел братьев
Достоевских еще в 1837 г., придя навестить своего бывшего наставника по
пансиону К.Ф. Костомарова. «Сближение мое с Ф.М. Достоевским началось едва
ли не с первого дня его поступления в училище», - писал позже Григорович.
Более двух лет Ф.М. Достоевский делил квартиру с Григоровичем в доме на
углу Владимирского проспекта и Графского переулка (дом К.Я. Пряничнико-
ва), ныне Владимирский пр. 11; встречались они и позже, после временной
размолвки4. Тесные отношения были с Григоровичем и у М.М. Достоевского:
в частности, судя по одному из писем первого, при его работе над повестью
«Прохожий» М.М. помогал ему своими советами. Упоминаемый в письме
Яковлев, - очевидно, Владимир Дмитриевич Яковлев (1817-1884), писатель и
педагог, преподававший в уездном училище; о нем М.М. Достоевский
упоминает в письме к Ф.М. Достоевскому от 23 ноября 1858 г. [Петербург]: «Сейчас
был у больного Яковлева. Просил тебе поклониться. Бедный, без ног и без
глаз. Буду на днях читать ему твою повесть»5; в комментариях A.C. Долинина
указывается, что Яковлев начал слепнуть «уже в конце 50-х годов», чему
противоречила бы принятая датировка письма. Долинин считает, что с
Достоевским Яковлев мог познакомиться еще в 1847 г., когда они оба работали в
Справочном энциклопедическом словаре A.B. Старчевского6. В своих
воспоминаниях о Ф.М. Достоевском H.H. Страхов рассказывает о литературном
кружке, собиравшемся А.П. Милюковым в доме Якобса на Офицерской,
начиная с рубежа 50-60-х годов; здесь братья Достоевские не могли не
встречаться с Яковлевым, ср.: «Главными гостями А.П. оказались братья
Достоевские, Федор Михайлович и Михаил Михайлович, давнишние друзья хозяина и
очень привязанные друг к другу, так что бывали обыкновенно вместе. Кроме
их часто являлись А.Н. Майков, Вс.Вл. Крестовский ... Вл.Д. Яковлев и
другие»7. Ф.М. Достоевский впервые после долгого перерыва появился в
Петербурге только 14 марта 1860].
II
Два следующих письма также не датированы, но они относятся к
1861-1863 гг., когда М.М. Достоевский был издателем журнала «Время».
Одно из них адресовано, очевидно, Михаилу Ивановичу Владиславлеву (не
смешивать с Владимиром Андреевичем Владиславлевым, литератором,
издававшим альманах «Утренняя заря» и умершим в 1856 г.!), другое - Феодо-
144
сию Федоровичу Веселаго. Оба письма принадлежат к числу деловых,
связанных с изданием журнала.
Письмо (точнее - записка) М.М. Достоевского М.И. [Владиславлеву?]
без даты, написано в Петербурге (Архив Достоевский Ф.М. Ф. 262.
Ед. хр. 12): «Книга вышла только ныньче к 12 часам, Михаил Иванович, а
потому при всем моем желании как можно скорее удовлетворить
нетерпению касательно разсчета, я должен буду попросить у Вас дня два срока,
пока я приведу в известность всю свою сумму платежей за апрель и пока
также соберу нужныя к тому деньги. А теперь впредь до разсчета позвольте
Вам послать 50 рублей.
Мне очень жаль, что Вы не застали меня раз дома. Около часу или около
6 часов я всегда дома, и всегда буду рад Вас видеть.
Душевно преданный Вам
М. Достоевский
понедельник».
[Адресат этой записки Михаил Иванович (Владиславлев) (1840-1890) -
видный философ и критик-публицист, позже, с 70-х годов, профессор
Университета и Историко-филологического института, автор лучшего в свое
время учебника «Логики»; сотрудничал во «Времени» и в «Эпохе», большей
частью анонимно; конкретнее хронологическую роспись этих журналов см.
в следующих изданиях8. В 1855 г. М.И. женился на дочери М.М.
Достоевского Марии Михайловне (1843-1888), пианистке, ученице А.Г. Рубинштейна.
Между М.М. Достоевским и М.И. Владиславлевым были самые добрые
отношения, ср. 9 писем М.М. Достоевского к нему (с 8 мая 1861 по 17 января
1862)9. После смерти брата отношения между Ф.М. Достоевским и
Владиславлевым были прерваны, но в 70-е годы они восстановились (см. письма
Ф.М. Достоевского к М.И. Владиславлеву от 13 апреля и 6 ноября 1872 г.)10].
III
Следующее деловое письмо М.М. Достоевского адресовано Феодосию
Федоровичу Веселаго. Оно отправлено из Петербурга и тоже без даты
(Архив Помяловский И.В. Ф. 608. Оп. 1. Ед. хр. 1848):
«Милостивый Государь Феодосии Федорович,
Пишу к Вам через великую силу. Я болен и очень серьезно. У меня
сильное разлитие жолчи, а что всего досаднее в глазах прыгают такие жолтыя
радуги, что мне читать и писать запрещено. Да и не мог бы я читать, если б
и позволили. Прибавьте ко всему этому перемежающуюся лихорадку и
главное тоску невыносимую и вы поймете. Но не смотря на все это, я
воспользуюсь первой удобной минутой, чтобы прочитать рукопись. Мне
позволяют еще гулять по солнцу, но кажется, и это скоро запретят, потому что в
эти последние дни я так ослаб, что едва ходить могу. Поручить ее кому-
нибудь прочесть я не могу из уважения к Михаилу Николаевичу.
Вот вам все причины, почему я до сих пор не дал никакого ответа. Сверх
того жена и дети меня стерегут и не дают мне ни пера ни книги. Пробовали
мне читать вслух газеты и даже статью - я ничего не понял. Это чтение раз-
строивать (так! - В.Т.) только мои нервы, которые как известно в болезни
печени необыкновенно раздражены.
145
Дня через три-четыре надеюсь мне будет легче и тогда я дам ответ.
И прочесть-то ее всю полчаса времени нужно.
Душевно преданный Вам
М. Достоевский.
вторник».
[Адресат этого письма Феодосии Федорович Веселаго (1817-1895) -
цензор Петербургского цензурного комитета, генерал, историк русского флота.
В 1860 - 70-е годы исполнял должность начальника Главного управления по
делам печати. Как издатель журналов, М.М. Достоевский не раз имел дело
с Веселаго. Ф.М. Достоевский встречался с ним в 1864 г. по делам «Эпохи»
(см. ПСС. XXVIII. Кн. 2. С. 94, 361). Известно его письмо к Веселаго от
23 августа 1864 г. (ПСС. XXVIII, 2, 97) и два письма Веселаго к Ф. М.
Достоевскому в 1864 г. (ОР РГБ). Кто такой Михаил Николаевич, остается
неизвестным. Учитывая полемику H.H. Страхова в апрельском номере «Эпохи»
за 1864 г. («Заметки летописца». Подпись -Летописец), в которой есть
выпад и против Михаила Николаевича Лонгинова (1823-1875), библиографа и
историка, позже начальника Главного управления по делам печати,
адресата известного «Послания к М.Н. Лонгинову о дарвинизме» А.К. Толстого,
можно было бы думать, что Михаил Николаевич - именно Лонгинов
(существенно, что М.М. Достоевский умер 10(22) июля 1864 г., но весной этого
года болезнь его обострилась, а в июне она приняла опасную форму; Ф.М.
Достоевский в заметке «Несколько слов о Михаиле Михайловиче
Достоевском» писал: «Но уже здоровье его было расстроено; в нем уже начинался
зародыш той болезни (нарыв в печени), от которой он умер. Усиленные
заботы утомляли его чрезмерно. К весне он стал чаще и сильнее хворать.
Несмотря на то, он не отрывался от работы. Болезненное состояние
сказывалось более и более; он стал беспокоен, раздражителен. Наконец, в июне он
заболел опасно; доктора предупреждали его об опасности; но он не хотел,
несмотря на их приказания, перестать работать. Он занимался даже
накануне смерти, и болезнь перешла вдруг в безнадежное состояние...»11;
возможно, что признаки болезни, фиксируемые М.М. в письме к Веселаго, могли
бы дать основания для предположительной датировки этого письма).
Однако, как известно, ни во «Времени», ни в «Эпохе» Лонгинов не печатался, и
как могла оказаться его рукопись у М.М. Достоевского, остается
неизвестным. Инициалы М.Н. (их расшифровка нам неизвестна) имел председатель
Центрального комитета Турунов, который в своей докладной записке
пришел к заключению, что статья H.H. Страхова, подготовленная к первому
номеру «Эпохи», не может появиться в печати. В целом проблема Михаила
Николаевича остается нерешенной].
IV
Статья H.H. Страхова «Перелом», запрещенная цензурой в 1864 г. и
напечатанная только в 1890 г.12, отчасти должна была реабилитировать
ее автора в связи со скандалом, разразившимся после напечатания
«Рокового вопроса»13. Как известно, публикация во «Времени» этой статьи
привела к закрытию журнала. М.М. Достоевскому эта история обошлась
очень тяжело. В Рукописном отделе ГПБ хранится перебеленный текст
146
«Объяснения по поводу статьи H.H. Страхова «Роковой вопрос»
(«Время» IV), написанного М.М. (Архив Цеэ В.А. Ф. 833. Ед. хр. 185; крайние
даты - апрель 1863 г.).
Вот оно: [1] «Объяснение по поводу статьи «Роковой вопрос» (Время
№ IV). (справа ниже карандашом вставка — «1863, IV, апрель» — В.Т.). Статья
имеет целью показать, что в польский вопрос входит также вопрос о нашей
цивилизации. В первой половине статьи говорится о том, как смотрят на нас
в этом отношении Поляки и вообще Европейцы. Они считают нас более или
менее варварами. Вторая половина статьи должна привести читателя к
мысли, что Русские представляют народ полный сил цивилизации, хотя еще не
развитой, но здоровой и крепкой в своих началах, и что цивилизация
Поляков (как внешняя, заемная и не принесшая крепости и силы польскому
народу) есть цивилизация, носящая смерть в самом своем корне (с. 158). Но эти
мысли высказаны не в смысле утешения, а в виде требования ко всем
русским людям, чтобы они постарались оправдать их и словом и делом, чтобы
не успокаивались на вере и надежде, а старались понять и осуществить то,
во что они веруют и на что надеются.
Таким образом статья не только не выражает особеннаго сочувствия
[1 об.] к польской революции, а именно напротив выражает надежды и
желания, исполнение которых мало-помалу должно уничтожить все значение
польского вопроса.
Мысль статьи ясно высказывается в следующих словах:
"Мы не можем отказаться от веры в свое будущее". "В цивилизации
заемной и внешней мы уступаем полякам, но мы желали бы верить, что в
цивилизации народной, коренной, здоровой мы превосходим их" (с. 161).
"Но только верить мало, и только тешить себя надеждами
неизвинительно. На нас лежит обязанность понять эти элементы (духовной жизни
русского народа), следить за их развитием и способствовать ему всеми
мерами" (с. 162).
Мысль статьи можно выразить в обыкновенных литературных
терминах таким образом:
В настоящее время волей-неволей мы должны обратиться из западников
в славянофилов, из космополитов в патриотов.
Впрочем в редакции готовится заметка, которая должна пояснить
недоразумения, порожденныя излишнею краткостью статьи "Роковой вопрос".
Редактор "Времени" М. Достоевский».
* * *
Кроме материалов, вышедших из-под пера самого М.М. Достоевского, в
Рукописном отделе ГПБ хранятся тексты, в той или иной степени
характеризующие самого М.М. или его издательскую деятельность. Три таких
материала приводятся ниже.
Первый из них - записка цензора Петербургского цензурного
комитета Ф.Ф. Веселаго (о нем см. выше) с отзывом о статьях «Домашние дела»
и «Политическое обозрение», предназначенных для журнала «Время».
Адресат записки - цензор В.А. Цеэ (Архив Цеэ В.А. Ф. 833. Ед. хр. 96.
Автограф 30 апреля 1863):
147
«1) Время
Домашние дела. Здесь сомнительны только места 1) отмеченные двумя
красными чертами и 2) означенные буквою А. - В первых проводится
желание и выражаются надежды на дарование России прав равных с Польшею и
высказывается мнение о том, что полезнее для России вовсе оставить
Польшу. - Во вторых (буквы А, А) указывается на важную финансовую ошибку
правительства, заменившаго казенную добычу соли вольным промыслом;
отчего, по мнению автора, обогатятся немногие откупщики и пострадает
весь народ. -
Политическое обозрение. Одно место касается до Императрицы
Евгении и, кажется, с сделанными мною примечаниями может быть пропущено;
другое же место говорит также о равенстве прав с Польшею. -
Редактор очень торопится выпустить эту книжку.
Цензор Веселаго.
1863 г. Апрель 30».
[В записке Веселаго речь идет о двух статьях А.Е. Разина, печатавшихся во
«Времени» с сентябрьского номера (№ 9) 1862 г. по апрельский номер (№ 4)
1863 г. - «Политическое обозрение»: 1862, № 9, 84-116; № 10, 88-119; №11,
184-203; № 12, ПО- 137; 1863, № 1, 65-91; № 2, 183-193; № 3, 128-147; № 4,
210 - 220 и «Наши домашние дела. Современные заметки»: 1862, № 10,
33-65; № И, 88-142; № 12, 53-77; 1963, № 1, 39^64; № 2, 84-131; № 3, 54-90;
№ 4, 164-209. До сентября (включительно) 1862 г. этот раздел во «Времени»
начиная с июня (№ 6) 1862 г. вел А.У. Порецкий; до июня этот раздел,
ведшийся этим же журналистом, назывался «Внутренние новости»14.
Александр Егорович Разин (1823-1875) был членом литературного кружка
братьев Достоевских, но отличался особой радикальностью своей позиции,
за что A.A. Григорьев шутя именовал его Стенькой Разимым. Известно
письмо (1862) Разина к Ф.М. Достоевскому (РГБ)15.
Второй материал о М.М. Достоевском - письмо-записка П.П. Со-
кальского Григорию Петровичу Данилевскому (Архив Данилевский Г.П.
Ф. 236. Ед. хр. 143):
«№ 23. Суббота 1862 22 декабря.
[12] Добрейший Григорий Петрович
С моей стороны конечно (нрзб., кажется - большое. - В. Т.) невежество,
что я до сих пор не навестил Вас и супруги Вашей: но у меня одна оговорка -
болезнь. Со вторника, когда мы виделись с Вами у Достоевскаго, я не
выходил по причине кашля - ставились горчишники, ныне лучше».
[Григорий Петрович Данилевский (псевдоним А. Скавронский),
1829-1890, известный писатель, сотрудничал во «Времени»16; Петр
Петрович Сокальский (1832—1887), композитор, сотрудничал во «Времени» 17.]
Третий материал - письма А.П. Милюкова Г.П. Данилевскому, в
которых, в частности, упоминаются М.М. и Ф.М. Достоевские (Архив
Данилевский Г.П. Ф. 236. Ед. хр. 104; крайние даты - 15 июня 1861 - 1 ноября
1864):
«[6 об.] 1861, 15 июня
Отвечаю на ваши вопросы. Критику во Времени писал Ап. Григорьев,
до отъезда в Оренбург. Теперь пишут сами Достоевские и Страхов.
Полонский служит секретарем в иностранной цензуре и живет в здании бывшего
148
Педагогического Института. В настоящее время он уехал за границу».
«[7 об.] Читали ли Вы "Мертвый дом" Достоевского? Славная вещь!... 1864,
лето».
[10] «... Только что собрался я писать статью в "Эпоху", как получил от
М.М. Достоевского записочку (по случаю скарлатины в его доме мы лично
(или: конечно /?/ - В. Т.) в это время не видались), чтобы статьи, если не
начата, не писать...»
1864, 1 ноября».
«[12] ... Письмо ваше, любезнейший Григорий Петрович, полученное в
Петербурге в то время, как мы жили еще на даче, доставлено мне дворником
через два месяца после его отправки. Не подумайте ради бога, что я долго
не писал к Вам по какой-нибудь небрежности. Много воды утекло с того
времени, как мы виделись с Вами. Вот и М.М. Достоевский отправился в
Елисейския. Это был такой неожиданный удар для его семьи и приятелей.
Болезнь его началась разливом жолчи и при других обстоятельствах
кончилась бы конечно благополучно. Но разные беспокойства, особенно со
стороны цензуры, которая сильно тревожила его, дурно [12 об.] подействовали
на ход болезни - отравленная жолчь бросилась на мозг, и он, пролежав три
дня в безпамятстве, умер. "Эпоха", как Вы знаете, продолжает издаваться
его семейством, т. е. собственно Ф.М. издает ее под номинальной редакцией
Порецкого (это один из старых знакомых и сотрудник по отделу внутренних
известий). Лечил покойного М.М. доктор Бессер, а потом приглашали на
консилиум Шпейера и Барча; но было уже поздно ... Ф.М. был при больном
постоянно; я также навещал по нескольку раз в день; мы жили друг от
друга {нрзб., может быть, домовно, менее вероятно - домами) через (нрзб.)
путь(?). Вот какой год выдался на семью: весной умерла [13] жена Ф.М.,
потом у М.М. дочь, а летом и сам он. Вы спрашиваете: кто будет главным
двигателем "Эпохи"? Конечно Федор Михайлович с прежними сотрудниками.
Впрочем, я не хорошо знаю теперь дела журнала и не участвую в нем:
недавно там напечатана моя статьишка, но она была отдана еще Мих. Мих.
Меня, кажется, считают там недостаточно крепким почве. Семейство по-
койнаго осталось на той же квартире, где жило и прежде, а потому и
сношение - по прежнему адресу. Федор Мих. живет на другой квартире, но
редакция осталась по-прежнему, и он ходит туда всякий день. Записочку насчет
неполучения Вами журнала я отдал в редакцию, [13 об.] и обещали
немедленно справиться. Мы праздники нынче на даче до конца сентября, а в
городе я остался на прежней квартире. Не собираетесь ли Вы в Петербурге?
Не забудьте тогда меня.
Прошу кланяться вашей супруге, как от меня, так и от дочери моей.
Ваш преданный слуга
А. Милюков
1 ноября 1864.»
[Александр Устинович Порецкий (1818-1879) - сотрудник «Времени» и
«Эпохи», журналист, писатель, переводчик, автор многочисленных статей в
этих журналах; после смерти М.М. Достоевского стал официальным
редактором «Эпохи». Ф.М. Достоевский называл Порецкого человеком
«необыкновенной душевной чистоты» и истинно христианской веры». «К этому
человеку я питаю особенное доверие, - признавался мне Федор Михайлович. -
149
во всех тяжелых, сомнительных случаях моей жизни я всегда обращаюсь к
нему и всегда нахожу у него поддержку и утешение»18. Сохранились девять
писем Ф.М. к Порецкому за период 1847-1876 гг. и шесть писем Порецкого
к нему за 1871-1876 (РГБ)19. Бессер Виктор Вилибальдович (1825-1890) -
известный петербургский врач, профессор по кафедре патологии,
диагностики и терапии в Военно-медицинской академии. «Бессеру я ни в чем не верю.
Это не доктор, а шарлатан; так по моему», - писал Достоевский20. (... Бессер
очень знаменитый здесь доктор» ...>>21), («Теперь дня три как мне гораздо
легче. Лечил меня Besser»)22. - Последовательность трагических событий в
семьях Ф.М. и М.М. Достоевских в письме нарушена: сначала в марте 1864 г.
умерла десятилетняя дочь М.М. Варвара (1854-1864), ср. письмо М.М. от
3 февраля 1864 Ф.М. Достоевскому: «У нас скарлатина. Варя занемогла.
Теперь лучше и опасность миновала», но в письме от 1 марта М.М. пишет:
«Точно душа наша отлетела от нас. Каждый день я плачу по Варе. Это был
ведь наш последний ребенок». Ф.М. в письме брату от 29 февраля пишет:
«Всю дорогу мне всё это случившееся представлялось и мучило меня
ужасно. Варю мучительно было жаль»23. Мария же Дмитриевна, жена Ф.М.,
умерла 15 апреля 1864 г. В письме М.М. Достоевскому от 15 апреля он
пишет: «Сейчас, в 7 часов вечера, скончалась Мария Дмитриевна...24.»
Автор письма Александр Петрович Милюков (1817-1897), - писатель,
историк литературы, педагог, сотрудник «Времени» и «Эпохи». Познакомился с
братьями Достоевскими еще в 1848 г. Вместе с М.М. Достоевским провожал
Ф.М. при отправке его из Петропавловской крепости в Сибирь.
Неоднократно упоминается в письмах М.М. Достоевского к брату25. Известны пять писем
Ф.М. к Милюкову и есть сведения о несохранившихся письмах к нему. Также
известны два письма Милюкова к Ф.М. - за 1859 и 1870 гг. (РГБ)].
* * *
Публикатор приносит свою благодарность сотрудникам Рукописного
отдела ГПБ за помощь в работе над архивными материалами, связанными с М.
М. Достоевским.
1 Собрание сочинений М.М. Достоевского вышло в тревожном 1915 г., почти не
привлекло к себе внимания, стало библиографической редкостью и вот уже почти 80 лет
не имеет продолжений или хотя бы повторений; среди серьезных исследователей
творчества М.М. можно назвать лишь А.З. Писцову - работы 70-80-х годов; полезные
работы B.C. Нечаевой имеют своим предметом преимущественно журнальную
деятельность М.М.
2 См. Григорович Д.В. Литературные воспоминания. М., 1987. С. 26-30, 88-90, 97,
113-114.
3 Там же, с. 99.
4 Ср.: Григорович Д.В. Указ. соч. С. 46 и др., 121.
5 См. Достоевский Ф.М. Материалы и исследования / Под ред. Долинина A.C. Л., 1935.
С. 532; ср. с. 565-566.
6 Ср.: Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. Т. XXVIII. Кн. 1. С. 141-142, 393, 400, 442.
7 См.: Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 270.
8 Нечаева B.C. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М., 1975;
«Время», №№ 120, 121, 197, 218, 236, 275, 278, 297, 299, 373; «Эпоха». №№ 105, 168.
150
9 См.: Искусство. M., 1927. T. III. Вып. I. С. 137-141.
10 См.: Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. Т. XXIX, кн. 1. С. 232-233, 255-256; (Впервые:
«Искусство». Т. III, вып. 1. С. 141-142).
11 Достоевский Ф.М. Указ. соч. Т. XX. С. 124.
12 См. сборник статей H.H. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе.
Исторические очерки». 2-е изд. СПб., 1890. Кн. 2. С. 147-175.
13 См.: Нечаева B.C. Указ. соч. С. 69-72; Она же. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских
«Время» 1861-1863. М., 1972. С. 288-313; ср. Страхов H.H. Воспоминания о Федоре
Михайловиче Достоевском // Биография, письма и заметки из записной книжки
Ф.М. Достоевского. СПб., 1883. С. 245 и ел.
14 Об А.Е. Разине см.: Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1935. С. 538,
544, 550. 569, 577; Нечаева B.C. Журнал «Время» 1861-1863. С. 90; Достоевский Ф.М.
Поли. собр. соч. Т. XXVIII. Кн. 2. С. 590 и др.
^Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. Т. XXVIII. Кн. 2. С. 57, 71, 73, 102, 201-202, 280,
390, 397, 399, 446, 470.
16 См.: Нечаева B.C. Журнал «Время» 1861-1863. С. 249, 264, 460, 463, 481. 499.
17 Там же. С. 290,417,530.
18 См.: Тимофеева В.В. (Починковская О.) Год работы с знаменитым писателем //
Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 162.
19 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. Т. XXVIII. Кн. 2. С. 589 и др. и в упомянутых
книгах B.C. Нечаевой о журналах «Время» и «Эпоха».
20 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. Т. XXVIII. Кн. 2. С. 44; ср. там же. С. 67, 95.
21 Там же. С. 150.
22 Там же. С. 383, 385.
23 Там же. С. 66, 394.
24 Там же. С. 92.
25 См.: Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. С. 448, 449, 454, 491, 530, ср. 569,
576.
ПРОЗА БУДНЕЙ И ПОЭЗИЯ ПРАЗДНИКА
(«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ШАРМАНЩИКИ» ГРИГОРОВИЧА)
В центре внимания в этой статье не само названное здесь произведение
раннего Григоровича, а тема быта и развлечений в
петербургской жизни, объявленная как тема соответствующей конференции и
публикации ее материалов, любезно предпринятой итальянскими коллегами.
Обращение к этой теме именно на материале названного литературного
текста имеет преимущество конкретности - места, времени
описываемого явления: Петербург первой половины 40-х годов XIX в. (дату
отчасти можно было бы сузить еще больше (см. ниже)) и особое
развлечение, связанное с «художественно-артистическим промыслом петербургских
шарманщиков. К этим «конкретностям нужно прибавить еще одну, очень
существенную и обеспечивающую достоверность всех вышеперечисленных
конкретностей, - конкретность самого текста Григоровича,
принадлежавшего к жанру физиологического очерка,
сформировавшегося вполне в рамках натуральной школы и вскоре ставшего модным и, более
того, на короткий период ведущим жанром русской прозы1.
Понятия «физиология», «физиологический», как они использовались за
пределами соответствующей отрасли науки, называемой физиологией,
возникли в Западной Европе в начале XIX в. в связи успехами естествознания
(Ламарк, Кювье, Сент-Илер и др.) и вскоре были перенесены в другие (в
частности, в гуманитарные сферы, как это несколько ранее произошло с
понятием «анатомия». В последнем случае локусом расширенного
употребления этого понятия стала Англия, в первом - Франция. «Физиология» во
французском понимании предполагала прежде всего ту точность, полноту,
детальность подхода, которая сопоставима с теми же характеристиками
«научной» физиологии. Автора нравоописательной книги Physiologie du goût
(1816) Б. Саварена считают инициатором расширенного понимания этого
слова, которое было усвоено и в гуманитарной области - там и тогда, где и
когда основным методом познания становилась классификация
(таксономическое описание) разных человеческих типов или соответствующих
институций под углом зрения их места в социуме, в общественной жизни2.
Не случайно, что Бальзак считал одной из основных особенностей
«физиологического» очерка умение схватить социальный тип «живьем». Сам он
отдал щедрую дань «физиологизму» в молодости (Физиология брака,
История и физиология парижских бульваров и др.) и уже в зрелом возрасте в
предисловии к Человеческой комедии (1842), излагая свой теоретический взгляд
на роман, вновь вернулся к понятию «физиологии», как оно употребляется
в связи с задачами литературы. Характерно, что именно в это время
«физиологические» очерки во Франции достигли вершины своей популярности.
152
Этому способствовали активная деятельность издателя сатирических
журналов Филипона, соединение творческих усилий писателей и художников-
иллюстраторов (прежде всего Домье), инициатива книгопродавца П. Кюр-
мера, выпустившего восьмитомное издание «Les Français peints par eux-
mêmes» (1840-1842), в котором участвовало более 130 авторов, в их числе
Бальзак, Жанен, Дюма-старший и др., чьи тексты сопровождались
обильными иллюстрациями.
В России эта инициатива была подхвачена с минимальным опозданием: в
1841-1842 гг. А.П. Башуцкий выпускает семь очерков, авторами которых
были Даль, Квитка-Основьяненко, сам издатель и др., под названием Наши,
списанные с натуры русскими (к очеркам на листах прилагались иллюстрации, и
все издание состояло из 14 выпусков). Эта «моментальность» русского
отклика объяснялась не только тем, что новости французской литературы и
культурной жизни становились известными в России, особенно в Петербурге (и
отчасти в Москве), почти сразу же, но и тем, что уже с середины 30-х годов в
русской литературе появляются тексты, довольно близкие к
«физиологическим» очеркам, образующим состав «пред-физиологического» периода в ее
развитии (в этой связи нелишне вспомнить и Булгарина, кстати, первым
употребившего термин «натуральная школа», и некоторые тенденции в
«низовой» литературе, рассчитанной на массового читателя, с одной стороны, и
опыты Гоголя, с другой3, а если идти еще дальше, то и Чаадаева)4. Более
того, русский «физиологический» очерк отличался своими особенностями,
отличавшими его от французского. Говорить здесь об этих отличиях или даже
об особенностях этого жанрового образования в самой русской литературе,
естественно, не приходится. Но всё-таки необходимо отметить особую
установку на «эмпирическое», на «как оно есть на самом деле» («дагерротипич-
ность»), не возмущаемое ни фантазиями автора, ни даже более или менее
естественными творческой переработкой и «художественным» усилением
натуры5, ни выражением авторского отношения к описываемому (хотя - шила в
мешке не утаишь! - и в лучших образцах этого жанра, в частности, и в
Петербургских шарманщиках, чувства автора не могут быть скрыты от читателя),
наконец, на изображение «низовой», социально-подавленной, маргинальной и
не получившей в литературе достойного выражения сферы жизни.
И еще одна существенная черта «физиологического» очерка в русской
литературе (несмотря на ряд исключений) - его связь с
«петербургской литературой»6 и «петербургской» темой. Предпочтение,
оказываемое в этом случае Петербургу (в частности, перед Москвой с ее
«московской» литературой), не только не было случайным, но было
счастливым для дальнейшего развития русской литературы, в ходе которого
различия между «двумя» этими литературами были преобразованы,
переосмыслены, во многом устранены или утратили свое значение. Хотя авторы
Физиологии Петербурга (обеих ее частей) не были петербуржцами по
рождению, именно в Петербурге появились в очень короткий период сборники
или произведения, представляющие собой лучшие образцы
«физиологического» очерка - альманахи Физиология Петербурга (1845)7, Первое апреля
(1846), Петербургский сборник (1846), Петербургские вершины Я.П. Бут-
кова (I-II, 1845-1846), ранние «петербургские» произведения Достоевского,
Григоровича, Некрасова, Гончарова и др.
153
Поскольку текст Петербургских шарманщиков выступает в данном
случае источником сведений об описываемых петербургских реалиях,
естественно возникает вопрос об авторе текста, прежде всего о его
индивидуальных особенностях и о его жизненном и писательском опыте, приобретенном
к тому времени, когда он приступил к своему «физиологическому» очерку.
Кое-что об этом сказал сам писатель в своих Литературных
воспоминаниях, написанных им в конце жизни, в апреле-июле 1892 г.
В кругу русских писателей вряд ли много найдется таких, которым в
детстве привелось встретить столько неблагоприятных условий для
литературного поприща, сколько было их у меня. Во всяком случае,
сомневаюсь, чтобы кому-нибудь из них с таким трудом, как мне,
досталась русская грамота («Литературные воспоминания». С. 25)8.
Эти неблагоприятные условия состояли в том, что, потеряв в раннем
детстве отца, будущий писатель остался на попечении матери и бабушки,
которые были француженками; хотя мать и говорила по-русски, но воспитанием
ребенка ведала бабушка, и в семье говорили по-французски. «Пяти лет
бабушка посадила меня за книжку. Книжка эта была французская азбука ...
Читать выучился я скоро ... До восьми лет в моих руках не было ни одной
русской книги; русскому языку выучился я от дворовых, крестьян»
(«Литературные воспоминания». С. 28-29). Трудности продолжались и позже9. И тем не
менее Григоровичу суждено было стать большим писателем, много писавшим
уже в ранний период творчества о русской деревне, искусно воспроизводя
тонкости крестьянской речи. В этом ему помогала его обостренная
восприимчивость, наблюдательность, языковые способности и - не в последнюю
очередь - его высокий артистизм в сочетании с чуткостью к внешним
впечатлениям. Эта художническая одаренность, зоркость глаза и умение эстетически
отмеченно запечатлевать наблюдаемое проявлялись не только в
литературных опытах, но и в его глубоком и позже профессиональном интересе к
живописи и театру, к зрелищным сторонам жизни10. Однако эти способности не
только помогали писателю, но иногда и приводили к противоположному
эффекту: легкая восприимчивость, бывало, вела к фиксации легко узреваемого,
поверхностного, вынуждая проходить мимо более глубоких образов зримого.
Однако и в этих последних случаях положение спасали умение просто и
логически стройно выстроить композиционный ряд, чувство меры и стиля,
наконец, то гуманное настроение, сочувствие к бедным и страдающим, которое
читатель легко улавливал во многих сочинениях писателя.
Петербургские шарманщики не были литературным дебютом
Григоровича11, но именно этот очерк был тем первым произведением писателя,
которое выделило его и принесло ему значительный успех12. Этим скромным
по исходному заданию «физиологическим» очерком Григорович состоялся
как писатель и открыл серию произведений 40-х годов, принесших ему
широкую известность в читательском круге и/или обеспечивших ему место в
разработке «городской», специально - петербургской темы в русской
литературе - «деревенские» Антон Горемыка, Деревня, Четыре времени года,
Бобыль или же «городские» Неудавшаяся жизнь, Похождения Накатова,
или Недолгое богатство, Капельмейстер Сусликов, Соседка, Лотерейный
бал (из второй части Физиологии), Свистулъкин и др.
154
Григорович сам придавал особое значение этому «физиологическому»
прорыву в русской литературе, отдавая должное инициативе Некрасова, но
не забывая и о ближайших предшественниках русского «физиологизма»:
Около этого времени в иностранных книжных магазинах стали во
множестве появляться небольшие книжки под общим названием
«Физиологии»"; каждая книжка заключала описание какого-нибудь
типа парижской жизни. Родоначальником такого рода описаний
служило известное парижское издание «Французы, описанные сами
собою». У нас тотчас же явились подражатели. Булгарин начал
издавать точно такие же книжечки, дав им название «Комары»; в каждой
из них помешался очерк типа петербургской жизни; один из них -
«Салопница» - был удачнее других, Булгарин гордился тем, что внес
в русский лексикон новый термин; термин «салопница»
действительно сохранился.
Некрасову, практический ум которого был всегда настороже,
пришла мысль начать также издавать что-нибудь в этом роде; он
придумал издание в нескольких книжках: «Физиология Петербурга».
Сюда, кроме типов, должны были войти бытовые сцены и очерки из
петербургской уличной и домашней жизни. Некрасов обратился ко
мне, прося написать для первого тома один из таких очерков.
Согласившись, я долго не знал, на чем остановиться. Проходя раз в
дождливый осенний день по Обуховскому проспекту, я увидел старого
шарманщика (разрядка здесь и далее автора статьи. - В.Т.), с
трудом тащившего на спине свой инструмент. До этого еще мое
внимание не раз приковывали эти люди, -итальянцы по большей
части, - добывающие таким ремеслом насущный хлеб. Их можно
было встретить каждый день на любом из больших дворов
Петербурга; они являлись с шарманками, с кукольною
комедией, собиравшею вокруг себя детское население дома, с
певцами, плясунами и акробатами, ходившими на руках и делавшими
salto-mortale на голой мостовой; сколько помнится, они тогда никому
не мешали - ни жителям, ни общественному порядку, - напротив,
много прибавляли к одушевлению серого, унылого города.
Следя за ними глазами, я часто спрашивал себя, какими путями
могли они добраться до нас из Италии, сколько должны были перенести
лишений в своем странствовании, как они у нас устроились, где и как
живут, довольны ли или с горечью вспоминают о покинутой родине
и т. д. Попав на мысль описать быт шарманщиков, яс
горячностью принялся за исполнение. Писать наобум, дать волю своей
фантазии, сказать себе: «И так сойдет!» - казалось мне
равносильным бесчестному поступку; у меня, кроме того, тогда уже
пробуждалось влечение к реализму, желание изображать действительность
так, как она в самом деле представляется, как описывает ее Гоголь в
«Шинели», - повести, которую я с жадностью перечитывал. Я
прежде всего занялся собиранием материала. Около двух недель бродил я
по целым дням в трех Подьяческих улицах, где
преимущественно селились тогда шарманщики, вступал с ними в разговор,
заходил в невозможные трущобы, записывал потом до мелочи всё,
155
что видел и о ч е м слышал. Обдумав план статьи и разделив ее на
главы, я, однако ж, с робким, неуверенным чувством приступил к
писанию («Литературные воспоминания». С. 77-78).
Уже из этих позднейших воспоминаний вырисовывается сама ситуация
выбора темы «физиологического» очерка в ответ на просьбу Некрасова.
Задание, к которому молодой автор отнесся с полной серьезностью, не
было для него легким («я долго не знал, на чем остановиться»). Только на
поверхностный взгляд выбор был обязан случайности - действительно
случайной встрече со старым шарманщиком, с трудом тащившим на спине свой
инструмент. Но мало ли кого встречал Григорович, бродя по большому и
многолюдному городу. «Случайное» было замкнуто «неслучайным» -
вниманием, которое и раньше привлекали шарманщики, по преимуществу
итальянцы, зарабатывавшие своим ремеслом на хлеб насущный. И не
только вниманием, но и раздумьями над их трудной долей, над тем, что
заставило их покинуть свою прекрасную родину и устремиться в далекую, чужую и
часто негостеприимную страну. Это внимание, эти раздумья, это сочувствие
при случайной встрече с шарманщиком на Обуховском мосту решили дело,
и выбор был сделан. Он был счастливым. Но, как вспоминал сам
Григорович (см. выше), «писать наобум, дать волю своей фантазии, сказать себе. -
И так сойдет!» он не мог: нравственное чувство подсказывало, что это
было бы «равносильным бесчестному поступку». К счастью, эта нравственная
установка соотносилась у Григоровича с пробуждающимся «влечением к
реализму». И отсюда следовал вывод - необходимость «собирания материала»
и невозможность довольствоваться прежними впечатлениями. Решение
было принято, и молодой «легкомысленный» человек, которому, казалось бы,
хватает и тех внешних впечатлений, которые он с избытком получает
ежедневно, в течение приблизительно двух недель целыми днями ходит по
Подьяческим улицам, вступает в разговоры с шарманщиками,
расспрашивает их обо всем, что относится к их жизни и после, вернувшись домой,
записывает всё услышанное и увиденное за день «до мелочи». И после всего
этого и составления плана статьи автор «с робким, неуверенным чувством»
приступает к писанию. Перед нами замечательный пример использования в
литературной практике исследовательского, аналитического, близкого к
научному метода изучения живой городской натуры, напоминающий лучшие
образцы французских «физиологистов»13. Кажется, эта особенность
выделяет Григоровича среди других участников Физиологии Петербурга.
Правда, в большинстве случаев сведения о подготовительной работе авторов
отсутствуют, но создается впечатление, что им хватало своего жизненного
опыта, некоторого домысливания его и отчасти творческой выдумки для
создания своих «физиологических очерков». Разумеется, это говорится не в
упрек остальным авторам и даже не с целью оценки текстов, составивших
сборник, но исключительно для того, чтобы подчеркнуть особый подход
Григоровича к своему очерку и тем самым его
источниковедческое значение, что небезразлично в ситуации, когда речь идет не столько
о тексте Григоровича, сколько об образе Петербурга, по этому
тексту восстанавливаемому14. А то, что Петербургские шарманщики были
не случайным источником по Петербургу и петербургской жизни - ее быту
156
и ее развлечениями, но источником, отражавшим внутренние и внешние
интересы и потребности автора, доказывает все творчество Григоровича.
«Тема "шарманщиков" в различных трансформациях окажется сквозной в
творчестве Григоровича; он напишет о бедных музыкантах, художниках,
артистах, акробатах (Капельмейстер Сусликов, Гуттаперчевый мальчик)», -
указывает современный исследователь15.
Да и сами представления этих уличных артистов полюбились жителям
больших русских городов и особенно Петербурга. В этих действах под
открытым небом, где оказывалось сколько-нибудь подходящее место и
потенциальные зрители, было что-то интимное, притягательное, отчасти
успокаивающее (артист чаще всего был беднее зрителя, и ему было тяжелее,
труднее), внушающее, что жить еще можно, как бы компенсирующее бездушие
большого города и страх существования в нем, не позволяющее умереть
последней надежде, если говорить о людях, оказавшихся на дне жизни. Но во
всяком случае подобные уличные действа имели власть и над людьми, чье
положение не было критическим. Они будили воображение, на время
переносили человека в некий иной, прекрасный мир при всей его условности, или
становились поводом для воспоминаний и переживаний заново того, что всё
еще не было изжито.
Очень давно когда-то всего на несколько минут я встретил одно
весьма жалкое существо, которое потом беспрестанно мне
припоминалось в течение всей моей жизни и теперь как живое стоит перед
моими глазами: это была слабая, изнеможенная и посиневшая от
мокроты и стужи девочка на высоких ходулях. В тот день, когда я
увидел этого ребенка, в Петербурге ждали наводнения; с моря
сердито свистал порывистый ветер и носил по улицам целые облака
холодных брызг ... В этот ненастный, холодный день она вышла на
грязный мощеный двор из-под черной арки ворот в сопровождении
еще более ее изнеможенного итальянского жида, который
находился с нею в товариществе по добыванию хлеба, и в
сопровождении целой толпы зевак, с утра бродивших для наблюдения, как
выступают из берегов Лиговка, Мойка и Фонтанка. Бледный,
чахоточный жид, сгибаясь в три погибели, нес покрытую клеенчатым
чехлом шарманку; праздные люди гордо несли на своих лицах
спокойную тупость бессмыслия. Девочка на ходулях была самым
замечательным лицом во всей этой компании и с помощью своих ходуль
возвышалась наглядным образом надо всеми. По силе
производимого ею впечатления с нею не мог соперничать даже ее товарищ ...
девочка была богиней: на ней был фантастический наряд из перемятой
кисеи и рыжего плиса ... а на ее высоком белом лбу лежала
блестящая медная диадема, придававшая что-то трагическое этому
бледному профилю, напоминавшему длинный профиль Рашели, когда эта
пламенная еврейка одевалась в костюм Федры. Нет сомнения, что
вошедшая на ходулях девочка тоже должна была воплощать в себе
понятие о каком-то трагическом величии. Она вошла твердою и
спокойною поступью, и когда сопровождавший ее жид завертел свою
шарманку, она запела ...
157
В ее голосе, которым она пропела эту рыцарскую песню, было
столько же скромной твердости, сколько в ее тихом шествии на
ходулях; но эта рыцарская песня не нашла сочувствия ни в ком ...
Несравненно более общего внимания у зрителей девочка встретила
тогда, когда она проплясала перед ними на ходулях какой-то
импровизированный matelot. Я видел, как при самом начале этого танца все
самые тупые лица осклабились и праздные руки бессмысленно
зашевелились, а когда девочка разошлась и запрыгала, каждую секунду
рискуя поскользнуться и, в самом счастливом случае, только
переломить себе ногу, публика даже начинала приходить в восторг. Из всех
людей, стоявших на дворе, и из всех глазевших на эту пляску в окна
лишь одно мрачное лицо еврея упорно хранило свое угрюмое
выражение, да еще было спокойно лицо самой танцорки. Черные глаза
жида то обходили дозором окна всех окружающих двор пяти этажей,
то с ненавистью и презрением устремлялись на публику партера,
вовсе и не помышлявшую достать из кармана медный грош на хлеб
голодному искусству.
- Если бы она плясала в длинном платье, она бы по крайней мере
вымела бы мне двор, - проговорил присутствовавший в партере
дворник ...
По мановению дворника прежде всех и проворнее всех поспешила
исчезнуть под аркою ворот захожая публика, наслаждавшаяся par
grâce всеми вокальными и хореографическими талантами девочки на
ходулях; за публикой, сердито ворочая большими черными глазами в
просторных орбитах, потянул, изнемогая под своей шарманкой,
чахоточный жид, которому девочка только что успела передать
выкинутый ей за окно пятак, и затем, уже сзади всех и спокойнее всех,
пошла сама девочка на ходулях. Она удалялась в том же спокойном и
гордом молчании, с которым входила назад тому несколько минут на
этот двор, но из глаз моих до сих пор не скрывается ее бледный
спокойный лоб, ее взор гордый и профиль Рашели ... Память моя в
своих глубочайших недрах сохранила детский облик ходульной
плясуньи, и сердце мое и нынче рукоплещет ей, как рукоплескало в тот
ненастный день, когда она, серьезная и спокойная, не даря ни
малейшего внимания ни глупым восторгам, ни дерзким насмешкам, плясала
на своих высоких ходулях и ушла на них с гордым сознанием, что не
даровано помазанья свыше тем, кто не почувствовал драмы в ее
даровом представлении.
Я никогда ни одного слова не рассказывал о том, как приходила эта
девочка и как она плясала на своих высоких ходулях, ибо во мне
всегда было столько такта, чтобы понимать, что во всей этой истории
ровно нет никакой истории. Но у меня есть другая
история ..., и эта-то история такова, что когда я о ней думаю ... я каждый
раз совершенно невольно вспоминаю мою девочку на ходулях. И так
как они не разлучались в голове моей и глядели на меня обе, когда я
думал только об одной из них, то я не хочу раз думать их перед
твоими глазами, читатель. Тебе было б жалко, как они заплакали бы
разлучаясь, эти милые дети.
Я лучше желаю, чтобы в твоем воображении в эту минуту
пронеслось бледное спокойное личико полуребенка в парчовых лохмотьях,
и приготовило тебя к встрече с другим существом, которое в наш век
... вошло в жизнь, не трубя перед собою, но на очень странных
ходулях, и на них же и ушло с гордым спокойствием в темную
неизвестную даль.
Маничка Норк! Где бы ни была ты теперь, восхитительное дитя
Васильевского острова ... - всюду я шлю тебе мой душевный привет
и мой поклон до земли ... да простишь ты мне, что я решаюсь
рассказать людям твою сердечную повесть. Протяни мне твои маленькие
прозрачные ручки; дохни на эти строки твоим чистым дыханием ...
И чувствует сердце мое, что дошла до тебя моя просьба; я слышу
откуда-то, из какого-то сурового далека твой благословляющий
голос ... и начинаю свой рассказ о тебе, приснопамятный друг мой
{Лесков. Островитяне. 1866).
Таким уличным артистам, в частности и шарманщикам, и
импровизированным действам, развертывающимся - непрошенно и негаданно - в самой
сердцевине быта, как бы вырастающим из него, но и, при удаче и хотя бы
ненадолго, преодолевающим его, преображающим его и всю жизнь в
минутный праздник, русская литература отдала щедрую дань благодарной памяти.
И тот, кто еще видел и слышал шарманщиков (в московских дворах они
поспешно исчезли к середине 30-х годов, а на бульварах еще раньше), знает,
как много ушло с ними из жизни и что сменило былую душевность этих
встреч, их поэзию, дух - пусть мимолетный -праздника, без которого
будни не просто проза, но тягота и уныние.
Подлинный праздник всегда коренится в буднях, в той стороне жизни,
которая образует быт как сниженную, «профаническую» форму бытия. Не
всегда этот общий корень виден и тем более сознается, но если не сознание,
то чувство, подсознание знают или догадываются об этой соотнесенности
будней и праздника, быта и развлечения, удовольствия, радости, которые
возникают не столько из самого быта и будней, сколько из прорыва их не-
киим иным началом. Быт, даже самый скудный, бедный, аскетически
простой, всегда предполагает заполненность (если не материальную, то
заботами о материальном). Праздник, напротив, образуется разрежением
быта, его опустошением (праздник порожний, свободный от
быта и его забот, по крайней мере, в своем пределе, в идеале). Он - выход
из быта в сторону бытия и бытийственности.
Петербург - столица Российской Империи, местопребывание царского
двора, город военных и чиновников, бюрократических установлений и
регламентированной жизни, наиболее «регулярный» из русских городов, «окно
в Европу»16 и уже поэтому наиболее европеизированный город России.
Жизнь в нем сложна, разнообразна, дорога, тяжела, во всяком случае для
простого люда, который всегда составлял большинство населения города;
настроение этого большинства (как, впрочем, и многих из наиболее
просвещенного и мыслящего меньшинства) всегда определялось пространством
между озабоченностью и ужасом перед жизнью, безнадежностью, тем
состоянием, когда «уже некуда больше идти». Но в Петербурге, как бы для
159
уравновешивания забот и ужаса жизни, бед и горя, много, как нигде в
России, праздников, развлечений, увеселений - разного рода и на разный вкус,
однако не всем и не всегда доступных. Со стороны Петербург - сплошной
праздник и непрекращающееся веселье:
Что за славная столица
Славный город Петербург,
Испроездя всю Россию
Веселее не нашел.
Там трактиров, погребов
И кофейных домов,
Там таких красоток много,
Будто розовый цветок,
- пели в народе, правда, больше по России, чем в самом Петербурге17. Но и
те, кто знал темную сторону петербургской жизни, признавали, что и
удовольствий, развлечений, наслаждений в ней много.
Столица наша чудная
Богата через край,
Житье в ней нищим трудное,
Миллионерам - рай,
Здесь всюду наслаждения
Для сердца и очей,
Здесь всё, без исключения,
Возможно для людей.
При деньгах вдвое вырасти,
Чертовски разжиреть,
От голода и сырости
Без денег умереть,
- писал Некрасов за два года до Физиологии Петербурга в Статейках и
стихах без картинок. А Макару Алексеевичу удовольствие - и новую
книжку почитать, и купить Вареньке «шелчку цветного для вышиванья»
(«Завтра же буду иметь наела жд е н и е удовлетворить вас вполне»), и
сознавать, что «от всех необходимостей» останется трехрублевик и можно
будет купить «полфунтика табаку» («Вот у вас там беда, вы последнего
лишаетесь, а я здесь разными удовольствиями наслаждаюсь»).
Развлечения как отвлечение от однообразия быта или его тягот и результат
этого развлечения-отвлечения - удовольствие, уж не говоря о высшей его
степени - наслаждении, нужны и отдельному человеку и людям в целом.
К середине XIX в. в Петербурге состав этих развлечений, их типология и
структура, их нити в монолите быта отличались наибольшим разнообразием
в России. Но имеющихся развлечений все-таки не хватало: ненасытность
требовала все новых и новых, и само развитие «индустрии» развлечений
поражало своим размахом и динамизмом. К 60-70-м годам XIX в. Петербург
стал уже «русским Парижем» (иногда его сравнивали и с Вавилоном), и
когда его так называли, имели в виду прежде всего, что здесь всюду
наслаждения, некая новая форма «райской» жизни, царство «веселья» и развлечений,
порождаемых самим устройством жизни большого и сложноорганизованного
города.
160
Подробнее говорить обо всем этом здесь нет возможности, хотя надо
признать, что серьезного, так сказать, теоретического осмысления
феномена «развлечение», его функций и связей с бытом пока нет. Поэтому
представляется нужным сказать несколько самых общих слов о том характерном
виде петербургских развлечений, который связан с действом
шарманщиков. Прежде всего это уличное действо, в котором участвует
шарманщик и иногда его помощник или помощница - кукловод, певец, мим,
акробат, «коверный», нередко по совместительству и сборщик добровольных
подаяний. Чаще всего «уличность» действа суживается до «д в о ρ о в о с τ и»:
во всяком случае в XIX в. именно дворы использовались как сценическое
пространство. Преимущество их с точки зрения шарманщика заключалось в
замкнутости этой сцены, представлявшей собою своего рода
прямоугольную арену: с одной стороны, это изолировало происходящее от
случайностей, в частности, от вмешательства представителей местной власти,
«ненужных» прохожих, толчеи, т.е. всего того, что могло помешать
представлению, и создавало обстановку некоей интимности: с д ρ у г о й стороны,
замкнутость пространства, чаще всего (учитывая структуру петербургских
дворов в центре города в середине XIX в. и позже) со всех четырех сторон,
образуемых дворовыми стенами высоких (желательно) трех-, четырех-,
даже пятиэтажных домов, обеспечивало шарманщику довольно значительную
зрительскую аудиторию - несколько десятков окон, каждое из которых
могло быть занято зрителем и даже двумя-тремя; при этом зрители не
образовывали безликой массы, толпы, окружающей непосредственно
шарманщика, в которой, присутствуя на представлении, легко было уклониться от
подаяния; «оконный» же зритель был всегда на виду у шарманщика (как и он
у них), между шарманщиком и им возникали как бы непосредственные,
«один на один» отношения, и сама эта ситуация как бы вынуждала и
скупого или черствого зрителя вспомнить о совести и сделать подаяние - пусть и
не всегда доброхотное. Но, конечно, эти «оконные» дворовые стены могли
при нежелании видеть шарманщика становиться кулисами, за которыми мог
прятаться зритель (типичный случай - за занавеской, шторой, ставнями), не
склонный к непредусмотренным тратам. Как бы то ни было, но такое
типичное устройство сцены и зрительных мест обеспечивало как удобство и
легкость коммуникации артиста и зрителей и присутствие обратной связи
между ними, так и возможность деликатного, не обижающего
артиста-шарманщика уклонения от контактов, во всяком случае двусторонних.
Другая особенность, отличающая такое «шарманочное» действо от
других, заключалась в незапланированное™, «случайности» и неожиданности
этого действа с точки зрения зрителя, его импровизационности, в том, что
артист предлагал себя зрителям, а уж они сами решали, принять ли это
предложение или нет, и если принять, то насколько, в какой мере, с какой
степенью вовлеченности в происходящее. Это была ситуация, когда не зрители
приходили к артисту, а артист к людям в разгар их бытовых забот, дел,
иногда неотложных, еще не знающим, что кто-то видит в них потенциальных
зрителей. А этот кто-то, артист, понимая и короткость этой дистанции
между бытом и развлечением в таком случае, и что его появление на
«дворовой» площадке самовольно, без спросу и само по себе уже есть некое
вторжение в жизнь обитателей окружающих эту площадку домов, строго говоря,
6. Β.Η. Топоров
161
не мог иметь серьезных претензий к тем, кто не откликался на его никак
не вызов, а всего лишь ненавязчивое предложение: если хотите, - да, если не
хотите, - нет, и не взыщите за то, что невольно отвлек вас. Вся эта ситуация
«шарманочного» действа предполагала, по крайней мере, по идее, некий
обмен деликатностями, основанный на признании прав другого, его свободы
выбора, более тонкие и интимно-доверительные отношения между
артистом и зрителями, чем несравненно многочисленнейшие и заранее
планируемые (в частности, по времени, месту, иногда и программе)
«общегородские» гуляния-развлечения типа масленичных балаганов, когда для артиста
не существует отдельного, индивидуального зрителя: между ними -
безликая и безымянная масса, и только с нею имеет дело артист. В ситуации
таких массовых и институализированных развлечений, если судить о них по
обширной литературе18, нет места ни для интимности, ни для деликатности,
более того, нередко от актера (актеров) требуют повтора или чего-то
нового, насмехаются, провоцируют, предают ритуальному поношению и т.п.
«Физиологический» очерк Григоровича посвящен
петербургским шарманщикам, и действительно автор описывает именно
петербургских шарманщиков, среди которых были и русские, и немцы, и
итальянцы со своими особенностями, своими локусами, своим репертуаром.
Каждой из этих трех групп шарманщиков писатель уделяет свою часть в
очерке. Но иногда он говорит о «петербургском» шарманщике вообще, как
особом типе, не указывая, во всяком случае не называя, его национальную
принадлежность. И тем не менее, ни для читателя, ни для исследователя
Петербургских шарманщиков, ни для тех, кто интересуется жизнью
Петербурга 40-х годов вообще и в плане общественных развлечений, небезразлично,
что послужило для писателя субстратом при формировании и фиксации
типа петербургского шарманщика. Это тем более важно, что, описывая
петербургских шарманщиков, Григорович ставил перед собою инравствен-
н у ю задачу. Поэтому существенно знать, кто привлек прежде всего его
сочувственное внимание, что именно затронуло его душевные струны,
«зацепило» его и - на уровне сознания - поставило перед ним проблему долга и
задачу добросовестного его выполнения. В Литературных воспоминаниях
Григорович открыто отдает предпочтение итальянским шарманщикам в
Петербурге. Еще до выбора темы своего «физиологического» очерка его
«внимание не раз приковывали эти люди, - итальянцы по большей части, -
добывающие своим таким ремеслом насущный хлеб (...) я часто спрашивал
себя, какими путями могли они добраться до нас из И τ а л и и», как они
устроились и не вспоминают ли они с горечью о своей покинутой родине
(см. выше). Воспоминания, написанные без малого полвека спустя после
Петербургских шарманщиков, разумеется, очень важное свидетельство, но
не о том же ли говорит и сам очерк о них, говорит скромно, целомудренно,
с глубоким участием и сочувствием, не упоминая национальной
принадлежности «типового» шарманщика, но всегда имея ее в виду?
На основании анализа текста Петербургских шарманщиков можно
утверждать, что этот очерк посвящен прежде всего шарманщикам-и таль-
я н ц а м (точнее, именно они дали толчок и всей теме «петербургских»
шарманщиков и стали основой соответствующей персонажной типологии, что
именно они были и в центре его внимания и в глубине его сердца).
162
Структура очерка основательно продумана автором, и его композиция
проста, наглядна и равно отвечает и тому, что задумано писателем, и тому, что
облегчает восприятие текста читателем. Рамочная конструкция, образуемая
началом и концом текста, - то поле, где на одном и том же материале
ведется игра симметрии-асимметрии (основная схема: итальянский
шарманщик - шарманщик вообще// шарманщик вообще
-итальянский шарманщик), где «нравственное» и «художественное» идут в ногу друг
с другом, где рядом с объектом описания всегда присутствует и его субъект -
Я, в начале выраженное непосредственно, в конце транспонированное в вы
(«Вы входите в глухой, темный переулок; сердце ваше сжимается»).
Асимметрия - в объемах начала и конца и в соотношении «эмпирического» и
«нравственного», зримого и переживания увиденного. Но первые фразы начала и
последние фразы конца - о шарманщиках-итальянцах. Начало - о в а с,
читателях с предложением взглянуть на то, чему посвящен текст («В згляните
на этого человека»); конец - о самом «этом человеке», о том, что «е м у
холодно, тяжело...». Начало и конец очерка оформлены как I. Вступление и VII.
Заключение, т.е. как классическая семичленная схема, соответствующая
оптимальному объему восприятия (7±2) и естественному пределу памяти. В пяти
внутренних главах - о частном, хотя и существенном (П. Разряды
шарманщиков. - III. Итальянские шарманщики. - IV. Русские и немецкие шарманщики. -
V. Уличный гаер. - VI. Публика шарманщика); во внешних главах (I.
Вступление и VII. Заключение) - об общем и главном, специфицируемом,
конкретизируемом и уточняемом во внутренних главах.
I. Вступление
Взгляните на этого человека, медленно переступающего по
тротуару; всмотритесь внимательнее во всю его фигуру. Разодранный
картуз, из-под которого в беспорядке вырываются длинные, как
смоль черные волосы, осенняя куртка без цвета и
пуговиц, гарусный шарф, небрежно обмотанный вокруг
смуглой шеи, холстинные брюки, изувеченные сапоги и наконец
огромный орган, согнувший фигуру эту в три погибели19, - все это
составляет принадлежность злополучнейшего из петербургских
ремесленников - шарманщика. В особенности наблюдайте за ним на
улице: левая рука его с трудом вертит медную ручку, прикрепленную к
одной из сторон органа; звуки то заунывные, то веселые
вырываются из инструмента, оглашая улицу, между тем, как взоры хозяина
внимательно устремлены на окна домов; он прислушивается к
малейшему крику, зову и едва встречает приветливый взгляд, как
тотчас ставит свою шарманку и начинает играть лучшую пьесу своего
репертуара. Каждый раз, как которая-нибудь из труб, позабыв
уважение к человеческим ушам, завершает неестественно и
нескладно, - посмотрите, как старательно завертит он рукою, думая тем
загладить недостатки пискливого своего инструмента и не возбудить в
слухе вашем неприятного ощущения. Форточка отворяется, пятак
или грош, завернутый в бумажку, падает к ногам его в награду за
труды, но часто, весьма часто, истощив напрасно свой репертуар, он
медленно удаляется грустный, унылый, не произнося ни жалобы, ни
6*
163
ропота. Он уже давно привык к такой жизни. Какая бы на улице ни
стояла погода, знойный жар, дождь, трескучий мороз, вы его увидите
в том же костюме, с тою же шарманкою на спине, - и все для того,
чтоб получить медный грош, а иногда и «надлежащее распеканье» от
дворника, присланного каким-нибудь регистратором, вернувшимся из
департамента и после сытного обеда расположившимся лихо
всхрапнуть. Часто шарманка его кормит целое семейство, и тогда можете
себе представить, сколько ужасных чувств волнуют горемыку при
каждом тщетном покушении растрогать большею частию
несострадательную к нему публику. Из всех ремесл, из всех возможных способов,
употребляемых народом для добывания хлеба, самое жалкое, самое
неопределенное есть ремесло шарманщика. Нет ремесленника,
который приобретал бы копейку, не имея в виду явного барыша:
полунищая баба в грязном салопе, покрытом заплатками сверху донизу,
продающая на Сенной площади вареный картофель, прикрываемый, для
сохранения в нем надлежащей теплоты, известным способом, то есть
без помощи чего-нибудь постороннего, кроме тряпья, составляющего
ее исподнее платье, - приглашая гг. инвалидов и мужиков: «на
картофель, на горячий, служба, служба! на карто, на карто... кавалер, на
горячий, на карто, на карто...» - и та даже совершенно уверена, что
вернется домой с доброю краюхой хлеба достаточной величины, чтобы
накормить двух-трех пострелят мужеского или женского пола, что
очень часто трудно бывает разобрать, если судить по одной одежде.
Шарманщик же, спускаясь из-под кровли пятиэтажного дома или
подымаясь из своего подвала, редко бывает уверен, доставит ли ему
скудный его промысел кусок хлеба, соберет ли он столько денег,
чтобы в конце месяца заплатить за квартиру, - большею частию угол,
занимаемый им у той же торговки картофелем, которая за неисправный
платеж будет вправе прогнать его со двора. - Вникнув хорошенько в
моральную сторону этого человека, находишь, что под грубою его
оболочкою скрывается очень часто доброе начало -
совесть. Он мог бы, как другие бедняки, просить подаяние; что
останавливает его? К чему таскает он целый день на спине шарманку,
лишает себя свободы, убивает целые месяцы на дрессировку собачонок
или изощряет свое терпение, чтобы выучить обезьяну делать разные
штуки. Что же вынуждает его на такие подвиги, если не чувство,
говорящее ему, что добывать хлеб подаянием или плутовством бесчестно?
Я не хочу здесь представлять шарманщика идеалом добродетели; еще
менее расположен я доказывать, что добродетель составляет в наше
время исключительный удел шарманщиков и что, следовательно, вы
должны запастись шарманкою и отправиться с нею по улицам, если
считаете себя добродетельным; далек я также от мысли рассчитывать
на ваше сострадание, представляя шарманщика злополучнейшим из
людей. Нет, я хочу сказать, что в шарманщике, в его частной и в
общественной, уличной жизни многое достойно внимания. И если вы со
мною согласны, то мне нечего и просить вас читать далее; вы это
сделаете сами... Я намерен заняться своим героем со всем подобающим
усердием...
В этом вступлении, в самом его начале, автор как бы вводит читателя в
самое описываемую сценку как ее непосредственного наблюдателя. Его
цель в том, чтобы читатель, превращенный в зрителя, познакомился с
шарманщиком de visu, причем с шарманщиком в процессе его работы. Едва
читатель-зритель успел всмотреться «во всю фигуру» шарманщика, его лицо,
одежду, обувь, как автор привлекает внимание к согнувшейся в три
погибели под тяжестью огромного органа фигуре шарманщика, к левой руке его,
с трудом вертящей медную ручку. Затем основным становится звук - то
заунывный, то веселый, то неестественно и нескладно верещащий,
пискливый, вызывающий неприятные ощущения. В удачном случае, заметив
приветливый взгляд, шарманщик исполняет лучшую пьесу своего репертуара и
тогда, довольный, получает награду в виде завернутого в бумажку пятака,
брошенного из окна. Но нередко, истощив весь свой репертуар и не получив
отклика, он безропотно удаляется - грустный и унылый.
Эти два противоположных исхода уже отсылают от конкретного, вот
этого шарманщика к типу - как самого шарманщика, так и его ремесла.
Жизнь шарманщика тяжела: работа не отменима ни в зной, ни в мороз, ни в
дождь. Орган громоздок и немалого веса. Таскаться с ним по лестницам,
выходя на работу и возвращаясь домой, трудно. Бывает, что и дворник гонит
со двора. И главное - дневная выручка за тяжелый труд очень
незначительна, а иногда и вовсе отсутствует. А шарманщик нередко обременен семьей,
и его дневной заработок кормит целое семейство. Из всех возможных
способов добывания хлеба ремесло шарманщика «самое жалкое, самое
неопределенное». Любой другой ремесленник и даже бедняк, нищий, просящий
подаяния, всегда могут рассчитывать - в отличие от шарманщика - хотя бы на
минимум. И здесь возникает вопрос - почему шарманщик все-таки остается
верным своему ремеслу и не бросает его, а разучивает новые пьесы,
совершенствует репертуар, тратит месяцы на дрессировку собачонок и обучение
обезьянки выигрышному номеру. И когда кажется, что ответа на этот
вопрос нет кроме того, чтобы признать полную несостоятельность
шарманщика, на помощь приходит автор: на все эти трудности и лишения шарманщик
идет только потому, что в нем живет чувство, которое говорит ему, что
выпрашивать подаяние или заниматься плутовством -бесчестно, и это
сознание предполагает присутствие совести. Автор ограничивается таким
ответом, хотя, вероятно, и он мог бы признать, что среди шарманщиков есть и
такие, которым дорого их ремесло, и для них бросить его было бы
предательством, а потом скорее всего впадением в полную нищету. Через
отрицание («далек я также от мысли рассчитывать на ваше сострадание») автор
все-таки надеется на сострадание, которое будет оказано шарманщику, но,
боясь оказаться навязчивым, выбирает наиболее скромную формулировку
своей надежды-просьбы: он хочет только сказать, что в шарманщике
«многое достойно внимания». Автор верит, что те, кто с ним согласен,
прочтет его очерк о жизни петербургских шарманщиков, поймет то, что он
не может высказать до конца, и, поняв, сделает свой вывод. Сомневаться в
характере этого вывода трудно -сострадание.И это чувство бросает
свой отсвет на весь этот более чем «физиологический» очерк.
На основании анализа текста Петербургских шарманщиков можно
утверждать, что этот очерк посвящен прежде всего шарманщикам-итальян-
165
цам, что именно они были и в центре его внимания и в глубине его сердца.
Рамочная конструкция начала и конца текста, где не столько об
эмпирии шарманочного ремесла, сколько о его людях, о символическом
смысле их нелегкой судьбы, подтверждает это предложение.
VII. Заключение
Случалось ли вам идти когда-нибудь осенью поздно вечером
по отдаленным петербургским улицам?
Высокие стены домов, изредка освещенные тусклым
блеском фонарей, кажутся еще чернее неба; местами здания и с е -
рые тучи сливаются в одну массу иогоньки в окнах блестят
как движущиеся звездочки; дождь с однообразным шумом падает на
кровли и мостовую; холодный ветер дует с силою и, забиваясь в ворота,
стонет жалобно; улицы пусты, кое-где плетется разве запоздалый
пешеход или тащится извозчик-ночник, проклиная ненастье; но скоро все
утихает, изредка только слышатся продолжительный свист на каланче или скрип
барки, качаемой порывами ветра, и снова все погружается в безмолвие20.
Погода всегда имеет сильное влияние на расположение духа и вам как-то
невольно становится грустно.
Постепенно одна за другою приходят на ум давно забытые горести; одно
печальное, неотрадное наполняет душу и невыразимая тоска овладевает всем
существом вашим...
Вы входите в глухой, темный переулок; сердце ваше сжимается еще сильнее
прежнего. Высокие заборы исчезают втемноте; полуразвалившиеся
лачужки без признака жизни, все пусто, ни живой души, разве пробежит
мокрая собачонка, фыркая и чутко обнюхивая, в тщетной надежде напасть на
след потерянного хозяина... Вдруг посреди безмолвия и тишины раздается
шарманка; звуки «Лучинушки» касаются слуха вашего, и фигура
шарманщика быстро проходит мимо.
Вы как будто бы ожили, сердце ваше сильно забилось, грусть мгновенно
исчезает, и вы бодро достигаете дома. Но не скоро унылые звуки
«Лучинушки» перестанут носиться над вами; долго еще станет мелькать жалкая
фигура шарманщика, встретившаяся с вами в темном переулке поздно
ночью, и вы невольно подумаете: может быть в эту самую минуту продрогший
от холода, усталый, томимый голодом, одинокий среди безжизненной
природы, вспоминает он ρ о д н ы е горы, старуху мать, оливу,
виноград, чернооокую свою подругу и невольно спросите вы: для
чего, каким ветром занесен он, Бог знает куда, на ч у ж б и н у, где ни слова
ласкового, ни улыбки приветливой, где, вставши утром, не знает он, чем
окончится день, где ему холодно, тяжело...21
Это «Заключение» замыкает круг, начатый «Вступлением», и
последняя фраза первого отсылает к двум первым фразам последнего: и там и
там - об итальянце, петербургском шарманщике; персонаж начала и
конца очерка отождествлен и идентифицирован. О том, что он беден и что ему
тяжело, открыто говорится в первых и последних фразах Петербургских
шарманщиков. И что же, все это зря, напрасно и ничем не
компенсируется, не искупается, не оправдывается? Даже для случайного прохожего,
которому тоже не легко идти «осенью, поздно вечером, по отдаленным
166
петербургским улицам» и у которого на душе тоска и уныние? Едва ли так.
Если верить последовательности авторского повествования, его
внутренней логике, это совсем не так. Звуки «Лучинушки» достигают слуха
одинокого пешехода, которым можете оказаться и вы сами. И вот - «Вы как
будто ожили, сердце ваше сильнее забилось, грусть мгновенно
исчезает, и вы б о д ρ о достигаете дома». В холодную темную осеннюю
петербургскую ночь все это уже совсем немало, и только душевно грубый
и черствый человек не вспомнит при этом, может быть, именно через
«Лучинушку»22, и того, кто ею помог вам здесь и сейчас. Дмитрий Васильевич
Григорович выразил долг благодарности этому случайному и
неизвестному шарманщику за всех тех, кто ожил при звуках шарманки и
исполнился бодростью. Спасибо им обоим. Но все-таки наш долг перед людьми этой
профессии все еще не оплачен: среди петербургских памятников, нередко
надуманных, ненужных и даже оскорбительных для города, нет памятника
петербургскому шарманщику.
Вступление и заключение, составляющие композиционную рамочную
конструкцию Петербургских шарманщиков, как уже говорилось, об одном
и том же, но существенно по-разному, и этим «разным» оказывается
прежде всего сам тон повествования. Если заключение и особенно его концовка
по сути дела эмоционально сдержанный, но глубоко гуманный (хотя и без
уверенности, что он будет услышан) призыв к состраданию к бедным
труженикам «уличного» искусства, в которых чаще всего не замечают самого
страдающего человека, то концовка вступления, где «гуманное» тоже
присутствует, но оттеснено вглубь, выдержана в ином духе, более сухом,
объективном и как бы подготовляющем к введению в «физиологию» этого
участка петербургской жизни. Вывод-тезис этой концовки прост и скромен по
своим целям - «в шарманщике, в его частной и в общественной уличной
жизни многое достойно внимания». Показом этого и намерен
заняться автор во «внутренных» частях очерка, притом «со всем
подобающим усердием». Петербургский шарманщик - его герой.
Эти «внутренние» части построены по некоей классификационно
логической схеме, напоминающей «дескрипции» научных текстов того времени,
хотя в тексте каждой из этих частей «художественное», конечно,
присутствует, будучи, однако, подчинено вышеназванной схеме. Господствующим
является не дух «художественного», но принцип описания и классификации, в
более общем плане информация о том, что не всем и не во всем известно, о
целостной и самодостаточной картине описываемого явления. В духе
соответствующей научной традиции и ее отражений в литературных очерках
«физиологического» типа свое «исследование-описание» Григорович
начинает с классификации.
П. Разряды шарманщиков
Сам же этот раздел открывается темой «начал» - происхождением слова
шарманщик. Автор не имеет по этому поводу своего готового и достаточно
надежного мнения и поэтому заявляет с первой же фразы о трудности
определения происхождения слова шарманщик - тем большей, «что оно,
кажется, родилось на Руси и обязано жизнию простолюдью». И далее, в развитие
этого предположения:
167
Назвать незнакомое лицо или предмет без основания, часто даже
без очевидного смысла, хотя подчас и характеристически метко,
свойственно русскому человеку, который, как вы знаете, «за словом
в карман не полезет»; недосуг ему затрудняться в причинах, почему
и как, а тут же, экспромтом, отпустит иногда такое, что после
думаешь, думаешь, и все-таки не придумаешь, почему выразился он так,
а не иначе23, назвал орган шарманкой, а не оглоблей, что было бы
для него все равно... Если б я принадлежал к числу почтенных
мужей, называющих себя корнесловами, - то по поводу происхождения
слова шарманка предложил бы вам множество остроумных догадок.
«Всего вероятнее, - сказал бы я, - что первоначальное слово было:
«ширманка», и произошло от «ширм», из-за которых Пучинелла,
доныне почти всегдашний спутник шарманщика, звонким своим
голосом призывает зевак и любопытных. Такое предположение, -
присовокупил бы я с большею уверенностью, - тем более основательно,
что первые появившиеся у нас органы были неразлучны с
кукольною комедиею, существующею с незапамятных времен в Италии24.
Итак, по существу Григорович начинает, как и полагается в
энциклопедии (правда, смягчая энциклопедичность присутствием своего я), - сначала
о названии, после чего о происхождении. И если этимологическое
объяснение автора не может быть принято, то корень шарманочного ремесла -
Италия и его «культурно-исторический» контекст - кукольная комедия указаны
верно. И это снова отсылает шарманку к итальянскому
культурному слою. Но автора интересует не столько шарманка и даже не столько
шарманочное ремесло, сколько сам шарманщик. Именно о нем он
пишет, а о его ремесле и шарманке - лишь в связи с шарманщиком, постольку,
поскольку.
И здесь писатель с самого начала предостерегает читателя от
недифференцированного восприятия шарманочного цеха: «С первого взгляда
кажется, что все шарманщики составляют одно целое, один класс уличных
промышленников; но в сущности подлежат они бесчисленным разрядам, резко
отделяющимся друг от друга как занятиями, так и духом
национальности». И, продолжая свой рассказ о шарманщиках, Григорович
проницательно с точки зрения конкретных фактов, справедливо по
существу и, кажется, с особой заинтересованностью по сердечной симпатии
выделяет итальянских шарманщиков. «Шарманщики в Петербурге вообще
бывают трех различных происхождений: итальянцы, немцы и русские. Между
ними итальянцы занимают первое место. Они неоспоримые основатели
промысла, составляющего у них самобытную отрасль ремесленности, тогда как
русские и немцы не более, как последователи, которые хватаются за
шарманку как за якорь спасения от голодной смерти или по неспособности,
чаще по неохоте к другому более дельному ремеслу». Автора с известными
основаниями можно понять так, что итальянские шарманщики первенствуют
не только по праву первородства в этом ремесле, но и потому, что для них
это искусствои это их главное жизненное дело. Для других - это
ремесло, к которому они обращаются по необходимости и которое готовы тотчас
же бросить, если откроется иная возможность зарабатывать на жизнь.
168
Наметив этот основной principium divisionis, Григорович уточняет общее
понятие шарманщика. Оно шире, чем можно думать, исходя из связи с
шарманкой, хотя именно последняя в конечном счете оказывается
определяющей. Путь шарманщика (точнее, «предшарманщика») к шарманке и
соответствующему ремеслу-искусству непрост, и некоторые неудачники не в
состоянии преодолеть его. То, что сообщает писатель об этом пути и что
полтораста лет назад не было секретом, теперь выступает как цепное
свидетельство внимательного наблюдателя, имеющего опыт работы «в поле»,
каковым являются петербургские улицы и дворы. Верность фактам, их
трезвый отбор и вместе с тем «живописность» повествования, включающего в
себя и речевые фрагменты партии шарманщика, делают это описание
надежной основой для реконструкции (сейчас, к сожалению, это именно так)
самого явления «шарманочного» действа, даже на его «предшарманочной»
стадии.
Шарманщики редко начинают свое поприще с иструментом, от
которого получили название; ручной орган или, как принято называть,
шарманка, есть уже следствие улучшенного состояния. Тюлень,
заключенный в ящике и показываемый толпе с обычным присловием:
«Посмотрите, господа, на зверя морского», высокий ящик,
покрытый зеленым сукном с каким-то дребезжанием вместо музыки,
называемый у шарманщиков «фортепьяно англезе», виола с
бесконечным скрипом и плясом хозяина и, наконец, флейта или кларнет, - вот
средства, с какими впервые дебютирует шарманщик на своей
обширной и богатой декорациями сцене - на улицах. После уже, спустя два
или три года, достигает он счастливейшего дня (...), в который на
скопленные деньги покупает он шарманку. С этим приобретением
осуществляет он все надежды, все мечты (...), думает только о том, как
бы обратить на себя внимание и получить возмездие за все
пропавшие труды.
Способы этого «возмездия» очень различны. То он своими свистками и
трелями аккомпанирует при исполнении ланнеровского вальса; то нанимает
из бедных семей двух маленьких детей и «заставляет их выплясывать
бессмысленный танец своего изобретения»; то меняет свою тощую шарманку
на меньшую, но представляющую публике фигуру Наполеона, вертящегося
вокруг безносых дам («Если владелец этого сокровища итальянец, то он
непременно вступит с вами в разговор и, объясняя значение каждой куклы
порознь, не утерпит, чтоб не выбранить хорошенько Наполеона»). Если
шарманщик удачлив и ему удается скопить некоторое количество денег,
«желания его простираются тогда еще далее: он покупает высокий орган с
блестящими жестяными трубами, медными бляхами, золотыми кистями,
горделиво качающийся на зеленой тележке, везомой бурой клячею». Ради
такой покупки не жалко никаких жертв и лишений. Орган можно теперь
возить и по дачам, где люди более расположены к широким жестам, вообще
«добрее», ибо идиллическая дачная обстановка и то, что шарманщик
«работает» только для тебя и твоей семьи, способствует щедрости. Приехавшие за
город на гулянье рассчитывают на дополнительные расходы. Часто они
выезжают из города с детьми, которые «вообще большие любители кукольной
169
комедии и шарманки». Все это влияет на доход шарманщика. Да и в городе
орган на тележке сильно облегчает работу и позволяет обойти большую
территорию, чем таща орган на своей спине. «Не всем, однако, улыбается
фортуна; есть бедняки, до глубокой старости осужденные наигрывать одну
и ту же арию на кларнете, или выплясывать трепака по уличному паркету,
устланному булыжником, аккомпанируя себе виолою».
Таким образом, раздел о разрядах шарманщиков как бы незаметно или
плавно переходит к типовой судьбе шарманщика с его постепенным
изменением профессионального статуса в лучшую сторону в одном случае или
прозябанием и полунищенством в худшем и далеко не редком случае. Говоря об
этом, писатель подчеркивает, что эта трудная карьера, особенно такое
«низкое» и «дошарманочное» начало карьеры выпадает на долю «только мещан
этого класса промышленников». Но помимо этих бедолаг есть и
«шарманщики-аристократы». Их жизнь совсем иная. Они «редко ходят поодиночке,
но большею частию компаниею; один несет богатую шарманку, увешанную
бубенчиками, другой обезьяну в гусарском платье и тирольской шляпе,
третий ширмы и ящик, наполненный куклами, одетыми в разноцветное тряпье,
испещренное блестками; шествие закрывает старый оседланный пудель,
служащий гусару в тирольской шляпе вместо лошади. Другие блуждают
целым оркестром; третьи присоединяют к себе гаера, который на дырявом
ковре делает sähe mortale при завывании шарманки; романсы с аккомпанье-
маном арфы, ученые собаки, две или три скрипки и кларнет,
разыгрывающие вечно один и тот же галоп, - все это показывает уже некоторым
образом зажиточность хозяев и высоко ставит их над многочисленным классом
"мещанства"». Впрочем, - замечает автор, - и здесь, как и всюду, разница
сглаживается деньгами, и они как бы снимают казавшиеся до того
непреодолимыми границы между «аристократами» и «мещанами» среди
шарманщиков. Григорович особо подчеркивает эту ситуацию, когда возникает
возможность контакта и даже слияния двух разных социально-имущественных
страт внутри этого круга, и само понятие «разряда» приобретает черты
относительности. Именно о такой ситуации - последние слова раздела о
разрядах шарманщиков:
Скромною жизнию шарманщику-мещанину случается накопить
маленькую сумму, и тогда «аристократия» (живущая несравненно
богаче, семейством, и если впадающая иногда в крайнюю нищету, то
единственно по духу спекуляции, чрезвычайно, как увидим ниже, в
ней развитому) спускается с прежним отверженцем, принимает его в
компанию, или, если денег у него окажется более, чем
предполагалось, привязывает его к себе и еще прочнейшими узами - узами
родства. Нужно заметить, что деньги единственное условие сближения
между двумя этими разрядами, вечно враждующими...
Этот раздел о разрядах петербургских шарманщиков при всей его
краткости оказывается весьма емким и вводит тему «разрядов» в несравненно
более широкий контекст. Вместе с тем «сухая» классификация разрядов
шарманщиков смягчается, утепляется, разнообразится несколькими
иллюстрациями из уличной жизни шарманщиков, их представлений, сценок,
вызывающих у читателя чувство соприсутствия с происходящим. Наконец, еще
170
раз нужно отметить, что и здесь «итальянское» в кругу шарманщиков
первенствует и как бы создает основу для того, чтобы в следующем разделе
заняться уже только этим итальянским слоем в жизни петербургских
шарманщиков.
III. Итальянские шарманщики
Третий раздел озаглавлен Итальянские шарманщики. Он о том, как
становятся шарманщиками, как из-за нужды покидают родину, успевшие однако,
еще до этого соприкоснуться с шарманочным ремеслом, как становятся
жертвами преувеличенных слухов и собственного воображения о преимуществах
жизни в далекой России, как принимают чаще всего скороспелое и не
терпящее отлагательств решение - «туда! a Pietroborgo!»; как, наконец, с
большими трудами и лишениями достигают чужбины, как и где они живут, каков их
быт и профессиональные заботы, в чем состоит их шарманочное действо,
как они сами оценивают свое положение в чужом городе, а после всего
этого о том духе «спекуляции», который все-таки, вопреки неудачам и
трудностям петербургской жизни, удерживает их от возвращения на родину, и о
котором в том же году, когда в Петербурге Григорович закончил для
Физиологии Петербурга свой очерк Петербургские шарманщики, в Италии, в
Неаполе, в последние дни своей жизни (а именно 29 июня), писал Баратынский в
стихотворении «Дядьке-итальянцу» {беглец Италии, Жьячинто, дядька
мой...). Этот раздел также довольно короток, но весьма емок. Знакомая
писателю эмпирия жизни итальянских шарманщиков в Петербурге в сочетании
с общими знаниями об «итальянском» периоде их жизни и художественным
воображением, позволили ему создать типический образ итальянского
шарманщика, не рабствуя эмпирии, «фактам», с одной стороны, но и не
пренебрегая ими и не уносясь воображением в сферу непроверяемого. Здесь, в
Петербургских шарманщиках, кажется, впервые столь отчетливо проявилось
то чувство меры, то органическое сочетание «Wahrheit» и «Dichtung»,
которое в принципе, будучи писателю свойственным, позже иногда все-таки ему
несколько изменяло. Поэтому раздел об итальянских шарманщиках
принадлежит к лучшим страницам всего очерка, представляя собой целостную и
убедительную - и фактологически и художественно - картинку жизни
итальянского шарманщика в Петербурге на фоне всей его жизни.
Поэтому раздел об итальянских шарманщиках начинается ab ovo, как бы
подстраиваясь к складывающейся в 30-40-х годах XIX в. в русской
литературе тенденции к «историческому» зачину25, когда речь идет о главном герое:
Происхождение их чрезвычайно темно; большею частию получают
они жизнь под деревянною полуразвалившеюся кровлею хижины,
живописно расположенной в Апеннинских горах, переименованных
ими в monte Perpi. Родители их - полунищие горцы, исполняющие, за
недостатком земли, или по сродной всем итальянцам лености,
скромную должность пастухов. Не имея достаточно хлеба, чтобы кормить
часто многочисленное семейство, они отдают детей своих старому
шарманщику, вернувшемуся на родину и вынужденному спустя
несколько времени снова приняться за шарманку и блуждать по
белому свету: Таким образом, мальчик покидает родной кров, отца, мать
и, вверившись судьбе, спускается с своих гор, надеясь когда-нибудь
171
увидеть их снова. Швейцария, Тироль, Франция, Германия - везде
наигрывает он пять или шесть песен, составляющих весь репертуар
его; нет ни одного городка, бурга, селения, которое не слышало бы
их по нескольку раз. Наконец, доходят до него слухи, что где-то на
севере, в России, собратья его редки, что там может он получить
верный барыш: туда! a Pietroborgo! - восклицает бедняк и
предпринимает трудный поход. Его не обманули: трудность дороги действительно
вознаграждается грошами, довольно щедро выбрасываемыми на
дворы и улицы. Иногда направляет он путь свой не прямо к столице,
но обходит сначала провинции, посещает города, ярмарки, деревни и,
скопив несколько денег, является в столицу, где нанимает
работников из своего звания.
Это - предыстория будущего петербургского шарманщика, самого его
«петербуржества», предполагающего долговременный и трудный путь с
Апеннинских гор до северной столицы, в которой он остается нередко на
всю жизнь. Итальянская динамичность, предприимчивость, оптимизм и
легкая приспособляемость к новым условиям жизни приносят обычно плоды -
тем более, что русская публика, особенно сначала, когда итальянские
шарманщики в России были еще редким явлением, имела обычай платить не по
шкале от и до, соразмерно увиденному и услышанному, а от душевной
широты, иногда от растроганности или жалости, впрочем, иногда и из
тщеславных побуждений: вознаграждение нередко имело в виду не только самого
шарманщика, но и окружающую публику («знай наших!»), поскольку
делалось оно открыто, в отдельных случаях и подчеркнуто, как это делали,
особенно позже, захмелевшие русские купцы в трактирах и ресторациях.
Водворение итальянского шарманщика в Петербурге предполагало
чаще всего составление некоего начального капитала, заведение знакомств и
связей - «с соотечественниками-ремесленниками, гаерами, канатными
плясунами, фигурщиками, носящими вечного амура с сложенными накрест
руками, кошку, болтающую вправо и влево головою, Наполеона,
окрашенного розовой краской, всех возможных форм, видов и несходств», наконец,
женитьбу на дочери одного из своих новых приятелей, нахождение жилища и
заведение хозяйства. Когда все это достигнуто, шарманщик отстает от
бродячей жизни и становится подлинно петербургским шарманщиком. Каков
быт этого счастливца из итальянцев, которому удалось осесть в Петербурге
и не только держаться на плаву, но и поддерживать, а иногда и развивать
свою шарманочную индустрию, легко представить себе по свидетельству
Григоровича:
Заведшись таким образом хозяйством, итальянские шарманщики
неизвестно почему избирают жилище в Подьяческих и Мещанской26.
Маленький двухэтажный деревянный дом, выкрашенный
всегдашнею зеленогрязною краскою и возвышающийся в углу темного
двора, служил им убежищем. Наружность такого рода строений
облеплена обыкновенно галереей, на которую с трудом взбираешься по
шаткой лестнице, украшенной по углам (у каждой двери) кадкою, на
поверхности которой плавают яичные скорлупы, рыбий пузырь
и несколько угольев; вообще лестницы эти, не считая уже спиртуоз-
172
ного запаха (общей принадлежности всех петербургских черных
лестниц), показывает совершенное неуважение хозяев к тем, которым
суждено спускаться и подниматься по ним. Квартира шарманщика
почти всегда находится в конце такой галереи, по причине
дешевизны, и состоит из двух комнат, сделанных из одной. Если вы хотите
иметь о ней точное понятие, то потрудитесь нагнуться и войти в
первую комнату. Первый предмет, на котором остановятся ваши взоры,
отуманенные слезою (по причине спиртуозности лестницы), будет
неимоверной величины русская печь, покрытая копотью и
обвешанная лохмотьями, составляющими гардероб хозяев; стены и потолок
усеяны теми приятными насекомыми, которые пользуются честию
носить название одинаковое с известным европейским народом (...)
Стены эти окружены длинными скамьями, на которых в разных
чрезвычайно неграциозных положениях лежат работники - русские,
немцы, итальянцы, нанятые хозяином каким-нибудь signor Charlotto
Bonissy. Посреди комнаты стоят ящики с соломою и три или четыре
обезьяны не перестают с ними возиться и пищать самым
неприятным дискантом; несколько ширм, коробок с куклами, мешков с
мукою и макаронами разбросаны по разным углам; кадка с помоями
издает из-под печки особенно неприятный запах; дым, виясь из
коротеньких деревянных трубок (необходимой принадлежности русских
работников), наполняет освобожденное от хлама пространство;
говор, хохот, писк обезьян, лай собак, визг детей - заглушают храпенье
нескольких шарманщиков, сверхъестественно согнувшихся на печке,
на лавках и на полу. Наконец, одно маленькое окно пропускает в
комнату несколько лучей света и то не всегда, потому что если в
компании есть хоть один русский человек, то стекла непременно
залеплены разными фигурками, с известным искусством вырезанными из
сахарной бумаги, между которыми козел с необыкновенно
большими рогами и бородою прежде всех бросается в глаза. Вторая
комната представляет совершенно противоположное зрелище; тут тотчас
заметно присутствие женщин. Не только чистота и порядок
составляют отличительное ее свойство, но даже заметно некоторое
притязание на роскошь: стенные часы огромного размера, годные для
любой башни, с привешенными вместо гирь кирпичами; на окнах
горшки с жиденькими растениями, занавески, комод, стол с блистающим,
как солнце, самоваром, широкая постель, наконец, шарманки
различных величин и свойств, в ряд расположенные вдоль стены, -
показывают присутствие самого хозяина. Едва часы пробили восемь,
как все народонаселение квартиры пробуждается, опоражнивает
чашку щей или макарон и, взвалив на плечи каждый свою
принадлежность, спускается на улицу, где, разделившись на партии,
принимает разные направления.
Это описание черной лестницы, галереи и самого жилища шарманщиков,
строго говоря, несет на себе отчетливую печать сороковых годов, но
предшествует, хотя лишь всего на год-два, сходным описаниям раннего
Достоевского и Буткова и одновременно Петербургским углам Некрасова, вошед-
173
шим в тот же первый выпуск Физиологии Петербурга, что и
Петербургские шарманщики11. Впрочем, описание жилища в домах определенного
типа (старых, запущенных, грязных, со специфическими запахами на
лестницах) у Григоровича сделано строже, «физиологичнее» и точнее, хотя и суше,
чем в Петербургских углах. Разумеется, начало таким описаниям
петербургских домов этого типа положил в своих повестях «петербургского
цикла» Гоголь, оказавший сильное влияние и на писателей, вошедших в
литературу в 40-е годы. Но все-таки его опыты никак не принадлежали к
литературе «физиологических» очерков, и его описания дома, жилища, комнаты не
были самоцелью, что отличало их от «физиологических» описаний, для
которых подлинность и точность, несомненно, стояли на первом плане и
понимались в строгом смысле этих слов, обозначающих эти свойства описания28.
Опыт таких «физиологических» описаний, хотя и весьма кратковременный,
был важным достижением в предыстории «Петербургского текста» русской
литературы, в формировании его «низкой», материальной основы, которой
вскоре предстояло войти в пространство, где она в конце концов соотнес-
лась с «высокой», символической основой, заложенной Пушкиным в
Медном всаднике и ряде других текстов. Роль Григоровича, его Петербургских
шарманщиков и некоторых других «петербургских» произведений 40-х
годов, как выясняется, была несколько более значительной, чем можно было
предполагать.
Но для шарманщика дом и быт все-таки не главное в его жизни.
Главное - в его промысле, в том развлеченье для других (искусство), которое
является для них ремеслом и служит единственным средством их
существования. И этот промысел не так-то прост и однообразен: в нем есть главное и
второстепенное, и от соотношения их во многом зависит удача шарманщика.
Главный промысел итальянцев (шарманщиков. -5.Г.)-куколь-
ная комедия. Разумеется, та, которая доставляет на наших
дворах столько удовольствия подмастерьям в пестрядинных халатах,
мамкам и детям, а подчас и взрослым, не π ο χ о ж а на ту,
которую вывез он из своего отечества. Обрусевший итальянец перевел ее
как мог на словах русскому своему работнику, какому-нибудь
забулдыге, прошедшему сквозь огонь и воду и обладающему
необыкновенною способностью врать не запинаясь и приправлять вранье свое
прибаутками, - и тот уже переобразовал ее по-своему. Нигде
характер народного русского юмора так сильно не проявляется, как в
переделках такого рода; нигде так резко не выказывается бедняк, на
фуфу зарабатывающий копейку. В диалогах Пучинелла русского
произведения и соответствующих ему персонажей, в их действиях, в
самом расположении комедии, ими представляемой, вы тотчас
найдете родство с теми русскими песнями, в которых слова набраны
только для рифмы и не заключают в себе ничего, кроме рифмы, с
теми сказками, где все делается по щучьему велению и ни в чем
рассказчик ни себе, ни слушателям не отдает отчета. Например, при
всех моих стараниях, я никак не мог добиться, почему в известной
уличной комедии, особенно любимой народом, является лицо
совершенно постороннее действию, ни с которой стороны, по-видимому,
не нужное, - лицо, известное под именем «Петрушки», без которого,
174
как вы знаете, не обходится ни одно уличное представление? Или по
какой причине прежде нежели (в той же комедии) чорт, -
чрезвычайно похожий на козла, - должен увлечь Пучинелла, являются на
сцену два арапа, играющие палкою и прерывающие действие? - для
чего?.. Попробуйте добиться у шарманщика! - «Нет-с, уж оно так, пре-
жде-с арапы, а уж после чорт уносит Пучинелла, уж так водится, так
быть следует», - отвечает он, оставив вас в совершенном недоумении
насчет появления Петрушки и обоих арапов.
В этом фрагменте две темы представляют собою особый интерес.
Первая связана с «непохожестью» русского текста кукольной комедии на
итальянский текст, вывезенный шарманщиком-итальянцем из своего отечества.
Разумеется, эта «непохожесть» образует верхний слой «похожести», и
проблема идентификации двух текстов не вызывает сомнения. Во всяком
случае Пучинелла русского варианта и Pulcinella итальянского текста
кукольной комедии (одна из масок неаполитанской комедии) не только легко
отождествляются, но и вытягивают целую цепь общих мотивов, существенных
элементов, мелких деталей. Но, конечно, «непохожесть» остается, и в ней,
кто знает текст источника или хотя бы представляет себе содержание и
стилистику итальянской комедии этого типа, более всего поражает и, видимо,
более всего привлекало русского зрителя именно своеволие и буйство
фантазии в русской адаптации итальянской пьесы, на что и обращает внимание
Григорович. Надо, однако, заметить, что это своеволие и буйство фантазии,
проявляющиеся не столько в отклонении от канонического текста, сколько
вхарактере этого отклонения, были все-таки небезбрежными: они в
известной степени контролировались тем, что было свойственно русскому
фольклору - и не только песням и сказкам, о которых упоминает автор, но
и средствами «шутовского» слоя, характерного для массовых праздничных
гуляний, с его шутками, намеками на «неприличное» и слегка смягченными
обсценностями, нелепицами, задираниями, поношениями,
псевдославословиями и т.п. Самое важное в культурном отношении дело в этом случае
состояло в том, что в результате контактов итальянского источника и русского
«перелагателя» его с русской аудиторией, в значительной степени
находящейся еще на фольклорной стадии, в известной степени
трансформированной условиями городской жизни, происходила встреча двух этнокультурных
и языковых элементов -итальянского и русского, результатом которого «на
выходе» была русская адаптация итальянского источника. Нужно
подчеркнуть, что эта встреча происходила на «низовом» уровне, доступном
городскому населению средних и нижних слоев, не всегда даже грамотных - тем
более что среди присутствующих было немало крестьян, приехавших в
столицу и проживающих в ней временно. На верхнем же уровне уже с XVIII в.
и позже происходило сходное взаимодействие более высокого характера. И
русская музыкальная комедия, русская опера немало и с пользой
восприняли в свой состав соответствующие элементы музыкального и специально
сценического итальянского искусства, о чем известно гораздо лучше, чем об
этом общении двух элементов на «низовом» уровне. Григорович сообщил об
этом последнем главное - как это происходило реально и, к сожалению,
практически умолчал о конкретном текстовом «русском» результате этого
общения. Но, вероятно, большего он не мог сделать или не захотел - столь
175
нелепыми и выходящими за рамки допустимого казались ему инновации
русского текста, что он не счел возможным привлекать внимание читателя к
ним - тем более что и сам читатель, конечно, не раз имел случай
присутствовать при этих представлениях.
И есть еще одна причина умолчания Григоровича на этот счет. Он не
понял, хотя и старался («при всех моих стараниях») это сделать, «почему в
известной уличной комедии, особенно любимой народом, является лицо
совершенно постороннее действию, ни с которой стороны, по-видимому,
ненужное», а именно главный персонаж кукольной комедии -Петрушка.
В оправдание писателя можно сказать, что и позже даже специалисты в
области кукольной комедии29 не могли разъяснить недоумений Григоровича и
всех тех, кто хорошо знал театр Петрушки и был способен к рефлексии
относительно той сути смысла образа этого персонажа и того его
источника, для выяснения которых вовсе не нужно было обращаться к
итальянскому материалу, а можно было довольствоваться русским материалом и
кругом параллелей в целом ряде других традиций - как культурных, так и
языковых. Это и составляет вторую тему, которая естественно
возникает из невыясненности вопроса, имплицитно содержащегося в недоумении
Григоровича, в чем он честно признался перед читателем. «Нет-с, уж оно
так, прежде-с ...»,- можно было бы ответить, писателю словами
шарманщика, который, конечно, и сам не знал, почему «оно так (было) прежде-
с», но был уверен, что то, что он получил по наследию, в долгой цепи
предшественников, должно быть воспроизведено в прежнем виде, а может
быть, и понимал, что есть нечто вне нас и нам до конца неизвестное, но за
ним скрывается то, что «не нашего ума дело», что, говоря языком века
нашего, сверхлично, нов известном отношении в большей степени
определяет ситуацию, нежели «личная» воля, даже если она своевольна и все, по
первому впечатлению, может.
Кукольная комедия, в которой главный герой Петрушка, чей образ и
чьи приключения легли в основу петрушечного театра30, и текст этой
комедии, разумеется, результат длительного развития, имеющего свое начало
задолго до того, как вообще возникла комедия и сам театр. В ходе этого
развития кукольная комедия и то, что ей предшествовало, хотя и обладая иным
статусом, претерпела очень серьезные изменения, и каждая эпоха оставила
в ней свои следы. Но за всей многослойностью текста комедии главное в нем
не было утрачено, хотя и оказалось сильно завуалированным прежде всего
мотивировками данного момента, сего дня. И это главное было
несравненно более древним, чем итальянская кукольная комедия, как и Петрушка
как персонаж некоего смехового действа появился на Руси раньше, чем
сюда пришла итальянская кукольная комедия (во всяком случае еще в XVII в.
Олеарий упоминает о Петрушке-петрушке, который, как можно думать,
исполнялся скоморохами).
В ряде работ пишущего эти строки31 проводится мысль о том, что
«петрушечный» персонаж в конечном счете восходит к схеме так называемого
«основного» мифа, повествующего о конфликте, возникшем в семействе
Громовержца, в результате которого (одна из версий) младшего сына
Громовержца постигло наказание в виде удара молнии; однако вскоре он
воскрес в еще большей силе и плодородии (ср. мотив умирающего и воскреса-
176
ющего бога во многих архаичных традициях). Здесь нет возможности
рассматривать этот вопрос подробнее, но несколько положений все-таки стоит
обозначить. Проводником в архаичное прошлое оказываются само имя
главного героя и/или приключения, с ним совершающиеся. Так, например, в
румынских сказках отмечен персонаж по имени Pipäru§ Petru, букв. —
Перчик Петр (ср. рграгщ 'красный перец', 'стручковый перец'), выступающий
как мальчик с пальчик, генетически младший из сыновей
грозного отца (Громовержца), единственный, кто с честью выдерживает
испытания, спасая с помощью разбрасываемых им камешков и себя, и похищенных
сестер и братьев, которых родители задумали погубить (прежде всего
имеется в виду отец, мать же в ряде вариантов выступает как тайная
помощница мальчика-с-пальчика). Сказки, реализующие мотив 315А: Неверная
мать32, сообщают, что вдова (т.е. женщина, лишенная мужа, в прототипе
«основного» мифа - жена Громовержца, наказанная за измену) рожает
сильного сына, забеременев от перечного зернышка. Бог и Петр
крестят мальчика (следовательно, Pipäru§ Petru через вторую часть своего
имени связывается со своим крестным отцом: он сам Петр и в то же время
Петрович, т. е. сын Петра, своего рода воспроизведение своего отца).
Первый («перечный») элемент имени Pipärug, с одной стороны, не
что иное, как реализация элемента растительного кода в метафоре
«основного» мифа. На этой основе формируется уже ипостасный образ,
персонификация известного культурного растения с отмеченными свойствами:
плод перца красен (красный перец) или черен (черный перец); он
имеет сильно удлиненную коническую форму, обладает острым
(«жгучим») вкусом; быстро вырастает из крошечного перечного
зернышка; характеризуется возбуждающим свойством и т.п. С
другой стороны, название перца рграгщ и имя «перечного Петра» своей
звуковой структурой весьма близки имени Громовержца и его трансформов
и/или персонажей, в частности женских, его же круга, ср. с.-хорв. прпору-
ша, преперуша (: хорв. кайк. pepriS 'перец'), болг. Перушан, русск. Перуши-
це и весь круг редуплицированных форм (правда, с иными суффиксами),
обозначающих участниц ритуала вызывания дождя, как бы дочерей
Громовержца33. В свою очередь эти имена, как Pipäru§ Petru и под., имеют
недвусмысленное соответствие в растительном коде, ср. руск. петрушка
'Petroselinum sativum L.', огородное растение семейства зонтичных,
употребляемое как приправа (для пряности). Сама форма этого названия
предполагает исходное имя Петр, обыгранное с установкой на уменьшительно-
пренебрежительную или даже уничижительную оценку34. Мотивировка
петрушки как элемента растительного объясняется некоторыми
особенностями этого овоща (сильно удлиненная, но часто неправильная форма,
недостаточная, в отличие от хрена, твердость, белый цвет, небольшая
пряность, нахождение плода в земле и т.п.), отсылающими, в частности, и к
ассоциациям из сексуально-эротической сферы (слабость мужской силы, в
отличие от перца или хрена). Мотивировка же петрушки как сниженного
образа Петра связана, видимо, с тем кругом ассоциаций, которые
прикрепились к имени Святого Петра: он - первый ученик и продолжатель дела
Христа, основа церкви и одновременно тот, кто отрекается, прекословит,
соблазняет и соблазняется. В «низовой» традиции Петр нередко выступает
177
как неудачливый двойник Христа (ср. мотив его распятия на кресте вверх
ногами), выставляемый на смех.
Здесь уместно напомнить, что русский Петрушка-петрушка
представляет собой подобный, но еще более сниженный образ Петра, притом, что
вопрос о происхождении в данном случае вторичен, хотя обращение к инсти-
туализированным образам Пьеро, Педролино и т.п. весьма поучительно.
Петрушка как кукла, главный персонаж русского народного кукольного
театра (он сам, кстати, носит название петрушки) лицедействует в обстановке
гуляний, балаганов, на масленой. Он мал и тонок (к тому же и голос у него
тонкий, писклявый; актер, изображающий его, нередко использует пищик),
у него длинный, острый конический колпак ярко-красного цвета; петрушка
неприлично подвижен (он ерзает, глагол, в частности, обозначающий
соитие, нередко поспешно-неудачное, и имеющий надежные индо-европей-
ские корни), его постоянно бьют, валяют (ср. валять петрушку и
стоящий за ним символический смысл валянья, ср. от-валять в определенном
значении как terminus technicus), он часто проваливается под землю (связь с
подземным царством) и его вытаскивают за колпак (как петрушку за ботву).
Петрушка — неудачник: он страдательное лицо в треугольнике Петрушка -
Танцовщица-Соперник Петрушки (Арап, Турка, иногда и собака и т.п.),
изоморфном схеме итальянского кукольного театра и комедии масок:
Пульчинелла - Коломбина - Арлекин. Но вместе с тем Петрушка неуязвим,
вездесущ, обладает удивительной способностью к регенерации, ср. характерный
мотив «воскресения» Петрушки-петрушки в финале35.
Если напомнить, что имя Петр(ушка), Pipäru§ Petru и др. и название
перца близки имени Громовержца в индоевропейском «основном» мифе -
*Рег-, *Ре-рег- (ср. слав. *Регипъ, лит. Perkünas, лтш. Pçrkons, др.-инд.
Parjanya- и т.п.), то большое значение приобретает тот факт, что
треугольник в сюжете Петрушки, по сути дела, в несколько трансформированном
виде воспроизводит самое схему «основного» мифа в варианте:
Громовержец (*Рег-, *Ре-рег-) - Жена Громовержца (тоже *Рег-, *Ре-рег- с
«женскими» суффиксами) - Соперник (*Uel-: *Uol-, ср. в а л я m ъ петрушку и т.п.)
или же схему редуцированного бинарного варианта: Громовержец и Сын
Громовержца (их имена кодируются одним и тем же корнем, но имя Сына
отличается «снижающим» суффиксом). Уместно напомнить еще весьма
важную деталь — жена Петрушки носит имя Маланъя Сидоровна, первый
элемент которого связан с названием молнии (ср. Царица-Mаланьица как
жена Царя Грома в фольклорных восточнославянских текстах), а второй —
с именем Сидор, сниженным образом Громовержца, мужа Маланьи (ср.
«маланьину свадьбу» как трансформацию «первой» иерогамии).
Разумеется, и примеры36 и аргументы в пользу такого понимания образа Петрушки,
как и, конечно, уточнения и более тонкие мотивации, могут быть
продолжены, но и сказанное здесь бросает луч света на природу этого персонажа,
его происхождение и его имя совсем вином культурно-мифологическом
и языковом контексте. Но здесь важнее подчеркнуть не это, а ту
удивительную способность к сохранению архаичной информации и выработки
способов аккомодации ее в новых, весьма изменившихся условиях, что
и свидетельствуется шарманочным кукольным театром, в частности,
у Григоровича37.
178
Возвращаясь к разделу об итальянских шарманщиках в Петербурге,
уместно назвать темы, возникающие в финале этого раздела, - другие
жанры помимо кукольной комедии; вовлеченность семьи в шарманочный
промысел; отношение шарманщиков к своему искусству; оценка их
собственного положения в Петербурге; заинтересованное отношение к профессии;
судьба петербургского шарманщика.
«(...) кукольная комедия не есть еще единственный ресурс итальянского
шарманщика, — пишет автор — ученые обезьяны, уличный гаер составляют
также исключительную его принадлежность и, кроме того, жена и дочери
(...) немало способствуют к благосостоянию дома (...) мать выливает из
воска херувимчиков, разыгрывающих на вербах немаловажную роль, а дочери,
хорошенькие итальяночки с продолговатыми личиками, шьют по заказу
платья или раскрашивают модные картинки и верхушки помадных банок». Как
бы учитывая достаточно, видимо, распространенное мнение, Григорович
спешит дать разъяснения, которые помогли бы составить правильное
представление об этих людях: «Вообще, итальянские шарманщики не
представляют нам толпу беспутных бродяг, но напротив того картину скромных и
тихих ремесленников. Они чрезвычайно любят свое ремесло и считают
его благородным искусством, художеством; я никогда не забуду,
как раз один из них на вопрос мой: "Каково идут дела его в Петербурге?" -
ответил мне ломанным французским (скорее - гибридным
итальяно-французским. - В.Т.) языком: 'Oh, mon signore, nous povero artisto pas bien vivere à
Pietroborgo; à Pietroborgo on' aime pas beaucoup ces artisto... le publico ne pas aime
la musica, signore". Зная об этой нелюбви или во всяком случае предполагая
ее, считая, что так оно и есть, итальянский шарманщик, казалось, мог бы
себе позволить снизить и свои заботы о публике, даже халтурить (при том,
возможно, что он и сам допускал, что это не отразится на его доходах в худшую
сторону). Но что-то не позволяло ему избрать такой путь. Более того, в
своем профессиональном долге, в верности своему искусству, он черпал силы
продолжать добросовестное служение делу всей его жизни».
«Страсть к благородному искусству»,- именно эти
ответственные слова находит писатель в данном случае, - часто простирается
до того, что итальянец проводит целые месяцы на улучшение шарманки, он
облепливает ее разными фигурками, украшениями, прикрепляет к сторонам
ее треугольник, бубенчики, тарелки, турецкий барабан, навешивает
колокольчики и, приведя все в движение веревочкою, привязанною к ноге, гордо
посматривает на своих собратьев, воображая себя обладателем восьмого
чуда в мире». Купив шарманку, шарманщик исполняется гордостью: несколько
раз откроет ее, развинтит, осмотрит внутренности и попросит
присутствующего пощупать, погладить ее, повертеть ручкою, определить ее ценность, -
«и все для того только, чтоб не уронить в вашем мнении себя и горемычное
ремесло свое». И далее - о возможностях итальянских шарманщиков в
богатом Петербурге и о нередкой, к сожалению, их судьбе на чужбине:
Имея столько средств, итальянские шарманщики легко могли бы, по
прошествии нескольких лет, вернуться в свои горы, обеспеченные на
всю жизнь, но природное влечение к деньгам и спекуляциям часто
ввергают их снова в нищенское состояние. То фабрика гипсовых
фигур, как известно, раскупающихся плохо за бесценок, то постройка
179
балагана на Адмиралтейской площади, где показывают ученых
обезьян, китайские тени, кукольную комедию, что все в общей
сложности представляет хозяину более издержек, нежели барыша, то
наконец попытка основать какое-нибудь ремесленное заведение, -
одно из таких предприятий, рано ли, поздно ли, разоряет бедного
труженика в пух и снова вынуждает бродить по улицам с шарманкою,
сбирать по грошу и кормить семейство куском черствого хлеба,
добываемого трудом и потом.
Таким уже не вернуться в Италию, не увидеть их родную monte Perpi.
Таким остается одно - лечь в неприветливую землю Петербурга.
В этом разделе, по-видимому, содержится также ответ на один важный
вопрос о том, что есть для шарманщика, точнее даже - шарманщика-
итальянца то, чем он занимается, когда выходит на публику - ремесло ли,
искусство ли или что-нибудь иное, и что получает он от своей деятельности
в духовном плане. Когда Григорович говорит о «страсти к благородному
искусству» и подтверждает это прилежностью и упорством, с каким
шарманщик думает об улучшении своего инструмента и посвящает этому «целые
месяцы», легко можно понять это как добросовестность мастера или
гордость своей профессией. Гораздо убедительнее слова о том, что
шарманщики-итальянцы «чрезвычайно любят свое ремесло и считают его
благородным искусством, художеством» и что в Петербурге «le publico ne pas
aime la musica». Сознание себя художником, артистом, а не простым
ремесленником от шарманки и сожаление, что публика не любит музыки, говорят
о большем, и хочется думать, что нелюбовь к музыке в данном случае никак
не связана с вопросом о вознаграждении. Достаточно понаблюдать
современных «шарманщиков»-музыкантов (гармонь, гитара, скрипка, флейта)
или певцов в подземных переходах или в метро, чтобы отделить в их
поведении «корыстное» от «бескорыстного», подлинно артистического, когда
субъектом удовольствия (а не просто удовлетворения или
развлечения, как в «корыстном» варианте) становится не только публика,
вовлеченная в происходящее зрелище, но и сам артист-исполнитель. Более того,
нередко - и это тоже можно заметить - удовольствие последнего глубже, чем
те чувства, которые испытывает публика, хотя чаще всего определенная
координация этих двух удовольствий все-таки совершается в двуедином акте
творчества и его восприятия, в лучших случаях становящегося
сотворчеством. И вот эти моменты творчества, незримо подхватываемого встречным
сотворчеством, может быть, и заставляют подлинного артиста приносить в
жертву этим счастливым минутам среди всех трудностей и неустроенностей
петербургской жизни относительное, но, видимо, лишенное радостей
художника благополучие итальянской жизни. - Об аудитории шарманщика см.
также раздел VI: Публика шарманщика.
IV. Русские и немецкие шарманщики
Четвертый раздел как бы продолжает и завершает классификацию
петербургских шарманщиков по «национальному» принципу. Но русским и
немецким шарманщикам вместе уделено примерно две трети объема,
отпущенного для шарманщиков-итальянцам, а каждой из этих двух оставшихся групп
шарманщиков отводится в три раза меньшее пространство, чем итальян-
180
ским шарманщикам. Такая ситуация еще раз подчеркивает первенство
итальянцев (разумеется, не количественное) в
художественно-артистическом плане, с одной стороны, и придает этому разделу, по крайней мере в
некоторых его частях, оттенок скороговорки, отчасти меньшей
заинтересованности и, если угодно, некоей сознательной нарочитости в доведении
классификации до конца38. Впрочем, это, конечно, не значит, что и здесь нет
важных характеристических сведений; более того, и здесь нередки
некоторые новые и интересные детали, особенно касающиеся репертуара русских
шарманщиков. Но поставленные перед собой в «физиологическом» очерке
о петербургских шарманщиках задачи автор решает честно, и у него есть
достаточно веские основания уделять немецким и русским шарманщикам
меньше внимания, чем их итальянским однодельцам: так, немецких
шарманщиков в Петербурге немного, и не они делают погоду в этой области, а
русские шарманщики столь «выламываются» из жанра, а иногда и столь
непредсказуемы, что строгое сравнение их с итальянскими и даже немецкими
шарманщиками в значительной степени лишается своих оснований и
становится слишком приблизительным и аморфным. Впрочем, если русские
шарманщики в Петербурге и заслуживают внимания и, более того, интересны,
то именно своими исключениями из общего правила, во-первых, и, видимо,
более тесными связями с аудиторией, считающей их программу своей, во-
вторых.
Фрагмент, посвященный немецким шарманщикам, начинается с
фразы, в которой писатель как бы оправдывается, почему он все-таки
должен рассказывать и о шарманщиках-немцах: «Хотя шарманка редко
бывает уделом немцев, все-таки сходство промысла дает им место в общем
классе, нами описываемом». Далее - о происхождении этой категории
шарманщиков (как и в предыдущем разделе о шарманщиках-итальянцах),
точнее, о двух их родах. Одни попадают в Петербург извне - из Швейцарии,
Тироля, Германии и ведут свой промысел с детства. «Другие
образовались в Петербурге следствием каких-нибудь жизненных переворотов». О
немецких шарманщиках в очерке говорится немного, хотя автор старается
хотя бы в несколько редуцированном виде следовать схеме, лежащей в основе
раздела об итальянских шарманщиках, описание которых отчасти является
точкой отсчета и поводом для сравнения с ними и немецких мастеров шар-
маночного дела. Вообще же в строках, посвященных им, ощущается
небольшая заинтересованность автора в их описании. Объясняется ли это ролью
самого объекта описания и места, занимаемого им в шарманочном
промысле, или личным отношением Григоровича, - не всегда можно сказать с
определенностью.
Вообще, частный быт как тех, так и других (т.е. немецких
шарманщиков из Швейцарии, Тироля и Германии, с одной стороны, и
местных петербургских, с другой. - В. Т.) не представляет большого
интереса. Они живут кучками на Сенной и Гороховой в самом жалком
и незавидном положении. Уж в том отчасти их натура
виновата. Итальянец, например, предан своему ремеслу душой и
телом; он оборотлив, сметлив, хитер, весел и веселостию своею
завлекает, интересует, электризует свою публику; немец - сущая
флегма; он вял, небрежен и не возбуждает никакого участия в русском
181
человеке, который любит, чтоб его тешили, не жалея
усилий. Он никогда не постарается вас позабавить, произвести на вас
приятное впечатление; напротив, вся его цель - надоесть
кому-нибудь одною и тою же скучною ариею и получить деньги от
выведенного из терпения обывателя, с условием оставить его в покое.
Автор строговат в отношении немецких шарманщиков и отчасти,
видимо, разделяет с простой русской публикой ее мнение о них; немецкая
серьезность и педантичность воспринимается как нудность, а осознаваемая
и публикой цель немецкого шарманщика, состоящая в получении от нее
денег, становится дополнительной преградой между артистом и его
аудиторией, любящей, чтобы ее тешили. Отчасти поэтому и эта «корыстная» цель
не всегда достигается.
Вот политика немецкого шарманщика, не всегда приносящая
денежный результат. Впрочем, средства их промысла всегда довольно
многочисленны: орган, издающий пискливые звуки - «по всей деревне
Катинька»39, сопровождаемые заунывным аккомпаньеманом
хозяина: арфа, на которой обыкновенно играет сухощавая немка в
огромном чепце и черной шали, немка с лоснящимся красным лицом и
необыкновенно острым носом, - в то время, как муж ее выделывает на
своей скрипке быстрые вариации; ученые собаки, прыгающие на
задних лапах под музыку знаменитой поездки Мальбруга в поход40 и
боязливо посматривающие на плечистого хозяина, вооруженного
бичом, годным для слона; виола с приплясыванием и присвистывани-
ем маленького тирольца, одетого в национальный костюм; наконец,
бродячие оркестры, состоящие или исключительно из одних
тромбон, оглушающих скромных жителей дворов, или из двух-трех
скрипок да кларнета. Кроме того, подобно итальянцам,
немцы-шарманщики имеют еще частные промыслы; приготовляют зажигательные
спички, курительные свечи, порошки, воспитывают щенков,
которых по окончании курса передают инвалиду с раздутой губой, а
инвалид сбывает их чувствительным томным барыням, носящим букли
и ридикюль, или чиновникам, отцам семейства, любящим делать
сюрпризы дочерям и не находящим для такого употребления ничего
лучше мохнатых болонок или курносых мопсов. Немецких
шарманщиков в Петербурге немного; большею частию они недолго
остаются в этом звании, нисколько не соответствующем их характеру41.
Итак - немного шарманщиков, нет соответствия занятия их характеру и,
кажется, немного и удовольствия-развлечения от их промысла, по крайней
мере русской публике в Петербурге.
А что сообщает Григорович о русских шарманщиках в северной
столице? Этот фрагмент тоже невелик: он о том, как русский человек
становится шарманщиком и что для этого ему приходится делать, о его быте,
его промысле и даже, можно сказать, о его психологии. О том, чем все это
кончается, автор умалчивает, но и без объяснений все понятно. И еще одна
важная информация содержится в этой части - о культурном кругозоре
русского петербургского шарманщика, о «низовой» культуре и включенности в
нее, более того, о нужде и тяге к тому, что кажется прекрасным - в литера-
182
туре ли, в изобразительном искусстве ли и, как можно догадываться,
наверное, и в музыкально-вокальной области. У него своя нужда, свои трудности,
свое горе и свой печальный конец. Но у него, несомненно, и свое
удовольствие, свои развлечения и даже свои радости. Правда, об
удовольствии-развлечении других, своем основном назначении, он, похоже, заботится
меньше, как, впрочем, и о себе он заботится не более чем до вечера
сегодняшнего дня: о завтрашнем он не думает. Но и место его в кругу петербургских
шарманщиков, как правило, маргинальное, подчиненное. «Художество» ему
свойственно, и к нему он тянется, но ни амбиций, ни силы воли, ни
целенаправленности ему нехватает.
Строки Григоровича о русском шарманщике в Петербурге дают
изображение - «физиологическое» и художественное - особого типа русского
человека и вызывают печальные чувства и раздумья. Вот эти строки:
Выгнанный хозяином безродный подмастерье, закутившийся
лакей, приказчик, пожертвовавший хозяйскими деньгами
пристрастию к орлянке, спайке и картам, а иногда и бедняк, лишенный
места несправедливым барином, составляют незначительную часть
русских шарманщиков, ежедневно шлифующих петербургские
тротуары. Непреодолимое влечение оставлять последний грош в
заведении под фирмою: «с распивочной» рано или поздно
заставляют его обратиться китальянцу, содержащему
шарманщиков. Правда, и русские шарманщики живут иногда в
независимости от итальянца-хозяина, но уже не иначе, как компаниею;
редко, весьма редко кто-нибудь из них отделяется от толпы и
живет один со своим органом; ему нужно непременно «компанство»,
товарищи; он вообще склонен к общественной жизни. Селятся
они на Петербургской стороне, в скромной лачужке, обнесенной с
трех сторон огородами; четвертая же, как водится, смотрит в
узкий переулок, в перспективе которого возвышается пестрая
будка. В этих жилищах выказывается вполне характер почтенных
наших соотечественников, народных виртуозов, со всею их б е с -
печностию. Хотя горе (часто залетающее к русскому
шарманщику) приводит его иногда в такое положение, что хоть
ложись да умирай с голоду, но, несмотря на то, в нем, как и в каждом
русском простолюдине, не угасает стремление к «художеству». Он
непременно оклеивает стены своей лачуги любопытными
картинками: «Торжество Мардохея», «Аман у ног своей любовницы»,
«Мужики Долбило и Гвоздило, побивающие французов», «Вид
города Сызрани» (такого рода пейзажи состоят обыкновенно из
маленьких правильных пригорков в виде сахарных головок,
расположенных один на другом с травкою на каждой вершинке и
увенчанных рядом кривых куполов), «Портной в страхе» и тому
подобные создания отечественной фантазии резко выдаются красными,
пунцовыми и желтыми пятнами на закопченых стенах. Рядом с
изображением какого-нибудь фельдмаршала, занимающего с
лошадью все поле картины, вы увидите верхушку помадной банки с
надписью: а ла виолет или над трогательною сценою
«Погребение кота мышами», тотчас же прилеплен портрет Кизляр-аги.
183
Нет ничего беспечнее русского шарманщика; он
никогда не заботится о следующем дне, и если случается ему перехватить
кой-какие деньжонки, обеспечивающие его на несколько дней, он не
замедлит пригласить товарищей в ближний кафе-ресторан, где за
сходную цену можно получить пиво, селедку и чай, подаваемый в
помадных банках. Как неаполитанский лазарони, он не будет работать,
если денег, добытых утром, достаточно на вечер; нашатавшись
досыта, наш виртуоз возвращается домой и, если усталость не клонит его
на жиденький тюфяк, служащий ему постелью, он предается
мирным занятиям, сродным мягкой его душе: слушает, как один из его
товарищей, грамотей труппы, читает добытые на толкучке
брошюрки. Его в особенности восхищают книги: «Жизнь некоторого Авва-
кумовского Скитника, в брынских лесах жительствовавшего, и
курьезный разговор души его при переезде через реку Стикс»;
«Анекдоты Балакирева»; «Похождения Ваньки Каина со всеми его сысками,
розысками и сумасбродною свадьбою»; «История о храбром рыцаре
Фрапцыле Венцыане и о прекрасной королеве Ренцывене»; «Козел-
бунтовщик, или Машина свадьба», - сочинение удивительное, в
эпиграф которому приложено: «Все сочинения теперь в пыли, а это
только что взято из были»; «Кандрашка Булавин»; «Вред от
пьянства», - книги, в особенности последняя, чрезвычайно назидательные,
но приносящие как читателям, так и слушателям мало существенной
пользы. К удивлению, в публике русский шарманщик как-то не
общежителен, он мало обращает внимания на своих слушателей,
всегда почти пасмурен, недоволен собою, разве развлечет его
дружеский удар по плечу знакомого кучера с приветствием: «Эх! брат,
Ванюха!!!».
V. Уличный гаер
Пятый раздел относительно обширен и как бы продолжает часть
предыдущего раздела, посвященную русскому шарманщику. Это объясняется, в
частности, тем, что «уличный гаер всегда почти русский». Это самая низкая
и несчастнейшая категория в мире петербургских шарманщиков, да и сама
принадлежность гаера к этому миру весьма условна. В этом разделе
«физиологического» очерка Григоровича больше о самом быте, жалком и
«чадном», по выражению Достоевского (а вслед за ним и Анненского), и столь
характерно петербургском, но есть и об удовольствиях и развлечениях, ибо
только когда быт приближается к своему концу, к небытию или «внебы-
тию», в нем совсем нет уже места для удовольствия и даже для желания его.
С первых строк раздела - о том, каково происхождение гаера, из какой
ситуации и среды рекрутируются люди этой профессии:
Чердак одного из огромных домов42, окружающих Сенную площадь,
служит обыкновенно местом его рождения. Какая-нибудь прачка,
горничная третьего разряда, обманутая лакеем, разделяющим
любовь свою между кабаком и махоркою, причина появления на свет
будущего уличного героя. Первый взгляд, брошенный
новорожденным на полухмельного отца своего, бывает часто последним,
прощальным взглядом; непостоянный, вскоре после рождения на свет
184
залога любви, бросает свою подругу и чердак, с твердым
намерением разыгрывать роль Ловласа в других более удобных местах.
Бедная женщина остается таким образом одна в своем жилище (...)
Убедившись в неверности своего любезного, она тотчас же принимается
за работу; чувство матери придает ей новые силы и вскоре
вознаграждает она потерянное время. Между тем, малютка растет, он уже
бегает по комнате, лепечет несвязные слова и ест уголья и глину,
заимствуя их у печки (...) Птичка покидает гнездо, едва почувствует свои
силы (...) точно так же и герой наш оставляет родной чердак,
почувствовав себя в силах с помощью рук и ног спуститься по грязной
лестнице на улицу. Воспитание его окончено; природа была первым
его наставником, время довершит остальное.
Так оно и бывает, и первые самостоятельные шаги в новом мире
привязывают его к этому миру, который сначала поворачивается к новому своему
обитателю своей привлекательной, нарядной, призывающей к себе
стороной: «Тротуары и мостовая, давно пожираемые жадным его взором с
чердака, где получил он существование, появляясь ему теперь в полном блеске,
представляют тысячу развлечений и удовольствий. Толпы
таких же, как он, мальчишек, шарманщики, кукольная
комедия, бабка, лотки, установленные апельсинами и пряниками, солдаты,
проходящие по площади с музыкою впереди, - все это до такой степени
очаровывает молодое его воображение, что он готов лучше целые сутки
просидеть на улице под дождем, любуясь на воду, извергаемую желобом, нежели
идти домой». Этот новый звуковой «пейзаж» - шум и крики торжища,
звуки шарманки и военного оркестра, речь актеров-кукольников, рев воды,
вырывающейся из желобов во время сильного дождя, и т.п. - связывает
мальчика навсегда с соблазнами этого открывающегося перед ним мира,
образуя и в сознании и в подсознании некий важный жизненный слой, фон и
ритм жизни. Так бы и продолжать ему жизнь, все полнее определяя для
себя круг удовольствий и развлечений. Но жизнь, поманив мальчика сначала
своею казовой стороною, все чаще оборачивается к нему обратной
стороной - неприятною. Собственно, сам бы он мог и не обратить на эту
последнюю внимания, если бы ему не помогли, причем если не из лучших чувств,
то, по крайней мере, из заботы о нем.
«Едва минуло мальчугану восемь лет, как заботливая мать уже думает о
том, как бы доставить ему честное хлебное ремесло. То вталкивает его в
общую колею уличной промышленности, привесив ему на шею деревянный
ящик, наполненный спичками, снабдив его тросточками, сургучем,
зелеными яблоками или (...) избирает своему детищу более прочное ремесло,
поручая его богатому мастеровому». Мальчик, натянув па плечи пестрый халат,
становится подмастерьем. Но, уже вкусивший раз свободы, новичок легко
оказывается жертвой соблазнов, исходящих от мальчишек-товарищей,
опередивших его на пути гедонизма: «каждое воскресенье отправляются
они на Крестовский на целый день, где проявляется впервые идея о кутеже.
С пряников и кедровых орехов переходит на трубку, с трубки на вино;
бедняк, увлеченный более и более, делается негодяем и кончает
обыкновенно карьеру свою у хозяина воровством или побегом».
185
Далее встает вопрос, как жить дальше. И вот «он случайно
сталкивается с содержателем труппы кочующих фигляров; мать ли его стирает белье
на эту труппу, или он сам заводит знакомство, одним словом, бывший
подмастерье делается членом труппы в качестве портного или сапожника».
Конечно, это обеспечивает куском хлеба, но «страждущее самолюбие не дает
ему покоя ни днем, ни ночью»: фигляры, вольтижеры, канатные плясуны
перед ним господа, герои, а ему, бедному, «грезится бархатный камзол,
шитый блестками, рукоплескания, дружба и радушие фигляров вместо
презрения, и он решается, во что бы то ни стало, достигнуть высокой для него
цели». Хитрый хозяин замечает эту слабость и оборачивает ее на свою
пользу. Отныне он не платит ему деньги, но оказывает ему услуги - «бедняк с
восторгом принимает предложение и вверяет свои члены бичу и палке
хозяина». Если ученик выдерживает эту трудную школу, то по прошествии
нескольких лет его удостаивают «приема в компанию». Но денег ему
по-прежнему не платят, и ему не остается ничего иного как искать счастья на
стороне: он переходит в другую труппу «с правом быть выставленным на афише».
Это выгодно и хозяину новой труппы, ничего не потратившему на обучение,
и ему самому, сделавшему, наконец, первый реальный шаг по артистической
лестнице. Но у нового хозяина работать тоже нелегко: он обязан выполнять
все возможные амплуа по усмотрению антрепренера, как правило,
иностранца, «какого-нибудь г. Каспара, Вейнерта, Добрандини и т.п.». И
лестница эта длинная и трудная - от ламповщика до почетного звания «волтиже-
ра» он проходит все состояния: «поочередно является перед почтеннейшей
публикой клоуном, Кассандрой, паяцем, чертом, глотает шпаги, зажженный
лен, подымает гири, играет в пантомимах, кончающихся обыкновенно тем,
что все действующие лица, без исключения, исчезают в исполинской пасти
холстяного черта; деятельность его иногда баснословна: он в одно и то же
представление сзывает зрителей, продает билеты на вход, делает salto
mortale, танцует на канате, играет какую-нибудь роль в следующей за сим
пантомиме и часто довершает представление коленцем из русской пляски,
отхватанным с примадонною труппы».
Но это блистательная эпоха жизни. Масляная и Святая неделя проходят,
и наш герой, который только что всем был нужен, «вынужден бесчестить
(так выражается гаер) благородное ремесло свое, вступив гаером к
богатому шарманщику, с условием получать по двадцати пяти копеек меди с
каждого рубля, добытого на дворах и улицах». Уличный гаер «всегда почти
русский», и, когда кончаются праздники и его балаганные товарищи
уезжают за границу, «оставив его на произвол судьбы», его охватывает чувство
одиночества и уныние. «Спустясь с своих подмосток на худощавый ковер,
бывший Геркулес показывает нам свое искусство при завывании шарманки
и гудении тамбурина». И это продолжается большую часть года и
составляет «несчастнейшую часть его жизни»: проводя время у шарманщиков,
уличный гаер уже не герой, и это, кажется, нередко не менее важно, чем
уменьшение его доходов, во всяком случае пока какой-то запас «балаганных»
денег у него сохраняется.
Но деньги скоро (и нередко, видимо, очень скоро) истощаются.
«Уличных» денег едва достаточно на жизнь, а гаер уже испорчен тягой к
удовольствиям, которые он отчасти может получить в «балаганный» сезон, и любит
186
посибаритствовать и после дневных уличных трудов. Деньги тают; «с
каждым днем положение его становится хуже и хуже; к концу года у него
остается одно платье и он уже, по русскому обычаю, сбирается угостить
товарищей на последний камзол, шитый блестками, как является хозяин балагана
и завербовывает его на следующие праздники. Без этого прощай и камзол и
человек, все бы погибло!»
Но все-таки и при скудной жизни гаера у шарманщика, «он не унывает
духом, и хотя наружность его пасмурна, смотрит он исподлобья и всегда
ворчит, но это продолжается только до минуты, когда он входит на двор,
намереваясь дать представление». Артист снова просыпается в нем: один из
помощников расстилает на мостовой тощий ковер, служащий ареною, а
«гаер гордо посматривает на толпу (...) Взгляните, с какой самодовольною
улыбкою сбрасывает он с себя длиннополый сюртук (...) Бубен и шарманка
играют интродукцию, гаер встряхивает курчавою головою, отходит
несколько шагов назад и, разбежавшись, становится на руки; salto mortale
следуют одно за другим, публика рукоплещет, гроши сыплются из всех
окон, но гаер ничего этого не примечает; у него давно на носу стул, на
котором сидит маленькая девочка, взятая из толпы... Унылые звуки
"Лучинушки" возвещают конец представления; гаер (...) покидает двор, преследуемый
тою же публикой, еще долго не покидающею его».
Помимо гаеров, случайно попадающих в тяжкое свое ремесло, есть
и другой их разряд - те, кто посвящаются в это ремесло с самого детства.
В основном это дети старого фигляра или гаера, поневоле вынужденные
идти по стопам отца и обыкновенно кончающие свою жизнь на этом же самом
поприще или же становящиеся жертвою неудачного salto mortale.
«Положение их, - говорит автор, - самое несчастное; от колыбели до гроба
обречены они неимоверным трудам, не имея другого способа кормить себя, тогда
как гаер по призванию имеет всегда время отказаться от гаерства, коль
скоро почувствует его тягостным. Часто случается, что, проведши несколько
лет в этом звании, он возвращается к прежнему ремеслу своему, и вы
немало удивитесь, увидев того самого гаера, которым восхищались на дворе,
который так ловко ходил на руках, держал на носу стул и повертывал на
мизинце тамбурин, с шилом или ножницами в руках».
Эпоха в развитии циркового искусства, начавшаяся в конце 70-х годов
XIX в. и связанная с именами Чинизелли и Труцци, существенно повлияла на
положение петербургского гаера, еще более оттеснив его на периферию.
Впрочем, и в начале этой славной эпохи русского цирка, столь многим
обязанной итальянским артистам и организаторам цирковых
представлений, Григорович снова обращается к трагической судьбе удивительного
мальчика с трудным детством, воспитанника акробата Беккера, который на
афишах именовался «гуттаперчевым мальчиком», а так звали его Петей:
«всего вернее, впрочем, было бы назвать его несчастным мальчиком», -
говорит автор.
Конец его известен -
Ну... А там? Там, в конце Караванной... Там, где ночью здание цирка
чернеет всей своей массой и теперь едва виднеется из-за падающего
снега, - там что? Там также все темно и тихо.
187
Во внутреннем коридоре только слабым светом горит ночник,
прицепленный к стене под обручами, обтянутыми бумажными цветами.
Он освещает на полу тюфяк, который расстилается для акробатов,
когда они прыгают с высоты; на тюфяке лежит ребенок с
переломленными ребрами и разбитой грудью.
Ночник освещает его с головы до ног; он весь обвязан и забинтован;
на голове его также повязка; из-под нее смотрят белки
полузакрытых, потухающих глаз. Вокруг, направо, налево, под потолком, все
окутано непроницаемою темнотою и все тихо (...)
На следующее утро афишка цирка не возвещала упражнений
гуттаперчевого мальчика. Имя его и потом не упоминалось; да и нельзя
было; гуттаперчевого мальчика уже не было на свете
(Гуттаперчевый мальчик, 1883).
VI. Публика шарманщика
Последний из «внутренних» разделов Петербургских шарманщиков -
публика шарманщика. Без обращения к этой теме «физиологический»
очерк о самих шарманщиках был бы неполон: «воспринимающее»
сознание было бы исключено, и сама тема развлечения, праздника повисла бы
в воздухе. Суть представления, ситуации «актер (актеры) - зритель»
всегда в отношении воспринимаемого (объект) и воспринимающего
(субъект), того, что дается, и того, что берется, в мере «исходящей» и
«входящей» информации, понимаемой в разных смыслах, но прежде всего,
конечно, в художественно-эстетическом. При этом нужно помнить, что во
всех этих случаях даваться может больше, чем берется и, наоборот,
браться больше, чем дается. Актер заинтересован прежде всего в том,
чтобы аудитория восприняла, поняла его замысел и оценила его по
достоинству, хотя часто ему оказывается приятной даже завышенная
оценка: в этом направлении предела не положено в отличие от восприятия и
понимания, в чем требовательный актер настаивает только на
адекватности и неодобрительно, чаще всего, относится к самодеятельности в таком
«додумывании» зрителем смысла представляемого, с которым он, актер,
согласиться не может. Собственно говоря, вполне мыслим и был бы
полезным особый очерк Петербургская публика, который в свою очередь
отсылал бы к теме петербургских шарманщиков (но и, очевидно, не
только их). Григорович, кажется, нашел лучший выход из положения,
включив тему публики в свой «физиологический» очерк и лучшее место
для нее - непосредственно перед заключением. Впрочем, читатель к этой
теме отчасти подготовлен разбросанными в разных частях текста
фрагментами описания реакции публики на выступление шарманщиков или
героев. Задача раздела VI о публике - иная: создать у читателя иллюзию
непосредственного присутствия среди публики в разгар представления
(во-первых); описать действительную реакцию публики (с включенным
в нее читателем, по крайней мере потенциально) на представление
и его участников-актеров (во-вторых); и, если читателю всего этого
недостаточно, позволить ему сделать общий вывод по тем весьма
конкретным и живым зарисовкам, которых, к счастью, в этом разделе немало
(в-третьих).
188
С такой зарисовки и начинается раздел о публике шарманщика:
В осенний вечер, около семи часов, партия шарманщиков
поворотила с грязного канала в узкий переулок, обставленный высокими
домами. Шарманщики заметно устали. Один из них, высокий мужчина
флегматической наружности, лениво повертывал рукою органа и
едва передвигал ноги; другой, навьюченный ширмами, бубном и
складными козлами, казалось, перестал уже и думать от усталости; рыжий
только мальчик с ящиком кукол ни мало не терял энергии.
Шарманщики, кажется, намереваются пойти в ворота одного знакомого и
прибыльного дома.
Так! нет сомнения! Комедия будет! они вошли на двор; вот уже
заиграл какой-то вальс и раздался пронзительный крик Пучинелла.
В миг все пришло в движение. Оборванный мальчишка, до того
спокойно сидевший на тумбочке, играл камешком и одновременно дразня сестру с
двумя маленькими ребятишками на руках, вскакивает и, сделав братьям
гримасу, перепрыгивает через всю группу и «сломя голову» бросается на двор43.
Взрослые более степенны. Но и меланхолически стоявший у своей будки
будочник, и два солдата, случайно здесь оказавшихся, и баба с веником под
мышкой и необыкновенно красным лицом - все они последовали примеру
детей; «одним словом, эффект был произведен».
Отчего же бы и нам не зайти?
Двор широк и просторен; на него выходит до сотни окон.
Посреди двора уже поставлены ширмы; флегматический носитель
шарманки успел уже уставить свою ношу на складные козлы и
играл интродукцию. Представление не могло замедлиться, потому
что на публику нельзя было жаловаться: она сбегалась со всех
сторон. Но шарманщик не переставал оглядывать окна, из
которых начинали высовываться головы любопытных, естественно
ожидая от них более, чем от толпы сгруппировавшихся вокруг
него зевак.
Крик Пучинелла раздается в другой и третий раз, верхние этажи
населяются, оживляются, кучки самых разнообразных голов
перевешиваются на подоконники; виден и чиновник в пестром халате,
красной ермолке, и с трубкой в зубах; рядом с ним артель работников
заняла целые шесть окон сряду; хорошенькая женщина и болонка
поместились на сафьянной подушке, брошенной на окно; кое-где
выглянуло несколько размалеванных лиц, обративших на мгновенье
общее внимание.
Пока происходит подготовка к началу спектакля, автор успевает
заметить колоритные сценки, которые позволяют лучше понять дух ожидания
представления, нетерпеливость и любознательность детей, основных
поклонников этого вида искусства.
Чиновник Федосей Ермолаевич, весьма почтенный человек,
занимавший выгодное место, и которого сам директор однажды
потрепал по плечу, также был пробужден после обеденного отдыха
призывными криками Пучинелла.
189
- Терешка! Что это, братец, там такое? - закричал Федосей Ермола-
евич, зевая и потягиваясь. - Шарманщики, сударь, - отвечал
Терешка (...) - Да как же это они, братец... того?... Но тут новый крик Пу-
чинелла совершенно разбудил Федосея Ермолаевича, он потянулся
еще раз, встал с постели и заспанными глазами посмотрел на двор.
- Папенька, то, то, то, они вот все, вот так, вот все играют? -
спросил маленький Ермолай Федосеевич, таща всеми силами отца к окну
(...) - Шарманщик, душечка... - Нет, нет, что вот они, вот так, вот все
играют? (...) - Шарманщик, душечка... - Нет, нет, то они все так...
Но и мы, не находя ответ Федосея Ермолаевича удовлетворительным,
спустимся лучше вниз вместе с нянькою, торопливо выносившею
пискливого ребенка, который не давал ей покоя целые три часа.
Комедия должна начаться сию минуту, публике некуда уже было
поместиться.
Но «сия минута» все еще не наступала, и автор, боясь что-либо упустить
из относящегося к публике, спешит, хотя бы бегло, останавливаясь (точнее,
выхватывая из общего хаоса) на отдельных, казалось бы, случайных
деталях, обозреть это множество типов зрителей. Нарисованная картина
убедительна и своей «физиологической» документальностью и художественной
образностью. Она по своему уровню, конечно, выше тех рисунков и
политипажей, которые в это время стали популярными и обращались к подобным
же сценкам.
Два солдата, долго колебавшиеся вмешаться в толпу, стояли теперь
на первом плане; их плотно окружала орда мастеровых в изодранных
армяках, с выпачканными сажею лицами, мамки, няньки, кормилицы
с ребятишками всех сортов и возрастов пестрели в толпе яркими
сарафанами44; денщик, возвращаясь с четверткой вакштаба, которую с
нетерпением ожидал вновь произведенный прапорщик, казалось,
позабыл своего господина; босоногая девчонка, обстриженная в
кружок, стояла в каком-то бессмысленном созерцании, держа в руках
корзинку с копеечными сухарями; толстый барин в очках,
вышедший подышать свежим воздухом, разделял общее нетерпение; трое
писарей с лихими ухватками подшучивали над шарманщиком,
который переменил уже два мотива и с самой недовольной миной
переходил на третий; с улицы подходила беспрестанно толпа всякого
сброда, даже два монтера45 остановились у входа ворот, завернув правую
ногу назад и картинно упершись на тросточку.
Приближалась критическая точка кипения, и нетерпение массы могло
или взорвать ситуацию или - что гораздо менее вероятно - привести к
снижению интереса. Впрочем, артисты ждали, когда нетерпение публики
достигнет максимума, чтобы начать, да и сама публика понимала, что сейчас, на
самом пороге представления-праздника, нельзя упустить своего шанса. Тем
временем - толпа волновалась и шумела; все ожидали, все требовали
представления; один только знакомый нам мальчишка бегал кругом, как гончая
собака, обнюхивал каждого, высовывал язык всем, кто ему не нравился,
щипал исподтишка детей, и, протянув руку, готовился стащить пятый сухарь у
девочки, как вдруг над шарманкою показался Пучинелла. Пучинелла при-
190
нят с восторгом; характером он чудак, криклив, шумлив, забияка, одним
словом, обладает всеми достоинствами, располагающими к нему его публику.
Здесь та грань, за которой внимание автора к публике как бы исчезает,
потому что внимание самой публики и как бы в ее толпе затерявшегося
автора целиком направлено на другое - на само представление. Оно
стенографируется со всей подробностью, во всех ее типовых и публике давно уже
известных приемах и деталях, воспринимаемых, однако, каждый раз как что-
то новое. В этом именно и особенность такого искусства и его сила, но и
особенность такой аудитории. И артисты с их программой, и зрители с их
настроенностью хорошо знают друг друга и каждый знает, что можно
ожидать от другого. И именно свершение ожидаемого и в принципе уже хорошо
известного образуют ту эстетику «оправданного» ожидания, которая
сильнее всего объединяет обе стороны, участвующие в празднике, только что
начавшемся:
- Здравствуйте, господа! сам пришел сюда вас повеселить, да себе
что-нибудь в карман положить! - Так начинает Пучинелла. Его
присутствие заметно понравилось; солдат подошел поближе, мальчишка
сделал гримасу, один из мастеровых почесал затылок и сказал: «Ишь
ты!» - тогда как другой, его товарищ, схватившись за бока
заливался уже во все горло.
Хохот стихает, и Пучинелла спрашивает музыканта. - «А что тебе
угодно, г. Пучинелла?» - отвечает шарманщик. Тот просит сыграть «По улице
мостовой». Заказчик и исполнитель торгуются о плате. Музыкант
неожиданно легко соглашается и начинает вертеть ручкою органа. «Звуки "По
улице мостовой" находят теплое сочувствие в сердцах зрителей: дюжий
парень шевелит плечами, раздаются прищелкивание, притопывание».
Но это только прелюдия, так сказать, для настройки аудитории к
главному, для разогрева. И сразу же - над ширмами возникает новое (точнее -
старое новое) лицо - капитан-исправник, которому нужен человек в
услужение. Музыкант рекомендует ему Пучине л лу. Капитан-исправник предлагает
последнему пойти к нему в услужение. Снова комическая сцена «торговли»
о плате. Пучинелла не очень-то доверяет ласкам своего будущего хозяина,
и «публика живо входит в его интересы». Происходит диалог:
Капитан-исправник. Экой, братец, ты со мною торгуешься! много
ли, мало ли ты станешь обижаться.
Пучинелла. Не то, чтобы обижаться, а всеми силами стану стараться!
Капитан-исправник. У меня, братец, жалованье очень хорошее,
кушанье отличное, пуд мякины, да пол-четверика гнилой рябины, а
если сходишь к мамзель Катерине и отнесешь ей записку, то получишь
25 рублей награждения.
Пучинелла. Очень хорошо, ваше благородие, я не только записку
снесу, но и ее приведу сюда.
Публика иронизирует над доверчивостью Пучинелла, побежавшего за
мамзель Катериною и вот уже он ее приводит на сцену. Она танцует с
капитаном исправником и покидает сцену. «Толпа слушает, разиня рот, у
некоторых уже потекли слюнки». Но и Пучинелла не отстает: он хочет жениться.
191
Под совершенный восторг аудитории музыкант предлагает ему в невесты
девяностодевятилетнюю Матрену Ивановну, которая живет «в
Семеновском полку, на уголку, в пятой роте, на Козьем Болоте»46.
Пучинелла отказывается от такой невесты, но из любопытства все-таки
вызывает ее из-за ширм. Вместо нее оттуда выскакивает собака, хватает его
за нос и теребит, что есть мочи. «Публика приходит в неистовый восторг:
"тащи его, тащи, так, так, тащи его, тащи, тащи!.." - раздается со всех
сторон; Пучинелла валится на край ширм и самым жалобным голосом
призывает доктора, не забывая, однако, спросить, сколько будет стоить визит».
Приходит доктор и исцеляет больного, получая от него вместо
благодарности оплеуху. Капитан-исправник, находя, что порядок нарушен, отдает
Пучинелла в солдаты. - «Ну-ка, становись, мусью, - говорит капрал, вооружая
его палкою, - слушай! на кра-ул!» Пучинелла, услышав команду, бросается
на капрала и начинает душить его. Зрители в величайшем изумлении: ей
«ясно, что такого рода буян, сумасброд, безбожник не может более
существовать на свете; меры нет его наказанию; человеческая власть не в
состоянии унять его, и потому сам ад изрыгает черта, чтобы уничтожить
преступника». Комедия кончается, но тут появляется Петрушка: «лицо
неразгаданное, мифическое, (он) неуместным появлением своим не спасает Пучинелла
от роковой развязки и только возбуждает в зрителях недоумение. Неуныва-
емый Пучинелла садится верхом на черта (необыкновенно похожего на
козла), но черт не слушается; всадник зовет Петрушку на помощь, но уже
поздно: приговор изречен, и Пучинелла погибает образом, весьма достойным
сожаления, т.е. исчезает за ширмами».
Финальная ария возвещает конец представления. Публика чрезвычайно
довольна, но быстро начинает редеть, когда шарманщик, взяв бубен и,
вертя его на мизинце, стал обходить ее; наши знакомцы - два солдата и баба с
веником под мышкой были в числе первых; у мамок и нянек вдруг начали
реветь до того времени молчавшие дети, и они тоже поспешили удалиться.
«К совершенному отчаянию шарманщика, даже и сам толстый господин в
очках, остановившийся послушать комедию, посмотрел на бубен,
подносимый ему шарманщиком, как бы не понимая, чего хотелось просителю; с
горя шарманщик обратился к ложам, т.е. к окнам, в которых все еще торчали
головы любопытных; наконец, один пятак упал, звеня и прыгая, на
мостовую, за ним другой, потом третий, брошенный собственноручно сыном
Федосея Ермолаевича, которому папенька вручил его с наставлением:
«Брось ему, душенька, в бубен». Пятак упал неудачно - между камнями.
Шарманщик не увидел его; доброхоты из еще не разошедшихся стали
подсказывать - направо, правее, не туда - «Эх вы, думал шарманщик,
нагибаясь, чтоб поднять деньги, - хлопотать-то ваше дело, на то вы мастера, а вот
как самому что-нибудь положить, так нет... эх! житье, житье!».
И вот уже шарманку сняли, и «под звуки плачевной музыки она
тронулась с места». Накрапывавший еще раньше дождь, не замечаемый
зрителями во время представления, полил как из ведра. Чиновник в очках полез в
карман, чтобы вытащить оттуда платок и обернуть им новую еще шляпу, но
обнаружил в своем кармане чью-то руку, «уже прежде нырнувшую туда за
платком». Это оказался уже знакомый нам мальчишка. Резким движением
вырвавшись из тисков чиновника, он бросился вперед и исчез в толпе.
192
«Держи! держи! - закричал чиновник»; этот призыв был подхвачен
мастеровыми... Публика рассеялась.
Последние строки этого раздела - переход от праздника, поэзии, публики
к будням, прозе, одиночеству. И звучат они символически:
Двор опустел до единого; один только мужик, восторженно
хохотавший от самого начала до развязки, остался на прежнем месте;
улыбка удовольствия еще не покидала лица его; он осмотрелся кругом,
взглянул на то место, где стояла шарманка, не забыл посмотреть на
окна, которые запирались от проливного дождя и, сделав
недовольную мину, отправился к воротам. Под воротами он встретил бедную
собачонку, дрожавшую от холода и прижимавшуюся к стене. Мужик
остановился, посмотрел на нее пристально, нагнулся к ней как
можно ближе и произнес: «о з я б л а!...» - после чего тотчас же покинул
двор, весьма довольный собой.
С этой концовкой связано и Заключение. Тот же осенний вечер, тот же
дождь, та же пустота и безлюдность на улицах, то же одиночество и тоска...
и та же надежда, пробудившаяся при неожиданных звуках «Лучинушки»
посреди безмолвия и тишины. Эти звуки шарманки и фигура быстро
прошедшего мимо шарманщика снова вызывает в памяти автора образ
шарманщика-итальянца, грезящего о «родных горах» в Петербурге, где «ему холодно,
тяжело...».
1 О хронологических границах и составе «натуральной» школы см.: Кулешов В.И.
Натуральная школа в русской литературе XIX века. М, 1965. С. 19—42; ср. также: История
русской литературы. М.; Л., 1955. Т. 7 и др.
2 В этом смысле такой французский «физиологизм», уже вполне оформившийся в 30-40-
е годы XIX в. и ориентировавшийся на «социальное», может с известными
основаниями и в широкой перспективе рассматриваться как предшествие той славной линии
социальной антропологии, которая представлена именами Дюркгейма, Мосса, Юбера,
Леви-Стросса и др.
3 О «физиологическом» очерке в русской литературе из относительно недавних работ
см.: Цейтлин AT. Становление русского реализма в русской литературе (Русский
физиологический очерк). М., 1965; Кулешов В.И. Указ. соч. С. 114 и след.; Он же.
Знаменитый альманах Некрасова Физиология Петербурга / Изд. подготовил В.И. Кулешов.
М., 1991. С. 216-243; Манифест социальной беллетристики / Физиология Петербурга /
Подготовка текста В.А. Недзвецкого. М., 1984. С. 5-28 и др. - О французском
«физиологическом» очерке ср. кроме целого ряда исследований французских
литературоведов: Якимович Т. Французский реалистический очерк 1830-1848 гг. М, 1963.
4 В первом из своих Философических писем, говоря об идеях долга, справедливости,
права, порядка как ведущих чертах западной цивилизации, Чаадаев заключал: «Это и
составляет атмосферу Запада; это - больше, нежели история, больше, чем психология:
это - физиология европейского человека».
5 Иначе говоря, для русского «физиологического» очерка в отличие от французского
была характерна ориентация не на строгость описания, выступающую как некий
аналог «объективности», «научности», а на «естественность», правдивость,
неангажированность как идеологическими, так и собственно литературными данностями: в
некоем идеале описание относилось к описываемому как один к одному. К счастью,
уклонений от этого идеала было предостаточно.
6 Термин «петербургская литература» принадлежит Белинскому. Во второй части
Физиологии Петербурга (1845) была напечатана его статья под этим заглавием. Разумеется,
7. В.Н. Топоров
193
само это выражение, имевшее в виду место издания книг и проживания их авторов
(петербургская литература, как и московская литература), было известно и раньше, но
Белинский попытался наметить некоторые более существенные отличия двух этих
литератур, выводимые им, однако, только из различий двух городов - Петербурга и Москвы.
' Полное название - «Физиология Петербурга, составленная из трудов русских
литераторов под редакциею Н. Некрасова (с политипажами)». Части I и П.
Санкт-Петербург. Издание книгопродавца Л. Иванова. - Цензурное разрешение на выпуск первой
части было дано еще 2 ноября 1844 г., но из-за ряда сложностей фактически она
вышла в свет 28 марта 1845 г. В Полном собрании сочинений Д.В. Григоровича в 12
томах дата написания Петербургских шарманщиков обозначена 1843 годом (см. ПСС.
СПб., 1896. Т. I. С. 29), а само заглавие имеет подзаголовок (в скобках) - Рассказ. -
Иллюстрации к этому произведению были сделаны Е.И. Ковригиным. Они
воспроизведены в последнем издании текста «Физиологии Петербурга» 1991 г. (см. выше), по
которому приводятся цитаты в настоящей статье.
1 Здесь и далее цитируется по изданию: Григорович Д.В. Литературные воспоминания.
М., 1987.
1 В гимназии Григорович пробыл всего два месяца. «Переход из женских рук в мужские
был для меня очень чувствителен. Непривычный к обществу мальчиков я тем
больше чуждался их, что они не переставали надо мною трунить, кричали под ухо: "Коман
вы франсе..." - нахлобучивая при этом шапку на глаза. В классах и с репетитором
было и того хуже: плохо читая по-русски и еще с иностранным акцентом, еще плоше
умея писать по-русски, я постоянно терял голову; чувство какого-то страха не
покидало меня. (...) Кончилось тем, что со мной сделалась чуть ли не нервная горячка;
матушка приехала и взяла меня скорее из гимназии» (Лит. восп., 31). Дальнейшее
образование было связано с возвращением во французскую языковую стихию (учение в
пансионе госпожи Монигетти, где преподавание велось на французском). Оказавшись
в 14 лет в Петербурге, в пансионе Костомарова, наибольшие трудности Григорович
испытывал именно с русским языком: «После того, что я до сих пор сказал о себе,
легко понять, как трудно было мне привыкать к новой жизни (...), жизни, где
говорили и думали только по-русски, где на ученье смотрели как на самое серьезное дело в
жизни, где самое учение преподавалось только на русском языке» {Лит. восп., 36), и
учитель русского языка, добрый человек, занимался с Григоровичем русским языком
особо. Но нет худа без добра. На вступительном экзамене в Инженерное училище
Григорович прошел исключительно благодаря прекрасному знанию французского и
хорошему умению рисовать (некоторое время он учился рисованию в Строгановском
училище), см. Лит. восп., 37.
Как известно, сближение Григоровича с миром искусства произошло в самом
начале 40-х годов, еще до того как появились его первые литературные произведения. В
1840 г. он брал уроки живописи и занимался в Академии художеств, о чем и пишет в
своих Литературных воспоминаниях и что - в известной степени - получило
отражение в повести Неудавшаяся жизнь (1849, опубл. 1850) о печальной судьбе
одаренного художника, вынужденного из-за сложных жизненных обстоятельств
расстаться с любимым искусством. Тогда же мир кулис захватил воображение Григоровича.
«Я с одинаковым радостным волнением, - вспоминал он, - входил всегда в
театральную залу (Большого театра. - В. Т.). Давалась ли опера, шел ли балет - для меня
было безразлично; спектакль сам по себе производил на меня чарующее действие;
сколько помню, меня не столько всегда занимало то, что происходило на сцене,
сколько всякий раз манило на самую сцену, в таинственный, закрытый мир кулис,
актеров и актрис, нравы которых, преувеличенные воображением, подстрекали в
высшей степени мое любопытство. Наяву и во сне я стал бредить одним театром. Но
как осуществить мечту - попасть за кулисы? Каким образом достигнуть заманчивой
цели? Вопросы эти не давали мне покоя» {Лит. восп., 55). Григорович пытался стать
и актером, но - «Я играл ниже всякого описания. Мне было отказано в следующем
дебюте за отсутствием всякой способности к сцене» {Лит. восп., 57). Но случайная
встреча с директором Императорских театров Л.М. Гедеоновым привела к тому, что
194
в 1842 г. Григорович был зачислен на службу в канцелярию театров. В разных
формах, по долгу службы, официально или частным образом, в свободное время,
Григорович и в дальнейшем сохранял связь с театральным миром - артистами,
драматургами, организаторами театральной жизни Петербурга, а также с изобразительным
искусством, став известным знатоком живописи и скульптуры, собирателем ценной
художественной коллекции (при том, что средства писателя были довольно
скромными). Следует напомнить, что Григорович не только впоследствии немало писал по
вопросам театрального и изобразительного искусства (правда, работы в области
последнего носили в основном компилятивно-реферативный характер - таковы
материалы для составления полного каталога произведений Рафаэля по имевшейся к
тому времени уже достаточно обширной литературе; из рукописного наследства ср.:
Капелюш Б.Н. Рукописи и переписка Д.В. Григоровича. Научное описание //
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1969 год. Л., 1971. С. 17-18,
№ 35-41 и др.), но и сам пробовал себя на сцене и в живописи. Он был неплохим
рисовальщиком, и лучшие из его опытов заслуживают внимания. Но как артист он
потерпел неудачу (хотя и позже, в зрелом возрасте, он не раз участвовал в домашних
спектаклях и исполнял различные роли), несмотря на возлагавшиеся на него
надежды. «Живость моего характера, способность живо рассказывать, ясно и
выразительно читать на публичных чтениях, - пишет он в своих Литературных
воспоминаниях, - вселяли многим уверенность, что я непременно должен быть хорошим
актером; на практике выходило совсем другое. Я старательно разучивал роль, но играл
всякий раз отвратительно. При выходе на сцену мною овладевала какая-то нервная
суетливость; из памяти улетучивался характер изображаемого лица; меня, главным
образом, озабочивала одна лишь мысль: не забыть роли, не стать в тупик в самую
патетическую минуту» (Лит. восп. С. 57-58). Тем не менее Григорович был,
несомненно, и человеком искусства, и его опыты в сфере «миметического» должны
учитываться и в его литературных трудах, особенно когда в них он обращается — хотя
бы отчасти и при несколько иной установке, как в случае Петербургских
шарманщиков, к теме искусства, артиста.
Первой, кажется, пробой своих сил в литературе была неоконченная пьеса из
итальянской жизни Замок Морвено. В 1843 г. Григорович перевел драму
Ф. Сулье Эулали Понту a (Eulalie Pontois), которая в сезоне 1843-1844 гг. шла на
сцене Александрийского театра под названием Наследство и в 1844 г. была напечатана
в девятом номере журнала «Репертуар и Пантеон». Тогда же Григоровичем был
переведен и одноактный водевиль Шампанское и опиум (с куплетами В.Р. Зотова). Он
был поставлен и даже пользовался некоторым успехом. Впрочем, Григорович,
кажется, не обманывался этими успехами. Говоря о переводе драмы Сулье, он
подчеркивал свою неподготовленность: «Незнакомый с условиями драматической
литературы, требующей быстрого разговорного языка, я лез из кожи, закручивая
длинные периоды и риторические трескучие фразы» (Лит. восп., 64). Делясь своими
впечатлениями от водевиля, Ф.А. Кони писал: «Пьеска смешна и весела, больше от
нее нечего и требовать. Из рук более искусного переводчика она вышла бы еще
лучше» (Литературная газета. 1843. № 46. 892). В том же 1843 г. Григорович переводит
повесть А. Пишо Плавучий маяк, которая была опубликована в издании Плюшара
«Переводчик, или Сто одна повесть и сорок сороков анекдотов, древних, новых и
современных...», т. 4. Первым его самостоятельным произведением, как ясно
высказано это в Автобиографии Григоровича, был рассказ Театральная карета
(Литературная газета. 1844. № 45. 16 ноября), где была отдана щедрая дань гоголевскому
влиянию, и написанный и изданный там же (1845. № 6. 8 февраля) рассказ Собачка, «оба
крайне детского содержания, вымученные, лишенные всякой наблюдательности,
почерпнутой из жизни», как признавался позже сам их автор (Лит. восп., 74). См.
также: Мещеряков В.П. Д.В. Григорович - писатель и искусствовед. Л., 1985. С. 7-9;
Русские писатели 1800-1917. Биографический словарь. 2. Г-К. М., 1992. С. 29 и др.
Эти ранние опыты, собственно и составляют тот «переводческ и-писательский
предтекст» Григоровича, который нужно иметь в виду, чтобы оценить Петербургские
7*
195
шарманщиков как подлинное начало того большого пути, что был пройден
автором более чем за полвека его плодотворной деятельности.
«Петербургские шарманщики г. Григоровича - прелестная и грациозная
картинка, нарисованная карандашом талантливого художника. В ней видна
наблюдательность, умение подмечать и схватывать характеристические черты явлений и
передавать их с поэтическою верностью», - писал Белинский (Поли. собр. соч.
В 9 т. М., Т. 7. С. 563-564). Также одобрительным был и отзыв «Литературной
газеты» (1845. № 13. С. 229): «В первой части Физиологии мы встречаем (...)
Петербургского шарманщика - Д.В. Григоровича, молодого литератора, впервые
выступающего на литературном поприще и выступающего чрезвычайно умно и
дельно». Рукопись Петербургских шарманщиков, по словам Григоровича «очень
понравилась» Некрасову (Лит. восп. С. 79). И действительно, этот
«физиологический» очерк Григоровича, пожалуй, составляет лучшую часть обеих
частей Физиологии (наряду с Петербургскими углами Некрасова и Петербургской
стороной Гребенки; части, написанные Белинским, концептуальны и в этом
смысле возвышаются над «физиологическим» уровнем сборника: в них
теоретически осмысляется «петербургская» эмпирия, которая оттеняется
московской, и предлагается один из ранних опытов историософии Петербурга). -
Менее удачным оказался другой «ф изиологический» очерк Григоровича
Лотерейный бал, вошедший во вторую часть Физиологии Петербурга.
Белинский сдержанно отозвался о нем: «статья не без занимательности, но, кажется,
слабее его же Шарманщиков (...) Она слишком сбивается на дагерротип и
отзывается сухостью» (т. 7, с. 604). Но главный недостаток этого рассказа не столько в
дагерротипичности и сухости, а в известной буффонадности, вытеснившей то, что
составляло суть «сентиментального натурализма», - внимание и сочувствие к
«маленькому человеку», гуманное отношение к нему.
Материалы из записных книжек Григоровича (они приведены в кандидатской
диссертации В.П. Мещерякова Творческий путь Д.В. Григоровича. М., 1964)
дополнительно свидетельствуют об аналитически-исследовательском методе писателя при
подготовке к работе над очередным произведением - фиксация не только будущих
сюжетов, но и объектов описания: лакей без места, воришка-«платочник», дитя Невского
проспекта, кабак, номер в гостинице и т.п. В отношении «физиологизма» этого типа
из писателей 40-х годов с Григоровичем сравним, пожалуй, лишь Тургенев, чьи
планы описания разных частей Петербурга - Галерной гавани, Сенной площади,
большого дома на Гороховой, «физиономии Петербурга ночью» - хорошо известны. «Тут
можно пометить разговор с извозчиком, толкучий рынок, Апраксин двор, бег на
Неве, внутренняя физиономия трактиров, большая фабрика с множеством рабочих, о
Невском проспекте, его посетителях, их физиономиях, об омнибусах, разговорах в
них и т.д.», - отмечал для себя Тургенев (акцент на «физиономии» объекта, конечно,
отсылает к сфере «физиологического»). Кое-что из наметок Григоровича и
Тургенева вошло в разные их произведения, в частности и те, которые были написаны по
прошествии моды на «физиологические» очерки. - Другое важное сходство с
Григоровичем - неоднократно отмечавшаяся современниками наблюдательность Тургенева -
как естественная, природная, так и выработанная и усовершенствованная его
писательским опытом. Иногда наблюдательность приобретала
гипертрофированные формы: становилась неконтролируемой и вступала в противоречие с
правилами поведения в обществе.
Об отношении «петербургских» текстов Григоровича, особенно ранних, к
«Петербургскому тексту» русской литературы предполагается говорить в другом месте. -
Косвенным образом, биографически, с этой темой связана и другая - Григорович и
Достоевский, в частности, в аспекте их дружеских и творческих отношений. Их
тесные связи друг с другом, установившиеся уже в Инженерном училище (впрочем,
первая их встреча произошла еще в пансионе Костомарова, куда в одно воскресенье
пришел из училища Григорович проведать своего бывшего наставника), описаны
Григоровичем в его Литературных воспоминаниях'.
Сближение мое с Ф.М. Достоевским началось едва ли не с первого дня его
поступления в училище. С тех пор прошло более полустолетия, но хорошо
помню, что изо всех товарищей юности я никого так скоро не полюбил и ни
к кому так не привязывался, как к Достоевскому. Казалось, он сначала
отвечал мне тем же, несмотря на врожденную сдержанность характера и
отсутствие юношеской экспансивности - откровенности. Ему радостно было
встретить во мне знакомого в кругу чужих лиц, не упускавших случая грубо,
дерзко придраться к новичку. (...) С неумеренною пылкостью моего
темперамента и вместе с тем крайнею мягкостью и податливостью характера я не
ограничился привязанностью к Достоевскому, но совершенно подчинился
его влиянию. Оно, надо сказать, было для меня в то время в высшей степени
благотворно. Достоевский во всех отношениях был выше меня по
развитости; его начитанность изумляла меня. То, что сообщал он о сочинениях
писателей, имя которых я никогда не слыхал, было для меня откровением (Лит.
восп., 46).
Вторичное сближение, благодаря которому Григорович и Достоевский
поселились вместе, в одной квартире (нынешний адрес - Владимирский проспект, 11),
произошло несколько позже:
Около этого времени я случайно встретился на улице с Достоевским,
вышедшим из училища и успевшим уже переменить военную форму на статское
платье. Я с радостным восклицанием бросился обнимать его. Достоевский
также мне обрадовался, но в его приеме заметна была некоторая
сдержанность. При всей теплоте, даже горячности сердца, он еще в училище, в нашем
тесном, почти детском кружке, отличался несвойственною возрасту
сосредоточенностью и скрытностью, не любил особенно громких выразительных
изъявлений чувств. Радость моя при неожиданной встрече была слишком
велика и искренна, чтобы пришла мне мысль обидеться его внешнею
холодностью. Я немедленно с воодушевлением рассказал ему о моих литературных
знакомствах и попытках и просил сейчас же зайти ко мне, обещая прочесть
ему теперешнюю мою работу, на что он охотно согласился. Он,
по-видимому, остался доволен моим очерком, хотя и не распространялся в излишних
похвалах; ему не нравилось только одно выражение в главе «Публика
шарманщика». У меня было написано так: когда шарманка перестает играть,
чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. «Не то,
не то, - раздраженно заговорил вдруг Достоевский, - совсем не то! У тебя
выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал
на мостовую, звеня и подпрыгивая...». Замечание это, - помню очень
хорошо, - было для меня целым откровением. Да, действительно: звеня и
подпрыгивая - выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение.
Художественное чувство было в моей натуре, выражение: пятак упал не просто, а
звеня и подпрыгивая, - этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять
разницу между сухим выражением и живым, художественно-литературным
приемом {Лит. восп., 78-79).
(Заимствования у Достоевского и перекличка с ним этим, конечно, не
ограничиваются, ср. образ доктора Християна Християныча из Похождений Накатова (1849),
сделанный с оглядкой на доктора Крестьяна Ивановича из Двойника ( 1846), который
в свою очередь отсылает к гоголевскому уездному лекарю из Ревизора Христиану
Ивановичу Гибнеру, или Берендеева из повести Григоровича Спистулькин (1850) при
Олсуфии Ивановиче Берендееве из того же Двойника и др.].
В окончательном тексте Петербургских шарманщиков Григорович учел
предложение Достоевского, но и сам Достоевский использовал эту образность в Бедных
людях, появившихся только в 1846 г. в Петербургском сборнике (переписанный набело
в конце мая 1845 г. роман Достоевский тогда же прочитал Григоровичу, как пишет
последний, «в один присест и почти не останавливаясь» -Лит. восп., 82), и как раз в
197
том месте, где тоже рассказывается Макаром Алексеевичем Девушкиным о
шарманщике, в чем можно видеть воспоминание об очерке Григоровича о шарманщиках,
влияние или хотя бы простой отклик на эту тему. Ср.:
А ведь что это за человек, что это за люди, которым сироту оскорбить
нипочем? (...) Вот они каковы, эти люди! А по-моему, родная моя, вот тот
шарманщик, которого я сегодня вГороховой встретил, скорее
к себе почтение внушит, чем они. Он хоть целый день ходит да мается, ждет
залежалого, негодного гроша на пропитание, да зато он сам себе господин,
сам себя кормит. Он милостыни просить не хочет; зато
он для удовольствия людского трудится, как заведенная машина, - вот,
дескать, чем могу, принесу удовольствие. Нищий, нищий он, правда, все
тот же нищий; но зато благородный нищий; он устал, он прозяб, но все
трудится, хоть по-своему, а все-таки трудится. И много есть честных людей,
маточка, которые хоть немного зарабатывают по мере и полезности труда
своего, но никому не кланяются, ни у кого хлеба не просят. Вот и я точно так
же, как и этот шарманщик, то есть я не то, вовсе не так, как он, но в
своем смысле, в благородном-то, в дворянском-то отношении точно так же,
как и он, по мере сил тружусь, чем могу, дескать. Большего нет от меня; ну,
да на нет и суда нет.
Я к тому про шарманщика этого заговорил, маточка, что случилось мне
бедность свою вдвойне испытать сегодня. Остановился я посмотреть
на шарманщика. Мысли такие лезли в голову, - так я, чтобы рассеяться,
остановился. Стою я, стоят извозчики, девка какая-то, да еще маленькая
девочка, вся такая запачканная. Шарманщик расположился перед чьими-
то окнами. Замечаю малютку, мальчика, так себе лет десяти; был бы
хорошенький, да на вид больной такой, чахленький, в одной рубашонке
да еще в чем-то, чуть ли не босой стоит, разиня рот музыку слушает -
детский возраст! загляделся, как у немца куклы танцуют, а у
самого и руки и ноги окоченели, дрожит да кончик рукава грызет.
Примечаю, что в руках у него бумажечка какая-то. Прошел один господин
и бросил шарманщику какую-то маленькую монетку; монетка прямо
упала в тот ящик с огородочкой, в котором представлен француз,
танцующий с дамами. Только что звякнула монетка, встрепенулся
мой мальчик, робко осмотрелся кругом да, видно, на меня подумал, что
я деньги дал.
- с последующей мучительно-жалостной сценой и заключением Макара
Алексеевича: «Вот какова она, жизнь-то бывает! Ох, Варенька, мучительно слышать Христа
ради и мимо пройти, и не дать ничего, сказать ему: "Бог подаст"» (Бедные люди -
ПСС: В 30 т. Т. 1. С. 86-88); ср. несколько далее: «пуговка, что висела у меня на
ниточке, - вдруг сорвалась, отскочила, з а п ρ ы г а л а (я, видно, задел ее нечаянно),
зазвенела, покатилась и прямо, так-таки прямо, проклятая к стопам его
превосходительства» (там же. С. 92).
Сцена с шарманщиком у Достоевского здесь целым рядом деталей
перекликается с описанием из Петербургских шарманщиков; общими являются и те чувства,
которые вызывают подобные сценки у обоих авторов - Григоровича и Достоевского,
передавшего эти свои чувства и слова бедному Девушкину. - Хотя сам шарманщик в
Бедных людях немец, но «итальянская» тема, одна из ведущих в очерке Григоровича,
присутствует и у Достоевского: «А что, маточка, уж если на то пошло, так я вам, так
и быть, выпишу из Итальянских страстей местечко» - и
выписывает (52), не говоря уж о неоднократном упоминании Фальдони (с Терезой), хозяйского
слуги (23, 51, 79, 92, 94, 95). Эти имена несчастных любовников из популярного в
конце XVIII - начале XIX в. сентиментального романа Н.Ж. Леонара (1783), перевод
которого был сделан М. Каченовским и вышел двумя изданиями (1804 и 1816), в 40-е
годы стали нарицательными, ср. рассказ М. Воскресенского Замоскворецкие Тереза и
198
Фальдони («Литературная газета». 1843, №№ 7-8. - См. ПСС. Т. 1. С. 480). Стоит еще
напомнить, что отсылки к Терезе и Фальдони имеют поддержку в том, что служанку
хозяйки, у которой снимал угол Девушкин, действительно звали Терезой. Наконец,
еще одно напоминание. Рассказывая о том, что первые литературные сочинения,
читанные им на русском языке, были сообщены ему Достоевским (сочинения эти были
переводными), Григорович упоминает, как после чтения шиллеровских
«Разбойников» он тотчас же принялся сочинять пьесу из «и τ а л ь я н с к и х» нравов под
названием Замок Морвено, но, написав одну сцену, оставил свой замысел
неосуществленным. Первый юношеский литературный замысел Достоевского - роман из «в е -
нецианской» жизни, который он устно сочинял на пути из Москвы в Петербург
в 1837 г.
15 См.: Кулешов В.И. Знаменитый альманах Некрасова, 229.
16 Следует напомнить, что это выражение, канонизированное в русской культурной
традиции в пушкинском Медном Всаднике, принадлежит итальянцу Франческо Альга-
ротти, посетившему Петербург еще в 30-е годы XVIII в. и в 1739 г. выпустившему
свои Письма о России, где как раз впервые и появилось это определение города -
«Pétersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe».
17 См. подробнее в наст, книге, с. 647 и след.
18 Из литературы самого последнего времени о таких «увеселительно-развлекательных»
локусах Петербурга в XIX в. ср.: Конечный А. Петербургские общедоступные
увеселительные сады в XIX в. II Europa Orientalis XV: 1, 1996, 37-50. Следует отметить, что
сады как такой локус стали особенно популярны с 60-х годов XIX в. (Летний сад, в
котором на Духов день и раньше устраивались «смотрины невест купеческого
сословия», или гуляния на Троицын день, 1-го мая, в Екатерингофе,
засвидетельствованные многими источниками, в частности, и известной гравюрой Гампельна, - явления
существенно иного порядка, чем позднейшие увеселительные мероприятия в садах
60-х и последующих годов; впрочем, здесь нет возможности говорить об этом).
Характер этих «увеселительно-развлекательных» действ в садах этого времени
определенно противопоставлялся как городским праздникам со зрелищами на Царицыном
Лугу (Марсовом поле), Адмиралтейской, Исаакиевской, Театральной, Петровской
площадях, так и променадам с целью «людей посмотреть и себя показать и себя
показать» по Невскому или Большой Морской, значение которых в этом плане было
вполне осмысленно в период с середины 30-х годов по 40-е годы XIX в.
включительно. - О последнем локусе (Невский - Большая Морская) в 40-е годы и именно в
«увеселительно-развлекательном» аспекте немало писал Григорович.
19 Сходным образом описывались еще раньше и итальянцы на толкучем рынке,
который был на месте биржевого сквера (за Биржей), южнее Старого Гостиного двора на
Васильевском острове. Подчеркивалась зябкость итальянцев, которых не спасала от
петербургского климата их легкая одежда и которые сами были довольно беспечны
к превратностям погоды. Вместе с тем типичный портрет итальянца в этом
старопетербургском локусе предполагал и шарманку, обезьянку или какого-нибудь другого
заморского зверька, иногда картину, которые и были чуть ли не единственным
ресурсом как-то продержаться в неприветливом городе хотя бы первое время. Как
правило, эти итальянцы только что сошли с корабля, доставившего их в Россию с целью
как-нибудь разжиться или даже разбогатеть. Увы, они не знали того, о чем сказал
поэт - Прости наш здравый смысл: прости, мы та из наций, I Где брату вашему всех
меньше спекуляций (Баратынский - «Дядьке-итальянцу»).
20 Выделенные в этом фрагменте разрядкой слова и та экспозиция, которая
формируется ими и на них держится, обладают высокой степенью конгруэнтности с тремя
гоголевскими «мелкими отрыками» - {Фонарь умирал, Страшная рука. Повесть из
книги под названием: Лунный свет в разбитом окошке чердака на Васильевском
острове в 16 линии и Дождь был продолжительный), которые, во-первых, при жизни
автора оставались в рукописи и, во-вторых, составляют фрагменты некоего
задуманного Гоголем более обширного и единого текста. Эти отрывки были впервые
опубликованы в 1856 г. в первом томе известного труда П.А. Кулиша Записка о жизни
199
H.В. Гоголя, (т. 1, 167-168, 171-175). Петербургские шарманщики вышли в свет на 11
лет раньше, а рукописных вариантов «мелких отрывков» Гоголя Григорович, по всей
очевидности, не знал и практически не мог знать. Тем более поражает густота
совпадений заключительной главы Петербургских шарманщиков и этих гоголевских
отрывков, описывающих одну и ту же ситуацию (Петербург, отдаленные от центра
улицы, ночь или поздний вечер, мрак, умирающий фонарь, пустота улиц, непроницаемые
дома, осень, дождь, ветер и т.п.) и при этом весьма сходным образмо
«разыгрываемую». То обстоятельство, что Гоголь в данном случае имел в качестве образца
Гофмана и хотел, видимо, создать своего рода петербургскую «гофманиану», при том, что
Григоровичу была чужда такая установка и он исходил из других задач, пожалуй,
свидетельствует о независимых попытках сложения одного из фрагментов будущего
«петербургского текста» русской литературы, о единстве тенденции, которая как бы
подхватывает самый разный материал и направляет его в более или менее единое
русло, способствуя тем самым формированию определенных текстов-стилистических
канонов «Петербургского текста».
Несколько примеров, иллюстрирующих конгруэнтность сопоставляемых
текстов (первая часть сопоставления - текст Петербургских шарманщиков, вторая - из
отрывков Гоголя, соответственно обозначаемых - ФУ, СР, Д):
Случалось ли вам идти когда-нибудь осенью поздним вечером по отдаленным
петербургским улицам? - Было далеко за полночь (СР); ... на одной из дальних линий
Василь(евского) Острова (ФУ); - Высокие стены домов, изредка освещенные
тусклым блеском фонарей, кажутся еще чернее неба - Один фонарь только озарял кар-
пизно улицу и бросал какой-то страшный блеск на каменные домы и оставлял во
мраке деревянные ... превращались совершенно в черные (СР) - Фонарь умирал ... Одни
только каменные домы кое-где вызначивались. Деревянные чернели...; и только
одни передние домы мелькали будто сквозь тонкий газ. Тускло мелькала вывеска ... еще
тусклее ... балкон (Д); - Местами здания и серые тучи сливаются в одну массу и
огоньки в окнах блестят - Деревянные чернели и сливались с густою массою мрака ...
Тонкая щель в ставне, светившаяся огненной чертою, невольно привлекала и занимала
заглянуть... (ФУ); - Дождь с однообразным шумом падает на кровли и мостовую. -
Дождь был продолжительный ... наконец крыша готова была потеряться в дождевом
(тумане) (Д); Как страшно, когда каменный тротуар прерывается деревянным ... (Ф)
и т.п. Особо следует обратить внимание на те очень ограниченные текстовые
объемы (для Петербургских шарманщиков речь идет о двух фразах в 5-6 строк в их
сумме), в пределах которых сосредоточены эти соответствия.
21 Родные горы, олива, виноград, черноокая подруга и старуха-мать, к этому ряду
подключающаяся, отсылают, конечно, к Италии, к «итальянскому», к шарманщику
итальянцу, вспоминающему все это на чужбине, где для него не находится ни
ласкового слова, ни приветливой улыбки, в которых он так нуждается, где ему тяжело и
холодно. И тем не менее хочется надеяться на то, что взаимопонимание между
шарманщиком и публикой все-таки было и что реакция тех, кто не проходил мимо
шарманщика и не закрывал плотнее свое окошко, была положительно приемлющей, и
чуткий артист не мог не почувствовать ее, даже если она не всегда адекватно
выражалась в слове. Слишком разные обычаи, разный этикет, разный темперамент, разные
стилистико-риторические установки.
22 Из описания этого заключительного эпизода с большой вероятностью следует, что
«Лучинушку» играл именно шарманщик-итальянец. Что «Лучинушка» входила в их
репертуар, известно и из других источников. Ее популярность в эти годы среди
простых людей, петербургских обывателей, хорошо известна. В трактирах же наиболее
популярна была «Лючия», собственно, предсмертная ария Эдгара из оперы
Доницетти «Лючия ди Ламермур». «Привел он меня в маленький трактир на канаве, внизу.
Публики было мало. Играл расстроенный сиплый органчик (...) мы уселись в углу. -
Ты, может быть, не знаешь? я люблю иногда от скуки... от ужасной душевной скуки...
заходить в разные вот эти клоаки. Эта обстановка, эта заикающаяся ария из "Л ю -
ч и и", эти половые в русских до неприличия костюмах, этот табачище, эти крики из
200
биллиардной - все это до того пошло и прозаично, что граничит почти с
фантастическим», - рассказывает Версилов Аркадию. И несколько позже Версилов - ему же:
«Видно, что так, мой друг, а впрочем... а впрочем, тебе, кажется, пора туда, куда ты
идешь. У меня, видишь ли, все голова болит. Прикажу "Л ю ч и ю". Я л ю б л ю
торжественность скуки, а впрочем, я уже говорил тебе это...». Аркадий, зная о
смятенном состоянии Версилова и опасаясь с его стороны непоправимых поступков,
думает о нем: «наверно теперь в трактире сидит и слушает "Лючию"! А может, после
"Лючии" пойдет и убьет Бьоринга». И совсем другой человек, Свидригайлов, тоже
ищет забвения в звуках шарманки или органа, сидя в трактире. Кстати, и Анна
Григорьевна Достоевская в своих Воспоминаниях свидетельствует о любви мужа к
механическим инструментам, о приобретении им ручного органчика, под звуки которого
он танцевал с женой и детьми кадриль, вальс и мазурку. См.: Гозенпуд A.A.
Достоевский и музыка. (Л., 1971. С. 139-140). Может быть, здесь уместно высказать
предположение об известной соотнесенности двух этих «пиес», хотя бы по звуковому их
сходству, не говоря уж о том, что русск. лучина и итал. Lucia (лат. Lucia, lux 'свет',
'освещение', 'светоч'; 'сияние'; 'жизнь' и т.п.) связаны и этимологически. Разумеется, их
соотнесенность этим не исчерпывается: обе эти музыкальные «пиесы» в свое время,
хотя и в несколько различной среде, были не только криком моды, державшейся
долго, но и ключевыми музыкальными произведениями, главными номерами
программы, «музыкой» par excellence. При динамичности шарманщиков-итальянцев и их
чуткости к новым веяниям в моде и желании потрафить публике и сделать приятное
себе, напомнив русской «Лучинушкой» об итальянской «Lucia», они не только могли
чередовать их исполнение, но и как бы «конвертировать» одно в другое, нащупывая
еще одно основание для сближения этих двух музыкальных номеров.
23 Эти рассуждения сильно напоминают то место из Мертвых душ, где Гоголь говорит
об «ономатотетическом» даре русского человека, о «бойком» русском слове.
24 Разумеется, этимологическое предложение Григоровича не может быть признано
корректным, и слово шарманка как ширманка произносилось в Москве, но никак не
в Петербурге. Если же все-таки и в Петербурге оно произносилось так (в чем нет
никакой уверенности), то перед нами не факт петербургской фонетики и орфоэпии, но
явление «народной» или «индивидуальной» этимологии с попыткой найти
семантическую мотивировку слова (к ширма ср. нем. Schirm, итал. schermo 'защита', 'экран', в
частности и 'ширма', 'кулисы', польск. szyrm, szerm; что же касается итальянского
названия шарманки, то оно - organetto a manovella, organino, при s(u)onatore di organino
(d'organetto), ср. русск. органщик: шарманщик). - Само слово шарманка в словарях
отмечается с большим запозданием; только в 1861 г. оно впервые отмечено в Полном
словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка, составленном по
образцу немецкого словаря Гейзе (СПб. 1861. С. 554). Между тем, это слово было уже
достаточно широко распространено в 40-е годы - и в устной речи, и в литературе, в
частности, и в художественной. Здесь можно ограничиться хотя бы «шарманочным»
фрагментом из Мертвых душ (сцена в доме Ноздрева): «(...) Послушай, если уж не
хочешь собак, так купи шарманку, чудная шарманка; самому, как честный
человек, обошлась в полторы тысячи; тебе отдаю за 900 рублей». - «Да зачем же мне
шарманка? Ведь я не немец, чтобы, тащася с ней по дорогам, выпрашивать деньги». -
«Да ведь это не такая шарманка, как носят немцы. Это орган; посмотри нарочно: вся
из красного дерева. Вот я тебе покажу ее еще!» Здесь Ноздрев, схвативши за руку
Чичикова, стал тащить его в другую комнату, и как тот ни упирался ногами в пол и ни
уверял, что он знает уже, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким
образом поехал в поход Мальбруг. Когда ты не хочешь на деньги, так вот что,
слушай: я тебе дам шарманку и все, сколько ни есть у меня, мертвые души, а ты дай свою
бричку и триста рублей придачи». Впрочем, в литературе слово шарманка
появляется и раньше. Так, в «Волшебном фонаре» (1817 г., 36) в сценке «Шарлатан и
школьник» неоднократно встречается это слово, ср.: «русские никогда к нам с шарманками
не ездят», «от шарманок понаживетесь» и т.п. Еще интереснее свидетельство из
начала 70-х годов XVIII в. В Журнале путешествия H.A. Демидова по иностранным
201
государствам (1771-1773 гг.). (M., 1786. С. 33) зафиксировано выражение играющие
шарманкатеринами. Последнее слово отсылает к двум типовым
обозначениям шарманки - шарманка и катеринка, ср. также укр. шарманка, чаще катерин-
ка> блр. катрынка, польск. katarynka и даже рум. caterincä. См. Фасмер IV, 410;
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М.,
1994. Т. И. С. 403. Справедливости ради надо отметить, что правильное объяснение
слова шарманка было дано еще Далем в 1866 г., т. IV, 569: «от нем. песни:
scharmante Katharina». Эту песню в свое время особенно часто играли на шарманке.
Само нем. scharmant(e) - из франц. charmant{é).
25 Ср. пушкинское Начнем ab ovo: Мой Езерский / Происходил от... («Родословная
моего героя», 1836) и особенно гоголевское «Темно и скромно
происхождение нашего героя» (Мертвые души, 1842), с которым перекликается начальная
фраза главы об итальянских шарманщиках у Григоровича
-«Происхождение их чрезвычайно теми о».
26 Возможно, этот выбор местожительства не был случайным. Подьяческий и
Мещанский локусы, во-первых, были близко от центра или даже в самом неофициальном
центре, где все, что шарманщикам нужно, было под рукой; во-вторых, этот район,
особенно «подьяческий» локус, были достаточно замкнутыми; в-третьих, плата
за жилище была здесь значительно ниже, чем в более официальных частях города;
в-четвертых, здесь, между Большим театром и Сенной площадью, вдоль самой
торговой магистрали города Садовой собирался народ, составлявший основную
аудиторию шарманщиков и щедрый на вознаграждение (с одной стороны, купцы,
торговцы, покупатели "среднего" класса, с другой, население густонаселенных больших
каменных домов с дворовыми колодцами; четырех- и даже пятиэтажные дома начали
появляться именно здесь). И, в самом деле, ведь не на Невском же, Морских или
Итальянской было «ютиться» итальянским шарманщикам! Там и без них было
много развлечений и удовольствий, и там они не были бы поняты, оценены и, может
быть, даже вознаграждены.
27 Некрасовский очерк Петербургские углы был написан в 1843 г. Первоначально он
входил в состав главы «О петербургских углах и почтенных постояльцах, которые в
них помещаются» из раннего романа Жизнь и похождения Тихона Тростникова
(1843-1847), который не был писателем закончен и был опубликован только
посмертно. Ранние наброски описаний петербургских углов и притонов
содержались в Повести о бедном Климе, работа над которой датируется, видимо, началом
40-х годов.
28 Наряду с гоголевскими описаниями этого рода нужно особо отметить замечательный
при всей его краткости «портрет» такого дома («огромного») где-то неподалеку от
Обуховского моста, представленный в Княгине Лиговской, которая была начата в
1836 г. и опубликована только в 1882 г. Для этого фрагмента из начала главы VII - и
это надо подчеркнуть - характерно сочетание «физиологического» с апокалиптиче-
ски-символическим, а сам он образует одну из напряженных точек в ранней истории
«Петербургского текста».
29 Можно напомнить, что даже такой серьезный ученый, как В.Н. Перетц, искал
объяснения загадке имени Петрушки в кукольной комедии, в существенно более поздних
фактах (см. Перетц В.Н. Кукольный театр на Руси // Ежегодник Императорских
театров, сезон 1894-1895 гг., приложение № 10). По его мнению, исконным именем
кукольного героя было Иван (стоит заметить, что при отсутствии надежного
доказательства этого предположения, в более общем смысле оно весьма правдоподобно,
поскольку в русской фольклорно-мифологической традиции Иван, Иванушка, даже
Иван-дурак - образ «мирового» человека, «всечеловека», чье имя собственное
неотделимо от соответствующего апеллятива и чья роль в «основном» мифе на уровне
поздних трансформаций - главная), но в XVIII в. это имя было заменено на
Петрушку, по имени знаменитого шута при дворе Анны Иоанновны Π и е τ ρ о Миро.
Великие имена и события имеют много объяснений, мотивировок, причин. Каждая
эпоха, пока имя и образ героя живы в памяти, располагает правом по-своему объяснять
202
неясное, тем самым связывая непонятное «великое» с тем, что понятно в масштабе
этого времени, сего дня.
30 О Петрушке и «петрушечном» театре см.: Словарь современного русского
литературного языка, М.; Л. 1959, Т. 9. С. 1113-1114; Богатырев П.Г. Петрушка // Краткая
литературная энциклопедия. М., 1968. Т. 5. С. 734; Он же. Вопросы теории народного
искусства. М., 1971; Перетц В.Н. Указ. соч.; Алферов А. Петрушка и его предки //
Десять чтений по литературе. М., 1895; Цехновицер О., Еремин И. Театр Петрушки. М.;
Л., 1927; Верков П.Н. Русская народная драма XVII-XX веков. М., 1953. С. 18 и след.;
Смирнова Н. Театр кукол. М., 1953; Белкин A.A. Русские скоморохи. М., 1975. С. 140,
151 и след, и др., а отчасти также работы последних десятилетий, посвященные смехо-
вой культуре на Руси.
31 Среди них можно выделить статью: Заметки о растительном коде основного мифа
(перец, петрушка, и т.п.) // Балканский лингвистический сборник. М., 1977.
С. 196-207.
32 См.: Schullerus A. Verzeichnis der rumänischen Märchenvarianten. Helsinki, 1928. 33, 36 (=
FFC N 78).
33 Ср. болг. пеперуна, пеперуда (при пипер «перец»), рум. päpärudä, päpärugä, арум,
päpärunä, pirpirunä, porpirijä, алб. регрегопё, н.-греч. περπεροννα, περπερίνα, περπερίνα,
περπερία, περπεπίτσα и т.п. Некоторые из этих форм с элементом -п- удивительно
близки таким названиям перца, как итал. ререгопе и т.п. Неясно до конца происхождение
ряда сходных по звуковому составу древних имен из средиземноморского ареала - этр.
perperni ('Рефегтив'), регрета ('Рефегпа'), хетт. Pipiriia, Pimpira, Pimpirit, ср. мало-
азийские топонимы типа Περπερι и т.д. В этом контексте уместно обратить внимание
и на ороним Perpi в качестве обозначения Апеннинских гор, упоминаемый в
Петербургских шарманщиках.
34 Идея «Петра» закреплена и в названиях этого растения в других языках, ср. др.-греч.
πετροσέλινον) лаг. petrosennum), ср.-в.-нем. petersllje) нем. Petersilie, лит. peträiole, лтш.
pêtersllis, польск. petruszka, piotruszka и т.п.
35 Здесь нет нужды напоминать о других персонификациях растений типа итальянского
Чиполлино (cipolla 'лук') или русского Укропа Помидоровича и др.
36 Так, сильно смущавший Григоровича как некая несуразность образ чорта,
«чрезвычайно похожий на козла» (как и сходные обряды вождения козы и соответствующие
тексты, ср., в частности: Богатырев П.Г. Указ. соч. С. 34 и след, (в некоторых из
таких обрядов фигурирует Смерть, именуемая Люцией (в Словакии), ср. выше о Lucia и
под.), непосредственно отсылает и к центральной идее «основного» мифа -
возрождающемуся плодородию и соответствующему жанру -«козлиной песн и», т.е.
трагедии. В «петрушечном» театре в центре трагедии - «веселый» Петрушка, ср. его
связь с красным, цветом опаленности, и в этом отношении он должен быть соотнесен
с другими опаленными, испепелеными («зольными») Петрами, ср. рум. Petru Pepélea,
Petru Cenu§otca и др., а также и с соответствующими женскими персонажами (рум.
Сепщегеа, в доме у Св. Пятницы, Pipelcuja, болг. Мара-Пепеляшка, алб. Maro-Përhitu-
га, н.-греч. Σταχτοπούτα и др., ср. эпитет змеи пепелянка и т.п.), которые все в
известном отношении своего рода золушки.
37 Двумя годами позже Петербургских шарманщиков в 10-м номере «Отечественных
записок» появился рассказ Достоевского Господин Прохарчин (1846). Начало работы
над рассказом датируется апрелем 1846 г. (до 26 апреля), а выход в свет 2 октября
того же года, см.: Летопись жизни и творчества Достоевского в трех томах.
1821-1881. Том первый. 1821-1864. СПб., 1993. С. 115, 121. Весною 1846 г. Григорович
уезжает в деревню, но уже до этого он поселился отдельно от Достоевского: «Не
помню, о чем-то раз зашел у меня с Достоевским горячий спор. Результат был тот,
что решено было жить порознь. Мы разъехались, но, однако ж, мирно, без ссоры.
Бывая оба часто у Бекетовых, мы встречались дружелюбно как старые товарищи»
(Лит. вот., 86). Впрочем, и сам Достоевский в конце января переехал на новую
квартиру, на угол Кузнечного переулка в дом купца Кучина. Таким образом, Господин
Прохарчин задумывался и писался, когда Достоевский и Григорович жили уже
203
порознь. Однако в одном месте своего рассказа Достоевский явно имеет в виду
образы Петербургских шарманщиков. Семен Иванович в состоянии, близком к агонии,
вбегает в комнату хозяйки «так, как был, без приличия, босой и в рубашке, его
перехватили, скрутили и победно снесли обратно за ш и ρ м ы (ср. ширма:
шарма н щ и к. - В.Т.) (...) и уложили в постель. Подобно тому укладывает в свой
походный ящик оборванный и небритый и суровый артист-шарманщик своего пульчинеля,
набуянившего, переколотившего всех, продавшего душу черту и наконец
оканчивающего существование свое до нового представления в одном сундуке вместе с тем же
чертом, с арапами, с Петрушкой, с мамзель Катериной и счастливым любовником ее,
капитан-исправником». - Стоит заметить, что в своих Литературных воспоминаниях
Григорович пишет о том, как он был у Некрасова на чтении Господина Прохарчина
или Господина Голядкина - с добавлением: «не помню хорошо названия» (84). Речь
идет о чтении Двойника на вечере у Белинского (а не Некрасова) в начале декабря
1845 г. (около 3-го числа), см. Летопись..., т. 1, 104.
38 Интересно, что представители тех же трех «национальных» групп возникают и в
Неточке Незвановой, которую Достоевский начал задумывать как роман еще с конца
1846 г.: капельмейстер-и тальянец, который сам не был хорошим скрипачом, но
был прекрасным учителем, чьи уроки позволили Ефимову стать скрипачом,
беспутный, но с признаками почти гениальности, но не состоявшийся как скрипач
русский Ефимов, и трудолюбивый, преданный своему искусству и достигший в нем
больших высот немец Б. (ср. также танцовщика Карла Федоровича Мейера и,
вероятно, знаменитого музыканта С-ца). В той же Неточке Незвановой есть эпизод с
приездом в губернию известного французского скрипача и неожиданностях, в связи с
этим возникших. Сходный эпизод присутствует и в Капельмейстере Сусликове
Григоровича (1848). Неточка Незванова была опубликована в 1849 г.
39 Строка из комедии-водевиля Катенька, или Семеро сватаются, одному достанется
(1836).
40 Во времена Григоровича, как, впрочем, и позже, неудачный поход Мальбрука
связывался с Наполеоном и бегством французов из России.
41 Говоря о немецких шарманщиках, уместно напомнить текст В.Ф. Одоевского
Шарманщик из Детских сказок дедушки Иринея (издание было подготовлено еще в
1840 г. и в том же году в «Отечественных записках» (т. IX, № 3) была опубликована
большая статья Белинского об этом сборнике, хотя сам сборник вышел только в
1841 г., так что отзыв на книгу опередил выход самой книги). Обращение здесь к
этому сочинению о шарманщиках-немцах важно в двух отношениях. Прежде всего текст
Шарманщика был написан и опубликован раньше, чем Петербургские
шарманщики Григоровича. Кроме того, сам тон, в котором В.Ф. Одоевский пишет о своих
шарманщиках, существенно отличается мягкостью, благожелательностью, чувством
соучастия от суховато-холодноватого и несколько отчуждающего по своему характеру
тона этого раздела в «физиологическом» очерке Григоровича. Наконец, стоит все-
таки напомнить о разнице между «сказкой» для детей и очерком особого жанра.
В Шарманщике Одоевский рассказывает «счастливым, милым» и благополучным
детям, обласканным родителями, задаренным игрушками и книжками, об одном из
таких детей, который лишен всего этого.
Ваня, сын бедного органного музыканта (одного из тех, которых вы часто
встречаете на улице с органами или которые входят во двор, останавливаются на морозе и
забавляют вас своею музыкою), Ваня шел рано поутру с Васильевского острова в
Петропавловскую школу. Не безделица была ему, бедному, поспевать каждый день к
назначенному времени. Отец его жил далеко, очень далеко, в Чекушах.
И хотя из дому Ваня вышел очень рано, на улице морозило, а Ваня был в одной
курточке и перепрыгивал с камешка на камешек, чтобы не замерзнуть, он был весел
и приближался к цели своего путешествия - немецкой школе Петра и Павла в
глубине Невского. Все это продолжалось до тех пор, пока он на гранитном тротуаре
набережной Мойки не споткнулся о какой-то сверток. Это был завернутый в лохмотья
маленький ребенок, посиневший с уже окостеневшими ручками. Ваня поднял ребенка,
204
пытаясь его согреть, но все было безуспешно, и он не знал, что ему делать, пока не
увидел некоего господина и не объяснил ему, в чем дело и свои трудности (он
собирался нести ребенка домой, где остался его отец, но понимал, что ему не успеть
добраться до дому).
- Да кто ты? - спросил господин.
- Я сын органного музыканта.
- Так твой отец должен быть очень беден?
- Да, - отвечал Ваня, мы очень бедны. Батюшка ходит по городу с
органом, матушка учит собачек плясать; тем мы и кормимся.
Ване повезло. Господин служил в находящемся тут же Воспитательном доме
(сюда, к ограде этого дома на Мойке, обычно подбрасывали детей несчастные матери в
надежде, что ребенка заметят и спасут ему жизнь); ребенок был принят, обмыт и
обвит чистыми пеленками. Незнакомец велел принести крест с номером и написал на
особом листке: «№ 2332 младенца, принесенного 7 ноября 18... года сыном органного
музыканта, Карла Лихтенштейна, Иваном, в С.-Петербургский Воспитательный
дом». Ваня долго потом навещал своего найденыша, которого нарекли Алексеем. Тот
привязался к Ване и протягивал к нему ручки, когда тот входил.
Но с тех пор прошло много лет, и жизнь Вани и его семейства была очень
нелегка. «(...) Отец Вани в молодости был музыкальным учителем, он давал уроки на
фортепиано и на скрипке и тем добывал для себя и для семейства безнуждное
содержание». Но продолжительная болезнь отца лишила его учеников, а когда он
выздоровел, новых найти не смог. «Мало-помалу Лихтенштейн впадал в нищету, мало-помалу
все его небольшое имущество распродано было для того, чтобы достать денег на
хлеб, и, наконец, он принужден был приняться за ремесло
уличного музыканта». Но это не принесло ему удачи, и вместе с женой и
сыном Лихтенштейн стал разъезжать по провинции в надежде на поправление дел.
«Они ездили по ярмаркам; отец с сыном показывали марионетки, мать вертела орган.
Иногда же на долю Вани доставалось вертеть орган; тогда мать играла на арфе, а
отец на скрипке. Переход от безнуждного состояния к крайней нищете вконец
расстроил здоровье стариков». Отец занемог, и его, больного, на телеге перевозили из
города в город. «Как часто Ваня, оставляя отца своего без куска хлеба, сам голодный,
дрожа от стужи, промоченный до костей, сквозь слезы заставлял кукол своих
хохотать или, показывая китайские тени, рассказывал забавные истории и тешил ими
своих маленьких зрителей. (...) Смерть была на душе у Вани, а он принужден был
выдумывать остроумные ответы, смешные анекдоты (...) Любезные дети! Вы не знаете,
что такое смеяться сквозь слезы, и вы, может быть, не поймете, как у Вани было
тяжело на сердце».
Семья решила вернуться в Петербург. Отец умер по дороге и был похоронен. До
Петербурга дотащились с трудом. В свои 28 лет Ваня был слаб здоровьем и выглядел
стариком: «беспрестанная нужда и горесть изнурили его». Часто он не мог выйти на
работу и оставить свою мать, лежавшую больной. Однажды товарищи Вани, такие
же, как и он шарманщики, с которыми он жил в одной квартире, объявили, что не
дадут ему ни крохи хлеба и сгонят его с квартиры, если он не заработает денег.
Скрепя сердце, полубольной, Ваня с трудом взвалил на плечи тяжелый орган и
вышел из дому на шумные петербургские улицы. Кто бы из проходящих подумал,
слушая веселую песню, которую он наигрывал на органе, что в этом человеке жизнь
боролась со смертью и что самые черные мысли проходили в его голове и сердце.
В этот день Ваня был особенно несчастлив: тщетно проходил он мимо домов,
показывая сидевшим у окна детям свои прыгающие куколки; тщетно входил во дворы и до
изнеможения вертел рукоятку своего осиплого инструмента, - никуда его не позвали,
ни гроша денег ему не было брошено!
Был уже поздний вечер; отчаянье завладело его сердцем; оставалось одно -
заложить орган, «единственное средство к пропитанию, потом проесть вырученные за то
деньги, потом умереть с голоду». Вдобавок случилось несчастье. На улице сани сбили
женщину. Она упала без памяти. Сани промчались мимо, а Ваня бросился к женщине
205
и склонился над нею. Полицейские взяли вместе с жертвой и Ваню как свидетеля и
могли продержать его несколько дней. Для матери Вани это означало бы конец - тем
более, что полицейские стали склоняться к мнению, что виноватым в этой уличной
истории был сам Ваня.
И тут произошло чудо. Хорошо одетый человек, наблюдавший всю эту сцену,
приблизился к полицейским и подтвердил со всей авторитетностью невинность Вани.
Его отпустили домой, но он, доведенный до крайности, попросил у своего спасителя
денег. Тот пристыдил его и спросил, где он живет. «В Чекушах, в доме мещанки Р***
(...) Спросите органщика Лихтенштейна. - Лихтенштейна? - вскричал незнакомец,
положил руку на голову и задумался». Потом он дал Ване пять рублей и обещал придти
к нему на следующий день. На следующий день все и решилось: «Знаешь ли ты (...)
№ 2332 Воспитательного Дома?, - спросил незнакомец. Дрожа сам не зная отчего,
Ваня в истертой книжечке отыскал записку, более двадцати лет назад полученную им из
Воспитательного Дома, и показал незнакомцу. Едва взглянув на нее, тот бросился в
объятия Вани; - Спаситель мой! ... Отец. - Как! ...неужели? (...) Вы... ты!... Алеша! -
И оба они плакали, и оба долго не могли выговорить ни слова». Оказалось, что
спасенный Ваней Алеша проявил необыкновенные дарования в живописи, нажил
достаточное состояние, искал, но тщетно, Лихтенштейнов, которых тогда в Петербурге не
было; Ваня с матерью переселились к Алеше и, «вспомнив некоторые уроки музыки,
переданные ему отцом, посвятил себя сему искусству и достиг до того, что теперь сам
может давать в ней уроки и тем увеличивать общие доходы».
42 Возможно, это был дом Зверкова, на углу Столярного переулка и набережной
Екатерининского канала (нынешняя нумерация 69/18 по каналу), который с 20-х годов
XIX в. со своими пятью (со двора шестью) этажами был, по свидетельству
современника, «самым высоким в Петербурге» и уж во всяком случае в районе Сенной. Локус,
в котором находился этот дом (Столярный пер., Екатерининский канал, Кокушкин
мост, Сенная), и сам дом - отмеченное место в русской литературе. В конце 1829 г. в
нем поселился Гоголь, проживший там около полутора лет. Поприщин Октября 3
записывает: «Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Перешли в
Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную, наконец к Кокушкину мосту
и остановились перед большим домом. Этот дом я знаю, сказал я сам себе. Это дом
Зверкова. Эка машина! Какого в нем народа не живет: сколько кухарок,
сколько поляков! а нашей братьи, чиновников, как собак, один на другом сидит. Там есть и
у меня один приятель, который хорошо играет на трубе. Дамы взошли в пятый этаж»
(Записки сумасшедшего). (В пятом этаже этого дома жил и сам Гоголь, о чем
сообщает в письме к матери от 29 сентября 1830 г.: «В письме вашем между прочим
беспокоитесь, что квартира моя на пятом этаже. Это здесь не значит ничего, и, верьте, во мне
не производит ни малейшей усталости» и далее - очень в духе Гоголя-юноши: «Сам
государь занимает комнаты не ниже моих; напротив, вверху гораздо чище и здоровее
воздух»; в этом же доме некоторое время жил и приятель Гоголя Александр
Данилевский, с которым они вдвоем впервые отправились в Петербург). Есть некоторые
основания думать, что в доме Зверкова могла жить и Неточка Незванова с матерью и
отчимом (или во всяком случае в этом локусе неподалеку от Сенной и в
непосредственной близости от Екатерининского канала - «Мы прошли нашу улицу
(Столярную? - В.Т.) и вышли на набережную канала»). Если это так, то становится понятным
и место, где находился «богатый дом с красными занавесками», который так поразил
воображение девочки (около этого дома, стоявшего напротив дома, где жила
Неточка, через улицу (из окон ее квартиры он был хорошо виден), она однажды случайно
встретила отчима; «у крыльца съехалось множество карет, и звуки музыки долетали
из окон на улицу»).
43 Интерес детей к такого рода представлениям был особым, о чем сообщают многие
источники. Более того, он был, кажется, наибольшим именно в этом случае, которому
отдавалось предпочтение перед всеми другими развлечениями. Елизавета Петровна
Янькова (урожденная Римская-Корсакова), вспоминая свое московское детство
(начало 80-х годов XVIII в.), рассказывала своему внуку Д. Благово: «В наше время
206
тоже бывали и для детей забавы: качели и балаганы; насажают нас в кареты и
пошлют смотреть, как паяцы кривляются. Приехали какие-то итальянцы с
кукольным театром, и это нас больше забавляло, чем трагедии и
комедии». См. Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и
собранные ее внуком. Д. Благово. Л., 1989. С. 54. Там же - об особом доме у Красного
пруда, где во время Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны итальянцы давали свои
представления, чтобы потешать Елизавету Петровну, подолгу тогда живавшую в
Москве. «Прошу покорно, в такую даль тащиться!» - вспоминает та же рассказчица, но
дело было, видимо, совсем не в расстоянии: когда в том же театре руководителем был
Сумароков и на этой сцене разыгрывали его трагедии, о расстоянии забывалось,
потому что: «Эти пьесы интересны, а итальянские оперы, по моему, ничего не
стоили. Когда итальянцы снимали театр у Апраксиных, для меня тоска, бывало, как
придется ехать в оперу: я пущу своих барышень на перед ложи, а сама уйду в темный
угол, сижу себе и дремлю; прескучные были эти итальянцы» (Там же. С. 154). Так что
итальянцы итальянцам рознь, и лучшая их часть - итальянцы кукольного театра.
44 Не слишком внимательный читатель может и не заметить этих женщин в ярких
сарафанах в осенний вечер, около семи, когда уже начинает темнеть.
45 См.: Толбин В.В. Моншеры / Финский Вестник. Т. XX, № 8. 1847. Отд. III. С. 1-16.
46 На четверть века раньше этот же адрес и тоже в «комическом» контексте появляется
в стихотворении Дельвига и Баратынского 1819 г. - Там, где Семеновский полк, в
пятой роте, в домике низком, I Жил поэт Баратынский с Дельвигом, тоже поэтом...
(комический эффект здесь достигается контрастом между торжественным
гекзаметрическим ритмом и темой «низкого» быта). Козьим болотом в Петербурге еще в
середине XIX в. называли местность в западной части Адмиралтейского острова,
прилегающую с востока к Пряжке.
ИЗ РАЗДЕЛА V:
ПЕТЕРБУРГ И «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ ДОСТОЕВСКОГО»
(1840-1870)
«ГОСПОДИН ПРОХАРЧИН»
К АНАЛИЗУ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОВЕСТИ ДОСТОЕВСКОГО
... но я люблю и до сих пор
перечитывать эти чадные, молодые, но уже
такие насыщенные мукой страницы,
где ужас жизни исходит из ее
реальных воздействий и вопиет о своих
жертвах...
И.Ф. Анненский. «Господин Прохарчин»
Книга отражений. СПб., 1906, с. 57.
Рассказу Достоевского «Господин Прохарчин» очень долго не везло.
Собственно, и сейчас, после нескольких серьезных исследований, «Господин
Прохарчин» продолжает относиться к числу наименее изученных
произведений писателя: многое в этом рассказе до сих пор остается неясным, и,
судя по всему, он не пользуется признанием у читателя. Уже первые отклики
на рассказ были недоброжелательными1. Белинский, чья деятельность
привела к таким тяжелым, роковым последствиям для дальнейшего развития
русского самосознания и общественности, своим авторитетом скрепил
приговор над «Господином Прохарчиным»2. Для критика этот рассказ был
очередной ступенью в падении Достоевского (блистательные «Бедные люди»,
неудачный «Двойник», обладающий, однако, определенными достоинствами,
и, наконец, как завершение - «Господин Прохарчив»), после чего, видимо,
Достоевского как писателя, не оправдавшего надежд вдохновителя русской
«натуральной школы»3, можно бы было списать со счета той идеальной, по
мнению Белинского, литературы, которую он взращивал. Более того,
«Господин Прохарчин» задним числом прояснил Белинскому кое-что и в
предшествующих произведениях Достоевского4 и, следовательно, помог ему
скорректировать в сторону снижения свой прежний взгляд даже на «Бедные
люди»5. Но если в этом случае, как и во всех остальных, когда речь шла о
высших художественных ценностях, апеллирующих к подлинному бытию и
свободе, Белинский оказался слеп и глух, то в одном он оказался
совершенно прав: он первым проницательно почувствовал, что между Достоевским и
«натуральной школой», действительно, образовался ничем не
перекрываемый разрыв - тем более странный и неожиданный, что по всем внешним,
формальным особенностям (набор действующих лиц, «фламандский»
реквизит, сюжет, даже язык, правда, в утрированном виде) «Господин
Прохарчин» вполне, казалось бы, мог принадлежать к тому невзыскательному
208
классу текстов, который обозначался как «физиологический очерк» (в его
особой, петербургской разновидности). Несомненно, что приговор
Белинского способствовал тому, что слишком послушная и доверчивая
читательская аудитория с самого начала не придала рассказу особого значения, а
вскоре и вовсе забыла его. Но и литературоведы и критики не жаловали
«Господина Прохарчина». О нем писали очень мало, почти всегда одно и то
же; что рассказ - неудача, подразумевалось само собой, и об этом избегали
говорить в подробностях, его просто игнорировали. Дальнейшая
трансформация манеры Достоевского воспринималась, видимо, как признание
неудачи самим писателем. Некоторые особенности «Господина Прохарчина» (при
этом самые броские) - известная несбалансированность точек зрения (в
частности, создаваемая нестандартным типом рассказчика), эмоциональных
ореолов, стилистических регистров, гипертрофия косноязычной стихии,
подчеркнутость растянутости, бесконечной повторяемости6, перманентной
«тупиковости» и т.п. - укореняли читателя и исследователя в правильности
именно такой оценки рассказа. Перечисленные особенности текста
действительно существуют, но ссылка на них как на причину неудачи рассказа
затрагивает лишь наиболее поверхностные слои и поэтому никак не может
быть признана за оправдание. И читатели и критики, во-первых, не
предполагали, что писатель может вводить в текст такие конструкции,
которые оказываются не понятыми ими (при том, что это непонимание
нельзя объяснить авторской неудачей). В частности, ни читатели, ни критики не
были подготовлены к тому, что данный элемент текста может выступать не
только в первичной (основной) функции, но и во вторичных, поступая тем
самым в распоряжение более высоких уровней структуры текста7. Отсюда -
протесты против того, что воспринималось как излишняя «этнографич-
ность» языка Прохарчина и не более. Дальнейшее развитие русской
художественной прозы не только реабилитировало Достоевского именно в этом
отношении, но - хотя и с запозданием - вернуло ему право первенства. Во-
вторых, современники Достоевского, как и последующие поколения его
читателей, странным образом замкнули свое внимание исключительно на
внешних особенностях «Господина Прохарчина»: именно эти внешние
черты были замечены, усвоены, осмеяны. Дальше этого читатель не пошел, и
даже критики не сумели пробиться к смыслу рассказа: для них «Господин
Прохарчин» остался невзыскательным анекдотом, из которого ничего
другого не извлечь. Совершенно поразительно, что никто из ранних критиков
рассказа ничего не пишет о его с м ы с л е, и д е е, о содержательных
замыслах автора. В лучшем случае пересказывается сюжет, и критик, по сути
дела, присоединяется к мнению сожителей Прохарчина о причинах его
неудачи8. Такая позиция кажется особенно несостоятельной, если принять во
внимание экспериментальный аспект9 ранних произведений Достоевского,
когда автор не застрахован от неудач уже в силу этой экспериментальности, и
высказывания самого автора о своих произведениях. И то, и другое
удостоверяет, что у Достоевского (особенно в 40-е годы и дальше, до начала 60-х
годов) нередко встречались существенные диспропорции между замыслом и
его реальным воплощением10. Именно на этом несоответствии основано то
особое отношение читателя к ранним текстам Достоевского, которое
позволяет вычленять «слабости» и несоответствия и, опираясь на них, определять
209
направление экспликации11 или более или менее надежной реконструкции
замысла, основных мыслей. Иными словами, речь идет о некоем чувстве,
приносящем удовлетворение от сознания вовлеченности читателя в задачу
восстановления незавершенного замысла писателя на основании его
неполного, неадекватного, лишь приблизительного отражения в реально
существующем тексте. Сопоставление первого издания с последующими,
ознакомление с вариантами, черновиками, авторскими свидетельствами в
письмах или публицистике, наконец, данные о решении сопоставимых с
данным замыслов в других произведениях того же автора незаметно
превращают читателя в исследователя-реконструктора. Такого рода
«превращение» уже само по себе свидетельствует об особой активности текста в
отношении к его потребителю. Текст Достоевского построен
воронкообразно в том отношении, что читатель с презумпцией доверия к тексту
выделяет в нем такие элементы, которые (если только читатель ставит себе
задачу «понять» их, т.е. найти их место в ряду других элементов как в
парадигме, так и на синтагматической оси и, следовательно, обнаружить их
наиболее полную семантическую мотивировку) «втягивают» его в
следующий, с самого начала не очевидный и более глубокий слой организации
элементов структуры текста. Читатель, доверившийся тексту12 и
вознагражденный за это доверие открытием новых элементов текста или новых
связей этих элементов, начинает улавливать некую новую, нестандартную
логику, вовлекается в диктуемую ею систему поиска и дешифровки,
активизируя и усиливая свои исследовательские потенции и тем самым
приближаясь к более полному и адекватному пониманию всего текста, который в
данном случае выступает в функции устройства, обучающего читателя.
Уже в силу именно этих обстоятельств пренебрежение «Господином Прохар-
чиным» (даже если согласиться с тем, что этот рассказ - неудача автора)13
не имеет оправданий. Экспериментальная переобремененность рассказа,
доведенная в нем до крайности «набивная» техника (см. ниже), присутствие
целого ряда идей и образов, которые получат развитие в творчестве
зрелого Достоевского14, - все это заставляет рассматривать «Господина Прохар-
чина» как ту лабораторию, в которой опробовались новые формы, и как
важную веху в эволюции русской художественной прозы. Кроме того,
взвешивая внутренние возможности этого рассказа, никак нельзя забывать
столь ответственного свидетельства, как письмо писателя от 17 сентября
1846 г. к брату:
«"Прохарчин" страшно обезображен в известном месте. Эти
господа известного места запретили даже слово чиновник, и Бог знает
из-за чего - уж и так все было слишком невинное - и вычеркнули его
во всех местах. Все живое исчезло. Остался только скелет того, что
я читал тебе. Отступаюсь от своей повести».
Не исключено, - учитывая замысел «Сбритых бакенбард» и «Повести
об уничтоженных канцеляриях» и только что процитированное письмо к
брату, - что цензорская правка коснулась не только деталей («Все живое
исчезло» в таком случае было бы обычным преувеличением Достоевского,
характерным для многих его высказываний о собственных произведениях)15,
но и чего-то более существенного, связанного, возможно, с главной идеей
210
рассказа, без которой многие детали утратили силу первоначальных
мотивировок, а сам рассказ «анекдотизировался»16.
К сожалению, интерес к «Господину Прохарчину», если не считать редких
исключений в прошлом (ср. работы Анненского, Истомина, Бема и др.),
появился лишь в самые последние годы. Речь идет о соответствующих частях
капитальных исследований В. Терраса и В. Шмида17. В них в значительной мере
преодолевается тот разрыв, который существовал до сих пор между степенью
изученности этого рассказа и общим уровнем достоевсковедения,
достигнутым за последние полвека в наиболее далеко ушедших разделах этой области
литературоведения. Указанные анализы принадлежат к числу наиболее
обстоятельных и уже в силу этого не могут быть обойдены. Кроме того, они
акцентируют внимание на вопросах, относящихся к изучению структуры
текста (ср. проблему типов речи - прямая, непрямая, смешанная, erlebte Rede;
выделение речевых «голосов» - автор, рассказчик, действующие лица - и
их.семантику, интерференцию этих «голосов» и т. д.)18, вводя тем самым и
этот рассказ Достоевского в круг проблематики, намеченной еще в 20-х годах
в работах В.В. Виноградова, М.М. Бахтина, Ю.Н. Тынянова. Вместе с тем в
упомянутых исследованиях последних лет содержится немало новых ценных
наблюдений как относящихся к общему замыслу и ведущим идеям, так и
особенно частного характера, расширяющих наши представления о «Господине
Прохарчине» и делающих желательным (если не необходимым) новый синтез
относящегося к рассказу материала. Но и при учете всего достигнутого в этой
области текст рассказа Достоевского продолжает оставаться чреватым
какими-то иными поворотами, в нем просвечивают некие новые точки разворота
идей, линии композиционного движения, намеки на еще не отмечавшиеся
смыслы при том, что эти намеки не всегда удается полностью
эксплицировать, в частности, установить правила семантической идентификации и
определить место соответствующих смыслов в общей иерархии знаковых
характеристик текста. Поэтому новые обращения к «Господину Прохарчину» - не
роскошь, которую может позволить себе исследователь, а насущная задача. Ее
решение, даже если и не позволит понять текст непременно по-новому,
то, во всяком случае, поможет определить некоторые существенные
принципы структуры рассказа, до сих пор укрывавшиеся от исследовательского
взгляда, и - через них - творческие методы Достоевского первых лет его
писательства, способы воплощения в конкретные художественные формы того
круга идей, которые обступали писателя в середине 40-х годов. И отсюда
открывается путь еще к одной, исключительной важности теме - как жизненная
судьба писателя откладывалась в структуре художественного текста и как
последний в свою очередь выправлял и направлял ее по новым путям. Роль
«Господина Прохарчина» и в душевной драме Достоевского, и в чисто
биографическом плане («четвертое озарение», в терминологии К.К. Истомина) не
вызывает сомнений. Первый набросок возможного подхода к этой теме,
сделанный полвека назад и не получивший, к сожалению, развития, предлагает
весьма правдоподобную схему:
«От "Бедных людей" и "Двойника" идет первый концентрический
круг самоанализа ("Господин Прохарчин"), где художник по свежим
следам пережитого налету схватывает всю бредовую обстановку
своего творчества. Мучительно-сладкие воспоминания, которых ни-
211
когда не забыть! Громадный успех "Бедных людей" вскружил
голову болезненно-самолюбивого автора, и он заболел страшной
болезнью гения, не понятого своими современниками. Успех не оправдал
ожиданий автора; за "Бедными людьми" следует уже совсем
неудачное выступление с "Двойником"; нелепые слухи, эпиграммы и
насмешки лучших писателей того времени — вот обстановка, которая
всколыхнула у Достоевского первый прилив гениальных
самоощущений. "Неподвижная идея" Прохарчина и "сочувствователи",
которые проделывают разные "шуточки" над своим соквартирантом, не
понимая его болезни, - стыдливо-робкий ответ молодого автора на
крылатые слова своих бывших литературных друзей. В прозрачной
форме "Господина Прохарчина" очень легко вскрыть три
психологических осадка от первых двух повестей Достоевского... Так еще с
1846 г. (см. письмо от 17 декабря 1846 г.) начался долгий
литературный "процесс" Достоевского со своими недоброжелателями,
процесс, который тянулся целыми годами и закончился только романом
"Униженные и оскорбленные". Главный подсудимый этого
процесса - "неподвижная идея", которая зарисовывается в самых разных
видах, а судьи - здоровые и нормальные обыватели, возможные
"сочувствователи", начиная от скромных сожителей Прохарчина и
кончая высшими представителями науки и литературы (Белинский,
Дружинин, Шевырев). И все судьи обращаются в подсудимых: одни
грубо издеваются и потешаются над подсудимым... другие болезненно
отдаются гипнозу подсудимого..., третьи неудачно применяют к нему
мерку "натуральной школы"... А гениальный подсудимый
пророчески вещает им об их нравственной слепоте и духовной немощи»19.
В этом контексте «Господин Прохарчин» апеллирует и к безличному
существованию в «Man» затравленного Семена Ивановича, и к открытому
миру бытия-сознания (Dasein) его автора, связывая их в длинной цепи и
предлагая непреходящей ценности прецедент нравственной регенерации,
духовного подъема, свободы воли как основы личности. И то, что
Достоевский не просто описал, а «понял» Прохарчина, т.е. пережил его как свою
собственную возможность20, знаменует преодоление вещности, овеществ-
ленности и несвободы и новый прорыв к сфере бытия. Именно этим, а не
соотношением удачи и неудачи, должно определяться значение «Господина
Прохарчина» и в истории литературы, и в литературоведческом анализе, и в
экзистенциальной критике21.
Поэтика Достоевского еще не написана, то же относится и к поэтике его
ранних произведений, а отдельные ценные наблюдения (хотя, впрочем, они
чаще относятся все-таки к «надпоэтическим» уровням22), пока не
складываются в достаточно полную и четко фокусированную картину. Поэтому
несколько преждевременно говорить о точном объеме вклада «Господина
Прохарчина» в поэтику раннего Достоевского и тем более о соотношении этого
вклада с тем, что было внесено другими смежными по времени создания
произведениями. Однако едва ли возможно вообще игнорировать окружение
212
«Господина Прохарчина» и, следовательно, соотнесение его с другими
произведениями Достоевского хотя бы по некоторым параметрам, даже если
последние выделяются без соблюдения principia divisionis, на глазок или вообще
интуитивно. Необходимость такого соотнесения, вытекающая из реальных
живых связей данного текста с другими, объясняется (дополнительно к
прочим причинам, имеющим силу и применительно к творчеству других
писателей) особым системообразующим даром Достоевского, своего рода «геш-
тальтизмом», при котором не только элементы данной серии (одна картина)
дополняются до целого, но и сами серии (разные картины) образуют некое
целое, если только выстраивающие его серии могут пониматься как некий
семантический инвариант; при этом отдельные серии естественно трактуются
как варианты при преобразовании целого (инварианта). Достоевский всегда
имеет в виду весь набор разворотов (трансформаций) этого целого, которое
не ограничивается некоей плоскостной схемой с набором возможных
продолжений (реализаций) ее в той же плоскости, но предполагает и выходы в
направлении перпендикулярном этой плоскости, где размещаются иные
варианты, развертывания, определяемые новыми условиями существования этого
целого. Иногда эти варианты «проигрываются» достаточно полно (ср. тему
бедных людей, прогоняемую через целый ряд различных ситуаций), в других
случаях писатель ограничивается частичной разработкой вариантов (нередко
это делается в том же произведении: так, «Бедные люди» широко
развертывают типологию «бедности») или намеком, наконец, в особых случаях
очередной вариант остается без разработки и намека на него, но читатель,
зараженный инерцией, переданной ему автором, подходит до того обозначенного в
произведении предела, за которым он сам, усвояя себе данный текст, легко
перебирает неотмеченные возможности. Как бы то ни было (и, кажется, об
этом не писалось достаточно четко), но в этой области Достоевский
выступает скорее как человек науки, естествоиспытатель, работающий над
классификацией некиих типов23, или математик, строящий логическое исчисление
высказываний. Он ориентируется не на единственность варианта-ситуации и
необратимость ее развертывания, а на многовариантность, исчерпывающую
в принципе всю данную тему, и на мыслимую обратимость действия-ситуации.
В этих условиях внимательный (и уж во всяком случае конгениальный)
читатель24, вовлекаясь в систему Достоевского, испытывает чувство некоего
беспокойства, ощущение ужесточения ситуации, сознает необходимость пройти
по всем тем кругам, по которым (хотя бы по идее) проведет его автор25. Эти
особенности Достоевского-писателя отражены в двух, казалось бы,
совершенно различных и не связанных друг с другом сферах. С одной стороны,
речь идет оповторяемости основных характеров и ситуаций в
произведениях Достоевского, позволяющей одни из них рассматривать как «преду-
готовительные» к другим, говорить о преемственности, своего рода
селективно-центрирующей тенденции автора26. С другой стороны, в связи с
Достоевским говорят о некоей принципиальной незавершенности,
открытости главного в его романах: оно, это главное, лишь задано, оно
благосклонно к читателю в том смысле, что открыто ему для продолжения,
высветления и раскрытия27. Проницательное замечание Ахматовой о том,
что у Достоевского к началу романа уже все закончено, совершилось, лишь с
иной позиции подчеркивает ту же особенность.
213
Возвращаясь к конкретным проявлениям «системности» в ранних
произведениях Достоевского, при первом подходе вполне можно положиться на
результаты самого приблизительного, во многом интуитивного анализа, не
заботясь пока о логической состоятельности выделяемых principia.
Применительно к ранним произведениям Достоевского чаще всего используют
такие обозначения, как «о бедных людях»28, «о мечтателях», о
патологическом душевном состоянии, анекдот и т.п. «Господин Прохарчин»,
несомненно, относится к ряду произведений о бедных людях (как и «Бедные люди»,
«Двойник», «Честный вор», «Неточка Незванова», «Униженные и
оскорбленные» - за пределами раннего творчества), но выделяется среди них тем,
что Прохарчин не только бедняк, но и богач. Что для Достоевского «бедный
богач» являлся как особый тип, проработанный в специальной сюжетной
ситуации, свидетельствует и сам рассказ «Господин Прохарчин» (герой его
живет намного беднее, чем Девушкин или Голядкин, обладая, тем не менее,
гораздо большими средствами), и противопоставленный «бедному богачу»
Прохарчину образ «богатого бедняка». Ср. во втором фельетоне
«Петербургской летописи»:
...А кстати о бедном человеке. Нам кажется, что из всех возможных
бедностей самая гадкая, самая отвратительная, неблагодарная,
низкая и грязная бедность - светская, хотя она очень редка, та бедность,
которая промотала последнюю копейку, но по обязанности
разъезжает в каретах, брызжет грязью на пешехода, честным трудом
добывающего себе хлеб в поте лица и, несмотря ни на что, имеет
служителей в белых галстуках и в белых перчатках. Эта нищета,
стыдящаяся просить милостыню, но не стыдящаяся брать ее самым
наглым и бессовестным образом...29
Как произведение, в котором изображается патологическое душевное
состояние, сумасшествие30, «Господин Прохарчин» неотделим от
«Двойника», «Слабого сердца», а также - поскольку патологические черты очень
отчетливы и в образах мечтателя - от «Хозяйки», периферийно
«Белых ночей», ряда произведений второй половины творчества. Но если в
перечисленных произведениях одержимый манией герой чаще всего (или,
по крайней мере, отчасти) именно мечтатель, с сильно развитым
воображением, фантазией, которая не всегда может быть сдержана уздой
рассудка, то Прохарчин, как подчеркивается не раз, слишком прост, лишен
воображения31. В пределах этой категории случаев он - «анти-мечтатель»,
подобно тому, как среди бедняков он богач.
Наконец, как анекдот «Господин Прохарчин» входит в один ряд с «Пол-
зунковым», «Романом в девяти письмах», «Елкой и свадьбой», «Чужой
женой и мужем под кроватью» и некоторыми другими рассказами, но и в этом
случае в «Прохарчине» на анекдотическом субстрате строится нечто
противоположное анекдоту32, то, что лишь по несбалансированной жестокости
или, точнее, удивительной нечуткости рассказчика может быть названо
анекдотом33.
В итоге оказывается, что из 12 произведений Достоевского,
напечатанных в 40-х годах, только одно, именно «Господин Прохарчин»,
сочетает все три указанных параметра («бедные люди» в варианте «бедный чинов-
214
ник», «сумасшествие», «анекдот»)34. Нужно сказать, что «Господин Прохар-
чин» в этом отношении выделяется и на очень широком фоне рассказов и
повестей о бедном чиновнике в русской литературе 30-40-х годов XIX в.,
проанализированных А. Цейтлиным35. Мотив бедности и особенно
сумасшествия (ср. «Адам Адамович Адамгейн» П. Машкова, где этот мотив
относится к чиновнику-скряге, и др.) обычно с трудом связывается с анекдотической
формой (в частности, и потому, что мотив сумасшествия в литературе этого
времени обнаруживает отчетливые следы своего происхождения - от
Гофмана, у которого он никогда не имеет формы анекдота)36 и тем более с
чертами буффонады и театра марионеток, очевидными в «Господине Прохар-
чине». Соединяя обе характерные линии - чистого анекдота (Гребенка,
Даль, Бутков) и психологической повести (Павлов, Панаев и др.), -
Достоевский предлагает в «Господине Прохарчине» новый синтез, который, однако,
не получил сколько-нибудь законченной формы и не имел, кажется,
достойных внимания продолжений. Таким образом, «Господин Прохарчин»
реализует довольно парадоксальную ситуацию: обнаруживая по каждому из
указанных параметров самые тесные связи с многочисленными образцами
русской литературы о бедном чиновнике, он по сумме этих параметров почти
не имеет себе аналогий и в этом отношении резко выделяется из всей
литературы этого типа. Уже применительно к этому уровню можно говорить о
тенденции к предельному сгущению элементов в пределах одного текста
(вопреки обычному выбору лишь одного из них или, по крайней мере,
некоторых), к «набивной» технике, которая в руках Достоевского быстро
приводит к пограничной ситуации, где сами собой выявляются пределы
сопротивляемости материала данному набору общих смыслов. Попытка строить
художественный текст как теоретико-множественную сумму37, в которой
могут объединяться и противоположности, должна рассматриваться как
новаторство Достоевского, не приведшее, однако, в этот период и на этом
материале к отчетливо положительным результатам, но непосредственно
вызвавшее к жизни новые задачи, которые требовали решения38. Интересно,
что этот же принцип «суммации» обнаруживается в «Господине
Прохарчине» и в том, что впервые так отчетливо у Достоевского вводится рассказчик
(ср. «Двойник»). Этот образ выполняет функцию посредника, т. е. занимает
именно то место, где сходятся все - и автор, и действующие лица. Последние
«открыты» рассказчику, который со своей стороны «открыт» автору и
(выходя за пределы текста) читателю, чей теневой портрет задается в
«Господине Прохарчине» как раз через рассказчика. Рассказчик всем
близок, он сводит друг с другом всех тех, кто без его помощи не преодолел бы
начальной разъединенности. Но, отдергивая занавес и представляя
попеременно то действующих лиц, то автора, рассказчик ведет себя несколько
жестковато, самоуверенно, бесцеремонно. Он не спрашивает для этого ни у
кого разрешения и второпях нередко забывает четко отделить одну партию
от другой. Отсюда - столь частые в тексте зазоры, перехлесты, вторжения
в чужие пределы, особенно очевидные в разных типах языковых скрещений -
«суммации», о которых см. ниже. Но еще важнее то обстоятельство, что
введение образа рассказчика позволяет суммировать тот мыслимый набор
«точек зрения», с которых может вестись описание. И в рамках самого текста
«Господина Прохарчина», и в диахронии («письменные» монологи «Бедных
215
людей», соединенные в квази-диалог, третьеличная форма «Двойника» и -
в будущем - выход к перволичной форме «Белых ночей» и «Неточки
Незвановой») рассказчик синтезирует эти различные возможности,
повышая ранговость структуры, задаваемой отношением лиц, мыслимых как
описывающие ситуацию («точки зрения»)39. Следовательно, и тематически,
и структурно (в только что разобранном смысле), и в языковом отношении
«Господин Прохарчин» обнаруживает исключительную сгущенность
соответствующих элементов, перенасыщенность ими текста, сигнализируя
приближение к некоей тупиковой ситуации, которая могла быть снята
только решительным преобразованием самих художественных форм и/или
изменением семантических требований, предъявляемых к ним.
* * *
Уже было замечено, что текст Достоевского, как правило, для своего
понимания, рассматриваемого как «нормальное» («естественное») требует
более, чем одного прочтения. Конечно, отчасти это может быть сказано и о
текстах других писателей, современных Достоевскому, если иметь в виду,
что каждое повторное чтение позволяет уточнить первоначально
воспринятую картину, т.е. выявить ряд новых деталей и, главное, запомнить более
полный объем элементов и их связей в тексте (соответственно - в
структуре целого). Когда же говорится о необходимости повторного чтения
(чтений) текста Достоевского, то имеется в виду нечто совершенно другое - а
именно, выявление иных, новых уровней, регистров, аспектов в структуре
текста. При этом повторное чтение нередко может актуализировать даже
определяющие этот текст идеи (не говоря уж о частных и/или носящих
вспомогательный характер) - вплоть до общего замысла. За обилием элементов
текста читатель Достоевского во многих случаях не успевает оглядеться,
присмотреться к пространству, в которое вписаны эти элементы, т.е.,
выражаясь «пространственным» языком, сориентироваться. Однократное
прочтение «нормального» типа в отношении Достоевского представляет собой
не более чем первую версию, при которой как раз детали могут
оказаться более точно переданными и воспринятыми, нежели то, что за ними
стоит. Более того, актуальность первой версии подчеркивается в ряде
случаев тем, что именно ее выдвигает рассказчик, отстаивает ее, держится за
нее, соотносит с ней информацию о новых событиях и как бы «не пускает»
читателя за пределы, намечаемые этой первой версией. И впрямь, так
называемый «рядовой» читатель останавливается на этой первой версии и не
идет далее. И однако сама структура текста Достоевского, выявляемая
(осознаваемая) читателем иного типа после первого прочтения,
ориентирует его на повторное чтение таким же образом, как событийная
конфигурация (соотношение перипетий) данной главы детективного текста
направляет читателя (предписывает ему перейти) к следующей (линейно) главе,
где перипетийные узлы развязываются, и читателем обретается их смысл.
Эта параллель, возможно, объяснит новые нюансы в «детективности»
текстов Достоевского. «Обучающая» функция текста такого рода как раз и
зависит от того, что он обращен на самого себя, т. е. требует для своего более
полного (более точного) понимания40 обращения к нему же самому как к ис-
216
точнику восполнения информации. Выйдя в эпилоге из воронки, читатель
попадает (и при этом не только и не столько по своей воле, сколько в силу
некоей принудительности, осознаваемой как один из глубоко
укорененных смыслов всей текстовой конструкции) в эту воронку снова, чтобы
вторично пройти ее, но уже с более полной идентификацией элементов
текста и вызыванием новых смыслов, с установлением общей мерности
текстового пространства. Если же текст апеллирует к самому себе и нуждается
более чем в однократном прочтении, то тем самым именно первое чтение
становится отмеченным для тех произведений, которые предполагают
(требуют) повторные чтения. Никакие ссылки на то, что и первое прочтение
дает совершенно различные результаты в зависимости от квалификации
читателя, не могут быть признаны серьезными опровержениями, подобно тому
как литературоведческий анализ принципиально не предполагает
различных толкований художественного произведения в зависимости от его
понимания разными читателями (при том, что сама проблема
дифференцированной рецепции одного и того же текста должна считаться вполне почтенной
задачей истории литературы и социологии литературных вкусов).
При первом прочтении «Господина Прохарчина» прежде всего
фиксируется очень несложная сюжетная схема (условно: «богатый нищий»
или - подробнее - «тайный богач, не имея возможности воспользоваться
своим богатством, погибает в нищете»). Характерно, что исследователи
этого рассказа нередко остаются, по сути дела, на уровне этого первого
прочтения и при попытках классификации без каких-либо объяснений относят
«Господина Прохарчина» в ту же рубрику, что и Скупого рыцаря,
Плюшкина, Гарпагона - тем более, что сам Достоевский по видимости
санкционирует такое понимание, ср. о «новом Гарпагоне» и «новом Плюшкине» в
«Петербургских сновидениях» и особенно о Скупом рыцаре в «Подростке»:
«Я еще в детстве выучил наизусть монолог Скупого рыцаря у Пушкина;
выше этого, по идее, Пушкин ничего не производил! Тех же мыслей я и
теперь» (ПСС. Т. 13. С. 74)41. Действительно, известные основания для такого
отнесения существуют и в самом тексте рассказа. Тем не менее, понимание
Прохарчина как своего рода вариации темы Скупого рыцаря никак не
может быть признано единственным или даже главным. Для Достоевского
схема «Скупого рыцаря» становится лишь исходной φ ο ρ м о й, с помощью
которой решается совсем другое содержание, признаваемое за основное
(см. ниже) и являющееся тем «домом» идеи, которая здесь развертывается.
Кроме сюжетной схемы и идеи, воспринимаемой в ее поверхностном,
так сказать, предварительном варианте, первое прочтение позволяет
выделить круг действующих лиц (Семен Иванович, Устинья Федоровна,
жильцы, большая часть которых слабо дифференцирована, Ярослав Ильич
и т.п.), связи между которыми ясны опять-таки только в общем; некоторые
суммарные представления о геометрии пространства рассказа и его
лингвистической организации», (включая сюда вопрос о
соотношении «голосов», видах речи, функции рассказчика и т.п.), о том, что
можно назвать стилистическим регистром текста.
На всех этих уровнях наблюдаются некоторые общие особенности,
определяющие общее впечатление от рассказа после его первого
прочтения. Если отвлечься от всего эмпирического и случайного и сосредо-
217
точиться на допредметном уровне (некий аналог эйдетической редукции), то
окажется, что критические анализы «Господина Прохарчина», собственно
говоря, и описывают это общее впечатление, суммируют соответствующее
настроение, не решаясь идти дальше и глубже.
Действительно, каждый из уровней выявляет (реализует) примерно одни
и те же схемы, которые, накладываясь друг на друга (как правило,
незаметно для читателя), создают ситуацию резонанса, многократно
усиливающего ядро схемы и преформирующего последующее предметное,
эмпирическое развертывание текста. Это общее для всех уровней текста можно
определить как господство некоей косной, вязкой, инертной и инерциальной
стихии, устроенной таким образом, что в ней невозможно прямолинейное
движение или полнозначное слово, ничто непосредственное и открытое.
Это пространство закрыто для света и взгляда; оно дезартикулировано.
Каждый шаг в нем оказывается дурным повтором, возвратом к какой-то уже
бывшей ситуации, умножающим беспросветное однообразие. Изменить
свое место в этом пространстве или выйти из него так же трудно, как из сна,
бреда, галлюцинации42. Стихия этого пространства «заразительна» в том
смысле, что смежные элементы текста - фразы, мотивы, действующие
лица, вещи - как бы «прошиваются» некоей однообразной субстанцией, тем,
что уже было до этого. Поэтому автономность и независимость этих
элементов часто мнима: это - «пустые» элементы, их семантика смазана, она
задана не извне, не из внетекстового мира, а определяется логикой
хаотической смежности. Само слово, призванное помочь в переходе от дурной
непрерывности к исчислимой и воплощенной дискретности образного мира,
оказывается в рассказе предельно девалоризованным. Вообще слово
связано с тем, что ему соответствует вне текста, как-то непрямо, смазанно,
неоднозначно, сугубо приблизительно. Оно, как и высказывание, диалог, тем
более - полилог, идет если не в разрез с сюжетной схемой, с направлением
действия, то во всяком случае вне строгой координации с ними, как бы само по
себе. Слово, высказывание в рассказе тормозят развитие сюжета и вместе с
тем не позволяют сюжету овладеть ими, подчинив себе, и «протолкнуть»
сюжетную волну вперед еще и по каналу речи.
Речевая стихия осуществляет в рассказе и другую функцию. Язык,
особенно в речи действующих лиц, выступает, в частности, как знак
«разыгрываемой» ситуации, ив этом смысле он достаточно иконичен:
он так же косен, инертен, ориентирован на повторения, на мнимости,
малоинформативен, как и сама ситуация, которую он, этот язык, «разыгрывает»43.
В этом отношении лишь «Двойник» может в некоторых своих частях
сравняться с «Господином Прохарчиным» (см. Приложение II). То, что язык в
рассказе Достоевского дублирует своим движением самое ситуацию, объясняет
впечатление перегруженности, перенасыщенности, некоторой утомительной
однообразности языка рассказа, т.е. именно то, за что упрекали Достоевского
уже в связи с «Двойником». Как и там, язык здесь не только описывает героя,
но и имитирует его44, идет с ним рядом, параллельно ему, одновременно с ним
дергаясь, спотыкаясь, повторяясь, не доканчивая. Так язык и герой, знак и
денотат кивают друг на друга, усиливая и подчеркивая идею
марионеточное τ и, которая формулируется и в эксплицитном виде в очень важном
отрывке, обычно остающемся непонятым или понятым лишь отчасти45:
218
...Тут он увидел, что горит, что горит весь его угол, горят его
ширмы, вся квартира горит, вместе с Устиньей Федоровной и со всеми ее
постояльцами, что горит его кровать, подушка, одеяло, сундук и,
наконец, его драгоценный тюфяк. Семен Иванович вскочил, вцепился
в тюфяк и побежал, волоча его за собою. Но в хозяйкиной комнате,
куда было забежал наш герой так, как был, без приличия, босой и в
рубашке, его перехватили, скрутили и победно снесли обратно за
ширмы, которые, между прочим, совсем не горели, агорела
скорее голова Семена Ивановича, - и уложили в постель. Подобно
тому укладывает в свой походный ящик оборванный, небритый и
суровый артист-шарманщик своего пульчинеля,
набуянившего, переколотившего всех, продавшего душу черту и наконец
оканчивающего существование свое до нового представления в
одном сундуке вместе с тем же чертом, с арапами, с Петрушкой, с
мамзель Катериной и счастливым любовником ее капитаном-
исправником (с. 251-252)46.
В этом отрывке дан с большой тонкостью и незаметностью переход от
сюжетной линии к сравнению, которое понятно лишь отчасти, - по крайней
мере, до тех пор, пока не определено tertium comparationis. Сюжетная часть
этого отрывка, лингвистически построенная как трансформация
(перенесение) параноической речи самого Прохарчина в объективизированную речь
рассказчика, рядом с которым стоит сам автор47, ориентирована на описание
à deux termes. С одной стороны, здесь изображается агония Прохарчина,
выход бреда наружу, экстериоризация его в сферу действий, образующих
последовательность мотивов (именно тут языковые ходы точнее и
непосредственнее всего отражают артикулированность действий). С другой стороны,
эта часть отрывка может толковаться как дальнейшее развертывание и
актуализация мотива фаворитизма: Прохарчин, «без приличия» (только в
рубашке, ср. также мотив постельных принадлежностей) вторгается в
хозяйкину комнату, т.е. к самой Устинье Федоровне, но некто третий
(постояльцы) дает ему отпор, разлучают его с хозяйкой, возвращают восвояси.
Сформулированный таким образом второй семантический слой как раз и
объясняет смысл непосредственно за этим отрывком начинающегося сравнения
(«Подобно тому...»). Ведь перечисляемые далее персонажи кукольной
комедии, театра Петрушки, реализуют тот же сюжет и ту же схему действующих
лиц: Петрушка терпит любовное поражение, предмет его домогательств
Катерина достается третьему — счастливому любовнику
капитану-исправнику^ (ср. надежду Устиньи Федоровны стать женой обер-офицера, а
ранее - женой отставного). Таким образом, вырисовываются отождествления
типа: Прохарчин - Петрушка (пульчинель)49, Устинья Федоровна -
Катерина, соперник (мнимый) Прохарчина - капитан-исправник. Интересно, что
пожару в приведенном выше отрывке отвечает мотив пожара, иногда
появляющийся в соответствующем месте представлений театра Петрушки.
Другое, неподалеку находящееся описание à la marionette («...Семен Иванович,
зная учтивость, сначала уступил немножко места, скатившись на бочок,
спиною к искателям; потом, при втором толчке, поместился ничком, наконец
еще уступил, и так как недоставало последней боковой доски в кровати, то
219
вдруг совсем неожиданно бултыхнулся вниз головою, оставив
на вид только две костлявые, худые, синие ноги, торчавшие кверху, как два
сучка обгоревшего дерева...» - с. 260)50 актуализирует связь с последним
мотивом кукольного представления - проваливание Петрушки и
одновременно еще раз отсылает к растительному коду («как два сучка обгоревшего
дерева»)51. Сравнение двух частей (конец Прохарчина и конец Петрушки)
первого из приведенных выше марионеточных описаний («Господин Прохар-
чин», с. 251-252) усугубляется общим образом сундука, в который Семен
Иванович прячет свое богатство - деньги, а артист-шарманщик - кукол,
которыми он живет52.
Этот «марионеточный» аспект языка рассказа, подчеркнутый
стилистической несбалансированностью соседних отрывков (так называемые
«рембрандтовские» сцены, по видимости неуместные литературные ассоциации,
мена речевой манеры рассказчика - от якобы достойной, объективной,
серьезной, даже несколько философичной вплоть до издевательской, почти
гаерской, о чем см. ниже) и концовкой, выдержанной в кощунственном
тоне и снова возвращающей читателя к прохарчинским речевым ритмам,
нужно отнести к языковым экспериментам величайшей важности, хотя в
дальнейшем у Достоевского в таком объеме он больше нигде не повторяется.
Решение вопросов этого рода переносится на другие уровни: чрезмерная
иконичность языка оказывается слишком обременительной. К тому же
следует иметь в виду, что разрешающие возможности языка с точки зрения
отражения внеязыковой ситуации весьма ограничены, и герой иного рода,
нежели «спотыкающийся» (и в этом спотыкании безнадежно персеверирую-
щий) Прохарчин или «дергающийся» Голядкин, как и определяемые их
характерными «движениями» ситуации, потребовали бы, пожалуй, таких
лингвистических экспериментов, которые выводили бы язык за пределы
общепринятого. Поэтому в дальнейшем Достоевский начинает сознательно
«гасить» те языковые движения, ходы, которые могли бы быть использованы
(или хотя бы поняты со стороны) в целях создания иконичности53. С этими
усилиями можно сопоставить многочисленные примеры сознательной
борьбы поэтов с разными видами звукоизобразительности (устранение условий
для звуковой символизации), даже если звуковые конфигурации
семантизированы, т.е. содержательно мотивированы.
Возможно, что особенности театра марионеток в распределении и
характере речевых партий (они коротки, примитивны по синтаксису, весьма
ограничены в словаре /значительную часть составляют ругательства или
бранные эпитеты, прозвища и т.п./, образуют диалогическую цепь, мало
продвигающую сюжетную линию) так или иначе отразились в структуре
речевых партий в «Господине Прохарчине». Прежде всего обращает на себя
внимание обилие (можно сказать, чрезмерность) прямой речив
этом маленьком по объему рассказе. При этом она распределена между д е -
с я τ ь ю персонажами (Прохарчин, Устинья Федоровна, Марк Иванович,
Зиновий Прокофьевич, Океанов, Зимовейкин, Ремнев, Ярослав Ильич,
ванька (извозчик) и Андрей Ефимович). Если учесть, что во многих случаях
речь рассказчика представляет собой не что иное, как довольно точную
передачу прямой речи героев рассказа, то объем прямой речи возрастет еще
значительнее. Уже в силу своего объема прямая речь в «Господине Прохар-
220
чине» составляет некий существенный пласт в структуре рассказа54. Еще
важнее то, что этот пласт экстерриториален: он легко выделяется из
рассказа, почти не нарушая сюжетной линии; вместе с тем и сама прямая речь в
рассказе образует нечто целое, самодовлеющее. Она настолько мало
детерминирована тем, что находится вне ее, и настолько самодостаточна, что,
будучи выделенной из текста рассказа (при сохранении последовательности
частей), позволяет с большей или меньшей вероятностью восстановить
основное содержание текста. А это не может не вызвать удивления, если
вспомнить «асюжетный» характер прямой речи в рассказе. В самом деле,
большая часть прямой речи поражает исключительным
однообразием в синтаксическом и семантическом отношениях.
Синтаксически прямая речь в рассказе чаще всего представлена конструкцией
типа «2 л. личного местоимения & предикативные прилагательные и/или
существительные», т.е. ты (вы)55 такой-то и такой-то и/или то-то и то-
то56. Некоторые третьеличные конфигурации в языке рассказчика суть
трансформация высказываний указанного типа и, следовательно, могут
быть восстановлены вновь во второличной форме. Гораздо реже в прямой
речи появляются конструкции такого же типа, что и названный, но с
заменой 2-го лица 1-м лицом. Характерно, что такие конструкции - привилегия
Прохарчина (и в виде исключения - его собеседника Зимовейкина)57 в
исповедальных частях рассказа. Этот же тип конструкций восстанавливается и
по третьеличным конфигурациям в речи рассказчика58. Важно отметить и
конструкции типа «ты» & глагол в личной форме (обычно во 2 л., в
частности, в императиве), в сочетании с серией звательных форм (см. ниже),
которые также могут быть трансформированы в ты такой-то или то-то.
Конструкции иных типов менее отмечены, и их локус - прямая речь сожителей
Прохарчина.
Семантически наиболее распространенные из названных
конструкций реализуют карнавальные категории развенчания
(профанирующего снижения) и увенчания, словесного агона (перебранки,
поношения) и восхваления59, идущие часто вперемежку и образующие нередко
мезальянсы комического характера, которых в рассказе так много.
Развенчания и увенчания строятся обычно как набор положительных и
отрицательных характеристик, которые в рассказе, как правило, никак не
мотивируются и не аргументируются. Более того, сами эти
характеристики часто выступают в девалоризованном, обессмысленном виде; скорее,
это слова, предусмотренные ритуалом; высказать их в нужный момент, в
данном месте оказывается важнее, чем актуализировать их смысл или
хотя бы просто передать их от говорящего к слушающему. Еще правильнее
было бы сказать, что ритуально не столько слово, сколько само целое
(перебранка или восхваление), в которое это слово входит. Отмече-
н о именно целое, что и позволяет, пренебрегая собственным смыслом
слова, включать в целое и то, что не очень соответствует смыслу целого
или даже противоречит ему (например, фрагменты из контр-партии
диалога), создавая дополнительный комический эффект60. В результате
само целое нередко автоматизируется, алогизируется, обессмысливается,
но характеристика как таковая, sub specie развенчания или увенчания,
остается и продолжает неотменно играть свою роль.
221
Здесь уместно привести в последовательности рассказа набор таких
характеристик в прямой речи:
«Ты мальчишка, ты свистун, а не советник, вот как; ...сударь...
мальчишка...» (Прохарчин - насмешнику, с. 242);
«Ты, мальчишка, молчи! Празднословный ты человек,
сквернослов ты! слышь, каблук! князь ты, а? понимаешь штуку?»
(Прохарчин - Марку Ивановичу, с. 252);
«Врешь ты... детина, гулявый ты парень! ...ты ж вольнодумец, ты
ж потаскун; вот оно тебе, стихотворец!» (Прохарчин - Марку
Ивановичу, с. 253);
«...потаскливый ты человек, ученый ты, книга ты писаная!..»
(Прохарчин - Марку Ивановичу, с. 253);
«Да ведь, Семен Иванович! ...Семен Иванович, такой вы, сякой,
прошедший вы, простой человек...» (Зиновий Прокофьевич - Про-
харчину, с. 253);
«Ну, слышь ты теперь... шут кто? Ты шут, пес шут, шутовской
человек...; слышь, мальчишка, не твой, сударь, слуга!» (Прохарчин -
Зиновию Прокофьевичу, с. 253);
«Что ты, Сенька? вставай! что ты, Сенька, Прохарчин-мудрец,
благоразумию послужи!..» (Зимовейкин - Прохарчину, с. 254);
«Ты, несчастный, ступай... ты, несчастный, вор ты! слышь,
понимаешь? туз ты, князь ты, тузовый ты человек!» (Прохарчин - Зимо-
вейкину, с. 254);
«Нет, брат, ...нехорошо ты, брат-мудрец, Прохарчин, прохарчин-
ский ты человек! ...Смирись, Сеня, смирись, не то донесу, все, братец
ты мой, расскажу, понимаешь?» (Зимовейкин - Прохарчину, с. 254);
«Как! ...Кто вы? что вы? Нуль, сударь, блин круглый61, вот что!
... Так, что ли, сударь? Так ли, батюшка, так ли?» (Марк Иванович -
Прохарчину, с. 255);
«- Ты, ты, ты глуп!..» (Прохарчин - Марку Ивановичу, с. 255);
«- Каблук, пусть каблук... каблуковый я человек, пожалуй...
подо мной, сударь, место не сломится. Что, батюшка?...» (Марк
Иванович - Прохарчину, с. 255);
«... да ведь то же, пьянчужка, а вы да я человек! - Ну, человек... -
Да, блаженный вы человек! ...Фома, Фома вы такой, неверный вы
человек! - ...слышь ты? золовка! гвоздырь ты... - Золовка! человек
вы... - Человек; а я человек, а ты, начитанный, глуп; слышь,
гвоздырь, гвоздыревый62 ты человек, вот что!.. - Ах вы, Демид, Демид!
греховодник, да ведь...» (Марк Иванович - Прохарчину и
Прохарчин - Марку Ивановичу, с. 255-256);
«- Язычник ты, языческая ты душа, мудрец ты!... Сеня,
необидчивый ты человек, миловидный, любезный! ты прост, ты
добродетельный... слышал? ...а буйный и глупый-то я, побирушка-то
я; а вот же добрый человек меня не оставил небось...»
(Зимовейкин - Прохарчину, с. 256); «- Да вот; оно хорошо... миловидный я,
смирный, слышь, и добродетелен, предан и верен; кровь, знаешь,
каплю последнюю, слышь ты, мальчишка, туз... пусть оно стоит,
место-то; да я ведь бедный; а вот как возьмут его, слышь ты,
222
тузовый... а я, брат, и с сумочкой, слышь ты?» (Прохарчин -
Марку Ивановичу, с. 256);
«- Сенька! ...Вольнодумец ты! Сейчас донесу! Что ты? кто ты?
буян, что ли? бараний ты лоб? Буйному, глупому, слышь ты, без
абшида с места укажут; ты кто?!... - Да вот он вольный, я вольный... -
Ан и вольнодумец... - Воль-но-ду-мец! Сенька, ты вольнодумец!! -
Стой! ...Я не того... баран ты: я смирный, сегодня смирный, завтра
смирный, а потом и несмирный, сгрубил; пряжку тебе, и пошел
вольнодумец!...» (Зимовейкин - Прохарчину и Прохарчин - Зимовейки-
ну, с. 256);
«- Да что ж вы? - ...что ж вы? баран вы, ни кола, ни двора. Что
вы, один, что ли, на свете? ...Наполеон вы, что ли, какой? что вы?
кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь,
Наполеон или нет?...» (Марк Иванович - Прохарчину, с. 256-257);
«- Прост, матушка, был...» (Марк Иванович - Устинье
Федоровне, с. 262);
«- Ну да и вы просты, матушка... Э-эх, матушка!...» (Океанов -
Устинье Федоровне, с. 262);
«- Ох уж ты мне, млад-млад! ...Ах, греховодник, обманщик
такой!..» (Усгинья Федоровна о Прохарчине, с. 262);
«Что, дескать, ты? перестань, слышь ты, баба ты глупая! не
хнычь! ты, мать, проспись, слышь ты! ...ты, баба, туз, тузовая ты,
понимай...» (Прохарчин, в предположении рассказчика, с. 263).
Этот список может быть расширен за счет ряда примеров
«неправильной» прямой речи типа:
«В показании же хозяйкином значилось, что «Семен-от
Иванович, млад голубчик, согрей его душеньку... что ему, голубчику...»
(Устинья Федоровна о Прохарчине, с. 242, ср. с. 246);
...Семен Иванович предсказывает, ...что, «наконец, ты,
мальчишка... гриб съешь, а что вот тебя, мальчишку... вот, мол, как, слышь
ты, мальчишка!» (Прохарчин о Зиновии Прокофьевиче, с. 243),
или же за счет вторичных экспликаций некоторых косвенных примеров из
уже приводившихся образцов прямой речи.
Наконец, характеристики сходного типа переполняют и собственную
речь рассказчика, и его передачу прямой речи сожителей Прохарчина.
Правда, эти характеристики как бы олитературены, выдержаны в тоне
«благородном и честном», достойны, серьезны, иногда несколько
старомодны, т.е. таковы, каким хотел бы казаться сам рассказчик. Тем не менее,
стихия прямой речи и прежде всего соль ее, речь Прохарчина, «заражает» речь
рассказчика, осмотически проникая в нее. Косноязычие и «дерганый» ритм
речей Прохарчина сменяется выровненным, сглаженным, рассчитанным на
долгое дыхание, облагороженным ритмом речи рассказчика, но и в ней
очевидно пристрастие к построению цепей (особенно из прилагательных), к
звуковым притяжениям, которые в несколько ином виде свойственны и
речи Прохарчина63, к установке на увенчание (хвалу) или развенчание (хулу),
нередко сочетающихся друг с другом по не всегда понятным мотивам, за
которыми угадывается - правда, в очень ослабленном виде - та же «паранои-
223
дальная» логика64. Именно в этом контексте и должны рассматриваться
характеристики в речи рассказчика. Ср.:
«...помещался Семен Иванович Прохарчин, человек уже
пожилой, благомыслящий и непьющий»65; «...Устинья Федоровна, весьма
почтенная и дородная женщина, имевшая особую наклонность к
скоромной пище и кофею и через силу перемогавшая посты...» (с. 240);
«...Марк Иванович, умный и начитанный человек; потом еще Опле-
ваниев-жилец; потом еще Преполовенко-жилец, тоже скромный и
хороший человек; потом еще был один Зиновий Прокофьевич,
имевший непременною целью попасть в высшее общество; наконец,
писарь Океанов...; потом еще другой писарь Судьбин; Кантарев-раз-
ночинец...»; «...и решили, словами Марка Ивановича, что он,
Прохарчин, человек хороший и смирный, хотя и не светский, верен, не
льстец...»; «...и объявил, что Прохарчин человек пожилой и
солидный...» (с. 241); «Человек был совсем несговорчивый, молчаливый и
на праздную речь неподатливый» (с. 242); «...Семен Иванович...
начал... изъяснять, что бедный человек, всего только бедный человек,
а более ничего, а что бедному человеку, ему копить не из чего...
признался... что он, бедный человек, еще третьего дня у него, дерзкого
человека, занять хотел денег рубль, а что теперь не займет, чтоб не
хвалился мальчишка... и что, наконец, он, бедный человек, вот
такой... прибавил в заключение что-то вроде того, что когда Зиновий
Прокофьевич вступит в гусары, так отрубят ему, дерзкому человеку,
ногу в войне... и не посмотрит на буйного человека Зиновия Про-
кофьевича...» (с. 243-244); «...подойдет к ним как скромный, умный и
ласковый человек...» (с. 244); «...и тот человек, который был бы
гораздо менее добродушен и смирен, чем господин Прохарчин...»;
«...Семен Иванович был чрезвычайно туп и глуп...» (с. 245); «...был
так чуден и странен...»; «...герой наш - человек не светский, совсем
смирный...»; «...очутился он, солидный и скромный...» (с. 246);
«Попрошайка-пьянчужка был человек совсем скверный, буйный и
льстивый»; «...и объяснил, что он человек недостойный,
назойливый, подлый, буйный и глупый...» (с. 247); «Наконец, Марк
Иванович... как умный человек...» (с. 252); «...Семен Иванович, будучи
умным человеком...» (с. 253); «...не знал до сих пор такого
гвоздя-человека...»; «...причитая, ...что умрет он, млад, без паспорта... а она
сирота...» (с. 255); «...и, всхлипывая, стал говорить, что он совсем бедный,
что он такой несчастный, простой человек, что он глупый и
темный...» (с. 257); «жилец Океанов, бывший доселе самый недальний,
смиреннейший и тихий жилец...» (с. 259).
Из приведенных перечней с очевидностью вытекает, во-первых, сугубая
относительность характеристик (они могут как подтверждать друг
друга, так и противоречить одна другой) и, во-вторых, что сами эти
перечни, т.е. характеристики в прямой речи и характеристики в речи рассказчика,
как правило, в отношении дополнительного
распределения: в начале и в конце рассказа - речь рассказчика, в середине - прямая
речь действующих лиц, предельно драматизирующая ситуацию66, чему
соответствуют и «рембрандтовские» места, живописно реализующие эту же
ситуацию67. При таком расположении частей роль рассказчика становится
особенно рельефной. В наиболее важном месте он как ведущий действие,
своего рода «чтец» отдергивает занавес, а сам отступает в сторону: здесь
его комментарии излишни. До и после этого, т.е. когда сцена, являющаяся
основной68, скрыта от зрителей (= читателей), рассказчик действует как
медиатор, посредник между действующими лицами, к которым он относится
не без иронии, несколько свысока, и читателем, который стоит несколько
выше, чем рассказчик, понимающий эту разницу в положении и
действующий немного на потребу читателя, слегка заигрывая с ним или даже
заискивая перед ним.
Это промежуточное положение рассказчика объясняет многое69.
Находясь в центре, в середине, откуда в любую сторону недалеко, рассказчик
становится самым тонким и чутким улавливателем минимальных социальных
сдвигов, оттенков, нюансов. Он точно и проницательно улавливает эти
социальные грани ниже себя, иерархизуя жильцов Устиньи Федоровны. В
каждой их фразе, в каждом слове он видит указание на соответствующую
ячейку социума. Косвенно рассказчик оценивает и социальное положение
читателя: то, как он, рассказчик, трансформирует слово «снизу» и
преподносит его читателю «наверх», вскрывает социальную «политичность»
рассказчика, его оглядку на «чужую речь» и «чужую позицию». Именно через
рассказчика «разыгрывается» основная семиотическая тема рассказа -
социальный престиж в рассуждении самосохранения,
устойчивости гарантий своего места в обществе. При этом
социальный престиж подкрепляется не службой в канцелярии (Зимовейкин и Рем-
нев в ней не служат, хотя их положение едва ли многим отличается от
положения жильцов), не богатством (как у Прохарчина), не писанием стихов
(Макар Иванович). Понятие социального престижа у жильцов Устиньи
Федоровны сугубо идеально. Оно реализуется во внешнем поведении,
чаще всего именно в разговорах, точнее, в спонтанных, изолированных
высказываниях, в слове, которое слабо соотнесено с действительностью,
но, выбранное произвольно, утверждает того, кто сказал его, в том
идеальном пространстве, где господствует социальная комфортность. С точки
зрения реальных связей, такое слово маломощно, опустошено или даже вовсе
пусто (ведь все равно оно ничего не может изменить), но оно последнее
средство (и поэтому оно - все) там, где торжествует обнаженная знаковость
(«Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь все
народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих и пьешь его.
Варенька, для вида, для тон а...»). Отсюда - важность слова как
знака социального самоопределения или отчуждения, отсюда - постоянная
на него оглядка: «Он, бедный-то человек, он взыскателен, он и на свет то
божий иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит, да вокруг себя
смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому
слову, - дескать, не про него ли там что говорят»
(«Двойник»)70.
Разобранные выше «характеристики», составляющие основу
высказываний действующих лиц в «Господине Прохарчине», обильные в речи рас-
8. B.H. Топоров
225
сказчика (по крайней мере, там, где она, как кривое зеркало, отражает мир
героев рассказа) и весьма мало продвигающие сюжет, как раз и служат
способом утверждения и верификации своего положения в обществе и
прощупывания, разведки «чужого» положения. «Знаковая» игра, предполагающая
возможность постоянного (а иногда и быстрого) изменения системы
ценностей, требует неустанной деятельности, внимания, контроля. Высказывания
действующих лиц и призваны для решения этих задач. Сополагаясь одно
другому, эти высказывания, часто лишенные каких-либо надежных
внутренних связей (грамматических, или смысловых, или ситуационных),
образуют род диалога или, вернее, псевдодиалога, который не может преодолеть
монологической изолированности и даже разорванности своих частей.
В этих условиях любая внешняя примета может стать предлогом для
формального объединения этих частей:
«- Как! - закричал Марк Иванович, - да чего же вы боитесь-то?
чего ж вы ряхнулись-то? ...Дом сгорел, так и у вас голова отгорит, а?
Так, что ли, сударь? Так ли, батюшка? так ли?
- Ты, ты, ты глуп! - бормотал Семен Иванович. - Нос отъедят,
сам с хлебом съешь, не заметишь...
- Каблук, пусть к а б л у к, - кричал Марк Иванович, не
вслушавшись, - каблуков ый я человек, пожалуй. Да ведь мне не
экзамен держать...» (с. 255: глуп z> каблук з каблуковый человек и т.д.);
или другой пример:
«- Да ведь, Семен Иванович! - закричал вне себя Зиновий Про-
кофьевич, перебивая хозяйку. - Семен Иванович, ...шу тки тут что
ли, с вами шутят тепер ь...
- Ну, слышь ты теперь, - отвечал наш герой... - шут кто?
Ты шут, пес шут, шутовской человек, а шутки делать
по твоему, сударь, приказу, не буду...» (с. 253: шутки... шутят
теперь з теперь, шут кто z> шут z> пес шут z> шутовской
человек =) шутки и т.д.)71.
Случаи такого рода не единичны. К ним примыкают и другие примеры
«диалогов», когда составляющие их части скрепляются не столько по смыслу,
сколько по внешним зацепкам. Ср.:
«- Да вот оно и того... - Что того?! Да вот, поди ты с
н и м!... - Что поди ты с ним?-Да вот он в о л ь н ы й, я
в о л ь н ы й; а как лежишь-лежишь и того... - Чего?- Ан и
вольнодумец... - Воль-но-ду-мец!...» (с. 256).
или примеры, в которых общие для обеих частей диалога приметы могут
иметь и смысловую мотивировку, ср.:
«Сеня, необидчивый ты человек, миловидны й... ты
добродетельный, слышал?... - Да вот; оно хорошо, - сказал он, -
миловидный я... и добродетеле н... слышь τ ы...» (с. 256).
В примерах такого рода, во всяком случае в наиболее диагностических из
них, связь между частями диалога подчеркнуто формальна и
бездоказательна; части остаются изолированными друг от друга, от конкретной ситуации
226
и возможных с ее стороны мотивировок. Повторяющиеся элементы в
разных частях высказывания не в состоянии превратить псевдодиалог в
подлинный диалог. «Диалог» в «Господине Прохарчине» нередко тяготеет к
разложению в серию монологов72, и в этом отношении он сам знак некоей
деградации, упрощения, в противоположность таким по своему происхождению
монологическим жанрам, как диатриба (диалогизированная беседа с самим
собой). Повторяемость же элементов в псевдодиалогах «Господина
Прохарчина» есть знак возврата (независимо от того, идет ли речь о
повторении вторым голосом того, что сказано первым, или о повторении
одного и того же набора характеристик по всему рассказу),
ритуального обмена словами73- знаками социального самоопределения,
устанавливающими «цену» именно в процессе обмена ими. Однако этот
«обмен» предстает в вырожденной форме: ни удостоверить свое собственное
положение в обществе, ни определить положение других он, строго говоря,
не может, поскольку за словами не стоит какая-либо реальность, даже
правовая74. В этой ситуации из всех жильцов Устиньи Федоровны лишь Прохар-
чин проявляет трезвость: он самоопределяет себя - постоянно,
последовательно, весьма изобретательно (ср. мотив золовки, немецкого замка и т.д.) -
именно как бедняка, т.е. ниже, чем то, на что он мог бы
претендовать, имея чиновническое жалованье75 (не говоря уж о его накоплениях,
скрытых для внешнего наблюдателя). Такое самоопределение Прохарчина
вполне целесообразно, поскольку гарантии своей социальной устойчивости
и безопасности он видит не в богатстве, а как раз в сокрытии его. В отличие
от Голядкина, чей козырь - открытость («Не интриган, - и этим тоже
горжусь. Действую не втихомолку, а открыто, без хитросте й...
Маску надеваю лишь в маскарад»), Прохарчин надевает маску бедняка, но
бедняка тихого, смиренного, не бунтующего. Прохарчин - единственный, кто,
самоопределившись, пытается предпринять какие-то действия. Для его
сожителей же самоопределение словами оказывается лишь игрой ради игры.
Одним из важных показателей ситуации обмена, как она отражается в
языке рассказчика, являются как раз «именования» жильцов Устиньи
Федоровны, настойчиво, почти каждый раз повторяемые в тексте при
упоминании фамилий. Сам Прохарчин, если только он не Семен Иванович
Прохарчин, Семен Иванович, Сенька, выступает почти всегда как господин
Прохарчин (исключение - в речи рассказчика, передающей отношение к Прохарчи-
ну жильцов: «Зла ему, конечно, никто не желал, тем более что все еще
в самом начале умели отдать Прохарчину справедливость и решили,
словами Марка Ивановича, что он, Прохарчин, человек хороший и
смирный», с. 241; «...причем Марк Иванович... объявил... что Прохарчин
человек пожилой и солидный...», с. 241). Именование Прохарчина в
рассказе господином назойливо и нарочито: рассказчик как бы дал себе зарок
быть безукоризненно официальным, в любых обстоятельствах соблюдать
этикет и тем самым заранее оградить себя от возможных упреков в
необъективности. Мнимость определения Прохарчина как господина,
несоответствие «титула» человеку, его носящему и самоопределяющему себя вовсе не
как господина, особенно очевидны в контекстах, где изображается
мизерность, неблагообразие Прохарчина («Мало того: хотя лишенный таким
образом собственного своего воображения, господин Прохарчин фигурою
8*
227
своей и манерами не мог, например, никого поразить с особенно выгодной для
себя точки зрения...», с. 241). Вместе с тем следует помнить, что никто из
сожителей Прохарчина (кроме Океанова и то однажды, см. с. 259) не
называется господином. Господином с явной иронией называет рассказчик Зимо-
вейкина: «...вдруг дверь в кухню скрипнула, отворилась, и пьянчужка-
приятель, -иначе, господин Зимовейкин, - робко
просунул голову...» (с. 253)76, что, конечно, сильно дискредитирует употребление
этого слова и в других случаях. Налет ироничности и некоторой
загадочности несомненен и еще в одном месте рассказа, где речь идет о господине:
«...дверь отворилась, и внезапно, как снег на голову, появились сперва один
господин благородной наружности с строгим, но
недовольным лицом... Господин строгой, но
благородной наружности подошел прямо к Семену Ивановичу,
пощупал его, сделал гримасу, вскинул плечами и объявил весьма известное,
именно, что покойник уже умер... Тут господин с благородной,
но недовольной осанкой отошел от кровати, сказал, что
напрасно его беспокоили, и вышел» (с. 259).
Отмеченность «именования» такого рода очевидна уже в начале
рассказа, где списком задается вся номенклатура:
Из жильцов особенно замечательны были: Марк Иванович, умный и
начитанный человек; потом еще Оплеваниев-жилец; потом еще
Преполовенко-жилец, тоже скромный и хороший человек; потом
еще был один Зиновий Прокофьевич, имевший непременною целью
попасть в высшее общество; наконец, писарь Океанов...; потом еще
другой писарь Судьбин; Кантарев-разночинец; были еще и другие
(с. 241).
Существенно, что жильцы-солисты Марк Иванович и Зиновий
Прокофьевич, о которых можно сказать нечто реальное, индивидуализирующее
их, лишены не только фамилий, но и номенклатурных определений.
Жильцы-статисты снабжены здесь и далее именами-приложениями: Оплеваниев-
жилец, Преполовенко-жилец, Кантарев-разночинец. Океанов, занимающий
промежуточное положение между солистами и статистами, именуется (как и
Судьбин, первым обнаруживший пропавшего Прохарчина) писарь Океанов
(позже и: жилец Океанов)11. Трижды упоминается в рассказе
Авдотья-работница, по разу Прохарчин-мудрец (в обращении Зимовейкина; ср. там же:
брат-мудрец) и Ремнев-товарищ1*. Интересно, что такого рода
«именования» употребляются не только при представлении рассказчиком
действующих лиц или в тех случаях, когда это оправдано сюжетно, но и в остальных
случаях, образуя даже такие сочетания как «Марк Иванович прометал и
проставил полмесячное жалованье Преполовенке и Кантареву-жильцам»
(с. 248). Эти псевдотитулы, определяющие вид (фамилия) и род (социальное
положение), профанируют сходный тип титулатуры в устойчивых, сильно и
тонко иерархизованных коллективах с выработанной этикетной традицией.
Они, по сути дела, пусты, и в отношении их нет свободного выбора; они
детерминированы почти с той же необходимостью, как некий обязательный
грамматический элемент (например, артикль), но в отличие от последнего
они лишены собственного значения, которое заменяется его имитацией. Но
228
сама манера такого именования заразительна: она переходит за пределы
своего исходного круга и захватывает почти все пространство вплоть до
стандартного капитан-исправник, ср. в рассказе: брат-мудрец,
гвоздь-человек, попрошайка-пьянчужка, пьянчужка-приятель, артист-шарманщик,
ванька-извозчик, золовка-нахлебница, попрошайка-салопница,
кошка-фаворитка, вор-воробей, плебеи-четвертачки; ср. еще млад-голубчик, млад-
млад, млад-Устиньюшка. Сюда же следует отнести и ругательства с
детерминативом человек: шутовской человек, тузовый человек, гвоздыревый
человек, каблуковый человек, празднословный человек и даже прохарчинский
человек, употребляемые предикативно: прохарчинский ты человек,
каблуковый я человек и т.д. Также, видимо, сродни
детерминативам-классификаторам туз, князь, шут, каблук, задающие оценочную шкалу,
ориентированную на социальную иерархию. Легко заметить, что обычные «именования»
соквартирантов Прохарчина не столько дифференцируют, сколько
отождествляют или смешивают их носителей: естественно, не поддается
установлению, какой детерминатив указывает на более высокое положение -
жилец, разночинец, писарь и т.п.
Этот эффект смешения снова возвращает нас к отмеченной уже
ранее особенности, проходящей через все уровни рассказа, а именно, к
хаотичности, аморфности, косности, недостаточной расчлененности элементов.
Речь Семена Ивановича в наибольшей степени соответствует этим
характеристикам79 и сама прежде всего усиливает их значение. Речевая манера
Прохарчина играет роль магнитного фокуса, к которому устремляется все
остальное. Ее пример заразителен, и «под Прохарчина»80 начинают говорить и Марк
Иванович, и Зиновий Прокофьевич, и Зимовейкин (примеры см. выше81).
Причем такая перестройка происходит не только в ситуации шутки,
розыгрыша, провокации, но даже и в тех случаях, когда говорящий нуждается в том,
чтобы его высказывание было сформулировано кратчайшим образом и, как
можно скорее, воспринято. Прохарчину удается, следовательно, навязать
собеседнику свою механику «вязкой» среды в отношении языка, и, подобно
тому, как успешное продвижение в этой среде возможно лишь при признании и
принятии ее законов, так и в диалоге с Прохарчиным нельзя рассчитывать на
успех, не усвоив его манеры. И не только в диалоге. Даже описание ситуации,
в которой участвует Прохарчин, особенно если он говорит, имплицирует
обращение к прохарчинской речевой манере то в виде совершенно корректной
имитации, то в виде откровенного «сбоя» в эту манеру с нарушением
грамматических правил переключения из прямой речи в авторскую. Примеры этих
«креолизованных» высказываний, синтезирующих речь рассказчика и про-
харчинскую «набивную» манеру, весьма показательны, и здесь достаточно
привести лишь наиболее характерные из них. Ср.:
«Тут господин Прохарчин даже признался, единственно потому,
что вот82 теперь оно к слову пришлось, что он, бедный
человек, еще третьего дня у него, дерзкого человека, хотел
занять денег рубль, а что теперь не займет, чтоб не хвалился
мальчишка, что вот, мол, как, а жалованье у меня-де такое, что и корму
не купишь; и что, наконец, он, бедный человек, вот
такой, как вы его видите, сам каждый месяц своей золовке по пяти
рублей в Тверь отсылает, и что не отсылай он в Тверь золовке по пяти
229
рублей в месяц, так умерла бы золовка, а если б умерла бы золовка-
нахлебница, то Семен Иванович давно бы себе новую одежду
состроил...» (с. 243-244; пересказ рассказчиком речи Прохарчина
с имитацией ее);
«Семен Иванович... прибавил в заключение, что-то вроде того,
что когда Зиновий Прокофьич вступит в гусары, так отрубят ему,
дерзкому человеку, ногу в войне и наденут ему вместо
ноги деревяшку, и придет Зиновий Прокофьич и скажет: «Дай, добрый
человек, Семен Иванович, хлебца!» - так не даст Семен Иванович
хлебца и не посмотрит на буйного человека Зиновия Про-
кофьевича, и что вот, дескать, как, мол; поди-ка ты
с ним» (с. 244; пересказ рассказчиком речи Прохарчина с
имитацией ее и с включением прямой речи Зиновия Прокофьевича, как ее
представляет себе Прохарчин);
«...потом распознали, будто Семен Иванович предсказывает, что
Зиновий Прокофьич ни за что не попадет в высшее общество, а что
вот портной, которому он должен за платье, его прибьет,
непременно прибьет за то, что долго мальчишка не платит, и что,
«наконец, ты, мальчишка, - прибавил Семен Иванович, -
вишь, там хочешь в гусарские юнкера
перейти, так вот не перейдешь, гриб съешь, а что
вот тебя, мальчишку, как начальство узнает
про все, возьмут да в писаря отдадут; вот,
мол, как, слышь ты, мальчишк а!» (с. 243; пересказ
рассказчиком речи Прохарчина с имитацией ее вплоть до перехода в
неправильно присоединенную к речи рассказчика прямую речь
Прохарчина);
«...Семен Иванович, немедленно обернувшись к оратору, с
твердостью объявил... что «ты, мальчишка, молчи! празднословный ты
человек, сквернослов ты! слышь, каблук! князь ты, а? понимаешь
штуку?» (с. 252; пересказ рассказчиком речи Прохарчина с
неправильным включением прямой речи);
«...Марк Иванович... объявил, что Семен Иванович должен
знать, что он меж благородных людей и что "милостивый государь,
должны понимать, как поступают с благородным лицом"»
(с. 252-253; пересказ рассказчиком речи Марка Ивановича с
неправильным включением прямой речи);
«...но Марк Иванович... начал долго и благоразумно внушать
беспокойному, что «питать подобные мысли, как у него теперь в
голове, во-первых, бесполезно, во-вторых, не только бесполезно, но даже
и вредно; наконец, не столько вредно, сколько даже совсем
безнравственно; и причина тому та, что Семен Иванович всех в соблазн
вводит и дурной пример подает» (с. 254; переход от речи рассказчика к
цитате из прямой речи Марка Ивановича);
«Наконец, Марк Иванович... начал весьма ласково говорить, что
Семену Ивановичу нужно совсем успокоиться, что болеть скверно и
стыдно, что так делают только дети маленькие, что нужно
выздоравливать, а потом и служить... Тут уж нечего было останавливаться:
Марк Иванович не вытерпел... объявил напрямки... что пора
вставать, что лежать на двух боках нечего, что кричать днем и ночью о
пожарах, золовках, пьянчужках, замках, сундуках и чорт знает об
чем еще - глупо, неприлично и оскорбительно для человека, ибо
если Семен Иванович спать не желает, так чтоб другим не мешал и
чтоб он, наконец, это все изволил намотать себе на ус» (с. 252;
пересказ рассказчиком речи Марка Ивановича с имитацией ее);
«...рассказал, что страдает за правду, что прежде служил по
уездам, что наехал на них ревизор, что пошатнули как-то за правду его
и компанию, что явился он в Петербург и пал в ножки к Порфирию
Григорьевичу, что поместили его, по ходатайству, в одну
канцелярию, но что, по жесточайшему гонению судьбы, упразднили его и
отсюда, затем что уничтожилась сама канцелярия, получив изменение;
а в преобразовавшийся новый штат чиновников его не приняли,
сколько по прямой неспособности к служебному делу, столько и по
причине способности к одному другому, совершенно постороннему
делу, - вместе же со всем этим за любовь к правде и, наконец, по
козням врагов» (с. 247; пересказ рассказчиком речи Зимовейкина с
легкой, чуть ироничной имитацией ее и с переходом к собственной речи
рассказчика);
«Все охали и ахали, всем было и жалко и горько, и все меж тем
дивились, что вот как же это таким образом мог совсем заробеть
человек? И из чего ж заробел? Добро бы был при месте большом,
женой обладал, детей поразвел; добро б его там под суд какой ни есть
притянули; а то ведь и человек совсем дрянь, с одним сундуком и с
немецким замком, лежал с лишком двадцать лет за ширмами, молчал,
свету и горя не знал, скопидомничал, и вдруг вздумалось теперь
человеку, с пошлого, праздного слова какого-нибудь совсем
перевернуть себе голову, совсем забояться о том, что на свете вдруг стало
жить тяжело... А и не рассудил человек, что и всем тяжело! «Прими
он вот только это в расчет, - говорил потом Океанов, - что вот всем
тяжело, так сберег бы человек свою голову, перестал бы куролесить
и потянул бы свое кое-как куда следует» (с. 257; пересказ
рассказчиком речей жильцов с имитацией их - вплоть до целых блоков,
которые вполне могли бы быть прямой речью жильцов, - и с плавным
переходом к прямой речи Океанова);
«...причитала, что загоняли у ней жильца, как цыпленка,
и что сгубили его «все те же злые надсмешники», а на третий
выгнала всех искать и добыть беглеца во что бы то ни стало, живого иль
мертвого» (с. 246; пересказ рассказчиком речи Устиньи Федоровны с
имитацией ее и включением прямой цитаты);
«...держала у себя несколько штук таких постояльцев, которые
платили даже и вдвое дороже Семена Ивановича, но, не быв
смирными и будучи, напротив того, все до единого «злыми надсмешниками»
над ее бабьим делом и сиротскою беззащитностью, сильно проигры-
231
вали в добром ее мнении...» (с. 240; пересказ рассказчиком речи
Устиньи Федоровны с имитацией ее и включением прямой цитаты);
«В показании же хозяйкином значилось, что "Семен-от Иванович,
млад-голубчик, согрей его душеньку, гноил у ней угол два десятка лет,
стыда не имея, ибо не только все время земного жития своего
постоянно и с упорством чуждался носков, платков и других подобных
предметов, но даже сама Устинья Федоровна собственными
глазами видела, с помощью ветхих ширм, что ему, голубчику, нечем
было подчас своего белого тельца прикрыть"» (с. 242; переход речи
рассказчика в цитату, являющуюся прямой речью Устиньи
Федоровны; прямая речь построена неправильно, со сбоем в речь рассказчика);
«Иль оттого, что характерный танец оказался уж слишком
характерным, иль оттого, что он Устинью Федоровну, по словам ее83,
как-то "опозорил, и опростоволосил, а е й к тому же сам Ярослав
Ильич знаком, и если б захотела она, то давно бы сама была обер-
офицерской женой", - только Зимовейкину пришлось уплывать
восвояси» (с. 247; пересказ рассказчиком речи Устиньи Федоровны, с
цитатой, являющейся неправильно оформленной прямой речью);
«...а Устинья Федоровна завыла совсем, причитая, что "уходит
жилец и рехнулся, что умрет он, млад, без паспорта, не скажется, а
она, сирота, и что ее затаскают"» (с. 255; пересказ рассказчиком
речи Устиньи Федоровны с неправильным включением ее прямой речи
в виде цитаты).
Естественно, что эта стихия смешения не удерживается в пределах речи
рассказчика84 и захватывает и речь действующих лиц. Лучший пример (и
шедевр Достоевского) прямая речь Устиньи Федоровны, подготовленная
другими образцами ее речи - прямой, в пересказе рассказчика или креоли-
зованной85 - и завершающая цепь высказываний действующих лиц:
«- Ох уж ты мне млад-млад! - продолжала хозяйка, - да что
ломбард! принеси-ка он мне свою горсточку да скажи мне: возьми, млад-
Устиньюшка, вот тебе благостыня, а держи ты младого меня на
своих харчах, поколе мать сыра земля меня носит, - то, вот тебе образ,
кормила б его, поила б его, ходила б за ним. Ах, греховодник,
обманщик такой! Обманул, надул сироту!..» (с. 262).
Здесь в прямую речь Устиньи Федоровны включается прямая речь Про-
харчина (как ее представляет себе хозяйка, т.е. как слепок с ее собственной
прямой речи), в которой эпитет млад сначала относится к хозяйке (млад-Ус-
тинъюшка), причем мужской род млад в обращении к женщине выдает
первоначальный источник такого употребления (речь самой Устиньи Федоровны с
ее уже известным читателю млад-голубчик), а во второй раз млад относится
уже к Прохарчину (младого меня), причем и здесь млад перенесен из речи
Устиньи Федоровны. Трудно представить себе другой пример столь глубокого
«заражения» своего слова «чужим», как этот (вплоть до попрания
грамматических норм), такой степени внедренности одного в другое, укрытости и
дурной возвратности и связанности («запечатанности»), удаленности
от широкого мира прямого слова, ясного взгляда, открытых пространств.
232
* * *
Выше упоминалось о двух центрах кульминации в рассказе и о сугубой
важности первого из них: как по существу, так и потому, что исследователи
до сих пор проходили мимо него, заостряя внимание на втором центре -
обнаружение денег, - оформляющем тему богатого бедняка и задающем более
или менее традиционную систему ассоциаций. С анализом этих двух центров
самым непосредственным образом связан вопрос о том, что же такое
Прохарчи н, и- через него - о ведущей идее рассказа. К сожалению,
пока оба эти вопроса не получили удовлетворительного решения, хотя и
есть некоторые намеки на приближение к нему.
В соответствии с известной моделью русской жизни, Прохарчин видит
высшую гарантию своей безопасности в укрытости, ставшей
принципом86. Дело не только в том, чтобы чужой взгляд не проникал за его
ширмы, чтобы никто не знал, где спрятано его сокровище: не менее важно,
чтобы намерения, желания, интересы, мысли, планы Прохарчина
сохранялись в тайне. Эта русская «Geborgenheit», если говорить языком
экзистенциалистских аналогий, откровенно предпочитается им открытости.
Для Прохарчина, конечно, важнее скрыть, утаить свое, нежели открыть,
найти, узнать чужое, хотя это последнее, вероятно, проще в силу
относительной открытости окружающего Прохарчина коллектива (жильцы) и,
главное, перспективнее: статус бедного человека, принятый и истово
разыгрываемый Семеном Ивановичем, должен был бы, казалось, направлять его
на поиск шансов вовне, снаружи, в обществе, у других, т.е. там, где
можно возместить недостачу. Но динамическому, хотя и связанному с риском,
выходу вовне, активному движению, попыткам развить успех или хотя бы
достигнуть его Прохарчин предпочитает косную, инертную позицию
неподвижности и укрывания87. Подобно Кащею, Прохарчин проводит большую
часть времени у себя за ширмами, на своем тюфяке, у своего сундука,
который обернулся для него смертью. Дом, квартира Устиньи Федоровны, угол,
пространство за ширмами, постель, тюфяк, сундук задают структуру
укрытия, отмечая этапы перехода извне вовнутрь, от рискованного к надежному
(именно внутри обитает надежность (Verlässlichkeit). В пределах этого
узкого мира геометрическая структура определяется тем, что прохарчин-
ский locus, его «внутри», его центр сдвинут в угол, за ширмы; остальное
пространство, геометрический центр заняты соседями-жильцами,
выступающими как внешний наблюдатель. Пусть от безделья, шутки ради, но они
активны. Своими рассказами-импровизациями (слухами) они нарушают
стабильность ситуации88, существовавшую на старой квартире, на Песках,
выдвигая вопросы-гипотезы, провоцируя Прохарчина на ответы, чтобы затем
строить новые тесты и тем самым еще более ужесточать ситуацию. В этих
условиях у «неподвижного» Прохарчина против «подвижного» противника
есть лишь два средства борьбы (по сути, весьма русских): грубость, в
которой он очень агрессивен (об этом не раз говорится в рассказе и прямо и
косвенно), и хитрость, о чем также сообщает рассказчик. Эта хитрость
состоит прежде всего в том, что Прохарчин ведет себя так, как будто
подозрения его сожителей относительно богатств, запрятанных в сундуке,
имеют некоторые основания, хотя и сильно преувеличены. Семен Иванович сам
233
«подыгрывает» жильцам, создавая с их помощью образ сундука, хранилища
наиболее утаиваемых им (и, следовательно, ценных) вещей. Для этого он
выдвигает тему дорогого замка немецкой работы, который предполагается
в скором времени приладить к сундуку (собственно говоря, этот замок,
действительно обнаруженный впоследствии среди оставшихся пожитков, -
единственная из известных жильцам дорогих (не по средствам),
вещей Прохарчина), и тем самым отвлекает внимание от дырявого
тюфяка89, который находился вне всяких подозрений (вместе с тем
разыгрывается и другая, отчасти противоположная роль - бедняка, чье тяжелое
положение усугубляется непредвиденными вычетами, ср. с. 249).
Свою роль Семен Иванович сыграл вполне успешно. Над его трупом
дерутся около сундука Зимовейкин и Ремнев90; «Устинья Федоровна тащила
из-под кровати сундук, обшаривала впопыхах под подушкой, под тюфяком91
и даже в сапогах у Семена Ивановича...» (с. 259); «Ярослав Ильич... ловко
овладел сундуком, который хозяйка уже пыталась вскрывать, ...спросил
ключ от сундука, который оказался в кармане пьянчужки-приятеля, и
торжественно, при ком следует, вскрыл добро Семена Ивановича» (с. 259). Но
там - «две тряпки, одна пара носков, полуплаток, старая шляпа, несколько
пуговиц, старые подошвы и сапожные голенища, - одним словом, шильце,
мыльце, белое белильце, то есть дрянь, ветошь, сор, мелюзга, от которой
пахло залавком; хорош был один только немецкий замок» (с. 259).
Тюфяк же лежит нетронутым и не заподозренным до самого конца: лишь
случай помогает обнаружить спрятанные в нем деньги.
Не случайно, что сожители Семена Ивановича чувствуют себя
обманутыми им, которого упрекали в простоте и недостатке воображения. «Ах,
греховодник, обманщик такой! Обманул, надул сироту!..»-
воскликнет в конце Устинья Федоровна. И смерть проясняет и закрепляет
то, что прошло незамеченным для соседей Прохарчина: «Впрочем, Семен
Иванович смотрел скорее как старый самолюбец и вор-воробей. Он теперь
притихнул, казалось, совсем притаился, как будто и не он виноват, как
будто не он пускался на шутки, чтоб надуть и провести всех добрых
людей, без стыда и без совести, неприличнейшим образом... как
опытный, тертый капиталист, который и в гробу не желал бы
потерять минуты в бездействии, казалось, весь был предан каким-то
спекулятивным расчетам. В лице его появилась какая-то глубокая дума,
а губы были стиснуты с таким значительным видом, которого никак нельзя
было бы подозревать при жизни принадлежностью Семена Ивановича. Он
как будто бы поумнел. Правый глазок его был как-то плутовски
прищурен...» (с. 262). Финал рассказа вынуждает к коррективам: упрек в
простоте и недостатке воображения, в недалекости и ограниченности с
неменьшим основанием может быть обращен и к сожителям Семена
Ивановича. Их примитивным шуткам и хитростям противостоит, пожалуй, более
сложная и патологически изощренная прохарчинская хитрость,
заставляющая его разыгрывать развернутые сцены общения с жильцами (чаепитие,
разговоры, тема золовки и т.п.)92. В ходе этой «псевдокоммуникации» (герой
сообщает своим сожителям мнимости, то, что не соответствует
действительности, а сам стремится выяснить у них то, что к этой действительности и, в
частности, к нему самому относится), благодаря ей, Прохарчин своим пове-
234
дением показывает и доказывает свою «простоту» и «бедность» и
одновременно наталкивает простодушных и глуповатых «надсмешников» на
интересующие его темы (канцелярия, Демид Васильевич и т.д.).
Подчеркивая эти особенности Прохарчина, поскольку они не привлекли
внимания исследователей, все-таки нельзя забывать главного: торжество
замысла (утаиванье денег, обман сожителей) достигается за счет поражения,
смерти. Физическая (и психическая) устойчивость Прохарчина оказалась
слабее, менее надежной, чем сам замысел, плоды которого пережили своего
творца. И в этом отношении он подобен Кащею: как и сказочный богач и
скупец, носящий в себе свою смерть, Прохарчин хранит богатство б е з -
благодатно, и потому оно экстенсивно, в принципе не реализуемо. В
рассказе ни разу не говорится о том, как копит он деньги93, какие
чувства вызывает у него его богатство, какие планы строит он
относительно его употребления в будущем. И все-таки трудно, пожалуй,
сомневаться в том, что здесь нет и в помине идейного сладострастия
Скупого рыцаря перед раскрытым сундуком, наполненным сокровищами.
Более того, создается впечатление, что Прохарчин вообще не
собирается использовать накопленные деньги, что они для него не средство, а
цель или - здесь можно сказать еще сильнее и определеннее - они даже не
цель, а такое же бесцельное, лишенное какого-либо практического
стимула повторение, некая, давно уже порвавшая связь с
первоначальным смыслом, мотивом, желанием, операция pour soi-même. Из двух задач
(накопить и утаить), поставленных самому себе Прохарчиным,
делается неверное обобщение (по «утаить»), естественная иерархия задач
получает болезненное искажение, и целью становятся уже не деньги, а их
утаивание, при котором само действие (утаивать) куда важнее объекта этого
действия (деньги, богатство). Об этом объекте Прохарчин как бы вовсе и
независимо от своей воли забывает, как забывает он и о том, что, по сути,
он богатый человек. Поэтому, когда уже в конце Прохарчин с такой
сердце раздирающей силой говорит о своей бедности, он искренне убежден
(верит) в том, что он беден, беден всегда и везде, при любых
обстоятельствах. Вот эта психология бедняка (или даже сама возможность «прорыва» в
эту сферу) и кладет решительный водораздел между Прохарчиным и
Скупым рыцарем, какие бы другие аналогии ни существовали между ними94.
В отличие от Скупого рыцаря у Прохарчина нет идей относительно
денег или власти, которую они дают над людьми. Деньги для него не связаны
с задачей обогащения себя или мести человечеству. Они для него
постоянный источник беспокойства, переходящего в манию, бремя, от которого он
не в состоянии избавиться, камень на шее, увлекающий его к гибели.
Разумеется, сама ситуация не позволяет избежать сравнения со Скупым
рыцарем95, а также другими знаменитыми скупцами - литературными
и «фельетонными». Но сравнение, верное в своем начале, в самом
истоке, вскоре оборачивается против сравнивателей: на τ о м же субстрате
«разыгрывается» совершенно иной смысл. Тема скупца парадоксальным
образом подменяется и в значительной степени вытесняется как бы с черного
хода проникшей темой бедного человека, бедного вопреки богатству,
вопреки всему. Смешное, неприятное, даже отталкивающее отступает в
образе Прохарчина на задний план; во всяком случае оно перестает быть
235
решающим аргументом, когда совершается последний суд над Прохарчи-
ным. Прохарчина нельзя не жалеть, не сострадать ему, даже не плакать над
ним - навстречу слезному дару, открывшемуся Семену Ивановичу:
Последовал болезненный кризис. Дробные слезы хлынули вдруг
из его блистающих лихорадочным огнем серых глаз. Костлявыми,
исхудалыми от болезни руками закрыл он свою горячую голову,
приподнялся на кровати и, всхлипывая, стал говорить, что он совсем
бедный, что он такой несчастный, простой человек, что
он глупый и темный, чтоб простили ему добрые люди, сберегли,
защитили, накормили б, напоили его, в беде не оставили, и Бог знает
что еще причитал Семен Иванович. Причитая же, он с диким
страхом глядел кругом, как будто ожидая, что вот-вот сейчас потолок
упадет или пол провалится. Всем стало жалко, глядя на
бедного, и у всех умягчились сердц а... Все охали и
ахали, всем было и жалко и горьк о... Приходили к нему,
справлялись о нем, утешали его... (с. 257).
Рыдали Устинья Федоровна и Зиновий Прокофьевич; оставив в стороне
выяснение истины, пришел на помощь Марк Иванович, и сам рассказчик,
забыв свой обычный тон (то претенциозно-менторский, то резкий и
недоброжелательный), отдался во власть жалости и сострадания. Так перед смертью
Семен Иванович, который всегда был один и против всех, не только нашел путь
к людям, к раскаянью, к исповеди, но и объединил на миг вокруг своего горя
всех сожителей, воззвав к тому лучшему и самому человеческому, что было в
них. Именно поэтому и несмотря на смысл второго центра рассказа
(разоблачение Прохарчина) и личные качества (грубиян, обманщик, скряга), Прохар-
чин начинает тяготеть к тому ряду бедных людей (от Девушкина до Мармела-
довых), которые вызывают душевную расположенность и у автора, и у
читателя, хотя сам по себе герой рассказа не может вызвать особых
симпатий. «Сам по себе» здесь не что иное, как самый верхний и внешний слой
прохарчинской сути, Прохарчин с точки зрения людей стандартизованно-по-
ниженного сознания, определяемого миром Man и чуждого порывов к
подлинному бытию. Ничто не заставляет читателя в его взгляде на Прохарчина
оставаться на уровне сожителей Семена Ивановича. Достоевский оставил
читателю свободу выбора более глубоких решений и даже намекнул на то, как
их искать. Оказывается, «сам по себе» превращается в нечто иное в некиих
кризисных условиях, в ситуации последнего слова, последней воли, бы-
тия-к-смерти (Sein zum Tode). Но ведь - и это было бы в духе Достоевского -
просветление Прохарчина можно выводить не из той ситуации, которая это
просветление вызвала, а наоборот, считать, что лучшее в Прохарчине
мы только и можем видеть в этих особых у с л о в и -
я х96. И тут уж виноват не столько Прохарчин, сколько мы, читатели, не
ушедшие далеко от «сочувствователей» из рассказа. Если же все-таки идти
дальше, предоставив «сочувствователям» жалеть и оплакивать Прохарчина
только в минуту его предсмертной исповеди, то окажется, что герой рассказа
заслуживает жалости вообще. Прохарчина жалко не вопреки его
скаредному отношению к деньгам, а (как это ни странно) именно и из-за него. Ведь в
сложившихся обстоятельствах Прохарчин, не обладал возможностью свобод-
236
ного выбора: очень скоро деньги, ставшие для него тем капканом, куда он
попал по своей простоте, подчинили его себе; в паре Прохарчин -
деньги опять разворачивается игра взаимопереходов:
одушевленный герой пассивен, а неодушевленные деньги а к -
тивны; именно они ищут героя, выбирают его, овладевают им и, не дав ему
ими воспользоваться, доводят его до смертного финала. Поэтому при
некотором вполне разумном взгляде скаредность Прохарчина дважды
вторична: во-первых, она может пониматься как некий императив, исходящий от
активного начала (деньги) к пассивному (герой); во-вторых, она у
Прохарчина - актерская маска, возникающая лишь в связи с тем, что нужно изобразить,
живописать свою бедность, довести самое идею бедности до лишенных
душевной чуткости или просто бестолковых сожителей. При таком понимании
скаредность не столько отягощает вину бедного Семена Ивановича,
сколько - на следующем по глубине уровне - оправдывает его. То, что
поверхностно выступает как скаредность, по сути есть сигнал сгущающегося чувства
безысходности, загнанности в угол, откуда уже больше нет выхода97.
Может быть, сочувствие к Прохарчину увеличится, если он будет
сопоставлен с подобным ему в ряде отношений Раскольниковым (при том, что
само это подобие не исключает случаев контрастного его выражения). Как и
Раскольников, Прохарчин беден, но оказался обладателем богатства. Однако
использовать его и тем самым изменить свое положение к лучшему он не
смог. Этому помешали не столько внешние трудности (для Прохарчина их
вообще не было, да и для Раскольникова они невелики, а отчасти и вовсе
мнимы; трудность, напротив, в тайном хранении денег, в изъятии их из сферы
обращения), сколько типичный взгляд на деньги: их можно фантастически
бесцельно истратить, как это делают герой «Игрока» или сам Достоевский98, или
же вовсе не использовать (Прохарчин, Раскольников), что в конечном счете
почти одно и то же. В такой позиции прямо или косвенно и независимо от
внешних мотивировок выражается отказ от благополучия (часто
неосознанный), выбор проигрыша только потому, что выигрыш (деньги) порабощал бы
человека, лишал бы его свободной воли, укореняя его в сфере вещности,
несвободы, той дурной детерминированности, против которой не раз восстают
герои Достоевского уже вполне осознанно: «Помилуйте, - закричат вам, -
восставать нельзя: это дважды два четыре! ...Господи Боже, да какое мне
дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и
дважды два четыре не нравятся?» («Записки из подполья» // ПСС. Т. 5, с. 105).
Раскольников и Прохарчин, получив богатство, ведут себя равно
абсурдно, вопреки всем рекомендациям бытовой, эгоистической логики, но они
реализуют два противоположных варианта одной и той же ситуации.
Раскольников выше денег, у него над ними - его идея, которая лишь случайно
оказалась связанной с темой денег. Прохарчин, напротив, ниже денег (в
отличие от Раскольникова он, собственно говоря, не знает, зачем они ему
нужны: едва ли он нуждается теперь во второй половине обеда, без которой он
привык за десятилетия обходиться, или в нижнем белье; идея же
благотворительности ему чужда), он недостоин их и в этом смысле совершенно лишен
идей, которые ему иногда приписываются в литературе. Но в обоих случаях
(и для Раскольникова и для Прохарчина) деньги не только не приводят к
благополучию, но создают еще более трагическую ситуацию99. Из указанного
237
выше различия проистекает и другое. Раскольников, как сказочный герой,
ищет свой шанс, выйдя из дома вовне, тогда как Прохарчин,
напротив, сидит д о м а, в углу: он не идет к богатству, а неподвижно прикован
к нему и получает за это смерть, как его сказочный аналог Кащей. Но тут
же, на следующем шаге, возникает опровергающее это сравнение уточнение.
Последний выход Прохарчина из дома, выход как таковой, уже не по
проторенному пути в канцелярию, а в хаос петербургской жизни, кладет на
него печать близкой смерти. Подобно тому, как Раскольников,
столкнувшись с человеческим горем (в лице семьи Мармеладовых, ср. также письмо
матери), отвернулся от дальнейшей реализации своих первоначальных
замыслов, так и Семен Иванович, выйдя наружу, в мир, к людям, спровоцировал
явление образов бедности, беды, горя: то в виде Андрея Ефимовича,
«маленького, вечно-молчаливого, лысого человечка» с его «денежки-с!» - «Их
не будет и каши не будет-с... а у меня, сударь, семеро-с» (с. 249-250); то в
виде «того старика с геморроидальным лицом, в ветхом, чем-то подпоясанном
ватном халатишке... пробивавшегося... сквозь толпу, до дома, где горели у
него жена, дочка и тридцать с полтиною денег в углу под периной» (с. 251); то
в виде «той бедной, грешной бабы, о которой он уже не раз грезил во время
болезни своей» (с. 251)100 или «какого-то мужика, в разорванном, ничем не
подпоясанном армяке, с опаленными волосами и бородой», в котором
Прохарчин узнал «того самого извозчика, которого он ровно пять лет назад
надул бесчеловечнейшим образом, скользнув от него до расплаты в сквозные
ворота» (с. 251). Эти четыре «видения», где образы горя неизбежно
соединяются с темой денег, личной вины101, понимаемой уже
расширительно (строго говоря, виноват Прохарчин был только перед обманутым им
извозчиком102), ужаса, воплощенного в охватывающем героя со всех сторон
пожаре, где должно сгореть низкое и постыдное прошлое Прохарчина,
пробуждают его совесть. Беда и горе бедных людей, явившееся Прохар-
чину в болезненных грезах, были перенесены им на самого себя, так сказать,
интериоризированы в собственное сознание, чтобы разбудить совесть,
сострадание, сочувствие чужому несчастью и, следовательно, выйти на тот
путь, который приведет к людям, навсегда разрушив изолированность и
отчужденность. Это мыслимое новое состояние должно было обозначать
возврат к подлинно человеческому (в отличие от псевдокоммуникации
сожителей Прохарчина) и, следовательно, к истинному бытию.
Но этот возврат уже не сходен с тем дурным повторением, о котором
говорилось раньше. Прежний бесцельный круговорот (шутки жильцов,
вызывающие в сознании Прохарчина страх, «спускающийся» в подсознание и
оттуда выводимый вовне, отсылаемый, как болезнь в заговорах, обратно к
сожителям («А вот... сгоришь!»)103, которые на этой основе готовят новый
цикл шуток-издевательств) преодолевается, распрямляется. Воспоминания
о действительной вине трансформируются в образы горя с тем, чтобы
вывести Прохарчина уже на прямой путь этического бытия.
К сожалению, исследователи полностью игнорировали этот важнейший
мотив пробуждения совести, предполагающий последующее раскаяние.
Предсмертный монолог Прохарчина - не только первая и единственная в
рассказе попытка вступить в подлинный диалог, но и подступ к самому
раскаянию, его начало, прерванное последним беспамятством и смертью. Дей-
238
ствительные и мнимые (как выдуманная Прохарчиным бедная
золовка-нахлебница) образы вселенского горя, смешавшись в лихорадочном сознании
Семена Ивановича и возрастая в своем значении, уже вошли в его душу, и
это главное. Прохарчин не успел упасть на колени, поцеловать землю и
испросить прощения. Поэтому исповедь его, затронувшая на время сердца
сожителей (но не Белинского), оказалась забытой и даже как бы
опровергнутой после посмертного разоблачения героя (обнаружение денег).
Приуныла Устинья Федоровна, упрекая «обманщика» и «греховодника»;
«маленький человечек Кантарев, отличавшийся воробьиным носом, к вечеру
съехал с квартиры, весьма тщательно заклеив и завязав все свои сундучки,
узелки и холодно объясняя любопытствующим, что время тяжелое, а что
приходится здесь не по карману платить» (с. 261-262)104; Марк Иванович
утвердился еще более в своем взгляде на мир и на только что оконченную
жизнь; а многочисленные критики, не усомнившись, приняли за чистую
монету финальную сентенцию Марка Ивановича - тем более, что и автор
провокационно не опроверг и не оспорил резонера. Осталось не понятым, что
объяснение ходячей молвой неудачи замысла Семена Ивановича
(«простота», «недостаток воображения») - не более чем некий теневой прием,
намекающий (sapienti sat\) на подлинный смысл происшедшего. Не заметили, что
в свете уже совершившегося прорыва к этическому бытию разоблачение
Прохарчина мнимо (к тому же оно лишь следствие поступков,
предшествовавших исповеди и раскаянию и уже преодоленных в
душе), что оно запоздало и поэтому особенно жестоко. И когда недалекие
сожители и согласные с ними критики, следуя Мефистофелю, готовы уже
воскликнуть: «Er ist gerichtet!», они услышат Голос сверху: «Er ist gerettet!»
Эта, так сказать, меонально намечаемая тема спасения останется не
вполне мотивированной, если не вернуться к мотиву бунта Прохарчина. Страх
жизни, который и привел Семена Ивановича к смерти105, определяет выбор
одной из двух стратегий со стороны субъекта этого страха. Одна из них была
уже описана. Это - укрывание, последовательное и все более и более
углубляющееся забивание в угол. Именно этого принципа и придерживался
Прохарчин всю жизнь. Но есть и другой принцип - бунт. Хотя и отдаленно
и с осуждением, но об этом выходе помнят и Макар Алексеевич Девушкин106
и Яков Петрович Голядкин. Прохарчин - первый из героев Достоевского, кто
пробует бунтовать, т.е. пойти навстречу страху в надежде его преодолеть107.
Когда мера страданий, страха и терпения была превышена, Семен Иванович,
всю свою жизнь основавший на началах неизменности и неподвижности,
вдруг «заражается» иным духом - изменяемости, относительности. Этот
принцип формулируется им дважды в весьма сходной форме, где
свойственные его речи повторения размыкаются в конце взрывом:
(«Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, канцелярия-
то...) - Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а
вот послезавтра как-нибудь там и не нуж-
н а...» (с. 255);
«...я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а п о τ о м и
несмирный, сгрубил; пряжку тебе, и пошел вольнодумец!..»
(с. 256).
239
Приходит сознание чреватости ситуации: «...пусть оно стоит, место-то... а
вот как возьмут его... возьмут, да и того... оно, брат, стоит, а п о τ о м и
не стой т... понимаешь? а я, брат, и с сумочкой, слышь ты?» (с. 256)108. Но
этим высказываниям уже безнадежно больного Прохарчина
предшествовали те два таинственных дня, когда его не было ни в канцелярии, ни дома;
когда он, по вероятному предположению, и собирался бунтовать. В самом
деле, эти два дня (собственно, двое суток) не могли быть заполнены
теми событиями, о которых сообщается: пожар дома в Кривом переулке,
толпа, дровяной двор, забор, дюжий парень, давший тумака герою. Этих
событий должно быть больше. Затравленный неблагоприятными
слухами, ослепленный страхом и отчаяньем, Прохарчин, нарушая принцип
«своего места», иерархии, обращается к Демиду Васильевичу109, и тот дает ему
обескураживающий его ответ, после которого уже нет возврата назад, в
свой угол, за ширмы, и остается путь вперед - бунт. Можно допустить, что
именно в этом месте рассказа, где идет речь об этих двух решающих сутках,
могли быть сделаны цензурные изъятия или смягчения. Такое
предположение оправдано, в частности, тем, что Достоевскому, видимо, в последний
момент удалось кое-что восстановить в уже процензурированном тексте110.
Показательно, что в издании 1865 г. автор не изменил текста 1846 г., т.е.
отказался восстановить цензурные купюры. Правдоподобно предположить,
что пострадавшее от цензуры место могло быть отчасти компенсировано
Достоевским введением бредового сна Прохарчина или, по крайней мере,
таких его мотивов, как толпа, мужики, шум, пожар как образы бунта111. То,
что в развернутом и логическом виде не было допущено в текст,
непосредственно описывающий события, могло получить отражение в разрозненной
и искаженной картине, преподносившейся Прохарчину в бреду. Исключать
в новом издании описание видений героя и восстанавливать
непосредственное описание событий было бы, конечно, излишним - тем более, что
картина сна открывала перед автором новые возможности продолжения.
Высказанное выше предположение о составе пострадавшего (или
реконструируемого) места (бунт, а не идея, которая воодушевляла Прохарчина копить
деньги, но не тратить их), видимо, согласуется с введением именно здесь
образа пьянчужки Зимовейкина, снабженного такими характеристиками, как:
«Попрошайка-пьянчужка был человек совсем скверный, буйный и
льстивый» (с. 247); «Ты, несчастный, ступай... ты несчастный, вор ты...»
(с. 254); «мальчишка... туз... тузовый...» (с. 256) и т.д.112 Один из парадоксов
и состоит как раз в том, что травят (хотя и невольно) Прохарчина
безвредные, по сути дела, и неопасные Зиновий Прокофьевич и Марк Иванович, а
спасения он ищет у разбойника Зимовейкина (ср. его наиболее
постоянную характеристику - «буйный»113), который в конце концов и
пытается ограбить Прохарчина. Зимовейкин является в квартиру Устиньи
Федоровны за неделю до основных событий. По отношению к Семену
Ивановичу он играет роль искусителя. Рассказ о том, что его «пошатнули как-то за
правду», что «уничтожилась сама канцелярия, получив изменение» наряду с
шутками Зиновия Прокофьевича, определил резкое нарушение
стабильности ситуации и уверил Прохарчина, что именно в Зимовейкине он найдет
себе союзника и опору. Поэтому, уйдя из дома и канцелярии, он направляется
к буйному Зимовейкину и проводит с ним то время, которое осталось не
240
описанным в рассказе. Впрочем, кое-что удается установить «от
противного». Когда обескураженные и не знающие, что предпринять, сожители
стоят над лежащим в изнеможении Прохарчиным, как deus ex machina,
появляется Зимовейкин: «Его точно ждали; все разом замахали ему, чтоб шел
поскорее, и Зимовейкин, чрезвычайно обрадовавшись... в полной готовности
протолкался к постели Семена Ивановича» (с. 253-254). И далее:
«...По-видимому, не ошиблись, призвав его на помощь, ибо
тотчас, узнав, в чем вся сила, обратился он к накуролесившему Семену
Ивановичу и с видом такого человека, который имеет
превосходство и, сверх того, знает штуку, сказал: "Что ты, Сенька?
вставай! что ты, Сенька, Прохарчин-мудрец114,
благоразумию послужи! Не то стащу, если куражиться будешь: не
куражься!" Такая краткая, но сильная речь удивила присутствующих;
еще более все удивились, когда заметили, что Семен Иванович,
услышав все это и увидев перед собою такое лицо, до того оторопел и
пришел в смущение и робость, что едва-едва и только сквозь зубы,
шепотом решился пробормотать необходимое возражение...
- Нет, брат, - протяжно отвечал Зимовейкин, сохраняя все
присутствие духа, - нехорошо, ты, брат-мудрец, Прохарчин, прохарчин-
ский ты человек!... -Ты не куражься! Смирись, С е -
ня, смирись115, не то донесу, все, братец ты
мой, расскажу, понимаешь?
Кажется, Семен Иванович все разобрал, ибо вздрогнул, когда
выслушал заключение речи, и вдруг начал быстро и с совершенно
потерянным видом озираться крутом. Довольный эффектом,
господин Зимовейкин хотел продолжать...» (с. 254).
Приведенная здесь сцена удостоверяет позицию превосходства
Зимовейкина, основанную на некоторых компрометирующих Прохарчина
фактах, которые он неосторожно сообщил своему «союзнику», теперь
решившему шантажировать его. Основание для шантажа, если говорить в
общем, -«вольнодумие»116 Прохарчина, которым он, по крайней мере,
отчасти «заразился» от Зимовейкина, своего брата и двойника в бунте и по
бунту. Если сначала - «буйный и глупый» Зимовейкин, то теперь он уже сам
отсылает эти характеристики Прохарчину117. Такой же обмен эпитетами
происходит и между этими двумя полюсами. Услышав прохарчинское
«...говорят, что уничтожается место... и будешь без места», Зимовейкин
решительно меняет тон и теперь уже:
«- Язычник ты, языческая ты душа, мудрец ты! - умолял
Зимовейкин. - Сеня, необидчивый ты человек, миловидный, любезный!
ты прост, ты добродетельный... слышал? Это от добродетели твоей
происходит; а буйный и глупый-то я, побирушка-то я; а вот же
добрый человек меня не оставил небось...» (с. 256).
Вообще говоря, эта перемена не вполне ясна, тем более, что за ней
следует возвращение к исходному тезису: вольнодумец. Можно
предполагать, что внезапный поворот Зимовейкина («вот им и хозяйке спасибо»)
объясняется тем, что в словах Прохарчина об уничтоженном месте Зимо-
241
вейкин узнал отзвук своей (мнимой или даже действительной) истории о
том, как его «пошатнули», рассказанной некогда жильцам Устиньи
Федоровны, и истолковал это как прохарчинское сочувствие ему в его беде.
Однако позже, когда Семен Иванович почти вплотную подходит к
формулировке своего вольнодумства («- Ан и вольнодумец...»),
Зимовейкин опоминается и возвращается к прежним упрекам.
Разумеется, многое остается неясным из того, что произошло между
Прохарчиным и Зимовейкиным в эти два дня, но несомненно следующее:
Зимовейкин шантажирует, грозит донести, а Прохарчин боится, робеет;
наконец, Зимовейкин почему-то, оказывается, знает, что деньги - в τ ю φ я -
к е. («Осмотрели худое место и уверились, что оно сейчас только
сделано ножом... засунули руку в изъян и вытащили, вероятно, впопыхах
брошенный там хозяйский кухонный нож, которым взрезан был тюфяк»,
с. 260). Из сопоставления этих двух бесспорных фактов возникает некая
предположительная схема событийного ряда, содержавшаяся если не в
самом тексте до возможной цензурной правки, то во всяком случае в общем
замысле. В частности, можно догадываться, что Прохарчин открыл Зимо-
вейкину свои бунтарские планы; что Зимовейкин решил шантажировать
Прохарчина; что последний, убоявшись, посулил ему денег и/или открыл
место их хранения (тюфяк); что потом Прохарчину удалось бежать от своего
«союзника», который, однако, как рок, настигает героя, уже прикованного
к постели. Видимо, возможны и другие реконструкции этого места, но сама
целесообразность таких попыток заполнения, вероятно, не подлежит
сомнению. Можно еще прибавить, что и направление поиска, указанное здесь,
кажется правдоподобным, как и попытка использовать бредовые видения
Прохарчина для реконструкции частностей подлинно случившегося.
Подробнее см. Приложение III.
Сам бунт маленького человека не принадлежит к уникальным темам
русской литературы. Более того, переход от смирения и уединения к бунту,
всегда бессмысленному, неудачному, часто вообще мнимому или только
внутреннему, нужно признать достаточно типичным явлением, и «бедный
Евгений» из «Медного всадника», кончающий безумием, лишь начало целой
традиции (ср. также Поприщина): Достоевский более, чем кто-либо другой
развил ее, хотя не всегда идея бунта подчеркивалась с определенностью. Эта
тема не была оставлена и после ссылки. Достаточно напомнить об одном
беднейшем и смиреннейшем чиновнике, возомнившем себя Гарибальди и
кончившем сумасшествием118, или о губернаторе Лембке из «Бесов» (см. главу
«Флибустьеры»)119. Но, вероятно, еще интереснее, что тема бунта, сюжетно
и теоретически осмысляемая в «Братьях Карамазовых», представляет
дальнейший, во всей глубине взятый разворот того, что было намечено в
«Господине Прохарчине» в реконструируемом выше месте. Речь идет не только о
главе «Бунт»120, но и о тех строках из «Легенды о Великом Инквизиторе», где
говорится о несовместимости свободы выбора и хлеба, счастья, о людях,
рожденных бунтовщиками, которые сами не выносят собственного бунта:
«...ничего и никогда не было для человека и для человеческого
общества невыносимее свободы!... Никакая наука не даст им хлеба,
пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они
принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: "Лучше пора-
242
ботите нас, но накормите нас". Поймут наконец сами, что свобода и
хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда,
никогда не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже,
что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны,
порочны, ничтожны и бунтовщики... Нет, нам дороги и слабые. Они
порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными...
Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже
свободного выбора в познании добра и зла? ...Есть три силы,
единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть
этих слабосильных бунтовщиков, для их счастия, - эти силы: чудо,
тайна и авторитет... О, конечно, ты поступил тут гордо и
великолепно, как Бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это - они-то
боги ли? ...Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно,
они невольники, хотя и созданы бунтовщиками... Клянусь, человек
слабее и ниже создан, чем ты о нем думал!... Он слаб и подл. Что в
том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и
гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это
маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя... Но
догадаются наконец глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но
бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не
выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются наконец,
что создавший их бунтовщиками, без сомнения хотел посмеяться над
ними... Итак, неспокойство, смятение и несчастие - вот теперешний
удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их!...»
(с. 230-234).
Описываемая здесь ситуация объясняет многое и в истории Прохарчина:
первый свободный выбор приводит его к бунту, и этот бунт не может не
кончиться неудачей121, потому что есть ценности - и здесь Великий
Инквизитор должен замкнуть свои уста, — которые достигаются не бунтом, а
любовью. Прохарчин, вольно или невольно, сделал шаг от бунта к людям,
попытался, умирая, открыть им себя122.
На предыдущих страницах не раз обращалось внимание на то, что при
небольшом объеме рассказа его художественное пространство
необыкновенно вместительно, что оно включает в себя множество разнородных
элементов, которые требуют для своей полной идентификации повторных
прочтений. В теоретико-информационном аспекте множественность и
разнородность могут трактоваться как переобремененность канала связи
передаваемыми сигналами и несбалансированность кодов (точнее, их неполная
упорядоченность), используемых в сообщениях. Отсюда — ощущение
некоей тесноты, «чадности», хаотичности, о чем так или иначе говорят
исследователи «Господина Прохарчина». Эти впечатления значительно
усиливаются от обилия в тексте «литературных» (цитатно-ассоциативных) деталей и
элементов, которые на первый взгляд не вполне гармонично сочетаются с
другими, задавая некий другой регистр реальности. Вместе с тем эти два
243
круга фактов, равно отклоняющихся от условий «средней» нормы, будучи
верно выделенными, способствуют некоторому дополнительному
структурированию текста, расширению его как в сторону «искусственного»,
«метапоэтического», так и в сторону «природного», «космического»,
«архетипического». Учет этих обеих сфер, во всяком случае -
установление их общих контуров или наиболее очевидных элементов, несомненно,
не остался бы без последствий для понимания всего текста, в частности,
для определения его отношений к другим текстам художественной
литературы того времени.
Архетипический слой рассказа задается прежде всего
структурой описываемого пространства и семантизацией его отдельных частей.
Четко членимому суживающемуся пространству дом - квартира -
угол за ширмами - π о ст е л ь - τ ю φ я к - сундук с
замком противостоит хаотическое расширяющееся пространство вне
дома. Первое пространство надежно, оно строится по принципу
последовательного вложения, укрывания (как у Кащея: «моя смерть далече:
на море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук
зарыт, в сундуке - заяц, в зайце - утка, в утке - яйцо, а в яйце - моя смерть».
Афанасьев. Сказки, № 158123). Предполагается, что внутри лежит самое
ценное - богатство124, но, как и в случае с Кащеем, богатство оборачивается
смертью, а максимально надежное укрытие оказывается ловушкой.
Внешнее пространство (кроме канцелярии, которая была
надежной, но после рассказов Зиновия Прокофьевича и Зимовейкина
потеряла в сознании Семена Ивановича черты устойчивости и гарантированно-
сти) крайне ненадежно, опасно, беспокойно, его динамика всегда
не в пользу Прохарчина. Это пространство, данное в бредовом видении
героя, не имеет отчетливого членения; его части можно как-то
охарактеризовать, лишь оказавшись в них; никакое предсказание о соседнем участке не
может считаться достоверным. Само пространство заполняется огромной,
густой и все увеличивающейся «подобной змею» толпой,
шумом, гулом, громом, криками и слезами»125. Здесь все плохо, страшно,
чревато гибелью. Прохарчин бежит, задыхаясь; его преследуют, ему грозят,
бьют его. Наступает гибель в огне - 'εκπύρωσις, и в этом месте сон
переключается в явь: пожар трансформируется в горение головы, горячку, а
герой, вышедший из дома и прошедший испытание огнем, оказывается на
пути к возрождению, но уже нравственному. Подобно тому, как укрытие и
богатство обернулись смертью, так внешнее пространство, опасность, риск,
смерть приблизили героя к спасению. Жизнь смертная, подобная смерти, и
смерть, открывающая путь к новой жизни, - вот то пространство, на
котором разыгрывается драма прохарчинского существования. Именно здесь
происходит обмен основными ценностями, их переоценка. Порубежную
ситуацию между жизнью и смертью, место, где они сливаются, чтобы дать
начало новому рождению, отмечено п о ж а р о м126. Тот пожар, который
Семен Иванович наблюдал в последний раз с Зимовейкиным, обрел в его
бредовых грезах черты стихийности, космичности, универсальности. Пожар
завершается большим дожде м127, а вся ситуация начинает тяготеть к тем
фольклорным и мифологическим схемам, в которых подчеркивается
противопоставление огня и воды, их взаимная борьба-слияние, испытания,
244
преодолеваемые героем. И гибель и возрождение Прохарчина
совершаются «per pyrosium et cataclysmun. И отблеск их лежит на всем, всему придавая
значение, выходящее за рамки обыденности (лысый господин, лысая девка,
от свечи которой сгорел дом, Кривой переулок, мельканье «разных
странных лиц» и т.п.). В самых общих чертах описанная здесь схема
предполагает наличие в ней мотивов греха (прегрешения, вины), наказания огнем и/или
водой, смерти-возрождения, позволяющей перейти от безблагодатного,
экстенсивного, косного богатства, которое только охраняют, но им не
пользуются, к динамичному, активному, все увеличивающемуся благу, которое не
пребывает втуне. Эта схема, все мотивы которой порознь представлены в
«Господине Прохарчине» и даже соответствующим образом упорядочены,
может считаться вариантом описанного в другом месте основного
м и φ а - о Громовержце, наказывающем своих детей, обычно семерых
(или сына, или жену) огнем и водой (молния, гроза), свергающем их на
землю, расчленяющем их на части, из которых возрождается новая жизнь и
новое многократно возросшее богатство. Некоторые варианты этого мифа,
широко представленные в фольклорных традициях, излагают мотив
пожара дома, в котором горят дети (иногда по вине матери), причем варианты
(пожар «дома, где горели у него (у старика) жена, дочка и
тридцать с полтиною денег»; бедная баба с костылем, которую
выгнали ее дети, на пожаре, где вокруг нее летают искры и головешки; лысая
девка, запалившая от свечки чулан и сжегшая дом и т. п.), все время подводят
читателя в соблазнительную близость к самым тонким деталям основного
мифа. В бреду же Прохарчину является образ лысого чиновника с
семерыми детьми, перед которыми Семен Иванович впервые испытывает
чувство вины: они голодны, им нечего есть, они могут погибнуть128 (ср.
популярный в России в это время мотив «Нас семеро» из Вордсворта).
В этом контексте незаметно формируется слой, где грешный,
наказанный и отверженный Прохарчин, один среди семерых находящий путь к
спасению, может рассматриваться как дальняя трансформация образа
младшего сына Громовержца129. И образ Устиньи Федоровны, чьим фаворитом был
Прохарчин, также приобретает отчетливо мифологизирующую
направленность130. Само имя героя - Семен Иванович - допускает некоторые
мифологические ассоциации131. Не касаясь здесь вопроса о семантических
импульсах и эмоциональном ореоле этого имени в русской ономастической
традиции, где есть установка на осмысление имени, можно отметить две основных
линии в мифопоэтической истории этого наименования.
С одной стороны, Семен обозначает героя мелковатого,
незначительного, непредставительного, часто неудачливого, иногда смешного
(между прочим, и в силу ассоциаций эротического толка132); Сема, Сеня,
Сенька вполне отвечают этим характеристикам. Вместе с тем Семен - это не
предел мизерности и падения, это скорее знак нижне-среднего уровня. В общем
Семены у Достоевского (а он испытывал определенное пристрастие к этому
имени и употреблял его в достаточно точно очерчиваемых пределах)
соответствуют этим характеристикам. Иногда они несколько усиливаются
удвоенными формами имени Семен Семенович (их у Достоевского несколько)
или именем с отчеством Иванович (Семен Иванович, - где совершенно
нейтральное отчество может рассматриваться как указание на отца вообще или
245
даже как некий принудительный детерминатив, указывающий, что по
признаку принадлежности ответ дан). С другой стороны, имя Семен,
напротив, сохраняет отчетливые и положительные мифологические
ассоциации. У старика три сына, младший - Семен, он умеет превращаться в оленя,
зайца, птицу (животные, приурочиваемые к мировому дереву), женится на
Марье-царевне {Афанасьев. № 259)133; семь Семенов {Симеонов) добывают
для царя невесту (№ 145-147, 561 и др.), причем младший из Семенов
особенно удачлив; иногда эта удачливость основана на сомнительных качествах
героя, ср. № 145: «В одном месте у мужика было семь сынов, семь Семенов...
Он (царь) ее и спросил, за кого она хочет выйти? Царевна говорит: "За
того, кто меня в о ρ о в а л!" - ...А вор Сенька134 был бравый детина, царевне
приглянулся». Возможно, что звуковое подобие семь и Семен
способствовало введению имени Семен в известный мотив, преобразующий историю
семи детей Громовержца (ср. Семен - семена, семя). Как бы то ни было,
наличие двух рядов характеристик, связанных с именем Семен, как и случаи их
сочетания в одном образе и/или одном мотиве, показательно. Оно
небезразлично и для толкования бедного богача Семена Ивановича Прохарчина.
Архетипический слой «Господина Прохарчина», конечно, и обширнее и
глубже, чем то, что здесь о нем сказано. Он вездесущ, и поэтому
обнаруживается повсюду, где трепет и дрожь Семена Ивановича отражают личную
драму Достоевского. Сугубо личное содержание рассказа, укладывающееся
в рамки бесконечно варьирующихся исходных схем, и определило мощность
архетипического слоя и обилие мифопоэтических связей. Стихия марионе-
точности, о которой говорилось выше, почти незаметный обмен местами
между зрителями и лицедеями в ходе рассказа, создают ту ситуацию
игрового круговорота, когда облегчается проникновение в глубины этого
архетипического слоя.
* * *
«Литературно-цитатный» слой в «Господине Прохарчине» обширен,
богат примерами весьма разнородного характера, которые и на фоне
всего рассказа, и в отношении друг к другу не сбалансированы, иногда даже -
нарочито раздерганы135, подчеркнуто беспринципны и создают атмосферу
некоторой эксцентричности, стилистической нескромности, резковатости,
чего-то раздражительно-беспокойного. Двуликость, двунаправленность
(«и нашим и вашим») рассказчика, его лицедейство, иногда откровенное
кривлянье и срывы, может быть, особенно полно отражаются как раз в
этом слое. Трудно сказать с определенностью, насколько автор
контролировал в этом отношении рассказчика, но похоже, что именно здесь они
часто шли нога в ногу, почти сливаясь друг с другом. Во всяком случае нигде
больше - ни до «Господина Прохарчина», ни после него - такого
«литературно-ассоциативного» хаоса не встречается. К сожалению, этот хаос в
тексте не расчленен и не упорядочен и в литературоведческих работах,
хотя отдельные наблюдения частного характера делались уже раньше. Не
претендуя на выполнение этой работы, можно все-таки предложить
предварительную стратификацию с указанием основных ее пластов и
соответствующих примеров.
246
Уже Белинский, имея в виду гоголевское влияние, советовал
Достоевскому соблюдать чувство меры и в этой сфере. «Мы не говорим уже о
замашке автора часто повторять какое-нибудь особенно удавшееся ему
выражение... и тем ослаблять силу его впечатления; это недостаток
второстепенный и, главное, поправимый. Заметим мимоходом, что у Гоголя нет
таких повторений» («Взгляд на русскую литературу 1846 года»).
Действительно, «замашка» Гоголя была усвоена Достоевским настолько,
что в молодые годы она пускалась в ход и за пределами того, что было
характерно для поэтики Гоголя. Впрочем, критик не учел, что подражанием
не исчерпывалось использование приемов гоголевского стиля. В
подражании с самого начала уже были заметны следы обыгрывания, излишнего
«педалирования», утрирования и даже отталкивания и отчуждения. И вот этот
второй компонент, сначала неразделимо слитый с подражанием в чистом
виде, со временем - через стадию омонимии (и то, и то), двусмысленности136 -
набирал силу и вскоре стал преобладающим, решающим и достаточно
категоричным. В «Господине Прохарчине» этот процесс высвобождения еще
далек от завершения, и гоголевский пласт, вопреки одному недавнему
утверждению, несомненно, наиболее обилен в рассказе.
Не говоря об очень большом количестве мест, где так или иначе видна
гоголевская «замашка» (ср. выше о реализации метафор), и о «гоголевских»
именах137, следует назвать лишь основные реминисценции из Гоголя,
предполагающие конкретные образы в конкретных произведениях.
Прежде всего, неоднократны отсылки к «Носу» и к «Шинели»,
произведениям, которые и в других произведениях Достоевского (в том числе и
поздних) дают наибольшее число ремнисценций. Так, «Устинья Федоровна,
весьма почтенная и дородная женщина, имевшая особенную
наклонность к скоромной пище и к о φ е ю и через силу
перемогавшая посты» (с. 240) отсылает к Прасковье Осиповне, «довольно
почтенной даме, очень любившей пить кофий»
(«Нос»); к этому же ядру присоединяются и другие параллели: Прохарчин
«съедал в меру ситного с луко м»138 (с. 242) при - «Сегодня я,
Прасковья Осиповна, не буду пить кофий... а вместо того хочется мне
съесть горячего хлебца с луком» («Нос»); или, намекая на
основной мотив «Носа»: «-Ты, ты, ты глуп! - бормотал Семен Иванович, -
нос отъедят, сам с хлебом съешь, не заметишь...» (с. 255);
или, наконец, предаваясь излюбленному обыгрыванию самого слова: «уже
весь нос покраснел... за игрой в носки...» (с. 248).
Мотив жестокой шутки сожителей над Прохарчиным, неуместность
которой становится очевидной (приготовление «золовки»), продолжает тот
эпизод «Шинели», который завершается словами Башмачкина: «...оставьте
меня, зачем вы меня обижаете?»; а описание транса Прохарчина, когда он
ставит «жида» на бумаге (с. 245-246), - соответствующее место в «Шинели»,
о чем, может быть, напоминает дальнейшее - «собственноручно снял
шинель, надел, вышел» (с. 246). Ср. также мотив Прохарчина, испугавшего
«самого Демида Васильевича», в связи с местью Башмачкина значительному
лицу139.
Сцена, когда из тюфяка выпадает сверток с целковиками (и далее - как
растет куча монет), в «Господине Прохарчине» ориентирована на описание
247
того, как Чартков обнаруживает упавший «с глухим звуком» сверток с
червонцами («Портрет»; ср.: «что-то тяжелое, звонкое хлопнулось об пол»,
с. 260, у Достоевского). Общий колорит сцены в обоих случаях вызывает
рембрандтовские ассоциации.
То здесь, то там разбросаны явные и более косвенные переклички с
отдельными местами из «Мертвых душ». Сюда нужно отнести «плюш-
кинскую» тему в целом, совпадение в ключевых словах («дрязг», хлам,
дрянь, ветошь и т. п.), связанных с этой темой; пожелание Прохарчи-
на, чтобы Зиновию Прокофьевичу отрубили ногу и надели деревяшку,
и потом началось бы его мытарство, в сопоставлении с историей
капитана Копейкина (стоит напомнить, что Зиновий Прокофьевич
стремится попасть в гусарские юнкера); мотив «пострадал за правду» (Зимо-
вейкини Чичиков); фразеология («устремив... полные ожидания лица»,
с. 252) и т. п.
Даже «Ревизор» откликнулся в рассказе несколькими деталями.
Причитания Устиньи Федоровны, сетующей на обман («Ах, греховодник,
обманщик такой! Обманул, надул сироту!..», с. 262), апеллируют к
заключительным монологам Городничего, а «-"Эге-ге-ге!" - сказал Ярослав Ильич»
(с. 260) отсылает к «-"Э!" - сказали мы с Петром Ивановичем».
Пушкинский пласт, на значение которого недавно специально
указывалось (пожар, пугачевские ассоциации, ср. у В.А. Туниманова), вероятно,
несколько преувеличен. Но его конкретные отражения неожиданны и
интересны. Пока из наиболее достоверных примеров указывалось только
описание покойного Прохарчина: «Правый глазок его был как-то плутовски
прищурен; казалось, Семен Иванович хотел что-то сказать, что-то
сообщить весьма нужное...» (с. 262-263), соотносимое с описанием мертвой
графини: «В эту минуту показалось ему, что мертвая
насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом»
(«Пиковая дама»)140. Кажется, можно прибавить еще одну, довольно
развернутую параллель. Фрагмент «Господина Прохарчина» - «Прохарчин бежал,
бежал, задыхался... рядом с ним бежало тоже чрезвычайно много
л ю д е й, и все они побрякивали своими возмездиям и... Толпа
густела-густела... господин Прохарчин вдруг припомнил, что мужик -
тот самый извозчик, которого он ровно пять лет назад надул бесчеловечней-
щим образом... Отчаянный господин Прохарчин хотел говорить,
кричать, но голос его замирал. Он чувствовал, как вся разъяренная
толпа обвивает его... давит, душит. Он сделал невероятное усилие
и - проснулся...» (с. 250-251) - и ситуационно и словесно приближается к
сходному описанию (тоже во сне) из «Гробовщика»: «Комната полна была
мертвецами... Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с
поклонами и приветствиям и... В эту минуту маленький скелет
продрался сквозь толпу и приближился к Адриану... «Ты не узнал меня,
Прохоров, - сказал скелет. -Помнишь ли отставного сержанта
гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, ты
продал свой первый гроб - и еще сосновый за дубовый?» С сим словом
мертвец простер ему костяные объятия - но Адриан, собравшись с силами,
закричал и оттолкнул его... Между мертвецами поднялся ропот
негодования; ...пристали к Адриану с бранью и угрозами... Наконец
248
открыл он глаза...». Сходная композиционная роль этих отрывков
(сцена возмездия за обман, оказывающаяся сном лишь после того, как он
закончен) также говорит, видимо, в пользу известной нарочитости этой
реминисценции. Впрочем, общая ориентированность на
«литературность», на некие «образцы» - очевидные и мнимые - сама по себе
объясняла бы некоторые совпадения и невольные предвосхищения. Так,
описание покойного Прохарчина в финале рассказа («Он теперь притих-
нул, казалос ь... В лице его появилась какая-то глубокая
дума... с таким значительным видом, которого никак нельзя
было бы подозревать при жизн и... Он как будто бы
поумнел...; казалось, Семен Иванович хотел что-то сказать,
...объясниться... И как будто бы ел ы шалое ь...», с. 262-
263), самым неожиданным образом близко имитирует известное
описание Пушкина в гробу, сделанное В.А. Жуковским в письме Сергею
Львовичу Пушкину от 15 февраля 1837 г. и в соответствующем
стихотворении. Ср. составной текст: «(Он лежал без движень я...). Никогда на
этом лице я не видел ничего подобного ...но что
выражалось на его лице, я сказать словами не умею... (в жизни
такого / Мы не видали на этом лиц е...). Это не было
выражение ума ...ка кая-то глубокая ...м ысль на нем
развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое
...знание (Но какою-то мыслью, глубокой, высокою
мыслью / Было объято оно...; ...м н и л о с я мне, что ему...) ...мне все
хотелось у него спросить: что видишь, друг? (и
спросить мне хотелось: что в и д и ш ь?..)...». Описание Жуковского
оставалось Достоевскому неизвестным, но оно достаточно близко
воспроизводится в рассказе, с несколько диссонирующим эффектом,
который еще более усиливается от присутствия в непосредственном
соседстве отсылки к основному образу двух стихотворений Державина,
«Ласточка» и «На смерть Катерины Яковлевны...» (жены поэта) - «домовитой
ласточки». Ср.: «...этот внезапно остывший угол можно было бы весьма
удобно сравнить поэту с разоренным гнездом "домовитой" ласточки»
(с. 262), с последующим «ужесточением»: «все разбито и истерзано
бурею, убиты птенчики141 с матерью и развеяна кругом их теплая
постелька из пуха, перышек, хлопок...».
Наконец, изучая «набивную» структуру «литературно-цитатного» слоя,
необходимо помнить как об автореминисценциях (ср. отчасти
Приложение II и замечания о Прохарчине в связи с Раскольниковым, Аркадием
Долгоруким и др.), так и о предвосхищениях тем, мотивов, образов, языковых и
стилистических ходов, полнее развернутых в поздних произведениях
Достоевского. Помимо ряда важных примеров, приведенных В.А. Тунимановым,
можно назвать еще такие, как мотив кражи новых рейтуз (с. 247) в
связи с тем же мотивом, легшим в основу сюжета «Честного вора»; образ
Ярослава Ильича, вошедший, видимо, из замысла «Повести о сбритых
бакенбардах», при том, что в «Хозяйке» Ярослав Ильич отпустил себе бакенбарды;
образ бедной, лишившейся всего бабы на пожаре, как параллель
«погорелым матерям» в «Братьях Карамазовых» (из сна Мити); подступ к образу-
символу Наполеона; мотивы толпы, давки, тесноты, шума, скандала142,
249
пожара и т. п.; образы-символы и образы-эмблемы (ср. марионеток) и
многое другое143.
Чреватость рассказа «чужими» элементами или такими, которые
имитируют их с разной степенью точности, определяет редчайшую для текста
такого объема разнонаправленность и многоадресность. В диахроническом
плане, учитывающем дальнейшее развитие литературы, оказывается, что
эти свойства имеют и еще одно направление - в будущее, где они находят
себе новые точки приложения, в частности, в поздних произведениях
Достоевского. Такая «отзывчивость» текста в будущем обратным образом
определяет особую нарочитость, умышленность текстовой структуры «Господина
Прохарчина». Если читатели, критики и исследователи не поняли всей
сложности синтетического построения рассказа и сам рассказ был оценен
как творческая неудача, то сейчас едва ли можно сомневаться в том, что
перед нами гениальный эксперимент, давший начало нескольким линиям и в
последующем творчестве самого Достоевского, и в развитии русской прозы
вообще.
1 Ср., впрочем, в письме Ф.М.. Достоевского к брату: «"Прохарчина" очень хвалят. Мне
рассказывали много суждений... » (17 октября 1846 г.).
2 Ср.: «В десятой книжке "Отечественных записок" появилось третье произведение
г. Достоевского, повесть "Господин Прохарчин", которая всех почитателей таланта
г. Достоевского привела в неприятное изумление. В ней сверкают яркие искры
большого таланта, но они сверкают в такой густой темноте, что их свет ничего не дает
рассмотреть читателю... Сколько нам кажется, не вдохновение, не свободное и
наивное творчество породило эту странную повесть, а что-то вроде... как бы это
сказать? - не то умничанья, не то претензии... Может быть, мы ошибаемся, но почему ж
бы в таком случае быть ею такою вычурною, манерною, не понятною, как будто бы
это было какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествие, а не
поэтическое создание? ...Конечно, мы не вправе требовать от произведений г.
Достоевского совершенства произведений Гоголя, но тем не менее думаем, что большому
таланту весьма полезно пользоваться примером еще большего» («Взгляд на русскую
литературу 1846 года»).
3 Отсюда - впервые несколько пренебрежительный и даже отчасти издевательский
тон критики. Ср. также стиль пересказывания «Господина Прохарчина» в статье
Добролюбова «Забитые люди» (1861), не говоря о ряде фактических неточностей (напр.,
Океаниев как гибрид Океанова и Оплеваниева и др.). Впрочем, и Аполлон Григорьев
называл Оплеваниева - Оплевенко-жилец.
4 Ср.: «Почти все единогласно нашли в "Бедных людях" г. Достоевского способность
утомлять читателя, даже восхищая его, и приписали это свойство одни -
растянутости, другие - неумеренной плодовитости. Действительно, нельзя не согласиться, что
если бы "Бедные люди" явились хотя десятою долею в меньшем объеме и автор имел
бы предусмотрительность поочистить свой роман от излишних повторений одних и
тех же фраз и слов, - это произведение явилось бы безукоризненно
художественным». («Взгляд на русскую литературу 1846 года»).
5 Впрочем, уже раньше было обращено внимание на весьма существенную разницу
между высказываниями Белинского о «Бедных людях» в интимных беседах (о чем см. в
воспоминаниях Григоровича, Анненкова, Панаева и прежде всего, конечно, у самого
Достоевского - в январском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год, ср. также
письма к брату от 8 октября и 16 ноября 1845 г. и 1 февраля 1846 г.) и в его печатных
статьях. См. подробнее Ашевский С. Достоевский и Белинский // Мир Божий. 1904. Кн. 1;
ср. также Истомин К.К. Из жизни и творчества Достоевского в молодости. Введение
в изучение Достоевского // Творческий путь Достоевского. Сборник статей под ред.
250
Н.Л. Бродского. Л., 1924. С. 22-24, и комментарии к «Бедным людям» в кн.:
Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 1. С. 464 (Г.М. Фридлендер), далее -
ПСС. Из последних исследований см. Кирпотин В.Я. Достоевский и Белинский. М,
1976 (издание второе, дополненное).
6 Ср.: «Мы не говорим уже о замашке автора часто повторять какое-нибудь особенно
удавшееся ему выражение (как например: "Прохарчин мудрец\") и тем ослаблять
силу его впечатления...» (Белинский. «Взгляд на русскую литературу 1846 года»); «...что
было сперва однообразно, потом сделалось скучно до утомления, и только немногие
прилежные читатели, да и те по обязанности, прочитали до конца... "Прохарчина"»
(Губер Э.И. Санкт-Петербургские Ведомости. 1847. 3 января. № 4. С. 14); «...видно,
что г. Достоевский не без таланта, но талант этот, по признанию даже самых жарких
поклонников его, принял какое-то утомительное для читателя направление, юмор
автора большею частию не в мысли, а в словах, в беспрерывном и несносном
повторении одних и тех же выражений, сплошь и рядом скопированных с манеры
гоголевского рассказа...» (П.П. Русская словесность в 1846 году. М., 1847. № 1. Отд. IV. С. 152) и
др. Даже В.Н. Майков («Нечто о русской литературе в 1846 году» // Отечественные
записки, 1847. № 1. Отд. V. С. 5) возвращается к читательским «жалобам на
растянутость» произведений Достоевского и объясняет «неясности идеи рассказа» жертвой
автора в пользу той «драгоценной краткости», которой ждал читатель. И Аполлон
Григорьев сетует на то, что Достоевский и Бутков «до того углубились в мелочные
проявления рассматриваемого ими нравственного недуга, что умышленно или
неумышленно отложили всякую заботливость о художественности своих описаний...»
(А.Г. Обозрение журналов за апрель // Московский городской листок, 1847. 30 мая.
№ 116. С. 465). Впрочем, такого рода упреки были уже хорошо знакомы
Достоевскому. Ср. в письме М.М. Достоевскому от 1 апреля 1846 г.: ...все, все с общего говору,
т.е. наши и вся публика, нашли, что до того Голядкин скучен и вял, до того растянут,
что читать нет возможности... все сердятся на меня за растянутость, и все до одного
читают напропалую и перечитывают напропалую...». Вместе с тем в начале 50-х
годов Иван Захарович Крылов, с которым, возможно, был знаком Достоевский,
написал рассказ «Тюфяк», представляющий собой фактическое переложение «Господина
Прохарчина».
7 Между прочим, реакция на длинноты и повторения у Достоевского (т.е. на все случаи
сюжетно не оправданной ретардации и обращения текста на самого себя)
доказывает, что русская литературно-критическая мысль 40-х годов не усвоила ни уроков
Гоголя (ср. отрывок о табакерке Петровича в «Шинели», который, в частности, не раз
имел в виду Достоевский, не говоря о пародистах гоголевского стиля), ни всей идущей
от Стерна линии борьбы за углубление художественного пространства произведения,
за увеличение его мерности, за конструирование метапоэтического уровня текста.
Впрочем, характерна реакция самого Гоголя (в письме к Анне Михайловне Вьельгор-
ской от 14 мая 1846 г.) : «"Бедные люди" я только начал, прочел страницы три... В
авторе... виден талант; выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных; но
видно также, что он молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в
себе; все бы сказалось гораздо живее и сильнее, если бы было более сжато. Впрочем, я
это говорю не прочитавши, а перелистнувши...» (Гоголь Н.В. Поли. собр. соч. Т. XIII.
Письма. 1952. С. 66).
8 «И ведь прав Океаниев: действительно, Прохарчин оттого и погиб, что с пути
здравой философии сбился» («Забитые люди»); ср. здесь же: «Господин Прохарчин, как
забитый, запуганный человек, ясен; о нем и распространяться нечего. О его
внезапной тоске и страхе отставки тоже нечего много рассуждать. Привести разве мнение
его сожителей...».
9 Ср. предисловие автора к «Кроткой». Подробнее о роли эксперимента в творчестве
Достоевского см. в другом месте
0 Ср., например, позднейшее высказывание о «Двойнике»: «Повесть эта мне
положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я
никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совер-
251
шенно... если б я теперь принялся за эту идею и изложил ее вновь, то взял бы совсем
другую форму; но в 46 г. этой формы я не нашел и повести не осилил» («Дневник
писателя», 1877, ноябрь, гл. 1, § II). Уместно вспомнить, что сходного рода ситуация
мучила Достоевского и в связи с «Идиотом».
Сама задача экспликации естественно возникает уже в силу принципиальной
невозможности выразить себя до конца как следствие структуры самого бытия
трансцендентной субъективности (ср. об анонимности интенциональности у
Гуссерля), о чем так хорошо писал Достоевский («всегда останется нечто, что ни за
что не захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас навеки; с тем вы и
умрете, не передав никому, может быть, самого-то главного из вашей идеи», -
«Идиот»). Но в данном случае речь идет о тех экспликациях, которые связаны с
очевидным несовершенством воплощения, со снижением того уровня, который
характеризует данный текст в целом.
Белинский же, как и его последователи и продолжатели, никогда не доверял
художественному тексту, не признавал его имманентности, первичности; напротив, он судил
текст по некоей вне текста находящейся мерке. «Тем хуже для текста», - был
несформулированный эксплицитно принцип Белинского в тех случаях, когда между текстом
и его мнимой меркой обнаруживался разрыв.
Само написание «Господина Прохарчина» далось Достоевскому нелегко. Работа над
ним разрушила два творческих замысла - «Сбритые бакенбарды» и «Повесть об
уничтоженных канцеляриях», о которых писатель сообщает брату в письме от 1 апреля
1846 г.: «Я пишу ему (seil. Белинский) две повести: 1-я) "Сбритые бакенбарды", 2-я)
"Повесть об уничтоженных канцеляриях", обе с потрясающим
трагическим интересом и- уже отвечаю - сжатые донельзя. Публика ждет
моего с нетерпением. Обе повести небольшие... "Сбритые бакенбарды" я кончаю»
(разрядка здесь и далее автора настоящей статьи). Этим двум повестям Достоевский
придавал большое значение, много над ними работал (особенно над «Сбритыми
бакенбардами»), но потерпел неудачу: ни одна из них не была написана, и даже «Господин
Прохарчин», оформившийся на основе периферийных мотивов этих двух повестей,
впитал в себя их лишь как нечто второстепенное. См.: Бем АЛ. У истоков
творчества Достоевского. Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Толстой и Достоевский. Прага, 1936.
С. 88-90; ПСС. Т. 1. С. 460-461, 502 и др. Ср. также недатированное письмо к брату
(видимо, конец октября 1846 г.), в котором отражено разочарование в замысле
«Сбритых бакенбард» (Письма, 1. М.; Л., 1928. С. 99-100). Из этого письма можно понять,
почему так тяжело создавался «Господин Прохарчин» (ср.: «Я пишу мою "Хозяйку"...
Пером моим водит родник вдохновения, выбивающий прямо из души. Не так в
Прохарчине, которым я страдал все лето». - Там же. С. 108): «Господин Прохарчин»,
как и «Сбритые бакенбарды», видимо, осознавались автором как продолжение
старого круга тем и, возможно, старой манеры письма. «Я все бросил, ибо все это есть
нечто иное как повторение старого, давно уже мною сказанного... В моем положении
однообразие - гибель» (Там же. С. 99-100). «Хозяйка» и была выходом к «более
оригинальным, живым и светлым мыслям». См.: Бем АЛ. Драматизация бреда
(«Хозяйка» Достоевского) // О Достоевском. Сборник статей. I. Прага, 1929. С. 97.
Ср.: Туниманов В.А. Некоторые особенности повествования в «Господине
Прохарчине» Ф.М. Достоевского // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти
акад. В.В. Виноградова. Л., 1971. С. 211-212. Другой аспект той же темы -
перекличка «Господина Прохарчина» с образами мировой литературы, о чем, в частности,
см. работы А.Л. Бема.
Кстати, уже давно было подмечено, что слово чиновник, вычеркнутое, по словам
Достоевского, «во всех местах», неоднократно встречается в рассказе. См.: Аннен-
ский И.Ф. Книга отражений. СПб., 1906. С. 44.
Тем самым он обрел более тесные и очевидные связи как с более или менее
постоянной газетной темой «богатый нищий» (ср., например, заметку «Необыкновенная
скупость» в «Северной пчеле», 1844, 9 июня, № 129, с. 513, о которой см.: Нечаева B.C. К
истории рассказа Достоевского «Господин Прохарчин» // Русская литература. 1965.
252
№ 1. С. 157-158, ср. ее же «Ранний Достоевский. 1821-1849». М., 1979. С. 163-173), так
и с более поздними обработками подобного материала самим Достоевским (ср.,
например, образы «нового Гарпагона» и «нового Плюшкина» в фельетоне
«Петербургские сновидения в стихах и в прозе» или в «Подростке», ч. 1, гл. 5).
17 Terras V. The Young Dostoevsky (1846-1849). A Critical Study. The Hague-Paris; 1969;
Schmid W. Der Textaufbau in den Erzählungen Dostoevskijs. München, 1973; ср. отчасти и
вышеупомянутую статью В.А. Туниманова, а также соответствующую главу из книги
B.C. Нечаевой. Лишь отдельные детали «Господина Прохарчина» отмечены в статье:
Краг Э. Несколько замечаний по поводу стиля Достоевского // Scando-Slavica, 9, 1963.
С. 22-36.
18 Разработка этих вопросов, особенно в книге В. Шмида, в значительной степени
освобождает автора этой статьи от необходимости возвращаться к этому аспекту поэтики
«Господина Прохарчина».
19 Истомин К.К. Указ. соч. С. 27, 33.
20 «...Жить - значит сделать художественное произведение из самого себя», - напишет
вскоре Достоевский (фельетон от 27 апреля 1847 г. в «Санкт-Петербургских
ведомостях»), см. «Фельетоны сороковых годов». М.; Л., Academia., 1930. С. 132.
21 Сходная ситуация возникает и в связи с некоторыми другими произведениями
Достоевского. «Не по отсутствию ли правильного подхода к таким, несколько особняком
стоящим произведениям в творчестве Достоевского, как "Хозяйка" и "Вечный муж",
они обходятся и современной критикой, не знающей, с каким критерием к ним
подойти?» - писал в свое время А.Л. Бем (см.: «О Достоевском». I. С. 94) о типологически
сходных случаях.
22 Работы В.В. Виноградова в этом отношении составляют весьма редкое и ценное
исключение.
23 w ТуТ Достоевский как великий антрополог вполне сопоставим с той плеядой
естествоиспытателей, вершинные проявления которой - Линней, Бюффон, Кювье, Ламарк.
24 О конгениальности Достоевского как читателя Достоевскому-писателю можно
сделать выводы, продолжая проницательные наблюдения в статье: Бем АЛ.
Достоевский - гениальный читатель // О Достоевском. П. Прага, 1933. С. 7-24.
25 Типовые высказывания о «жестокости», «беспощадности» Достоевского,
принадлежащие тем, кто боится оставить добровольную «темницу» своего неподлинного
существования, кто не хочет и не может пройти через страх {Angst) к свободному выбору,
основаны в значительной степени не на «страшных» темах, а на этой принудительности в
отношении Достоевского (его текстов) к читателю, не оставляющей ему укрытия,
лишающей его комфортности, собственной инерциальности, права в удобный момент выйти
из становящейся опасной игры, когда уже близки «запретные пределы естества».
26 О чем первым писал В.В. Розанов. В связи с повторяемостью у Достоевского он
замечает: «Но эта повторяемость главных характеров не только не вредит достоинству
"Братьев Карамазовых", но и возвышает их интерес. Достоевский есть прежде всего
психолог, он не изображает нам быт, в котором мы ищем все нового и нового, но
только душу человеческую с ее неуловимыми изгибами и переходами, и в них мы
прежде всего следим за преемственностью, желаем знать, во что разрешается, чем
заканчивается то или иное течение мыслей, тот или иной душевный строй...». См.:
Розанов В.В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского. Изд. 2. СПб., 1902. С. 9.
От повторяемости этого рода нужно отличать обычные у Достоевского явления
перехода («перехлеста») тех или иных образов из одного произведения в другое. Ср. хотя
бы ситуацию последних романов.
27 И полифонизм Достоевского находится на службе именно у этой незавершенности,
которая, не допуская «овеществления» текстовых смыслов, все время возвращает нас
к открытой бытийственной сфере.
28 Или «о бедном чиновнике», если говорить о суженном и специализированном
варианте.
29 Фельетоны сороковых годов. С. 151. Подобное состояние (с соответствующими
коррективами) было знакомо Достоевскому и по личному опыту.
253
30 «Ряхнулся, батюшка, а? - Ряхнулся! с ума сошел! - раздалось кругом» (С. 256).
31 Ср.: «- Прост, матушка, был; воображения на то не хватило, - отвечал Марк
Иванович» (с. 262); «...но, уверившись, что золовка была в некотором смысле миф, то есть
произведение недостаточности воображения Семена Ивановича... - то тут же идею
оставили, как бесполезную...» (с. 261); Прохарчина называет простым и Зимовейкин
(«Ты прост...», с. 256) и он сам («...и, всхлипывая, стал говорить, ...что он такой
несчастный, простой человек...», с. 257); собственно, и «мудрец», «брат-мудрец»,
обращенные к Прохарчину, в устах Зимовейкина приобретают смысл соседний с простотой.
Рассказчик еще жестче определяет эту черту Прохарчина: «Кроме того, по всем
признакам можно совершенно безошибочно заключить, что Семен Иванович был
чрезвычайно туп и туг на всякую новую, для его разума непривычную мысль и, что,
получив, например, какую-нибудь новость, всегда принужден был сначала ее как будто
переваривать и пережевывать, толку искать, сбиваться и путаться...» (с. 245). Отсутствие
воображения образует тип и в других случаях (ср.: «- Матрена добрая, только один
недостаток: у ней нет воображения, Настенька, совершенно никакого воображения...» -
«Белые ночи» // ПСС. Т. 2. С. 138). Впрочем, простота Семена Ивановича из тех,
что хуже воровства: ничего не выиграв, он, тем не менее, обманул всех («- Ну да и
вы просты, матушка, - включал Океанов, - двадцать лет крепился у вас человек,
с одного щелчка покачнулся, а у вас щи варились, некогда было! ...Э-эх, матушка!...»,
с. 262).
32 Во всяком случае - в отличие от своих собратьев по этому признаку - «Господин Про-
харчин» - анекдот, в котором сюжет как таковой не превалирует над его
психологической мотивировкой, идеей.
33 Не меняет положения дел и образ добровольного буффона Зимовейкина, пожалуй,
первого по времени представителя этого типа в творчестве Достоевского. Ср.,
впрочем, Terras V. Указ. соч., 214, ср. также 45.
34 В «Слабом сердце» и «бедность» и «анекдотичность» предельно ослаблены.
35 Цейтлин Л. Повести о бедном чиновнике Достоевского (К истории одного сюжета).
М., 1923.
36 Впрочем, некоторые образцы обнаруживают тенденцию к «анекдотизации» мотива
сумасшествия. Ср. «Первое число» Буткова или «Сто рублей» и «Почтенные люди»
Булгарина.
37 Исследователи до сих пор не обращали внимания на то, что в «Господине Прохарчи-
не» отражена - пусть теневым образом, в виде намека, неосуществившейся
возможности, эксплоатируемой лишь «злыми надсмешниками» (ср. аналогичные насмешки над
Акакием Акакиевичем), - та ситуация, которую А. Цейтлин обозначил как
«персонажный трехчлен». Уже в самом начале рассказа есть фрагмент, в котором
рассказчик, заверяя читателя в возвышенном характере прохарчинского фаворитизма,
вместе с тем делает намек, который в дальнейшем уже нельзя игнорировать полностью:
«Говорили иные, что у ней был тут свой особый расчет; но как бы там ни было, а
господин Прохарчин, словно в отместку всем своим злоязычникам, попал даже в ее φ а -
в о ρ и τ ы, разумея это достоинство в значении благородном и честном» (с. 240). Ср.
далее: «В фавориты же Семен Иванович попал с того самого времени; как
свезли на Волкове увлеченного пристрастием к спиртным напиткам отставного...» (с. 240);
«...писарь Океанов, в свое время едва не отбивший пальму первенства ифаворит-
с τ в а у Семена Ивановича...» (с. 241); «Одно то, что он был φ а в о ρ и т...» (с. 246,
ср. также кошку-фаворитку, с. 260). Особые отношения Устиньи Федоровны к
Прохарчину (несмотря на то, что он «уже давным-давно оставил за собой свою пору
элегий», с. 241) обнаруживаются в ее постоянном выделении Семена Ивановича среди
других и особенно в ее монологе-причитании по умершему: «- Ох уж ты мне, млад-
млад! - продолжала хозяйка... принеси-ка он мне свою горсточку, да скажи мне... - то,
вот тебе образ, кормила б его, поила б его, ходила б за ним...» (с. 262). См. подробнее
Приложение I.
38 Это решение было найдено в художественном пространстве позднейшего
полифонического романа (ср., впрочем: «Gospodin Proxarcin» is a polyphonic work on a smaller
254
scale. The several separate voices of its personages combine with that of narrator to tell the
story. In the process they are all refracted through the prism of the narrator's irony. - Terras V.
Указ. соч., с. 225), но уже сразу после «Прохарчина» возникла необходимость
переменить манеру письма и заговорить о своей собственной внутренней жизни (именно так
понимает «Хозяйку» Штейнберг в «Системе свободы Достоевского»), см.: Комаро-
вичВЛ. Петербургские фельетоны Достоевского // Фельетоны сороковых годов. С. 8.
«Наступает какая-то всеобщая исповедь. Люди рассказываются, выписываются,
анализируют самих же себя перед светом, часто с болью и муками», - напишет
Достоевский в третьем фельетоне «Петербургской летописи» (с. 164).
39 Не составит труда показать, что в ранний период творчества перед Достоевским в
связи с каждым новым произведением вставал вопрос о выборе соответствующей
«личной» структуры, что, прорабатывая типологию таких структур, писатель много и
упорно экспериментировал. Черновики «Преступления и наказания», «Подростка» и
ряда других произведений 60-70-х годов убедительно свидетельствуют о значении
этой проблемы для Достоевского (ср. сомнения, пробы, перестройки «личного» кода
текста); кстати, еще раз заслуживает проверки мнение Истомина о том, что
первоначально «Бедные люди» имели форму дневника Вареньки; во всяком случае такой
вариант почти неизбежно должен был предноситься авторскому сознанию; ср., однако,
Комарович В Л. Достоевский. Современные проблемы историко-литературного
изучения. Л., 1925. С. 24—29; ПСС. Т. 1. С. 465 и др. Можно высказать предположение, что
тексты с максимальной синтезированностью (и у Достоевского и позже у ряда других
писателей) вызывали «срыв» к перволичной форме или к тому варианту третьелич-
ной формы, где автор почти сливается с описываемым героем (ср. «Хозяйку»). Ср. у
Мандельштама: «Какое наслаждение для повествователя от третьего лица перейти к
первому! Это все равно, что после мелких и неудобных стаканчиков-наперстков вдруг
махнуть рукой, сообразить и выпить прямо из-под крана холодной сырой воды» и
«Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от
него» («Египетская марка»).
40 д что это понимание не является полным (после первого прочтения),
удостоверяется обычной реакцией читателя, исходящей из некоей незавершенности
текста; соответственно «рядовой» критик (а в отношении Достоевского почти вся
современная ему критика была таковой) упрекает автора в недостаточной
«художественности» его произведений (т.е. той, с первого взгляда схватываемой законченности
образов, пластичности, архитектурности и т.п.) и обычно даже указывает, кому
Достоевский в этом отношении уступает.
41 Ср., однако, там же (13, с. 67): «Сомнения нет, что намерением стать Ротшильдом у них не
было: это были лишь Гарпагоны или Плюшкины в чистейшем их виде, не более».
42 Нельзя пройти мимо того, что именно эти стихии преобладают не только в
«Господине Прохарчине» (о чем ранее не писалось), но и в непосредственно примыкающих к
нему по времени «Двойнике» и «Хозяйке», этой, по выражению А.Л. Бема,
«драматизации бреда»; ср. также показания Достоевского о своем состоянии в эту пору, не
говоря уж о свидетельствах пользовавшего его доктора Яновского. Позже
(«Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Вечный муж» и др.) эти стихии
трансформируются в частные мотивы. Такая локализация позволит автору в
дальнейшем отказаться от необходимости создания «снообразных» текстов. См. Бем АЛ.
Тайна личности Достоевского // Православие и культура. Берлин, 1923 (указание на
возможность анализа и понимания произведений Достоевского как сновидений); его же,
«Драматизация бреда»; Осипов Н.Е. «Двойник. Петербургская поэма» Достоевского
(Заметки психиатра) // О Достоевском. I. 1929. С. 39-64 и др.
43 К пониманию этого ключевого термина см. «Разговор о Данте» Мандельштама.
44 Параноическое поведение героя (см.: Terras V. Указ. соч. С. 185) обусловливает выбор
языка соответствующего типа. Интересно, что существующие клинические описания
параноической речи весьма близки к тому, что выступает как речь героя в
«Господине Прохарчине» (сходство, остававшееся до сих пор незамеченным, хотя В. Террас
уже указал некоторые параноические черты речи Прохарчина).
255
45 Об этом см. далее.
46 Ср. рассказ Д.В. Григоровича «Петербургские шарманщики» (1843), который автор
еще в рукописи читал Достоевскому на их общей квартире (Владимирская, 11), см.
Григорович Д.В. Литературные воспоминания. М., 1961. С. 84-85. Есть и другие
основания думать об особой актуальности этих образов для Достоевского именно этого
периода. Ср. в «Петербургских сновидениях»: «Кто-то гримасничал передо мною,
спрятавшись за всю эту фантастическую толпу и передергивал какие-то нитки, пружинки,
и куколки эти двигались, а он хохотал и все хохотал». Ср. Бахтин М.М. Проблемы
поэтики Достоевского. Изд. 2. М., 1963. С. 216.
47 Ср. серии повторений и последовательностей однородных членов: горит... горит...
горят... горит... горит... горели... горела...; ...угол... ширмы... квартира... кровать,
подушка, одеяло, сундук... тюфяк; ...вскочил, вцепился... побежал; ...перехватили, скрутили...
снесли... Сюда же, видимо, следует отнести и такие «перескоки», которые имеют в
своей основе разные виды материализации метафор. Ср., с одной стороны, «ширмы...
не горели, а горела скорее голова» (т.е. гореть употребляется сначала в прямом
своем смысле, а потом в переносном - «быть в жару»), а с другой стороны, слова
Прохарчина, обращенные к Марку Ивановичу: «А вот возьмешь, сгоришь, так не заметишь,
как голова отгорит...» (с. 253; ср. далее: «- Да... как же вы это говорите, Семен
Иванович, что голова отгорит?») и являющиеся реализацией метафоры. При этом нужно
помнить о реальном контексте - пожаре - и его транспозиции в бред. Несомненно, что
сходная операция представлена и в проклятии-предсказании Прохарчина Зиновию
Прокофьевичу: «...когда Зиновий Прокофьич вступит в гусары, так отрубят ему,
дерзкому человеку, ногу в войне и наденут ему вместо ноги деревяшку...» (с. 244), и при
описании отставного пьяницы: «...ходил с подбитым, по словам его, за храбрость
глазом и имел одну ногу, там как-то тоже из-за храбрости сломанную...» (с. 240); к
последнему ср.: «Он хромал на левую ногу; утверждали, что эта нога поддельная...
Правый глаз его был стеклянный, хотя и очень искусно подделанный...» («Дядюшкин
сон»); или хромого и кривого Капернаумова («Преступление и наказание»). Другие
примеры сходного типа см. далее. В этом отношении Достоевский был учеником и
продолжением Гоголя как мастера «реализованных метафор». См.: ùievsky D. Gogol:
Artist and Thinker // The Annals of the Ukrainian Academy in the USA. 1952. No 4(2).
С 261-278.
48 Эта «российская» версия треугольника итальянской commedia dell'arte и
марионеточного театра, конечно, намекает на реальные исторические прецеденты: Петр I и
Екатерина I, Петр III и Екатерина II (вместо Marionette, Marion и т.п.). См. подробнее
Топоров В.Н. Заметки о растительном коде основного мифа (перец, петрушка и т. д.) //
Балканский сборник. М., 1977.
49 В связи с итал. pulcinella «полишинель», «шут» ср.: «...ш утки тут, что ли, с вами
шутят теперь?... - ...ш у τ кто? Ты шут, пес шут, шутовской человек,
а шутки делать по твоему, сударь, приказу не буду...» (с. 253).
50 Ср. своеобразную марионеточную игривость описания (зная учтивость, на бочок,
ничком; так как господин Прохарчин уже второй раз в это утро наведывался под свою
кровать...), характерное несоответствие трагической сцены и псевдодостойного, с
оттенком неуместной ласковости, описания.
51 Заключительные слова «экспериментального» монолога Прохарчина («...Я, то есть,
слышь, и не про то говорю... оно вот умер теперь; а ну как этак, того, то есть оно,
пожалуй, и не может так быть, а ну как этак, того, и не у м е ρ - слышь ты, встану,
так что-то будет, а?», с. 263) возвращают нас - как возможность - к реальному, уже
после закрытия занавеса, оживлению Петрушки. Следовательно, «Господин
Прохарчин» объединяется с марионеточным театром обыгрыванием оппозиции
жизнь - смерть (живой-мертвый), члены которой обладают способностью
к взаимопроникновению. «Бобок» разовьет эту тему как основу своего содержания.
К указанному противопоставлению примыкает другое: человек- вещь,
данное чаще всего в аспекте нейтрализации, которая - применительно к уровню
действующих лиц - выступает как «овеществление» человеческого, торжество безлично-
256
сти, ср. помещался вместо жил; несколько штук постояльцев (с. 240);
образовалось заведение на более обширную ногу ипригласилось около десятка
новых жильцов (с. 241). Вообще речь рассказчика становится как-то неприятно
небрежной и затрудненной, когда нужно отличить человека от вещи. Само употребление
слова человек (см. ниже) автоматизируется и шаблонизируется: в слове исчезает все
возвышенное и духовное (человек-брат) и проступает обыденность, повседневность, ове-
ществленность, сфера «man».
52 Не следует забывать и изображение золовки: «...а на кровать положили золовку, т.е.
куклу, форму, сделанную из старого хозяйкина платка, чепца и салопа, но только
совершенно наподобие золовки, так что можно было совсем обмануться» (с. 248). «Куколь-
ность» и «автоматичность» использовались Достоевским для характеристики
персонажей и позже. Помимо князя из «Дядюшкина сна», ср. третьестепенного участника
карнавального по своему характеру праздника в пользу бедных гувернанток в «Бесах» -
«какого-то князька из Петербурга, автоматической фигуры, с осанкой
государственного человека и в ужасно длинных воротничках»; ср. о нем же: «...заезжий князек... в
стоячих воротничках и с видом деревянной куклы... Оказалось, что эта немая восковая
фигура на пружинах умела, если не говорить, то в своем роде действовать...»
53 Характерно, что «спотыкающемуся» языку «Господина Прохарчина» решительно
противостоит речевая манера следующего по времени произведения Достоевского -
«Хозяйки»: она распевна, эпична, рассчитана на долгое дыхание, монологичность.
54 Анализ прямой речи, как и соотношения разных видов речи в рассказе, см. в
обстоятельном исследовании W. Schmid'a (Указ. соч. С. 148 и ел.).
55 «Ты» принадлежит всегда прямой речи Прохарчина: «Семен Иванович был простой
человек и всем решительно говорил ты» (с. 243).
56 Как правило, речь идет именно оцепи прилагательных и/или существительных.
57 Ср.: «...а буйный и глупый-то я, побирушка-то я...» (Зимовейкин); «- Да вот; оно
хорошо, - сказал он, - миловидный я, смирный, слышь, и добродетелен, предан и верен...;
да я ведь бедный... а я, брат, и с сумочкой...» (Прохарчин), с. 256. Таким образом, Про-
харчин единственный (кроме Зимовейкина), кто сочетает запанибратское ты с
исповедальным я.
58 Ср.: «...и, всхлипывая, стал говорить, что он совсем бедный, что он такой несчастный,
простой человек, что он глупый и темный...» (с. 257); «Что же касается до Зиновия
Прокофьевича, то... вникнув в последние слова больного, что он совсем бедный...
пустился созидать подписку...» (с. 257). Показательно, что это дважды повторенное пе-
ресказывательное «что он совсем бедный» отвечает признанию самого Прохарчина:
«да я ведь бедный». Но особенно существенно шестикратно повторенное бедный
человек в обращении Семена Ивановича к своим сожителям (с. 243).
59 См. о них в общем плане: Бахтин ММ. Указ. соч. С. 166 и ел.
60 Сюда же относятся и те виды пародирования, в которых «происходит постоянный
перебой между прямым значением слова - его интенциональным содержанием -
направленностью на смысл - и другим смыслом, перечащим первому. Комический эффект
получается от такой непрерывной двуголосости изложения». См.: Лапшин И.И.
Комическое в произведениях Достоевского // О Достоевском. П. 1933. С. 40-41 (в связи с
идеями М.М. Бахтина), ср. также с. 38 и ел.
61 Ср. в коллективном рассказе «Как опасно предаваться честолюбивым снам»,
написанном и опубликованном в том же 1846 г., что и «Господин Прохарчин»: «Ведь вот, будь
немецкая фамилия, хоть подобие немецкой фамилии будь... а то-Блинов! на вот
тебе в самый рот - бл и н о в! горячих блинов! подавись!» (ПСС. Т. 1. С. 330).
62 Ср. в «Зимних заметках...»: «Г в о з д и л о в ы гвоздили по-прежнему»,
«Г в о з д и л о в сноровку держит, когда гвоздить приходится», «Гвозди-
л о в до сих пор еще гвоздит свою капитаншу», «Теперь Гвоздилов
гвоздит чуть не из принципа», ср. здесь же упоминаемого Гвоздилова (из
«Бригадирши» Фонвизина), который свою жену «гвоздит, гвоздит, бывало, в чем душа
остается» (действие IV, явление 2). См.: Альтман М.С. Достоевский по вехам имен.
Саратов, 1976. С. 139.
9. В.Н. Топоров
257
63 Отсюда - рифмообразуюшиея и ритмообразующие тенденции рассказчика, заданные
уже в первой фразе: «В квартире Устиньи Федоровны, в уголке (самом, тёмном и
скромном...» (с. 240; ср. цветаевское: По холмам круглым и смуглым / ...сапожком
робким..а кротким...). Ср. еще: Увлеченный и исключенный... (с. 240).; приличный и
чинный... (с. 244); туп и туг... (с. 245); измокший и издрогший..: (с. 248); предан и
верен... (с. 256); ср. у Устиньи Федоровны: млад-млад... ломбард] (с. 262). Ср. также
определенную умышленность речи рассказчика, некоторый шизофренический гипер-
морфиэм ее: «...ставил на нужной бумаге... ненужное слово...» (с. 246);
«Оплеваниев плюну л... Зиновий Про кофьевич прослезился ...»
(с. 255) и др.; ср.: Ферфичкин фыркнул («Записки из подполья»); «гудели скрипки,
скрипел контрабас» («Скверный анекдот») и др. Интересно, что и прохарчин-
ское косноязычие так или иначе просачивается в речь рассказчика, особенно в тех
местах, где она синтезирует в себя и речевую «замашку» действующих лиц. Ср.: «...ходил
с подбитым, по словам его, за храбрость глазом и имел одну ногу, там
как-то тоже из-за храбрости сломанную» (с. 240); «...и по всему было видно,
что он как-нибудь там обольстил Семена Ивановича» (с. 247) и т.п.
Близкую категорию образуют случаи приблизительного (несколько вкось) соотнесения
элементов, иногда с пропусками необходимых: «Из жильцов особенно замечательны
были: Марк Иванович, умный и начитанный человек; потом еще Оплеваниев-жилец;
потом еще Преполовенко-жилец, тоже скромный и хороший
человек» (с. 241; ср. ядро п-л-в-н и о/а-е, общее двум последним фамилиям). Ср.
также ряд нарочитых небрежностей: «Во-первых... во-первых...» (с. 243: без
«во-вторых»); «во-вторых же...» (с. 246: без «во-первых») и разные другие неправильности, о
которых см. ниже.
64 Ср.: «Семен Иванович был чрезвычайно туп иглуп» при «Семен Иванович,
будучи умным человеком...» и т.п. (ср. смирный и буйный).
65 Ср. определение Прохарчина «от противного», через характеристику его сожителей:
«...но, не быв смирными и будучи, напротив того, все до единого "злыми надсмешни-
ками" над ее бабьим делом...» (с. 240).
66 Строго говоря, середина рассказа вполне может быть приравнена к драматической
сцене, нуждающейся в минимуме ремарок. Ср.: «A polyphonie novel will, I think, almost
inevitably be of dramatic (rather than of the epic)», см.: Terras V. Указ. соч. С. 225.
67 Ср.: «Между тем нагоревший сальный огарок освещал чрезвычайно любопытную для
наблюдателя сцену. Около десятка жильцов группировалось у кровати в самых
живописных костюмах, все неприглаженные, небритые, немытые, заспанные.. Иные были
совершенно бледны, у других на лбу пот показывался, иных дрожь пронимала, других
жар... кругом были разбросаны изорванные и разбитые ширмы; раскрытый сундук
показывал свою неблагородную внутренность; валялись одеяло и подушка, покрытые
хлопьями из тюфяка, и, наконец, на деревянном трехногом столе заблистала
постепенно возраставшая куча серебра и всяких монет...» и т.д. (с. 260); «Теперь он лежал
как следует... запрятав окостенелый подбородок за галстух... Беспорядок все еще не
успели прибрать. Разбитые ширмы лежали по-прежнему и, обнажая уединение
Семена Ивановича, словно были эмблемы того, что смерть срывает завесу со всех наших
тайн, интриг, проволочек. Начинка из тюфяка, тоже не прибранная, густыми
клочьями лежала кругом...» и т.д. (с. 262), ср. также с. 248, 257. Такие описания, как
известно, имеют параллели и в других произведениях Достоевского.
68 Что это именно так, см. ниже. Другая кульминация - обнаружение денег в прохарчин-
ском тюфяке - имеет меньшее значение, хотя она и определяет «анекдотичность» (см.
выше) рассказа.
69 Весьма интересно мнение, согласно которому рассказчик «can be visualized as a young
man somewhat akin to Ratazjaev» (из «Бедных людей». См. Terras V. Указ. соч. С. 216, 217).
Заслуживают также внимания и соображения о причине того, что такую трагическую
историю рассказывает «a glib, conceited, frivolous plulistine». В. Террас (230-231)
указывает, что Достоевский и в «Двойнике» и в «Господине Прохарчине» «..seeks to drive home
his points by a kind of negation of the negative», which he expects the reader to perform for him.
258
The narrator's shallow irony and the tone of light banter which he displays throughout the story
show him insensitive to the pathos of Proxarcin's idea and unaware of its philosophical
implications. Such reduction to the ridiculous amounts to a 'negation' of the idea. Now, if the
sophisticated and sensitive reader senses the author's ironic attitude toward his narrator, Proxardin is
restored to the position of a deeply tragic figure, and his idea becomes serious and important-
which is the * negation of the negative'. Was this roundabout way of developing the theme
necessary? Obviously not. On the contrary, the interposition of an konic narrator has obscured the
expression of still another 'bright idea' of Dostoevsky's. But then, the story did gain in liveliness
and humor, as well as in various intriguing and entertaining details, what it lost in clarity and
straight-forward development of the central theme..».
70 Ср. близкие по времени вариации: «Наш брат и смотрит-то, как будто все чего-то
боится, и идет-то, как будто просит прощения у половиков... и в лице такое
подобострастие... что и сказать нельзя, никак нельзя сказать, недостанет слов... на языке
человеческом..» («Как опасно предаваться честолюбивым снам». ПСС. Т. 1. С. 330).
71 Может быть, сюда же отчасти: «Что τ ы, Сенька? Вставай! что ты, Сенька...» ... «Ты,
несчастный, ступай, - сказал он, - ты, несчастный, вор ты! слышь, понимаешь? туз
ты, князь, τ у з о в ы й человек!» (с. 254: ты С... ζ> туз Ζ) тузовый человек з князь
и т.д.).
72 Интересно, что не только сам «диалог» распадается на монологи, но и монологи
(если «диалог» включает в себя несколько «диалогических» актов) часто не
синтезируются в один монолог, все части которого относятся как целое к соответствующему
персонажу.
73 Ничем другим, собственно, обмениваться уже нечем: ведь даже «бритвы в углах не
нашлось: единственная, принадлежавшая Зиновию Прокофьевичу, иззубрилась еще
прошлого года и выгодно была продана на Толкучем..» (с. 262). Ср. описание
механики словесного «обмена»: «Семен Иванович ответил... Ему возразили. Семен Иванович
возразил. Возразили еще по разу с обеих сторон, а потом уж вмешались все... ибо речь
началась вдруг о таком дивном и странном предмете, что решительно не знали, как
это все выразить...» (с. 254).
74 Как, например, в спорах московских дипломатов XVII в. с западными по вопросу об
«именовании» (титулатуре) государя; как раз в «именовании» полнее всего
выражалась «честь» (а «самое большое дело государскую честь остерегать», «начальное и
главное дело государей чести остерегать» - таково было общее мнение), которая и
должна была определять реальные права. Некоторые эпизоды борьбы за правильное
«именование» (ср.: «Seven Letters of Tsar Michail to King Charles I, 1634—8.» By
S. Konovalov, - Oxford Slavonic Papers. IX. 1960. С 40-63) весьма комичны. Претензии
московской стороны казались пустыми и поэтому смешными западному
наблюдателю; сходные чувства испытывает и современный читатель, сталкиваясь с социальной
амбициозностью героев ранних произведений Достоевского, в частности, «Господина
Прохарчина». В этом же рассказе представлен еще один вариант «остерегания чести»
другого - за счет употребления самоназывания с установкой на пейоративность,
уничижительность. И этот способ намеренного языкового понижения своего социального
ранга также хорошо известен по историческим документам.
75 «Так как господин Прохарчин... получал жалованья в совершенную меру своих
служебных способностей...» (с. 240).
76 Ср. еще: «Кончив историю, в продолжение которой господин Зимовейкин
неоднократно лобызал своего сурового и небритого друга Ремнева... Испросив
покровительства, господин Зимовейкин оказался весельчаком... Но назавтра же дело его
окончилось плачевной развязкой... только Зимовейкину пришлось уплывать
восвояси...» (с. 247); «Довольный эффектом, господин Зимовейкин хотел
продолжать...» (с. 254). Однако, как правило, рассказчик называет этого персонажа
Зимовейкин (или попрошайка-пьянчужка, пьянчужка-приятель). Ср. известное притяжение
Прохарчина и Зимовейкина.
77 Несколько особая позиция Океанова несомненна: именно он чуть не отбил у Семена
Ивановича «пальму первенства и фаворитства»; только он, «бывший доселе самый не-
9*
259
дальний, смиреннейший и тихий жилец, вдруг обрел все присутствие духа, попал на
свой дар и талант» (с. 259), когда нужно было что-то предпринять в связи со смертью
Прохарчина. Можно полагать, что урок, преподанный историей Семена Ивановича,
полнее всего был усвоен именно Океановым.
78 «Явился он [= Зимовейкин]... вместе с Ρ е м н е в ы м ■ τ о в а р и щ е м» (с. 247).
79 Вообще речь Прохарчина заслуживает особого исследования с точки зрения
отражения в ней важных особенностей русского менталитета (с соответствующими, конечно,
ограничениями).
80 «С своей стороны, Семен Иванович говорил и поступал, вероятно от долгой
привычки молчать, более в отрывистом роде, и кроме того, когда, например, случалось ему
вести долгую фразу, то, по мере углубления в нее, каждое слово, казалось, рождало
еще по другому слову, другое слово, тотчас при рождении, по третьему, третье по
четвертому и т.д., так что набивался полный рот, начиналась перхота, и набивные слова
принимались наконец вылетать в самом живописном беспорядке...» (с. 253). Ср.
также: «...господин Прохарчин на такую обнаженную и грубую мысль даже выражений
приличных не мог сразу найти. Долгое время из уст его сыпались слова без всякого
смысла...» (с. 243). Уже отмечалось обилие в речи Прохарчина эллиптических
построений, апозиопез, анаколуфов, плеонастических местоимений и междометий,
асиндетонов, восклицаний, риторических вопросов, именных фраз и т.п. См. Terras V. Указ. соч.
С. 185.
81 Ср. особенно «Господин Прохарчин». С. 254—257.
82 Здесь и далее следует обратить внимание на выдающуюся роль вот в имитации
«чужой» речи.
83 Ср. еще: «по словам его» (с. 240); «и решили словами Марка Ивановича» (с. 241); «как
говорилось у них, шипучими мгновениями жизни» (с. 241).
84 Впрочем, и сам рассказчик достаточно «подвижен» - и в том, как он из нейтральной
третьеличной зоны вторгается в перволичную (несколько эмфатизированную и чуть
бесцеремонную, слегка запанибратскую), ср.: заметим, скажем более, но мы
остережемся, пропускаем, упомянули бы мы; Мы не будем объяснять... но однако ж не
можем не заметить читателю... (ср. актуализацию своей роли и в третьеличной
форме: «Здесь биограф сознается, что он и ни за что бы не решился...», с. 242), и в том,
как он передвигается по временной шкале, ср.: «...что, впрочем, гораздо яснее будет
видно впоследствии..»; «Такие толки пошли уже по кончине Семена Ивановича...», и
в том, как он меняет оценки героев (Прохарчин то «благомыслящий» и «умный», то
«туп и туг», и т.п.), и в том, как он от своей обычной манеры повествования вдруг
переходит к несвойственным ему приемам, ср.: «В патриархальном затишьи тянулись
один за другим счастливые, дремотные дни и часы...» (с. 246; идиллическая манера,
почти в духе «обломовских» описаний) или: «Целые часы проходили таким образом,
дремотные, ленивые, сонливые, скучные, словно вода, стекавшая звучно и мерно в
кухне с залавка в лохань» (с. 249) и под.
85 К типологии речи в «Господине Прохарчине» ср. еще псевдоречь по образцу Гоголя:
«Эге-ге-ге! - сказал Ярослав Ильич...»; «Не успел Ярослав Ильич... опять сказать
"эге-ге!"...», с. 260.
86 Ср. о мечтателе: «Селится он большею частию где-нибудь в неприступном углу, как
будто таится в нем даже от дневного света, и уж если заберется к себе, то так и
прирастет к своему углу, как улитка, или, по крайней мере, он очень похож в этом
отношении на то занимательное животное, которое и животное и дом вместе, которое
называется черепахой. Как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены?...»
(«Белые ночи». ПСС. Т. 2. С. 112). Ср. в «Подростке»: «Уединение - главное... Люди
мне тяжелы..» (ПСС. Т. 13. С. 68); «Вся цель моей "идеи" - уединение... Да, я
сумрачен, я беспрерывно закрываюсь...» (с. 72); «Да, я жаждал могущества всю мою жизнь,
могущества и уединения» (с. 73 и далее: мысли об идее «в самом полном уединении,
без ходящих кругом людей»); в «Бедных людях»: «Так после этого и жить себе мирно
нельзя, в уголочке своем... никого не трогая... чтобы и тебя не затронули, чтобы и в
твою конуру не пробрались да не подсмотрели..» (ПСС. Т. 1. С. 62); в «Честном воре»:
260
«Я вообще живу уединенно, совсем затворником. Знакомых у меня почти никого;
выхожу я редко. Десять лет прожив глухарем, я, конечно, привык к уединению» (ПСС.
Т. 2. С. 83) и т. п. Примеры такого рода у Достоевского весьма обильны. Ср.
особенно в «Записках из подполья»: «моя квартира была мой особняк, моя скорлупа, мой
футляр, в который я прятался от всего человечества» (ПСС. Т. 5. С. 168).
87 Кто бывал в Михайловском замке и сам видел спальню, где нашел свою смерть
(«чужую») Павел, может оценить это «внутри». Допустимо предположение, что тема
Павла была весьма значима для Достоевского, несколько лет жившего в Инженерном
замке.
88 Когда и время уже неразличимо: «...ни Семен Иванович, ни Устинья Федоровна уж и
не помнили даже хорошенько, когда их и судьба-то свела. "А не то десять лет, не то
уж пятнадцать, не то уж и все те же двадцать пять", - говорила она подчас своим
новым жильцам, - "как он, голубчик, у меня основался, согрей его душеньку"» (с. 246);
ср.: «лежал слишком двадцать лет за ширмами, молчал...» (с. 257).
89 «Эге-ге-ге!» - сказал Ярослав Ильич, показывая в тюфяке одно, худое место, из
которого торчали волосы и хлопья» (с. 260); «на кровати оставался один только голый,
ветхий и масляный тюфяк» (с. 258).
90 Впрочем, они не обошли вниманием и тюфяк: «Осмотрели худое место (в тюфяке) и
уверились, что оно сейчас только сделано ножом, а было в пол-аршина длиною;
засунули руку в изъян и вытащили, вероятно, впопыхах брошенный там хозяйский
кухонный нож, которым взрезан был тюфяк» (с. 260). То, что надрез сделан вероятнее
всего Зимовейкиным, указывает на некое новое направление в реконструкции замысла
рассказа, см. далее.
91 Но не в самом тюфяке, который - единственная из вещей! - остается на кровати:
«...господин Прохарчин лежит под кроватью... стащив на себя и одеяло и подушку, так
что на кровати оставался один только... тюфяк (простыни же на нем никогда не
бывало)», с. 258.
92 Ср.: «Для начатия сношений у Семена Ивановича был всегда в запасе свой особый,
довольно хитрый и весьма, впрочем, замысловатый маневр..», с. 244.
93 Если не считать его видения: «...Семен Иванович ничего не мог придумать лучшего,
как начать снова грезить о том, что сегодня первое число и что он получает
целковики в своей канцелярии. Развернув бумажку на лестнице, он быстро оглянулся
кругом и поспешил как можно скорее отделить целую половину из законного
возмездия, им полученного, и припрятать эту половину в сапог, потом, тут же на лестнице
и вовсе не обращая внимания на то, что действует на своей постели, во сне, решил,
пришед домой, немедленно воздать, что следует за харчи и постой хозяйке своей,
потом накупить кой-чего необходимого и показать кому следует, как будто без
намерения и нечаянно, что подвергся вычету, что остается ему и всего ничего...» (с. 249).
Впрочем, читатель вправе предположить и определенную изобретательность, даже
изощренность Прохарчина в собирании богатств: ведь у него не только «плебеи-чет-
вертачки, двугривеннички, даже малообещающая старушечья мелюзга, гривенники
и пятаки серебром...», которые можно накопить суровой экономией, скаредностью,
но «были и редкости: два какие-то жетона, один наполеондор, одна неизвестно
какая, но только очень редкая монетка... Некоторые из рублевиков относились тоже
к глубокой древности; истертые и изрубленные елизаветинские, немецкие
крестовики, петровские монеты, екатерининские, были, например, теперь весьма редкие
монетки, старые пятиалтыннички, проколотые для ношения в ушах... даже медь была,
но вся уже зеленая, ржавая.. Нашли одну красную бумажку...» (с. 261). Нужно
напомнить, что «все в особых бумажках, в самом методическом и солидном порядке»
(с. 261). Общая сумма оставшихся денег также указывает на некоторые
дополнительные (помимо жалования) источники прохарчинских доходов, хотя и они (судя по
перечню) скорее всего сродни примитивному «собирательству» (что попадется),
целиком зависящему от случая. Уместно вспомнить, что накопленная Прохарчиным
сумма денег (около 2500 рублей) в три с лишним раза превышает солидный капитал
Голядкина (750 рублей).
261
94 См. Бем АЛ. «Скупой рыцарь» в творчестве Достоевского; Terras V. Указ. соч. С. 26
и ел., 184 («Прохарчин - это Плюшкин с идее й»), но: Schmid W. Указ. соч. С. 170.
95 Ср. уже упоминавшееся свидетельство - «Я еще в детстве выучил наизусть монолог
Скупого рыцаря у Пушкина; выше этого, по идее, Пушкин ничего не производил!
Тех же мыслей я и теперь». Вероятно отражение образности «Скупого рыцаря» и в
одном месте из «Хозяйки» («целые кладбища высылали ему своих мертвецов» при:
«От коей меркнет месяц и могилы I Смущаются и мертвых высылают»), см. ПСС.
Т. 1. С. 511. А.Г. Достоевская сообщает («Воспоминания»), что 19 октября 1880 г. на
вечере в пользу Литературного фонда «Федор Михайлович прочел сцену в подвале
из "Скупого рыцаря"». Ср. также: Письма. Т. III. С. 326; Ф.М. Достоевский, А.Г.
Достоевская. Переписка. Л., 1976. С. 337, 421.
96 К аналогичной ситуации ср.: «- Ведь обыкновенно как говорят? - бормотал Свидри-
гайлов... - Они говорят: "ты болен, стало быть, то, что тебе представляется, есть
один только несуществующий бред". А ведь тут нет строгой логики. Я согласен, что
привидения являются только больным; но ведь это только доказывает, что
привидения могут являться не иначе, как больным, а не то, что их нет самих по себе»
(«Преступление и наказание»).
97 «- А коли не к кому, коли идти больше некуда! Ведь надобно же, чтобы всякому
человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда
непременно надо хоть куда-нибудь да пойти», - сформулирует позже Мармеладов.
98 Получив от опекуна тысячу рублей, Достоевский уже на следующее утро просит
Ризенкампфа одолжить ему пять рублей: «Оказалось, что большая часть
полученных денег ушла на уплату за различные заборы в долг, остальное же частию
проиграно на бильярде, частию украдено каким-то партнером, которого Федор
Михайлович доверчиво зазвал к себе и оставил на минуту одного в кабинете, где лежали
незапертыми последние пятьдесят рублей... К 1 февраля 1844 г. Федору
Михайловичу выслали опять из Москвы тысячу рублей, но уже к вечеру в кармане у него...
оставалось всего сто. На беду, отправившись ужинать к Доминику, он с
любопытством стал наблюдать за биллиардной игрой... и последняя сторублевая
Достоевского перешла в карман партнера-учителя». См.: Ф.М. Достоевский в
воспоминаниях современников. Т. 1. С. 117-118. Эти ранние свидетельства дополняются еще
более многочисленными поздними показаниями (в частности, самого Достоевского,
«врага денег»). Можно вспомнить Настасью Филипповну, в истребительной
страсти к деньгам бросающую их в огонь; Версилова, Подростка, Дмитрия Карамазова
и их отношение к деньгам, и т.п.
99 Характерно, что и Подростку не удается осуществить свою идею («Моя идея - это
стать Ротшильдом., стать так же богатым, как Ротшильд; не просто богатым, а
именно как Ротшильд». - ПСС. Т. 13. С. 66; «кроме уединения мне нужно и могущество»,
с. 72 и др.). Помимо уединения («Я же слишком понимаю, что, став
Ротшильдом... - я уже тем самым разом выхожу из общества», с. 66) и могущества
(Подростку нужно «уединение и спокойное сознание силы», о чем говорится: «Вот
самое полное определение свободы», с. 74), - Аркадию Долгорукому денег как
таковых (т.е. вне их символической роли), оказывается, не надо, как, впрочем, и самого
могущества: «Будь только у меня могущество, рассуждал я, мне и не понадобится оно
вовсе; уверяю, что сам, по своей воле, займу везде последнее место. Будь я Ротшильд,
я бы ходил в стареньком пальто и с зонтиком. Какое мне дело, что меня толкают на
улице, что я принужден перебегать вприпрыжку по грязи, чтоб меня не раздавили
извозчики...» (с. 74). Ротшильд в стареньком пальто и Прохарчин без белья, принимая
во внимание масштабы, примерно одно и то же. Без этого отказа от использования
денег в практическом плане «вся прелесть "идеи" исчезнет, вся нравственная сила ее»
(с. 74), как скажет сам Подросток. Как ни далека эта концепция от той, которую
можно было бы реконструировать для Прохарчина, - обе они восходят к общим
истокам, и поздняя версия бросает обратный свет на раннюю, прохарчинскую.
100 Она «представилась так, как была тогда - в лаптишках, с костылем, с плетеной
котомкой за спиною и в рубище. Она кричала громче пожарных и народа, размахивая
костылем и руками, о том, что выгнали ее откуда-то дети родные и что пропали при
сем случае тоже два пятака», с. 251.
101 Андрей Ефимович, «с негодованием взглянув на Семена Ивановича, как будто бы
именно господин Прохарчин виноват был в том, что у него целых семеро ...
поворотил налево и скрылся. Семен Иванович весьма испугался, и хотя был
совершенно уверен в невинности своей насчет неприятного стечения числа семерых под
одну кровлю, но на деле как будто бы именно так выходило, что
виноват не кто другой, как Семен Иванович» (с. 250);
«Наконец господин Прохарчин почувствовал, что на него начинает нападать ужас; ибо
видел ясно, что все это как будто неспроста теперь делается и что даром ему не
пройдет» (с. 251). Характерны и другие обращения «на себя» (ср. деньги, горящие в
углу под периной) в болезненных грезах Прохарчина.
102 Чувство вины перед Андреем Ефимовичем можно было бы еще объяснить
ситуацией «смежности» (чиновник из той же канцелярии, правда, «за целые три комнаты от
места сиденья Семена Ивановича», который «в двадцать лет не сказал с ним ни
слова», с. 250). В остальных случаях Семен Иванович принимает на себя вину (уже не
свою) добровольно и тем самым открывает себе путь к раскаянью и
нравственному возрождению.
103 С другой стороны, сам Прохарчин «заражает» сожителей идеей золовки, которая
затем переадресовывается ему уже его соседями. Прохарчин выигрывает свою
партию, его сожители - свою, но эти победы и поражения так же мало соотносятся друг
с другом, как монологические партии, складывающиеся лишь в псевдодиалог. Дух
разъятия, несовместимости поражает в зародыше любое устремление к синтезу и
согласованию. Все пространство оказывается дисгармоничным par excellence.
104 Кантарев, в ряде отношений подобный Прохарчину (см. Туниманов В.Л. Указ. соч.
С. 205, сн. 9), тоже, видимо, «обманул» сожителей. Он практичнее и предприимчивее
Прохарчина, но душевно мельче его и едва ли способен и к бунту, и к раскаянию.
105 См. Анненский И.Ф. Указ. соч. С. 39, 50.
106 Ср.: «служу безукоризненно, поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен...
Но в больших проступках и предерзостях никогда замечен, чтобы этак против
постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствия, в этом я никогда
не замечен, этого не было» («Бедные люди». ПСС. Т. 1. С. 61-62) и др.
107 Этому бунту предшествует важное внутреннее изменение, которое делает тщетной
прежнюю прохарчинскую стратегию укрывания и само по себе означает подступ к
идее бунта: «...и к довершению всех новых качеств своих, страх как
полюбил отыскивать истину. Любовь к истине довел он, наконец, до того,
что рискнул два раза справиться о вероятности ежедневно десятками получаемых им
новостей даже у самого Демида Васильевича...»
108 Отношение неизменяемости-изменчивости, как и многое в рассказе, построено по
принципу парадокса. Начальные характеристики Прохарчина к середине
заменяются прямо противоположными. Внутренняя парадоксальность, одним из проявлений
которой нужно считать оксюморность (ср. богатый нищий или «Честный вор» и
т.д.), колеблет все тезисы. Все плохо - и быть смирным, и быть буйным. И то, и
другое приближает конец, как и все, что делает Прохарчин. Испытывая страх перед
жизнью, он, как завороженный, как сомнамбула, тянется к финальной ситуации.
109 Ср. в поздней передаче Прохарчина: «..а оно место такое есть, что возьмет да и
уничтожается место. И Демид, слышь ты, Демид Васильевич говорит, что уничтожается
место... - Да, хлоп, да и баста, и будешь без места; поди ты с ним вот...» (с. 255-256).
110 Во всяком случае уже И.Ф. Анненский заметил, что слово чиновник, на исключение
которого Достоевский жалуется в письме к брату, несколько раз встречается в
напечатанном тексте. См.: Указ. соч. С. 44.
111 «Прохарчин бежал, бежал, задыхался... рядом с ним бежало тоже чрезвычайно
много людей, и все они побрякивали своими возмездиями... кругом них гремела и гудела
необозримая толпа народ а... И действительно, тут же недалеко от
него взмостился на дрова какой-то мужик, в разорванном, ничем не подпоясанном
263
армяке, с опаленными волосами и бородой, и начал подымать весь Божий
народ на Семена Ивановича. Толпа густела-густела, мужик
кричал... Он чувствовал, как вся разъяренная толпа обвивает его
подобно пестрому змею, давит, душит...» (с. 250-251). Ср. описание пожара и волнения
«шпигулинских» в «Бесах».
112 Ср. автохарактеристики Зимовейкина: «Зимовейкин... объяснил, что он человек
недостойный, назойливый, подлый, буйный и глупый...» (с. 247); «...а буйный и
глупый-то я, побирушка-то я...» (с. 256).
113 Ср. также: «а как осветили их, то один закричал: "Не я, аразбойни к!", а другой,
именно Зимовейкин, закричал: "Не трожъ, неповинен; сейчас присягну!"» (с. 258).
114 «Что положительного выработала в нем жизнь? - Зимовейкин называет Прохарчи-
на мудрецом и убеждает его послужить благоразумию, - и точно: Прохарчин был
мудрецом, так как он не хотел ни говорить, ни мечтать, ни знаться с людьми - а это-
то и была подлинная и заправская мудрость канцелярии, т.е. инстинктивное, но
цепкое приспособление к среде», см. Анненский И.Ф. Указ. соч. С. 55.
115 Откуда тянется нить вплоть до «Смирись, гордый человек!» пушкинской речи
Достоевского.
116 Помимо уже приведенных слов Зимовейкина, ср.: «- Сенька! ...В ольнодумец
ты! Сейчас донесу! Что ты? кто ты? буян, что ли, бараний ты лоб? Буйному,
глупому, слышь ты, без абшида с места укажут; ты кто?!
- Да вот оно и того...
- Что того?! Да вот поди ты с ним.
- Что поди ты с ним?
- Да вот он вольный, я вольный; а как лежишь-лежишь, и того... - Чего?
- Ан и вольнодуме ц...
-Воль-но-ду-мец! Сенька, ты в о л ь н о д у м е ц!!» (с. 256).
117 Ср.: бараний лоб (Зимовейкин - Прохарчину) и баран (Прохарчин - Зимовейкину).
118 «Никогда-то он почти ни с кем не говорил и вдруг начал беспокоиться, смущаться,
расспрашивать все о Гарибальди и об итальянских делах, как Поприщин об
испанских... И вот в нем образовалась мало-помалу неотразимая уверенность, что он-то и
есть Гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка вещей»
(«Петербургские сновидения в прозе»).
119 См. Альтман М.С. Указ. соч. С. 82-84.
120 «Не Бога я не принимаю, Алеша, а только билет ему почтительнейше возвращаю. - Это
бунт,- тихо и потупившись проговорил Алеша. - Б у н т? Я бы не хотел от тебя
такого слова... - Можно ли жить бунтом, ая хочу жить...» (ПСС. Т. 14. С. 223).
121 «Дай ему волюшку, слабому человеку, - сам ее свяжет, назад принесет» («Хозяйка»).
122 На этом фоне воспринимаются как некая несбалансированность не только мотив
посмертного разоблачения Прохарчина, но и его психическая болезнь. Автор как бы
задает читателю, не вполне учитывая возможности его передвижения в
пространстве, определяемом двумя признаками - этическим и эстетическим, сверхзада-
ч у совмещения и согласования (путем введения собственных мотивировок) таких
разнородных и разноплановых показаний. И в этом также проявляется уже
отмеченная экспериментальность и парадоксальность авторской установки. Не мудрено, что
рассказ остался не до конца освоенным читательским сознанием.
123 Или в обратном порядке: «моя смерть в яйце, то яйцо в утке, та утка в кокоре, та
кокора в море плавает». Афанасьев, № 157.
124 Любопытна модификация в схеме вложений у Достоевского: сундук запрятан глубже
всего, в самой сердцевине укрытия, и все, кроме Прохарчина, считают, что
богатство и находится в сундуке. Сам же Прохарчин, делая вид, что богатство
действительно в сундуке, перемещает его в предпоследнее укрытие - тюфяк,
который остается без видимой охраны.
125 Более полное описание пространств такого рода см. в наст, издании: Топоров В.Н. О
структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического
мышления.
264
126 Ср. пожар в «Хозяйке», «Бесах» и других произведениях Достоевского.
127 Ср.: «...и весь до нитки промок Зиновий Прокофьевич, поминутно выбегая во двор
наведываться о Семене Ивановиче»; «Его ввели, или лучше сказать, внес его на
плечах весь измокший и издрогший оборванный ночной Ванька-извозчик» (с. 248).
128 Интересно, что и сожителей у Прохарчина семеро: Марк Иванович, Зиновий
Прокофьевич, Океанов, Преполовенко, Оплеваниев, Судьбин, Кантарев.
Последний, своего рода двойник Прохарчина, отмечен особо: он - единственный, кто вместе
со своим богатством покидает квартиру Устиньи Федоровны.
129 Учитывая, что Громовержец в виде наказания превращает иногда детей в грибы
(о чем см. другое исследование), приобретает особый смысл и ругательство Семена
Ивановича: «гриб съешь!» (с. 243), имеющее глубочайшие мифопоэтические корни.
Кстати, это выражение Достоевский использовал и в других произведениях.
130 Здесь важны, конечно, не реальные отношения, а сама возможность бесконечной
взаимообратимости символических интерпретаций (в духе Юнга).
131 О биографических истоках и литературном окружении этого имени см. ниже
(Приложение II).
132 Ср. русск. Семен в беде, потонул в ...де (in vulva).
133 Ср. сказку о Семене Ерофееве, солдате, и заколдованной королеве (Афанасьев,
№ 272).
134 Ср. ассоциации от «Господина Прохарчина» до вор а-Стеньки.
135 Об этой стихии см. выше. Ср. этимологическую фигуру «а как будто судорогой его
какой дергало», «или судорогой какой его передернуло» (с. 248). То же в еще
большей степени присутствует в «Двойнике», начиная с уровня дерганой голядкинской
«звуко-речи» и кончая марионеточно-кинетическим уровнем.
136 Ср. о двух противоположных началах в музыке, описываемой Тришатовым Подростку.
137 См. выше об Оплеваниев, Ремнев. М.С. Альтман (Указ. соч. С. 148) пишет: «И не
только для действующих лиц своих произведений, но даже и для лишь бегло
упоминаемых пользуется Достоевский гоголевскими наименованиями. Так, в повести
"Господин Прохарчин" мы читаем: "...он стремится как можно скорее сочетаться браком
с какой-нибудь Февроньей Прокофьевной"; это звучит не только
порицательно, но и нарицательно, и за этим нарицательным именем стоят собственные -
Февронья Петровна Пошлепкина в "Ревизоре" и сожительница Солопия
Черевика из гоголевской "Сорочинской ярмарки" - Хавронья
Никифоров н а". Объединение Марка Ивановича и Зиновия Прокофьевича через общий
день, когда их поминают, отсылает к тому месту "Ревизора", где говорится, что
Городничий требует подношений и на Антона и на Онуфрия. Оказывается, что 28
сентября поминают их обоих (а, кроме того, 10 июля поминают Антона). См.
Альтман М.С. Указ. соч. С. 154).
138 О Прохарчине также сообщается, что «чаще же всего не ел ни щей, ни говядины»
(с. 242), тогда как Башмачкин «хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины...»
(«Шинель»).
139 В.А. Туниманов (Указ. соч. С. 205) считает, что мотив преемника героя (Кантарев)
идет в рассказе от Гоголя («Шинель»). Стернианский по происхождению прием
Гоголя - описание табакерки Петровича - повторен (специально «некстати», с эффектом
нарочитого торможения и снижения) в описании бритвы Зиновия Прокофьевича, со
всеми сюда относящимися подробностями.
140 К мотивам старухи и карт в «Пиковой даме» ср. в указанном же месте «Господина
Прохарчина»: «Ты, мать, проспись... ты баба туз, тузовая ты...» (с. 263).
141 Ср. отдаленный подступ в «Бедных людях»: «словно птенчик, из разбитого
гнездышка выпавший» (ПСС. Т. 1. С. 87).
142 В бахтинском понимании.
143 Даже тверская прописка золовки (о чем дважды говорится в рассказе)
выглядит как предвосхищение и событий собственной биографии, и явных или скрытых
последующих упоминаний Твери, ср. «Вечный муж», «Бесы», «Идиот». Ср.:
Альтман М.С. Указ. соч. С. 74-76, 193.
Приложение I
О ВОЗМОЖНОМ КРУГЕ БИОГРАФИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ
«ГОСПОДИНА ПРОХАРЧИНА»
Зная, в каких условиях писал Достоевский свой рассказ (разрыв с
Белинским, Панаевым и др.)1, и соглашаясь с тем, что в нем действительно
содержится «затаенно-мучительный ответ гения на "шуточки" своих
литературных недругов»2, предусмотрительный исследователь, не пренебрегающий и
почти микроскопическими намеками, может пойти еще дальше, а именно -
допустить сопоставление сожителей Прохарчина с тем кругом, который
осмеивал Достоевского3, едко поддразнивал его, доведя его до состояния
нервного потрясения, начинающейся психической болезни4. Более того, зная,
что Достоевский не пропустил ни одного случая, чтобы не отразить в своих
произведениях (после глубокой переработки) его личные конфликты с
литераторами, особенно перенесенные от них обиды5, было бы совершенно
невероятным предположение, что именно в этом, самом первом и самом
болезненном случае, писатель уклонился от обычной для него психотерапии
через художественное объективирование конфликта. Разумеется,
предполагаемое сопоставление должно пониматься только как возможность, как
принципиально неполное (частичное) ассоциирование, не допускающее
дальнейших экспликаций из самого факта отождествления двух
совокупностей в заданном отношении. Следовательно, сопоставление становится
реальностью лишь на некоем психологическом уровне, и исследователь может
считать, что ему повезло, если этот психологический уровень так или иначе
(и уж непременно в искаженном виде) проступает в самом художественном
тексте.
Если эти рассуждения оправданы хотя бы отчасти, возникает соблазн
сопоставления двух схем - развенчания «фаворита» Прохарчина, не
оправдавшего ожиданий своих «сочувствователей», и падения Достоевского,
сразу же после «Бедных людей» попавшего в любимцы Белинского, но вскоре
разоблаченного и затравленного теми же «сочувствователями»6. Оказалось,
что Достоевский, подобно Семену Ивановичу, потерпел фиаско,
проигрался, прохарчился7, хотя и знал, что «сочувствователи» обманулись в нем, не
нашли у него главного («придет время, что и вы заговорите»), ср. последние
слова Прохарчина: «...а ну как этак, того, то есть оно, пожалуй, и не может
так быть, а ну как этак, того, и не умер - слышь ты, встану, так что-то
будет, а?» (с. 263), более объяснимые общей схемой, нежели отношением
элементов внутри рассказа. В рамках этой схемы описание жильцов Устиньи
Федоровны, составлявших (за исключением одного Прохарчина!) единую
компанию, могло бы быть пародийным изображением кружка Белинского
(отсюда - и многочисленные переклички с описанием этого кружка в
памфлете Некрасова «Как я велик!», ср. особенно с. 472-473):
266
«Заметим здесь, что все до единого из новых жильцов Устиньи
Федоровны жили между собою словно братья родные;
некоторые из них вместе служили; все вообще поочередно каждое
первое число проигрывали друг другу свои жалованья в
банчишк у, в преферанс и на биксе8; любили под
веселый час все вместе гурьбой насладиться, как говорилось у них,
шипучими мгновениями жизни; любили иногда тоже
поговорить о высоком9, и хотя в последнем случае дело редко
обходилось без спора, но так как предрассудки были из всей этой
компании изгнаны, то взаимное согласие в таких случаях не нарушалось
нисколько... Но всем этим людям Семен Иванович был как будто
не товарищ. Зла ему, конечно, никто не желал, тем более что
все еще в самом начале умели отдать Прохарчину
справедливость и решили, словами Марка Ивановича, что
он, Прохарчил, человек хороший и смирный, хотя и не
светский10, верен, не льстец, имеет, конечно, свои недостатки, но если
пострадает когда, то не от чего иного, как от недостатка
собственного воображения. Мало того, хотя лишенный таким образом
собственного своего воображения, господин Прохарчин фигурою
своей и манерам и11 не мог, например, никого поразить с
особенно выгодной для себя точки зрения (к чему любят придираться н а -
с м е ш н и к и)12, но и фигура сошла ему с рук, как будто ни в чем не
бывало... Итак, если Семен Иванович не умел уживаться с людьми,
то единственно потому, что был сам во всем виноват» (с. 241 )13.
Даже отказ Прохарчину в собственном воображении
находит аналогию в высказываниях Белинского о Достоевском, прежде всего -
как раз в связи с этим рассказом: «...не вдохновение, не свободное и наивное
творчество породили эту странную повесть, а что-то вроде... как бы это
сказать? - не то умничанья, не то претензии...»14. Нужно полагать, что «не
вдохновение, не свободное и наивное творчество» и обозначает в устах
Белинского отсутствие воображения, его недостаток. Поверхностная и потому
мнимая несбалансированность основных заключений приведенного выше
отрывка (Прохарчин всем хорош - верный, не льстец, хороший, смирный /о
недостатках ничего конкретного не сообщается/ - и ему отдают
справедливость, но при всем том, если он «не умел уживаться с людьми, то
единственно потому, что был сам во всем виноват») может быть объяснена только
допущением необходимости иронического взгляда на эти заключения, своего
рода переадресовки иронии, «насмешки» от Прохарчина к его сожителям15.
Сама фигура рассказчика в данном случае определяет себя
принадлежностью или близостью к сожителям, а не к Семену Ивановичу. Поэтому
почти всегда сообщения рассказчика о Прохарчине требуют особой
упреждающей поправки, как и характеристики, даваемые рассказчиком сожителям
Прохарчина. Эти последние характеристики, выдержанные в спокойном,
доброжелательном, достойном по видимости тоне апеллируют к
чуть ироническому (сит grano salis), несколько снижающему
перетолкованию их со стороны читателя. Повторение этих характеристик еще более
заостряет внимание на возможной их мнимости16 или даже «обратности», про-
267
тивоположности их тому, что они обозначают. В этом отношении
показательно, что Прохарчин дает своим сожителям характеристики (в развернутом
виде), которые как раз противоположны характеристикам тех же лиц,
принадлежащим рассказчику (ср. «ругательские» обращения Семена Ивановича
к Марку Ивановичу, Зиновию Прокофьевичу и отчасти к Зимовейкину17).
Следовательно, нарочито положительные характеристики «сочувствовате-
лей», построенные рассказчиком так, что закрадывается сомнение в их
положительности, соотносимы с «ругательствами» ни в чем не сомневающегося
Прохарчина. Если предположение о биографическом подслое рассказа верно,
то нельзя не признать и новым и остроумным прием передачи Достоевским
своих обид, недовольств, упреков в адрес «сочувствователей» своему
бесконечно сниженному двойнику ad hoc Семену Ивановичу Прохарчину,
перерабатывающему то, что мог бы высказать Достоевский, в поношения и брань.
Описание жильцов Устиньи Федоровны, сама нарочитость их фамилий
(или имен)18, «умышленность» того, что они говорят, - все это делает весьма
вероятным предположение, что при создании этих образов творческому
сознанию писателя предносились некие реальные лица19, попытка определения
которых в рамках принимаемой схемы не может считаться исключенной,
хотя в этой работе автор не берет на себя смелость предлагать сколько-
нибудь настоятельного решения. Тем не менее, уместно обратить внимание на
некоторые частности. Так, вводимые автором в едином кортеже, как бы в
нарочитом сгущении, еще более подчеркиваемом отсутствием (как правило)
дифференцирующих характеристик, фамилии Оплеваниев, Преполовенко,
Океанов20 довольно однообразны в звуковом отношении (актуализация
консонантного ядра n-н-в или n-в-н). Стоит напомнить об особой нелюбви
Достоевского к И.И. Панаеву, которого, к тому же, он не уважал (в отличие
от других членов кружка Белинского) и как писателя (помимо некоторых
данных мемуарного характера, см. «Скверный анекдот»: «- Новый сонник-
с есть-с, литературный-с. Я им говорил-с: если господина Панаева во сне
увидеть-с, то это значит кофеем манишку залить-с... Молодой человек... до
невероятности был рад, что рассказал про господина Панаева». ПСС.
Т. V. С. 22, ср. с. 355)21. В этом контексте нуждается в анализе и образ Устиньи
Федоровны, оставшийся вне внимания исследователей, если не считать
отсылок к Федоре, хозяйке Макара Алексеевича Девушкина. Осталось не
замеченным, что среди образов «хозяек» в литературе того времени она не
нейтральна, а особо отмечена чуть-чуть игривым, слегка ироническим
отношением автора при том, что, как и в подавляющем большинстве повестей о бедном
чиновнике, образ «хозяйки» не включен, строго говоря, в сюжет как некий
автономный элемент; скорее, этот образ относится к числу принудительных
элементов, из которых строится рамка, охватывающая данный сюжет.
В «Господине Прохарчине» отмеченной (хотя и незамеченной) является
многолюбивость Устиньи Федоровны, нерастраченность запаса ее женских
сил и вместе с тем, как вытекает из текста, то, что дальше отвлеченного
фаворитизма дело не идет: потенции Устиньи Федоровны не реализуются,
несмотря на обилие возможностей. В самом деле, кроме Прохарчина
фаворитами Устиньи Федоровны были или могли быть отставной пьяница, свезенный
на Волково, Океанов, Ярослав Ильич, обер-офицер, даже Зимовейкин22,
кланяющийся, между прочим, и Авдотье- работнице, трижды упоминаемой
268
в «Господине Прохарчине». Устинья Федоровна в свете ее характеристик и
Авдотья своим именем подводят к постановке вопроса о возможном
отражении здесь некоторых черт Авдотьи Яковлевны Панаевой23.
Если искать в «Господине Прохарчине» слой Белинского, то внимание
прежде всего и достаточно естественно обращается к двум сожителям24
Прохарчина, выделенным уже тем, что они и только они из всех жильцов
(исключая, конечно, Семена Ивановича) названы по имени и отчеству при том, что
их фамилии остаются вообще неизвестными. Речь идет о Марке Ивановиче
(см. ниже) и Зиновии Прокофьевиче, жильцах-солистах (своего рода двойне
клоунов), которые преимущественно и связаны с Прохарчиным25. Первый из
них (Марк Иванович) - теоретик, «объяснитель» Прохарчину его самого,
книжный человек («книга ты писаная»), «стихотворец», резонер; второй
(Зиновий Прокофьевич) - один из основных виновников начавшихся бедствий
Прохарчина: именно он, «увлеченный своим молодоумием, обнаружил весьма
неприличную и грубую мысль, что Семен Иванович, вероятно, таит и
откладывает в свой сундук, чтоб оставить потомкам» (с. 243). Некоторые
характеристики Зиновия Прокофьевича так или иначе перекликаются с молвой,
исходившей от недоброжелателей Белинского (упреки в желании попасть в
высшее общество, играть роль), или с ругательствами в его адрес
(«мальчишка»), ср.: «потом еще был один Зиновий Прокофьевич, имевший
непременною целью попасть в высшее о б щ е с τ в о» (с. 241); «увлеченный
своим молодоумием...» (с. 243); «потом распознали, будто Семен Иванович
предсказывает, что Зиновий Прокофьич ни за что не попадет в высшее
обществ о... и что, «наконец, ты, мальчишка», «... а что вот тебя,
мальчишку, как начальство узнает про все, возьмут да в писаря отдадут;
вот мол как, слышь, ты, мальчишк а!» (с. 243), ср. далее (с. 243, 244):
«дерзкий человек», «буйный человек», «мальчишка», а также: «...а шутки
делать по твоему, сударь, приказу, не буду; слышь, мальчишка, не твой,
сударь, слуга!» (с. 253). При всем том Зиновий Прокофьевич восторжен26, у
него доброе сердце: «он рыдал и заливался слезами, раскаиваясь, что пугал
Семена Ивановича разными небылицами, и, вникнув в последние слова
больного, что он совсем бедный и чтоб его покормили, пустился созидать
подписку» (с. 257). «Замашка» Белинского, удостоверяемая многими примерами,
видна и в восклицаниях обоих сожителей, обращенных в адрес Прохарчина.
Ср.: «- Да ведь, Семен Иванович! - закричал вне себя Зиновий
Прокофьевич... - такой вы, сякой, ...простой человек, шутки тут, что ли, с вами шутят
теперь... так оно, что ли? Этак вы думаете?» (с. 253); «- Как! - закричал Марк
Иванович, - да чего ж вы боитесь-то? ...Кто об вас думает, сударь вы мой?
...Так, что ли, сударь? Так ли, батюшка? так ли?» (с. 255); «- Да что ж вы? -
прогремел наконец Марк Иванович... - что ж вы? ...Что вы один, что ли, на
свете? для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? ...Говорите
же, сударь, Наполеон или нет?...» (с. 256-257)27 и др. - при таких примерах из
речи Белинского в передаче Достоевского, как: «Да вы понимаете ль сами-
то, - повторил он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, -
что это вы такое написали!»... «...но осмыслили ли вы сами-то всю эту
страшную правду...? Да ведь это ваш несчастный чиновник...» («Дневник писателя».
1877. Январь, III); «-Да знаете ли вы, что...; - Да поверьте же, наивный вы
человек, что...» (там же. 1873. «Старые люди») и т.п.
269
Разумеется, слишком многое в этих предположениях нуждается в
дополнительной аргументации, которая едва ли может обнаружиться в силу
именно такого характера рассказа Достоевского. Тем не менее, сама мысль о
слое Белинского в «Господине Прохарчине», кажется, заслуживает
внимания. При положительном решении вопроса это было бы первое у
Достоевского обращение к образу Белинского28, хотя и в весьма специфической
форме.
Если история отношений Прохарчина и его сожителей, действительно,
допускает истолкование и на уровне биографических ассоциаций, а
сожители так или иначе соотносятся с кругом Белинского, - то, естественно,
возникает вопрос о возможности интерпретации тех или иных черт Прохарчина в
плане биографии Достоевского. Каким бы кощунственным ни показалось
это сопоставление с первого взгляда и какие бы различия между образом
Прохарчина и молодым Достоевским ни существовали, нет оснований
отвергать мысль о возможности именно такого соотнесения. Здесь
достаточно привести слова И.Ф. Анненского из его проницательной, но мало
оцененной статьи о «Господине Прохарчине»:
«Достоевский 1846 г. и его Прохарчин, да разве же можно найти
контраст великолепнее? ...Но как ни резок был контраст между
поэтом и его созданием, а все же, по-видимому, и поэт в те ранние годы
не раз испытывал приступы того же страха, от которого умер и
Прохарчин.
И на самого Достоевского, как на его Прохарчина, напирала
жизнь, требуя ответа и грозя пыткой в случае, если он не сумеет
ответить: только у Прохарчина это были горячешные призраки:
извозчика, когда-то им обсчитанного, и где-то виденной им бедной,
грешной бабы, и эти призраки прикрывали в нем лишь скорбь от
безысходности несчастия, да, может быть, вспышку неизбежного бунта; а
для Достоевского это были творческие сны, преображавшие
действительность, и эти сны требовали от него, которому они открылись,
чтобы он воплотил их в слова.
Мы знаем, что в те годы Достоевский был по временам близок к
душевной болезни. Может быть, он уже и тогда, в 1846 г., провидел,
что так или иначе, но столкновение между Демидом Васильевичем и
фаланстерой неизбежно, и что при этом удар уже никак не минует той
головы, где они чуть было не столкнулись над трупом Прохарчина.
Кто знает: не было ли у поэта и таких минут, когда, видя все
несоответствие своих творческих замыслов с условиями для их
воплощения - он, Достоевский, во всеоружии мечты и слова, чувствовал
себя не менее беспомощным, чем его Прохарчин.
Да разве и точно не пришлось ему через какие-нибудь три года
после Прохарчина целовать холодный крест на Семеновском плацу
в возмездие за свой "Прохарчинский" бунт?»29
1 Стадии ухудшения отношений и приближения разрыва отмечены свидетельствами из
переписки Достоевского, см. Письма. Т. I. С. 88-89, 102-103, 104, 114-116, 482, и
показаниями свидетелей: «После сцены с Тургеневым произошел окончательный разрыв
между кружком Белинского и Достоевским; он больше в него не заглядывал. На него
270
посыпались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии, в
зависти к Гоголю...» (Григорович Д.В. «Литературные воспоминания». С. 135; цит. по:
Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964, т. 1); «С этого вечера
Достоевский уже более не показывался к нам и даже избегал встречи на улице с
кем-нибудь из кружка... Достоевский страшно бранит всех и не хочет ни с кем из кружка
продолжать знакомства...» (Панаева Л.Я. Воспоминания. М., 1948. С. 158) и др. Ср.:
Белинский ВТ Поли. собр. соч. Т. XII. С. 467 и др.
2 Истомин К.К. Указ. соч. С. 33.
3 «Вспоминал насмешки товарищей по литературному поприщу, сначала признавших
его талант, а потом жестоко его обидевших»; «Федор Михайлович не мог простить ему
(= Белинскому) то насмешливое... отношение этого критика к его религиозным
воззрениям и верованиям... были следствием сплетен и нашептываний тех "друзей",
которые... затем... начали преследовать застенчивого автора "Бедных людей", сочинять на
него небылицы, писать на него эпиграммы и всячески выводить из себя», см.
Достоевская Л Т. Воспоминания. Ср. там же: «Когда я умру, Аня, похорони меня здесь или где
хочешь, но запомни, не хорони меня на Волковом кладбище, на Литературных
мостках. Не хочу я лежать между моими врагами, довольно я натерпелся от них при
жизни».
4 Нервность, раздраженность, подозрительность, болезненность Достоевского
постоянно отмечаются в мемуарной литературе о 40-х годах. Хуже всего было то, что «со-
чувствователи» из кружка Белинского отдавали отчет в том, какое влияние
оказывают их «шуточки» на здоровье Достоевского. Та же Панаева сообщает: «Достоевский
был бледен как полотно, весь дрожал и убежал, не дослушав рассказа Тургенева.
Я заметила всем: к чему изводить так Достоевского?...» (с. 158; «Когда Тургенев, по
уходе Достоевского, рассказывал Белинскому о резких и неправильных суждениях
Достоевского ...то Белинский ему замечал: - Ну, да вы хороши, сцепились с больным
человеком, подзадориваете его, точно не видите, что он в раздражении, сам не
понимает, что говорит... Ему непременно надо лечиться, все это происходит от страшного
раздражения нервов. Должно быть, потрепала его, бедного, жизнь! ...Если не будет
просвета, так, чего доброго, все поголовно будут психически больны!» (с. 157-158);
«Вместо того чтобы снисходительнее смотреть на больного, нервного человека, его
еще сильнее раздражали насмешками» (с. 157) (ср. о «надсмешниках» в «Прохарчи-
не»). Ср. слова Достоевского в передаче С.Д. Яновского: «Ничего, ничего, Виссарион
Григорьевич, отмалчивайтесь; придет время, что и вы заговорите» - Ф.М.
Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 173, и особенно диагноз самого
Яновского еще в 1846 г.: «Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора
"Бедных людей" чуть ли не на степень гения к безнадежному отрицанию в нем
литературного дарования могла сокрушить и не такого впечатлительного и
самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского,
замкнулся весь в себя...».
5 Ср. такие «ответы» Чернышевскому (ср., однако, «Дневник писателя», 1873, январь:
«Нечто личное»; «Записная тетрадь Достоевского за 1864—1865 гг.» // Литературное
наследство. Т. 83. С. 201-283; ср. также с. 45: Л.М. Розенблюм), Салтыкову-Щедрину,
Грановскому, Тургеневу, Писареву, Панютину (см. Туниманов В.А. Л.К. Панютин и
«Бобок» Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 2. Пг., 1976.
С. 160-163) и др. Здесь же уместно вспомнить и о том, что, когда «ответ»
расшифровывался читателем, Достоевский категорически отказывался признать такую
расшифровку. Наконец, нельзя упускать из виду и предполагаемый «ответ» Гоголю в образе
Фомы Опискина. При всех возможных и естественных сомнениях и неясностях
остается очевидной актуальность самого этого приема Достоевского, иногда дополняемого
открытым и благожелательным высветлением остающегося в недрах сознания
прежнего «ответа» (ср. поздние высказывания о Белинском, Некрасове и многих других
литераторах, по чьему адресу направлялись некогда «ответы»).
6 Интересно, что этим словом обозначаются и сожители Прохарчина (ср.: «...отвечал
наш герой ...в конец озлясь на сочувствователе й...», с. 253; «...С о ч у в -
271
ствователи остались в недоумении...», с. 253; «Все замолчали, ибо если
видели, что Семен Иванович ото всего заробел, то на этот раз заробели и сами с о ч у в -
с τ в о в а т е л и», с. 255) и «недруги» из окружения Белинского. Ср., например,
постоянное использование этого слова в незаконченной прозе Некрасова «Как я
велик!», изображающей в пародийных тонах (и с изменением имен: Глажиевский =
Достоевский, Мерцалов = Белинский и др.) дебют Достоевского в кружке Белинского:
«Особенно много было таких, которые умели сочувствовать, почему их и
можно назвать "литературными сочувствователям и"» {Некрасов H.A.
Поли. собр. соч. и писем. Т. VI. Незаконченные романы и повести. М., 1950, с. 467, ср.
еще с. 470-478, 480, а также комментарии, с. 574-575). См.: Панаев ИМ.
Литературные воспоминания. Л., 1928. С. 422 и след.
7 Ср. более полную семантическую мотивировку в «Двойнике»: «...прожился, и с -
харчился, жил чуть не на улице, ел черствый хлеб и запивал его слезами
своими...». ПСС. Т. 1. С. 155. Ср. семантизацию фамилии Прохарчина - «ибо господин
Прохарчин не был так скуден... чтоб даже харчей не иметь постоянных
и сытных...» (с. 242); ср. также: «...потом... решил, пришед домой, немедленно воздать
что следует за χ а р ч и и постой хозяйке своей...» (с. 249); «- Ох уж ты мне, млад-
млад! ...да скажи мне: ...а держи ты младого меня на своих χ а р ч а х...» (с. 262) - оба
последних раза в связи с Прохарчиным.
8 Ср.: «Достоевский претендовал на Белинского за то, что он играет в
преферанс...- Как можно умному человеку просидеть даже десять минут за таким
идиотским занятием, как карты! ...а он сидит по два и по три часа! - говорил
Достоевский с каким-то озлоблением. - Право, ничем не отличишь
общества чиновников от литераторов: то же тупоумное препровождение
времени». См.: Панаева А.Я. Воспоминания. С. 157 (и другие свидетельства
подтверждают пристрастие к карточным играм этого рода в компании Белинского).
Следовательно, сравнение чиновников, играющих в карты (а они играли еще в носки и в три
листика, ср. с. 248), с литераторами кружка Белинского, было сделано Достоевским
еще до начала работы над «Прохарчиным», но не раньше 15 ноября 1845 г., когда
писатель был впервые введен в дом Панаевых. В этом случае приведенное
высказывание Достоевского непосредственно предшествует началу
работы над рассказом, где и развертывается это сравнение.
9 Уместно напомнить, что один из основных «сочувствователей», Марк Иванович -
поэт. Ср.: «...ибо Семен Иванович сразу заметил, что шутить с собой не позволит, даром,
что Марк Иванович стихи сочинял» (с. 252); «Врешь ты, - отвечал он теперь, -
детина, гулявый ты парень! а вот как наденешь суму, - побираться пойдешь; ты ж
вольнодумец, ты ж потаскун; вот оно тебе, стихотворец!» (с. 253) - в характеристике, данной
Прохарчиным. Ср. здесь же о нем - «книга ты писаная».
10 Ср. в «Господине Прохарчине»: «...неоднократно замечено, про разных иных из
братьи, что лишены они всякой светскости и хороших, приятных манер, а следовательно,
и не могут нравиться в обществе дамам...» (с. 244); именно этим и пугают сожители
Прохарчина, лишенного этих качеств. Несветскость Достоевского (в частности, в двух
ее проявлениях - в сконфуженности, застенчивости, с одной стороны, и «задорности»,
пристрастии к слишком азартным спорам, неуступчивости, с другой) отмечается
рядом мемуаристов и прежде всего А.Я. Панаевой (с. 156-157). Ср. у Некрасова:
«(Глажиевский) ...говорил, что он человек не светский, не умеет ни войти, ни поклониться,
ни говорить с незнакомыми людьми... Тростников (= Некрасов) только тогда понял
долгую нерешительность Глажиевского, когда увидел, до какой изумительной
степени автор "Каменного сердца" оробел, представ пред грозные очи критика. В минуты
сильной робости он имел привычку съеживаться, уходить в себя до такой степени, что
обыкновенная застенчивость не могла подать о состоянии его ни малейшего понятия.
Оно могло быть только охарактеризовано им же самим изобретенным словом
"стушеваться"...» («Как я велик!», с. 462^463 и далее).
11 Ср. вариации мотивов «Витязь горестной фигуры» (Некрасов, ПСС. Т. I. M., 1948.
С. 423, 625-627) даже в портретах, набросанных доброжелателями: «Вот буквально
272
верное описание наружности того Федора Михайловича, каким он был в 1846 г.:
роста он был ниже среднего, кости имел широкие... он держал себя как-то мешковато,
как держат себя не воспитанники военно-учебных заведений, а окончившие курс
семинаристы...» (Яновский С.Д. С. 155); «Во всем училище не было воспитанника,
который бы так мало подходил к военной выправке, как Ф.М. Достоевский. Движения его
были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец,
кивер, ружье - все это на нем казалось какими-то веригами... которые его тяготили»
(Трутовский К.Л. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском. С. 106), не
говоря о целом ряде других аналогичных описаний.
12 «И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разгово-
рях; особенно на это был мастер Тургенев - он нарочно втягивал в спор
Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с
азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их
подхватывал и потешался» (Панаева. С. 157); это подхватывал и потешался очень
напоминает то, что проделывали «сочувствователи» над Прохарчиным (ср.
использование ими прохарчинской речевой манеры). Совокупности мотивов «чиновник»,
«поэт» (стихотворец, стихи сочинял) и «издевательство над жертвой» (Марк Иванович)
в кругу Белинского более всего удовлетворял И.С. Тургенев, служивший в это время
в Министерстве внутренних дел (на Фонтанке).
13 Указывалось на сходство этого описания с вечерами у Степана Трофимовича Верхо-
венского (см. Туниманов В.А. Указ. соч. С. 212), что еще раз отсылает нас к кругу
Белинского-Грановского.
14 «Взгляд на русскую литературу 1846 года».
15 Именно так следует понимать и характеристику жильцов. Ср.: «Из жильцов особенно
замечательны были: Марк Иванович, умный и начитанный
человек; ...потом еще Преполовенко-жилец, тоже скромный и хороший
человек; потом еще был один Зиновий Прокофьевич, имевший непременною
целью попасть в высшее общество...» (с. 241).
16 Так, Марк Иванович не только «умен и начитан» (с. 241). Ср.: «...причем Марк
Иванович, будучи умным человеком, принял формально защиту Семена Ивановича и
объявил довольно удачно и в прекрасном, цветистом слоге, что Прохарчин человек
пожилой и солидный и уже давным-давно оставил за собой свою пору элегий» (с. 241);
«Наконец, Марк Иванович первый прервал молчание и, как умный человек,
начал весьма ласково говорить, что...» (с. 252); «Марк Иванович прямо, ясно, весьма
красноречиво, хотя не без твердости объявил, что...» (с. 252-253); «...но Марк
Иванович... начал долго и благоразумно внушать беспокойному, что...» (с. 254). Каждый раз
оказывается, что характеристика высказывания Марка Ивановича («прямо», «ясно»,
«весьма красноречиво», «благоразумно» и т.п.) находится в некотором противоречии
с содержанием (обычно пошлым или просто глупым) его высказывания. С оценкой
Марка Ивановича рассказчиком вступает в спор (или - при другом подходе - доводит
ее до предела) Прохарчин: «- Ты, ты, ты глуп! - бормотал Семен Иванович...» (с. 255);
«...а ты, начитанный, г л у п...» (с. 255) и под.
17 Разумеется, с неизбежным ты: «Семен Иванович был простой человек и всем
решительно говорил ты» (с. 243). Ср.: «...некто Парутин, человек с строгими и
непреклонными правилами, щеголявший правдивостью... говорил всякому без исключения "ты",
выразительно грозя пальцем...» («Как я велик!», с. 470).
18 Ср.: «...потом еще Оплевание в-жилец; потом еще Преполовенк о-жи-
лец...; наконец, писарь О к е а н о в...» (с. 241), ср. с. 255: «Оплеваниев плюнул...» и
т. п.
19 Следует настаивать на том, что в «Господине Прохарчине» (как, вероятно, и в
некоторых других текстах такого рода) нет ни «личностей», ни аллюзий обычного в
художественной литературе типа, которые оправдывают поиск «прототипов». Наличие
«прототипа» всегда отсылает не только к известному соотнесению образа и его
«прототипа», но хотя бы к частичному отождествлению их в заданном отношении. Для
Достоевского же в «Господине Прохарчине» выступает (или отражается) реальность
273
иного рода - построение тождества между заданной извне событийной схемой
и ее текстовым образом, имеющего корни на уровне психических, эмоциональных
реакций. Тождество же последних не связано непременно с появлением тождественных
конфигураций на текстовых уровнях сюжета, образов, имен и т.п.
20 Океанов - единственный из тройки, кто несколько отличается от других
содержательными характеристиками: именно он «в свое время едва не отбил пальму первенства и
фаворитства у Семена Ивановича». Он - писарь при том, что Оплеваниев-жмлец и
Преполовенко-жмлец. М.С. Альтман указывает на связь имен Оплеваниева и Попле-
вина из «Мертвых душ», см.: Альтман М.С. Достоевский. По вехам имен. Саратов,
1975. С. 149.
21 Ср. соперничество на почве фаворитизма между Прохарчиным и Океановым и
условную победу последнего, ср. его резюме (с. 262). «Я был влюблен не на шутку в
Панаеву...», - сообщит Достоевский в письме к брату в конце 1845 г. Свидетельство
А.Г. Достоевской см. в кн.: Гроссман Л.П. Путь Достоевского. Наиболее известная
(наряду с «Онагром») повесть Панаева «Актеон» (1842) формой своего названия
могла бы соотноситься с фамилией Океанов (: Ак/т/еон). Некрасов вывел Панаева в
образе Разбегаева («Как я велик!»; ср. ветрогон в связи с Панаевым). В написанной в
1850 г. пародийной комедии Н.И. Куликова «Школа натуральная», где сатирически
изображался кружок Белинского, И.И. Панаев выведен в образе Никанора, а А.Я.
Панаева - в образе супруги Никанора Анны Ивановны. Здесь же выступает и «двойник»
Белинского С.С. Сургучев. См. Виноградов В.В. Этюды о стиле Гоголя. Пг., 1926 (III.
Комедия Н. Куликова: «Школа натуральная»). Любопытно и косвенное
свидетельство об отношении к Панаеву Л.Н. Толстого в письме Некрасова к Тургеневу от 30
декабря 1856 г.: «Панаева он (Л.Н. Толстой) не любит, и как этот господин
хвастливостью и самодовольствием мастерски умеет поддерживать к себе нерасположение, то
верно теперь не любит еще больше». Ср. также в связи с Л.Н. Толстым:
«Свидетельство Панаева как человека "ле гкомысленног о", беспринципного... именно
поэтому ценно» (Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Л., 1928. С. 195) - при мотиве
легкомысленности («молодоумия») Зиновия Прокофьевича. Многие детали
описания кружка Белинского здесь так или иначе перекликаются с аналогичным опытом
Некрасова и с изображением «сочувствователей» у Достоевского.
22 «Испросив покровительства, господин Зимовейкин оказался весельчаком, стал
очень рад, целовал у Устиньи Федоровны ручки, несмотря на скромные уверения
ее, что рука у ней подлая, не дворянская... Но назавтра же дело его
окончилось плачевной развязкой. Иль оттого, что характерный танец оказался уж
слишком характерным, иль оттого, что он Устинью Федоровну, по словам ее, как-
то «опозорил и опростоволосил, а ей к тому же сам Ярослав Ильич
з н а к о м, и если б захотела она, то давно бы сама была обер-офицер-
с к о й ж е н о й» (с. 247). «Обер-офицерская жена», конечно, кивает на
гоголевскую «унтер-офицерскую вдову» и входит в ряд других многочисленных
ассоциаций с гоголевскими элементами в «Прохарчине». К мотиву «характерного танца»
и его последствий ср. сообщение Яновского о том, что на вечеринках Достоевский
«не только любил смотреть на танцующих, но и сам охотно танцевал» (Русский
вестник. 1885. № 4. С. 814), в сопоставлении с описанием переходов Глажиевского
(= Достоевского) от смущенного состояния к противоположному: «Он даже
перешел в другую крайность: вздумал щегольнуть развязностью,
промурлыкал какой-то стих из песенки и рассказал анекдот...» («Как я велик!», с. 464).
Ср. в относящемся к тому же времени «Романе в девяти письмах»: «Иван
Андреевич ...немедленно заключил (злодей!) о необыкновенной страсти моей к
танцевальным собраниям и... хотел было уже насильно тащить в танцкласс...» (ПСС.
Т. 1.С. 230). Показательно, что сожители дразнят Прохарчина слухами об
экзаменах по танцам для чиновников (с. 245, 253, 255).
23 Высказывалось предположение о такого же рода ассоциациях в образе Авдотьи
Романовны Раскольниковой, в котором выделялся и «сусловский» слой. Вместе с
тем есть, возможно, некоторые не вполне ясные основания для ассоциаций между
274
Авдотьей Яковлевной Панаевой и Авдотьей Игнатьевной из «Бобка» (ср. намек на
Панаеву в образе Прасковьи Яковлевны из тургеневского «Дыма»).
24 Никак не настаивая на том, что какие-то черты критика могли отразиться именно в
двух образах рассказа, можно все-таки напомнить, что такой прием у Достоевского не
являлся бы исключением. Ср. в «Бесах» транспозицию некоторых черт Тургенева в
образе Степана Трофимовича Верховенского при наличии Кармазинова, многими
особенностями сближающегося с Тургеневым. См., в частности, Альтман М.С. Указ.
соч. С. 87-88 и др.
25 Весьма интересно, что ни порознь, ни в сочетании эти два имени, поминаемые вместе
православной церковью 30 октября, вообще говоря, у Достоевского больше нигде не
встречаются, но зато ср. в «Братьях Карамазовых»: «А было нас всего у матушки
двое: я, Зиновий, и старший брат мой, M a ρ к е л» (ч. II, кн. 6, гл. II). Зиновий
(мирское имя старца Зосимы) и Маркел - братья, и при этом Зиновий (как и в
«Господине Прохарчине») - младший; их противопоставленность в «Братьях
Карамазовых» имеет аналогии и в «Прохарчине»: рассудительный, но гневный (Марк
Иванович) - безрассудный, но добрый (Зиновий Прокофьевич). Неслучайность этих
совпадений - вне сомнений, но их объяснение пока не найдено, в частности, оно
отсутствует и в указанной книге М.С. Альтмана (как, впрочем, и указание на сходство этих двух
пар имен). - Стоит, может быть, обратить внимание на приблизительную
равноценность для русского языкового (в частности, специально в отношении стиля) сознания
имен типа Зиновий Прокофьевич, Виссарион Григорьевич, не говоря уж о некоторых
звуковых перекличках между ними. Между прочим, ср. образ покровителя (вначале)
Зимовейкина, буффонного двойника Прохарчина или, по крайней мере, его
сообщника - Порфирия Григорьевича («...явился он (= Зимовейкин) в Петербург и пал в
ножки к Порфирию Григорьевичу ...поместили его, по ходатайству, в
одну канцелярию, но... по жесточайшему гонению судьбы, упразднили его...», с. 247).
При одинаковости отчества (Григорьевич) могло показаться соблазнительным
сближение порфиры (Порфирий) и виссона (Виссарион), хотя, конечно, имя
Виссарион объясняется иначе.
26 Ср. о Белинском: «Это была самая восторженная личность из всех мне
встречавшихся в жизни» («Дневник писателя» за 1873 г.: «Старые люди»).
27 Так и напрашивается: «Гоголь вы, что ли какой? ...Гоголь или нет?».
28 Ср. также «Униженные и оскорбленные», «Зимние заметки о летних впечатлениях»,
«Преступление и наказание», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», «Дневник
писателя», где появляется образ или имя Белинского. См. подробнее «Словарь
личных имен у Достоевского» // О Достоевском. II. С. 8 особой пагинации. М.С. Альтман
(Указ. соч., с. 39) высказывает предположение, что лебядкинская декларация «всякий
человек достоин права переписки»- «это явный намек на автора "Выбранных
мест из переписки с друзьями" и еще, пожалуй, выпад против Белинского, который в
своем известном письме к Гоголю, на его "Пе ρ е π и с к у" обрушился». Л.П.
Гроссман (см. «Прототипы Фомы Опискина» в комментариях к «Селу Степанчикову». М.,
1935, с. 221-222) находил у Опискина некоторые черты, общие у него с Белинским (не
отвергая, конечно, гоголевского слоя в Опискине). Ср. также Шкловский В. За и
против. М., 1957. С. 76-78; Альтман М.С. Указ. соч. С. 251.
29 См. Анненский И.Ф. Книга отражений. СПб., 1906. С. 56-57. Ср. Семен Иванович -
Семеновский плац. К замкнутости и «вольнодумию» Прохарчина ср. показания
Достоевского по делу петрашевцев: «Я не люблю говорить громко и много даже с
приятелями, которых у меня очень немного, а тем более в обществе, где я слыву за человека
неразговорчивого, молчаливого, несветского. Знакомств у меня очень мало.
Половина моего времени занята работой, которая кормит меня; другая половина занята
постоянно болезнию... Если я говорил, если я немного жаловался (а я жаловался так
немного!), то неужели я вольнодумствовал?...» (ПСС. Т. 18. С. 122, 124).
Приложение II
«ГОСПОДИН ПРОХАРЧИН» И «ДВОЙНИК»
(к вопросу о перекличках)
Переклички между разными произведениями Достоевского (т.е.
наличие в них общих элементов), если отбросить частности, относятся к двум
категориям случаев. Во-первых, речь идет о принципиальной
повторяемости основных характеров и ситуаций, создающей преемственный ряд (см.
выше); в этом случае можно говорить о том, что за всеми (или, по крайней
мере, многими) произведениями Достоевского стоит некий единый текст,
вариантами которого и являются отдельные произведения; именно в них и
специализируется, углубляется, отрабатывается инвариантное ядро. В о -
вторых, сгущение перекличек (иногда более или менее
непосредственных перенесений элементов из текста в текст) наблюдается в смежных
по времени написания произведениях Достоевского (или - тем более -
таких, которые писались одновременно)1. В этом втором случае понятие
переклички уместно толковать и в расширительном смысле, имея в виду такие
ситуации, когда общее относится к целому, которое в каждом из соседних
по времени произведений разрабатывается особо, sub specie изменяющихся
условий.
«Двойник» и «Господин Прохарчин» относятся как раз и к той, и к
другой категории случаев. Переклички первого рода связаны с тем, что в
обоих этих произведениях трактуется проблема «устойчивости»,
«онтологической прочности "этического бытия" индивидуума»2, которая и там и здесь
реализуется как страх потери своего места чиновником и - шире -
человеком, «ибо всякий должен быть доволен своим собственным
местом» («Двойник», гл. IX)3. Несчастья Прохарчина начались именно
из-за того, что возникла угроза потери своего места; но смерть опередила
то, чего он так боялся. У Голядкина, в сознании которого мотив своего
места повторяется с такой регулярностью и навязчивостью4, потеря места
предшествует окончательной катастрофе (кстати, такие смещения, мена
причины и следствия и т.п. в трактовке общих мест в двух произведениях
могут пониматься как разные экспериментальные возможности реализации
целой ситуации; в некоторых же случаях, о чем см. в другом месте, две
разные или смещенные трактовки, представленные в двух разных текстах,
могут образовать некий новый «сверхтекст», построенный на двух данных)5.
Потерять место - значит «пострадать за правду» или «пострадать
безвинно»; именно это страшит как возможность Прохарчина, перед глазами
которого стоит пример Зимовейкина, «пострадавшего за правду»6, и Голядкина,
уже испытавшего эту участь: «Я... я человек здесь затерянный, ...бедный,
пострадал весьма много... пострадал совершенно безвинно...» (гл. VII)7.- Путь
Прохарчина к катастрофе начался с того, что он поверил рассказам своих
276
сожителей «о материях лживых и совершенно неправдоподобных», о
предстоящих изменениях:
«...То, например, что будто бы слышал кто-то сегодня, как его
превосходительство сказали самому Демиду Васильевичу, что, по их
мнению, женатые чиновники «выйдут» посолиднее неженатых
и к повышению чином удобнее, ибо смирные и в браке значительно
более приобретают способностей, и что потому он, то есть
рассказчик, чтоб удобнее отличиться и приобрести, стремится как можно
скорее сочетаться браком с какой-нибудь Февроньей Прокофьев-
ной. То, например, что будто бы неоднократно замечено про разных
иных из братьи, что лишены они всякой светскости и хороших
приятных манер...» (с. 244)8.
Оказывается, что этот портрет «анти-Прохарчина» вполне
соответствует автоописаниям Голядкина:
«- Я, Крестьян Иванович, люблю тишину... Я, Крестьян
Иванович, хоть и смирный человек... Извините меня, Крестьян
Иванович, я не мастер красно говорит ь... и много
говорить не умею, придавать слогу красоту не учился... я, Крестьян
Иванович, люблю спокойствие, а не светский шум. Там у них, я
говорю, в большом свете, Крестьян Иванович, нужно уметь паркеты
лощить сапогами... там это спрашивают-с и каламбур тоже
спрашивают... комплимент раздушенный нужно уметь составлять-с... А я
этому не учился... некогда было. Я человек простой, незатейливый,
и блеска наружного нет во мне...»
Сходства этих двух персонажей легко продолжить, хотя здесь и нет
необходимости выявлять их полностью9. Но не менее важны и различия,
которые - применительно к более глубоким уровням, чем тот, где они
появляются, - также удостоверяют элементы тождества. Так, сходства Прохарчина и
Голядкина станут очевиднее, если учесть их разный modus vivendi. Прохарчин
неподвижен, он лежит у себя дома, в своем углу, за ширмами, которые
служат для укрытия от нескромных взглядов, и ничего не
предпринимает, тогда как Голядкин активен, для него характерны именно выходы из
дома10, своего рода разведка, попытки как-то изменить свое положение.
Голядкин не столько боится, чтобы его увидели, сколько нуждается сам в
наблюдении за другими. Эта разница в позициях четко отражена в различной роли
ширм: Прохарчин «все время последнего житья своего на Песках лежал на
кровати за ширмами, молчал и сношений не держал никаких» (с. 246), охраняя
свое богатство от чужих глаз; Голядкин же, придя в логово «врагов», «стоит в
уголку... закрывшись отчасти огромным шкафом и старыми ширмами
между всяким дрязгом, хламом и рухлядью11, скрываясь до времени и
покамест только наблюдая за ходом общего дела в качестве
постороннего зрителя» (гл. IV). «Подвижность» Голядкина позволяет ему надеяться на
успешный исход его матримониальных планов как попытку компенсации
именно той ущербности («недостачи») у чиновника, о которой якобы говорил
его превосходительство в «Господине Прохарчине» («женатые чиновники
"выйдут" посолиднев неженатых»). «Неподвижный» же Прохарчин не исполь-
277
зует (и даже не пытается этого делать) даже тех шансов, которые открывает
ему его фаворитизм у Устиньи Федоровны12.
Само имя Прохарчина - Семен Иванович13 (Сеня, Сенька) - как-то
откликается и в «Двойнике»: «А на место Семена Ивановича
покойника, на вакантное место... Ведь вот, право, сердечный этот Семен-
то Иванович покойник, троих детей, говорят, оставил - мал мала
меньше14. Вдова падала к ногам... Говорят, впрочем, она таит: у ней есть
деньжонки, да она их таит...»15. Иначе говоря, в некоем «сверхтексте»
указанный фрагмент может трактоваться как своего рода продолжение
«Господина Прохарчина» - сцена в канцелярии, куда в поисках места приходит
Голядкин и узнает о смерти Семена Ивановича (Прохарчина). Ср. также в
«Двойнике» Иван Семенович (: Семен Иванович), построенное по
принципу симметричности, зеркальности, усвоенному Достоевским от Гоголя и
иногда используемому в пределах одного и того же произведения. Вообще
имя Семен у Достоевского обладает устойчивой семантикой и особым
эмоциональным ореолом; эта особенность названного имени была подмечена
и обыграна не раз позже16. Наконец, оба эти произведения объединяет в
значительной степени сходная ориентированность языка, более или менее
близкая речевая «замашка»17 (в частности, «набивная» речь Прохарчина
и Голядкина, отражающая, между прочим, далеко зашедшую у них верби-
герацию как проявление общей им душевной болезни). Помимо уже
отмеченного выше исхарчился («Двойник»): Прохарчин, ср. баран-голова
(«Двойник», гл. VII) при баран, бараний ты лоб («Господин Прохарчин»,
с. 256); Голядка ты этакой и другие виды самообращения в «Двойнике»
при прохарчинский ты человек! в устах Зимовейкина, пародирующего
Прохарчина (с. 254) и др. Нечего и говорить о многочисленных общих
речевых ходах18, полнее всего реализованных в этих двух текстах
Достоевского. Ср., например, конструкцию со схемой (А & В) & (В & С) &
(С & В)...: «питать подобные мысли... во-первых, бесполезно,
во-вторых, не только бесполезно, но даже и вредно; наконец, не
столько вредно, сколько даже совсем безнравственно..." (с. 254) или: "Спор,
наконец, дошел до нетерпения, нетерпение до криков,
крики даже до слез...» (с. 254-255)19; примеры такого ступенчатого
расположения (с возвратом) из «Двойника» отмечены В.В. Виноградовым20.
Близки указанным конструкциям цепи нанизанных слов, ср.: «человек
недостойный, назойливый, подлый, буйный, льстивый» (с. 247); «...и Семен
Иванович очень удобно мог слышать, как они бранили погоду, хотели
есть, как шумели, курили, бранились, дружились, играли в карты и
стучали чашками...» (с. 249); «чтоб простили ему добрые люди, сберегли,
защитили, накормили б, напоили его, в беде не оставили...» (с. 257) и очень
многие другие.
Все это полезно иметь в виду при решении вопроса о том, что можно
извлечь из смежных по времени произведений Достоевского для уяснения тех
или иных особенностей текста «Господина Прохарчина».
1 См. выше. Ср. также: Альтман М.С. Достоевский. По вехам имен. С. 208-209; Terras V.
Указ. соч., с. 212.
2 См. Чижевский Д. К проблеме двойника // О Достоевском. 1929. Т. 1. С. 25 и след.
278
3 Видимо, только при этом условии человек удостаивается «своей собственной смерти»
(а не чужой, не-своей, насильственной). Ср.: О Herr, gib jedem seinen Tod/ Das
Sterben, aus jenem Leben geht... у P.M. Рильке.
4Свое, особое место не противоречит другому принципу жизни - «к а к и
в с е». Ср.: «Господин Голядкин... поспешил заметить, что ему кажется, что он, как
и все, что он у себя, что развлечения у него, как и у всех... что он, сколько ему
кажется, не хуже других, что он живет д о м а, у с е б я, на квартире ...Я
себе особ о...» (гл. II); «Я здесь сам по себе. Это моя частная жизнь»
(гл. III); «Он, господа, тоже здесь, то-есть не на бале, но почти что на бале, он,
господа, ничего; он хотя и сам по себе, но в эту минуту стоит на дороге не совсем-
то прямой...» (гл. IV); «...а я здесь у с е б я, то есть на своем месте...» (гл. IV); «Он
решился... показать, что он так себе, что он тоже так, как и в с е...»
(гл. IV); «поспешил принять вид... ясно выражавший, что он, Голядкин, сам по
с е б е... и что, ведь, он, Голядкин, сам никого не затрогивает» (гл. V); «Так, человек
был, как и вс е... как и все люди порядочные... одним словом: был
сам по себе человек» (гл. V); «Мне-то что? Яв стороне; свищу себе,
да и только! ...А вот я сам по себе» (гл. VI); «- Нет, я, мой друг, сам по
с е б е...» (гл. XII) и др.
5 Интересно, что сам Достоевский, по сути дела, не раз строил такой «сверхтекст» из
гоголевского и своего текстов. Точно так же, в прозе XX в. строились «сверхтексты»
с включением текстов Достоевского (ср. прозу Белого, Вагинова, Николева,
Набокова и др.).
6 «...рассказал, что страдает за правду, что прежде служил по уездам, что
наехал на них ревизор, что пошатнули как-то за правду его и компанию...»
(с. 247), вслед за чем сразу же следует рассказ о потере места из-за
упразднения канцелярии. Интересно, что частное свое чиновничье место легко
превращается в нечто громадное и отвлеченное, в своего рода философскую категорию «своего
места» как одного из свойств человека в объеме всей его жизни (ср. потерю своей
тени в «Петере Шлемиле»). Соответственно этому «космизируются» и причины потери
своего места - «по жесточайшему гонению судьбы», как скажет Зимовейкин.
7 Ср. там же: «Дело шло... о том, как господин Голядкин-второй пострадал
безвинно», ср. как непосредственное продолжение: «о престарелой тетушке его,
Пелагее Семеновне», что, похоже, как-то отсылает нас к мотиву золовки в
«Господине Прохарчине», которой Семен Иванович (: Пелагея Семеновна) якобы должен был
тоже помогать.
8 Ср. также характеристики Прохарчина извне: «...человек хороший и смирный,
хотя и не светский, верен, не льстец... господин Прохарчин фигурою
своей и манерами не мог, например, никого поразить с особенно выгодной для
себя точки зрения» (с. 241); «...герой наш - человек не светский, совсем
смирны й...» (с. 246) и др
9 Ср., однако:
«Господин Прохарчин»: «Двойник»:
Советников не любил никаких, выскочек Посулов не люблю; мизерных дву-
тоже не жаловал, и всегда, бывало, личностей не жалую; клеветою и
тут же на месте укорит насмешника или сплетней гнушаюсь. Маску надеваю лишь
советника-выскочку... (с. 242). в маскарад... (гл. II).
Ср. у Прохарчина: «Ты м а л ь ч и ш к а, ты свистун, а не советник... лучше
сосчитай, мальчишка, много ли ниток на твои онучи пошло» (с. 242), «Ты шут, пес
шут, шутовской человек... слышь, мальчишк а...» (с. 253) и т.п. при
голядкинском: «- И что всякий мальчишка... перед порядочным человеком нос
задирает теперь» (гл. II); к шуту ср. выше о надевании маски.
0 Эти вполне конкретные и частные выходы (прямые, открытые) трансформируются в
общую идею своего особого пути. Ср.: «-Да-с, Крестьян Иванович... но
279
дорога моя отдельно идет, Крестьян Иванович. Путь жизни
ш и ρ о к...»; «- Иду я... прямо, открыто и без окольных
путей...»; «Есть люди, господа, которые не любят окольных путей и
маскируются только для маскарада»; «- Милостивый государь, ...мы, кажется, идем по
разным д о ρ о г а м» и т. п. Ср.: «...а что, впрочем, он опять-таки ничего, идет
своей дорогой и просит только не мешать ему идти своей д о ρ о -
г о й...» («Как опасно предаваться честолюбивым снам». ПСС. Т. 1. С. 325).
11 То же повторено и несколько далее. Ср. сходное место в «Господине Прохарчине»:
«...кроме ...всякого случившегося хламу и дрязг у...» (с. 243).
12 Ср. также противоположность между прямотой и открытостью Голядкина («Не
интриган, - и этим тоже горжусь. Действую не втихомолку, а открыто, без хитростей, и
хотя бы мог вредить... но не хочу замарать себя...», гл. II) и хитростью Прохарчина:
«Для начатия сношений у Семена Ивановича был всегда в запасе свой особый,
довольно хитрый и весьма, впрочем, замысловатый маневр...» (с. 244) и др.
13 Ср. еще Семен Иванович Шипуленко («Скверный анекдот»), Семен Иванович Ищен-
ко («Идиот»), Семен Иванович Качальников («Братья Карамазовы»), а также Семен
Семенович («Вечный муж»), Семен Семенович Шелопаев («Преступление и
наказание»), Семен Семеныч Рогожин («Идиот»), Семен Семеныч («Крокодил»), не говоря
уж о Семен (имя мужика в «Братьях Карамазовых», ямщика в «Дядюшкином сне»),
Семеныч (в «Двойнике») и Семен с другими отчествами (Алексеевич, Захарыч,
Егорович, Парфенович /и Парфен Семенович!, Пафнутъич, Петрович, Сидорыч,
Яковлевич); ср. также Семенович, Семеновна в отчествах. См. подробнее: «Словарь личных
имен...», с. 64; отчасти в указанной книге М.С. Альтмана. Наконец, в выборе имени
Семен не исключены и биографические мотивировки. Ризенкампф сообщает о
денщике Достоевского Семене, который, «находясь в интимных отношениях с прачкой,
прокармливал не только ее, но и всю ее семью и целую компанию ее друзей за счет
своего барина» (с. 116); ср. «золовку» (характерен и мотив «быстрого таянья белья» при
отсутствии такового у Прохарчина). Это предположение подтверждалось бы
постоянной в 40-е годы (но и позже) практикой введения в художественные произведения
имен прислуги, так или иначе связанной с Достоевским биографически. Ср.
Герасимыч, слуга Берендеева в «Двойнике» и Герасимыч, слуга A.A. Куманина (наблюдение
Г.А. Федорова, ср. ПСС. Т. 1. С. 488); Алена Фроловна, няня Вареньки Доброселовой
(«Бедные люди»), Алена Фроловна, няня Лизы Тушиной («Бесы») и Алена Фроловна,
няня в доме Достоевских; Евстафий, слуга Каролины Ивановны («Двойник»), Аста-
фий Иванович, «из отставных солдат» («Честный вор»), Евстафий Иванович
(«Бедные люди») и Евстафий, отставной унтер-офицер, слуга Достоевского; Григорий,
слуга («Дядюшкин сон», «Село Степанчиково», «Братья Карамазовы») и Григорий
Васильев, слуга Достоевских, присматривавший за хозяйством в Даровом в отсутствие
господ, и т.п. См. Альтман М.С. Указ. соч. С. 168, 169.
14 Ср. тот же мотив в бредовых видениях Прохарчина, в связи с бедным чиновником
Андреем Ефимовичем: «Денежки-с! - Их не будет и каши не будет-с... а у меня, сударь,
семеро-с". Тут лысый человечек... показал ровно аршин с вершком от полу и, махнув
рукой в нисходящей линии, пробормотал, что старший ходит в гимназию» (с. 250). Ср.
также чиновника Горшкова в «Бедных людях».
15 Как квази-отсылка к золовке и оставшимся после смерти Семена Ивановича
Прохарчина деньгам.
16 Так, это имя с удвоением-усилением Семен Семенович используется (с явными
реминисценциями из Достоевского) для обозначения неудачливого чиновника («бедный
Сенечка»), которого перед смертью разбил паралич, у К. Вагинова (см. Бамбочада. Л.,
1931. С. 93, 95, 97-98). Ср.: «Бедный, бедный папа! - подумала Ларенька. И
вспомнила могилку на Митрофаньевском кладбище, с жестяной дощечкой:
"Коллежский советник Семен Семенович Черноусенков..."
...На службе отца Лареньки все звали Сеней. Чопорное, пузатое, гражданское
превосходительство, его прямое начальство, в добрые минуты величало его "друг
С е н е ч к а"... "Как хорошо быть богатым", - думает Черноусенков... Во время раз-
280
говора, друг-С е н е ч к а вдруг лезет под письменный стол и, вообразив себя
петухом, кричит: "Кукареку!" ...его разбил прогрессивный паралич... Иногда у Черноусен-
кова бывали проблески сознания. Он горько плакал и повторял: "Бедный, бедный
Сенечка, как мне жаль тебя..."». К Черноусенков ср. усы: бакенбарды («Сбритые
бакенбарды» и весь относящийся сюда материал, см. Альтман М.С. Указ. соч. С. 204 и ел.).
Имя Ларенька дочери Черноусенкова, возможно, соотносимо с именем «несчастного
мальчика» Лареньки (Лари) в «Неточке Незвановой».
17 Ср. сказанное в этой статье о языке «Господина Прохарчина» с результатами
исследования В.В. Виноградовым «Двойника».
18 Как и вообще об особой «издерганности» языка, неровности ритмического движения,
хаотичности, дурной бесконечности, обилии гоголевских реминисценций, общем
принципе образования фамилий и т.п.
19 В общем виде эта особенность формулируется так: «...каждое слово, казалось,
рождало еще по другому слову, другое слово тотчас при рождении, по третьему, третье по
четвертому и т.д.» (с. 253).
20 См.: Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский. Л., 1929. С. 225. Ср.,
например: «Так и вышло... запнулся и завяз... завяз и покраснел... покраснел и
потерялся... потерялся и поднял глаза... поднял глаза и обвел их кругом... обвел их кругом и
обмер» (формула - «два шага вперед, один шаг назад» в цикле).
Приложение III
О «ПУГАЧЕВСКОМ» СЛОЕ В ОБРАЗЕ ЗИМОВЕЙКИНА
И «НАПОЛЕОНОВСКОМ» СЛОЕ ПРОХАРЧИНА
В.А. Туниманов в одном месте своей статьи пишет: «Вообще
"пушкинское" явно преобладает над "гоголевским" в "Господине Прохарчине"; так,
в картине пожара чувствуются стихийно-бунтарские и пугачевские мотивы
"Дубровского" и "Капитанской дочки"» (с. 205). Если с утверждением о
преобладании «пушкинского» начала над «гоголевским» согласиться трудно (по
крайней мере, в том виде, как об этом сказано), то эпитет "пугачевский"
оказывается весьма к месту. И дело здесь не только и даже не столько в том,
что бредовое видение толпы и пожара (о нем см. выше), действительно,
дано как описание стихийного бунта, народного мятежа, с выделением даже
вождя его (мужик в разорванном, без пояса, армяке, с опаленными волосами
и бородой, подымающий весь Божий народ), сколько в образе смутьяна и
«разбойника» Зимовейкина. Весьма чувствительная к разнообразным
ассоциациям структура текста «Господина Прохарчина» делает в высокой
степени правдоподобным соотнесение Зимовейкина с Пугачевым, казаком
Зимовейской станицы. И.И. Дмитриев и Пушкин в одних и тех же словах
приводят ответ Пугачева перед казнью: «...Обер-Полицийместер спрашивал
его громко: "Ты ли донской казак Емелька Пугачев?" Он ответствовал
столь же громко: "Так, государь, я донской казак, Зимовейской
станицы, Емелько Пугаче в"»1 Связь Зимовейкина с казаком
Зимовейской станицы Пугачевым, по меньшей мере, ономастически, весьма
вероятна2. Более изощренным было бы предположение о контаминации в
фамилии Зимовейкин двух элементов - Зимов(ейск-) и (Ем)елък-. Но подобие не
исчерпывается именем или даже именами3. С Зимовейкиным, помимо его
общей функции «разбойника» и «вора» (ср. с. 254) и частного назначения
пугать Прохарчина то рассказом об упраздненной канцелярии, то
угрозой доноса4, связан ряд сигнатур, традиционно относимых к Пугачеву. В тех
же источниках описывается прощание Пугачева с народом: «Пугачев, пока
его везли, кланялся на обе стороны... Тогда Пугачев сделал с
крестным знамением несколько земных поклонов... потом с
уторопленным видом стал прощаться с народом: кланялся во все стороны,
говоря прерывающимся голосом: "Прости, народ православный;
отпусти мне, в чем я согрубил пред тобою; прости, народ
православны й"»5, с чем в деталях можно сопоставить сцену покаяния
Зимовейкина в «Господине Прохарчине»: «Кончив историю, в продолжение
которой господин Зимовейкин неоднократно лобызал своего сурового и
небритого друга Ремнева, он поочередно поклонился всем бывшим в комнате
в ножки... назвал их всех благодетелями и объяснил, что он человек
недостойный, назойливый, подлый, буйный и глупый, а чтоб не взыскали добрые
282
люди на его горемычной доле и простоте» (с. 247); «...вот им и хозяйке
спасибо; видишь ты, вот и поклон земной правлю... Тут действительно
Зимовейкин ...исполнил кругом свой поклон до земли» (с. 256) и прохарчинское
«а потом и не смирный, сгрубил» (с. 256), адресованное Зимовейкину. «Вор»
Зимовейкин, конечно, отсылает нас к Пугачеву, с именем которого так
срослось это определение6, а мужик в разорванном армяке,
подымающий народ, - к тому же Пугачеву при первой встрече с Петрушей
Гриневым: «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке».
«Пугачевские» ассоциации вынуждают и некоторые другие факты
интерпретировать в этом ключе (или во всяком случае допускать такую возможность).
Совершенно неожиданное сравнение, относящееся к умирающему Прохар-
чину («...но моргал глазами совершенно подобным образом, как, говорят,
моргает все еще теплая, залитая кровью и живущая
голова, только что отскочившая от палачева
топор а», с. 258), приобретает особый смысл в описаниях именно такой, как
в сравнении, казни другого «бунтовщика» - Пугачева7. И даже «суровый и
небритый»8 друг Зимовейкина Ремнев (кстати, тоже названный
«разбойником») перекликается с образом любимца и друга Пугачева - Перфильева,
«немалого роста, сутулого, рябого и свиреповидного» («История Пугачева»,
гл. 8)9. И Сенька\ ...буян... в устах Зимовейкина в длинном ряду ассоциаций
возвращает читателя к другому не менее известному разбойнику - Стеньке.
При гипотетичности отдельных параллелей этого типа в целом они
заслуживают внимания, особенно учитывая особенности шифра Достоевского10.
«Наполеоновский» слой в Прохарчине попытался оформить (хотя бы в
виде вопроса, предположения, гипотезы) домашний «философ» Марк
Иванович, возмущенный «вольнодумными» речами героя:
«- Да что ж вы? - прогремел наконец Марк Иванович, вскочив со
стула, на котором было сел отдохнуть, и подбежав к кровати весь в
волнении, в исступлении, весь дрожа от досады и бешенства, - что ж
вы? баран вы! ни кола, ни двора. Что вы, один, что ли на свете? для
вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли какой? что вы? кто вы?
Наполеон вы, а? Наполеон или нет?! Говорите же, сударь, Наполеон
или нет?..» (с. 256-257)и.
На языке Марка Ивановича, Наполеон - символ вольнодумства и бунта,
ниспровержения устоявшегося, законного порядка, самозванства и,
следовательно, во многом должен быть сближен с более русским вариантом
разбойника пугачевского типа, так или иначе соотнесенным с Зимовейкиным.
Универсальность «наполеоновской» идеи («Мы все глядим в Наполеоны12;
/ Двуногих тварей миллионы / Для нас орудие одно...»), тезис, согласно
которому во всех нас живет Наполеон, никак не противоречит тому, что в
каждом отмеченном человеке видели сходство с Наполеоном или даже
подозревали его именно в том, что он сам Наполеон13. При всем комическом
эффекте сопоставления Прохарчина с Наполеоном в нем есть свой резон,
объединяющий Марка Ивановича с Достоевским, обращающимся к этому
образу в «Преступлении и наказании», в частности, в теоретических
построениях Раскольникова. Отмеченное выше сходство Прохарчина с Раскольни-
ковым подтверждает и их параллелизм в отношении наполеоновской темы,
283
в частности и то, что оба не выдержали испытания на Наполеона
(несостоявшиеся Наполеоны). Более того, нельзя исключать возможности, что эта
тема, впервые появившаяся у Достоевского именно в «Господине Прохар-
чине», была тем источником, из которого вырос историософский образ
Наполеона поздних произведений Достоевского14. Тем самым еще раз была
бы подтверждена мысль о «Господине Прохарчине» как источнике целого
ряда тем и образов в творчестве писателя.
1 См. Дмитриев И. Взгляд на мою жизнь. М., 1866. С. 29 (воспоминания написаны
гораздо раньше их опубликования). У Пушкина («История Пугачева», гл. 8): Он столь
же громко ответствовал и незначительные отличия в орфографии.
2 В этой связи заслуживают внимания два Емелъяна Ивановича в «Бедных людях»:
один - «он чиновник, то есть был чиновник, а теперь уж не чиновник, потому, что его
от нас выключили. Он уж я и не знаю, что делает, как-то там мается; вот мы с ним и
пошли» (ПСС. Т. 1.С. 67; ср. сходный мотив в истории Зимовейкина, когда его
«пошатнули»); другой - тоже чиновник, «и мы с ним во всем нашем ведомстве чуть ли не
самые старые, коренные служивые. Он добрая душа, бескорыстная душа, да
неразговорчивый такой и всегда настоящим медведем смотрит» (с. 71). B.C. Нечаева (Указ.
соч. 1979. С. 172) связывает фамилию Зимовейкин с названием степной или таежной
избы - прибежища для случайных путников. Можно напомнить, что и Стенька Разин
происходил из станицы Зимовейской.
3 Ср.: Устинья Петровна, жена Пугачева, при Устинье Федоровне, которую
«опозорил и опростоволосил» Зимовейкин (если верить Пушкину, Потемкин имел связь с
Устинъей, второй женою Пугачева, см. «Записи устных рассказов, преданий, песен»,
V); Перфильев - Порфирий Григорьевич!
4 Отсюда - «лицо стал иметь беспокойное, взгляды пугливые, робкие и немного
подозрительные» (с. 245); ср. в другой связи: «пугал Семена Ивановича разными
небылицами...» (с. 257). Зимовейкин также и «обольститель» Прохарчина (ср. с. 247).
5 Пушкин A.C. История Пугачева, гл. 8; ср. Дмитриев И. Указ. соч. С. 28-29.
6 Ср. в «Капитанской дочке»: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» -
воскликнет перед казнью комендант Белогорской крепости, предвосхищая прохар-
чинское: «...ты несчастный, вор ты! Слышь...» (с. 254); «Ты, дядюшка, вор и
самозване ц!» и т.п.
7 В.А. Туниманов (Указ. соч. С. 212) высказал предположение, что в отрочестве
Достоевского могла взволновать заметка из «Библиотеки для чтения» (1834) под названием
«Продолжение жизни после обезглавления» (в этом же томе журнала была
напечатана и «Пиковая дама»).
8 Ср.: «оборванный, суровый и небритый» (о шарманщике, с. 252).
9 В этом контексте фамилия Ремнев, вероятно, значима; ср. ремень как элемент того же
семантического поля, что и пряжка: «...а потом и не смирный, сгрубил; пряжку
тебе, и пошел вольнодумец!.» (с. 256). Менее оснований у сравнения с Ремень («Тарас
Бульба»); см. Альтман М.С. Указ. соч. С. 149. Ср. образ пугачевщины как модели
любого русского бунта: «Вы знаете ли, к чему мы стремимся? - продолжал Петр. -
Надвигается пугачевщина, будет такая раскачка, какой Россия еще никогда не
переживала» (Ф. Сологуб. Творимая легенда, с. 214).
10 В вышеизложенных соображениях о «пугачевском» слое, строго говоря, не
содержится ничего такого, что противоречило бы принципам поэтики Достоевского, его
писательской практике и даже некоторым специальным высказываниям. «Пушкинский»
Пугачев уже в явной форме возник позже, в «Зимних заметках о летних
впечатлениях» (1863): «А уж Пушкин ли не русский был человек! Он, барич, Пугачева
угадал и в пугачевскую душу проник, да еще тогда, когда
никто ни во что не проникал...». Встреча барича Ставрогина (он же не только Иван-
Царевич, но и самозванец, Гришка Отрепьев /для Марьи Тимофеевны Лебядкиной/
и даже Стенька Разин /«Он (Петр Степанович Верховенский) задался мыслью,
что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина "по необыкновенной
способности к преступлению", - тоже его слова», - скажет Ставрогин Шатову/) с
Федькой-каторжником рядом черт напоминает встречу Гринева с Пугачевым (место
встречи; оба - и Пугачев и Федька - беглые каторжники и отчасти «благодетели»
соответственно Гринева и Ставрогина, жизнь которых зависит от их «благодетелей»;
загадочная речь Пугачева и Федьки; их трагический конец и т.д.). Кстати, все
окружающие Ставрогина люди пытаются угадать его (см. выше о Пушкине, который
«Пугачева у г а д а л»). Тень Пугачева в «Господине Прохарчине», возможно, не
вызовет особенно резких возражений и недоумений, если вспомнить, что позже и
Базаров как-то соотносился Тургеневым с Пугачевым. Ср.: «Мне мечталась фигура
сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная -
и все-таки обреченная на гибель, - потому что она все-таки стоит в преддверии
будущего, - мне мечтался какой-то странный pendant с Π у г а ч е в ы м» - из письма
Случевскому от 14 апреля 1862 г. Иначе характеризует Базарова Достоевский в
«Бесах»: «Я не понимаю Тургенева. У него Базаров какое-то фиктивное лицо,
несуществующее вовсе, они же первые и отвергли его тогда, как ни на что не похожее. Этот
Базаров это какая-то неясная смесь Ноздрева с Байроном, c'est le mot!» (ср., однако:
«Ну и досталось же ему (Тургеневу) за Базарова, беспокойного и тоскующего
Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм» - «Зимние заметки о
летних впечатлениях»).
Ср. далее: «Но господин Прохарчин уже и не отвечал на этот вопрос. Не то чтоб
устыдился, что он Наполеон, или струсил взять на себя такую ответственность, -
нет, он уж и не мог более ни спорить, ни дела говорить... Марк Иванович, видя
бесполезность трогать Наполеонову память, тоже немедленно впал в
добродушие...» (с. 257). Ср. также упоминание об одном наполеондоре, найденном в
тюфяке.
Кстати, и Достоевский в «Преступлении и наказании» употребляет форму
множественного числа этого имени. Ср. также: «Кто ж у нас на Руси себя Наполеоном
теперь не считает?» («Преступление и наказание»).
«Из числа многих в своем роде сметливых предположений было наконец одно,
странно даже и сказать: что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон...и вот теперь
они (= англичане), может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и
пробирается в Россию будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков. Конечно,
поверить этому чиновники не поверили, а впрочем призадумались и, рассматривая это
дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет
боком, очень сдает на портрет Наполеона. Полицеймейстер, который служил в
кампанию 12 года и лично видел Наполеона, не мог не сознаться, что ростом он
никак не будет выше Чичикова и что складом своей фигуры Наполеон тоже,
нельзя сказать, чтобы слишком толст, однако ж и не так чтобы тонок» («Мертвые
души»). Ср. Германна с «профилем Наполеон а» в «Пиковой даме» или Обломо-
ва, который в мечтах превосходит Наполеона и Еруслана Лазаревича.
Ср. имя Наполеона в «Честном воре», «Дядюшкином сне», «Записках из Мертвого
дома», «Зимних заметках о летних впечатлениях», «Записках из подполья», «Идиоте»,
«Подростке», «Братьях Карамазовых», «Дневнике писателя».
[1976, август]
МОТИВ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ СЧАСТЬЯ
У ДОСТОЕВСКОГО И ОСТРОВСКОГО
(об одной возможной перекличке)
Речь идет о несомненном сходстве, которое, однако, может показаться
внешним, если при его рассмотрении и обсуждении ограничиться только
его ядром. Им можно считать конструкцию, связывающую Аркадия Счаст-
ливцева из комедии Островского «Лес» (написана в 1870 г. и напечатана в
Отечественных записках (1871. № 1)) со следующей фразой Аркадия
Ивановича Нефедевича из повести Достоевского «Слабое сердце»
(Отечественные записки. 1848. № 2), обращенной к своему другу: «Потому что ты
счастлив,™ хочешь, чтобы все, решительно все сделались разом
счастливыми. Тебе больно, тяжело одному быть счастливым!»
(разрядка здесь и далее наша. - В.Т.у. Собственно говоря, общее исчерпывается
связью имени Аркадий с идеей или темой счастья, хотя при более
внимательном взгляде характер этой связи в обоих приводимых примерах
несколько различен: сам Аркадий Иванович у Достоевского стоит как бы
вне счастья, тогда как Аркадий Счастливцев, судя по своему программно-
идеологическому и водевильно-каламбурному имени, рассчитанному на
четкое осознание его семантики, не только находится внутри счастья, но и
воплощает его с избытком, удвоенно: в контексте фамилии Счастливцев и
имя Аркадий начинает соотноситься с Аркадией, страной безмятежного
счастья (ср. такие клише, как счастливая Аркадия, безмятежная Аркадия,
аркадская идиллия, и мы были в Аркадии как вариант шиллеровского мотто
и т.п.); замкнутость темы счастья на имени Аркадий Счастливцев
подчеркнута именем напарника и оппонента носителя этого имени - Несчастливцев.
Подводя первый итог сопоставлению в пределах намеченного ядра,
можно сказать, что схема Аркадий & «счастье» действительно является
о б щ е й, но распределение и взаимоотношение семантических элементов в
каждом из сопоставляемых примеров оказывается разным,
исключающим углубление в поисках более тонких параллелей, если только
оставаться в указанных рамках. Этот итог можно было бы счесть малозначительным
и видеть в нем отражение прихотливой игры случая, т.е. подходить к
указанному сходству как к курьезу. Однако подобный вывод оказывается,
очевидно, в противоречии с теми фактами, которые удается обнаружить вне
элементарного ядра, но в его расширении, являющемся дальнейшим
развитием приведенной выше схемы. При этом очень важно, что эти факты
относятся к двум сферам. Одна из них шире схемы, включает ее в себя как
свою часть, укорененную ниже уровня наиболее важных смыслов,
даваемых всегда эксплицитно. Другая сфера, напротив, уже схемы и
представляет собой дальнейшую детализацию ее, развертывание ее элементов в
тексте, заполнение ее частностями. Следовательно, область совпадений рас-
286
пространяется как бы в двух направлениях -по вертикали, от уровня
деталей до уровня высших смыслов, и по горизонтали, захватывая
большие, чем можно думать по началу, фрагменты обоих сопоставляемых
текстов.
Ниже предпринимается попытка наметить круг этих совпадений. При
этом он ограничивается примерами, имеющими смысл в связи с
приведенной схемой, т.е. помимо тех совпадений, которые заведомо
случайны по отношению к схеме и объясняются принадлежностью обоих
текстов («Слабое сердце» и «Лес») к некоему фрагменту русской культуры,
отражающей не слишком разошедшиеся срезы русской жизни с ее
внутренними и внешними признаками.
Первое такое совпадение оказывается весьма показательным. В том и в
другом тексте персонаж по имени Аркадий не является изолированным.
И тут и там он теснейшим образом связан с другим персонажем, имя
которого также должно рассматриваться как отмеченное (об этом см. ниже) и
который с достаточной очевидностью противопоставлен
Аркадию, образуя с ним замкнутую самодовлеющую пару
неслучайного типа. В «Лесе» речь идет о двух актерах, определяемых автором в
перечне действующих лиц как «пешие путешественники», - Аркадии Счаст-
ливцеве и Геннадии Демьяныче Несчастливцеве. Противопоставление этих
персонажей на уровне фамилий (привативная оппозиция
Счастливцев-Несчастливцев при рифмующихся между собой именах Аркадий-Геннадий,
отсылающих к несколько иной оппозиции: счастливый - благородный, ср. др.-
греч. γεννάδας 'благородный') разнообразно продолжается и на других
уровнях (о чем отчасти см. далее), в частности, в сфере номинации.
Несчастливцев никогда не называет своего приятеля по отчеству (более того,
мы вообще не знаем его), для него он Аркадий, Аркаша, Аркашка.
Счастливцев, напротив, никогда не обращается к Несчастливцеву иначе, чем по
имени и отчеству - Геннадий Демьяныч, однажды даже со словоерсом («Да
как же, Геннадий Демьяныч-с?»)2. Соответственно Несчастливцев
обращается к Аркадию всегда на «ты» (и не всегда щадит его самолюбие)3, тогда
как последний знает лишь одно обращение к Несчастливцеву - на «вы» и
всегда почтителен с ним (хотя бы внешне), даже при недовольстве его
поступками. Контраст между формами обращения друг к другу обозначится
еще с большей рельефностью, если вспомнить, что Несчастливцеву, как
следует из ремарки, «лет 35-ть» (правда, с добавлением: «но на лицо он
гораздо старее»), а Счастливцеву - «лет за 40».
Но подобное же соотношение имен подчеркнуто, даже с известным
вызовом и полемичностью, прокламируется с первой же фразы «Слабого
сердца» (сама эта фраза нарочита, требует к себе внимания читателя, которого
она же и поддразнивает каким-то скрытым в ней намеком): «Под одной
кровлей, в одной квартире, в одном четвертом этаже жили
два молодые сослуживца, Аркадий Иванович Нефедевич и Вася
Шумков». Автор, конечно, чувствует необходимость объяснить читателю,
почему один герой назван полным, а другой
уменьшительным именем, хотя бы, например, для того только, чтобы не
сочли такой способ выражения неприличным и отчасти фамильярным. Но
для этого было бы необходимо предварительно объяснить и описать и чин,
287
и лета, и звание, и должность, и, наконец, даже характеры действующих лиц;
а так как много таких писателей, которые именно так начинают, то автор
предлагаемой повести, единственно для того чтоб не походить на них (т.е.
как скажут, может быть, некоторые, вследствие неограниченного своего
самолюбия), решается начать прямо с действия. Кончив такое предисловие, он
начинает». - В этом начальном отрывке справедливо видят выпад
Достоевского против «ставшей уже трафаретной манеры» начинать таким образом
произведения, принадлежащие к жанру физиологического очерка4; следует
также заметить, что и в некоторых других случаях Достоевский
отказывался от слишком лобовой манеры в ономастической поэтике5. Так или иначе,
в процитированном отрывке демонстрируется некий метаприем,
прием, имеющий в виду аналогичный прием, который, однако, тут же
компрометируется, обессмысливается почти нулевыми средствами: заявленный
прием фактически повисает в воздухе, поскольку далее он почти не
работает. Единственная ситуация, где фигурирует пара Аркадий Иванович - Вася,
и то без какой-либо обязательности, - авторская речь. В ней Вася Шумков,
действительно, никогда не называется по отчеству6, но может, впрочем,
называться и как Шумков или Вася Шумков, а Нефедевич по преимуществу
именуется Аркадий Иванович, хотя по ходу развития действия автор все
чаще (как бы от волнения и задаваемой им инерции или же суммируя свою
позицию с позицией Васи Шумкова) начинает обозначать его и как Аркадий
(совсем редко - Нефедевич)1, а однажды даже Аркаша, правда, в особых
условиях8. Различия в тоне и стиле наименований друг друга существуют, но
они не имеют ничего общего с той схемой, которая вводится автором в
начале повести. Шумков называет своего друга Аркадий, Аркаша, однажды
Аркашенька (ПСС. Т. 2. С. 35), а Нефедевич Шумкова - Вася, Васенька, Ва-
сюк, Васютка, из чего следует, что Аркадий Иванович занимал социально
более престижную позицию, чем его приятель и сожитель9 (ср. «и чин, и
лета, и звание, и должность» - в пародийном начале «Слабого сердца»).
Программность фамилий «пеших путешественников» в комедии
Островского, проявляющаяся в обнаженности их семантики и напоминающая
об ономастических принципах классицистического театра, не препятствует
ни вполне реалистической разработке соответствующих образов, ни их
ориентации на конкретные прототипы. В частности, одним из прототипов Нес-
частливцева считается властитель русской провинциальной сцены тех лет
Н.Х. Рыбаков, который, кстати, подвизался в этой роли с большим успехом
(в 1872 г. в Москве в «Народном театре» на Политехнической выставке; в
1876 г. во время юбилея актера его в роли Несчастливцева приветствовал
сам Островский); его имя в пьесе с особым почтением упоминает
Несчастливцев: «В последний раз в Лебедяни играл я Велизария, сам Николай
Хрисанфыч Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену,
выхожу за кулисы, Николай Рыбаков тут. Положил он мне так руку на
плечо...». Поэтика фамилий у Достоевского (в частности, у раннего)
несколько иная, но и у него они, несомненно, нарочиты и программны, хотя их
семантика оказывается более смазанной, во всяком случае нередко лишена
однозначных и бесспорных мотивировок. Ср. хотя бы фамилии таких
персонажей, как Девушкин, Голядкин, Берендеев, Прохарчин (: прохарчиться),
Ползунков (: ползать, ср. его рептильность)10 и др., причем семантические
288
мотивировки на языковом уровне нередко вводятся в сам текст
соответствующих произведений. Все, что известно до сих пор о принципах
формирования фамилий у Достоевского (в первую очередь благодаря ценнейшим
исследованиям А.Л. Бема и М.С. Альтмана), заставляет предполагать, что и
фамилии двух приятелей из «Слабого сердца» определяются
закономерностями поэтической семантики и/или некиими внетекстовыми (напр.,
биографическими) связями.
Как известно, по поводу фамилии Шумкова М.С. Альтман высказал
предположение, что «созвучие фамилий Буткова и Шумкова не
случайность, а дополнительное авторское указание»11 на то, что прототипом
Шумкова был известный писатель Яков Петрович Бутков, некоторые
печальные обстоятельства жизни которого послужили основой для сходных
мотивов в «Слабом сердце». Образ Буткова, к которому Достоевский относился
с симпатией и сочувствием, предносился творческому воображению
писателя, видимо, и в ряде других произведений (прежде всего в Двойнике), и это
обстоятельство, конечно, тоже может рассматриваться как определенный
аргумент в пользу этой прототипической основы образа Васи Шумкова, -
особенно если вспомнить две важных черты Достоевского как ономатета:
эксплуатацию одного прототипа более чем в одном
произведении (отсюда тенденция к «сквозным» типам в творчестве писателя)
и стремление намекнуть на прототип самим именем или фамилией
соответствующего литературного персонажа. Поэтому общее указание на
«созвучие» фамилий Буткова и Шумкова можно несколько конкретизировать и,
возможно, даже усилить. Что касается звуковой стороны
сопоставления, то оно определяется наличием четырех общих сегментов (фонемных
или буквенных) из шести и одинаковым местом ударения: -у-ков
(Бутков : Шумков), ср. также в обоих случаях интервокальную группу из
двух согласных (тк и мк); по сравнению с фамилией прототипа фамилия
литературного персонажа (Шумков) характеризуется «снятием» (кроме одного
исключения - к) признака взрывности: бит соответственно заменяются
непрерывным ш и сонантом м; отсюда - эффект некоей тихости (само под
шумок означает 'тишком'), сниженности, умалительности этой «шумной»
фамилии (ср. шумок - шум) . Но можно думать, что звуковая близость
фамилий Бутков и Шумков образует лишь поверхностный слой их сходства. Не
исключено, что Шумков не что иное, как семантический перевод
фамилии Бутков. Во всяком случае апеллятивы, лежащие в основе этих
фамилий, несомненно объединяются общим семантическим множителем -
'громкий звук', 'шум' с возможным дальнейшим развитием -
'беспокойство'; ср. при обычных значениях русск. шум также бутать 'шуметь'
(обычно стуком пугая рыбу), бутить 'издавать гулкий звук при ударе', 'бить',
'колотить', бутенить 'сильно, громко стучать, или звонить', 'говорить
вздор' и др., наконец, буткатъ 'стучать', 'бить', 'ударять', с определенным
акустическим эффектом (буткатъ : Бутков!), бут, междометие для
обозначения шума при ударе, стука и т.п.12 Но, разумеется, допустимо думать и
о таких вариантах семантической мотивировки фамилии Шумков, которые
не предполагают непременной связи с фамилией правдоподобного (хотя и,
несомненно, «частичного») прототипа этого литературного образа. В
частности, мотив сумасшествия Васи Шумкова может дать повод для привлече-
10. В.Н. Топоров
289
ния к сравнению таких обозначений патологического выхода рассудка за
пределы нормы, как зашуметь 'тронуться рассудком' (ср. загреметь, также
чокнуться, стукнуться, ушибиться и т.п. в сходных значениях, с той же
мотивировкой - 'удар χ шум'), ср. еще русск. диал. шума 'беспокойный
человек' (Даль3 IV: 1482), в частности, видимо, выходящий за пределы
душевного равновесия, шумйголова и т.п.
И тем не менее, наиболее показательными в данной ситуации, пожалуй,
оказываются у раннего Достоевского каламбурно-языковые мотивировки,
отчасти уже отмеченные выше. Видимо, есть такая мотивировка и у
фамилии Шумков, хотя она обнаруживается не в «Слабом сердце», а в рассказе
«Ползунков», по времени написания смежном с повестью о Васе Шум-
кове13. Эта разъединенность мотивировки и выводимой из нее фамилии не
должна вызывать смущения: одна из существенных черт творческого
метода Достоевского и его конкретной писательской практики как раз и
состояла в подобных переносах некиих элементов из одного текста в
другой, прежде всего следующий по времени написания; намек или
первоначальный вариант разработки темы получал развитие в очередном новом
произведении14. Так и в «Ползункове» обнаруживается, кажется, не
замеченная до сих пор исследователями схема, гораздо полнее и, главное, совсем
в ином тоне разработанная в «Слабом сердце». Основными ее элементами
являются образы мелкого чиновника, перед которым вдруг открываются
возможности личного счастья (женитьбы), и начальника этого чиновника по
службе, заваливающего его работой, оказывающейся в итоге вовсе
необязательной, а также мотив поражения героя по причинам, которые
представлены в каламбурно-анекдотическом плане15. В этой связи особого внимания
заслуживает ключевой отрывок из рассказа «Ползунков» (ПСС. Т. 2. С. 14):
«Ну, что, мои милостивцы, теперь и вся недолга! Пожили мы здесь день,
другой, третий, неделю живем; я уж совсем жених! Чего! Кольца заказаны,
день назначали, только оглашать не хотят до времени, ревизора ждут. Я-то
жду не дождусь ревизора, счастье мое остановилось за ним! Спустить бы его
с плеч долой, думаю. А Федосей-то Николаич под шумок и на радостях все
дела свалил на меня; счеты, рапорты писать, книги сверять,
итоги подводить, - смотрю: беспорядок ужаснейший, все в запустении, везде
крючки да кавычки! ну, думаю, потружусь для тестюшки! А тот все
прихварывает, болезнь приключилась, день ото дня ему, видишь, хуже А
чего, я сам, как спичка, ночей не сплю, повалиться боюсь! Однако
кончил-таки дело на славу! выручил к сроку!». Это как бы незаметно
возникшее под шумок апеллирует не столько к Федосею Николаичу (хотя и он, как
жулик, действует «под шумок»), сколько к Ползункову, на которого «п о д
шумок и на радостях» сваливают все дела. Он - объект этого темного
действия «под шумок» со стороны своего жестокого и хищного начальника,
и мотив шумка становится сутью и признаком однородного Ползункову
персонажа в «Слабом сердце». Впрочем, ведь и Ползунков, как и Вася Шумков,
из тех, кого можно назвать «слабым сердцем»: ведь «слабость» сердца
предполагает то сочетание отзывчивости вплоть до горячности с
мягкостью-добротой, которое, собственно, и лишает человека необходимого волевого
начала и связанной с ним устойчивости и трезвости, отдавая его во власть его
«слабого сердца». Этот мотив в связи с Васей Шумковым будет еще затро-
290
нут далее. Здесь же следует только напомнить то, что говорится о сердце
Ползункова, для того, чтобы выявить еще одно важное сходство этого
персонажа с Васей Шумковым, ясное их создателю, но обычно упускаемое
исследователями. Ср. о Ползункове: «Мне казалось, что все его желание
услужить происходило скорее от доброго сердца, чем от
материальных выгод... его сердце ныло и обливалось кровью от мысли, что его
слушатели так неблагородно-жестокосерды, что способны смеяться не
факту, а над ним, над всем существом его, над сердцем, головой, над
наружностью, над всею его плотью и кровью»; - «Я уверен, что все это
происходило не иначе, как от доброго сердц а...»; «Сердце его было
слишком подвижно, горяч о... но с маленькою слабость ю... Если б
он был уверен сердцем своим...»; «...у меня, то-есть, сердце
горя ч е е»; «То есть вот заласкалось к ним сердце со вчерашнего дня...»;
«Дрогнуло сердце мое»16.
Более сложно обстоит дело с фамилией Нефедевич. В ней меньше
эмоционального и больше «серьезного» и, может быть, даже скрытого автором
от своих читателей. И такая ономастическая ситуация в согласии с образом
серьезного, а в финале даже угрюмого героя, «потерявшего всю свою
веселость» и как будто «прозревшего во что-то новое» в минуту
фантастического видения на зимней Неве. В целом ключ к фамилии Аркадия Ивановича
остается неизвестным. Возможны лишь частные подступы к загадке,
открывающиеся, однако, с разных сторон. Среди фамилий героев
Достоевского, начинающихся с Не- (Незванова, Неустроев в Записках из Мертвого
дома; Нелюдов, судебный следователь из Братьев Карамазовых; ср. также
Нечаевы, фамилия родственников Достоевского по матери), есть и фамилия
мирового судьи Нефедова из последнего романа17. Эта фамилия выделяется
среди других примеров этого словообразовательного типа двумя
особенностями - исключительным сходством с фамилией Нефедевич и тем, что
только в этих двух фамилиях (Нефедов и Нефедевич) корень может быть понят
не как апеллятив, а как ономастический элемент (-фед- / з Федя, Федор / -
при -зван-, -люд-, -устро-). Эти особенности при учете тенденции
Достоевского связывать ряд разных, но одноименных персонажей с
общими для них идеями и мотивами18 позволяют, по крайней мере
теоретически, обозначить (хотя бы в самом приблизительном виде) две возможности
истолкования фамилии Нефедевич. Ни на одной из них настаивать,
разумеется, нельзя, но иметь их в виду как некий ресурс, который может
оказаться небесполезным при некоторых новых фактах, возможно, целесообразно.
Конечно, связь между эпизодическим мировым судьей Нефедовым и Нефе-
девичем, выступающим в финале повести как человек, который прозрел и
готов стать судьей мира сего19 со всеми его несправедливостями,
обрушившимися, в частности, и на Васю Шумкова, сама по себе
сомнительна и маловероятна. То же можно сказать и о попытке связи элемента фед- в
Нефедевич с именем автора «Слабого сердца» (Федор). Но тут уместно
подключение к теме параллельного ряда. Фантастическое видение открылось
не только перед Аркадием Нефедевичем, но и перед другим Аркадием -
Долгоруким (Подросток)™ и перед Федором Достоевским (Петербургские
сновидения в стихах и прозе, 1861)21, которому, по его словам, тоже не
нравился «лик мира сего» и перед которым как раз во время писания «Слабого
10*
291
сердца» тоже открывалась перспектива бунта, так или иначе отразившаяся
уже в ранних его произведениях22.
Далеко ушедшая тема номинации основных героев «Слабого сердца» в
связи с фамилиями Счастливцева и Несчастливцева может быть
возвращена в свое русло, если напомнить о разном месте, которое занимают у обоих
сопоставляемых писателей их Аркадии в «престижном» пространстве:
Аркадий Счастливцев стоит ниже Геннадия Демьяныча Несчастливцева и
лишен отчества; Аркадий Иванович Нефедевич стоит выше Васи Шумкова, и
его отчество актуально в отличие от отчества Васи. Во всяком случае при
дальнейших поисках перекличек следует помнить об этой инвертиро-
ванности: она важна и сама по себе и как некое указание на
принадлежность указанных пар героев к особому кругу персонажей и к особой сильно
специализированной традиции, следы которой вполне различимы и в
«Слабом сердце и в «Лесе» и которая, несомненно, объясняет многие сходства
рассматриваемых пар.
Речь идет в данном случае об элементарной двучленной конструкции
буффонного типа, образующей глубинный слой обеих пар. И тот и
другой партнер составляют целое, которому они подчинены. Этому целому
они и служат, «разыгрывая» его, но каждый со своей стороны и своими
средствами. «Разнонаправленность» партнеров несомненна, и сам характер
противопоставлений, носителями которых они являются, ограничен и
клиширован (серьезный - шутливо-комический, печальный - веселый,
возвышенный - приземленный, резонер-догматик, парадоксалист-импровизатор,
неудачник - удачник и т.п.), но взаимодействие этих двух начал в конкретных
ситуациях приводит к нестандартным и заранее не очевидным решениям,
обнажающим диалектическую глубину проблемы и характеризующимся
большей надежностью, чем «одноплановые» решения. Игровая
стихия, связывающая двух буффонов, обеспечивает особую отзывчивость
участников-импровизаторов на изменения в ситуации. Здесь нет необходимости
говорить о «супер-буффонных» слоях в структуре сравниваемых пар: эти
слои очевидны, как очевидна и их особая роль в формировании образов Не-
федевича и Шумкова, Несчастливцева и Счастливцева, но общее между
этими двумя парами коренится прежде всего в «буффонном» уровне
(или соответствующих истоках), и поэтому именно он будет находиться
здесь в центре внимания. Такое предпочтение оправдано, между прочим, и
потому, что в пьесе Островского пара образована двумя актерами,
противопоставленными друг другу как трагик и комик, идеалист и материалист,
благородный и трезво-практичный и т.п. (ср. Дон Кихот - Санчо Панса).
В буффонных парах игра контрастов (нередко она сочетается с игрой
подобий) не ограничивается высшими (содержательными) уровнями: она
пронизывает все, и начинается она с того, что воспринимается зрителем или
читателем прежде всего, - с имен и внешнего вида. В соответствующей
традиции имена участников пары строятся чаще всего или по принципу м и -
нимального различия (Бим и Бом, Пат и Паташон и т.п.),
когда оно может быть воспринято только на фоне сходного, составляющего
основу парных имен (в этом случае различающийся сегмент нередко
воспринимается как некий ляпсус, превращающий ситуацию в каламбурную), или
по принципу четкого противопоставления. Последнее мо-
292
жет вводиться явно (ср. Любим и Нелюбим, Краса и Некраса, Смеяна и
Несмеяна и т.п.), когда во втором имени есть формально выраженное
отрицание или противопоставление (ср. в другой традиции примеры типа
Дити - Адити, Христос - Антихрист и т.п.), или неявно, когда
смысловое различие или противопоставление восстанавливается по резкому
(тоже нередко каламбурному) расхождению в структуре имен - от низших
уровней до семантики и стилистики (нередко важным оказывается контраст
между длиной сопоставляемых наименований)23. Два последние подтипа
используются при обозначении пар персонажей в «Лесе» и в «Слабом сердце»:
с одной стороны, Счастливцев - Несчастливцев, с другой
стороны, Аркадий Иванович Нефедевич - Вася Шумков (Геннадий Демъяныч -
Аркашка относятся к этой же категории случаев). Уместно заметить, что
фамилия Нефедевич структурно соотносится с Несчастливцев (это
формальное сходство поддерживается сходством положения этих персонажей в
соответствующих парах и, следовательно, известным изоморфизмом их
функций). Из пропорции Несчастливцев : Счастливцев = Нефедевич : X
следует, что в идеале X (реально Вася Шумков) должен был бы
воплощаться в имени Федя (Нефедевич : *Федя или *Федевич) или же - если исходить
из имени Вася как ключевого - вторая часть уравнения имела бы вид *Не-
васевич - Вася. И хотя эти реконструкции отличаются излишне
экспериментальным и, так сказать, «бумажным» характером, они вполне
соответствуют тем операциям с именами (перевертывания, мены, абсурдизация и т.п.),
которые так свойственны технике буффонады и поэтому так часты в
репризах буффонов, клоунов, шутов, скоморохов.
Ономастические каламбуры соотносятся с теми каламбурами (игра
слов), остротами, шутками, нередко ориентированными на язык, которые
неотъемлемы от буффонов, особенно от того из них, кто выступает в
функции «рыжего». Характерна в этом отношении партия Счастливцева в
диалоге с Карпом: «Счастливце в... А вас как? - Карп. Карп Савелъич. -
Счастливцев. Не может быть. - Карп. Верно. - Счастливцев.
Да ведь карп - рыба. - К а р п. То карпия. - Счастливцев. Да что кар-
пия, что карп - все равно. Уж лучше бы вас Сазаном Савелъичем звали. -
Карп. Ну, как можно. Хотите чаю?... - Счастливцев. Потрудитесь,
Окунь Савелъич\ - К а р п. Да не окунь, Карп. - Счастливцев.
Постарайтесь, Налим Савельич\ (Кланяется и уходит). - Карп. Ах, шут
гороховый] Откуда его вывезли, из каких таких земель? Должно быть,
издалека»... - Показательно, что «шут гороховый» строит каламбур как раз на
именах. Но и Несчастливцев прибегает к каламбурной номинации
собеседника в диалоге с Булановым24: «Молчи, таблица умножения! Корнелий
Непот! Пифагоровы штаны! (...) Ничего. Прощай, грифель!»25; ср. другие
виды каламбуров («3 лат о, злато! Сколько через тебя з л а т о!»).
В иных случаях каламбурная стихия выходит за пределы, мешая серьезному
разговору. Именно в такой ситуации Несчастливцев прерывает типичный
водевильный каламбур (в духе, напр., П.А. Каратыгина), ср.:
«Счастливцев. Ну, уж огня-то, Геннадий Демьяныч, днем с огнем не найдешь. -
Несчастливцев. Ты у меня не смей острить, когда я серьезно
разговариваю. У вас, водевильных актеров, только смех на уме, а чувства ни на
грош». - Тема каламбурно-о строго повторяется и в «Слабом сердце»,
293
где ее источником является Аркадий Иванович. Ср.: «...да зачем же ты сам
такой сумасшедший, повеса такой? Сколько раз я тебе говорил: Аркаша, ей-
богу, не остро, совсем не остро!»;- «Так скрывает себя истинная
заслуга и добродетель, - прибавил Аркадий в восторге, для юмора прибрав
фразу из одной остроумной газеты, которую читал поутру (...) -
Виват! да ты и остришь сегодня, ты сделаешь фурор, как они говорят
(,..)»26. Оказывается, что мотив остроты (а иногда и ее дискредитации)
также объединяет персонажей обеих пар. В одном случае наблюдается еще
одна частная перекличка: выдвигается предположение, что «каламбурист»
не умеет говорить, которое тотчас же опровергается. - «Аркадий
замолчал от избытка чувств; а Вася был потрясен до глубины души его
словами. Дело в том, что он никогда не ожидал таких слов от Аркадия. А р -
кадий Иванович вообще говорить не умел, мечтать
тоже совсем не любил; теперь же тотчас пустился и в мечтания самые
веселые (...), - заговорил он опять» («Слабое сердце»)27 - при сходном мотиве в
«Лесе»: «Б о д а е в (Буланову). Кто он такой? А?- Буланов. Актер. -
Б о д а е в. Актер? Ах, чорт его возьми! Браво, браво! ...То-то я слушаю, кто
так хорошо говорит, благородно. ...(Указывая на Счастливцева). А он тоже
актер? - Несчастливцев. Актер. -Бодаев. Он ничего не
говорит?- Несчастливцев. Нет, говорит. - Бодаев. Что же
он говорит? - Счастливцев. Скворцом свищу, сорокой прыгаю»28. -
Контраст между предположением о неумении или нерасположенности
говорить и речью, исполненной пафоса - романтического или водевильного, -
еще одной скрепой объединяет обе пары персонажей.
Сходства во внешнем облике изоморфных персонажей этих пар
также в основном восходят к их буффонному слою. Соотношение Несчаст-
ливцева и Счастливцева в этом плане довольно четко описывается, в
авторской ремарке (с одной стороны, более старый (хотя по возрасту и моложе),
угрюмый, брюнет, с более густой растительностью, в простой, без
претензий русской одежде, с грубыми вещами, с другой стороны, более молодой по
виду, улыбающийся, нарумяненный, с рыжевато-пепельной жидковатой
растительностью, в претенциозной «сверхмодной», хотя и поношенной
одежде, с поклажей, производящей впечатление легковесности и легкомыслия
и т.д.)29. Некоторые из этих черт косвенно выступают в описываемых в
пьесе ситуациях, из которых следует, что Несчастливцев сильнее, резче,
энергичнее (вероятно, выше ростом, и стройнее) своего комического напарника.
Именно с таким расчетом обычно подбирались и актеры на роли Несчаст-
ливцева и Счастливцева, о чем можно судить по воспоминаниям
современников, театральным рецензиям, фотографиям, продолжающей свое
существование традиции в подборе типажей. Здесь же уместно отметить, что
наибольшим успехом пользовались хорошо скоординированные пары актеров,
подчеркивавшие буффонный характер игры диссонансами внешних
характеристик (ср.: К.Н. Рыбаков - М.П. Садовский; М.И. Писарев или В.П. Дал-
матов - Н.П. Шаповаленко; М.И. Писарев - В.Н. Андреев-Бурлак;
Ю.М. Юрьев - Б.А. Горин-Горяинов; П.М. Садовский - Н.К. Яковлев;
В.Л. Ершов - В.О. Топорков и др.)30. Особенно отмеченной оказывается
внешность «рыжего» буффона: иногда она не просто комична или смешна,
но предполагает какие-либо физические деформации или хотя бы намеки на
294
них. «Я родился с телесным недостатком, я кривобок немного», - говорит
Вася Шумков своему другу и уже с помутившимся сознанием повторяет
почти то же Юлиану Мастаковичу: «Я с телесным недостатком, ваше
превосходительство, слабосилен и мал, не гожусь в службу». Об этом, конечно,
знает и Аркадий Иванович: «Он в эту минуту даже как-то более уважал его, и
известный телесный недостаток Васи, о котором до сих пор еще не знает
читатель (Вася был немного кривобок), вызывавший всегда глубоко любящее
чувство сострадания в добром сердце Аркадия Ивановича, теперь еще более
способствовал к глубокому умилению (...)». В шутливую минуту
«умиленный» Аркадий Иванович обращается к приятелю: «Видишь, Васюк,
косолапый ты мой!». Не очень лестно в конечном счете и авторское описание
внешности Шумкова: «...Вася был не совсем коротенький, но довольно
длинный, только худой». Когда Аркадий Иванович взял Васю на руки и стал
носить по комнате, Вася обижается на то, что «ведь это было в
комическом виде». Незащищенность перед чуждой силой, грозящей увечьем,
знакома и Счастливцеву: «Хорошо трагиком-то! Его тридцать раз за эту сцену
вызывали, публика чуть театр не разломала, а я на всю жизнь калекой
мог быть, немножко Бог помиловал...» (воспоминание о случае на сцене,
когда актер-трагик для вящего эффекта выбросил Счастливцева в окно).
Отмеченная только что незащищенность объединяет Васю Шумкова и
Аркадия Счастливцева в многочисленных эпизодах «вольного» обращения с
ними (пусть даже шутливого) со стороны их приятелей, соответственно Не-
федевича и Несчастливцева. Речь идет о «насильственных» объятиях,
похлопываниях по плечу, шуточной борьбе, мнимых потасовках, которые
воспринимаются «жертвой» как чрезмерные31. Эти типичные буффонадные
ходы весьма характерны для сопоставляемых текстов. Достаточно напомнить
ряд примеров. Ср. в «Слабом сердце»: «Тот (Аркадий Иванович. - В.Т.) как-
то преловко схватил его за руки, повернул, подвернул под себя, и начал, как
говорится, 'душить' жертвочку...»; «Аркаша! Аркаша! да понимаешь ли ты,
что ведь нельзя, никак невозможно! - кричал слабосильный Вася,
выбиваясь из крепких лап своего неприятел я...»; «Аркадий
Иванович... взял молча Васю на руку, как ребенка, ... и преловко
начал носить его из угла в угол по комнате, показывая вид, что его
убаюкивает. - А вот я тебя, жених, с π е л е н а ю...»; «И Аркадий Иванович
бросился к нему снова с объятиями»; «Оба снова бросились в о б ъ я τ и я...»;
«...бросился в постель и начал кувыркаться в ней от восторга»; «Нефедевич
облапил Васю и стиснул в своих львиных объятия х...»; «Аркадий
Иванович хотел прямо броситься Васе на шею...»; «Он вспомнил, как
солидный Аркаша вертел его четверть часа на постели!»; «Вася, брат мой,
что с тобой? что ты? - закричал он, бросаясь к нему и сжимая его в
объятиях»; «Они бросились в последний раз друг другу в объятия
и тяжело сжали друг друга...»32. Несколько иные формы этот прием
получает в «Лесе», что, между прочим, не в последнюю очередь связано с его
драматической формой, в которой описания подобных действий по идее
сильно ограничены или даже вовсе исключены (они скорее относились бы к
ремаркам, краткость которых, однако, также сводит к минимуму
количество примеров)33. Ср. все-таки: «Несчастливцев. ...Положил он мне так
руку на плечо... (С силой опускает руку на плечо Счастливцеву). - С ч а -
295
стливцев (приседая от удара). Ой! Геннадий Демьяныч, батюшка,
помилосердствуйте. Не убивайте! Ей-богу, боюсь. -
Несчастливцев. Ничего, ничего, брат, я легонько, только пример... (Опять
кладет руку). - Счастливцев. Ей-богу, боюсь! Пустите! Меня ведь раз
так-то убили совсем до смерти. - Несчастливцев (берет его за
ворот и держит). Кто? Как? - Счастливцев (жмется)...» - или: «H e -
счастливцев. Удавить тебя34, Аркашка, я так думаю, было бы и для
тебя лучше, и для меня покойнее. - Счастливцев. Удавить! ... -
Несчастливцев. ... Только ты будь осторожней, не болтай лишнего,
за это вашего брата бьют. - Счастливцев. Ну да, бью т...
-Несчастливцев. И очень больно. - Счастливцев. Как же не
бить? (Отходит к кустам)... - Несчастливцев (наступая)... -
Счастливцев (перебегая на другую сторону)... -
Несчастливцев (наступая)... - Счастливцев (отступая). Да будет вам
пугать-то! Я убегу... (Прячется за куст). - Несчастливцев.
Аркашка! Иль тебе твоя гнусная жизнь надоела? Так поди удавись
сам! Не заставляй меня марать руки об тебя! ... Нет, убить, убить, и
кончено дело! ... - Счастливцев (отступая). Ну, да как не убить!
(Из-за куста). Руки коротки (Убегает). - Несчастливце в... О, как
гнусен может быть человек! ... Я только прибью его...» -
Традиционный для буффонады мотив битья (ср. функцию «рыжего») выступает
еще раз в связи со Счастливцевым: «...Я никого не бил.-
Несчастлив ц е в. Так тебя били, кому только не лень было. Ха-ха-ха! И всегда
так бывает: есть люди, которые б ь ю т, и есть люди, которых бьют. Что
лучше, не знаю: у всякого свой вкус. И смеешь ты... - Счастливцев
(отодвигаясь). Ничего я не смею...».
Буффонные истоки обеих пар персонажей в той или иной степени
объясняют и другие черты их, которые, однако, в связи с сопоставительным
аспектом темы имеют меньшее значение. Кроме того, они лишь отчасти
объединяют парных персонажей обоих текстов. Вместе с тем различие жанров
(повесть и комедия) создает неизбежное расхождение между выбором
приемов «буффонады». В «Слабом сердце» акцент ставится на
гипертрофированном описании проявления чувств, создающем впечатление
«издерганности», судорожности, марионеточности героев, вносящем в происходящее
иногда и оттенок карнавальное™35. Время от времени кое-что подобное
проскальзывает и в тексте «Леса»36, но все-таки основной способ
представления чувств в этой пьесе иной; он состоит в «театрализации» чувств:
актеры не просто действующие лица, но они «ломают комедию» внутри
комедии, и грань между «театральным» и «бытовым» не всегда достаточно
четко различима - тем более, что эти две сферы и в принципе оказываются не
всегда разделенными; «бытовое» содержание как бы все время ищет себе
подходящие к случаю «театральные» стереотипы его выражения в
действиях актерской пары. Отсюда - обилие «пафосных» фрагментов, не
объявляемые заранее цитаты из других ролей, «розыгрыши», «фокусы» («Как вы
фокусы делаете бесподобно-с!») и «вольты» («Несчастливцев.
Вольт, братец! - Буланов. Научите меня вольты делать!»).
Но буффонно-комическое в пределах каждого произведения не всегда
отделимо от «серьезного». Точно так же схождения между двумя текстами в
296
том, что касается парных персонажей, как бы не признают слишком
строгого разделения сфер комического и серьезного. Общие элементы в каждом
из текстов могут быть по-разному мотивированы, играть не вполне сходные
роли, наконец, представлять разные «модальности». Тем не менее, при
сопоставлении, бесспорно, целесообразен выбор и такого масштаба (или точки
зрения), при котором соотносимые элементы выступают как своего рода
характерологические, мотивные или композиционные индексы. При
сознательном заимствовании или наличии какого-либо рода «реакции»
(отклика) одного текста на другой эти структурные индексы
приобретают еще одну функцию - указание на «цитатность», понимаемую в
самом широком смысле, на некую умышленность и нарочитость
(неслучайность - как минимум) совпадений. Понятно, что сам вопрос о
«сознательности», «умышленности» и т.п. решается в зависимости от количества и
характера совпадений между сопоставляемыми текстами. Именно поэтому в
ряде ситуаций поиск возможных схождений должен предшествовать
заключениям о случайном или неслучайном их характере. В случае
рассматриваемых здесь двух текстов наличие общего исходного ядра, с которого,
собственно, и началось их сопоставление, и ряда сходных мотивов, отмеченных выше,
создает некоторые «психологически» благоприятные условия для поиска
других общих элементов - «индексов». Не беря на себя ответственности
окончательного определения характера этих совпадений, исследователь не
может взять на себя и другой, так сказать, «отрицательной»
ответственности утверждать случайность совпадений, т.е. отрицать полностью
их значимость при параллельном исследовании сопоставляемых
текстов. Как бы то ни было, но учет подобных совпадений необходим при
условии, что сопоставления дифференцированы и «взвешены», т.е.
отделены от неизбежных схождений, обязанных своим происхождением общим
языковым клише или общему субстрату («внеположенный» мир),
разыгрываемому в текстах, и проанализированы с точки зрения их места в
структуре художественного целого.
Отмеченные выше совпадения между «Слабым сердцем» и «Лесом»,
реализуемые в той сфере, которая «принадлежит» парным персонажам, могут
быть продолжены рядом других параллелей. Одна из них существенна еще
и потому, что сходные элементы занимают важное место в композиции
обоих произведений и в развитии перипетии. Речь идет о мотиве внезапной (ех
abrupto) встречи - «нос к носу» - двух парных персонажей, движущихся в
противоположном направлении (в «низком» варианте ср.: выход с
противоположных сторон на сцену двух клоунов). В «Лесе» этот мотив вводит в
игру Несчастливцева и Счастливцева (второе явление второго действия).
Ремарка подчеркивает разнонаправленность движения: «С правой
стороны из глубины показывается Несчастливце в... В то же время
с другой стороны показывается Счастливцев»; далее следует
опознание героев и направления их движений (игра сходства и различия в
этом узле пьесы, собственно, и удостоверяет соотнесенность персонажей
друг с другом именно как пары, причем пары буффонного типа):
«Несчастливцев (мрачно). Аркашка! - Счастливцев. Я, Геннадий Демь-
яныч. Как есть весь тут. -Несчастливцев. Куда и откуда?-
Счастливцев. Из Вологды в Керчь-с, Геннадий Демьяныч. А вы-с? -
297
Несчастливцев. Из Керчи в Вологду...»37. Сходный эпизод
появляется и в «Слабом сердце». Он занимает очень важное место в развитии темы:
удрученность Аркадия Ивановича состоянием своего друга достигла
предела: «Что с ним делается?» - подумал он. Аркадий Иванович, взыгравший
еще недавно надеждой, вышел расстроенный. Действительно,
приготовлялась беда; но где? но какая?»; «В Коломну он приехал с мрачными мыслями,
был рассеян сначала, но, поговорив с Лизанькой, вышел со слезами на
глазах, потому что решительно испугался за Васю»; далее Аркадий
отправляется из Коломны на Петербургскую сторону и
встречается на Неве (она дважды выступает в повести как сценическое
пространство, на котором разыгрываются главные события, возникают решающие
мысли, наступает прозрение) с Васей Шумковым, который направляется с
Петербургской стороны в Коломн у38: «Домой он
пустился бегом и на Неве носом к носу столкнулся с Шумковым.
Тот тоже бежал. - Куда ты? - закричал Аркадий Иванович. Вася
остановился, как пойманный в преступлении. - Я, брат, так; я прогуляться
хотел. - Не утерпел, в Коломну шел? Ах, Вася, Вася!... Вася не отвечал, но
потом махнул рукой и сказал: - Аркадий! я не знаю, что со мной делается! я...».
Именно с этой встречи Аркадию Ивановичу стал ясен масштаб беды,
обрушившейся на его друга.
Другое частное схождение (мотив фрака) выигрывает в своей
доказательности близкой формой выражения в обоих текстах и «топологическим»
совпадением (в самом начале темы парных героев). При этом в обоих
случаях несоответствие героя фраку используется для комического эффекта.
Сразу же после процитированной сцены встречи двух актеров в
продолжение только что начатого диалога вводится тема фрака
«Несчастливцев. ... Жаль, фрака нет; был φ ρ а к, да я его в Кишиневе на костюм
Гамлета выменял. - Счастливцев. Да на что же вам
фрак?- Несчастливцев. Как ты еще глуп, Аркашка, как погляжу
я на тебя! Ну, приду я теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в Тверь,
поступлю в труппу, - должен я к губернатору явиться, к полицеймейстеру,
по городу визиты сделать!...». В «Слабом сердце», также в экспозиции,
происходит нечто подобное. «- Аркаша, Аркаша, что ты делаешь? Пусти, ради
Бога, пусти, я фрак замараю!... - Нужды нет; зачем тебе
фрак? ... Говори, куда ходил, где обедал? ... - Да ты прежде пусти. - Так
ведь нет же, не пущу, пока не расскажешь! ...». Далее Вася рассказывает,
зачем нужен фрак («- Ну, я помолвил жениться!»). Характерна, как
и в предыдущем соответствии, перекличка, опирающаяся не только на тему
параллельных фрагментов, но и на вопросы (Куда и откуда? - Куда ты?; Да
на что же вам...? - зачем тебе...?).
В счастливую минуту, когда соотносимым «малым» персонажам
сопоставляемых пар кажется, что они наверху блаженства и перед ним отны-
н е открывается беззаботно-счастливая жизнь, они сходным образом
формулируют свою предназначенность («рожденность») именно для такой
жизни, а не той, которую они вели до сих пор. Узнав, что теперь в
распоряжении у обоих много денег, -«Счастливцев. Геннадий Демьяныч,
бесподобно! Ах, бесподобно! Уж как я комфорт люблю, кабы вы
знали ... я, знаете, Геннадий Демьяныч, рожден для такой жизни.
298
А бедность что! В бедности-то всякий жить умеет; нет, ты умей прожить
деньги с эффектом... Вот жизнь, Геннадий Демьяныч! Вот это я
понимаю...» - О том же (хотя, естественно, без цинизма) кричит и Вася, также,
однако, несколько теряя чувство меры: «Я вивер, Аркаша, я рожден
быть вивером, - кричал Вася, хохоча, заливаясь неслышным смехом,
мелким, нервическим смехом... Аркадий, я так счастлив, так
счастлив! ...». И Вася, как и Счастливцев, тут же, по контрасту,
обращается к теме бедности, хотя делает из этого сопоставления совершенно иные
выводы - о недостойности такого счастья. Ср.: «Мое сердце так полно, так
полно! Аркаша! Я недостоин этого счастья! Я слышу, я чувствую это. За что
мне, - говорил он голосом, полным заглушённых рыданий, что я сделал
такое, скажи мне! Посмотри, сколько людей, сколько слез, сколько горя,
сколько будничной жизни без праздника! А я! ... Я родился из низкого
звания, теперь чин у меня и независимый доход - жалованье...».
В ту же счастливую минуту строятся сходные в обоих случаях иллюзии
«жизни втроем» - двух друзей и молодой женщины, «новой жизни» -
счастливой, но трудовой и достойной. В «Лесе» Несчастливцев мечтает о конце
старой жизни и начале новой для своей сестры Аксюши, Счастлив-цева и
себя. - «Забудь это горе, брось эту жизнь! Начнем новую, сестра, для славы,
для искусства» (шестое явление четвертого действия), но все - и очень
скоро - кончается неудачей. В «Слабом сердце» иллюзии рушатся так же
скоро, хотя они были не менее радужны и высказывались с не меньшей
горячностью. «- Мы будем втроем как один человек!» (...) «Ты угадал меня,
Вася, - сказал Аркадий Иванович, - да! я люблю ее так, как тебя; это будет и
мой ангел, так же как твой, затем что на меня ваше счастье прольется, и
меня пригреет оно. Это будет и моя хозяйка, Вася; в ее руках будет счастье
мое; пусть хозяйничает как с тобою, так и со мной. Да, дружба к тебе,
дружба к ней; вы у меня нераздельны теперь; только у меня будет два такие
существа, как ты, вместо одного...»39. И дальше строятся планы конкретного,
в деталях, устройства этой жизни40 - предельная забота о входящей в жизнь
этой пары женщины и полное честного труда существование. Ср.: «Аркадий
Иванович ... теперь же, тотчас пустился и в мечтания самые веселые, самые
свежие, самые радужные! "Как я буду хранить вас обоих,
лелеять вас... я, Вася, буду у тебя всех детей крестить, всех до
единого ... денег достанет; чего! ... Все для нее! Ух, как будем
работать! ... мы будем прилежно служить, у! как работать,
как волы землю пахать! (...)"». Примерно то же в подобной ситуации
говорит Несчастливцев: «Ты будешь моею гордостью, моею славой. А я буду
тебе отцом, дитя мое, буду твоей нянькой, твоей горничной (...)»41 или «Ну,
Аркадий ... теперь опять за работ у!». Ср. продолжающие эту тему
мотивы дружества, взаимной поддержки, совместного пути. Рельефно
представленные в «Слабом сердце» («Вот мой лучший друг (...)»; постоянное
обращение «брат», «брат мой»; «Дай мйе пожать тебе ρ у к у» и т.п., помимо уже
названного), эти мотивы неотделимы от отношений двух актеров в «Лесе».
Ср. симметрично расположенный дважды повторенный призыв Несчаст-
ливцева - сначала комически (когда после встречи они направляются «в
усадьбу 'Пеньки', помещицы г-жи Гурмыжской»): «Туда ведет меня мой
жалкий жребий. Руку, товарищ», а потом всерьез в финальной фразе всей
299
пьесы: «Р у к у, товарищ!» с ремаркой Подает руку Снастливцеву и
медленно удаляется (ср. также не раз употребляемые Несчастливцевым
обращения и обозначения Счастливцева - «брат», «братец», «друг мой»,
«товарищ» и т.п.).
Эта тема дружества, чаяния честной, счастливой жизни развертывается
на фоне препятствий, того, что враждебно обеим парам персонажей. В
одном случае это «мир сильных», «мир раззолоченных палат», мир Юлианов
Мастаковичей, как прозревает в своем фантастическом видении Аркадий
Иванович, когда бедному Васе уже нельзя помочь. В другом случае это лес
(«Аркадий, нас гонят. И в самом деле, брат Аркадий, зачем мы зашли, как
мы попали в этот лес, в этот сыр-дремучий бор? Зачем мы, братец,
спугнули сов и филинов? ... Тут все в порядке, братец, как в лесу быть следует...»)42,
это мир Гурмыжских. Прозрение Нефедевича и Несчастливцева (этот
мотив также объединяет оба текста) наступает не сразу, и оба автора спешат
задернуть занавес. И все-таки и в одном и в другом финале тема бунта
как возможного выхода из ситуации носится в воздухе, напрашивается,
провоцирует, хотя в каждом случае несколько по-разному. В одном случае о
возникновении идеи бунта можно догадываться - «Он вздрогнул, и сердце
его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг
вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе не знакомого ему
ощущения. Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего
сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастия Вася. Губы его
задрожали, глаза вспыхнули, он побледнел и как будто прозрел во что-то новое в эту
минуту...». В другом случае речь идет скорее о псевдобунте, облеченном в
иронически сниженные тона шиллеровской фразеологии... Но характерно
другое: подозрение в бунтовщичестве преследует Несчастливцева задолго
до финальной сцены, где происходит его разрыв с «лесом». Показательно
свидетельство (конечно, не без иронии и с учетом адресата) обиженного
Счастливцева о своем напарнике в разговоре с Улитой: «Самой низкой
души человек! ... Он убьет кого-нибудь, с ним в острог попадешь. Вся ухватка-
то разбойничья, Пугачев живой». И сам Несчастливцев
вынужден оправдываться от «правдоподобных» обвинений - перед Булановым
(«я ведь не разбойник») и перед Гурмыжской («Да чего вы боитесь? Я ведь
не Стенька Разин»); ср. «пугачевскую» тему Достоевского, вскрытую
недавно в его ранних произведениях (не говоря уж о более общей теме бунта).
Рассмотренные до сих пор совпадения и переклички достаточно весомы
и сами по себе и относительно общего объема каждого из текстов (в
принципе - небольшого). Кроме того, они специфичны, поскольку касаются
того, что является деталями по отношению к общему ядру. В этом
смысле и было выше сказано, что переклички этого рода уже исходной схемы.
Но есть и другая сфера, совпадения внутри которой не являются
специфическими и, следовательно, представляют собой неблагодарный материал для
поиска влияний, отражений, заимствований. Тем не менее, эта более
широкая, чем исходная схема, сфера заслуживает особого внимания,
поскольку только в зависимости от ее характера может быть решен в
принципе вопрос о случайности или неслучайности частных перекличек, когда у
исследователя нет более точных и надежных способов фиксации
сознательной связи между данными элементами двух текстов. Более «широ-
300
кая» сфера характеризует уровень высших смыслов текста, его наиболее
общего замысла. От соотносимости (и, следовательно, выводимости) этих
«макроструктур» текста с параллельными деталями, служащими основой для
вычленения перекличек, зависит целесообразность или нецелесообразность
включения частных перекличек в более высокий уровень анализа и
соответственно «просвечивания» их с точки зрения высших инстанций,
определяющих смысл всего того в тексте, что лежит ниже их. Только при наличии
этого «высокого» параллелизма и возможности выведения из него частных
параллелей на более низких уровнях эти частные и специфические общие
сравниваемым текстам элементы могут рассматриваться как проводники и
трансформаторы высших смыслов текста.
Можно полагать, что, помимо отмеченных перекличек, между двумя
сравниваемыми текстами существует и тот «высокий» параллелизм, о
котором только что говорилось. В рассматриваемых произведениях
Достоевского и Островского за теми аспектами, на которые ориентируются их
названия («Слабое сердце» и «Лес»), стоит нечто более важное и как бы
первичное по отношению к объявленным в заглавии аспектам. И оно тоже
является общим в этих двух текстах, какими бы значительными ни были
расхождения во всем остальном. Речь идет о теме счастья, о самой идее его.
Повесть Достоевского в этом отношении особенно показательна. Как
известно, в ней рассказывается об одном маленьком человеке, чиновнике
Васе Шумкове, «слабом с е ρ д ц е», по слову автора, и не просто о
«слабом сердце», а о том, как оно не выдержало испытания счастьем и,
боясь поверить ему в тот момент, когда оно уже становилось реальностью,
предпочло, вопреки очевидности, исходить из несуществующего иначе как в
больном воображении несчастья, в которое в конечном счете
обернулась простая озабоченность. Помутившееся сознание Васи Шумкова (а если
говорить точнее - та душевная конструкция его, которая определяется
«слабым сердцем» во всей полноте его замыслов и надежд и во всей его
незащищенности), не выдержав полноты открывающегося перед ним счастья,
провоцирует мнимую ситуацию провала этого счастья, беды, и этот призрак
для Васи Шумкова оказывается могущественнее самой реальности,
начинающей покорно служить мнимости. Разумеется, реально само задание,
поставленное Васе его начальником Юлианом Мастаковичем, - переписка
рукописи, но оно не непомерно, оно выполнимо (во всяком случае такие задания
уже когда-то выполнялись), и в этом смысле оно не более чем обидная
отсрочка счастью в его чистой и незамутненной форме. Само невыполнение
большой, но посильной работы, завершение которой должно бы было
стимулироваться сознанием, что это последняя задержка на пути к
полному счастью, браку с Лизой, отражает глубинную установку Васиной души
на несчастье как силу большую, чем счастье, которого он не достоин,
более исконную и вездесущую. Оно, несчастье, - до счастья, за счастьем и
после счастья. Самое драматическое в том, что наиболее явно, открыто
и жестоко оно показывает свой лик в момент наибольшей полноты счастья.
Бедное сердце Васи оказывается «слабым», потому что оно при
доброте и открытости навстречу счастью других, еще и ничем не защищено. Это
сердце еще и совестливое, и оно не может беззаботно отдаться счастью,
вместить его только в себя. Из объяснений Васи Аркадию Ивановичу, пре-
301
рывистых и сбивчивых во всем, кроме абсолютной верности нравственного
начала, вырисовываются две причины этой невозможности принять счастье
до конца и полностью - людское горе вокруг и «мечтательный» характер
Васиной доброты (отсутствие в нем той активной доброты, которая
облегчила бы людям их горе). «Я недостоин этого счастия! Я слышу43, я
чувствую это. За что мне, - говорил он голосом, полным заглушённых
рыданий, - что я сделал такое, скажи мне! Посмотри, сколько людей, сколько
слез, сколько горя, сколько будничной жизни без праздника! А я!» и позже:
«Видишь ли, вот что мне сказать хочется. Мне кажется, не знал себя
прежде, - да! да и других тоже вчера только узнал. Я, брат, не чувствовал, не
ценил вполне. Сердце ... во мне было черство ... Слушай, как это случилось,
что никому-то, никому я не сделал добра на свете, потому что сделать не
мог, - даже и видом-то я неприятен... А всякий-то мне делал добро! ...».
В этот критический для Васи Шумкова момент нравственного выбора (а
реальность этого выбора несомненна и, главное, он был сделан не под влиянием
помутнения сознания44, а до этого; более того, случившееся несчастье
скорее всего само было спровоцировано этим выбором) Аркадий Иванович
дважды пытается объяснить причины случившейся с его другом перемены -
себе и самому Васе. В первом случае, по мнению Аркадия Ивановича, «дело
было в том ... что Вася чувствует себя виноватым сам пред собою,
чувствует себя неблагодарным к судьбе, что Вася подавлен, потрясен счастием
и считает себя недостойным...». В другом случае он более подробно и с
большим проникновением вскрывает анатомию «слабого сердца», выводя из его
особенностей весь круг нравственных идей Васи и сам их характер. -
«Видишь, я понимаю тебя: я знаю, что в тебе происходит. Ведь уж мы пять лет
вместе живем, слава Богу! Ты добрый, нежный такой, но слабый,
непростительно слабы й... Ты, кроме того, и мечтатель, а ведь это
тоже нехорошо: свихнуться, брат, можно! Послушай, ведь я знаю, чего тебе
хочется! ... Но уж ты меня не оспоришь и не откажешь мне думать, что ты
бы желал, чтоб не было даже и несчастных на земле, когда ты
женишься... Да, брат, ты уж согласись, что тебе бы хотелось, чтоб у меня,
например, твоего лучшего друга, стало вдруг тысяч сто капитала, чтоб все
враги, какие ни есть на свете, вдруг бы, ни с того ни с сего, помирились, чтоб
все они обнялись среди улицы от радости и потом сюда к тебе на квартиру,
пожалуй, в гости пришли. Друг мой! милый мой! я не смеюсь, это так; ты уж
давно мне все почти такое же в разных видах представлял. Потому что ты
с ч а с τ л и в, ты хочешь, чтоб все, решительно все сделались разом
счастливыми. Тебе больно, тяжело одному быть счастливым!
Поэтому ты хочешь сейчас всеми силами быть достойным этого счастья и,
пожалуй, для очистки совести сделать подвиг какой-нибудь! ... Тебе больно
думать... - и в какую минуту! Когда у тебя радостью переполнено сердце и
когда ты не знаешь, на кого излить свою благодарность... Ведь так, не
правда ли? Ведь так?». - И здесь Аркадий Иванович оказывается аналитиком
души, по сути дела, равным своему создателю. Он приоткрывает завесу над
тем, что сердце Васи не только слабое, но и доброе, благородное,
любвеобильное, готовое к жертве45. Собственно говоря, нравственная высота и
делает его уязвимым, незащищенным перед злом, которого сам Вася не видит:
его нравственному взгляду предносится г о ρ е, но не зло как активное,
302
но незримое начало, творящее зримое горе. Поэтому Вася Шумков, по
убеждению его автора, не может достичь счастья.
Приятель и сожитель Васи Аркадий Иванович Нефедевич, потрясенный
крушением надежд на счастье у своего бедного друга, кажется, начинает
вырабатывать новый взгляд на то, как достичь счастья и удержать его,
может быть даже - как стать счастливым не только самому, но и сделать
других счастливыми. Впрочем, читателю остается гадать о подлинных
мыслях Аркадия Ивановича46, стараясь соединить его туманную грезу,
возникшую в минуту озарения, и трагическую страницу из вполне реальной
биографии автора, пытавшегося, видимо, провести в жизнь идею своего героя и
потерпевшего на этом пути полное поражение. Тем не менее, нет никаких
оснований удивляться тому исключительному месту, которое тема
счастья и путей к нему занимает в «Слабом сердце». Сама эта повесть не
была первым подступом к теме. Так или иначе, в разных видах она
присутствует и в Бедных людях, и в Двойнике (где, как и в Слабом сердце, к ней
присоединяется тема смещенного сознания), и в «Господине Прохарчине» (где
также обрисовывается тема возможности бунта), и даже в «Пол-
зункове» (где счастье дано в варианте удачи, оборачивающейся
неудачей). Но нигде у Достоевского тема счастья так не подчеркнута, как в
«Слабом сердце», - идейно-тематически, сюжетно, в самом языке повести,
где слова счастье, счастливый, счастливить нередко звучат как
заклинание. Катастрофа души, не вынесшей счастья, обращает героев повести к
этом теме, к вопросу о пути к счастью, к разговорам о нем, к уяснению
своей собственной позиции перед лицом счастья. «Слабое сердце» собственно,
и начинается (сразу же после экспозиции) с объявления счастья:
«- Я шел к тебе как к другу, с полным сердцем, излить перед тобой свою
душу, рассказать тебе мое с ч а с τ ь е... - Да какое же счастье? что ж ты
не говоришь? ... Ну, да я женюсь-то...». И далее все пронизано
предвкушением счастья, желанием его, развертыванием представлений о его конкретных
формах, мечтами о не менее чем всеобщем распространении счастья (по
крайней мере, «чтоб не было даже и несчастных на земле)47. Захва-
ченность идеей счастья заставляет предстоящее и чаемое переживать как
актуально совершающееся, и до поры как бы не остается возможности
подумать о противоположном счастью. Оно возникает позже и
приходит не извне, а изнутри самого счастья, когда мысль и чувство
совместно выводят образ гипертрофированного счастья как идеальной
всеобщей причастности ему, слишком далеко отошедший от действительности, от
злобы дня. Резкость этого расхождения обращает Васю Шумкова к мыслям
о том, что противоположно счастью, - о горе, беде, бедности, нужде и
делает для него невозможной идею личного счастья, счастья в одиночку, счастья
среди несчастья (в определенном смысле именно в «Слабом сердце»
опробуется первый вариант идеи «возвращения билета», столь ярко выраженной в
Братьях Карамазовых). Во всяком случае именно такая конструкция
восстанавливается по существу ис достаточной надежностью, если снять
верхний слой «анекдотического», который активно проявляет себя,
впрочем, главным образом в мотивировках «крушения» счастья.
Многое в деталях развертывания стержневой темы счастья становится
ясным уже из демонстрации соответствующих примеров, прошивающих
303
весь текст «Слабого сердца». Помимо цитаты с «объявлением» счастья,
приведенной несколько ранее, ср. - «Оба в радостном волнении смотрели друг
на друга. - Кто она, Вася? - Артемьевы! - произнес Вася расслабленным от
счастья голосом» (к расслабляющему эффекту счастья и - шире - к
связи счастья и слабости); - «Ну, будь счастлив, будь счастлив!
... - Брат, теперь так сладко в сердце, так легко на душе Мы будем жить
бедно, конечно, но счастливы будем; и ведь это не химера; наше с ч а -
с τ ь е-то ведь не из книжки сказано: ведь это на деле счастливы мы
будем!...» ... так что по одной походке его уже можно было видеть всю его
радость о благополучии все более и более счастливого Васи... Аркадию
Ивановичу даже хотелось заплакать от с ч а с τ и я...»; «...черноглазая
француженка ...сделалась так же весела и счастлива, как они сами, даже
счастливе е...»; «да! вы угадали и достойны счастия, которое вас
ожидает»; «Аркадий, я так счастлив, так счастлив!... - Васенька!
как я-то счастлив, голубчик мой!... Мое сердце так полно, так полно!
Аркаша! Я недостоин этого счастия! ...»; «Аркадий! ты так
счастливишь меня дружбой своею!»; «И кому ж это лучше поверить, как не
самому счастливчику Васе!»; «это будет и мой ангел, так же как твой,
затем что и на меня ваше счастие прольется, и меня пригреет оно. Это
будет и моя хозяйка, Вася; в ее руках будет счастие мое»; «кончай!
кончай, брат, скорее! и потом опять на вечер, и потом оба счастлив ы»;
«Вася, ты счастливейший смертный!»; «Мальчик... вышел
счастлив ы й и резвый по-прежнему»; «Это счастье перевернуло тебя»; «ты
отсчастьяиот благодарности удвоил ревность...»; «Только теперь,
когда счастье настает для меня, я очнулся»; «Но уж ты меня не оспоришь
и не откажешь мне думать, что ты бы желал, чтоб не было даже инесча-
стных на земле, когда ты женишься... Потому что ты с ч а с τ л и в, ты
хочешь, чтоб все, решительно все сделались разом счастливыми.
Тебе больно, тяжело одному быть счастливым! Поэтому ты хочешь
сейчас всеми силами быть достойным этого с ч а с τ ь я...»; «...а я никогда еще
и не был так спокоен и с ч а с τ л и в!»; «Это только показывает, что ты
достоин своего счастия»; «Нет, я сгублю свое с ч а с τ ь е!»; «...Вася
подавлен, потрясен счастиеми считает себя его недостойным ....»; «Куда? где?
куда побежит несчастны й?» - подумал Аркадий; - «... и узнал, отчего
сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастия Вася»; «Лиза
сказала, что она, слава Богу, счастлива, что она не бедна...»48.
Здесь нет необходимости подробно обосновывать, что тема
счастья - несчастья основная и для комедии Островского. В «Лесе»
счастья ищут и Аксюша, и Петр Восьмибратов, и Гурмыжская, и Буланов, и
Несчастливцев, и Счастливцев. Разумеется, это счастье понимается всеми
по-разному, и чаще всего в невысоком или даже просто низменном плане.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что все «искатели» счастья
находят его - каждый по своей мерке, кроме двоих - Счастливцева и Несча-
стливцева, именно той пары, которая и разыгрывает тему счастья и
несчастья - и водевильно (ср. семантику фамилий и описанные выше приемы
буффонады), и всерьез. В этом последнем («серьезном») плане сходным с
ситуацией «Слабого сердца» оказывается мотив несостоявшегося
счастья и даже отказа от него (ср. многочисленные благодея-
304
ния - услуги Несчастливцева Гурмыжской, купцу Восьмибратову, его сыну
Петру и Аксюше и др., лишающие Несчастливцева и его приятеля плодов
удачных действий первого из них) - и тоже во имя благородной идеи. Не
следует настаивать на какой-либо историко-литературной зависимости этих
двух сходных конструкций, но само это сходство существует49. Сами же
сходные мотивы счастья и несчастья развертываются с известными
различиями. В одном случае - счастье, оканчивающееся несчастьем, которое
заставляет оставшегося в одиночестве героя искать новый путь к счастью. В
другом - карнавальная мена счастья и несчастья, воплощенная в образе
«счастливых несчастливцев» или «несчастливых счастливцев»50. Это
сходство на уровне «высших» смыслов небезразлично и при оценке более частных
перекличек между обоими текстами, отмеченных выше.
Разумеется, подобные схождения между двумя произведениями,
имеющие самодовлеющее значение при типологическом исследовании,
лишаются этой внутренней независимости при историко-литературном
исследовании проблемы, требующем «реальных» объяснений отмеченным
схождениям. К сожалению, связи Достоевского и Островского изучены
недостаточно, хотя пути этих двух писателей в течение трех с лишним
десятилетий не раз пересекались. Известно их сотрудничество в одних и тех же
изданиях (в частности, участие Островского во «Времени»), известна их
переписка, известны неоднократные и очень высокие оценки Достоевским
творчества Островского51; наконец, известны очень вероятные примеры
усвоения образов или ходов Островского в произведениях Достоевского52. Вопрос
0 возможном воздействии в обратном направлении, кажется, практически
не ставился. От его решения во многом зависит ответ на вопрос о χ а р а к -
τ е ρ е тех перекличек, которым посвящена эта статья.
1 «Слабое сердце» цитируется по изданию: Достоевский Ф.М. Поли., собр. соч.: В 30 т.
(далее - ПСС). 1972. Т. 2. С. 16-48; «Лес» - по изданию: Островский Л.Н. Поли. собр.
соч. М., 1950. Т. VI. С. 7-95.
2 Геннадием называет Несчастливцева только его тетка Гурмыжская. Это же имя в
сочетании с подлинной фамилией выступает в сцене самопредставления в конце пьесы
(Несчастливцев (Милонову). Честь имею рекомендоваться: Геннадий Гур-
мыжский. (Бодаеву). Гурмыжский, Геннадий!), а в сочетании со сценической
фамилией и в авторском списке действующих лиц.
3 Ср.: «Н есчастливцев. Как ты еще глуп, Аркашка, как погляжу я на тебя!;
Несчастливцев. ...Рассказывай еще! Говорю тебе, обрей. А то попадешь мне
под сердитую руку... - Несчастливцев. Ты... тоже! ... Сравнял ты себя со
мной; - Несчастливцев. ... Когда у меня деньги, я кормлю на свой счет двух-
трех таких мерзавцев, как Аркашка...» (говорится в присутствии Счастливцева) и т.п.
4 Ср. ПСС. Т. U.C. 478. Здесь же указан и еще один намек - на насмешки Тургенева и
Некрасова над болезненным самолюбием Достоевского («вследствие неограниченного
своего самолюбия»), о чем свидетельствует ряд документов конца 40-х годов и
воспоминания, появившиеся позже. Известность этих насмешек Достоевскому
подтверждается его письмами брату Михаилу от 1 апреля и 26 ноября 1846 г. и - более скрыто -
некоторыми художественными произведениями (напр., «Господином Прохарчиным»),
о чем уже писалось раньше.
5 Ср., напр., обыгрывание Достоевским распространенной (с легкой руки Гоголя)
манеры именовать героев одним набором ономастических элементов, распределяемых
между именем и отчеством перекрестным образом (тип Кифа Мокиевич и Мока Кифие-
вич, ср. у самого Достоевского Иван Петрович и Петр Иванович в «Романе в девяти
305
письмах»), чем особенно злоупотреблял Я.П. Бутков (ср. Кузьма Терентьевич и
Терентий Кузьмич, Авдей Аполлонович и Аполлон Авдеевич, Евсей Евтеевич и Евтей
Евсеевич). Этот прием пародируется Достоевским уже в Бедных людях (об Иване
Прокофьевиче Жолтопузе, укусившем за ногу Прокофия Ивановича, с явным
намеком на гоголевскую манеру именных инверсий) и более тонко в Идиоте, где Лукьян
Тимофеевич Лебедев рекомендуется князю Мышкину как Тимофей Лукъянович. См.
Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. Саратов, 1975. С. 15, 151-152. Со
временем Достоевский ограничивает и сферу употребления «тавтологических» имен типа
Фома Фомич, Петр Петрович (процентщик, упоминаемый в Бедных людях, Лужин
из Преступления и наказания, но и Клиневич в «Бобке»), о которых см.
Альтман М.С. Указ. соч. С. 171-172.
6 По имени и отчеству Шумкова называют Лиза (в пересказе Васи Шумкова: «Я вас
сама любить готова, Василий Петрович...»), ее брат Петенька (« - Здравствуйте, с
Новым годом вас честь имею поздравить, Василий Петрович») и писарь на службе («В
прихожей остановил его писарь и сказал, что Василий Петрович Шумков приходил,
этак будет в первом часу...»).
7 Всего пять раз, см. ПСС. Т. 2.
8 В авторском пересказе позиции Васи Шумкова, ср.: «Он вспомнил, как солидный Ар-
каша вертел его четверть часа на постели» (ПСС. Т. 2. С. 28).
9 Объяснение этих различий особенностями характера адресанта или адресата в данном
случае справедливо лишь отчасти. Речь идет о том социальном слое, где особенно
чувствительны к способам именования (о чем уже писалось в связи с этой же проблемой
в «Господине Прохарчине»). Характерно отношение Шумкова к обращению к нему
его начальника: «Сегодня Юлиан Мастакович был такой нежный, такой
внимательный, такой вежливый; он со мною редко говорит; подошел: "Ну, что, Вася (ей-богу,
так-таки Васей и назвал), кутить пойдешь на праздниках, а?" (Сам
смеется)».
10 Ср. отчасти: «Я даже скажу более: по моему мнению, это был честнейший и
благороднейший человек в свете, но с маленькою слабостью: сделать подлость по первому
приказанию, добродушно и бескорыстно, лишь бы угодить ближнему. Одним словом, это
был, что называется, человек-тряпка вполне. Всего смешнее было то, что он был одет
почти так же, как все, не хуже, не лучше, чисто, даже с некоторою изысканностью и
с поползновением (-.Ползунков) на солидность и собственное достоинство»
("Ползунков"). - Уместно напомнить, что первоначальное название «Ползункова»
было "Рассказ Плисмылькова" (-.присмыкаться). - Не исключено, что к фамилии
Ползунков следует привлечь и одно многозначительное место из "Хозяйки" (гадание
Мурина Катерине): "У самой голова - змея хитрая... Сама путь найдет, меж бедой
ползком проползет, сбережет волю хитрую!"» (ПСС. Т. 1. С. 308).
11 См. Альтман М.С. Указ. соч. С. 16-19; ср. также ПСС. Т. 2. С. 475-^76.
12 Словарь русских народных говоров. Вып. 3 (Л., 1968). С. 309-311.
13 Как известно, Достоевский собирался закончить рассказ «Ползунков» к 1 января
1848 г., но справился со своей задачей раньше и уже в начале ноября 1847 г. передал
рассказ в редакцию Современника (хотя напечатан он был в Иллюстрированном
альманахе, изданном Панаевым и Некрасовым в 1848 г.). «Слабое сердце» было
опубликовано во втором номере Отечественных записок за 1848 г. и, следовательно, судя по
всему, писалось сразу же после «Ползункова». Некоторая неясность связана со
временем писания рассказа «Чужая жена», напечатанного в π е ρ в о м номере
Отечественных записок за 1848 г. и в дальнейшем вместе с «Ревнивым мужем» (Там же.
1848. № 11) составившего новый рассказ «Чужая жена и муж под кроватью».
14 Кстати, и тот психологический и художественный тип, который отразился в Васе
Шумкове, не был исчерпан «Слабым сердцем». Уже указывалось (см. Кирпотин В.Я.
Ф.М. Достоевский. Творческий путь (1821-1859) (М., 1960). С. 512; Альтман М.С.
Указ. соч. С. 18; ПСС. Т. 2. С. 513) на то, что по сути дела, этот ж*е тип представлен и
«мечтателем» В а с е й из «Дядюшкина сна», обладателем «слабого сердца»,
потерпевшим неудачу в любви к Зине и умершим в молодости. В данном случае характерна
306
связь «мягкого» имени Вася с мотивом «слабого сердца» и личной жизненной
катастрофы, разрушающей любовь. Сходный тип персонажа реконструируется и по
прощальному письму к Александре Михайловне, тайно прочитанному Неточкой
Незвановой.
15 Ср. в «Слабом сердце»: «"Как же это, как же это с ним сделалось?" - говорил Юлиан
Мастакович. - «Отчего же он с ума сошел?» - «От бла-благо-дарно-
с τ и!» - мог только выговорить Аркадий Иванович. Все выслушали его ответ в
недоумении, и всем показалось странным и невероятным: как же это так может из
благодарности сойти с ума человек?» - при мотиве первоапрельского обмана,
оказавшегося в итоге самообманом, в «Ползункове» в результате
каламбурно-ловкого хода другого начальника-«мастака» Федосея Николаевича. В высшей степени
характерным является приурочение в обоих произведениях катастрофы главного
персонажа к отмеченным датам, с которыми в мифо-поэтической (или
каламбурно-анекдотической) традиции связываются ситуации неуверенности, необычных перемен,
инверсии, обмана - к Новому году и к первому апреля.
16 Ср. высказывание Федосея Николаевича о сердце Ползункова: «Может быть,
скромные пенаты мои... согреют, говорит, опять ваше очерств ... не скажу очерствелое, -
заблудшее сердце...». Впрочем, в рассказе говорится и о намерении героя
«подтрунить над родительским сердечком Федосея Николаевича». Но когда
Ползунков раскаялся и упал перед ним на колени, Федосей Николаевич объявил:
«Этого я и ждал от тебя, мой сын, встань... теперь и мое сердце прощает тебя». Ср.
также при игре в фанты: «ох болит! что болит? - с е ρ д ц е; по ком? ...».
17 См. Словарь личных имен у Достоевского, сост. А.Л. Бемом и др. - в кн.: «О
Достоевском». П. Сборник статей. (Прага, 1933). 50 особой пагинации.
18 См. Альтман М.С. Указ. соч. С. 174 и ел. и др.
19 Ср.: «Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и
слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами -
отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую,
волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром
к темно-синему небу. Какая-то странная дума посетила осиротелого товарища
бедного Васи. Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим
ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе незнакомого
ему ощущения. Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего
сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастья Вася. Губы его задрожали, глаза
вспыхнули, он побледнел и как будто прозрел во что-то новое в эту минуту ...».- В
другой связи стоит заметить, что предшествующая этому отрывку картина («Сжатый
воздух дрожал от малейшего звука... подымались и неслись вверх по холодному небу
столпы дыма, сплетаясьи расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые
здания вставали над старыми, новый город складывался в возду-
х е...») перекликается со строфой из известного стихотворения» Баратынского
1829 г.: Чуждый град порой сольется Из летучих облаков; Но лишь ветр
его коснется, Он исчезнет без следов ... - К столпам дыма ср. тютчевское Как
дымный столп светлеет в вышине! (1850), ср. облак дымный («Пошли,
Господь, свою отраду», 1850) и др.
20 Очень показательна в этой связи перекличка фрагментов двух «видений». Ср.:
«Казалось, наконец, что весь этот мир (...) в этот сумеречный час походил на
фантастическую, волшебную г ρ е з у, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнети
искурится π а р о м к темно-синему небу» («Слабое сердце»), но: «Мне сто раз, среди
этого тумана, задавалась странная, но навязчивая г ρ е з а: "А что, как разлетится
этот туман и уйдет к в е ρ χ у, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый
город, подымется с туманом и исчезнет как дым ..."» (Подросток).
21 Отмечено в книге М.С. Альтмана. С. 168.
22 При общей неясности семантики фамилии Нефедевич и круга ее возможных
ассоциаций особое значение могло бы иметь разностороннее расширение соответствующего
контекста. Так, едва ли случайно сочетание имени Аркадий (см. выше о его семанти-
307
ке) с отчеством Макарович (ср. др.-греч. μακάριος «блаженный» и образ «святого»
человека Макара, выступающего как отец Аркадия Долгорукого). Нельзя исключить
возможности подключения к образу Нефедевича другого Аркадия Ивановича - Свид-
ригайлова. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что «своим» именем он
наделяет очень специфический круг персонажей: Федька, денщик (Записки из
Мертвого дома), Федька - палач (там же), Федька каторжный (Бесы), Федор, лакей (Игрок),
Федор, слуга (Идиот), Федор, первый попавшийся. Подросток, Федор Карамазов (ср.
купца Федяева в Преступлении и наказании). См. Словарь личных имен у
Достоевского. С. 72-73. Характерны и приводимые мемуаристом слова отца Достоевского
Михаила Андреевича, обращенные к сыну: «Эй, Федя, уймись, несдобровать тебе (...) быть
тебе под красной шапкой» (см. Достоевский в воспоминаниниях современников. Т. 1.
1964. С. 82). - Наконец, не исключено, что фамилия Нефедевич, хотя бы отчасти,
может мотивироваться на биографическом уровне. Ср., напр., свободомыслящего
преподавателя литературы в пансионе Чермака Н.И. Билевича, который «сделался идолом»
Федора и Михаила Достоевских и «на каждом шаге был ими упоминаем» (по
свидетельству A.M. Достоевского). Разумеется, пока предположения такого рода имеют
целью только очертить в самом общем виде круг возможностей и не более.
23 Нужно подчеркнуть, что последний тип противопоставлений имен чаще всего
встречается в юмористических рассказах, анекдотах, водевилях, чем собственно в
буффонаде.
24 В его характере Несчастливцев готов допустить и шутовское начало: «Да что вы
такое? Оруженосец, паж, что ли, Раисы Павловны? Менестрель? Ну, наконец, скороход,
шут? Говори».
25 К мотивировке этих наименований φ.: Η е с ч а с τ л и в ц е в ... Жаль! Мне
придется тебя учить уму-разуму... Вот что: ты надень сумку через плечо, прицепи на
пуговицу грифельную доску и поди доучиваться».
26 Каламбуры - важная характеристика и других героев-буффонов Достоевского. Ср. в
«Ползункове»: «Только он волею Божию помре, а завещание-то совершить все в
долгий ящик откладывал; оно и вышло так, что ни в каком ящике его не
отыскали потом... - Ух!!! - Ну ничего, нечего делать, господа, простите, обмолвился, -
каламбурчи к-то плох, да это бы еще ничего, что он плох, - шутка-то была еще
плоше, когда я остался, так сказать, с нулем в перспективе, потому что юнкер-то в
отставке - хоть меня в дом к нему и не пускали (на большую ногу жил, затем
что были руки длинны!), - тоже, может быть не ошибкой, родным сыном
считал».
27 Ср. еще: «Аркадий остановился с открытым ртом, потому что не мог
говори τ ь от восторга».
28 Можно напомнить еще об одном примере сочетания имени Аркадий с мотивом
говорения в русской литературе XIX в., вошедшем в поговорку - «О, друг мой,
Аркадий Николаич!... об одном прошу тебя: не говори красиво. -Я говорю,
как умею» (Отцы и дети).
29 Ср.: «С правой стороны из глубины показывается Несчастливцев. Ему лет 35-
ть, но на лицо он гораздо старее, брюнет, с большими усами. Черты резкие, глубокие и
очень подвижные, следы беспокойной и невоздержной жизни. На нем длинное и
широкое парусинное пальто, на голове серая, очень поношенная шляпа с широкими полями,
сапоги русские, большие, в руках толстая, суковатая палка, за спиной небольшой
чемодан, вроде ранца, на ремнях. Он, видимо, утомлен, часто останавливается, вздыхает и
бросает мрачные взгляды исподлобья. В то же время с другой стороны показывается
Счастливцев; ему лет за сорок, лицо как будто нарумяненное, волоса на голове
вроде вытертого меха, усы и эспаньолка тонкие, жидкие, рыжевато-пепельного цвета,
глаза быстрые, выражающие и насмешливость, и робость в одно и то же время. На нем
голубой галстук, коротенький пиджак, коротенькие панталоны в обтяжку, цветные
полусапожки, на голове детский картузик - все очень поношенное, на плече, на палке,
повешено самое легкое люстриновое пальто и узел в цветном платке. Утомлен, переводит
дух и смотрит кругом с улыбкой, не то печальной, не то веселой».
308
30 Характерно, что даже выдающийся актер (ср. СВ. Шумского) не мог полностью
спасти положения, когда его напарник оказывался не совсем соответствующим роли
(Н.Е. Вильде).
31 Иногда, впрочем, эти объятия взаимны и отражают общий восторг, экстаз.
32 Однажды «мощные и жадные объятия» Аркадия Ивановича достались на долю Пети,
младшего брата Васиной невесты.
33 Можно предполагать, что подобные примеры должны эксплицироваться в
сценических постановках на уровне соответствующих жестов в тех или иных частях
словесного текста.
34 Ср. цитированное выше «душить» жертвочку.
35 Ср. насыщенность текста клишированными приемами передачи волнения,
возбуждения, испуга, напр.: «Вася, д ρ о ж а от восторга и от ожидания, показал тетрадку»; «А,
ты здесь? - закричал он, в з д ρ о г н у в от испуга»; «...Аркадий вздрогнул,
когда встретил его. Сердце его задрожалои переполнилось...»; «Вася очнулся.
Губы его дрожали; он хотел что-то выговорить и только молча судорожно
пожимал руку Аркадия»; «...я обливался слезами, и сердце мое дрожал о...»; «... а
я пугаюсь ... смотри, как я д ρ о ж у теперь»; - «На него столбняк нашел!» - подумал
Аркадий, весь д ρ о ж а от испуга; «Это так, это минутное!» - говорил про себя, весь
бледный, сдрожащими, посинелыми губами; «Куда? где? куда побежит
несчастный?» - подумал Аркадий, леденея от ужаса; «Лизанька, вся д ρ о ж а от испуга,
начала расспрашивать о случившемся»; «Он был бледен как полотно, дрожал всем
телом...»; «Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение
горячим ключом крови ... Губы его задрожали, глаза вспыхнули, он побледнел...».
Ср. также несколько иные способы передачи чрезмерного чувства: «а Вася был
потрясен до глубины души его словами»; - «Казалось, какая-то тяжкая идея оледенила
его пылавшую голову; казалось, все сердце его сжалось»; «И из чего этот человек
способен поднять трагедию! Экая горячка какая!»; «Горячие слезы
брызнули из глаз Аркадия»; «...сердце его как будто облилось горячим ключом крови» и
т.п. Мать невесты «изъявила некоторые опасения насчет особенной
пылкости его (Васи. - В. Т.) характера».
36 Ср. изображение несколько картинного испуга Счастливцева перед своим приятелем,
отливающегося в формы водевильного типа, а также периферийные случаи (напр.,
Улита. ... Как услыхала я, так всю в ужас ударило, и так даже по всем членам
трясение).
37 С продолжением, задающим «комически-водевильную модальность»: «...Ты
пешком? -Счастливцев. На своих-с, Геннадий Демьяныч {Полузаискивающим,
полунасмешливым тоном). А вы-с, Геннадий Демьяныч? -Несчастливцев
{густым басом). В карете». - Разумеется, «Куда и откуда?» Несчастливцева - типичная
формула «встречи», когда акцент ставится не столько на «вызнавании пути», сколько
на вежливом приветствии. Подобная традиция и соответствующая формула
достаточно почтенного возраста. Ср. платоновский Федр: Сократ. Милый Федр, куда и
откуда? (первая фраза диалога и всего текста).
38 До этого, когда все было хорошо, Вася и Аркадий Иванович проделывали оба этих
пути в м е с τ е, в согласии и радостном возбуждении.
39 Ср. еще: «...будем жить вместе. Нет! я с тобой ни за что не расстанусь» и далее: «Мы
будем жить бедно, конечно, но счастливы будем; и ведь это не химера».
40 Как решение вопроса - «Ты прости меня, ты разреши мои сомнения. Чем же ты жить
будешь?... но - чем ты жить будешь? а? ...».
41 Близкий ход и в сцене Несчастливцева с Гурмыжской: «Я сделаюсь
идолопоклонником, я буду молиться на тебя!».
42 Ср. также использование образа леса в реплике Карпа, имеющей в виду
Счастливцева: «Вот так камардин. Да и то сказать - образование, а здесь что? Одно слово: л е с».
43 Это «слышу» дает основание думать, что верность Васи Шумкова нравственному
началу сродни абсолютному музыкальному слуху.
44 «Слабость» сердца повлекла за собой и помутнение рассудка, ума.
309
45 Тема сердца, как и тема счастья, сквозная в повести. Ср. в порядке следования: «Я шел
к тебе как к другу, с полным сердцем, излить перед тобой свою душу,
рассказать тебе мое счастие...»; «Я иду к тебе с такою радостью, с восторгом душевным, и
вдруг всю радость сердца, весь этот восторг я должен был открыть... теряя
достоинство»; «Ведь ты знаешь, отчего это все, - оттого, что у меня доброе
сердце. Вот мне и досадно, что я не мог сказать тебе, как хотел, обрадовать, при-
несть удовольствие...»; «Брат, теперь так сладко в сердце, так легко на душе... -
сказал Вася...»; «ты с таким убитым видом смотришь, что у меня вся внутренность
ворочается, сердце болит!»; «ведь я сердца сносить не мог...»; «...плутовски
схитрив в умилении своего сердца пред Аркашей»; «Мое сердце так
полно, так полно!»; «Право, мне иногда даже совестно за излишнюю восторженность
Васи; она, конечно, означает доброе сердце, но... неловко, нехорошо!»;
«Казалось, какая-то тяжкая идея оледенила его пылавшую голову; казалось, все сердце
его сжалось»; «У меня сердце болело, я мучился... неизвестностью ...»; Тебе
больно... - и в какую минуту! Когда у тебя радостью переполнено
сердце и когда ты не знаешь, на кого излить свою благодарность...»; «Знаешь ли,
что сколько раз я, особенно ложась спать и думая об тебе (потому что и всегда думаю
об тебе, когда засыпаю), я обливался слезами, и с е ρ д ц е мое дрожало оттого,
оттого ... Ну, оттого, что ты так любил меня, а я ничем не мог облегчить своего с е ρ д -
ц а, ничем тебя возблагодарить не мог...»; «Я, брат, не чувствовал, не ценил вполне.
С е ρ д ц е... во мне было черство...»; «Он показал на с е ρ д ц е. С ним сделался
обморок»; «Ну, полно, брат, полно, вижу, что у тебя доброе сердце». Но в
повести говорится не только о «слабом сердце» Васи Шумкова. Ср. в связи с Аркадием
Ивановичем: - «...вызывавший всегда глубоко любящее чувство сострадания в
добром сердце Аркадия Ивановича...; «...Аркадий вздрогнул... Сердце его
задрожало и переполнилось...»; «Вася! ... Ты истерзал мое сердце, друг мой, милый
ты мой»; «Это поразило Аркадия, и с е ρ д ц е его изныло от тяжкой, пронзительной
боли»; «Ты же, ты же меня утешаешь, - закричал Аркадий, у которого разрывалось
сердце»; «Жгучая боль захватывала сердце Аркадия ... сердце его
страшно билось»; «Он вздрогнул, и с е ρ д ц е его как будто облилось в это мгновение
горячим ключом крови...». Вообще тема сердца, начавшись и сосредоточившись глубже
всего на образе Васи Шумкова, по ходу повести распространяется все шире и шире,
захватывая практически всех - и Лизу с ее маменькой («уж сердце чувствует, что не
будет»; «а маменька все говорила, что ее с е ρ д ц е, напротив, чувствует, что
непременно будет...»), и маленького Петю («Даже Петя, малютка Петя ... зарыдал во
сколько стало его детского сердц а»), и всех сослуживцев Васи («Тут все, кто ни
были в комнате, все почувствовали, как будто кто-нибудь сжал им с е ρ д ц е...»), и
даже, как думалось Васе, самого Юлиана Мастаковича («А он, Юлиан Мастакович,
великодушен и милосерд ...»; «...а со мной он вчера шутить вздумал, ласкать и
доброе сердце свое, которое перед всеми благоразумно скрывает, открыл
мне...»). То же примерно можно сказать и об эпитете «добрый». Он характеризует не
только Васю («А тут Вася, досадный, несносный, хотя, впрочем, конечно, тот же
милый, добрейший Вася...»; «Ты добрый, нежный такой...» ; «...не совсем
понявший, что сделалось с добрым Васей»), но и мужа Лизы («...муж ее д о б ρ ы й
человек») и даже Юлиана Мастаковича («ведь он такой добры й...»).
46 Особенно важным указанием может быть само «прозрение» Аркадия Ивановича и
сопровождавшее его «доселе незнакомое ему ощущение», что сердце облилось
«горячим ключом крови». Подчеркивается, что само это ощущение было «могучи м».
Сердце, прошедшее через эту кроваво-огненную купель, должно было стать иным -
закаленным, твердым, с и л ь н ы м. В таком случае еще четче обозначился бы
контраст со «слабым сердцем» Васи (как параллель ср. по соседству: «...весь этот мир
со всеми жильцами его, сильны ми и слабым и...»). «Слабость» Васи
Шумкова подчеркивается не раз и в разных отношениях : «... - кричал
слабосильный Вася, выбиваясь из крепких лап своего неприятеля...»; «Он (Аркадий. -
В.Т.) знал слабый, раздражительный характер его»; «Ты добрый, нежный такой,
310
нослабый, непростительно слабы й»; «Я так слаб, так устал, - говорил он
задыхаясь...»; «Довольно! - сказал он слабым голосом, - довольно! полно об этом!»; «Я
с телесным недостатком... слабосилен и мал...». Для понимания образа
«слабого сердца» и того, что ему противопоставлено, особое значение имеют слова Мурина,
обращенные к Катерине («Хозяйка»): «Знать, не ошиблась ты, Катерина! знать,
правду сказало сердечко твое золотое, что один я ему колдун и правды не потаю от
него, простого, нехитрого! Да одного не спознала ты: не мне, колдуну, тебя учить уму-
разуму! Разум не воля для девицы, и слышит всю правду, да словно не знала, не
ведала! У самой голова - змея хитрая, хоть и сердце слезой обливается! Сама путь найдет,
меж бедой ползком проползет, сбережет волю хитрую! Где умом возьмет, а где умом
не возьмет, красой затуманит, черным глазом ум опьянит, - краса силу ломит; и ж е -
лезное сердце, да пополам распадется! Уж и будет ли у тебя печаль со
кручинушкой? Тяжела печаль человеческая! Да на слабое сердце не бывает беды!
Беда с крепким сердцем знакомится, втихомолку кровавой слезой
отливается да на сладкий позор к добрым людям не просится: твое ж горе, девица, словно
след на песке, дождем вымоет, солнцем высушит, буйным ветром снесет, заметет!»
(ПСС. Т. 1.С. 308-309). Ср. также «слабое сердце»: «слабая голова» (прозвище героя
рассказа В.А. Соллогуба «Нечистая сила»).
Счастье Васи Шумкова заразительно: оно переходит на окружающих (Аркадий
Иванович, Петя, мадам Леру). У Васи и его друга ощущение счастья сопровождается
радостью, восторгом, чувством особой раскованности и свободы, подталкивающей к
некоторым шаржированным внешним формам выражения.
Этот финал истории Лизы («сч а с τ л и в а ... н е бедн а») отсылает к самому
началу, когда Вася строит планы своей новой жизни: «Мы будем жить бедно,
конечно, но счастливы будем». Ср. инверсию мотивов счастья и бедности.
«Счастливая» и «не бедная» Лиза финала противопоставлена, таким образом, и «счастливому»,
но «бедному» Васе (к мотиву «бедный» ср.: «...увидел своего бедного Васю», «Ему
казалось, что все братья его бедному Васе...»; «Какая-то странная дума посетила
осиротевшего товарища бедного Васи»; «Он как будто только теперь понял всю
эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума его б е д н ы й, не вынесший своего счастия
Вася»), и себе самой в прежнем «бедном» состоянии (ср.: «Я вас любить готова,
Василий Петрович, да я бедная девушка...»; «Плакала, плакала она, а я и влюбись в нее...»,
откуда восстанавливается образ Васиной невесты как бедной Лизы; в
эксплицитном виде ср.: «Горячие слезы брызнули из глаз Аркадия. "Ах, бедная Ли-
з а!"»), и, наконец, карамзинской бедной Лизе (этот образ Карамзина оказал
неожиданно большое влияние на «Лиз» в русской литературе). Этот итоговый образ
«счастливой» и «не бедной» Лизы дан не без некоторой иронии и хранит в себе неясные
следы пародийности. Впрочем, после сообщения о Лизином муже, «добром человеке,
которого она любит», автор спохватывается и в последней фразе повести
восстанавливает - на этот раз вполне серьезно - образ бедной Лизы: «Но вдруг, среди
речи, глаза ее наполнились слезами, голос упал, она отвернулась и склонилась на
церковный помост, чтоб скрыть от людей свое горе...».
Тема счастья-несчастья (нужды, бедности) является стержневой и в
«Лесе». Ср. на уровне слов-индексов темы: Гурмыжская. ...Я уверена, что простые
люди, неученые, живут счастливее. -Богдае в. Напрасно! На медные
деньги ничего хорошего не купишь, а тем более счастья;-Милонов. Уар Кири-
лыч, когда были счастливы люди? Под кущами; -Несчастливцев. ...
Подлости не люблю, вот мое несчастье... Хочу у вас, на севере, счастья
попробовать; - Б у л а н о в. ... Я в жизни очень несчастлив-с.
-Несчастлив ц е в. Вздор, не верю. Ты счастлив. Несчастлив тот, кто угождать
и подличать не умеет. Чем ты н е с ч а с τ л и в, говори? ... И ты был бы с ч а с τ -
лив? Немного же тебе, братец, надо... А еще какое несчастье у тебя? -
Буланов. Ученьем несчастлив- с...; Несчастливцев. ... Кто? Кто?
Говори, несчастный! ...; Карп. ... Счастливо оставаться!; -
А к с ю ш а. Я. Я очень несчастна. - Несчастливцев. О, если ты
311
несчастна, поди ко мне...; -Несчастливцев. Какой вздор! Счастье
дороже денег. - А к с ю ш а. Мне нет счастья без денег. ...
-Несчастлив ц е в. И от такой ничтожной суммы зависит счастие девушки, счастие
молодой души... - А к с ю ш а. Нет, не счастие, а жизнь... дайте мне счастье,
дайте мне жизнь. ... H е с ч а с τ л и в ц е в. ... Я мог иметь деньги, мог помочь тебе,
мог сделать тебя счастливо й...; - Счастливцев. ...да все как-то мне
несчастливилось до сих пор; - Несчастливцев. ... Тетушка, вы с ч а с τ -
ливы, вы безмерно счастливый? - Гурмыжская. Да, мой друг, я
счастлива. -Несчастливцев. В счастии человек делается добрее,
благороднее; -Гурмыжская. Я ... готова способствовать твоему счастью
всем, чем могу; - и т.д. Не менее развернута и тема бедности, нищеты. Ср.: Буланов.
Нужда научит-с. -Несчастливцев. Нужд а? А почем ты ее знаешь, эту
нужду-то?; - Буланов.... я человек бедны й-с; -Счастливцев. (...) Уж просил
бы прямо на бедность; так, видишь, стыдно; -Несчастливцев. ... Тебя
заело горе. (...) И там есть г о ρ е ... Я нищий, жалкий бродяга;
-Несчастливцев.... человек с благородной душой, но бедный ..., у вас живет б е д н а я
девушка; -Счастливцев. ... Вбедности-то всякий жить умеет; -Нес-
частливцев. ... Ябедный труженик; ... Признаться, не грех бы бедняге
Несчастливцеву и покутить на эти деньги ... Ну, если богатая помещица отказывает
бедной девушке в приданом, так не откажет бедный артист; - и др.
50 Ср.: Несчастливцев.... Я уж теперь и сам не разберу, Несчастливцев
я или Ротшильд.
51 Подобные оценки делались Достоевским не раз, в частности, в последние годы его
жизни (напр., в Дневнике писателя). Очень показателен восторженный отзыв об
образе свахи Красавиной из комедии «Праздничный сон - до обеда», см.
Достоевский Ф.М. Письма. Т. 1. М., 1928. С. 306. Интересно, что в свое время о «Грозе» писал
и М.М. Достоевский.
52 Из последних наблюдений см. о сюжетном приеме «внезапной перемены решения»,
использованной в сцене уступки Настасьи Филипповны Рогожиным князю Мышкину
(отказ от счастья как вариант мотива несостоявшегося
счастья) вслед за соответствующей сценой в пьесе Островского «Бедность - не порок»
(партия Разлюляева). См. Назиров Р.Г. О прототипах некоторых персонажей
Достоевского // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. 1. М., 1974. (Генезис
Рогожина. С. 215).
О СЕРДЦЕ
В РАННИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДОСТОЕВСКОГО
С Яном ван дер Энгом мне впервые довелось встретиться в начале
60-х годов. С ним был и Ян М. Мейер. Встреча происходила на квартире
Вяч. Вс. Иванова. Для всех четверых эта встреча была первой, и мне она
запомнилась с особой ясностью. С самого начала наша беседа отличалась
естественностью и, более того, душевностью при всей сдержанности в
выражении своих чувств. Атмосферу того вечера определяли не столько
слова, сколько дух взаимного доверия и симпатии, радость открывания
того человеческого, которое объединяло нас. Наши голландские
коллеги были не только специалистами по русской классической литературе,
но и людьми, захваченными ею и влюбленными в нее. И Достоевский
был главным объединяющим началом всех присутствующих. В один из
моментов показалось, что Ван дер Энг хочет сказать что-то для него
существенное, но смущение мешает ему. И все-таки наконец он сказал то,
что я отчетливо помню вот уже четыре десятилетия. Не без колебаний,
но как что-то для него важное он попросил называть его по-русски
Иваном Корнеевичем (вариант - Корнелиевичем). Эта трогательная просьба
была, несомненно, выражением его добрых намерений, шагом к
дружеству, движением его доброго, простого как все истинное, благородного
сердца.
Все это в полном объеме подтвердилось и в дальнейшем. Он был
верным другом и человеком долга. В отличие от многих иностранцев,
приезжавших в Москву, он с готовностью согласился передать рукописи наших
статей для публикации их в западных изданиях. Случайное это совпадение
или нет, но Ивана Корнеевича после этого долгое время не пускали в
Россию, и следующие встречи, тоже в Москве, состоялись уже в начале
1990-х годов, когда он вместе со своей женой Жанной Петровной ван дер
Энг-Лидмейер побывал у меня дома. И встреча, годы спустя, была столь же
дружественна и трогательна.
Ян ван дер Энг был человеком большого сердца и высокого
благородства. Человек своей страны, своего народа, своей культуры, он усвоил то
лучшее, что нашел у себя дома, но высоко ценил и Достоевского, в котором он
сумел понять и тоже усвоить себе многое созвучное ему.
Доброй памяти Яна ван дер Энга, незабвенного Ивана Корнеевича,
автор посвящает эти заметки.
313
1. ПРОБЛЕМА СЕРДЦА В РЕЛИГИОЗНОМ УМОЗРЕНИИ,
В МИСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ, В ФИЛОСОФСКИХ РЕФЛЕКСИЯХ
(избранные страницы)
Тема сердца занимает совершенно особое место в религиозном
умозрении, религиозной практике, прежде всего мистической, в философ-
ско-антропологических размышлениях, в определенном слое
художественной литературы - как поэзии, так и прозы. Нельзя говорить о том, что эта
тема равно близка разным религиозным традициям и разным этапам в
развитии этих традиций. Но там, где тема сердца мотивирована одновременным
присутствием ее на пересечении диахронической и синхронической осей,
она обретает всю важность и насущность своего значения. Чтобы не впасть
в заблуждение недооценки роли сердца, нужно усвоить хотя бы два таких
неотменимых факта: первый- пока сердце работает, человек живет,
когда оно перестало работать, человек неизбежно и сразу умирает
(кажется, никакой другой орган в подобных ситуациях не вызывает такой
неизбежности и внезапности смерти, по крайней мере, без внешнего
насильственного вмешательства); второй- сердце в предлагаемом здесь понимании
более, чем то сердце, которое составляет непременное и
последнее прибежище жизни. Религиозно-мистически, философски,
онтологически сердце главный, центральный орган человека, обладающий
максимумом функций, помимо обеспечения кровоснабжения. «Центральности»
сердца соответствует его центральное, «срединное» положение в человеке,
что не отменяется его левизной.
Конечно, сердце - предмет изучения такими науками, как анатомия,
физиология, биология, медицина и т.п., но, по крайней мере пока, глубины
сердца постигаются не столько науками, сколько религиозным умозрением,
интроспекцией, интуицией. Поэтому наука не может пренебрегать той
эмпирической базой, которая содержит огромный и разнообразный набор
свидетельств о сердце, принадлежащих самим людям и их оценкам и
высказываниям о сердце, не только (и, может быть, даже не столько)
объективным, но и субъективным. Сфера этих свидетельств и субъективных
высказываний о сердце очень велика. Это прежде всего (если говорить о главном)
ветхозаветная традиция (ее данные о сердце несравненно обильнее и ценнее,
чем данные новозаветной традиции), христианская традиция
«сердцеведения», древнеиндийская мистическая и буддийская, древнеегипетская,
мистическая христианская традиция в средневековой Европе, русские
мистические секты и т.д.
Тема сердца, его значения и его функций, присутствовавшая в практике
христианского религиозного подвижничества в России исстари, с последней
трети XVIII в. обнаружила свою актуальность в ряде сект, а веком спустя
и в религиозном умозрении с философским оттенком и в самой философии.
В XVIII в. в ряде отношений ведущей фигурой оказывается такой глубокий
и оригинальный мыслитель как Григорий Сковорода, в ряде трудов которого
сердце оказывается в центре внимания1.
С начала 60-х годов XIX в. эта же тема поднимается в трудах
выдающегося мыслителя, стоявшего у основания русской оригинальной философии,
повлиявшего на формирование ряда характерных черт миросозерцания
314
B.C. Соловьева, а позже несправедливо забытого и оцененного по заслугам
лишь в 90-е годы XIX в., а именно П.Д. Юркевича, идеи которого, связанные
с осмыслением роли и функций сердца, послужили импульсом для
дальнейшего продолжения и развития этой темы2. Свою ключевую работу «Сердце
и его значение в духовной жизни человека по учению Слова Божия» (1860)
Юркевич начинает с указания главного источника суждения о том,
какой круг текстов образует наиболее «сильный» локус и, следовательно,
основной источник для понимания смысла сердца.
Кто читает с надлежащим вниманием слово Божие, тот легко может
заметить, что во всех священных книгах и у всех богодухновенных
писателей сердце человеческое рассматривается как средоточие
всей телесной и духовной жизни человека, как существеннейший
орган и ближайшее седалище всех сил, отправлений, движений,
желаний, чувствований и мыслей человека со всеми их направлениями и
оттенками.
Естественно, Юркевич обращается к текстам двух Заветов - Ветхого и
Нового, рассматриваемым, к сожалению, недифференцированно. Это
упущение должно быть признано существенным. Из 680 примеров
употребления слова сердце3 546 (т.е. 80%) относятся к Ветхому Завету, тогда как
только 134 (около 20%) - к Новому. Разумеется, однако, что при интерпретации
этого соотношения необходимо учитывать разницу в объемах обоих
Заветов; Ветхий в 3,16 раза обширнее Нового. Но даже при учете этой разницы
оказывается, что Ветхий Завет и более насыщен словом сердце и, не менее
важно, представлен большим количеством контекстных типов. Вместе с
тем, хотя это и не входило в задачу Юркевича, следует учитывать, что
сопоставимая с Ветхим Заветом роль обозначения сердца присутствует и в
некоторых других, обычно мистических, текстах - как архаичных, так и
относящихся к более поздним временам, что и дает известные основания говорить
об особом классе текстов - о «текстах сердца». Существенно и
предваряющее результаты исследования замечание автора, согласно которому
«воззрение священных писателей на существо и значение человеческого
сердца во всех областях человеческой жизни отличается
определенно с τ и ю и всеми признаками сознательного убеждения» (с. 69).
Это, собственно, и подтверждает, что древние «священные писатели» знали
о сердце существенно больше, чем в наше время.
Несколько фрагментов из текста Юркевича о сердце, позволяющих
уяснить его концепцию, точнее, то, что открылось философу при
внимательном изучении ветхозаветных «текстов сердца»:
«Сердце есть хранитель и носитель всех телесных сил человека»
(соответствующие примеры из источников чаще всего не приводятся, так как их
легко найти в Симфонии или Алфавитном Указателе к Священному
Писанию); «Сердце есть средоточие душевной и духовной жизни человека. Так, в
сердце зачинается и рождается решимость человека на такие или
другие поступки; в нем возникают многообразные преднамерения и желания;
оно есть седалище воли и ее хотений. Эти действия преднамерения, хотения
и решимости обозначаются выражениями: И вдах сердце мое (Еккл. 1, 8);
и положи Даниил на сердце своем (Дан. 1, 8); «Сердце есть седалище всех
315
познавательных действий души. Размышление есть предложение сердца ...
(Притч. 16,1), усоветование сердца»; Как слово есть явление или выражение
мысли, то и оно износится из сердца (Иов 8, 10); «... И как мышление есть
разговор души с собою, то размышляющий ведет этот внутренний разговор
в сердце своем»; «Сердце есть средоточие многообразных душевных
чувствований, волнений и страстей. Сердцу усвояются все степени радости от
благодушия» (Ис. 65, 14); «до восторга и ликования пред лицом Бога» (Пс. 83, 3;
Деян. 2,46); «все степени скорбей, от печального настроения... до сокрущаю-
щего горя...; все степени вражды, от ревнования и горькой зависти... до
ярости, в которой человек скрежещет зубами своими... и от которой сердце его
разгорается местию; все степени недовольства, от беспокойства, когда
сердце смущает человека» (Притч. 12,25); «до отчаяния, когда оно отрекается от
всяких стремлений» (Еккл. 2, 20); «наконец, все виды страха, от
благоговейного трепета» (Иер. 32, 40) «до подавляющего ужаса и смятения» (Втор. 28,
28; Пс. 142, 4). «Сердце истаевает и терзается от тоски»; «Наконец, сердце
есть средоточие нравственной жизни человека. В сердце соединяются все
нравственные состояния человека от высочайшей таинственной любви к
Богу, которая взывает: Боже сердца и часть моя Боже во век (Пс. 72, 26), до
того высокомерия, которое, обожая себя, полагает сердце свое яко сердце Бо~
жие и говорит: аз есмъ Бог (Иез. 28, 2). По различию нравственных недров,
сердце омрачается ... одебелевает ... делается жестким ... каменным ...
нечеловеческим, звериным ... Есть сердце лукавое ... сердце суетное ... сердце
неразумное. Сердце есть исходное место всего доброго и злого в словах, мыслях
и поступках человека, есть доброе иль злое сокровище человека ... Сердце
есть скрижаль, на которой писан естественный, нравственный закон ... Но с
другой стороны, грешнику диавол влагает в сердце злые начинания ...
исполняет его сердце злыми помыслами. Как средоточие всей телесной и
многообразной духовной жизни человека, сердце называется исходищами живота или
истоками жизни ... Посему оно составляет глубочайшую часть нашего
существа: глубоко сердце человеку паче всех, и кто познает его (Иер. 17, 9).
Никогда внешние обнаружения слова, мысли и дел не исчерпывают этого
источника; потаенный сердца человек (1 Пет. 3, 4 ) открыт только для Бога:
Той бо весть тайная сердца. (Пс. 43, 23). «Простое чтение священных
текстов, если только будем их перетолковывать по предзанятым идеям,
убеждает нас непосредственно, что священные писатели определенно и с полным
сознанием истины признавали сердце средоточием всех явлений
человеческой телесной и духовной жизни»; «Но также можно наперед предположить,
что показанные явления душевной деятельности в голове еще не
исчерпывают всего существа души; по необходимости мышления мы должны допустить
некоторую первоначальную духовную сущность, которая нуждается в
поименованном посредничестве и правительственном действии головы. Эта
первоначальная духовная сущность имеет, по учению Слова Божия, своим
ближайшим органом сердце»; «Между тем понятно, что рассматриваемое
нами психологическое учение не легко может изъяснить возможность и
действительность свободной воли в человеке, не легко также может оно признать
нравственное достоинство и значение человеческого поступка, который
вытекает из непосредственных влечений и чувствований сердца, а не
определяется отвлеченною мыслию о долге и обязанностях. Поэтому философия так
316
часто отрицала в человеке свободу, так часто утверждала, что в человеке и
человечестве царствует такая же непреодолимая необходимость, как в
логических выводах мышления, в которых заключение определяется не
свободно, а необходимо, по качеству и значению посылок. Таким же образом
теплую и жизненную заповедь любви - заповедь, которая так
многозначительна для сердца, - философия заменяла отвлеченным и холодным сознанием
долга, - сознанием, которое предполагает не воодушевление, не пламенное
влечение сердца к добру, а простое, безучастное понимание явлений.
Наконец, поколику наши познания о Боге человекообразны, эта философия
пришла с необходимостью к отвлеченному понятию о существе Божием,
определяя все неисчерпаемое богатство жизни Божией как идею,
мышление, всегда неизменяемое, себе равное, - мышление, которое творит мир
без воли, без любви, по одной логической необходимости»; «Из этих
замечаний мы извлекаем два положения: 1) сердце может выражать, обнаруживать
и понимать совершенно своеобразно также душевные состояния, которые по
своей нежности, преимущественной духовности и жизненности не поддаются
отвлеченному знанию разума;
2) понятие и отчетливое знание разума, поколику оно делается нашим
душевным состоянием, а не остается отвлеченным образом внешних
предметов, открывается или дает себя чувствовать и замечать не в голове, а в
сердце; в эту глубину оно должно проникнуть, чтобы стать деятельною
силою и двигателем нашей духовной жизни» С. 69-86); ср. далее о «самозако-
нии» (автономии) человеческого разума.
В начале XX в., в 1914 г., вышла знаменитая книга П.А. Флоренского
Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в
двенадцати письмах. Контекст, в котором автор рассматривает проблему сердца,
иной, нежели у Юркевича, но выводы достаточно близки к выводам
последнего. Исходные же позиции, обозначенные подробно, несколько
отличаются от таковых у Юркевича, но это различие едва ли принципиально:
Флоренский берет-захватывает более широкий контекст. «Есть объективность, -
пишет он, - это Богозданная тварь»4. Это первая посылка, требующая
соответствующего ей «большого» контекста, о котором см. ниже5.
Вторая посылка связана с идеей порядка и телом как
организующей формой порядка:
Можно с разных сторон подходить к уяснению этого порядка,
но вот, кажется, путь простейший, - по крайней мере, путь нагляд-
нейший.
Человек «д а н» нам в разных смыслах. Но - прежде всего ... он
дан телесно, - как тело. Тело человека - вот что первее всего
называем мы человеком (пятью годами раньше Мандельштам
напишет: «Дано мне тело- что мне делать с ним, / Таким единым
и таким мои м». - В.Т.).
Но что же такое тело?- Не вещество человеческого
организма, разумеемое как материя физиков, а форму его, да и не
форму внешних очертаний его, а всю устроенность его, как
целого,- это-то и зовем мы телом6.
Тело - нечто целое, нечто индивидуальное, нечто особливое ...
В теле повсюду обнаруживается его единство. И потому, чем более
317
вдумываемся мы в понятие «человеческого тела», тем настойчивее
заявляет себя необходимость от онтологической периферии тела
идти к онтологическому его средоточию, т.е. к тому телу, которое
делает единством это многообразие органов и деятельностей, к тому
телу, без которого ко всем эти органам применимо лишь понятие
όμοιουσία, но никак не όμοουσία. Этот-то корень единства
тела, это тело в теле, это тело по преимуществу, это
собственно тело занимает нас. То, что обычно называется телом, - не
более как онтологическая поверхность; а за нею, по ту сторону
этой оболочки лежит мистическая глубина нашего
существа ... это - только поверхность раздела двух глубин бытия:
глубины «Я» и глубины «не-Я», и потому нельзя сказать принадлежит ли
наше «тело» к Я или не-Я.
Далее, на пути к третьей посылке, Флоренский обращается к симметрии
верхней и нижней частей тела, к гомотипии «верхнего» и «нижнего» поясов
и задается «пороговым» вопросом, «не означает ли это соответствие, что
онтологическим средоточием тела служит не та или другая конечность, а -
центр гомотипии, т.е. срединная часть человека». На этом пути автора
привлекает прежде всего локус груди, отличный от локуса живота, в котором
«сосредоточиваются отправления питательные и воспроизводительные», и
от локуса головы, в котором осуществляется жизнь сознания.
Здесь Флоренский непосредственно подходит к третьей посылке. «Итак,
мистика церковная есть мистика груди. Но центром груди издревле
считалось сердце ... Если грудь - средоточие тела, то сердце- средоточие
груди». И в этом месте слово передается Юркевичу из его знаменитой
статьи о сердце, о которой см. выше7 и выводы которой Флоренский вполне
разделяет.
Но самое важное о роли сердца в религиозно-философском плане в
XX в. было сказано Б.П. Вышеславцевым в книге Вечное в русской
философии (Нью-Йорк, 1955), изданной посмертно8. Раздел 10 этой книги,
озаглавленный «Значение сердца в философии и религии» продолжающий уже
сложившуюся в русской философско-религиозной литературе традицию,
состоит из пяти глав - 1. Сердце как скрытая глубина человека, 2. Сердце
как орган религиозного опыта, 3. Сердце в индийской мистике, 4.
Христианская любовь и буддийское сострадание, 5. Два типа индийской мистики. Две
первые главы имеют непосредственное отношение к ветхо- и новозаветной
традиции и к результатам ее усвоения в русской религиозной практике и
развитию учения о сердце внутри ее9. Вместе с тем нельзя не согласиться с
Вышеславцевым, когда он начинает свой основной труд о значении сердца
утверждением, что «Понятие "сердца" занимает центральное место в
мистике, в религии и в поэзии всех народов» (271). Другое дело, что в разных
традициях учение о сердце имеет свои акценты и не всюду степень
актуальности и насущности этого «сердцеведения» одинакова.
Обозначив в начале своего труда позицию индийских мистиков,
помещавших дух человека, его истинное «я» в сердце (а не в голове)10,
Вышеславцев переходит к Библии, где слово, обозначающее сердце, «встречается
на каждом шагу». Известная трудность, согласно автору, состоит в том, что
318
сердцу приписывается не только чувство, но и самые разнообразные виды
деятельности сознания. Приводя соответствующие примеры (правда, в
минимальном количестве), Вышеславцев пишет:
Так, прежде всего, сердце мыслит. «Говорить в сердце» - значит на
библейском языке - думать. Но далее, сердце есть орган воли; оно
принимает решения. Из него исходит любовь: сердцем или от сердца
люди любят Бога и ближних. Говорится, что мы «имеем кого-либо в
своем сердце» ... или у нас с кем-нибудь единое сердце» ... Наконец, в
сердце помещается такая интимная скрытая функция сознания, как
совесть: совесть, по слову Апостола, есть закон, начертанный в
сердцах. Сердцу приписываются также самые разнообразные чувства,
проносящиеся в душе: оно «смущается», «устрашается»,
«печалится», «радуется», «веселится», «сокрушается», «мучается», «скорбит»,
«питается наслаждением», «расслабляется», «содрогается». Как
будто бы сердце есть сознание вообще, все то, что изучается
психологией; и действительно, в Библии понятие «сердца» и понятие «души»
иногда заменяют друг друга; точно так же понятие «сердца», и
понятие «духа». - Но затруднения наши увеличиваются, когда мы
убеждаемся, что сердце обнимает собою не только явления психической,
но и физической жизни. Все явления жизни исходят из него и
возвращаются к нему, действуют на сердце ... каждое нападение на жизнь -
есть нападение на сердце (Исх. 9, 16). Вот почему говорится:
«Больше всего оберегаемого, оберегай свое сердце, ибо от него исходит
жизнь» (Притчи 4, 23). В этом бесконечном разнообразии значений
символ «сердце» грозит совершенно расплыться, сделаться
совершенно неуловимым, превратиться в простую поэтическую
метафору. И однако, это не так: сердце на религиозном языке есть нечто
очень точное, можно сказать, математически точное, как
центр круга, из которого могут исходить бесконечно малые радиусы,
или световой центр, из которого могут исходить бесконечно
разнообразные лучи.
И далее - в развитие сказанного:
Библия приписывает сердцу все функции сознания: мышление,
решение воли, ощущение, проявление любви, проявление совести;
больше того, сердце является центром жизни вообще - физической,
духовной и душевной. Оно есть центр прежде всего, центр во всех
смыслах.
Здесь возникает естественный вопрос, не выражает ли в этом случае
слово «сердце» то, что в психологии известно как принцип единства
сознания, как центр его. Ответ Вышеславцева существенно углубляет всю
проблему:
Это не вполне так, здесь есть нечто более глубокое, религиозное,
остающееся недоступным для научной эмпирической психологии. Есть
глубокие основания, почему здесь принимается религиозный символ
«сердца», а не понятие души, сознания, ума, даже духа. В самом деле,
сердце означает некоторый скрытый центр, скрытую глубину, недо-
319
ступную для взора ... Леон Блуа называет сердце Божества
«бездною», а многие мистики говорят об этой «бездне» как о последней
иррациональной глубине Божественного центра11. Но то же
самое можно сказать и о сердце человека как о сокровенном центре
личности. Он прежде всего недоступен чужому взору, мы не
проникаем извне в сердца людей. Сердца ближних для нас не прозрачны.
Но не нужно думать, что предельная глубина человека закрыта
только для других, она непостижима в значительной степени и для него
самого; мы не умеем, а иногда и не хотим понять самих себя, боясь
заглянуть в бездну своего сердца... Христос говорит: какая польза
человеку, если он весь мир приобретет, душу же свою потеряет? Он
говорит здесь именно об этом предельном таинственном центре
личности, где лежит вся ее ценность и вся ее вечность. Найти эту свою
вечность - значит найти свое истинное «я», заглянуть в глубину
своего сердца (С. 271-273).
Вторая глава раздела X - о сердце как органе религиозного опыта.
Вышеславцев начинает эту главу с тезиса, согласно которому высокая
религиозная ценность слова «сердце», символа, присутствующего в простой
разговорной речи, именно в его простоте и доступности. «Человек "без сердца"
есть человек без любви и без религии, безрелигиозность есть, в конце
концов, бессердечность». Когда говорят о «безрелигиозной сердечности в
форме гуманности, солидарности, классового сознания и т.п., то забывают, что
«самые большие преступления были совершены ради такой гуманности,
были оправданы декламациями о любви к человечеству, риторикой в духе
Руссо и Робеспьера» и что «у этих людей нет сердца», а следовательно, они
потеряли, конечно, и свое настоящее «я», забыли о нем, не подозревают о его
существовании» (273-274).
А между тем -
... только в глубине этого «я», в глубине сердца, возможно действительное,
реальное соприкосновение с Божеством (Бог, чувствуемый сердцем. -
Паскаль), возможен подлинный религиозный опыт ... И это
соприкосновение с Божеством возможно потому, что в сердце человека есть такая же
таинственная глубина, как и в сердце Божества. Здесь раскрывается весь
смысл выражения «образ и подобие Божие», здесь человек чувствует свою
Божественность, здесь одна глубина отражает другую; и пока человек не
встретится с этой глубиной в своем собственном существе, он не понимает,
что значит глубина Божества. Нужно быть самому глубоким, чтобы
почувствовать таинственную глубину. Вот почему религия берет символ сердца.
В нем выражается сокровенный центр личности».
Русская философия в свой золотой век, в России рано и насильственно
прерванный и, к счастью, продлившийся еще на три-четыре десятилетия в
изгнании, сделала многое в разных областях, и размышления над
феноменом сердца стали одной из наиболее глубоко проработнных частей
философской антропологиии- еще уже, но глубже -пневматоло-
г и и. Конечно, выше были упомянуты далеко не все, кто размышлял над
этими проблемами и для кого сердце человека оставалось той последней
глубиной, на которой только и можно пытаться постичь сам феномен чело-
320
века. Поскольку эта статья посвящена Достоевскому, лучше кого бы то ни
было из великих русских писателей, кому была близка тема сердца и его
роль в жизни человека, и поскольку слово «пневматология» уже
произнесено, естественно напомнить слова Бердяева в начале его книги
Миросозерцание Достоевского (1921):
Нельзя было бы также сказать, что я подхожу к Достоевскому с
психологической точки зрения, раскрываю «психологию»
Достоевского. Моя задача - иная. Моя работа должна быть отнесена к области
пневматологии, а не психологии. Я хотел бы раскрыть дух
Достоевского, выявить его глубочайшее мироощущение и
интуитивно воссоздать его миросозерцание. Достоевский был не только
великий художник, он был также великий мыслитель и великий
духовидец. Он - гениальный диалектик, величайший русский метафизик.
Идеи играют огромную, центральную роль в творчестве
Достоевского .... Идейная диалектика есть особый род его художества. Он
художеством своим проникает в первоосновы жизни идей, и жизнь идей
пронизывает его художество. Идеи живут у него органической
жизнью, имеют свою неотвратимую судьбу12.
2. СЕРДЦЕ В МИСТИЧЕСКОМ БОГОСЛОВИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И У РУССКИХ СЕКТАНТОВ-МИСТИКОВ
В последние три десятилетия появился целый ряд исследований,
которые существенным образом касаются проблемы сердца и
соответствующего контекста, особенно в связи с мистическим богословием Православной
Церкви, исихазмом, трудами Григория Паламы13. Из работ последнего
десятилетия в связи с рассматриваемым здесь вопросом в его религиозном
ракурсе заслуживает внимания весьма полезный и четко продуманный
«Словарь» С.С. Хоружего14. Рассматривая вопрос о значении монашества в связи
с Деланием (Πραξις) автор пишет:
Праксис - органическое единство внешней,
материально-предметной и внутренней, духовной активности, при определяющей роли
второй. Аналогично, монашеская жизнь не является строго
необходимой, но, в то же время, она наиболее соответственна и содействен-
на Деланию. Ср., например: «Св. Григорий Палама, хотя и
рекомендует этот путь (умное делание. - С.Х.) всем желающим спастись и
считает его для всех доступным, указывает, однако, что только в
монашеской жизни, вдали от мира, можно встретить благоприятные
условия для его прохождения», иначе же неизбежны «самые большие
трудности». В этой позиции отражаются характерные черты исиха-
стской антропологии, ее холизм и ее своеобразная «диалектика
внешнего и внутреннего». Здесь намеренно не проводится
отчетливой границы между внутреннею и внешней деятельностью человека
и даже, пожалуй, между его внутренним и внешним миром. Эта
граница функциональна, подвижна: безусловно, онтологично
лишь цельное задание твари, и в Делании, служащем этому заданию,
все устроение тварного бытия, его ход и обиход, членения и разделе-
11. Β.Η. Топоров
321
ния, и могут, и должны изменяться так, что, в частности, внешнее и
внутреннее переходят друг в друга.
Невидимая брань (αόρατος πόλεμος). Как мы уже знаем,
Подвиг - а с ним и Праксис - начинается покаянием. В аспекте
процесса, как «покаянные труды», покаяние есть борьба со страстями,
знаменитая «невидимая брань» подвижника. Здесь ярче всего выступает
аспект борьбы, битвы, исконно связывавшейся с понятием аскезы
(еще по Филону Александрийскому аскетом был Иаков, боровшийся
с Богом; на Руси же этот воинственный аспект прочно сохранился в
семантике слова «подвиг»). Невидимая брань проанализирована и
описана в аскетике с величайшей подробностью ... Мы лишь
очертим каркас темы, выделив основные моменты и этапы.
Поскольку страсть владеет, разве без малого, всем
человеком (см. Страсти), для уничтожения страстного состояния
потребен сначала резкий кризис, дестабилизация внутренней
действительности, разрушение ее рутинного бытия (нужно отметить, что
в ряде случаев у Достоевского было особое пристрастие к
изображению персонажей, тотально охваченных страстью,
как, например, Дмитрий Карамазов. - В. Т.). Поэтому невидимая
брань - процесс, проходящий на высоком душевном напряжении и, в
особенности, для своего начала требующий высокого напряжения -
такого накала решимости, воли, силы, какой далеко не всегда
доступен человеку. Поэтому покаянная установка должна, в первую
очередь, создать особое исходное душерасположение,
остро-эмоциональную атмосферу, отчасти родственную состоянию аффекта (и в
этом случае Достоевский не раз проявлял интерес к таким
персонажам с «покаянной установкой», как Раскольников. - В.Т.). Уже у
ранних учителей - изобилие ярких описаний этого исходного душе-
расположения невидимой брани: в нем «плач и рыдание», чувство,
будто «гнойный струп неправд раскрылся у меня и множество всяких
нечистот покрыло меня» (Ефрем Сирин), и т.д.
Естественно, что аскетическая аналитика уделяла значительное
внимание и классификации видов страстей и их развития, укоренения их в душе.
Максим Исповедник в «Главах о любви» (II, 74) пишет о том, как и какими
каналами ростки и начатки, способные развиться в страсть, появляются в
сознании с неизбежностью: «Ум воспринимает страстные мысли тремя
путями, через чувство, через телесное устроение и через память». То же
подробно описывается и в «Скитском Уставе» Нила Сорского, который, следуя
Исихию и Филофею Синайским, выделяет пять этапов развития страсти - от
прилога или приражения, через сочетание (когда «приложившееся» уже
попало в сферу сознания, которое начинает сосредоточиваться на нем),
сложение, или сосложение (когда возникает влечение к «приложившемуся»),
пленение (когда влечение сознания становится навязчиво-императивным, но
все-таки еще не всеохватывающим) и до страсти в абсолютной ее полноте,
когда человек становится рабом ее.
Борьба со страстями может толковаться и в широком и в узком смысле
слова, но предпочтение отдается последнему, узкому толкованию, объе-
322
млющему лишь делание, направляющееся против конкретных страстей, но
не выкорчевывающее их полностью и не исключающее их возврат. Где
страсти, там и вовлечение в ситуацию сердца, горячности и
ангажированности его, с которыми человеку, вышедшему на «подвиг» необходимо
бороться. Здесь и появляется феномен «исихии», о котором также говорится в
«Словаре», составленном С.С. Хоружим:
Исихия. Слово ησυχία, давшее название всей духовной традиции,
словарь переводит так: спокойствие, покой, мир, тишина, молчание; также
уединение, уединенное место. В аскетической литературе его переводят
обычно как безмолвие, иногда - священное или сердечное безмолвие ...
Аскетический смысл понятия (исихии. - В.Т.) определяется, прежде всего, его
местом в домостроительстве Делания. Исихия - то, что идет за невидимою
бранью: стало быть, это - мир после войны, безмолвие и покой после шума
и движения битвы.
«Блажен ум, который во время молитвы пребывает в совершенном
безмолвии», - писал уже Евагрий, который вместе с Макарием был одним из
основоположников аскезы. Впрочем, и исихия не предполагает
окончательной победы над страстями, которая достигается только бесстрастием,
представляющим собою более высокую категорию.
Автор не раз уже цитировавшегося словаря в связи с учением об исихии
предлагает существенное уточнение, без которого сама исихия много теряет
в своем значении:
... по всему ряду главных текстов (исихиастических. - В.Т.) легко
проследить, что у аскетов с понятием исихии связывается отнюдь не
спекулятивная мистика молчания, а простая тактика ухода от
речи, глаголания как активности лишней, отвлекающей, снижающей
внутреннюю концентрацию ... кто говорит, хотя бы говорил все
хорошее, испускает память свою (слова Диадоха Фотикийского. - В.Т.).
Поэтому «кто преуспевает в исихии, тот не преуспевает в слове ... он не-
удобоподвижен на слова» (слова Иоанна Лествичника. - В. Т.). Или
также типичное: «В какой мере язык воздерживается от многоглаголания,
в такой озаряется ум к различению помышлений» (слова Исаака
Сирина. - В.Т.). В противоположность мистике молчания, здесь речь об
общении с людьми, а не о бессловесном умолкании пред Неизреченным
(или, тем паче, собственном Его молчании). Напротив, только в исихии
делается непрестанной речь к Богу, молитва! ... Итак, следует
различать молчание уст и молчание ума; первое является
необязательным, однако полезным элементом исихии, тогда как второе составляет
специфическую прерогативу Чистой Молитвы (см.). Здесь
безмолвие становится своего рода мистической бессловесностью, в
которой - все слова; и Умное Делание сверхрационально преодолевает
оппозицию вербального и невербального выражения (93).
Так или иначе, язык привязчив и навязчив. «Поэт издалека заводит
речь, / Поэта далеко заводит речь,» - по словам поэта, и уйти из речи не
всегда легко: замолчать - значит покинуть внешнюю речь, но не значит, что
внешняя речь только заменяется внутренней, продолжающей держать чело-
11*
323
века в своем плену. Цель же мистика в этой ситуации - сердечное
безмолвие» или внимание, трезвение (νηψις), хранение ума (νοόςτήρησις).
Но у человека кроме плена языка есть и другой плен -ума, который
может мешать голосу сердца. «Суть и содержание исихии составляет
таинственная и сверхрациональная работа переустройства души в состояние
открытости, приуготовленности для благодати, - пишет Хоружий. - Исихаст
тот, кто явственно взывает: «Готово сердце мое, Боже"» (Пс. 56, 8). О
сердце обычно говорят в двух смыслах - телесном (физиологическом) и
душевном (психологическом).
Аскетика развивает обобщение далее и понимает под «сердцем»
единый экзистенциально-энергийный центр человеческого
существа, фокус ... где сходятся все его энергии ... При этом отнюдь не
предполагается, что такая собранность всех энергий всегда налицо.
Напротив, в обычном существовании человека, она лишь
возможность, а не действительность, задание, а не данность. Человек
должен сам, своею волею и усилием, собрать всего себя в «сердце» - или
точней, пожалуй, он должен создать в себе «сердце» (95).
Ум, полезный и необходимый в других отношениях, нередко мешает
человеку собрать себя в «сердце» и, чтобы все-таки осуществить эту работу,
он должен нейтрализовать своеволие ума, достичь того, что в аскетике
называют «сведением ума в сердце» (κατάβασις του νοός έίς καρδίαν). Эта
операция позволяет преодолеть рассеянность человека, «превзойти естество»,
соединить ум с сердцем в пространстве последнего. Отныне ум, перестав
рассматривать сердце как нечто вовне лежащее, как бы по своей воле
отдается сердцу, или, по слову Феофана Затворника из «Умного делания»,
«ум становится неотлучен от внимания: где оно, там и он» или - что то же -
«Ум стоит в сердце неисходно ... и исходить оттуда не хочет».
Это сочетание ума и сердца (умо-сердце) может существовать лишь в
непрестанной деятельности и реализует себя в непрестанной, или Иисусовой
молитве15, иногда обозначающейся как «умная» или даже «умно-сердечная», что
подтверждает мысль В.Н. Лосского, согласно которой «на высших ступенях
духовной жизни ... нет больше противоположения активного и пассивного»16.
Этот краткий обзор трактовки сердца и самого контекста, в котором
сердце образует центр, в исихазме и более поздних
религиозно-философских учениях, дает некоторое представление об особой важности сердца в
теории и практике, характеризующих православную святоотеческую
традицию. Нужно полагать, что и народной исихее русской религиозной
традиции, особенно в ее «сектантско-мистической» части, присущ глубокий
интерес к этой проблеме, более того, сама атмосфера «сердечности». Слово
сердце, как известно, восходит к и.-евр. *k'er-dh-; собств. - «поставить
сердце на», «сердцеполагание»; второй член слова восходит к «тетическому»
глаголу «ставить», «полагать», «утверждать», «учреждать» и,
следовательно, входит в текст «творения»; когда значение д в сердце стерлось, идея по-
ставления-положения была восстановлена введением в контекст сердца
соответствующих глаголов (поставить, положить и т.п.), ср.: Как Бог на-
сердце положит; сердце не лежит к нему; поставить сердце на (против) и
т.п., также сердечник как разные виды опоры - «стержень», «шкворень»,
324
«штырь» и т.п., проходящий через середину соответствующей конструкции.
Само слово сердце, восходящее к праслав. *serd-ik-e/o (<и.-евр. *k'er-dh-ik-),
отчетливо «сохраняло оттенок уменынительности-ласкательности, некоей
интимности. В русском языке эти оттенки восстанавливались в таких
словообразовательных типах, как сердечко, сердечушко, серденъко, серденюшко,
отчасти сер(д)чишко. Человек доброго сердца, задушевный, обозначается
как сердечный человек, сердешный (особенно в обращениях, ср.: Сожалею,
сердешный, да помочь не могу; жалко тебя, сердешный), сердяга {Один он
сердяга бьется как рыба об лед). У кого сердце болит по ком,
называется сердобольным, ср. также сердоболие, сердобольничать или такие
определения человека, как доброе сердце, добросердечный, с одной стороны, и
злое сердце {злосердие), каменное сердце и т.п., с другой. Сердечное дело
предполагает любовь, влюбленность. Но глагол сердить(ся), серчать
означает раздражение сердца, обиду, отрицательную установку сердца. Такого
человека называют и сердйтка, сердюпыш, сердитый (ср. сердйтовать
«гневаться», «лютовать», «сердиться»). Правда, сердится иногда и добрый
человек, но чаще все кончается хорошо, и тогда вспоминают стандартную
ситуацию - Хоть сердите я, да умилосердится (:милое сердце).
Правда, когда в горячности человек не контролирует себя, он может
сорваться, сделать или сказать что-нибудь в-сердцах, с сердцов. Зато когда мир
восстановится, говорят иначе - это мне ηό-сердцу. Нередко доброе сердце
противопоставляется «глупому» уму - И доброе сердце, да безмозглая
голова. Сердце чувствительно, и ему свойственна открытость: сердце
скажет, по ком оно болит; сердце скажется; сердце сердцу весть подает;
чует сердце друга и не друга и т.п. Сердце тонко улавливает ситуацию и
соответственно реагирует: прошло отрицательное воздействие и сердце
отошло, потому что вообще оно по замыслу Божьему отходчиво, хотя,
бывает, и вспыльчиво. Если обратиться к предикатам, выступающим при слове
сердце, то окажется, что амплитуда состояний сердца весьма велика, от
томится, ноет, до бьется, колотится, дрожит!вздрагивает, трепещет,
разрывается и т.п. с одной стороны, до отлегло, успокоилось и т.п., с другой.
В связи с темой сердца и его роли в жизни человека за пределами
«чистой» физиологии уместно напомнить о том, что писал и говорил об
этом Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (1877-1961; в миру
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий), совмещавший в себе иерарха,
религиозного мыслителя и врача-хирурга, практиковавшего во время
последней войны (этот огромный и страшный опыт отражен в монографии
Войно-Ясенецкого Гнойная хирургия). О нем см.: М. Поповский. Жизнь
и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. Paris, 1979.
3. СЕРДЦЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО
(общий взгляд)
Панорамно описанное на предыдущих страницах понимание сердца
как той сердцевины, средоточия, вокруг которого развертывается жизнь
человеческая - и в физически-физиологическом, и в душевно-духовном и
нравственном планах - имело своей целью краткое описание-выявление
того, как понималось сердце в русской (отчасти и в более ранних ветхо- и
325
новозаветной и христианской святоотеческой) традиции, и какой
контекст выстраивался вокруг сердца в религиозной,
религиозно-философской (умозрительной) и чисто философской литературе в России. В
частности, внимание было привлечено к аскетическим и мистическим текстам,
имевшим хождение среди многочисленных религиозных сект, получивших особое
распространение после Великого Раскола в 60-х годах XVII в. Но
перечисленным материалом, естественно, не исчерпывается круг источников,
относящихся к «сердцеведению» как в литературной текстовой традиции, так и
устной народной традиции, разрабатывавшей тему сердца, его значения и роли и
образовавшей то, что можно назвать «народным сердцеведением».
К сожалению, практически остался неучтенным и во всяком случае
неисследованным с надлежащей основательностью такой важный источник
русского «сердцеведения», как классическая русская литература XIX в. и,
главное, литературное наследие великого сердцеведа - и шире - антрополога,
бившегося над решением тайны человека, Достоевского. Тайна тайн человека -
его сердце и именно в нем. Но не у всякого человека с сердцем есть сердце,
если только это не «мертвое» сердце. Взять хотя бы Ставрогина - «сердце его
мертво», но в одну счастливую минуту во время волшебно прекрасного сна-
видения, из тех, что даром и ни за что не даются, но в случае Ставрогина
всего лишь обозначают то, что он мог бы иметь, но безвозвратно потерял,
«ощущение счастия еще ему (в тексте - мне) не известного прошло сквозь все
сердце его (в тексте - мое) до боли»17. Глубокий исследователь Достоевского в
книге, вышедшей семьдесят лет тому назад, писал:
В этом сне прорывается неодолимая тоска по искуплению, по
свету, красоте и любви - каковы бы ни были при всем при этом его
психологические корни. Впервые Ставрогин плачет, и какими
слезами! Но именно этот сон символически связан с образом крохотного
красного паучка на листе герани, равно как и с образом маленькой
Матреши, служащей вместе с Марией Лебядкиной воплощением
всего дурного в жизни Ставрогина.
Все сильнее ощущаешь, что у этого человека внутри пустота.
У него - острый ум, большая физическая сила, железная воля, но
сердце его мертво.
Создается впечатление, что жизнь в нем оледенела. Оно не в
состоянии почувствовать радость или боль, ему доступны лишь их
холодные эрзацы: физическое влечение и мука от собственного
состояния, о котором он судит до отчаяния трезво. Собственно говоря, он
не живет. Ведь именно сердце «делает жизнь живой» -сердце,
а не дух и не тело. Лишь благодаря сердцу дух и тело обретают
возможность жить по-человечески. Лишь благодаря сердцу дух
становится «душой», а организм - «телом» и только тогда возникает
человеческая жизнь, с ее блаженством и ее болью, ее трудами и ее
борьбой, жалкая - и вместе с тем великая. Но у Ставрогина нет серд-
ц а, поэтому дух его холоден и лишен наполнения, а тело отравлено
ядом бездеятельности и «звериной» чувственности.
Поэтому для него закрыт путь к другому человеку, а для
другого - подступы к нему. Ибо близость создается сердцем,
а не чем-то иным. Только сердце пролагает мне путь к другому,
326
а ему - ко мне. Лишь сердце разрешает войти и поселиться.
Сокровенное есть сфера действия сердца. Ставрогин же далек
от всех и каждого. Он не может приблизиться к другому человеку.
Он неизменно останавливается на каком-то расстоянии - перед ним,
рядом с ним, - и дистанция эта непреодолима, раз уж ее определяет
наличие или отсутствие сердечного нутра.
Не дано Ставрогину преодолеть и дистанцию, отделяющую его
от него самого. Человек тождествен себе в с е ρ д ц е, но не в духе.
Тождество в духе - не его дело. Если же с е ρ д ц е не живет, то
человек теряет доступ к себе самому и утрачивает тождество.
Ставрогин не владеет собственным «я»; он не может ни дарить
себя другому, ни принимать самоотдачу18.
Человек, его тайна, свобода, т.е. все то, что составляет тему и смысл
антропологии Достоевского, неизбежно возвращает к роли с е ρ д ц а и
через него - самого человек а19. Говоря об этой теме, следует иметь в
виду ряд особых обстоятельств. Прежде всего Достоевский
интересовался этой темой по существу. В его библиотеке был ряд книг, в
которых «антропологическое» как относящееся к душевной и духовной
жизни человека составляло основу этих книг. Во-вторых жизненные
обстоятельства складывались у Достоевского таким образом, что он с
детства оказался в той среде (в частности, в Даровом), где он неизбежно
сталкивался с людьми, исповедовавшими не официальную религию, но
державшимися старой веры, староверами, раскольниками (к которым
отсылает и фамилия главного персокажа Преступления и наказания, и
образ Миколки), мистически настроенными сектантами (ср. «Хозяйку»).
Можно думать, что впечатления детства не только отразились уже в
первом периоде творчества, по 1849 г., но и были впоследствии осмыслены
более глубоко и, так сказать, «генерализованы». В-т ρ е τ ь и х,
существенны еще два обстоятельства, - что тема сердца как наиболее
острого ракурса «антропологизма» писателя пришлась именно на начало
творческой деятельности Достоевского (во всяком случае именно в
1846-1849 гг. тема с е ρ д ц а и само обозначение его - сердце - обладают
наибольшей густотой и интенсивностью даже в количественном
отношении), и что все произведения этого периода втройне
«петербургски е» - и потому что писались они в Петербурге, и потому что место
действия во всех этих текстах - Петербург и, наконец, потому что в них
присутствует тот особый петербургский дух, почувствованный
читателями и критиками, начиная с первого напечатанного произведения
Достоевского - Бедные люди. Впрочем, следует помнить и о том, что эти четы-
ре-пять лет были тем временем, когда сформировался так называемый
«Петербургский» текст и началась его история как нечто уже усвоенное
и само собой разумеющееся, как уже свершившийся прорыв в новое
пространство, где заговорили как о чем-то особом о «петербургской»
литературе, отличавшейся от «московской» литературы. Все же, что было до
этого - «петербургская» тема под пером Пушкина, Гоголя, Лермонтова, -
с существенным опозданием стало восприниматься как предыстория
«Петербургского» текста. Не будь «прорыва» к теме Петербурга
327
в 40-е годы XIX в. в русской литературе, возможно, и более ранние
«петербургские» опыты не были бы позже как бы «подверстаны» в
качестве предыстории к истории «Петербургского» текста.
4. СЕРДЦЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДОСТОЕВСКОГО
РАННЕГО ПЕРИОДА
За указанные годы были написаны и изданы одиннадцать произведений
Достоевского. Даже в самом коротком (6 с небольшим страниц, см. ПСС.
Т. 2. 95-101) рассказе «Елка и свадьба» однажды появляется слово сердце.
Но все эти тексты «петербургские», и этот факт вполне закономерен:
ничего более противоположно го, чем Петербург Достоевского и
сердце-сердечность представить себе в русской литературе 40-х годов XIX в.
невозможно: именно в Петербурге сердце особенно беззащитно, и иногда
кажется, что они друг с другом несовместимы. Но можно увидеть эту
ситуацию и иначе, предположив, что единственная альтернатива петербургским
бездне и хаосу именно такое страдающее сердце.
Эти одиннадцать произведений, содержащих слово сердце и другие
слова того же корня, в хронологическом порядке выстраиваются в
следующую цепочку: «Бедные люди» (1846) & «Двойник» (1846) & «Господин
Прохарчин (1847) & «Хозяйка» (1847) & «Роман в девяти письмах» (1847)
& «Ползунков» (1848) & «Честный вор» (1848) & «Слабое сердце» (1848)
& «Чужая жена и муж под кроватью» (1848) & «Белые ночи» (1848) &
«Неточка Незванова» (1849). В ПСС Достоевского (т. 1-2) эти тексты
формально занимают 571 ее. (13-320 и 5-94, 102-398), реально же -
около 560 (с учетом того, что первая и последняя страница каждого
отдельного текста обычно заняты не полностью). На этом пространстве
размещено не менее 450 примеров употребления слова сердце и других с тем же
корнем (сердечный, сердечно, сердитый, сердито, сердить(ся) и др.). Из
этих данных следует, что число примеров примерно на 110-120 меньше
числа страниц, а если быть более точным, то это означает, что на одну
страницу текста приходится в среднем 0,8 примера со словами корня серд-\
иначе говоря, на каждые две страницы текста в среднем же выпадает три
соответствующих примера (на 10 страниц - 8 примеров и т.п.) (нужно
заметить, что при подсчете количества употреблений слова сердце и од-
нокоренных с ним при таком значительном текстовом массиве следует
предполагать некоторые невольные упущения, которые, однако, очень
редки и никак не нарушают общей картины). Такая частотность
употребления слов с корнем серд- должна быть признана весьма высокой, если не
исключительной, - тем более что ни к анатомии, ни к медицине слово
сердце и под. никакого отношения не имеют. Такая степень
насыщенности ранних произведений Достоевского подобными примерами -
редчайшее явление для художественно-литературных текстов, да и для
последующих произведений писателя, хотя и в них слово сердце и однокоренные
с ним слова употребляются часто и в сходных контекстах, нередко даже
более емких. Все это исключает предположение о случайности этого
«сердечного» взрыва в произведениях Достоевского и, напротив,
вынуждает видеть в этом обилии обращений к теме сердца горячность сердца
328
самого автора, ту «умышленность» (а она всегда сознательна и
намеренна), которую именно Достоевский открыл в Петербурге, «самом
умышленном городе на свете»20.
I. БЕДНЫЕ ЛЮДИ
В русской литературе Достоевский дебютировал Бедными людьми,
обозначенными как роман. В раннем периоде творчества Достоевского это
произведение было одним из наиболее пространных, уступавших по объему
только «Неточке Незвановой» и «Двойнику». Существенно рассмотреть,
как вводится в этот роман тема сердца, во-первых, и, во-вторых, напомнить,
что по числу употребления слова сердце и однокоренных Бедные люди
занимают третье место (около 60 примеров) после «Хозяйки» (121 пример) и
«Неточки Незвановой» (115 употреблений).
В Бедных людях слова с корнем серд- встречаются около 60 раз на
пространстве в 95 страниц. Следовательно, на каждые 1,6 страницы приходится
в среднем одно слово с этим корнем. Разумеется, на первом месте по
количеству употреблений идет слово сердце и его варианты. Существенны сами
контексты, в центре которых находится слово сердце, особенно глаголы и
прилагательные. Ср.: «... вдруг, невзначай, подымаю глаза, - право, у меня
сердце вот так и запрыгало! Так вы-таки поняли, чего мне хотелось,
чего сердчишку моему хотелось» (т. 1, 13); а хотелось - и это
случилось, - чтобы Варенька отогнула угол занавески у окна, чтобы можно
было увидеть ее «миловидное личико»); «Однако же в воображении моем
так и засветлела ваша улыбочка, ангельчик ... и на сердце моем было
точно такое ощущение, как тогда, как я поцеловал вас» (13-14)21; «Я умею
оценить в моем сердце все, что вы для меня сделали, защитив
меня от злых людей» (21; до сих пор сердце упоминается в связи с теми
чувствами, которые связывают Макара Девушкина с Варенькой); «слышу
всхлипывание, потом шепот, потом опять всхлипывание, точно как будто
плачут, да так тихо, так жалко, что у меня все сердце
надорвало с ь, а потом всю ночь мысль об этих бедняках меня не покидала
...» (24; первая определенно выраженная отсылка к причине «сердечного»
надрыва; неприятности у соседа Горшкова, непролазная бедность - «Бедны-
то они, бедны - Господь, Бог мой!»; чем дальше, тем больше усиливается
мотивация этого расстройства сердца, тоски, позже и отчаяния); «Я
мучилась ... какой-то страшный сон, какое-то ужасное видение посетило мою
расстроенную голову в томительную минуту борьбы сна с бдением. Я
проснулась в ужасе ... Мне стало отчего-то страшно, какой-то ужас напал на
меня; воображение мое взволновано было ужасным сном; тоска
сдавила мое сердц е... (37; и у Вареньки своя «моя тоска» и свое «мое
сдавленное сердце», свои заботы, первое предвестие будущего неблагополучия);
«Повторяю, что я была в престранном расположении духа; сердце мое
было мягко, в глазах стояли слезы» (38); «И право не помню, о чем мы
не переговорили с ним в эти мучительные и вместе с тем сладкие часы
наших свиданий ... Обо всем, что на ум приходится, что с сердца срывалось,
что просилось высказаться ... и когда сердцу становится тяжело,
больно, томительно, грустно, тогда воспоминания свежат и
329
живят его ... новые мысли, новые впечатления разом, обильным потоком
прихлынули к моему сердцу... Разом, вдруг, втолпились они в
мое сердце, не давая ему отдохнуть» (39); Но всего более истерзали и
измучили меня его (Покровского. - В.Т.) последние мгновения. Он чего-то
все просил долго-долго коснеющим языком своим, а я ничего не могла
разобрать из слов его. Сердце мое надрывалось от боли! (44); «Все это
правда, маточка, все это совершенная правда; и я действительно таков, как вы
говорите, и сам это знаю; но как прочтешь такое ... так поневоле
умилится сердце, а потом разные тягостные рассуждения придут»
(46-47); «Говорить же о бедной моей матушке, оставившей свое бедное
дитя в добычу этим чудовищам, мне тяжелее всего. У меня сердце
кровью обливается при одном воспоминании (49); «А хорошая вещь
литература, Варенька, очень хорошая ... Глубокая вещь! Сердце людей у к -
репляющая, поучающая... (51; впервые не о своем «моем»
сердце, но о сердце, точнее сердцах людей; «объективное» свидетельство не о
себе, но о других, о «третьих» лицах, об их множестве); «Верю, друг мой, я
верю в ваше доброе сердце-но это вы теперь так говорите ...
Надрываться с тоски, глядя на вас обоих, сердечных» (57); «Зол он (чужой
человек. - В.Т.), Варенька, зол, уж так зол, что сердечка твоего
недостанет, так он его истерзает укором, попреком да взглядом дурным» (58); «Да
и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же г о ρ е м ы к
сердечных! И как ловко описано все» (59); «Не самолюбие заставляет
меня писать теперь о моем спокойствии, но моя дружба и любовь к вам,
которые ничем не изгладятся из моего сердца» (65);
«Посылаете мне еще полтинничек, Варенька, и этот полтинничек мне мое
сердце пронзил» (65); «Вы это все резонное-то только так говорите,
а я уверен, что насердце-тоу вас вовсе не то» (66); «Я этому верю,
Варенька, и в доброту ангельского сердечка вашего верю» (68); «Какой у
вас странный характер, Макар Алексеевич! Вы уж слишком сильно все
принимаете к сердцу; от этого вы всегда будете
несчастнейшим человеком... Все, конечно, скажут, что у вас доброе
с е ρ д ц е, но я скажу, что оно уже слишком доброе» (75); ... и теперь
живете только тем, что я живу: моими радостями, моими горестями, моим
сердцем! Если принимать все чужое так к сердцу,
и если так сильно всему сочувствовать, то, право, есть отчего быть
несчастнейшим человеком... Вы были такой бледный, перепуганный,
отчаянный: на вас лица не было ... а как увидели, что я чуть не засмеялась,
то у вас почти все отлегло от сердца» (76); «Да уж если все
говорить, так и с е ρ д ц е-то мое все радостию переполнилось ... Ну, хорошо; что
уж теперь об с е ρ д ц е-то моем говорить! Сердце само по себе ... (76);
«Маточка моя, я не зол и не жестокосерден; а для того чтобы
растерзать сердечко ваше, голубка моя, нужно быть не более, не менее как
кровожадным тигром, а у меня сердце овечье» (81); «Тридцать копеек
серебром мне прислали, а потом прислали мне двугривенничек; у м е н я
сердце и заныло, глядя на ваши сиротские денежки ... а как вы мне
явились, так что и сердцеи душа моя осветилисьия обрел
душевный покой ... (82);... ужас пройдет по с е ρ д ц у, и бежишь-бежишь так, что
дух занимается» (84, из воспоминаний Вареньки); «И чему научится б е д -
330
ный мальчике этими записками? Только сердце его
ожесточается; ходит он, бегает, просит. Ходят люди, да некогда им. Сердца у
них каменные, слова их жестокие. «Прочь! убирайся! шалишь!» Вот
что слышит он от всех, и ожесточается сердце ребенка, и дрожит
напрасно на холоде бедненький, запуганный мальчик» (87); «Это, может
быть, слишком вольная мысль, родная моя, но эта мысль иногда приходит и
тогда поневоле из сердца горячим словом выбивается
(89); ... знаю ваше доброе сердце, знаю, что вы сами
нуждались, что сами и теперь бедствия испытываете - и что с е ρ д ц е-т о ваше
потому и чувствует сострадание» (90); «Батюшка, Макар Алексеевич, -
говорит он мне, - я многого и не прошу, а вот так и так (тут он весь
покраснел), жена, говорит, дети, - голодно - хоть гривенничек какой-нибудь. Ну,
тут уж мне самому сердце защемило» (90); «Задрожало
у менясердцев груди, и уж сам не знаю, чего я испугался» (92); «Они
(Его превосходительство. - В.Т.) не одного меня облагодетельствовали и
добротою сердца своего всему свету известны» (95); «вы
посмотрите-ка, дождь как из ведра льет, и такой мокрый дождь, да еще... то, что вам
холодно будет, мой ангел ьчик; с е ρ д е ч к у-т о вашему будет холодно!»
(102); «Да как же, с кем же вы теперь будете? Там вашему сердечку
будет грустно, тошно и холодно. Тоска его высосет,
грусть его пополам разорвет. Вы там умрете» (106-107); «Где мне вас
найти потом, ангельчик мой? Я умру, Варенька, непременно умру; не π е -
ренесет мое сердце такого несчастия» (107)22.
II. ДВОЙНИК
Следующим произведением Достоевского, опубликованным, как и
Бедные люди, в 1846 г., был «Двойник. Петербургская поэма», довольно
пространная для текстов писателя в этот ранний период его творчества (ПСС 1,
109-229) и вместе с тем довольно бедная примерами на слова с корнем серд-,
Обозначение «Двойника» как Петербургской поэмы, особенно учитывая ее
героя, то, что с ним произошло (а также, видимо, и душевное состояние
самого автора), весьма значимо:23 история Голядкина органически связана с
Петербургом, и вся она «разыгрывается» именно в Петербурге, где живет не
только главный персонаж поэмы, но и другой Голядкин, настоящий,
сам автор. В письме Достоевского к брату Михаилу Михайловичу (начало
сентября 1845 г. Петербург) тогдашнее состояние Федора Михайловича не
вызывает сомнений.
Как грустно было мне въезжать в Петербург. Я смутно
перечувствовал всю мою будущность в эти смертельные три часа нашего
въезда ... мне Петербург и будущая жизнь петербургская
показались такими страшными, безлюдными, безотрадными, а
необходимость такою суровою, что если б моя жизнь прекратилась в эту
минуту, то, кажется, с радостию бы умер. Я, право, не
преувеличиваю. Весь этот спектакль решительно не стоит свечей. Ты, брат,
желаешь побыть в Петербурге. Но если приедешь, то приезжай
сухим путем, потому что нет ничего грустнее и безотраднее
въезда в него с Невы и особенно ночью ... Ах, брат, какое грустное
331
дело одиночество ... Ах, брат, ты не поверишь, как бы я желал
теперь хоть два часочка пожить вместе с вами. Что-то будет, что-то
будет впереди?Я теперь настоящий Голядкин,которым
я, между прочим, займусь завтра.
И приписка: «Голядкин выиграл от моего сплина. Родились две мысли и
одно новое положение [...]» (ПСС, т. 28, книга первая, 111-112)24.
Текст «Двойника», как уже указывалось, обширен, но количество
примеров со словом сердце весьма невелико - 14; иначе говоря, в среднем это
слово встречается около одного раза на 8 страниц. Вообще приблизительно
этого и следовало ожидать: у Голядкина не в порядке было с головой, а не с
сердцем. Впрочем, бывали моменты для Голядкина важные, когда ему
предстояло что-то особое и вызывавшее волнение. Таким было и то первое
утро, с которого начинается Петербургская поэма. Голядкин «что-то все
шептал себе под нос», «был крайне рассеян, потому что почти не заметил
улыбочек и гримас на свой счет помогавшего ему одеваться Петрушки». И
когда все уже было готово, он «торопливо, суетливо, с маленьким
трепетанием сердца сбежал с своей лестницы» (112). Карета остановилась
у пятиэтажного дома на Литейной. Голядкину предстояло побывать у
доктора Крестьяна Ивановича. У пациента были сомнения, чувство
неуверенности, потому человек он был деликатный - «так ли будет все это? Прилично
ли будет? Кстати ли будет? Впрочем, ведь что же, - продолжал он,
подымаясь на лестницу, переводя дух и сдерживая биение сердца, имевшего
у него привычку биться на всех чужих лестницах, - что же? Ведь я про свое
и предосудительного здесь ничего не имеется... Скрываться было бы глупо»
(113). Голядкин был еще и робок. Но ему надо бы высказаться перед Кре-
стьяном Ивановичем - «и обращаюсь к Кларе Олсуфьевне (дело-то было
третьего дня у Олсуфья Ивановича), - а она только что романс пропела
чувствительный, - говорю, дескать, «чувствительно пропеть вы романс
изволили, да только слушают-то вас не от чистого сердц а»... (120). И вот
Голядкин в доме Олсуфья Ивановича, разговаривает с Герасимычем,
понимая, что «минута для него настала решительная» ... Господин Голядкин был
в волнении. Господин Голядкин почувствовал какое-то вдохновение и
дрожащим, торжественным голосом начал снова ...: - Нет, мой друг,
меня никто не зовет ... Олсуфий Иванович, благодетель мой с незапамятных
лет, заменивший мне в некотором смысле отца, закажет для меня дверь
свою в минуту семейной и торжественнейшей радости для его сердца
родительского ... (136). И вот «утомленная танцем, Клара Олсуфьевна ...
упала наконец в изнеможении сил в кресла. Все сердца устремились к
прелестной очаровательнице ...» (137). И два десятка страниц спустя -
«господин Голядкин был в умилении, был истинно тронут ... и даже несмотря на
то что история его гостя была самая пустая история, все слова этой истории
ложились на с е ρ ц е его, словно манна небесная. Дело в том, что господин
Голядкин забывал последние сомнения свои, разрешил свое сердце
на свободу и радость» (156). И уже при появлении Голядкина-
младшего: «- И огромное пятнышко, вот оно! Вот, позвольте, я здесь его
видел; вот, позвольте... вы только позвольте мне, Яков Петрович, я отчасти
здесь ножичком, я из участия, Яков Петрович, и ножичком от чистого
332
с e p д ц а... вот так, вот и дело с концом...» (164). Голядкин-младший
неотвязен. И вот уже «не помня себя, в стыде и отчаянии, бросился погибший и
совершенно справедливый господин Голядкин куда глаза глядят, на волю
судьбы, куда бы ни вынесло; но с каждым ударом ноги в гранит тротуара,
выскакивало, как будто из-под земли, по такому же точно совершенно
подобному и отвратительному развращенностью сердца
господину Голядкину... Тоска подходила такая, как будто кто сердце выедал из
груди...» (187). И далее - «долго не думая, чувствуя, впрочем, сильное
трепетание сердцаи дрожь во всех членах, побежал он вслед за
приятелем своим вверх по лестнице» (193-194, ср. 112); «- Это вы, Яков
Петрович, только так говорите, что он хлеб-то ваш ел, - отвечал, осклабясь,
Антон Антонович, и в голосе его было слышно лукавство, так что по
сердцу скребнуло у господина Голядкина» (198); «Тебя покамест не
нужно, а между тем дело, может быть, и уладится к лучшему» ...сердце его
замирало; он еще не решался... Как ему быть, что ему делать ... (212). И уже
в финале - «Глухо занывало сердце в груди господина Голядкина;
кровь горячим ключом била ему в голову; ему было душно ... Он впал
наконец в забытье...» (229). Когда же он очнулся, увидел Крестьяна Ивановича
(дважды повторено - ужасного) и услышал - «Вы получаит казенный
квартир, с дровами, с лихт и с прислугой, чего ви недостоин», прозвучавшее как
приговор, «герой наш вскрикнул и схватил себя за голову. Увы! он это
давно уже предчувствовал!»25
III. РОМАН В ДЕВЯТИ ПИСЬМАХ
«Роман в девяти письмах» (1847) короток (ПСС, т. 1, 230-239) и
существенным образом выбивается из тематики и проблематики основной части
раннего периода творчества. Говорить о сердцев трезво-прозаической
«переписке» двух шулеров, в тексте, писавшемся для юмористического
альманаха Зубоскал, который, однако, был запрещен цензурой, было бы,
конечно, странно. Тем не менее трижды это слово появляется в переписке.
Ноября 11-го Петр Иванович пишет к Ивану Петровичу:
Не снисхожу до объяснений касательно остальных пунктов,
изложенных в вашем письме. Вижу, что это недоразумение, вижу в этом вашу
обычную скорость, горячность и прямоту. Знаю, что благодушие и
открытый характер ваш не позволят оставаться сомнению в сердце
вашем и что наконец вы же сами протянете первый мне руку вашу.
Вы ошиблись, Иван Петрович, вы крайне ошиблись (235).
Через три дня, Ноября 14-го, Иван Петрович отвечает своему
«перевернутому» «Двойнику», бросая ему вызов:
Но вы меня понимали; не отвечали же мне так, как следует, потому,
что вероломством души своей положили заране изменить своему
честному слову и существовавшим между нами приятельским
отношениям. Совершенно же доказали вы это гнусным поведением вашим
относительно меня в последнее время... я полагал, что нашел
истинного друга, приятеля и доброжелателя. Теперь же ясно познал, что
есть много людей, под льстивою и блестящею наружностью скрыва-
333
ющих яд в своем сердце, употребляющих ум свой на
устроение козней ближнему ... (236).
В последнем своем письме к Ивану Петровичу от Ноября 15-го Петр
Иванович принимает вызов и отвечает соответственно:
Получив ваше мужицкое и вместе с тем странное послание, я в
первую минуту хотел было разорвать его в клочки, - но сохранил для
редкости. Впрочем, сердечно сожалею о недоразумениях и
неприятностях наших. Отвечать вам я было не хотел. Но заставляет
необходимость. Именно сими строками объявить вам нужно, что
видеть вас когда-либо в доме моем мне будет весьма неприятно, равно
и жене моей: она слаба здоровьем и запах дегтя ей вреден (238).
IV. ГОСПОДИН ПРОХАРЧИН
В «Господине Прохарчине», опубликованном в 1846 г. в Отечественных
записках (№ 10), слово сердце встречается лишь дважды на 23 страницах
(ПСС, т. 1,240-263); иначе говоря, в среднем одно появление этого слова
приходится на 11 с половиной страниц. Этому тоже не приходится особенно
удивляться, учитывая, что главный персонаж «рассказа» (этим словом помечен в
заглавии «Господин Прохарчин») - Прохарчин и зная, какой человеческий
тип он представляет. Жизнь сердца и сердцем, по крайней мере, в
описываемый писателем период жизни Прохарчина, плохо вяжется с этим персонажем,
и его закрытостью и сознательно принятой на себя ролью бедняка и - это уж
подлинно - находящегося в атмосфере страха за свое будущее. А в
учреждении, где под началом «самого» Демида Васильевича служил Прохарчин,
распространялись слухи (отчасти, видимо, и провокационные, в расчете на их
«недалекого» сослуживца), что «женатые чиновники 'выйдут посолиднее'
неженатых и к повышению чином удобнее, ибо смирные и в браке значительно
более приобретают способностей», что вскоре «последует немедленно вычет
у получающихся жалованье и на складочную сумму устроится такой зал, где
будут учить танцевать, приобретать все признаки благородства и хорошее
обращение, вежливость, почтение к старшим, сильный характер, доброе,
признательное сердце и разные приятные манеры» (244-245). Но
все это превышало возможности Прохарчина, и страх быть уволенным все
время возрастал и толкал его на неадекватные решения. Сожители его по
квартире Устиньи Федоровны замечали эти перемены в Прохарчине, «все
принимали действительное участие в судьбе Семена Ивановича и весьма
сердобольничали» (252), но немного и «разыгрывали» его, что и
кончилось печально. Ночью за ширмами, где лежал больной Прохарчин,
«раздался такой крик, что встрепенулся бы мертвый ... Поднялась суматоха; у всех
сердце упало...и увидели, что дерутся друг с другом Зимовейкин и Рем-
нев ... Тотчас же разлучили бойцов, оттащили их и увидели, что Господин
Прохарчин лежит под кроватью, должно быть в совершенном беспамятстве ...
Вытащили Семена Ивановича, протянули его на тюфяк, но сразу заметили,
что хлопотать было нечего, что капут совершенный» (258). Оказалось, что
никто не понимал Прохарчина правильно. Прост был он, проста и Устинья
Федоровна, и оба проиграли свою партию.
334
V. ХОЗЯЙКА
В 1847 г. в Отечественных записках (№ 10) появилась «Хозяйка.
Повесть», по объему уступающая только «Неточке Незвановой» и «Двойнику»
(см. ПСС, т. 1, 264-320), но на несколько примеров превосходящая даже
'Неточку Незванову' по числу употреблений слова сердце. В «Хозяйке» это
слово встречается несколько более 120 раз, тогда как в «Неточке Незвановой»
несколько менее 120 раз. Нужно сказать что эти два произведения
Достоевского являются отмеченными в отношении темы сердца: и Катерина, и Му-
рин, и Ордынов - люди с богатой внутренней жизнью сердца,
направляющего их поступки и действия, и все они принадлежат в конечном счете к тем,
кто представляет русскую мистическую стихию, независимо от того, к
какому социальному слою они относятся. Как бы ни оценивать эту повесть, в
творческом наследии Достоевского она занимает важное (можно сказать,
особое) место26. В ней писатель открыл для себя некую новую стихию, столь
существенную для русской народной психеи и впервые столь
завораживающе и с глубоким проникновением им описанную. С этой стихией входит в
соприкосновение и Ордынов, первый по времени у Достоевского образ
«мечтателя», человека, которого «пожирала страсть самая глубокая, самая нена-
сытимая, истощающая всю жизнь человека и не выделяющая таким
существам, как Ордынов, ни одного угла в сфере другой, практической, житейской
деятельности. Эта страсть была - наука. Она снедала покамест его
молодость, медленным, упоительным ядом отравляла ночной покой ... Страсть
Ордынова была обращенным на него же оружием» (265). Сознавая, что
тезис о науке как страсти Ордынова говорит о сути этой страсти
недостаточно, писатель поясняет более подробно и аналитически:
В нем было более бессознательного влечения,
нежели логически отчетливой причины учиться и знать, как и во всякой
другой, даже самой мелкой деятельности, доселе его занимавшей.
Еще в детских летах он прослыл чудаком и был непохож на
товарищей. Родителей он не знал; от товарищей за свой странный,
нелюдимый характер терпел он бесчеловечность и грубость, отчего
сделался действительно нелюдим и угрюм и мало-помалу ударился в
исключительность. Но в уединенных занятиях его никогда, даже и теперь,
не было порядка и определенной системы;
теперь был один только первый восторг, первый жар, первая
горячка художника. Он сам создавал себе систему; она
выживалась в нем годами, ив душе его мало-помалу восставал еще
темный, неясный, но как-то дивно-отрадный образ идеи,
воплощенной в новую, просветленную форму, и эта форма просилась из
души его, терзая эту д у ш у; он еще робко чувствовал
оригинальность, истину и самобытность ее: творчество уже сказывалось силам
его; оно формировалось и крепло. Но срок воплощения и создания
был еще далек, может быть, очень далек, может быть, совсем
невозможен! (265-266).
Теперь, «отчужденный, как отшельник», бродил по улицам,
переулкам и площадям «отдаленного от центра города конца Петербурга» и
335
«видел, что его принимали за сумасшедшего или за оригинальнейшего
чудака» (266, 267). Он был на той грани, где болезнь души не отделима
как от тоски, так и от восторгов, как от уныния, так и от страсти. И
жертвой этого оказывалось прежде всего сердце Ордынова. Само это
слово поразительно полно насыщает текст «Хозяйки», на каждую страницу
которой приходится в среднем 2,1 раза употребления слова сердце
или - иначе говоря - на каждой полустранице (в среднем же) находится,
это слово. В некоторых фрагментах повести образуются такие сгущения
этого слова, до 5-8 употреблений (см. далее), что возникают основания
говорить о принадлежности таких фрагментов к своего рода тексту
«сердца». Ниже следуют примеры контекстов, в которых появляется
слово сердце, образующее чаще всего сам центр этих контекстов. Итак,
Вечер был осенний, холодный и мрачный; молодой человек был
задумчив, и какая-то бессознательная грусть
надрывала его сердце. В глазах его был огонь; он
чувствовал лихорадку, озноб и жар попеременно (265).
Часто какая-нибудь мелочь поражала его, рождала
и д е ю, и ему впервые стало досадно за то, что он так заживо погреб
себя в своей келье. Здесь все шло скорее; пульс его был полон и
быстр, ум, подавленный одиночеством, изощряемый и возвышаемый
лишь напряженною, экзальтированной деятельностью, работал
теперь скоро, покойно и смело. К тому же ему как-то
бессознательно хотелось втеснить как-нибудь в себя эту для него чуждую
жизнь, которую он доселе знал или, лучше сказать, только верно
предчувствовал инстинктом художника. Сердце его невольно
забилось тоскою любви и сочувствия. Он внимательнее
вглядывался в людей, мимо него проходящих; но люди были чужие,
озабоченные и задумчивые... И мало-помалу беспечность Ордынова
стала невольно упадать; действительность уже подавляла его,
вселяла в него какой-то невольный страх уважения (266).
Там он зажег свечу - и через минуту образ плачущей женщины ярко
поразил его воображение. Так пламенно, так сильно было
впечатление, так любовно воспроизвело его сердце эти
кроткие, тихие черты лица, потрясенного таинственным умилением
и ужасом, облитого слезами восторга или младенческого покаяния,
что глаза его помутились и как будто огонь пробежал по всем его
членам (269).
В том месте, где стояли они оба, было совершенно темно, и только
по временам тусклое пламя лампады ... озаряло трепетным блеском
лицо ее, которого каждая черта врезалась в память юноши, мутила
зрение его и глухою, нестерпимою болью надрывала его
сердце. Но в этом мучении было свое исступленное упоение.
Наконец он не мог выдержать; вся грудь его задрожала и изныла в
одно мгновение в неведомо сладостном стремлении, и он, зарыдав,
склонился воспаленной головой своей на холодный помост церкви.
336
Он не слыхал и не чувствовал ничего, кроме боли в сердце
своем, замиравшем в сладостных муках (270).
Одиночеством ли развилась эта крайняя впечатлительность,
обнаженность и незащищенность чувства; приготовлялась ли в
томительном, душном и безвыходном безмолвии долгих, бессонных ночей,
среди бессознательных стремлений и нетерпеливых потрясений духа,
эта порывчатость сердца, готовая наконец разорваться
или найти излияние ... (270-271).
Ордынов опять встретил желчный и насмешливый взгляд его, и
какая-то странная злоба вдруг стеснила ему сердце... Но
свежий вечерний воздух не мог освежить его: дыхание спиралось и
сдавливалось в его груди, и сердце стало биться
медленно и крепко, как будто хотело пробить ему
грудь (271).
Они стали уговариваться, но бессвязно и едва понимая друг друга.
Ордынов за два шага от нее слышал, как стучало его серд-
ц е; он видел, что она вся дрожала от волнения и как будто от страха
(272).
Сердце его (Ордынова. - В.Т.) так билось, что в глазах
зеленело и голова шла кругом ... Поминутно сиял в его глазах образ
женщины, встреча с которою взволновала и потрясла все его
существование, который наполнял его сердце таким
недержим ым, судорожным восторгом- столько
счастья прихлынуло разом в скудную жизнь его, что мысли его темнели
и дух замирал в тоске и смятении (273).
Но усилие только и повергало его в страдание, в пытку. Озноб и жар
овладевали им попеременно, и по временам сердце начина-
л о вдруг стучать так, что приходилось прислониться к стене.
«Нет, лучше смерть, - думал он, - лучше смерть», - шептал он
воспаленными дрожащими губами ... (274).
Он (Ордынов. - В.Т.) еще был очень слаб. Озноб пробежал по спине
его, все члены его болели как будто были разбиты. Но на сердце
его было ясно, и лучи солнца, казалось, согревали его какою-то
торжественною, светлою радостью. Он чувствовал, что новая, сильная,
невидимая жизнь началась для него (275).
... я на тебя как на солнце смотрю, - сказал он, как будто отрывая от
сердца слова свои, замирая от восторга ... Я тебя с первых слов в
сердце приняла (276, ср. отрывать от сердца и принимать в сердце).
Вдруг горячий, долгий поцелуй загорелся на воспаленных губах его,
как будто ножом его ударили в сердце. Он слабо вскрикнул и
лишился чувств... (277).
Он отогнал рои светлых духов ... и стал по целым ночам
нашептывать ему длинную, дивную сказку, невнятную для сердца дитяти,
но терзавшую, волновавшую его ужасом и недетскою страстью
(279).
337
Тут татарин, с излишком сердца входивший в интересы
Мурина, даже засмеялся от радости (282).
Не думаю, Василий Михайлович; он столько пострадал; мне
кажется, он чист своим сердцем (287).
В грудь его залегло какое-то тяжелое, гнетущее чувство. Сердце
его ныло, как будто все изъязвленное, и вся душа была полна
глухих, неиссякаемых слез (288).
Он слышал: одно тяжелое, болезненное, прерывистое, другое
тихое, но неровное и как будто тоже взволнованное, как будто там
билось сердце одним и тем же стремлением, одною и тою
же страстью ... и даже этот шелест ноги ее отдавался глухою, но
мучительно-сладостною болью в его сердце... Кто же она? За
кого она просит? Какою безысходною страстью смущено ее
сердце? Отчего оно так болит и тоскует и выливается в таких
жарких и безнадежных слезах?.. Он начал припоминать ее слова.
Все, что она говорила ему, еще звучало в ушах его, как музыка, и
сердце любовно отдавалось глухим, тяжелым ударом на каждое
воспоминание, на каждое набожно повторенное ее слово... Опять
как будто сердце пронзающая музыка поразила
слух его (289, пятикратное употребление слова сердце менее,
чем на странице).
Тогда мне на с е ρ д ц е стала тоска западать, горькая тоска! Я же все
молилась, все молилась, и вот это и нашло на меня (290).
... такая безысходная печаль поразила разом все черты ее, так
неожиданно закипело изнутри, из сердца ее отчаяние ...
Слушай, что я скажу тебе, - говорила она голосом, пронзающим
сердце ... - Слушай меня хорошо, слушай, радость моя! Ты
укроти свое сердцеине люби меня так, как теперь
полюбил. Тебе легче будет, сердцу станет легче и радостнее ... за то
полюблю, что, когда глядишь, твои глаза любят и про сердце твое
говорят ... и за то тебе жизнь отдать хочется на твою любовь, добрую
волюшку, затем, что сладко быть и рабыней тому, чье сердце
нашла.. да жизнь-то моя не моя, а чужая, и волюшка связана! ... и меня
в свое сердце прими, когда опять тоска, злая немочь нападет на
меня ... Слышал меня? Открыл ли мне сердце свое? (291;
восьмикратное употребление слова сердце менее чем на странице;
все - из сердца, сердцем, через сердце, в сердце).
Я не знаю, не понимаю тебя, я не помню, что ты мне теперь говорила,
разум тускнеет мой, сердце ноет в груди ... Рыдания судорожно,
с болью прорвались наконец из груди его, и пробившийся прямо из
сердца голос задрожал, как струна, от всей полноты неведомого
восторга и блаженства ... Кто ты, кто ты, радость моя?.. Как ты нашла
мое сердце? ... По ком заныло первый раз твое девичье
сердце и за что ты его отдала? ... Скажи мне, любушка, свет
мой, сестрица моя, скажи мне, чем же мне твое сердце нажить?
(292; пятикратное употребление слова сердце на 2/3 страницы).
Через минуту она тихо заплакала; сердце Ордынова билось и
ныло в страшной тоске... и когда я вслушиваюсь в его
голос, то словно это не он говорит, а кто-то другой, недобрый, кого
ничем не умягчишь, ничем не замолишь, и тяжел о-т я ж е л о
станет на сердце, горит оно... Тяжелей, чем когда начиналась
тоска (293).
Слушай, слушай! Это давно уже было, очень давно, я и не помню
когда, а все как будто вчера передо мною, словно сон вчерашний, что
сосал мне сердце всю ночь ... но Ордынов, все понимал,
затем что жизнь ее уже стала его жизнию ... и затем, что враг его уже
въявь стоял перед ним, воплощался и рос перед ним в каждом ее
слове и как будто с неистощимой силой давил его сердце и
ругался над его злобой. Кровь его волновалась, заливала
сердце и путала мысль (294; троекратное употребление слова сердце).
Вдруг слышен в полночь стук у ворот; я вскочила, кровь
залила мое сердце (295).
Я почуяла сердцем в тот час, что дома у нас нездорово ...
Отворила я окно - горит лицо, плачут очи, жжет сердце
неугомонное (296).
Из твоей девичьей воли не выйду; вот и веревка, вяжи, коли
сердце велит за обиду свою заступиться... Я засмеялась; и сама не
знаю, как его нечистая речь в мое сердце дошла ... Пусти же
меня, красная девица, прогуляться вниз, свое сердце изведать...
я вся дрожу, стучу зубом об зуб, а сердце словно железо
каленое (297).
Говорит, а сам усмехается; жгло его сердце по мне ... я
сердце осилила ... светлицу свою девичью в темную ночь
опозорила, за смертный грех душу свою продала да сердца своего
не сдержала безумного (298; троекратно - сердце).
Но грусть, тяжелая, бесконечная, в то же время все более и более
давила его сердце... Сердце его ныло, болезненно
обливаясь кровью и не давая слез уязвленной душе его ... А то мне
горько и ρ в е τ мне сердце, что я рабыня его опозоренная, что
позор и стыд мой самой, бесстыдной, мне люб, что любо
жадному сердцу и вспомнить свое горе, словно радость и счастье ...
Сердце его рвалось прижаться к ее сердцу и страстно
в безумном волнении забыться в нем вместе, застучать в лад тою же
бурею, тем же порывом неведомой страсти и хоть замереть с ним
вместе. Катерина ... улыбнулась так, что удвоенным
потоком огня обдало его сердце... Ты сгубила меня!
Я твоего горя не знаю, и душа моя смутилась... Что мне до того, об
чем плачет твое сердце! ... Еще расскажу; только будешь ли,
будешь ли слушать меня, горячее сердце? ...и смутилось
в нем сердце,- много сказать захотелось, а теперь душа у меня
помертвела, как завидел тебя;... Я теперь сиротинушка, хозяин свой,
и душа-то моя своя, не чужая, не продавал ее никому, как иная, что
339
память свою загасила, а сердце не покупать стать, даром отдам,
да, видно, дело оно наживное (299-300; сердце - 12 раз меньше чем
на двух страницах!).
Что ж? зарежет небось? - отвечала, смеясь, Катерина. - Доброй
ночи тебе, сердце мое ненаглядное, голубь горячий мой, братец
родной! - говорила она ... Вместе с сознанием воротилась и память, и
сердце его дрогнуло, когда в один миг пережил он
воспоминанием всю прошлую ночь. Сердце его сильно билосьв
ответ на его раздумье ... Почти в эту ж минуту, как бы в ответ на
тоску его, в ответ его задрожавшему сердцу, зазвучал
знакомый ... голос Катерины ... (302; сердце - 5 раз).
Голос то возвышался, то опадал, судорожно замирая, словно тая про
себя и нежно лелея свою же мятежную муку ненасытимого,
сдавленного желания, безвыходно затаенного в тоскующем сердце;
то снова разливался соловьиною трелью и, весь дрожа, пламенея уже
несдержимою страстию, разливался в целое море восторгов, в море
могучих, беспредельных, как первый мир блаженства любви, звуков
... И то слышался ему последний стон безвыходно
замершего в страсти сердца, то радость воли и духа,
разбившего цепи свои и устремившегося светло и свободно в неисходное море
невозбранной любви ... Встань, приди к нам, пробудись на светлую
радость; ждем тебя, я да хозяин, люди все добрые, твоей воле
покорные; загаси любовью ненависть, коли все еще сердце обидой
б о л и τ... В этот миг он не видал, не слыхал никого, кроме ее.
Мгновенно вся жизнь, вся радость его слились в одно его сердце-в
светлый образ его Катерины ... Словно две зари души красной
девицы, - промолвила, смеясь, Катерина, - одна, что первым стыдом
лицо разрумянит, как впервинки скажется в груди одинокое
девичье сердце, а другая, как забудет первый стыд красная
девица, горит словно полымем, давит девичью грудь и гонит в лицо
румяную кровь... С звонким, как музыка, смехом взяла она руку
Ордынова и ввела его в комнату. Робость вошла в его сердце.
Все пламя, весь пожар, пламеневший в груди его, словно истлели и
угасли в один миг ... (303; шестикратное употребление слова сердце).
Он чувствовал, что она так чудно прекрасна, что не сносить его
сердцу знойного ее взгляда (304)27.
Но оба молча глядели на нее - Ордынов с каким-то изумлением
любви, как будто первый раз такая страшная красота пронзила
сердце его; старик внимательно, холодно ... Она дышала скоро,
прерывисто и по временам жадно впивала в себя воздух, как будто ей
сердце теснило (305).
Выпьем, коли ласково твое с е ρ д ц е ко мне! выпьем за прожитое
счастье, ударим поклон прожитым годам, сердцем за счастье да
любовью поклонимся! Вели ж наливать, коли горячо
твое сердце ко мне! ... Что жить, старинушка, тяжелую думу
за собой волочить; а только сердце ноет с думы тяжелой! ...
Знать, веку минутой одной не прожить, да и девичье сердце
живуче, не угоняешься в лад! ... Один все отдать хочет, взять
нечего, другой ничего не сулит, да за ним идет сердце
послушное (306; шесть употреблений слова сердце).
Скажи, в одиночку ль моему сердцу, молодому, горяч е-
м у, век прожить и до века заглохнуть, иль найдет оно
ровню себе да в лад с ним на радость забьете я... до
нового горя! ... Одушевление ее росло все более и более до
последнего слова, как вдруг ее голос пресекся от волнения, будто какой-
то вихрь увлекал ее сердце... Ордынов слышал,
как вдруг застучало ее сердце, когда она кончила (307;
сердце - трижды).
Какая-то странная смесь презренья, насмешки, нетерпеливого,
досадного беспокойства и вместе с тем злого, лукавого любопытства
светились в этом беглом, мгновенном взгляде, от которого каждый раз
вздрагивал Ордынов и каждый раз наполнял его сердце
желчью, досадой и бессильною злобой ...
Сердце его было уязвлено, слова были сказаны ...
Лихорадочно воспаленная кровь его не могла долее выдержать: она
заливала его сердце, мутила и путала разум... знать,
правду сказало сердечко твое золотое, что один я
ему колдун и правды не потаю от него ... У самой голова - змея
хитрая, хоть исердце слезойобливается! ... Тяжела печаль
человеческая! Да на слабое сердце не бывает беды! Беда с
крепким сердцем знакомится ... (308; сердце - восьмикратно).
... когда станет грызть тебя злая кручинушка, нечистая думушка, -
тогда на твое сердце горячее, все за ту же слезинку, капнет
тебе чья-то иная слеза, да кровавая ... (309).
Она как будто боялась сама дохнуть, сдерживая вскипевшее
сердце. И столько исступленного любования
было в сердце ее, что разом отчаяние, бешенство и
неистощимая злоба захватили дух Ордынова ... Словно демон его шепнул ему на
ухо, что он ее понял... И все сердце его засмеялось на
неподвижную мысль Катерины Неистощимая насмешка
разорвала на части его сердце (310; сердце - четырежды).
Но когда она спрятала у сердца его свою голову, таким
обнаженным, бесстыдным смехом засмеялась каждая черточка на лице
старика, что ужасом обдало весь состав Ордынова. Обман, расчет,
холодное, ревнивое тиранство и ужас над бедным,
разорванным сердцем- вот что понял он в этом бесстыдно не
таившемся более смехе... проговорил Ярослав Ильич ... с б и в-
шись, запутавшись в сердцах на то, что самая
благородная фраза завязла и лопнула даром ... (311; сердце - трижды).
Она, примером сказать, такой ветер, вихорь такой, голова такая
любовная, буйная, все милого дружка ... да зазнобушку в сердце ей
подавай: на том и помешана (314).
341
Огонь на мгновение сверкнул в глазах Ордынова. - Но зачем же я...
зачем я теперь словно жизнь потерял? Зачем же болит мое
сердце? Зачем я спознал Катерину? (316).
Тщеславна она! За волюшкой гонится, а и сама не знает, о чем
сердце блажит. Ан и вышло, что лучше по-старому! Эх,
барин! молод ты больно! Сердце твое еще горячо, словно у
девки, что рукавом свои слезы утирает, покинутая! ... Глупому
сердцу и воля не впрок! Не прожить с таким норовом! ... За нож
возьмется в с е ρ д ц а х (317; сердце - четырежды).
... впервые задрожала, заныла вся грудь его дотоле неведомым
чувством, когда он стал возле нее на колени в Божием храме, забыв обо
всем, и только слышал, как стучало ее робкое сердце, когда
слезами восторга и радости омыл он новую, светлую надежду,
мелькнувшую ему в его одинокой жизни ... тогда буря вставала из
уязвленной навеки души его. Тогда содрогался его дух и мучение любви
жгучим огнем снова пылало в груди его. Тогда сердце его
грустной страстно болело и, казалось, любовь его
возрастала вместе с печалью ... ему казалось, что невредим был рассудок
Катерины, но что Мурин был по-своему прав, назвав его слабым
сердцем... и сердце смущалось и трепетало
бессильным негодованием в груди его. Ему казалось, что перед
испуганными очами вдруг прозревшей души коварно выставляли ее же
падение, коварно мучили бедное слабое сердце, толковали
перед ней вкривь и вкось правду, с умыслом поддерживали слепоту,
где было нужно, хитро льстили наклонностям порывистого,
смятенного сердца ее... да и то, что Ярослав Ильич
взглянул так, как будто избегал встречи с старинным знакомым своим,
почти поразило Ордынова... чудное дело! даже как-то уязвило,
разобидело его сердце, не нуждавшееся доселе ни в чьем
сострадании (319; сердце -1 раз).
Сердце Ордынова готово было пробить грудь от нетерпенья
(320).
Несколько комментариев к приведенным выше примерам
словоупотребления слова сердце в «Хозяйке». Прежде всего нужно отметить, что эта
повесть должна бьть признана в творчестве Достоевского уникальной
в отношении рассматриваемого слова сердце и информации о денотате
этого слова. Выше говорилось, что коэффициент встречаемости этого слова в
тексте «Хозяйки» очень высок - в среднем несколько более двух
употреблений на страницу. Количество страниц, на которых есть слово сердце, почти
в четыре раза превышает количество страниц, на которых это слово не
встречается - соответственно 42 против 11, а именно ее. 264, 267, 268, 278,
280, 281, 301, 312, 313, 315, 318 (ПСС. т. 1, 264-320); все остальные страницы
фиксируют это слово, хотя бы один раз. Любопытно, что при такой
насыщенности текста словом сердце (однажды - сердечко) отсутствуют примеры
других слов этого корня {сердечный, сердечно, сердитый, сердито,
сердиться). Но особенно важно то, что внутри этого густого текста есть целый
массив сверх-сгущений - от 5 до 8 употреблений слова сердце на странице.
342
Ср. места, где слово сердце встречается по 5 раз, - 289, 292, 299; 6 раз - 303;
по 7 раз - 300, 319; по 8 раз - 291, 30828. Эти постраничные сгущения в одном
месте текста сливаются в целый материк (ее. 287-311, с единственным
пропуском с. 301), где на протяжении 23 страниц слово сердце встречается
92 раза (!), т.е. в среднем на каждую страницу приходится по четы-
р е употребления этого слова. Стоит отметить и две страницы 317 и 319, где
слово сердце в сумме встречается 11 раз, т.е. в среднем по 5,5 слова на
каждую из них.
Такая густота слова сердце в повести Достоевского «Хозяйка», как и
разнообразие контекстов, в которые входит это слово и формирование
«локальных» словарей внутри этих контекстов, представляющих собою весьма
тесно связанную совокупность, где общее и варьирующееся определяют
специфику этих контекстов (об этом см. несколько ниже), позволяет
говорить о «Хозяйке» как о выдающемся и первом по времени в русской
литературе варианте «текста сердца», отличном, хотя в определенном смысле
связанном с тем культом сердца, подготовителем которого был Карамзин и
его последователи (ср. «Бытие моего сердца» И.М. Долгорукого и др.).
Слово сердце в «Хозяйке» (разумеется, и в других текстах Достоевского)
появляется в разных синтаксически ив разных содержательно
контекстах. В значительном числе примеров оно выступает в
номинативен, следовательно, является субъектом действия. Ср. такие примеры, как
сердце бьется, стучит I застучит; рвется, болит I болеет, наполняется,
велит, плачет, ноет, смущается, дрожит, горит, уязвлено, обливается,
засмеется, блажит и т.п. (характерно обилие возвратных форм глагола в
3-м лице при подлежащем сердце). Во многих случаях слово сердце
выступает в аккузативе, являясь чаще всего прямым объектом, реже в сочетании с
предлогом. Ср.: держать сердце, пронзать I пронзить сердце, укротить
сердце, найти сердце, открыть сердце, нажить сердце, сосать сердце,
давить сердце, заливать {кровью) сердце, жечь сердце, осились сердце, рвать I
разорвать I надрывать сердце, обдать сердце {потоком огня), теснить
сердце, раздавить сердце, увлекать сердце, наполнять сердце {желчью), но и
принять в сердце, ударить в сердце, войти в сердце {о робости), говорить
про сердце и др. Неоднократно слово сердце употребляется в косвенных
падежах - слиться в одно в его сердце {seil. - вся жизнь, вся радость его),
отрывать от сердца, {невнятная) для сердца {сказка), закипеть из сердца {об
отчаянии), тяжело на сердце, почуять сердцем, дойти в сердце {о нечистой
речи), прижаться к сердцу, насмеяться над сердцем, почуять сердцем,
сердцем поклониться, беда с крепким сердцем знакомится, столько
исступленного любования было в сердце ее, спрятать у сердца свою голову,
запутаться в сердцах, взяться в сердцах, сердцу {глупому) и воля не впрок, излишек
сердца и др. Обращает на себя внимание, что многие из этих употреблений
слова сердце были, а отчасти и остаются чуждыми русскоязычным текстам,
не вполне понятными и тем более естественными, но отсылающими как к
источнику к языку мистических размышлений над темой сердца. Во всяком
случае многие из примеров Достоевского намекают на некий
специализированный язык, в котором «разыгрывается» тема сердца.
Значительно и число контекстов, в которых слово сердце определяется
прилагательными или причастиями. Ср.: неугомонное сердце, девичье серд-
343
це, одинокое девичье сердце, задрожавшее сердце, послушное сердце,
ласково {твое) сердце, молодое горячее сердце, горячее сердце, сердечко твое
золотое, железное сердце, слабое сердце, вскипевшее сердце, глупое сердце,
робкое сердце, смятенное сердце, порывистое сердце, ср. чист своим
сердцем (> чистое сердце). Многие примеры каждого из этих типов
повторяются в точности или с небольшими изменениями. Все это не только вводит
читателя в атмосферу описываемого, но и способствует своего рода
«заражению» читателя тем же духом и теми же переживаниями, которые в повести
Достоевского связаны с образами Катерины и Ордынова. Сама частота
повторяющихся слов и соответствующих образов во фрагментах «Хозяйки»
создает ту «чадность», которая нередко появляется уже в ранних
произведениях писателя, и которая, объединяя Ордынова, Катерину, Мурина и
самого создателя этих образов, претендует и на «захват» в свое поле
внимательного читателя, в пространство «драматизированного» бреда, того
предельного накала страстей, который почти неотличим от безумия. В «узких»
рамках «текста сердца» с особенной густотой, навязчивостью, умышленностью
воспроизводятся десятка два-три слов, соприкасающихся со словом сердце и
как бы вступающих с ним в контакт, ср.: тоска (в частности, и горькая),
печаль, грусть, боль, болезнь, мучение, страх, страсть, отчаяние, восторг,
радость, рыдания, злоба, грех, душа29; дрожать, вздрогнуть, трястись,
(за)трепетать, томить, гореть, жечь; лихорадочный, воспаленный;
странный и вдруг как своего рода кванторы оценки соотношения данной
ситуации с «нормативной», отклонения от нейтрального состояния.
Достоевского нередко и с известными основаниями упрекали за эту
избыточность, густоту, нагнетенность, форсированное повторение одного
и того же, которые характеризуют как «Хозяйку», так и ряд других его
произведений раннего периода творчества (ср. Бедные люди, «Двойник»,
«Господин Прохарчин» и др.). Но при всем этом нужно отдать должное
гениальной анатомии страсти, дару проникновения в ее глубины, искусству
анализа тонких движений души, до того неизвестному в русской литературе,
наконец, тому, что лежит в основе всех перипетий повести и все в ней
определяет, -сердцу человека, охваченного страстью.
VI. ПОЛЗУНКОВ
Короткий рассказ Достоевского «Ползунков» (ПСС, т. 2, 5-15) был
задуман в 1847 г., а впервые напечатан в 1848. Естественно, что и количество слов,
обозначающих сердце и однокоренных с ними, не может быть большим. Тем
не менее по насыщенности этими словами текст рассказа заслуживает
внимания. На 11 страниц текста приходится 17 слов корня серд-. Иначе говоря, в
среднем на каждую страницу выпадает 1,5 слова (или 2 страницы - 3
соответствующих слова). Более того, после предварительных сведений о главном
персонаже рассказа Ползункове, заслуживающих внимания («Я начал
всматриваться в этого человека. Даже в наружности его было что-то такое
особенное, что невольно заставляло вдруг, как бы вы рассеяны ни были, пристально
приковаться к нему взглядом и тотчас же разразиться самым неумолкаемым
смехом. Так и случилось со мною. Нужно заметить, что глазки этого
маленького господина были так подвижны - или, наконец, что он сам, весь, до того
344
поддавался магнетизму всякого взгляда, на него устремленного, что почти
инстинктом угадывал, что его наблюдают, тотчас же оборачивался к
своему наблюдателю ис беспокойством анализировал взгляд его ... Он
как будто боялся насмешки, тогда как почти добывал тем хлеб, что был
всесветным шутом и с покорностью подставлял свою голову под все щелчки ...
Но я тотчас заметил, что это странное создание, этот смешной человечек
вовсе не был шутом из профессии. В нем оставалось еще кое-что благородного.
Его беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя уже
свидетельствовали в пользу его» (5), автор сразу же переходит к теме сердца и менее
чем на полустранице четырежды говорит о сердце:
Мне казалось, что все его желание услужить происходило скорее от
доброго сердца, чем от матерьяльных выгод. Он с
удовольствием позволял засмеяться над собой во все горло и неприличнейшим
образом, в глаза, но в то же время - и я даю клятву в том - его
сердце ныло и обливалось кровь ю30 от мысли, что
его слушатели так неблагородно-жестокосерды, что способны
смеяться не факту, а над ним, над всем существом его, над сердцем,
головой, над наружностию, над всею его плотью и кровью ... Я
уверен, что все это происходило не иначе, как от доброго
сердца, а вовсе не от матерьяльной выгоды быть прогнанным в толчки и
не занять у кого-нибудь денег (5).
И далее (с пропуском лишь двух страниц - 7 и 11):
Само собою разумеется, что очерстветь и заподличаться вконец он
не мог никогда. Сердце его было слишком подвижно, горячо!
Я даже скажу более: по моему мнению, это был честнейший и
благороднейший человек в свете, но с маленькою слабостию: сделать
подлость по первому приказанию, добродушно и бескорыстно, лишь
бы угодить ближнему. Одним словом, это был, что называется,
человек-тряпка вполне (6).
Человек же тряпка, собственно, и есть человек с мягким, уступчивым
сердцем, неспособный к противостоянию и отказу. В иных случаях сочетанию
слова сердце применительно к человеку такого типа Достоевский давал иное
обозначение - «слабое сердце», ср. написанную им повесть о человеке
«слабого сердца» Васе Шумкове, так и называвшуюся «Слабое сердце» и написанную
в том же 1848 г., что и «Ползунков». Несомненно Достоевского в это время
интересовал именно такой психологический тип, точнее всего определяемый
(если говорить предельно кратко) или как «слабое сердце», или как «человек-
тряпка». Чтобы подчеркнуть этот «разительнейший контраст, достойный
'смеху и жалости'» (6), писатель прибегает к примеру гипотезы («Если бы...»):
Если б он был уверен сердцем своим (что, несмотря на
опыт, поминутно случалось с ним), что все его слушатели были
добрейшие в мире люди, которые смеются только факту смешному, а не
над его обреченною личностию, то он с удовольствием снял бы фрак
свой, надел его как-нибудь наизнанку и пошел бы в этом наряде,
другим в угоду, а себе в наслаждение, по улицам, лишь бы рассмешить
своих покровителей и доставить им всем удовольствие (6).
345
Эту слабость своего сердца сознает и сам Ползунков, и не только
сознает, но и, рассказывая собравшимся об истории со своим начальником Федо-
сеем Николаичем, испытывает некое чувство мазохистического
удовлетворения, выставляя свой поступок отнюдь не в лучшем свете.
Признаюсь, я был в трепете, я собирался на великое дело;
сердчишко во мне билось, как у котенка, когда его хватает чья-нибудь
костлявая лапа за шиворот (8).
Итак, - начал Ползунков, когда все поумолкли, - хотя я никогда не
брал взяток, но в этот раз грешен: положил в карман взятку... с
взяточника... То есть были кое-какие бумажки в руках моих, которые
если б я захотел послать кой-кому, так худо бы пришлось Федосею
Николаичу (9).
«Так, стало быть, он их выкупил?», - спросил кто-то. -
«Выкупился - «Много дал?». - «Дал столько, за сколько иной в наше время
продал бы совесть свою, всю, со всеми варьяциями-с... если бы
только что-нибудь дали-с. Только меня варом обдало, когда я положил в
карман денежки. Право, я не знаю, как это со мной всегда делается,
господа, - но вот, ни жив, ни мертв, губами шевелю, ноги трясутся;
ну, виноват, виноват, совсем виноват, в пух засовестился, готов
прощенья просить у Федосея Николаича...». - «Ну, что ж он, простил?» -
«Да я не просил-с... я только так говорю, что так оно было тогда; у
меня то есть, сердце горячее. Вижу, смотрит мне прямо в
глаза: - Бога, говорит, вы не боитесь, Осип Михайлыч». - «Ну, что
делать! Я этак развел из приличия руками, голову на сторону: «Чем
же, я говорю, Бога не боюсь, Федосей Николаич?..» Только уж так
говорю, из приличия... сам сквозь землю провалиться готов (9).
Для такого прожженного человека, как Федосей Николаич, Ползунков был
не более чем фитюлька, обштопать которую труда не составляло. Теперь он,
Федосей Николаич, само воплощенное достоинство и нравственность.
Достаточно ему, опытному интригану и жулику, сказать несколько фраз, и случилось
то, что сейчас в припадке откровенности и раскаяния рассказал сам
Ползунков - «Ну, то есть растаял, господа, как мокрый сахар-медович, растаял. Куда!
и пакет, что в кармане лежит с государственными, и тот словно тоже кричит:
неблагодарный ты, разбойник, тать окаянный, - словно пять пудов в нем, так
тянет...». И - в слезы. А Федосей Николаич уже и само благородство и
всепрощение - «Вижу, - говорит ... - вижу ваше раскаяние... вы, знаете, завтра...».
Ну, не плачь ... - полно: согрешил и покаялся! пойдем! Может быть,
удастся мне возвратить, говорит, вас опять на путь истинный...
Может быть, скромные пенаты мои ... согреют, говорит, опять ваше
очерств... не скажу очерствелое, -заблудшее серд-
ц е... Взял он меня, господа, за руку и повел к домочадцам.
А дело было щекотливое. Ползункова же дома у Федосея Николаича
для надежности обхаживали со всех сторон, и он даже уже стал подумывать,
не станет ли Марья Федосеевна, дочь Федосея Николаича, госпожой Пол-
зунковой. И Федосей Николаич благожелателен, и нет у Ползункова
сомнения, что все скоро будет хорошо.
346
Я кидаться пошел во все стороны: туды да сюды! уж и романсы
таскаю, и конфет привожу, и каламбуры высиживаю, охи да вздохи,
болит, говорю, мое сердце, от амура болит, да в слезы, да
тайное объяснение! ведь глуп человек (10).
Но пока он во власти иллюзий. «Тут угощение подали, фанты пошли: ох,
болит! что болит? - с е ρ д ц е; по ком? Она краснеет голубушка! Мы с
стариком пуншику выпили, - ну, уходили, усластили меня совершенно...» (12).
И уж настолько поверило доверчивое сердце Ползункова в свое счастье,
что, возвратившись домой, когда Софрон стаскивал с него сапоги, не
удержался - «Ну, Софроша! Поздравь ты теперь меня, поцелуй! Женюсь,
просто, братец, женюсь, напейся пьян завтра, гуляй душа, говорю: барин твой
женится!» Смешки да игрушки на с е ρ д ц е!..
Уже засыпая, Ползунков вспомнил, что завтра первое апреля, «день-то
такой светлый, игривый, как бы так? да и выдумал». Первоапрельская
выдумка была крайне неудачной:
Оделся, умылся, завился, припомадился, фрак новый напялил и
прямо на праздник к Федосею Николаичу, а бумагу в шляпе держу.
Встречает меня сам, с отверстыми, и опять зовет на жилетку
родительскую! Я и приосанился, в голове еще вчерашнее бродит! На шаг
отступил. «Нет, говорю, Федосей Николаич, а вот, коль угодно, сию
бумажку прочтите», - да и подаю ее при рапорте; а в рапорте-то
знаете что было? А было: по таким-то да по таким-то такого-то Осипа
Михайловича уволить в отставку, да под просьбой-то весь чин
подмахнул! Вот ведь что выдумал, господи! и умнее-то ничего
придумать не мог! Дескать, сегодня первое апреля, так я вот и сделаю вид,
что обида моя не прошла, что одумался за ночь ... вот же вам, родные
мои благодетели, и ни вас, ни дочки вашей знать не хочу; денежки-то
вчера положил в карман, обеспечен, так вот, дескать, вам рапорт об
отставке. Не хочу служить под таким начальством, как Федосей
Николаич! в другую службу хочу, а там, смотри, и донос подали. Этаким
подлецом представился, напугать их выдумал! ... А? хорошо,
господа? То есть вот заласкалось к ним сердце со
вчерашнего дня, так дай я за это шуточку семейную отпущу, подтруню над
родительским сердечком Федосея Николаича... Только взял он
бумагу мою, развернул, и вижу, шевельнулась у него физиономия.
«Что ж, Осип Михаилыч?» А я как дурак: «Первое апреля! с
праздником вас, Федосей Николаич!» ... Да... да просто даже совестно
рассказывать, господа!(13)
Эта ссылка на первое апреля, которая, как казалось Ползункову, снимает
все отрицательные последствия происшедшего, дала шанс и Федосею
Николаичу, и все прежнее как бы восстановилось. Ползунков постоянно в доме
Федосея Николаича, все хорошо, он почти жених: «Кольца заказаны, день
назначали, только оглашать не хотят до времени, ревизора ждут». Но
Федосей Николаич ничего не забыл и с толком и пользой для себя обратился к
такому же приему. В ожидании ревизора Федосей Николаич свалил всю
работу на Ползункова - «счеты, рапорты писать, книги сверять, итоги
подводить», а «беспорядок ужаснейший, все в запустении». А Федосей Николаич,
347
как грех, заболел и вызвал к себе «шутника» Ползункова. Ситуация
критическая, почти безнадежная - «Ревизор на носу, а у Матвеева в семи тысячах
недочет, а отвечаю я... кто же больше? С меня, братец, взыщут: чего
смотрел? А что с Матвеева взять!», и дочерних, что пошло на приданое, брать
нельзя - «это священная сумма», а те деньги, что были, отданы в люди и где
их сейчас соберешь! И слабое сердце Ползункова дрогнуло. «Я тут как был,
так и бряк перед ним на колени, - пересказывает он сейчас собравшимся
людям финал этой истории. - Благодетель ты мой, кричу, оскорбил я тебя,
разобидел, клеветники на тебя бумаги писали, не убей вконец, возьми назад
свои денежки!» В глазах Федосея Николаича слезы. «Этого я и ждал от
тебя, мой сын, встань; тогда простил ради дочерних слез! теперь и м о е
сердце прощает тебя. Ты залечил, говорит, мои язвы!
благословляю тебя во веки веков!» Ползунков «во все лопатки домой», достал сумму
и вручил ее Федосею Николаичу. А на следующий день, «ранехонько
поутру пакет с казенной печатью». «Смотрю - и что ж обретаю? Отставка!
Дескать, сдать дела, свести счеты, а самому идти на все стороны!..»
Дрогнуло сердце мое! Ну, думаю, неспроста! да так, как
был, к Федосею Николаичу: «Что?» - говорю. «А что ж?» - говорит.
«Да вот же отставка!» - «Какая отставка?» - «А это?» - «Ну что ж, и
отставка-с!» - «Да как же, разве я пожелал?» - «А как же, вы подали-
с, первого апреля вы подали ... Жаль мне, сударь, жаль, очень жаль,
что так рано службу оставить задумали! Молодому человеку нужно
служить, а у вас, сударь, ветер начал бродить в голове. А насчет
аттестата будьте покойны: я позабочусь ... Да еще-с, вот я дом у
Матвеева сторговал, переедем на днях, так уж надеюсь, что не буду иметь
удовольствия вас на новоселье у себя увидеть. Счастливый путь!» (15).
Я домой со всех ног: «Пропали мы, бабушка!» - Взвыла она,
сердечная; а тут, смотрим, бежит казачок от Федосея Николаича с
запиской и с клеткой, а в клетке скворец сидит; это я ей от избытка
чувств скворца подарил говорящего, а в записке стоит: первое апреля,
а больше и нет ничего...
- Ну, что же, что же дальше??? Чего дальше! встретил я раз Федосея
Николаича, хотел было ему в глаза подлеца сказать... - Ну! - Да как-
то не выговорилось, господа!
Рассказчик (первое слово в тексте - я), он же превосходный наблюдатель
и аналитик («начал всматриваться в этого человека» - следующие за
я слова первой фразы, ср. поблизости же об аналитических способностях
главного героя рассказа), за которым, понятно, стоит сам автор, верно
определил природу подвижности, поворотливости, постоянной и болезненной
обеспокоенности Ползункова, его магнетизма и болезненной боязни - «о τ
доброго сердца» (5). Можно было бы сказать - и «от "Слабого
сердца" (впрочем, и сам Достоевский в начале рассказа обращает
внимание, хотя и в другой связи, на «маленькую слабость», сочетающуюся с
подвижностью и горячестью сердца Ползункова), но, кажется, ни то, ни
другое определение не исчерпывает сути этого характера: слабость его в
органической неспособности до конца осуществить свое решение, в слабости
самого волевого начала, так или иначе тоже соотносимого с сердцем31.
348
VII. СЛАБОЕ СЕРДЦЕ
В 1848 г. в Отечественных записках (№ 2, отд. I, 412-446) появился текст
Достоевского под названием «Слабое сердце. Повесть». Поскольку при
подготовке этого произведения к переизданию в 1865 г. Достоевский сделал
некоторые изъятия и исправления, далее текст цитируется по ПСС, т. 2, 16-48,
где воспроизводится издание 1865 г. В этой повести, как известно, многое
определяется личными впечатлениями Достоевского от знакомства с писателем
Яковом Петровичем Бутковым (имя и отчество, значимые для Достоевского
и, возможно, сознательно усвоенные им Голядкину), начинавшим свою
литературную деятельность в те же годы, что и Достоевский. Если учесть, что
Достоевский был с Бутковым в дружеских отношениях, ценил его и как
писателя и как человека, не случайным окажется и то, что именно Буткова
Достоевский избрал в качестве прототипа Васи Шумкова, главного персонажа
«Слабого сердца», самой персонификации «слабого сердца»32. Что значил
Бутков для Достоевского, можно судить по письму последнего от 9 марта
1857 г. к своему брату из Сибири, когда он узнал о смерти Буткова: «Друг мой,
как мне жаль бедного Буткова! И так умереть! Да что же вы-то глядели, что
дали ему умереть в больнице. Как это грустно!» (ПСС, т. 28, кн. 1, 276)33.
«Слабое сердце» в повести Вася Шумков, за которым для автора ее стоит
Бутков. И для одного и другого присутствие сердца, как оно определяет и
доброе начало и как оно предопределяет печальный конец обоих, черта
характеризующая и судьбоносная. Вынесенное в заглавие слово «сердце», как и
его эпитет («слабое»), говорят главное о персонаже повести. Слабость Васи
Шумкова, кажется, не ограничивается сердцем: он вообще слабый,
слабосильный («Ты добрый, нежный такой, но слабый, непростительно слабый»,
37; слова Аркадия Ивановича), и эта черта оттеняется тем, что товарищ,
сослуживец и сожитель Васи Аркадий Иванович Нефедевич (а жили они «под
одной крышей, в одной квартире, в одном четвертом этаже») обладал совсем
иным жизненным тонусом и не прочь был пошутить над Васей. Так, видя, что
Вася не ожидает от него никакого коварства, Аркадий Иванович
... как-то преловко схватил его за руки, повернул, подвернул под
себя и начал, как говорится, «душить» жертвочку, что, казалось,
доставляло неимоверное удовольствие веселому Аркадию
Ивановичу. - Попался! - закричал он, - попался! - Аркаша, Аркаша, что ты
делаешь? Пусти, ради Бога, пусти, я фрак замараю! ... - Так вот нет
же, не пущу, пока не расскажешь! - Аркаша, Аркаша! да понимаешь
ли ты, что ведь нельзя, никак невозможно! - кричал
слабосильный Вася, выбиваясь из крепких лап своего неприятеля ... - Вася,
не сердишься?..34 - Аркаша, послушай...
Но важнее этой физической «слабосильности» Васи было то, что слабым
было само сердце Васи Шумкова.
Тема сердца, прежде всего в его слабости, основная в повести. Само же
слово сердце появляется в ней, на ее 33 страницах, 27 раз, т.е. в среднем
почти на каждой странице, а точнее - на каждой 0,8 страницы, что позволяет
говорить о повышенной частотности слова сердце по сравнению с
большинством текстов Достоевского в раннем периоде его творчества.
349
Слово сердце помимо его присутствия в заглавии повести, встречается и
далее, причем нужно отметить равномерность его распределения.
Оно присутствует на 22 страницах из 33, причем на пяти из них (18, 25, 26,
37, 39) более чем раз, тогда как это слово отсутствует только на девяти
страницах (22, 23, 24, 32, 33, 35, 38, 44, 45). Ниже примеры слова сердце,
следовательно, обозначения соответствующей темы, образа приводятся в
последовательности текста.
- Да, Вася, что же ты молчал! да ты бы мне все раньше сказал, я бы
и не стал шалить, - закричал Аркадий Иванович в истинном
отчаянии. - Ну, полно же, полно! я ведь так это... Ведь ты знаешь, отчего
это все, - оттого, что у меня доброе сердце. Вот мне и
досадно, что я не мог сказать тебе, как хотел, обрадовать, принесть
удовольствие, рассказать хорошо, прилично посвятить тебя... (18; речь
идет о предстоящей женитьбе Васи; «доброта» через «слабость»,
когда первая не исключает вторую и остается в существенной своей
части пассивной).
Брат, теперь так сладко в сердце, так легко на душе... -
сказал Вася, вставая и шагая в волнении по комнате (19;
испытываемая сердцем "сладость" ставит под сомнение присутствие активного,
волевого начала и позволяет говорить об «эготической» установке).
Ну вот, ну вот! ты с таким убитым видом смотришь, что у меня вся
внутренность ворочается, сердце болит. Ну, что ж? ты меня
всегда этак убиваешь? ... (20; партия Васи Шумкова,
обнаруживающая ту же установку и реакцию «слабого» человека,
страдательность vice versa активность).
- Ах, Аркаша, ну, мог ли я усидеть? такой ли я был? Да я в
канцелярии-то едва сидел; ведь ясердца сносить не мо г... (как бы
намек на слабость самого Васи перед его собственным сердцем).
- Нет, Аркаша, нет, твоя любовь ко мне беспредельна, я знаю; но ты
не можешь ощущать и сотой доли того, что я чувствую в эту минуту.
Мое сердце так полно, так полно! Аркаша! Я
недостоин этого счастия! Я слышу, я чувствую это. За что мне ... что я
сделал такое, скажи мне! Посмотри, сколько людей, сколько слез,
сколько горя, сколько будничной жизни без праздника! А я! меня
любит такая девушка, меня... но ты сам ее увидишь сейчас, сам
оценишь это благородное сердце (25; сознание своего не
достоинства перед свалившимся на него счастьем).
Ведь Лизанька-то пресерьезно уверяла, что не будет; «не будет,
маменька; уж сердце чувствует, что не будет»; а маменька все
говорила, что ее сердце, напротив, чувствует, что непременно
будет, что не усидит, что прибежит ... (26).
Ну что? ну что, я спрашиваю, было делать Аркадию Ивановичу? ...
Право, мне даже иногда совестно за излишнюю восторженность
Васи; она, конечно, означает доброе сердце, но... неловко,
нехорошо (27).
350
Нужно сознаться, она немного дурно поступила относительно
Лизаньки: она, конечно от избытка сердца изменила ей и
вздумала показать потихоньку подарок, который готовила Лизанька
Васе к Новому году (28).
Казалось, какая-то тяжелая идея вдруг оледенила его пылавшую
голову; казалось, все сердце его сжалось (33; о Васе Шумкове).
Вася так взглянул на него, что у Аркадия Ивановича сердце
повернулось и язык осекся (31).
«Экая горячка какая! Ах, его нужно спасти! нужно спасти!» -
проговорил Аркадий, сам не замечая того, что в своем сердце уже
возвел до беды, по-видимому, маленькие домашние неприятности, в
сущности ничтожные (34-35).
Наконец глаза их встретились. Взгляд Васи был такой просящий,
умоляющий, убитый, что Аркадий вздрогнул, когда встретил его.
Сердце его задрожало и переполнилось... (36).
Вася! Бог с тобой, Вася! Ты истерзал мое сердце, друг
мой, милый ты мой. Слезы градом хлынули из глаз Васи; он
бросился на грудь Аркадия... - Аркадий, друг мой! Я не знаю сам, что было
со мной! Я как будто из какого-то сна выхожу. Я целые три недели
потерял даром. Я все... я... ходил к ней... У меня сердце
болело, я мучился... неизвестностью... я и не мог писать (37).
Да, Аркадий, знаешь ли, что даже твоя любовь меня убивала?
Знаешь ли, что сколько раз я, особенно ложась спать и думая об тебе ...,
обливался слезами, и сердце мое дрожало оттого, оттого... Ну,
оттого, что ты так любил меня, а я ничем не мог облегчить
своего сердца... Я, брат, не чувствовал, не ценил вполне.
С е ρ д ц е во мне было черство И ведь сам ты знаешь, он
(Юлиан Мастакович. - В.Т.), он строгий, суровый такой, даже ты
несколько раз на замечание к нему попадал, а со мной он вчера шутить
вздумал, ласкать и доброе сердце свое, которое перед всеми
благоразумно скрывает, открыл мне... (39).
- Послушай, Вася, что с тобой? ты так на меня смотришь? - Что?
ничего? мне немного дурно; ноги дрожат; это оттого, что я ночью
сидел. Да! у меня в глазах зеленеет. У меня здесь, здесь... Он показал на
с е ρ д ц е. С ним сделался обморок (40).
Это поразило Аркадия, исердце его изныло от
тяжкой, пронзительной боли (41).
- Ты же, ты же меня утешаешь, - закричал Аркадий, у которого
разрывалось сердце (42).
Жгучая боль захватывала сердце Аркадия ... (43; все чаще речь
начинает идти о сердце Аркадия, как бы солидарного с болью
сердца Васи).
Ну, полно, брат, полно; вижу, что у тебя доброе сердце (46;
слова Юлиана Мастаковича).
351
Нечего говорить, что там было! Даже Петя, малютка Петя, не
совсем понявший, что сделалось с добрым Васей, зашел в угол,
закрылся ручонками и зарыдал во сколько стало его
детского сердца (47).
Последний раз слово сердце появляется в финале повести в сильно кос-
мизированном и таинственном, может быть, даже профетическом
контексте видения, позже (естественно, с вариациями) не раз возникавшем в
«Петербургском тексте» русской литературы, о чем писалось в другом
месте. Вот этот финал:
Были уже полные сумерки, когда Аркадий возвращался домой.
Подойдя к H e в е, он остановился на минуту и бросил пронзительный
взгляд вдоль реки в дымную морозно-мутную даль, вдруг
заалевшую последним пурпуром кровавой зари,
догоравшей в мгляном небосклоне. Ночь ложилась над городом, и
вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы,
с последним отблеском солнца, осыпалась
бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился
мороз в двадцать градусов. Мерзлый пар валил с загнанных насмерть
лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух д ρ о ж а л от
малейшего звука, и, словно в е л и к а н ы, со всех кровель обеих набережных
поднимались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма,
сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые
здания вставали над старыми, новый город
складывался в воздух е... Казалось, наконец, что весь
этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со
всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными
палатами - отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час
походит на фантастическую, волшебную грезу, на
сон, который в свою очередь исчезнет и искурится
π а р о м к темно-синему небу. Какая-то странная дума посетила
осиротелого товарища бедного Васи. Он вздрогнул, и с е ρ д ц е
его как будто об лилось в это мгновение горячим
ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то м о -
гучего, но доселе не знакомого ему ощущения. Он как
будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего
сошел с ума его б е д н ы й, не вынесший своего счастья Вася. Губы
его задрожали, глаза вспыхнули, он побледнел и как будто
прозрел во что-то новое в эту минуту...
Он сделался скучен и угрюм и потерял всю свою веселость f...]
К коломенским идти он не хотел, да и не мог. Через два года он
встретил Лизаньку в церкви. Она была уже замужем; за нею шла
мама с грудным ребенком. Они поздоровались и долгое время избегали
разговора о старом. Лиза сказала, что она, слава Богу, счастлива, что
она не бедна, что муж ее добрый человек, которого она любит...
Но вдруг, среди речи, глаза ее наполнились слезами, голос упал, она
отвернулась и склонилась на церковный помост, чтобы скрыть от
людей свое горе... (48).
352
Бедный Вася, дважды отмеченный в этом финале, бедная
Лизанька вопреки ее собственным словам, как и та другая бедная Лиза, о
которой, конечно, помнил Достоевский, работая над концовкой повести
(ср. несколько раньше, когда Васю увозили в сумасшедший дом, слова
Аркадия «Ах, бедная Лиза»), по существу, бедный и Аркадий. И
Лизанька и Аркадий Иванович помнят, каждый о своем, бедном Васе.
Не значит ли это, что его образ угнездился не только в их памяти, но и стал
событием в их жизни. И это уже немало. Слабое сердце привело
Васю Шумкова к безумию, но, покидая невесту и друга, он не только
оставил в их сердцах память о себе, но и, кажется, что-то изменил в них. И эти
изменения были в сторону добра. Нечего и говорить о самом авторе
«Слабого сердца», принявшего в свое сердце боль за Васю Шумкова.
VIII. «МАЛЫЕ» ТЕКСТЫ
Из других произведений раннего Достоевского, вышедших в 1848 г.,
особняком стоят несколько малых текстов, в которых слово сердце и
соответствующая тема отражены скудно, что объясняется не только
ограниченным объемом этих текстов, но и, по большей части, случайностью
возникающей в них темы сердца.
Среди этих «малых» текстов крупнее других «Чужая жена и муж под
кроватью (Происшествие необыкновенное)» (ПСС, т. 2, 49-81). Впрочем,
относительная «крупность» этого текста объясняется тем, что он возник из
двух малых самостоятельных произведений - «Чужая жена»
(Отечественные записки. 1848. № 1. Отд. VIII, 50-58) и «Ревнивый муж» (там же, 1848,
№ 11, отд. VIII, 158-175), объединенных в издании 1860 г. в один текст (т. I,
449-500). В рассказе отчетливо проявляет себя водевильное начало35 и
пристрастие к каламбурам и - шире - к фельетонизму. Впрочем, при оценке
этого «Происшествия необыкновенного» нелишне вспомнить оценку этого
рассказа Н.К. Михайловским в его известной статье 1882 г. «Жестокий
талант» (Отечественные записки. 1882. № 9-10). Автор статьи справедливо
указывает на то, что водевиль в рассказе перерастает в нем в трагикомедию.
По его мнению, рассказ можно было бы принять всего лишь за шутку,
«которая была бы очень похожа на самый заурядный водевиль ..., если бы не
эта растянутость мучений героя и не эта заключительная перспектива
дальнейших терзаний Ивана Андреича» (226). Это наблюдение
подтвердилось уже в 1870 г., когда появился рассказ Достоевского «Вечный муж», в
котором тема обманутого мужа получила более углубленную и
психологически точную трактовку.
В этом рассказе Достоевского слово сердце встречается трижды. Первый
раз - в типично водевильном контексте: «Извольте, извольте, я удаляюсь, я
уважаю страстное нетерпение вашего с е ρ д ц а. Я понимаю это, молодой
человек. О, как я вас теперь понимаю!» (54). Второй раз - в смешанном
контексте, где «водевильное» как бы подверстано к «серьезному» и обычному для
Достоевского: «К довершению досады, сзади, спереди, сбоку кричали такие
страшные голоса, что у Ивана Андреевича разрывалось сердце»
(62). Третий раз - опять в «водевильном» контексте: «Вы губите нас обоих!
Зачем вы схватили ее? Боже мой, он ее душит! Не душите, пустите ее!
12. Β.Η. Топоров
353
Изверг! Но вы не знаете после этого сердца женщины! Она нас
выдаст обоих, если вы задушите собачку» (75). Иначе говоря, слово сердце в
среднем появляется однажды на 11 страниц. Стоит также отметить два примера
однокоренных с сердце слов. Ср.: «Молодой человек, не с е ρ д и τ е с ь» (71);
« - Ну, я не буду; право, ты такая сегодня сердитая!..» (73).
Столь же редко встречается слово сердце и однокоренное сердечный в
рассказе «Честный вор» (Отечественные записки. 1848. № 4. Отд. I,
286-306), который, однако, более краток, чем предыдущий (ПСС, т. 2,
82-94). Ср.: «Вот и почуял, знать, Емеля, что меня зло схватило за с е ρ д -
ц е» (89); «Лежал он, сударь, передо мной, кончался. Я сидел на окне,
работу в руках держал. Старушоночка печку топила. Все молчим. У меня,
сударь, сердце по нем, забулдыге, разрывается: точно я сына
родного хороню. Знаю, что Емеля теперь на меня смотрит, еще с утра видел, что
крепится человек, сказать что-то хочет, да, как видно, не смеет. Наконец
взглянул на него; вижу: тоска в глазах у бедняги, с меня глаз не сводит; а
увидал, что я гляжу, тотчас потупился» (93). И у Емели, грешного, и у
рассказчика сердце-совесть у первого и сердце-понимание и сочувствие, конечно,
есть. Потому рассказчик и называет Емелю «сердечным» («Разголубился я,
на него глядя, сердечного», 92). Слово сердце в рассказе в среднем
приходится на 6,5 страниц.
В рассказе «Елка и свадьба (Из записок неизвестного)» (Отечественные
записки. 1848. № 9. Отд. VIII. 44-49, ср. ПСС, т. 2, 95-101) - один пример на
семь страниц: «- Нет! - отвечал мне мой знакомый, огорченный до
глубины сердца моею неловкостию, которую я сделал
умышленно...» (100).
IX. БЕЛЫЕ НОЧИ
В 1848 г. в Отечественных записках (№ 12, отд. I, 357—400) были
опубликованы «Белые ночи». Сентиментальный роман (Из воспоминаний
мечтателя)» (ПСС, т. 2,102-141). Для романа объем, пожалуй, слишком
маленький, для рассказа же немалый, да и структура текста, прежде всего
композиционная, мало подходящая для рассказа. Но к теме сердца и «сердечным
делам» это произведение имеет прямое отношение. Существенно, что в
образе мечтателя из «Белых ночей» отразились и некоторые черты самого
Достоевского, безусловно являющего собою одну из наиболее очевидных
вариаций этого типа. Уже в «Петербургской летописи» в конце четвертого
фельетона, Достоевский писал, что «... все мы более или менее мечтатели!».
В «Петербургских сновидениях в стихах и в прозе» (1861) автор вспоминал о
своих «золотых и воспаленных грезах», необходимых художнику.
Обосновано мнение, что одним из прототипов мечтателя из «Белых ночей» был
А.Н. Плещеев, в то время друживший с Достоевским. Именно ему в первом
издании были посвящены «Белые ночи». Мечтательство в России с
определенного периода в развитии русской литературной рефлексии склонны
были объяснять оторванностью от жизни, бегством от нее, беспочвенным
«мечтанием», предпочитаемым конкретному делу, пользе, наконец, выгоде.
Но у мечтательства были свои основания и свои цели, и плоды его в русской
жизни и литературе показывают, что этот период был необходимым звеном
354
в развитии русской мысли, и, нужно подчеркнуть, прежде всего в ее
петербургском варианте, который так впечатляюще представлен в «Белых
ночах», но и в «Хозяйке» и в «Слабом сердце». Чего стоит только начавшееся
историософское осмысление Петербурга!
Густота употребления слова сердце в «Белых ночах» весьма
значительна: на 40 страницах ПСС отмечено 42 примера этого слова36. Слово сердце
отсутствует на 15 страницах (102-104, 107, 109, 111-113, 119, 120, 121-122,
127, 132-133), а присутствует на 25, причем однократно, двукратно,
трехкратно, четырехкратно и пятикратно. На странице 102 нет слова сердце, но
есть сердитые, на странице 120 слово сердце не встречается, но зато есть
слово сердечный, на странице 130 нет слова сердце, но есть сердиться.
Непосредственной завязке интриги «Белых ночей» предшествует
лирическое и нетривиальное сопоставление пробуждающейся петербургской
природы с девушкой:
Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской
природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выкажет всю мощь свою,
все дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, упестрится
цветами... Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую
и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с
какою-то сострадательною любовью, иногда же просто не замечаете ее,
но которая вдруг, на один миг, как-то нечаянно сделается
неизъяснимо, чудно прекрасною, а вы, пораженный, упоенный, невольно
спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти
грустные, задумчивые глаза? что вызвало кровь на эти бледные,
похудевшие щеки? что облило страстью эти нежные черты лица? отчего так
вздымается эта грудь? что так внезапно вызвало силу, жизнь и
красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблистать такой улыбкой,
оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы
смотрите к ρ у г о м, вы кого-то ищете, вы догадываетес ь... Но
миг проходит, и, может быть, назавтра же вы встретите
опять тот же задумчивый, рассеянный взгляд, как и прежде, то же
бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях и даже
раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное
увлечение... И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла
мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед
вами, - жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени...
Это несколько абстрактное лирическое отступление, обнаруживающее
влияние гоголевских описаний такого же типа, неожиданно
конкретизируется, воплощается в реальнейшую из реальностей. Мечтатель, являющийся
одновременно носителем «я», когда уже пробило десять, идет к своей
квартире на набережной канала. Белая ночь, которая «лучше дня» и
особенно пробуждает мечтательность, лучшее из состояний мечтателя.
Передвигаясь по набережной, он смотрит кругом, ищет ког о-т о,
догадывается. «Вдруг с ним (в тексте - со мной. - В.Т.) случилось
самое неожиданное приключение». Но на ловца и зверь бежит. И началась
материализация мечтаний, одновременно с которой впервые в этом
«сентиментальном романе» выступает тема сердца:
12*
355
В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина;
облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно
смотрела на мутную воду канала. Она была одета в премиленькой
желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка,
и непременно брюнетка», - подумал я. Она, кажется, не слыхала
шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив
дыхание несильно забившимся сердцем. «Странно! -
подумал я, - верно она о чем-нибудь очень задумалась», и вдруг я
остановился как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да!
я не обманулся: девушка плакала, и через минуту еще и еще
всхлипывание. Боже мой! У меня сердце сжалось. И как я
ни робок с женщинами, но ведь это была такая минута!.. Я
воротился, шагнул к ней ... Но покамест я приискивал слово, девушка
очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня
по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась,
оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару.
Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало,
как у пойманной птички ... (105-106).
Эпизод с девушкой мог бы стать встречей в том смысле этого слова,
который всегда предполагает некую неслучайность, если угодно, предна-
чертанность. Но девушка «спохватилась» и «скользнула мимо» (первый
отказ от встречи с ее стороны), а заметив, что незнакомый человек
следует за ней, она перешла через улицу и пошла по тротуару (второй отказ
от встречи). Едва ли робость мечтателя, особенно перед женщинами,
позволила бы ему следовать за девушкой. Но некая высшая сила была,
видимо, заинтересована в этой встрече: не было бы счастья, да несчастье
помогло. А вероятность несчастья воплотилась в пошатывающемся
господине во фраке, который, заметив незнакомку, «срывается с места и
летит со всех ног, бежит, догоняя ... незнакомку». Оценив ситуацию,
мечтатель, который до сих пор был не более чем наблюдателем и, к счастью
(«я благословляю судьбу», как скажет мечтатель), имел в руке
внушительную сучковатую палку, приблизился к месту, где вот-вот должно
было случиться недолжное, оказался в нужном месте в нужное время, и
господин с дурными намерениями вынужден был ретироваться. Судьба
явно покровительствовала обоим и их подлинной встрече: обоим
участникам ее она отпустила по меньшей мере то время и то место-расстояние,
которые потребны, чтобы довести девушку до ее дома.
Пока они шли, завязался разговор о только что происшедшем.
В этом случае такой выбор был естествен и направлял обоих к главному.
Девушку интересовало, почему ее теперешний провожатый подошел к
ней на набережной и потом, перейдя улицу. На последний вопрос ответ
легок: не мог же мечтатель оставить ее на произвол опасных намерений
пьяного господина. Это был его долг, его обязанность. Но вопрос,
почему он подошел к ней еще на набережной, был провиденциален, хотя
девушка, конечно, и не предполагая этого, сделала сильнейший ход, вызвав
ответ-прорыв к встрече. Он был искренним, откровенным, горячим до
сбивчивости, длиной в абзац:
356
- Там, на той стороне? Но я, право, не знаю, как отвечать; я боюсь...
Знаете ли, я сегодня был счастлив; я шел, пел; я был за городом; со
мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы... мне,
может быть, показалось... Ну, простите меня, если я напомню: мне
показалось, что вы плакали, и я... я не мог слышать это... у меня ст е с -
нилось сердц е... О, Боже мой! Ну, да неужели же я не мог
потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам
братское сострадание?.. Извините, я сказал сострадание... Ну, да, одним
словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне
к вам подойти?.. (108)
Но они были уже у поворота в переулок, где находился дом девушки.
Она прервала излияния мечтателя, сказала, что она сама виновата в том, что
затеяла этот разговор, что она рада, что не ошиблась в своем спутнике,
потупившись, сжала его руку. На углу переулка могла бы быть поставлена
точка, и ни о какой-либо встрече не было бы больше и речи. Мечтатель
терял бы большее, и произнес свое как бы последнее слово, надеясь на то, что
станет оно последним шансом:
Послушайте, послушайте! - прервал я ее. Простите, если я вам
скажу опять что-нибудь такое... Но вот что: я не могу не
прийти сюда завтра. Я мечтатель; у меня так мало
действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так
редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаньях. Я промечтаю
об вас целую ночь, целую неделю, весь год (в последнем мечтатель
оказался пророком - В.Т.). Я непременно приду сюда завтра, именно
сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив,
припоминая вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть такие два-
три места в Петербурге. Я даже один раз заплакал от воспоминанья,
как вы... Почем знать, может быть, и вы, тому назад десять минут,
плакали от воспоминанья... Но простите меня, я опять забылся; вы,
может быть, когда-нибудь были здесь счастливы (108-109).
И девушка согласилась на завтрашнее, тоже в десять часов, свидание,
видимо, уже чреватое подлинной встречей. «И мы расстались. Я ходил всю
ночь; я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив... до завтра!»
(ПО). Этим и кончается «Ночь первая».
«Ночь вторая» - и вторая встреча, на этот раз условленная.
Необходимые объяснения. Инициативу берет на себя девушка - «... в заключение
всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера
поступила как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему
виновато мое доброе сердце» (110), после чего и начинается
действительное знакомство. Мечтатель рассказывает Настеньке (теперь он уже знает ее
имя) о себе, причем в третьем лице, так как рассказывать о себе в первом
лице «ужасно стыдно» (114).
Посмотрите на него сбоку, Настенька: вы тотчас увидите, что
радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и
болезненно раздраженную фантазию ... Он теперь уже богат своею
особенною жизнью', он как-то вдруг стал богатым, и прощальный
357
луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним
и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений ...
В комнате потемнело; на душе его пусто и грустно; целое царство
мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа, без шума и
треска, пронеслось, как сновидение, а он и сам не помнит, что ему
грезилось. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка
заныла и волнуется грудь его (те же глаголы часто
выступают у Достоевского и при слове сердце, и источник этого
«темного ощущения», конечно, не грудь, а сердце. - В.Т.), какое-
то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его
фантазию и незаметно сзывает целый рой новых призраков (114-115).
Отчего же целые бессонные ночи проходят как один миг, в
неистощимом веселии и счастии, и когда заря блеснет розовым лучом в
окне и рассвет осветит угрюмую комнату своим сомнительным
фантастическим светом, как у нас, в Петербурге, наш мечтатель,
утомленный, измученный, бросается на постель и засыпает в замираниях
от восторга своего болезненно-потрясенного духа и с такою
томительно-сладкою болью в с е ρ д ц е? (116).
Я ожидал, что Настенька ... захохочет всем своим детским,
неудержимо-веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что
напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем
сердце ... (117).
Между тем ... слышишь, видишь, как живут люди - живут наяву,
видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как
сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная и
ни один час ее непохож на другой, тогда как уныла и до пошлости
однообразна пугливая фантазия, раба тени, идеи, раба первого облака,
которое внезапно застелет солнце и сожмет тоскою
настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим
солнцем, - а уж в тоске какая фантазия (118-119).
Да, говорит, это тот самый «Цирюльник», - да и взглянул на меня.
А я уж все поняла, покраснела, и у меня сердце от ожидания
запрыгало (123; партия Настеньки; он - жилец в доме, где жила
Настенька, по одной лестнице, будущий избранник ее).
Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему
дверь, он так и вскрикнул, на меня глядя. Он [...] бросился мне воды
подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так билось,
что в голове больно было, и разум мой помутился ... Он, кажется,
мигом все понял и стоял передо мной бледный и так грустно глядел
на меня, что во мне сердце надорвало (124).
Тут она остановилась, помолчала немного, опустила голову и вдруг,
закрывшись руками, зарыдала так, что во мне сердце
перевернулось от этих рыданий (125).
Я не обвиняю вас за то, что не властна над вашим сердцем;
такова уж судьба моя! Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не
подосадуете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что их пишет
бедная девушка, что она одна, что некому ни научить ее, ни
посоветовать ей, и что она никогда не умела сама совладать с своим
сердцем (126).
Вчера было наше третье свиданье, наша третья белая ночь...
Однако, как радость и счастье делают человека прекрасным! как кипит
сердце любовью! Кажется, хочешь излить все свое
сердце в другое сердце, хочешь, чтоб все было весело, все
смеялось. И как заразительна эта радость! вчера в ее словах было
столько неги, столько доброты ко мне в с е ρ д ц е... Я пришел к ней
сполным сердцем и едва дождался свидания (128;
пятикратное употребление слова сердце\).
Наконец сердце мое переполнилось... - Да, почти
только-то, - отвечал я скрепя сердце, потому что в глазах моих
уже накипали глупые слезы (129).
Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце
его больше; чем в моем, нежности... (131).
Да я спокойна. Полноте! Это так! Это слезы, это просохнет! Что вы
думаете, что я сгублю себя, что я утоплюсь?.. -Сердце мое было
π о л н о; я хотел было заговорить, но не мог. - Слушайте! ... вы бы
не так поступили? вы бы не бросили ей в глаза бесстыдной
насмешки над ее слабым, глупым сердцем?... Настенька! вы
терзаете меня! Вы язвите сердце мое, вы убиваете меня,
Настенька! Я не могу молчать! Я должен наконец говорить, высказать,
что у меня накипело тут в сердце... - Что ж делать,
Настенька, что же мне делать? я виноват, я употребил во зло... Но нет
же, нет, не виноват я, Настенька; я это слышу, чувствую, потому что
мое сердце мне говорит, что я прав ...(134; пятикратное
употребление слова сердце\)
Вы меня не гоните? нет! а я было сам хотел бежать от вас. Я и уйду,
только я все скажу сначала, потому что, когда вы здесь говорили, я
не мог усидеть, когда вы здесь плакали, когда вы терзались оттого...
что вас отвергают, оттого, что оттолкнули вашу любовь, я
почувствовал, я услышал, что в моем сердце столько любви для
вас, Настенька, столько любви!.. И мне стало так горько, что
я не могу помочь вам этой любовью... что сердце
разорвало с ь, и я, я - не мог молчать, я должен был говорить. (135).
Вы бы только слышали, вы бы только чувствовали каждую минуту,
что подле вас бьется благодарное, благодарное сердце,
горячее сердце ...Ох, Настенька, Настенька! что вы со мной
сделали (136).
- Вот что, - начала она слабым и дрожащим голосом, но в котором
вдруг зазвенело что-то такое, что вонзилось мне прямо в сердце
исладко заныло в нем, - не думайте, что я так непостоянна и
ветрена, не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и
изменить... Я целый год его любила и Богом клянусь, что никогда,
никогда даже мыслью не была ему неверна. Он презрел это; он насмеял-
359
ся надо мною, - Бог с ним! Но он уязвил меня и оскорбил мое
сердце ... Ну, оставим, оставим это, - перебила Настенька,
задыхаясь от волнения, - я вам только хотела сказать... я вам хотела
сказать, что если, несмотря на то что я люблю его (нет, любила его),
если, несмотря на то, вы еще скажете... если вы чувствуете, что ваша
любовь так велика, что может наконец вытеснить из моего
сердца прежнюю... если вы захотите сжалиться надо мною, если
вы не захотите меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без
надежды, если вы захотите любить меня всегда, как теперь меня
любите, то клянусь, что благодарность... что любовь моя будет наконец
достойна вашей любви... Возьмете ли вы мою руку? (136-137).
И вот в эту минуту, когда по сути дела произошло объяснение
Настеньки, от которого все зависело, и, казалось, что все препятствия устранены,
все вдруг изменилось до основания и исполнилось то, что в предыдущую
минуту было явлено судьбой на языке небесной мистерии
высокого символического напряжения.
- Пора теперь, пора мне домой; я думаю, очень поздно, - сказала
наконец Настенька, - полно нам так ребячиться! - Да, Настенька,
только уж я теперь не засну; я домой не пойду. - Я тоже, кажется, не
засну; только вы проводите меня... - Непременно! - Но уж теперь мы
непременно дойдем до квартиры. - Непременно, непременно... -
Честное слово?... потому что ведь нужно же когда-нибудь воротиться
домой! - Честное слово, - отвечал я смеясь... - Ну, пойдемте! -
Пойдемте. -Посмотрите на небо, Настенька, посмотри-
т е! Завтра будет чудесный день; какое голубое небо, какая луна!
Посмотрите: вот это желтое облако теперь
застилает ее, смотрите, смотрите!.. Нет, оно прошло мимо. Смотрите
же, смотрите!.. (138-139).
Но Настенька и без этих призывов смотрела, хотя и в другую сторону:
Но Настенька не смотрела на облако, она стояла молча, как
вкопанная; через минуту она стала как-то робко, тесно прижиматься
ко мне. Рука ее задрожала в моей руке; я поглядел на нее... Она
оперлась на меня еще сильнее.
В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг
остановился, пристально посмотрел на нас и потом опять
сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожал о... -
Настенька, - сказал я вполголоса, - кто это, Настенька? - Это он! -
отвечала она шепотом, еще ближе, еще трепетнее прижимаясь ко
мне... Я едва устоял на ногах.
- Настенька! Настенька! это ты! - послышался голос за нами, и
в ту же минуту молодой человек сделал к нам несколько шагов.
Боже, какой крик! как она вздрогнула! как она вырвалась
из рук моих и порхнула к нему навстречу!.. Я стоял и смотрел на них
как убитый. Но она едва подала ему руку, едва бросилась в его
объятия, как вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как
ветер, как молния, и, прежде чем успел я опомниться, обхватила мою
шею обеими руками и крепко, горячо поцеловала меня. Потом, не
сказав мне ни слова, бросилась снова к нему, взяла его за руки и
повлекла его за собою.
Я долго стоял и глядел им вслед... Наконец оба они исчезли
из глаз моих (138-139).
Последняя главка «Белых ночей» называется «Утро» и начинается с
фразы «Мои ночи кончились утром». А с ночами кончилось и то высокое,
что с ними было связано, та «усиленная» жизнь сердца, которая могла бы
вернуть мечтателя к той жизненной полноте, которой ему так нехватало.
Теперь же все изменилось - поблекло, потускнело, одряхлело. «День был
нехороший. Шел дождь и уныло стучал в мои стекла; в комнате
было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и
кружилась, лихорадка подкрадывалась по моим членам» (139).
Это погружение в атмосферу уныния в себе и вовне было прервано
приходом Матрены с письмом. Оно было от Настеньки, но едва ли его
утешило. Она просила простить ее, уверяла, что теперь любит его и, как бы
спохватившись, уточнила - «больше чем люблю» (140), хотя «больше» здесь не
значит «лучше» для объекта этого «больше» (в своем теперешнем
увлечении чувство деликатности могло и изменять Настеньке - «О, если б вы
были он», что заставило вспомнить похожие, но обратные по смыслу слова
Настеньки - «О, если б он были вы»). Далее Настенька благодарила его,
выражала надежду, что он придет к ним, и желание прийти со своим женихом к
нему, спрашивая, любит ли он ее по-прежнему, просила любить ее, «вашу
Настеньку»:
Благодарю! да! благодарю вас за эту любовь. Потому что в памяти
моей она напечатлелась, как сладкий сон, который долго помнишь
после пробуждения; потому что я вечно буду помнить тот миг, когда
вы так братски открыли мне свое сердце и так
великодушно приняли в дар мое, убитое, чтоб его беречь, лелеять,
вылечить его... Если вы простите меня, то память об вас будет
возвышена во мне вечным, благодарным чувством к вам, которое никогда не
изгладится из души моей... Я буду хранить эту память, буду ей верна,
не изменю ей, не изменю своему сердцу: оно слишком
постоянно. Оно еще вчера так скоро воротилось к тому, которому
принадлежало навеки.
Он долго перечитывал письмо. Слезы просились из глаз его. Письмо
выпало из рук и он закрыл лицо. Он был не просто у разбитого корыта, но
сама жизнь мечтателя была разбита. Вышла Матрена - «- А паутину-то я всю
с потолка сняла; теперь хоть женись, гостей созывай, так в ту ж пору...».
Я посмотрел на Матрену... Это была еще бодрая, молодая старуха,
но, не знаю отчего, вдруг она представилась мне с потухшим
взглядом, с морщинами на лице, согбенная, дряхлая... Не знаю отчего, мне
вдруг представилось, что комната моя постарела так же, как и
старуха. Стены и полы облиняли, все потускнело; паутины развелось еще
больше. Не знаю отчего, когда я взглянул в окно, мне показалось,
что дом, стоявший напротив, тоже одряхлел и потускнел в свою
361
очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что
карнизы почернели и растрескались, и стены из темно-желтого
яркого цвета стали пегие...
Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался
под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих; или,
может быть, передо мною мелькнула так неприветно и грустно вся
перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно
через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же
одиноким, с той же Матреной ...
Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька! Чтоб я нагнал темное
облако на твое ясное, безмятежное счастие, чтоб я, горько упрекнув,
нагнал тоску на твое сердце, уязвил его
тайным угрызениеми заставил его тоскливо
биться в минуту блаженства, чтоб я измял хоть один из этих нежных
цветков, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла
вместе с ним к алтарю... О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо,
да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты
благословенна за минуту блаженства и счастие, которое ты дала
другому, одинокому, благодарному сердцу!
Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть
бы и на всю жизнь человеческую?.. (140-141).
Если прочитать все приведенные выше контексты слова сердце в
«Белых ночах», фрагменты, в которых это слово не упоминается, но где речь
идет несомненно о сердце, наконец, ближайшее окружение «ядерных»
контекстов этого слова, то в итоге окажется некий важный по существу и
достаточно густой в количественном отношении текст, который не только
вводит читателя в «сердцеведение» Достоевского, как оно отразилось в
«Белых ночах» (а это и составляет цель настоящей работы), но и имеет
значительную объяснительную силу применительно ко всему тексту этого
произведения. Разумеется, что исследование таких контекстов позволяет
лучше выявить архитектонику этого «текста сердца» и иерархию тем,
мотивов и ключевых слов, входящих в этот круг и позволяющих судить о
степени «связанности» этих слов со словом сердце. Наконец, существенный вклад
в расширение и углубление проблемы вносят слова, однокоренные со
словом сердце31. В целом же «Белые ночи» должны рассматриваться как
один из диагностически наиболее важных текстов, с которыми тема сердца
у Достоевского, особенно раннего, неразрывно связана.
X. НЕТОЧКА НЕЗВАНОВА
«Неточка Незванова» - наиболее пространное, хотя и незаконченное
произведение раннего Достоевского. Она задумывалась как роман, но в
конце концов превратилась в повесть. Впервые «Неточка Незванова»
появилась в Отечественных записках (1849. № 1; Отд. I. 1-52; № 2, отд. I, 307-356;
№ 5, отд. I, 81-130) и была последним произведением Достоевского,
написанным до ареста в ночь на 23 апреля 1849 г. (существенно отметить, что
цензурное разрешение на печатание той части, которая появилась в № 5
Отечественных записок, датируется 30 апреля 1849 г., т.е. уже после
362
ареста). После освобождения с каторги «Неточка Незванова» с
соответствующими изменениями издавалась в 1860 г. (т. I, 153-349) и в 1866 (т. III,
165-232). В ПСС, т. 2, 142-267 текст печатается по изданию 1866 г. т.е. уже
как повесть.
Замысел писать роман с тем же заглавием сложился, надо думать, в 1846 г.
Из письма Достоевского к брату М.М. Достоевскому от 7 октября 1846 г.
становится ясно, что в своем предыдущем письме, до нас недошедшем, Федор
Михайлович сообщил брату о своем намерении совершить поездку в Италию
и Францию (ср. в письме от 7 октября: «Прошлый раз писал я тебе, что
собираюсь за границу» - ПСС, т. 28, кн. 1, 127). В упомянутом письме от 7
октября многое восстанавливается, во всяком случае мотивы поездки и, очевидно,
длительный срок пребывания в Италии. Чтобы осуществить поездку, нужны
были деньги, которых, как это нередко случалось у Достоевского, у него
нехватало. В письме он просит одолжить ему взаймы деньги, а также излагает
свой план заработать деньги для погашения долга, напоминающий, тоже как
нередко у него, дележ шкуры неубитого медведя38.
Первый мотив поездки выдвигается как основной - «Я еду не гулять, а
лечиться. Петербург ад для меня. Так тяжело, так тяжело жить
здесь! А здоровье мое, слышно, хуже. К тому же я страшно боюсь». Второй
мотив - «А я в Италии, на досуге, на свободе хочу писать роман для
с е б я и быть в возможности накинуть наконец цену» (письмо от 7 декабря).
Но дело за деньгами, о которых Федор Михайлович и просит брата. Вскоре
эти деньги получены и через 10 дней (17 октября) Достоевский пишет брату
письмо, в котором он благодарит его за помощь. И тут же - «Спешу тоже
сказать тебе, что все мои надежды и расчеты
отлагаются, кажется, до более удобного времени»(ПСС, т. 28, кн. 1, 129).
Поездка в Италию отложилась на долгие годы, и к «Неточке Незвановой»
отношения уже не имела. Вместо Италии - Итальянская опера после 7 часов
вечера. А до этого - упорный труд над романом. Об этом он пишет брату
17 декабря 1846 г. - «Ты, может быть, все выжидал продолжения моего
недавнего послания. Но на меня не сердись, что я так неточно исполняю слово
свое. Я теперь завален работою и к 5-му числу генваря обязался поставить
Краевскому 1-ю часть романа «Неточка Незванова»... Это письмо пишу я
урывками, ибо пишу день и ночь [...] Здоровье мое хорошо, так что об нем
уж и нечего писать более. Пишу я с рвением. Мне все кажется, что я завел
процесс со всею нашей литературою... Итак, брат, я не поеду за
границу ни нынешнюю зиму, ни лето, а приеду опять к вам, в Ревель... (ПСС, т. 28,
кн. 1, 135). И в письме, написанном в январе-феврале 1847 г. - «Но скоро ты
прочтешь «Неточку Незванову». Это будет исповедь, как Голядкин,
хотя в другом тоне и роде» (139). В апрельском (1847) письме Достоевский
сообщает брату, что «он (роман. - В.Т.) завершит год ... и, главное, будет,
если не ошибаюсь теперь, капитальною вещью в году ...» (ПСС, т. 28, кн. 1,
140). Но этим надеждам не суждено было сбыться. Несмотря на все
старания закончить роман, он разрастался, и при всей заинтересованности в
завершении его Достоевский многократно отрывался ради других своих
произведений. Но и в самой «Неточке Незвановой» обнаруживаются следы
метания автора в процессе писания, серьезные изменения возникают в форме,
фабуле и сюжете. Сроки окончания романа отодвигаются все дальше и
363
дальше по мере того, как расширяется сам роман. В письме от 1 февраля
1849 г. к A.A. Краевскому Достоевский высказывает намерение
приготовить роман к осени 1849 г. (ПСС, т. 28, кн. 1, 151). Однако внешние
обстоятельства оказались сильнее намерений писателя.
В связи с темой сердца в «Неточке Незвановой», так сказать,
становления его, существенно отметить обилие в романе автобиографических
элементов, во-первых, переориентацию третьеличного модуса повествования
(«авторского») на перволичный (от лица главного женского
персонажа), во-вторых, и в-третьих, роль образа мечтателя Оврова в «черновом»
автографе ранней редакции романа39, прочитавшего «в строках письма
близкую и понятную ему повесть о братстве двух сердец, союз
которых «был бы прекрасен целому миру». Мысль о братском союзе
двух сердецио братском сочувствии Оврова неизвестному
мечтателю, настойчиво повторяясь, варьируется в тексте автографа (ПСС, т. 2,495).
Слово сердце в «Неточке Незвановой» встречается 106 раз, и,
следовательно, в среднем на каждую страницу текста приходится 0,8 примера этого
слова. Если учесть десятикратное употребление других слов с корнем
серд-, то окажется, что суммарно в среднем каждая страница содержит 0,9
примера слова с этим корнем. Этот коэффициент насыщенности текста
соответствующими словами должен быть признан достаточно высоким.
Исходная ситуация, в которой впервые появляется слово сердце,
заключается в том, что помещик, большой ценитель музыки, уговаривает
одаренного скрипача Ефимова, в будущем отчима Неточки, обещая ему самые
выгодные условия в содержащемся им оркестре. Первая реакция Ефимова
резко отрицательная - «Нет, сударь, нет, и не говорите: не жилец я у вас! Я вам
говорю, что дьявол ко мне навязался. Я у вас дом зажгу, коли останусь; на
меня находит, и такая тоска подчас, что лучше бы мне на свет
не родиться! Теперь я и за себя отвечать не могу: уж вы лучше, сударь,
оставьте меня. Это все с тех пор, как тот дьявол побратался со мною...» (147;
речь идет об итальянце, капельмейстере оркестра у графа, жившего в том
же уезде; с этим итальянцем близко сошелся Ефимов и многому у него
научился). Уговоры не помогают, Ефимов непреклонен. Последний шанс - в
предложении и просьбе помещика: «Егор! ... я тебя так не оставлю. Коли не
хочешь служить у меня, ступай; ты же человек вольный, держать тебя я не
могу; но я теперь так не уйду от тебя. Сыграй мне что-нибудь, Егор, на
твоей скрипке, сыграй! ради Бога, сыграй! Я тебе не приказываю, пойми ты
меня, я тебя не принуждаю; я тебя прошу слезно ... Отведи душу!» (там же);
«- Ну, быть так! - сказал Ефимов. - Дал я, сударь, зарок никогда перед
вами не играть, именно перед вами, а теперь сердце мое
разрешилось ...» (там же). Второй раз тема сердца возникает уже в связи с
Неточкой, рассказывающей о позднем «первом пробуждении ее (в тексте - моем)
от младенческого сна», «первом ее движении в жизни».
Сердце мое было уязвлено с первого мгновения, и с
непостижимою, утомляющею быстротой началось мое развитие ... Я начала
думать, рассуждать, наблюдать; но это наблюдение произошло так
неестественно рано, что воображение мое не могло не переделывать
всего по-своему, и я вдруг очутилась в каком-то особенном мире. Все
364
вокруг меня стало походить на ту волшебную сказку, которую часто
рассказывал мне отец и которую я не могла не принять, в то время,
за чистую истину. Родились странные понятия ... (160).
Сложно складывались ее отношения с матерью при обожании отца.
Мать вызывала в ней подозрительность.
И как могла родиться во мне такая ожесточенность к такому вечно
страдавшему существу, как матушка? Только теперь понимаю я ее
страдальческую жизнь и без боли в сердце не могу
вспомнить об этой мученице. Даже и тогда, в темную эпоху моего чудного
детства, в эпоху такого неестественного развития моей первой
жизни, часто сжималось мое сердце от боли и
жалости, -и тревога, смущение и сомнение западали в мою душу
(163).
И далее именно с Неточкой чаще всего связывается тема сердца:
Как теперь помню, она (мать Неточки. - В. Т.), все что-то
приговаривала, считая тихо, размеренно, как будто роняя слова ненарочно; губы
и щеки ее были бледны, руки всегда дрожали, и она всегда качала
головою, когда рассуждала наедине. - Нет, не нужно, - сказала она,
поглядев на меня, - я лучше спать лягу. А, хочешь ты спать, Неточка? -
Я молчала; тут она приподняла голову и посмотрела на меня так тихо,
так ласково, лицо ее прояснело и озарилось такою материнскою
улыбкою, что все сердце заныло во мне икрепко
забил о с ь. К тому же она меня назвала Неточкой, что значило, что в
эту минуту она особенно любит меня (163-164; нередкое у
Достоевского все сердце как бы отсылает к всеведению сердца, к его
предельно широкой синтезирующей все переживания человека роли).
Но особенно отзывчиво Неточкино сердце, когда она с батюшкой, когда
ждет, чтобы он мигнул ей, вызывая ее в сени:
Однажды, когда матушки не было дома, я выбрала минуту, когда
отец был особенно весел, - а это случалось с ним, когда он чуть-чуть
выпьет вина, - подошла к нему и заговорила о чем-то в намерении
тотчас свернуть разговор на мою заветную тему. Наконец я
добилась, что он засмеялся, и я, крепко обняв его, с трепещущим
сердцем, совсем испугавшись, как будто приготовлялась
говорить о чем-то таинственном и страшном, начала, бессвязно и путаясь
на каждом шагу, расспрашивать его: куда пойдем, скоро ли, что
возьмем с собою, как будем жить и, наконец, пойдем ли мы в дом с
красными занавесками (166).
Никогда еще я не выносила более тяжкой муки. С е ρ д ц е у меня
стеснялось до боли. На другой день поутру мне стало легче
(171).
- Это не стоит, - отвечал Б., - да и тяжело. Я не знаю, как вам, а мне
он (Ефимов. - В. Г.) всегда надрывает сердце. Его жизнь -
страшная, безобразная трагедия. Я его глубоко чувствую, и как ни грязен
он, но во мне все-таки не заглохла к нему симпатия (174).
365
Он, кажется, не ожидал такого сопротивления, но деньги взял;
наконец, не будучи в силах вынести мои жалобы и рыдания, оставил
меня на лестнице и сбежал вниз. Я пошла наверх, но силы оставили
меня у дверей нашей квартиры; я не смела войти, не могла войти;
все, насколько было во мне сердца, было
возмущено и потрясено. Я закрыла лицо руками и бросилась на окно, как
тогда, когда в первый раз услышала от отца его желание смерти
матери. Я была в каком-то забытьи, в оцепенении и вздрагивала,
прислушиваясь к малейшему шороху на лестнице (177).
- Не нужно, пап, не нужно! я не хочу гостинцев; я не буду их есть; я
тебе назад их отдам! - закричала я, разрываясь от слез, потому что
все сердце изныло у меня в одно мгновение.
Я почувствовала в эту минуту, что ему не жалко меня и что он не
любит меня, потому что не видит, как я его люблю... (178).
Как будто ледяная рука сжала вдруг мое сердце.Я
вскрикнула, оттолкнула его и бросилась наверх ... В припадке
судорожного отчаяния бросилась я поперек матушкиной постели и
закрыла лицо руками (180).
... отец взял шляпу, но, выходя, попросил стакан воды; он был бледен
и в изнеможении присел на стул. Воду подала уже я; может быть,
неприязненное чувство снова прокралось в сердце матушки и
охладило ее первое увлечение. - Батюшка вышел; мы остались одни. Я
забилась в угол и долго молча смотрела на матушку. Я никогда не видала
ее в таком волнении: губы ее дрожали, бледные щеки вдруг
разгорелись, и она по временам вздрагивала всеми членами. Наконец
тоска ее начала изливаться в жалобах, в глухих рыданиях и
сетованиях. - Это я, это все я виновата, несчастная! - говорила она сама с
собою. - Что ж с нею будет? что ж с нею будет, когда я умру? ...
Неточка! дитя мое! бедная ты моя, несчастная ... На кого ты останешься...
Ох, ты не понимаешь меня. Понимаешь ли? запомнишь ли, что я тебе
говорила, Неточка? будешь ли помнить вперед? - Буду, буду,
маменька! - говорила я, складывая руки и умоляя ее. Она долго, крепко
держала меня в объятиях, как будто трепеща одной мысли, что
разлучится со мною. Сердце мое разрывалось. - Мамочка! мама! -
сказала я, всхлипывая, - за что ты... за что ты не любишь папу? (182).
Я тотчас же пошла, но едва только взошла на тротуар, как вдруг как
будто что-то кольнуло меня в с е ρ д ц е... Я обернулась и увидела,
что он уже сбежал с другой стороны и бежит от меня, оставив меня
одну, покидая меня в эту минуту! Я закричала сколько во мне было
силы и в страшном испуге бросилась догонять его ... Мучительное
ощущение разрывало меня: мне было жалко его, сердце мое
ныло и болело... (187).
Болезнь моя еще не прошла ... К тому же какая-то, еще неясная мне
самой, тоска все более и более нарастала в моем маленьком
с е ρ д ц е ... и только когда очнусь, бывало, страх и смятение
нападали на меня и крепко билось мое сердце (189).
... а я бледнела, краснела и сидела потупив глаза, боясь
шевельнуться, дрожа всеми членами. Сердце ныло и болело во
мне. Я уносилась в прошедшее на наш чердак, вспоминала отца,
наши длинные, молчаливые вечера, матушку ... (190).
Я, правда, все помнила - и ночь, и скрипку, и батюшку, помнила, как
доставала ему деньги; но осмыслить, выяснить себе все эти
происшествия как-то не могла... Только тяжело становилось на с е ρ д ц е,
и когда я доходила воспоминанием до той минуты, когда молилась
возле мертвой матушки, то мороз вдруг пробегал по моим членам; я
дрожала, слегка вскрикивала, и потом так тяжело становилось
дышать,так ныла вся грудь,так колотилось сердце,
что в испуге выбегала я из угла (191).
Все здесь так не походило на другие комнаты, так было таинственно
и угрюмо, что я была поражена и какой-то испуг овладел
моим сердцем (194).
Сердце мое билось так, что я едва могла стоять на ногах ...
Боже мой! эта огромная мрачная зала, в которую я так боялась
входить, сверкала теперь тысячью огней ... Стало быть, это была не
мечта!.. Да, я видела все так и прежде в моих мечтах, в сновидениях!
Разгоряченная болезнию фантазия вспыхнула в моей голове, и
слезы какого-то необъяснимого восторга хлынули из глаз моих. Я
искала глазами отца: «Он должен быть здесь, он здесь», - думала я, и
сердце мое билось от ожидания... дух во мне занимался
(195).
Началась музыка, и я чувствовала, как что-то вдруг сдавило
мнесердце. В неистощимой тоске, затаив дыхание, я
вслушивалась в эти звуки; что-то знакомое раздавалось в ушах моих, как
будто я где-то слышала это; какое-то предчувствие жило в этих
звуках, предчувствие чего-то ужасного, страшного, что разреши-
л о с ь и в моем с е ρ д ц е... Все знакомее и знакомее
сказывалось ч τ о-т о моему сердцу. Но сердце
отказывалось верить. Я стиснула зубы, чтобы не застонать от боли, я
уцепилась за занавесы, чтобы не упасть... Порой я закрывала глаза и
вдруг открывала их, ожидая, что это сон, что я проснусь в какую-то
страшную, мне знакомую минуту, и мне снилась та последняя ночь, я
слышала те же звуки ... Вдруг раздался последний, страшный, долгий
крик, и все во мне потряслось... Сомненья нет! это тот самый, тот
крик! Я узнала его, я уже слышала его, он, так же как и тогда, в ту
ночь, пронзил мне душу. «Отец! отец! - пронеслось, как молния, в
голове моей. - Он здесь, это он, он зовет меня, это его скрипка!» ...
Я не вытерпела более, откинула занавес и бросилась в залу. -Папа,
папа! это ты! где ты? - закричала я, почти не помня себя ... Я
бросилась к нему с мучительным криком; я думала, что обнимаю отца...
Вдруг увидела, что меня схватывают чьи-то длинные, костлявые
руки и подымают на воздух. Чьи-то черные глаза устремились на
меня и, казалось, хотели сжечь меня своим огнем. Я смотрела на
старика: «Нет! это был не отец; это его убийца!» - мелькнуло в уме
367
моем ... я лишилась чувств (196; четырехкратное появление слова
сердце; весьма глубоко проработанная подготовка к описанию
кризиса Неточки, перевернувшего ее жизнь. - «Это был второй и
последний период моей болезни», - так определяет она свою ситуацию).
Новое одиночество стало для меня чуть ли не тяжелее прежнего,
и я опять начала грустить, задумываться, и опять черные мысли
облегли мое сердце (200).
Щеки княжны разгорелись как зарево. - Это дурное чувство. Вы ее
обидели своими вопросами. Родители ее были бедные люди и не
могли ей нанять учителей; она сама училась, потому что у ней
хорошее, доброе сердце. Вы бы должны были любить ее,
а вы хотите с ней ссориться. Стыдитесь, стыдитесь! Ведь она -
сиротка. У ней нет никого ... - Зачем вы у нас живете? - спросила вдруг
княжна помолчав. - Я посмотрела на нее в изумлении, и как будто
что-то кольнуло мне в сердце. - Оттого, что я сиротка, -
ответила я наконец, собравшись с духом (203).
Вопросы княжны все больше и больше растравляли мне
сердце. И воспоминания, и мое одиночество, и удивление
княжны - все это поражало, обижало мое сердце, которое
обливалось кровью. Я вся дрожала от волнения и
задыхалась от слез (204).
... одним словом, я узнал, что Катя помирилась с отцом, и сердце
мое задрожало от радости ... Но это было
прекрасное, доброе маленькое сердце (княжны. - В.Т.),
которое всегда умело сыскать себе добрую дорогу уже одним
инстинктом (206).
Но чувство справедливости всегда брало верх в ее сердце
(207).
...я вздрагивала и сердце начинало стучать так, что голова
кружилась (209).
Грусть разрывала мою душу, и чувство справедливости и
негодования начало восставать в моем оскорбленном сердце ... Конечно,
такие перемены происходили во мне только порывами, и потом
сердце опять начинало болеть сильнее и
сильнее, и я становилась еще слабее, еще малодушнее, чем прежде ...
Одна только я предчувствовала истину, и сильно забилось
мое сердце надеждою (211).
Между тем в сладостном ожидании билось и нежилось его
(Фальстафа. - В.Т.) с е ρ д ц е (214).
... и мы сладко, радостно обнялись, как друзья, как любовники,
которые свиделись после долгой разлуки. Сердце Кати билось
так сильно, что я слышала каждый удар ... Я прибежала наверх
как воскресшая, бросилась на диван, спрятала в подушки голову и
зарыдала от восторга. Сердце колотилось, как будто грудь
хотело пробить (217).
- Что это вы, княжна, верно, бежали по лестнице, что у вас так
сердце колотите я?.. - спросила Настя (218).
Посмотрев ей в лицо, я узнала сестру моей Кати и обняла ее с
глухой болью в сердце, от которой заныла вся грудь
моя И вот вечером я вошла в другую семью, в другой дом, к
новым людям, в другой раз оторвав сердце от всего, что мне стало так
мило, что было уже для меня родное (224).
... и я, еще с неостывшими слезами от разлуки с Катей, еще с б о -
л е в ш и м сердцем, жадно бросилась в материнские объятия моей
благодетельницы ... и потому каждый день моего развития объяснял
мне что-нибудь новое в судьбе моей благодетельницы, что-то такое,
что мучительно медленно угадывалось сердцем моим, и
вместе с грустным сознанием все более и более росла и крепла моя к
ней привязанность ... Смотря на ясные, спокойные черты лица ее,
нельзя было предположить с первого раза, чтоб какая-нибудь
тревога могла смутить ее праведное сердце... Она была
страстна и впечатлительна по натуре своей, но в то же время как
будто сама боялась своих впечатлений, как будто каждую минуту
стерегла свое сердце, не давая ему забыться, хотя бы в
мечтанье (225; четырехкратное употребление слова сердце).
Наконец больное сердце бедной женщины как будто не
вы носило...Я наблюдала, замечала, угадывала, и с самого
начала вселилось в меня темное подозрение, что какая-то тайна лежит на
всем этом, что эти внезапные взрывы уязвленного
сердца не простой нервный кризис... Я же крепко любила ее,
уважала ее тоску и потому боялась смушать ее подымчивое
сердце своим любопытством (228).
И тут она обнимала меня с таким глубоким чувством, такою
любовью светилось лицо ее, что сердце мое, если можно сказать, как-
то болело сочувствием к ней ... но, казалось, тем любовнее
поражал вас контраст ее нежного взгляда, больших детских ясных
голубых глаз, робкой улыбки и всего этого кроткого, бледного лица...
как будто боявшегося за каждое ощущение, за каждый порыв
сердца-иза мгновенную радость, и за частую тихую грусть. Но в
иную счастливую нетревожную минуту в этом взгляде, проницавшем
в сердце, было столько ясного, светлого, как день, столько
праведно-покойного (229).
Но пусть будет, пожалуй, смешно, что мы так воспламенялись и
просиживали за полночь, я - ребенок, она -уязвленное сердце,
так тяжело переносившее жизнь (231).
И вот в это время судьба внезапно и неожиданно повернула мою
жизнь чрезвычайно странным образом. Мое внимание, мои чувства,
сердце, голова - все разом, с напряженною силою ... обратилось
вдруг к другой, совсем неожиданной деятельности ... (232).
Я взяла один из них (роман - В.Т.), затворила шкаф и унесла к
себе книгу с таким странным ощущением, с таким биением и
369
замиранием сердца, как будто я предчувствовала, что в
моей жизни совершается большой переворот (233).
Скоро сердце и голова моя были так очарованы, скоро
фантазия моя развилась так широко, что я как будто забыла весь мир,
который доселе окружал меня (234).
Сердце ее ожесточалось, наконец, в этой глухой муке ...
Без слез не могу вспомнить теперь о том, до какой степени она была
привязана ко мне, до какой степени она обязалась в своем сердце
расточать на меня все сокровище любви, которое в
нем заключалось, и исполнить обет свой до конца - быть мне
матерью (235).
Когда она перешла наконец в чистую мелодию арии, я, увлекшись
музыкою, которая проникла мне в сердце, начала робко,
вполголоса, напевать этот мотив про себя (237).
Я искала уединения. В эту странную минуту странный случай потряс
до основания всю мою душу и обратил это затишье в настоящую
бурю. Сердце мое было уязвлен о так хочется жить, так
просится жить весь ваш состав, и, воспламеняясь самой горячей,
самой слепой надеждой, сердце как будто вызывает будущее, со
всей его тайной, со всей неизвестностью, хотя бы с бурями, с
грозами, но только бы с жизнию. Моя минута именно была такова (239).
Несколько слов бросилось мне случайно в глаза, и сердце мое
забилось от ожидания ... С этой минуты как будто переломилась
моя жизнь. Сердце мое было потрясено и возмущено
надолго, почти навсегда ... Но я почти не ошиблась; к тому же и с лог
письма ... подсказывал весь характер этой связи, от которой
разбились два сердца... Во все наше время, во все время, как
ты любила меня, у меня болело и ныло сердце за любовь
нашу, и поверишь ли? теперь мне легче (240).
Но с тех пор ушло много-много времени, и я стал жить одиноко,
сурово, спокойно, даже и не чувствуя холода, который леденил
мне с е ρ д ц е. И оно заснуло... Я был как раб перед тобою. Мое
сердце не дрожало возле тебя, не ныло, не вещало
мне про тебя: оно было покойно. Моя душа не узнавала твоей,
хотя и светло ей было возле своей прекрасной сестры ... Когда же я
узнал все ... после слов, которые потрясли до основания душу мою, -
я был ослеплен, поражен, все во мне помутилось, и знаешь ли? я так
был поражен, что не понял тебя! ... Страсть, как огонь, охватила
меня, как яд, пролилась в мою кровь; она смутила все мои мысли и
чувства, я был опьянен, я был как в чаду и отвечал на чистую
сострадательную любовь твою не как равный ровне, не как
достойный чистой любви твоей, а без сознания, без сердца. Я не
узнал тебя (241).
... и сердце мое билось медленно и крепко, словно хотело
остановиться и замереть навсегда ... ты любила меня, как сестра
любит брата, ты любила меня как свое создание, потому что
воскресила мое сердце, разбудила мой ум от усыпления и
влила мне в грудь сладкую надежду (242).
И вот эта-то мысль меня мучит; она стучит у меня в голове
непрерывно и терзает и язвит мое сердце? ... Вся душа моя
полна тобою. О, за что же, за что это нам? Зачем расстаемся мы?
Научи - ведь я не понимаю, не пойму этого, никак не пойму - научи,
как разорвать жизнь пополам, как вырватьсердцеиз груди и
быть без него? О, как я вспомню, что более никогда тебя не
увижу, никогда, никогда! Еще бы раз быть у ног твоих! Если бы
они только знали, как прекрасно было твое чувство! Но они слепы;
их сердца горды и надменны; они не видят и вовек не увидят того. Им
нечем увидеть (243).
Я же могла молчать, не принять этой роли и безвыходно
заключить то, что узнала, в сердце моем ... Тысячи вопросов, еще
смутных, еще неясных, вставали предо мною и уже нестерпимо
теснили мне сердце. Я была как потерянная ... Я
чувствовала, как будто что-то разрешилось в груди моей, что прежняя
тоскавдругразом отпала от сердца и чт о-т о
новое начало наполнять его, что-то такое, о чем я не
знала еще ... а между тем горько сердцу от тоскливого
предчувствия всего неизбежного будущего ..., которое ждет его на новой
дороге. Наконец судорожные рыдания вырвались из груди моей
и болезненным припадком разрешили мое
сердце (244; пятикратное употребление слова сердце.
Мне казалось, что тот, кому принесена эта жертва, презирает ее и
смеется над ней. Мне казалось, что я видела преступника, который
прощает грехи праведнику, и мое сердце разрывалось
на части... Но письмо выпадало из рук моих, и мятежное
волнение все более и более охватывало мое сердц е... (245)
Я решилась броситься перед ней на колени, отдать ей письмо,
которое она потеряла, и признаться ей во всем ... сказать ей, что я дитя ее,
что мое сердце перед ней открыто, чтоб она взглянула на
него и увидела, сколько в нем самого пламенного, самого
непоколебимого чувства к ней. Боже мой! Я знала, я чувствовала, что я
последняя, перед которой она могла открыть свое сердце, но
тем вернее, казалось мне, было спасение, тем могущественнее было
бы слово мое... Хотя темно, неясно, но я понимала тоску ее, и
сердце мое кипело негодованием при мысли, что она
может краснеть передо мной, перед моим судом... Ее ли
замученному сердцу воскреснуть для н а д е ж д ы? Я бы одним
ударом убила ее! ... и, наконец, какая мучительная тоска надрыва-
ласердце мое, когда мне приходилось быть раза два или три чуть
не свидетельницей тех угрюмых, темных сцен, о которых я уже
упоминала вначале (250; пятикратное употребление слова сердце).
Вдруг, едва только он успел взглянуть в зеркало, лицо его совсем
изменилось. Улыбка исчезла как по приказу, и на место ее какое-то
371
горькое чувство, как будто невольно, через силу пробившееся из
сердца, чувство, которого не в человеческих силах было скрыть ...
искривило его губы ... Помню, что я, ребенок, задрожала от страха,
от боязни понять то, что я видела, и с тех пор тяжелое, неприятное
впечатление безвыходно заключилось в сердце моем... в ту
минуту сходство напомнило мне почти такое же мгновение
моего детства, - тогда, не могу передать, какое язвительное
впечатление кольнуло мне сердце. Все нервы мои
вздрогнули ... (251).
Я молчала; сердце мое колотилось так, что я не могла
вымолвить слова (252).
Сначала мне показалось, что этому чистому,
благородному сердцу тяжело быть со мною после вчерашней сцены с
мужем, которой я поневоле была свидетельницей (253-254).
Я знала, что это дитя способно покраснеть передо мною и просить у
меня же прощения за то, что несчастная сцена, может быть,
оскорбила вчера мое сердце.... Но, слушай, - отвечай мне
правду, дитя мое: есть что-нибудь у тебя на с е ρ д ц е такое, отчего
бы ты также смутилась, если бы тебя о том спросили так же быстро
и неожиданно? ... Я не могла заменить тебе вполне родную мать,
несмотря на то, что любви к тебе слишком достало
бы на то в моем сердце... - Не говорите мне так, не
разрывайте моего сердца. Вы были мне больше чем
мать (254; четырехкратное употребление слова сердце).
Сердце мое сжималось все больнее и больнее
(255).
Бедная, бедная! Какое подозрение провожает тебя в могилу? -
восклицала я рыдая, - какое новое горе язвит и точит твое
сердце, и о котором ты едва смеешь вымолвить слово? ... эта
жизнь без просвета, эта любовь робкая, ничего не требующая, и
даже теперь, теперь, почти на смертном одре своем, когда сердце
рвется пополам от боли, она, как преступная, боится
малейшего ропота, жалобы, - и вообразив, выдумав новое горе, она
уже покорилась ему, помирилась с ним! Я стояла в каком-то
забытьи над своим прошедшим, как теперь милым сердцу, как
будто силясь прозреть вперед, в неизвестное, грозившем мне (256).
«Что с нею будет? - мелькнуло в моей голове. - Это письмо!.. Нет,
лучше все на свете, чем этот последний удар в ее сердце», - и я
бросилась назад. Но уж было поздно: он стоял подле меня (258).
Неужели я не знаю, что ее сердце чисто и благородно
[...] ум ясен и светел, а совесть боится обмана (261).
Вы слышали ее. Ну, что вы теперь скажете? Поверьте, доброе,
слишком доверчивое сердце [...] (264).
Если она увлеклась неопытным чувством и некому было удержать
ее? если я первая виноватее всех, потому что не уследила за
с e p д ц ем ее? если это письмо первое? ... если б наконец, не было
меня подле нее, и если б вы смутили ее совесть, душу и разбили
покой ее сердц а... Боже мой! (265).
И вы достигли цели, потому что это подозрение ее - неподвижная
идея угасающего ума, может быть, последняя жалоба
разбитого сердца на несправедливость приговора людского,
с которым вы были заодно (266).
В более широком контексте к кругу, центром которого является слово
сердце, подключаются и однокоренные с ним слова сердить(ся),
рассердиться), сердит(ый), также отсылающие к соответствующему состоянию
сердца. Их в «Неточке Незвановой» около десятка40.
Выше были приведены данные, относящиеся к теме сердца, к смыслу этой
темы, наконец, к роли самого слова сердце в ранний, очень короткий, но
весьма насыщенный период творчества Достоевского. Как видно из
предыдущего, здесь собраны сотни примеров употребления слова сердце в
произведениях писателя, опубликованных в 1846-1849 гг., и соответствующих
контекстов. Собственно говоря, перед нами эмпирический
материал, достаточно красноречиво подтверждающий, что тема сердца для
писателя была весьма важной, что с ее разработкой он связывал особые
надежды и что в сердце он видел прежде всего некий вполне материальный
орган, в котором самые разнообразные внешние данные перерабатываются в
синтетическую информацию о духовном и душевном состояниях человека, о
той глубинной интуиции, в соответствии с показаниями которой человек
сверяет эти свои состояния с внешней ситуацией, принимает решения,
особенно когда речь идет об острых кризисных ситуациях, когда все должно
быть увидено сразу и сразу же найден выход из положения, чего нельзя
найти в логических и аналитических действиях ума, рассудка. В этом
отношении Достоевский продолжает известное направление в русской
религиозной, в частности, и мистической традиции, и предвосхищает достижения
«сердцеведения» следующего века.
Но, конечно, эти материалы таят в себе и нечто большее и, может
быть, более важное. Прежде всего эти материалы позволяют
систематизировать структуру узких и более широких контекстов с ключевым
понятием их и соответствующим словом сердце, а также определить состав
глаголов, связанных с этим словом в двух ситуациях, - когда оно выступает как
субъект действия или как объект действия, и установить круг определений
слова сердце, согласующихся с ним прилагательных или причастий;
наконец, сопоставление всех контекстов с ключевым словом сердце позволяет
сделать некоторые заключения о степени однородности и разнообразия
этих контекстов. Хотя в состав этих контекстов, не считая явно
маргинальных случаев, входит десятка два-три глаголов и несколько меньше
прилагательных, читатель без труда замечает весьма значительное количество
совпадений и повторений, увеличивающихся по мере приближения к
концу текстов (особенно характерна ситуация, складывающаяся в «Неточке
Незвановой») и производящая впечатление форсирования одних и
тех же или достаточно близких структур, некоей «дурной» инерционности.
373
С этой особенностью связана и другая - по мере приближения к финалу
данного текста и привыкания читателя к контекстам с ключевым словом
сердце возникает эффект разрастания «сердце-сферы», расширения ее, с
одной стороны, и увеличения информации из этих «расширяющихся»
контекстов. Но ведь чтобы читатель привык, надо чтобы писатель
приучил его к этому (кстати, оба выделенные слова представляют собою
филиацию одного и того же исходного корня *йк-). Этим «приучением»
руководит писатель, как бы вынужденный вновь и вновь воспроизводить
ключевые схемы. Разумеется, и у Достоевского в ряде произведений его
раннего творчества немало повторов, вариаций, наконец, штампов.
Представляется, что все это происходит не столько от несовершенства, сколько
от того, что степень напряженности ситуаций слишком велика и писателю
важно поддерживать ее на должном уровне. Ставка писателя
максимальна - и н а ч е сказать и довести мысль, идею, сам смысл до читателя
именно в том виде, как нужно автору, нельзя. Ради этого он готов пойти на
крайние решения, оказывающиеся, как это ни парадоксально, в данном
конкретном случае наиболее естественными. Именно поэтому и в
разговорной речи не ставят в вину говорящему ни повторов, ни штампов, ни
тавтологий, если только с их помощью смысл сообщения доводится до
собеседника адекватно, быстро, надежно.
Прочитав собранные выше примеры в каждом из произведений
Достоевского, где их много («Бедные люди», «Хозяйка», «Белые ночи», «Неточка
Незванова»), приходится констатировать, что по сумме соответствующих
контекстов с ключевым словом сердце (а это сумма, несомненно, на
несколько порядков меньше всего текста произведения) часто
восстанавливается с определенной степенью надежности общий смысл всего
произведения, дух его. Более того, сама сумма контекстов «сердца» может
рассматриваться как одна из вариаций той проблемы, которая обозначается
как «перевод с русского на русский», т.е. перевод в пределах одного и того
же языка41. Конечно, в таком переводе многое и теряется (например, сам
сюжет, многие мотивы, персонажи, коллизии, мотивировки и т.п.), но и
многое восстанавливается - на первый взгляд почти из н и ч е г о, на более
проницательный - из более тонкой соотнесенности элементов, казалось бы
несовместимых или, по крайней мере, не соотносимых друг с другом. Ср. в
рекламе литературных произведений прием соположения ряда не связанных
друг с другом цитат из рекламируемого произведения, способствующий
(разумеется, с большими оговорками) читателю в его попытках по м и н и-
м у м у, к тому же разрозненному, реконструировать максимум
возможного, представив его как краткую и, может быть, сильно деформированную
версию общего целого. Эта процедура предполагает реконструкцию
(принципиально частичную) целого по сугубо частичному, обратную
процедуре редукции целого, при которой важные особенности этого целого
сохраняются в отражающем это целое частном.
Но иногда происходит и обратное, то есть, вариации частного
объединяются, синтезируются в целое, учитывающее только то, что является
индивидуальной и нигде более не повторяющейся характеристикой.
И это тоже своего рода перевод с русского на русский sub specie тенденции
к расширению.
374
5. ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ.
БОЛЕЕ ШИРОКИЙ КОНТЕКСТ СЕРДЦА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
КОНЦА XVIII - НАЧАЛА XX в.
Предполагаемая здесь вниманию читателя работа составляет лишь
часть исследований темы сердца в русской литературе и самого «текста
сердца» как вполне самостоятельной проблемы. С этой точки зрения
рассматриваются тексты русских писателей с конца XVIII в. по начало ХХ-го, у
которых тема сердца оказывается отмеченной и по существу и по
количеству употреблений слова сердце и однокоренных с ним слов. Среди этих
писателей - Карамзин (проза и поэзия), Пушкин (поэзия и проза), оказавшие на
Достоевского несомненное влияние, а также Жуковский, Батюшков («О,
память сердца! Ты сильней / Рассудка памяти печальной...» - «Мой
гений»; ср. позже и у Пушкина: «Поклон Вам ото всего и ото всех Вам
преданных сердцем и памятью»- Письма), Тютчев, Фет, Анненский,
Вячеслав Иванов, Блок, Андрей Белый, Мандельштам (поэзия). Особое
место в прозе занимают произведения Толстого последнего периода его
творчества (1905-1910), начиная с таких текстов, как «Божеское и
человеческое», «Посмертные записки старца Федора Кузмича», «За что?», и кончая
такими, как «Ходынка» и «Детская мудрость». Нельзя не заметить, что еще
чаще в текстах этого периода автор обращается к теме души.
Существенно и то, что раскрытие тем сердца и души осуществляется теперь иначе, чем
в более ранние периоды творчества писателя, что дает основание видеть в
обращении к этим темам нащупывание новых подходов к всегда
занимавшей Толстого проблеме «антропологии», к жизни души, духа, сердца.
Особое внимание уделяется теме сердца в поэзии Вяч. Иванова, одного
из наиболее проницательных и глубоких «поэтов сердца», автора книги
Cor ardens. Только в первой части этой книги, название которой совпадает с
названием всей книги, на 57 страницах слово сердце и однокоренные с ним
слова появляются 41 раз, т.е. в среднем соответствующее слово появляется
1 раз на 0,7 страницы (ср. также вторую часть книги Cor ardens,
озаглавленную как «Солнце-сердце», образ, к которому и в своей поэзии и в своих
религиозно-философских размышлениях Вяч. Иванов обращался
неоднократно). Cor ardens в этом плане может рассматриваться и как религиозно-
философский трактат в высокой поэтической форме. Этот глубокий
интерес к теме сердца, к самому его феномену на протяжении двух с половиной
веков - одна из важных, хотя и недостаточно отмеченных и должным
образом учтенных тем и проблем русской художественной литературы.
1 Не говоря здесь о роли сердца в собственно религиозной сфере, нужно отметить,
что уже в XVIII в. этот вопрос глубоко интересовал такого столь оригинального
мыслителя, как Григорий Саввич Сковорода (1722-1794). При жизни его
сочинения не издавались и распространялись в рукописных копиях. Первое критическое
издание его сочинений появилось в 1894 г., к столетию со дня смерти Сковороды.
Тема сердца не получила у него монографического воплощения, но к ней
украинский философ обращался не раз и в разных сочинениях, так что его позиция в этом
вопросе вполне представима, но здесь могут быть приведены лишь отдельные
фрагменты мыслей Сковороды о сердце. Все они относятся к области
христианского религиозного умозрения.
375
В 1766 г. им был написан текст под названием «Начальная дверь к христианскому
добронравию», обновленный в 1780 г. В «Преддверии» к нему Сковорода пишет:
Благодарение блаженному Богу о том, что нужное сделал нетрудным, а трудное
ненужным. Нет слаще для человека и нет нужнее, как счастье; нет же ничего и
легче сего. Благодарение блаженному Богу. Царствие Божие внутри нас. Счастие в
сердце, сердце в любви, любовь же в законе Вечного.
Сие есть непрестающее ведро и незаходящее солнце, тьму сердечной беседы
просвещающее ... Многие телесные необходимости ожидают тебя, и не там счастие, а
для сердца твоего едино есть на потребу, и там Бог и счастие, не далече оно. Близ есть.
В сердце ив душе твоей ... а я желаю, дабы душа твоя, как Ноева голубица, не
отбретши нигде покоя, возвратилась к сердцу своему, к тому, кто почивает в
сердце твоем, дабы сбылось оное Исаиино: «Будут основания твои вечные родом
родов, и назовешься создателем оград, и пути твои посреди успокоишь. (Григорий
Сковорода. Соч.: В 2 т. М., 1973. Т. 1. С. 111-112, далее Сковорода цитируется по
этому изданию)
«Не пожелай!..» Но понеже злое намерение семя есть злых дел, которым числа нет, а
сердце рабское неисчерпаемый есть источник худых намерений, для того по век
твой нельзя быть тебе честным, если не попустишь, дабы вновь Бог переродил
сердце твое. Посвяти ж оное нелицемерной любви. В то время вдруг бездна в
тебе беззаконий заключится... Бог, Божие слово, к его слову любовь - все то одно. Сим
троеличным огнем разожженное сердце никогда не согрешает, потому что злых
семян или намерений иметь не может (119).
При ней (вере.- В. Т.) необходимо должна быть надежда. Она слепо и насильно
удерживает сердце человеческое при единородной сей истине, не позволяя
волноваться подлыми посторонних мнений ветрами. По сей причине представляется в виде жен-
шины, держащей якорь. Сии добродетели сердце человеческое, будто надежный
ветер корабль, приводит наконец в гавань любви и ей поручает (120).
Тема сердца продолжается в диалоге Сковороды «Наркисс», первая версия которого
была подготовлена еще в 60-е годы XVIII в. В середине 80-х годов Сковорода вновь
обратился к этому тексту, многое исправил, переписал его заново, в начале 90-х
дописал «Пролог». Этот диалог оказался первым по времени из опубликованных
произведений Сковороды. Несколько примеров:
Узнай же себя! Испытай себя крепко. Право! Как бы можно влюбиться в неведомое?
Не горит сено, не касаясь огня. Не любит с е ρ д ц е, не видя красоты. Видно, что
любовь есть Софиина дочь. Где мудрость узрела, там любовь согрела («Наркисс», 122).
Источник единый люблю и исчезаю. Прочее все для меня стечь, сечь, подножие, сень
хвост... О сердце морское! Чистая бездна! Источник святой! Тебя единого люблю.
Исчезаю в тебе и преображаюся... Слышите ли? (123).
Так и человек Божий, источающий животворящие струи и лучи Божества испущаю-
щий, есть солнце не по солнечному лицу, но по с е ρ д ц у. Всяк есть то, чье
сердце в нем: волчье сердце есть истинный волк, хотя лицо человечье; сердце
боброво есть бобр, хотя вид волчий; сердце вепрево есть вепрь, хотя вид бобров.
Всяк есть то, чье сердце в нем (124).
То, что утаенная мыслей наших бездна и глубокое сердце - все одно. Но
удивительно! Как то возможно, что человеком есть не внешняя, или крайняя его плоть, как
народ рассуждает, но глубокое сердце или мысль его: она-то самый точный
есть человек и глава. А внешняя его наружность есть не что иное, как тень, пята и
хвост (129).
Я тебе всю подсолнечную и все Коперниковы миры представляю. Возьми из них, что
хочешь. А что говорите - показать в натуре, то должно было сказать: изъясни нам
притчами и подобиями то, что человек состоит не во внешней своей плоти и крови, но
мысль и сердце его - то истинный человек (132).
Ах! Перестань, пожалуй. Не сомневайся. Он человек добрый и ничьею не гнушается
дружбою. Мне твое доброе сердце известно, а он ничего, кроме сего, не ищет
(134).
К л е о π а. Правду сказать, помню слово Иеремиино сие: Глубоко сердце
человека, паче всех, и человек есть Верую и понуждаю сердце мое в послушание веры.
Но не можно ли хотя маленько меня подкрепить? ...-Друг. Праведно требуешь, для
того что Бог от нас ни молитв, ни жертв принять не может, если мы его не узнали.
Люби его и приближайся к нему всегда, сердцем и познанием приближайся,
не внешними ногами и устами. Сердце твое есть голова внешностей твоих. А
когда голова, то сам ты есть твое сердце. Но если не приблизишься и не сопряжешься с
тем, кто есть твоей головы головою, то останешься мертвою тенью и трупом. Если
есть тело над твоим телом, тогда есть и голова над головою и выше старого новое
сердце (136).
Кто неправедного оправдал, без сомнения, обидел невинного. А оправдать обоих
никак нельзя. Таков-то судия был, каков ты, Ефрем, которого некто из пророков
называет голубом безумным, лишенным сердца (137).
Друг. Хорошо мысли называешь семенем. Семя есть начало плодов. А совет в
сердце - голова наших дел. Но понеже сердце наше есть точный человек, то и
видно, кого премудрость Божия называет семенем и чадами змииными ... Откуда злое
семя на грядках огородных? Полно везде всяких советов. Не убережешься, чтобы не
родилось. Но что делать? Сын! Храни сердце твое ... Знай себя. Смотри себя. Будь
в доме твоем. Береги себя. Слышь! Береги сердце (139-140).
К л е о π а. Я без сомнения понимаю, что все внешние наши члены закрытое существо
свое в сердце имеют так, как пшеничная солома содержится в своем зерне. Она,
иссохши и издряхлевши, то закрывается при согнитии в зерне, то опять наружу в зелености
выходит и не умирает, но обновляется и будто переменяет одеяние. Но понеже на всех без
исключения людях видим внешние члены, которые свидетельствуют и о зерне своем, то
есть, что всяк из них имеет и сердце, которое ... точный есть человек и истинный, а
сие есть великое дело, так что се будет? Всем ли быть истинным человеком? И какая
разница меж добрым мужем и злым ... - Д ρ у г. Не бойся! Знаю. Ты, осмотрясь на людей,
ужаснулся. Но ведь видишь, что сие в природе не новое. Довольно сего водится в
земляных плодах и в древесных. Но нигде больше не бывает, как в людях. Весьма тот редок,
кто сохранил сердце свое или, как вообще говорят, спас душу свою. А так научил нас
Иеремия, и ему веруем, что истинный человек есть сердце в человеке,
глубокое же сердце и одному только Богу познаваемое не что иное что есть, как мыслей
наших неограниченная бездна, просто сказать, душа, то есть истое существо, и сущая иста,
и самая эссенция ..., и зерно наше, и сила, в которой единственно состоит (сродная) жизнь
и живот наш, а без нее мертвая тень мы, то и видно, сколь несравненная тщета потерять
себя самого... Друг. Перестань! Не так оно есть. Правда, что трудно изъяснить, что
злые люди сердце свое, то есть самих себя потеряли. И хотя между нами в первом
разговоре сказано, что кто себя не узнал, то тем самым потерялся, однако ж для лучшей
уверенности вот тебе голос Божий: «Послушайте меня, погубившие сердце, сущие
далече от правды». - К л е о π а. Ах, мы сему веруем. Но как они потеряли? Ведь и у них
мысли также плодятся и разливаются. Чего они себе не воображают? Чего не обнимают?
Целый мир их вместить не может ... Так не бездонная ли бездна сердце их? Ты сказал,
что сердце, мысли и душа - все то одно. Как же они потерялись? -Друг. Чего
достигнуть не можем, не испытываем. Понудить себя должно и дать место в сердце
нашем помянутому Божию слову. Если его благодать повеет на нас, тогда все нам прямым
и простым покажется. Часто мелочей не разумеем самых мелких. А человек есть
маленький мирок, и так трудно силу его узнать, как тяжело во всемирной машине начало
сыскать: затверделое нечувствие и привыкший вкус причина есть нашей бедности...
Теперь рассуждайте: нравится ли вам переход, или будьте попрежнему во видимой
земле вашей, или очищайте сердце ваше для принятия нового духа. Кто старое
377
сердце отбросил, тот сделал новым человеком. Горе сердцам
затверделым... - Л у к а. Для того-то самого смягчить сердце и сокрушить трудно ...
(142-147).
К л е о π а. ... Ах, зерно горчичное! Вера! Страх и любовь Божия! Зерно правды и
царствия Его! Чувствую, что тайно падаешь на земное мое сердце, как дождь на
руно. О дабы не поклевали тебя воздушные птицы (150).
Π а м в а. ... Итак, если хочешь что-либо познать и уразуметь, должно» прежде
взойти на гору ведения Божия. Там-то ты, просвещен тайными Божества лучами,
уразумеешь, что захочешь [...] Но кто нас выведет из преисподнего рова? Кто
возведет на гору Господню? Где ты, свет наш, Иисус Христос? Ты один говоришь истину
в сердце твоем. Слово твое истина есть (155).
Друг. ... Мало сынов Амосовых для утешения людей Божиих. Не умного
Аввакумов, стоящих на божественной страже. О всех можно сказать: мертв с мертвым твоим
сердцем ... Сидишь во тьме, лежишь в гробу... О божественная искра! Зерно гор-
чично и пшенично! Семя Авраамово! Сын Давидов! Христос Иисус! Небесный и
новый человек! Глава и сердце и свет всей твари ... Воскресение наше! Когда тебя
уразумеем?.. Ты истинный человек из истинной плоти (161).
Π а м в а.... Он не смотрит на лицо, но на сердце. Вам назад возвращаться
нельзя. Вот двери! Вам нестрашен темного вертепа путь при факеле? Господь с вами!
Ступайте! (164).
Тема сердца не раз возникает и еще в одном тексте Сковороды - «Разговоре пяти
путников о истинном счастии в жизни», созданном, как предполагают, в первой половине
70-х годов XVIII в. и впервые опубликованном в 1837 г. под названием «Дружеский
разговор о душевном мире». Несколько примеров:
... Соломон сказывает: вода глубока и чиста - совет в сердце мужа, так и я
говорю, что квас прескверный, мирской - желание в сердце твоем. «Дал ты веселие
в с е ρ д ц е моем», - Давид поет. А я скажу: «Взял ты смятение в сердце твоем!»
(322).
Математика, медицина, физика, механика, музыка с своими буйными сестрами; чем
изобильнее их вкушаем, тем пуще палит сердце наше голод и жажда, а грубая
наша остолбенелость не может догадаться, что все они суть служанки при госпоже и
хвост при своей голове, без которой все туловище недействительно. И что несытее,
беспокойнее и вреднее, как человеческое сердце, сими рабынями без
своей начальницы вооруженное? Чего же оное не дерзает предпринять? (327).
Но не очень искусно и у нас теперь обучают; причина сему та, что никто не хочет
от дел житейских упраздниться и очистить сердце свое, чтоб мог вникнуть
в недра сокровенной в святейшем библейном храме сладчайшей истины, необходимо
для всенародного счастия самонужнейшей (329).
Незаходимый свет, темную мыслей наших бездну просвещающий на то, чтоб
усмотреть нам, где высокий и твердый мир наш обитает, он же сам и побуждает
сердце наше к восходу на гору мира (333).
... Сей день жизни и здоровья душ ваших: дотоль вы и живы, поколь его храните в
сердцах своих ... Его именем и властию все-на-все на небесах и на земле делается
... И избавит вас от лукавого. А как только сделаетесь за все благодарны, то вдруг
сбудутся на вас сии слова: «Веселье сердца- жизнь человеку» (334).
Глава в человеке всему -сердце человеческое. Оно-то есть самый
точный в человеке человек, а прочее все околица, как учит Иеремия: «Глубоко с е ρ д -
ц е человеку (паче всех) и человек есть, и кто познает его?» Внемли, пожалуй,
глубоко сердце - человек есть... А что ж есть сердце, если не душа?» ... До сих-то
бедняков Господь с таким сожалением у Исайи говорит: «Приступите ко мне,
погубившие сердце, сущие далеко от правды...» (342).
Если прежде не сыщет (невещественная и бесстихийная мысль. - В. Т.) внутри себя,
без пользы будет искать в других местах. Но сие дело есть совершенных сердцем,
а нам должно обучаться букварю сей преблагословенной субботы или покоя (342).
... часто один крошечный душок демонский страшный бунт и горький мятеж, как
пожар душу жгущий взбуряет в сердце (342).
Но не легче ли тебе питаться одним зельем суровым и притом иметь мир и утешение
в сердце, нежели над изобильным столом сидеть гробом повапленным,
исполненным червей неусыпных, душу день и ночь без покоя угрызающих? (345).
Видишь, куда нас завела телесная натура, чего наделало слияние естеств? Оно есть
родное, идолобешенство и устранение от блаженной натуры и неведение о Боге.
Такового нашего сердца известная есть печаль то, что о ничем, кроме телесного, не
стараемся, точно язычники ... (347).
Центральной работой П.Д. Юркевича, относящейся к теме сердца, нужно признать
трактат по библейской психологии (точнее, может быть, пневматологии) «Сердце и его
значение в духовной жизни человека по учению Слова Божия», появившейся в Трудах
Киевской Духовной Академии (1860. № 1, 63-118) и переизданной относительно
недавно, см. Юркевич Π Д. Философские произведения. М., 1990. С. 60-103 (цитаты даются
по этому изданию), однако нельзя забывать и о другой работе того же автора - «Из
науки о человеческом духе» (Труды Киевской Духовной Академии, 1860, № 4, 367-511;
работа воспроизведена в издании 1990 г., 104-192), вызвавшей острый полемический
выпад со стороны Н.Г. Чернышевского, столь же острый, сколь и безосновательный.
Уместно напомнить здесь о том, что в статье «Из науки о человеческом духе»
Юркевич выступил с критическим анализом известного сочинения Чернышевского
«Антропологический принцип в философии» (Современник, 1860, кн. IV, 329-336, кн. V,
1-46), автор которой не был обозначен. «Неизвестный» автор известного труда
настаивал на том, что душевные явления представляют собой лишь видоизменения явлений
органической жизни. Юркевич же, напротив, утверждал и доказывал, что объяснение
духовных явлений из материальных невозможно. По мнению Юркевича,
материальное начало только во взаимодействии с духовным становится тем, что
воспринимается нами как опыт. Современный комментатор статьи Юркевича пишет:
Говоря о своеобразии психического, рецензент следует теории сознания Лотце.
Статья, написанная на столь актуальную тему, серьезно аргументированная и остроумно
и непринужденно изложенная, ознаменовала своим появлением тот «переворот во
взаимных отношениях наших университетов и академий», который позволил позднее
признать значение духовноакадемической науки наряду с университетской ... В прессе
начала 60-х годов не раз раздавались призывы к тому, чтобы духовная журналистика
присоединила свой голос к дискуссиям по животрепещущим вопросам современности.
Выступление киевского профессора не осталось незамеченным: вскоре издатель
«Русского вестника» М.Н. Катков перепечатал в своем журнале обширные
извлечения из нее, сопроводив одобрительным предисловием (Русский вестник, 1861, т. 32,
апрель, 79-105; т. 33, май, 25-59; см. Юркевич Π Д. Философские произведения.
С. 643-644).
В Современнике за 1861 г. (кн. VI, 447-478, кн. VII, 133-180) появляется статья
Чернышевского «Полемические красоты». Что сказать о ней? Проще напомнить, что
Чернышевский заявляет о том, что он не читал статьи Юркевича, но знает, что в ней
написано, помня свои семинарские тетрадки, и привести вывод - «Я чувствую себя
настолько выше мыслителей школы Юркевича, что решительно нелюбопытно мне
знать их мнение обо мне». Пресса оживленно откликнулась на эту полемику.
Наиболее выразительным был ответ трезвого и умного М.Н. Каткова:
В самом деле, г. Юркевич не отрицает того, во что так веруют гг. Чернышевский и
Антонович, но он, кроме этого, допускает и еще кое-что, чего эти господа не
допускают, не допускают именно по чувству слепого культа, возбраняющего употребление
собственного мышления (Русский вестник, 1861, июнь, 143).
379
3 Ср. кроме того слова с тем же корнем, что и сердце, и обнаруживающим некоторые
существенные функции или качества сердца, как, например, «Умный человек, судясь
с человеком глупым, сердится ли он, смеется ли, - не имеет покоя» (Пр. 29, 9)
или сердечный (Пр. 27, 9; Ис. 65, 14; Иез. 36, 5; 1 Кор. 4, 5; Евр. 4, 12). Существенно,
что в первом случае акцентируется «отрицательная» реакция сердца, во втором -
положительно-приемлющее, связанное с сердцем.
4 См. Священник Павел Флоренский. Столп и утверждение истины. Опыт
православной теодицеи в двенадцати письмах. М., 1914. С. 263 (далее цитируется именно это
издание).
5 Ср. развитие этой первой посылки Флоренским: Жить и чувствовать вместе со всею
тварью, но не тою тварью, которую испоганил человек, а тою, которая вышла из рук
Творца Своего; прозревать в этой твари иную, высшую природу; сквозь кору
греха осязать чистое ядро Божияго творения... Но сказать так - это все равно, что
поставить требование восстановленной, т.е. духовной личности. И опять
возникает вопрос о подвижничестве.
Ведь не посты и другие труды телесные, не слезы и не добрые дела - благо
подвижника, а восстановленная в целости, т.е. уцеломудренная
личность. «Ничто, - говорит св. Мефодий, - ничто не зло по природе, но по способу
пользования делается злым злое - τη φύσει κακόν ουδέν £στι, άλλα τη χρήσει γίνεται κακά
τα κακτά».
Нет в человеке никакой реальности, которая была бы злом; но ложное
употребление сил и способностей, т.е. извращение порядка
реальности, есть зло; напротив, цельность-целомудрие состоит, по слову
св. Амвросия Медиоланского, «в ненарушенной», «в неповрежденной природе»:
pudor virginis est intemerata natura.
Зло есть не что иное, как духовное искривление, а грех - все то, что ведет к
таковому. Но наличность этого искривления личности требует своего рода ортопедии.
Эта-то ортопедия - узкий путь подвижничества в разуме святых отцов.
Не потому, - рассуждает один современный Епископ, - не потому необходимым
явилось подвижничество, кдк совокупность известного рода ограничений и стеснений
для достижения нравственного совершенства, что этого требует христианство. Нет,
христианство требует от человека только положительного, нравственного развития,
но только сам-то человек грешный оказывается совершенно неспособным прямо
жить так, как требует этого христианский идеал и принужден прибегать к разного
рода мерам для подавления в себе нажитого греховного содержания жизни, «с потом
лица есть хлеб небесный», как выражаются аскеты (263-264).
Флоренский исходит из того, что «духовная жизнь - это и есть спасение, дарованное
Господом» и что «подвижничество - путь к нему». Здесь и возникают две проблемы -
задачи, сопоставимой подвигу, и порядка, о которых см. выше.
6 В этом месте Флоренского покидает дух трезвости, когда он пытается, вступив в
пространство этимологии, доказать единство происхождения слов, обозначающих тело и
целое как нечто целое, неповрежденное, «в себе законченное», будь то русск. тело и
целый или др.-греч. σώμα и σάος, σόος, σώος. Тот факт, что здоровое,
неповрежденное тело предполагает целое, целостность, не вызывает сомнения, хотя предлагаемая
Флоренским этимология этих слов элементарно ошибочна.
7 См. Флоренский П.Л. Указ. соч. С. 264-274.
8 Однако проблема сердца в рассматриваемом здесь ракурсе давно интересовала
Вышеславцева, о чем можно судить по его книгам «Сердце в христианской и индийской
мистике» (Париж, 1929) и «Этика преображенного Эроса» (Париж, 1931, ср. главу
«Извращенный Эрос и логика сердца»), его статьям «Значение сердца в религии»
(Путь, 1925, № 1), «Культура сердца» (Вестник РСХД, 1934) и некоторым другим, по
его работам о Достоевском, ср.: «Русская стихия у Достоевского» (Берлин, 1933),
«Достоевский о любви и бессмертии» (Современные записки, 1932, № 50).
9 Особое внимание теме сердца уделяется в песнях сектантов-мистиков,
опубликованных в свое время в книге «Песни русских сектантов мистиков». Сборник, составлен-
380
ный Т.С. Рождественским и М.И. Успенским (СПб., 1912). В этом собрании
насчитывается около трех сотен упоминаний сердца. Лишь несколько характерных образцов:
«Отклоните все сердца,/ Просите в небе отца, / Покров его до конца / От вселен-
ныя отца» (9); «Они с батюшкой простились, / У них ноги подкосились, /... / Залились
горько слезами, / Замирали все сердцами» (26); «Поживите, мои дети, / В любви
Божьей, во совете. / ... / Заключите у сердца,/ Просите в небе Творца» (27); «Уж
ты, свет - наше красно солнышко, / Обогрей наши сердца нутренни! / Уж ты,
царство наше небесное, / Не оставь нас на сырой земле!» (33); «А царь сердцем
встрепенулся, / На отца он ужаснулся, / И заплакал, затужил» (42); «Наш батюшка
искупитель / Своим сердцем воздохнул» (43); «Я избранных в свое сердце
заключу, / Слабых, грешных судом Божьим обличу» (58); «Мое сердце
надрывается, / Красоты вечной добивается» (61); «Прольем слезы - плач сердечный /
Пред тобой, Спаситель наш» (66); «В небо просьбу посылаешь, / И к царю тайно
катаешь, / Его сердце умягчаешь» (79); «Страшатся они Бога вышняго / И всегда
любят сердцем ближняго» (122); «Поспешайте, мои други, /Сердечные
храмы стройте, / Живого Бога спокойте. / ... / Горькие слезы проливайте, /
Неволюшку отпирайте, / Престол в сердцах согружайте (сооружайте. - В.Т.)» (125);
«Спаситель наш предвечный, / Даруй орган сердечный./.../ Орган - сердцу
правитель. / ... Мое сердце всегда рвется, / Со врагом всегда дерется. / В Тебе
силы попрошу, / А врага я сокрушу» (153); «Во сердца вселил он Свята Духа, / Во
уста вложил родослов-книгу, / Он вручил же мне верных-праведных» (174); «Сам
Создатель строит храм, / Придет в с е ρ д ц е жить он к нам» (190); «Заступись, Спас
милосердый, за меня! / Отгони Ты злые духи прочь от нас. /... / И крестом нас
покрываешь завсегда. / Призываешь Ты всех грешников к себе / И глаголешь завсегда в
наших сердцах /.../ Мы сбираемся для имени Твово, / Принесли сердца к
распятому кресту, / ... / Прими, Сын Божий, сердечны словеса» (191); «Я вас
вранам не отдам, / Благодать в сердца подам. / ... / Тут в корабль душа вошла, /
Вечны радости нашла, /В сердце радость все кладет / Стала петь: * Христос воскрес!
/ Сам Спаситель с нами здесь'!» (193-194); «И 'осанна' Сыну Божью благословен
грядущий, / Избавитель, в мир пришедший, посланный от Бога. / Он катит - красное
солнце, сердца растворяйте; / ... / И как можно, мои други, сердца очищайте,
/ Покаянием сердечным вы себя смиряйте, /И сердечными слезами
себя обмывайте. / ... / Ах, настави мя, Сын Божий, любить Тебя сердцем / Чистым
сердцем сокрушенным и духом смиренным» (195); «На сырой земли на лютой,
среди волков лютых, / Добрый пастырь не остави, в сердце жить настави / ... / Для
тебя храмы готовы -сердца растворены. /Прииди, вечная жизнь, в сердцах
поселися!» (196); «Бегут зверья, разинувши пасть... / И душенька видит страсть; / Дух
сердца вянет, куда потянет. / Склонились веса на правды дела, / Склонились веса
на добры дела» (208); «Вы идите, не робейте, / Вы святую воду пейте, /В сердце
змея бейте. / Уж вы змея-то убьете, / До Бога дойдете» (221); «На ком ризушка
красна, / Та жила страшно, / Во страданиях Господних / Бога помышляла, /В сердце
устрояла / Каменну палату / Святому Духу» (225); «Как он поношенье / С радостью
носил, / Как своей любовию / Жестоких смягчал. / Приди, родной батюшка, / В скорб-
ныя сердца; / Не оставь, свет истинный, / Помощью своей» (227); «Чистым
сердцем устами воспеваю, / Благодать твою святую прославляю / И земную
Твою жизнь я ублажаю» (228); «Как младенца пеленами повивала / И сосцами, яко
матерь, ты питала, / Все глаголанное в сердце Ты слагала, / Всю надежду на
младенца возлагала; / ... / В безмолвии свово сердца так гласила: / 'Сей младенец
держит небо, - говорила, /... / А уж Ирод всею злобой вооружился, / Как на брань, он
на младенца ополчился, / Яд лукавства в своем сердце он скрывая, / ... /
Неповинного Тебя убить желая, /... » (229); «Все страдания болезни ощущаю. / В моем
сердце я с Тобою разделяю» (229-230); «С трубой ангел солетает, / Подавая голоса, /
По сердцам Дух Свят катает, / Унося их в небеса. /... / Мое слово изливает /
Вместе с светом благодать, /Сердце верой наделяет, / ... / Отдаляет от сознанья, /
Приближает ко Творцу, /Сердце тает от пыланья / И кидает ко Отцу» (246-247);
381
«В сердцах чистых стал катать, / Свое слово покладать» (248); «Станем (Ста-
нем-те) просить Бога, / Чтоб над нами умилился, /Во сердца наши вселился»
(266); «Огради нас бедных / Своею оградой! / Приди в сердца наши / С небесной
отрадой!» (267); «И где двое и где трое, аз есмь сам посреди вас, / Я во простых
сердцах сам Бог буду пребывать» (280) и т.п. Обширный и диагностически
весьма важный материал, относящийся к теме сердца, можно почерпнуть из житийной
русской литературы и - шире - из истории русской святости (и, конечно, не только
русской, ср. католический культ сердца Господня и тему сердца в итальянской поэзии,
уже на раннем ее этапе, от Якопоне да Тоди до Данте и Петрарки).
10 К тому, что было сказано Вышеславцевым о сердце в индийской мистической
традиции и - необходимо дополнить - в буддийских текстах, в которых представлена
законченная и вполне оригинальная концепция сердца (и только в них), и лишь
отчасти в текстах Упанишад, были выработаны с наибольшей основательностью
основные положения учения о сердце. В буддийской традиции сердце понималось
как вместилище не только души, ноиразума, мысли и разных видов
мыслительных способностей. Отсюда - распространенное понимание сердца как cit,
bodhi-citta или даже прямые уравнения типа hadayan îi cittam «сердце - это мысль»
(ср. 'Atthäsalirii, 140 или cittassa vatthu и hadaya-vatthu в «психологическом» трактате
«Дхаммасангани» и множество других подобных свидетельств). Буддийские тексты
постоянно обращаются к утверждению, что мысль (др.-инд. citta, тибетск. sems)
имеет своим жилищем, домом сердце (др.-инд. hrdava, тибетск. sems khan).
Разумеется, что следы такого понимания присутствуют уже в Ведах, ср.: antâh samudré
hrdy antâr âyusi (RV IV, 58, 11) «в океане - сердце, в силе жизни» или hrdâ pasyanti man-
asä vipascitah... (RV X, 177, 1) «сердцем и мыслью видят прозорливцы» и т.п. Нужно
отметить, что типологически сходные примеры известны и из других традиций -
мистических, как, например, у орфиков, понимавших сердце как
мыслительное начало (в отличие от Гомера), в ряде шаманских культур или преднауч-
н ы х, как указанные выше буддийские тексты. Заслуживает внимание тох.
A päl(t)sk-, В palsk- «думать» при тох. A pältsäk, тох. В palsko «мысль», «размышление»,
восходящих к и.-евр. *pel-: *pol-: *р^1- «бить(ся)», «колотить(ся)», «стучать»,
«пульсировать», ср. лат. pello, pulsare, cor palpitât {cordis palpitatio), др.-греч. καρδία
πάλλει, πηλαι (< *palsaï) и т.п. Тот же корень обнаруживается в русск. полошить, по-
лох, переполох (ср. всполохнуло сердце, сердце полошит, сердце полыхает и т.п.) и
их славянских соответствиях (из праслав. *pel-s-, *pol-s-).
11 «Иррациональность» сердца не ошибка Творца, но расчет именно на беспредельность
глубины, знак доверия к возможностям человека в его развитии, уважение к
свободному выбору, ибо человек рассчитан не на себя теперешнего, а на «вырост».
12 Цитируется по изданию: Бердяев H.A. О русской философии. 1991. С. 27.
13 Среди них особого внимания заслуживают - Архим. Киприан (Керн). Антропология
св. Григория Паламы. Париж, 1950; Lossky V. A l'image et à la ressemblance de Dieu.
Paris, 1967; Лосский В.H. Образ мистического богословия Восточной Церкви.
Догматическое богословие. М., 1972; Он же. По образу и подобию. М., 1995; Он же. Богови-
дение. М., 1995. MeyendorffJ. St. Gregory Palamas and Orthodox Spirituality. St. Vladimir's
Press, 1974; Мейендорф И. О византийском исихазме и его роли в культурном и
историческом развитии Восточной Европы в XIV в. ТОДРЛ. Т. 29. 1974. С. 291-305; Он же.
Введение в святоотеческое богословие (конспект лекций). Вильнюс; М., 1992; Он же.
Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение. 2-е изд. СПб., 1997;
LeloupJ.-Y. Ecrits sur l'Hésychasme. Paris, 1990; A. et R. Gœttmann. Prière de Jesus. Prière du
Cœur. Paris, 1994 и др.
14 См. Хоружий С.С. Аналитический словарь исихастской антропологии // Синергия.
Проблемы аскетики и мистики православия. М., 1995. С. 42-150.
15 Об Иисусовой молитве см. там же, с. 97 и ел.
16 См. Лосский В.Н. Образ мистического богословия. С. 106.
17 См. Достоевский Ф.М. Бесы. Глава девятая. У Тихона. Цит. по ПСС. Т. 11. Л., 1974.
С. 22.
382
18 Цитируется по русскому переводу - Гуардини Р. Человек и вера. Брюссель, 1994.
С. 233-234.
19 Из многочисленных работ, так или иначе связанных с антропологией Достоевского,
здесь могут быть отмечены лишь немногие. Ср.: Шестов Л. Достоевский и Нитше
(Философия трагедии). СПб., 1903; Вячеслав Иванов. Достоевский и роман-трагедия //
Борозды и межи. Опыты эстетические и критические. М., 1916. С. 3-60; Он же. Лик и
личины России. К исследованию идеологии Достоевского // Родное и Вселенское. М.,
1918. С. 125-172; Бердяев H.A. Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923; Штейн-
берг A3. Система свободы Ф.М. Достоевского. Берлин, 1923; Нечаева B.C. Ранний
Достоевский. 1821-1849. М., 1979; Касаткин Н.В., Касаткина В.Н. Тайна человека.
Своеобразие реализма Ф.М. Достоевского. М., 1994; Луи Аллен. Ф.М. Достоевский.
Поэтика. Мироощущение. Богоискательство. СПб., 1996; Дилакторская ОТ.
Петербургская повесть Достоевского. СПб., 1999 и др.
20 Предполагая в дальнейшем вернуться к теме сердца в произведениях Достоевского
более поздних периодов его творчества, особенно последнего, здесь можно только
отметить характерное для писателя стремление привязать эту тему к конкретным
персонажам «большого сердца», как Зосима в «Братьях Карамазовых» или Макар Иванович
Долгорукий в «Подростке», точнее, разыграть эту тему синтетически (скорее,
чем аналитически) применительно к персонажам этого типа. И в этом случае
«сердечное» просвечивает, обнаруживает себя и там, где само слово сердце и однокоренные с
ним могут и отсутствовать. Но когда они включаются в более широкий контекст, в
центре которого персонаж «большого сердца», освещающего и освящающего все
вокруг, тогда и само слово сердце звучит особенно полновесно. Несколько примеров из
части второй, книги шестой «Братьев Карамазовых» - «Русский инок», где заранее
ожидаемое слово сердце появляется особенно часто и звучит с особой весомостью. Три главы
(I—III) этой книги связаны с образом Зосимы, житие которого, составленное с его
собственных слов Алешей Карамазовым, образует естественный центр книги, так сказать,
сердце его, текст «сердца». Ср.: когда Алеша с тревогой и с болью в сердце
вошел в келью старца, то остановился почти в изумлении: вместо отходящего больного,
может быть уже без памяти, каким боялся найти его, он вдруг его увидал сидящим в
кресле, хотя с изможженным от слабости, но с бодрым и веселым лицом, окруженного
гостями и ведущего с ними тихую и светлую беседу ... гости уже собрались в его келью
раньше и ждали, пока он проснется, по твердому заверению отца Паисия, что «учитель
встанет несомненно, чтоб еще раз побеседовать с милыми сердцу его, как сам изрек и
как сам пообещал еще утром» ... поутру же старец Зосима положительно изрек ему,
отходя ко сну: «Не умру прежде, чем еще раз не упьюсь беседой с вами, возлюбленные
сердца моего, на милые лики ваши погляжу, душу мою вам еще раз изолью» ... Их
было четверо: ... иеромонах отец Михаил, настоятель скита ... духом твердый, нерушимо
и просто верующий, с виду суровый, но проникновенный глубоким умилением в
сердце своем, хотя видимо скрывал свое умиление до какого-то даже стыда (257).
Алеша подошел к нему, склонился перед ним до земли и заплакал. Что-то рвалось
из его сердца, душа его трепетала, ему хотелось рыдать (258).
Вам же, милые гости, хочу я поведать о сем юноше, брате моем, ибо не было в жизни
моей явления драгоценнее сего, более пророческого и трогательного.
Умилилось сердце мое, и созерцаю всю жизнь мою в сию минуту, как бы вновь ее
всю изживая (259).
Даже в городе много говорили о его кончине. Потрясло меня все это тогда, но
не слишком, хоть и плакал я очень, когда его хоронили. Юн был, ребенок, но на
сердце осталось все неизгладимо, затаилось чувство (263).
Кончается жизнь моя, знаю и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день
мой, как жизнь моя земная соприкасается уже с новою, бесконечною, неведомою, но
близко грядущею жизнью, от предчувствия которой трепещет восторгом
душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце (265).
383
Разверни-ка он им эту книгу и начни читать без премудрых слов и без чванства, без
возношения над ними, а умиленно и кротко, сам радуясь тому, что читаешь им и что
они тебя смущают и понимают тебя ... изредка лишь остановись и растолкуй иное
непонятное простолюдину слово, не беспокойся, поймут все, все поймет православное
сердце ... Отцы и учители, простите и не сердитесь, что как малый
младенец толкую о том, что давно уже знаете ... От восторга лишь говорю сие, и простите
слезы мои, ибо люблю книгу сию (речь идет о Ветхом Завете - В.Т.). Пусть заплачет
и он, иерей Божий, и увидит, что сотрясутся в ответ ему сердца его
слушающих (266).
Не забудьте также ... хотя бы житие Алексея человека Божия и великой из великих
радостной страдалицы, боговидицы и христоносицы Марии Египтяныни - и пронзишь
сердце его сими простыми сказаниями (267).
И вот покажись мне, что девица расположена ко мне сердечно,
-разгорелось мое сердце при таковой мечте (269).
«Господа, - воскликнул я вдруг от всего сердца, - посмотрите кругом на дары
Божий: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и
безгрешная, а мы, только мы одни, одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь
есть рай ...». Хотел я и еще продолжать, да не смог, дух даже у меня захватило,
сладостно, юно так, а в сердце такое счастье, какого и не ощущал никогда во всю жизнь
(272).
Что с вами, - говорю, - уж не дурно ли вам? А он ... - Я... знаете ли вы... я... человека
убил ... Проговорил да улыбается, а сам белый как мел. «Зачем это он улыбается», -
пронзила мне мысль эта вдруг сердце, прежде чем я что-либо сообразил.
Сам я побледнел (276).
Почувствовав к ней любовь великую, сделал он ей изъяснение в любви и начал
склонять ее выйти за него замуж. Но она отдала уже свое сердце другому ... При виде
спящей разгорелась в нем страсть, а затем схватила его сердце мстительная
ревнивая злоба, и, не помня себя, как пьяный, подошел и вонзил ей нож прямо в
сердце, так что она и не вскрикнула (277).
Стал он видеть ужасные сны. Но будучи тверд сердцем, сносил муку долго:
«Искуплю все сею тайною мукой моею» (279).
Вышел я тогда от тебя во мрак, бродил по улицам и боролся с собою. И вдруг
возненавидел тебя до того, что едва сердце вы несло...Я только тебя ненавидел
и отомстить тебе желал изо всех сил за все. Но Господь мой поборол диавола в моем
сердце. Знай, однако, что никогда ты не был ближе к смерти (283).
От народа спасение Руси. Русский же монастырь искони был с народом. Если же
народ в уединении, то и мы в уединении. Народ верит по-нашему, а неверующий деятель
у нас в России ничего не сделает, даже будь он искренен сердцем и умом
гениален. Это помните. ... Берегите же народ и оберегайте сердце его
(285).
Вот мы теперь оба, и он у себя, и я, идущий, охаем, должно быть, да усмехаемся
радостно, в веселии сердца нашего, покивая головой и вспоминая, как Бог
привел встретиться (287).
Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для
умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам (289).
Приими сии муки и вытерпи, и утолится сердце твое, и поймешь, что и сам
виновен ... (292).
Даже за пять минут до кончины ... нельзя было еще ничего предвидеть. Он вдруг
почувствовал как бы сильнейшую боль в груди, побледнел и крепко прижал
руку к сердцу. ... но он, хоть и страдающий, но все еще с улыбкой взирая на
384
них, тихо опустился с кресел на пол и стал на колени, затем склонился лицом ниц к
земле, распростер свои руки и, как бы в радостном восторге, целуя землю и молясь (как
сам учил) тихо и радостно отдал душу Богу (294).
Другой пример концентрации слова сердце, хотя и более ограниченный, присутствует
в «Книге седьмой. Алеша», части третьей «Братьев Карамазовых». И эта
концентрация тоже предсказуема, поскольку подготовлена тем, как выстраивается образ
Алеши, ученика Зосимы, в романе. Ср.:
Не кори меня нарядом, Ракитка, не знаешь еще ты всего моего серд-
ц а!» (322).
Не знаю я, не ведаю, ничего не ведаю, что он мне такое сказал, сердцу
сказалось, сердце он мне перевернул... Пожалел «он меня первый, единый, вот что
(323).
И знало же другое великое сердце, другого великого существа, бывшего
тут же, матери Его, что не для одного лишь великого страшного подвига сошел Он
тогда, а что доступно сердцу Его и простодушное немудрое веселие каких-нибудь
темных, темных и нехитрых существ, ласково позвавших Его на убогий брак их (326).
Что-то горело в сердце Алеши, что-то наполнило его вдруг до боли, слезы
восторга рвались из души его... (327).
Не могло не возникнуть слово сердце и в связи с Митей Карамазовым в его «исповеди
горячего сердца»:
Красота - это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределима ...
Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека ... Красота!
Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом
высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским ... Черт знает что
такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь
красотой. В содоме ли красота? ... Ужасно то, что красота есть не только страшная,
но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца
людей (100).
Ср. также название двух глав книги третьей части первой («Сладострастники») из
того же романа - III. «Исповедь горячего с е ρ д ц а. В стихах» и V. «Исповедь горячего
сердца. "Вверх пятами"». «Горячее сердце» и у главного персонажа
предпоследнего романа Достоевского «Подросток» Алеши Долгорукого, но слово сердце
писатель отдает Макару Ивановичу, святому человеку в миру. Ср.: «Прежде всего
привлекало в нем, как я уже и заметил выше, его чрезвычайное чистосердечие
и отсутствие малейшего самолюбия; предчувствовалось почти безгрешное
сердце. Было 'веселие' сердца, а потому и * благообразие'» (308-309) и др.
Мое сердце, сердце у меня...и т.п. - одно из клише субъективности, суждения «я» о
своем сокровенном.
Следует помнить еще о глаголе сердиться и прилагательном сердитый,
восьмикратно отмеченных в «Бедных людях» (о сердечный, сердечно см. выше). Ср.: «... и толпа
новых, незнакомых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых» (27); «...
господин Быков все сердитый такой, так вот оно и не того... Ну, да уж что!» (104);
«Анна Федоровна ужасно сердилась за это на матушку» (30; т.е., иначе говоря,
была в сердцах); «Он перестал на нас сердиться; но для самолюбия моего этого
было мало» (32); «А вы на меня не сердитесь, что я говорю; у меня в груди-то,
маточка, все изныло» (68; в груди, т.е. в сердце); «Господин Быков заезжает
каждое утро, все сердится и вчера побил приказчика дома ...» (103); «Он
сердится; говорит, что ему и так в карман стало» (104; о Быкове); «... и на
Емельяна Ивановича много сердились и кричали» (105; о Быкове).
Эпитет питербургский (кроме введенного в заглавие «Двойника» жанрового
определения его «Петербургская поэма» еще дважды появится у Достоевского; первый раз
вскоре же - «Петербургская летопись» (1847); впервые напечатано как фельетон в
13. В.Н. Топоров
385
Санкт-Петербургских Ведомостях, в № 93 от 27 апреля 1847 г. и второй раз позже -
«Петербургские сновидения в стихах и прозе», 1861; наконец, в
«Санкт-Петербургских Ведомостях», в № 81 от 13 апреля 1847 г. был напечатан коллективный, с
участием Достоевского, фельетон «Петербургская летопись») в фельетоне от 27 апреля
встречается весьма часто, как и само название города Петербург. Однако стоит
обратить в связи с темой настоящей статьи внимание на весьма высокую насыщенность
этого короткого текста в 23 страницы (ПСС, т. 18, 11-34) словом сердце и однокорен-
ными словами - всего их 18 словоупотреблений, что означает среднюю встречаемость
этих слов на 0,8 страницы. Только слово сердце встречается 12 раз в этом тексте,
половина из которых приходится на одну страницу (ПСС, т. 18, 13), ср.:
Наконец на Невском проспекте выздоравливающий (прохожий. - В. Т.) глотает новую
пыль! Сердце его начинает б и τ ь с я, и что-то вроде улыбки кривит его губы,
доселе вопросительно и недоверчиво сжатые (11).
Этого господина вы очень хорошо знаете, господа. Имя ему легион. Это господин,
имеющий доброе сердце и не имеющий ничего, кроме доброго
сердца. Как будто какая диковинка - иметь в наше время доброе сердце!
Как будто, наконец, так нужно иметь его, это вечное доброе сердце! Этот
господин, имеющий такое прекрасное качество, выступает в свет в полной
уверенности, что его доброго сердца совершенно достанет ему, чтоб быть навсегда довольным
и счастливым ... наконец, он сам этот господин с своим любящим сердцем,
надоел как хрен своему другу ... (13).
...грустно было смотреть на его сырые огромные стены, на его мраморы, барельефы,
статуи, колонны, которые как будто тоже сердились на дурную погоду,
дрожали ... и, наконец, на самих прохожих, бледно-зеленых, суровых, чтсьто ужасно
сердитых. Когда петербуржец узнает какую-нибудь редкую новость и летит рассказать ее,
то заране чувствует какое-то духовное сладострастие; голос его ослаб и дрожит от
удовольствия; и сердце его как будто купается в розовом масле (18).
Тоска и сомнение грызут и надрывают сердце, как та тоска, которая лежит в
безбрежном долгом напеве русской унылой песни ... (22-23).
...когда ждут первого снега, когда бурлит надувшаяся от ветру Нева и ветер с визгом
и свистом расхаживает по улицам, скрыпя фонарями. Мне все вдруг кажется, что в
такое время петербуржцы ужасно сердиты и грустны, и сердце мое
сжимается, вместе с моим фельетоном. Мне все кажется, что все они с сердитой
тоской лениво сидят по домам ... (23).
...но зато все жизнь и движение. Петербург и глава и сердце России (26).
...и что лучше, наконец, знать самих себя, чем сердиться на господ сочинителей
(27).
...и пресерьезно сердились, если как-нибудь подозревали, что почтенное имя их
произносится не с таким уважением, как следовало (28).
Нередко же действительность производит впечатление тяжкое, враждебное на
сердце мечтателя, и он спешит забиться в свой заветный золотой уголок (34).
24 Нужно отметить, что сам выбор фамилии основного персонажа «Двойника» Голядкин
отсылает к родовой традиции Достоевских. Урочище, с которым был связан этот род,
и связь эта продолжала существовать, когда отец писателя Михаил Андреевич
навсегда покинул «достоевской» локус, находилось на огромной дуге, идущей от Чехии и
южной Польши на северо-восток и доходившей до среднего течения Оки и Москвы.
Эта дуга помечена многими названиями речек и населенных пунктов, восходящими к
балтийскому корню *gal-ind-, a именно Голядь, Голядянка, Голядинка, Голединья, Го-
лядины отвертки, Голяжье, Голяди, Взголяжье, Доголяды и т.п. Как известно,
первые следы пребывания голяди в этом ареале относятся к 1058 г. (Побъди Изаславъ
386
Голяди. Лавр, летоп. и др.) и к 1147 г., когда впервые упоминается и Москва {И шед
Святославъ и взя люди Голядь верхъ Поротве. Ипат. летоп.). К юго-востоку от
Москвы, в Зарайском уезде, находилось имение отца Достоевского Даровое, где
проводила летом время и вся семья. Этот локус изобилует гидронимическими балтизма-
ми и заимствованиями из балтийских языков в апеллятивной лексике. Само слово го-
ляда/'голядь/ голядка обозначало и просто бедного человека, нищего, который гол,
как сокол. Достоевский в «Двойнике» не только дает своему герою фамилию Голяд-
кин, но неоднократно обыгрывает ее, ср.: «дурашка ты этакой, Голядка ты этакой -
фамилия твоя такова»; «Но как ветошку себя затирать я не дам... Я не ветошка, я,
сударь мой, не ветошка!»; Может быть, если б кто захотел ... обратить в ветошку
господина Голядкина, то и обратил бы ... и вышла бы ветошка, а не Голядкин, - так,
подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ветошка эта
была бы с амбицией, но ветошка-то была с одушевлением и чувствами...» и т.п. (ср. го-
лендай «оборванец», голандия «голь»). Эта пространственная «голядская» периферия
отразилась и в экзистенциально-психологической «периферийности» гибнущего
Голядкина, как бы последнего отпрыска гибнущей голяди, и в просвечивающем за ним
образе отца - «Голядкина», этимологически - человека к о н ц а-к рая (балт. *gal-
[a]-s). Такая шифровка образа отца не должна вызывать удивления. Достаточно
вспомнить Макара Алексеевича Девушкина из «Бедных людей», инициалы имени,
отчества и фамилии которого - М.А.Д. - отсылают и к Михаилу Андреевичу
Достоевскому. Ср. Топоров В.Н. Древняя Москва в балтийской перспективе //
Балто-славянские исследования, 1981. М., 1982. С. 21-23, 58-61.
25 На первых двух страницах «Двойника» появляются и другие два слова того же корня,
что и сердце. Ср.: «Наконец, серый осенний день, мутный и грязный, так сердито
и с такой кислой гримасою заглянул к нему сквозь тусклое окно в комнату ... (109) и
«Петрушки опять не нашлось за перегородкой, а сердился, горячился и выходил
из себя лишь один поставленный там на полу самовар, беспрерывно угрожая сбежать,
и что-то с жаром, быстро болтал на своем мудреном языке, картавя и шепелявя
господину Голядкину...» (110).
26 Из довольно многочисленных работ, посвященных анализу «Хозяйки» здесь стоит
отметить две - старую и весьма глубокую статью А.Л. Бема «Драматизация бреда» //
О Достоевском. Сб. статей под ред. А.Л. Бема. Прага, 1929. Т. 1. С. 77-124 (первая
версия на чешском языке - Прага, 1928, 47-100), и недавнюю О.Г. Дилакторской -
«Петербургская повесть Достоевского». СПб., 1999. С. 15-92, глава первая,
«Странная вещь! непонятная вещь!» («"Хозяйка" как петербургская повесть»).
27 Ср. на этой же странице (ПСС, т. 1, 304) - «Да оглянись же, почествуй всему свету
красавицу! Покаажи, что болит по ней ретивое!», где ретивое z> сердце.
28 Ср. также употребление слова сердце в «Хозяйке» по два-четыре раза: по 2 раза -
с. 270, 276, 282, 287, 293, 296, 305; - по 3 раза - с. 271, 294, 298, 307, 311; по 4 раза -
с. 297, 302, 310, 317.
29 Нередко сердце и душа практически почти не отделимы друг от друга, на основании
чего можно предполагать, что именно сердце у Достоевского жилище-дом души.
30 Оба эти глагола при слове сердце - ныло и обливалось кровью - отмечены и в
«Хозяйке» (см. выше), и в ряде других произведений Достоевского.
31 Впрочем, сам Достоевский видел в образе Ползункова и хотел показать в нем нечто
иное - «сложность психологии и характера личности, не укладывающейся в
привычные социальные рубрики» (ПСС, т. 2, 473). Интерес к «нестандартным»
психологическим типам действительно был свойствен писателю, и в своих произведениях он
неоднократно обращался к представителям этого или сходного типов. Этот интерес
обозначился уже в 'Петербургской летописи' (1847), где, в частности, Достоевским
употреблено слово сердцеведенъе (ПСС, т. 18, 20, 11 мая). Речь идет о бедняке, «из
угодничества надевающем шутовскую маску, под которой нередко скрыты обида и горечь».
Образ Ползункова продолжает развитие этого типа, и таких «ползунковых» (фами-
13*
387
лия, конечно, говорящая, ср. первоначальное заглавие рассказа - «Рассказ Плисмыль-
кова» при присмыкаться) Достоевский хорошо знал уже в начальный период своего
творчества. Комментатор «Ползункова» (ПСС, т. 2, 474) пишет:
Достоевский считал амбициозную мнительность, болезненно обостренное самолюбие
чертами человека, подвергающегося унижению в силу своего неравноправного
социального положения. Весьма вероятно, что он касался этой проблемы на одном из
собраний петрашевцев, где говорил «о личности и эгоизме». «Я хотел доказать, - писал
он в показаниях следственной комиссии, что между нами больше амбиции, чем
настоящего человеческого достоинства, что мы сами впадаем в самоумаление,в
размельчение личности от мелкого самолюбия, от эгоизма и от бесцельности
занятий.» (ср. Белъчиков Н.Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971. С. 107).
Одна из филиаций такого психологического типа - принятие на себя роли шута,
другой ипостаси амбициозного человека, позволяющей ему говорить больше, чем
принято и о людях более высокого положения, застрахованных обычно от обличений.
Интерес Достоевского к образам «страдающих шутов» или близких к ним характеров
проходит от начала до конца его творчества, от Ползункова до Федора Павловича
Карамазова. См. Чирков Н.М. О стиле Достоевского. М., 1963. С. 47-48; Шарапова ГА.
К проблеме характера в творчестве Достоевского 40-х годов (рассказ «Ползунков») //
Учен. зап. Московского областного педагогического института. Т. 239. Русская
литература, вып. 13. М., 1969. С. 94-106 и др.
32 См. Яновский С.Д. Воспоминания о Достоевском // Русский вестник. 1885. № 4.
С. 801-803.
33 См. также о Буткове: Милюков Λ.Π. Литературные встречи и знакомства: СПб., 1890.
С. 106-107, 110-111, 130-131. Две зарисовки Буткова в этой книге:
«В первый раз я встретил Буткова в редакции "Отечественных записок". Это было
утром. В кабинете издателя застал я человек пять или шесть сотрудников журнала, у
которых шел довольно живой разговор об итальянской опере. В стороне от других, не
принимая никакого участия в суждениях и спорах, молча и как-то неловко сидел
молодой человек в поношенном черном сюртуке, застегнутом доверху на порыжевшие
пуговицы, в сапогах, к которым, очевидно, несколько недель не прикасалась щетка.
Большая голова с резко выдающимися скулами, неправильными чертами лица и под
гребенку остриженными волосами, с первого взгляда производила впечатление не
совсем приятное, но оно скоро изглаживалось при виде кротких, умных глаз и
красивого очертания рта, как будто ежеминутно готового улыбнуться (106-107).
В той же книге, чуть позже, говоря о замкнутости, застенчивости и даже робости
Буткова, мемуарист воспроизводит свой разговор с писателем:
«Я спросил, отчего он как будто стесняется чем-то в редакции? Бутков, прежде чем
отвечать, оглянулся назад, точно хотел увериться, не подслушивает ли нас кто-нибудь,
и сказал: - Нельзя... начальство-с. - Какое начальство? - Литературные генералы... -
Маленьким людям надо это помнить. - Что это за пустяки! А со мной отчего же вы
там не говорите? - При начальстве неловко-с. Я мелкота. - Полноте: разве вы не
такой же литератор, да еще даровитее многих. - Что тут даровитость! Я ведь
кабальный. - С чего вы это взяли? - Верно-с. - Зачем же вы туда ходите, если вам это
неприятно? - Нельзя не являться: к непочтению и строптивости нрава отнесут. Могут
гневаться-с» (110-111).
А еще писал Милюков, что Бутков «был мещанин из какого-то уездного города ... не
получил почти никакого образования и принадлежал к числу тех русских самородков,
которые почти без всякого учения воспитывались и развивались на одном только
чтении» (там же, 107). «Кабальность» Буткова, эксплоатировавшегося A.A. Краевским,
впрочем, выкупившим Буткова на деньги Общества посещения бедных и тем самым
избавившего его от рекрутства (ср.: «-Лоб!- сказал Вася вполголоса, повернулся
налево кругом и вышел из комнаты»; 46), отражена косвенно в закабаленности Васи
388
Шумкова данным ему заданием при минимуме необходимого времени. Во всяком
случае «ориентированность» Васи Шумкова на Буткова не подлежит сомнению. Об этом
прототипизме см.: Альтман М.С. Из арсенала имен и прототипов литературных
героев Достоевского // Достоевский и его время. Л., 1971. С. 17-32; Он же. Достоевский
по вехам имен. Саратов, 1975. С. 14-19. («Двойник» и «Слабое сердце». Прототип Го-
лядкина и Шумкова); ПСС, т. 1, 475-478. Первый критический отзыв о «Слабом
сердце» появился в № 3 Пантеона за 1848 год. К статье М.М. Достоевского «Сигналы
литературные» Ф.А. Кони как редактор сделал дополнение. Упомянув о чувстве
скромности рецензента, Кони писал:
«Тут дело не в сюжете, тут неумолимый, безжалостный анализ
человеческого сердца ... Сердца слабые и нежные ... до того покоряются
гнетущей судьбе ... что на редкие радости свои смотрят как на проявления
сверхъестественные, как на беззаконные уклонения от общего порядка вещей. Они принимают
эти радости от судьбы не иначе как взаймы и мучаются желанием воздать за них
сторицею. Поэтому и самые радости бывают для них отравлены ... до того
обстоятельства умели унизить их в собственном мнении» {«Пантеон», 1848, № 3, 100; выделение
наше. - В.Т.).
34 Глагол сердиться появляется в «Слабом сердце» еще дважды вскоре же после «Вася,
не сердишься?..», ср.: «- Ну, да не с е ρ д и ш ь с я? - Да я ничего, на кого я
сержусь когда! Да ты меня огорчил, понимаешь ли ты!» И в самом деле, чтобы
сердиться, нужно быть в сердцах, проявить твердость и неуступчивость сердца, чего
как раз Вася Шумков не мог сделать.
35 Это водевильное начало получило отражение и в ряде фамилий персонажей «Чужой
жены и мужа под кроватью», в семантике которых Достоевский подражает Гоголю,
см.: Альтман М.С. Гоголевские наименования в произведениях Достоевского // Slavia.
1961. 451-461; Он же. Достоевский по вехам имен. Саратов, 1975. С. 146-155.
36 В издании «Белых ночей» 1860 г. была вычеркнута в главе «Ночь третья» фраза, в
которой в издании 1848 г. находился еще один пример слова сердце, ср.: «Говорят, что
близость наказания производит в преступнике настоящее раскаяние и зарождает
иногда в самом зачерствелом сердце угрызения совести» (далее -
«Говорят, что то действие страха»).
37 Ср. в «Белых ночах». «Неужели же могут жить под таким небом разные
сердитые и капризные люди? ... Говоря о капризных и разных сердитых господах,
я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день» (102);
«О! как несносен счастливый человек в иную минуту! Но я не мог на тебя
(Настеньку. - В.Т.) рассердиться» (129); «Я начинал сердиться, она вдруг
пустилась кокетничать» (130) и тем более слово сердечный - «- Нет, нет! - перебила
Настенька засмеявшись, - мне нужен не один умный совет, мне нужен совет сердеч-
н ы й, братский, так, как бы вы уже век свой любили меня!» (120).
38 Ср.: «Книгопродавцы дают мне четыре тысячи ассигнац(иями) за все. Некрасов давал
было 1500 р. серебр(ом). Но, кажется, у него денег на это не будет и он отступится.
Если цена моя покажется низкою (судя по моим расходам), то я не возьму и сам издам
свой томик, может быть даже к 15-му ноября ... Потом к 1-му января продам все
экземпляры гуртом книгопродавцам. Может быть, выручу 4000, и хотя это то же самое,
что дают книгопродавцы, но я буду в своем томе печатать не все. След(овательно),
если немного прибавить, то по возвращении из Италии выйдет 2-й том, и я приеду
прямо на деньги» (ПСС, т. 28, кн. 1, 127).
39 См. Бельчиков Н.Ф. Как писал романы Достоевский (Неизданный вариант из
«Неточки Незвановой») // Печать и революция. 1928. Кн. И. С. 91-93.
40 Ср.: «Помещик гнал от себя всех, на кого сердился» (144, т.е. «имел сердце»);
«Б. в свою очередь попробовал поделиться советами со своим товарищем ... но
только напрасно сердил его» (150); «Рассказывали, что она по целым дням иногда
билась над каким-нибудь вопросом, который не могла решить, сердилась, что не
могла одолеть его сама, без чужой помощи» (201); Не сердитесь же и отпусти-
389
те меня... Только, ради Бога, не сердись на меня» (248); «Смысл ваших слов, что
сердиться на нее нечего ... кажется, уже принесла кой-какие успехи» (262);...
тогда Ефимов совсем рассердился ...» (150); «Он отвечал ей что-то с усмешкой,
что рассердило ее еще более» (159); «...хоть я совсем не понимала, за что он
сердит, мне стало ужасно горько и грустно» (166); «Я между этими деловыми,
сердитыми прохожими, с тетрадью нот под мышками...» (249).
К этой проблеме ср.: Гаспаров МЛ. «Переводчик» Д.С. Усова: с русского на русский
// Сборник статей к 70-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 434—439
(перепечатки: Гаспаров МЛ. Избранные статьи. М., 1995. С. 198-201; Гаспаров МЛ.
Избранные труды. Т. И. О стихах. М., 1997. С. 100-104; Николаев СИ. Миколай Кохановский
в обработке Симеона Полоцкого II Russica Romana. 1. 2000. 11-12; он же. А.П.
Сумароков - переводчик с русского языка на русский // Russian Literature, LII-I/ИЛП. 2002.
141-149 и др. Уже указывалось, что манделыытамовские «двойчатки» и «тройчатки»
тоже могут рассматриваться как разные переводы некоего виртуального текста
первоисточника, в известном смысле и в виде своего рода веера вариаций
восстанавливаемого по двум, соответственно трем реальным отражениям его.
О СТРУКТУРЕ РОМАНА ДОСТОЕВСКОГО
В СВЯЗИ С АРХАИЧНЫМИ СХЕМАМИ
МИФОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
(«Преступление и наказание»)
Посвящается ММ. Бахтину
В этой работе речь пойдет о ряде особенностей в структуре
произведений Достоевского, которые играют исключительную роль в построении
художественных текстов, во-первых, и находят наиболее точное соответствие
в текстах и схемах мифопоэтической традиции, во-вторых. Естественно, что
придется ограничиться изложением части общих соображений в краткой
форме. Предпочтение отдано «Преступлению и наказанию» (ПН)1 ввиду того,
что последующие романы обнаруживают сильное усложнение тех структур,
которые выступают в ПН в более чистом виде, выведение ряда схем из
подсознания и дальнейшую их трансформацию. Такие же произведения, как
«Белые ночи», «Двойник», «Хозяйка», «Записки из подполья», «Вечный
муж» и др., дают меньшие возможности для заключений хотя бы ввиду
своего объема, тогда как сам жанр романа предполагает ту текстовую
целостность, в которой более или менее адекватно «успевает» - в принципе -
проявить себя и целостность мифопоэтического сознания.
Далее основное внимание будет обращено на то, каким образом в тексте
романа возникает некий общий смысл (хотя бы на ранних стадиях его
формирования), рождающийся из факта семантической связности отдельных
элементов текста. При том, что этими элементами могут быть разные
единицы текста (в языковом воплощении - звуки, морфемы, слова,
элементарные синтаксические конструкции, фразы), в этой работе основное внимание
уделено уровню слов, отмеченных семантически и образующих локально
организованные куски текста. Поскольку сама процедура формирования
целого текста обеспечивает множественность приписываемых ему смыслов
(а теоретически - их несчетность), выбор некоего определенного смысла
при интерпретации зависит от выбора наиболее простым образом общих
семантических элементов в рассматриваемых словах (точнее - наибольшего
количества общих семантических составляющих в наибольшем количестве
привлеченных к анализу слов). Высказывания Достоевского вне романа по
поводу ключевых понятий, выступающих в тексте ПН, всегда являются
важным указанием для интерпретации (хотя сами эти высказывания чаще
всего остаются за пределами этой работы).
Несмотря на все это, нельзя забывать о потенциальной несчетности
смыслов, многие из которых, в частности, актуализируются с изменением
временной перспективы. В произведениях со столь сложно организованным
текстом случайное образует лишь один из нижних уровней, доступных для
относительно несложного анализатора. Для существенно более высоких
уровней случайное обретает свою систему связей. Именно в силу этого
было признано целесообразным обращение к другим текстам русской (а
иногда и западной) литературы. Подобно тому, как в тексте романа
Достоевского мы «вычитываем» (= формируем) некие новые тексты (или подтексты),
391
точно так же можно ставить перед собой аналогичную задачу на всей
совокупности текстов русской литературы. Формируемые таким образом
тексты обладают всеми теми специфическими особенностями, которые
свойственны текстам вообще, и - прежде всего - семантической связностью.
В этом смысле кросс-жанровость, кросс-темпоральность, даже кросс-персо-
нальность (в отношении авторства) не мешают признать некий текст в
принимаемом здесь толковании единым. Текст един и связан, хотя он писался
(и будет писаться) многими авторами, потому что он возник где-то на полпути
между объектом и всеми теми авторами, которые в данном случае
характеризуются наличием некоторых общих принципов отбора и синтезирования
материалов2. Именно этими соображениями объясняется обращение, -
разумеется, сугубо предварительное и заведомо неполное, - к «Пиковой даме» и
отрывку «У граф. В... был музыкальный вечер», к петербургским повестям
Гоголя и «Петербургу» Белого в связи с выяснением ряда структурных
особенностей текста романа Достоевского. Это лишь начальный подступ3 к
теме «петербургского текста в русской литературе», которая принципиально
отлична от обычной темы типа «Петербург в русской литературе».
Универсальные мифопоэтические схемы реализуются полнее всего в
архаических текстах космологического содержания, описывающих решение
некоей основной задачи (сверхзадачи), от которого зависит все остальное.
Необходимость решения этой задачи возникает в кризисной ситуации, когда
организованному, предсказуемому («видимому») космическому началу
угрожает превращение в деструктивное, непредсказуемое («невидимое»),
хаотическое состояние. Решение задачи мыслится как испытание-поединок двух
противоборствующих сил, как нахождение ответа на основной вопрос
существования. Напряжение борьбы таково, что любой член бинарных
оппозиций, определяющих семантику данного универсума, становится
двусмысленным, амбивалентным; его по замыслу окончательная («последняя»)
интерпретация может определиться лишь в зависимости от той точки зрения,
которая понимается как окончательная. В условиях предельной драматизации
конфликта, в чутком и отзывчивом пространстве, выкристаллизовывается
функция (или функции) как таковая. Она становится самодовлеющей и
определяющей. Всё, что попадает в ее поле, утрачивает свою
субстанциальную природу, лишается прежних оценочных критериев и перестраивается
изнутри таким образом, чтобы соответствовать данной функции. В этих
условиях границы между членами противопоставлений, между героем и его
антагонистом, означаемым и означающим, именем собственным и именем
нарицательным, могут становиться призрачными. Непрерывность и
гомогенность пространства и времени уничтожаются, они становятся
дискретными, и разным их отрезкам приписывается различная ценность. Решение
задачи может происходить лишь в сакральном центре пространства (оно
максимально семиотично; «вдруг стало видимо далеко во все концы
света», - говорится о нем), противостоящем профаническому пространству, и в
сакральной временной точке, на рубеже двух разных состояний, когда про-
фаническая длительность снимается и время останавливается. То же
происходит и в языке. Появляются слова и высказывания, претендующие на то,
чтобы быть последней инстанцией, определять все остальное, подчиняя его
392
себе. Слово в этих условиях выходит за пределы языка, сливается с мыслью
и действием, актуализирует свои внеязыковые потенции.
Схемы такого рода отражаются и в архаичных космологических текстах
и в карнавале, и в ряде произведений художественной литературы, включая
и романы Достоевского, о чем писал в своей основоположной книге
М.М. Бахтин4. Здесь нет возможности говорить в деталях о том, почему эти
схемы всплыли в творчестве Достоевского и каким образом он применил
архаические ходы мифопоэтического мышления для решения новых задач.
Важно подчеркнуть лишь то, что использование подобных схем позволило
автору кратчайшим образом записать весь огромный объем плана
содержания (аспект экономии)5, во-первых, и предельно расширить романное
пространство, увеличив его мерность и возможности сочетания элементов
внутри этого пространства (теоретико-информационный аспект), во-вторых.
Такой выигрыш не мог быть получен без существенной перестройки самой
структуры романного пространства, причем эти изменения, с точки зрения
авторов и читателей классического романа неполифонического типа,
рассматривались как жертва, как потеря чего-то весьма существенного из уже
завоеванного русским романом (ср. оценку Достоевского в критической
литературе прошлого века). Борьба за расширение художественного
пространства в истории европейского искусства знает и другие типологически
близкие примеры, в некоторой степени могущие прояснить суть
преобразований в области романа, осуществленных Достоевским6. М.М. Бахтин
проницательно указал, почему Достоевский обратился к авантюрному сюжету
и какими сторонами герой Достоевского связан с этим сюжетом.
Действительно, в классическом романе XIX в. герой и сюжет на некотором уровне
сводимы один к другому. Между ними та же взаимозависимость и
несвобода, как между любой совокупностью элементов, образующих парадигму, и
синтагматической цепью этих же элементов в тексте. Достоевский сумел
найти в авантюрном романе такую структуру, которая была предельно
независимой от героя и, следовательно, открывала массу дополнительных
возможностей для столкновения героя с элементами сюжета (вплоть до
решения сознательно-экспериментальных задач)7. Впрочем, и с авантюрным
сюжетом соотносим не каждый герой. Для того, чтобы соответствовать
такому сюжету, герой (при всей его сложности, не сопоставимой со сложностью
героя авантюрного романа) должен быть дан незавершенным, недовопло-
щенным, не выводимым из сюжета полностью, способным, как и слово, к
новым продолжениям (т.е. «открытиям»). Не случайно, что герои
Достоевского чаще всего находятся на полпути между добром и злом; обычно они
доведены лишь до уровня слабо детерминированной модели, поведение
которой в местах перекрещения с новым сюжетным ходом с трудом поддается
предсказанию (да и то - вероятностному: «Всё, что хочешь, может
случиться...»). Такой тип героя не только соответствовал представлениям
Достоевского о свободе воли, о роли выбора своей судьбы, но и служил для
расширения романного пространства. Той же цели служат отношения, в
которые ставит Достоевский своих героев. Полифоничность его романов
делает их героев носителями самостоятельных, неслиянных голосов. И
все-таки у них есть некое объединяющее их ядро. Если в романах Толстого автор
находится над героями, скрепляет их своей последней и всеведущей волей,
393
то в романах Достоевского автор внутри героев в том смысле, что разные
герои решают (положительно, отрицательно или каким бы то ни было
другим способом) одну и ту же задачу, все они намагничены в одну сторону,
взяты в ракурсе истории единой души, во-первых, и в прагматической связи
с автором, интериоризирующим себя в текст, во-вторых8. Именно поэтому
герой (герои) романа Достоевского сопоставлен целому9, а целое, роман
предельно ипостасен. Следуя сказанному, можно предположить, что в
каких бы отношениях между собой ни были герои романов Достоевского
(вплоть до контрапунктических), для приведения героя и сюжета в
соответствие необходимы некоторые дополнительные условия10.
Одно из них - выбор такого ракурса в изображении героя, который
обеспечивает его максимальную мобильность в случае новых сюжетных
ходов. Герой берется в таком состоянии, которое оправдывает заранее его
вхождение в любые конфигурации сюжета. Не случайно, что герои многих
произведений Достоевского описываются как люди не вполне здоровые,
часто теряющие память и неспособные к контактам. Ср. в ПН: «Но с
некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии,
похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех... 7; он
не знал куда деться от тоски своей. Он шел ... как пьяный, не замечая
прохожих ... и опомнился уже в следующей улице, 12; шел, не замечая дороги,
шепча про себя и даже говоря вслух с собою... Многие принимали его за
пьяного, 36; Давным-давно как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска,
нарастала, накоплялась..., 39; он поминутно впадал в задумчивость. Когда же
опять, вздрагивая, поднимал голову.., то тотчас же забывал, о чем сейчас
думал и даже где проходил, 46; Где и как шел обратно - ничего он этого не
помнил... он лег на диван... и тотчас забылся, 92; Он, однако ж, не то чтоб уж
был совсем в беспамятстве во все время болезни: это было лихорадочное
состояние, с бредом и полусознанием ... Но об том, - об том он совершенно
забыл; зато ежеминутно помнил, что о чем-то забыл, чего нельзя
забывать... и он опять впадал в бессилие и беспамятство, 93-94; Он ни о чем не
думал. Так, были какие-то мысли или обрывки мыслей, какие-то
представления, без порядка и связи..., 212; Он забылся: странным показалось ему, что
он не помнит, как мог он очутиться на улице, 215; почувствовал в себе
внезапное обессиление и страх, 314; Для Р. наступило странное время: точно
туман упал вдруг перед ним и заключил его в безвыходное и тяжелое
уединение ... он догадывался, что сознание его иногда как бы тускнело... одно
событие он смешивал, например, с другим... Порой овладевала им болезненно-
мучительная тревога ... дни, полные апатии... 339; По обыкновению своему,
он ... впал в глубокую задумчивость», 376 и т.д.11
Эти постоянные упоминания о болезни все время перебиваются
указаниями на резкий переход к противоположному состоянию, ср.: «он глядел уже
весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, 12;
Но теперь его вдруг что-то потянуло к людям. Что-то совершилось в нем
как бы новое, 13; но ему вдруг стало дышать как бы легче. Он
почувствовал, что уже сбросил с себя это страшное бремя... и на душе его стало вдруг
легко и мирно ... он тихо и спокойно смотрел на Неву ... он даже не ощущал
в себе усталости... Свобода, свобода, 51; Опять сильная, едва выносимая
радость... овладела им на мгновение, 87; он вдруг стал совершенно спокоен...
394
Это была первая минута какого-то странного внезапного спокойствия ...
сильнейшее душевное напряжение ... придавало ему силы и
самоуверенности... какая-то дикая энергия заблистала вдруг в его воспаленных глазах,
121-122; Неподвижное и серьезное лицо Р. преобразилось в одно мгновение,
127; "Довольно!" произнес он решительно и торжественно, - "прочь
миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения! ... Есть жизнь! Разве я
сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь ... Царство рассудка и света теперь!
И ... и воли, и силы...", 148; Вдруг в сердце своем он ощутил почти радость...,
276; Как бы за все это ужасное время разом размягчилось его сердце...» 398,
и др. Сходные описания болезненного состояния героя легко найти и в
других произведениях Достоевского12.
Другое условие, необходимое для приведения в соответствие героя и
сюжета, - исключительно сильная дискретизация романного
пространства. Все оно как бы состоит из большого количества корпускул или их
конфигураций (это относится к локальному, временному;
причинно-следственному, оценочному, поведенческому и другим планам), переход между
которыми характеризуется максимальным возрастанием энтропии. В этих
условиях затруднены какие-либо предсказания. Неожиданность не просто
возможна; как правило, эта возможность всегда реализуется. Контраст
между двумя синтагматически смежными участками тем более резок, что у
Достоевского есть тенденция к минимализации времени перехода (В это
мгновение..., внезапно..., вдруг..., неожиданно... и т.д.); время получает
необыкновенную скорость, счет идет только на мгновения, чтобы потом
исчезнуть вовсе, отложившись в структурных признаках
пространства-сцены. Отсюда - впечатление судорожности, неравномерности,
издерганности основных элементов романной структуры, заставляющее вспомнить
ранние кинематографические опыты. Употребление слова вдруг в ПН
имеет самое непосредственное отношение к тому, о чем сейчас идет речь.
Вдруг на 417 страницах ПН употребляется около 560 раз. Если вычесть
довольно значительные по объему отрывки, где оно употребляется очень
редко или вовсе не употребляется (первый приход Раскольникова, первая
половина рассказа Мармеладова - предыстория, письмо матери, встреча с
матерью и сестрой, приготовление Разумихина к встрече с ними, первая
встреча с Порфирием Петровичем, вторая половина первой встречи с
Свидригайловым, сцена в нумерах Бакалеева после ухода Лужина,
размышления Лужина, финал поминок, сцена с участием Катерины
Ивановны на набережной, последний разговор с Порфирием Петровичем,
последняя встреча с Свидригайловым, его встреча с Дуней, вечер до прихода в
гостиницу, выход из гостиницы, эпилог), то удельный вес вдруг возрастет
еще больше. При этом максимальная частота употребления приходится на
сюжетные шаги, совпадающие с переходами, и на описание смены
душевных состояний. В русской литературе нет примера текстов (исключая
некоторые другие тексты Достоевского), которые, хотя бы отдаленно,
приближались к ПН по насыщенности их этим словом13. В ПН неоднократно
встречаются отрывки (прежде всего - отмеченные содержательно) длиной
в несколько страниц, где вдруг выступает с обязательностью некоего
классификатора ситуации, что можно сравнить с принудительным
употреблением некоторых грамматических элементов (типа артикля).
395
Характерно также и то, что одиночное употребление вдруг - явление
довольно редкое; вдруг организует не отдельные фразы, а целые совокупности
их, образующие содержательные единства. Следует также заметить, что в
ПН наблюдается тенденция предельно сближать друг с другом вдруг (в
пределах одной или двух смежных фраз), несмотря на кажущуюся избыточность
такого употребления14. Несколько примеров более обширных
последовательностей, организованных с помощью вдруг: «вскричал он вдруг ... и вдруг он
залился опять ... хохотом ... а ему вдруг захотелось закричать им ... как будто
вдруг пораженный мыслью ... Р. стал вдруг задумчив ... и вдруг... все
припомнил, 127; вдруг останавливаясь перед ней ... сказал он вдруг ... как будто ее
вдруг ножом ранили ... Лицо Сони вдруг страшно изменилось ... вдруг горько-
горько зарыдала ... Вдруг он весь быстро наклонился ... сжало вдруг ей
сердце, 248-249; ему стало - тяжело... и - теперь ... он - почувствовал ... -
неожиданно спросила она, точно - вспомнила, 326, вдруг голова его как бы
закружилась ... и вдруг вся осела к полу... Ему вдруг опять захотелось... как вдруг
другая тревожная мысль ударила ему в голову. Ему вдруг почудилось ... Вдруг
он заметил ... вдруг он припомнил ... и вдруг он опомнился ... Вдруг
послышалось... Вдруг явственно послышался легкий крик ... но вдруг вскочил..., 63-65;
ему вдруг стало самому решительно все равно ... если бы вдруг комната
наполнилась ... до того вдруг опустело его сердце... вдруг... сказалось душе его...
повернули вдруг так ему сердце, 83; но в толпе вдруг столкнулся ... ощущения
вдруг прихлынувшей ... жизни ... которому вдруг и неожиданно объявляют
прощение ... услышал вдруг поспешные шаги ... стала вдруг серьезнее ...
Вдруг ... руки ее обхватили его ... когда захотят вдруг ... и вдруг опять
засмеялась..., 146-148; вдруг выскочила Пульхерия Александровна ... вдруг
встрепенулся он ... Как-то вдруг потерял терпение ... вдруг с ней удар! ...
проговорил вдруг Р.... он вдруг смутился ... вдруг стало совершенно ясно ... вскрикнул
он вдруг ... и вдруг засмеялся ... заговорил вдруг Р. ... и вдруг ... рассмеялся ...
опять вдруг задумываясь ... сказала вдруг Пульхерия Александровна ...
прибавил он вдруг, 177-180; и вдруг сам смутился ... и вдруг она входит сама... он
вдруг увидал ... ему вдруг стало жалко ... вдруг опять встала ... сказал он вдруг
... и вдруг потупилась..., 184-185; И он вдруг ощутил ... вдруг сам
останавливаясь ... задумавшись вдруг о чем-то ...вдруг вскинув глаза ... спросил он вдруг
... и потом вдруг огорошить ... и он вдруг залился ... смехом ... отвращение Р.
вдруг перешло, 258-259; если бы вдруг... на ваше решение отдали ... и вдруг
горько заплакала ... Он вдруг переменился ... Даже голос вдруг ослабел...
И вдруг странное ... ощущение ... прошло по его сердцу ... он вдруг поднял
голову ... Вдруг он побледнел ... прибавил он вдруг ... он вдруг отчего-то
улыбнулся ... Она вдруг задрожала ... вдруг опомнившись ... оледенило вдруг его
душу ... и вдруг... как бы увидел ... вдруг начинают ... Ужас ее вдруг
сообщился и ему... ей вдруг и показалось ... Вдруг ... она вздрогнула ... и вдруг
заплакала ... вдруг передернуло ... ей вдруг послышался ... но вдруг вскричала ...
вскрикнула она вдруг ... и вдруг ...усмехнулся ... сказал он вдруг, 315-320; и
вдруг... спросил ... прибавил он вдруг... Он вдруг посторонился ... подумалось
вдруг ... вдруг взяла его за обе руки ... вдруг стал опять беспокоен ... вдруг
начало его мучить ... навела на него вдруг, 340-341; и вдруг ... захохотал ... вдруг
произошло одно движение... Он вдруг вспомнил слова Сони ... оно к нему
вдруг подступило... и вдруг... охватило всего», 406 и др.15
396
Сходные функции в оценочном плане выполняет слово странный
(часто - странно, странное дело, около 150 раз); в общих чертах распределение
его в тексте совпадает с тем, что говорилось о вдруг. Введением этого
слова создается атмосфера неожиданности (точнее, неадекватности
случившегося и даже только еще случающегося ожидаемому; отсюда нередко
актуализации внутренней формы слова странный - это не развертывающееся
вперед «правильное» пространство, но уклонение от него, его периферийная
сторона, крайность, странность), обманутого ожидания, неопределенности в
отношении развития элементов романной структуры на следующем шагу16.
И здесь, как и в случае с вдруг, наблюдается тенденция к концентрации
странный/странно, хотя, разумеется, в меньшей степени. Ср.: «видеть
некоторую как бы странность ... Странная мысль наклевывалась в его голове
... показалось ... как-то странным ... Из странности ... Как это было
странно, 53-55; но странное дело ... не испытал подобного странного и ужасного
ощущения ... Странная мысль пришла ему, 83-84; Странное дело:
казалось... Это была первая минута какого-то странного внезапного
спокойствия ... испуганный ... странным видом Р., 121-122; Вот странно!... какой вы
странный ... - А я вам странным кажусь ... - Фу, какой странный! ... Так я
странен! ... Страннее всего показалось, 125-127; Странно, - проговорил он
... сохраняя вид какого-то странного удивления, 182; Странно, однако ж ...
странным показалось ему, 214-215; Как-то странно посмотрел на него...
скривя рот в какую-то странную улыбку, 221; я слышала какую-то очень
странную историю... так странно умершая, 231; как-то странно
предположить... он мне очень странным показался, 239; как-то странно проговорил
он ... как-то странно спросила Дуня... Что-то странное как будто прошло
между ними..., 242-243; Р. странно посмотрел на нее ... С новым странным
... чувством всматривался он ... и все это казалось ему более и более
странным ... Странно! подумал он ... Все у Сони становилось для него как-то
страннее и чудеснее ... выслушав странное желание ... странно звучали для
него эти книжные слова, 249-252; Но странно случилось с ним ...
остановился он ... с странным вопросом ... Вопрос был странный... И странное,
неожиданное ощущение, 314-316; странно смотря на нее... И странно он так
говорил ... И все такие у меня были сны, странные, разные сны, 322-323; и
странно, ему стало ... Да, это было странное и ужасное ощущение, 326; я
странно улыбнулся. Это была странная мысль, 328; как-то странно
осматривался ... даже странно было, 340-341; Странная сцена произошла ...
происходила тоже странная сцена, 347; как-то странно улыбаясь... Вы
человек странный ... Странное дело, 356-357; Но странный ... шойот ...
обратил ... его внимание ... и опять усмехнулся на одну странную мысль ...
Странно и смешно, 389-391; заметив какое-то странное выражение ... Это
был портрет ... той самой странной девушки, 401; Болезнь ... была какая-то
странная, нервная ... Стали бояться этого странного молчания ... Фантазии
ее были иногда очень странны ... он странно улыбался», 413-415 и другие17.
Еще одна сфера, в которой сюжетные ходы скрещиваются с героем
романа, - отмеченные точки пространственно-временного континуума. Как и
в космологической схеме мифопоэтических традиций, пространство и время
не просто рамка (или пассивный фон), внутри которой развертывается
действие; они активны (и, следовательно, определяют поведение героя) и в этом
397
смысле сопоставимы в известной степени с сюжетом. Среди этих
пространственно-временных элементов особое место у Достоевского занимают час
заката солнца (то же, как известно, характерно и для мифопоэтической
традиции, где ежесуточный закат солнца соотносится с ежегодным его
уходом; конец дня и лета (года), малого и большого циклов, граница ночи и
зимы - вот та временная точка, где силы хаоса, неопределенности,
непредсказуемости начинают получать преобладание)18. Закат у Достоевского - не
только знак рокового часа, когда совершаются или замышляются
решающие действия19, но и стихия, влияющая на героя: «Он бродил без цели.
Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее
время ... от нее веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствовались
безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски, предчувствовалась какая-
то вечность на "аршине пространства". В вечерний час это ощущение
обыкновенно еще сильней начинало его мучить. - Вот с этакими-то глупейшими,
чисто физическими немощами, зависящими от какого-нибудь заката солнца,
и удержись сделать глупость!», 330.
Ср. еще в ПН: «Небольшая комната... была в эту минуту ярко освещена
заходящим солнцем. "И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!"»,
10 (ср.: «Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч
солнца», 419, или: «Я заметил, что подобные сомнения ... приходили ему все
чаще в сумерки... В сумерки ... старик становился как-то особенно нервен,
впечатлителен и мнителен» («Униж. и оскорбл.», 1, V)); «он тихо и
спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого, красного солнца... Свобода,
свобода!», 51 (шанс на спасение, на решительный поворот к лучшему); «Было
часов восемь, солнце заходило, 122; машинально смотрел он на последний
розовый отблеск заката, на ряд домов, темневших в сгущавшихся сумерках,
на одно отдаленное окошко, где-то в мансарде... блиставшее точно в
пламени от последнего20 солнечного луча, ударившего в него на мгновение...», 133
(возможно, Сонино окно; ср. блоковское «окно, горящее не от одной зари»,
ср. тот же мотив в воспоминании Неточки); «Было еще светло, но уже
вечерело. В комнате была совершенная тишина ... Только жужжала и билась
какая-то большая муха, 21 б21; ему хотелось все до заката солнца, 399; Солнце
между тем уже закатывалось...», 403; ср. также «луч солнца, 71; солнце
ярко блеснуло ему в глаза, 76; солнце всегда длинною полосой, 94; Солнце
ярко освещало комнату, 340; Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу
прежде всего надо быть солнцем», 356 (ср. «Но я тебя за солнце считал, Лиза;
Я вас ждал, как солнца, которое всё у меня осветит» («Подросток»), а
также известные слова А.Г. Достоевской о Достоевском как солнце ее жизни)22.
В этом смысле вечерний закатный час вечен, вневременен; он не членим,
как не членим сакральный центр среди профанического пространства; он и
есть та чистая схема мифо-мышления, которая постоянно воспроизводится
в художественном и религиозном сознании как некий образец23.
Другой источник, создающий атмосферу неопределенности,
непредсказуемости, фантастичности, - сам Петербург Достоевского, в котором,
как в России и в русском языке, «все возможно»24. Здесь не удастся говорить
об этом образе, но достаточно напомнить - в общем плане - его фантасма-
горичность25, а в более частном - его влияние на героя: «Я убежден, что
в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полу-
398
сумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы
могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый
по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и
странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни
климатические слияния! Между тем это административный центр России, и
характер его должен отражаться на всем», 360. Подобные мотивы проходят
через весь «петербургский текст» русской литературы.
Пространство Петербурга организуется основной оппозицией
срединный (внутренний) и периферийный (внешний), с одной стороны, и серией
градуальных оппозиций, характеризующих путь между местами наиболее
полной реализации признаков срединный-периферийный, с другой.
Актуализация этих оппозиций достигается пространственными передвижениями
героя. Следует, впрочем, заметить, что этим передвижениям обычно
сопоставляются перемены в нравственном состоянии героя (ср. то же в мифопоэ-
тических текстах): моменты просветления, надежды, освобождения
наступают по выходе из дома26. Противопоставление срединный-периферийный
(в нравственном плане: максимальная несвобода - максимальная свобода)
четче всего реализуется в образах места в городе, где живет Раскольников
(переулки около Сенной и канавы, см. Приложение 6), его дома, каморки,
дивана (концентрически-уплотняющаяся структура с возрастанием
отрицательного значения по мере приближения к центру), с одной стороны, и
широких городских пространств (панорама Невы, иногда - сады, площади)
и островов (загородные места)27, с другой стороны.
ПН начинается с описания этой середины, которое воспроизводится
неоднократно в весьма сходных, а часто и совершенно тождественных
выражениях. Именно здесь созрели планы Раскольникова, и он сам, Свидригай-
лов, Порфирий Петрович (может быть, и мать)28 так или иначе отмечают
зависимость этих планов от конкретного образа середины29. Вне дома
середина характеризуется жарой, пылью, вонью, духотой, шумом,
скученностью. Примеры обильны и, как во многих других случаях у Достоевского,
предельно стандартизованы; речь идет о заготовленных клише,
переходящих со страницы на страницу. Ср. такие типичные ситуации, как: «в
чрезвычайно жаркое время... На улице жара стояла страшная, к тому же духота,
толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь,
столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять
дачу, 7-8; Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам,
привыкшим к городской пыли, к известке и к громадным, теснящим и давящим
домам. Тут не было ни духоты, ни вони, 46; на грязных и вонючих дворах ...
а наиболее у распивочных толпилось, 52; как-то особенно наклонен жить и
селиться именно в таких частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где
грязь и вонь, и всякая гадость, 61; На улице опять жара стояла
невыносимая... Опять пыль, кирпич и известка, опять вонь... пьяные, 76; духота
стояла прежняя ... дохнул он этого вонючего, пыльного, зараженного городом
воздуха», 122 и т.д.30
Шум и хохот (нередко - пенье) подчеркиваются особенно часто
(гораздо более сотни раз), причем они обычно нарочиты, бесстыдны, провоциру-
ющи, зловещи, часто связаны с толпой или с тем, что есть в человеке от
толпы31. Толпа же (публика, кучки, гурьба, группа, народ и т.д.)32 и заполняет
399
это срединное пространство вне дома, а иногда - окружает площадку-сцену
внутри дома (разные обозначения ее встречаются в ПН более сотни раз).
И в ней главное - не только количество и форма организации (хаотичность),
но и ее оценка в нравственном отношении. Толпа у Достоевского часто
обозначает не множество, а состояние. Когда речь идет о середине внутри
дома, на первое место выступают указания на ограниченность
пространства, его неправильную форму, убожество, некоторые цветовые
характеристики и под. Ср. о комнате Раскольникова: «С ненавистью посмотрел он на
свою каморку. Это была крошечная клетушка ... имевшая самый жалкий
вид со своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены
обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней
жутко, 26; в этой же желтой каморке, похожей на шкаф или на сундук, 35;
где на грязных желтых обоях, 106; Он оглядел эти желтоватые,
обшарканные обои, 328 и др. (ср. выше: комната - гроб); о комнате Свидригайлова в
гостинице: «Это была клетушка до того маленькая, что даже почти не под
рост Свидригайлову, в одно окно: постель очень грязная, простой крашеный
стол и стул занимали почти все пространство. Стены имели вид как бы
сколоченных из досок с обшарканными обоями, до того уже пыльными и
изодранными, что цвет их (желтый) угадать еще можно было, но ... Одна часть
стены и потолка была срезана накось, как обыкновенно в мансардах, но тут
над этим косяком шла лестница ... блеснула щелочка...», 389; о комнате
Сони: «Это была большая комната, но чрезвычайно низкая ... Сонина
комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного
четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена ... перерезала
комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь...
другой же угол был уже слишком безобразно тупой ... Желтоватые,
обшмыганные и истасканные обои почернели... здесь бывало сыро и
угарно... Бедность была видимая...», 244 и т. п. Некоторые из этих характеристик
имеют и более широкое распространение33.
Но самая главная черта середины внутри дома, бесспорно, ее
закрытость и, более того, спертость, скученность, обуженность. В этом локусе эта
черта выражена предельно ярко. Она трактуется как духота и как
теснота-узость. Душно всюду: у Раскольникова, старухи, в нумере гостиницы, в
конторе, в распивочной, в трактире, где встретились Свидригайлов и
Раскольников34. Указания на тесноту-узость идут бок о бок с указаниями на
духоту и тоску. Ср.: «Лестница была темная и узкая, 9; Лестница была
узенькая, крутая и в помоях, 76; гость полез через узкое пространство», 114
(о комнате Раскольникова); «и на такой узенькой площадке, 125; На
узенькой и крутой лестнице было очень темно, 134; вход на узкую и темную
лестницу, 243; все будет около меня же круги делать, все суживая, да суживая
радиус, 264; Он долго ходил по всему длинному и узкому коридору», 398
(примеры такого рода обильны и в других произведениях. Достоевского). Еще
чаще (около 50 раз) говорится о тесноте (ср. стесненный, протесниться,
тесный и под.): «А знаешь ли, Соня, что ... тесные комнаты душу и ум
теснят, 32335; вырываются из его стесненной груди... но грудь ему теснит и
теснит, 50; озирал он тесную ... "морскую каюту" Р., 112; там тесно...
посторонись ... не стесняйтесь, 114; Кругом теснилось множество народу... Р.
протеснился, 137-138; протеснившихся ... в ее комнату ... теснились в две-
400
рях ... протеснились, 141; В сенях же все плотнее и плотнее стеснялись
зрители ... сквозь толпу ... протеснилась ... протеснилась девушка, 144; сердце
его стеснилось, 216; Все затеснились, 309; и теснились около Лужина ... не
теснитесь, дайте пройти!... он протеснился ... чувство беспомощности и
обиды мучительно стеснило его сердце ... протеснилась сквозь
беспорядочную и пьяную толпу, 312-313; все затеснились кругом... разгонял он
теснившихся ... толкнулся в угол, в другой, как бы забыв о тесноте своей конуры
... начал он задыхаться в тесноте...», 345 и т.п.36 Уже из этих примеров с
очевидностью восстанавливается этимологическая связь тесноты (из
*теск-н-) с тоской31 (не редко встречаются по соседству друг с другом), ср.
в этой же связи мотив тошноты, 76, 123, 221, 244 и др. Подобно
указанному отношению, в тексте ПН проясняется и другая этимологическая связь:
узкий (см. выше) и ужасъ% (и в этом смысле ПН сближается с мифопоэтиче-
скими текстами, изобилующими этимологической игрой); к узкой лестнице
ср. «ужасная лестница», 172; «вход на узкую лестницу ... один угол, ужасно
острый, убегал», 243—244; «с отвращением и ужасом ... Лестница была
узенькая», 75-76; «На узенькой ... лестнице ...39 почему-то ужасно не
понравилось...», 134—135 и др.40 Угол (в ПН около сотни раз) также входит в игру,
что нетрудно было бы показать на примерах. Если вспомнить, что все эти
слова восходят в конечном счете к тому же и.-евр. корню, который
отразился в вед. amhas, обозначающем остаток хаотической узости, тупика,
отсутствия благ и в структуре макрокосма, и в душе человека и
противопоставленном uru loca - широкому миру, торжеству космического над хаотическим, -
то окажется, что указанные фрагменты ПН в силу своей архетипичности
могут трактоваться как отдаленное продолжение индоевропейской мифопо-
этической традиции. Главный ведийский ритуал (как, впрочем, и в других
традициях) и состоял в инсценировке того, как главный актер-герой своими
деяниями - жертвой делал возможным этот переход от атпаз к uru loca.
Типологически то же делает и герой ПН. См. также Приложение 7.
Образу косной, хаосу причастной середины соответствует целый ряд
диагностически безошибочных особенностей языка описания этой середины.
Не имея возможности говорить здесь об этом подробнее, достаточно
указать лишь некоторые ключевые характеристики - резкое сужение словаря,
сводимого к чисто локальному; синтагматическое сближение семантически
близких слов, кардинальные изменения в статистическом распределении
слов, приводящие к увеличению «напряженности» слова (актуализация
соотношения означающего и означаемого; создание условий, облегчающих
процесс символизации; частичное стирание границ между именем
собственным и нарицательным; тенденция к этимологизации и признанию
обусловленности значения внутренней формой слова и его звуковой структурой и
т.п.); стандартизация метаязыковых описаний и т.д. Тем самым язык
описания середины как бы получает структуру, соотносимую по своему
устройству со структурой всего романного пространства. Действительно, в
обстановке обуженности, спертости, духоты (например, в каморке) слова предельно
скученны, косноязычны, лишены перспективы; естественные связи между
ними затруднены, зато им навязывается логика дурной смежности,
случайности, избыточной повторяемости, всего того, что определяет поведение
косной массы. В этих условиях получает преобладание оттенок некоей на
401
недоброе ориентированной и суетной косвенности (подмигивающая
интонация41, поддразнивание42, подсматривание, подозрение43, подслушивание, ср.
отсылающее к идее сомнительности значение под- во всех этих случаях).
Существенно, что в ПН подслушивание (слушание, слышание) как нечто более
косвенное и косное преобладает над подсматриванием (смотрением). Не
случайно, что все основное именно услышано (непосредственно или через
молву, слухи)44, а не увидено. Не случайно, что обычно герои ПН слушают
что, а смотрят как (об этом см. ниже)45. Из глаголов говорения в этом
оценочно-смысловом поле выделяется шептать (около 60 раз)46.
Как только герой Достоевского покидает эту дурную середину и
устремляется во-вне (на периферию), описанные выше особенности языка
исчезают. Между прочим, меняется характер клише и их частота47. Сама
периферия снабжена признаками, противоположными тем, которые описывают
середину**. Здесь достаточно указать только на один из таких признаков -
простор, широту. Именно в этих условиях и приходит освобождение: «День
опять был ясный и теплый... стал глядеть на широкую и пустынную реку.
С высокого берега открывалась широкая окрестность... Там, в облитой
солнцем необозримой степи ... Там была свобода и жили другие люди,
совсем непохожие на здешних... мысль его переходила в грезы, в созерцание...
подле него очутилась Соня ... Слезы стояли в их глазах ... уже сияла заря
обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила
любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца
другого», 422 и т.п. Одним словом, исполнилось то, что раньше казалось
неосуществимым: «Взор и мысль просили простору», 3549.
Как было сказано выше, середина и периферия соединяются путем,
который проделывает герой. В ПН этот путь сугубо семиотичен, он задан
почти с такой же обязательностью, как путь героя в сказке («отлучка») или
предписание в заговоре, не говоря о текстах, посвященных «перегринаци-
ям». В ПН этот путь (на острова) проделывается, как и в мифо-поэтических
схемах, трижды50 - два раза Раскольниковым, один - Свидригайловым
(заменившим в этом случае Раскольникова, для которого почти до конца
сохранялась возможность третьего и последнего путешествия)51 и каждый
раз в надежде на спасение (ср. три прихода Раскольникова к старухе). Для
Свидригайлова это путь на тот свет, в чужое царство, в Америку52. Путь из
дома описывается по тому же принципу, что и в заговорах (из избы дверьми,
со двора воротами, в чистое поле, к синему морю ... или из дверей в двери,
из ворот в ворота и т.д. вплоть до описания сакрального места, где красно
солнце, млад месяц, часты звезды, а иногда и разные варианты мирового
дерева): дверь - площадка - лестница (этажи) - двор - ворота - переулок -
улица (- площадь - Нева - острова)53, если говорить о полном варианте
схемы. Достаточно полные описания выхода или входа приводятся в ПН около
20 раз, причем несколько раз эти описания исключительно подробны,
несмотря на предельную их стандартизацию (ср. первый выход
Раскольникова, приход к старухе, выход на убийство, второй приход к старухе, выход от
старухи, приход в контору, последний приход в дом старухи, приход домой
перед встречей с Свидригайловым). Все эти участки пути (особенно в
пределах дома и двора) воспроизводятся многократно, причем легко заметить,
что с наибольшей детализацией описываются решающие выходы героя из
402
дома, те приходы, которые не могут принести спасения (к старухе, в
контору)54, и первый приход к Соне. Потребность в фиксации пространственных
границ, начала и конца Достоевский также разделяет с архаическим
сознанием, отраженным в мифопоэтических текстах. При этом он нигде не
позволяет этим мотивам превратиться в исключительно композиционный или
орнаментальный прием. Особенно существенно, что Достоевский всегда
старается указывать, открыта (отворена, отперта) или закрыта
(затворена, заперта) дверь (более полутораста раз при том, что слово дверь
упоминается около 200 раз). Характерно и стремление Достоевского к
совмещению указания границ дома и начала или конца действия с границами глав55.
Ср.: «вышел из своей каморки (первая фраза ПН); вышел... Путь же взял ...
шел ... (конец 1, III); вошел к себе (в конце 1, V); послышалось, что снимают
запор (последняя фраза 1, IV); Войдя к себе (в конце 1, VII); по выходе его
(в конце 2,1); Дверь отворилась (в конце 2, III); отворилась дверь
(последняя фраза 2, IV); взялся за дверь и отворил ее настежь, отворил и стал как
на пороге (в конце 2, VII); выход из дома (конец 3, II). В эту минуту дверь
тихо отворилась и в комнату (первая фраза 3, IV); Тот уже входил в комнаты
(первая фраза 3, V); Оба вышли (предпоследняя фраза 3, V); Вдруг он
переступил... через порог (в конце 3, VI); Выходя ... столкнулся в дверях
(последняя фраза 4,1); вышел, спускаясь с лестницы (две последние фразы 4, II);
пошел из дому (в конце 4, III); А Р. пошел прямо (первая фраза 4, IV); Когда Р.
вышел (в конце 4, IV); Когда ... Р. вошел в дом (первая фраза 4, IV); у самых
дверей послышался как бы шум (в конце 4, V); дверь немного
приотворилась (в начале 4, VI); сходя с лестницы (предпоследняя фраза 4, VI); В эту
минуту отворилась дверь, и на пороге комнаты (в конце 5, II); И он
отправился на квартиру Сони (последняя фраза 5, III); он быстро отворил дверь
и с порога (в начале 5, IV); Соня бросилась к дверям (предпоследняя фраза
5, IV); Но только что он отворил дверь в сени (в конце 6,1); Затем
поспешно вышел и сам из комнаты (последняя фраза 6, II); Он спешил к (первая
фраза 6, III); И он пошел направо к Сенной (последняя фраза 6, IV); Р. пошел
вслед (первая фраза 6, V); и вышел (последнее слово 6, V); подходил к
квартире... Вход (начало 6, VII); но все-таки шел (последние слова 6, VII); Когда
он вошел» (первая фраза 6, VIII). Такие указания могут рассматриваться как
«пограничные сигналы», задающие принципы членения текстами всего
романного пространства. В наиболее чистом виде понятие границы
кодируется словами порог (около 30 раз, ср. также черта, переступить, ср.
Преступление в названии романа, перешагнуть, перейти) и последний (более
100 раз).
Но наряду с горизонтальным путем из центра на периферию или с
периферии к центру есть и другой - вертикальный - путь, предшествующий
горизонтальному и завершающий его, сродни гераклитовскому пути вверх и
вниз, который по сути своей одно и то же (οδός άνω κάτω μία και ώυτη. 58
DK). В ПН этот образ связан с лестницей, о символической роли которой
см. выше, сн. 53.
При всей несравненной сложности романов Достоевского оказывается,
что в них легко выделяются некоторые заведомо общие схемы (от которых
автор, в отличие от большинства его современников, не хотел
отказываться), наборы элементарных предикатов, локально-топографических и вре-
403
менных классификаторов, которые могут быть заданы списком, набор ме-
таязыковых операторов и, наконец, огромное число семантически (часто -
символически) отмеченных кусков текста, которые могут появляться в
разных частях одного или нескольких произведений (повторения, удвоения,
«рифмы ситуаций», параллельные ходы и т.п.). В этом смысле романы
Достоевского аналогичны мифопоэтическим текстам. Если роман
Достоевского записать таким образом, что все эквивалентные (или повторяющиеся),
мотивы будут расположены в вертикальной колонке (сверху вниз), а
мотивы, образующие синтагматическую цепь, - в ряд (слева направо), - то, как и
в случае с мифом (или ритуалом), чтение по ряду соответствовало бы
рассказыванию романа, а чтение по колонке - его пониманию. С этим связано
стремление Достоевского к обеспечению такого расслоения романной
структуры, чтобы облегчить синтезирование ее элементов как в диахроническом,
так и в синхроническом аспектах. Отсюда - многочисленные приемы
драматургической техники, помогающие четко отделить сцену от не-сцены
(обилие режиссерских, по существу, ремарок, пропуск глаголов говорения,
введение масок, марионеток56, изображение описываемого действия как
театрального, ср. постоянное употребление в этих случаях таких слов, как
театру сцена, кулисы, декорации, антракт, публика, роль и т.д.). Не
останавливаясь здесь на этом вопросе, все-таки стоит указать на два рода
фактов, на которые не обращалось достаточного внимания: во-первых, на
распределение романного времени с явной тенденцией синхронизировать
романное и действительное время для ключевых сцен и, во-вторых, на
стремление ввести в ремарки значительную часть неметаязыкового
содержания (при значительной стандартизации самих ремарок)57.
Одна из существенных особенностей мифопоэтических текстов состоит
в возможности изменения границ между именем собственным и
нарицательным вплоть до перехода одного в другое. Структура подобных текстов
такова, что допускает в синхронической плоскости конфигурации, которые
обычно возникают лишь в диахроническом ряду. Причина этому (если
говорить в самом общем виде) - в негомогенности текстового пространства и
подчеркнутой функциональности. Романы Достоевского представляют в
этом отношении особый интерес. Границы между сферами имени
собственного и апеллятива ослабляются: ср., с одной стороны, необычный факт
апеллятивизации собственного имени, известного лишь из данного текста и,
строго говоря, введенного до данного момента повествования лишь
косвенно - рассказ Мармеладова, письмо матери {Сонечка ... вечная Сонечка...; Эй
вы, Свидригайлов\\ Тяжелы Свидригайловы ... и др.), и, с другой стороны,
тенденция к фактическому превращению (окказионально) в имя
собственное таких ключевых слов, как диван, каморка, дверь, порог, лестница, двор,
ворота, улица, острова и под. (ср. их участие в процессе семиозиса,
символизм и мифологизм, статистическую отмеченность и под.). В этих условиях
имена собственные приобретают многообразные мотивировки -
автобиографические (Чебаров < Бочаров, Душкин < Пушкин, Бахрушин <
Бахрушин, Ресслих < Рейслер, Шилъ), выводящие читателя или самого автора за
пределы романа (прагматический аспект, имеющий целью проверку связи с
внетекстовой реальностью); культурно-исторические (Капернаумов5*, Мит-
рей и Миколай59, Пулъхерия Александровна60, Лизавета Ивановна61 и др.);
404
символические (ср. Миколка во сне и Миколка - добровольная жертва);
семантические и фонетические и под.
Несколько примеров мотивировок последних двух видов. Внутренняя
форма фамилии Разумихин (кстати, он, конечно, соотнесен и с фамилией
Раскольников)62 подчеркивается постоянно и многообразно: Лужин,
ошибаясь, называет Разумихина Рассудкиным, 234. Свидригайлов говорит:
«Я слышал что-то о каком-то господине Разумихине. Он малый, говорят,
рассудительный (что и фамилия его показывает...)», 36763; ср, еще в связи с
именем Разумихин: «мысль ... залетела ... замечательно, 44; замечателен,
разумеется, 45; умнее ... разумеется, 89; без ума, 126; умный, 132; разум, 157;
разумеется, 159; раздумьи, разумеется, 161; недоумений, 163; безумен; да,
безумен, без головы, сошел с ума, 169; ум за разум, 172; с недоумением, 179;
разумеется, 209; сумасшедший ... помешанный, 242; разумеет», 343 и др.64
Еще более четко актуализируется внутренняя форма и семантика
фамилии Заметов: «заметил, 150; заметливы ... заметил ... видел, 197; заметил ...
заметил», 349-35065, ср. многие другие примеры, где Заметов видел,
смотрел, наблюдал и даже знал, не говоря о более внешних мотивировках: «За-
метовя? ... Зачем?, 100; А зачем Заметов, 134; Зачем ... Зачем ... Заметов?
Зачем, 409; Заметов ... замешательством... Заметовя, 194; Заметовя...
Экзамен, 409; Заметов... гязет... газеты ... Заметов!...», 125. Наконец, следует
подчеркнуть возрастание з (иногда весьма резкое) в поле имени Заметов.
Как и в мифологических текстах, во многих местах ПН имена (в частности,
Разумихина и особенно Заметова) оказываются настолько
мотивированными66, что при передаче на другой язык эта мотивированность подлежит
переводу. При всем этом структура имени у Достоевского лишь самым
внешним образом может быть сопоставлена с именами в традиции классицизма67.
Несомненно, что операции, проделываемые Достоевским с именами,
принадлежат к наиболее ярким свидетельствам мифопоэтической и
карнавальной техники bricolage'a в индивидуальном художественном творчестве68.
То же относится и к использованию чисел у Достоевского. Прежде
всего их в романе огромное количество (около двух тысяч употреблений,
включая и местоименно-артиклевые случаи); резко преобладает один-первый
(более 700 раз), далее два - более 330, три - около 200, пять и десять - по 70,
четыре - около 50, шесть, семь и восемь - примерно по 30-35, девять -
около 10 раз (данные, касающиеся других чисел, менее интересны). Общее
количество употреблений столь велико (во всяком случае в русском
классическом романе нет ничего, сколько-нибудь напоминающего эту картину), что
нередко возникает впечатление о принудительном характере употребления
числовых показателей в целом ряде случаев. Иногда густота чисел столь
велика, что текст выглядит как какой-нибудь документ или пародия на него,
часто на страницу приходится по 10 и более чисел, а иногда и 15-20 (ср.
первый разговор со старухой, размышления после получения письма, первый
разговор с Разумихиным, рассказ о покупках, версия убийства в рассказе
Разумихина, планы издательской деятельности, обвинения Сони и т.д.).
Разнообразие в использовании чисел очень велико; подчеркивается их случайный,
меркантильно-профанический, неэстетический аспект (дроби), сугубая «ко-
личественность» и т.д. В этом смысле Достоевский десакралирует, дисгар-
монизирует архаичные представления об элементах числового ряда таким
405
же образом, как это делал Рабле (см. об этом у М.М. Бахтина). Различия,
однако, в том, что Рабле профанирует число, доведя его до абсурдной
точности и связывая его с низкой темой (260 418 человек, потонувших в моче), а
Достоевский достигает сходных целей безразлично-равнодушным, часто
монотонным употреблением чисел; ср. 1-9 раз (106-107), 18 раз (118-121),
17 раз (347-349), 13 раз (367-368) и т.д.; интереснее (хотя и короче)
последовательности с числом два: «в двух шагах ... по двум ступенькам ... двумя
пеленами ... обе руки, 60; Через две минуты ... две ложки, две тарелки ...
бутылочки две ... две бутылки, 96; о двух концах... второй-то конец...
во-вторых, ... во-вторых... Второе дело, 353-354; оба знали... два месяца... У них
обоих ... оба ... двух малюток. Оба ... двух спасенных ... две недели...»,
115-116; ср.: «в двух шагах ... второй дом ... при втором повороте ... в двух
шагах ... две улицы ... второго этажа ... двое работников ... оба молодые
парни...», 133-135 и др.69 Реже игра идет на числе три: «да в третий... три раза
... три раза... крикнул третий... через три дома... шагах в тридцати...»,
138-139. Из других случаев ср.: «второй этаж... оба видят... на двадцати ...
столиках ... в двадцать глотков ... два-три дня ...Два раза ... С двадцати
шагов ... два раза ... Второе...», 358-362, и нередкие последовательности
неопределенно больших (но «круглых») чисел: 1000,100,1000,100,1000, 10,1000,
100 (55); 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000, 1 000 000 000, 1000 (205); 10 000,
10 000, 10 000, 1 000 000, 10 000, 10 000 (225-226); 10 000, 10 000, 10, 3000,
3000, 1000, 1000, 1000, 100, 500 (239-241); 10, 10, 100, 10, 10, 10, 100, 10, 10
(304-305); 100, 10, 100, 10, 100, 100, 100, 100 (308-310) и др.
Вместе с тем в ряде случаев ярко обнаруживаются и следы мифопоэти-
ческой концепции числа (с подчеркиванием его «качественных» свойств,
символизмом, обыгрыванием плана выражения и т.п.). Прежде всего речь
идет о семи. Сам роман семичленен (6 частей и эпилог), первые две части
состоят из семи глав каждая. Роковое событие, отнесенное ко времени после
семи часов, было предопределено и пережито еще накануне, когда
последним, все решившим импульсом было услышанное и отозвавшееся всюду, где
возможно, семь: «- Приходите-то завтра, часу в семом-с... Посмотрю я на
вас, совсем-то ... мой совет ... и сестрица сами ... - В семом часу ...
самолично ... - и самоварчик поставим... с места ... незаметно ... сменилось
ужасом... ровно в семь часов... ровно в семь часов ... как приговоренный к
смерти ... всем существом ...», 52-53, ср. «семой час давно», 58, как напоминание.
Тема семи подчеркнута в эпилоге, особенно в самом конце его, но уже не
как предвестье гибели, а как указание пути к спасению: «Им оставалось еще
семь лет, а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного
счастья!... Семь лет, только семь лет! В начале своего счастия, в иные
мгновения, они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней...»,
422^23. И эти «семь лет, словно семь ослепительных дней», непохожи до
полной противоположности на семь лет, прожитых Свидригайловым с
Марфой Петровной; о чем семь раз упоминает Свидригайлов70. Значимость семи
обнаруживается еще не раз в ПН. «-Недели (= семь) через три на седьмую
версту, милости просим\ Я, кажется, сам там буду...», 251, думает
Раскольников о предстоящем. Это расстояние перекликается с другим - он
даже знал, сколько шагов от ворот его дома: «ровно семьсот тридцать»
(700 + 30)71, - хотя оба пути разнонаправлены72.
406
Числа, составляющие семь в архаичных схемах (три и четыре)73,
отмечены и у Достоевского. О роли трех отчасти говорилось - особенно очевидна
она в ПН во всем том, что связано с повторяемостью сюжетных ходов.
Максимальная сакральность четырех обнаруживается в ритуальном клише:
«стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю... поклонись
всему свету на все четыре стороны и скажи всем...», 325 (ср. 257), а также в
сцене чтения притчи о Лазаре, сыгравшей столь важную роль в будущем
возрождении Раскольникова: «- Не там смотрите ... в четвертом Евангелии
(251)... "Господи! уже смердит, ибо четыре дни, как он во гробе". Она
энергично ударила на слово четыре» (254)74. Поразительно устойчив образ
четырехэтажных домов и четвертого этажа; ср. дом старухи, 9, 62, 67, 70,
134 - дважды, 20875; дом Козеля, 23; дом Раскольникова, 172; дом, во дворе
которого были спрятаны вещи, 86, - кстати, четыре футляра; дом, где
помещалась контора, в четверти версты от Раскольникова, 76, - трижды, ср.
четвертую по порядку комнату, куда пришел Раскольников, 77 (ср. ахматов-
ское: a в глубине четвертого двора...), и разговор о четырехмесячной
неуплате долга, ср. 82 и 2876. Эта четырехчлъттъя вертикальная структура
семантически приурочена к мотивам узости, ужаса, насилия, нищеты77 и тем
самым противопоставлена четырехчленной горизонтальной структуре (на
все четыре стороны), связываемой с идеей простора, доброй воли,
спасения78. Этот второй, сакральный аспект чисел, противопоставленных профа-
ническим числам, годным лишь для «низкой жизни», снова возвращает нас
к архаическим схемам мифомышления и, в частности, к практике
ритуальных измерений основных параметров мира. И у Достоевского число введено
в мир и определяет не только размеры, но и высшую суть его. Для
приближения к ней, проникновения в нее необходима полнота жизни19. Образ этой
жизненной полноты человеку, охваченному отчаянием, является через
воспоминание, память, которые противостоят темной и косной стихии
забвения80. Жизнь и память, так понимаемые, составляют высшие ценности и для
Достоевского и для мифологического сознания.
Приложение 1
К ОПИСАНИЮ ДУШЕВНОГО СОСТОЯНИЯ ГЕРОЯ
Из наиболее характерных описаний такого состояния героя ср. об Ор-
дынове: «какая-то бессознательная грусть надрывала его сердце. В глазах
его был огонь; он чувствовал лихорадку, озноб и жар попеременно ... он
одичал совершенно. Он одичал, не замечая того... Ему стало тоскливо и
грустно... его принимали за сумасшедшего... В припадке глубоко волнующей
тоски и какого-то подавленного чувства ... забылся на мгновение. Он очнулся...
усталый и не в состоянии связать двух идей, добрел он уже поздно до
квартиры своей и с изумлением спохватился, что прошел было, не замечая того,
мимо дома... Долго и бессознательно бродил он по улицам... он очнулся...
Одиночеством ли развилась эта крайняя впечатлительность...,
приготовлялась ли в томительном, душном и безвыходном безмолвии долгих бессонных
ночей... дух замирал в тоске и смятении. Идя наудачу, не видя дороги, он все
407
старался... сосредоточиться духом, свести свои разбитые мысли ... Но усилие
только повергало его в страдание, в пытку. Озноб и жар овладевали им
попеременно... По временам приходил он в себя и догадывался, что сон его
был не сон, а какое-то мучительное, болезненное забытье; какая-то
неведомая сила опять поражала его, и он слышал, чувствовал ясно, как он снова
теряет память... Порой больной забывал, что с ним было... вдруг стал
понимать, что он одинок и чужд всему миру, один в чужом углу ... Он впадал в
смятение, в тревогу... Его начинало мучить подозрение ... и опять ужас
нападал на него. Он закрыл глаза и забылся. Но грусть тяжелая ... все более и
более давила его сердце; но чувствовал, что сон его был сном болезненным...
Голова его болела и кружилась... Вместе с сознанием воротилась и память...
Часто по целым часам, забыв себя и всю обыденную жизнь свою, забыв все
на свете, просиживал он на одном месте, одинокий, унылый... Какая-то
безобразная мысль стала все более и более мучить его...» и т.п. («Хозяйка»).
О Вельнанинове: «Ипохондрия его росла с каждым днем. Особенно
проявлялась эта грусть, когда он оставался один; начинал стыдиться своих
мыслей и чувств, пережитых в ночную бессонницу ... Давно уже он заметил, что
становится чрезвычайно мнителен во всем ... иногда по ночам, его мысли и
ощущения почти совсем переменялись, в сравнении с всегдашними...
жаловался на потерю памяти: он забывал лица знакомых людей» и т.д. («Вечный
муж»).
Об Иване Петровиче: «Я заметил, что в тесной квартире даже и мыслям
тесно; Еще с утра я чувствовал себя нездоровым, а к закату солнца мне
стало даже и очень не хорошо; начиналось что-то вроде лихорадки...
припоминая то странное, болезненное ощущение... К чему это фантастическое
настроение духа?; болезнь одолевала меня все более и более; от расстройства
ли нервов... от недавней ли хандры, но я ... с самого наступления сумерек,
стал впадать в то состояние души, которое так часто приходит ко мне
теперь, в моей болезни, по ночам, и которое я называю мистическим ужасом.
Это - самая тяжелая, мучительная боязнь чего-то... Его (ум) не слушаются,
он становится бесполезным, и это раздвоение еще более усиливает
пугливую тоску ожидания... Но в моей тоске неопределенность опасности еще
более усиливает мучения...» и т.д. («Униженные и оскорбленные»).
О Мечтателе: «С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная
тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают, и что от
меня отступаются... Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня
я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной
делается; Меня теснят такие странные мысли, такие темные ощущения...»;
ср. более пространное изложение в главе «Ночь вторая» («Услышите вы,
Настенька...» («Белые ночи»)) и τ п., не говоря уж о Голядкине («тоска его
давила и мучила. Порой он совершенно лишался и смысла, и памяти...») или
парадоксалисте из «Записок из подполья». Следует подчеркнуть, что в
описаниях болезни в разных произведениях Достоевского наблюдается
поразительное единообразие (вплоть до перенесения из текста в текст целых
блоков), о чем можно судить по приведенным отрывкам. В частности,
существенно, что «Хозяйка» и «Униженные и оскорбленные» начинаются именно
с того, что герои этих произведений (Ордынов и Иван Петрович) ищут
новую квартиру, поскольку свое плохое физическое и душевное состояние свя-
408
зывают с жизнью в плохой, угнетающей их комнате. Ср. неоднократные
высказывания такого рода Раскольникова, которому лишь крайняя нужда не
позволяет думать о перемене жилья.
В связи с этой темой заслуживают особого внимания свидетельства
самого Достоевского и близких ему людей. Ср., например, письма
Достоевского, в которых постоянно возникает эта тема («Уж когда здесь припадки, что
же там? Решительно теряются умственные способности, память
например» (письмо А.Н. Майкову 20.III-2.IV. 1868; кстати, Достоевский забыл
сообщить Майкову, что тот крестный отец Сони; забыл имя Олонкина и т.д.),
или примечание А.Г. Достоевской к отрывку из «Вечного мужа» («Вельча-
нинов жаловался ... на потерю памяти»): «Все это случалось с Ф.М. ... Его
беспамятство создало ему много врагов...»
Вместе с тем можно напомнить целый ряд произведений в русской
литературе 30-^40-х годов прошлого века, в которых изображаются подобные или
более или менее близкие состояния (ср. «Записки сумасшедшего», «Невский
проспект», «Портрет»). Оставляя в стороне те произведения, которые в этом
отношении достаточно верно следуют образцам Гофмана, французской
«неистовой» словесности и т.п., следует особо выделить лермонтовский отрывок
«У граф. В... был музыкальный вечер», датируемый весной 1841 г. и впервые
опубликованный в сборнике «Вчера и сегодня», кн. 1, в 1845 г. Этот отрывок,
позволяющий кратчайшим образом установить связь между такими
пушкинскими отрывками из великосветской жизни, как «Гости съезжались на дачу»,
«Мы проводили вечер на даче» и др. (ср. помимо целой совокупности сходных
деталей, Минская в отрывке у Лермонтова и Минский в отрывке «Гости
съезжались на дачу» у Пушкина; ср. также Минского в «Станционном
смотрителе»), и «Преступлением и наказанием» (ср. Лугин у Лермонтова, Лужин у
Достоевского), во многих отношениях предвосхищает роман Достоевского
(о чем см. в другом месте). В связи с темой особого душевного состояния
героя ср.: «С некоторого времени его преследовала постоянная идея,
мучительная и несносная... Непостижимая лень овладела всеми чувствами его...
голова болела, звенело в ушах ... ему стало ужасно грустно. Он начал ходить
по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать ...
он бросился на постель и заплакал...» (ср. еще: «... признаки постоянного и
тайного недуга ... от ипохондрии ... какое-то неясное, но тяжелое чувство...») -
«У граф. В... был музыкальный вечер» при сходных описаниях у
Достоевского, ср. хотя бы: «С некоторого времени он был в раздражительном
и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию.,,» (ПН, 7 и др.).
Приложение 2
О ВДРУГ У ДОСТОЕВСКОГО И БЕЛОГО
Ряд других текстов Достоевского (прежде всего ранних) в отношении
употребления вдруг приближается к картине, наблюдаемой в ПН или даже
превосходит ее, хотя в целом распределение вдруг по разным
произведениям дает весьма различные результаты. На одном полюсе - «Бедные люди»,
где в условиях диалогического обмена письмами вдруг встречается весьма
409
нечасто. На другом полюсе - такие произведения, как «Вечный муж» (1870)
с более чем 180 случаями употребления вдруг (в сопоставимых размерах
насыщенность этим словом текста «Вечного мужа» более чем в полтора раза
превышает данные, относящиеся к ПН). По насыщенности словом вдруг к
разбираемому роману приближаются «Хозяйка» (около 55) и отчасти
«Неточка Незванова», «Униженные и оскорбленные». Явно уступают
«Двойник» (около 80 случаев), «Белые ночи» (более 30) и некоторые другие
произведения того же периода.
Несколько особое положение в отношении вдруг занимает «Двойник».
Еще В.В. Виноградов указывал, что в «Двойнике» «весь композиционный
план осуществляется при посредстве такой, как бы исчерпывающей
рисовки движений, которые застывают "на мгновение", чтоб потом сразу же
резко смениться контрастной экспрессией»81. Отсюда - обилие выражений
типа: «на мгновение смутился, на мгновение выразительно замолчал, на
мгновение будто прирос к своему креслу, покраснел на мгновение, закрыл глаза
на мгновение, остолбенев на мгновение» и т.п.; расчлененность в
изображении движения с помощью вдруг и потом («Г. Голядкин ... покачнулся
вперед, сперва один раз, потом другой, потом поднял ножку, потом как-то
пришаркнул, потом как-то притопнул, потом споткнулся...»); ступенчатое
расположение глагольных форм («Так и вышло ... запнулся и завяз ... завяз
и покраснел ... покраснел и потерялся ... потерялся и поднял глаза и обвел
их кругом ... обвел их кругом и обмер»); широкий набор глагольных форм с
однократно-моментальным значением (выпрыгнул, юркнул, скользнул,
ринулся, шаркнул, шмыгнул, дернул, захлопнул, сунул, топнул, мелькнул,
встрепенулся и т.п.). Эти способы дискретизации текста и фиксации
движений оказались, видимо, не вполне удачными, поскольку они вели к
значительной растянутости текста и обилию повторений, во-первых, и к созданию
пространства, в котором возможны лишь движения «марионеточного» типа,
во-вторых. Ни то ни другое не годилось для решения тех задач, которые
должен был решить Достоевский в своем романе с героями не
марионеточного, а скорее - трагического характера. Поэтому в ПН автору пришлось
отказаться от большей части перечисленных выше средств, щедро
используемых в «Двойнике». Зато использование вдруг как кратчайшего способа
энергичной дискретизации романного пространства и как наиболее
нейтрального стилистически средства получило еще более широкое развитие,
став, несомненно, одним из самых действенных приемов.
Интересно, что в «Двойнике» больших скоплений вдруг почти нет82 в
отличие, например, от «Неточки Незвановой» или «Вечного мужа»83.
Отсутствие в «Двойнике» значительных сгущений вдруг компенсируется сгущением
звуков, образующих консонантический остов слова, в непосредственном
соседстве. Этот же прием, время от времени отмечаемый и в ПН, часто
используется и в других произведениях Достоевского. Отсюда
многочисленные случаи сочетаемости вдруг с вздрогнул, дергал, друг, держал,
раздражал и т.д. Ср.: «вдруг ... дернул; вдруг ... дернул; вдруг ... вздрогнул; Вдруг ...
вдруг он вздрогнул; Вдруг ... вздрогнул; другой ... вдруг; Вдруг ... задрожал;
вдруг ... дружеской вечеринке; вдруг ... друг; вдруг... держал; вдруг...
вздрогнул; Вдруг... вздрогнул; Вдруг он вздрогнул; Вдруг... вздрогнул; Вдруг...
вздрогнул; Вдруг... вздрогнул» («Двойник»); «вдруг... вздрогнул; вдруг...
410
вздрагивавшую; вдруг как бы дрогнуло; вдруг нервно и раздражительно;
вдруг ... держа; вдруг ... тревожно; потревожил-с... вдруг; вдруг... подружка;
вдруг подбежал... и дернул; подружки-с, бодро проговорил вдруг; вдруг ...
раздраженному; вдруг он вздрагивал; закрывал ... вдруг ... открывал»
(«Вечный муж»); «вдруг ... взгляд ее встретил ... взгляд Ордынова. Он вздрогнул;
вдруг ... сердце ... вскрикнул от восторга, когда взглянул» («Хозяйка»);
«вдруг ... вздрагивала; Я вдруг вздрогнула; Но вдруг я вздрогнула; Вдруг я
вздрогнула от испуга...» («Неточка Незванова»); «вдруг ... вздрогнешь ...
взгляд; вдруг и вся задрожала; вдруг... завидев его вдали... вздрогнула,
вскрикнула, вгляделась... вдруг; вскричала она вдруг ... задрожав» и т.д.
(«Униженные и оскорбленные»); «... проговорил он вдруг ... мой друг ...
загородила нам вдруг дорогу ... фигура ... задрожал вдруг мой голос ... Как
дурак, сказал я вдруг; Друг мой, проговорил вдруг твердо Версилов ... угадал
... вдруг так дернулась. Я угадал ... проговорил я вдруг ... взглянув ... восторг
... вдруг, заметив, что она вся вздрогнула... в мимолетном взгляде ее я
увидел вдруг ... вскрикнул ...вздрогнул я ... вдруг толкнула ... вдруг ... взгляды
встретились ... вдруг громко заговорили...» и т.д. («Подросток») и др.
Нужно сказать, что употребление вдруг в таком звуковом окружении
было известно и ранее. Особенно характерны примеры из пушкинской
прозы, где вдруг употребляется, как правило, не часто и во всяком случае в
десятки раз реже, чем у Достоевского. Ср.: «Вдруг она вздрогнула; мадригал и
вдруг...; доигрывали... игру в экарте... вдруг...» («Гости съезжались на
дачу»); «Вдруг... задумалась и грустно поникла дивною головою; Вы думаете
... голосом, вдруг ... довольно гордости...» («Мы проводили вечер на даче»);
«Вдруг дверь ... голова ... вздрогнул» («Египетские ночи») и под.84 Не раз
прибегал к вдруг в сходном употреблении и Гоголь. Ср.: «вдруг ...
вздрогнуть» («Невский проспект»); «вдруг задрожал ... глядело ... судорожно;
дрожа всем телом ... вдруг» («Портрет») и под. У Гоголя же отмечены
аналогичные сгущения вдруг. Хотя их цепочки обычно не превышают трех
членов, однако нередко эти повторения следуют одно за другим с очень
малыми интервалами. Ср.: «Затем ли пахнуло на меня вдруг это свежее
дуновение молодости, чтобы потом вдруг и разом я погрузился еще в большую
мертвящую остылость чувств, чтобы я вдруг стал ...» («Ночи на вилле»);
«выхватившись вдруг ... вдруг ... набрасывая ... Вдруг почувствовал ...»
(«Шинель»); «с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч: вдруг
почувствовал себя ...» («Портрет») и др.
Характерно, что вдруг у ряда писателей (Достоевский, несомненно,
среди них) чаще всего появляется в петербургских циклах (а не сельских,
провинциальных). В этом смысле вдруг, как и многие другие из
рассмотренных здесь слов, тесно связано с существеннейшими составляющими именно
петербургской жизни (ср. в «Египетской марке»: «На побегушках у моего
сознания два-три словечка "и вот", "уже", "вдруг"...»).
В отношении употребления вдруг в прозе после Достоевского выделяется
Белый, особенно в «Петербурге» (подробнее см. ниже). Как правило, Белый
избегает сгущений вдруг в тексте85 и специального обыгрывания этого слова
на звуковом уровне86. Зато бесспорно новым является использование вдруг
для организации значительных по размеру отрывков текста (внутри которых
вдруг - в отличие от Достоевского - уже не встречается). Вдруг выступает
411
как знак начала такого отрывка (Grenzsignal). При этом предполагается, что
этот отрывок выделен, по идее он, как картина, просматривается
(прочитывается) разом, как бы единым духом. Этой цели служит и графическая выде-
ленность отрывка, вводимого словом вдруг (использование особого шрифта,
сдвиг текста вправо по сравнению с основным корпусом, выделение
специально вводимыми знаками препинания87 и т.п.). Если читатель хочет понять
композицию романа в целом, он может пропускать эти отрывки, как сноски, или
примечания, зная, что в них не общее движение основных составляющих
романа, а, скорее, мгновенный снимок немой сцены или гримасы. Ср.:
«Вдруг... -
- лицо его сморщилось и передернулось тиком, судорожно
закатились глаза, обведенные синевой; кисти рук подлетели
на уровень груди. И корпус откинулся, а цилиндр, стукнув в
стенку, упал на колени ...;
Аполлон Аполлонович посмотрел вдруг за дверь: письменные столы,
письменные столы! Кучи дел! И - склоненные головы! Какое кипучее и
могучее бумажное производство!
Аполлон Аполлонович постоял: и вдруг: Аполлон Аполлонович -
прошел;
Николай Аполлонович ощутил странный холод: вдруг: -
- "А что такое?"
Николай Аполлонович поднял голову.
- "Ничего особенного: вон подъехал ваш батюшка".
...неожиданно сложатся вдруг в отчетливую картину: креста,
многогранника, лебедя, светом наполненной пирамиды. И - все разлетится;
...Лихутин, ушел по обычаю заведывать провиантом, - вдруг: к
удивлению комната оказалась запертой от нее: подпоручик Лихутин - засел там;
Чуялось объяснение: чуялось - плод уж созрел: он сорвется: сорвался и...
- вдруг:
Аполлон Аполлонович уронил карандашик (у лестницы); Николай
Аполлонович, следуя навыку, бросился: поднимать;
Аполлон Аполлонович бросился: упреждать; но споткнулся, упал,
руками касаясь ступенек; его голова пролетела и вниз и вперед,
неожиданно оказавшися: под пальцами - руки сына; Николай
Аполлонович увидел отца (сбоку билась артерия); теплая пульсация шеи его
испугала; отдернул он руку; но - поздно отдернул: под
прикосновением холодной руки голова сенатора - передернулась тиком; чуть
дернулись уши; как вертлявый японец, учивший Джу-Джицу, отбросил-
ся в сторону, распрямлялся - на громко хрустящих коленках.
Все - длилось мгновение. Николай Аполлонович карандашичек подал
отцу:
-"Вот!";
- "Не прошло еще часу, вдруг: слышу я иетта - звонятся...";
В друг...-
Бревно наградит тебя в нос».
Тем самым вдруг у Белого приобретает максимум самостоятельности и
независимости. Оно может кончать фразу или целый отрывок и даже главу,
412
оно может находиться в полном одиночестве, составляя фразу. В этих
условиях нельзя да и нет смысла скрывать, что вдруг - прием, и часто лишь
прием, не один из элементов языка романа, а составная часть метаязыка,
которым сам автор описывает язык своего романа. И в этих условиях вдруг
нередко субстантивируется и терминологизируется, становится знаком
следующей за ним ситуации, которой, однако, может и не быть, функцией в
чистом виде. Ср.:
«-"Ну и что ж?"
- "Да что ж: ничаво!..."
Вдруг...
Но о вдруг мы - впоследствии;
От перекрестка до ресторанчика на Миллионной услужливо описали
мы, путь незнакомца до пресловутого слова вдруг, которым все прервалось;
"Вдруг" знакомы тебе. Почему же, как страус, ты прячешься при
приближении неотвратного "вдруг"!
"Оно" крадется за спиной; иногда же предшествует появлению в
комнате ...
Смеются. Ты тоже смеешься: будто не было - "вдруг".
"Оно" кормится мозговою игрою...; "вдруг", откормленный, но
невидимый пес, начинает предшествовать, вызывая у наблюдателя впечатление,
будто ты занавешен от взора облаком: это - есть твое "вдруг".
Мы оставили в ресторанчике незнакомца. Вдруг он обернулся: ему
показалось...;
Все окончится: как не пришло ему раньше; и - миссия начерталась.
Вдруг... -» (конец главы).
Приложение 3
ИЗ АНАЛОГИЙ К УПОТРЕБЛЕНИЮ СЛОВА СТРАННЫЙ
У ДОСТОЕВСКОГО
Еще несколько примеров нагнетения странный, странно в других
произведениях Достоевского: «... до невероятности странным ... человек
... он вдруг выказал себя с такой странной ... точки зрения... Я подробно
слышал о некоторых его странностях-, наконец, вдруг случилось одно
очень странное... обстоятельство ... и странный Человек начинает ... -
Странно ... — Гм! Странно ...» («Хозяйка»); «Родились странные понятия
... что живу в странном семействе ... способствовал моему странному
сближению ... среди таких странных людей ... я сама сделалась таким
странным ... ребенком ... но как-то странно понятен был для меня;
Сначала мне все казалось странным и чудным ... как на какого-то чудного и
странного человека. Казалось, и он сам понимал, что он очень странен ...
с какою-то странною недоверчивостью ...» («Неточка Незванова»);
«Доктор как-то странно и недоверчиво взглянул ... в нем произошла
413
какая-то странная перемена. Серые глаза его как-то странно
блеснули... Тогда произошла довольно странная сцена ... необыкновенно
странным образом разрешилось ...» («Двойник»)88 и т.п. Помимо
частого соседства странный, странно с другими указаниями
неопределенности {какой-тоf как-то, что-то ...) и неожиданности {вдруг),
исследователями отмечается совместная встречаемость этого слова со словами,
подчеркивающими крайнюю степень признака {крайний, неизъяснимый,
необъяснимый, неистощимый, неописанный, величайший,
необыкновенный и под.) - вплоть до невозможности описать этот признак.
Из предшественников Достоевского ближе всего к нему в отношении
употребления этого слова - Лермонтов, и опять именно в указанном уже
отрывке; ср.: «... в странном выражении глаз его ... Ему это показалось
странно ... "Странно!." - подумал Лугин ... имели какую-то
несовременную наружность ... это конечно странно\ ... Глаза странного гостя ...
странное чувство волновало и грызло его душу ... Странный трепет
пробежал по его жилам ...»89 Характерный для Достоевского ход - странное
дело\ - отмечен в «Пиковой даме» («- Странное дело! В самый тот вечер,
на бале, Томский ...»; ср. также: «...волнуемый странными
чувствованиями...»), многими чертами отразившейся в произведениях Достоевского и -
прежде всего - в «Преступлении и наказании»90. Показательные для
Достоевского сгущения слова странный имеют аналог в петербургских
повестях Гоголя. Ср., например: «"Как странно, как непостижимо играет
нами судьба наша!... Как странно играет нами судьба наша!" Но
страннее всего...» («Невский проспект»); «...увидя... такую стрцнностъ...
"Странным случаем: его перехватили почти на дороге... И странно то,
что я сам...; И странно то, что главный участник в этом деле..."» («Нос»);
«...и сообщило ему странную живость... в сем ... портрете было что-то
странное ... отчего же это странно-непонятное чувство? ... это была та
странная живость ...; Но какими-то ... странными выкладками ... Но что
страннее всего ... - это была странная судьба всех тех, которые...; все
это произвело на него странное впечатление ... в душе его возродилось
такое странное отвращение ... они ему показались до того странны и
страшны ... Все это казалось ему неизъяснимо-странно...» («Портрет») и
под. Вместе с тем, в отличие от Достоевского, у Гоголя наблюдаются два
особых направления в употреблении этого слова: в сторону превращения
его в универсальный модальный оператор или в клише романтической
фразеологии (в значении «чудный», «таинственный», «непостижимый»).
Достоевский лишь изредка (да и то лишь в период
полемики-переработки гоголевского влияния) отдавал дань подобным словоупотреблениям,
стараясь сохранить в этом слове его богатую суггестивность, к которой
можно было обращаться всякий раз, когда речь заходила о
неопределенности, неожиданности. Эти нюансы сохраняются у слова странный даже
тогда, когда с его помощью локально организуются значительные
отрывки текста и, следовательно, когда странный, странно начинают
выполнять чисто синтаксические и композиционные функции. Несомненно,
что для Достоевского странный, странно - имманентные свойства того
пространства, с которым так часто «работал» писатель (ср. элемент
стран- : сторон-).
414
Приложение 4
К ОБЩИМ МОТИВАМ В «ПИКОВОЙ ДАМЕ» И ПН
Высказывания Достоевского о «Пиковой даме» и, в частности - о Гер-
манне (ср. «Подросток»: «...дикая мечта какого-нибудь пушкинского Гер-
манна из "Пиковой дамы" (колоссальное лицо, необычайный, совершенно
петербургский тип! - тип из петербургского периода), мне кажется, должна
еще больше укрепиться...»), сами по себе достаточны, чтобы попытаться
найти отражение тех или иных элементов пушкинской повести в
собственном творчестве Достоевского. Особое внимание с этой точки зрения
следует обратить на ПН. Помимо общей схемы - бедный герой и богатая старуха
(: деньги), приход героя к старухе, убийство, невозможность
воспользоваться результатами, наказание за преступление и т.п. - нельзя не отметить
целого ряда существенных параллелей в мотивах, композиционных и
языковых ходах и некоторых других деталях.
Ср., например, весьма значительное сходство (при заранее
определенных кругом описываемых явлений различиях) в изображении комнаты Ли-
заветы Ивановны и комнаты Сони91. С одной стороны («Пиковая дама»):
«...она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы,
оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча
темно горела в медном шандале\» - и, с другой стороны (ПН): «...на
продавленном стуле, в искривленном медном подсвечнике, стояла свеча ... направо
находилась кровать... стоял небольшой простого дерева комод...
желтоватые... обои... даже у кровати не было занавесок ... Огарок уже давно
погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате
убийцу и блудницу...»
Достойны внимания совпадения в описании второго сна Германна и
второго сна Свидригайлова в последнюю его ночь. Оба сна начинаются с
изображения пробуждения, незаметно переходящего в новый сон (ср. тот же
прием в «Невском проспекте», сон Пискарева92, сон художника, и, конечно,
еще раньше в «Гробовщике» сон Адриана Прохорова).
«Пиковая дама» «Преступление и наказание»
Он проснулся уже ночью: луна Свидригайлов очнулся, встал с
озаряла его комнату93. Он взглянул постели и шагнул к окну...
на часы: было без четверти три. отворил окно... было темно как в
Сон у него прошел; он сел на погребе, так что едва-едва можно
кровать и думал... кто-то с улицы было различить только какие-то
заглянул к нему в окошко... темные пятна ... подумал он ...
«А который-то теперь час\»...
стенные часы пробили три...
И в том и в другом отрывке далее следует описание сна, содержание
которого воспринимается как реальность (из других характерных параллелей
ср. мотив мышей в сне Свидригайлова и огромного паука в сне Германна).
415
Другой пример схождения - мотив неотвечанья старухи Германну и
старухи Раскольникову в его сне. Ср.: «... она села у окна в вольтеровы
кресла ... комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела...
качаясь направо и налево... Старуха молча смотрела на него и, казалось,
его не слыхала. Германн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над
самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему...
Графиня молчала ... Старуха не отвечала ни слова. Германн встал. -
Старая ведьма\9* - сказал он, стиснув зубы, - так я ж заставлю тебя
отвечать ... Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от
выстрела... Потом покатилась навзничь ... и осталась недвижима»
(«Пиковая дама»), с чем перекликается ряд мотивов и образов сна Раскольнико-
ва: «вся комната была ярко облита лунным светом ... на стуле в уголку
сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову ... Он постоял
над ней ... и ударил старуху по темени, раз и другой. Но странно: она
даже и не шевельнулась ... Он испугался, нагнулся ближе и стал ее
разглядывать; но и она еще ниже нагнула голову ... чтоб он ее не услышал». Эта
последняя параллель приобретает еще большее значение в силу того, что
один из существеннейших мотивов сна Раскольникова («В самую эту
минуту, в углу, между маленьким шкафом и окном, он разглядел как будто
висящий на стене салоп ... Осторожно отвел он рукою салоп и увидал...»),
многократно повторенный в разных комбинациях (шкаф, печь, стена,
окно) в русской литературе, о чем см. далее, по частям воспроизводится и в
«Пиковой даме»: «Время шло медленно. Все было тихо ... и все умолкло
опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен:
сердце его билось ровно...» и далее: «он сидел на окошке, сложа руки и
грозно нахмурясь».
При дальнейшем анализе, видимо, следует обратить внимание на
мотив случайного, не от своей воли зависящего, прихода Германна к дому
графини в связи с аналогичным действием Раскольникова; на характер
переживаний героя («Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако,
совершенно заглушить голос совести, твердившей ему: ты убийца cmapyxul» -
о Германне); на употребление отдельных образов («насмешливо
взглянула на него, прищуривая одним глазом» - о графине - и под.), слов; на
числовую символику; на обыгрывание имени героя («-Этот Германн ... -
лицо истинно романтическое ...») и т.д.
Приложение 5
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ В ПОНИМАНИИ И СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИИ
ДОСТОЕВСКОГО
Слова фантастический, фантазия (и фантазирование), реже -
фантасмагория постоянно встречаются у Достоевского, особенно в ранних
произведениях, притом в тех же значениях, что и в ПН. Ср. некоторые из
характерных употреблений: «Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то
чисто фантастического, горячо идеального и вместе с тем ...
тускло-прозаичного и обыкновенного, чтобы не сказать: до невероятности пошлого»
416
(«Белые ночи», ср. там же: «фантастические годы, фантастические
ночи, фантастический мир, фантастический свет»); «что-то
фантастическое, фантастическое настроение духа, фантастическая картина» и
т.п. («Униженные и оскорбленные»); «фантастическое сходство,
фантастическое желание» («Двойник»); «фантастический ребенок,
фантастическая любовь» (ср. это же сочетание у Лермонтова - «У граф.
В... был музыкальный вечер»); «фантастическая голова, что-то
фантастическое» и т.п. («Неточка Незванова»); «фантастическая тоска»
(«Вечный муж»); «лицо фантастическое, считаю петербургское утро ...
чуть ли не самым фантастическим в мире; фантастический и
неожиданный колорит; фантастичность характера; всё это до того пошло,
что граничит почти с фантастическим', что-то фантастическое',
фантастический идеал; фантастическая кукла; фантастические мальчики;
Девушка ... чрезвычайной красоты, а, вместе с тем, и фантастичности ...» и
т.д. Ср. в письме к А.Е. Врангелю (31 марта 1865): «... несмотря на то, что
мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному,
мнительному и болезненно-фантастическому характеру), - мы не могли
перестать любить друг друга ...»; и особенно в письме к А.Н. Майкову
(6 августа 1867): «У меня свой особенный взгляд на действительность
(в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и
исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность
действительного». В этом смысле Достоевский близко подходит к тому
пониманию фантастического, которое позже было сформулировано
В. Соловьевым95.
Из предшественников Достоевского ближе к такому пониманию
фантастического подошел Гоголь, предпочтя фантастическому в духе
Гофмана «необычайное в действительности» (начиная с «Невского
проспекта»). В этом отношении Гоголь испытал несомненное влияние
французской «неистовой школы» и прежде всего Ж. Жанена с его лозунгом
«фантастического в действительности», о чем уже неоднократно
писалось. В свою очередь и Гоголь и «неистовая школа» способствовали
формированию концепции фантастического у Достоевского96. «Пиковая
дама», сюжет «Уединенного домика на Васильевском»97, как и внимание
Пушкина к соответствующей литературе и некоторые данные,
относящиеся к его биографии, могут дать основание для предположения, что
Пушкин был ближе к тому пониманию фантастического, которое стало
утверждаться в русской литературе 30-40-х годов, чем думали до сих
пор98.
Из словоупотреблений Белого в «Петербурге» ср.: «...образуя справа
и слева по фантастическому крылу; и действия его в темноте
приняли фантастический отпечаток; ... в фантастически загнутой
шляпе несется»; ср. также: «...он - обладатель эфемерного бытия и
порождение фантазии автора: ненужная, праздная, мозговая игра; ... мы
имеем - сплошную фантастику, от которой закружится голова» и т.д.
Для Белого уже не «фантастическое в действительности», а
«действительность - фантастическое, мозговая игра» (ср. «фантастический
реализм»).
14. B.H. Топоров
417
Приложение 6
ОБРАЗ СЕРЕДИНЫ
Изображение Сенной площади и ее окрестностей в русской литературе
имеет свою историю, начавшуюся до ПН и до «Петербургских трущоб»
В.В. Крестовского. С легкой руки Пушкина («Вот перешед чрез мост Кокуш-
кин ...») к этому району - и уже к Кокушкину мосту, Столярному переулку и
канаве в этом месте - не раз обращаются писатели еще до Достоевского (К-н
мост, С-й переулок, канава). Ср. у Лермонтова в отрывке «У граф. В... был
музыкальный вечер»: «Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом.
Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих
были зелены...; туман придавал отдаленным предметам какой-то серолиловый
цвет... иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке...
Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как
например ... у Кокушкина моста. Через этот мост шел человек среднего роста, ни
худой ни толстый, не стройный, но с широкими плечами" ... но он, казалось, об
этом ни мало не заботился; засунув руки в карманы, повеся голову, он шел
неровными шагами ... На мосту он остановился, поднял голову и осмотрелся100
... Следы душевной усталости виднелись на его измятом лице; в глазах
горело тайное беспокойство. - Где Столярный переулок\ - спросил он
нерешительным голосом ... Уж полно, есть ли Столярный переулок\ ... Дойдя до угла,
он повернул направо и увидел небольшой грязный переулок, в котором с
каждой стороны было не больше 10 высоких домов»т.
Эти же места описывал Гоголь в «Записках сумасшедшего» (1835 г.):
«Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную, наконец,
к Кокушкину мосту и остановились перед большим домом... Это дом
Зверкова. Эка машина! Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько по-
ляков\102 а нашей братьи, чиновников, как собак, один на другом сидит ...» Этот
дом на углу Столярного переулка и канавы был хорошо известен Гоголю,
который жил в нем некоторое время (с конца 1829 г.)103, подобно тому, как
тридцать с лишним лет спустя в этих же местах жил Достоевский (у Астафьевой, Ев-
реинова, Олонкина - с 1861 до 1867 г.). Скорее всего именно в доме Зверкова
провела свое раннее детство Неточка Незванова («Из нашей квартиры было
видно полгорода; мы жили под самой кровлей: в шестиэтажном, огромнейшем
доме (этот дом в те годы был первым шестиэтажным и, следовательно, самым
высоким домом в Петербурге; седьмой этаж был надстроен позже); Мы сошли
с лестницы; полусонный дворник отворил нам ворота... Мы прошли нашу
улицу и вышли на набережную канала»)104. Ср. еще: «Я жил близ Вознесенского
моста, в огромном доме, на дворе...» («Подросток»).
Приложение 7
УЗОСТЬ - УЖАС
Одна из устойчивых у Достоевского вариаций темы узости и ужаса
воплощается в образе человека в углу между шкафом и дверью (стеной,
окном). Наиболее известен пример из «Бесов» («Вправо от двери стоял шкап.
С правой стороны этого шкапа, в углу, образованном стеною и шкапом,
418
стоял Кириллов, и стоял ужасно странно, - неподвижно, вытянувшись,
протянув руки по швам... и плотно прижавшись к стене, в самом углу ...»), для
которого была указана параллель из «Le dernier jour d'un condamné» (См.
Виноградов В.В. Указ. соч., 143, 147): «... Arrivé près du poêle, je vis que Гarmoire
au linge était ouverte, et que la porte de cette armoire était tirée sur Гangle du mur,
comme pour le cacher ... Nous pensâmes qu'il y avait quelqu'un derrière \& porte. Je
portai la main à cette porte pour renfermer Y armoire', elle résista. Étonné, je tirai plus
fort, elle céda brusquement, et nous découvrit une petite vieille, les mains pendantes,
les yeux fermés, immobile, debout, et comme collée dans Y angle du mur ... Je
demandai à la vieille... Elle ne répondit pas... Je lui demandai... Elle ne répondit pas,
ne bougea pas et resta les yeux fermés... Je l'ai interrogé de nouveau: elle est
demeurée sans voix, sans mouvement, sans regard. Un de nous l'a poussé à la terre,
elle est tombée.. .» и т.д. (см. Приложение 4).
Однако та же ситуация неоднократно встречается и в ряде других
произведений Достоевского. Ср.: «Вдруг он увидал ее в углу, между шкапом и
окном. Она стояла там, как будто спрятавшись, ни жива, ни мертва ... в
ужасном смущении ...» («Униженные и оскорбленные», 1, XV); «Он, господа,
стоят в уголку... потемнее, закрывшись отчасти огромным шкафом и старыми
ширмами, между всяким дрязгом, хламом и рухлядью, скрываясь...
выстаивая ... между шкафом и ширмами, всяким хламом, дрязгом и рухлядью',
выстоял ... между шкафом и старыми ширмами, между всяким домашним и
ненужным дрязгом, хламом к рухлядью» («Двойник»); отчасти - «... она сидит
в сенцах одна-одинешенька, в углу, точно от солнца забилась ... сидит она,
лицо на меня уставила, глаза выпучила, и ни слова в ответ, и странно,
странно так смотрит, как бы качается ...» («Идиот»); «... забиться куда-нибудь в
угол, где неприметнее, стать за какую-нибудь мебель...» («Неточка
Незванова»); «... он у кровати, смотрю, в углу, у двери, как будто она сама и стоит.
Я стою, молчу, гляжу на нее, а она из темноты, точно тоже глядит на меня,
не шелохнется... Только зачем же, думаю, она на стул встала? ... а она у меня
в руках качается, хватаю, а она качается... Хочу цикнуть, а цику-то нет ...»
(«Подросток») и др. Несколько примеров отмечено и в ПН: «В самую эту
минуту, в углу, между маленьким шкафом и окном, он разглядел как будто
висящий на стене салоп... а на стуле в уголку сидит старушонка, вся
скрючившись и наклонив голову ... он испугался ... Сердце его стеснилось»,
215-216; «... как вдруг в темном углу, между старым шкафом и дверью,
разглядел какой-то странный предмет ... Он нагнулся ... Девочка ... спряталась
за шкафом и просидела здесь в углу всю ночь, дрожа от сырости, темноты и
от страха... "Как! Пятилетняя!" прошептал в настоящем ужасе Св.»,
393-394; ср, также: «там-то в углу, в этом ужасном шкафу и созревало все
это...», 46. Как известно, этот мотив стал отмеченным в русской литературе;
ср.: «Наискось от свечи105, меж оконной стеною и шкафчиком, в теневой
темной нише...» («Петербург»; ср. там же: «... пустота обозначилась меж
стенами и дверью ...», или: «Любимая моя поза ... знаете, встать у стены да
и распластаться... Вот в распластанном положении у стены ...») или же:
Или вправду там кто-то снова / Между печкой и ш к а ф о м стоит!
(«Поэма без героя») и др.
Другой пример из той же сферы - духота ограниченного пространства,
вызывающая дурноту героя (трижды у Раскольникова), ср. Мальте (у Рильке),
14*
419
Иозеф К. (у Кафки) и др. Ср. также образ переполненного жильцами дома -
Ноев ковчег: «-Да где ж тут увидеть? Дом - Ноев ковчег ...», ПН, 84; «Дом
большой: мало ли людей ходит в такой Ноев ковчег! Всех не запомнишь»
(«Униженные и оскорбленные», 1,1); «Ну, в какую же я трущобу попал... шум,
крик, гвалт! ... Порядки не спрашивайте - Ноев ковчег» («Бедные люди»,
первое письмо). Архетипический образ скорлупы не раз возникает на страницах
ПН: «Он решительно ушел от всех, как черепаха в свою скорлупу», 26;
«лестница ... засыпанная яичными скорлупами...», 212; «те же скорлупы ... на
лестнице ...», 407106, откуда он проник в целый ряд произведений последнего
времени (ср. тот же образ в живописи от Босха до Миро). Наконец, особая тема,
здесь не рассматриваемая, связана с мотивом насекомых, гадов и под. (ср. в
ПН: вошь, паук, муха, мышь, крыса и т.д.)107, неоднократно воспроизводимым
у Достоевского и у некоторых из его последователей108.
Приложение 8
К СТРУКТУРЕ РЕМАРКИ
Структура ремарки у Достоевского заслуживает особого внимания.
Можно утверждать, что в ней скрещиваются многие ведущие составляющие
поэтики Достоевского. В данной связи уместно указать лишь одну
существенную деталь, а именно то, что автор сознательно вводит в ремарку
описания душевного состояния героев, которые традиционно толковались как
самостоятельные и самодовлеющие. Осуществляя эту операцию, Достоевский
не только добивается огромной экономии, но и, перераспределяя элементы
структуры по разным уровням, увеличивает число рангов, создает
возможности для конструирования существенно более сложных конфигураций.
Несколько примеров типа смотреть (как) (в ПН их, учитывая спорность
некоторых случаев, более 600, причем некоторые из них могли бы
рассматриваться как результат свертывания целых сцен): «Он беспрерывно
взглядывал ... и потому еще, что и сам тот упорно смотрел на него, 12; Настастья
молча и нахмурившись его рассматривала и долго так смотрела. Ему очень
неприятно стало от этого рассматривания..., 116; ни на минуту не отрывал от
него своего встревоженного взгляда, и теперь упорно продолжал глядеть на
него, 98; Заметов смотрел на него прямо в упор, не шевелясь и не отодвигая
своего лица, и ровно целую минуту они так друг на друга глядели, 127;
Дворник с недоумением и нахмурившись разглядывал Р. ... Р. скосил на него
глаза, посмотрел внимательно..., 136-137; посмотрев на нее чуть не с
ненавистью и насмешливо улыбнувшись ... прямо и строго смотря на брата,
177-178; и опять робко, потерянно, поскорей взглянула на обеих дам и вдруг
потупилась ... перед настойчивым и вызывающим взглядом Роди ... Дунечка
серьезно, пристально уставилась прямо в лицо бедной девушке и с
недоумением ее рассматривала. Соня ... подняла было глаза опять, но..., 185; уткнув
глаза в землю... заглянул ему сбоку в лицо ... заметил его, быстро оглядел ...
поднял глаза и зловещим, мрачным взглядом посмотрел на Р.... и опять
прямо глянул... 211-212; Соня молча смотрела на своего гостя, так
внимательно и бесцеремонно осматривавшего ее комнату, 244; Она так на меня посмо-
420
трела... и так это было жалко смотреть, 247; Он начал пристально
всматриваться в нее... мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами...
строго и гневно смотря на него ... с жадным любопытством рассматривая ее.
С новым, странным, почти болезненным чувством всматривался он ... в эти
... глаза, могущие сверкать таким огнем, таким... 250-251; вдруг, вскинув
глаза на Р... с серьезным, мыслящим и загадочным взглядом, который он
устремил... 258-259; прямо смотря в глаза Р... долго и ненавистно смотрел на
П., не спуская с него глаз... 259; ей вдруг показалось ужасно неприличным ...
глядеть на чужие деньги. Она уставилась было взглядом на..., но вдруг и от
него отвела глаза ... кончила тем, что уставилась прямо в глаза... 289; и
мельком, любопытно на него поглядела ... как-то избегала смотреть на него ...
так и смотрела в лицо... 297; Соня осмотрелась кругом. Все глядели на нее с
такими ... лицами. Она взглянула на Р. ... огненным взглядом смотрел на
нее... 305; пристально поглядел на нее; но он встретил на себе беспокойный
и до муки заботливый взгляд ее; тут была любовь..., 316; Он обернулся к ней
и пристально-пристально посмотрел на нее ... неотступно продолжал
смотреть в ее лицо, точно уже был не в силах отвести глаз ... Оба всё глядели
друг на друга ... он смотрел на нее, и вдруг, в ее лице, как бы увидел лицо Ли-
заветы, 317; стала опять неподвижно, точно приклеившись, смотреть в его
лицо. Этим последним, отчаянным взглядом..., 318; она впилась взглядом в
своего мучителя и зорко следила, 382; смотрел на нее с дикой решимостью,
воспаленно-страстным, тяжелым взглядом ... смотрела на него умоляющими
глазами ... невыразимым взглядом глядел он ... не глядя и не оборачиваясь ...
Он упорно смотрел в окно, 384; отчаянным взглядом смотрела ему в глаза ...
заметил ... что пристально следит за ним и провожает его глазами... Ее
взгляд, неподвижно-устремленный ... Он недоверчиво вскинул на нее
глазами... опять недоверчиво взглядывая..., 399; нечаянно встретился взглядом с
глазами Дуни, и столько ... муки за себя встретил он в этом взгляде...», 401 и
др. Ср. и такие ходы, как: «он поглядел на ... Р., дико смотревшего на ...
посмотрел на него, перевел тотчас же свой взгляд на..., потом опять на ...,
потом опять на...», 273 и др. Таким образом, анализ ремарок позволяет
реконструировать многие важные координаты всего романного пространства.
Приложение 9
РЕМИНИСЦЕНЦИИ ИЗ ГОГОЛЯ В ПН
Здесь достаточно привести лишь несколько «гоголевских» мест из ПН,
отложив полное их перечисление и интерпретацию до следующей работы.
Выше уже говорилось о некоторых совпадениях (тема большого дома в
районе Столярного переулка, Кокушкина моста и канавы; последняя ночь
Свидригайлова, гостиница, сны; описания отдельных элементов
петербургского пейзажа или внутренних частей дома; ряд важных словоупотреблений
и т.п.). Интересно, что у Достоевского и Гоголя наряду с теми описаниями,
которые так и называют «Петербург Достоевского», «Петербург Гоголя»,
есть и совсем иные картины. Их основная черта - некая надмирность, ми-
ражность Петербурга, всепроницаемость его пространства, космизация.
421
Зрение, точнее - видение (а не слух) становится главным в постижении
этого Петербурга (ср. об этом свойстве безотносительно: «вдруг стало видимо
далеко во все концы света» («Страшная месть»); «Всё было светло в
вышине ... Всё было видно» («Ночь перед Рождеством»), и даже - отдаленно - Всё
видно, всё светло» в «Ганце Кюхельгартене»), оно переходит в
визионерство, открывающее субъекту состояние всевидения, освобождения. Ср. у
Достоевского «Видение на Неве» и вид, открывшийся Раскольникову с моста на
Неву (по-видимому, Нева в этой ситуации необходимое условие всей
картины); ср. также: «Были уже полные сумерки... Подойдя к Неве, он
"остановился на минуту и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную
морозную мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром кровавой зари,
догоравшей в мгляном небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся
необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним
отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея ...
Казалось, наконец, что весь этот мир ... в этот сумеречный час походит на
фантастическую, волшебную грезу, на сон ...» («Слабое сердце»); «В
комнате было ярко, светло от последних косых лучей заходящего солнца...
Бывают такие минуты, когда все умственные и душевные силы, болезненно
напрягаясь, как бы вдруг вспыхнут ярким пламенем сознания, и в это
мгновение что-то пророческое снится потрясенной душе, как бы томящейся
предчувствием будущего, предвкушающей его ...» («Неточка Незванова»).
С этим можно сопоставить хотя бы панораму города, открывшуюся с берегов
Невы и описанную Гоголем в «Петербургских записках» (1836), см.
отрывок, начинающийся словами: «Нева вскрылась рано ... Столица вдруг
изменилась ... все получило картинный вид ...» и т.д. Впрочем, следует помнить и
о других описаниях, отчасти сопоставимых с указанными, но данных в иной
стилистической тональности: «... Дотащился он кое-как до Петербурга ... и
очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире! Вдруг
перед ним - свет, так сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шехереза-
да. Вдруг какой-нибудь эдакой, можете представить себе, Невский проспект,
или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, чорт возьми! или там эдакая
какая-нибудь Литейная; там шпиц эдакой какой-нибудь в воздухе; мосты там
висят эдаким чортом, можете представить себе, без всякого, то есть,
прикосновения - словом Семирамида, судырь, да и полно!» (в рассказе капитана
Копейкина) или же: «Боже мой! стук, гром, блеск, по обеим сторонам
громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт, звук колеса отзывались
громом и отдавались с четырех сторон; домы росли, и будто подымались из
земли, на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики,
форейторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; ...
и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш.
С изумлением оглядывался кузнец на всё стороны. Ему казалось, что все
домы устремили на него свои бесконечные огненные очи и глядели... Боже
ты мой ...» («Ночь перед Рождеством»). Вот еще несколько реминисценций.
Сообщение Настасьи Раскольникову о том, что хозяйка собирается
жаловаться на него за неуплату в полицию, приход дворника с повесткой,
приглашающей явиться в контору и, наконец, приход человека, принесшего
денежный перевод, - все это в развернутом виде воспроизводит (с
характерными текстуальными совпадениями) следующий отрывок из «Портрета»:
422
«"Да вот еще, хозяин был", сказал Никита.
"Ну, приходил за деньгами? Знаю", сказал художник, махнув рукой,
"Да он не один приходил", сказал Никита.
"С кем же?"
"Не знаю с кем ... какой-то квартальный".
"А квартальный зачем?"
"Не знаю зачем; говорит за тем, что за квартиру не плачено".
"Ну что ж из того выйдет?"109
"Я не знаю, что выйдет; он говорит, коли не хочет, так пусть, говорит,
съезжает с квартиры; хотели завтра еще прийти оба".
"Пусть их приходят", сказал с грустным равнодушием Чартков».
Далее сходная ситуация воспроизводится в разговоре Раскольникова в
конторе о плате за комнату, перекликающемся со следующим диалогом в
«Портрете»:
«"Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич", сказал хозяин, обращаясь к
квартальному ...: "вот не платит за квартиру, не платит".
"Что ж, если нет денег? Подождите я заплачу".
"Мне, батюшка, ждать нельзя", сказал хозяин... "У меня, сказать вам
откровенно, нет такого заведения, чтобы не платить за квартиру, Извольте
сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон".
"Да уж если порядились, так извольте платить", сказал квартальный
надзиратель...
"Да чем платить? вопрос. У меня нет теперь ни гроша".
"В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича издельями своей
профессии", сказал квартальный ...»и0
В связи с перекличками, существующими между описанием последней
ночи Свидригайлова и некоторыми мотивами у Гоголя, обращает на себя
внимание еще одна параллель - ночной путь Свидригайлова по -ому
проспекту Петербургской стороны к гостинице «Адрианополь» (ровнехонько в
полночь, бесконечный проспект, темнота, обрываясь ... на деревянной
мостовой111, дом с щелью света в окне - цель путешествия, и т.д.) и ночной путь
героя отрывка «Фонарь умирал»: «Фонарь умирал на одной из дальних
линий Васильевского Острова... Деревянные (домы) чернели и сливались с
густою массою мрака, тяготевшего над ними. Как страшно, когда каменный
тротуар прерывается деревянным, когда деревянный даже пропадает,
когда все чувствуют 12 часов ... Все казалось умерло, нигде огня. Ставни были
закрыты. Наконец, подходя к Большому проспекту111 ... Тонкая щель в
ставне, светившаяся огненною чертою, невольно привлекала...»
Попытка Ивана Яковлевича избавиться от носа, включая последний
замысел: «Он решился итти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как-нибудь
швырнуть его в Неву!», имитируется в ПН в эпизоде, когда Раскольников
пытается избавиться от вещей старухи: «Наконец, пришло ему в голову, что
не лучше ли будет пойти куда-нибудь на Неву\» Ср. также: «Отчаяние
овладело им, тем более что народ беспрестанно умножался на улице» («Нос»);
«и везде люди так и кишат» (ПН, 86). Раскольников, пытавшийся сначала
бросить вещи в воду, но не сделавший этого («... несколько раз посматривал
на сходы в канаву ... Но и подумать нельзя было исполнить намерение: или
плоты стояли у самых сходов и на них прачки мыли белье, или лодки были
423
причалены ... да отовсюду с набережных, со всех сторон, можно видеть,
заметить: подозрительно, что человек нарочно сошел, остановился и что-то в
воду бросает. А ну как футляры не утонут, а поплывут? Да, и конечно так.
Всякий увидит...»), как бы учитывает неудавшийся подобный опыт Ивана
Яковлевича. («Он прежде всего нагнулся на перила будто бы посмотреть
под мост: много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом ...
Он обмер; а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: "А
подойди сюда, любезный!"»).
В связи с мотивом носа, играющего такую исключительную роль в
творчестве Гоголя, причем не только в одноименной повести113, уместно
подчеркнуть, что этот мотив явно и скрытно постоянно обыгрывается и
у Достоевского, становясь некиим зашифрованным указанием на
преемственность (=полемику) с этим мотивом у Гоголя. Ср. в ПН: «У одного
нос шел криво вправо, а у другого влево, 385; все в руках человека, и все-
то он мимо носу проносит» (в самом начале ПН\), ср. сходную игру в
«Дядюшкином сне»: «- Да хоть нос-то оставьте ... настоящий! вскричал
князь, ошеломленный такими откровенностями ...»114 и в «Двойнике», где
«носологические» идиоматизмы {нос задирает, совать свой нос, нос
ударил по носу, сошелся нос к носу, опасность на носу, поднял нос, кончик
носа, нос уколол, ворчать под нос, утирать нос и т.п.»)115 часто
получают отклик и на звуковом уровне, ср.: «... любовался фасоном, и что-то все
шептал себе под нос ...; В весьма обыкновенном смысле... нос задирает ...
поднести коку с соком ... Что поднести?; ... с совершенным знанием
местности... подол шинели незнакомца ударил его по носу ... Таинственный
человек ...; опасность была на носу ... опасность-то?; ... сошел с лестницы
... высунул ... кончик носа ... высунул ... словно кто ему булавкой нос
уколол...» и т.д.
Белый вполне осознал, что слово нос, учитывая контекст русской
художественной литературы, может стать исключительно
информативным в силу того, что оно кратчайшим образом соединяет в себе самые
разнообразные функции - коннотативную, когнитивную, фатическую,
мета-языковую, поэтическую. Этим объясняется обилие в «Петербурге»
слова нос и с ним связанных образований (около полусотни), которые
организуют - семантически и фонетически - более или менее
значительные последовательности текста. Лишь несколько примеров: «... На
спиритическом сеансе в квартире баронессы ... красное домино и коснулося ...
кончика носа ... уже констатировал на носу ожог: кончик носа ...
Наконец: ... население слободы И. бежало при появлении красного домино:
составляется ряд протестов: вызвана сотня казаков... Кто... наставница
класса ...; ... странности ... нос ... сына сенатора ... носящего ... Это вам
разъяснит Безансон ... просунула носик в Анри Безансон, ощущая там
запах самой баронессы...; Все прочее относилось ... красный нос на все
красное ... Он был обладателем серенького носика..., оба были, конечно
же, красноносы... поповичей не выносить...; в сквозняках ... нос... с
бородавкой у носа... Верно, с бала? ...; ... с бородавкой у носа ... ужасного ...;
"Вы, милостивый государь, изволите водить меня за нос; вы, милостивый
государь, мне не сын, вы - ужаснейший негодяй!"» (к «Двойнику»);
«Отовсюду выскакивал нос. Нос: ... красный ... оторвался от созерцанья
424
носов ... гнусное шарлатанство ...; Бревно наградит тебе в нос ... пятна
кальсон... кальсон... песня ... ходил средь кальсон ... просунул...» и т.д.116
Об общем у Гоголя и Достоевского мотиве четвертого этажа и
четырехэтажного дома см. выше.
Приложение 10
О СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВА В «ПЕТЕРБУРГЕ» БЕЛОГО
В середине середины, в замкнутости, тесноте, узости и ужасе помещает
автор Раскольникова в моменты его максимальной несвободы.
Единственная надежда на спасение начинает брезжить тогда, когда он из кривого и
замкнутого пространства - узости выходит прямым путем на широкое,
открытое пространство, в частности, на Острова. Если сама структура
пространства общезначима, то оценка его отдельных частей сугубо
индивидуальна. Тот же самый прямой путь, широкое пространство (площадь, вид с
моста на Неву), Острова, открывшие Раскольникову надежду на спасение,
привели Свидригайлова, которому, казалось, было хорошо и в замкнутом
пространстве середины, к гибели.
Подобное понимание относительности в оценочном истолковании
разных частей геометрического пространства Петербурга лежит и в основе
романа Белого. Эта геометрия строится и воспринимается, как правило,
Аполлоном Аполлоновичем Аблеуховым (и иногда его сыном), помещающим
себя в центр. В этом отношении Аполлон Аполлонович связан с теми же
локальными характеристиками, что и Раскольников большую часть романа.
Но место мучений и тоски героя Достоевского теперь становится - именно
в силу своей замкнутости и отгороженности - гарантией если не свободы, то
безопасности (пусть мнимой).
Аполлон Аполлонович геометризует хаотическую узость пространства
Раскольникова, переводит ее непрерывность на язык дискретных
геометрических элементов и тем самым достигает успокоения. При этом
геометрические элементы размещаются в «правильном» («успокаивающем»)
пространстве по наиболее простым и понятным законам (планиметрия,
симметрия)117. Ср. главу «Квадраты, параллелепипеды, кубы»: «Более всего он
любил прямолинейный проспект; этот проспект напоминал ему о течении
времени между двух жизненных точек... там дома сливалися кубами в
планомерный, пятиэтажный ряд; этот ряд отличался от линии жизненной...
здесь средина жизненных странствий ...; государственный человек из
черного куба кареты вдруг ... и ему захотелось, чтоб вперед пролетела карета,
чтоб проспекты летели навстречу - за проспектом проспект, чтобы вся
сферическая поверхность планеты оказалась охваченной ...
черновато-серыми домовыми кубами; чтобы вся, проспектами притиснутая земля, в
линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным
законом; чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью
проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по
квадрату на обывателя, чтобы ... После линии более всех симметрично-
стей успокаивала его фигура - квадрат. Он, бывало, подолгу предавался
425
бездумному содержанию: пирамиду треугольников, параллелепипедов,
кубов, трапеций. Аполлон Аполлонович наслаждался подолгу
четырехугольными стенками, пребывая в центре черного кубап*. Аполлон Аполлонович
был рожден для одиночного заключения...»
В этом отрывке дано общее описание геометрии центра,
расширяющейся вовне и навязывающей себя тому, что лежит вне центра.
Вот несколько примеров из словаря «центра»:
Центр, середина: «Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется,
но и оказывается - на картах: в виде двух друг в друге сидящих кружков с
черною тонкою в центре; и из этой вот математической точки, не имеющей
измерения, заявляет он энергично о том, что он - есть...; ... пребывая в
центре... куба; кучечка из параллельно положенных дел перемещалась в центр
поля; плоскость, однако, порой раздвигаяся, пропускала в центр умственной
жизни сюрприз; Здесь, в своей комнате, Николай Аполлонович воистину
вырастал в предоставленный себе самому центр - в серию из центра
истекающих логических предпосылок, предопределяющих мысль... он являлся здесь
единственным центром вселенной как мыслимой, так и немыслимой. Этот
центр умозаключал: Здесь в кабинете высокого Учреждения Аполлон
Аполлонович вырастал в некий центр государственных учреждений и зеленых
столов. Здесь являлся он силовой излучающей точкою, пересечением, импульсом
... когда красное домино, находясь в центре ... в центре цепи тогда
обнаружилось красное домино...; То волнение ... проникало и в самые петербургские
центры;... глаза Аблеухова видели ... радужно-заплясавшие пятна
крутящихся центров; ... получал впечатление, будто смотрит он не глазами, а центром
самой головы...; Николай Аполлонович думал, что двухаршинное тельце
родителя ... - периферия самосознающего центра: засело там "я"; но любая
доска... могла центр придавить...; голос же раздавался по середине... квадрата...
самостоятельный, невидимый центр\; В этой комнате так недавно еще
Николай Аполлонович вырастал в себе предоставленный центр - в серию из
центра истекающих логических предпосылок... он являлся здесь единственным
центром вселенной; сверкающий центр проколол мгновенно ... голову;
Ровно высятся яблоки электрических светов посередине; ... посередине дверного
порога ... Встал Медный Петр» и т.п.
Куб, квадрат, плоскость: помимо приведенных выше примеров ср.:
«... свой собственный дом, для него состоявший из стен (образующих квадраты
и кубы): плоскость ... пропускала ... сюрприз; ... а мозговая игра продолжала
там строить туманные плоскости; мерцали беззвучно летящие плоскости;... и
зелено замерцали беззвучно летящие плоскости; Тут мозговая игра ему
быстро воздвигла туманные плоскости; разорвалися все плоскости; ... глотали
гостиную поверхность; ... прилипал поверхностями к душе» и т.п.
Проспект, линия, стрела, перспектива - кроме указанного, ср. еще:
«А там были - линии; Вдохновение овладевало душою сенатора, когда
линию Невского разрезал ... куб...; Приковать их железом огромного моста,
проткнуть проспектными стрелами ...; Вы - линии\.... Параллельные линии
некогда провел Петр ... линия Петра превратилась в линию позднейшей
эпохи ... в округленную ... О линии\ ...; Отяжелела и очертилася вереница линий
и стен; ... и линия убегала - туда: в пустоту119 (ср. в ином отнесении:
"Аполлон Аполлонович вырисовывался сочетанием линий; сухо, четко и холодно
426
выступали линии ... лика" и под.);... бросал... взоры на перспективу из комнат...
обоим казалось томительным странствие в блещущих перспективах» и т.п.
Угол (прямой), перекресток и т.д.: «... проспект пересекся проспектом
под прямым, девяностоградусным углом ...;... утекал в совершенном
смятении от того перекрестка» и т.д.
В этом пространстве центра осуществляются движения, обозначаемые
через глаголы пересекать, проницать, шириться (вырастать,
раздвигаться), циркулировать. Постоянно встречающееся пересекать задает
ортогональную проекцию пространства; шириться и его варианты
описывают движение из центра вовне, к периферии120; циркулировать -
максимально регулярное движение по всем предусмотренным проекцией
направлениям. Ср.: «циркулировал он в бесконечность проспектов ... в потоки таких же,
как он ...; планеты зациркулировали свободно в пустотах телесных молекул;
И Аполлон Аполлонович - зациркулировал121; Ну и что же...
циркулировало среди обывателей?»; ср. также: «там виднелась домовая нумерация; и
шла циркуляция; на Невском проспекте была циркуляция...122 Циркуляция
не нарушалась; Над Россией размножался параграф:... заводилась
параграфа циркуляция, которой заведывал Аполлон Аполлонович; Бумажная
циркуляция уменьшалась» и т.д., - часто с оттенком механистичности, мелкова-
тости, обездушенности.
С центром связывается в романе и видение миражного Петербурга,
картины которого скомпонованы из классических образцов описания города в
XIX в. и обычно связаны с часом заката. Эти картины появляются в романе
часто, но всегда в местах композиционных сужений (как бы в рамках или
скобках), бегло, мнимо, с выходом не в экстатическое состояние эйфории
(как у Достоевского), а в пророчество гибели, катастрофы. Ср. несколько
примеров: «там, за окнами, виднелась домовая нумерация; и шла циркуляция;
там, оттуда - в ясные дни, издалека-далека, сверкали ослепительно: золотая
игла, облака, луч багровый заката; там, оттуда, в туманные дни - никого,
ничего (дважды); ... в светло-багровом ударе последних лучей как-то странно ...
стоял Николай Аполлонович... Он глядел далеко, будто дальше, чем
следует, - куда опускались островные здания, где они протуманились в
багровеющем дыме ... Немилосердный закат посылал удар за ударом от самого
горизонта; и шли переливности розовой ряби... то все бирюзовое равномерно
лилось ... на дома, на граниты, на воду. Заката не будет;... в стеклянеющей
бирюзе ослепительный купол Исакия поднимался так строго. Вот Набережная:
глубина, зеленоватая синь. Там далеко, далеко, и будто дальше, чем следует,
опустились, принизились острова: и принизились здания; вот замоет их,
хлынет на них глубина, зеленоватая синь. А над этой зеленоватою синью
немилосердный закат и туда и сюда посылал свои отблески: и багрился Троицкий
Мост; багрился Дворец; За мостом, на Исакии из мути возникла скала ... С той
чреватой поры, как примчался сюда металлический Всадник, как бросил
коня на финляндский гранит - надвое разделилась Россия; надвое разделились
судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа
Россия. Ты, Россия, как конь! ... Или, встав на дыбы, ты на долгие годы,
Россия, задумалась перед грозной судьбою, сюда тебя бросившей,... где и самый
закат многочасен ... Да не будет\ ...» и т.д. с особенно настойчивым
повторением мотива блестящей иглы и вод123.
427
Что касается середины середины, дома, то ключевые понятия ПН
(лестница, дверь, порог, стена, шкаф, диван и под.) в «Петербурге» теряют свою
силу (обычно недобрую); они становятся, скорее, точками пересечения,
вещественной реализацией той универсальной геометрии, которая
преломляется теперь в квартирном пространстве, определяемом перспективами
комнат, умноженными в зеркалах124. Другая функция понятий, передаваемых
этими словами, состоит в указании границы середины центра. Иной,
настойчиво внедряемый способ такого указания - употребление слова четыре как
образа самодостаточной и устойчивой статической целостности: «... его
отграничили четыре перпендикулярные стенки; ... наслаждался подолгу
четырехугольными стенками...; Незнакомец оставался на дворике, четырех-
угольнике, залитом сплошь асфальтом и отовсюду притиснутом ...125; "Я
называю пространством мое обиталище ... четыре стены ...", "Из четырех
желтых стенок"; Спальня сенатора ...: четыре перпендикулярных стены...;
Посреди четырех своих стен он себе самому показался лишь пойманным
узником» и т.п.126 Тут же следует напомнить (в связи с Достоевским) о
четырехэтажных домах: «стены четырехэтажного дворцового бока блистали
луной; все вспыхнуло: воды, трубы, граниты, две богини над аркою, крыша
четырехэтажного дома» (оба раза о Зимнем дворце)127. Эти последние
примеры приоткрывают путь к другому толкованию четырех - как важнейшей
координаты Космоса, позволяющей последнему проникать жалкое
четырехстенное, четырехугольное бытие: Петербург: «четвертое измерение,
не отмеченное на картах, отмеченное лишь точкою; точка же - место
касания плоскости бытия к шаровой поверхности громадного астрального
космоса - точка во мгновение ока способна нам выкинуть жителя четвертого
измерения, от которого не спасет и стена ...; Разбухая в громаду, из,
вероятно, четвертого измерения проницал Желтый Дом».
Подобную амбивалентность обнаруживает в «Петербурге» и образ
пространства, десятки раз возникающий на страницах романа. То
пространство, к которому стремился Раскольников, пугает находящегося в центре Аб-
леухова: «Боялся пространства он; Несомненно в сенаторе - развивались:
боязни пространства; проснулись боязни пространства; безотчетную
грусть вызывали пространства» (ср.: «Аполлон Аполлонович не любил
перспективы Невы»). Пространство, простор и его основное свойство -
простираться описываются как что-то обманчивое, туманное, ледяное,
шумное, косное, хаотическое (ср. те же характеристики узкого у
Достоевского): «... полетел к Петербургу Летучий Голландец из свинцовых
пространств балтийских ... чтобы здесь воздвигнуть обманом свои туманные
земли; Уууу-уууу-уууу: так звучало в пространстве; "Ууу-ууу-ууу". Гудело в
пространстве; теперь все пространства сместились! и жизнь обывателя
обставала его подворотнями; но - ползучая, голосящая многоножка была
там; сырое пространство (ср. в ПН "жаркую, душную узость") ссыпало
многоразличие голосов - в многоразличие слов; купоросного цвета
пространства ... в купоросных пространствах; и польза для общества привела
меня в ледяные пространства» и под. Нева и все, что за нею, суть для
Аполлона Аполлоновича пространства, т.е. пугающее его, угрожающее ему (ср.
«пространство Невы» и даже «пространства Невы; на синеватых занев-
ских просторах» и под.). Наряду с относительно нейтральными случаями128
428
отмечены и такие, где пространство по своему значению и
словоупотреблению приближается к четвертому измерению129; «... чтобы, фыркая,
понести огромного Всадника в глубину равнинных пространств и обманчивых
стран; И опять, там, в пространстве возникли теперь уже лазурные
всадники; невероятный простор ... летела безмерность: пространства летели
навстречу; ... помчали его через то, что можно назвать всего проще
междупланетным пространством;... они мчали через какие-то ... все же ...
пространства... Да, наши пространства не ваши; течет там в обратном порядке...
Иванов - японец какой-то: Вонави;... говорил Александр Иваныч
пространству (а Шишнарфнэ-то ведь не было); Мировое пространство, пустынно как
комната! ... Мировое пространство - последнее достижение богатств ...; ...
будете отлетать в мировые безмерности, одолевая пространства -
пространствами становясь»130.
Наконец, есть не только пространства города, страны, земли,
мироздания, но и пространства тела, души, ума. Ср.: «друг о друга затерлись два
пункта - пространство руки и пространство лица... воздел он
пространство зрачков своих» и под. Белый говорит о различии пространств:
«Второе пространство ... Аполлон Аполлонович видел всегда два
пространства: одно - матерьяльное (стенки комнат, кареты), другое - не то, чтоб
духовное (матерьяльное также) ... блики и блески ..; они заволакивали пределы
пространств; так в пространстве роилось пространство; оттуда на все я
смотрю; ... бегает по душевным пространствам; ... расширились и
раскидались в душевных пространствах, в душевных пространствах запутался
авторский взор».
То пространство (странное пространство), которое
противопоставлено центру не по вертикали (четвертое измерение, новые пространства,
космическое пространство), а по горизонтали, реализуется в «Петербурге»
в образе Островов. Следовательно, и здесь Белый использует
подчеркивавшееся уже Достоевским (см. выше) противопоставление, но sub specie Абле-
ухова меняет ценности членов этого противопоставления. Ср.: «... где так
блекло чертились туманные, многотрубные дали, и оттуда испуганно
поглядел Васильевский Остров (дважды) ... Аполлон Аполлонович островов не
любил: население там - фабричное, грубое; многотысячный рой людской ...
Аполлон Аполлонович не хотел думать далее: острова - раздавить!; На
Васильевском Острове в глубине семнадцатой линии из тумана глядел дом
огромный и серый; вела к этажам грязноватая лестница; за Невою вставала
громада - абрисами островов и домов ... в тумане и казалось, что - плачет;
То волненье, кольцом охватившее Петербург, проникало и в самые
петербургские центры; оно захватило сперва острова ...; За Невою, темнея,
вставали громадные здания островов ... беззвучно, мучительно; ... ублюдочный
род: ни люди, ни тени; все то - жители островов; а жители островов - род
ублюдочный, странный: ни люди, ни тени; издалека-далека, где тихо
принизились берега, где покорно присели островные здания, остро, мучительно,
немилосердно блистая ...;... где пепельно вставал неотчетливо Остров;
Понеслось тяжелозвонкое цоканье - через мост, к островам...; От себя же мы
скажем: о, русские люди, о, русские люди! Вы толпы теней с островов не
пускайте! Через летийские воды уже перекинуты черные и сырые мосты.
Разобрать бы их ... Поздно ... И тени валили по мосту...»
429
Весьма существенно, что, если центр Петербурга организован
пересекающимися под прямым углом проспектами, если он квадратен или -
центр центра (дом, комната, карета) - даже кубичен, то окружающая
этот центр стихия представляется из центра как кольцо, круг
(«Петербург окружает кольцо многотрубных заводов; То волненье, кольцом
охватившее Петербург, проникало и в самые петербургские центры; Круг
замкнулся»)131. Это противопоставление прямоугольный - круглый и его
истолкование в романе (хорошее - плохое, принадлежащее культуре - не
принадлежащее культуре, организованное - хаотическое) весьма точно
воспроизводит то, что в развернутом виде представлено во многих мифо-
поэтических традициях (с дополнительными интерпретациями:
мужской - женский, свой - чужой и т.п.). Здесь достаточно упомянуть о
концепции пространства у туземцев Тикопиа. В этой концепции круглое
трактуется как данное природой (жители маленького островка видят вокруг
себя - по всей окружности - ничем не прерываемую линию горизонта,
солнце или луну), а прямоугольное - как то, что непременно связано с
культурой (форма поселения, дома, внутренних его частей и т.д.). Вместе
с тем внутри дома как продукта культуры есть место для остатков
природы. Пространство пола делится на две части - связанную с морем (mato
paito, и, следовательно, с каноэ, рыбой, мертвыми) и связанную с сушей
(Шаити, и с очагом, растительной пищей и социальными
установлениями). Все передвижения внутри жилища и даже позы и жесты
определяются правилами, вытекающими из такой структуры пространства132. Да и в
«Петербурге» внутри цивилизацией созданной ортогональной
планиметрии, внутри куба комнаты и кареты вдруг оказывается нечто круглое,
связанное с угрозой и хаосом, - то «мокрый узелочек с сардинницей
ужасного содержания», внутри которой бомба, то собственное в шар
расширяющееся сердце, испугавшееся точки, превратившейся в громадный
багровый шар.
К словарю периферии, пространства, окружающего центр, нужно
отнести прежде всего, конечно, разные обозначения носителей духа этого
пространства-хаоса, его тела. Из многочисленных наименований (часто
нарочито деперсонализованных или даже лишенных указаний на одушевленность
обозначаемого)133 ср. несколько:
Толпа: «Вы толпы теней с островов не пускайте!; Среди медленно
протекающих толп протекал незнакомец; Все чего-то боялись ... высыпали на
улицу, собираясь в толпу, и - опять рассыпаясь ... собирались в толпу и
опять рассыпались; Повысыпали ... и растворялись в толпе', но толпа все
росла ... толпа состояла из одних лишь субъектов... И перли, и перли... - так
перли, так перли! И как же иначе; ... соберется толпа; под напором
сломаются двери; нагрянут сюда; а - смотрит: на ту же толпу; нет предела
презрению; и нет предела - отчаянию; ... сыпался пачками треск ... хлынула такая
толпа... Вот все пропало; ... собиралась толпа» и т.п.
Токи людские: «и такие же серые проходили там токи людские, и такой
же стоял зелено-желтый туман» (дважды).
Гуща, тело: «Вязкую и медленно текущую гущу образовали все плечи;
плечо ... приклеилось к гуще: и, так сказать, - влипло; последовал он за
плечом, сообразуясь с законами цельности тела ... Что такое икринка? Там
430
тело влетающих на панель превращается в общее тело, в икринку икры ...
и гуща ползла: переползала и шаркала... из члеников была склеена гуща; и
членик был - туловищем».
Рой, рой людской: «многотысячный рой людской там бредет...;
многотысячный рой к ним бредет по утрам ...; Тотчас же после выхода старички
вновь сроилися ... отметился вдруг искристый рой ...; Рой тот выбежал
посмотреть ... и рой убежал;... покатились навстречу им многотысячные рои
котелков ...» и т.д. (часто в параллель к рою облаков, рою туманов).
Куна, гурьба: «они собирались ... в кучечки... чтобы ... гурьбою вдруг
двинуться...;... и растаяла кучечка...; Кто они? Ничтожная кучка\» и т.д.
Многоножка: «на Невском Проспекте была циркуляция людской
многоножки; однако, состав многоножки менялся; Не было на Невском людей;
но - ползучая, голосящая многоножка была там; И видит она под ногами:
течение многоножки ...»
Ср. выше род ублюдочный; ни люди, ни тени; постоянно тени и т.д.
Основные виды движения толпы обозначаются словами течь,
ползти, валить. Ее элементарные свойства - собираться, роиться, кишеть
и рассыпаться (растекаться)134. Эти характеристики отчетливо
противопоставлены прямолинейной организованности пространства центра.
Есть еще один глагол, характеризующий толпу, как и все хаотическое,
неустойчивое, быстро изменяющееся,- мелькать, ср.: «и было жутко
мелькание странно оравших фигурок ... и топотали, мелькали их пятки ...»
Ср. другие употребления: «Мелькнула любовь ... мелькнувши, упали ...
Вся жизнь промелькнула, упала вся жизнь135; ... промелькнуло нечто
вроде догадки; Но не мешает нам вспомнить: мелькнувшее мимо ... - все
промелькнувшее мимо, - было одним раздражением мозговой оболочки; ... а
извозчик, его обогнавши, подпрыгивал на камнях; и - мелькал номер
бляхи: тысяча девятьсот пятый»136. Образ мелькания постоянен у
Достоевского - как в ПН, так и в других произведениях. При этом он
используется приблизительно в тех же контекстах (и, в частности, при описании
середины), что и у Гоголя раньше137 и Белого позже. Ср.: «незнакомец
нагнулся, мелькнул и исчез ... Незнакомец мелькнул...
Голядкин бросился вслед за ним;... Голядкин-младший промелькнул
мимо господина Голядкина-старшего; Мелькали какие-то лица,... то неясно,
то резко ...; Некоторое время еще мелькали кое-какие лица...» («Двойник»);
«я всматривалась в тени людей, мелькавшие на занавесках...; передо мной
мелькали одни картины; Я жадно всматривалась в мелькавшие передо мной
лица ...» («Неточка Незванова»); «во всем этом народе, оставшемся в
городе, на всех этих лицах, мелькавших с утра до вечера...» («Вечный муж») и т.п.
Ср. у Гоголя: «Длинные тени мелькают по стенам и мостовой; ... сквозь
которое мелькает бледная Нева; Проходящие реже начали мелькать ...; ...
мелькнула перед ним ...» («Невский проспект»); «... ярко мелькал трепетный
свет свечи» («Нос»); «Пешеходы начали мелькать чаще; и перед ним
мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт ...; фонари
стали мелькать реже... Вдали, бог знает где, мелькал огонек...; мелькнул
светлый гость в виде шинели» («Шинель»); «... и только одни передние домы
мелькали будто сквозь тонкий газ. Тускло мелькала вывеска ... еще тусклее
...» («Дождь был продолжительный») и т.д.138
431
Другой пример такого движения («марионеточного», жизненный
танец) - танцовать с игрой-меной различных приставок. Ср.: «Николай
Петрович Цукатов протанцовал свою жизнь; теперь уж Николай Петрович ту
жизнь до-танцовывал; дотанцовывал безобидно ... Все в жизни вы-танцо-
вывалосъ. За-танцовал еще мальчиком; танцовал лучше всех: к окончанию
курса гимназии на-танцовались знакомства; к окончанию факультета из
круга знакомств вы-танцовывался и круг покровителей; Николай
Петрович пустился от-плясывать службу; про-танцовал он имение; ... спутница
оказалась с приданым; и Николай Петрович теперь танцовал у себя;
вытанцовывались две дочери ... Так что теперь до-танцовывал сам он себя»
(вычленение приставок наше. - В.Т.).
С этой же периферией139 связаны и некоторые другие действия или
атрибуты (странный, фантастический; желтый и зеленый с
многочисленными оттенками их, решительно оттеснившие все другие цветовые
обозначения; насекомые и гады и т.п.), так или иначе упомянутые выше. Не
случайно, что Александр Иванович Дудкин, чье внутреннее состояние и жилище
описываются довольно близко к характеристикам состояния и жилища
Раскол ьникова140, - живет на Васильевском Острове, на семнадцатой линии, а
не в «срединном» Петербурге (как Раскольников), и его путь лежит к
центру (а не к Островам, как у героя ПН).
Пронизанность романа Белого целым рядом мотивов, повторяющихся у
Достоевского (о чем см. в другом месте)141, довершает картину
соотнесенности «Петербурга»142 с произведениями Достоевского и прежде всего с ПН.
Относительно «внешнего» контекста многих из упоминаемых здесь
понятий см. далее - в статье «Петербург и "Петербургский текст русской
литературы"».
1 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. М., 1970 (Литературные памятники,
далее - ПН). Нередко текст цитируется лишь с целью указания на соответствующее
место ПН и идентификации с ним. Используются сокращения: Р. - Раскольников, Св. -
Свидригайлов, П. - Порфирий Петрович, К.И. - Катерина Ивановна, Раз. - Разумихин.
Отсылки к исследованиям о Достоевском по необходимости минимальны.
2 Естественно, что приходится считаться и с установлением определенной традиции.
3 В частности, здесь не рассматриваются совпадения в мотивах между ПН и другими
произведениями Достоевского (этой теме будет посвящена следующая часть работы).
4 См. Бахтин ММ. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963; 1-е изд. -Л., 1929.
5 См. Там же. Ср. об этом же аспекте, но в другой связи: «Метафоризм - естественное
следствие недолговечности человека и надолго задуманной огромности его задач. При
этом несоответствии он вынужден смотреть на вещи по-орлиному зорко и
объясняться мгновенными и сразу понятными озарениями. Это и есть поэзия. Метафоризм -
стенография большой личности, скоропись ее духа... Стихи были наиболее быстрой и
непосредственной формой выражения Шекспира. Он к ним прибегал как к средству
наискорейшей записи мыслей. Это доходило до того, что во многих его стихотворных
эпизодах мерещатся сделанные в стихах черновые наброски к прозе» (БЛ. Пастернак.
Заметки к переводам шекспировских трагедий). Организация художественного текста,
основанная на вызывании архетипических образов (или «primordial images»),
рассматриваемых как «psychic residua of numberless experiences of the same types», и
установлении дополнительных связей, преследует, между прочим, те же цели экономии. Ср.:
Jung CG. On the Relation of Analytical Psychology to Poetic Art. - Contributions to Analytical
Psychology / Transi, by H.C. & CF. Baynes (1928); Bodkin M. Archetypal Patterns in Poetry.
N.Y., 1958; Мелетинский Ε.Μ. О литературных архетипах. М., 1994, и др.
432
6 Достаточно указать на ту страницу истории раннеевропейской живописи, где
начинает обнаруживаться разрыв со старой иконописью. В этом отношении особого
внимания заслуживает Джотто. Он, в частности, одним из первых попытался представить
набор евангельских эпизодов как строго последовательную серию циклов,
соотнесенную с временной осью и разворачивающуюся по горизонтали (в отличие от
вневременной вертикальной композиции средневековой иконописи), ср. фрески в Капелле
Скровеньи в Падуе, изображающие историю Марии и Христа. Попытке представить
евангельский рассказ как сообщение исторического плана, соотносимое с
хронологией во всем, хроме сакрально отмеченных моментов (ср. особое, вневременное место
сцены «Благовещения»), соответствует стремление разрушить изображение как
моленный образ, предполагающий связь со зрителем-адептом, за счет профильной
ориентации изображаемых лиц и установления связей между ними (обычно - «диалог»).
Приобретая независимый сюжет, картина как бы теряет свое ритуальное значение и
меняет свой семиотический топос. Другой пример - сознательное использование
«Paralleltechnik» и особенно «Spiegelungstechnik» в прозе Гёте как некая попытка
введения принципа дополнительности в описание явлений, которые не могут быть
удовлетворительно изображены с одной точки зрения. В этом стремлении к
преобразованию поэтического пространства Гёте следовал как общефилософским предпосылкам
(«Jedes Existierende ist ein Analogon alles Existierenden; daher erscheint uns das Dassin
immer zu gteicher Zeit gesondert und verknüpft...» Goethes Werke / Hrsg. von E. Trunz.
Hamburg, Bd. XII. S. 368), так и собственным научным идеям (ср. статью «Entopische
Farben», 1820). См. подробнее: Gundolf F. Goethe. Berlin, 1920; Dieckmann L. Repeated
Mirror Reflexions: The Technique of Goethe's Novels // Studies in Romantism, Vol. 1 (1962);
Hinze K.P. Zu Goethes Spiegelungstechnik im Bereich seiner Erzählungen // Orbis Litterarum.
Vol. 25 (1970), и др.
7 «Кроткая» (От автора). Впрочем, аналогичный подход разделяли и некоторые другие
авторы, в том или ином отношении влиявшие на Достоевского. Ср.: «В этом
произведении была сделана попытка соединить черты средневекового и современного
романов. В средневековом романе все было фантастичным и неправдоподобным.
Современный же роман всегда имеет своей целью верное воспроизведение Природы...
Автор... счел возможным примирить названные два вида романа. Не желая стеснять
силу соображения и препятствовать его свободным блужданиям в необъятном
царстве вымысла... автор вместе с тем хотел изобразить действующих в его трагической
истории смертных согласно с законами правдоподобия...» (Уолпол Г. Замок Отранто.
Предисловие ко 2-му изд. Л., 1967. С. 11-12).
8 Проблема двойничества у Достоевского лишь частный случай расщепления героя, так
или иначе связанного с автором. Герой часто не кончается там, где перестает
употребляться его обозначение. То, что мы выделяем Раскольником и Свидригайлова,
Ставрогина и его двойников, Голядкина 1-го и Голядкина 2-го, строго говоря, дань
привычке (в частности, к ипостасности). Древнеиндийский философ, возможно,
провел бы границы иначе; они, конечно, определялись бы областью распространения не-
киих общих признаков с заданными функциями. Герои Достоевского таким образом
располагаются в некоем признаковом пространстве, что два соседних обладают рядом
общих признаков; принцип же расположения зависит от функциональной установки.
Любым двум героям может быть сопоставлено сходное описание, если их функции в
данном узле схемы совпадают. Так, например, объясняются совпадения в
характеристиках Раскольникова, даваемых ему не только Свидригайловым, но и Разумихиным,
Порфирием Петровичем и др. Расщепление das Selbst на части с целью дальнейшего
синтеза в плане нравственной регенерации сопоставимо в ряде отношений с общей
схемой любого жертвоприношения с той же прагматикой. Психотерапевтическая
сторона в обращении к такой схеме настолько очевидна, что ею можно (хотя бы
отчасти) объяснить возможность восприятия романов Достоевского как сценария,
который может «проигрываться» читателем, бродящим по местам, где развертывается
действие романов. То, что они в этом отношении уникальны в русской литературе (ср.
Н.П. Анциферов), бесспорно. И дело, конечно, не только в их «топографичности».
433
Достоевский так организовал романное пространство, что сделал возможным
вовлечение читателя в действие, лежащее уже за пределами художественной литературы.
9 Ср. ценные свидетельства в письме к А.Н. Майкову (31 декабря 1867 г.): «... и всегда в
голове и в душе у меня мелькает и дает себя чувствовать много зачатий
художественных мыслей. Но ведь только мелькает, а нужно полное воплощение, которое всегда
происходит нечаянно и вдруг, но рассчитывать нельзя, когда именно оно произойдет,
и за тем уже, получив в сердце полный образ, можно приступать к художественному
выполнению. Тут уже можно даже и рассчитывать без ошибки... в общем план
создался. Мелькают в дальнейшем детали, которые очень соблазняют меня и во мне жар
поддерживают. Но целое\ Но герой). Потому что целое у меня выходит в виде героя.
Так поставилось. Я обязан поставить образ...».
10 Любопытно сравнение двух противоположных оценок возможностей романа,
сделанных лет за шестьдесят до ПН и примерно через столько же после него. Первая из них
принадлежит Новалису (Fragmente). Для него ясно, что роман должен быть сплошной
поэзией («Ein Roman muß durch und durch Poesie sein»), т.е. образом высшей
действительности, естественности; что роман - это история в свободной форме, как бы
мифология-история; что роман - это жизнь, принявшая форму книги; что мы сами
живем в огромном романе (и в смысле целого и в смысле частностей). И далее: «Всякий
автор романа пишет в своем роде boutsrimés, данное ему множество случайностей и
ситуаций он располагает в стройную закономерную последовательность; он
целесообразно заставляет единого героя пройти через все случайности к единой цели. Его
герой должен быть достаточно своеобразной индивидуальностью, чтобы определить
собою встречающиеся обстоятельства и самому определяться ими. Это
взаимодействие или изменение индивидуального героя, проведенное с последовательностью, и
составляет весь интерес содержания романа. Автор романа может поступить
различным образом. Например, он может сначала измыслить множество эпизодов, а героя
сочинить позднее - для осмысления их... Или же он может сделать обратное: сперва
прочно обдумать индивидуального героя и лишь затем подобрать к нему
соответствующие происшествия». Далее следует исчисление видов связи, определяющих
отношения между героем и событиями, до сих пор остающееся одним из самых существенных
вкладов в анализ романной структуры. Новалис не только обобщил опыт романа
XVIII в., но и сумел предвосхитить многие черты классического европейского романа
XIX в. Другая оценка возможностей романа принадлежит Мандельштаму: «Страшно
подумать, что наша жизнь - это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и
стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного
бреда» («Египетская марка»); «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как
шары из биллиардных луз... Человек без биографии не может быть тематическим
стержнем романа, и роман, с другой стороны, немыслим без интереса к отдельной
человеческой судьбе, - фабуле и всему, что ей сопутствует. Кроме того, интерес к
психологической мотивировке... в корне подорван и дискредитирован. Современный
роман сразу лишился и фабулы, то есть действующей в принадлежащем ей времени
личности, и психологии, так как она не обосновывает уже никаких действий» («Конец
романа») и под. Ср. также интереснейшие рассуждения М.М. Бахтина в его статье
«Эпос и роман». Указанные выше пределы полезно иметь в виду, анализируя романы
Достоевского.
1 ! Ср. обморочное (или близкое к нему) состояние Раскольникова в конторе (дважды), у
Порфирия Петровича; высказывания Свидригайлова, Порфирия Петровича, Разуми-
хина о его болезни. Ср. употребление в ПН слов мономан, ипохондрик, лихорадка,
жар, дрожь, машинально, механически и под. в связи с Раскольниковым.
12 См. Приложение 1.
13 В других произведениях Достоевского вдруг употребляется также весьма часто, но
нигде не достигая показателей ПН. О вдруг у Достоевского см.: Виноградов В.В. Стиль
петербургской поэмы «Двойник» // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. Пг., 1922,
220; Слонимский АЛ. «Вдруг» у Достоевского // Книга и революция. 1922. № 8.
С. 9-16; Бицилли П. К вопросу о внутренней форме романа Достоевского // Годиш-
434
ник на Софийская университет. Ист.-филол. ф-т. Т. XIII (1945-1946), 9; Сими-
на Г.Я. Из наблюдений над языком и стилем романа Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание». Изучение языка писателя. Л., 1957. С. 148-150. Ср. о «вдруг» в
последней книге Ю.Ф. Карякина и отчасти: Nilsson N.À. Dostoevskij and the Language of
Suspense // Scando-Slavica. T. 16 (1970). C. 33-45 и др. Однако в указанных работах
приводятся лишь отдельные (часто не наиболее интересные) примеры, а вопрос о
функциях остается обычно в стороне.
14 Ср.: «но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ... и что
все вдруг решено окончательно, 53; Вдруг он ясно услышал... Он ... вдруг вскочил,
57; до того вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение ... вдруг ..., 89; он вдруг
... посмотрел на Дунечку. - Странно, проговорил он... как бы вдруг пораженный,
182; он вдруг увидал, что это приниженное существо до того уже принижено, что
ему вдруг стало жалко, 184; проговорила вдруг в ответ Сонечка... вдруг опять
сильно потупившись, 186; ему вдруг вообразилось, что какая-нибудь вещь ...
могла как-нибудь тогда проскользнуть... а потом вдруг выступить, 211; Ноги его
ужасно вдруг ослабели ... и сердце ... потом вдруг застукало, 212; Вдруг он
остановился и увидел, что ... стоит человек ... но вдруг этот человек повернулся ... Не
доходя шагов десяти, он вдруг узнал его, 215; Каким-то холодом охватило вдруг Р. ...
Св. вдруг расхохотался, 224; - Понимаешь теперь!? сказал вдруг Р. ... - Воротись,
ступай к ним, прибавил он вдруг, 243; и вдруг сам захохотал ... Р. встал с дивана,
вдруг резко прекратив... смех, 264; Вдруг губы его задрожали ... - Не позволю-с!
крикнул он вдруг, 266; но вдруг остановился... и вдруг, как бы увлеченный, 273;
воскликнула она, вдруг вскочив..., и глаза ее ... вдруг засверкали, 325; он
вспоминал вдруг о Св.: ему вдруг слишком ясно, 339; он вдруг стал опять беспокоен;
точно угрызение совести вдруг начало его мучить», 341 и т.п.
15 См. Приложение 2.
16 Не удивительно, что вдруг и странно обладают высоким коэффициентом совместной
встречаемости (при этом не только у Достоевского).
17 Характерно, что со словами странно, странный очень часто сочетаются
классификаторы неопределенности - как-то, что-то, какой-то и под., которые, впрочем,
исключительно широко употребляются у Достоевского и в других случаях. О слове
странный см. еще Приложение 3.
18 Ср.: «я мало-помалу и постепенно, с самого наступления сумерек, стал впадать в то
состояние души ... которое я называю мистическим ужасом. Это - самая тяжелая,
мучительная боязнь чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то недостигаемого и
несуществующего в порядке вещей, но что непременно, может быть, сию же минуту,
осуществится, как бы в насмешку всем доводам разума, придет ко мне и станет
передо мною как неотразимый факт, ужасный, безобразный и неумолимый...»
(«Униженные и оскорбленные», 1, X); «Сумерки сгущались; а вместе с ними росла и тоска моя»
(«Неточка Незванова»); «Батюшки, голубчик, не знаю, что делать с собой. Как
сумерки, так я и не выношу; как сумерки, так и перестаю выносить, так меня и потянет
на улицу, в мрак. И тянет, главное, мечтание...» («Подросток») и др.
19 На закате умирают (Нелли, Лиза) и получают освобождение: «Но странно, когда он
приник на ее могилку и поцеловал ее, ему вдруг стало легче. Был ясный вечер,
солнце закатывалось; кругом, около могил, росла сочная, зеленая трава; недалеко в
шиповнике жужжала пчела... Какая-то даже надежда в первый раз после долгого
времени освежила ему сердце» («Вечный муж»; по свидетельству А.Г. Достоевской,
подобное ощущение испытал Ф.М., когда в 1868 г. пришел в первый раз после похорон
своей дочери Сони на ее могилку: «"Соня послала мне это спокойствие", - сказал он
мне»). На закате происходят роковые встречи (Ордынов и Катерина, Иван Петрович
и старик Смит и др.) и приходят к решениям, от которых зависит все. Ср. еще:
«Какой вы час во дню больше любите? спросил он ... - Час? Не знаю. Я закат не люблю
... Закат солнца (почему Крафт удивился, что я не люблю заката!) навел на меня
какие-то новые и неожиданные ощущения» («Подросток»). Ср. запись о картине Эмса
перед закатом солнца («Неизданный Достоевский». М., 1971. С. 553).
435
20 О слове последний у Достоевского см. в другом месте. Из характерных употреблений
ср.: «Я помню его последний на меня взгляд» («Подросток»).
21 Ср. аналогичный мотив в «Исповеди Ставрогина»: «... солнце ужасно ярко светило ...;
надо мной жужжала муха ... и я мог слышать писк каждой мушки ... сидел у окна и
смотрел на красного паучка»; в «Идиоте» - рассказ генерала о самом плохом поступке:
«Прихожу к старухе ... в углу точно от солнца забилась ... мухи жужжат, солнце
закатывается...»; в «Вечном муже»: «... солнце закатывалось ... жужжала пчела» и т.п. Ср.
у Гоголя: «... все ему гадко, однако же он не отходит от окна. Стоит ... позабываясь ... и
душит с досады какую-нибудь муху, которая в это время жужжит и бьется об стекло
под его пальцами» («Мертвые души») или у Пушкина: «... В окно смотрел и мух давил»
(«Евгений Онегин», II). Интересно, что в непосредственном соседстве дается сцена
встречи Чичиковым похоронной процессии, с чем отчетливо сопоставим эпизод
встречи Вельчаниновым похоронной процессии в «Вечном муже». Ср. дальнейшее развитие
мотива у Сартра в Les chemins de la liberté, II (Paris, 1945), 107.
22 Из более ранних аналогий ср.: «... und konnte mich an der untergehenden Sonne, gegen
welche die Fenster gerade gerichtet waren, nicht satt genug sehen ... so erregte dies Frühzeil in
mir ein Gefühl der Einsamkeit und einer daraus entspringenden Sehnsucht... Die alte,
winkelhafte, an vielen düstere Beschaffenheit des Hauses war übrigens geeignet, Schauer und Furcht
in kindlichen Gemütern zu erwecken», в начале Dichtung und Wahrheit, подобно тому, как
с заключительным мотивом этой книги перекликается другая тема русской
литературы - Свеча горела на столе; Свеча горела. О значении образов Гёте для
Достоевского см. Бем Л. «Фауст» в творчестве Достоевского // Записки
Научно-исследовательского объединения. Т. V. Прага, 1937.
23 Подробнее и в ином плане о символическом значении заката см.: Дурылин С.Н. Об
одном символе у Достоевского // Достоевский. М., 1928. С. 163-198. Ср. приписку
А.Г. Достоевской к фразе «Люблю закат его, длинные косые лучи его ...» - «Длинные
косые лучи заходящего солнца» часто встречаются в произведениях Ф.М., как
наиболее любимые им часы дня, - с чем можно сравнить отрывок из «Белых ночей»:
«... есть, друг мой Настенька, в моем дне один час, который я чрезвычайно люблю...
Но странное чувство удовольствия играет на его бледном ... лице. Неравнодушно
смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском
небе ... Он теперь уже богат своею особенною жизнью; он как-то вдруг стал богатым,
и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и
вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений». Тема заката стала одной из
основных временных и символических доминант у Белого. Ср. в «Петербурге»:
«Вдохновение овладевало душою ... там, оттуда - в ясные дни, издалека-далека, сверкали
ослепительно: золотая игла, облака, луч багровый заката; там, оттуда - в туманные
дни, - ничего, никого» (дважды - в начале и в конце романа); или: «встав на дыбы, ты
на долгие годы, Россия, задумалась перед грозной судьбой, сюда тебя бросившей, -
среди этого мрачного севера, где и самый закат многочасен... Да не будет!»; «А над
этою зеленоватою синью немилосердный закат и туда и сюда посылал свои
отблески: и багрился Троицкий мост; багрился Дворец; там, на выступе в светлобагровом
ударе последних лучей... Немилосердный закат посылал удар за ударом от самого
горизонта... Заката не будет!» Эта же тема в новом ракурсе (провиденциальность)
постоянно появляется в поэзии Блока и Ахматовой.
24 «И чего-чего в ефтом Питере нет!», 135. Ср. в «Шинели»: «... и все, что ни есть
в Петербурге»; и косвенно в «Петербурге»: «Весь Петербург - бесконечность
проспекта ... За Петербургом - ничего нет».
25 Ср.: «имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и
умышленном городе на всем земном шаре» («Записки из подполья», 1, II); «Есть в
Петербурге довольно странные уголки ... В этих углах... выживается как будто совсем
другая жизнь ... такая, которая может быть в тридесятом неведомом царстве, а не у
нас ... Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического,
горячо-идеального и вместе с тем ... тускло прозаичного и обыкновенного, чтоб не сказать: до
невероятности пошлого» («Белые ночи». Ночь вторая); «Но, мимоходом, однако, замечу,
436
что считаю петербургское утро, казалось бы самое прозаическое на всем земном
шаре, - чуть ли не самым фантастическим в мире ... Мне сто раз, среди этого тумана,
задавалась странная, но навязчивая греза: "А что, как разлетится этот туман и уйдет
кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с
туманом и исчезнет как дым" ...» («Подросток»); «казалось, наконец, что весь этот
мир ... в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон,
который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу...»
(«Слабое сердце») и др. Фантастический (и однокоренные слова) встречается в ПН
около 30 раз. Наиболее характерные употребления - в применении к Р.: «как он
фантастичен..., 168; сердце имеет: фантаст, 351; Мне понравились вы
фантастичностью..., 362; дело покончить иначе, фантастическим каким образом..., 357; Статья
ваша нелепа и фантастична..., 349; Тут дело фантастическое..., 352; Дело
фантастическое...», 374; ср. также: «Русские люди вообще широкие люди ... и чрезвычайно
склонны к фантастическому, к беспорядочному..., 380; фантастическая
наклонность, 391; лицо фантастическое, 371; люди фантастические, 352; фантастическое
душегубство, 230; фантастический вопрос, 40; фантастическое происшествие», 279
и т.д. См. Приложение 5.
26 Ср.: из дома старухи (первое посещение); после сна на Петровском острове; при
выходе со двора, где были спрятаны вещи, на улицу в направлении к площади; при
выходе из дома после визита Лужина; после смерти Мармеладова; после второй встречи
с Порфирием Петровичем. Наконец, действительное возрождение произошло в
предельном удалении от дома. И, наоборот, страдания достигают своего предела, как
правило, при нахождении внутри дома.
27 Ср. роль этих мест в снятии душевного напряжения, депрессии, несвободы в других
произведениях Достоевского: «Как я благодарна вам за вчерашнюю прогулку на
острова, Макар Алексеевич! Как там свежо, хорошо, какая там зелень! ... мне было
очень хорошо, легко...» («Бедные люди»), ср. дачу Погорельцевых в «Вечном муже»
или мотив дачи и островов в начале «Белых ночей» и др. Нева, вид на нее
соотносятся с видениями, открывающими новые пути, ср. «Видение на Неве» в «Петербургских
сновидениях» (1861). См. об этом: Комарович В. Ненаписанная поэма Достоевского //
Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы, 179 и след.; Бем А. Первые шаги
Достоевского (Генезис романа «Бедные люди») // Slavia, 12, 1933,134 и след. ; и - отчасти - он же.
Достоевский. Психоаналитические этюды. Прага; Берлин, 1938 («Снотворчество»).
Ср. значение для Блока прогулок на острова, в Удельную, Шувалово, Озерки, Соснов-
ку (стихи, дневниковые записи, письма, свидетельства современников). О структуре
пространства в «Петербурге» Белого см. Приложение 10.
28 Ср.: «- Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб... - Я уверена, что ты
наполовину от квартиры стал такой меланхолик. - Квартира? ... Да, квартира много
способствовала ... я об этом тоже думал...», 180. Ср.: «Но это гроб, совершенный гроб\
Действительно, было некоторое сходство с внутренностью гроба (о комнате); ...Ввиду
этакого гроба..:, ... мы сидели с вами у меня в гробе» («Подросток»).
29 К языковому кодированию образа ср.: «Близость Сенной ... население, скученное в
этих серединных петербургских улицах и переулках...», 8. Пребывание в середине
комнаты отмечено и чаще всего связано с пассивным восприятием (слушать,
смотреть), непроизвольным появлением недобрых мыслей или вообще со сферой
отрицательного. Ср.: «В раздумье стал он среди комнаты. Мучительная темная мысль
поднималась в нем, 67; стоя среди комнаты... стал опять высматривать кругом ... стоял
среди комнаты..., 73-74; Он стоял среди комнаты и в мучительном недоумении
осматривался кругом..., 101; вошел в свою каморку и стал посреди ее ... Он оглядел..., 328;
оставшись один среди комнаты, любопытно прислушивался и соображал..., 11; он
остановился посредине улицы и стал осматриваться...», 358; ср. также моменты забытья,
депрессии в связи с серединой моста (90, 133); критические моменты {середина
комнаты - Соня, 318, 405; Лизавета, 65 и т.п.). Напротив, хождение по комнате (напр., от
двери или печи до окна или из угла в угол) чаще всего связано с активным началом -
мысли, эмоции (особенно - волнение) и т.п., предполагающие последующее действие,
437
ср. о Раскольникове, 248, 249; о Дуне, 159, 160, 167; о Катерине Ивановне, 19, 24,
139, 318; о Порфирии Петровиче, 258, 260, 262, 264, 277 (он обычно бегает,
кружит и даже - в передаче мещанина - сигает, то же о Стебелькове в «Подростке»;
ср. о Голядкине - летает, прыгает, скачет, мелькает и под.); о Лебезятникове,
291; об Амалии Ивановне, 302 и т.д. Ср.: «Я же, когда обдумывал свои будущие
повести, всегда любил ходить взад и вперед по комнате...» («Униженные и
оскорбленные») с комментарием А.Г. Достоевской: «Всегдашняя привычка Ф.М., когда
он обдумывал свои произведения» (ср. в «Неточке Незвановой»: «... ходя взад и
вперед по комнате...»); в «Подростке»: «шагал он по кабинету...; я все ходил
большими шагами по моей маленькой комнате...» и т.д. Ср. у Белого: «... и снова
забегал по диагонали» (от угла к углу). Это схождение с тем, как описывает
Достоевский движения Порфирия Петровича, особенно показательно ввиду других
реминисценций именно этого образа в «Петербурге». Ср.: «... усмешечка прошлась по
губам: - "Как в кого? В Вас, Ваше Превосходительство, в Вас!"; "Я себе говорю...
да, батенька мой, - так себе..."; "да что вы дрожите? Ишь вспыхнули, занялись -
молодая девица!"; "А плечико? Как передернулось?!" ... Передернулось -
отчего?"» (Ср. тут же: психологический метод, сцена смеха) и т.д.
30 Ср. в «Вечном муже»: «Пыль, духота, белые петербургские ночи, раздражающие
нервы ... Ипохондрия его росла с каждым днем; Здесь так пыльно и душно, в этом доме
так все запачкано ... столько самой мышиной суеты, столько самой толкучей
заботы... Духота и жар стояли нестерпимые...» К физиологии «срединного» Петербурга
ср. также: Данилов В.В. К вопросу о композиционных приемах в «Преступлении и
наказании» // Известия Академии наук, № 3, серия VII (1933). С. 249-263.
31 Лишь несколько примеров - ср. первый сон Раскольникова, 47-50: «Там всегда была
такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели и так часто
дралисъ\ становится очень шумно: ... выходят с криками, с песнями...; хохочут в
толпе; Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами; в толпе тоже
смеются, да и впрямь, как не смеяться...; Смех в телеге и в толпе удвоивается...; Вдруг
хохот раздается залпом...; Песню, братцы! кричит кто-то... Раздается разгульная
песня ... кричит...; кричат кругом; кричит Миколка; кричат голоса из толпы;
кричат кругом; кричит из толпы...; кричит третий... неистово вскрикивает
Миколка...; кричит Миколка...; кричат в толпе; кричит Миколка...; кричат из толпы уже
многие голоса; С криком пробивается он сквозь толпу...; криками вырываются...».
Ср. также: «визжат, дерутся и хохочут, оба хохочут взапуски ... валяются на
дороге, хохочут..., 111; что-то галдели..., сбиваясь кучками; они толпились на тротуаре
группами ... шел стук и гам ... тренькала гитара, пели песни ... ругался...; пение и весь
этот стук и гам, там внизу... среди хохота и взвизгов...; Хохочут!», 123-124; В сцене
поминок (с. 295 и след.): «с самым неприличным и громким хохотом...; многие
хихикали...; ужасно расхохоталась...; кто-то фыркнул...; при громком хохоте всех
жильцов», 295 и ел.; ср. еще: «а ему вдруг захотелось закричать им, ругаться с ними, ...
дразнить их, смеяться, хохотать, хохотать, хохотать\, 127; Р. ... расхохотался,
236; Св. вдруг расхохотался, 218, 224; Св. громко расхохотался», 359 и др. То же и в
других произведениях. Ср. частые сочетания слов толпа и тесниться (см. ниже):
«теснимый толпой; люди входили толпами и теснились; ужасно стеснились в
дверях... валила ... толпа» («Вечный муж»); «толпа теснилась» («Двойник») и т.п. Ср.
также: «Шум, говор и крик людей, теснившихся у стола, были ужасны ... они грозили ему
руками и о чем-то изо всех сил кричали...» («Вечный муж»). См. выше у Лермонтова:
«шум и хохот» или у Гоголя: «Всё это: шум, говор и толпа людей...» («Шинель»);
«Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе» («Портрет»); «такая сделалась
толпа и давка» («Нос»); «толпа его притиснула» («Невский проспект») и под.
32 Еще более многообразны обозначения толпы в «Петербурге» Белого: толпа, куча,
рой, токи, стаи, масса, гуща, тело, туловище, груда, гурьба, кишащее людом,
многоножка. И в этом отношении Белый, несомненно, продолжает Достоевского, еще
более обезличивая толпу и ставя ее поведение в зависимость от геометрии
пространства, образующего Петербург.
438
33 Ср., например, желтый цвет обоев у старухи (как и желтая мебель, желтые рамки),
10, 135, 215; желтая мебель у Порфирия Петровича, 329; желтая вода в желтом
стакане в конторе, 84; бледно-желтое лицо у Раскольникова и Катерины Ивановны.
Те же характеристики, но в гораздо менее концентрированном виде отмечаются и в
других произведениях. Среди других примеров ср.: «а меня красят в желтую краску!..
и мой приятель пожелтел ... (о доме) ... У меня чуть не разлилась желчь» («Белые
ночи»); «Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их (домов) потеряют на миг свою
угрюмость» («Униженные и оскорбленные»). Ср. желто-канареечный цвет залы в
доме, где вырос Достоевский. См.: Воспоминания Андрея Михайловича
Достоевского. Л., 1930. С. 23. Существенно иное отнесение см.: «Графиня сидела вся желтая»
(здесь же: Желтое платье...) («Пиковая дама»); «... все люди мне кажутся желтыми...;
Он похудел и пожелтел ужасно» («У граф. В... был музыкальный вечер». Но
наиболее интересная картина - в «Петербурге». Наряду с продолжением
словоупотреблений Достоевского: цвет желтых обоев, темно-желтые обои - 5 раз; желтые стенки,
желтый дом (цвет) - 7 раз; включая символический Желтый Дом, желтое здание -
дважды; ср. желтый при словах: особа, лицо, личико, цвет лица, рожи, губы, ножки,
пята, рука, локоть, горб, пальто, пара, ботинки, лоскутья, старичок, кирасир,
мотылек, семга, куколка, рояль, краска, костяшки, полчища, дымы, клубы, туман,
россыпи, круг, пирамида, луна, отсветы, пространство. У Белого желтый (как и зеленый, и
то и другое слово употребляются приблизительно по 70 раз) выступает как основной
цветовой фон и символ; отсюда - исключительная насыщенность текста этим словом,
уникальная в русской литературе, несмотря на известное пристрастие к этому цвету в
поэзии начала века (Блок, Анненский, Ахматова, отчасти и Мандельштам). Ср. уже у
Достоевского: «Нынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный» («Записки из
подполья»); при «Желтый пар петербургской зимы, I Желтый снег, облипающий
плиты...» у Анненского; или: «Ведь и держусь я одним Петербургом - ... желтым,
зловещим, нахохленным, зимним...» у Мандельштама. Ср.: «декабрьский денек, / Где
к зловещему дегтю подмешан желток»; «Рыбий жир - смесь пожаров, желтых
зимних утр и ворвани...» («Египетская марка») и т.п.
34 Ср.: «Было душно, 14; В комнате душно, 24; ему стало душно и тесно, 35; Все окна
были заперты, несмотря на духоту, 63; ему дышать было тяжело, 57; была
страшная духота, здесь тоже духота была чрезвычайная, здесь воздуху нет ... - духота,
76-77; было душно, 150; ужас у него душно ... а где тут воздухом-то дышать, 187;
спертый воздух, куча людей, 209; духота тоже иной раз в комнатах бывает, 265;
у П. начал он задыхаться без выхода, в тесноте, 345; Ему сделалось и тяжело, и
душно..., 364; нумер, душный и тесный, 389; У нас здесь такой спертый дух, 410; или в
несколько иной форме: Воздуху пропустить свежего, 266; воздуху надо больше, воздуху,
343; Вам... воздух переменить надо... Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!
... а вам прежде всего надо ... воздуху...», 355-356 (ср. чистый воздух на Неве, 91) и т.д.
35 Ср.: «Я заметил, что в тесной квартире даже мыслям тесно» («Униженные и
оскорбленные», 1,1), или: «Покажи мне свою комнату, и я узнаю твой характер ... Знакомы
мне эти узкие ... комнатки...» («Подросток»). Ср. комментарий А.Г. Достоевской к
этой фразе: «Ф.М. был убежден, что "в тесной квартире даже и мыслить тесно",
поэтому он готов был отказывать себе во всем, лишь бы иметь в своей квартире хоть
просторные комнаты».
36 Ср. у Блока: «Жить все-таки скучно... так узко как-то и тесно» («Записные книжки»,
305) и особенно у Платонова: «Нет там ничего особого: так, что-нибудь тесное»
(о смерти); ср. тут же: «пожить в смерти; это просто теснота внутри его матери... ему
душно в каком-то узком месте ... пусть он меня зажмет... Просуньте меня поглубже в
трубу» (об умирании, смерть = лоно; примеры из повести «Происхождение мастера»).
Ср. еще: «Это у нас народ такой охальник и ослушник! Ему хоть ты што - он все
челобитные пишет да жалобы егозит... Вот, погоди, я их умещу в тесное место!»
(«Епифанские шлюзы»).
37 Ср.: «не знал, куда деться от тоски, 12; Он так устал от ... этой сосредоточенной
тоски, 13; Давным-давно как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, 39; бродил в
439
тоске и тревоге, 86; Соня стояла... в страшной тоске, 248; Какая-то особенная
тоска, 330; страшная тоска сжала его сердце, 396; задавила его безвыходная тоска, 406;
но какая-то тоска волновала его и мучила...», 422 и др. Другой интересный случай
притяжения у Достоевского: тесный - стена (как то, что ограничивает, стесняет,
обуживает пространство). Ср. использование этой же анаграммы у Вячеслава
Иванова: И модные меж старых стен теснины («Римские сонеты», IV).
38 Ужас, ужасный, -о и под. отмечены в ПН около полутораста раз.
39 Ср. в «Пиковой даме»: «... и тут же узенькая витая лестница; ... увидел узкую витую
лестницу... Но он воротился и вошел в темный кабинет»; в «Невском проспекте»:
«Она взбежала по узенькой темной лестнице» или: «... поворотя от нее направо, есть
переулок, узкий и темный» («Униженные и оскорбленные»).
40 Ср.: «таинственного ужаса... узкий, длинный переулок... узкие ворота... о своем ...
угле ... потрясенного ужасом ...» («Хозяйка», 1, I) и др. Ср. сходную игру словами того
же корня (eng - Angst) у Рильке.
41 Ср. помимо общей стихии: «... продолжал он, подмигивая Заметову, 126; и как бы ему
подмигнув ... побожился бы, что он ему подмигнул, чорт знает для чего», 195
(употребление как бы, косвенных наклонений, разных способов запинания, кажимости,
ухода от ясности и т.п. в этом смысле весьма симптоматично); «обратился... с
нахально вызывающей усмешкой, 197; Подмигнул мне давеча П., аль нет?, 198; Он
проговорил это с видом какого-то подмигивающего веселого плутовства, 337; Ему вдруг
показалось, что... ресницы ее как будто... мигают, как бы приподнимаются, и из-под
них выглядывает лукавый, острый, какой-то перетеки-подмигивающий глазок...»,
394. Ср.: «... подмигнул он. Но в этом подмигивании было уж что-то столь нахальное,
даже насмешливое, низкое!» («Подросток»).
42 Ср.: «несмотря на все поддразнивающие монологи, 9; Так мучил он себя и
поддразнивал этими вопросами...», 39; ср. 101,127, 223, 369, 375.
43 Ср.: «я стал подозревать, что... я стал подозревать, 310; Св. стал ему очень
подозрителен, 373; Он ... что-то подозревает, 376; вы очень боитесь меня и подозреваете,
377; Я ... стала подозревать, на что ты способен, 383; в испуге и в каком-то тяжелом
подозрении, 387; А вы и не подозревали!, 409; она гораздо более подозревала в
ужасной судьбе сына, 446; стал замечать, чего прежде и не подозревал, 419;
подозрительно, что...», 107 и др.
44 Ср. хотя бы такие важные моменты, как то, что Раскольников услышал разговор
офицера со студентом о старухе, разговор Лизаветы с мещанами, что Свидригайлов
подслушивал разговор Раскольникова с Соней (и даже - происходящее в соседнем
номере) и т.п. Кстати, глаголы слушать, слышать и под. употребляются в ПН гораздо
более 200 раз.
45 К образу низа ср. любопытную деталь: герой ПН часто описывается как
прислушивающийся вниз, на лестницу, во двор и т.п. (ср. 57) и глядящий в землю, вниз (ср. 56 и др.);
то же и в ряде других произведений.
46 Ср. хотя бы: «шел, не замечая дороги, шепча про себя и даже говоря вслух с собою,
36; Вдруг он весь вздрогнул от ужаса: - "Боже мой", шептал он в отчаянии, 73;
говоря опять шопотом, так что тот даже вздрогнул, 129; шептала она ... чуть не в
отчаянии ... прошептал, из себя выходя. Раз... продолжал он полу шопотом,
154—155; скорым шопотом, вдруг опять сильно потупившись, 186; дверь из
спальни чуть-чуть приотворилась и ... как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство
одолело его ... смех и шопот ... раздавались все сильнее и слышнее; а старушонка так
вся и колыхалась от хохота, 216; ужасное задумал! проговорила она почти
шопотом, 240; машинально повторил... но тоже вдруг совершенным шопотом... -
Батюшка ... шептал он, 266; Слышите! Слышите! ....Ведь услышат!... Я не шучу-с!
проговорил он шопотом ... послушался ... зашептал он вдруг по-давешнему, 270;
обращалась ... и полушопотом спешила излить ... накопившиеся ... чувства, 296;
Она вдруг задрожала ... прошептала она ... как будто вдруг опомнившись, 317; я
ведь и сам знаю, что меня чорт тащил ... Все это я уже передумал и перешептал
себе, когда лежал ... переспорил до последней малейшей черты, 324; шопотом, со-
440
вершенно убежденным голосом ... некому больше-с ... убежденно прошептал...
шепнем, 352-353; с отвращением прошептал, 355; мамаша ... полушопотом ...
разрешила, 388; шопот ... подымавшийся ... в клетушке... Этот шопот ... как он
вошел, 389; прошептала она нерешительно... прошептала ... смутившись и
потупившись, 245; прошептала ... потупившись...», 251 и т.п. Следует обратить внимание
как на контексты, в которых употребляется шептать (шопот), так и на звуковую
игру в связи с этим словом вплоть до анаграмм (шопот - потупившись и под.) и
повторений, ср.: «Зашептал князь ... торопливым шопотом» («Идиот»).
47 Тем не менее, сам выход вовне из середины принадлежит к частым у Достоевского
композиционным клише (ср. ПН, «Белые ночи», «Вечный муж» и т.п.), монтируемым
с помощью фрагментов, где повторяются лишь ключевые элементы (зелень, река,
прохлада, теплота, воздух, ветерок, солнце, свет, цветы, простор и т.д.), окруженные
сферой довольно сильного варьирования.
48 Впрочем, есть и другая середина, место покаяния и исповеди. Ср.: «дошел до средины
площади... Он вдруг вспомнил слова Сони: "Пойди на перекресток, поклонись
народу, поцелуй землю..." Он стал на колени среди площади...», 406.
49 Видимо, не случайно подчеркнуто, что комната Сони большая («это была большая
комната ... затерявшийся в пустоте...», 244); ср. о жилище Свидригайлова: «две...
довольно просторные комнаты ... как-то между двумя почти необитаемыми
квартирами ... комнаты почти пустые...», Ъ11 (ср.: «распространить Летний сад на все Марсо-
во поле ... прекраснейшая и полезнейшая вещь», 61; или: «комната моя становилась
как будто просторнее, как будто она все более и более расширялась» («Униженные
и оскорбленные», 1, X). Характерно, что слово простор также восходит к архаичным
способам выражения члена оппозиции, противоположного узости, - *(pro-)-ster-/stor-:
*eng'h/*ong'h-.
50 Ср. о Соне: «Ей три дороги, думал он...», 250.
51 Ср. и дальнейшую игру параллелизма: кусты, под которыми спал на Петровском
острове Раскольников и видел сон, приоткрывший ему надежду на спасение; куст (там
же), под которым Свидригайлов собирался найти спасение в смерти (и в этом случае
надежда была обманута). Низкий вариант спасения промелькнул в мыслях Раскольни-
кова о сокрытии вещей под кустом на Островах (также несостоявшийся замысел).
Ср. в эпилоге (в продолжение мотива обусловленности поведения, о нем см. выше):
«Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч солнца ...
зеленую травку кругом ... поющую птицу в кусте\» Другой пример параллелизма (и тоже
неполного, скорее мнимого): сцена Раскольникова с Поленькой («он увидел
приближающееся к нему личико девочки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся
поцеловать его ... Вдруг тоненькие, как спички, руки ее обхватили его крепко-крепко,
голова склонилась к его плечу...» и т.д., 147) и сцена во сне Свидригайлова с девочкой
(«Алые губы точно горят ... длинные черные ресницы ее как будто вздрагивают ... из-
под них выглядывает лукавый ... глазок ... ее губки раздвигаются в улыбку ... оба
глаза: они обводят его огненным и бесстыдным взглядом, они зовут его... Но вот она уже
совсем поворачивается к нему всем пылающим личиком, простирает руки...», 394).
Ср. другие известные параллели.
52 И здесь Раскольников предвосхищает Свидригайлова («Лучше совсем бежать...
далеко ... в Америку...», 101), который использует слово «Америка» сначала для
обозначения заграницы (217, 375), а потом того света, смерти (386, 387, 395), двух вариантов
ложного спасения. Ср.: «После бурного предложения Вельчанинова бежать в Париж
или в Америку, он уехал один в Петербург, "без сомнения, на одну только минутку"...»
(«Вечный муж»); «все ли еще он держит намерение бежать в Америку] - Может, и
подожду еще, ответил он с легким смехом... а самому скрыться в Северо-Американские
Штаты» (там же); «К себе! к себе! Все порвать и уйти к себе! - В Америку\ - В
Америку! К себе, одному себе! Вот в чем вся "моя идея" ... что у нас об одной Америке
рассказывают, так это - страсть...»; ср.: «... а для меня-то первое бревно того корабля, на
котором Колумб поехал открывать Америку; Если б Колумб перед открытием
Америки...» («Подросток»).
441
53 В схеме обратного пути (или входа) постоянно фигурируют звонок, замок, запор, крючок,
ключ, щель, а иногда и последовательность помещений по ту сторону двери - прихожая
или сени, коридор, комната, последняя из которых описывается как особенно тесная (ср.
квартиру старухи, контору, номер Свидригайлова в гостинице); ср. также постоянные
мотивы перегородки (занавески, ширмы), стены, угла и под. и окна (около 60 раз). В этом
контексте особое значение приобретает в романе мотив лестницы, возникающий
здесь около полусотни раз. Спуск по лестнице - аналог того нисхождения в мир иной, где
ищут последний шанс, открытие Последней тайны, подлинную и «усиленную» жизнь,
преодолевающую смерть. Это нисхождение особое: совпадая по направлению движения с
нисхождением в загробный мир, оно противоположно ему по цели и, следовательно, по
смыслу - оно ради жизни, и эту смысловую и «целевую» инверсию необходимо постоянно
иметь в виду. Подъем по лестнице - аналог восхождения в мифопоэтической традиции,
богатой высокими религиозно-нравственными смыслами, но и он в ПН предполагает
инверсию: у Достоевского он ведет не к возрождению духа, не к обретению силы, «новой»
жизни и ее «последнего» тайного смысла, а к возвращению на круги своя, к себе самому и
своим проблемам, в тот «свой» центр, где все злое и угнетающее сгущено до предела и
откуда (по крайней мере так представляется сознанию героя при возвращении домой)
действительно «некуда больше идти» и явного, видимого выхода нет. «В
беспросветности и отчаянии этих дней - перед убийством старухи и после него - "невидимость"
выхода - единственное благо, дарованное Раскольникову. В его теперешнем состоянии
выхода нет и быть не может: если бы даже ему показалось, что выход увиден-найден, это
было бы иллюзией и жестоким разочарованием на следующем шаге, которое полностью
могло бы отрезать ему путь к спасению. И здесь снова уместно вспомнить мудрость
Гераклита - άρμονίη αφανής φανερής κρείττων DK 54: неявленная, тайная гармония лучше
явленной и явной, потому что в явленности-явности бездна соблазнов душе, ищущей
подлинной гармонии - гармонии спасения. Нужно было пройти через все мучения - и внешние и
внутренние - ссыльно-каторжной жизни, когда никаких соблазнов не было и в помине,
когда тяжелый физический труд стоял между Раскольниковым и жизнью, спасением и имел
единственную положительную цель - развенчание полного гордыни ложного Я,
закрывающего путь к спасению, - чтобы это спасение было найдено действительно - и найдено
раньше, в самом себе, чем осознано самим спасенным. О символической роли лестницы и
"лестничного" комплекса, где совершается кризис, радикальная смена, неожиданный
перелом судьбы, где принимаются решения, переступают запретную черту, обновляются
или гибнут», - писал Бахтин (см. Бахтин ММ. Проблемы поэтики Достоевского. М, 1963.
С. 228-230). Символическую роль лестницы в контексте поиска души подчеркивал и
Л. Даунер: «Важным фактором является, однако, то, что моменты напряжения или
колебаний характерным образом происходят на лестницах ... Лестница имеет несколько
символических значений и ассоциаций. Во-первых, это - подъем, усилие и даже борьба.
Борьба, драматизированная в характере Раскольникова, является доминирующей темой
романа ... Восхождение и нисхождение Раскольникова являются своего рода психическим
ритуалом, каждым шагом которого он частично определяет в отношении добра и зла свою
психическую и моральную структуру. Его "путь" - это буквально путь "вверх" и "вниз"».
См. Dauner L. Raskolnikov in Search of a Soul // Modern Fiction Studies 1958. Vol. 4. С 200-201
(ср. также комментарии СВ. Белова к ПН- 1979, 47-48).
54 Это ложные выходы, не приводящие к периферии, блуждание в середине, в кривом
пространстве. Ср. о Раскольникове: «одумался, вспомнив, что идти больше некуда»,
11, в связи со словами Мармеладова: «И вот, зная вперед, что не даст, вы все-таки
отправляетесь в путь и ... - Для чего же ходить? ... - А коли не к кому, коли идти
больше некуда, 16, понимаете ли вы ... что значит, когда уже некуда больше идти\», 18.
Строго говоря, отсутствие выхода есть структурная особенность самой середины и
преодолеть ее в одиночку человек не может. Истинный выход (распрямление) указан
лишь в эпилоге. См.: Willer M. The Ending of «Crime and Punishment // Orbis Literarum.
Vol. 25 (1970).
55 См. Волошин Г. Пространство и время^Достоевского // Slavia. 12. 1933 (со ссылкой
на то, что Достоевский всегда стремился к точному указанию начала). Ср. также:
442
«...Через минуту я посмотрел на часы и заметил, как можно точнее, время. Для чего
мне нужна была точность времени, не знаю, но я в силах был это сделать и вообще в
эту минуту я все хотел замечать» (Исповедь Ставрогина).
56 Ср.: «Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую
толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал
и все хохотал...» («Петербургские сновидения»).
57 См. Приложение 8.
58 Помимо библейских ассоциаций ср. Капернаум у Бальзака или даже просторечн.
городе. капернаум 'кабак', 'веселое заведение' (М.С. Альтман), ср. Белов СВ. Роман
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий. Л., 1979. С. 74-75.
59 Ср. дядю Митяя и дядю Миняя у Гоголя.
60 Ср. Пулъхерию Ивановну у Гоголя. Вообще в ПН достаточно большое количество
указаний на Гоголя, хотя они лучше завуалированы, чем в ранних повестях. См.
Приложение 9.
61 Ср. Лизавету Ивановну в «Пиковой даме». Указывалось уже, что предпочтение
имени Лиза у Достоевского («Слабое сердце», «Записки из подполья», «Идиот», «Бесы»,
«Подросток», «Вечный муж») так или иначе связано с образом пушкинской Лизы и
далее с карамзинской бедной Лизой. См. Бем А. Личные имена у Достоевского // Сб. в
честь на Л. Милетич. София, 1933. С. 425; Альтман М.С. Достоевский. По вехам имен.
Саратов, 1975. С. 176-182 и др.
62 См. об этой фамилии Альтман М.С. Имена и прототипы литературных героев
Достоевского // Учен. зап. Тульского педагогического ин-та. Вып. 8. 1958. 134 и ел.; он же.
Достоевский. По вехам имен...; Белов СВ. Указ. соч. С. 56-57.
63 О нерассудочной разумности в связи с Разумихиным см. Комарович В. Ненаписанная
поэма Достоевского // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. С. 178.
64 Ср. и более внешние мотивировки - как анаграмматические (сморозил, 197; с
омерзением, 353; разом, 199, 267; размозжу, 193), так и менее глубокие фонетические
(тяготение фамилии Разумихин к комплексам раз-, роз-, зам- и под.). К объяснению и
соотношению ума и рассудка ср.: «... вы, батюшка ... человек еще молодой-с, так сказать,
первой молодости, а потому выше всего ум человеческий цените... Игривая острота
ума и отвлеченные доводы рассудка вас соблазняют-с, 264; Человек он умный, но
чтобы умно поступать - одного ума мало», 183 и др.
65 Не менее интересны случаи, когда фамилия отсутствует, но глагол остается: «- Да вы
писать не можете, у вас перо из рук валится, заметил письмоводитель, с
любопытством вглядываясь в Р., 83; Дом - Ноев ковчег, заметил письмоводитель,
прислушивавшийся со своего места... - Они и как подписывались, так едва пером водили, заметил
письмоводитель», 84. Существенно, что в ПН глагол заметить часто относится к той
же сфере, что подслушивать и под.; обычно одни замечают то, чего другие боятся и
скрывают (ср.: «он заметил, что Настасья ... пристально следит за ним, 399; Р.
вздрогнул... так что П. слишком ясно заметил это», 345 и под.). Не случайно Раскольников
все время старается быть неприметнее, ср., напр., 85.
66 Разумеется, подобные примеры встречаются и при других именах. Ср.: Раскольников
...из раскольников, 351; Родион... Родименький... раз Раскольников, 266; резко
...Раскольников, 261 \ Родион ... родиться, 367; Родя ... рыдая, 398 и др. В связи с
интересом Достоевского к раскольничеству см. некоторые его высказывания:
«...А.Н. Майков написал драматическую сцену... Это произведение можно назвать без
всякого колебания chef d'œuvre'oM из всего того, что он написал. Оно называется
"Странник". Три лица, все трое раскольники бегуны. Еще в первый раз в нашей
поэзии берется тема из раскольничьего быта ...» (Из письма к H.A. Любимову, 16 ноября
1866 г., т.е. год появления ПН в печати); «... как бы хорошо могло бы быть, если б вот
этакая "Софья Алексеевна" очутилась эпизодом в целой поэме из того времени, т.е.
поэме раскольничьей» (А.Н. Майкову. 18 февраля 1868 г.). По свидетельству А.Г.
Достоевской, у Достоевского «... много было серьезных произведений по отделам
истории и старообрядчества, которым Ф.М. очень интересовался» (ср. счета
книгопродавца Базунова). См. Гроссман Л.П. Семинарий по Достоевскому. Материалы,
443
библиография и комментарии (М.; Пг., 1923) (Библиотека Достоевского), 9 и 118.
Другие примеры отмечены в более широких контекстах как средство фонетической
организации целых последовательностей: «Одежда Свидригайлова была щегольская,
летняя, легкая, в особенности щеголял бельем. На пальце был...», 361 и многие другие.
Ср. еще одну особенность имен у Достоевского: их некоторую умышленность,
произвольность, эфемерность, расплывчатость их границ. Ср. «Иван Петрович и Петр
Иванович, Родион Романович Раскольников; Амалия Ивановна, она же Людвиговна
и Федоровна; Настасья Никифоровна... - А ведь я Петрова, а не Никифорова», 98
(кстати, Петр - один из наиболее употребительных компонентов имен Достоевского:
Петр Петрович, Порфирий Петрович, Марфа Петровна, Илья Петрович, Петр
Верховенский, Петр Миусов и под., что четко осознавалось и вполне определенным
образом - с отрицательным оттенком - интерпретировалось Достоевским; см.:
Альтман М.С. Указ. соч., 145 и след.). Соню (Софью Семеновну) и Лужин и Разумихин по
разу называют Софьей Ивановной, в связи с чем ср. Софью Ивановну в «Братьях
Карамазовых» и проницательный анализ И.Ф. Анненского мыслимой судьбы Сони во
«Второй книге отражений» (СПб., 1909): «После смерти Раскольникова Соня
досталась Федору Павловичу Карамазову. В родах третьих и побитая, - она, говорят,
умерла. А этот третий сын и есть Алеша Карамазов. Он немногое сумеет объяснить, но у
него осталась Лизаветина книга, ресурс его матери». Ср. еще Лавиза Ивановна и
Луиза Ивановна и др.
Сходные обыгрывания фамилии Штосе можно обнаружить и в лермонтовском
отрывке «У граф. В... был музыкальный вечер». При первом упоминании этой
«миражной» фамилии, внушаемой Лугину некиим голосом, автор окружает ее звуковым
полем, в котором сгущены ш, m и с: «- Право? - Кроме шуток. - Вам это можно сказать
... Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до
вечера - и как вы думаете что? - адрес: вот теперь слышу: в Столярном переулке, у
Кокушкина моста, дом титюлярного советника Штосса, квартира номер 27. - И так
шибко, шибко, - точно торопится... Несносно!...» (Лермонтову шел 27-й год, когда
был написан этот отрывок). При последнем упоминании фамилии Штосе автор
прибегает к каламбурной мотивировке в два приема: «- Не угодно ли я вам промечу
штосе! - сказал старичок (...Старика эта шутка нимало не сконфузила ...)», далее
следует игра, - на первом шаге и: «- Что-с? - проговорил неизвестный, насмешливо
улыбаясь. - Штос? - это? - У Лугина руки опустились: он испугался», - с полной де-
валоризацией фамилии, превращением ее в языковую ошибку (типа Киже) - на
втором шаге. Кстати, в связи с Штосе приходит на память фамилия владельца дома, в
который переехал Ордынов, - Шпис. Ср. у Белого: «И вот темная пара сказала. -
"Абл..." Прошла: - В АблеуховаИ. Пара докончила где-то вдали... - "Абл... ейка
меня кк ... ис-ла... тою ... попробуй ..." И пара икала ...»
Иной случай: «вас обоих ... оба вы меланхолики, оба угрюмые... оба высокомерные и
оба великодушные», 187.
Ср.: «целые семь лет ... семь лет крепился, 177; во все наши семь лет, 219; Семь лет
из деревни не выезжал, 220; все семь лет, каждую неделю (= семь) сам заводил, 222;
семь лет прожил в деревне, 364; после семи-то лет так и набросился, 372; Да ведь и:
... Варенц семь лет с мужем прожила, двух детей бросила, разом отрезала... "я
сознала, что с вами не могу быть счастлива"», 284.
Ср. гоголевский прием в «Носе»: «Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик,
что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил с своими комплиментами,
сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно
было сорок два года» (следовательно, Ковалеву тридцать семь лет, 42 - 5 = 37).
Столько лет было и Гоголю, когда был напечатан «Нос». Ср. у Пушкина: «Дожив без цели,
без трудов I До двадцати шести, годов...» («Евгений Онегин»); «Перед камином
сидел молодой человек лет 26-ти» («На углу маленькой площади») при том, что
Адольфу в романе Б. Констана также 26 лет: «Она десятью годами вас старее. Вам
26 лет» (Зинаида в повести Пушкина также гораздо старше героя). Эти совпадения
тем более значительны, что в повести использована сюжетная схема «Адольфа»
444
(Адольф - Элленора; Валериан - Зинаида), см. Ахматова A.A. «Адольф» Бенжаме-
на Констана в творчестве Пушкина II Анна Ахматова. Сочинения. 1968. Т. 2. С. 240;
ср. там же о перекличках с «Адольфом» в «Евгении Онегине». - О некоей
«константности» возраста 26 лет в литературе (прежде всего русской) см. специальную работу
автора этих строк.
72 Ср. из других случаев: «Приснилось ему его детство... Он лет семи, 47; семь детей
"библейского" Капернаумова, 245; семилетний голосок, 20; там селшлетний
развратен, 255 (о детях); и даже по семи берет, 54 (процентов); седьмую сотню сосчитал, 128
(о деньгах); а сама в семь часов поднялась... Поднялись они часов с семи, 166; часу в
седьмом ... подходил, 395; часов этак в семь, 290; дней шесгъ-семъ назад убивалась»,
397 (о времени) и т.п.
73 Ср. три-четыре как способ обозначения малой приблизительности: 9, 57, 90, 173, 293,
414; ср. в «Подростке»: «Она прежде встречалась мне раза три-четыре в моей
московской жизни»; или: «Всего было ... три комнаты. Во всех четырех окнах были
опущены шторы ... В комнате ... было человек семь» (там же).
74 Тело Сониного отца было перенесено в часовню, так как жильцы жаловались на
исходящий от него смрад. Судя по всему, оно оставалось непогребенным четыре дня.
Ср. в «Шинели»: «да так уж он умер, четвертого дня похоронили»; ср. еще: «Вот,
однажды, в четверг ... Подымаясь к нему в четвертый этаж...» («Подросток»).
75 Раскольников просит у старухи четыре рубля, 11.
76 Ср. неправильный четырехугольник Сониной комнаты, 244 (около Сони четверо
маленьких детей Капернаумова, 386).
77 Этот четвертый этаж (как и четвертая комната) оказывается роковым для Расколь-
никова, подобно тому, как четвертый этаж башни, где живет Ора дома (Ora shpisè),
для героя албанских сказок (чтобы до нее добраться, нужно убить по семь сторожей
на каждом этаже; ср. Кали-югу, четвертый и самый ужасный из мировых веков).
78 Тема четвертого этажа навязчиво повторяется и во многих других произведениях
Достоевского. Ср., напр.: «... он находится не в тридесятом царстве каком-нибудь, а в
городке Петербурге, в столице, в Шестилавочной улице, в четвертом этаже... в
собственной квартире своей; ... добежать ... в свой четвертый этаж; ... направо, на
лестницу, в четвертый этаж» («Двойник»); «Лестница прямо от моей квартиры... до
четвертого, шла винтом; с четвертого же начиналась прямая... Ощупью сойдя в
четвертый этаж, я остановился, и вдруг...; Она жила тогда на Фонтанке... в грязном ... доме
... в четвертом этаже» («Униженные и оскорбленные»); «... упиравшийся в
огромную, почерневшую стену четырехэтажного ... дома» («Хозяйка»); «Под одной
кровлей ... в одном четвертом этаже, жили два сослуживца...» («Слабое сердце») и т.д.
Большое количество аналогий обнаруживается и в петербургских повестях Гоголя.
Ср.: «Он даже не заметил, как вдруг возвысился перед ним четырехэтажный дом, все
четыре ряда окон, светившиеся огнем, глянули на него разом...В темной вышине
четвертого этажа незнакомка постучала в дверь; Ведь вы изволили проводить ... к дому,
что в Литейной, в комнату четвертого этажа; все это он никак не мог согласить с
комнатою в четвертом этаже» («Невский проспект»); «кто ... идет, просто ... в
четвертый или третий этаж ... жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице»
(«Шинель», ср. там же: «ветер... дул на него со всех четырех сторон») и т.д. Ср. в
«Ночи перед Рождеством»: «... громоздятся четырехэтажные стены... отзывались громом
и отдавались с четырех сторон».
79 Ср.: «полный одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и
могучей жизни, 146; Эй, жизнью не брезгайте... Много ее впереди еще будет ...
отдайтесь жизни прямо, не рассуждая», 354 и др. Кстати, фразеология, связанная со словом
жизнь, весьма показательна и в ряде случаев обнаруживает схождения с мифопоэти-
ческими клише, ср.: «Есть жизнь\ Разве я сейчас не жил! Не умерла еще моя жизнь,
148; Живите и много живите», 387 и др. (ср. 40, 315, 325, 349, 355-356, 423 и др.); ср.
также жизнь выживается или такие словоупотребления, как: «в эти пять минут он
проживет столько жизни» («Идиот», о последних минутах приговоренного к казни);
«живите больше]» («Бесы», «Подросток», там же «живая жизнь»; по свидетельству
445
А.Г. Достоевской, это народное пожелание, поразившее его, Достоевский услышал на
каторге); «... и за то тебе жизнь отдать хочется на твою любовь, добрую волюшку...
да жизнь-то моя не моя, а чужая, и волюшка связана!» («Хозяйка») и т.д. Ср. еще: «И
так хочется жить, так просится жить весь ваш состав, и, воспламеняясь самой
горячей, самой слепой надеждой, сердце как будто вызывает будущее, со всей его тайной,
со всей неизвестностью, хотя бы с бурями, с грозами; но только бы с жизнью ...»
(«Неточка Незванова»); «Мне хоть три жизни дайте, - мне и тех будет мало. - Живите
больше» («Подросток»). Ср. у Платонова: «... ты сирота, тебе жизнь досталась
задаром. Не жалей ее, живи главной жизнью» («Происхождение мастера»).
Тема воспоминания (детства) с повторением сходных мотивов выступает в ПН
трижды, играя весьма важную роль в романе, - в письме матери (первая в ПН косвенная
встреча с матерью и через нее - с детством: «Вспомни, милый, как еще в детстве
своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои ... и как мы были счастливы\»,
35), в первом сне («Приснилось ему его детство... гуляет ... со своим отцом...
религиозно и почтительно крестился над могилкой, кланялся ей и целовал ее...», 55) и в
последнем разговоре с матерью («Родя, вот ты теперь такой же, как был маленький,
так же приходил ... еще когда мы с отцом жили ... сколько раз мы, обнявшись с тобой
вот так, как теперь, на могилке его плакали», 398; характерны отождествления -
теперь, как тогда). Эти три сна - как три знака основных ходов романа. Ср. их
симметричность, а также то, что в сцене сна ощущение облегчения вынесено за его пределы
(«и на душе стало легко и мирно» (из работ, посвященных теме сна и снов у
Достоевского, прежде всего нужно выделить то, что писал А.Л. Бем в его
«Психоаналитических этюдах» («Снотворчество», «Развертывание сна», «Драматизация бреда») и,
конечно, Ремизов - «Мартын Задека», «Огонь вещей»)); ср., наконец, то, что
одинаковые воспоминания производят разный эффект. И в других случаях воспоминания
(обычно после забытья) определяют поступки Раскольникова: «вдруг припомнился
ему вчерашний вопрос Мармеладова, - ибо надо, чтобы всякому человеку..., 40; даже
не помня, где он находится ... Он вдруг вспомнил слова Сони», 406 и др. (ср.
последующие действия); сам Достоевский сохранил воспоминание (как одно из самых ранних
и самых светлых) о том, как мать причащала его, двухлетнего, в деревянной церкви и
как голубок пролетел через церковь из одного окна в другое (этот же мотив - в
«Подростке»). Ср. сходную роль детских образов. Характерна соотнесенность
мотивировок, приведших к преступлению, и мотивировок нравственного возрождения. См.
В ее be M. The Three Motives of Raskolnikov: A Reinterpretation of Crime and Punishment II
College English. Vol. 17 (1955). 151-158.
См. Виноградов В.В. К морфологии натурального стиля: Опыт лингвистического
анализа петербургской поэмы «Двойник». С. 224 и след.
Из наиболее примечательных случаев ср.: «... как вдруг беспощадный оркестр ...
грянул польку... Но вдруг все заволновались... вдруг перед нею очутился господин Голяд-
кин; ... вдруг чья-то рука упала на его руку ... вдруг очутился на дворе ... Голядкин
вдруг вспомнил все;... несколько раз, вдруг ... останавливался ...; потом вдруг
срывался ... вдруг... потекла носом кровь» и под.
Ср.: «Вдруг какое-то необыкновенное волнение обнаружилось в зале... как что-то
вдруг сдавило мне сердце... Порой я закрывала глаза и вдруг открывала их ... Вдруг
раздался последний ... крик ... Вдруг увидела ... и вдруг мне показалось ...; но вдруг он
тяжело поднялся с места... то вдруг не захочет обедать возле меня ... то вдруг уходит
к матери ... то вдруг начнет смотреть на меня ... Наконец, вдруг в одно утро ... Какая-
то гордость вдруг родилась во мне ... она вдруг ударилась в слезы ... Вдруг Катя
подошла ко мне» и т.д. («Неточка Незванова»); «Вдруг, например, "ни с того, ни с сего"
припомнилось ему ... но вдруг заплакал навзрыд... то ему вдруг показалось ... он стал
вдруг воображать ... если б вдруг не представилось ему...;... он вдруг как бы убедился
... и вдруг весь вздрогнул ... он вдруг увидел ... и вдруг, стремглав ... пробежал ... ему
неотразимо захотелось вдруг снять крюк, вдруг отворить настежь дверь ... он вдруг
снял крюк...; - Почему же такая вдруг гордость-с? Вельчанинов вдруг ...
расхохотался ... насторожил вдруг уши ... ужасно вдруг опять рассердился ... опять вдруг как бы
446
преобразилось ... вдруг схватился за лоб рукой ... И вдруг он схватил его руку ...
вернулся вдруг опять ... закричал он вдруг ... предложил он вдруг ... Но вдруг он наклонился ...
вдруг залился слезами ...; проговорил он вдруг ... вдруг откуда-то появившееся ... но
какой-то шорох вдруг его разбудил ... спросил вдруг Вельчанинов ... раздавшийся вдруг в
тишине ... что-то вдруг в нем как бы сорвалось ... вдруг обернулся к стене ... и вдруг ...
раздался ... голос ... совсем вдруг так охмелел ... он вдруг вскочил и присел ...; ...
заметила вдруг Надя ... вдруг конфиденциально шепнула... вдруг явившаяся ... и вдруг
вставлял свою ... голову ... сказал Вельчанинов вдруг ... он вдруг задумал... послышался
вдруг громкий смех ...; как-то вдруг смутился ... Он вдруг поднял голову ... остановился
вдруг Вельчанинов ... вдруг струсил ... как бы вдруг решившись ... вдруг затрясся ...
вскричал он вдруг ... вдруг решительно произнес ... и вдруг опомнился ... исказилось
вдруг ... Вдруг необыкновенный удар ...» и т.д. («Вечный муж»); «... и вдруг мои ноги
ослабели ... он вдруг наклонился ... и вдруг вся истина открылась ... я вдруг закрыл лицо
обеими руками ... оказался вдруг маленький ребенок ... Князь вдруг и совершенно
поверил ... Я вдруг вскочил ... вдруг опять припомнились...» («Подросток»).
84 Интересно, что в законченной прозе Пушкин обычно воздерживался от подобных
приемов. В другом месте будет показано, что употребление вдруг у Достоевского
ближе к тому, что наблюдается у Карамзина и Жуковского (даже в стихах), чем у
Пушкина.
85 Единственный пример - шестикратное употребление вдруг в начале главки «И
притом лицо лоснилось» (см. далее). Ср., впрочем, ходы общие у Белого с Гоголем и
Достоевским: «С той поры, как Николенька перестал вдруг бывать, этот ангел тайком
от гостей упорхнул вдруг к спиритам». - Всего в романе более сотни вдруг.
86 Впрочем, отдельные примеры известны (обычно при традиционных способах
использования вдруг), ср.: «Вдруг он вздрогнул; Голова повара вдруг пропала; вдруг
раздался стук в дверь; Вдруг он бросил взгляд; вдруг дверь отворилась; все предметы вокруг
вдруг принизились; Вдруг раздался звонок; ... капризно вдруг вскинул свой взор; ...
вновь строилися у колонн балюстрады, отметился вдруг искристый рой; потребность
поговорить вдруг проснулась; вдруг вскочила, простерла в дверь руки; вдруг
спрашивала задорно; здесь вспыхнут вдруг ... изумруды; посмотрел вдруг за дверь; Вдруг - то
увидел в упор на себя устремленные глазки; Государственный человек из черного
куба кареты вдруг » и т.д.
87 Вдруг часто сопровождается двоеточием, тире или многоточием.
88 Ряд примеров такого рода рассматривается В.В. Виноградовым (Указ. соч., 235-236).
89 Поразительно другое совпадение из этой же области: «И странная тоска теснит уж
грудь мою» (Лермонтов, «1-е Января») при том, что у Достоевского неоднократно
встречаются сочетания этих трех ключевых слов: странный, тоска, теснить.
90 См. Приложение 4.
91 Следует помнить, что лаконичной пушкинской манере соотносятся описания
Достоевского, даваемые всегда in extensor.
92 Ср. там же: «Наконец, сновидения сделались его жизнью и с этого времени вся жизнь
его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне ...»
93 Ср. в ПН: «вся комната была облита лунным светом... медно-красный месяц глядел
прямо в окна» (из сна Раскольникова). Весьма показательны сходные мотивы в сне
Чарткова («Портрет»): «Он видел, уже пробудившись... Свет месяца озарял комнату ...»
Ср. далее: «Тут только заметил он, что не лежит в постели, а стоит на ногах прямо
перед портретом ... он хотел отойти ... Перед ним ширмы: свет месяца наполнял
комнату ... Он вскочил с постели ... он подошел к окну и открыл форточку. Холодный
пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых
стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо:
изредка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожек извозчика... Уже на небе
рождались признаки приближающейся зари... Проснулся он очень поздно ... неприятное
состояние ... голова его неприятно болела. В комнате было тускло: неприятная
мокрота сеялась в воздухе ...» Помимо приведенных выше мотивов из сна Свидригайло-
ва, совпадающих с этим описанием, ср. еще: «... под окном был ветер... Он встал и
447
уселся на краю постели... От окна было, впрочем, холодно и сыро... Холод ли, мрак
ли, сырость ли, ветер ли, завывавший под окном... отворил окно. Ветер хлынул
неистово в его тесную каморку и как бы морозным инеем облепил ему лицо ... Среди
мрака и ночи раздался пушечный выстрел ... Он на той же постели... свеча не зажжена, а
уж в окнах белеет полный день... чувствуя, что весь разбит, кости его болели. На
дворе совершенно густой туман и ничего разглядеть нельзя ... проспал! Он встал ...
мокрые дорожки, мокрая трава, мокрые деревья и кусты...».
94 Можно напомнить слова Коха в ПН: «Эй, Алена Ивановна, старая ведьма). Лизаве-
та Ивановна, краса неописанная! Отворяйте!» Наконец, не лишне подчеркнуть
тождество имен бедной воспитанницы, приживалки графини и бедной родственницы,
приживалки старухи-процентщицы - Лизавета Ивановна, имя с богатой историей в
русской литературе.
95 «Вот окончательный признак подлинно фантастического', оно никогда не является,
так сказать, в обнаженном виде. Его явления никогда не должны вызывать
принудительной веры в мистический смысл жизненных происшествий, а скорее должны
указывать намеками на него. В подлинно фантастическом всегда остается формальная
возможность объяснения из обыкновенной связи явлений, причем, однако, это
объяснение окончательно лишается внутренней вероятности» (Соловьев Вл. Сочинения.
Т. VIII, 411). О фантастическом у Достоевского см. Лапшин И. Эстетика
Достоевского // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. A.C. Долинина. Пг., 1922. 138
и ел. Ср. еще: «Реализм, ограничивающийся кончиком своего носа, опаснее самой
безумной фантастичности, потому что слеп» («Подросток»).
96 Стоит, однако, подчеркнуть, что само слово фантастический встречается у Гоголя
не часто и существенно беднее смыслами, чем у Достоевского. Наиболее
показательны такие примеры, как: «... и бедная история наша неожиданно принимает
фантастическое окончание (ср. включение смысла "неожиданный" в слово
фантастический у Достоевского; наконец, ср. примечание редакции "Современника" к
публикации "Носа", написанное Пушкиным: "Н.В. Гоголь долго не соглашался на
напечатана этой шутки, но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического,
веселого, оригинального..."); ... едва ли не был причиною фантастического
направления впрочем совершенно истинной истории» («Шинель»).
97 Ср. у Гоголя: «... в бедной лачужке на уединенном Васильевском Острову» («Портрет»).
98 О Дельвиге и фантастическом см. в особой статье.
99 Ср. аналогичный прием описания у Гоголя. В отрывке у Лермонтова есть и другие
явные реминисценции из Гоголя (ср. мотив оживающего портрета, фамилию купца
Кифейкин при Кифа Мокиевич у Гоголя (ср. заметку Достоевского под названием
«Кифо-Мокиевщина» в «Дневнике писателя»), имя камердинера Лугина и слуги
Чарткова - Никита и т.п.).
100 Ср. стояние Раскольникова на соседнем В-ском (- Вознесенском) мосту. Другая
параллель - встреча Лугина у Столярного переулка с лихим извозчиком и встреча там
же Раскол ьникова с пьяным на несущейся телеге - «Эй ты, немецкий шляпник!».
К последующим рассуждениям о шляпе (Шляпа эта была высокая, круглая, циммерма-
новская...): «Я так и знал!., я так и думал!... Вот эдакая какая-нибудь глупость... весь
замысел может испортить! Да слишком приметная шляпа... Смешная, потому и
приметная... хотя бы старый блин какой нибудь, а не этот урод... заметят, запомнят...
ан и улика»; ср. в «Вечном муже»: «- Это все эти шляпы!... Единственно одна только
эта проклятая круглая шляпа, с этим мерзким траурным крепом всему причиною!»
101 Ср.: «Прежде его было нанял какой-то барон из немцев» - при том, что дом Расколь-
никова принадлежал немцу Толю, а сам Раскольников указывает в качестве своего
жилья дом немца Шиля (где жил ранее, до ареста, сам Достоевский).
102 Ср. поляков в доме Козеля (ПН) в контексте «польской» темы в «Петербургском
тексте» русской литературы.
103 Ср. в письме от 12 ноября 1829 г.: «У Кокушкина моста, в доме Зверкова» (т. X, 162).
Об этом же доме пишет и A.A. Дельвиг в своих мемуарах (ошибочно называя его
домом Зайцева): «Гоголь жил в верхнем этаже дома Зайцева, тогда самого высокого в
448
Петербурге, близ Кокушкина моста». См. Дельвиг A.A. Мои воспоминания. М, 1912.
Т. 1. 152; а также: Анциферов Н. Москва и Петербург в жизни и творчестве Гоголя //
Гоголь в школе. Сб. ст. М., 1954. 658 и след. Следует напомнить, что первая
квартира Гоголя по приезде в Петербург - «дом Трута у Кокушкина моста» (на месте
теперешнего дома № 74, напротив дома, связываемого с Соней Мармеладовой, № 73).
104 Ср., между прочим, Зверкова из «Записок из подполья».
105 Ср. тему свечи у Гюго: «Mettez lui la bougie sous le menton! Je lui ai mis la mèche
enflammée sous le menton ... Encore la bougiel... Alors elle ... a soufflé la bougie avec un souffle
glacé...» и в «Бесах»: «Петр Степанович провел свечой сверху вниз ... Тут пришла ему
мысль поднести огонь прямо к лицу ... тот быстро нагнул голову и головой же выбил
из рук его свечку».
106 Ср.: «... по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак ...»
(«Портрет»); «Лестница была черной, усеянной огуречными корками и ногой
продавленным капустным листом» («Петербург») и т. п., ср. уход в свою «скорлупу» героя
«Подростка».
107 См. Matlaw R.E. Recurrent Imagery in Dostoevsky // Harvard Slavic Studies. Vol. 3 (1957),
201-224.
108 Ср. в «Петербурге»: насекомые, мухи, таракан, мокрицы, многоножка, тарантул (ср.
этот же образ в «Идиоте» и в «Тружениках моря» Гюго) и многократно мыши (в
перекличке с ПН).
109 Ср.: «- В полицию? Что ей надо?
- Денег не платишь и с фатеры не сходишь. Известно, что надо.
- Э, чорта этого еще не доставало...» {ПН, 27) и т.д.
110 Постоянно появляющийся диван Раскольникова в этом контексте соотносится с
оборванным диваном Чарткова.
111 Ср. на обратном пути: «Вот уже кончилась деревянная мостовая. Он уже поравнялся
с большим каменным домом ...» {ПН, 395).
112 -ой проспект в ПН = Большой проспект.
113 Оставляя в стороне примеры из «Носа», уместно напомнить о некоторых других
словоупотреблениях: «Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос ... а Гофман
держал его за нос двумя пальцами и вертел лезвием ... ножа на самой его
поверхности... "мне не нужен нос!"... "У меня на один нос... на один нос четырнадцать рублей...
Я не хочу носа\ Режь мой нос\ Вот мой нос ..." Гофман отрезал бы ни за что, ни про
что Шиллеру нос...» («Невский проспект»); «... А у этого зачем так под носом черно,
табаком он себя что ли засыпал? ... "Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место
отнести, а под носом, слишком видное место"» («Портрет»); «... совал ему под нос
бумаги, не сказав ...: "вот интересное ... дельце";... начинает он давать такие сильные и
колючие щелчки без разбору по всем носам ... все замерзнувшие ... способности ... к
должностным отправлениям ... особенно сильно стало ... несмотря ...; снял крышку ...
и натащивши в нос табаку,... наконец сказал ...;... освежить примороженный нос свой
... которого не мог вынести...; с несколько выгнутым ... носиком ... нежностями...»
(«Шинель», ср. здесь же в скрытом виде: «... квартальный надует, пообещается и
станет водить (sc. за нос)»); «... и чуть-чуть не расклеил носа; ... чуть не схватила меня
зубами за нос...;... и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать
нос... и там теперь живут только одни носы. И потому-то самому мы не можем
видеть носов своих ... и может насевши размолоть в муку носы наши ...» («Записки
сумасшедшего»; «женщины хватают нас за нос... носы наши ни на что более не
годятся. И несмотря, что нос Ивана Никифоровича был несколько похож на сливу, одна-
кож она схватила его этот нос и водила за собой, как собачку. У судьи губы
находились под самым носом и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу; ... нос его
понюхал свою всегдашнюю табакерку; ... нос его потянул с верхней губы весь табак...; ...
нос его невольно понюхал верхнюю губу ... Такое самоуправство носа ...» и т. п. (ср.
Ноздрев). См., наконец, отрывок из письма к Балабиной (1838); «Cosi a voi vi гарге-
senta forse il mio naso lungo e simile a quello degli ucelli (o, dolce speranza!). Ma lasciamo
in pace i nasi; e questa una materia delicata e tratandosi di questa, si puo facilmente restare
15. B.H. Топоров
449
con un palmo di naso». Примеры такого рода из «Носа» и литературы того времени
см. в статье: Виноградов В.В. Натуралистический гротеск: Сюжет и композиция
повести Гоголя «Нос» // Эволюция русского натурализма, 7 и след.: ср. его же. Этюды
о стиле Гоголя, 89 и след., 150 и след., 223.
114 Ср.: «Корсет носила очень узкий / И русский H как N французский / Произносить
умела в нос» («Евгений Онегин»). Ср. у Гоголя: «Агафья Федосеевна носила ... три
бородавки на носу».
115 Подробнее см. Бем А. Гоголь и Пушкин в творчестве Достоевского // Slavia, 7, 1928,
63 и ел., и особенно его же. «Нос» и «Двойник» // О Достоевском, III (Прага, 1936) и
др. - К «пушкинскому» у Достоевского ср. также Бем А.Л. Отражения «Пиковой
дамы» в творчестве Достоевского // Slavia 8, 1929, 82-100, 297-311; его же. Сумерки
героя (Этюд к работе: Отражения «Пиковой дамы» в творчестве Достоевского) //
Научные Труды Русского народного университета в Праге, т. IV, 1931, 158-172 и др.
116 Ср., наконец: «Проходит Нос -по воле рока / Он, вы представьте, без Шенрока\»
(«Первое свидание». Нос - прис. повер., «посетитель концертов того времени»).
117 «Планомерность и симметрия успокоили нервы сенатора... лишь любовь к
государственной планиметрии облекала его в многогранность ответственного поста». Ср.
планомерность-планиметрия.
118 Ср.: «от уличной мрази его ограничили четыре
перпендикулярные стенки».
119 Нужно заметить, что в «Петербурге» линии проспектов семантически отличны от
линий Васильевского Острова, последние связаны с Островами, с пустотой, мраком,
хаотическим движением.
120 Те же образы описывают и сознание, ощущения: «И ощущения органов разлились,
вдруг расширились, распространились в пространство...; ... расширились и
раскидались в душевных пространствах...; Петербургская улица осенью - проницает»
и т.д.
121 Ср. в параллель: «пульсация жилок на лбу отмечала склероз».
122 Ср. у Гоголя: «Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга».
123 Ср. у Ахматовой: Ты, что там погибать остался /В блеске ш η и л е й, в
отблеске вод (о Ленинграде), или: О, есть ли что на свете мне знакомей, /
Чем шпилей блеск и отблеск этих в о д. С генетической
точки зрения важно начало второй части идиллии Гнедича «Рыбаки», учтенное уже
Пушкиным.
124 Это слово постоянно выступает в романе. Ср. также показательные контексты, как:
«Комнаты осветились уже солнцем... все зеркала засмеялися, потому что зеркало,
глядевшее в зал из гостиной, теперь отразило петрушку ... и зеркало перекинуло
зеркалу отражение; в зеркалах отразился петрушка... убегающий взорами в зеркала,
потому что он видел: первое зеркало отразило ... увидевши в зеркалах марионетку...
поймавши в блистающем зеркале взгляд... и подбежал снова к зеркалу... из зеркала в
гостиную смотрела смерть в сюртуке; и зеркало - лопнуло...»; или же: «разве вот -
зеркала: угловатое отражение, подойдя к зеркальной поверхности ... и - зеркальные
отражения комнат суть подлинно комнаты ... закрыть зеркала...; ум - разбился о
зеркало... Надо вынести зеркала).» и т.п.
125 Ср. анаграмму в духе Достоевского: «... тесненький промежуток из стен».
126 Ср. еще: «... из четвертого номера ...; попал в людской поток в эти пары, в
четверки; рассеянно на них посмотрел: четыре часа» и под.
127 Отрицательные эмоции начинают связываться с пятиэтажными домами: «...
пятиэтажный ряд; ... отовсюду притиснуты пятью этажами многооконной громадины;
стояли песочного цвета дома о пяти этажах; ... точно с пятого этажа он
выскакивал через окошко».
128 Ср.: «Летний сад простирался далече, простор отнимая у Марсова поля; Николай
Аполлонович окинул глазами пространство; ... дозирала пространство за
стеклами; фигурка тут пробежала в пространство; метущийся обитатель пространств; и
дыхание облетает пространство России; и свистом она гуляет в пространствах;
450
Ощутивши огромную встряску в пространстве...; подымались в пространство
свистящими взмахами ... Тянулась в пространство» и под.
129 Пространства прямо или косвенно характеризуются как бесконечные, необъятные,
безмерные, неизмеримые, бездна. Ср.: «бесконечность проспектов ... Есть
бесконечность бегущих проспектов с бесконечностью пересекающихся призраков. Весь
Петербург - бесконечность проспекта, возведенного в энную степень; ... невероятный
простор ... летела безмерность...; позади - в неизмеримости убегали века: впереди -
ледяная рука открывала: неизмеримости. Неизмеримости летели навстречу (ср.:
"Пространства летели навстречу"); ··· распахнется в космическую безмерность;
открытая дверь открывала космическую безмерность. Из двери, из этой
безмерности...; Безмерности (название главы); ... в мировые безмерности, одолевая
пространства...; Рос я, знаете ли, в неизмеримость; ... ледяная рука открывала:
неизмеримости; неизмеримости - полетели навстречу; ... все окна - вырезы в
необъятность;... до свержения в бездну... из бездны мгновенно пришли» и т.д.
130 Эти пространства, конечно, суть новые пространства, слитые с новыми временами,
о которых писал Белый в «Драматической симфонии»: «Это будут новые времена и
новые пространства» (М., 1902, 141). Отсюда - блоковское:
Небо - в зареве лиловом,
Свет лиловый на снегах,
Словно мы - в пространстве новом,
Словно - в новых временах.
(«Милый брат! Завечерело...», 13 января 1906 г.)
Ср. неточное указание в его же письме матери (1 апреля 1910 г.): «Пришли "Весы" с
окончанием "Серебряного голубя"... Там есть такое место: "Будто я в
пространствах новых, будто в новых временах - вспоминает Дарьяльский слова когда-то
любимого им поэта..."» Ср. далее у Ахматовой:
И его поведано словом
Как вы были в пространстве новом,
Как вне времени были вы ...
131 Ср. образ угрозы (= шара): «одна из сих точек, срываясь с орбиты, с
головокружительной быстротой понеслась на него, принимая форму громадного и багрового
шара... а в груди родилось ощущение багрового шара, готового разорваться на части...»
132 Firth R. Postures and Gestures of Respect // Échanges et communications. Mélanges offerts à
Claude Lévi-Strauss. T. I. Paris, 1970. 188-212.
133 Показательны характеристики толпы - нечто аморфное, текучее, скользкое,
клейкое, косное и т.д.
134 Ср.: «на кишащих людом проспектах размножались; и кишмя кишит пригород...;
И тени валили по мосту; ... повалила ватага; оттуда валили» (ср.: «и валила зевота»)
и т.д.
135 Ср. Перемелькала / Жизнь, / Пустой прохожий рой-/ Исчезновением в
небытие родное (Белый. «Больница», 1921).
136 Ср. сходный эпизод из «Уединенного домика на Васильевском», когда во время дикой
скачки герой замечает на номере бляхи извозчика апокалиптическое число 666.
137 Отчасти и у Пушкина, ср.: «...вослед за нею... мелькнула ее воспитанница; Шубы и
плащи мелькали мимо...» («Пиковая дама»); «Мелькают мимо будки, бабы, /
Мальчишки, лавки, фонари...; В ладье с мелькающей толпою...» и т.п.
138 Ср. мельканье при быстрой езде или полете: «...летит вся дорога нивесть куда в
пропадающую даль и что-то страшное заключено в сем быстром мелькании, где не
успевает означиться пропадающий предмет...» («Мертвые души»); «...полетел стремглав
в провал... перед ним мелькали знакомые места...» («Пропавшая грамота»); «...и
огромные тени их мелькали по стенам...» («Ночь перед Рождеством»); ср. «тень от них
мелькает по стенам» («Страшная месть»). Два последних примера в сочетании с
такими, как: «мелькает чья-то длинная тень» (там же), - объясняют ахматовские об-
15*
451
разы: Тень моя на стенах твоих; Тень чего-то мелькнула где-то (ср.
еще: Это гость зазеркальный! Или / То, что вдруг мелкнуло в окне...).
Речь идет здесь не только о периферии на ее «исходном» месте, но и о
проникновении ее в центр.
«Одиночество убивает меня: разучился совсем говорить; слова мои путаются...
Или вдруг забываю, как называется обыденный предмет... А вот - память
расстроилась: одиночество убивает меня. И подчас даже сердишься\.. Мы все ницшеанцы...
для нас, ницшеанцев... масса... превращается в исполнительный аппарат...»
К мотивам призрачности Петербурга у Достоевского («А что, как разлетится этот
туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город...
исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото...» («Подросток») и др.) ср.
в «Петербурге»: «... казалось - опустятся воды и хлынет на них (sc. острова, здания)
в этот миг: глубина, зеленоватая муть». Ср. далее: «столичный наш город...
принадлежит к стране сновидений... и т.д.
В связи с рядом мотивов «Петербурга» уместно сравнение этого романа с рассказом
Зоргенфрея «Санкт-Петербург. Фантастический пролог» (1911). Ср., в частности,
образ дьявола - Варфоломея Венценосного (ср. Варфоломей в «Уединенном домике на
Васильевском», из замыслов Пушкина), который в другом рассказе появляется как
провокатор («Отрывок из адской хроники»). К близким мотивам см. красное домино
в «Петербурге» и в стихах, ср. огневое домино («Маскарад»), явно соотносимое с
красной свиткой (и ее мельканием) в «Сорочинской ярмарке». Связь
«Санкт-Петербурга» с гоголевскими повестями еще более очевидна. В свете исполнения
провиденциальных мотивов «Петербургского текста» в русской литературе показательна
неопубликованная поэма Вагинова о Петербурге «1925 год». Ср. также мандельшта-
мовскую тему умиранья века: В Петербурге мы сойдемся снова / Словно солнце мы
похоронили в нем...
ЕЩЕ РАЗ
ОБ «УМЫШЛЕННОСТИ» ДОСТОЕВСКОГО
Эта особенность творческого метода Достоевского отражается в его
произведениях исключительно многообразно и является основой для
формирования особого криптограмматического уровня структуры
текста. На этом уровне автор решает для себя (и только для себя)
некоторые проблемы, признаваемые им существенными в связи с тем личным
жизненным субстратом, которому суждено пресуществиться в художественный
текст и в его автора. Речь идет о введении в текст неких скрытых
указаний на автобиографические (или некоторые другие, но непременно авто-
биографизируемые) реалии, почему-либо важные для автора (например,
даже в психотерапевтическом отношении) и совершенно не рассчитанные на
восприятие их читателем (при этом следует иметь в виду, что каждый
элемент криптограмматического уровня входит и в состав какого-либо другого
уровня структуры текста, разумеется, хотя бы частично, с иными
функциями). Строго говоря, от читателя ничего не скрывается сознательно.
Подобная авторская интонация обычно отсутствует: просто предполагается,
что читатель истолкует данные элементы, используемые и как
криптограмма, в той наиболее естественной форме, которая предопределяется
замыслом текста как художественного произведения, и, не имея ключа для
дешифровки, даже и не приблизится к сфере возможных биографических
реалий (в этом смысле шифруемое автором не является криптограммой ни для
него самого, знающего решение, ни для читателя, не предполагающего
наличия в тексте криптограммы). Характерный пример - «умышленность»
некоторых имен заведомо третьестепенных персонажей в произведениях
Достоевского. Эти имена достаточно «художественно» рельефны и, так сказать,
вполне «этнографичны», и в этом смысле их присутствие в художественном
тексте уместно и оправдано, но они в то же время выступают для самого
автора как знаки, отсылающие к биографическим реалиям, как
знаки-напоминания1. Но есть и более сложные типы криптограмматической
«умышленности», образующие целостные схемы. Наиболее показательные примеры
относятся к ономастическо-топографической сфере неизменно
соединяемой с категорией оценочно-нравственных характеристик («Странное
свойство: я способен ненавидеть места и предметы, точно как будто
людей»2, - скажет Подросток). Анализируя понятие географического
пространства в русских средневековых текстах, Ю.М. Лотман отметил, что
«движение в географическом пространстве становится перемещением по
вертикальной шкале религиозно-нравственных ценностей»3 (ср. здесь же
противопоставление «земли праведные» - «земли грешные»). Об одном
примере такого рода у Достоевского и будет сказано ниже.
453
Связь образа героя «Двойника» с «голядской» темой, к сожалению, не
учитывается исследователями. Поэтому здесь уместно хотя бы обозначить
абрис проблемы. Сугубая идеологичность фамилии Голядкин,
«разыгрывающей» тему своего, бедного (ср. игру слов и смыслов: Голядкин -
голядка - ветошка4), маленького, незащищенного, открытого обидам, но
прямого, откровенного и благородного5, подчеркивается в контексте
противопоставления фамилии Берендеева как образу чужого (ср. самое
фамилию, «неправославное» имя Олсуфий и имя дочери Берендеева - Клара
Олсуфьевна), богатого, высокомерного, бессердечного, грубого. Стоит
заметить, что Берендеев живет на периферии, далеко от центра, на
дальнем конце дуги Фонтанки, дом-прототип следует, видимо, отождествить с
реальным домом «у самого Измайловского моста», соответствующим
описанию у Достоевского. Этот дом (бывший дом Г.Р. Державина, ныне -
Фонтанка, 118)6 известен, в частности, тем, что в 1846 г. (т.е. как раз тогда,
когда появился «Двойник») в нем разместилась Ρ и м с к о-к а т о л и-
ческая духовная коллегия, что отчасти объясняет навязчивую
идею Голядкина о иезуитах: «Потом пришло ему на память, что
иезуиты поставили даже правилом своим считать все средства
годящимися, лишь бы цель была достигнута. Обнадежив себя немного подобным
историческим пунктом, господин Голядкин сказал сам себе, что, дескать,
что иезуиты? иезуиты все до одного были величайшие дураки, что он сам их
всех заткнет за пояс ... так он, несмотря на всех иезуитов, возьмет - да
прямо и пройдет... прямо в залу, где теперь польку танцуют ... Господин
Голядкин, уж разумеется, был не интригант ... Так уж случилось. К тому же и
иезуиты как-то тут подмешались...»7. Тем самым еще рельефнее, на этот раз
и в терминах пространства (и соответственно - конфессионально-
национальной принадлежности8), выкристаллизовывается
противопоставление Голядкина Берендееву, заставляющее вспомнить известных голядь и
берендеев русских летописей, которых Достоевский мог знать из «Истории»
Карамзина (ср. более позднее использование образа берендеев, Берендеева
царства в «Снегурочке» Островского). Еще интереснее, что оба этих
этнографических названия и соответственно обозначения урочищ
непосредственно связаны с раннемосковской историей: село Кучково, будущая Москва,
находилось между двумя урочищами - Голядь и Берендеево. Эти два
названия, приводимые вместе в известном труде И.М. Снегирева («До
летописного появления Москвы в ХП веке, вероятно, ее населяли разные народцы,
мало нам известные ... Живые урочища вокруг Москвы Голядь и Голядинка,
Берендеево, без сомнения, произошли от Голядов и Берендеев,
между селениями которых возникло Кучково, или Москва»9), могли быть
услышаны Достоевским (и/или оживлены) от отца Михаила Андреевича,
доброго знакомого И.М. Снегирева (кстати, жившего неподалеку от Мариин-
ской больницы, у Троицы, на углу Троицкой ул. и 3-го Троицкого пер.,
несколько лет назад дом был разрушен), с которым могли обсуждаться темы
истории Москвы. «Голядская» компонента раннемосковской истории
вольно или невольно отозвалась в московском субстрате «Петербургской
повести» о Голядкине (о чем см. проницательные наблюдения Г.А. Федорова).
Нельзя полностью исключать того, что глубоко запрятанная «отцовская»
тема (криптограмматический уровень) связывалась Достоевским не только
454
с семейно-московским субстратом, но и с голядским (ср. названия с
корнем Голяд - неподалеку от Достоева, на Пинщине и Волыни, откуда был
родом отец писателя). Тема «голядского» происхождения (в двух ее
аспектах - этническом и социально-имущественном) могла быть оживлена и
воспоминаниями детства, связанными с имением в Даровом (к юго-западу от
Зарайска, около с. Мордвес), где будущий писатель проводил летние месяцы
и где также известна соответствующая топонимия (Голяд-). Эта
«московская» (и еще глубже - балтийская) подоснова была перенесена Достоевским
в «самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре»
и там актуализирована. Многое изменилось, но кульминационный момент
истории Голядкина - его бегство из дома Берендеева вдоль Фонтанки, по
периферийной дуге, тянущейся с юго-запада на северо-восток города -
независимо от автора, - предвосхитил недавно выявленную историческую тему
миграции голяди по обширной дуге, простирающейся в τ о м же
направлении от Волыни и Пинщины до Подмосковья. Эта пространственная
периферия отразилась и в экзистенциально-психологической «периферийности»
гибнущего Голядкина, как бы последнего отпрыска гибнущей голяди
(ср. голядь, голяда, голядка 'бедняк', 'нищий', а также экспрессивные
образования с восстановлением носового элемента, как в Galindia - голендай
'оборванец', голандия 'голь' и т.п.), и в просвечивающем за ним образе
отца - «Голядкина». Отцовская тема у Достоевского в значительной своей
части локализовалась именно на криптограмматическом уровне.
1 Так, если говорить о ключевых персонажах, то инициалы Макара Алексеевича Девуш-
кина (М.А.Д.) отсылают на уровне, конструируемом автором исключительно для
самого себя, но тем не менее допускающем его выявление и реконструкцию для «внешнего»
читателя к буквенному кодированию образа отца писателя - Михаила Андреевича
Достоевского (М.А.Д.; ср., кстати, аннаграмматическое отношение этого М.А.Д. к A.M.D.
из пушкинского стихотворения, обыгранного позже в «Идиоте»). Ср. в тех же «Бедных
людях» В.Д. - и Варенька Доброселова, и - криптограмматически - Варвара
Достоевская, старшая дочь Михаила Андреевича, судьбой которой он был так озабочен во
время своего пребывания в Петербурге в 1837 г. В последние годы (благодаря
исследованиям М.С. Альтмана, Г.А. Федорова и др.) в достаточной степени выявился объем
практики введения Достоевским в свои произведения имен прислуги, так или иначе связанной
с ним биографически. Ср. Герасимыч, слуга Берендеева в «Двойнике», Герасимыч, слуга
A.A. Куманина (наблюдение Г.А. Федорова - см. Достоевский Ф.М. Поли. соб. соч.:
В 30 т. Л., 1972. Т. 1.С. 488; далее - ПСС, т. с, разрядка и курсив в цитатах везде наши. -
В.Т.); Алена Флоровна, няня Вареньки Доброселовой («Бедные люди»), Ульяна Фролов-
на, няня Лизы Тушиной («Бесы»), и Алена Фроловна, няня в доме Достоевских (ср.
Достоевский AM. Воспоминания / Ред. и вступ. статья A.A. Достоевского. Л., 1930). Евста-
фий, слуга Каролины Ивановны («Двойник»), Астафий Иванович, «из отставных
солдат» («Честный вор»), Евстафий Иванович («Бедные люди») и Евстафий, отставной
унтер-офицер, слуга Достоевского; Григорий, слуга («Дядюшкин сон», «Село Степанчико-
во», «Братья Карамазовы»), и Григорий Васильев, слуга Достоевских в Даровом и т.п.
Ср. денщика Достоевского Семена, о котором сообщает Ризенкампф, в связи с имеющей
более сложное объяснение «семеноманией» Достоевского. Некоторые детали ожидают
своего решения. Так, например, имена Зиновия Прокофьевича и Марка Ивановича,
жильцов-солистов, своего рода двойни клоунов, преимущественно связанных с Прохар-
чиным, откликаются в «Братьях Карамазовых» («А было нас всего у матушки двое:
я, Зиновий, и старший брат мой, Маркел» - ПСС, т. 14, с. 260). Зиновий (мирское
имя старца Зосимы) и Маркел - братья: их противопоставленность имеет аналогии и в
455
«Господине Прохарчине»: рассудительный, но гневный Марк Иванович - безрассудный,
но добрый Зиновий Прокофьевич. Уместно напомнить, что Зиновий и Марк совместно
поминаются православной церковью 30 октября.
2 ПСС, т. 13, с. 115.
3 Лотман ЮМ. О проблеме географического пространства в русских средневековых
текстах // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 181. Труды по знаковым системам, И.
Тарту, 1965. С. 210 и след.
4 Ср. «дурашка ты этакой, Г о л я д к а ты этакой, - фамилия твоя такова!..» (ПСС, т. 1,
с. 132); «Ведь, ты - пьян сегодня, голубчик мой, Яков Петрович, подлец ты такой, Го-
лядка ты этакой, - фамилья твоя такова!!» (с. 159); «Но, как ветошку, себя затирать я
не дам ...Я не ветошка; я, сударь мой, не ветошка!» (с. 168); «Может
быть, если б кто захотел ... обратить в ветошку господина Голядкина, то и
обратил бы ... и вышла бы ветошка, а не Голядкин, - так, подлая, грязная бы вышла
ветошка, но ветошка -то эта была не простая, ветошка эта была бы
с амбицией, в е τ о ш к а-то эта была бы с одушевлением и чувствами ... далеко в
грязных складках этой ветошки скрытыми, но все-таки с чувствами» (с. 168-169)
(ср. ранее как бы примеривание к себе «ветошки»: «ведь и утерпеть-то не можешь ты,
чтоб не провраться, как мальчишка какой-нибудь ... тряпка, ветошка гнилая
какая-нибудь» - с. 160).
5 Ср. «- Иду я, Крестьян Иванович, ... прямо, открыто и без окольных путей ... Не
стараюсь унизить тех, которые, может быть, нас с вами почище ... Полуслов не люблю;
мизерных двуличностей не жалую; клеветою и сплетней гнушаюсь» (ПСС, т. 1, с. 117).
6 Правда, в самом «Двойнике» однажды упоминается, что, уйдя от Берендеева, Голядкин
«пустился сам со двора, вышел за ворота, поворотил налево и без оглядки ...
пустился бежать» (ПСС, т. 1, с. 223,427); ср. также указание, что Голядкин «перешел
Аничков мост». Поскольку бежал Голядкин к себе домой в Шестилавочную, то
поворот налево заставляет думать, что дом Берендеева был на правом берегу
Фонтанки (тогда как дом № 118 стоит на левом берегу реки). Тем не менее, именно
такой принцип монтажа характерен для Достоевского и может быть продемонстрирован
на целом ряде примеров. Ср. поворот налево Сони Мармеладовой, выходящей из
дома Раскольникова; этот неожиданный поворот настолько смущает исследователей
топографии романа, что они готовы скорее «переменить» дом Раскольникову, чем
истолковать этот левый поворот; кстати, один из вариантов истолкования состоит в том,
что, расставаясь или прощаясь с топографическим объектом или его знаком
(особенно когда он сакрально и/или душевно отмечен), к нему - прежде чем уйти -
поворачиваются лицом, иногда осеняют себя крестным знамением (ср. прощание матери
Аркадия, посетившей его в пансионе Тушара) и лишь после этого поворачиваются и
отправляются в путь; левое или правое определяется по соотношению с этим отмеченным
моментом. Стоит заметить, что локализация Достоевского типа «у самого ...
моста» в тех случаях, когда они проверяемы, всегда даются со с д в и г о м: в этих
случаях дом никогда не находится в самой близкой позиции к указанному
объекту. Другой пример топографических сдвигов (обычно они минимальны - на
единицу измерения), данных уже в числовом («нумерном», адресном) коде: в 1871-1872 гг.,
когда складывался замысел «Подростка», Достоевский жил в Семеновском полку -
Серпуховская улица, д. 115 (дом Архангельской), откуда он переехал во флигель
дома Мевеса во 2-й роте Измайловского полка. Героя «Подростка» (кстати, его
фамилия Долгорукий, в частности, соотнесена с Долгоруковской ул. в Москве, около
которой находился пансион Драшусова/Сушара —» Тушара/, в котором учился будущий
писатель) Достоевский поселяет на улице, параллельной Серпуховской (на Можайской),
во флигеле дома 17 (квартира 13). Сдвиг по сравнению с реальным домом минимален
(15 —» 17), так как дом 16 находится уже на другой, четной стороне, и
уравновешивается введением номера квартиры 13 (15 —» 13). Следует подчеркнуть, что в
правильной сетке улиц Семеновского полка оба дома (реальный и романный) изотопны.
Изотопия плюс минимальный числовой сдвиг и определяют правила перехода из
реального пространства в романное.
456
7 ПСС, τ 1, с. 132-133. Голядкин, собирающийся заткнуть за пояс всех иезуитов и
развивающий эту идею, пока он стоит в сенях, на черной лестнице квартиры Олсуфья
Ивановича (с. 131), конечно, соотносит хозяев с иезуитами. Они (как и католики вообще) -
тот образ чужого, который - в польско-литовских одеждах - как бы продолжает
независимо от автора генетически связанную с ним тему чужого на фоне образа своего, го-
лядкинского, генетически - голядско-галиндского (об этом см. в другом месте).
8 Неслучайны и другие ассоциации с чужим, приуроченные к дому Берендеева (ср. обед,
«который походил более на какой-то пир вальтасаровский, чем на обед, -
который отзывался чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и
приличия» - с. 128; тему Виллеля, турецкого визиря Марцимириса, прекрасной
маркграфини Луизы и т.п. - с. 131).
9 См. «Москва, Подробное историческое и археологическое описание города» / Изд.
А. Мартынова. Текст сост. И.М. Снегиревым. М., 1865. Т. 1. С. 102; ср. также в
Дмитровском уезде (по старым свидетельствам) - Голяцкие земли (Голяди) и Берендеев
стан.
«СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА»
В ПРИЗМЕ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕКСТА» ДОСТОЕВСКОГО
Как известно, это произведение Достоевского с подзаголовком
«Фантастический рассказ» появилось в апрельском номере «Дневника писателя» за
1877 г. (95-109). Рассказ состоит из пяти небольших глав (I-V) и
заключительной страницы с лишком. Ранний набросок (к первым трем главкам)
датируется первой половиной апреля (приблизительно), второй - концом
апреля. О деталях подготовки рассказа к изданию см. в комментариях к нему
(ПСС, т. 25, с. 396-397). Там же и далее рассматривается жанровый
подзаголовок рассказа и его отличие от формально идентичного подзаголовка к
рассказу «Кроткая»: «Но в "Кроткой" "фантастична" лишь избранная
Достоевским форма повествования ... Другое дело "фантастичность" "Сна
смешного человека", проникающая в самую суть произведения. Это
"фантастичность" во многом того же рода, как и в высоко ценимых Достоевским
"Пиковой даме" Пушкина, "Петербургских повестях" Гоголя, "Русских
ночах" Одоевского, произведениях Э. По и Э. Гофмана. Принципиальность
этого жанрового подзаголовка подтверждается и самим рассказом, и
свидетельством самого автора в письме к Ю.Ф. Абаза от 15 июня 1880 г. в связи
с обращением к теме "фантастического" в "Пиковой даме" - «... верх
искусства фантастического. И Вы верите, что Герман действительно имел видение,
и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, то
есть прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из
природы Германа или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с
другим миром, злых и враждебных человечеству духов. (NB. Спиритизм и
учения его)» (там же, 397). В своей статье об Э. По Достоевский указывает
на «внешнюю» фантастичность оцениваемых им рассказов американского
писателя («но это еще не прямо фантастический род»), давая понять
обоснованность более глубокого понимания феномена «фантастического».
Комментатор «Сна смешного человека» пишет: «Так и в рассказе Достоевского
фантастическое присутствует как невероятное допущение - одно "странное
соображение", вопрос возникает у героя перед сном и там "реализуется".
Сам сон можно назвать собственно фантастическим элементом в рассказе
Достоевского, но он рожден сердцем и рассудком героя, обусловлен
реальной жизнью и многими нитями с ней связан. В сон переносятся земные
реалии - револьвер, соседи, петербургский холод и сырость; космическая
темнота - продолжение апокалиптического пейзажа (петербургский вечер
3 ноября)» (там же, 398-399). В цитированном выше письме к Ю.Ф. Абаза
сам Достоевский отстаивал свое понимание «фантастического» и указывал
необходимые ограничения - «Пусть это фантастическая сказка, но ведь
фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое
458
должно до того соприкасаться с реальным, что Вы
должны почти поверить ему» (разрядка наша. - В.Т.)
«Фантастическое» в его понимании Достоевским - то главное, что
придает «Сну смешного человека» особую значимость: перед нами не только
художественное произведение, но и глубокая философская рефлексия,
существенно подтвердившаяся за последние век с четвертью в результате
экспериментальных исследований, к которым, правда, следовало бы добавить и
соответствующий анализ личности другого «смешного человека», самого
Федора Михайловича, имевшего богатый непосредственный опыт
соприкосновения с реальностью иных миров и дар пророчества. Наконец,
особенно важно и ценно, что Достоевский сверял свое понимание
«фантастического» и чувствование его с опытом других людей того же или близкого типа,
пусть даже превосходящих его личный опыт, как в случае Сведенборга,
книга которого «О небесах, о мире духов и об аде» была известна
Достоевскому и специально привлекала его внимание (см. вариант чернового
автографа текста, который должен был появиться в «Дневнике писателя» за 1877
год, см. ПСС, т. 25, 261-266). К сожалению, реконструкция
духовно-пророческого типа личности Достоевского продолжает оставаться во многом не
решенной и лишь слегка намеченной задачей.
Но читатель предлагаемой статьи может с недоумением спросить, какое
отношение «Сон смешного человека» имеет к «Петербургскому тексту»
Достоевского, тогда как видимая и проверяемая связь между этими двумя
текстами - реактно-эмпирическим и текстом-конструктом - кажется почти
фантомной (во всяком случае, на первый взгляд), мини-мактной и крайне
зыбкой. Тем не менее именно эта связь в центре внимания в этой статье. Но
предварительно необходимо остановиться на краткой и общей
характеристике самого языка рассказа Достоевского (с тем, чтобы позже
конкретно прокомментировать эту общую характеристику), который по
замыслу автора, несомненно, предназначен не только для «разыгрывания»-вопло-
щения замысла, реализации содержания, но и для энергетически-
активного воздействия на восприятие читателя, на его психику. Язык
рассказа действительно агрессивен, императивен, резко артикулирован,
«преувеличен», нарочит во многих своих частях. «Операционалистическая»
установка - одно из ключевых заданий этого языка. Такую установку «Сон
смешного человека» разделяет с рядом других произведений Достоевского -
как в целом (ср., например, некоторые из ранних произведений писателя или
«Записки из подполья» и др.), так и в более или менее существенных по
объему и значению фрагментах.
Нарочитость языка «Сна смешного человека» проявляется в высокой
степени, доходя иногда до гротескности, навязчивости (близкой к
шизофреничное™), до того, что сам Достоевский любил характеризовать как
«умышленность» (впрочем, есть в рассказе и довольно значительный
фрагмент, где язык естествен, плавен, прост до прозрачности и - соответственно
теме - можно сказать, идилличен). В «умышленной» же части текста
степень повторяемости слов одного корня, их сочетаний почти вызывающа,
превосходя не только средний уровень, но и чувство меры даже при самом
широком понимании ее1. Но, по сути дела, автор текста, если это сам «смеш-
459
ной человек» (а это так и есть!), ничего не преувеличивает: именно таков и
есть его язык (рассказ ведется от первого лица, не совпадающего с
автором рассказа - «Ich Erzählung», но в чем-то глубинном и существенном
пересекающегося с тем, что было присуще и самому автору), и в данном случае,
как и во многих других, человек - это прежде всего его язык, его «речевая
установка», и нередко именно язык предопределяет тип человека, а не
наоборот.
В данном рассказе можно видеть удивительный (хотя отнюдь и не
единственный у Достоевского) языковый эксперимент, в котором как раз
крайность, превышение меры адекватнее всего воссоздает образ «смешного
человека» как рассказчика. Разумеется, перед нами человек, находящийся в
состоянии определенной психической сдвинутости, больной человек, но
той болезнью, которая иногда дает больше, чем здоровье, и помогает
понять нечто такое, что упускает средний «здоровый» человек. «Сон
смешного человека» своего рода парадокс совмещения избыточности, далеко
превышающей меру, с одной стороны, и удивительной простоты и лаконизма, с
другой.
Настоящая статья состоит из трех частей: первая-о «космическом
путешествии», рассказанном «смешным человеком» и предшествующем ему
«душевно-физическом» состоянии, вторая-о языке «смешного
человека», какой был приписан ему автором «фантастического рассказа», тре-
т ь я - о присутствии «петербургской» стихии самого Петербурга в этом
рассказе.
В связи с первой частью «Смешного человека» еще следует подчеркнуть
«сверх-парадоксальное» состояние самого «смешного человека». И только в
главке III Достоевский вводит читателя в исходную ситуацию, в которой явь
и сон, реальное и фантастическое предельно переплетены друг с другом:
Я сказал, что заснул незаметно и даже как бы продолжал
рассуждать о тех же материях. Вдруг приснилось мне, что я беру
револьвер и, сидя, наставляю его прямо в сердце - в сердце, а не в голову; я
же положил прежде непременно застрелиться в голову и именно в
правый висок. Наставив в грудь, я подождал секунду или две, и
свечка моя, стол и стена передо мною вдруг задвигались и заколыхались.
Я поскорее выстрелил.
Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют,
но вы никогда не чувствуете боли ... но мне представилось, что с
выстрелом моим всё во мне сотряслось и всё вдруг потухло, и
стало кругом меня ужасно черно. Я как будто ослеп и онемел, и вот я
лежу на чем-то твердом, протянутый навзничь, ничего не вижу и
не могу сделать ни малейшего движения. Кругом ходят и кричат,
басит капитан, визжит хозяйка, - и вдруг опять перерыв, и вот уже
меня несут в закрытом гробе. И я чувствую, как колыхается гроб,
и рассуждаю об этом, и вдруг меня в первый раз поражает идея,
что ведь я умер, совсем умер, знаю это и не сомневаюсь, не вижу
и не движусь, а между тем чувствую и рассуждаю. Но я скоро
мирюсь с этим и, по обыкновению, как во сне, принимаю
действительность без спору.
460
И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно
один. Я не движусь. Всегда, когда я прежде наяву представлял себе,
как меня похоронят в могиле, то собственно с могилой соединял
лишь одно ощущение сырости и холода. Так и теперь я
почувствовал, что мне очень холодно, особенно концам пальцев на ногах, но
больше ничего не почувствовал.
Я лежал и, странно, - ничего не ждал, без спору принимая, что
мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло
времени, - час или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг
на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу
гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту
третья, и так далее, все через минуту2. Глубокое негодование
загорелось вдруг в сердце моем, и вдруг я почувствовал в нем
физическую боль: «Это рана моя, - подумал я, - это выстрел, там
пуля...». А капля всё капала, каждую минуту и прямо на закрытый
мой глаз. И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но
всем существом моим к властителю всего того, что совершалось
со мною:
- Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует
что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и
здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое -
безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда
и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с
тем презрением, какое я буду молча ощущать, хотя бы в
продолжение миллионов лет мученичества!..
Я воззвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое
молчание, и даже еще одна капля упала, но я знал, я беспредельно и
нерушимо знал и верил, что непременно сейчас всё изменится. И вот
вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она
раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то темным и неизвестным
мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел:
была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! ...
Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд
... (с. 109-110).
Так вводится автором «фантастическая» часть рассказа. Переход от
тьмы могилы, из-под земли к полету в небесном пространстве над
землей, удаляясь от нее (но, как оказалось, и приближаясь к ней) был неожидан
и внезапен, полет же - стремителен, а сам «смешной человек» впервые
испытал то о с о б о е состояние духа, которое сродни восхищению, экстазу,
эйфории:
Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. ... Я уверял
себя, что не боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не
боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу
представить: совершалось всё так, как всегда во сне, когда перескакиваешь
через пространство и время и через законы
бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, о
которых грезит сердце.
461
При столь стремительном полете, оказавшись в условиях, на земле
неизвестных, кроме как во сне, «смешной человек», хотя сразу и не понимает
этого, сталкивается с «относительностью» того, что в земной
жизни представляется само собой разумеющимся и безотносительным. Он в
этом своем полете как бы лишается привычных ему опор. И ему
приходится всё-таки спрашивать того, в чьей власти он сейчас находится, чтобы хотя
бы восстановить какие-то ориентиры. Вот он увидел во тьме «одну
звездочку» и спросил «Это Сириус?». И в ответ - «Нет, это та самая звезда,
которую ты видел между облаками, возвращаясь домой», - произнесло
существо, уносящее «смешного человека», а сейчас помогающее ему установить
новую связь и тем самым обрести ориентир. И здесь неизбежно мысль
обращается к тому существу-«носителю», во власти которого сейчас находится
«смешной человек», рассчитывавший на что-то совсем иное и вынужденный
подчиняться ему и вместе с тем строящий о нем свои предположения:
Я знал, что оно (существо. - В.Т.) имело как бы лик
человеческий. Странное дело, я не любил это существо, даже чувствовал
глубокое отвращение. Я ждал совершенного небытия и с тем выстрелил
себе в сердце. И вот я в руках существа, конечно, не человеческого,
но которое есть, существует: «А стало быть, есть и за гробом
жизнь!» - подумал я с странным легкомыслием сна, но сущность
сердца оставалась со мною во всей глубине; «И если надо быть
снова, - подумал я, - и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не
хочу, чтоб меня победили и унизили!» - «Ты знаешь, что я боюсь
тебя, и за то презираешь меня», - сказал я вдруг моему спутнику, не
удержавшись от унизительного вопроса, в котором заключалось
признание, и ощутив, как укол булавки, в сердце моем унижение мое.
Он не ответил на вопрос мой, но я вдруг почувствовал, что меня не
презирают, и надо мной не смеются (здесь и далее разрядка наша. -
В.Т.), и даже не сожалеют меня, и что путь наш имеет цель,
неизвестную и таинственную и касающуюся одного меня.
Понять это уже немало, тем более в условиях нарастания страха -
Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением
сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы проницало меня.
Мы неслись в темных и неведомых пространствах ... Я ждал чего-то
в страшной, измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то
знакомое ив высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел
вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть наше солнце,
породившее нашу землю, и что мы от нашего солнца на
бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом моим,
что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его
и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в
душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась
в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, в первый раз
после моей могилы. - Но если это - солнце, если это совершенно
такое же солнце, как наше, - вскричал я, -то где же земля?
Мысль «смешного человека» работает естественно, и вопросы его
правильно предполагают вероятный ответ. И дело не только в логике («если...
462
то...»), но ив интуиции человека, рожденного на земле, но
порожденного солнцем.
И в ответ на вопрос «мой спутник указал мне на звездочку,
сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней».
И как бы страхуя себя от ошибки, - «неужели возможны такие
повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если
это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша...
совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая и
такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых
неблагодарных даже детях своих, как и наша?.. - вскрикивал я, сотрясаясь от
неудержимой, восторженной любви к той родной прежде земле,
которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел,
промелькнул передо мною. - Увидишь всё, - ответил мой спутник, и
какая-то печаль послышалась в его слове».
И далее своего рода гимн человеку, единственный дом для которого -
земля. Увиденная из космического пространства как едва мерцающая
звездочка по мере быстрого приближения к ней всё более обретала знакомые
черты:
Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания
Европы, и вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности
возгорелось в сердце моем: «Как может быть подобное повторение и
для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я
оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я,
неблагодарный, выстрелом в сердце погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не
переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я,
может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо».
И это одновременно признание в любви к земле вопреки всему, более
того, в любви, не отделимой от мучения, sine qua non невозможной без
мучения, почти мазохистической:
«Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы
истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы
иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения,
чтобы любить. Я хочу, я жажду в сию минуту целовать, обливаясь
слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не
принимаю жизни ни на какой иной!..»
Космическое путешествие кончилось: то мрачное, темное и
холодное пространство, которое преодолел «смешной человек» благодаря
своему спутнику-«носителю» не стало своим. Но без знакомства с ним,
скорее всего, и не была бы пережита, осознана, актуализирована
потенциальная готовность любви к земле, ставшая реальностью для героя рассказа. Но
«смешному человеку» необходимо было - пусть во сне - покинуть свою
землю с ее неуютом, чтобы понять землю как удивительную антро-
п о с φ е ρ у, став свидетелем поразившего его до глубины души видения -
сообщества счастливых людей на счастливой земле, другой земле. И вот
что развернулось перед глазами «смешного человека», после того как его
оставил его «космический» спутник:
463
Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой
земле в ярком свете солнечного, прелестного как рай дня. Я стоял,
кажется, на одном из островов, которые составляют на нашей земле
Греческий архипелаг, или где-нибудь на прибрежье материка,
прилегающего к этому архипелагу. О, всё было точно так же, как у нас, но,
казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и
достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо
плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти
сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши
своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том,
приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы
выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными
цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились
на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми,
трепетными крылышками. И наконец, я увидел и узнал людей счастливой
земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали
меня. Дети солнца, дети своего солнца, - о, как они были прекрасны!
Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке.
Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно
было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза
этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли
разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием,
но лица эти были веселы, в словах и голосах этих людей звучала
детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял
всё, всё! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней
жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по
преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с
тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем
же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали
меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня.
О, они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы уже всё знали, так
мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица
моего (с. 112).
Этот фрагмент из «Сна смешного человека» представляет собой весьма
близкую вариацию соответствующего фрагмента из «Подростка» (1875) и
отражает представления о человеческом рае, бывшем и в известном смысле
имеющем быть, самого Достоевского, что в свою очередь, кажется,
подтверждает и другое предположение и об авторском следе в образе
«смешного человека». Для читателя средних возможностей проникновения в
замысел писателя Достоевский с его идиллической утопией, конечно, мог
показаться тоже смешным, особенно для тогдашних поклонников «Нечаевых» и
«Ткачевых», от которых автор предупредительно хотел оградиться,
настаивая тем не менее на своем историософском взгляде, разумеется, понятом
скорее глубже, чем шире.
Не лишним представляется приведение соответствующего фрагмента и
из «Подростка, рассказа Варсилова Аркадию о своей, тоже
историософской, позиции.
464
Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому
что я никогда не видел таких. В Дрездене, в галерее, есть картина
Клода Лоррена, по каталогу - «Асис и Галатея»; я же называл ее
всегда «Золотым веком», сам не знаю почему. Я уж и прежде ее видел,
а теперь, дня три тому назад, еще раз мимоездом заметил. Эта-то
картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то
быль. Я, впрочем, не знаю, что мне именно снилось: точно так, как и
в картине, - уголок Греческого архипелага, притом и время как бы
перешло за три тысячи лет назад; голубые, ласковые волны,
острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали,
заходящее зовущее солнце - словами не передашь. Тут запомнило свою
колыбель европейское человечество, и мысль о том как бы
наполнила и мою душу родною любовью. Здесь был земной рай
человечества: боги сходили с небес и роднились с людьми... О, тут жили
прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные;
луга и рощи наполнялись их песнями и веселыми криками; великий
избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость.
Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных
детей... Чудный сон, высокое заблуждение человечества! Золотой
век - мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую
люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой
умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не
могут даже и умереть! И все это ощущение я как будто прожил в этом
сне; скалы и море, и косые лучи заходящего солнца - все это я как
будто еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза, буквально
смоченные слезами. Помню, что я был рад. Ощущение счастья, мне еще
неизвестного, прошло сквозь сердце мое, даже до боли; это была
всечеловеческая любовь. Был уже полный вечер; в окно моей
маленькой комнаты, сквозь зелень стоявших на окне цветов, прорывался
пук косых лучей и обливал меня светом. И вот, друг мой, и вот - это
заходящее солнце первого дня европейского человечества, которое
я видел во сне моем, обратилось для меня тотчас, как я проснулся,
наяву, в заходящее солнце последнего дня европейского человечества
(ПСС,т. 13, с. 375).
Сравнивая эти два фрагмента из разных произведений Достоевского,
отделенных друг от друга двумя годами и свидетельствующих о сложении у
писателя той идеи всечеловечества, столь полно отразившейся в
«пушкинской» речи, легко заметить совпадения в них большинства ключевых
слов в соответствующих контекстах с общей топикой, темой, образами и
идеями. Далее следует список подобных соответствий. Первыми их членами
являются примеры из «Сна смешного человека», вторыми - из романа
«Подросток», хотя реальная хронологическая последовательность была
иной. То, что эти соответствия связывают воедино два текста, относящиеся
хронологически к одному по времени сильно ограниченному периоду,
свидетельствует, что высказанные в них Достоевским мысли были для него к
концу жизни весьма актуальны. Приведенные выше фрагменты двух указанных
текстов позволяют с основанием говорить о «тексте Золотого века» в
творческом наследии писателя, частично захватывающем и ряд фрагментов из
465
«пушкинской» речи Достоевского. Предварительно следует отметить, что
наиболее отмеченные в «Подростке» образы заходящего солнца, косых
лучей в его «Сне смешного человека» сведены к минимуму: «Я часто не мог
смотреть на земле нашей на заходящее солнце...».
Густоте перекличек, совпадений, близких друг к другу версий (см.
Приложение) не приходится удивляться (по крайней мере, отчасти), помня о том,
что они реализуют одну тему, взятую в одной и той же тематико-сюжетной
и хронотопической ситуации. Может быть, уместнее было бы удивиться,
почему Достоевский с интервалом, практически близким к
минимальному, обращается к одной и той же теме, одному и тому же сюжету, одной и
той же идее, одним и тем же образам, более того, в значительной части к
одним и тем же словам. - Конечно же, потому что идея обрела
свою особую силу, а произошло это потому, что настало такое время -
время суда и пророчества:
Тогда особенно слышался над Европой как бы звон похоронного
колокола. Я не про войну лишь одну говорю и не про Тюильри; я и
без того знал, что все прейдет, весь лик европейского старого
мира - рано ли, поздно ли; но я, как русский европеец, не мог
допустить того. Да, они только сожгли тогда Тюильри... О, не беспокойся,
я знаю, что это было «логично», и слишком понимаю
неотразимость текущей идеи, но, как носитель высшей русской
культурной мысли, я не мог допустить того, ибо высшая русская
мысль есть всепримирение идей. И кто бы мог понять
тогда такую мысль во всем мире: я скитался один. Не про себя лично я
говорю - я про русскую мысль говорю. Там была брань и логика;
там француз был всего только французом, а немец всего только
немцем, и это с наибольшим напряжением, чем во всю их историю;
стало быть, никогда француз не повредил столько Франции, а немец
своей Германии, как в то именно время! Тогда во всей Европе не
было ни одного европейца! Только я один, между всеми петролейщика-
ми, мог сказать им в глаза, что их Тюильри - ошибка; и только я
один, между всеми консерваторами-отмстителями, мог сказать
отмстителям, что Тюильри - хоть и преступление, но все же логика.
И это потому, мой мальчик, что один я, как русский, был тогда в
Европе единственным европейцем. Я не про себя говорю, - я про всю
русскую мысль говорю. Я скитался и твердо знал, что мне надо молчать
и скитаться. Но все же мне было грустно / (ПСС, т. 13, с. 375-376).
И далее:
... Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще
раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже
способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он
наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное
различие наше от всех, и у нас на этот счет - как нигде. Я во
Франции - француз, с немцем - немец ... и тем самым наиболее русский.
Тем самым я - настоящий русский и наиболее служу для России, ибо
выставляю главную ее мысль. Я - пионер этой мысли. Я тогда эмиг-
466
рировал, но разве я покинул Россию? Нет, я продолжал ей служить.
Пусть бы я и ничего не сделал в Европе, пусть я ехал только
скитаться (да я и знал, что еду только скитаться), но довольно и того, что я
ехал с моею мыслью и с моим сознанием. Я повез туда мою русскую
тоску. О, не одна только тогдашняя кровь меня так испугала, и даже
не Тюильри, а все, что должно последовать. Им еще долго суждено
драться, потому что они - еще слишком немцы и слишком французы
и не кончили свое дело еще в этих ролях. А до тех пор мне жаль
разрушения. Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый
камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим,
как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее
я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж,
сокровища их наук и искусств, вся история их - мне милей, чем Россия.
О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого
Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже,
чем им самим! У них теперь другие мысли и другие чувства, и они
перестали дорожить старыми камнями... Там консерватор всего только
борется за существование; да и петролейщик лезет лишь из-за права
на кусок. Одна Россия живет не для себя, а для мысли, и вот уже
почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для
одной лишь Европы! А им? О, им суждены страшные муки прежде, чем
достигнуть Царствия Божия (там же, 377).
То, что эти вдохновенные слова и захватывающие глубиной, широтой,
далекоидущестью мысли переданы Версилову, человеку одаренному, но
вовсе не безупречному, говорит о многом и, несомненно, предполагает
высокую степень согласия мыслей Версилова и самого его творца
-Достоевского. Не приходится сомневаться, что и рассказ «смешного человека»,
действия и поступки, слова и мысли которого могут быть смешны
обывателю-рутинеру (хотя сам смех и способность вызывать его нередко
оказываются мощной силой, освобождающей от рутины), не что иное, как мысли
самого автора, закамуфлированные в «смешную» форму, но сами по себе
весьма серьезные. Не стоит удивляться этому: тень Достоевского пала и на
Версилова и на «смешного человека», и найденная истина в своей
существенной части - одна на троих. И, может быть, не так просто сказано в
тексте об инженере, у которого просидел «смешной человек» весь вечер.
Ведь и сам Достоевский окончил Инженерное училище и был
произведен в полевые инженер ы-прапорщики, и именно его alter-ego
«смешному человеку» было, кажется, не по пути с «инженером» и его двумя
приятелями в тот вечер, оказавшийся ключевым для него в его поисках истины:
Достоевский щедро раздаривал себя немалому числу своих персонажей.
Чрезвычайно показательным является в «Сне смешного человека»
исключительно густая насыщенность текста словами с корнем зна(ть),
позволяющая считать сам текст этого «фантастического рассказа» глубоко
оригинальным опытом описания процедуры познания, на что, кажется, не
обращалось должного внимания. Более того, познание больше, чем
узнавани е-отождествление и предполагает совсем иную глубину: оно
предполагает - в принципе - открытие-порождение новой идеи, ибо
467
познание и порождение имеют общий корень, и они фактически едины, а не
просто две стороны одной медали (ср. и.-евр. *g en- 'рождать' и *g'en -
'знать'). Познается-рождается, открывается не сама вещь, не само явление,
а их идея (ιδέα < *ueid-: *ueid-) как видение сокровенной тайны,
приводящее к откровению истины. Характерно, что субъектом этого
познания оказывается именно «смешной человек» (пусть даже во сне, в
котором, правда, снимаются многие ограничения, существующие для человека
бодрствующего, над которым стереотипы нередко имеют большую
власть). Примером употребления в этом тексте слов зня-корня равно 80,
иначе говоря, на каждую страницу приходится 5,3 зна-слов.
Здесь можно перечислить их в порядке их последовательности не
только в тексте «Золотого века», но в объеме всего рассказа. Вот этот ряд
(слова с корнем зия-приводятся в форме, представленной в тексте): не знают
истины, знаю истину, знать истину, знаю это, знал, что я смешон,
сознание о моем смешном виде, не знали они, знавший про то, этого не знают,
в этом признаться, себе признаться, признаюсь сам, узнавал ... все больше
(с. 104); узнал истину (с. 105); для чего так - не знаю, знаю этот звук
(с. 106); наверно знаю, знал, что этого не знал (с. 107); сознание о том,
что... угаснет мое сознание; принадлежность лишь одного моего
сознания; сохранять сознание о том, что, знал, что это будет... (с. 108); знаю
и помню, что, узнал истину, знаешь что, знаю это (с. 109); не знаю,
сколько; прошло времени, знай, что; но я знал, я беспредельно и нерушимо знал
и верил, что; я не знаю, была ли она раскрыта; Я знал, что, Ты знаешь,
что... (с. ПО); Я знал, что..., какое-то знакомое... чувство; но я узнал
почему-то; я знал, что... (с. 111); и не знаем иной любви; с любовью, почти
сознательной; и узнал людей, и каким-то сознанием как бы все это знали
(с. 112); Я... их познал; зная столь много; знание их восполнялось; они не
стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, Но
знание их было глубже.., наука... стремится сознать ее (жизнь); они же без
науки знали, как им жить, я не мог понять их знания, И знаете.., я не
ошибусь; но зато я знал, что; радостно зная в сердце своем; но говорить им о
моих познаниях (с. 113); не понимали даже, что это значит; зато было
твердое знание; Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их
значение; я знал, что они понимают... (с. 114) я сам бессознательно,
принужден был сочинить..; и полюбили ложь и познали красоту лжи (с. 115); О, не
знаю, не помню..; Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель; Они
познали скорбь и полюбили скорбь; Пусть мы лживы, злы и несправедливы,
мы знаем это и плачем об этом; и имени, которого мы не знаем; но
примем ее (истину. - В.Т.) уже сознательно. Знание выше чувства, сознание
жизни - выше жизни.., а знание законов счастья - выше счастья (с. 116);
Почему это так - не знаю и не могу объяснить; я видел и знаю, что люди
могут быть прекрасны и счастливы; Знаете, я хотел даже скрыть
вначале..; Но как устроить рай - я не знаю (с. 118); Сознание жизни выше
жизни, знание законов счастья - выше счастья (с. 119).
Высшей формой всякого знания является со-знание, совокупность
знаний, обращенных к Я и это Я освещающих как бы лучом света. На
прекрасной, счастливой земле сознание разлито и в природе и тем более среди
счастливых же людей этой земли. Ласковое изумрудное море тихо плеска-
468
ло о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной
(с. 112). Тем более это относится к людям: Глаза этих счастливых людей
сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то
восполнившимся уже до спокойствия сознанием ... Они не желали ничего и были
спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся
сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже
и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое
жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и
без науки знали, как им жить, и это я понял, но не мог понять их знания
(с. 112-113), их любви, с которой они смотрели на других людей, на деревья,
на то, что окружало людей, их самих, самого языка, на котором они
говорили с природой, -Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. И,
кажется, «смешной человек» сознал, что «сознание жизни выше жизни,
знание законов счастья - выше счастья».
И уже одно только это определяет смешного человека как субъекта
сознания, которому он был обязан и опыту пребывания среди счастливых
людей, и проницательности своего ума, и умению обращать свой взгляд на
самого себя (авторефлексия), и своей открытости. Я смешной человек - этой
фразой открывается рассказ. А вот и главное признание этого «смешного
человека», который прежде ... тосковал очень оттого, что казался
смешным, но преодолел эту тоску, взглянув на себя самого, - С каждым годом
нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о моем смешном виде
во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда. Но не знали они
никто и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех
знавший про то, что я смешон, так это был сам я, и вот это-то было для
меня всего обиднее, что они этого не знают, но тут я сам был виноват; я всегда
был так горд, что ни за что и никогда не хотел никому в этом признаться.
Гордость эта росла во мне с годами, и если б случилось так, что я хоть перед
кем бы то ни было позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне
кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера
(с. 104).
Естественно, что это навязчиво восьмикратно повторяющееся слово
смешной (не считая его и в самом заглавии) и поддержанное там же
двукратным смеялся, смеялись, неоднократно повторяется в рассказе и далее в
соседстве с разными формами глагола смеяться. Откуда эта стеснительность
у «смешного человека»: человек этого типа - исключение (по крайней мере
для многих) из нормы в худшую сторону. Об этом же и говорится во второй
фразе рассказа, после того как рассказчик признается в том, что он
«смешной человек»: «Они меня называют теперь сумасшедшим» (104:
анаграмматический комплекс).
Ср. и далее повторяющийся мотив смеха, смешного: Это было бы
повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как
и прежде... А прежде я тосковал очень оттого, что казался смешным. Не
казался, а был. Я всегда был смешон ... я уже семи лет знал, что я смешон
... чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я смешон... Так
что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и
существовала под конец, чтобы доказывать и объяснять мне по мере
того как я в нее углублялся, что я смешон... С каждым годом нарастало и ук-
469
реплялосъ во мне то же самое сознание о моем смешном виде во всех
отношениях (с. 104), всего менее чем на одной неполной странице слово смешной
употребляется 11 (!) раз, не считая слов смеются, смеялся, смеялись;
характерный для Достоевского прием начального (с места в карьер) прессин-
г а: Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне (с. 112); О, все теперь
смеются мне в глаза... Боже, какой смех они подняли мне в глаза (с. 115);
Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья (с. 116);
Над ними смеялись или побивали их каменьями (с. 117); люблю всех,
которые надо мной смеются, больше всех остальных...; они все только над
этой верой-то моей и смеются; Но вот этого насмешники и не понимают
(с. 118).
«Смешной человек», сама «смешность» образуют отклонение от нормы,
то, что можно назвать странностью-стороннестью, понимаемой как своего
рода маргинальность по отношению к типовому. «Смешной человек»,
несомненно, странен. Странные его взгляды, мысли, даже слова, но странен не
только он. В силу его странности и окружающий его мир странен ему.
Конечно, странность, с одной стороны, ставит некую преграду на пути к
пониманию мира, но вместе с тем, с другой стороны, именно странность
позволяет понять, уразуметь, найти нечто новое и в самой странности мира -
ситуация, когда устами юродивого говорит сама истина. Обоюдная странность
«смешного человека» миру и мира «смешному человеку» приводит к тому,
что странность как некая особая стихия разлита по всему тексту
«фантастического рассказа», ибо «фантастическое» имеет своим домом маргинально-
предельное, а модусом - самое странность, доведенную до крайности.
Несколько примеров: На службу его (капитана. - В.Т.) не принимают, но
странное дело (характерный способ отсылки к соответствующей стихии. -
В.Т.) ... капитан ... не возбудил во мне никакой досады; ... Я помню, что я
ее (девочку. - В.Т.) пожалел; до какой-то даже странной боли (с. 107); мне
вдруг представилось одно странное соображение; Сны, как известно,
чрезвычайно странная вещь (с. 108); странное дело, я не любил это существо;
А, стало быть, есть и за гробом жизнь ! - подумал я с странным
легкомыслием сна (с. НО); ... и вдруг странное чувство какой-то великой, святой
ревности возгорелось в сердце моем (с. 111); но, странное и чудесное дело:
утратив всякую веру в бывшее счастье ... (с. 116).
Именно ему, «смешному», странному человеку открылась истина в силу
того, что у него была потребность искать и найти истину и в силу той его
«особости», которая предопределила успех или, по крайней мере,
способствовала ему. Сам «Сон смешного человека» и есть поиск и
нахождение истины. Уже в начале рассказа, в концовке первого абзаца, возникает
тема истины и сложностей, с ней связанных: Я бы сам смеялся с ними (с
людьми. - В. Т.), - не то что над собой, а их любя, если б мне не было так
грустно, на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я
знаю истину. Ох как тяжело одному знать истину! Но они этого не
поймут. Нет, не поймут (с. 104); И вот, после того уж, я узнал истину.
Истину я узнал в прошлом ноябре, и именно третьего ноября (с. 105); Но
неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину? Ведь
если раз узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она истина и
другой нет и не может быть (с. 109); но зато действительные образы и фор-
470
мы сна моего ... были восполнены до такой гармонии, были до того
обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я,
конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши (с. 115); они
жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением ... Но у
нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину. Но примем ее уже
сознательно (с. 116) и crescendo в последнем абзаце: Я поднял руки и воззвал
к вечной истине ... хочу проповедовать, - что? Истину, ибо я видел ее,
видел своими глазами. Видел всю ее славу!... Правда истинная: Я сбиваюсь, и,
может быть, дальше пойдет еще хуже ... Старая эта истина, но вот что
тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел истину ...
Я видел истину. Но истина шепнула мне, что я лгу (с. 118); Л между тем
ведь это только - старая истина (с. 119).
Но где истина, особенно вечная, с правдой связанная, в мучениях
обретенная, там и жизнь, бытие в их наиболее глубокой и полной явленности.
Ср.: Подобно как в науке, шло и в жизни (с. 104); и другой (истины. - В.Т.)
нет и не может быть, спите вы или живете ... Но эту жизнь, которую вы
так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой ... - о, он
возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь (с. 109); Кто
бы ты ни был, но если ты есть ... то дозволь ему быть и здесь. Если же ты
мстишь мне за неразумное самоубийство мое - безобразием и нелепостью
дальнейшего бытия, то знай ... Я ждал совершенного небытия ... Л стало
быть, есть и за гробом жизнь. И если надо быть снова ... и жить опять по
чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили
(с. 110); ... родная сила света ... отозвалась в моем сердце и воскресила его,
и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь ... я, неблагодарный, выстрелом в
сердце мое погасил мою жизнь (с. 111); ня ней (на земле, не оскверненной
грехопадением. - В.Т.) жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в
каком жили ... и наши согрешившие прародители (с. 112); наука наша ищет
объяснить, что такое жизнь; они же и без науки знали, как им жить ... Я
лишь целовал при них ту землю, на которой они жили (с. 113); Они почти
не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь ... тогда
наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение
соприкосновения с Целым вселенной ... и всю жизнь свою они проводили лишь
в том, что любовались друг другом (с. 114); От ощущения полноты
жизни мне захватывало дух (с. 115); сознание жизни - выше жизни; Каждый ...
изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других, и в том жизнь
свою полагал (с. 116); Явились религии с культом небытия и
саморазрушения (с. 117); О, теперь жизни и жизни! ... Да, жизнь, и - проповедь ... и, уж
конечно, на всю жизнь! ... знаю, что люди могут быть прекрасны и
счастливы, не потеряв способности жить на земле ... и живой образ ее
(истины. - В.Т.) наполнил душу мою навеки; живой образ того, что я видел,
будет всегда со мной; А наша-то жизнь не сон? (с. 118, восемь слов с корнем
жи/т/-жив-а на странице!); «Сознание жизни выше жизни ...» (с. 119). Всего
в тексте рассказа - 33 слова с эти корнем (т.е. в среднем на каждую
страницу приходится по два слова этого корня).
Выделим многочисленные (более трех десятков) примеры
употребления в «Сне смешного человека» слова сердце, что, несомненно, предпола-
471
гает особую роль сердца и в этом тексте, не говоря уж о всем творчестве
Достоевского.
Сердце как средоточие чувств: Мне вдруг
представилось, что если б потух везде газ, то стало бы отраднее, а с газом
грустнее сердцу, потому что он все это освещает (с. 105); Сны, кажется,
стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце (с. 108); Вдруг приснилось
мне, что я беру револьвер и, сидя, наставляю его прямо в сердце - в сердце,
в голову и именно в правый висок (с. 109); Глубокое негодование загорелось
вдруг в сердце моем ... совершалось все так, как всегда во сне ... и
останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце; ... Я ждал
совершенного небытия и с тем выстрелил себе в сердце; ... подумал я с странным
легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей
глубине (с. ПО); ... ощутив, как укол булавки, в сердце моем унижение мое;
Страх нарастал в моем сердце (с. 111);
И вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности
возгорелось в сердце моем... Я люблю... лишь ту землю.., на которой остались
брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое
погасил мою жизнь (с. 111); ... радостно зная в сердце своем (с. 113); Они ждали
этого мгновения с радостью... как бы уже имея его в предчувствиях
сердца своего, о которых они сообщали друг другу ... Они любили слагать
песни ... это были самые простые песни, но они выливались из сердца и
проницали сердца ... Оно (значение слов. - В.Т.) оставалось как бы недоступно
моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более
и более..; я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в
мечтах ума моего (с. 114); ...я чувствовал, что при них и мое сердце
становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца ... во сне моем я
видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же
сердцем в бреду... я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно
только одно уцелело в до крови раненном сердце моем ... Пусть сон мой
породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту
ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один
выдумать или пригрезитъ сердцем? Неужели же мелкое сердце мое и
капризный ничтожный ум мой могли повыситься до такого откровения
правды (с. 115); они до того захотели быть невинными и счастливыми
вновь, опять, что пали перед желанием сердца своего... истязаем себя и
наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердный Судья,
который будет судить нас (с. 116); Тогда скорбь вошла в мою душу с такою
силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру... (с. 117).
Слово сердце всего три десятка раз, как и слово любовь. - В связи с сердцем
ср. также слова, так или иначе связанные с функцией сердца - ощущение,
радость, любовь, восторг, тоска/тосковать, ревность, скорбь, стыд,
мучение, страх, ужас. Сердце, теснейшим образом связанное с жизнью души,
предчувствует, предсказывает, сообщает человеку то, что находится в
сфере иррационального, тайны, тайновидения и тайноведения. Оно вне логики
«дневного» мира. И в этом отношении сердцу и всей области интуитивного
противостоят мыслительные операции, связанные с деятельностью
мышления-мысли, ума, разума, размышления, рассуждения, рассудка, расчета,
разрешения вопросов, соображения и т.п. В «Сне смешного человека» функции
472
сердца дополняются до целого человеческих возможностей в оценке себя и
внеположенного мира набором «логических» операций от элементарных до
самых сложных, связанных с действием интеллектуальных начал. См. также
работу пишущего эти строки «О сердце в ранних произведениях
Достоевского» в этой книге.
Ср.: я, например, случалось, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не
то чтоб от задумчивости: об чем мне было думать, я совсем перестал
тогда думать: мне было все равно. И добро бы я разрешил вопросы; о, ни
одного не разрешил, а сколько их было? Но мне стало все равно, и
вопросы все удалились ... я подумал, что уж не может быть более мрачного
времени (с. 105); Вдруг я заметил в одном из этих пятен звездочку и стал
пристально глядеть на нее ... эта звездочка дала мне мысль: я положил в эту
ночь убить себя. И, таким образом, в эти два месяца я каждую ночь,
возвращаясь домой, думал, что застрелюсь ... И вот теперь эта звездочка
дала мне мысль, и я положил, что это будет непременно уже в эту ночь.
А почему звездочка дала мысль - не знаю ... Но я не пошел за ней
(девочкой. - В.Т.), и, напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее ... Я сел,
зажег свечку и стал думать (с. 106); Сижу и даже не думаю, а так, какие-
то мысли бродят ... Почему же я не помог девочке? А из одной явившейся
тогда идеи ... возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его
... Рассердился вследствие того вывода, что если я уже решил ... то,
стало быть, мне все на свете должно было стать теперь ... все равно ...
Рассуждение текло за рассуждением (с. 107); Помню, что, сидя и рассуждая,
я обертывал все эти новые вопросы ... совсем даже в другую сторону и
выдумывал совсем уж новое. Например, мне вдруг представилось одно
странное соображение ... Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не
голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой
рассудок во сне (с. 108); Почему разум мой совершенно допускает все это?
... и вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер ... знаю это и
не сомневаюсь ..., а между тем чувствую и рассуждаю (с. 109);... но если ты
есть и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь
совершается, то дозволь ему быть и здесь ...и замирая от восхищения при мысли,
что я не боюсь ... совершалось все так, как всегда во сне, когда
перескакиваешь ... через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на
точках, о которых грезит сердце; И если надо быть снова, - подумал я ... то
не хочу, чтоб меня победили и унизили! (с. НО); Лица их сияли разумом
(с. 112); ... я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными
звездами, не мыслию только, а каким-то живым путем (с. 113); я
предчувствовал всех их (людей прекрасной земли. - В. Т.) и славу их в снах моего
сердца и в мечтах ума моего (с. ИЗ; соположение-соединение порождений
сердца и ума); Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум
мой могли возвыситься до такого откровения правды (с. 115 см.
предыдущий пример); «премудрые» старались поскорее истребить всех
«непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее ... пали
перед желанием сердца своего, как дети, обоготворили это желание,
настроили храмов и стали молиться своей же идее (с. 116); и эти люди
провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль
473
(с. 117); я видел истину, - не то что изобрел умом, а видел, видел, и живой
образ ее наполнил душу мою навеки (с. 118).
Высшее проявление жизни прекрасных людей на счастливой земле, как
это увидено «смешным человеком» в его сне, обнаруживает себя в гармонии
и чувстве меры, совпадающими с истиной, ср.: но зато действительные
образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в
самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до
того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что,
проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши (с. 115);
Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и
говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда
(с. 116-117)...
Жизнь есть дар Божий независимо от того, счастливо или
несчастливо она прожита: тут многое зависит от обстоятельств и от самого человека.
И хотя соотношение положительного и отрицательного в каждом
отдельном случае бывает очень разным, сами понятия положительного и
отрицательного весьма относительны, и человек во всем широком
пространстве своих соприкосновений с миром от ощущений до мыслительных
процессов, сознания и самосознания сам определяет, что положительно и
что отрицательно в его жизни. При преобладании отрицательного
нейтральное или даже «слабо-отрицательное» иной раз может быть воспринято
или осознано как некий проблеск положительного, хотя бы как некая
надежда на него. «Смешной человек», как и большая часть людей, знал и то, и
другое - грусть, тоску, мучения, страдания, боль, но и удовлетворение
мыслительными процессами, жалость, радость, ощущение счастья, душевного
подъема вплоть до эйфории восторга. Средоточием их было сердце.
Раскроем круг эмоций, ощущений, впечатлений, пережитых «смешным
человеком»:
Радость, восторг: сладкое, зовущее чувство зазвучало ...
восторгом с душе моей ... вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой,
восторженной любви к той родной прежней земле (с. 111); β словах и голосах этих
людей звучала детская радость ... Эти люди радостно смеясь, теснились
ко мне и ласкали меня (с. 112); ... радостно зная в сердце своем, какою
силой любви они мне ответят; Они радовались являвшимся у них детям как
новым участникам в их блаженстве (с. 113); ... а была лишь умножившаяся
как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося,
созерцательного; зато было твердое знание, что когда восполнится их
земная радость до пределов природы земной, тогда ... Они ждали этого
момента с радостию, но не торопясь ... я все это давно уже прежде
предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывались мне на нашей земле
(с. 114); Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем
я рассказываю? (с. 115); восторг, неизмеримый восторг поднимал все
существо мое (с. 118).
Грусть, скорбь, печаль: Я бы сам смеялся с ними, - не то что
над собой, а их любя, если б мне не было так грустно, на них глядя.
Грустно потому, что они не знают истины (с. 104); ... а с газом грустнее сердцу,
потому что он все освещает (с. 105); Увидишь все - ответил мой спутник,
и какая-то печаль послышалась в его слове (с. 111); как могли они ... не
474
оскорбить такого, как я (с. ИЗ); Скорби, слез я при этом не видал ...
(с. 114).
Τ о с к а: Л прежде я тосковал очень оттого, что казался смешным
(с. 104)... в душе моей нарастала страшная тоска (с. 105); Я ждал чего-то
в страшной, измучившей мое сердце тоске (с. 111); ... я все это давно уже
прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывались мне еще
на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой
скорби ... Зачем не могу прощать их, а в любви моей к ним тоска ... они
понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул; Скорби, слез при этом
я не видел (с. 114); Тогда скорбь вошла в мою душу (с. 117).
Боль: ... но ведь боль-то я, например, чувствовал. Ударь меня кто, и
я бы почувствовал боль ... случись что-нибудь очень жалкое, то появилась
бы жалость ... Я и почувствовал жалость давеча ... мне не все равно ... я ее
очень пожалел; до какой-то странной боли и совсем невероятной в моем
положении (с. 107); тут вы почувствуете боль и всегда от боли
проснетесь. Так и во сне моем: боли я не почувствовал (с. 109); и вдруг я
почувствовал в нем (сердце. - В.Т.) физическую боль (с. 110).
Муки, мучения, страдания:... если я человек, и еще не нуль ...
то живу, а следовательно могу страдать ... (с. 107); ... никогда и никакому
мучению ... не сравниться с тем презрением, которое я буду ощущать, хотя
в продолжение миллионов лет мученичества! (с. 110); Что-то немо, но с
мучением сообщалось мне ... от спутника и как бы проницало меня ... неужели
она такая же земля, как и наша... совершенно такая же, несчастная, бедная,
но дорогая и вечно любимая и такую же мучительную любовь рождающая к
себе в самых неблагодарных даже детях, своих, как и наша? Но никогда,
никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней,
я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение на
этой новой земле? (с. 111); На нашей земле мы истинно можем любить
только с мучением и только через мучение ... я хочу мучения, чтоб любить
(с. 112); я любил их, я страдал за них потом ... Они не страдали за меня,
когда я в слезах, порою целовал их ноги ... как могли они, все время, не
оскорбить такого, как я (с. 113); Они стали мучить животных, и животные
удалились от них ... Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали
мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением ... Пусть мы
лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за
это сами и истязаем себя (с. 116); Наконец эти люди устали в
бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили,
что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели
страдание в песнях своих ... Увы, я всегда любил горе и скорбь ... Я не мог, не
в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук,
жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли (с. 117).
Страх, ужас, стыд: Она была отчего-то в ужасе и кричала
отчаянно (с. 106); и пока не обратился в нуль, то живу ... могу страдать,
сердиться и ощущать стыд (с. 107); ... и какое мне тогда дело и до стыда, и
до всего на свете? (с. 108); сознание ... не могло иметь ни малейшего
влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда; Ощущал ли
бы я за тот поступок стыд или нет? (с. 108); Страх нарастал в моем
сердце (с. 111); и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я
475
их обожаю (с. 113); Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого
ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне (с. 115); но
разве сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая
случилась со мной? (с. 115); Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель
(с. 116); и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об
утрате ими стыда! (с. 117).
Все равно (как знак безразличия и/или незаинтересованности
субъектом действия):... это было постигшее меня одно убеждение в том, что на
свете везде все равно ... Я вдруг почувствовал, что мне все равно было бы,
существовал ли бы мир или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и
чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было ... но потом
я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то
казалось ... об чем мне было думать, я совсем перестал тогда думать: мне было
все равно. И добро бы я разрешил вопросы; о, ни одного не разрешил, а
сколько их было? Но мне стало все равно, и вопросы все уладились ... Они
говорили об чем-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было
все равно, я это видел, и они горячились только так. Я им вдруг и высказал
это: «Господа, ведь вам говорю, все равно». Они не обиделись, а все надо
мной засмеялись. Это оттого, что я сказал без всякого упрека, и просто
потому, что мне было все равно. Они и увидели, что мне все равно, и им
стало весело (с. 105, девятикратно на одной странице!); но мне было до того все
равно, что захотелось улучить минуту, когда будет не так все равно, для
чего так - не знаю ... но сколько бы они не кричали ... и сколько бы их там
не было, - мне всегда все равно; Отчего же я вдруг почувствовал, что мне
не все равно и я жалею девочку! (с. 107) (в опровержение предыдущих все
равно!); ... если б я жил прежде на луне или на Марсе и сделал бы там какой-
нибудь самый срамной и бесчестный поступок, какой только можно себе
представить, и был там за него поруган и обесчещен ... было бы мне все
равно или нет? (с. 108); Но неужели не все равно, сон или нет, если сон этот
возвестил мне Истину? (с. 109).
Это все равно встречается и в других текстах Достоевского (например,
еще в «Записках из подполья» (1864): Я уверен, что вам это кажется... А
впрочем, уверяю вас, что мне все равно, если и кажется ... (ПСС. Т. 5.
С. 100). И это дает основание думать о своего рода «категориальной»
функции этого способа выражения состояния субъекта, выступающей в первом
лице. С этим клише в своей основе связан и прием умолчания, т.е.
сокрытия своей позиции в отличие от определенного мне все равно. Ср. в «Сне
смешного человека»: «знай, что никогда и никакому мучению ... не
сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать ... Я воззвал и
смолк. Целую минуту продолжалось глубокое молчание» (с. 110); «Что-то
немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчаливого спутника»
(с. 111). Но, конечно, шедевром «текста молчания» в творчестве
Достоевского является «Кроткая», впрочем, размер этого текста существенно
больше, чем объем «Сна смешного человека»...
1 Эта особенность рассказа «Сон смешного человека» в свое время проницательно
была подмечена Бахтиным, по мнению которого «поражает предельный универсализм
этого произведения и одновременно его предельная же сжатость, изумительный худо-
476
жественно-философский, лаконизм», см. Бахтин ММ. Проблемы поэтики
Достоевского. Изд. 2. М., 1963. С. 199. Ср. там же: «По своей тематике "Сон смешного
человека" - почти полная энциклопедия ведущих тем Достоевского» (с. 201).
2 Тайна загробного существования, сам переход к нему, ситуация пред стояния телу
усопшего человека, дорогого или близкого ему, глубоко занимала Достоевского, что
подтверждается неоднократными свидетельствами - и автобиографическими и
литературными. Из первых ср. хотя бы занесенные в записную книжку 16 апреля 1864 г.
слова в связи с кончиной накануне его первой жены Марии Дмитриевны: «... Маша
лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Возлюбить человека как самого себя, по
заповеди Христовой, невозможно. Закон личности на Земле связывает. Я препятствует...
Итак, человек стремится на земле к идеалу, противоположному его натуре. Когда
человек не исполнил - закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в
жертву свое Я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал
это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание,
которое уравновешивается райским наслаждением исполнения завета, то есть жертвой.
Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна...». Из вторых,
литературных свидетельств достаточно упомянуть «Кроткую»:
«...Вот пока она здесь - еще все хорошо: подхожу и смотрю поминутно; а
унесут завтра и как же я останусь один? Она теперь в зале на столе, составили
два ломберных, а гроб будет завтра, белый, белый гроденапль, а впрочем, не
про то... Я все хожу и хочу себе уяснить это. Вот уже шесть часов, как я хочу
уяснить и все не соберу в точку мыслей. Дело в том, что я все хожу, хожу... Это
вот как было. Я просто расскажу по порядку. (Порядок!). Господа, я далеко не
литератор, и вы это видите, да и пусть, а расскажу, как сам понимаю!» (в
начале рассказа).
Но и в конце его:
«... Я только помню, что, когда я в ворота вошел, она была еще теплая.
Главное, они все глядят на меня. Сначала кричали, а тут вдруг замолчали и все
передо мной расступаются и... она лежит с образом. Я помню, как во мраке, что
я подошел молча и долго глядел ... Помню только того мещанина: он все
кричал мне, что "с горстку крови изо рта вышло, с горстку, горстку!", и указывал
мне на кровь тут же на камне. Я, кажется, тронул кровь пальцем ... а он мне все:
"С горстку, с горстку!".
- Да что такое "с горстку?" - завопил я, говорят, изо всей силы, поднял
руки и бросился на него...
О, дико, дико! Недоразумение! Неправдоподобие! Невозможность!
... Я хожу, я все хожу. Знаю, знаю, не подсказывайте: вам смешно, что я
жалуюсь на случай и на пять минут? Но ведь тут очевидность. Рассудите одно: она
даже записки оставила, что вот, дескать, "не вините никого в моей смерти", как
все оставляют ...
Опоздал!!!
Какая она тоненькая в гробу, как заострился носик! Ресницы лежат
стрелками. И ведь как упала - ничего не размозжила, не сломала! Только одна эта
"горстка крови". Десертная ложка то есть. Внутреннее сотрясение. Странная
мысль: если бы можно было не хоронить? Потому что если ее унесут, то... о нет,
унести почти невозможно! О, я ведь знаю, что ее должны унести, я не безумный
и не брежу вовсе, напротив, никогда еще так ум не сиял, - но как же так опять
никого в доме, опять две комнаты, и опять я один с закладами. Бред, бред, вот
где бред! Измучил я ее - вот что!
Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша
жизнь, ваше государство, ваша вера? Пусть судит меня ваш судья ... и я скажу,
что я не признаю ничего ... Зачем мне теперь ваши законы? Я отделяюсь. О,
мне все равно!
477
Слепая, слепая! Мертвая, не слышит. Не знаешь ты, каким бы раем я
оградил тебя. Рай был у меня в душе, я бы насадил его кругом тебя! Ну, ты бы
меня не любила, - и пусть, ну что же? Все и было бы так, все бы и оставалось так.
Рассказывала бы только мне как другу, - вот бы и радовались, и смеялись
радостно, глядя друг другу в глаза. Так бы и жили. И если б и другого полюбила, -
ну и пусть, пусть! Ты бы шла с ним и смеялась, а я бы смотрел с другой
стороны улицы... О, пусть все, только пусть бы она открыла хоть раз глаза! На одно
мгновение, только на одно! Взглянула бы на меня, вот как давеча, когда стояла
передо мной и давала клятву, что будет верной женой! О, в одном бы взгляде
все поняла!
Косность! О, природа! Люди на земле одни - вот беда! "Есть ли в поле
жив человек?" - кричит русский богатырь. Кричу и я, и никто не
откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и - посмотрите на
него, разве оно не мертвец? Все мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди,
а кругом их молчание - вот земля! "Люди, любите друг друга" - кто это
сказал? Чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. Два часа
ночи. Ботиночки ее стоят у кровати, точно ждут ее... Нет, серьезно, когда ее
завтра унесут, что ж я буду?» (ПСС. Т. 24 С. 6, 33-35).
Но тайна загробного существования, один из допустимых, экспериментально хотя
бы, вариантов ее, увидена писателем совсем в ином ракурсе в «записках одного лица», в
рассказе «Бобок», вышедшего в еженедельнике «Гражданин» (№ 6) 5 февраля 1873 г.
Этот гротескный текст, насквозь пронизанный цинизмом, а в лучшем (ли?) случае
пошлостью, не может вынести сам автор:
«Я е т, э m о г о я не могу допустить, н е т, в о и с -
тину нет! Бобок меня не смущает (вот он, бобок-то, и оказался!)
Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат
дряблых и гниющих трупов и - даже не щадя последних мгновений сознания!
Им даны, подарены эти мгновения и... А главное, главное, в таком месте!
Нет, этого я не могу допустит ь...
Побываю в других разрядах, послушаю везде. То-то и есть что надо
послушать везде, а не с одного лишь краю, чтобы составить понятие. Авось
наткнусь и на утешительное.
А к тем непременно вернусь. Обещали свои биографии и разные
анекдотцы. Тьфу! Но пойду, непременно пойду; дело совести! ...»
ПРИЛОЖЕНИЕ
К соответствиям к вариантам текста «Золотого века» в версиях «Подростка» и «Сна
смешного человека» (1877) ср.:
Список указанных соответствий-перекличек (речь идет об однокоренных
элементах) в тексте «Золотого века» Достоевского, представленном в «Сне смешного
человека» (С) и в «Подростке» (П) и следующих в основном в порядке очередности этих
ключевых слов, мотивов и тем (исключения случаются при повторах примеров с общим
ключевым словом), уместно начать со слова сон и соответствующих мотивов и тем,
поскольку сон в «Сне смешного человека», по сути дела, вбирает в себя все остальное:
С о н (в заглавии С, ПСС. Т. 25. С. 104): Вдали спал на дрожках извозчик (с. 106);
Сны, как известно, чрезвычайно странные вещи ... Сны, кажется, стремит не
рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал
иногда мой рассудок во сне (с. 108); Я иногда его (брата. - В.Т.) вижу во сне ... а между
тем я ведь вполне, во все продолжения сна, знаю и помню, что брат мой помер и
схоронен; Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят
меня тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно, сон или нет, если сон
этот возвестил мне Истину? ... знаешь, что она есть истина и другой нет и не
может быть, спите вы или живете. Ну и пусть сон, и пусть ... а сон мой, сон мой; Я
сказал, что заснул незаметно. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер ... тут вы по-
478
чувствуете боль и всегда почти от боли проснетесь (с. 109); совершалось все так, как
всегда во сне ... подумал я с странным легкомыслием сна (с. ПО); ну, пусть это был
только сон... По вечерам, отходя ко сну, они любили... Я... предчувствовал... их в снах
моего сердца... (с. 113); ... О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во
сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я
видел или прочувствовал лишь одно ощущение ...а подробности уже сам сочинил,
проснувшись; О да, конечно, я был побежден (с. 109; тринадцатикратно на одной
странице!); совершалось все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через
пространство и время ... Л, стало быть, есть и за гробом жизнь! - подумал я с странным
легкомыслием сна (с. 110); ну, и пусть это был только сон (с. 112) ... уверяют меня, что и
во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я
видел или прочувствовал; О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением
того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненном сердце моем: но зато
действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в
самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии; и до того были
истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова
наши; Пусть это сон, но все это не могло не быть ... все это, быть может, было вовсе
не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это
не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое; сон пролетел
через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого (с. 115, 12 раз); и я
почувствовал, что умру, и тут... ну, вот тут я и проснулся (с. 117); никогда еще не засыпал я,
например, так в моих креслах; После сна моего потерял слова; «Сон, дескать, видел,
бред, галлюцинацию». Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся! Сон? что
такое сон? А наша-то жизнь не сон? (с. 118) (всего 61 раз на 15 с небольшим страницах,
т.е. в среднем по четыре словоупотребления слова на страницу).
Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон; Эта-то картина мне и
приснилась ... Я, впрочем, не знаю, что мне именно снилось; чудный сон, высокое
заблуждение человечества! ... И все это ощущение я как будто прожил в этом сне... все это
я как будто видел, когда проснулся и раскрыл глаза; это заходящее солнце ... которое
я видел во сне моем, обратилось для меня тотчас же, как я проснулся, наяву, в
заходящее солнце последнего дня европейского человечества (Т. 13. С. 375; 9
словоупотреблений на одной странице, т.е. в два раза больше, чем приходится на страницу в С).
Ρ а й: Я вдруг совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в
ярком свете солнечного, прелестного как рай дня; Это была земля, не оскверненная
грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по
преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только
разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем (с. 112); Но как
устроить рай, - я не знаю (с. 112); Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем
когда она была раем (с. 117; кроме того, понятие рая имплицитно содержится в
описании счастливой земли и прекрасных людей).
Здесь был земной рай человечества ... есть картина Клода Лоррена, по каталогу -
«Асис и Галатея»; я же называл ее всегда «Золотым веком»; Здесь был земной рай
человечества; «Золотой век» -мечта самая невероятная из всех (П. 375).
Архипелаг (Греческий) как образ рая, Золотого века:
Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей
земле Греческий архипелаг, или где-нибудь на прибрежье материка, прилегающего
к этому архипелагу (С. 112).
Я, впрочем, не знаю, что мне именно снилось; точно так, как и в картине, -
уголок Греческого Архипелага, цветущее прибрежье (П. 375).
Море, волны, берег, прибрежье (см. выше), острова, скалы:
Ласковое изумрудное море тихо плескалось о берега (seil, волны); стоял, кажется, на
одном из островов; где-нибудь на прибрежье материка; приветствовали меня тихим,
ласковым своим шумом; Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали
меня (С. 112).
голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье (П. 375).
479
Рощи, деревья, цветы: Высокие, прекрасные деревья стояли во всей
роскоши своего цвета ... Мурава горела яркими ароматными цветами (С. 112); Они
указывали мне на деревья свои; Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам ... они
питались ... плодами своих деревьев, медом лесов своих (С. 113); Они славили природу,
землю, море, леса (С. 114); луга и рощи наполнялись их песнями (П.375); сквозь зелень
стоявших на окне цветов (П. 375).
Солнце, заходящее солнце, заход: Я увидел вдруг наше солнце. Я
знал, что это не могло быть наше солнце ... и что мы от нашего солнца на
бесконечном расстоянии, но я узнал ... что это совершенно такое же солнце ... Но если это -
солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше ... то где же земля? (С. 111);
Дети солнца, дети своего солнца, - о, как они были прекрасны! (С. 112); ... я часто не
мог смотреть на земле нашей на заходящее солнце (С. 114).
... волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце - словами не передашь;
И вот, друг мой, и вот - это заходящее солнце... косые лучи заходящего солнца;
Солнце обливало их (людей. - В.Т.) теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей ...
Чудный сон, высокое заблуждение человечества; это была всечеловеческая любовь ...
это заходящее солнце первого дня европейского человечества ... и вот - это
заходящее солнце первого дня... я проснулся, наяву, в заходящем солнце последнего дня
европейского человечества (П. 375).
Прекрасные люди и дети, человечество: Я наконец, я
увидел и узнал людей счастливой земли этой; Дети солнца, дети своего солнца, - о, как
они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в
человеке. Разве лишь в детях наших ... Глаза этих счастливых людей сверкали ясным
блеском ... в словах и голосах этих людей звучала детская радость; на ней жили люди не
согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества,
и наши согрешившие прародители; Но ощущение любви этих невинных и прекрасных
людей осталось во мне навеки (С. 112); У них была любовь и рождались дети, но
никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает
почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником
почти всех грехов нашего человечества (С. 113); Их дети были детьми всех, потому что
все составляли одну семью (С. 114).
Тут запомнило свою колыбель европейское человечество ... Здесь был земной рай
человечества: боги сходили с небес и роднились с людьми. О, тут жили прекрасные
люди; великий избыток непочатых сил уходил в любовь ... радуясь на своих
прекрасных детей; Чудный сон, высокое заблуждение человечества ... это была
всечеловеческая любовь... это заходящее солнце первого дня европейского человечества ...
заходящее солнце последнего дня европейского человечества! (П. 375).
Счастье, радость: Ощущение счастья, мне еще неизвестного, прошло
сквозь сердце мое, даже до боли (П. 375).
И наконец я увидел и узнал людей счастливой земли этой... О, как они были
прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке ... Глаза этих
счастливых людей сверкали ясным блеском... в словах и голосах этих людей звучала
детская радость! ... эта была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили
люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего
человечества, и наши согрешившие прародители ... Эти люди, радостно смеясь, теснились ко
мне... (С. 112); О, эти люди не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня... Я ...
и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что
я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня ... радостно
зная в сердце своем, какой силой любви они мне ответят... У них была любовь и
рождались дети ... Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их
блаженстве (С. 113); Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну
семью ... Скорби, слез при этом я не видел, а была лишь умножившаяся как бы до
восторга любовь ...у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с
Целым вселенной ... зато было твердое знание, что когда восполнится их земная
радость до пределов природы земной, тогда наступит для них... еще большее
расширено
ние соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого момента срадостию ... они
любили составлять согласные и стройные хоры (С. 114). Ср. четкий акцент на
противопоставление единения-соединения и разъединения-обособления, первого - на
счастливой земле, второго - когда наступил упадок и порча, ср.: Подумать можно было, что
они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное
единение между ними не прерывалось смертию ...у них было какое-то насущное, живое и
беспрерывное единение с Целым вселенной ... зато было твердое знание, что когда
восполнится их земная радость ... тогда наступит для них, и для живущих, и для
умерших еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого
момента с радостию (С. 114); Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне
ощущение целого (С. 115); Зато стали появляться люди, которые начали придумывать:
как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя
больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе
как бы в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие
твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения
заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество (С. 117). Но и
идея разъединения-обособления, противоположная идее соединения, находит себе
выражение в тексте, ср.: они (люди. - В. Т.) удивились и ужаснулись, и стали расходиться,
разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга... Началась борьба за
разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое (С. 116).
Наконец, помимо этих «значащих» слов как наиболее важных, но отчасти и
теряющих отчасти свое значение в силу того, что они принадлежат двум разным, но все-таки
весьма близким филиациям одного текста-источника, нужно отметить, конечно, и
значительную часть других совпадающих слов и словечек, которые не являются
основанием для того, чтобы быть в данном контексте отмеченными в силу своей
«случайности» именно в этих двух текстах: к самому же тексту «Золотого века» они решительно
не относятся.
16. В.Н. Топоров
ИЗ РАЗДЕЛА VIII:
«ПОСЛЕ КОНЦА» -СВИДЕТЕЛИ
СТИХИ ИВАНА ИГНАТОВА.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЮ
Лишь близкие люди знали, что Дмитрий Евгеньевич Максимов,
исследователь русской литературы начала века, писал стихи. Сами эти стихи были
известны еще меньше. В последние годы жизни Д.Е. Максимова этот круг
несколько пополнился, поскольку стихи разных лет были собраны и
систематизированы, и автор знакомил с ними друзей, некоторых коллег,
учеников, но и в этом случае пределы узкого круга не были преступлены.
Авторская воля, выраженная в предисловных замечаниях, дает
нравственное право и делает весьма желательным открыто и достаточно широко
сказать несколько слов об этих стихах, представить - хотя бы в самом
общем виде и скорее мозаично, нежели последовательно, - их читателю в
надежде на скорую публикацию этого сборника. «Два дела» поэта, о которых
говорил перед смертью в своей речи-завещании Блок в том самом 1921 г.,
когда несколько месяцев спустя шестнадцатилетний юноша, будущий
исследователь Блока, провожал его в последний путь на Смоленское кладбище
(через 23 года, однако, он будет провожать прах Блока уже со Смоленского
кладбища, см. Метопа), а две с небольшим недели спустя присутствовал на
заседании Вольфилы, посвященном памяти поэта, сделаны им полностью.
«Наступает очередь для третьего дела поэта: принятые в душу и
приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир». Это предстоит сделать уже
не самому поэту, и, значит, особенно важно помнить о тех сложностях,
которые сопряжены с этим «третьим делом». Во всяком случае кое-что
нуждается в объяснении, предуготовляющем читателя к знакомству с новыми
стихами.
Впрочем, этим был озабочен и сам Составитель. «В этот переплет, -
пишет он во вступительной заметке к сборнику, - входит основная часть
уцелевших стихотворений моего товарища и бывшего сослуживца Ивана
Игнатова. Первые из них относятся к середине 20-х годов, последние -
к 80-м. Многие отделены от соседних месяцами и даже годами. Я пытался
систематизировать стихотворения Игнатова, которые он хранил у себя в
беспорядке, не датировал и почти никому не давал. Собранные в эту тетрадь
стихотворения я разделил на несколько групп-периодов, а внутри каждой
группы, поскольку это было возможно, расположил, соблюдая
относительную хронологию. Последний сборный отдел («Приложение») нуждается в
особом пояснении. Читая мне стихотворения, которые я отнес впоследствии
к этому отделу, Игнатов говорит: «Это не в счет». В самом деле, эти стихи
выпадают из строя лирических опытов автора. Вероятно, сам Игнатов не
482
стал бы их печатать. Есть и такие ранние (например «Повесть»), с
которыми он в зрелые годы уже не мог ужиться, даже как с прошлым. И все-таки
хочется, чтобы и они не были потеряны, не затерялись бы в волнах, как
бутылка, брошенная с корабля» (сборник стихов состоит из четырех разделов:
I. Стихи военного времени и позднейшие. П. Семидесятые и восьмидесятые
годы. III. Ранние стихи. Вторая половина 20-х годов и начало 30-х. IV.
Приложение. Разные. Боковые. Шуточные).
Отношения Составителя и Автора, освященные традицией и -
ближайшим образом - хорошо знакомой историей Издателя и Ивана
Петровича Белкина, тем не менее отличны от нее. Составитель готов кое в чем
нарушить предполагаемую им волю Автора. Да и немудрено. О себе он знает,
что он порассудительнее и пообъективнее Автора. Кроме того, он знает
некоторые его слабости и, между прочим, какую-то неокончательность его
прижизненных решений, известную неопределенность намерений в
ситуации последнего выбора - последнего слова о своих стихах. Вот и посудите
сами. В «Опыте предисловия» Автор, просидевший всю жизнь в каких-то
там углах, много переживший и передумавший, а теперь собравшийся
сказать вдруг что-то самое главное о своих поэтических занятиях, слишком
горячится и торопится, пожалуй, излишне полемичен и монологичен, он -
«сам по себе», и об этом именно ему и нужно сказать, не без эффектности,
прежде всего неведомому ему читателю, которому (Автор боится этого)
его стихи могут и не понадобиться:
«Как известно, гоголевский губернатор любил вышивать по тюлю. Я не
губернатор, не ассенизатор» не литератор. Я не имею власти и желания
распекать квартальных, свистеть прохожим и произносить речи о
социалистическом реализме. Но у меня есть право вышивать на досуге по тюлю.
Можете считать, если хотите, что это и есть мои стихи. Я имею на них право.
Я вышиваю их у себя в комнате под скрип радиол, чириканье голубей,
у окна, свисающего на двор с пятого этажа.
Мои стихи не пригодятся ни губернаторам, ни квартальным, ни Добчин-
скому, ни Ивану Кирилловичу, который очень потолстел и играет на
скрипке, ни академикам, ни плотникам, ни кесарям, ни галилеянам, ни моей жене,
ни жене моего брата, никому, никому ... Поэтому посвящаю их марсианам,
австралийским кенгуру и моему коту, который уже целый час сидит у
лампы, скрестив руки, и неподвижно глядит на меня
снисходительно-брезгливыми глазами».
Это было «Написано давно». С тех пор Автор стал умудреннее и
доверчивее к читателю. Поэтому и пришлось ему возвращаться к той же теме, но
уже по-иному в P.S. («Написано недавно»):
«Дополняя приведенное выше предисловие, позволяю себе впасть в
противоречие с ним. Признаюсь честно: в этом предисловии шевелится
полуправда. Мне все-таки хочется, чтобы эти стихи прочитали не только коты и
звездные обитатели, но и соседи по жизни. Думая на эту тему, решаюсь
напомнить об одном трюизме. Конечно, лирические стихи, если они сродни
настоящей лирике, пишут из души и о душе тех, кто их пишет. Но, честное
слово, сюжеты и ситуации в стихах нельзя выводить из биографии их авторов.
Пожалуйста, не судите по этим строчкам о неизвестной вам жизни
писавшего их. Пожалуйста».
16*
483
В этих предисловных частях три идеи, или образа, особенно
существенны, поскольку при всем их очевидном различии они отсылают к единому
центру, в котором они укоренены.
Почему речь заходит о бутылке, брошенной с корабля в море, и
почему так страшно, что стихи, с которыми Автор «не мог бы ужиться, даже
как с прошлым», затеряются в волнах? - Потому, что даже в этих во всех
других отношениях «плохих» стихах есть одно неоспоримое
преимущество - они свидетели жизни души поэта и, значит, где-то и когда-то могут
найти своего читателя - именно как собеседника души (... как знать?
душа моя I Окажется с душой его в сношенъи...). Полтораста лет назад этот
образ бутылки-хранительницы «сокровенного» возник в письме
Баратынского к Киреевскому и через 80 лет после этого был повторен
(кстати, в связи со стихами Баратынского, но, видимо, независимо от него)
Манд ел ынтамом.
Почему поэтическое «вышивание по тюлю», занятие, как известно,
необязательное, непрестижное и сугубо личное, должно служить оправданием
Автору? - Потому именно, что оно «необязательно», непрестижно и сугубо
лично, потому что оно неофициально, не по заказу и не ради славы или
какого-либо иного «внешнего» вознаграждения и, главное, потому что оно для
души, ради души, о душе.
Почему до того «гордый» и самодостаточный Автор возалкал
собеседника и смиренно («Пожалуйста» как последнее слово) просит читателя не
судить по его стихам о неизвестной им жизни, хотя сам хорошо знает, что
подлинный читатель не может не интересоваться этой
жизнью и - более того - грош была бы ему цена, если бы он ею не
интересовался? - Потому, что в понимании Автора биографии у поэта нет - она
принадлежность Иванова, Петрова, Сидорова. У поэта же есть жизнь души, и
собеседник души будет безнадежно упущен, если читатель не распознает по
стихам перипетии этой души, смешав их с «биографическими» деталями.
Центром всех этих идей-образов оказывается душа, и стихи Игнатова не
поэзия чувства и «сердечного воображения», а поэзия души - ее
нечеловеческих страданий, мужества и долга, правды и трезвости. И с этим связана
еще одна особенность этих стихов, в связи с которой Игнатову пришлось
объясниться в «Письме Анне Андреевне Ахматовой на тот свет» («...
страшно думать, что Вас нет на свете. Но знаю твердо: Вы непререкаемо
присутствуете в нашей еще продолжающейся жизни...»), помеченном - «Из Вашего
города 1966». Формально этот текст не входит в собрание стихов, но по
существу он от них неотделим как авторский автокомментарий, объяснение
и себя и своих стихов, и поэтому его присоединение к сборнику при его
публикации, по меньшей мере, весьма желательно. Главное в этом
«Письме» - вокруг одной фразы, сказанной Ахматовой:
«Помните, в Вашей небольшой, какой-то безбытной комнате на
Петроградской Стороне я читал Вам в первый и в последний раз свои стихи (Вы
сидели, как обычно, за Вашим маленьким, еле существующим письменным
столиком). Помните ли, как горячо Вы похвалили их, вложив свою оценку в
привычную для Вас форму афоризма? "Властно и самобытно", - сказали Вы
тогда о моих стихах. И после паузы, где-то посредине, между этим
приговором и заключительным энергичным поздравлением, прозвучала прямая и
484
откровенная фраза, уточнявшая эту оценку и, видимо, не изменившая ее
сути: "А знаете, - неприятные стихи!" Помните эту фразу? ...
Почти со всем этим я молчаливо согласился, но все же уходил с
сознанием, что сказал лишь часть того, что нужно было и что было мне ясно.
Впрочем, многое из этого, очень многое Вы сами знали.
Да, Вы знали и знаете, Анна Андреевна, что писание стихов никогда не
превращалось для меня в главное дело жизни, способное ее оправдать.
История этого писания (громкое выражение!) есть нечто, почти равносильное
истории его торможения, в котором экзекутором был я, а подсказчиком и
распорядителем - так называемая жизнь. И тем не менее это писание,
поскольку оно осуществлялось, не было для меня случайным занятием,
забавой или упражнением. Оно с малыми или большими остановками и одним
очень большим перерывом проходило через всю мою жизнь, и я не мог от
него отказаться, хотя и не имел возможности печататься (не делал даже
попыток).
Поэтому Ваш отзыв был мне важен. Он совпадал как-то с теми давними
напутствиями-благословениями, которые я получил в свое время от людей
значимых в деле поэзии, например, от Вагинова и Заболоцкого. Ваша
оценка подтверждала и мою личную - иногда колеблющуюся - нескромную
уверенность в органичности моих лирических попыток ...
Что же касается самой сути Вашей характеристики моих разрозненных
писаний, то мне, - как и многим другим, застигнутым критикой, - ответить
нечего: не знаю, не умею посмотреть на себя извне. Импульс, полученный
когда-то от Вагинова, признаю существенным для себя и память Вагинова
чту, хотя отпечатки его влияния, думается, давно стерлись (сам Вагинов
почему-то отрицал зависимость моих тогдашних стихов от его лирики).
«Наиболее острая часть Вашей оценки не та, о которой я сказал (или не
сказал), а другая: "неприятные стихи". На этой фразе я и хочу
сосредоточить наш разговор. Фраза эта, помнится, была произнесена после того, как
я прочел Вам два из последних написанных тогда стихотворений
"Возвращение блудного сына" и "Он уходил со всех сторон". Ваше определение
относилось прежде всего именно к ним, но, кажется, Вы могли бы применить эти
слова и ко многому, возникшему в более позднее время. Этот отзыв не
застал меня врасплох. В каком-то смысле я принимаю его и, конечно, совсем,
совсем не смущен им и не обижен ...
Когда бы в моей воле и возможностях был выбор, я предпочел бы для
себя и для других поэзию, которая подчиняется духу гармонии и жизнеутвер-
ждения. Искусство хочет жизни. Оно призвано, задумано возвышать и
облегчать и осуществляет этот замысел даже в том случае, если ведет нас по
тяжелым, каменистым дорогам. Утверждение гармонии, акт духовного
преодоления ("катарсис") есть проявление той же борьбы с мраком и мороком
жизни, как и наступление на них с поэтическим железом в руках.
Слава Богу, поэзия Ахматовой оставалась гармонической даже и в то
время, когда она раскрывала нам страшные вещи ("С трещоткой
прокаженного" и пр.). А мне, Анна Андреевна, эта золотая мера гармонии и жесткой
правды недоступна. Недоступен мне и дивный пастернаковский пафос
любования жизненной стихией, в котором - перед лицом исторической
совести - видится какое-то невинное, почти святое закрывание глаз. И неприем-
485
лема для меня (да и для Вас тоже - для Вашей сути!) изощренная
эстетическая игра в рифмованные пустоты, приправленная бездуховной,
нигилистической иронией, которой неведомо, что игра может быть божественной или
превращаться в трагический, предостерегающий танец смертей, а пустоты -
заполняться печалью и болью.
Я рассказал бы, если бы у меня хватило голоса, только о такой жизни,
своей и общей, какой я вижу ее - в ее болезни, угловатости, в ее нераз-
решенности, в ее ущемлении, различая лишь на самом глубоком дне ее
притаившиеся обещания, невнятный шопот ее надежд и осколки
полупризрачного уюта.
Это - моя дорога и моя правда, не перечеркнутая Вашей мерой, которую
я любил больше, чем свою.
Я не выдумывал этой пропорции мрака и света. Она сама возникла из
своего состава (гоголевское слово!), столкнувшегося с жизнью. В этой
обреченности зрения, в его колеблющемся постоянстве - мое единственное
оправдание, других нет».
Эта оценка своей собственной поэзии представляется и верной и
глубокой. И, поскольку она не отменяет ахматовского приговора, можно еще раз
повторить, соглашаясь, по сути дела, с обоими, - «неприятные стихи». Такое
определение стихов, строго говоря, не предполагает ни их оценки, ни даже
соответствующих эмоций, с ними связываемых. Главное в нем -
диагностическое указание позиции читателя в отношении к этим стихам. Такое
определение как бы актуализирует исходный смысл слова и включает его в контекст,
чреватый абсурдом. «Не должное быть принятым», «не располагающее к
приятию» (*пе & *pri-jç-tbnb) в силу заранее предполагающегося условия -
поэт: читатель - «должно быть принято» и «принято» с повышением,
положительно усвоено (*- & *pri-jç-tb), став «приятным». Эта оксюморность
с лежащим в ее основе логическим противоречием в первую очередь и
озадачивает читателя, вызывает у него, хотя бы вначале, чувство настороженности
и невольного, почти инстинктивного отчуждения или даже сопротивления.
«Неприятные стихи» воспринимаются как холодно-жесткие, как бы
«металлические» (ср. выше о «поэтическом железе»). Они не только не сулят
читателю привычной ему дозы гармонии, но, подобно порыву ветра, срывают
защитный покров, лишают уюта, оставляют неприкаянными, что еще, может
быть, хуже, с ясным сознанием безнадежности этого состояния, не дающим
забвения и покоя (Уюта - нет. Покоя - нет, по словам другого поэта), -
лицом к лицу с страдающей душой, помочь которой нет возможности.
И здесь снова возникает ключевая тема души. Будь это душа
ожесточившаяся, готовая забыть себя, способная к самоубийственному шагу, она бы
могла самообольщаться крайностью своего положения, когда итти больше
некуда, или императивом последнего боя (Есть наслаждение в бою...),
борьбы безумной, бездумной, во что бы то ни стало. Но у той души, о которой -
стихи, нет ни этого самообольщения, ни иных утешений. Ей знакомо и
вечное молчание пугающих espaces infinis, и та, казалось бы, безнадежная
ситуация, когда Над вами светила молчат в вышине, / Под вами могилы -
молчат и оне, и даже значительно худшее - потому что между горними
светилами и дольними могилами, на самой земле распоряжается дух насилия над
душой, именно с нею ведущий свой главный, последний и решительный - на
486
уничтожение ее - бой. В этом мире чудовищно возрастающая
бесчеловечность может быть уравновешена лишь головокружительно, почти до
абсурда, вознесенным голосом человечности (Камни, дайте нам хлеба\ - с
отсылкой к вывернутой наизнанку ситуации и «максимализирующим» сдвигом по
отношению к хрестоматийному И кто-то камень положил в его
протянутую руку - вместо просимого хлеба), который безжалостно отвергается в
своих правах:
... Серые сны мне снятся,
Черный гость меня выгнал из дома,
Родину не найти.
И давно уже с того света
Не получаем вестей.
Добрые люди, молитесь,
Молитесь, чтобы мы тихо,
Чтобы мы тихо уснули,
И явился бы голубь,
Старый, усталый,
И крылом деревянным
Показал дорогу.
На родину за горой.
Вместо ответа
Но те сказали: «Нет,
Свое отбредил бред -
Нас поведет во след
Дорогой лжи и бед
Не голубь бледный,
А ворон медный».
Можно рискнуть высказать предположение еще об одной причине той
жесткости, с которой стихи говорят о душе и о беспомощности ее в
претерпеваемых ею страданиях. Автор помещает душу в афелий универсума, как
говорил один старый философ по другому поводу, в ту точку, которая
настолько удалена от Бога как центра, что в отношении души он оказывается
quantité négligeable и всякая связь между нею и им оказывается прерванной.
И человек отчаянно тоскует / .... Безверием палим и иссушен, /
Невыносимое он днесь выносит - как итог этого разрыва.
Что делать душе в таком мире и что делать человеку с его душой? Есть
разные пути - отказаться от нее, заменить ее чем-то другим, забыть о ней,
дать ей вымереть или приспособить ее к матереющей злобе дня. Эти пути
проделывали многие - и сознательно и бессознательно, благо внешние
обстоятельства всегда услужливо оказывались под рукой. Но в стихах эти
реальные соблазны и эти мнимые необходимости отвергаются, и Автор
всегда на позиции мужества верности и духовного трезвения. Именно душа, ея
же не прейдеши, выбирается как тот крайний и сокровеннейший ресурс
человека, та последняя опора, которую нельзя ни предать, ни отменить и
которая сама не может упразднить себя, перейти через себя, встать над собой
в ироническую позицию, как это не раз проделывало выпускаемое на волю
и бесконечно субъективизирующееся Я - и в высокой теории иенских
романтиков и в низкой жизненной практике. Этот выбор души весьма ответст-
487
вен - тем более, что она не ограничивается, не опекается, не надзирается, но
отпускается в открытый мир, чтобы пройти все его искушения и тяготы и
своей свободой покорить и укоренить в нем тягу к себе. Одно из
послевоенных стихотворений важно в этом отношении.
ДУША В ГОРОДЕ
Когда в свой город
зачумленный
Она спускалась с вышины,
За ней влачился истомленный,
Бессонный лик ее вины.
И довременные каналы
И глуби серые дворов
Уже готовили капканы
И ей сулили свой улов
И зверь Невы, при(в)став
Вскричал: «Да будет
Но чужестранки чистоту
Не очернили града вещи,
Пока не прянул в пустоту
со дна,
прощена!»
Из логовищ вожак зловещий.
А ей хотелось избежать,
Рогатый пепел остудить
И эту каменную знать
Своей свободой покорить.
Она не ведала, что ватой
Забил им души соглядатай,
Что в конуре слепец кричал,
А зрячий в подворотне гнулся,
Что спящий вовсе не проснулся
И Бог его не покарал.
И неспросившему сказала:
«О, сон кривой! О, ночи жало!
Я от тебя утаена,
Я позабыла имена,
Но этот дикий город любит
Меня. И совесть вниз ведет,
И мне Фонтанка песнь поет, -
Небытие мое голубит».
И шла согбенная душа,
По темным улицам шурша,
В своем стремленьи
первородном
На дальний зов путем
Обводным.
Цикл «В полночь века» тоже о душе, но не просто о согбенной
страдалице, скитающейся по улицам и площадям дикого города, а о той душе, на
которую идет охота, которую пытаются соблазнить, заставить изменить самой
себе, сделать «кирпичной». Но и в кирпичном мире она не сдается в наем.
Нам снилась пена, пенье,
пропилеи,
И толп торжественных
таинственный восход,
И утром ждали нас привычные
затеи,
Кирпичной совести постылый
оборот.
Да будет так! Мы маскам
двуязычным
Своей души не отдадим
в наем,
Но в поте и в слезах свой
груз кирпичный,
Как все, как все, на площадь
понесем.
(ср. также в другом стихотворении кирпич тоски).
Верная духу Музыки, душа не может отступить от самой себя даже
перед угрозой мучений и казни:
488
Мы здесь единоверцы, -
нам не надо
Полночных клятв на рукоять
меча,
Но под железным взглядом
палача
Пред ликом Музыки мы не
опустим взгляда.
Но это не значит, что душе все ясно, что у нее нет своих проклятых
вопросов - и не только о себе, но и о своих палачах:
События свищут
Его обступают
И коршуны нищие
Печень терзают
(Эти птицы очень
неприятны и ядовиты, но их
приходится кормить)
Везет свою тачку,
Ругаясь, добро.
Другая собачка -
Старое зло
Другая собачка
Не лучше тебя -
Бросают подачки,
Ее не любя.
Как же без сердца
Кровь сохранить?
Как же без крови
Птичек кормить?
... Уже пустота подымает
копье,
Уже опрокинуто сердце твое.
(«Прометей»)
Измена душе - предательство своего дела, своего жизненного
назначения - поэзии:
А могла быть гордой,
На тех не похожей,
Если б не этот безродный,
Бесчестный, сторожий.
Геральдику в арифметику
Тот педагог не облек.
Ты учила ответики,
Повторяла билетики
Арифметике поперек,
Сама себе невдомек.
Он скажет:
К МУЗЕ ИВАНОВНЕ
(из Пиндемонти)
Отвечаешь:
Ты повторишь:
Он скажет:
хрю, ква
дважды два - халва,
кукуреку!
бегу, пеку!
А подымет левую бровь, -
Знаешь:
не прекословь, кровь...
Вот и стала каргой,
А могла быть молодой,
Вот и стала беззубой,
горбатой,
А могла быть тароватой,
богатой:
Не ловила бы ветер ноздрей,
Не хлопала лягушечьей
икрой,
Не пугала попугайной
мордой -
Была бы простой
И гордой.
Более чем страданий душа боится именно этой измены себе. Ей проще
вообще не быть, чем быть оскверненной и заставить себя принять это
осквернение. Поэтому к нечеловеческим испытаниям блокады военных лет
489
душа более готова: она знает, что погибнет, оставшись самой собой.
Поэтому в цикле «Стихов, написанных в темноте» не только ужас, но и надежда,
более того, - некий почти сверхъестественный свет душевности, торжество
не изменившей себе и самотождественной души, что как раз и определяет
совершенно удивительный колорит этих стихов. Первое стихотворение
цикла - «Война». Оно начинается с объяснения - «Декабрь 1941 г. Ленинград.
Ночью под ватником в стационаре на Васильевском острове. Душа,
защищаясь, прикидывалась деревянной. Света не было». И далее:
Она бездонные глаза
Моих померкнувших домов
Заткала белыми крестами.
И от полей со всех концов
Тянулись шеи пришлецов.
Она надела полушубки
На нас. И мы от этой снежной
Летим по ветру, как
рубки
скорлупки,
Она пожрала нашу кашу
И опустели души наши,
А наши бабушки и дочки
Свернулись в белые комочки.
И плачут девушки-голубки.
Знай! Не свернув себе салазки,
Она еще расскажет сказки.
Или - другое стихотворение:
Нехватило тете каши,
И под шубой чуть дыша
Мы увидели с Наташей
Как рвалась ее душа.
Как налезли воры, тати,
Сели к тете на кровати,
Как явились палачи,
Отобрали калачи.
Так на зов из тьмы
Друг пришел
безмерной
нелицемерный.
И она смежила вежды.
Не взглянула тетя зря,
Как несли ее к надежде
На щите богатыря.
Не взглянула, не хотела,
Не слыхала как орлы
В невозбранные пределы
Разносили ей хвалы.
Как три брата-океана
Лили слезы у дивана,
Там, где я теперь стою,
Где в потемках вспоминаю
Тетю милую мою.
Ковенский пер.
Квартира, темно.
Это страстотерпчество души образует основу ее подвига, и отсюда -
надежда: И наши души I С таких утрат I Какие суши I Не озарят?
Душа как главный залог самостоянья человека неизмерима и в глубинах
своих неисповедима (о крахе презумпций относительно души см. «Трое»,
где об этом говорится в форме притчи-шутки). И это еще одно основание
для доверия к ней, к ее устремлениям и ее путям. Преследуемая здесь,
в ее основном человеческом, жизнестроительном, творческом деле,
душа не только защищается, притворяясь деревянной, кирпичной,
железной. Она ищет новые сферы своего бытия, «заражая» собою соседние
490
«царства» - природы, животных, вещей. Об этом расширении сферы
души говорится в ряде стихотворений.
Когда шарахаясь тенями от
заборов,
Раскрылась ночь и паровозный
вой
Страшнее стал, а ржавой
вагонетке
Оплаканный завод
представился живым, -
Я шел по стоптанным и
травянистым рельсам,
Отталкивая город в темноту,
Садился на погибшие железа
И долго ждал -
и оживали шестерни,
Мигали дряхлые глаза
паровиков
И души труб протягивали
руки
Из грозных жерл как
невозвратный дым.
А я искал луну в разбитом
фонаре,
Смотрел на ветер - длинный
и унылый
И думал, что печаль
благоуханна
И еще один пример очеловеченной, «одушевленной» вещи:
САПОГ
В память каких-то ног
На крыше лежит сапог.
Сушит его ветерок.
Заметает его снежок.
Кто на крышу его приволок?
Он лежит на боку, на снегу,
На железном берегу...
Продолжать о нем не могу ...
Мы вместе (и он и я)
Лежим - и встать нельзя,
А живые наши ноги
Идут от нас по дороге.
Вероятно, это стихотворение под влиянием Лермонтова. Автор вначале
хотел написать: «Сапог оторвался от ветки родимой».
Но еще важнее «интенсивное», в глубь направленное дело души -
жалость, верность прошлому, истокам и память.
ПОСЛАНИЕ О ЖАЛОСТИ
Мой добрый друг, мой
мнимый друг.
Тебе и слушать недосуг,
А я запутал свой недуг.
Я жалость вырастил в дому -
Она простить не захотела
И в жизнь отверстую мою
Вошла как бритва входит
в тело.
И я не мог ее унять,
Уговорить и укачать.
Мой друг, когда стояла палка
Одна как перст - мне было
жалко,
И тень качалась катафалка.
Когда считал кондуктор сдачу -
Колеса дергались от плача.
Когда собака шерсть лизала -
Мне жалость сердце
разрывала. [...]
А если ночь в окно кривлялась,
Дождем хлестала - совесть,
жалость.
491
И жалость билась головой,
Звала, рвалась к себе домой,
Стучала в двери (зов пустой!),
И окружала нас как лес,
И возносилась до небес,
Чтобы прильнуть без мысли и
глагола
К рукам беспомощным в
безмолвии Престола.
... Что ж делать нам, мой
друг, с тобой
Под зов глухой в беде
ночной?
Если жалость - «душевность» души, то память-ее рассудок, ее
последний сознательный и себя сознающий резерв. Крупинки памяти, я не
отдам вас даром. I Когда беспамятство разверзнет зев, I Ему отвечу я
ударом на удары / .../ Я в память памяти спою пустую песню, I Чтоб
топот памяти еще услышать мне /.../ В утробах памяти чудовищной
вселенной Мое не предусмотрено житье, / И кто найдет в ее душе нетленной, /
В ее безмерных снах ничтожество мое! / Но, уходя в ее глухие реки, /
Последней памяти я соберу глоток - / Молчанье глаз твоих, беспамятных на
веки, IИ сбившийся назад поношенный платок («Память»).
Память не только и не столько принадлежит сфере мысли и слова,
сколько делу: она нравственный долг человека и собирание своей души через
живое чувство своей связи с истоками - с родителями, друзьями, детством,
домом, родиной. И обо всем этом - в стихах (ср. «Дом № 1», «Дом № 2» с
посвящением Вагинову (Я оторванность мою не вынес, I Я вошел в наш
заповедный дом, I И глаза вещей потенциальных I Мутно посмотрели на меня...),
«Тень родины», «Тень друга», «Явление отца», «Явление матери», «Вы,
стоящие навеки в дверях» и др.).
ТЕНЬ РОДИНЫ
Во сне ли звон колоколов, На той ли скрылась стороне?
Пригорки, избы эти?.. Или вернет могила?
Они бегут от наших слов, Тебя бы раз увидеть мне,
Их не найти на свете. Услышать, что простила!
И тихий город на реке ... Но след ее не различу
Какою звездной ночью, Над глинистым откосом,
Какой вине, какой тоске Лишь постою и помолчу
Ты явишься воочью? На пустыре белесом.
И верю: под галдеж и свист
В какой-то недопетой
Качнется тень, свернется лист
Ее душой согретый.
г. Руза.
Еще острее эта тема дана в стихотворении о «человеческом»
содержании родины, о тенях людей, с которыми жизнь сводила поэта и которые -
492
кто бы они ни были - последним жестом, последней волей принимаются
навеки в сердце:
Вы стоящие навеки в дверях.
Пришедшие сюда.
Прошедшие мимо.
Сущие и приснившиеся.
Живые и выходцы.
Незабвенные и другие.
Забытые и другие.
Невозвратные и другие.
Скорбные, сирые.
Прохожие, соседи, братья,
Друзья,
обидчики, дети.
Дети с грозными глазами.
Коснувшиеся.
Простиравшие руки.
Рукою помахавшие.
Женщины плачущие
(в подушку, в подушку).
И вы полные боли.
Внимания и равнодушия
полные.
Обиженные, мною обиженные.
Навеки поникшие в дверях.
Свои ли, чужие ли.
Дети брошенные.
Птицы голодные.
Листья чахлые.
(Припадаю к земле.)
И вы, одарявшие.
Пеленавшие.
Отвергавшие.
Унижавшие меня.
Разившие в сердце.
Стоящие навеки в дверях.
Вы - в сердце моем, в сердце
моем,
в моем сердце.
Аминь.
Апофеоз памяти - сверхреальное возвращение прошлого в его
человеческом воплощении, его соприсутствие поэту, раскрывающееся как
явление. Одно из самых сильных стихотворений -
Отец пришел из гроба
И сел у шкафа на дальний
ЯВЛЕНИЕ ОТЦА
Ведущие к нему
стул
(потертый, венский?).
Он кажется не очень изменился
Лишь голова состарилась
в веках
(такое говорят про них
нередко).
И он смотрел неизъяснимо,
своим вниманием переполняя
мое жилье.
Я так любил, так ждал его.
В людском безлюдьи
Мне ласки нечеловеческой
хотелось.
Я так прилежно изучил
тропинки,
(они протягивались по
коридору и
поворачивали
на площадку, где
память в
черноте сгущалась,
но иногда,
в бессонницу,
меняли направленье).
И был он как Молчанье,
как Присутствие,
как Муза безмерно-сладостная
и может быть - Прощенье.
Я потянулся к нему,
Но он смущенный
зашевелился вдруг
Как будто желая и стыдясь
чего-то
493
И прошептал с трудом:
«Нет ...сын мой
бе д н ы й...»
Я в горе не расслышал
продолженья и долго
Стоял
: пока он длился, т.е.
испарялся...
О, люди добрые ...
Перед тем как бесследно уйти из этой жизни (И я ухожу без опаски, I
Никто не отыщет следа.., «Старик в поле»), - последнее любовное общение
душ, запоминание навеки:
ЗАСТОЛЬЕ
В пучине черной промочила Давайте любоваться друг на
ноги, друга,
А мне уже по горло. Только В глаза глядеть, запоминать
руки навеки,
Еще хватаются за плоские Шутить, смеяться и не
края. разлучаться,
Мы расстаемся скоро. Что ж, Пока в моря не унесут нас
давайте, - реки.
Друзья, товарищи и ты, моя
подруга,
* * *
До знакомства читателя с полным составом поэтического наследия
Игнатова нет, видимо, смысла в аналитическом описании его поэтики, но
несколько беглых замечаний о ее характерных чертах могут пригодиться.
Прежде всего бросается в глаза общая непохожесть этих стихов и
связанная с нею - особенно при первом знакомстве - некоторая
неуверенность читателя, неопределенность его реакций на читаемое, «неуютность»,
проистекающая от большой разреженности поэтического пространства,
трудности в выделении профилирующих элементов, которые облегчили бы
распознавание и сделали возможным «легкое» ориентирование в нем. На
первых порах эти возможности ограничены и тем, что непохожесть
относится к общему впечатлению, а отдельные элементы вполне «похожи»,
обычны и провоцируют на аналогии. Последние как бы приглашают
говорить о влияниях, заимствованиях, перекличках и других видах
«интерпретируемых» схождений, но как раз эта «услуга», скорее всего, и уводит
читателя в сторону. Сам Автор нередко объявляет цитатность некоторых своих
стихов прямо (ср.: Склонялся и шумел и дни лукавы, в «Помним» с
примечанием: Курсивом - цитаты; или еще определеннее: в «Своем и чужом» -
пять подчеркнутых строк с указанием в конце, что это стихи из Пушкина
(«Моцарт и Сальери» и «Андрей Шенье») и Лермонтова {«Унылый коло-
494
кола звон») или достаточно недвусмысленно (ср. «Гора» - Из моей груди -
твоего двора - / Как гром в ночи поднялась гора... - с эпиграфом: Та гора
была как гром\ М. Цветаева; или четверостишия «Из конверта с
надписями» - Марина Цветаева / Ты ли - огнедышащая пустота? .../) и Осип
Мандельштам: (Tristia) (Медлительные волны, / Гомера легкий вздох.../).
Иногда создается впечатление, что автоцензура на «чужие» ходы не всегда
строга, хотя, скорее всего, это впечатление обманчиво. Ср., в частности, в
разных стихах Игнатова ориентацию на пушкинского пророка: Вбирая жизни
содроганья (И внял я неба содроганье), И в жизнь отверстую мою (Во
грудь отверстую водвинул), серафим - томим (Духовной жаждою томим...
И шестикрылый серафим...). Более или менее того же типа перекличек
немало, ср.: ... власти разъяренной добела при В страсти раскаленной
добела (Ахматова); И черные тени развязки ... при Боязнью и жаждой развязки
... (Пастернак) и т. п. Другие носят несколько иной - «общий» - характер: ср.
«блоковское» Когда в свой город зачумленный / Она спускалась с вышины...
и далее, «манделыптамовское» Лазутчиков пустот грядущих..,
«тихоновское» Но воля земли для нее не указ, / Она не уйдет как те... и далее и др.
Наконец, еще одна категория перекличек обнаруживает общие корни: И
души труб протягивали руки при И души лип вздымали кисти рук
(Заболоцкий), ср. и некоторые другие «притяжения» к стихам этого поэта в «Войне»,
«Нехватило тете каши...» и др. Подобные же связи объединяют некоторые
стихи Игнатова с вагиновскими - от сходных разработок одной темы (ср.
«Утро» при «За ночью ночь пусть опадает ...») до отдельных слов-знаков
«метафизической» поэзии (ср. В пустые поля субстанций при Как будто
их субстанции хранятся у Вагинова; ср. к этому же слою у Игнатова -
потенциальный, силлогизмы, субординация и под.), о чем подробнее см. в
другом месте. Тем не менее даже читатель, хорошо натренированный в охоте
за параллелями и достаточно полно собравший их в этих стихах, скорее
всего, совершит ошибку, если попытается строить на них поэтическую
генеалогию Игнатова. Более того, он спустя некоторое время подметит
некоторую принципиальную «непринципиальность» в игнатовской «цитатности», а
это наблюдение, возможно, заострит его внимание на том, что сама
структура поэтического текста Игнатова «терпит» эту «непринципиальность» -
при том, что текст не становится ни эклектическим или шаблонным, ни
«остро-знаковым», непременно отсылающим к своим источникам
(«интертекстуальность»). В этом смысле поэзия Игнатова оказывается не
«умышленной» и в высокой степени неканонической: за одним
исключением, о котором ниже, ее нельзя подверстать, хотя бы в общем, ни к какому
направлению русской поэзии начала века и ни к какому индивидуальному
варианту, представленному самыми влиятельными именами в поэзии XX в.
Два обстоятельства вызывают особый интерес. Первое- стихи
Игнатова «знают» Блока, свидетельствуют свое знакомство с ним, но, строго
говоря, никак не продолжают их, т. е. не позволяют в узком смысле, который в
таких случаях только и существен, связать их генеалогически с бло-
ковской линией, более четко прослеживаемой даже у поэтических
оппонентов Блока. Ивторое- как эти стихи не следуют каким-либо серьезным
образцам и направлениям, так в них необнаружима и тенденция к
противостоянию им, оспориванию, полемике. В этом смысле они не только «нека-
495
ноничны», «неуставны», но, напротив, открыты, свободны к принятию
новых и разных элементов, которые, однако, как и вся поэтическая система, не
кристаллизуются в завершенные конструкции, но сохраняют свой
потенциальный модус. Именно поэтому в отношении этих стихов трудно
формулировать жесткие правила их поэтики: они принципиально
«неконвенциональны», и это относится даже к «условностям» и шаблонам. Чуткий к ним и у
других и у себя, Автор готов впустить их в текст, но только как сугубо
частный случай, и не позволяет, чтобы такие эпизоды создали
соответствующую инерцию, неизбежно ведущую к экспансии.
Это же относится и к другим элементам и уровням стиха, и поэтому
обычные клише описания поэтического текста, эффективно
вскрывающие механизм системы, в данном случае не улавливают главного.
Конечно, «антишаблонность» (в этом слове здесь нет никакого оценочного
привкуса), «естественность», свобода не исключают частных вариантов некиих
стандартов - звукоизобразительных (ср.: Нам снится пенье, пеня,
пропилеи, I И тол/1 торжественных таинственный восход; Как друг с рукой
дрожащей / В рыданьях воду пьющий; Я грань добра [...] / Но в грозном громе
крыл...; Я в память памяти спою пустую песню, / Чтоб шопот памяти ... /
Полузабывшему в пучинах...; ... в жалобную мглу. / Голубоватый глаз в
окно пугливо глянул, I... поголубел в углу; ... рыдают, / Где ветер от
мира в море / И от верности умирает ...; ср. последнюю строфу «Утра» с
разветвленной игрой на звуке ρ и т.п.), категориальных (ср.
«глагольность» в начале «Небесной баллады» и в «В больнице», в «Опять мигнуло»
и т.п. и «именность», проходящую как единый принцип через все
стихотворение «Вы, стоящие навеки в дверях», ср. также «Задворки» и др., не
говоря о разного рода комбинациях: Безручье. Безножье. Безглазье. / Ползем
безъязычны, бездушны, безумны, / Безгласно ползем, бездыханно. / ... Но
телом бескостным, бескровным... и т. п.), относящихся к построению
элементарных образов (обычно двучленных типа «эпитет и определяемое им
слово») и т.п. Но и эти стандарты обычно включаются в такие контексты,
где они как бы дестабилизируются, оказываются во взвешенном
состоянии, обнаруживают свою незавершенность. Об описанном статусе (в
частности, об аспекте некоей несбалансированности, недостаточно, с точки
зрения инерционного поэтического сознания, мотивированного
«соединения слов» в образ) лучше всего судить по микроконтекстам. Ср., с одной
стороны, ночь квадратная, сон кривой, живые ноги, глаза тощие, седые,
сглазенные, гремящие, тощий сумрак, слова курносые и т.п. и, с другой,
более пространные сочетания типа заря в окно протягивает очи; зарю
зрачками трогал; И глаза вещей потенциальных / Мутно посмотрели на
меня; Глаза моей мертвой жизни, / Там швырну их с ненаглядного берега /
В пустые поля субстанций; И жизнь тоскуя простирает руки; И души
труб протягивали руки; Тогда он тихо подошел к березе, / Припал к ее
обугленной груди, / Закрыл свои глаза седые; И жалость билась головой /
... / Чтобы прильнуть без мысли и глагола / К рукам беспомощным ...;
А у костра висков блаженное касанье / Прохладных, строгих,
неизвестных рук; Сияет боль; Он уходил со всех сторон, I ... I Стоял как мумия
его поклон, / Кивал безжизненно его совет I... I Зубами впившееся в плоть
ее I Ее тащилось бытие и т.п.
496
Здесь обращает на себя внимание прием антропоморфизации
«неживых» явлений и прежде всего абстрактных понятий через приписывание им
частей человеческого тела (глаза жизни, очи зари, руки душ, руки жизни,
голова жалости и т.п.). Этот способ абсурдизации достаточно влиятелен (ср.
сюжетно выраженную «анатомию» - «Это было поутру ...»). Он
объединяет два полюса - конкретизация абстрактного (жизни приписываются руки,
душе-глаза и т.д.) и абстрагирование конкретного (в данном
поэтическом универсуме руки есть у жизни, а глаза у души),
взаимодействие которых существенно влияет на семантику и узус членов обоих
сопрягаемых рядов - руки, глаза и т.п. и жизнь, душа и т.п. Теоретически именно это
звено является основным для поэзии Игнатова, поскольку прежде всего в
нем формируется и новый оригинальный поэтический язык, и вырастающая
из этих языковых основ нетривиальная, по общим меркам
немотивированная или слабомотивированная образность, которая и окрашивает эти стихи
в неожиданные цвета. То, что у нового языка и новой образности оказался
единый исток и единая лаборатория, очень показательно. Подобные факты
всегда свидетельствуют не только об особом отношении к слову, но и о
вскрытии в слове новых ресурсов и потенций, благодаря чему и
создается та творческая ситуация, когда поэзия актуально и наглядно живет
языком, а язык - поэзией. Такая ситуация не раз возникала в истории поэзии
и всегда была знаком признания суверенности поэзии. Когда Шлегель
писал, что поэзия «основным своим законом признает произвол
поэта», а Новалис - что «Поэзия на деле есть абсолютно-реальное ... Чем
больше поэзии, тем ближе к действительности», они имели в виду, в
частности, то, что на современном языке может быть выражено примерно
так - слова в поэзии связаны не столько через стоящие за ними
денотаты, сколько сами по себе, через голову денотатов, во-первых, и,
во-вторых, слово не только и не столько обозначение денотата, сколько
то «родимое лоно», где рождаются новые смыслы, которые первичны
и по идее могут преформировать и зависимую в этом случае от языка
«подъязыковую», денотатную сферу.
У нас Анненский был первым, кто в начале века четко сформулировал
подобный взгляд на слово, понимавшееся как «исконный слуга мысли».
«Слово, - писал он в статье "Бальмонт-лирик", - остается для нас
явлением низшего порядка, которое живет исключительно отраженным светом;
ему дозволяется, положим, побрякивать в стишках, но этим и должна
исчерпываться его музыкальная потенция. Если в стихах дозволительны и даже
желательны украшения, то все же, помня свой литературный ранг, они
должны оставлять идею легко переводимою на обыденный, служилый
волапюк, который почему-то считается привилегированным выразителем мира,
не корреспондирующего с внешним непосредственно.
И главное при этом - ранжир и нивелировка. Для науки все богатство,
вся гибкость нашего духовного мира; здравый смысл может уверять, что
земля неподвижна - наука ему не поверит; для слова же, т.е. поэзии, за глаза
довольно и здравого смысла - здесь он верховный судья, и решения его
никакому обжалованью не подлежат. Поэтическое слово не смеет быть той
капризной струей крови, которая греет и розовит мою руку: оно должно
быть той рукавицей, которая напяливается на все ручные кисти, не подходя
497
ни к одной. Вы чувствуете, что горячая струя, питая руку, напишет тонкую
поэму, нет, - надевайте непременно рукавицу, потому что в ней можно
писать только аршинными буквами, которые будут видны всем, пусть в них и
не будет видно вашего почерка, т.е. вашего я».
Эти идеи были усвоены несколькими поэтами, вступившими в
литературу в 10-е годы, но никто не отнесся к ним с такой серьезностью, как Ваги-
нов, который в 20-е годы придал этой идее практическую направленность.
Речь идет об опыте соединения слов (так был назван сборник его
стихов - с добавлением: посредством ритма), цель которого - обретение
новых смыслов, нового языка, нового мира. «Они ничего не поймут, - думает
неизвестный поэт, - если я стану говорить о необходимости заново
образовать мир словом, о нисхождении во ад бессмыслицы, во ад диких и шумов и
визгов, для нахождения новой мелодии мира. Они не поймут, что поэт
должен быть, во что бы то ни стало, Орфеем и спуститься во ад, хотя бы
искусственный, зачаровать его и вернуться с Эвридикой-искусством, и что, как
Орфей, он обречен обернуться и увидеть, как милый призрак исчезает»
(«Козлиная песнь»). И далее ряд уточнений: «Вы стремитесь к
бессмысленному искусству. Искусство требует обратного. Оно требует осмысления
бессмыслицы. Человек со всех сторон окружен бессмыслицей. Вы написали
некое сочетание слов, бессмысленный набор слов, упорядоченный ритмовкой,
вы должны вглядеться, вчувствоваться в этот набор слов; не проскользнуло
ли в нем новое сознание мира, новая форма окружающего ...» или еще
«технологичнее»: «Поэзия - это особое занятие ... Страшное зрелище и опасное,
возьмешь несколько слов, необыкновенно сопоставишь ... все над
сопоставленными словами думаешь. И замечаешь: протягивается рука смысла из-
под одного слова и пожимает руку, появившуюся из-под другого слова, и
третье слово руку подает, и поглощает тебя совершенно новый мир,
раскрывающийся за словами» (ср. мандельштамовскую теорию «знакомства
слов», о которой писала Ахматова). Трагедия неизвестного поэта в том,
что свою задачу он свел только к техническому аспекту: душа была
забыта. Очень высоко оценивая поэзию Вагинова и не позволяя себе судить о
том, чем она могла бы стать, не оборвись жизнь поэта так рано, все-таки
можно с достаточной определенностью указать на подобную опасность и
для его творчества. Стихи его надежно фиксируют и самой своей сутью и
в автоописаниях характер операций с поэтическим словом и «узкие» места
их: И медленно ... / Ты подбирай слова, и приручай и пой, / Но не лишай ни
глаз, ни рук, ни ног зловещих, / Чтоб каждое неслось, но за руки держась. /
И я вошел в слова, и вот кружусь я с ними ... или Слова из пепла слепок /
... /Любил я слово к слову I Нежданно приставлять, I Гадать, что это
значит, / И снова расставлять, или В одних - наитие, в других же - соче-
танье, / Расположение - поэзией зовется / ... / Но забываюсь часто, по-
прежнему I Бессмысленно хватаю я бумагу — /Ив хаосе заметное сгуще-
нъе, IИ быстрое движенье элементов, / И образы под яростным лучом - /
На миг. И все опять исчезло, или Прозрачен для меня словесный
хоровод. I Я слово выпущу, другое кину выше, / Но все равно оно вернется в
круг и т.п. (Ср. также рассуждения в «Монастыре Господа нашего
Аполлона» о стихе, его сердце и крови, перекликающиеся с концовкой игнатов-
ского «Прометея»).
498
Это обращение к идеям Вагинова (а отчасти и к его стихотворным
опытам) существенно и потому, что в известном смысле Игнатов принадлежал в
своих истоках к этой же «неформальной» традиции (можно еще раз
напомнить, что он признавал импульсы, полученные им от Вагинова, и говорил о
его «напутствии-благословении»), и потому, что, сохранив наиболее
значительные достижения этого наследия, он развил его в самобытную и
самодостаточную поэтическую систему.
В свете до сих пор сказанного и не предрешая многое, что может
бросить дополнительный свет на поэтическую генеалогию Игнатова, сейчас
достаточно указать наиболее надежные истоки этой поэзии - идеи Ан-
ненского о поэтическом слове и его поэтические опыты; практическая
разработка Ватиновым теории соединения-сочетания слов и поэтической
семантики; переосмысление практики и теории «больших» поэтических
систем (индивидуальных и групповых), в частности, и особого варианта
петербургской «уставной» поэзии, культивируемой в 10-е годы в кругу
dii minoris. В этом контексте Игнатов не окажется одинокой фигурой, и в
альманахах рубежа 10-20-х годов можно встретить отражения того же
круга поэтических идей и образов (это же относится отчасти и к
собственно обериутской поэзии в некоторых ее вариантах). Несомненно,
в целом этот круг должен рассматриваться как возможное начало очень
значительных явлений в русской поэзии, знаменующих утверждение
«альтернативной» по отношению к господствующим направлениям
традиции. Но суровое время положило конец этому развитию, и тем ценнее
и значительнее тот поэтический опыт, который представлен стихами
Ивана Игнатова. Внешние условия превратили эту складывающуюся
поэтическую систему в тупиковую, и то, что сейчас с этими началами
можно сопоставить все поэтическое творчество Игнатова за 60 лет, выглядит
как чрезвычайно поучительный эксперимент из области
«потенциального» литературоведения, совпавший с реальностью.
То, что стихи Игнатова долгие десятилетия не были известны вне
узкого круга почитателей, объясняет их изъятость из литературы и оставляет
неясными многие вопросы (некоторые из них неожиданны - значительные
сходства между наиболее трагическими стихами Игнатова и Целана, в
частности, его «Фугой смерти»; кстати, еще более значительны, и тоже в
трагических стихах, переклички в интонации с Леопарди). Но, видимо, это
«герметическое» бытие поэзии Игнатова, ее «бутылочный» статус обеспечили
своеобразное развитие этой «властной и самобытной» поэзии.
Здесь нет возможности рассматривать развитие поэтической системы
Игнатова (да и сам покойный Автор, вероятно, был бы против «системы»),
хотя даже беглый взгляд замечает различие между стихами 20-30-х и
послевоенных лет, но нужно подчеркнуть, что при рассмотрении факторов
формирования и развития этой поэзии не избежать обращения и к высоким
нравственным достоинствам поэта, к той страдающей и пребывающей
верной себе человеческой душе, о которой говорят его стихи. Если же
вернуться к более специальному, собственно поэтическому аспекту развития, то
самой яркой и, может быть, в первую очередь воспринимаемой особенностью
является очень четкая соотнесенность темы души с ключевыми
словами-понятиями, обладающими высокой частотностью. Блок писал, что «Всякое
499
стихотворение - покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти
слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение». Но
существен сам выбор этих слов, и, когда он столь локален и концентрирован, как
в стихах Игнатова, он отсылает к некоей основной ситуации и становится
диагностическим средством ее опознания: душа, жизнь, добро, сердце,
кровь, слезы, глаза, лицо, рука, память, след, сон; тьма, зло, пустота,
молчанье; река, море, берег, дождь; окно, дверь и т.п. И два жеста
-смотреть в глаза (как бы перед лицом жизни и смерти; так смотрят лишь
однажды, и это некое бытийственное сверх-зрение), протягивать
руку {И жизнь тоскуя простирает руки; И тянется ко мне его рука;
Вы, стоящие навеки в дверях / ... / Простиравшие руки; И перед ним
возникло в темноте / Виденье рук, положенных на плени, / О, руки милосердные,
простертые во мраке и т.п.), выступающие как последние знаки
человечности в жестоком, темном и глухом мире.
Стихи Ивана Игнатова - событие в русской поэзии и духовной жизни.
И совершение «третьего дела», доведение их до читателя, - наш общий долг.
ИЗ РАЗДЕЛА IX:
УРОЧИЩА. «СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» В ПЕТЕРБУРГЕ
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ КАК ГОРОДСКОЕ УРОЧИЩЕ
(общий взгляд)
Понятие городского урочища не принадлежит к числу
общепринятых, стандартных или даже просто распространенных, но подспудно,
эмпирически оно присутствует и угадывается в описаниях, которые можно
найти в путеводителях, справочниках, воспоминаниях, отраженно - в
художественной литературе и т.п. Можно сказать, что в известном
отношении интуиция ближе всего подходит к осознанию того, что стоит за
этим понятием, поскольку, во-первых, она опирается на некий единый,
хотя и синкретический по происхождению и по характеру корпус
впечатлений, полученный как результат «суммации» разных опытов и
соответствующих образов, и, во-вторых, она свободна (во всяком случае, в
принципе и в определенных обстоятельствах) от логико-дискурсивных схем и,
следовательно, ею постигается не то, «что есть на самом деле», но
прежде всего то, что воспринимаемо и запечатлеваемо в силу внутреннего
сродства между внешним миром и структурой восприятия этого мира.
Иначе говоря, в обоих случаях оказывается чрезвычайно существенным
субъектный и субъективный аспект порождения образа урочища и,
значит, то обстоятельство, что описание урочища имеет отношение не
только к самому урочищу (в первую очередь), но и к субъекту описания,
который отражается в этом описании, как в зеркале, в связи с его
отношением к данному урочищу и через него1.
Интуиции относительно места сего, конечно, нуждаются в осмыслении,
экспликации, переводе на язык понятий, операций, терминов, и в этом
смысле они подобны урочищам, позволяющим за их природной формой узревать
элементы языка культуры. Понятно, что здесь нет возможности говорить
об этом, но все-таки можно в самом общем виде определить некоторые
аспекты, которые должны стать непременными компонентами описания
городского урочища. Речь идет прежде всего о различении и учете двух
планов -природного (в двух ипостасях - геофизической и природно-эко-
логической, конкретнее - «ландшафтно-пейзажной») и
культурного - и об умении увидеть ихв соединении, представляющем собою
результат параллельной или, точнее, «параллелизирующейся» работы
природы и культуры, порождающий и само урочище, и его «описателя» как
восприемника образа урочища. О важности «культурного» аспекта говорилось
много, но в связи с данной темой уместно обозначить несколько иной, более
глубокий и одновременно более интимный слой этой проблемы, связанный
прежде всего с ролью художественной литературы.
501
Если человеческая мысль и воображение являются той «геологической
силой», которая приводит к формированию ноосферы, то и художественная
литература обретает свою роль в этом процессе. И не только в целом,
вообще, в принципе, но и вполне конкретно и наглядно. Последнее имеет место,
когда речь идет об определенном (урочном) месте и времени в их единстве,
что, в частности, и характеризует урочище. Многообразно связываемая с
хронотопической ситуацией, художественная литература образует
многочисленные, иногда очень сложные комбинации
«пространственно-поэтического» характера. Необходимо считаться с тем, что литература может быть
не только национальной (русской или французской), но и областнической
(новгородской, тверской или рязанской), «городской» (московской или
петербургской) и - еще уже и пространственно-ограниченнее - литературой
отдельных городских урочищ («урочищной»). В этом последнем случае
можно говорить о «литературном урочище» как сложном соединении
литературного и пространственного, «культурного» и «природного»,
предполагающем принципиальную многофункциональность. Литературное
урочище - это и описание реального пространства для «разыгрывания»
поэтических (в противоположность «действительным») образов, мотивов, сюжетов,
тем, идей; это - место вдохновения поэта, его радостей, раздумий, сомнений,
страданий; место творчества и откровений; место, где он живет, творит и
обретает вечный покой; место, где поэзия и действительность ("правда")
вступают в разнородные, иногда фантастические синтезы, когда различение
«поэтического» и «реального» становится почти невозможным; место,
которое само начинает в значительной степени определяться этими, до поры
казавшимися невероятными связями, становящимися по мере их осознания,
экспликации и передачи «вовне», «другим», все более и более реальными и
формирующими ту «поэтосферу», которая в конце концов вместе с
«научной мыслью» сублимируется до уровня «планетарного» явления и
соответствующей ему силы «природно-культурного», подлинно космологического
творения, требующего своего Гесиода. Поэзия, «разыгрывающая»
пространство, и пространство, «разыгрываемое» поэзией, poesia loci и locus poe-
siae, то целое, где граница между причиной и следствием, порождающим и
порождаемым тяготеет к стиранию, - вот то «новое» единство, которому
предстоит быть осмысленным и понятым как в макро-, так и в
микроперспективе.
Две основные характеристики определяют географическое положение
Аптекарского острова (далее - А.о.)2 в рамках всего Петербурга -
вхождение А.о. в д в а множества, в каждом из которых он занимает «слабую»
позицию. С одной стороны, А.о. входит в класс «островов» (Каменный,
Елагин, Крестовский), с другой, - в состав Петербургской стороны, ранее Г о -
родского о-ва (еще ранее - Фомина и т.п.), отчетливо делившегося на
зоны, части, слободы и т.п. В первом множестве А.о. составляет
юго-восточную периферию, во втором - северную. Вместе с тем в суммированной
территории этих двух множеств А.о. образует своеобразный, хотя и
несколько фантомный центр (особенно в западной его части), что определяется
переходным характером острова. Длительное время А.о. был изъят
как из городской, так и из «островной» (природной по преимуществу)
структуры. Следствием этого стала «двойная» изолированность, лимитрофность
502
А.о.: не город и не дом (место жилья), как соседний Городской остров
(Петербургская сторона), но и долгое время не «остров» как институализиро-
ванное место, где культура делает из природы и на ее основе пространство
отдыха, развлечения, удовольствия. При всем их реальном различии
острова описываются обычно как некое единство - Темнозелеными садами / Ее
покрылись острова (зелень, как и прохлада, две основные сигнатуры
«островных» описаний). А.о., напротив, пустошь, если и эксплуатируемая, то не
для удовольствия, а для «пользы» (ср. Аптекарский огород) или для
безопасности: в военном отношении А.о. при Петре I и некоторое время позже -
предместье, где нет ничего, кроме средств защиты (артиллерийская батарея
и «ретраншементы» на берегу М. Невки, против шведской батареи на
Каменном; пороховой завод, к которому вела Зелейная улица, в соседстве с
западной частью острова), в известном смысле до поры «ничейная» земля,
иногда искусственно хранимая от «посторонних»3. Но сам факт охраны А.о.
от «посторонних» косвенно свидетельствует о том, что были и «стороны» и
их интересы в отношении этой пустоши. «Город» и «острова» составляли те
основные две стороны, которые, будучи разъединенными, нуждались друг в
друге и в связи между собой. А.о., а ранее и вся Петербургская сторона как
раз и осуществляли эту связь, удовлетворяя и «город» и «острова».
В этом контексте наиболее актуальной чертой А.о. оказывается не его
периферийность и изолированность, но промежуточность
(переходность). Он никогда не цель, но только средство связи; впрочем, и в этом
последнем качестве выступает не весь А.о., а только его главная ось,
определяемая Каменноостровской дорогой (позже - проспектом) и
направлением движения по ней. При движении из города к островам А.о. выступает как
«после-город» и «пред-остров», при обратном направлении он «после-ост-
ров» и «пред-город», предместье. Рассматривать Каменноостровский
проспект как принадлежность А.О., строго говоря, нельзя: он
экстерриториален, и именно А.О., как бы нанизанный на проспект, принадлежит ему, а не
наоборот. Сам же проспект выступает в этом локусе как Проспект par
excellence, как структура, определяемая не этим «внутренним» локусом, но тем,
что лежит вовне,- «городом» и «островами», кратчайшим расстоянием
между которыми (точнее, между двумя точками-переправами, будь то мост
или перевоз, через Неву - между Городским и Адмиралтейским островами и
через М. Невку - между Каменным и Городским островами) и является этот
проспект4. Все, что находится между этими двумя точками, - quantités
négligeables, которые не замечаются и которыми не интересуются. Внимание,
взгляд обращен к одной из двух возможных целей - острова («туда!») или
город («сюда!», «обратно!»), - отмечающих конец и начало проспекта. В этом
смысле проспект «мономаничен» и не склонен замечать ничего, кроме этих
двух предельных, внеположенных точек щелей, которые только и
существуют для него и для которых существует он сам.
Примечание.
К теме «отъединенности» Каменноостровского проспекта ср.
«осеннюю» картину Петербургской стороны: «...Дачники, словно перелетные
птицы, перебираются в центр города; народонаселение уменьшается,
сторона видимо пустеет, становится день ото дня тише, мрачнее, печальнее,
улицы покрываются грязью... И что за улицы!.. Кто проезжал Петербургскую
503
сторону от Троицкого моста на острова по Каменноостровскому проспекту,
тот и не подозревает существования подобных улиц разной ширины, длины
и разного достоинства, улиц с самыми разнообразными и непонятными
названиями, увидите несколько улиц Гребенских, Дворянских, Разночинных,
Зеленых, Теряеву, Подрезову, Плуталову, Одностороннюю, Бармалееву,
Гулярную; там есть даже Дунькин переулок и множество других с
пространными кличками, есть даже улица с именем и отчеством: Андрей
Петровича.» (Е.П. Гребенка. Петербургская сторона, 1844 г.). Тем более рельеф-
на «отъединенность» проспекта в пределах А.о., где он долгое время
действительно проходил через пустошь, в этом месте вовсе не заселенную. И
позже петербуржец из центра города оказывался на Петербургской стороне, и
чаще всего именно на Каменноостровском проспекте обычно только при
поездке на острова. Ср.: «На Выборгскую ездили только к Финляндскому
вокзалу, а на Петербургскую сторону - при катанье на острова. Это были по
виду захолустные уездные городки с деревянными домиками, с огородами,
окаймленными покосившимися заборами, с универсальными лавочками, в
которых продавались и духи и деготь...»5
Не принадлежа А.о. (как - для известной, относительно ранней поры - и
самой Петербургской стороне), но сохраняя свою самотождественность на
всем протяжении от Невы до Большой Невки (т.е. выходя за пределы
Петербургской стороны даже в широком ее понимании; разумеется, речь идет
о времени после постройки моста через М. Невку), Каменноостровский
проспект тем самым, как это ни парадоксально, и в целом и на любом другом
своем отрезке, имеет все-таки некоторое отношение к А.о., немногим
отличаясь в этом смысле от «аптекарской» своей части. Именно поэтому при
конкретных описаниях Каменноостровского проспекта чаще всего не
указывают, какая часть его имеется в виду. Важно, что он длинный, прямой,
далеко (в принципе до М. Невки) просматриваемый, сквозной. А так как
направлен он на закат (ср. проспект Красных зорь), в ночь, за город, в чужое,
в неизвестность, как бы в бесконечность, то с ним связываются особые
чувства и настроения. Лучше других весь этот комплекс выразил Блок в своей
статье «Памяти Леонида Андреева», написанной в конце октября 1919 г.
Сам этот отклик на смерть писателя был отчасти неожиданностью для
Блока, требовавшей уяснения, ответа на вопрос, с которого и начинается
статья, - «Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном
Леониде Николаевиче Андрееве?» Ведь вместе они никогда не работали,
встречались очень редко; был лишь один значительный разговор с
трагикомическим или даже просто водевильным окончанием, о котором Блоку не
хочется вспоминать; Блок не может даже сказать, любил ли он Андреева и
был ли он горячим поклонником его таланта. Но было некое десять лет
длившееся воспоминание, лишенное фактического содержания, но
основанное на некоей отдаленной, хотя и глубинной общности, открывавшейся для
обоих только в редкие моменты. Но оба, видимо, знали об этой общности и
«при редких встречах заявляли друг другу об этой связи с досадным
косноязычием и неловкостью», которые же охлаждали и взаимно отчуждали их
друг от друга. «Так вот перекликнулись два наши хаоса, и вышло, что ко
времени личного знакомства Леонид Андреев уже знал, что существует
такой Александр Блок, с которым где-то, как-то и для чего-то надо встретить-
504
ся, и он окажется не чужим». И фокусом, в котором перекрестились оба эти
хаоса, был один вечер на квартире Андреева, прочно связавшийся с трижды
повторенным образом «каменноостровской» дали и вызываемого ею
настроения.
«Скоро он пригласил меня к себе; я пошел; Андреев жил на Каменно-
островском, в доме страшно мрачном, в котором, я знал, есть передвижные
переборки у комнат6. Я помню хлещущий осенний ливень, мокрую ночь.
Огромная комната - угловая, с фонарем, и окна этого фонаря расположены
в направлении островов и Финляндии. Подойдешь к окну - и убегают
фонари Каменноостровского цепью в мокрую даль7. В комнате - масса людей,
все почти писатели, много известных; но о чем говорят, неизвестно; никто
ни с кем не связан, между всеми чернеют провалы, как за окном, и самый
отдаленный от всех - самый одинокий - Л.Н. Андреев, и чем он милее, чем
любезнее, как хозяин, тем более одинок. Вот и все впечатление, которое
у меня осталось...
В тот вечер, на фоне мокрой дали с цепочками фонарей, был мне мил
Л. Андреев... был прост и немного застенчив и не демонстрировал своего
хаоса... Но была в нем эта драгоценная, непочатая, хаотическая, мутная глубь,
из которой кто-то в нем сидящий спрашивал: "Зачем? Зачем? Зачем?" и
бился головой о стену большой, модно обставленной, постылой хоромины,
в которой жил известный писатель Леонид Андреев...».
И как итог: «Мы встречались и перекликались независимо от личного
знакомства - чаще в "хаосе", - реже - в "одиноких восторженных
состояниях". Знаю о нем хорошо одно, что главный Леонид Андреев, который жил в
писателе Леониде Николаевиче, был бесконечно одинок, не признан и
всегда обращен лицом в провал черного окна, которое выходит в сторону
островов и Финляндии, в сырую ночь, в осенний ливень, который мы с ним
любили одной любовью. В такое окно и пришла к нему последняя гостья
в черной маске - смерть» (Т. VI. С. 129-135).
Сын писателя Вадим Леонидович, вспоминая эту квартиру и
происходившее в ней, особо отмечает вид из окон: «Мы сняли квартиру на пятом этаже
в огромном очень мрачном доме8, выходившем окнами на Каменноостров-
ский проспект и Оружейную площадь. Из окон открывалась перспектива на
весь Каменноостровский, на Троицкий мост, на деревья скверов и, в другую
сторону, на узкую, стянутую многоэтажными домами туманную даль до
самых деревьев ... Новой деревни».
Блок вполне мог оценить эту далевую перспективу
Каменноостровского, увиденную с высокого пятого этажа. «Осенью 1909 года Георгий Чулков
привел меня к Блоку, - рассказывает в "Петербургских зимах" Георгий
Иванов ... Блок жил тогда на Малой Монетной, в пятом этаже. Большое, ничем
не занавешенное окно с широким видом на крыши, деревья,
Каменноостровский. Блок всегда нанимал квартиры высоко, так, чтобы из окон
открывался простор. На Офицерской 57, где он умер, было еще выше, вид на
Новую Голландию, еще шире и воздушней... Блок, самый серафический,
самый неземной из поэтов - аккуратен и методичен до странности ... И
передавал удивительный ответ Блока. - Немецкая кровь? Не думаю. Скорее -
самозащита от хаоса». И эта «самозащита от хаоса» в известной степени
объясняет и ту «перекличку двух хаосов», о которой писал Блок в статье
505
«Памяти Леонида Андреева». Георгий Иванов вспомнил эту блоковскую
квартиру и вид из нее еще раз - в «Китайских тенях»:
«Пришли мы к Блоку под вечер. Жил он на Монетной около лицея, в
шестом этаже большого модернизованного дома. Просторный кабинет.
Очень светло - окна на лицейский сад, трубы, крыши, купола ... К Блоку я
"зашел" не раз. Теперь воспоминание об этих беседах в пустоватой
просторной комнате, с крышами и закатом в окне, об этом медленном
удивительном голосе ... сливается в моей памяти в какую-то мерцающую
холодноватым блеском туманность ... Блок не болен и не уехал. Должно быть, он
занят какой-нибудь срочной работой. Не всегда. По большей части, он сидит,
заложив руки за спину, и смотрит в одну точку. Так он может сидеть час, два,
три, целый день. В окнах - лицейский сад, крыши, трубы, купола ... В
квартире тишина. Блок смотрит в одну точку».
И еще одна встреча, в марте 1921 г., фон которой почти
эсхатологический. Георгий Иванов из Дома литераторов на Бассейной возвращается
домой - на Каменноостровский. Уставши, он остановился на Троицком мосту,
облокотившись о перила. «Небо красное от заката. С моря теплый,
влажный, "душистый" ветер. Снег на Неве слипся и обмяк, у берега расплылись
желтоватые полыньи. Если погода не изменится, нельзя будет по льду
подойти к Кронштадту. Потом начнется ледоход и Кронштадт станет
неприступным. И тогда... Пушечные выстрелы ... Красное небо, тающий снег...
И кругом ни души ... Это Блок. Минуту мы стоим под красным небом, на
пустом мосту, слушая выстрелы ... Пшено получили? - спрашивает Блок. -
Десять фунтов? Это хорошо. Если круто сварить и с сахаром... Он не
оканчивает фразы. Точно вспомнив что-то приятное, берет меня за локоть
и улыбается. - Стреляют, - говорит он? - Вы верите? Я не верю. Помните
у Тютчева:
В крови до пят, мы бьемся с мертвецами,
Воскресшими для новых похорон...
Мертвецы палят по мертвецам. Так что, кто победит - безразлично. -
Кстати, - он улыбается снова. - Вам не страшно? И мне не страшно. Ничуть.
И это в порядке вещей. Страшно будет потом... живым» («Петербургские
зимы»).
Но в этом отмеченном месте, между Троицким мостом и Каменноост-
ровским, по временам случается и иное. Преуспевающий доктор медицины,
действительный статский советник Николай Иванович Кульбин «между
десятью утра и семью вечера ... где-то в закоулках засыпанного снегом
Петербурга потерял свою прежнюю душу. Вот рассказ его самого:
«- Шел через мост - захотелось размять ноги. Думал о делах -
пациентах, лекциях... Новые калоши еще, помню, сильно скрипели. Ничуть не был
взволнован, ни в каком-нибудь особом настроении. И у самой Троицкой
площади - лошадь на боку, и ломовой хлещет ее, чтобы встала, - все по глазам,
по глазам... А она встать не может, только дергается... И в эту минуту
вспыхнули фонари по всему Каменноостровскому. Еще не совсем стемнело,
и вдруг вспыхивают фонари. - Знаете, как это прекрасно... - Ну? - Все.
Больше ничего. В эту минуту - перевернулось во мне что-то. Точно я
совсем погибал и чудом спасся. Стою, шапку зачем-то снял. Старый дурак, ду-
506
маю, на что ты убил пятьдесят лет жизни? Городовой ко мне подбежал. -
Ваше превосходительство, ваше превосходительство... Посадил меня на
извозчика... С тех пор... С тех пор на квартире на Кирпичном все вверх дном.
В 3 часа ночи Крученых по телефону требует денег. В гостиной ночуют
бездомные футуристы...» («Петербургские зимы»). Героям Достоевского, и не
только им, были знакомы подобные озарения.
Недалеко от квартиры Блока на углу Малой Монетной (д. 9, кв. 27, по
Большой Монетной - д. 16) на Большой Монетной (д. 15)9 жил молодой
Мандельштам, и Каменноостровский был одним из основных его локусов.
Подобно своему герою «Египетской марки», Парноку, Мандельштам «был
человеком Каменноостровского проспекта - одной из самых легких и
безответственных улиц Петербурга»10. И героям своим он охотно отдавал свой
адрес в этом же локусе - «Портной Мервис жил на Монетной, возле самого
Лицея», и сам он именно здесь постиг, что «домоправительство всегда
грандиозно» и что «сроки жизни необъятны», потому что - «Мы считаем на
годы; на самом же деле в любой квартире на Каменноостровском время
раскалывается на династии и столетия».
И чтобы понять Мандельштама, его человеческую конструкцию и
истоки его творчества, нужно войти в этот «каменноостровский» локус, в «хаос
иудейский», в неблагополучную еврейскую квартиру с ее запахами11 и
«милым Египтом вещей» и, притаившись в каком-нибудь темном
«рембрандтовском» углу, понаблюдать за тем, что происходит в этой квартире, чем живут
здесь, волнуясь, огорчаясь, радуясь, вдохновляясь. «...В твои годы я сам
зарабатывал свой хлеб! Растрепанные брови грозно нахмуриваются над
птичьим личиком. Тарелка с супом, расплескиваясь, отскакивает на
середину стола. Салфетка летит в угол... Отец - не в духе. Он всегда не в духе, отец
Мандельштама. Он - неудачник-коммерсант, чахоточный, затравленный,
вечно фантазирующий. Постоянные надежды: вот наладится кожевенное
дело. И сейчас же на смену разочарование: не повезло, не вышло,
провалилось... Мать - грузная, вялая, добрая, беспомощная, тайком сующая сыну
рубль, сэкономленный на хозяйстве. Девяностолетняя высохшая бабушка, с
тройными очками на носу, сгорбленная над Библией: высчитывает сроки
пришествия Мессии... Мрачная петербургская квартира зимой... обеды в
грозном молчании, разговоры вполголоса, страх звонка, страх телефона.
Тень судебного пристава... Слезы матери - что мы будем делать? Отец,
точно лейденская банка, только тронь - убьет... Висячая лампа уныло горит.
Чай нейдет в горло. "Что мы будем делать?" - Вексель предъявлен к
протесту... Тяжелая тишина. Из соседней комнаты - хриплый шепот бабушки,
сгорбленной над Библией: страшные, непонятные, древнееврейские слова.
Ничего - как-то обходится... Снова - надежда: кажется, наладится экспорт
масла... Но все знают, что ничего не наладится, все неверно, неустойчиво -
должно кончиться чем-нибудь страшным - разрывом сердца,
самоубийством, нищетой.
...Худой, смуглый, некрасивый подросток, отделавшись, наконец, от
томительного чаепития, читает у себя в комнате "Критику чистого разума"...
"Головой" - трудно еще уследить за Кантом, но уже все существо
впитывает, как воздух, его "чудный холод". В голове шумок тоже "чудный": самое
сладкое читать так - не умом, предчувствием...
507
Он откладывает книгу и подходит к окну. На пустом Каменноостров-
ском - фонари. На морозном небе - зимние звезды. Как просторно там, в
Петербурге, в мире, в пространстве... - Осип, ложись спать. Опять отец
рассердится. - Ах, сейчас, мама... В голове туман: Кант... Музыка... Жизнь...
Смерть... Сердце начинает стучать... Губы начинают шевелиться. Образ
твой, мучительный и зыбкий...» («Петербургские зимы»)12.
Далеко уводит человека этот «каменноостровский» локус - к самой
смерти, но и к бессмертным стихам13, ее, смерть, преодолевающим.
* * *
Это «уведение вдаль», вовне характерно в существенной степени и для
уровня «низкой жизни». Как правило, интересы внутренние -
Петербургской стороны и тем более А.о. - Каменноостровским проспектом не
учитываются, в отличие, например, от Большого проспекта, подлинного
средоточия жизненных интересов этой части города. Структура пространства,
примыкающего к этим двум магистралям, существенно различна. С одной
стороны, плотность и заполненность вокруг Большого проспекта;
«намагниченность» впадающих в него улиц и переулков, ориентированных
отчетливо перпендикулярно по отношению к проспекту по кратчайшему
расстоянию; высочайшая степень организованности пространства между Гесле-
ровским проспектом и Б. Пушкарской (четыре продольных магистрали и
большое количество поперечных улиц и переулков образуют около
полусотни «прямоугольников»-кварталов) истинный центр «петербургской»
планировочно-застроечной структуры, единственный образец ее на
Петербургской стороне, резко контрастирующий с максимально хаотической для
Петербурга структурой к юго-востоку, между Б. Пушкарской и
Кронверкским проспектом, очерчивающим границу бывшего гласиса. С другой
стороны, весьма значительная разреженность пространства,
примыкающего к Каменноостровскому проспекту, особенно с правой стороны (при
движении от центра), где и сейчас обилие «свободного» места, обычно за
линией домов (когда эти пустыри выходят на проспект, они оформляются как
скверы); относительно слабая и главное далекая от регулярности
организация этого пространства (ср. форму кварталов и недостаточную «окульту-
ренность» внутриквартальной территории, позволяющую довольно легко
реконструировать прошлое состояние этих мест, напоминающее о себе
многими фактами); известная «необязательность» связи проспекта с этим
примыкающим к нему пространством. Разумеется, эти черты особенно броско
выступают в связи с участком проспекта, идущим в пределах А.о.14
Не принадлежа А.о., Каменноостровская дорога (позже - проспект) тем
не менее сыграла существенную роль в членении пространства острова на
два локуса - западный и восточный, - сохраняющих свою
самостоятельность и сегодня, и, следовательно, стала фактором организации островного
пространства. Однако для А.о. эта дорога долгое время была некоей
абстракцией скорее символического характера, поскольку она не
сопровождалась застройкой вдоль нее, а когда она началась, то выраставшие здесь дачи
с обширными садами не могли быть достаточно сильным акцентом,
благодаря которому дорога заключалась бы в более жесткие рамки. Такое поло-
508
жение в достаточной степени сохранялось до начала XX в., когда здесь, по
правой стороне проспекта, возник один из лучших в Петербурге
современных архитектурных ансамблей15. Поэтому главной чертой структуры
пространства А.о., выделяющей это место, нужно считать длительное
отсутствие здесь регулярной застройки (особенно городского типа) и
соответственно уличной сети. Строго говоря, последняя так и не получила на А.о.
должного развития. Одни улицы возникли по «остаточному» принципу,
подчиняясь структуре уже сложившихся участков; другие носили черты «ad Ьос'ово-
сти», незавершенности (Пермская, Вологодская, Вятская, Уфимская) и к
тому же укладывались в масштабы двух-трех участков; третьи выступали как
своего рода просеки (ул. Грота и Даля) или даже тропинки (Карповский, Су-
ровский пер.); наконец, есть и такие, которые имитировали форму берега
(ул. Литераторов, отчасти упомянутая уже Лопухинская). Характерно, что
большинство этих улиц и переулков возникли относительно недавно, как бы
сами собой и не имели общеостровного значения. Ни о каком плане и
соотнесении с целым не могло быть и речи. Поэтому на роль подлинно
островных коммуникаций могли бы претендовать прежде всего Песочная дорога
(потом улица), сначала кончавшаяся ничем в своей западной части, и
отчасти Аптекарский проспект. Во всяком случае у них были очевидные внутри-
островные функции и свои «задания». В частности, Песочная стала осью,
вдоль которой селилось население А.о., которое уже не было с
обязательностью связано со здешним «делом» (как, например, в старой Медицинской
слободе) или здешним «отдыхом» (дачи по Карповке и вдоль Каменно-
островского).
Все эти обстоятельства в сочетании с отсутствием набережных
(Песочная и Аптекарская возникли позже, а «лопухинский» локус так и не
оформил соответствующей набережной) объясняют то, что А.о. был
обращен не вовне, но внутрь самого себя и, по сути дела, долго был
«закрыт» для внешнего, со стороны, взгляда. Лишь в начале XIX в. он начал
приоткрывать себя. Внутренний центр А.о. - пересечение Песочной с Ка-
менноостровским, тот узел, который предназначен для увязки островной
структуры с «экстерриториальным» проспектом. Это место выполняет
свою функцию с начала XX в., но уже веком раньше началось раскрытие
А.о. почти по всей его береговой периферии. Две зоны заслуживают
здесь особого внимания - северная оконечность, выходящая на
М. Невку и Б. Невку от дачи Лаваля на западе острова до дачи
Столыпина, где в августе 1906 произошел известный взрыв, и Ботанического сада
на востоке, и южная оконечность острова, определяемая течением
Карповки, образующей границу между А.о. и тотальной частью
Петербургской стороны16. Роль Карповки для этого урочища очень велика.
Течение реки образует линию инфильтрации «города» в «природную»
среду А.о., а организация «городского» берега в определенной степени
индуцирует сходную структуру и на противоположном, островном берегу
(разумеется, с соблюдением масштабов). Но необходимо помнить и о
другом: сама Карповка заботилась о соблюдении известной паритетности
обоих своих берегов относительно «природной» стихии. В этом смысле
Карповка с ее берегами составляла некогда особое урочище, о котором
сейчас можно только догадываться. В последний период существования
509
этого урочища А.о. как бы сохранял «свое» природное предместье на
левом берегу реки, правда, всего лишь на ширину участков выходивших на
Карповку дач. Но обращение к старым описаниям (XVIII - нач. XIX в.)
«левого берега», как и опыты «внутренней» реконструкции
ландшафтной топографии полосы между линией Левашевского проспекта и
Архиерейской, с одной стороны, и течением Карповки - с другой, дают
достаточные основания, чтобы включить всю эту полосу в состав «Карповско-
го» урочища и обозначить особенно важную роль пространства между
Геслеровским и Левашевским проспектами и Карповкой (план Георги
позволяет расширить эту зеленую зону еще дальше - вплоть до линии
Среднего проспекта)17. Но единство А.о., во всяком случае его западной
оконечности, с территорией, лежащей западнее места впадения Карповки в
М. Невку, подчеркнуто и иначе: во-первых, единством береговой линии
А.о., Петербургской стороны от устья Карповки до устья Ждановки,
наконец, Петровского острова, омываемых водами М. Невки, и, во-вторых,
известным единством дачно-пейзажного ландшафта западной части А.о.
и смежной полосы Колтовской части, где в начале XIX в. возникают
прекрасные дачи с обширными садами, как бы подхватывающими в
качестве образца дачу-особняк Лаваля и примыкающий к ней сад18.
Скрывая долгое время «свое» и лишь в начале XIX в. немного
приоткрыв его по своей северной оконечности, сам А.о. в этой своей полосе
был прекрасным местом обзора «островов» - Каменного,
Крестовского19, а также всей Колтовской дуги, Выборгской стороны. Отсюда
открывались наиболее эффектные виды на зеленые островные массивы, на
Каменноостровский дворец, дачи Белосельских-Белозерских,
Нарышкиных, Долгорукова (позже - принца Ольденбургского), Строгановых,
Головиных, на более скромные дачи и сады Черной речки, описанные по
воспоминаниям детства П.А. Каратыгиным, на Сампсониевскую
церковь20. Эту великолепную панораму созерцали не только «дачники» А.о.,
но и художники, запечатлевшие эти виды. Благодаря такой
устремленности зрения и выбору такой позиции можно и теперь наглядно представить
себе вид островов с юга, но именно эти же причины объясняют то, что
мы очень плохо представляем себе виды самого А.о.: за двумя-тремя
исключениями их почти нет; в лучшем случае фиксируется узкая
прибрежная полоска, отделявшая художника от реки (буквально под его ногами)
и попавшая в пейзаж не столько ради нее самой, сколько по
необходимости21 или же отдельная дачная постройка. Тем более возрастает роль
литературных описаний А.о., с одной стороны, и попыток «внутренней»
ландшафтной реконструкции, с другой. И то и другое рисует такую
картину А.о., которая контрастна как по отношению к Каменному и
Елагину (с двумя дворцами - Александрам и вдовствующей императрицы
Марии Федоровны, служившими летними резиденциями, с дачами высшей,
прежде всего придворной, знати), так и по отношению к уже
упоминавшейся Колтовской набережной и даже к «природному» в основном
Крестовскому острову22. Дача Лаваля, как бы включаясь в известное
единство колтовско-крестовско-каменноостровского берегового ансамбля, все-
таки не устраняла контраста частей и была скорее лишь блистательной
заявкой на вхождение в островное сообщество природы и искусства.
510
* * *
Принцип «промежуточности» А.о., заявивший о себе прежде всего и
нагляднее всего в топографической, пространственной сфере, не только не
отменяется тяготением А.о. к статусу «островов» в одних случаях и к
«городскому» статусу в других23, но распространяется и на сферу природно-куль-
турных взаимоотношений, на синтез «сельского» и «городского». Эта
сфера, просвеченная под указанным углом зрения, выявляет дополнительный
аспект «промежуточности», очевидный уже не только для того, кто изучает
план Петербурга или едет из «города» по Каменноостровскому проспекту
на «острова», но и для того, кто находится в пределах именно А.о. и
оценивает его по нему самому, вне каких-либо сравнений с иными частями
города. А это становится возможным лишь при одном условии - когда
«промежуточность» интериоризирована в самое структуру данного места,
достаточного для того, чтобы быть полным контекстом этого явления. Сама эта
структура строится из материала двух стихий - природы и культуры.
Оприроде в общем можно судить по старым планам и описаниям
А.о. в старых путеводителях, по сохранившимся реликтам ландшафта и
отчасти по тому, что воспроизводит природа там, где отступает культура: еще
15-20 лет назад на западной окраине А.о., где некогда процветала дача Ла-
валя, можно было видеть то, что Пушкин применительно к Петербургу
называл «тундрой» (Печальный остров - берег дикой ... Увядшей тундрою
покрыт... «Когда порой воспоминанье...», 1830). К счастью, на помощь
природе, приходит и культура: она фиксирует ее, в частности, в художественной
литературе. К самому началу XIX в. относится первое поэтическое
изображение ландшафта А.о., свидетельствующее о ряде до сих пор опознаваемых
деталей: «Там, где мелкая излучистая Карповка, отделяясь от Невы, влечет
струи свои, местами светлыя как сребро, - местами несколько мутныя, от
иловатого дна и, где с тихим приятным шумом, сладким для сердца чувстви-
тельнаго, омывает она зеленую травку и пестренькия цветочки тенистых
берегов своих, там, повторяю я, выдается небольшой мыс, несколько пред
прочими местами возвышенный24. Поверхность его покрыта прелестною
травкою и цветочками и украшена молодыми березками... С обеих сторон
по берегу примыкаются две алей, из тех же самых березок составленныя,
самою природою, которые приближаясь к мысу, местами преломляются.
Алей сии довольно густы; деревья покрывающия мыс также не редки и
могут сокрыть от глаз проходящих по позадилежащей дороге, счастие
любовников... Вот описание места сего» (В. Попугаев. «Аптекарский остров или
бедствия любви», 1800). В этой повести выступают - на фоне счастья и
трагедии любви и разъединения - и другие природно-ландшафтные сигнатуры
А.о., ср.: «Маша тихо просит Н... удалиться, бояся чтоб кто за ними не
подсматривал. Н. ... ей повинуется, и они скорым шагом уходят с берега
прелестной Карповки, и проходя сквозь позади находящиеся дворы, углубляются
в лес. Ето было еще весною, и земля недовольно высушенная от влажно-
стей, не взирая на травку и цветочки, ея покрывающия, была вязка.
Башмаки Маши часто оставалися в грязи и ей должно было останавливаться, и их
поправлять - сие ея весьма безпокоило - она просила Н... выдти на какой-
нибудь лужек, где б можно было сесть. Н... взглянул в одну сторону, увидел
511
гладкое место, окруженное густыми и частыми березами... Оно ему
понравилось, некое тайное чувство говорило ему - вот храм твоего
благополучия... Н... и Маша пробираясь между цветочками входят в прелестный
лужек; все им кажется живее. Они садятся на зеленую травку под
тень густой липы, отдыхают и внемлют сладкому шептанию листков.
Живописная величественная натура места сего вливает в сердце их томное
забвение - приятный возторг возраждается в душах их, и язык не может ни
слова. - Несколько времени они молчат, дивятся своему благополучию и
взирают на природу. Наконец Н... разрывает цепь сию...». Можно не вполне
доверять прелестной травке, цветочкам, зефирам, но трудно не признать
подлинность вязкой почвы и этих позадилежащих дворов, через которые
влюбленные углубляются в лес25.
Впрочем, «природно-ландшафтное» на А.о. отмечается в
художественной литературе и позже, но оно, как правило, сильно сокращается в объеме
и, главное, обнаруживает все большее тяготение к «природно-культурным»
вариантам: уже не столько лес, роща, луг, пригорки, низины, река, сколько
сады, огороды, аллеи, пруды, кладбище26. Характерны в этом отношении
«дачные» пейзажи в «Вечерах на Карповке» Жуковой (1837): «...Целые
семейства спешили с самоварами, кучею детей и нянюшек на Крестовский или
в гостеприимный сад графини Л. ... располагались на скате холма или под
густыми липами на самом берегу с холодным ужином, мороженым, чаем...
Я любила эту разнообразную картину и часто пользовалась ею, проводя
почти все вечера у одной из наилучших знакомых моих, занимавшей дачу на
берегу Карповки... Переселяясь на дачу по совету доктора, она (Наталья
Дмитриевна, женщина под шестьдесят. - В.Т.) мало пользовалась так
называемым деревенским воздухом... и жила в небольшом кругу друзей,
собиравшихся к ней всякий вечер. Когда тишина полудня и теплота воздуха
вызывали из комнат ленивейших из любителей диванов, она выходила... в
небольшой садик, окруженный перед окнами цветущими кустарниками и
кудрявыми липами, садилась на скамью и любовалась светлою речкою, которой
волны сверкали сквозь сетку листьев...». Или: «...И я пошла в сад. С четверть
часа я бродила по дорожкам, любуясь игрою солнечных лучей между
густою зеленью деревьев и впивая запах цветов, как наконец в беседке
из акаций, переплетенных душистым горошком, мелькнуло платье Любинь-
ки». И даже: «В одно воскресенье мне вздумалось идти к обедне в церковь
Ботанического сада... После обедни, пройдя чрез садовую калитку в сад, мы
пошли по дорожке, ведущей к оранжереям. Утро было прекрасное; по
обеим сторонам дорожки пышные далии горделиво поднимали роскошные
цветы свои...» и т.п.
* * *
Природа питала культуру, взращивала и оформляла ее своими
средствами, а культура - другой аспект проблемы - преломляла возможности
природы в своих целях. И эта взаимосвязь обеих стихий была очень характерна
для А.о. Конечно, культура не исчерпывалась здесь только этим «садо-
во-дачным» вариантом27, но на А.о. в течение долгого времени он был
основным. Из иных вариантов следует назвать знаменитую «Карповскую шко-
512
лу» Феофана Прокоповича, располагавшуюся на левом берегу Карповки, на
участке, купленном после смерти Брюса (на месте больницы имени Эрисма-
на). Позже был прикуплен участок на А.о. в 400 сажен, и в литературе и
самое школу иногда помещают на А.о. Школа задумывалась как некий «Сад
Петров» среди дикого елового леса. Прокопович, будучи большим
любителем садов, по преданию, сам сажал деревья, отдаленное представление о
которых дает флора этого участка в наши дни. В этой школе на архиерейском
подворье взращивались и юные таланты (ср. будущих академических
профессоров из солдатских детей математика С.К. Котельникова, анатома
А.П. Протасова и др.; среди учеников этой школы были также Г. Богданов,
Г. Теплов и др.). С начала 30-х годов XIX в. медицинский аспект стал
преобладающим в этом месте (Петропавловская больница, позже - Медицинский
институт и т.п.)28. В романе «Петр и Алексей» Мережковский попытался
реконструировать раннюю историю места и представить ее в художественных
образах: «В Петербурге архиерейское подворье находилось на Аптекарском
острове, на речке Карповке, среди густого елового леса. В нижнем жилье
дома помещалась библиотека. Заметив любовь Тихона к книгам, Феофан
поручил ему привести в порядок библиотеку. Окна ее выходили прямо в лес,
часто бывали открыты, потому что стояли жаркие летние дни, и тишина
леса сливалась с тишиною книгохранилища, шелест листьев - с шелестом
страниц. Слышался стук дятла, кукование кукушки. Видно было, как на
лесную прогалину выходит чета круторогих лосей, которых пригнали сюда с
Петровского, тогда еще совсем дикого острова. Зеленоватый сумрак
наполнял комнату. Было свежо и уютно». Тихон, которому предстоит
миропомазание в Троицком соборе, в глубоких раздумьях о будущем пути: он
беседует с Феофаном, перечитывает Декарта, Лейбница, Спинозу, вспоминает
слова пастора Глюка о том, что «истинная философия, если отведать ее слегка,
уводит от Бога; если же глубоко зачерпнуть, приводит к Нему». И далее:
«Накануне этого дня, собрались на Карповском подворье к ужину гости. Это
было одно из тех собраний, которые Феофан в своих латинских письмах
называл noctes atticae - аттические ночи... беседовали о философии, о "делах
естества" и "уставах натуры", большею частью в вольном, а по мнению
некоторых даже "афейском" духе»29. Несколько иной синтез природы и
культуры - более изощренной природы и более специализированной культуры -
осуществлялся по другую сторону Карповки, напротив подворья и Карпов-
ской школы, в Аптекарском саду, будущем Ботаническом30.
Но, конечно, главный результат совместной работы природы и
культуры на А.о. в XIX в. - дачи и сады, нередко большие, великолепные,
свидетельствующие о тонком вкусе. Последующее вырождение и гибель их,
как и отсутствие достаточно подробной и надежной информации о том,
что было раньше, ощущается как большая потеря для А.о., для
Петербурга, для России. Лучшее время этой «дачно-садовой» культуры,
начавшейся в конце XVIII в., - первая половина XIX в., но многое удержалось
и дольше, правда не без потерь (ср. например, дачу Нессельроде с
великолепными оранжереями, где еще в 50-х годах выращивались
знаменитые сорта камелии, смотреть которые в Великий пост съезжался чуть ли
не весь Петербург). Кроме упоминавшихся дач Л авалей и Алл ера,
выделялась дача князей Лопухиных, стоявшая на огромном участке, сочетав-
17. В.Н. Топоров
513
шем в себе сад, парк и лес, где паслось большое стадо оленей; жизнь на
даче шла открыто и весело, у ограды собирался народ послушать хор
крепостных и посмотреть красоты природы и искусства. Летом 1812 г.
здесь жил граф Коленкур, внимательно следивший за тем, что
происходило на другом берегу, в Каменноостровском дворце (это нашло свое
отражение, в частности, в «Войне и мире»). Против лопухинского сада,
через дорогу, находилась дача графа Гурьева, бывшего министра финансов,
известная своим живописным садом (позже она перешла к его дочери
княгине Куракиной). На Каменноостровский проспект выходили также
дачи графини Зубовой (прежде княгини Щербатовой), князя Вяземского,
сохранявшаяся еще в конце прошлого века, актрисы Рахманиной, Алле-
ра, чайного торговца Маринина (позже Борисовского)31. Владельцы дач
по М. Невке были попроще, во всяком случае их состав был более
смешанным (купец Косиковский, камергер Жеребцов, генерал
Храповицкий, Шишмарева, полковник Соловов, купеческая жена Пализо,
впоследствии откупщик Воронин32, братья Скородумовы (см. ниже), спортсмен
A.A. Сапожников, чья дача в 60-е годы славилась своими оранжереями, и
др.). Но в целом судьба всех этих «природно-культурных» оазисов,
определявших ландшафт лучших частей А.о., была плачевна: их ждало
вырождение и гибель, и далеко не всегда из-за обеднения их владельцев; чаще
все объяснялось прозаичнее и проще - новые времена требовали новых
развлечений, новых мод и вкусов, а они были несравненно ниже прежних.
В 40-е годы приходит в упадок дача Лопухиных, в ней уже никто не
живет, пока здесь не открывается увеселительное заведение «Villa mon
plaisir» с оркестром Левино и показом фокусов Квальярди и запуском
воздушных шаров33. Еще более «славная» история была у гурьевской
дачи - бывший откупщик Гарфункель в подражание Громову собирался
основать свое благополучие на оранжерейном промысле, но обанкротился;
дачу распродали по частям, и даже чугунная ограда исчезла. Но веселое
будущее не заставило себя ожидать. Дача переходит в руки г. Оппенгей-
ма, и он открывает здесь увеселительное заведение «Вилла Боргезе»,
позже переименованное в «Вилла мон-бриллиант», с хором цыган, в
котором пела знаменитая Маша Розанова, и хором тирольцев Лента и с
фокусами Беккера. Традиция была подхвачена позже, когда здесь открылся
«Кафе-шантан», с цыганами, акробатами и карликом Пикколо-мини,
певшим популярный тогда куплет «Папироска! друг мой тайный». Еще
позже содержатель этого учреждения вместе с Львом Камбеком,
работавшим в «Петербургском вестнике» и увековеченным в «Бесах»,
открывают здесь «Ассамблею», которая вскоре была переименована в
«Хуторок», слава которого была громкой (всероссийской), и не без привкуса
скандала34, что не спасло его от краха; дача же была приобретена
известным тогдашним богачом-домовладельцем Руадзе. Богадельня и (после
революции) Центральный карантинный распределительный пункт
завершают историю места. Это лишь частные примеры того, как начиная с
второй половины XIX в. в синтезе природы и культуры, реализуемом в
локусе А.о., акцент сдвигается на «веселый» отдых, развлечение,
публичность, неприхотливый вкус. Современная филиация этих идей - Дворец
молодежи, отчасти стадион.
514
* * *
Но стихия «культуры» в пространстве А.о. полнее и ярче всего
проявляется влитературности, связанной с ним, что, собственно, и делает
А.о. своеобразным литературным урочищем (это, конечно, не исключает
очень заметного места, которое занимают здесь и другие искусства -
живопись, архитектура, музыка, театр - и наука). «Литературная» стихия,
впервые обнаружившая себя здесь очень рано (на подворье у Феофана Прокопо-
вича на Карповке собиралась «Ученая дружина», первое в России
литературное общество; можно напомнить, что Г. Богданов, практически первый
описатель Петербурга, автор «Исторического, географического и
топографического описания Санкт-Петербурга от начала заведения его с 1703 по
1751 год», впоследствии дополненного и изданного В. Рубаном (СПб., 1779),
был воспитанником «Карповской школы»), принимала многообразные
формы, с разных сторон навевая вокруг А.о. свою «поэтосферу». Сгущенность
писательского элемента на А.о. очень долго не замечалась и,
следовательно, не учитывалась. Но, коль скоро она замечена, продумана,
прочувствована и проанализированы пространственно-временные «ниши» этого явления,
она более не может не учитываться как фактор «литературности»,
придающий отныне месту сему особый, неповторимый оттенок. Нужно реально
представить себе - и на фоне дачи Лавалей, известной по рисунку Барта, и
внутри ее, в интерьере, остающемся нам неизвестным, - фигуры
Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Мицкевича и др., не
говоря уже о друзьях СП. Трубецкого, зятя Лавалей, с которыми он был связан
замыслами, приведшими к декабрьской трагедии, и осознать, что все это
сжато в полтора-два десятилетия35 и размещено в э τ о м доме и в э τ о м
саду, на э τ и χ берегах. И другое видение: на неподалеку находившуюся
дачу Аллера, также излюбленную литераторами (здесь в 20-х годах жили
патриарх «Славено-россов», писатель, переводчик, теоретик языка A.C.
Шишков, Н.И. Гнедич, поэтическая фантазия которого была посвящена не
только далеким во времени и в пространстве подвигам греческой старины, но и
«своему», современному, близкому - на расстоянии взгляда, через Б. Невку,
ср. замечательную идиллию «Рыбаки», воспроизводящую и реальный
пейзаж островов и Невки со Строгановской дачей, и «космический» пейзаж
мистерии белых ночей и др.)36, в середине июня 1823 г. привозят «под гнетом
тяжелой болезни» Батюшкова37. Опекающая его Катерина Федоровна
Муравьева, вдова замечательного писателя и мать будущих декабристов (ее
дом в Петербурге - Фонтанка, № 25 - один из самых важных центров
русской культуры этого времени, где собираются лучшие ее силы, начиная с
Карамзина), живет по другую сторону реки, напротив. Это она поместила
больного поэта на дачу Аллера. Друзья еще питают надежду на улучшение.
Приезжает Жуковский, Вяземский спрашивает о новых стихах, в Париже в
изданной Сен-Мором «Русской антологии» появляется перевод
«Умирающего Тасса» на французский язык. Но Батюшков тоскующей одинокой
тенью бродит по саду, избегая встреч. В минуту просветления он трезво
оценивает свои обстоятельства: «Что писать мне и что говорить о стихах моих?
Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес на голове
красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы и разбился вдре-
17*
515
безги. Пойди узнай теперь, что в нем было». О чем думает поэт, сидя в
одиночестве в четырех стенах дачи Аллера, мы узнаем благодаря другу
Батюшкова Гнедичу38, поселившемуся здесь несколькими годами позже и
искавшему следы пребывания здесь его бедного друга. Две надписи на стекле
находит он - о вечной жизни: «Есть жизнь и за могилой»39 - и о неминуемой
возлюбленной смерти: «Ombra adorata!».
Вяземский, навещавший здесь Батюшкова, не одно лето живал здесь на
даче и позже - отдыхал, читал, следил за новостями литературы, думал,
писал. Летом 1847 г. в письме от 20 июля он пишет Жуковскому: «Поздравляю
тебя и себя и всех православных с Зарабом Рустамовичем. Славный
молодец! Я плакал, как ребенок, как баба, или просто как поэт - если я и не
поэт на стихах, то поэт на слезах, - читая последние главы... А я говорю,
всякая мысль не ясная, не простая, не легко применяемая к действительности,
всякое слово, которое не легко воплощается в дело, - не русская мысль, не
русское слово»40. В разные годы на А.о. проводили лето и другие
представители русской литературы, театра, музыки. Одни из них приезжали сюда
ежегодно или, по крайней мере, жили тут неоднократно; для других
«аптекарская» жизнь была лишь эпизодом; третьи приезжали сюда только в гости41.
Для одних А.о. был просто местом отдыха или светских развлечений, для
других - местом творчества, которое не было с очевидностью связано с
самим островом, для третьих именно здесь их муза встретилась с самим А.о. и
его образ отложился в ее художественных созданиях. Но были и такие, кто,
не имея аптекарскоостровской «прописки», влеклись сюда душою и
сознательно или неосознанно искали на этом месте или, может быть, от самого
этого места ответов на что-то очень важное для себя.
Две фигуры возникают прежде всего в этом контексте - Достоевский и
Блок. Для первого из них А.о., несомненно, относится к «островам», т.е. к
тому царству зелени, свежести, прохлады, тишины, где душа находит себя и
возрождается к жизни после угнетающих впечатлений, исходящих от
«города». По воспоминаниям типографского наборщика М.А. Александрова,
относящимся к последнему десятилетию жизни писателя: «В летние приезды
свои в Петербург, или весной, в начале лета, до отъезда из Петербурга,
Федор Михайлович в часы отдыха делал прогулки за город, чтобы подышать
чистым воздухом. В таких случаях из окрестностей столицы он отдавал
предпочтение архипелагу невских островов, в особенности ему нравились
острова Аптекарский, Елагин, Каменный» (впервые: Русская старина. 1892.
Май)42. Но Достоевский знал и любил А.о. еще раньше - и до 1849 г., и в
начале 60-х годов, когда он жил вместе с семьей брата на даче на Колтовской
(лето 1861 г.). Судя по письмам, написанным тем летом, А.о. не принес
писателю того освобождения или хотя бы облегчения, на которое он вправе был
рассчитывать («Мы в Колтовской, живем ни весело, ни скучно. Дела
много», - пишет Достоевский Полонскому 31 июля (см.: Поли. собр. соч. Т. 28.
Ч. 2. С. 20), не упоминая о других тревогах и заботах). Но дело было не
столько в недостатке свободного времени, сколько в той новой ситуации,
разрешению которой А.о. помочь уже не мог: нужно было нечто
несравненно более сложное и духовно напряженное, с чем можно было бы свести свои
трудности и запутанности в надежде найти выход. Мысль обращается к
Москве («Ездил в Москву прогуляться, хоть и на 10 только дней, но запустил
516
свою работу», - сообщает он в том же письме), но поездка оказалась не
совсем удачной, как следует из того, что пишет Достоевский А.К. Каллаш
16 августа с той же дачи в Колтовской: «Я в Москве провел время довольно
приятно, но на этот раз Москва мне как-то не показалась», но и дома не
лучше: «Но дома, то есть в Колтовской на нашей даче, право, прескучно. Вы
спрашиваете: прошла ли моя тоска. Ей-богу, нет, и если б не работа, то я бы
заболел от уныния» (Там же. С. 22). В этой ситуации - лучше Петербург,
хотя «Петербург страшно тосклив и скучен, но все-таки в нем теперь все, что
живет у нас сознательно. А ведь это что-нибудь да значит». Но еще лучше -
Италия, которая могла бы спасти от тоски и, может быть, решить все
сложности. «Италия под боком, как, кажется, не соблазниться и не съездить? -
пишет он Полонскому, находившемуся в это время в Австрии. - Счастливый
Вы человек! Сколько раз мечтал я, с самого детства, побывать в Италии...
черт знает какое было обаяние. В Италию, в Италию! А вместо Италии
попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом. Неужели ж и теперь не
удастся поездить по Европе, когда еще осталось и сил, и жару, и поэзии...
Неужели так умереть, не видав ничего!» (Там же. С. 19).
Блок, семнадцать лет проживший в казармах Гренадерского полка, у
истоков Карповки, напротив Ботанического сада, был знаком с А.о. с детства:
это место было своим, безотчетно дорогим в детстве и источником грустных
воспоминаний в трагические последние годы жизни. «...Вечером - "моя
тихая Карповка"43 и неведомые переулки (как и вчера вечером)», -
записывает Блок 22 августа 1918 г. (Записные книжки 1901-1920. М.; Л., 1965. С. 422),
а «вчера вечером» - «Как безвыходно всё. Бросить бы всё, продать, уехать
далеко - на солнце и жить совершенно иначе» (21 августа 1918 г.), как бы
выводя наружу и мотивы «итальянского» письма Достоевского в связи с тем
же местом. И годом раньше, когда еще не тоска и безвыходность, а только
грусть воспоминаний: «Прелесть закатного неба, много аэропланов в
вышине, заграница на Карповке, грусть воспоминаний в Ботаническом саду и
около казармы, наши окна с Любой» (запись от 9 июля 1917 г. См.: Блок А.
Собр. соч. Т. 7. С. 277). Связь с Достоевским в данном случае определяется
не просто типологией психологических ситуаций: она предполагает и
сознательный опыт усвоения художественного наследия этого писателя.
«Незнакомка», появившаяся в 1907 г., подтверждает это (оба эпиграфа из «Идиота»
и жанр петербургских «видений», «звездная тема» (ср. о Большой
Медведице у Достоевского) и образ Господина, наконец, Незнакомка, «прекрасная
женщина в черном, с удивленным взором расширенных глаз»,
характеристики которой сближены с портретом Настасьи Филипповны, приведенном в
эпиграфах). Вместе с тем тут существен и локальный контекст второго
видения. Действие совершается на восточном конце Колтовской, там, где
Б. Зеленина переходит в мост через М. Невку на Крестовский остров, чуть
влево от устья Карповки, на самом виду западной оконечности А.о.44
Пейзаж, равно реальный и символический, узнается легко: «Тот же вечер.
Конец улицы на краю города. Последние дома, обрываясь внезапно,
открывают широкую перспективу: темный пустынный мост через большую реку.
По обеим сторонам моста дремлют тихие корабли с сигнальными огнями.
За мостом тянется бесконечная, прямая, как стрела, аллея, обрамленная
цепочками фонарей и белыми от инея деревьями. В воздухе порхает и звездит-
517
ся снег»45. Финал второго видения, последний его стих «Пала Мария -
звезда!» также может быть понят как отсылка к последней сцене «Идиота» с
мертвой Настасьей Филипповной.
* * *
К концу XIX в. демографическая картина А.о. сильно меняется: состав
населения деаристократизируется, число дач значительно сокращается, а
оставшиеся функционируют уже чаще всего не как дачи, и во всяком случае
из рук аристократии и высшей чиновной знати46 они переходят в руки
владельцев из других социальных слоев. «Сезонность» постепенно перестает
быть определяющим фактором в заселении острова. Зато люди литературы
и искусства, которые раньше появлялись на А.о. как «разовые» гости
владельцев богатых дач или в лучшем случае как самостоятельные сезонные
дачники, теперь селятся здесь как постоянные (круглогодичные) обитатели
и уже не в «дачах», но в домах городского типа. Правда, какое-то время еще
продолжается тяготение к постройкам дачно-особнякового вида и участкам
садового типа. Характерный пример - участок с современным адресом
Песочная, 10. В конце XIX в. он тянулся от Песочной до Карповки, и даже
сейчас его внутреннее единство (подтверждаемое, между прочим, его
«проходимостью» и пейзажно-ландшафтной общностью; о последней можно судить
даже по фотографии 20-х годов нашего века - дом в перспективе, уходящей
в сторону Б. Невки) опознается без труда. На участке сначала стоял
одноэтажный дом с мезонином, перестроенный в 1894-1895 гг. архитектором
Е.П. Вейнбергом после того, как участок был куплен известным прозаиком
В.О. Михневичем, автором романов и рассказов, интересных своей
петербургской тематикой и обилием бытовых деталей, лучшим описателем
Петербурга того времени (Петербург весь на ладони. СПб., 1874). Дом был
перестроен, мезонин превратился во второй этаж, были введены изящные
элементы декора (художественная резьба), но в целом дом сохранял в себе
черты старой деревянной дачи тех времен, когда А.о. еще не был
инкорпорирован в «город». Дом сохранялся, правда, уже в полусожженном виде, до
самого последнего времени, когда он был снесен полностью (теперь идут
работы по восстановлению-имитации его). После смерти Михневича в 1899 г.
по завещанию дом и весь обширный участок перешли к Литературному
фонду. В начале XX в. (1905 г.) на участке № 17-19 по улице Литераторов
(вдоль Карповки) был построен пансионат для бедных писателей. Среди тех,
кто жил здесь, в домах Литературного фонда, в 10-30-е годы, - Г. Лопатин,
В. Засулич, писатели М. Зощенко, А. Чапыгин, художники П. Филонов,
П. Мансуров, Б. Эндер и др. В соседнем доме-особняке жила последние свои
годы знаменитая драматическая актриса М.Г. Савина, подруга последних лет
жизни Тургенева. Но все-таки художественным центром этого локуса был
дом № 10 по Песочной. Перед первой мировой войной, в 1912 г., здесь
поселилась супружеская чета Михаил Васильевич Матюшин и Елена Генриховна
Гуро. Музыка, живопись и литература объединились в их лице (известен
фотографический автопортрет Матюшина - у себя в комнате на фоне рояля,
скрипки, партитуры, его картины «Сосны», 1912, синтезирующих искусства,
в которых он работал), и дом этот стал важнейшим очагом петербургского
518
и русского футуризма ранней его поры, когда в нем еще уживались или уже
намечались более специализированные направления - «кубофутуризм»,
«лучизм», «супрематизм», «конструктивизм», «пространственный реализм».
Хлебников и Маяковский, Малевич и Татлин, Филонов и Петров-Водкин
проводили время в этом доме. Часто, в какие-то периоды регулярно или
спорадически раз от разу здесь бывали Крученых, Каменский, Лившиц, братья
Бурлюки - Давид, Владимир, Николай, О. Розанова, Е. Лансере, В. Щуко,
Эндеры - Борис, Ксения, Мария, Георгий, И. Школьник, В. Бубнова,
П. Мансуров, Ю. Васнецов, Е. Чарушин, Н. Любавина, В. Курдов и другие -
поэты, художники, архитекторы, люди музыки. Здесь же с 1912 г.
собирались молодые художники и писатели, входившие в «Союз молодежи» (в
основе его были кубофутуристы), возникший двумя годами раньше по
инициативе Матюшина и Гуро. Наконец, с 1912 г. в их квартиру в доме на
Песочной перебралось основанное ими издательство «Журавль» (датой его
основания предлагают считать 1909 г., когда появилась «Шарманка» Гуро, хотя
и без указания издательства), просуществовавшее до 1918 г., когда оно уже
обозначалось как «Дом на Песочной» (ср. последние книги Р. Ивнева,
И. Оксенова, А. Владимировой). В «Журавле» вышли оба сборника «Садка
Судей» (I - 1910, II - 1913), сборник памяти Елены Гуро «Трое» (1913),
партитуры Матюшина («Победа над Солнцем», «Осенний сон», «Дон Кихот»),
всего до двух десятков изданий47.
Много лет спустя в пустоте блокадного города память восстанавливает
события тридцатилетней давности: «На стене, возле балкона, зеркало -
узкое, длинное, без рамки. Оно тоже рассказывает мне о прошлом. Очень
нравилось Маяковскому и это зеркало, и место, где оно висит. «Как войду в эту
комнату - первого себя встречаю...», - смеялся он. Владимир Владимирович
часто бывал у нас в дни постановки своей трагедии «Владимир
Маяковский». Я переписывала на машинке его рукопись. Он исправлял, добавлял.
Приходилось снова переписывать. Стоя перед зеркалом, он репетировал
свою роль и тут же менял текст. Поэт Хлебников любил кресло, стоявшее у
зеркала. Сидел, положив ногу на ногу. Блокнот или листок бумаги
неудобно лежал у него на коленях. Сам поэт всегда поворачивался спиной к
зеркалу. Около кресла - письменный стол. Он залит сейчас солнцем... По стенам
картины. Нежные морские акварели Михаила Васильевича и рисунки,
сделанные углем, - Елены Гуро. Раздвигающаяся деревянная полка всегда на
столе. Еще Елена Гуро ставила туда любимые книги» (Песнь о жизни.
С. 12-13); «Владимир Владимирович был здесь частым гостем в тысяча
девятьсот двенадцатом - тысяча девятьсот тринадцатом годах... Знаете,
Маяковский был выше наших дверей. Ударится о косяк и сразу к зеркалу.
Потирая лоб, скажет: Опять синяк набил!. Одна за другой вставали передо мной
картины прошлого... Вот, как сейчас вижу комнату, осенние листья на полу.
Открыта дверь террасы. Елена Гуро читает свои стихи. У косяка двери
стоит высокий юноша. Это Маяковский» (Там же. С. 29-30); «В доме так тихо-
тихо. Лена откинулась на подушку и смотрит на дуб, на рябинку у самой
террасы48. Она что-то шепчет. Потом начинает говорить вслух. Потом быстро
записывает: альбомчик и карандаш всегда под рукой... Елена читала очень
быстро, но в каждое слово вкладывала много чувства... Дверь на террасу
была широко распахнута. К ее косяку прислонился высокий юноша с боль-
519
шими проницательными глазами и широким, прямым подбородком.
Поражало волевое выражение его лица и уверенная манера держаться.
Красивым жестом он отбрасывал волосы со лба, не отводя глаз он Елены Генри-
ховны.. Гуро сказала. - Познакомься с Владимиром Владимировичем
Маяковским. Он - поэт из Москвы... Мы вышли от Гуро вместе» (Окрыленные
люди. С. 93-94); «Маяковский взял какую-то книжку, раскрыл ее. - Что это
у вас? - Хлебников. Он снова уткнулся в книжку» (Там же. С. 99);
«Маяковский собирался пить чай у Кати (сестры Елены Гуро. - В.Т.), но, дойдя до
Песочной, раздумал: Пойду бродить по Островам!... - О, этот юноша себя
еще покажет! - задумчиво сказала Елена. - Пройдут десятилетия, а о нем
будут помнить... На следующее утро мы с Леной собрались гулять, но
пришел Маяковский. - Проститься забежал. Сегодня уезжаю в Москву. Очень
хотелось сказать вам, что "Город"49 произвел сильное впечатление... Когда
он вернулся, Елена Гуро уже умерла. И слова ее сбылись...» (Там же.
С. 106-107)и др.
Беллетризованные воспоминания О. Матюшиной в духе времени, когда
они писались, центральной фигурой, связанной с домом 10 по Песочной,
делают Маяковского. «Заданность» этой установки очевидна, и она
существенно смещает и некоторые из основных акцентов, которые, впрочем,
относительно легко восстанавливаются, и тем более нюансы, определяющие
самое атмосферу этого дома в 1912-1913 гг. Эти нюансы, узрение и
дешифровка которых так важна именно в связи с зарождением больших и сложных
художественных течений, поддаются восстановлению трудно, а иногда и
вовсе теряются. Случай Елены Генриховны Гуро, скончавшейся 23 апреля
(6 мая) 1913 г. на даче в Усикирко (Уусикиркко)50 и надолго забытой, к
счастью, все-таки иной, хотя само забвение ее, помимо внешних обстоятельств,
непосредственно связано с упущением именно таких нюансов и слишком
грубым обобщением реального по тому, что позже предписывалось
признавать «идеальным» и что таковым не являлось, по крайней мере, в том
хронотопическом микроконтексте, который здесь рассматривается. Очень
важно, что прижизненная оценка Гуро, пока еще не сложились каноны и
«табель о рангах», должна пониматься как признание в ее творчестве того
«своего», которое, даже не будучи до конца понятым, вызывает интерес и
внимание, за которым предполагается некая глубина. Что не менее
показательно, интерес и внимание проявлялись с разных сторон. «Футуристы в
целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеизм... - записывает Блок в
дневник 25 марта 1913 г. - Футуристы прежде всего дали уже Игоря
Северянина. Подозреваю, что значителен Хлебников. Е. Гуро достойна внимания.
У Бурлюка есть кулак. Это - более земное и живое, чем акмеизм» (Т. VII.
С. 232)51. Позже М.В. Матюшин вспоминал: «Помню нашу встречу с Блоком
у Ивановых. Глубокий разговор Гуро с Блоком был мучителен для нее,
как она мне потом сказала. Это был экзамен, а не обмен мнений равных. Но
это тебе не Пяст. Лена обладала огромным разумом и живым творческим
словом. С ней не так уже было просто тянуть канитель, а надо было и
вспыхивать, и я видел, как Блок долго не мог оторваться от Гуро. Да, видимо, все
заинтересованно смотрели на Гуро и Блока, делая вид, что разговаривают
между собой. Вышли вместе от Ивановых. Блок шел с женой, но продолжал
разговаривать с Гуро. Мы звали Блока к себе, но вновь не пришлось встре-
520
титься, дороги пошли разные»52. Интересно, что об этой встрече есть запись
и в дневнике Блока от 5 января 1912 г.: «Вечером - к А.П. и Е.А.
Ивановым... Гуро с Матюшиным. "Глубокий" разговор с Ге, "глубокий" разговор
с Гуро. Я плету ужасно много, туманно, сложно своим усталым, ленивым
языком, однако иногда говорю вещи интересные» (Т. VII. С. 120); ср. в
обоих источниках мотив «глубокого», общий, но, видимо, по-разному
оцениваемый. Несомненно, ценил Гуро Маяковский. «Так, Маяковский говорил, что
наиболее интересен ему поэт Гуро» (Матюшин М.В. Дневники. Тетрадь
№ 15 // ИРЛИ. Рукописный отдел. Ф. 656), а Харджиев отмечал,
что урбанистические стихи Маяковского несут на себе отпечаток лирики
Гуро, связанной с городом53. Известна высокая оценка произведений Гуро
Хлебниковым. Но, даже когда общий язык не был найден, отчетливым
было сознание наличия у Гуро некиих особых планов и их глубины. Такая
позиция характерна для Б. Лившица, в канун Рождества 1912 г.
оказавшегося в доме на Песочной54 и описавшего позже и свое впечатление от дома, и
облик Елены Гуро, и то, что могло стоять за ним. Возможно, это
свидетельство наиболее проницательно вскрывает «феномен» Гуро,
кратковременной и уже как бы не от мира сего хозяйки этого дома:
«...через месяц, самое большее через полтора, предполагалось
выпустить второй "Садок Судей", и мне в этот же приезд предстояло уговориться
обо всем с М.В. Матюшиным и Е. Гуро, вкладывавшими, по словам Давида,
душу в издание сборника55. В самый канун Рождества я отправился к ним, на
Песочную, с моим неразлучным спутником, Николаем Бурлюком56. Гуро я
знал только по "Шарманке" да по вещам, помещенным в первом "Садке
Судей", и, хотя не разделял восторгов моих друзей, все же считал необходимым
познакомиться с ней поближе.
Очутившись в деревянном домике с шаткой лесенкой, уводившей во
второй этаж, я почувствовал себя точно в свайной постройке. Мне сразу стало
не по себе: я впервые ощутил вес собственного тела в бесконечно
разреженной атмосфере, стеснявшей мои движения...
Я не отдавал себе отчета в том, что со мною происходит, не понимал,
чем вызывается эта чисто биологическая реакция всего организма,
отталкивавшегося от чуждой ему среды, я только с невероятной остротою вдруг
осознал свою принадлежность к нашей планете, с гордостью истого сына
Земли принял свою подвластность законам земного тяготения. Этим самым
я раз навсегда утратил возможность найти общий язык с Гуро. Ее
излучавшаяся на все окружающее, умиротворенная прозрачность человека, уже
сведшего счеты с жизнью, была безмолвным вызовом мне, усматривавшему
личную обиду в существовании запредельного мира.
Бедный Коля Бурлюк... чрезвычайно упрощенно истолковал эту
взаимную платоническую ненависть. По его мнению, вся беда заключалась в том,
что "француз до мозга костей", я вдруг оказался - слегка перевирая
Северянина - "в чем-то норвежском, в чем-то финляндском".
Дело, конечно, было не в одном этом. Не в хрупкой, на тающий ледок
похожей голубизне больничных стен; не в тихой мелопее обескровленных
слов, которыми Гуро пыталась переводить свое астральное свечение на
разговорный язык... не в этих высохших клопиных трупиках, хлопьями
реявших вокруг меня, не в уныло-худосочной фата-моргане, где даже слово
521
"Усикирко" казалось родным, потому что воробьиным чириканьем
напоминало о земле, - не в одном этом, повторяю, было дело.
Столкнулась физика с метафизикой... ясно наметился водораздел между
тяготением к потустороннему и любовью к земному: разверзлась пропасть,
на одном краю которой агонизировал уже выдохшийся символизм, а на
краю противоположном - братались и грызлись еще в материнском чреве
завтрашние друго-враги, будетляне и акмеисты.
Гуро, которой оставалось жить каких-нибудь четыре месяца, так и
посмотрела на меня как на человека с другого берега. Я не мог бы заподозрить
ее во враждебном ко мне отношении, - все в ней было тихость и благость, -
но она замкнулась наглухо, точно владела ключом к загадкам мира, и с
высоты ей одной ведомых тайн кротко взирала на мое суемудрое копошенье.
Я еще не знал тогда, какие глубокие личные причины заставили Елену
Генриховну переключиться в этот непонятный мне план, какие сверх-чело-
веческие усилия прилагала она, чтобы сделать бывшее небывшим и
сообщить реальность тому, что навсегда ушло из ее жизни. Я судил ее только с
узкопрофессиональной точки зрения и не догадывался ни о чем57.
Тем удивительнее показалась мне теплота, с которой и она, и Матюшин
говорили о Крученых, доводившем до абсурда своим легкомысленным
максимализмом (вот уж кому, поистине, терять было нечего!) самые крайние
наши положения. Только равнодушие к стихии слова (у Гуро, вероятно,
подсказанное пренебрежением к нему как к рудиментарной форме проявления
вовне человеческого "я", у Крученых - должно быть, вызванное сознанием
полной беспомощности в этой области) могло, на мой взгляд, породить эту
странную дружбу: во всем остальном у них не было ничего общего» (Там
же. С. 405-407)«.
Общий и, так сказать, концептуальный контекст того движения, в центре
которого оказалась Гуро и в котором ее творчество и ее настроения многое
определяли, был набросан М.В. Матюшиным в предисловии к сборнику
«Трое» (1913), посвященном памяти Гуро: «Новая веселая весна за порогом:
новое громадное качественное завоевание мира. Точно все живое, разбитое
на тысячи видимостей, искаженное и униженное в них, бурно стремится
найти настоящую дорогу к себе и друг к другу, опрокидывая все установленные
грани и способы человеческого общения. И не далеки, может быть, дни,
когда побежденные призраки трехмерного пространства, и кажущегося,
каплеобразного времени, и трусливой причинности, и еще многие и многие другие -
окажутся для всех тем, что они есть, - досадными прутьями клетки, в которых
бьется творческий дух человека, - и только. Новая философия, психология,
музыка, живопись, порознь почти неприемлемые для нормально-усталой
современной души, - так радостно, так несбыточно поясняют и дополняют друг
друга: так сладки встречи только для тех, кто все сжег за собою. - Но все
победы - только средства. А цель - тот новый удивительный мир впереди, в
котором даже вещи воскреснут. И если одни завоевывают его - или
хотя бы дороги к нему - другие уже видят его, как в откровении, почти живут
в нем. Такая была Елена Гуро... Вся она как личность, как художник, как
писатель со своими особыми потусторонними путями и в жизни и в искусстве -
необычайное, почти непонятное в условиях современности явление. Вся она,
может быть, знак. - Знак, что приблизилось время».
522
Эта характеристика определяет то, что Лившиц в своих воспоминаниях
назвал «атмосферой гуро-матюшинского пространства» (109).
В этом двуедином пространстве Матюшин отвечал скорее за «научное», за
его сопряжение с художественным, за то, какие последствия новые идеи
относительно пространства, времени, материи могут иметь для искусства
авангарда59. Роль Гуро в создании атмосферы этого двуединого
пространства совсем иная - женщины, обращенной своим милосердием ко всему, что в
нем нуждается, - растениям, животным, людям, и этим
милосердием-жалостью пытающейся преодолеть отчуждение человека от природы, спасти
природу от агрессивности городской стихии, освободить душу природы
и восстановить душу человека из ее попранности и униженности.
Произведение поэта - «голос неисчерпаемой любви», сам же он - «мать всех вещей
и любит их материнской и гордой любовью», «даятель, а не отниматель
жизни», чувствилище боли, восприемник чужих страданий60. Отмечая, что
последние произведения Гуро «сильны возвышенным нравственным
учением», Хлебников раскрыл суть и движущую силу этой нравственности:
«Здесь плащ милосердия падает на весь животный мир, и люди
заслуживают жалости, как небесные верблюжата, гибнущие молодые звери "с
золотистым пушком". У русских больше хромает хороший или должный рассудок,
чем должное сердце»61. Сердце и жалость влекут к органическому и
природному, к тем его ритмам, которые общи и для природы и для человеческой
души, ими спасаемой и живущей. Отсюда - тяга Гуро к органике природной
жизни и отвержение соблазнов урбанизма и таких модных художественных
идеологий его, как кубизм с его геометрической жесткостью и уплотненной
сплошностью62.
Художественное письмо Гуро иной природы: оно несет на себе следы
некоей неокончательности, фрагментарности, слабой детерминированности,
предполагает разреженности и зазоры, между которыми склубляется некое
звуко-смысловое облако, лишь отчасти проясняемое ритмическими
доминантами. В дневниковой записи 1912 г. (ИРЛИ. Рукописный отдел. Ф. 631)
Гуро как бы формулирует основной принцип, лежащий в основе ее
«относительного» словотворчества: «Говорить слова, как бы не совпадающие со
смыслом, но разбегом ритма говорящих о нарастании чувства». Эти
«несовпадения» и образуют те точки, в которых смысл получает возможность
возрастать, подобно тому, как такие же «несовпадения» в материи города,
«негомогенность» ее позволяют душе совершить прорыв из этой
переуплотненной и жестко-давящей атмосферы вовне, к природе, к спасительным силам.
«Иду под многоэтажными отвесами, их клеткостные высоты пробуждают
мысль о жестокости и об удавлении души - там на чердаках - унесенных
заживо от спасающей земли. Слегка воют, уносясь трамваи... Стесненные
настраивающимися стенами, несколько деревьев, последних спасителей души.
Какая масса проходит мимо их, и никто не подумает: "Вот спасители
души!"» (Дневник Ел. Гуро // ГПБ. Ф. 1116. Ед. 1. Л. 3. Записи от 15 и 16
октября 1908 г.). Было бы странно, если и позже деревья сада за домом 10 по
Песочной, других соседних садов, всего Аптекарского острова не вызывали бы
тех же настроений63. В «Бедном рыцаре», оставшемся в рукописи, связь
души человека с дыханием вселенной и спасительность этой связи обозначены
как нечто физически пережитое и духовно необходимое: «Где бы вы ни
523
стояли, в лесу или в поле, одинаково обращайте душу свою к тому, откуда
исходит, - слышите, что исходит и узнаете голоса деревьев, травы и земли?
И любовь услышите их, рассеянную в воздухе и переходящую волнами,
облачками тепла и обращенную к вам, так как создания любят
внимательных», или: «Попробуй дышать, как шумят вдали сосны, как расстилается
и волнуется ветер, как дышит вселенная. Подражать дыханию земли и
волокнам облаков», или «И наклоняли чашу неба для всех - и все пили, и
неба не убавилось»64.
Эта душевно-духовная стихия, ее просветы, склубления, переливы,
трепетания полнее всего определяют внутренний мир самой Елены Гуро и ее
взгляд изнутри вовне, из микрокосма в макрокосм. Она не успела найти
своего языка для выражения этой главной для нее стихии, а чужим
пользоваться не стала бы. Но, может быть, проживи и больше, она так и не нашла бы
этого «своего» языка, потому что сама эта «разреженно-облачно»
разыгрываемая ею стихия уже и была тем взыскуемым, искомым и найденным
языком, который делает не особенно важным, всего лишь подсобным или, как
нередко у мистиков, вовсе ненужным «свой» язык, язык слишком
овеществленных и негибких слов. Если это так, то объясняется, почему Елена Гуро,
несмотря на ряд исследований недавнего времени, ей посвященных65,
продолжает оставаться не вполне понятой и, пожалуй, даже загадочной
фигурой. Сейчас с уверенностью можно сказать лишь одно: эта фигура, видимо,
намного глубже и значительней, чем она представлена и в воспоминаниях
современников, и в исследованиях специалистов. Но источники для
реконструкции духовного мира Гуро и для суждений о нем не исчерпаны66, а в
цельности этого мира и его носительницы едва ли можно сомневаться - так же,
видимо, как и в «тихом» трагизме ее судьбы. Тень Гуро - на стенах домика
на Песочной, в саду, на любимых ею деревьях, «спасителях души».
* * *
Этот дом был не единственным очагом литературы и искусства на А.о.,
но, вероятно, из наиболее значительных. Два других, во всяком случае,
заслуживают упоминания здесь - квартира Шаляпина на Пермской ул., в доме
26, где он жил с 1915 по 1922 г. (кстати, здесь же жил Г.Е. Грум-Гржимайло)
и где теперь мемориальные комнаты певца в составе экспозиции Музея
театрального и музыкального искусства по теме истории русского оперного
искусства (здесь в квартире Шаляпина некогда бывали Горький, Куприн,
товарищи по сцене и многие другие представители искусства; был здесь и
Блок); квартира Лозинского (Каменноостровский пр., 73-75), где он прожил
сорок последних лет своей жизни из 69, ему отпущенных. «Я горда тем, что
на мою долю выпала горькая радость принести и мою лепту памяти этого
неповторимого, изумительного человека, который сочетал в себе
сказочную выносливость, самое изящное остроумие, благородство и верность
дружбе», - сказала Ахматова в «Слове о Лозинском». Но он был еще
объединителем, ненавязчивым организатором, помощником, хранителем чести
русской литературы и хранителем памяти о том, что было до
катастрофы67, - То был последний год68. Как чаша в сердце храма, / Чеканный он
вместил всю мудрость и любовь, - / Как чаша в страшный миг, когда вино
524
есть кровь, / И клир безмолвствует, и луч нисходит прямо, // ... И чуда не
было. И встала темнота. // ... / Блаженный и слепой, в обугленном
молчанье, I Пока не хлынет смерть я пью свое дыханье. Но, хранитель памяти о
прошлом, он был и провидцем будущего и узнавал это будущее по знакам
вечного города: Как в призванных сердцах - провиденье судьбы, / Есть в
вечных городах просветы роковые... (Петербург II, 1913). И далее там же:
И, мертвый у руля, твой кормчий неуклонный, / Пронизан счастием
чудовищного сна, I Ведя свой верный путь, в дали окровавленной / Читает
знаменья и видит письмена™, В этом доме, последнем перед М. Невкой, у
Лозинского собирались друзья по распавшемуся к тому времени «Цеху
поэтов»70 - Гумилев, Мандельштам, Ахматова, Шилейко и др.71 Здесь Гумилев
читал Лозинскому главу из поэмы «Мик» и «Отравленную тунику», а весной
1917 г. даже жил у него некоторое время72. Здесь он совершал чудо
пресуществления на русский язык Данте, Шекспира, Лопеде Вега, Тирсо де Моли-
на, Бенвенуто Челлини, Корнеля, Мольера, Гоцци, Шеридана, Эредиа, Рол-
лана и других шедевров западноевропейской литературы; были, переводы и
из восточной поэзии - Фирдоуси и Саят-Нова. Этот дом на А.о. стал
центром, в котором творческий гений Запада облекался в русскую форму и
откуда он обращался к русскому читателю. Эта работа удивляет объемом,
разнообразием и прежде всего своим уровнем. «Лозинский был для XX века
тем же, чем был Жуковский для века XIX-го», - писала Ахматова, и в этом
высказывании нет преувеличения. А перевод «Божественной Комедии»
Данте - великий подвиг труженичества на лоне культуры и вершина
мирового переводческого искусства. «Лозинский соединил смирение с
мудростью, сумел исчезнуть в тексте и, весь окутавшись дантовской субстанцией,
как никто до него, сумел проникнуть в самые сокровенные тайники
"Комедии"... Иногда, размышляя о древних переводчиках, переводивших Библию
«боговдохновенно», я невольно уподобляю перевод Лозинского их труду», -
писал Э. Баццарелли. Конечно, А.о. не единственный локус рождения
русского Данте, но все-таки, бесспорно, главный, и то обстоятельство, что он
стал восприемником «Комедии», делает это место А.о. своеобразным
полюсом гуманитарной культуры.
Как краткий итог сказанного до сих пор уместно панорамно представить
тех (конечно, не всех), кто оказался в связи с А.о. тем, что жил здесь или
просто бывал, работал или оставил по себе след, вдохновлялся им и/или
создавал его художественный образ: из писателей - Попугаев, Шишков,
Хвостов, Греч, Жуковский, Батюшков, Гнедич, Пушкин, Вяземский, Жукова,
Достоевский, Вс. Крестовский, Михневич, Мережковский, Горький, Куприн,
Блок, Лозинский, Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Шилейко, Гуро,
Хлебников, Маяковский, Крученых, братья Бурлюки, Лившиц, Каменский, Ваги-
нов, Алданов, Чапыгин, Зощенко, В. Инбер, Матюшина, Битов, Шефнер,
Кушнер, Окуджава и др.; из представителей музыки и театра - Глинка,
Даргомыжский (ср. известную дачу Даргомыжских на А.о.), Каратыгины,
Савина, Шаляпин, Юрьев и др.; из деятелей изобразительного искусства -
Опекушин, Малевич, Татлин, Филонов, Матюшин, Петров-Водкин, Е. Лансере,
Розанова, Любавина, Мансуров, Чарушин, Ю. Васнецов, Эндеры и др.; из
архитекторов - Баженов, Воронихин, Тома де Томон, Д. Адамини, Паульсен,
Феррари, Брюллов, Тон, Дитрих, Гейслер, Томишко, Лидваль, Лялевич,
525
Щуко, Крыжановский, Дмитриев, Гингер, Оль, Н.Е. Лансере, Никонов,
Ламагин, Векшинский и др.; из ученых - Грум-Гржимайло, A.C. Попов,
Бехтерев, Павлов, Л.А. Орбели, Аничков, Ланг, Заболотный, Комаров,
Гаккель, Графтио, Бахтин и др. Эта панорама А.о. в ее «персонологическом
аспекте» наглядно вскрывает слой «культуры», связанный с этим местом,
и тот способ, с помощью которого это место «разыгрывается» наиболее
полно и показательно.
* * *
Из всего до сих приведенного материала очевидно, что стихия
«культуры» в пространстве А.о. адекватнее всего проявляется в«литератур-
н о с τ и», связанной с этим островом и с Карповкой. Хотя начало этой
«литературности» уходит в петровские времена (подворье Феофана Прокопо-
вича, который сам был видным писателем, «Карповская школа» и ее
воспитанники-литераторы), этим периодом применительно к теме А.о. можно
пренебречь: фактическая связь слишком необязательна и, насколько
известно, носит внешний характер. Тем не менее не будет преувеличением
сказать, что А.о. определенно повезло в литературе (хотя она значительно
уступает тому, что написано о Невском, Летнем саде, Марсовом поле,
Сенатской площади, набережных или даже Сенной, Разъезжей или Волковом
поле) и что литературе повезло в том, что написано об А.о. Уже
упоминавшуюся повесть В. Попугаева «Аптекарский остров, или бедствия любви»,
имея в виду значение этого локуса в Петербурге, следует признать и очень
ранним (1800), и очень ценным первоисточником литературного и внелите-
ратурного значения. Помимо того внимания, которое уделяется в повести
природному ландшафту, быту, топографии, причем все это вводится сразу
же, динамично и интригующе-интересно73, нельзя забывать, что герой
повести - не только пламенный любовник, один из ранних представителей
русских вертерианцев, но и π о э τ - по силе чувства и фантазии, по степени
потрясенное™ и способности к преодолению реальности, по потребности и
естественности поэтического выражения чувства. Когда Маша, стоявшая у
дерева при первой их встрече, уходит, «он приближается к дереву... лобызает
его, и просит в исступлении чтоб ему сказала (так! - В.Т.), кто его
возлюбленная. Но вскоре опамятывается, дивится сам своему забвению и впадает в
глубочайшую задумчивость... Встает, и начертав на корке дерева
следующие стихи: - уходит / Бейся бейся сердце страстно! / С вздохом томна грудь
теснись, / Утро дней моих ненастно, / Смерть разить меня стремись / Я
лишился век покоя, / Мне счастливым не бывать; / Нежным взором мила Клоя
/ Мне велела воздыхать. // Ах! всегда, всегда спокоин / Я дотоле пребывал. /
Лучше, лучше б взор я Клоин / Никогда бы не видал / Я не зрел бы сих
терзаний / Не горел бы как горю, / Не пускал б о той страданий, / Коей может
не узрю"74.
Следующее произведение на тему А.о. - «Вечера на Карповке»
Жуковой - совсем иного рода, но оно еще более «литературно» в указанном
смысле, чем повесть Попугаева. Можно с уверенностью говорить, что оно
насквозь литературно. Собственного содержания у книги, объединяющего все
шесть сюжетов ее, практически нет: отдельные элементы его слегка угады-
526
ваются по тому, что можно было бы назвать «ремарочной» частью. Шесть
предлагаемых читателю сюжетов между собой практически не связаны, но
скреплены двояко - личностью рассказчиков, которые собираются на
«вечера на Карповке», на даче у Натальи Дмитриевны, и тою общей рамкой,
которая определяется некиим пространственно-временным единством и
постоянным составом участников. Впрочем, объединяющим началом
оказывается и сам автор - Жукова, выступающая в тексте как добрая знакомая
Натальи Дмитриевны. Именно она собирает рассказанные повести воедино
и издает их75. Ситуация, лежащая в основе книги, почти «декамероновская»:
постоянные посетители дачи на Карповке (место) по вечерам (время), в
обстановке относительной удаленности от города приглашаются досуга ради
рассказать нечто интересное друг другу. «Я уверена, - говорит хозяйка, -
что каждый из нас, если только захочет порыться в памяти, то найдет в ней
многое слышанное, виденное; происшествия, в которых сам был
действующим лицом или зрителем - словом, что-нибудь, могущее приятно занять
праздную лень полубольного или досуг деревенского жителя». То, что
рассказывают друг другу участники этого «карповского» кружка76, очень
литературно, и за «литературностью» следят и рассказчики и слушатели,
требующие заглавий, эпиграфов и других признаков ее. Но этим она не
исчерпывается: она питается пронизывающими и текст рассказов, и соединительные
части весьма многочисленными литературными реминисценциями. Имена
писателей (Аристипп, Данте, Тассо, Бекон, Скюдери, Ларошфуко, Ля Бо-
мель, Буат, Вольтер, Мармонтель, Шиллер, Гёте, Бомарше, Шатобриан.
Байрон, Сирюс, Леклерк, Жанлис, Жан-Поль, Бальзак, Жанен, Масон, Де
Жерондо, Виньи, Гюго, Реньяр, Поль-де-Кок; Тредиаковский, Ломоносов,
Богданович, Карамзин, Жуковский, Козлов, Вяземский, Пушкин, Белкин
(так! - В.Т.), Марлинский, Безымянный и др.), художников (Рафаэль, Гвидо
(Рени), Альбан, Рубенс, Рембрандт, Сальватор Роза, Теннер (так! - В.Т.)),
композиторов (Россини, Мейербер, Вебер, Обер), ученых (Пифагор, Тихо
Браге, Скалигер, Шлецер, Гиббон, Шамполион, Гумбольдт), исторических
деятелей, мифологических персонажей и образов художественной
литературы, литературных произведений и опер, включенные в текст стихи (прежде
всего в эпиграфах), и т.п. - все это создает тот литературно-культурный
фон, который в очень значительной степени определяет всю картину. Но
это лишь полдела. Участники «карповского» кружка следят за новой
литературой, читают романы, знакомят с ними своих собеседников; все это
пересказывается, заинтересованно обсуждается, западноевропейская литература
сравнивается с русской, устанавливаются аналогии, извлекаются уроки;
чтение литературы неизбежно сопровождается разговорами о ней, которые
образуют уже некую новую «металитературну ю» данность77.
А.О., Карповка, «карповская» дачная жизнь определенным образом
способствовали этой «литературности», и самые разные факторы в этом случае
могли действовать заодно: сосредоточение здесь в летний сезон большого
количества дачников, делившихся на свои более или менее интимные
кружки и компании, обилие досуга, потребность в его заполнении (особенно в
условиях плохой погоды, вынуждавшей сидеть дома), атмосфера некоторой
«соревновательности» литературных познаний и вкусов, близость города с
его новостями, в частности литературными (газеты, журналы, театр и т.п.).
527
Карповская «литературность» со временем стала традицией, и, кажется, для
определенного времени и для определенных карповских локусов уместно
говорить о своего рода культе литературы, чтения, споров и обсуждений
прочитанного. Можно также предполагать, что существовал (или был на
пути к формированию) некий литературно-бытовой этикет и что в основе
«карповской» литературы (типа рассказов, вошедших в книгу Жуковой)
лежал субстрат в виде устных рассказов, но не как случайных, спонтанных
актов, а как подготовленного в соответствии с определенными требованиями
институализированного жанра. И в этом отношении Карповка и А.о., где
читали и обсуждали прочитанное, заметно отличались от Каменного и
Елагина с их музыкой, театром, великосветскими развлечениями («дачный»
вариант). Во всяком случае «литературность» вечеров на Карповке
свидетельствуется идо жуковских «Вечеров»78, и π о с л е них, вплоть до
предреволюционных «карповских» литературных вечеров в Медицинском институте.
Разумеется, речь идет об отчетливо выраженной тенденции, которая
оказалась ведущей, но все-таки не упраздняющей и некоторые другие
описания «карповской» зоны и А.о. О них здесь нет смысла говорить подробнее,
но все же стоит заметить, что «литературная» тема возникает даже в самом
нестандартном изображении этих мест в «Петербургских трущобах»
Вс. Крестовского79. Впрочем, и вне темы «литературности» некоторые
мотивы, привязанные к А.о., заслуживают быть отмеченными. Среди них
мотив смерти - трагической, поскольку ее могло не быть, поскольку вещество
жизни не было изжито, поскольку продолжение жизни обещало счастье.
Этот мотив, намеченный в финале повести Попугаева об А.о. (молодой
поэт-самоубийца, еще недавно счастливейший возлюбленный),
воспроизводится и в известном рассказе Гаршина «Attalea princeps» (1879) - о
прекрасной пальме «в огромной оранжерее из железа и стекла» в ботаническом
саду «одного большого города»: «Томясь в тесноте, мечтая о свободе и
счастье, она всеми силами тянулась вверх в надежде пробить стеклянную
крышу и обрести желанное. "Нужно только работать дружнее и победа будет за
нами", - думала она, тогда как окружающие деревья отговаривали ее:
"Несбыточная мечта! - кричали они, - вздор, нелепость!" Но когда наступил
долгожданный момент и вершина пальмы, пробив стекло, вырвалась
наконец на волю, этот счастливый миг стал мигом прозрения бесплодности всех
усилий: "Только-то?.. И это все, из-за чего я томилась и страдала так долго?
И этого-то достигнуть было для меня высочайшею целью?" Охваченная
холодом, дождем пополам со снегом, "Attalea" поняла, что для нее все было
кончено... Она должна была стоять на холодном ветре, чувствовать его
порывы и острое прикосновенье снежинок, смотреть на грязное небо, на
нищую природу, на грязный задний двор ботанического сада, на скучный
огромный город, видневшийся в тумане, и ждать, пока люди там внизу, в
теплице, не решат, что делать с нею. Оставалось ждать помощи или гибели.
Вырвать эту дрянь и выбросить, - сказал директор. - ... Посадить здесь что-
нибудь новое". И вскоре мертвая пальма уже лежала в грязи,
полузасыпанная снегом». Через шестьдесят с лишним лет в блокадном дневнике под
датой 15.XI. 1941 появляется запись: «Возле прозекторской упала вчера
большая фугаска. Вторая ударила в Ботанический сад. В оранжерее вылетели
все стекла, и оттуда хлынул холод. Пальмы погибли уже к утру»80. Грань,
528
отделяющая жизнь от смерти, на этот раз была нарушена злой силой извне,
а не наивной пальмой изнутри, как в рассказе Гаршина. И с этого дня тема
смерти собирает свой страшный урожай в дневнике, потому что вне его,
здесь, на А.о. или на Карповке, ее царство, и спасенья от нее нет: она
является не только извне, но и изнутри. «Страшно, выйдя утром из наших задних
ворот, очутиться у стены прозекторской, на берегу Карповки. Это -
мертвецкая всего района, под открытым небом. Ежедневно туда привозят на
салазках восемьдесят трупов. Там они лежат на снегу. Гробов становится все
меньше: не из чего их делать. Мертвецы в простынях, скатертях, лоскутных
или байковых одеялах, иногда в портьерах. Однажды я видела небольшой,
видимо, очень легкий трупик ребенка в оберточной бумаге, перевязанный
бичевкой. Все это зловеще пестреет на снегу». Карповка стала рекой
смерти81, новыми жертвами возродив старую мифологему реки-смерти. Вижу
серого оттенка / Мойку, женщину и зонт, / Крюков, лезущий на стенку, /
Пряжку, К α ρ η о в ку, Смоленку, / Стикс, Коцит и Ахеронт (Кушнер.
«Вижу, вижу спозаранку...»). Смыкание до неразличимости Карповки и
других речек с античными образами реки смерти, точнее, реки-смерти тоже
отсылка к мифо-поэтическому пространству и косвенно к «литературности»,
возникающей и в вагиновской «Козлиной песни»82. «На Карповке, в
двухэтажном доме, бывшем особняке, похожем на серый ящик с дырками,
увенчанный фронтоном и гербом со сбитой короной, по прежнему жил
философ. В доме, кроме него, жили китайцы, приехавшие из провинции Шан-
дунь, делающие бумажные веера... Андрей Иванович ясно чувствовал, что
он освещает вопросы философии и методологии совсем не перед той
аудиторией, перед которой разрешать их должен, что в общем это какая-то
дикая забава. К чему методология литературы его вечному спутнику
фармацевту», - думает философ под звуки гитары за стеной. И далее: «Он
смотрел вниз на вечерний город, на движущиеся толпы с иными
движениями, с размашистой походкой, с трубками во рту. Колокольный звон донесся
со стороны»83. Этот звон пробудил философа, как Фауста у Гёте, к жизни, к
дорогим воспоминаниям - о своих философских занятиях, о первой встрече
с будущей женой в имении одного из приятелей под Москвой, «но за стеной
снова завздыхала гитара, вошла четырехлетняя босоногая малютка и стала
шагать рядом с философом, напевать и хлопать в ладоши. - Я русська, я
русська»84.
* * *
Но мифопоэтическое в связи с А.о. и Карповкой нередко приобретает
характер мифа-анекдота, иногда guignol' я, но в отдельных случаях и
некоей остающейся неразгаданной тайны. «Читал я в газетах, - начинает
Ремизов в связи с "карповской" темой85 в "Учителе музыки", - как мальчишку
какого-то Петьку "погасили": был на свете Петька и вот не стало, и хоть и жив
он живехонек и вихры торчат по-прежнему, а уж нет его - "погасили"!
Скажу кратко, как это все вышло и что это такое "погасить". У Петьки мать
прачка Марья, по стиркам ходит. Идет она раз вечером к себе на Карповку,
а на берегу у моста народ. И как увидели ее, кричат: "Твоего выловили,
утоп!" Ну, поплакала, потужила, да видно уж судьба, и похоронили маль-
529
чишку - разговаривать много не будут, живо схоронят! А так дня через три
к ночи и является домой Петька - экий, сбежал на тот свет за счастьем, да
чего-то вернулся! Тут-то и начинаются Петькины мытарства. Повела его
Марья к сапожнику, думала по сапожному мастерству определить. И
сапожник принять Петьку не отказывается, только давай метрику. Марья к
дьякону. А дьякон-то уж отметил в церковных книгах, что Петька помер, и
никакой метрики выдать не может. "Я, - говорит, - его погасил". Так и
"погасили" Петьку, и ходу ему никакого. Про эту историю я как вычитал в газете,
и очень меня тогда растрогало: я себе все представлял этого бродячего
"погашенного" Петьку среди нас "не погашенных"; и мне очень было его
жалко. Потом я позабыл о Петьке». И напрасно, потому что с самим автором
при его возвращении из-за границы, в жандармской дежурной в Вержболо-
ве, произошел случай, когда его самого чуть не «погасили». Тут он и
вспомнил о «погашенном» Петьке, который превратился тем самым уже в
персонажа некоей трагикомической парадигмы: «карповское» стало
универсальным, почти притчей.
И другой «макаберный», в духе «Бобка», миф-анекдот о «современном
мертвяке» в том же «карповско-аптекарском» локусе. Гости, пришедшие к
Корнетову на Песочную на «Избиение младенцев», ведут непритязательную
беседу.
«- Постойте: сейчас ровно полночь, - сказал Корнетов, - к Акулине
пришел зять! И предложим гостям пройти в «чертячью» комнату, а из
чертячьей в прихожую и там подняться по лестнице... Акулина спала наверху в
темной комнате.
Акулина, заменившая у Корнетова Ивановну, пришла от Ивановны, с
которой водила дружбу ее тетка, известная тем, что стоило ей где
переночевать, и оттуда обязательно уходили все тараканы. Прошлой зимой у Акули-
ны умерла сестра, а нынче летом зять: оба покойника не затвердели, а
лежали в гробу мягкие, как живые, - верная примета, что в семье будет еще и
третий покойник. А кому же и быть этим третьим? Никому, как самой
Акулине, и вот она ждала себе смерти. Вечерами она усаживалась на теплую
плиту и часами так сидела - так не раз заставал ее Корнетов, - сидела в
смертной думе. А всякую ночь приходил к ней с того света зять, корил ее,
что плохие туфли ему мертвому надела, и наказывал ей: когда она придет,
чтобы захватила с собой крепкие...
- Так вот, господа, зять уж сидит! - объявил хозяин... Зять-мертвяк и
вправду сидел у Акулины - это чувствовалось. Только не слышно было, что
он говорит ей, о чём таком... о каких чудесах, или жаловался? Вот туфли-то
плохие положила она ему в гроб, сносил он... - стало быть, не в каретах там
разъезжают, а может, и холод такой же и беда такая же?
И вдруг все ясно услышали: - Привези мне говядины, - сказала
Акулина, - филейную часть. Хозяин-то всякий день блинчики, одними
блинчиками питается. Филейную часть.
И словно бы поцеловались: что-то чмокнуло. А мы, кто как стоял, так и
застыли. И слышно было: там заскрипели полозья. - Уехал! - прошептал
Корнетов...
«Мертвяк» подогрел Крещенское настроение. И на загладку Иван
Александрович рассказал чудесные сказки о басаркунах Подкарпатской Руси -
530
кто читал "Страшную месть", тот помнит, какие чары связаны с именем
Карпат, откуда выходят колдуны, не уступают по силе Лапландским ной-
дам - и этим Гоголем и кончился вечер, последний петербургский в канун
Революции».
Последний предреволюционный вечер кончился, но революция не
прервала той цепи таинственного и иррационального, отдельные звенья
которой время от времени обнаруживали себя здесь, на А.о., или смежном
пространстве.
В «Петербургских зимах» Георгий Иванов несколько страниц уделяет
А.Д. Скалдину. Выстраиваемый образ Скалдина рассчитан на то, чтобы по
меньшей мере удивить читателя, подчеркнуть в нем таинственное и
мистическое, выделив его на фоне реального, конкретного, положительного, также
характерного для этого человека86. «Не знаю, что влекло С(калдина) ко
мне, - пишет Г. Иванов, - но меня... в нем влекла именно эта
недоговоренность. Я был очень молод, и всё таинственное меня очень занимало. Свои
недомолвки и намеки С(калдин) "подавал" очень серьезно, и я, не без основания,
подозревал, что он не только директорствует в своей фирме и пишет стихи,
но ведет еще какую-то другую загадочную жизнь. Недавно я с упоением
прочел Гюисманса и порой задумывался, не дьяволопоклонник ли мой друг...».
Раз Г. Иванов пришел к Скалдину на Каменноостровский87, невзначай,
довольно поздно. Долго и напрасно звонил, собирался уже уходить. Но вот «в
передней послышались шаги. Открыл мне сам С(калдин). Он был во фраке,
бледнее обыкновенного. Посмотрел на меня как-то странно. - Ты... вот не
ждал. Подожди минутку. Я сейчас освобожусь». Гость почувствовал, что
пришел некстати, и хотел откланяться, но хозяин довольно настойчиво ввел его в
гостиную, попросил посидеть минутку и притворил дверь. Посидев с четверть
часа и соскучившись, гость приоткрыл дверь в соседнюю столовую и чуть не
ахнул. Стол был накрыт необычайно богато - множество дорогой посуды,
вызолоченные блюда, кубки, графины, на всех вещах был выгравирован герб
со звездой и лилией, но без короны. Еды, однако, никакой не было, если не
считать нескольких кусков черного хлеба на золотом блюде и небольшого
количества воды или вина в двух желтых бокалах. Гость не сомневался, что
Скалдин принимает даму, и любопытство толкнуло его посмотреть на нее
через замочную скважину. Ожидание было полностью обмануто. «...С(калдин)
подавал шубу маленькому худому старичку с длинной, совершенно белой
бородой. С(калдин) подал ему шубу, потом сам надел ему ботинки, подал шапку
и палку и низко, почти до земли, поклонился. Старичок сделал
благословляющий жест и протянул руку. С(калдин) ее поцеловал. Они вышли вместе.
Должно быть, С(калдин) провожал своего гостя до улицы...». Вернувшись,
Скалдин попросил гостя никогда не расспрашивать его о том, что он мог
случайно видеть или слышать. И, извинившись, распрощался с ним.
На следующий день, когда Г. Иванов пристал к Скалдину, «что
называется, с ножом к горлу», тот только отшучивался в обычной для него манере:
«- Ну, да, - у меня была дама. - С седыми волосами!
- Напротив, с черными... Испанка. - Я видел. - Значит плохо видел.
- А золотая посуда с гербами? - Не золотая, а серебряная, и без гербов...
Ну, полно говорить о глупостях. Ты будешь завтра в балете?..
Любопытство мое так и осталось неудовлетворенным».
531
С годами дружба со Скалдиным несколько охладела, его таинственность
утратила интерес, о том странном вечере речь больше не заводилась,
литературные занятия и жизненные интересы направились в разные стороны.
Но редкая переписка продолжалась. В мае 1914 г. Г. Иванов, зная о
предполагаемом отъезде Скалдина за границу, пожелал ему счастливого пути.
«В ответном письме было: "За границу я не еду. Опоздал. Теперь скоро
будет война во всем мире и лет на десять..." Началась война. Предсказание
С(калдина) пришло мне на память. Я разыскал его. - Откуда ты знал, что
будет война? - было первым моим вопросом при встрече. - Откуда? Сам не
знаю. Приснилось... Почудилось. - Ты бы мог зарабатывать хорошие
деньги предсказаниями, как мадам Тэб. - Как мадам Тэб? Это и ты бы мог. Она
в этих делах полная невежда».
И о последней встрече со Скалдиным:
«Последняя наша встреча была странной. Был 1918 год. Я шел по Кар-
повке вечером. Было темно и пусто. Навстречу мне попался человек. Шел
он как-то покачиваясь, шляпа его была на затылке. Поравнявшись, я узнал
С(калдина)... Где ты пропадал? - спросил я. - Все время здесь в
Петербурге. - Что ж тебя нигде не было видно? - ...Так... где же теперь видеться...
Зайдем ко мне, потолкуем, хочешь? Я здесь теперь живу». Дом был
роскошный, квартира тоже. Электричества не было, но, когда хозяин чиркнул
спичкой, видны были зеркала, огромные вазы, люстры, картины. «Холод стоял
нестерпимый. Наконец, - резкая перемена температуры - камин, полный
пылающих поленьев. С(калдин) зажег свечи в большом канделябре. Я сразу
узнал его - это был тот самый канделябр. - Узнаешь? - спросил С(калдин),
с улыбкой, точно угадав мои мысли... - Почему ты спросил "узнаешь?". -
Так ведь ты узнал канделябр. Зачем ломаться? - Узнал. И, раз ты сам об
этом заговорил, - может быть, ты теперь мне расскажешь, что все это
значило?.. - Ну, что там рассказывать. - С(калдин) помолчал. - Показать тебе,
если хочешь, могу кое-что. А рассказывать нечего. Да ты и не поймешь все
равно... - Что же ты хочешь мне показать? - спросил я. - А... ты об этом?
Стоит ли? Во-первых чепуха, я убедился. Да и ты мальчик нервный, еще
испугаешься. - Что за страхи? Ты меня мистифицируешь! Показывай, раз
обещал. - Ну, изволь. Только уговор - объяснений не требовать. С(калдин)
достал из ящика бюро простую глиняную миску... налил миску до краев.
Потушил все свечи. Камин ярко горел. - Ну, - С(калдин) взял меня крепко
за локоть - гляди. - Куда? - В воду гляди...
Я с недоверием стал глядеть в воду. Вода как вода. Он меня морочит.
Я хотел это сказать, но вдруг мне показалось, что на дне миски мелькнуло
что-то вроде золотой рыбки. С(калдин) крепче сжал мой локоть. - Гляди! -
В воде снова что-то мелькнуло, потом, как на матовом стекле
фотографического аппарата, обрисовались какие-то очертания, сначала неясно, потом
отчетливей... Я вздрогнул. - Это столовая С(калдина) в его старой квартире.
Стол накрыт, как в тот вечер, - золотая посуда, канделябр с оплывшими
свечами. И я стою в дверях, подхожу к столу, осматриваюсь, трогаю крышку
блюда...
...Резкий свет, и все пропало. Это электрическая станция на радость (и на
беспокойство - вдруг обыск) советским гражданам включила ток. Огромная
люстра на потолке засияла всеми свечами. - Тсс... - остановил меня С(кал-
532
дин). - Помни уговор. Потерпи. Другой раз я покажу тебе что-нибудь
поинтереснее».
Но другого раза не было: «Но не только что "поинтереснее", но и
самого С(калдина) мне увидеть не удалось. Через два дня я получил от него
записку: "Не приходи ко мне, у меня на квартире засада, из Петербурга
приходится удирать..."».
Что здесь «правда» и что здесь «поэзия», что мистика и что
мистификация, что действительно от Скалдина (нет сомнений, что он был мистически
одаренной натурой, и его известный роман «Странствия и приключения Ни-
кодима старшего» (Пг., 1917) как один из интереснейших образцов поздней
русской гофманианы не единственное свидетельство этого дара) и что от
самого Георгия Иванова, не чуждого ни мифотворчеству, ни мистифика-
торству, - решить до конца трудно. Но сходная с описанной схема
повторяется у него в «Петербургских зимах» еще однажды и тоже в «прикарповской»
полосе или совсем по соседству с нею:
«"Петербургская сторона - Плуталова улица. Место глухое, настолько
глухое, что даже милиция сюда не заглядывает88. Иначе не обнаглел бы
какой-то проживающий здесь спекулянт до того, чтобы прибить у дверей
вывеску о своей торговле. На вывеске стоит черным по белому: "Здесь
продавца собачье мясцо". На Плутал овой живет В., занимает комнату с кухней в
грязном шестиэтажном доме». В. - бывший писатель, теперь ничего не
пишущий и живущий по принципу, им самим сформулированному, - «Плюнул
на литературу - жить красиво, вот главное». Об этом В. и вспомнил Георгий
Иванов, как-то допоздна засидевшийся у знакомых где-то на Петербургской
стороне и сообразивший, что ему едва ли удастся добраться до дому, в
конце Бассейной, не попав на обход и в участок, а может быть, и в Чека. Дом В.
находился неподалеку, и Г. Иванов надеялся переночевать у своего собрата
по литературе. Стук в дверь, отсутствие ответа. Наконец, дверь
открывается, выходит В., уже навеселе: «- Голубчик! Какими судьбами? Желаете
согреться?» Узнав о намерении гостя переночевать, В. засуетился, но все-таки
уложил его на свою кровать за рваный штофный полог, предупредив, что к
нему должен придти один книжник. Прошло какое-то время. «...Я
проснулся. За занавеской шел тихий разговор. Говорил больше чужой голос,
вкрадчивый и скрипучий. В. только изредка вставлял что-нибудь. - От Бога-то вы
отвернулись. Отвернулись, ладно, очень хорошо. Но мало от Бога
отвернуться, мало, друзья. Надо еще перед Ним заслужить. Так, думаете, он вас и
примет сразу, так и начнет помогать, едва крест с шеи долой... - Да как же
заслужить? Церкви ему строить? Акафисты петь? - И церкви, и акафисты,
и в сердце его одного иметь. Главное - в сердце иметь. Тогда он и поможет. -
Что же тогда будет, когда поможет? - Все будет, все, слышишь. Булки
разные, и ветчина, и шпроты, и белая головка - чего хочешь. И не за деньги,
хотя бы по старой цене, а даром - бери, что желаешь, ешь, что желаешь,
пей - все бесплатно на вечные времена, только его в сердце держи... - Ну,
так вот, прежде всего, как уговорено - пять тыщ. - Уже и пять? Вчера
было три! - Пять тыщ... - меньше никак не справиться. Потом, вот записочку
эту возьми, переписать надо, знаешь... Потрудись во славу его... - Ну мне
пора. Покойнички-то мои, верно, беспокоятся - две ночи пропадаю. Все дела,
дела... - И не страшно тебе на кладбище? - Чего же страшно? Напротив -
533
компания приятная. - И не гадко? - Что же такое - гадко? Конечно, если кто
еще червивый и лезет к тебе... А которые долго лежат, подсохли... Что же
в нем гадкого? Из баб попадаются экземплярчики... - Молчи уж. Спать
потом не буду, как понарасскажешь... Старичок захихикал. - Какой
слабонервный... Ну, ничего, главное - помни - его в сердце держи... - Г.В., где вы
спите? - окликнул меня хозяин, проводив гостя. Я не отозвался... Утром, когда
я уходил, В. еще спал тяжелым и крепким сном пьяницы.
"Перепишите и разошлите эту молитву девяти вашим знакомым. Если
не исполните - вас постигнет большое несчастье...". Дальше шла молитва:
"Утренняя Звезда, источник милости, силы, ветра, огня, размножения,
надежды...". - Странная молитва! Ведь Утренняя Звезда - звезда Люцифера. -
Странная! Не это ли велел В. переписывать его старичок, чертопоклонник,
помнишь, я тебе рассказывал? - Разговор шел полгода спустя в квартире
Гумилева на Преображенской... - Странная молитва! Возможно, что
именно В. ее прислал, раз он, как ты говоришь, возится с чертовщиной. Но
глупо, зная меня, посылать мне такие вещи. Какой бы я был православный,
если бы стал это переписывать и распространять? - Глупо вообще
рассылать. Кто же станет переписывать?.. - Ну, положим, станут... - То есть из
боязни, что с ними случится несчастье, перепишут? - Конечно. - Какая
чушь!.. - Не такая чушь, как думаешь. Эти угрозы, поверь, не пустые
слова. - Тогда тебя теперь должно постигнуть несчастье? - Должно. Несчастье
будет на меня за это направлено, я не сомневаюсь. Не улыбайся, я говорю
совершенно серьезно. Кто-то сознательно послал мне вызов. Я сознательно,
как христианин, его принимаю. Я не знаю, откуда произойдет нападение,
каким оружием воспользуется противник, - но уверен в одном, мое оружие -
крест и молитва - сильнее. Поэтому я спокоен. - Удивительно. То В. и его
старикашка, теперь эта молитва, твой разговор... Никогда не думал, что
существует что-нибудь подобное. - А вот, представь, существует. Можно
прожить всю жизнь, ничего об этом не зная - и это самое лучшее. Но легко,
случайно, как ты с ночевкой у В., коснуться чего-то, какой-то паутины,
протянутой по всему свету, - и ты уже не свободен, попался, надо тебе сделать
какое-то усилие, чтобы выпутаться. Не сделаешь - можешь пропасть. И,
заметь, - до вечера, проведенного у В., жил ты и никогда с таким не
сталкивался. А столкнулся раз, сейчас же тебе попадется и этот акафист, и наш
разговор, и будет непременно еще попадаться. Кто-то там тобою уже
интересуется. Может быть, мне и прислали этот листок только для того, чтобы
ты его прочел. Или, наоборот, - охота идет за мной, а ты ни при чем...».
Этот разговор был в январе, а в середине марта Гумилев, встретившись
с Г. Ивановым, предложил ему прогуляться от Прудков до Лавры, где ему
надо было зайти к сапожнику («Умнейший старик. Начетник - священное
писание знает, как архиерей, о Пушкине рассуждает... мужик с Волги, в
тридцать лет писать научился... Вроде Клюева, только поострей. Да ты сам
увидишь»). Пройдя Старый Невский, обогнув Лавру, свернули в какой-то
проулок. Деревянный забор, двор в снегу, сени, лесенка, дверь... «К Илье Наза-
рычу? Дома». А дальше - беседа, ради которой - прежде всего - вся эта
долгая прогулка. «...Проворно работая шилом при свете коптилки, старик в
грязной блузе... говорил: - Вы, Николай Степанович, извиняюсь,
ошибаетесь. Пушкин, Александр Сергеевич, России не любил. До России ему дела
534
никакого не было. Душой он немец, вот что. А любил он, ежели желаете
знать, жену да Петра. - Какого Петра? - Петра Первого, Великого, как его
зовут. А почему велик - все потому же, немец был, не русский. - Вы, Илья
Назарыч, заговариваете(сь) что-то. Пушкин немец, Петр Великий немец.
Кто же русские? - Русские?.. Хе, хе... Кто русские... (Где я слышал этот
хрипловатый голос и это хихиканье? Ведь слышал же?). - Русские? Как бы вам
сказать... Ну, для примера, вот вам наш Санкт-Петербург - град Святого
Петра, хе-хе... Кто его строил? Петр, скажете? Так ведь не Петр же в болоте
по горло стоял и сваи забивал? Петра косточки в соборе на золоте лежат.
А вот те, чьи косточки, тысячи и тысячи, вот тут, - он топнул ногой - под
нами гниют, чьи душеньки неотпетые ни Богу, ни черту не нужные, по
Санкт-Петербургу этому, по ночам, по сей день маются, и Петра вашего, и
нас всех заодно, проклинают, - это русские косточки, русские души...".
Разговор продолжается. В комнате чисто, книжки разложены. «Что это он
пишет, давай посмотрим? Гумилев отвернул обложку копеечной тетрадки. На
первой странице было старательно выведено: "Утренняя Звезда, источник
милости, силы, ветра..." - Что это такое, Илья Назарович?... - Такое, что по
чужим комодам шарить не полагается. - Вы, значит, это прислали? -
Выходит, что я-с. -Зачем? - Там было указано, зачем, - переписать и разослать. -
Да вы сами понимаете, к кому эта молитва? Сапожник насупился. - Нет у
меня времени, граждане, к сожалению, времени не имею. Вот ваши
сапожки. Дозвольте деньги за работу - ждать муки мне несподручно. И, если по
сапожной части, ищите, господин, другого мастера. Я в деревню уезжаю...
...Где я слышал этот голос? А! - вот что... - Уезжаете? Покойнички
беспокоятся? - сказал я тихо. Старик посмотрел на меня насмешливо. - Чего им
беспокоиться, молодой человек? Им в земле покойно. Это, скорее, живым
следует. Мое нижайшее, граждане».
И еще некоторое время спустя, финал истории, начавшейся на «тихой»
Плуталовой: «Через год, под грохот кронштадтских пушек, я шел по Камен-
ноостровскому. Меня окликнули. - В., какой-то облезлый, похудевший. -
Что с вами? - На Шпалерной сидел. Попал в засаду. - Где же? - Так, из-за
спирта. Сапожник один спирт мне доставал. Зашел к нему, - ну, а там
засада. Три месяца продержали... - Сапожник? Это не в Лавре, не Илья
Назарыч? - Вот как? Значит, спите вы не так уж крепко. Верно, Илья Назарыч.
Но откуда же вы имя и адрес знаете? - Не только адрес, но и был у него и
не прочь бы еще зайти потолковать. Может, пойдем вместе? В. криво
улыбнулся. - Трудновато это: в декабре еще расстреляли. За спирт. А жаль -
славный спирт продавал, эстонский, и брал недорого»89.
Блокадная пора знала свои мемораты, легенды и мифы; кое-что
удерживается в памяти очевидцев, иногда в следующем после них поколении. Чаще
все эти воспоминания растворяются в стихии анонимности, и это относится
как к субъекту, так и к объекту воспоминаний. Но отдельные отмеченные
фигуры, как, например, Филонов, сохранены в записанных воспоминаниях.
Этот страшный фон, так или иначе оставивший по себе свидетельства, хотя
и несравненно более скудные и случайные, чем могло бы быть, как и столь
же страшные годы, предшествующие войне и за нею следующие, делают
едва ли нужным упоминания о некоторых других текстах, так или иначе
связанных с А.о. или, хотя бы случайно, касающихся этой темы90.
535
* * *
Но своего лучшего описателя А.о. нашел в 60-70-е годы нашего века в
лице Андрея Битова, открывшего и засвидетельствовавшего новый,
несравненно более глубоко и разнообразно разработанный «портрет» этого
острова. Житель А.о., он помещает свою авторскую позицию в то место, где он
жил сам, в «дом английской готики», на углу Аптекарского проспекта и
Песочной, напротив Ботанического сада, в один из наиболее емких и
суггестивных локусов всего острова, в точку скрещения двух координат, с которой
подлинно видно (во всяком случае, по идее), почти по Гоголю, «во все
концы» - от Большой Невки до Карповки и от Большой Невки до Малой.
Образ А.о. у Битова отвечает глубоким интуициям, но нельзя пренебрегать и
эмпирией А.о., «разыгранной» в ряде произведений писателя91, но
увиденной через тот «магический кристалл», который способен пресуществить
плотную и овеществленную реальность в более тонкую субстанцию, сопри-
родную духовному началу.
Из этого глубоко личностного «центра», как свое назначение принятого
и как своя судьба пережитого, мальчик (авторская проекция в
художественном пространстве текста) выходит во внешнее пространство, внеположен-
ное тексту, и ищет обратный путь извне внутрь, туда, где центр «реального»
пространства совпадает с родиной души. После уроков мальчика, лишь три
месяца назад вернувшегося из эвакуации, два одноклассника приглашают
пойти с ними гулять. Эта прогулка - как инициация, в результате которой
происходит знакомство с пространством. Оказывается, что это незнакомое
пространство обладает совсем иными свойствами, нежели знакомое
пространство дома, школы и короткого пути между ними: в нем нет
гомогенности и равномерности, оно не является идеальным и определяется
чередованием лакун и вещественных заполнений, в нем свои тайны и мифы, оно
требует знания его правил, и для того, кто впервые вступает в это
пространство, оно неопределенно и неожиданно, и геометрия его ясна лишь в самых
общих чертах. «И он нагнал их... Они шли между неровными снежными
кучами, из которых выглядывал битый кирпич, штукатурка и щепы. Первый
обернулся и сказал: - Тут был дом, и в нем жил вампир... - Он пил кровь, -
сказал первый... Они пролезли под колючей проволокой. За ней был сад.
Тут не было мусора, был ровный снег, и, редкие, отдельные, стояли старые
деревья. А Зайцев92 никогда и не слышал, что в нескольких шагах от
школы и ее двора, за кучами, был сад, чистый, белоснежный сад, с черными
деревьями. И прошли-то они совсем немного, но уже не было видно куч и
проволоки тоже видно не было. Вокруг редкие стояли деревья, все было
белым, и снег и небо, и небо было в двух шагах, вокруг. Нигде не было краев
и границ, и было очень тихо. Они тихо проваливались в снег, трое,
гуськом. И τ и χ о93 отлетал от рта пар, такой же белый, как небо. Было тепло
и сыро. Тогда перед ними появился круглый пруд с круглым островом
посредине. На острове, вкруг, подступая к самой воде, стояли те же деревья.
Кольцо черной воды было разорвано белыми льдинами». Мальчики на льдине
перебираются на остров. «И остров был островок, а за деревьями, в центре
островка был холм. Они обошли кругом, холм был холмик... и они
обнаружили в холме проем, занесенный снегом. Они разгребали снег руками...
536
руки их горели... Зайцеву померещилось, что руки в крови, он вспомнил про
вампира, но с них стекала просто теплая вода. Под снегом показалась дверь,
но она была закрыта на засов, а на засове висел большой замок... но замок
не открылся... За прудом открылось заснеженное голое и ровное
пространство, а за ним слева какое-то большое ступенчатое строение, тоже
занесенное. - Стадион, - сказал один. - Трибуны, - сказал другой. Все это были
очень неизвестные Зайцеву вещи, он смотрел во все глаза». Они пролезают
внутрь, под трибуны, и предаются нехитрым развлечениям; находят
противогазы, надевают их, кричат - "Хобот, хобот!.. - Слоны! Мы - слоны... и все
сорвали маски - тогда все кончилось: противогазы были пережиты.
Пережиты, как дверь на острове»; обнаруживают круглые, гладкие столбы, под
углом уходящие в землю, и скатываются по ним, пока Зайцев не
повреждает себе ногу. Физическая боль и мучительная мысль о доме, о нарушении
данного матери обещания вернуться домой сразу же после школы (у отца в
этот день отмечалось его рождение) позволяют осознать кризисность
ситуации и необходимость выхода из нее. Выход - путь домой. «Когда они
выбрались из-под трибун, то увидели, что сильно стемнело. Белое стало серым
и сгущалось на глазах. Все стало ощутимо... Они пошли, но не тем путем,
что шли из школы, а в обход трибун, к белевшему вдали зданию: там, где
говорил первый, была улица, а по ней уже легко добраться докуда угодно. -
А как же мне добраться до Аптекарского? ... - Дурак, мы и выйдем на
Аптекарский, - сказал первый. - Это нам переть, а тебе прямо домой... - Не
знать, где собственная улица! ... Это же надо! - Они шли впереди... Он вдруг
запутался, как же ему идти... Когда он очнулся, то стоял около белого дома,
который видел вдали еще у трибун. Было совсем темно, и ребят рядом не
было... Когда он опять увидел их перед собой - это была арка. Две большие
каменные тумбы стояли с двух сторон, и было светло. Старинный фонарь
висел под аркой и раскачивался чуть-чуть. Впереди была пустынная улица,
и фонари на ней горели через один. - Ну вот, - сказал первый. - Ты уже
дома... - А как же мне пройти на мою улицу? - сказал он, стараясь как можно
спокойней! - А это и есть твоя улица, - сказал первый. - Моя?.. - Тьфу,
черт!.. Твоя, а то чья же? Аптекарский ведь... - А мой дом? - Туда, - махнул
рукой первый. - Ты тут доберешься... - и вот их нет. Зайцев обернулся и
удивился: белый дом был в двух шагах. Посмотрел на улицу: это Аптекарский
проспект? - его он не узнавал. Название показалось ему странным.
Почему - Аптекарский? Аптек на нем не было. Может, потому, что на
Аптекарском острове? Но остров уж почему - Аптекарский! ... Он почувствовал
даже облегчение, когда ребята ушли. Теперь он ни от кого не зависит. Он
знает дорогу домой, и тут уже недалеко. Он прекрасно доберется сам... Вдруг он
понял, что по-прежнему стоит на месте. - Что же это я?.. - сказал он себе. -
Размечтался. Так я никогда не доберусь... - Ну, пошли... Ну давай нога.
Сделаем это вместе. Я пойду - и ты пойди... Ну, иди, иди. Вот видишь, я узнаю
уже нашу улицу. Вон, видишь, наш дом... Тут совсем близко. Просто я
никогда в ту сторону не ходил и потому не узнал тогда улицу. А сейчас я ее
узнаю... Ты ведь узнаешь ее, нога? ... Нам остался только двор и лестница... Он
стоял в своей парадной, прислонившись к стене... Его этаж был третий.
Подняться уже не мог...» Вдруг хлопнула дверь, он вздрогнул, открылась
вторая - «в темной фигуре он узнал отца... - Кто тут? - сдавленно сказал отец.
537
Мальчик разрыдался..». Испытание закончилось, «свой» локус был найден
испытуемым, хотя (или благодаря тому, что) он был оставлен своими
приятелями, хотя нога мучительно болела, хотя пространство, пройденное
самостоятельно, особенно его последний отрезок, было предельно
«медленным» и максимально неясным, изощренно скрывавшим свои приметы и в
конце-концов вынудившим мальчика к подвигу обретения своего места,
своего дома и пути, к нему ведущего. Появление фигуры отца в финале ставит
заключительный акцент и освещает все происшедшее светом
символического и архетипического: трижды открытый горизонтальный путь
через неизвестное пространство сочетается с попытками обрести тайну в
вертикальном движении - две попытки проникнуть внутрь и
вниз (на острове, проем, запертая дверь и на стадионе, под трибунами, при
скатывании по столбу) ни к чему не привели; третья попытка расставила все
по местам («свой» дом, лестница, ведущая в в е ρ х, и отец, ведущий по ней
своего сына): собственный трудный опыт приводит к отцу-спасителю и,
следовательно, к спасению94. Внимательный читатель этого рассказа,
знакомый с А.о. и «топографически активный», вместе с мальчиком вступает на
этот путь, теряется, путается, сомневается, пока не начинает, как в тумане,
узнавать-припоминать сад с деревьями, пруд с островком (отраженный еще
на довоенных планах А.о.), стадион, длинную улицу, белеющее здание, дом
с аркой, появляющийся у Битова не только здесь. Восстановив же этот путь,
читатель вдруг открывает для себя, что и он выдержал некое важное
испытание, что оно не просто интеллектуально-эстетическая игра, но и
психотерапевтическое действие, благодаря которому читательское Я включается в
«поэтосферу» места сего95.
Герой «Сада», молодой человек, взят в той же ситуации, что и
мальчик из рассказа: «Это было неизвестно, когда она позвонит. Но
позвонить она собиралась. Обещала. Она должна была96 позвонить, и Алексей
все шатался по квартире... но звонила не она, не Ася". И начинается
тоже, как у мальчика, - с возвращения домой, с повторения какой-то
извечно повторяющейся ситуации, требующей себе старых, почти гоголевских
языковых форм, - «фонари уже горели изредка, и прохожие попадались
изредка». Путь к дому высвечивается отдельными частями, но
направление его - к тому же центру, хотя в городской перспективе он на краю, -
не вызывает сомнения: «На Фонтанке было светло, слева впереди грузно
темнел Инженерный замок. На мосту же фонари были старинные,
домиком, и Алексей почувствовал себя как бы в другом времени. И не в
другом, а словно бы идет он по этому мосту тыщу лет, идет и идет: справа
впереди белеют черные деревья Летнего сада - и все никак до них не
дойти... На Кировском мосту его продуло... Так он шел, так он думал или не
думал, потому что уже в который раз приходили к нему эти мысли:
остроты прозрения в этом не было. И никогда не позволял он себе дойти до
логического конца, а начинал думать о чем-либо другом, не об этом,
словно смазывал, стирая резинкой набросок мысли, так что и не понять
и не вспомнить потом было... Так было, наверно, нужно, раз он хотел
сохранить любовь, а средств для этого никаких не было...». И, наконец,
тот центральный локус, сердцевина А.о. - сад или даже Сад,
увиденный по-новому, с особой обостренностью восприятия на фоне любовной
538
коллизии и благодаря ей97, которому посвящен лучший в «аптекарско-
островской» литературе пейзаж природы, сливающийся с пейзажем души:
«С наслаждением вдыхал он морозный воздух. Добежал по берегу Кар-
повки до Ботанического сада и побежал вдоль ограды. И словно бы смотрел
на себя со стороны, как он легко и красиво бежит. Тут нужны были
девушки, чтобы это видеть. Но было пустынно. Здесь всегда бывало
пустынного сейчас даже редких прогуливающихся не было... Было
удивительно τ и χ о, и фонари не горели. Морозец стоял небольшой, но снег
поскрипывал под кедами - единственный звук, да еще шум дыхания. Было
очень красиво, но Алексей уже ничего не видел...» - И в разрыве - мысль
обращается к другому, по пути сюда, месту, и к другому, двумя днями раньше,
времени - «Вдруг он понял, что идет уже один. Было темно, снег летел
со всех сторо н98, исчезло ощущение времени и пространства99. Где
он? Куда идет? Почему? Это Марсово поле. Он идет домой. Потому что они
с Асей разошлись по домам... Он вроде бы очнулся. Не мог вспомнить... Ася
сказала: "Расстанемся сейчас, чтобы осталось так же хорошо, как было"...
Стало страшно». И далее, возвращаясь к саду уже в воспоминании и
соединяя этот образ с тем, что зрим здесь и сейчас: «Постарался вспомнить
другое. Был прекрасный сад, и они там были вдвоем. Они сидели на скамейке,
и перед ними была ровная поверхность снега, даже странно - без следов.
Это, впрочем, не странно, потому что они пришли к скамейке не по
дорожке, а сзади, проваливаясь по снегу. Снег лежал на дорожке так ровно, что
неощутима была его поверхность; словно он пророс из земли, как белая
трава: нежен и легок, как плесень. Но главное в саду были, конечно, деревья.
И, глядя на темные, словно теплые стволы и выше - на ветви, ветки,
веточки, видели они, что деревья не просто заиндевели, или посыпаны снегом, или
снег лежит на ветках, - ветки словно сами были из снега, толстые до
странности, похожие на белые кораллы. Снег на ветвях повторял все их изгибы и
линии, всю сложнейшую их абстракцию, и деревья были словно повторены
снегом. Они уже не походили на деревья, а сами были как огромные
невиданные кристаллы, кристаллические решетки. Даже не так: кристаллы эти
были обыкновенны по своим размерам, просто они двое были
необыкновенно малы, крохотны, растворены, их не было. Прекрасное дно морское...
И вот они сидели - перед ними была дорожка, словно поросшая снегом, будто
он пророс у них на глазах, а они тут сидели всегда, как всегда стояли тут эти
огромные, уже очень старые деревья с темными теплыми стволами и
ветвями, повторенными снегом. Потом, когда тишина стала уходить из них,
они пили и ели и что-то без конца говорили, неважно что и не запомнить -
ощущение было прекрасным. В этом было как бы сознание того, что этот
сад приснится через десять, двадцать, тыщу лет. Даже кому-нибудь другому
приснится. Этот сад как-то на глазах стал прошлым. По всему этого сада не
было вообще, он случился с ними - счастье, конечно, но лучше не
задумываться об этом... Он шел медленно, не думая. Вспомнив сад, забыв пропасть,
снова один, он опять стал сам себе неощутим, растворен - шел ли, плыл,
парил, что ли, - и так в бездумье, какой-то одинаковый со снегом, медленно
летевшим то ли вверх,то ли вниз,то ли во всех
направлениях, но очутился на своей улице. Справа был его дом, слева -
Ботанический сад. Он испытывал нежность к саду, ему не хотелось возвра-
539
щаться домой, то же предчувствие непоправимого снова надвинулось на
него - заставляло его сжиматься, не хотеть идти, да и было еще рано. Он шел
вдоль ограды, выходил по Карповке к Невке, по этому пути он бежал
только что, всего несколько часов прошло, сотен лет, тысяч... все было
другим»100.
Но саду суждено еще раз появиться в повести, в финале ее, где этот
образ не только соединяется с темой любви, но и приоткрывает герою ее
тайну, ее причину и источник. Алексею попадается старая, с вырванными
листами, когда-то в детстве читанная книга. В ней говорилось о том, что
«любовь в нас и выше нас, и если ты еще живой, то ты еще и любишь, а если
любишь, то что же такое и откуда это? Про желание и страсть Алексей все
понял... они были отдельны от любви. Про жалость уже темновато. Чуть ли не
выше любви оказывалась жалость, а потом все-таки ниже, во всяком случае
любовь и жалость оказались тоже разные вещи... "Что такое гибель и
крушение в любви для таких людей?" - спрашивал автор. - Самоубийство и
убийство?" ... И задавать-то этот вопрос было бессмыслено: человек все
знал и так, но не позволял себе это знание. И был верен. Разве любовь
имеет права? Разве виноват человек, которого мы любим? Зачем же это
насилие? Разве мы хотим раздавить любимого, а с ним и свою любовь?.. Опять
пошло про Бога... И вдруг: "Господи! Какие мы все маленькие!" -
воскликнул старинный автор. "Это так! Это так!" - радовался Алексей. Мы же не
вмещаем в себя ничего, говорил автор. И если уж приходит любовь, то не
останется и этого ничего. Есть любящие, и есть любимые... То огромное, что
есть любовь, не оставляет ни точки в твоем крохотном пространстве и даже
разрывает тебя и гораздо превышает тебя. Ты становишься таким большим,
каким никогда бы не мог без этого стать, а в том, чем ты был без любви, ты
становишься еще мельче. Так как же из тебя могло возникнуть большое?
Так что и не из тебя. Дальше все сбилось, закрутилось... это все было
мимо, мимо. Вдруг, словно бы без всякого повода, следовало описание
прекрасного сада, но оно обрывалось внезапно, потому что тут как
раз была вырвана страница... Алексей закрыл книгу. Странно было ему.
Он что понял, а что не понял, про Бога он пропустил, но рассуждение о том,
откуда же любовь: не от любимой же, такой случайной и крохотной, и не
из него же, тоже чрезвычайно небольшого, а если не от нее и не из него, то
откуда же? - очень поразило его».
Эти обширные выдержки не могут быть лишними не только потому, что
они лучшее и последнее слово «аптекарскоостровской» литературы, и не
только потому, что они, в частности, о том же, о чем более чем за
полтораста лет до этого поведал Василий Попугаев в своей повести о любви Н. и
Маши и о ее трагедии, случившейся здесь же, на А.о. Эти фрагменты текста
весьма существенны и показательны и по другой причине - они дают
понять, как возрастает и углубляется «аптекарскоостровский» литературный
комплекс и как «личностные» комплексы увязываются с реалиями -
материальными и духовными - А.о., питаются ими, втягиваются в них и
втягивают их в себя101. Такие примеры намекают на исключительную
потенциальную мощность ноосферического навоя, способного образоваться вокруг
природных локусов, и кардинально их преобразующего в сознании
субъекта восприятия. Именно в таких ситуациях слишком определенное противо-
540
поставление «Wahrheit» и «Dichtung» приводит к таким же несуразностям,
как противопоставление содержания и формы.
Единственный роман «аптекарскоостровской» литературы, и вообще, и
написанный обитателем А.о., - «Пушкинский дом», и уже этим он
выделяется среди повестей, рассказов, стихов и тем более отдельных (обычно
случайных) фрагментов из произведений художественной литературы. Как
роман, он, конечно, не ограничивается только А.о., но при всем разнообразии
городских локусов в нем два выделены особо - А.о. (где в «доме английской
готики» живет Лева Одоевцев)102, чьи приметы скуповато, но
топографически тонко и характерологически точно разбросаны по тексту103, и
ограниченное пространство около Стрелки Васильевского острова (где находится
«Пушкинский дом»)104, соединенные относительно короткой (в масштабе
города) диагональю, идущей через Петроградскую сторону и как бы
суммирующей сообщаемый автором путь героя из дома в «Пушкинский дом»105.
В общей картине дом выступает как воплощение А.о., а «Пушкинский дом»
как некий образ лукавствующей «литературности», и это соединение двух
тем, данное через одного и того же персонажа, главного героя, и два
функциональные локуса (дом, семья и «работа», служба), придает этой
конструкции ту органичность, которая также выдвигает этот роман на особое место
в «аптекарскоостровской» литературе.
И все-таки самая примечательная черта этого произведения в
указанном контексте - его «литературность»106. Это - роман о литературоведе,
т.е. человеке, который изучает литературу и пишет о ней, причем
литературовед этот потомственный, его дед Модест Петрович тоже был
литературоведом; и сослуживцы вокруг Левы литературоведы, и беседы
они ведут о литературе или вещах, с нею связанных. Более того,
литература о литературе в романе не только объект описания: она в чистом
виде включена в роман в виде отдельных фрагментов, которые не просто
имитируют «литературоведческие» тексты, но являются ими в полном
смысле этого слова, действительно (ср. текст о трех пророках -
Пушкина, Тютчева и Лермонтова, с интересным мотивом 27 лет; о «Что
делать?», «Отцах и детях» и «Бедном всаднике»; приложение об Ахиллесе
и черепахе [Отношения героя и автора], Комментарий к юбилейному
изданию романа [1999 г.]; о цитатах и цитировании; ряд других
теоретических рассуждений)107. Автор не только «разыгрывает» тему романа, но и
ведет исследование - как самого романа и себя, автора, так и других
произведений литературы. Поэтому это не просто роман, но и
роман-исследование, роман-музей (название одного из фрагментов романа). И все это
сведено воедино, в целое, части которого держат друг друга, то вуалируя,
то просветляя свое сродство. Автор чуток и отзывчив к
«литературному», к чужой речи, образам, приемам. Он щедро вводит их в свой текст.
Они обыгрываются всерьез и каламбурно («Бедный всадник»), на них на-
мекается, они освещаются с необычных точек зрения, их заставляют
служить злобе дня, подмешивая их к жизни, они сопоставляются с тем, что
было и что есть. Все идет в дело, потому что автор рассчитывает «на
неизбежное сотрудничество и соавторство времени и среды»108, и роман
от этого становится открытым, «разъемным», легко усваивающим
«чужое», монтажным.
541
Но где сам автор и к а к он держит сцену? Автор, или его романный
образ, сам торопится ответить на этот вопрос: «Нас всегда занимало, с
самых детских, непосредственных, пор, где прятался автор, когда
подсматривал сцену, которую описывает. Где он поместился так незаметно? В
описанной им для нас обстановке всегда имелся некий потаенный угол, с
обшарпанным шкафом или сундуком, который выставляют за изжитостью в
прихожую, и там он стоит так же незаметно и напрасно, как тот автор, который
все видел как бы своими глазами, но только скрыл от нас, где были эти его
глаза... Там он стоит, в глухом сюртуке, расплывчатый и невидимый, как
японский ниндзя, не дыша и не перетаптываясь, чтобы ничего не пропустить
из происходящего в чужой жизни, не таящейся от него, из доверчивости или
бесстыдства, или привычки и презрения к нему. Читая и сличая с жизнью,
покажется, что дух общежития и коммунальной квартиры зародился в
литературе раньше, чем воплотился наяву, как раз в подобном авторском
отношении к сцене: автор в ней коммунальный жилец, сосед, подселенный.
Достоевский, наверно, еще и потому лучше всех "держит" многочисленную
"кухонную" сцену, что сам никогда не скрывает своей "подселенное™" к
героям: он их стесняет, они не забывают, что он может их видеть, что он - их
зритель. Эта замечательная откровенность соглядатайства делает ему
опережающую его время честь. Такая большая объявленная условность -
истинно реалистична, ибо не выходит за рамки реально допустимого
наблюдения. Рассказ от "я" в этом смысле самый безупречный - у нас нет сомнений
в том, что "я" мог видеть то, что описывает. Так же не вызывает особых
подозрений сцена, решенная через одного из героев, пусть и в третьем лице, но
одним лишь его зрением, чувствованием и осмыслением, где, только по
одному видимому поведению и произнесенным вслух словам других героев,
можно строить предположения о том, что они думают, чувствуют, имеют в
виду и т.д. То есть как раз субъективные (с точки зрения субъекта-автора
или героя) сцены не вызывают подозрений в реальности изображенной
реальности. Зато сколь сомнительны, именно в этом смысле, объективно-
реалистические решения, почитающиеся как раз собственно реализмом, где
все выдается за "как есть", за "как было на самом деле", путем именно
устранения той щелочки или скважины, в которую подсматривает автор,
тщательного ее замазывания и занавешивания... Приостанавливая разбег,
мы хотим еще раз подчеркнуть, что для нас литературная реальность
может быть воспринята реальностью лишь с точки зрения участника этой
реальности».
Последняя фраза как раз и указывает на то, что может дать в этом
смысле художественная литература, и на роль
«литературно-литературоведческих» игр, позволяющих «внешнему» читателю войти в текст и слиться с
«внутренним» участником художественного текста и его «литературной»
реальности. Переход этой грани с разных сторон и отражает как прорыв из
«жизни» в текст, так и выход текста из уготованного ему «литературного»
ложа с тем, чтобы войти в жизнь, стать ею. Не опознанное словом и не
«взятое» им нечто со временем втягивается в «объектную» парадигму
«Петербургского текста» для того, чтобы в наши дни претендовать уже на роль
субъекта, голоса самого себя и, следовательно, личности, заговорившей
о себе от первого лица в вещах Битова.
542
* * *
Этими рассуждениями, имеющими непосредственное отношение к
темам, подобным настоящей, конкретно об А.о., можно было бы кончить. Но,
пожалуй, стоит подчеркнуть еще одно важное обстоятельство. Если густота
литературных ассоциаций А.о. и Карповки, сочетание писательского быта и
литературы, поэзии и природы как раз и образуют ту сеть, которая
определяет структуру этого места как литературного урочища с почти
двухвековым стажем, то напряженная духовная ситуация этого
локуса, его «парадигматичность» и связанная с нею своего рода
назидательность определяются иным кругом явлений - разного масштаба и разной
природы - таких, как самоубийственные мысли Н. (или его создателя, самого
Попугаева); призывы одинокого и осиливаемого безумием Батюшкова к
«возлюбленной тени», смерти, которая могла бы положить конец
страданиям; предсмертное возвращение, в сумерках зимнего дня, с Черной речки,
Пушкина109; видения Блока; память места об Иоанне Кронштадском110;
тайная сходка в октябре 1917 г., где решалась - без совета с нею - участь
России111; та, в последние минуты перед началом войны, в белую июньскую
ночь, в конце Каменноостровского проспекта, у моста через Малую Невку,
подмеченная случайным свидетелем символическая сценка, разыгравшаяся
между юношей и девушкой, - и объятия, и ветка жасмина, и любовная
размолвка, и горькое расставание-расхождение (как тогда, 25 февраля 17-го
года на Песочной), может быть, в надежде на скорую встречу, которой уже
могло и не быть112; наконец, страдальческая жизнь и смерть в другом доме
на Карповке со страшной, «петербургской» лестничной клеткой, в конце
первого военного года, блоковского «Жени», Евгения Павловича
Иванова113. Genius loci Аптекарского острова помнит о них и живет памятью.
1 Обычно не очень обращают внимание на само слово урочище, забывая о
возможностях обнаружения в нем его еще живого, но уже сильно подавленного и сдвинутого
смысла. Урочище - место «уроков», или, по Далю, «живое урочище, всякий
природный знак, мера, естественный межевой признак». Две особенности характеризуют
урочище - прежде всего оно становится таковым из до того нейтрального,
неопознаваемого и как бы скрытого от воспринимающего сознания, в тайне пребывающего
места через прорыв в знаковую сферу, обнаружения себя в ней как раскрытия своей
тайны: кроме того, именно в силу этого «место уроков» становится опасным, легко
подвергающимся порче, сглазу, урокам (ср. уронить 'портить', 'вредить' и т.п., но и
'околдовывать'): злое слово - урок, у рек, у-рекать (ср. речь) - становится злым
делом - урок, уроченъе и т.п. Следовательно, урочище - это явленная местом его тайна,
его основной смысл, воспринятые «внешним» сознанием и усвоенные им, что, в
частности, обнаруживается в тех отношениях, в которые ставит себя человек в связи с
этим урочищем, определяющий себя по отношению к нему и использующий
его для уроков (уже в другом, положительном смысле, ср. урок как заключение,
сделанное на основе предыдущих знаний и ориентирующее человека в новых ситуациях),
ср. урочитъ 'урекать', 'определять', 'назначать вперед', 'предсказывать'.
2 Поскольку речь далее будет идти в основном о периоде до начала XX в.,
топонимическая номенклатура дается в ее «историческом» виде.
3 Императрица Анна Иоановна, охотившаяся здесь на зайцев, в начале своего
царствования запрещает тут «ходить с ружьем и собаками, стрелять и ловить птиц и зверей».
Но запреты были и раньше. «В прошлом 1714 году февраля 11 дня... на данном под
543
аптеку по именному Его же Императорского Величества словесному указу острове, на
котором посторонним людям никому кроме аптекарских служителей строитца не
велено, огорожен огород и построен для жилья аптекарским служителям двор... Оный
остров (отведен) для наилучшего произведения медицинского огорода», - сообщает
документ того времени (РГИА. Фонд медиц. канц. № 1295. Кн. 11. Л. 47).
4 Понятно, что стимулом к конституированию проспекта стало появление
плашкоутного моста через Неву в 1804 г. и тем более постоянного моста на рубеже XIX-XX вв.
Старые планы подтверждают это (см.: Планы С. Петербурга в 1700, 1705, 1725, 1738,
1756, 1777, 1799, 1840 и 1849 годах / Сост. Н. Цыловым. СПб., 1858). Но они говорят и
об ином: самый ранний участок будущего проспекта находится на территории А.о. и
на небольшом отрезке Городского острова (примерно до Большого проспекта), и
целью этой дороги был кратчайший выход для формирующегося внутри острова
участка новой застройки к перевозу через М. Невку; ср. планы 1756 и 1777 гг.
(существенна единая дата появления мостов с А.о. на Городской (через Карповку) и на Каменный
(через М. Невку), а с последнего в Новую Деревню - через Б. Невку). Таким образом,
Каменноостровская дорога (название ее верно отражает ориентированность дороги)
начиналась с ее северной, примыкающей к М. Невке части, и лишь постепенно
пробивалась в южном направлении, что облегчалось незастроенностью территории к югу,
продолжающей гласис Петропавловской крепости (кронверка). В 1799 г. дорога
достигла приблизительно гласиса (ближайший ориентир - церковь Николая Чудотворца),
но не была еще вполне оформлена. Планы 1840 и 1849 гг. фиксируют уже
законченный вид проспекта, доходящего до дуги Кронверкского проспекта. Оставался один
последний шаг до превращения пути из «города» и «острова» в единый цельнооформлен-
ный проспект. Очень интересны данные «Плана столичного города СПб.» (1793),
приведенного в книге И.Г. Георги «Описание российско-столичного города
Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного» (СПб., 1794), - тем более что планы
Цылова не засвидетельствовали подобной картины. Согласно плану Георги,
Каменноостровская дорога начиналась после моста через М. Невку, сдвинутого несколько
западнее по сравнению с тем, что было позже, и была ориентирована не на ось
будущего Троицкого моста, но на церковь апостола Матфея (и, следовательно, на ось
симметрии кронверка и колокольню Петропавловского собора). Если план Георги в этой
своей части достоверен, то «реликтами» этого варианта Каменноостровской дороги
следует считать (двигаясь с севера на юг) Вяземский пер. на А.о., идущий от Песочной
набережной М. Невки, северное колено Ординарной улицы, начинающееся от
Карповки, и южное колено Широкой ул., выводящее к Кронверкскому проспекту
как раз против центра кронверка и колокольни собора за ним. Известная
незаполненность вдоль этой оси ощущается и сейчас - как в северной ее части, в пределах А.о.
(территория, примыкающая к Вяземскому пер.), так и в южной (пространство вокруг
снесенной церкви св. Матфея).
5 См.: Оболенский В.Л. Моя жизнь. Мои современники. Париж, 1988. С. 10. Речь идет о
70-80-х годах XIX в.
6 В это время (с 1907 г.) Л. Андреев жил по адресу Каменноостровский проспект, 20,
кв. 13 (арх. В. Шауб, начало XX в.), по одним источникам (см.: Лебедева Т. На пятом
этаже //Ленинградская правда. 1989. 24 сент. и др.), и Каменноостровский, 13 - по
другим (ср.: Русские писатели 1800-1917: Биогр. словарь. М., 1989. Т. 1. С. 67). Правда,
Блок пишет, что «описанный вечер был осенью 1906 года», но нельзя исключать, что
здесь ошибка памяти (осенью 1906 г. Андреев, судя по всему, находился вне России).
Во всяком случае, описание Блока напоминает вечер у Андреева, о котором Блок
рассказывает своей матери в письме от 28 сентября 1907 г. («Последнее впечатление от
Андреева - очень хорошее... Были там все Юшкевичи, Чириковы, Сергеев-Ценский,
Волынский, Тан и пр., и пр. Из декадентов выбраны пока только Сологуб, я и Чул-
ков» - ср. в статье: «масса людей, все почти писатели, много известных»;
характеристика хозяина дома в этом письме: «Андреев - простой, милый, серьезный и
задумчивый» - перекликается со сходными его чертами в статье: «был мне мил Л. Андреев...
был прост и немного застенчив» и т.п.). См.: Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л.,
544
1960-1964. T. VIII. С. 210. Речь идет, конечно, о первом из ставших потом
постоянными литературных вечеров, устраивавшихся Андреевым у себя на квартире. Этот вечер
состоялся 26 сент. 1907 г. (письмо матери - 28 сент.).
7 Фонари - весьма часто отмечаемая принадлежность Каменноостровского проспекта:
именно они, их цепь, конца которой не видно, образует ту трассирующую линию,
которая и просто отмечает, и более сложно символизирует Каменноостровский, давая
почувствовать его «бесконечность», при свете дня с такой очевидностью не
воспринимаемую.
8 Ср. у Блока: «в доме страшно мрачном... Огромная комната...» (Т. VI. С. 132).
9 В квартире, принадлежащей Флоре Осиповне Мандельштам, матери поэта. Два
соседние дома (№ 17—19) принадлежали князьям Горчаковым.
0 Ср. далее: «В семнадцатом году, после февральских дней, улица эта еще более
полегчала, с ее паровыми прачешными, грузинскими лавочками, продающими исчезающее
какао, и шалыми автомобилями Временного правительства. Ни вправо, ни влево не
поддавайся: там чепуха, бестрамвайная глушь. Трамваи же на Каменноостровском
развивают неслыханную скорость. Каменноостровский - это легкомысленный
красавец, накрахмаливший свои две единственные каменные рубашки, и ветер с моря
свистит в его трамвайной голове. Это молодой и безработный хлыщ, несущий под
мышкой свои дома, как бедный щеголь свой воздушный пакет от прачки». - Конечно,
Каменноостровский в чем-то сродни и Парноку (ср. его приход в прачешную), и его
автору.
1 И реальными и, так сказать, метафизическими. Ср. в «Шуме времени»: «Как крошка
мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую
жизнь. О, какой это сильный запах! Разве я мог не заметить, что в настоящих
еврейских домах пахнет иначе, чем в арийских. И это пахнет не только кухня, но люди,
вещи и одежда».
2 Для самого Георгия Иванова Каменноостровский (и примыкающая к нему часть
Петербургской стороны) тоже был «жизненным» локусом - и вполне реальным местом
обитания («Я жил на углу Каменноостровского и Большого. Пяст немного в сторону,
кажется, на Матвеевской» («Лунатик», 1932); Г. Иванов жил и в других местах
Петербургской стороны, соседящих с А.о.; ср. Б. Зеленина, 26 б, кв. 69 (1912 г.), Полозова,
21, кв. 14 (не ранее 1913-1914 гг.), неподалеку от упоминаемой выше Плуталовой, и
мифологизированным и мистифицированным пространством (см. далее); от
Троицкого моста или «Аквариума» до «Виллы Роде», уже за пределами и проспекта и даже
островов, лежало другое пространство, тоже акцентированное в прозе Иванова, -
прожигания жизни в сомнительных развлечениях и удовольствиях. «В самом деле,
казалось бы - о чем беспокоиться? Вера Александровна Золотова была дамой из
богемы, актрисой, нигде не играющей, женой без мужа. Если бы она не приехала, застряв
в "Аквариуме" или в "Вилле Роде" в веселой и денежной компании, - никакого труда
не составляло увидеть ее завтра, даже сегодня, пожалуй, - позвонить по телефону и
приехать на "огонек"...»; -«Теперь они катили в Аквариум; - "Кутить так кутить", -
повторял все время, как труба, Иван Нестерович, и платил за все он один... В
Аквариуме была масса народу, масса хорошеньких дамочек, и у Назара Назаровича,
большого любителя на этот счет, прямо разбегались глаза... Таких женщин он еще не
видал...» («Третий Рим») (между прочим, в доме, принадлежавшем саду «Аквариум» и
при нем находившемся, в 1886 г. жил П.И. Чайковский). Или: «Сани помчались по
льду, через Неву - Вельский велел кучеру ехать куда знает - берега казались
черными и высокими, небо было все в звездах. Куранты с крепости жалобно заиграли
вслед - сани выехали на Каменноостровский... Сани летели уже через какой-то новый
мост, совсем черный, в сугробах. "Вот тут, Ваша Светлость, как раз нашли Григория
Ефимовича", - сказал кучер и снял шапку» (Там же). К «широкому виду» ср.: «Назар
Назарович Соловей сидел дома в своей квартире из трех комнат... и большим
трехстворчатым окном "фонарем" в столовой. Квартира была на пятом этаже, и из
"фонаря" открывался широкий, "веселый", как говорил Назар Назарович, вид на всю
Петербургскую Сторону». Поэт «блистательного Санкт-Петербурга», Агнивцев, нос-
18. В.Н. Топоров
545
тальгически вспоминает предреволюционный Каменноостровский: Рассветает! Даль
зовет I В вихри звоном санным! I Тройка стынет у ворот... I - «Ну-ка, Петр, к
цыганам!»... II Гаркнул зычно Петр: «Па-а-а-ди!» - (Парень он таковский!) IИ остался
позади I «Каменноостровский!»... // И, сквозь снежный адамант, I Для лихой
попойки, I Залетели в «Самарканд» / Взмыленные тройки! // - «Туеса! Туеса! Туеса! / «Мэ-
камам чого!.. I «Це-е-еловатъся горячо!»... («На рассвете»). По сути дела, о том же -
«В 5 часов утра» (И каждой ночью, час от часа, / В «Крестовском», в «Буффе», у «Ро-
дэ» I ... I Цыгане воют, как гиены I ... I И молвил вслух: - «Проклятый
Питер!» I - «Шоффер, на острова!»...). В других его стихах Каменноостровский входит
в парадигму петербургских достопримечательностей, символов города: ...Из
маленькой коробки спичек I Встал весь гигантский Петербург: II Исакий, Петр, Нева,
Крестовский, I Стозвонноплещущий Пассаж, I И плавный Каменноостровский, I И
баснословный Эрмитаж («Коробка спичек») - или: ...Весь старый пышный Петербург I
Встает, как призрак, предо мною: II ... Нева и Каменноостровский... («H.H. Хобо-
тову»).
13 О Каменноостровском см.: Столпянский П.Н. Каменноостровский проспект в
прошлом // Столица и Усадьба. 1915. 15 апр. № 32; Он же. Петербург. Пг., 1918. С. 55 и ел.;
Он же. Старый Петербург: Аптекарский, Петровский, Крестовский острова. Пг., 1916
(отдельный оттиск) и др. Каменноостровский проспект не раз возникает в
петербургских частях «Красного колеса», особенно в «Марте Семнадцатого» (беспорядки,
разгром богатых магазинов и т.п., и прежде всего описание пути Шингарева и Струве по
проспекту, начиная от Большой Монетной к Троицкому мосту и далее, с
мучительными думами о России, страшными предчувствиями, на фоне знаменитой петербургской
панорамы, в день, когда небо было так сине, воздух так чист, а ощущение
просторности, прозрачности, тишины, погруженности «в какой-то неназначенный, неизвестный
праздник» так ясно и живо).
14 Нужно сказать, что до начала XX в. А.о. довольно хорошо (практически наполовину)
сохранял свой «ландшафтный» облик середины прошлого века, а для отдельных ло-
кусов - и гораздо более раннего времени. Многое из этого облика сохранялось еще
25-30 лет тому назад. С тех пор прежняя структура кардинально разрушена и
разрушается и по вертикали и по горизонтали. Ср. возведение телевизионной башни (и
других башен-антенн по соседству); строящиеся корпуса Электротехнического института
и особенно гостиницы «Петроградской» (на берегу Карповки), Дворца молодежи,
Главного управления ГАИ, Вычислительного центра статистического управления;
пробивку новой магистрали параллельно Аптекарскому проспекту и постройку
моста, соединяющего А.о. с Выборгской стороной (эти «усовершенствования» для А.о.
необратимы, а последствия их будут все более и более понижать ценность этого
урочища); уничтожение дачи Воронихина, сожжение деревянного (второй этаж) дома
директора Ботанического сада (арх. И.И. Шарлемань, 20-е годы XIX в.) и дома № 10 по
Песочной, принадлежавшего Литературному фонду; осквернение бывшего
монастыря во имя Иоанна Сурского; ужасное состояние замечательного домика (ул. Даля, 2)
на участке, принадлежавшем Великому князю Дмитрию Владимировичу, и т.д.
15 Ср. дома № 61 (арх. Лидваль), № 63, 65 - Сомова и Маркова (арх. Щуко), № 73-75 (арх.
Зазерский, Яковлев), несколько позже - дом № 69-71 (арх. Лансере), в целом удачно
сочетающие неоклассические и ренессансные формы; ср. палладианские мотивы
фасада дома Маркова, также неоренессансный облик особняка Покотиловой (№ 48,
арх. Лялевич); другой достойный внимания особняк - Эша (арх. Дмитриев). Важные
вертикальные акценты этой части проспекта - дома с башнями на пересечении с
Песчаной ул. - № 53 (арх. Гингер) и № 54 (арх. Крыжановский). Тем не менее и здесь (по
левой стороне, от № 58 и далее) старые «природные» структуры А.о. дают о себе
знать с достаточной наглядностью - тем более что и последний участок справа занят
парком, составляющим часть бывшей усадьбы Лопухиных. Ср. в «Бедном рыцаре»
Гуро: «Строилась по соседству новая улица... И они пошли смотреть ее. Дома там
воздвигались высокие, многоэтажные, и, проходя мимо нового дома, Елиза подумала с
тоской: слишком все полировано, холодно, блестяще и отшлифовано. Точно по ли-
546
нейке! В такой подъезд если забежит бездомное животное или забредет лохматый
ребенок, с каким ожесточением его прогонят от этой чистоты. Мне милей грязные
дома, где убожее, и пустыри, где и кривые кустики ютятся» (РНБ. Ф. 1116 Гуро. Ед. хр. 3.
Л. 17).
16 Финское происхождение названия Карповки несомненно, хотя предлагаются разные
интерпретации его. В данном случае существенна связь речного названия с именем
острова - Korpi saari, т.е. «Лесной остров» (ср. фин. korpi «дремучий, глухой лес;
глушь» / erämaa /), по другому объяснению «Еловый остров», или же «Вороний
остров» (ср. фин. korppi «ворон»). Также нельзя пройти мимо того, что это название
относится, скорее всего, к числу физиографических, природно-ландшафтных
характеристик А.о. в его прошлом.
17 Единство этого района наглядно выступает на старых планах. Прежде всего оно
конституируется структурой гидрографической сети в низовьях Карповки.
Современному «монопольному» положению Карповки в XVIII в. (отчасти и до середины XIX в.)
противостояла другая картина - в самом устье Карповки с севера в нее впадал
зигзагообразный ручей, вытекавший из М. Невки и образовывавший в западной части А.о.
небольшой островок (любопытно, что таким островком на восточной окраине А.о.
был в свое время Аптекарский сад, обведенный каналом); с юга же в этом месте в
Карповку впадало несколько небольших речек, бравших начало примерно на линии
Геслеровского проспекта (названия двух из них - р. Поросятинка, руч. Безымянный -
известны). Таким образом, можно говорить о своего рода дельте Карповки, единство
которой несколько нарушало другое единство - западной части А.о., расширяя его и
за пределы острова. Об этих и целом ряде других объектов гидрографической сети
А.о. и зоны Карповки см. в кн.: Ленинград: Ист. геогр. атлас. М., 1981. С. 56-57, а
также планы XVIII-XIX вв.
18 Для примера ср. объявление, появившееся в начале 1820 г. о сдаче внаймы дачи в Кол-
товской части, при которой «оранжерея длиною в 60 сажен с фруктовыми деревьями,
как то персиками, абрикосами и сливами... при ней 4 покои с особою теплицею, в
коей есть виноград, вишневый сарай на 20 сажен, в нем находятся деревья в кадках до
150 штук, огород длиною в 65 сажен, шириною 12 сажен, в нем имеется шпанской и
аглинской клубники до 20 гряд, смородина красная, черная, белая, розовая,
крыжовник разных сортов, сверх того, в разных отделениях и оранжерейной зале горшков с
розанами до 200... да прочих цветов до 2000 горшков, также 10 самых лучших сортов
парников под арбузы и дыни...» См.: Столпянский П.Н. Петербург. С. 101. «Чудеса
садоводства» отмечались на участке дачи (третий влево от Зелениной ул.) Марии
Антоновны Нарышкиной, фаворитки Александра I, к которой он сюда приезжал ради
нее и его дочери от нее Софьи (ср. «Записки» Вигеля. М., 1928. Т. 2. С. 38-39).
10-20-е годы XIX в. - золотая пора для Колтовской, тогда она стала модной в кругах
высшей петербургской аристократии. В следующие десятилетия эту местность
облюбовало себе чиновничество, прежде всего небогатое, часто переезжавшее сюда
на лето из Коломны.
19 По оси Крестовки можно было увидеть и Елагин остров (вблизи дворца).
20 «Мы сделали все вместе довольно большой круг и снова очутились перед воротами,
ведущими на набережную. Вид реки, осыпаемой в эту минуту золотом солнечных
лучей, заставил нас оставить сад, чтобы полюбоваться с берега разнообразною
картиною противоположной стороны и светлым течением реки, огибающей остров... -
Я сердита на вас, Горский, - сказала Наталья Дмитриевна, -... Что наши повести? -
Я сейчас думал об них. - Смотря на церковь св. Сампсония, которая сделалась
предметом любопытства с тех пор, как г-н Лажечников подарил нас прекрасным романом
своим?...» (М.С. Жукова: «Вечера на Карповке», 1837).
21 Характерные образцы этого рода - рисунок С. Галактионова (и литография по нему),
изображающий Каменноостровский дворец (вид из-за Б. Невки, с северной
оконечности А.о., откуда «в кадр» попадают одинокое дерево слева, кусты у воды, несколько
рыбаков на плоту у берега справа), или акварель В. Садовникова (тот же вид с
позиции, находящейся несколько левее, чем в предыдущем случае; «в кадре» А.о. - дере-
18*
547
во с пышной кроной, под ним несколько фигур, две из них - всадники; у самого
берега лодка с двумя рыбаками); ср. также рисунок на бумаге гуашью «Катальные горки
на Крестовском острове» (ок. 1810: экспонировался на выставке, посвященной
реставрации, в Эрмитаже весной 1984 г.; «в кадр» попадает узкая полоска берега А.о. с
двумя деревьями и отдельными кустиками). Впрочем, и на изображениях из
«островной» серии, сделанных извне, А.о. дается как далекий фон, притом что
выхватываются одна-две постройки (обычно дача обер-егермейстера Нарышкина), ср. рисунок
(и литографию по нему) А. Брюллова «Гуляние на Крестовском острове» (вид на А.о.
через реку) или рисунок Семена Щедрина «Вид дворца на Каменном острове со
Строгановской набережной» (1803; взгляд выхватывает слева небольшой участок А.о.:
уютный домик на фоне густой зелени деревьев). Гораздо удачнее в смысле полноты
изображения и широты контекста другой рисунок Галактионова (ср. также
литографию) - «Вид с Каменноостровского моста» (слева - часть А.о. с красивым особняком
и обилием зелени) и особенно его же рисунок «Крестовский остров» (вид с
Каменного), на котором слева впечатляюще изображена широкая дуга А.о. с красивыми и
величественными дачными постройками, утопающими в зелени (это изображение -
лучшая панорама северо-западной оконечности А.о.). Но если говорить о наиболее
детальном и «интимном» изображении А.о., дающем возможность заглянуть в жизнь
дачных обитателей, то на первое место нужно поставить картину Б. Патерсена «Ка-
менноостровский дворец от Аптекарского острова» (1804 г., ГРМ); позиция
художника - А.о., берег Б. Невки, откуда виден дворец (посередине) и Строгановская дача
(справа); но в отличие от других художников, ценивших это место, Патерсен
отступает на несколько десятков метров в глубь острова - так, что «в кадр» попадают две
архитектурно интересные дачи, дорога и лужок (с деревьями) перед ними, целый ряд
фигур, участвующих в разных почти жанровых сценках; поэзия дачной жизни А.о.
конца XVIII - начала XIX в. передана художником убедительно и точно. И еще один
ценнейший живописный фрагмент А.о., на этот раз его западной оконечности, - рисунок
на бумаге гуашью «Дача Лавалей на Аптекарском острове» И.-В. Барта (1810,
Эрмитаж; реставратор О.В. Машнева, 1981); благодаря ему мы можем представить себе
этот локус А.о., высший культурно-природный синтез его, засвидетельствованный с
достаточной наглядностью и надежностью; изображение дачи в относительно емком
ландшафтном контексте открывает еще одну страницу прошлого А.о. (известно
также изображение фермы для г-жи Лаваль - двухэтажный дом «в каком-то смешанном
из египетских и готических элементов вкусе, покоящийся на дорических толстых
колоннах; от него в обе стороны идут террасы на сводах частью стрельчатых, частью
круглых». См.: Бенуа А. Рассадник искусства // Старые годы. 1909. Янв. С. 188; Яце-
еич А. Пушкинский Петербург. Л., 1935. С. 153,400; и др.). Следует напомнить
изображение и другой знаменитой дачи на А.о. - С. Аллера (участок - Каменноостровский
просп., № 56).
В свою очередь, «колтовские» дачные будни противопоставлялись (и/или
дополнялись) «Крестовским» гуляньям с их веселой и непринужденной атмосферой -
прогулки, пикники, цыгане, роговая музыка и т.п. (почти век спустя ее попытался
восстановить в прозе Б. Садовской; известны и другие подступы к этой теме). Летом 1830 г.
Дельвиги жили на Колтовской у самого Крестовского переезда. Пушкин почти
каждый день бывал у Дельвигов, у которых проводил по нескольку часов. Пушкин был в
это время уже «женихом» и, вероятно, здесь в последний раз погрузился в атмосферу
веселой беззаботности, дружества, воспоминаний о юношеских годах. «...Пушкин...
был постоянно весел, как говорят, в своей тарелке... Время проводили тогда очень
весело. Слушали великолепную роговую музыку Дмитрия Львовича Нарышкина,
игравшую на реке против самой дачи, занимаемой Дельвигами... Чтение, музыка и
рассказы Дельвига, а когда не бывало посторонних - и Пушкина, занимали нас днем.
Вечером, на заре закидывали невод, а позже ходили гулять по Крестовскому острову.
Прогулки эти были тихие и покойные. Раз только вздумалось Пушкину, Дельвигу,
Яковлеву и нескольким другим их сверстникам по летам показать младшему поколению...
как они вели себя в наши годы и до какой степени молодость сделалась вялою отно-
548
сительно прежней» (см.: Полвека русской жизни: Воспоминания А.И. Дельвига,
1820-1870. М; Л., 1930. С. 146-147). Здесь предавались литературным шуткам,
сочинялись дружеские эпиграммы и эскапады против литературных противников;
некоторые из них имели серьезные последствия, особенно для Дельвига. Для него это лето
было последним, и вскоре он ушел из жизни, не успев осуществить своего
интереснейшего плана рассказа о драме, подсмотренной через окно «одноэтажного низенького
домика с садиком» где-то на Петербургской стороне, скорее всего в Колтовской
части. К счастью, этот сюжет в его новаторской форме был пересказан Дельвигом
Вяземскому, который и донес его до нас (ср. его заметку: Рус. архив. 1876. Кн. 2, № 6.
С. 204-207; Поли. собр. соч. Т. 8. С. 442-446). «В словах его было какое-то
предчувствие, чуждое отвращения и страха, - завершает свою заметку воспоминатель, -
напротив, отзывалось чувство не только покорное, но благоприветливое. Для меня по
крайней мере этот разговор был лебединая песня Дельвига: я выехал из Петербурга и
более не видал его, а он скоро за тем умер».
«Городское», специфически промышленное заполнение А.о. началось уже вскоре
после основания Петербурга: Мастеровая изба лекарских инструментов (будущий
Инструментальный хирургический завод, Завод военно-врачебных заготовлений,
«Красногвардеец») в восточной части острова (об этом производстве см.: ГаничевЛ. [Гольд-
ман Л.С]. На Аптекарском острове: История ленинградского завода
«Красногвардеец». Л., 1957) и «зелейные» заводы в устье Карповки, т.е. на западе; кирпичное и
лесопильное производство; такие формы поселений, как слобода при Мастеровой избе,
и т.п. Но и позже, на рубеже XIX-XX вв., на А. о. возникают производства,
немыслимые на «островах», ср. Машинный завод Семенова («Полиграфмаш»); Завод
электромеханических сооружений Дюфлона и Константиновича, Деревообделочная фабрика
Мельцера и др.; тогда же возникает Электротехнический институт, Ботанический
институт, учреждение, на базе которого был создан Институт экспериментальной
медицины (Лопухинская, 12) и др. Еще позже появляются Аккумуляторный завод,
Щеточная фабрика, трамвайный парк и т.п. Ничего подобного не возникало и не могло
возникнуть на «островах» - точно также, как не было дач как таковых в городе и даже
на Петербургской стороне, не считая «прикарповской» зоны. А.о. отличался и от
«островов» и от «города» именно этим «легким» сочетанием дач и промышленных
предприятий.
Судя по всему, это был холм в углу, образуемом правым берегом Карповки (в ее
истоке) и Б. Невкой, который никогда не заливался водой и был избран поэтому
немцами для кладбища (считается, что это инославное кладбище, называвшееся
Аптекарским, возникло даже ранее Сампсониевского, после которого на Аптекарском
хоронили главным образом весной и осенью, когда из-за ледохода или бурной погоды
нарушалась связь с Выборгской стороной). Но покойников здесь подстерегала и другая
опасность. Берхгольц сообщает, что в поисках одежды (савана) по ночам могилы
раскапывались, а ограбленный труп валялся до тех пор, пока не погребали другого
покойника. Поэтому скоро немцы стали предпочитать хоронить во дворе при доме
(особенно это относилось к детям) или же, если позволяли средства, выставлять при
могиле караул. По сообщению Вебера, в 1715 г. была разрыта здесь могила немецкого
придворного музыканта, труп был обобран и небрежно брошен в могилу, откуда
высовывались его ноги (до середины XVIII в. покойников нередко клали в очень
неглубокие могилы, из которых исходил смрад и которые легко раскапывались волками и
собаками). Местные старухи считали, что покойник хотел встать из гроба. Возможно,
это первый меморат А.о., первая заявка на миф о здешних conditions humaines. Это
кладбище на востоке острова, возникшее в самом начале века, не следует смешивать
с так называемым Карповским кладбищем, хотя и задуманным значительно ранее и
долженствовавшим заменить собою Колтовское кладбище при церкви Преображения
Господня, где хоронили своих покойников жители Колтовской слободы, но
появившемся только в конце века в западной части А.о. (позже на этом месте был большой
огород, примыкавший к даче братьев Скородумовых, племянников известного
гравера; они были местными старожилами и, надо думать, помнили екатерининские време-
549
на; старший из братьев позже был секретарем у Ал.И. Тургенева и сотрудником
«Благонамеренного». См.: Пыляев М.И. Старый Петербург. СПб., 1903. С. 40). Это
последнее кладбище «на Карповке» было открыто осенью 1795 г. также для погребения
покойников, умерших осенью и весной. Кладбище просуществовало до тех пор, когда
был построен постоянный Тучков мост и стало возможным погребать покойников на
Васильевском острове. Но небольшая деревянная часовенка сохранялась на месте
кладбища до 70-х годов XIX в., как и некоторые надгробные памятники, из которых
лучшим был воздвигнутый на могиле майора Крозелиуса. Огород, возникший на
месте кладбища, славился особым плодородием: лучше всего созревали овощи,
нуждавшиеся в костных удобрениях. Возможно более точное определение местоположения
кладбища.
25 Те же места А.о. проведены автором через весь фенологический цикл, и за
привычными условностями преромантической образности различимы и реальные знаки
природного пейзажа: «...Все лето не оставлял он комнаты своей до тех пор, пока угрюмая
осень мрачными крылами своими не объяла природу - умолк зефир, трава и листья
пожелкли, угрюмый борей заревел и надернув облаками горизонт, ниспустил на
землю дожди. Н... оставил свою горницу (мрачный вид натуры согласовался с душею его)
любезная прогулка его была на Аптекарской остров - он ходил на те места, кои
любовь сделала для него священыми. Тут с удовольствием взирал он, как сильные
напоры ветров с свистом подымали в воздух облака пыли и листьев, и клонили чело
высоких сосен, как слабый колос, валя многия из оных с корня. Вихри, ломите,
истребляйте все, часто вскрикивал он в забвении, уничтожьте существование природы, как
страсти уничтожают мое. Скоро, скоро оно исчезнет и имя мое потонет в море забвения.
Но натура! Ты оживишься - а я... никогда, никогда!» Это - об осени природы и
состояния души. Но есть еще и зима: «...Белое пушистое покрывало ея разпростер-
лось по лугам и долинам, сребристый иней увенчал вершины древних дубов и
вершины высоких сосен; Н... продолжал свою меланхолическую прогулку, печаль грызла
его сердце... Н... по обыкновению пошел на остров. Долго бродили они (с приятелем. -
В.Т.) по снегу в лесу; вдруг небо потемнело, снег посыпался охлопками, и ветер
страшно завыл». Друзья укрываются в хижине и остаются здесь на ночлег. Рано
утром Н... взяв пистолет, незаметно уходит из хижины, «пробирается в беседку на
берегу находящейся тони», где, утомленный бессонной ночью, засыпает. «Солнце уже
достигло полдня, когда подкрепленныя силы заставляют его пробудиться... Но мрачная
задумчивость его не оставляет... Самоубийство соделывается для него приятною иде-
ею... Долго остается он в нерешимости... Наконец мысль самоубийства торжествует;
твердым шагом идет опять к беседке, входит, садится на лавку служившую ему
успокоением, взглядывает последний раз на природу, на бледное солнце и выстрел
раздается в окружности».
26 Возможно, к А.о. относится описание из повести Попугаева: «Сзади домика сего ест
небольшой огород, посреди коего пруд, обведенный валом, усыпанный цветами и
усаженный густыми деревьями». Сюда приходят веселиться «милые прелестницы»,
подобные нимфам, и юноши, «взирающие на их радость».
27 Характерный пример его - водевиль П.А. Каратыгина «Петербургские дачи»,
начинающийся ремаркой: «Действие происходит на Карповке. Театр представляет
маленький сад, обнесенный деревянным забором, по обеим сторонам две калитки,
посредине сцены куртинка, две песчаные дорожки окружают ее, около забора и по
другим местам разбросано несколько бесцветных кустов; позади забора "беседка"»
(можно напомнить, что на А.о. живал и автор водевиля и его брат знаменитый актер
В.А. Каратыгин с его женой Колосовой, тоже известной актрисой, которой
принадлежит описание этой «аптекарской» дачи. См.: Каратыгина AM. (Колосова).
Воспоминания // Каратыгин ПА. Записки. И. Л., 1929. С. 174). «Карповская» тема является
здесь ключевой, как и «климатическая». Ср.: H е в о л и н («карповский шематон»).
Что это, Фома Фомич, вы так закутались; вы вдосталь испугаете наше несчастное
лето, а сегодня, как видите, и солнышко хочет показаться. Вы, кажется, собрались
гулять? -Бирюков. - Да. -Неволи н. Неужели только здесь в саду?... Так пой-
550
дете в Ботанический?... -АннаСергеевна (жена Бирюкова). Вы из ревности
выбрали такое захолустье, что умрешь со скуки! Вот целое лето я не могу
допроситься, чтобы хоть раз побывать на водах, или хоть на Крестовском. -Бирюков.
Целое лето? Да разве это лето? Это, Бог знает, что такое! От этого чухонского лета
цыганский пот прошибает... Я нанял дачу в захолустьи... а что же на деле оказывается?
... Заплатил сто рублей за какую-то продувную лачугу, переехали наслаждаться
природой с Козьего болота на Карповское! ...Ждем летних удовольствий, а где оне? Лето
только в календаре, а у нас от этих удовольствий - ревматизмы да простуды, да
всякие лихие болести... Надоела дача эта! / Просто, хоть сойти с ума! / Вместо красного-
то лета. / Здесь зеленая зима //... Поневоле, как в берлоге, / Засядет всяк из нас: /
Сделай шаг - промочишь ноги, / Высунь нос - насморк тотчас! // В щели, в двери
и в окошки / Ветер ходит тут и там. / Мухи, комары и мошки / Спать мешают по
ночам /... Это северное лето. / Это - дача у людей!!.. Ср. также: H e в о л и н. Вы,
Анна Сергеевна, редко посещаете наш знаменитый сад... Конечно, карповская флора не
слишком роскошна, как видите: репейник, крапива, подсолнечники, но зато нет
барской спеси, простота на каждом шагу... или: Бирюков (читает найденную в траве
записку). «С того незабвенного дня, т.е. с 21-го мая, как берега тихой Карповки осча-
стливились вашим появлением, я потерял мою свободу» ...и в финале -Все. Теперь
ждем вашего ответа / И все хлопочем об одном, / Чтоб вы, как северное лето, / Здесь
не смотрели сентябрем. - Тема погоды и климата открывает и «Вечера на Карповке»,
где она тоже оказывается сквозной. - Ср. также известный водевиль П.А.
Каратыгина «Дом на Петербургской Стороне», представляющий собой перевод-переделку
(в духе «склонения на русские нравы») французского водевиля «L'art de ne pas payer
son terme». Этот водевиль привлек внимание русского зрителя, и в сезоне 1838-1839 гг.
был представлен на сцене 22 раза. Куплеты о знаменитой Тальони, которая «говорит
ногами» то, «чего не скажешь языком», были на устах у театральной публики.
Популярен был и образ хозяина мелочной лавки Варфоломея Сидорыча Копейкина (само
имя не случайно в «Петербургском тексте» - от Варфоломея из «Уединенного
домика на Васильевском» до Варфоломея Венценосного из рассказа Зоргенфрея «Санкт-
Петербург. Фантастический пролог» - Новое слово. 1911. № 1). Но в данном случае
главное - встроенность комической истории в «наш климат» и в локус Петербургской
стороны («Вчера в спектакле я видел М.С. Щепкина, - пишет Д.Т. Ленский П.А.
Каратыгину, - и он мне сказывал, что имеет от вас ко мне посылку: я сразу же
догадался, что это должен быть ваш Дом на Петербургской Стороне; и,
хотя я еще не успел войти во владение и пробежать его, но уверен, что он прекрасен,
ибо переделан по нашему климату отличным архитектором, знающим
совершенно свое дело...». См.: Беляев Ю. Водевильные тени (1838) // Старина и
искусство. Л., 1928. № 1. С. 53-67. Во всяком случае, тяготение водевиля к городской
периферии, к некоей затрапезности несомненно, и поэтому А.о. и окраины Петербургской
стороны легко попадают в поле зрения водевиля.
Этот «медицинский» локус вошел в связь с носителями медицинской темы на А.о., ср.
«Аптекарский огород», Мастеровую избу лекарских инструментов и ее продолжения
вплоть до настоящего времени, ВИЭМ (на большом садовом участке, входившем в
состав лопухинской усадьбы и сохранившем некоторые следы прошлого), дом
работников ВИЭМ, Химико-фармацевтический институт, Институт детских инфекционных
болезней, Больница им. Н.Ф. Филатова (1914-1916; первая в России детская
больница, с 1834 г.), Карантинный распределитель и т.п.; в 1906 г. в клинике Конасевича и
Оршанского (Песочная, 9) лечился Врубель. О медицинской теме этого места в годы
войны см. у Веры Инбер («Почти три года (Ленинградский дневник)», 1946).
Но душа взыскует иного, и мечты от Декарта устремляются к «Опоньскому царству,
на семидесяти островах Беловодья»: «Он вернулся в библиотеку, сел у окна, рядом со
стеною, уставленной ровными рядами книг в одинаковых кожаных и пергаментных
переплетах, взглянул на ночное, белое, над черными елями, пустое, мертвое и
страшное небо, и вспомнил слова Спинозы... - Господи! Господи! Господи! Но молчание
было в небе, молчание в сердце. Беспредельное молчание, беспредельный ужас. Вдруг,
551
из последней глубины молчания, Кто-то ответил - сказал, что надо делать. Тихон
встал, пошел в свою келью, вытащил из-под кровати укладку, вынул из нее свой
страннический старый подрясник, кожаный пояс, четки, скуфейку, образок Св.
Софии Премудрости Божией, подаренный Софьей; снял с себя кафтан и все остальное
немецкое платье, надел вынутое из укладки, навязал на плечи котомку, взял в руки
палку, перекрестился и, никем не замеченный, вышел из дома в лес».
30 Уже к 1823 г. здесь, на почти бесплодном острове, было выведено до полутора тысяч
видов растений, многие из которых поражали воображение обитателей Петербурга.
Ботаническая наука формировалась здесь и процветала (Буксбаум, Фишер, Зигебек,
Фальк, Рудольф, Стефан, и др.), протягивая руку помощи и медицине (ср.
культивирование травы «тунгусский чаек», или таволжник (Spiraea ulmaria), лучшее тогдашнее
средство от простуды и лихорадки, столь докучавших дачникам А.о. даже летом), и
садоводству, которое (как и огородничество) особенно процветало именно здесь, на
А.о., и отчасти на примыкавшей к нему северной окраине Городского острова. Как
известно, успехи здешних садоводов и огородников во второй половине XIX в.
получили международное признание.
31 Дача Зубовой славилась обилием и изысканностью цветов, Вяземского -
рододендронами и кипарисами в кадках, привлекавшими внимание публики.
32 Среди достопримечательностей этой дачи называют редкий для петербургского
климата американский орех (luglans nigra) и ванну с огромными живыми осетрами чуть ли
не в 4 пуда.
33 Правда, последующий владелец участка В.Ф. Громов привел его снова в хорошее
состояние, но практический уклон был очевиден (оранжереи, которыми ведал лучший
садовник того времени Одинцов).
34 «Хуторок» был постоянным объектом газетной хроники своего времени, но попал и
в большую литературу (см. рассказ Ремизова «Пиленый сахар»).
35 Впрочем, это не значит, что другие знаменитости не собирались здесь и позже. Один
из вечеров лета 1843 г., на котором присутствовала вдова Пушкина («Г-жа
Пушкина... - прекрасна, - омраченное тяжелым несчастьем ее лицо неизъяснимо печально"),
был описан очевидцем. См.: Comte A. Pallavicini. Lettres d'un petit fils à sa grande mère.
P. 94 (s.a.) (письмо от 8(21) июля 1843 г.). Ср. также: Яцевич А. Указ. соч. С. 158.
36 Старинный двухэтажный дом с пилястрами стоял на месте еще в 30-х годах нашего
столетия, но уже обреченный на снос. Вокруг него был «большой Английский сад,
с качелями и каруселью»; часть его представлена сквером, вправо от дома № 56 по
Каменноостровскому проспекту и вглубь от него.
37 Ср. рукописное исследование H.H. Новикова «Батюшков под гнетом душевной болезни»
(РНБ. Ф. 523. Ед. хр. 527).
38 Их переписка - высокий образец дружества двух поэтов и ценнейший источник
русской культуры начала XIX в.
39 В перекличке с использованным им когда-то в качестве эпиграфа стихом Проперция
Sunta liquid manes.
40 См.: Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник, 1979. Л., 1980. С. 57.
41 Одной из существенных задач исследования А.о. как литературного (шире -
культурного) урочища нужно считать установление круга литераторов и деятелей искусства,
живших и бывавших здесь, определение адресов и дат, взаимных связей и т.п. Во
всяком случае с самого начала XIX в. закладываются основы традиции проведения
литераторами летнего времени на А.о., на Карповке. Одним из старожилов этих мест был
Н.И. Греч, упоминающий в своих «Записках» о том, что летом 1813 г. он жил на
Карповке в доме Крокизиуса, по левую сторону от Каменноостровского проспекта.
См.: Грен Н.И. Записки о моей жизни. «Academia», 1930. С. 221.
42 Автобиографизм «островной» темы отчетливо проступает в ряде произведений
Достоевского, прежде всего в «Преступлении и наказании». Но ср. уже в «Белых ночах»
связь этой темы с угнетенным состоянием мечтателя, вызываемым
разъединенностью его с «островами» при массовом паломничестве на них петербургского
населения. «С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг пока-
552
залось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются... весь
Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно оставаться одному, и целых три
дня я бродил по городу в глубокой тоске... Наконец я только сегодня поутру
догадался, в чем дело. Э! да ведь они от меня удирают на дачу!». И далее: «Мало того, я уже
сделал такие успехи в своем новом, особенном роде открытий, что уже мог
безошибочно, по единому виду, обозначить, на 'какой кто даче живет. Обитатели Каменного
и Аптекарского или Петергофской дороги отличались изученным изяществом
приемов, щегольскими летними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они
приехали в город... (см.: Поли. собр. соч. Т. 2. С. 103-104). В контексте А.о. нужно
отметить и ту роль, которую предназначил Достоевский самой Петербургской стороне,
причем и в весьма важных для него контекстах. Аркадий Долгорукий не раз
проделывает путь от Технологического института на Петербургскую сторону - к Звереву, к
Дергачеву (ср. «долгушинцев», собиравшихся в доме 71 по Большому проспекту), где
слушает слова Крафта о русском народе, к самому Крафту, в его «маленькую
квартиру, в две комнаты, совершенным особняком». Разговор с Крафтом был для Аркадия
решающим; то, что говорил Крафт, и сам его облик произвели на Подростка
глубокое впечатление. Многое открывалось в новом свете, и нужны были новые встречи и
разговоры. Следующей встречи не было потому, что Крафт кончил жизнь
самоубийством, но Аркадий запомнил и напутственные слова, к нему обращенные: «Живите
больше», и последний его взгляд, и еще одно: «Какой вы час во дню больше любит?
... - Час? Не знаю. Я закат не люблю. - Да? произнес он с каким-то особенным
любопытством..., - и в тот же день, вечером, «тут же на Петербургской, на Большом
проспекте, в одном мелком трактире», когда в соседней бильярдной шумели, Аркадий
сидел и «сильно думал»: «Закат солнца (почему Крафт удивился, что я не люблю
заката?) навел на меня какие-то новые и неожиданные ощущения, совсем не к месту. Мне
все мерещился тихий взгляд моей матери, ее милые глаза...». И когда Аркадий
услышал о самоубийстве: «Крафт? ... Застрелился? Вчера? На закате солнца?». Большой
проспект Петербургской стороны - последний путь Свидригайлова. Рано утром, когда
еще «молочный, густой туман лежал над городом», он, дойдя до большого дома с
каланчой при повороте «в -скую улицу», на глазах у пожарного, тоже рассчитался со
своею жизнью. Впрочем, и действие «Скверного анекдота» происходит на
Петербургской стороне, в изящном двухэтажном доме, при котором был сад.
43 «Тихость» А.о. и Карповки - одна из сквозных (наряду с «пустынностью»)
характеристик этого урочища, повторяющихся в нескольких текстах с поразительной
навязчивостью, особенно о блокадном городе (нередко в контрасте с грохотом взрывов,
рушащихся домов, звоном стекол оранжереи, в которую попал снаряд, и т.п.). Ср.
несколько примеров на выбор и наугад - из книги Инбер «Почти три года.
Ленинградский дневник»: «Тихая набережная Невки, рядом - Гренадерский мост»; - «Здесь
же на тихом бережку, неподалеку от нашей прозекторской, стоит зенитная
батарея»; - «Наши теперешние ночи неописуемо тих и»; - «Порой тишина сводит
меня с ума. Сейчас хотя бы: ни звука, ни шороха»; -«Тихая ночь и тихое...
начало дня»; -«Тихо в городе. И на фронтах тих о»... Я плохо сплю: тишина
убивает меня»; - "И тишина, особая непередаваемая тишина осажденного
города...»; -«Тишина и пустынность города потрясают... Тишина. Даже
обстрелы прекратились. Как писать в таком городе? При бомбежках - и то было
легче»; - «Иногда мне кажется, что Ленинград сейчас - один из самых тихих городов
мира» и т.п.; из книги Матюшиной «Песнь о жизни. Повесть», написанной на
основании дневниковых записей 1941-1944 гг.: «Тихая улица, сад кругом. Все это мало
напоминает город»; - «Свернув по Карповке... На противоположном берегу густой
сад, а с этой стороны тихая улочка»; - «Все темнее во дворе. Все τ и ш е в
домах. И все сильнее запах цветов»; - «Сколько тишины и мира в саду!»; - «Сад
совсем затих» и т.п. Следует, впрочем, помнить, что этот мотив задан был уже По-
пугаевым в его повести об А.о. - прежде всего в ключевом месте экспозиции: «Там,
где мелкая излучистая Карповка... где с τ и χ и м приятным шумом... омывает она
зеленую травку...» (ср. оксюморный тихий шум), но и в иных местах («Т и χ а я мелан-
553
холия царствует во всем домике сем»; - «Не всегда в маленьком домике сем недрилась
тихая меланхолия: и в нем раздавались радости и смехи»; - «не смотря на то
тихий зефир не презирает играть на ея поверхности»). Эту «тихость» не отменяют
ни вой ветра, ни шум деревьев, иногда валящихся на землю, ни хороводы и игры
девушек, ни даже услышанный всеми финальный выстрел героя. И другие писатели,
обращавшиеся к этому месту, не смогли избежать мотива тишины. Ср. у Мережковского:
«...на Аптекарском острове, на речке Карповке, среди густого елового леса... и
тишина леса сливалась с тишиною книгохранилища» - или у Шефнера:
«Они перешли на Аптекарский остров, совсем τ и χ и й, и безлюдный... («Миллион в
поте лица») и др. Тихая Карповка, несомненно, уже раньше стала клишированной
формулой. В этом качестве она и попала в пошловатую любовную записку, которую
нашел в траве, на берегу этой речки, герой каратыгинского водевиля: «С того
незабвенного дня, т.е. с 21-го мая, как берега тихой Карповки осчастливил ись вашим
появлением, я потерял мою свободу». Но эта «тихая Карповка» водевиля мало имела
общего с «моей тихой Карповкой» Блока.
44 Следовательно, отмеченными оказываются обе крайние точки Карповки, ее исток и
устье. Гренадерские казармы и конец Б. Зелениной. По версии, восходящей к
Е.П. Иванову, блоковскому «Жене», к этому же месту приурочено стихотворение
«Ночь, улица, фонарь, аптека...» (последний дом улицы слева, на углу Колтовской).
См.: Лихачев Д.С. Из комментария к стихотворению «Ночь, улица, фонарь, аптека» //
Рус. лит. 1978. № 1. С. 186-188 (в школе на Плуталовой ул., где учился Д.С. Лихачев,
Е.П. Иванов вел литературный кружок; после одного из занятий по пути на
Крестовский остров он и показал своему юному спутнику эту аптеку, связав ее с
стихотворением Блока).
45 Продолжение Б. Зелениной в противоположную сторону приводит к л оку су первого
видения - кабачку с обоями, на которых изображены корабли; его «реальная»
привязка - кабачок на углу Геслеровского (существовавшая здесь после революции чайная
была уничтожена бомбой в начале войны, и сейчас здесь незастроенный угловой
участок); корабли - переходящая тема обоих видений.
46 Нужно помнить и о другом: на А.о. на дачи государственных чиновников высокого
ранга приезжали (не редко нарушая правила приличия) «по делам», чтобы подать
прошение, в надежде на снисходительность, естественную в неофициальных «дачных»
условиях. Но бывало, что такой расчет оказывался ошибочным. Известный И.Г. Пры-
жов, чья судьба дважды соприкасалась с Достоевским (в детстве они жили бок о бок,
отец Прыжова был священником Мариинской больницы в Москве, и, следовательно,
Прыжов и Достоевский были «с одного двора»; позже Прыжов стал членом той
преступной группы, которая совершила убийство, о котором говорилось в «Бесах»), в
горячем 1861 г. приезжает в Петербург и по протекции фрейлины Евгении Лачиновой
обращается к министру внутренних дел Ланскому, но он «продержав в ноябре три
часа в холодной зале на Аптекарском острове, хлопнул дверью и ушел». См.:
Прыжов И.Г. Очерки, статьи, письма. «Academia», 1934. С. 22.
47 Об этом доме см. в «Полутораглазом стрельце» (1933, гл. 4) Б. Лившица, а также:
Матюшина О. Окрыленные люди. Л., 1967 (особенно «Песочная, деревянный домик».
С. 108-141 и «Таким я знала Маяковского». С. 92-107); Она же. Песнь о жизни:
Повесть. Л., 1946; ср.: Звезда. 1973. № 3 (воспоминания) и др.; см.: Повелихина А. СП.Б.
Песочная, 10 // Наше наследие. 1989. 11(8). С. 117-121. В этом же номере журнала
(С. 85-86) напечатаны воспоминания СП. Мельгунова «Г.А. Лопатин. Из цикла
"Встречи"» (перепечатка из «Голоса минувшего», 1920-1921). Герман Александрович
Лопатин (1845-1918), народоволец, много лет проведший в заключении, интересен не
только как особый (и притом симпатичный) тип человека («Во всей громадной
фигуре Г.А. ... сквозила та нежная доброта, то благородство человека, который видит в
другом действительно брата. Это - не доброта от слабости и простодушия, это
доброта величия, умеющая снизойти, объяснить и простить»), вовлеченного в русское
революционное движение, но и как живая память его на протяжении почти шести
десятилетий. «Обладая исключительным даром образного рассказчика, он в сущности был
554
замечательным мемуаристом. Жизнь его полна была встреч, и при своей
наблюдательности Г.А. подмечал черты, которые ярко иногда характеризовали людей и
события. Слушать его было наслаждение. Надо было только суметь навести его на
соответствующую тему. Обычно воспоминания шли непроизвольно, попутно по темам,
около которых вертелась беседа. Эти короткие эпизоды, штрихи и характеристики
иногда удивительно передавали сущность... Это была революционная энциклопедия,
которая вводила бесконечные поправки к рассказам современников» (но Г.А. был
именно рассказчиком: «Он смеясь рассказывал, что Амфитеатров записал за ним
целых четыре тома, когда Лопатин жил у него в Италии. Самого Г.А. невозможно
было заставить написать»). Интересно, что несколько стихотворений Лопатина
находилось в редакционном портфеле «Голоса минувшего», но они не были напечатаны,
хотя автор их соглашался на это в случае получения из Парижа сборника его «шлиссель-
бургских стихотворений, представляющих нечто вроде дневника тамошней
жизни» (судьба их, кажется, неизвестна). Нужно напомнить, что Г.А. Лопатин жил в
доме на противоположном конце того же участка, где находился и дом 10 по Песочной,
но в той части, которая была обращена к Карповке. Ветеран русского
революционного движения, на склоне своей жизни, не мог, видимо, не встречать в этом общем саду-
дворе молодых деятелей русского художественного авангарда; и уж, во всяком случае,
он должен был нечто слышать об обитателях и посетителях этого дома по соседству.
48 Ср. о той же самой рябине: «Помню, лет тридцать назад я стояла у окна. Красив был
сад, укрытый первым пушистым снегом. Рубинами горели на солнце грозди рябины.
Смотрю - по тропинке идет Маяковский. Остановился. Залюбовался ягодами. Потом
по-мальчишески разбежался, прыгнул. Мимо! Снова прыгнул, и снова - мимо! ... - Не
выросли, Владимир Владимирович! Плохо тренированы. - Он улыбнулся, махнул
рукой. Сделал несколько шагов к дому и вернулся. В руках - палка. Долго нацеливался,
и... победный крик! Сразу две кисти вытащил из снега, горсть мерзлой рябины
засунул в рот. ... И вот эту рябину в одно блокадное утро пришлось срубить - не на чем
было вскипятить чай умирающему Ведерникову» («Песнь о жизни». С. 128).
49 «Катя подошла к пианино... И вдруг - зазвучал Шопен... Кажется, это был ноктюрн.
В комнату вошел Маяковский... вытащил карандаш, стал что-то записывать. Но
вдруг заслушался и словно застыл с карандашом в руках... Потом, не сказав нам ни
слова, сложил листочки в карман и ушел... - Владимир Владимирович, здесь же есть
короче путь. Наш двор - проходной. Сейчас мы выйдем на Карповку, а потом - через
Петропавловскую больницу. - Он согласился. На Карповке стояло тогда два
деревянных домика. Вокруг них - огороды. Но мы всегда проходили по тропинке через
огород... И вот - большой зал Женского медицинского института. Публика настроена
весело: ведь на вечере выступят футуристы! Зал полон... И вдруг, медленно шагая по
эстраде, появился Маяковский. Огнем горела его оранжевая кофта. Он был серьезен.
Мне казалось, что он волнуется. Несколько мгновений поэт стоял молча. Потом
раздался его громовой голос: ...Л вы ноктюрн сыграть могли бы I На флейте
водосточных труб?.. На том вечере Екатерина Генриховна Гуро (вместо Елены) читала ее
стихотворение «Город»: Так встречайте каждого поэта глумленьем! I Ударьте его би-
чем! I Чтоб он принял песнь свою, как жертвоприношенье, IВ царстве вашей власти
шел с окровавленным лицом!» («Окрыленные люди». С. 103-105). Аудитория
Женского медицинского института в это время не раз принимала и других модных поэтов,
в частности Северянина (о чем см. его стихотворение «Валентина»: Валентина,
сколько счастья! Валентина, сколько жути / ... / Это было на концерте в
медицинском институте, I Ты сидела в вестибюле за продажею афиш...).
50 В июле здесь же состоялся первый съезд футуристов, в котором участвовали
Малевич, Матюшин, Крученых. Кстати, здесь было принято решение о постановке
трагедии «Владимир Маяковский». См. примеч. А.Е. Парниса к кн.: Лившиц Б. Полутора-
глазный стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 645.
51 Гуро попадает в сферу внимания Блока не раз. Ср.: VII. С. 104, 181 («Сообщил
(А.П. Иванов. - В.Т.), что Е. Гуро при смерти», 20 ноября 1912); С. 240 («Известие о
смерти Е. Гуро», 26 апреля 1913) и др.
555
52 Матюшин М.В. Творческий путь художника, 1934 (рукопись, хранящаяся в Музее
истории Ленинграда, архив).
53 См.: Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970. Дневники
Матюшина цит. по ст.: Ковшун Е.Ф. Елена Гуро: Поэт и художник // Памятники
культуры: Новые открытия. Ежегодник, 1976. М., 1977. С. 317.
54 Свое состояние в 1912 г. Лившиц описывает в «Автобиографии». Учет этого
состояния важен при оценке результатов его встречи с Е. Гуро. «В 1912 году в моих
литературных взглядах происходит перелом, лично мне представляющийся результатом
естественной эволюции, но моим тогдашним единомышленникам казавшийся ничем не
оправданным разрывом со всем недавним окружением... Я все более и более стал
склоняться к убеждению, что мы, поэты, давно уже топчемся на одном месте и, в
частности, русские символисты, в то время бывшие еще на гребне волны, проделывают
свой путь по стопам французских символистов восьмидесятых годов. Я остро, почти
физиологически, переживал это как чувство духоты, как ощущение тупика, в
особенности потому, что близко рядом с собою видел широкую и свободную дорогу, по
которой смело шагала французская живопись. На первый взгляд казалось: стоит только
перебраться через забор, и мы очутимся на той же дороге. Но, конечно, дело
обстояло много сложнее. Нужен был целый сдвиг в миропонимании, нужна была новая
философия искусства. Излагать последовательно ход этой борьбы за освобождение
слова, борьбы, одновременно ведшейся на трех фронтах - академическом,
символистском и акмеистском, - значило бы писать историю тех довольно отличных друг от
друга течений, которым огулом с легкой руки Давида Бурлюка было присвоено имя
футуризм и которые с подлинным западноевропейским футуризмом имели по
существу мало общего. На почве этой борьбы я сблизился с Бурлюками, Хлебниковым,
Маяковским... Во всех многочисленных, шумных, а зачастую скандальных...
выступлениях "Гилей" я принимал неизменное участие, так как несмотря на все, что меня
отделяло, например от Крученых и Маяковского, мне с будетлянами было все-таки по пути...
Разрыв... стал для меня намечаться уже зимою 1913 г., во время приезда в Россию Ма-
ринетти... я вынес убеждение, что итальянский "гений" разрушения и наше будетлян-
ское "беспутство" - вещи глубоко различные... Разрежение речевой массы, приведшее
будетлян к созданию "заумного" языка, вызвало во мне, в качестве естественного
противодействия, желание оперировать словом, концентрированным до последних
пределов, орудовать, так сказать, словесными глыбами, пользуясь, с этой целью
композиционными достижениями французских кубистов, или, вернее, через их голову
обращаясь к Пуссену». См.: Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. С. 550-551. Ср.:
«Отвергая все мои доводы, он (Д. Бурлюк. - ВТ.) с настойчивостью прирожденного
организатора продолжал бомбардировать меня посланиями, убеждая, заклиная, требуя от
меня программной статьи, если не для "Пощечины", то хотя бы для "Садка"... Статью
обязан ты сей миг выслать мне в каком бы то ни было виде. Будь нашим Маринетти!
Боишься подписать - я подпишу: идея - прежде всего!..» (Там же. С. 389).
55 Потребность в связи с Матюшиным и Гуро ощущалась «предфутуристами»
отчетливо. «Не довольствуясь этим, он (Д. Бурлюк. - В.Т.), параллельно с "Пощечиной",
затеял второй сборник "Садка Судей", связавшись с петербургской группой М.В.
Матюшина и Е. Гуро, а также вел переговоры с "Союзом Молодежи" о совместном с нами
литературном выступлении» (Там же. С. 389); «- Ты с ним (Маяковским. - В. Г.),
должно быть завтра познакомишься, - ответил на мои расспросы Давид, - он приехал из
Москвы вместе со мною. Кроме того, тебе непременно нужно зайти к Кульбину,
Николай Иванович тебя целовать будет, сведет с Евреиновым и Мейерхольдом. Пойди
также к Гуро - замечательная женщина, ее высоко ценит Витя. Если в необходимости
кульбинских поцелуев у меня и возникали некоторые сомнения, то с Еленой Генри-
ховной Гуро, участницей первого "Садка Судей" и автором "Шарманки", мне хотелось
завязать личное знакомство» (Там же. С. 397).
56 На следующий день после совета Давида Бурлюка познакомиться с Гуро Бенедикт
Лившиц зашел к Николаю Бурлюку с тем, чтобы вместе идти на Песочную, но «в ги-
лейском форте Шаброле» (квартира Н. Бурлюка, Большая Белозерская, 8; его адрес
556
в 1910 г. - Каменноостровский просп., 45, кв. 3, в нескольких минутах ходьбы от
Песочной) встретил «высокого роста темноглазого юношу». «Одетый не по сезону
легко в черную морскую пелерину со львиной застежкой на груди, в широкополой
черной шляпе, надвинутой на самые брови, он казался членом сицилианской мафии,
игрою случая заброшенным на Петербургскую сторону». Ряд других деталей «еще
усугубляли сходство двадцатилетнего Маяковского с участником разбойничьей шайки
или с анархистом-бомбометателем...» (Там же. С. 397). Далее Лившиц рассказывает о
посещении им Н.Е. Добычиной в ее доме на Мойке (Марсово поле, 7), квартира
которой стала позже «настоящим музеем левой живописи». «Мы ушли поздно..., трамваев
уже не было, и Маяковский предложил пойти пешком на Петербургскую сторону.
Мне хотелось поближе присмотреться к нашему новому соратнику, он тоже проявлял
известный интерес ко мне, и между нами завязалась непринужденная, довольно
откровенная беседа, в которой я впервые столкнулся с Маяковским без маски» (Там же.
С. 399^00). Беседа-спор так увлекла спутников, что вместо Петербургской стороны,
открывавшейся с Марсова поля прямо за Невой, они оказались в другом конце
города, где-то у Покрова, откуда пришлось тащиться обратно на Петербургскую сторону,
которой они достигли в четвертом часу утра. «Гилейский форт Шаброль» - еще одна
опорная точка раннего футуризма в Петербурге, связанная, между прочим, и
домом 10 по Песочной. Ср. сонет-акростих Лившица «Николаю Бурлюку» (1913).
57 Речь идет о «личном» и глубоко личностном мифе Елены Гуро (Элеонора Генрихов-
на Нотенберг), о которой пишет А.Е. Парнис в его комментариях к «Полутораглазо-
му стрельцу» Лившица (С. 645): «Е. Гуро создала миф о смерти никогда не
существовавшего сына, названного ею Вильгельмом Нотенбергом, и посвятила ему многие
свои произведения. Матюшин вспоминал: "Образ бедного рыцаря", "небесного
верблюжонка", - воплотившийся у Гуро в образ человека, - не имеет ничего
биографического, этот образ - резервуар ее мечты, она создала его из тончайших
ощущений, идущих прямо от природы, от земли... И хотя Лившиц не был посвящен в эту
тайну и считал основную мифопоэтическую тему ее творчества - культ и трагедию
материнства - построенной на "реальных" биографических фактах, он, объясняя
причины своих с ней расхождений, дал верную психологическую характеристику
Гуро». Подробнее об этом мифе см. в другом месте. Нужно пояснить, что «Небесные
верблюжата» были изданы посмертно, в 1914 г., а «Бедный рыцарь» хранится в
отделе рукописей РНБ (Ф. 1116), там же находится и дневник Гуро. Известны
иллюстрации Гуро к пьесе «Осенний сон» («два рисунка Гуро, передающие облик Вильгельма,
высокого хрупкого юноши с трагическим изломом бровей»; считается, что в образе
Вильгельма отразились некоторые черты художника Бориса Владимировича Эндера,
1893-1960) и к «Бедному рыцарю» (один из характернейших рисунков воспроизведен
в кн.: Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. С. 413). См. также иллюстрации в статье
Ковшун Е.Ф. Указ. соч. С. 318-319, 321-322. Две посмертных вывески картин и
графики Гуро состоялись в 1913-1914 гг. - в рамках выставки «Союза Молодежи» и в
1919 г. в Доме литераторов на Карповке. В свое время ее работы были в экспозиции
новейших направлений живописи в Русском музее. Матюшин подчеркивал, что Гуро
«столько же поэт, сколько художник».
58 Дня через три после первого посещения дома 10 по Песочной там же, у Гуро,
произошло, если верить Лившицу (с. 407 и след.), его знакомство с Хлебниковым;
комментатор считает, что здесь автор допускает некоторый сдвиг во времени, и первая
встреча, возможно, имела место несколько ранее. К «равнодушию к стихии слова» ср.
дневниковую запись Гуро от октября 1912 г.: «В Осеннем сне говорится не о том, что
написано, а о некой необъятной лучезарной сути, заложенной под словами и кусками
фабулы» (Ф. 1116. Ед. хр. 1. Л. 84).
59 Матюшинский «пространственный реализм» исходил из двух теоретических
предпосылок - их синтетического постижения мира через систему взаимодействия разных
органов чувств, когда все, что есть в этом мире, увидено в связи пространства,
движения, цвета и т.п., и из предположения о расширении оптических возможностей глаза,
«расширенного смотрения», при котором «глаз» отчасти судит и о том, что подлежит
557
компетенции других органов чувств (например, слуха). Ср. тему соотнесения цвета и
звука в экспериментальных исследованиях Матюшина и его учеников, а также его
«Справочник по цвету», изданный в 1932 г. См.: Повелихина А. Указ. соч. С. 120-121.
Все эти работы в начале 30-х годов были прерваны, а сам Государственный институт
художественной культуры, в котором Матюшин возглавлял один из отделов, был
закрыт. В связи с попыткой Матюшина после распада «Союза Молодежи» организовать
новое художественное объединение Филонов писал ему в 1914 или 1915 г.: «Вы
хотите связать идею вашего общества с идеями Елены Гуро...», что снова, по крайней
мере по идее, возвращает нас к теме «гуро-матюшинского пространства» (см.:
Ковтун Е.Ф. Указ. соч. С. 326).
60 Ср. дневник Елены Гуро, Л. 39 (от 24 мая 1910 г.); Небесные верблюжата. СПб., 1914.
С. 14 и др.; см.: Ковтун Е.Ф. Указ. соч. С. 321, 326. Матюшин в 1934 г. писал, что
образ поэта у Гуро «взят с Хлебникова целиком».
61 Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940. С. 365.
62 В этом отношении показательна характеристика, которую дает Гуро стихам
Крученых в письме, относящемся к весне 1913 г. (можно напомнить, что именно по вопросу
о Крученых так сильно разошлись Гуро и Матюшин с Лившицем): «У Вас, например,
в пространствах между штрихами готова выглянуть та суть, для которой еще вовсе
нет названия на языке людей, та суть, которой соответствуют Ваши новые слова. То,
что они вызывают в душе, не навязывая сейчас же узкого значения» (РГАЛИ. Цит. по
коммент. А.Е. Парниса. С. 645). Тут важнее, чем адекватность этой характеристики
поэзии Крученых, узреваемая за этим концепция Гуро. Ср. также дневниковую запись
от сентября 1912 г. (л. 86).
63 Ср. превосходный рисунок тушью «Дерево» (1910, хранится в ИРЛИ).
64 «Бедный рыцарь» - РНБ. Ф. 1116. Ед. 3. Л. 36, 48, 72 об.; см.: Ковтун Е.Ф. Указ. соч.
С. 321.
65 Ряд откликов на произведения Гуро появился еще при жизни. Среди них - рецензия
Вяч. Иванова на «Осенний сон» (см.: Труды и дни. СПб., 1912. № 1). В 1913 г. выходит
в свет сборник «Трое», в 1914 г. - стихотворение Крученых «Памяти Елены Гуро»
(Рыкающий Парнасе. СПб.: изд. «Журавль», 1914. С. 72) и статья В. Ховина «Елена
Гуро» (Очарованный странник. СПб., 1914. Вып. 7). В 30-е годы были написаны
«Биография Ел. Гуро» и «Творческий путь художника» М.В. Матюшина (в рукописи) и
«Полутораглазый стрелец» Лившица со страницами, посвященными Гуро, а также
статьи: Харджиев Н., Гриц Т. Елена Гуро // Книжные новости. 1938. № 7. Ср.: Хард-
жиев Н. Заметки о Маяковском. 8: Маяковский и Елена Гуро // ЛН. М., 1958.
Полтора-два десятилетия назад интерес к творчеству Е. Гуро заметно оживился. Ср. о ней:
Markov V. Russian Futurism: a History. Los Angeles, 1968 (особый раздел); Харджиев Н.,
Малевич К., Матюшин М. К истории русского авангарда. Стокгольм, 1976;
Banjanin M. The Prose and Poetry of Elena Guro // Russian Literature Triquaterly, 9 (Spring);
idem. The Use of Metonymy in the Works of Elena Guro // Forum at Iowa on Russian Literature
I, 1. Univ. of Iowa; Bornager K. Elena Guro. Her Life and Work. A Preliminary Sketch //
Slavisk Institut. Aarhus Univ. Arbeijdspapirer, N 3-4; Bornager K. Russian Futurism,
Urbanism and Elena Guro. Àrhus, 1977. Капелюш Б.Н. Архивы М.В. Матюшина и Е.
Гуро // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 г. Л., 1976;
Ковтун Е.Ф. Указ. соч.; Bowlt J.Ε. Elena Guro // Künstlerinnen der russishen Avantgarde
1910-1930. Köln, 1979; Kalina-Levine V. Through the Eyes of the Child: The Artistic Vision
of Elena Guro // Slavic and East European Journal. 1981. Vol. 25, N 2. Summer; RakuSa I.
Elena Guro // Pojmovnik ruske avangarde. Prvi svezak. Zagreb, 1984; Вдовина Л. Этапы
творческой эволюции Ел. Гуро. Тарту (рукопись); Минц З.Г. Футуризм и
«неоромантизм» // Уч. зап. Тарт. Гос. ун-та, 822. Труды по русской и славянской филологии.
Литературоведение. Тарту, 1988; Топоров В.Н. Миф о смерти юноши-сына (к
творчеству Елены Гуро) // Михаил Кузмин и русская культура XX в. Л., 1990; Он же. Елена
Гуро: миф о воплощении юноши-сына, о его смерти и воскресении (в печати); ср. также
Повелихина А. Указ. соч.; Русские писатели, 1800-1917: Биогр. словарь. М., 1990. Т. 2,
и др.
558
66 К этим источникам нужно отнести прежде всего то, что остается до сих пор не
опубликованным из художественного наследия Елены Гуро (а эта часть достаточно
велика и весьма значительна), и рукописи сочинений, относящихся к самому автору
(прежде всего труды Матюшина). Издание этих неопубликованных работ, как и собрание
и переиздание произведений Гуро, ранее опубликованных, составляет первый круг
источников. Собрание и публикация ее изобразительного наследия - второй круг
источников. Иконография (от «внешнего» портрета работы В. Бурлюка, 1910 г., до
замечательной фотографии, сделанной Матюшиным в 1910-1911 гг.) - третий круг
источников. Особо надо отметить тот «вторичный» тип источников, который формируется из
сопоставления литературных и изобразительных текстов Гуро и в определенной мере
вскрывает единство творческой личности автора - вплоть до общих принципов
художественного преображения, до конкретных элементов манеры - писательской или
художнической. Современный исследователь изобразительного наследия Гуро
отмечает свободную живописность линии в графике, отказ жертвовать цветом ради формы
(«В кубизме живописное начало отодвинуто на второй план; ведущую роль играют
форма и конструкция. Гуро не хотела приносить цвет в жертву форме. Она ценила
живописную вибрацию в импрессионизме, драгоценную "цветную пыль" его фактур...
В живописи Гуро, как и в поэзии, ощутимо то же движение к природе... Гуро
ориентирует свою живопись на формы и краски живой природы, на мир органики. Ее краски
от природы, от тончайших ее цветовых переходов и переливов. В холстах Гуро
прозрачно светятся различные градации и оттенки зеленого, избегаемого кубистами как
слишком "земного" по своим природным ассоциациям». См.: Ковтун Е.Ф. Указ. соч.
С. 323), своеобразный «синтетизм», некую обобщенность в сочетании с «паряще-
стью», освобожденностью от отягощающего начала, разреженностью и
просветленностью. Две записи из дневника прояснят некоторые из этих свойств живописной
манеры Гуро, во многом перекликающейся с ее писательским почерком. Ср.: «Я
построю дворец из просветов неба. Все приходящие туда получат светлые, зеленоватые,
чуть розовые или водянисто- голубые кристаллы неба. И еще там будут пушковатые,
серебристые одежды, нежные» - или: «В самых верхних, существующих в небе
веточках, такая радость и легкость. Вот если наша душа достигнет света и отделается от
тяжести, наверное, ей будет так» (запись от 5 июня 1911 г., л. 78). К особой роли
растительного мира ср. запись Гуро: «16 суббота. Утром Миша с Вилей в Эрмитаже, а я, в
Ботанический сад, собирать свою душу. После записала этюд. Днем завертывала
"Садки". Вечером приняла Н. Бурлюка по поводу "Садков"...» (Дневник, л. 71).
Ботанический сад был в пяти минутах ходьбы от дома Гуро.
67 «...И смерть Лозинского каким-то образом оборвала нить моих воспоминаний. Я
больше не смею вспоминать что-то, что он уже не может подтвердить» (Ахматова.
«Мандельштам. (Листки из дневника)»). Но и Ахматова для Лозинского - не забывшая,
название стихотворения, посвященного Ахматовой (1912 г.): Еще свою я помню
колыбель... Много лет спустя она ответила ему своим даром: Почти от залетейской
тени I В тот нас, как рушатся миры, I Примите этот дар весенний IB ответ на
лучшие дары...
68 Использовано Ахматовой в качестве эпиграфа. Взаимные переклички в стихах обоих
поэтов позволяют говорить о наметках слегка прикровенного поэтического диалога,
что должно составить тему особого исследования.
69 И еще о тех же «просветах роковых»: ...Но свет торжественный и бранный I В
тревожном воздухе сквозит. II Но сердце знает: в доле знойной, I В далеком, новом
бытии I Мы будем помнить, город стройный, I Виденья вещие твои («Петербург I»,
1912).
70 Нужно сказать, что подобные собрания происходили и на одной из предыдущих
квартир Лозинского (в частности, у него помещалась редакция «Гиперборея»), на
Васильевском острове - Волховский пер., 2, кв. 27. В 1914 г. здесь В.К. Шилейко читал
отрывки из «Гильгамеша», в присутствии Гумилева, переведшего позже эту поэму
(в 1915 г. Лозинский жил уже на Петроградской стороне - Малый проспект, 26-28).
О Лозинском «гиперборейского» периода рассказывает Георгий Иванов в
559
«Петербургских зимах». Говоря, что «о духе его поэзии можно спорить, ее
приподнято-отвлеченная пышность может не нравиться и даже раздражать», он отмечает: «Но
необыкновенное мастерство Лозинского - явление вполне исключительное» - и
подчеркивает обаятельность и деликатность его как хозяина. Между прочим, интересны
свидетельства самой высокой оценки человеческих качеств Лозинского, сообщаемые
Г. Ивановым: «- Это все равно, что Лозинский сделал бы гадость, - говорила
Ахматова, когда хотела подчеркнуть совершенную невозможность чего-нибудь. Гумилев
утверждал, что если бы пришлось показывать жителям Марса образец человека,
выбрали бы Лозинского - лучшего не найти». Георгию Иванову вторит Ирина Одоевце-
ва: «Очаровательный, изумительный, единственный Лозинский... Роль Лозинского в
кругу аполлонцев и акмеистов была первостепенной. С его мнением считались
действительно все... Лозинский, прославленный редактор журнала "Гиперборей"... Но
всего этого, как и того, какой Лозинский исключительный собеседник и до чего он
остроумен, я тогда, конечно, не знала» («На берегах Невы»). Высказывания Г. Иванова
и И. Одоевцевой о стихах самого Лозинского скорее обнаруживают литературные
вкусы этих авторов.
71 Ср. шуточное стихотворение - приглашение к себе домой, на Аптекарский остров,
адресованное Лозинским Владимиру Казимировичу Шилейко: Вот он стоит передо
мной: I Он желт, он проницаем глазом, I Но словно огненной волной I Крутит и
распаляет разум. I Шилей, спеши в мою обитель I На île des А р о t h i с a i r e s I Ты
вкусишь золотистый сикер, I Которого бежал Креститель (В другом варианте
концовки: Которого бежал Предтеча). См.: Ахматова А. Поэма без героя. М., 1989. С. 320
{Apothicaires * аптекари', возможно, отсылает к 'фармацевтам'). По возвращении из
эвакуации в июне 1944 г. Ахматова, как предполагалось, должна была жить в
соседнем доме ВИЭМа (69-71), но разрыв с В.Г. Гаршиным изменил все планы. См.:
Рыбакова О. Грустная правда // Звезда. 1989. № 6. С. 62; Будыко ЮМ. Владимир
Георгиевич Гаршин: Биогр. очерк, 1982 // ИРЛИ. Ф. 70; ср.: Он же II Рус. лит. 1984. № 1.
72 См.: Лукницкая В. История жизни Николая Гумилева: Повесть в документах //
Аврора. 1989. № 2. С. 118-119; Гумилеву Лозинский посвятил стихотворение «Каменья»
(1913); стихотворение «Нерукотворный град» (1909) было посвящено им В.К.
Шилейко. «Горный ключ», единственная книга собственных стихов Лозинского, появилась
в 1916 г., когда он уже жил на А.о., но стихи, вошедшие в книгу, были написаны
до этого.
73 «В М... С... в Π... Τ... есть маленький домик очень старый и почти развалившийся. Три
окна на улицу, разломанный ставни, клонящиеся к падению ворота суть его признаки.
Любопытный, хочешь узнать его. Ищи... Он и теперь еще существует; в нем увидишь
ты старца, увенчанного летами и сединою, но удрученного скорбью и болезнями,
увидишь несчастную дочь его, красавицу с большими черными глазами, в коих блистал
некогда проницательный огнь любви, но бледную и томимую глубочайшею печа-
лию...; - увидишь и естьли ты жалостлив слеза сострадания выкатится из глаз твоих.
Знай! ... Недавно, еще недавно как все сие кончилось... Слушай, я разскажу тебе
подробно, как все сие случилося... Помедли, сердце мое сжимается от горести». Разгадка
М... С... и Π... Τ... не вполне ясна: Монетная слобода, приход Троицы (если это на
Петербургской стороне, но не на А. о.)? Или Мастеровая слобода (если на А. о.)?
Возможны и другие варианты дешифровки, о чем подробнее в другом месте.
74 Ср. о Маше: «Сердце ея забил ося, неизвестная сила влекла ее к оному. Едва она туда
вышла, стихи, начертанныя на дереве, поражают глаза ея; она их прочитывает и
приведена в смущение не знает кем то сделано, но сердце ей сказало, кто оные написал».
И несколько далее: «В то время Маша занималась стихами, прочитывала их много раз
и в возторге не верила сама глазам своим». Он, увидя ее, бросается перед ней на
колени: «Кто ты ни будь такая, богиня мест сих или Нимфа вод. Я твой пленник, твои
взоры меня поразили, и я умру, естьли ты не соответствуешь пламени моему!» (можно
вспомнить, что герой повести в высокой степени автобиографичен, и сам Попугаев -
автор известного в рукописи стихотворения «Аптекарский остров»). Ср. также
письмо к Маше («Неверная!... Смерть летает над моею головою, рука ея делает страшные
560
размахи косою и с свистом разсекает воздух - роковой удар скоро меня постигнет»),
еще один образец поэтически-книжной риторики. Таковы же и его ламентации:
«Вихри ломите, истребляйте все ... уничтожьте существование природы, как страсти
уничтожают мое...» и т.п.
Ср.: «Предупреждаю читателя, что, пользуясь особенною благосклонностью Натальи
Дмитриевны, я получила позволение собрать и издать в свет повести, которые
слышала в гостиной ее. Я не переменила в них ни слова и выдаю так, как они были
написаны для бедной старушки».
Ср.: «- Ваш кружок сегодня очень невелик, - заметила я...».
Характерный пример: «Иногда друзья Натальи Дмитриевны знакомили ее с новою
литературою и читали ей попеременно повести Бальзака, Жаненя, Масона и других
новейших писателей. Особенно любила она русские повести, и новые сочинения Мар-
линского, Белкина, Безымянного и других писателей наших возвещались с
торжеством в ее гостиной. Однажды в пасмурный вечер по окончании чтения... Наталья
Дмитриевна, против обыкновения, не сказала ни слова, ни в похвалу, ни в порицание
читаной повести... между тем как другие толковали о направлении нынешней
литературы. - Вы ничего не говорите, Наталья Дмитриевна, - сказал доктор, - вашего мнения
недостает нам. - Я думала... что, судя по множеству новых имен, непрестанно
встречающихся во французской литературе, можно бы было предположить, что французы
почитают для себя обязанностию, при малейших средствах, заплатить, хотя однажды,
дань любопытству публики, отдавая на суждения ее плоды трудов своих, забавы
досугов или воспоминания, собранные в путешествиях и в разных случаях жизни. Почему
нет этого у нас? - ...Многие ссылаются на холодность публики к русским
сочинениям. - Однако все хорошие приняты с удовольствием. - Но кто может быть уверен, что
опыты его понравятся? - Послушайте. Если всякий захочет, чтоб первое сочинение
его было образцовым, то писателей будет немного. Ломоносов начал, подражая
Тредьяковскому, Богданович - мадригалами и поэмою "Сугубое блаженство", теперь
забытою; творец "Российской истории" - "Бедною Лизою". Нельзя надеяться первым
опытом поставить имя свое наряду с именами знаменитых талантов. Пусть пишут;
труд пролагает дорогу к цели. Нет, у нас мало любят заниматься словесностью...
Откуда читали вы повесть, г-н Горский? - Из "Les cent et un". - Но посмотрите, сколько
и здесь новых писателей! Не все же начали образцовым, но, как знать, чем будут
многие из них? Небольшой успех возбуждает талант; бездейственность убивает его...
пишут так немногие и так неохотно, между тем как русский язык богат и русский быт не
лишен поэзии» и т.п.
Ср. малоизвестное и в этой связи не привлекавшее к себе внимания гр. Д.И. Хвостова:
«Вечер на Карповке». Июля 26. дня 1825 года. В доме М.Б. Доргомыжской. - На
речке Карповке и видел Геликон, / Там царство звучности и прелести закон. / На арфе
быстротой пленяет всех Людмила, / Эрасту свой смычок Эрато подарила; / Амуров,
Грациев любуяся игрой, / Отец согласных струн предводит милый строй, / А мать,
рожденная быть нашею Ласюзой, / Для счастия детей их стала только Музой, / Им
причти (так! - В.Т.) говорит и песенки поет, / Пускай диковинки в том нет, / Пусть в
одиночестве талант везде растет, / Но вот волшебство, / Что я, вкуся в саду отрады
летней тень, / Нашел на Карповке в один и час и день / Талантов целое семейство». См.:
Полное собрание сочинений Графа Хвостова. СПб., 1830. Т. V. С. 290-291 (впервые -
«Благонамеренный» за 1825 г.).
В главе «Идиллические страны Петербурга» автор пишет о целом квартале
«холодного, промышленного официального города», который «взялся, с давних времен,
разыгрывать роль петербургской Аркадии и не без успеха фигурирует в своем амплуа,
убеждая всех и каждого, что петербургская жизнь, в одном укромном уголке... имеет-
таки буколическую сторону». Эта «буколическая страна», примыкающая к Карповке,
на юго-западной оконечности Петербургской стороны, и именуемая Колтовской,
довольно подробно и убедительно изображена в романе («узенькие улицы и закоулки ее
представляли обильное царство густой, глубокой, неисчерпаемой и во веки
невысыхающей грязи. Были места, в которые ни один извозчик не соглашался везти вас, какую
561
бы вы плату ни давали... отважный путешественник-исследователь может открыть
такие улицы и переулки, в коих кроме обрушившихся плетней и заборов, не имеется
ни одного строения. За забором, с одной стороны, - какой-нибудь бесконечный
огород; с другой, - вечно дремлет заглохший, тихий сад, безмятежный притон тысячи
ворон и галок, о чем свидетельствуют их неуклюжие, черные гнезда на высоких
березах... На улице - ни малейших следов колесной колеи; зимой она занесена глубоким
полуторааршинным снегом; летом - сплошь покрыта обильною растительностью:
лопухами, колючим репейником, травою...»). Вместе с тем «Коптевская, по
преимуществу - страна дворянская, семейственная... Даже вид самих строений отличается
буколически-семейственным характером: маленькие домики, в три или пять окон, с
мезонином, с зелеными ставнями, с неизменным садиком и цепной собакой во дворе. В
окнах, за кисейными занавесками, увидите вы горшки с геранием, кактусом и китайскою
розою, какую-нибудь канарейку или чижа в клетке - словом, куда ни обернись, на что
ни взгляни - все напоминает царство жизни мирной, тихой, скромной, семейственной
и патриархальной... Это - мир совершенно особый, замкнутый, почти совсем
изолированный ото всей остальной городской жизни». В этой глуши удобно доживать тем,
чьи интересы не выходят за пределы этого места, но здесь же удобно хоронить грехи.
Так попала сюда Маша, внебрачно рожденная и никому не нужная девочка. Она
была отдана пожилой чете Поветиных, исконных колтовчан. Они жили здесь в мире и
согласий и радовались Маше. И жизнь эта была уютна и органична. «Домик был
маленький, деревянный, с мезонинчиком. Комнатки походили скорее на клетушки; но
клетушки эти отличались необыкновенным уютом, домовитостью, опрятностью, так
что в них именно "жилось"... Какие-то невидимые силы, Лары и Пенаты
покровительствовали маленькому домику в Колтовской и берегли его спокойствие". И Маше
было здесь очень хорошо. Петр Семенович Поветин очень любил "почитать
что-нибудь", а его жена "послушать книжку занимательную". Бывало, под вечер, вставши от
послеобеденного сна, усядется он за большой чашкой чая и примется читать вслух, а
жена его с Машей вяжут чулок, либо штопают что-нибудь и слушают чтение. А Петр
Семенович читал всякие книжки, какие только под руку попадались: и "Юрия Мило-
славского" и "Трех мушкетеров", и разные аббатства с таинствами Анны Редклиф, и
водевили "Жена или карты", и Гоголя, и старый, истрепанный нумер "Современника",
либо "Отечественных Записок" - все это поглощалось им с равным удовольствием.
Маша тоже полюбила чтение, и читала с наслаждением, с увлечением
непосредственного "читателя", все - без разбору. Это, конечно, не прошло без весьма значительной
доли влияния на ее внутренний мир и впечатлительное воображение». Следствие -
соблазнение ее Владимиром Шадурским (ср. соблазнение другой Маши, попугаевской,
купеческим сынком К.), увоз ее, жизнь любовницы и итог: «Мне нужна не
идиллическая любовница, а содержанка, камелия - понимаете ли? - ка-ме-лия! - Этого
требует мое положение в полку и обществе», - после чего обычная судьба молодой
женщины, жизнь в «Клоповнике» Таировского переулка, отмеченного в связи с подобной
темой и у Достоевского. А. о. попадает в роман и в главе о «благодушных фарисеях -
птицах совсем особого полета», избирающих для своего жительства глухие окраины
города «вроде "под Смольного", глухой Петербургской стороны, Коломны за Козьим
болотом, Аптекарского острова, по близости какой-нибудь реченки
Карпов к и». В этой местности «фарисейская птица избирает гнездом своим старую
дачу - либо благоприобретенную, либо родовое свое наследие... - поселяется в этой
даче со чады и домочадцы, и со всем хозяйственным полупомещичьим обиходом; живет
там безвыездно лето и зиму, и убеждена, что живет "по-барски"...». Но эта барская
жизнь совсем не то, как она понимается в палаццо Сергиевской улицы или
Английской набережной. Оксюморное значение «петербургская патриархальность»,
«петербургское захолустье» («закоулки») определяет суть А. о. как местообитания
«благодушных фарисеев», «фарисейских птиц». Введение в литературу этого аспекта А. о. -
заслуга Вс. Крестовского, проницательно узревшего даже в «идиллическом»
признаки «трущобного» или хотя бы косвенную связь с ним. Элементы «буколической
страны», «петербургского захолустья», мещанского счастья в сочетании с мотивами лю-
562
бовной интрижки, отмеченные Вс. Крестовским, не раз обыгрывались в «агнивцев-
ском» варианте в связи с Петербургской стороной начала нашего века. Ср.: У
нее-зеленый капор I И такие же глаза; I У нее на сердце - прапор, I На коленке - бирюза! I
Ну и что же тут такого?.. I Называется ж она I Марь Иванна Иванова, I И живет
уж издавна -IB том домишке, что сутулится I На углу Введенской, I Позади
сгоревших бань, I Где под окнами - скамеечка, I А на окнах - канареечка / И - герань! II
Я от зависти тоскую! ...Ах, какие поцелуи! I Ах, какие пироги!.. («В домике на
Введенской») - или: Все это было в переулке I На «Петербургской Стороне», /... В том
переулке был домишка, ! Ну, а в домишке том - «она» I С полуразрезанною
книжкой, I С тоской, вязаньем и Амишкой - I Майора некого жена! II ... Майор! Майор!
Но где майор же? ! Майор воюет на войне! I Что может быть на свете горше I
Судьбы скучающей майорши I На «Петербургской Стороне?»... II Но, вот, коллежский
регистратор - I Встал перед нею «à genoux» I И, сделав под окном сперва тур, I
В любви пылая, как экватор, I Прельстил Майорову жену I ... II Что ж? Кроме
всячески военных, I Есть и - гражданские чины! I И, не позоря чин военный, I Мы
беспристрастно совершенно I Отметить все же тут должны, I Что - кроме всяческих
военных, I Есть и гражданские чины! («На "Петербургской Стороне"») и др.
80 В записи от 25 мая 1944 г. находим: «Прощались с Ботаническим садом... Круглая
оранжерея № 28 с бассейном, где росла "Виктория Региа", пострадала три раза: один
раз от бомбы и дважды от прямого попадания снаряда» - и несколько далее:
«Пулковский меридиан, в нескольких точках пересекающий Ленинград, как раз проходит по
газонам. Ботанического сада».
81 Ср.: «По улицам вереницами гробы. Улицы завалены стеклами. На улице Попова
(Песочная. - В. Т.) выносят людей на носилках - только что в дом попал снаряд и пробил
его насквозь... На Карповке снаряд попал в лед». См.: Лукницкий H.H. Сквозь всю
блокаду: Дневник военного корреспондента. Л., 1978. С. 187 (запись от 8 января
1942 г.); ср. также С. 44 (запись от 31 августа 1941 г.): «По проспекту медленно
тянется обоз - это вошедшая в город после отступления воинская часть. У перил
набережной Карповки стоят несколько подвод. Красноармейцы спускаются к реке,
котелками, ведрами, зачерпывают воду. Толпа - человек сорок-пятьдесят молча и
сосредоточенно смотрит. Наконец кто-то сверху кричит: - Браток, ты что грязную воду пьешь?
Заходи во двор». За неделю до начала блокады Карповка еще река жизни.
82 Ср. мотив нелепой смерти в воде жены Тептелкина (у Николаевского моста через
Неву).
83 Со стороны находящегося неподалеку монастыря во имя Иоанна Сурского на
Карповке (?).
84 К соединению Карповки и литературы в этом отрывке ср. у Ольги Форш: «Сам
ковчег объявлен был невидимкой, как приставший к пристани на реке Карповке
у Дома Литераторо в...» (Сумасшедший корабль. Л., 1931. С. 25). В романе
Б. Окуджавы «Путешествие дилетантов» также угадывается неназываемая тема А. о.
Она, однако, заслуживает внимания другим - попыткой воссоздания ландшафта
одного локуса А. о. - территории Лопухинского парка в расширенном понимании,
частично изображенной у Патерсена (см. выше; в описании этого места в романе есть
топографические неточности). Ср.: «Мы сделали небольшой круг, проехали по Каменно-
островскому, затем свернули чуть влево, на Малую Невку. Здесь снова потянулись
пригородные особняки, теперь, правда, уже входящие в черту города. Это были
роскошные постройки Екатерининских времен, когда господствовало согласие богатства
и вкуса, русской широты и западной утонченности. Одна за другой проплывали эти
прекрасные постройки, свидетельницы недавнего блистательного прошлого столицы,
полусокрытые стволами, но все же отчетливо видные сквозь кружева опадающей
листвы. И вот наконец из-за поворота показалось прекрасное деревянное сооружение,
окруженное высоким кустарником. Поблекшее от времени и непогоды, оно все еще
поражало строгостью форм и в то же время легкостью и приветливым видом» (герой
едет из-за реки, с Черной речки). И еще к ландшафту: «Не знаю, насколько можно
было величать парком это запущенное царство корней, ветвей и листьев на краю
563
Петербурга. Во всяком случае, затеряться там было легко. Уж давно никто не
занимался этим пространством земли, дав ему однажды полную свободу жить как
заблагорассудится... Затейливые дощатые заборы пришли в ветхость и постепенно
обратились в прах, и все смешалось, переплелось, аллеи заросли, лишь кое-где змеились
тропинки, построенные случайными людьми или бездомными псами».
«Карповско-аптекарская» тема возникает в «Учителе музыки» в первой части, в
главе третьей «На птичьих правах», в том путешествии по «лабиринту
автобиографического пространства» памяти, которое и определяет смысл и композицию этого
произведения. Корнетов, в образе которого так много автобиографического, ремизовско-
го, переезжает с Кавалергардской, из «долголетнего насиженного гнезда» на А. о. По
обычаю прежних лет на «Избиение младенцев» к нему впервые на новое место
собираются друзья - добираются на трамвае до Карповки, «а от Карповки до Песочной
рукой подать. И отыскали дом - вроде дачи, такая легкая стройка. Но тут-то и
натерпелись». В доме оказалось только две квартиры, а корнетовская - № 3 - отсутствовала.
Собирались уже расходиться по домам, да кто-то заметил в окне верхнего этажа
красные корнетовские занавески и гости решили ломиться в квартиру № 2. Уже шла
германская война, и ощущение хаоса, неустроенности, «пропада» становилось все более
явным. Лужа под окном, отсутствие звонка, незапертая дверь, с которой текло,
кромешная тьма лестницы, кривой и промерзшей. «Поднявшись по ступенькам, мы
прошли темным "погребом"... и только тогда попали в узенькую прихожую... с лестницей
куда-то вверх к стеклянной двери не то на балкон, не то еще в какой погреб...
Разместив шубы на перилах лестницы... мы приготовились вступить в корнетовские
"палаты"... - Чертячья комната... на птичьих правах! - оправдывался хозяин... вводя в
"чертячью", такую же неподобную, как прежняя "ледяная" на Кавалергардской». И пока
гости съезжались, Корнетов занимал присутствующих своими диковинками - за
книжной полкой между печкой и «философией» жил сверчок (тут же стояло пойло
сверчку); чтобы он не замерз, Корнетов, живший две недели без дров сжег за это
время немало стульев. Потом он предложил гостям показать еще одну диковинку -
мышонка: «всякое утро выходит к нему из норки маленький такой, горбатенький
мыш, садится на подоконник и, объедая замазку, поет». Пригласил заглянуть в окно.
«А на дворе - мы поверили Корнетову - в конце сада среди берез, стояла стеклянная
избушка, а в избушке жила Баба-Яга. - Питается березовыми дровами! - толковал
Корнетов. А потом - угощенье: чай и засахаренное малиновое варенье». «Новая
квартира на Карповке оказалась еще неготовой и жить в такой невозможно, Ивановна
попросила расчет... Так и остался один. Целую неделю, пока мазали и красили,
бродил Корнетов по Петербургу. - Чего только я за это время не навидался, за эту
бесприютную неделю». Так проговорили до полночи.
«Пятнадцати лет поэт С(калдин) поступил мальчиком-рассыльным в одно крупное
коммерческое предприятие. В двадцать пять лет он был одним из его директоров,
прочел по-итальянски, французски, немецки и гречески все, что можно было на этих
языках прочесть, был другом Вячеслава Иванова и носил матовый цилиндр на удивление
петербуржцам... В числе "надежд" "Гаудеамуса" называли поэта С(калдина). Его
стихи все хвалили, о нем самом никто толком ничего не знал... Я уже теперь не помню,
как у нас пошла дружба, о чем мы вели бесконечные разговоры и летом писали друг
другу письма на десяти страницах. О поэзии главным образом, конечно. Но ко всем
разговорам и письмам С(калдина), самым обыденным, примешивалась какая-то тень
тайны, которую он, казалось, не мог мне, как не посвященному, открыть. Эту
"мистику", исходившую от С(калдина), я почувствовал чуть ли не с нашей первой встречи,
хотя ни в наружности, ни в характере С(калдина) тоже ничего таинственного не
было. Человек он был расчетливый, трудолюбивый, положительный. Если Россия
когда-нибудь действительно будет крестьянской республикой, такие, должно быть,
будут в ней министры и по внешности, и по складу ума» («Петербургские зимы»),
Алексей Дмитриевич Скалдин, видимо, испытывал особую привязанность к
Петербургской стороне. В начале мировой войны, он, между прочим, жил по адресу: Пустой
пер. 3 (между Зверинской и Съезжинской). Интерес к городу и, видимо, живое ощу-
564
щение «мистического» слоя Петербурга были ему присуши. После революции он
занимался историей Петербурга, принимал участие в составлении путеводителей и т.п.
Эта «глухость» и заброшенность Плуталовой и «плуталовского» локуса раньше, пока
Малый проспект не был продолжен до Каменноостровского, ощущалась еще
отчетливее.
К чуть более раннему времени относятся страницы «Марта Семнадцатого», на
которых автор обращается к Аптекарскому острову, уже - к уютной квартире на тихой
Песочной, где Воротынцев и Ольга Андозерская пытаются найти свое счастье, еще
не подозревая, что они уже живут в дни Февральской революции, которая, однако,
дает о себе знать в неясных предчувствиях и беспричинно-тревожной атмосфере
встречи двух любящих друг друга людей. «И она звала его - приехать сейчас в Петербург.
И ожидая последние недели и встретив позавчера у себя на Песочной, окончательно
решила, что с Георгом она соединяется, что минуло время забав и время переборов, и
в ее тридцать семь лет нельзя жаловаться, что союз плох. Конечно, нужно ждать
конца войны». Воротынцев приезжает и, переночевав в доме на Песочной, они на
следующий день, чтобы быть друг с другом один на один, перебираются в Мустамяки,
самое далекое и глухое дачное место. Но сознаваемая обоими внутренняя тревога и еще
не осознанное беспокойство, подбирающееся к ним извне, делают свое дело.
Проснувшись утром, раньше, чем предполагалось, «встретились глазами - а уже не все на лад.
Что-то сдержанное пролегло в глазах, разделяя. Но и молчанье чуть-чуть продлись -
будет размолвка... И толчком: - А поедем в город? И она неожиданно: ладно, едем».
Станция, дорога до Петрограда, Финляндский вокзал, Симбирская, Сампсониевский
мост, Посадская, Каменноостровский. «А вот и Песочная набережная у заснеженной
Невки - и чистый упругий снег под полозьями, здесь - никакого разорения. Тут хоть
забудься и дальше. Но не проходило в груди дурное грызение, которое выгнало
Георгия с дачи. Поднимались изогнутой лесенкой в их ротонде. - Все это мне начинает не
нравиться, - качала Ольда головой. Сбросили верхнее - и сразу обнялись, как будто
давно не обнимались. Постояли, молча покачиваясь. - А узнаю-ка через телефон, что
где делается, - сказала Ольга... А Воротынцев переходил, курил, садился. В этой
квартире такой был для него приемистый, обнимающий уют - а сейчас почему-то сердце
не на месте. И глупо, что вернулись с дачи. А может быть еще глупей - вообще, что
приехал в Петроград. Не зря ли он вообще ездил?..». И вот через несколько минут, в
роковой день 25 февраля, - до боли ясный и неизбежный миг прощания. «...Для меня
твое появление - как второе рожденье мое. Я столько ждала!.. Я уже теряла надежду,
что дождусь... Я шла как через пустыню... Я всю зиму вспоминала твой последний
взгляд тогда, у моста. И верила, что мы будем вместе. Я верю и сейчас! Я - люблю
тебя! Люблю!». А он - «Он был плох с ней в последние часы. И еще хуже был бы
сейчас, если б она требовала остаться. Но вот она легко освобождала его - и вспыхнуло
перед ним, какая же она драгоценность! И как он самозабвенно любит ее! ... И еще
недохватно он ее целовал!» Ср. картину «каменноостровского» локуса на 26 февраля:
«С Большой Монетной свернули на Каменноостровский - и нигде не видели следов
волнений или погромов, не попадались им и разбитые магазинные витрины. Тем
более Каменноостровский без трамваев и извозчиков казался пуст».
По разным поводам в связи с темой А.о. приходится обращаться к Петербургской
стороне, в частности к писателям, жившим в этом районе и/или изображавшим его.
Поскольку, однако, Петербургская сторона составляет особую тему, автор этих строк
сознательно воздерживается от полноты в перечислениях («списках»), и
ограничивается лишь «узким» кругом, к которому нужно отнести еще Сологуба - Широкая, д. 19,
кв. 2 (на углу Малого проспекта, куда писатель переехал после смерти сестры, летом
1907 г.) и Набережная Ждановки, д. 3/1, кв. 22 (последний петербургский адрес
Сологуба). Отсюда 23 сентября 1921 г. исчезла А.Н. Чеботаревская, на возвращение
которой вопреки всему надеялся Сологуб, вплоть до 2 мая 1922 г., когда ее труп был
обнаружен в излучине Ждановки, против дома, в котором Сологуб и его жена прожили ряд
лет (см. воспоминания современников, сюда относящиеся, в частности страницы
из «Петербургских зим»). Ср. «обэриутский» локус вдоль Большого проспекта ПС
565
(см.: Друскин Я.С. Чинари // Аврора. 1989. № 6. С. 103-115). Этот локус начал
складываться еще в 1917-1918 гг., когда в гимназии имени Лидии Даниловны Лентов-
ской (бывшей Мужской гимназии Л.Д. Лентовской, будущей школе № 190), ПС,
Большой проспект 61, учились А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, В. Алексеев
(сын СЕ. Алексеева-Аскольдова). Большое влияние на них оказывал Леонид
Владимирович Георг, их учитель.
Но, поскольку мистическое, философское, религиозное характеризуется особым
«дальнодействием» и способностью завязывать духовные «узлы», нужно хотя бы
обозначить наиболее характерные сгущения этого рода на Петербургской стороне.
Первое.- приход церкви Апостола Матфея, где был дом, в котором жила со
своим мужем Андреем Федоровичем Петровым его жена блаженная, а ныне святая
Ксения. После смерти мужа она отдала дом благочестивой христианке Параскеве
Антоновой, снимавшей до того часть этого дома; сама же скиталась главным образом по
Петербургской стороне, изредка оставаясь на ночлег у Параскевы Антоновой,
Евдокии Гайдуковой и Пелагеи Черпаковой. Именно на Петербургской стороне и на
Смоленском кладбище, где похоронена Ксения, память о ней сохраняется с XVIII в. до
наших дней. Второе- локус, с которым связана деятельность русских католиков
восточного обряда в 10-20-х годах нашего века, - Алексея Зерчанинова (Полозова, 12,
дом Варвары Антоновны Тимофеевой, здесь же - тайная церковь), Ю.Н. Данзас (Под-
резова, 76-78, угол Малого проспекта), ср. также двухэтажный дом - Бармалеева, 48/2
(угол Пушкарской; в этом доме был алтарь). С этим очень узким локусом к югу от
Карповки связана духовная деятельность Леонида Ивановича Федорова в
послереволюционные годы (он умер в лагере 10 марта 1935 г.). Итретье, - домашний
религиозный кружок, главной фигурой которого стал Александр Александрович Мейер.
Кружок сложился с конца 1917 г. - Б. Спасская, д. 96, кв. 33, потом Б. Пушкарская,
д. 4, кв. 3 (у К.А. Половцевой и П.Д. Васильева), Малый проспект, д. 24а (у матери По-
ловцевой); его участниками или гостями были Мейер, Федотов, Анциферов, Полов-
цева, Аскольдов, А.П. Смирнов, Л.А. Бруни, Пумпянский, Юдина, Л.А. Орбели, Пигу-
левская, Неслуховская и др. См.: Мейер A.A. Философские сочинения. Paris, 1982.
91 Ср. прежде всего «Аптекарский остров», «Дверь», «Сад», «Пушкинский Дом» и др.
92 Фамилия мальчика.
93 Сравни выше о мотиве тишины в связи с А.о.
94 Показательно, что название отца (и.-евр. *patêr) того же корня, что и рус. пасти,
с-пастй и т.п.
95 В рассказе «Дверь» из книги «Дни человека» (М., 1976) тот же герой - мальчик и та
же тема - испытание и самостановление. И те же локальные признаки - дом с аркой
(«Мальчик промерз под аркой», - начинается рассказ), парадная, лестница, третий
этаж. Но не отец-спаситель, а она, власть которой заставляет пренебрегать
очевидностью: «Так оно и было, как она говорит... Я перед всеми виноват. И дома. И перед
ней... Все именно так и было». И не названный здесь А.о. - снова и внетекстовой
субстрат рассказа, фон и рамки присходящего и, более, сложная субъектно-объектная
конструкция-образ, неотделимая от совершающегося в рассказе. Повесть «Сад»
подхватывает того же героя несколькими годами позже, когда он уже студент, и ту же
проблему: «И тогда он снова подумал о том, что полгода назад, когда у него началось
с Асей, все было иначе. Он тогда и маялся, и не верил, и вот-вот должен был узнать
что-то, что от него скрывалось, вот-вот понять все и решить. Он и тогда ждал
часами на лестницах и в подъездах и вроде видел, как Ася
уходила с кем-то другим, и вот-вот все должно было стать ясно - и тогда конец.
Только еще одно доказательство - и конец... А когда вроде бы и доказательство появилось
и обольщаться больше нельзя было, когда все наконец стало ясно и надо было
решать, он вдруг перестал видеть, замечать, следить, больше того, он стал не видеть, не
замечать, не следить. Потому что, если раньше он все твердил себе, что любовь
требует веры, то есть правды и ясности, и не терпит обмана, то теперь любовь
становилась выше ясности, и в неведении, в отказе от выяснений заключалась теперь вера и
продолжение или гибель - кто знает? - его любви».
566
96 И то же должна была, потому что выбор принадлежит ей, потому что искать
встречи легче ей, а не ему: она живет не одна, с подругой «на четвертом этаже, верхнем, в
старинном доме». И когда он, не в силах ждать, появляется там («направо - дверь»),
его встречает: «Я же говорила, не приходи!» И у нее есть свои резоны: в саду, в
уголке его, на скамейке между сараем и садом, «О н а. Но так больше нельзя. Зима,
понимаешь? ...А я хочу, чтобы было тепло. Чтобы я могла куда-то прийти. Это
обязательно...».
97 Ср. несколько ранее: «Вот всегда, - подумал он, - я замечаю красоту, когда рядом
Ася, хотя бы она и не замечала. А так ведь и не вспомнить, чтобы я один увидел
город, или сад, или погоду, или небо».
98 Один из штампов «петербургского» текста русской литературы (Гоголь,
Достоевский, Блок, Ахматова, и др.), ценность которого не дискредитируется
принадлежностью к штампу, поскольку это штамп некоего литературного сверхъединства,
видимо не осознаваемый отдельными его творцами и открываемый каждый раз заново.
О нем см. в другом месте. Подключение к этому ряду Битова симптоматично.
99 Психологический эффект, не раз описанный (Андрей Белый, Блок, Ахматова и др.)
и давно предсказанный, по меньшей мере с евангельских времен.
100 Ср. тут же: «Лучше спать на улице!... - подумал он... И он перелез через ограду - это
место он помнил с детства: дерево низко наклонилось к земле и год за годом все
падало и продавило ограду - перелезть тут не стоило труда. В саду он не боялся
истоптать снег, а шел, как на лыжах... Перед ним затемнело что-то большое, высокое и
округлое вверху. Он передумал всякое... хотя он уже понимал, что это скирда, или
стог, или копна - как там называется... Он попытался забраться наверх...
Разворошив снег, он очистился сам и стал закапываться в сено. Этот необыкновенный запах
сена, который он разбередил, разбудил среди зимы, и запах снега, и запах мокрых
варежек! Он вспомнил этот запах... вернее, ощутил - ощущение было безусловным и
точным, - что уже было так когда-то: и этот стог, и зима, и такие же
стояли деревья, и он, маленький мальчик с незнакомым лицом... Это было словно бы
в детстве, но не в этом, а в другом - в одной из его прошлых жизней...».
101 Эти персонажи продолжают свою жизнь под теми же именами и в других рассказах
Битова, отсылающих нередко к тем же ходам и к тем же архетипам, о которых
говорилось и ранее. В этой связи интересен «Третий рассказ» - о возобновлении, годы
спустя, прежних отношений Алексея Монахова, уже женатого и ожидающего
ребенка, с Асей (ср. финал - рано утром он возвращается после ночи, проведенной с нею,
домой: «Где ты шлялся? сказала мать... - M а л ь ч и к... - вдруг всхлипнула мать... -
M а л ь ч и к... - всхлипнула она... - Дай я тебя поцелую... У тебя мальчик!-
Монахов смотрел с ужасом. - Ну же! - вскрикнула мать, целуя его... - У тебя с ы н!
Почему сын,- сказал Монахов»). Но особенно - «Лес» прежде всего сон.
«Последнее его воспоминание об Асе, на котором все кончалось, был сон. Ему подряд
снились страшные сны, с каждым днем тревожней, опаснее и страшнее. Но этот,
последний, был самый страшный, и после, начисто, как бритвой, сны вообще сниться
перестали и не снились никогда... И вдруг то ли он вспомнил наконец через двадцать лет
этот сон, то ли уснул и увидел его вновь... Он был в бесконечном городе-доме... Он
знал, что здесь Ася, и расспрашивал дорогу у встречных. Они его направляли все
дальше и дальше, - сгущалось, темнело, душнело в этом закулисном мире, и все
мертвее и раскрашенней становились лица людей... Он знал, что происходит ужасное,
что надо спасти Асю, что она там, что эти мертвяки нарочно пугают его, и вот по
одному лишь чувству, не спрашивая у них дорогу, он бросился прочь, туда- там
Ася!.. Он бежал, и все просторнее, светлее становилось ему - можно было дышать
... И вот впереди забрезжил окончательно - свет, вздох, воля! Потолок был высоко,
как в храме, и помещение стало грандиозно по размерам. Он увидел перед собой
широченную лестницу. Она уходила вниз как бы каскадами: в конце ее, в глубокой
глубине, он едва различал стену - лестница упиралась в эту стену... Оглянулся через
плечо: лестница уходила уже далеко вверх, и там, на самой верхней площадке, там,
где он только что стоял, увидел толпу с мертвыми лицами... И в тот же миг вечная
567
частица смерти прошла сквозь Монахова, чтобы продолжить жизнь отца его вне
сына его» (в контексте предчувствия смерти отца, жившего в другом городе, и мыслей
о своей связи с отцом). Об образе-символе лестницы см. выше; в приведенном
только что отрывке автор возвращается к теме исходного состояния потери ориентации,
поиска пути, помощи других и, наконец, открывшегося ему в конце знания (ср.
«лестницу»), о которой уже писалось.
102 Их дом, построенный по проекту известного Бенуа, с изяществом и беспечностью
характерными для предреволюционного модерна; дом, где не было, казалось, ни
одного одинакового окна, потому что квартиры строились по заказу... и кому какое
хотелось: кому узкое и высокое, кому - фонарь, а кому и круглое, вне всякой симметрии
и, однако, с каким-то с легкостью давшимся, чувством целого; дом с тем навязчивым,
как детство господством водорослевых линий "либерти" - в лепке, в решетках
балконов и лифтов, в местами уцелевших мирискуснических витражах, - этот милый дом
был населен многочисленной профессурой: вымирающими старцами и их
декадентству ющими детьми и аспирантствующими внуками. Дом стоял на пустой и красивой
старой улице, прямо напротив знаменитого Ботанического сада и института. Эта
тихая юдоль науки всегда нравилась Леве. Он представлял себе, как самозабвенно и
благородно трудятся люди в этом большом белоколонном здании, а также в
старинных, чуть ли не елизаветинских, деревянных домиках-лабораториях, разбросанных
там и сям по прекрасному парку. Вдали от шума, от всей этой гремящей техники,
люди заняты своим серьезным делом, своими растениями...».
103 Ср. Ботанический институт в Ботаническом саду, напротив Левиного дома, школу,
где в начале марта 1953 г. состоялась траурная линейка, и ряд других более тонких
деталей. Очень важно описание интерьера квартиры, где живет Лева, - и не только
комнат, где живут он и его родители, но и комнаты старика Диккенса («у старика был
вкус... Вещи, окружавшие его, нравились ему - это и было основным условием его
вкуса. И стояли-то они так: со вкусом и как попало - не было приговоренности
вещей к их местам...»).
104 «На берегу нашей знаменитой реки есть место, хотя и в самом почти центре, но еще
не одетое в гранит и не заасфальтированное. Там навечно стоит несколько барж,
ржавеют и рассыпаются. У самой воды - узкая песчаная полоска, замусоренная
корой и прочей дрянью. Из воды торчат полусгнившие сваи, черные и острые. Дома на
набережной - особняки, в основном - очень замечательные, старинные. Некоторые
из них с мемориальными досками, а некоторые охраняются государством. Там и
находится бывший дворец, а ныне - НИИ, научный центр мирового значения... Место
как бы специально приспособленное для тихих, глубоких и уединенных занятий,
внушающих всяческое уважение. Трудно даже представить себе в большом шумном
городе, второй столице, другое такое же место, столь же подходящее. На
набережной в этом месте почти не наблюдается движения...».
105 Этот путь в «Пушкинский дом» из собственного дома функционально обратен пути
из школы домой в «Аптекарском острове» того же автора. В значительной своей
части он совпадает с обычным путем Блока из казармы Гренадерского полка в
Университет (ср. также маршрут Блока из дома до Введенской гимназии; весной 1909 г. в
этой же гимназии сдавал выпускные экзамены экстерном Н.П. Анциферов, позже
посвятивший Петербургской стороне проникновенные страницы).
106 Она, конечно, присутствует и в других произведениях, связанных с А.о. (ср. о
Монахове: «Заспорили о поэзии, в которой Монахов стал неожиданно много понимать»
(«Лес», ср. здесь же: «Ох-хо-хо! вот те страдания юного Вертера! - взвыл про себя
Монахов и др.) - или: «Тогда он эти стихи помнил, но не знал, а теперь знает, но не
помнит» («Третий рассказ» и др.), но нигде не играет роли, сколько-нибудь
сопоставимой с той, что засвидетельствована «Пушкинским домом».
107 В роман включен и текст Модеста Петровича Одоевцева - «Сфинкс».
108 «И в то же время попытаемся писать так, чтобы и клочок газеты, раз уж не пошел
по назначению, мог быть вставлен в любую точку романа, послужив естественным
продолжением и никак не нарушив повествование. Чтобы можно было, отложив от
568
себя роман, читать свежую и несвежую газету и полагать, что то, что происходит
сейчас в газете и, следовательно, в какой-то мере, в мире вообще, - происходит во
времени романа, и, наоборот, отложив газету и вернувшись к роману, полагать, что
и не прерывались его читать, и еще раз прочитали "Введение", чтобы уяснить себе
некоторые частные мелочи из намерений автора. Уповая на такой эффект,
рассчитывая на неизбежное сотрудничество и соавторство времени и среды, мы многое,
по-видимому, не станем выписывать в деталях и подробностях, считая, что все это
вещи взаимоизвестные, из опыта автора и читателя». И еще: «Мы склонны в этой
повести, под сводами Пушкинского дома, следовать освященным музейным
традициям, не опасаясь перекличек и повторений, - наоборот, всячески приветствуя их,
как бы даже радуясь нашей внутренней несостоятельности. Ибо и она, так сказать,
"в ключе" и может быть истолкована в смысле тех явлений, что и послужили для
нас здесь темой и материалом, - а именно: явлений, окончательно не
существующих в реальности. Так что, необходимость воспользоваться даже тарой, созданной
до нас и не нами, тоже, как бы ужалив самое себя, служит нашей цели. Итак, мы
воссоздаем современное несуществование героя, этот неуловимый эфир, который
почти соответствует ныне самой тайне материи, тайне, в которую уперлось
современное естествознание».
109 И конечно, не только Пушкина. Нужно помнить о том, что удовольствия, связанные
с островами, Старой и Новой деревней, были смешаны с ядами игры жизни и
смерти, неотделимыми от соседней Черной речки, и по А.о. проходил путь туда и
обратно - живым или мертвым. Но возвращение к этому гибельному пути, необходимость
вновь и вновь пережить его, желание предупредить, помочь, предотвратить
трагедию, спасти особенно жгучи именно в случае Пушкина:
По широким мостам... Но ведь мы все равно не успеем,
Эта вьюга мешает, ведь мы заблудились в пути
По безлюдным мостам, по широким и черным аллеям
Добежать хоть к рассвету, и остановить, и спасти.
Море близко. Светает. Шаги уже меряют где-то,
Но как скошены ноги, я больше бежать не могу.
О еще б хоть минуту! И щелкнул курок пистолета,
Все погибло, все кончено... Видишь ты - кровь на снегу.
Тишина. Тишина. Поднимается солнце. Ни слова.
Тридцать градусов холода. Тускло сияет гранит,
И под черным вуалем у гроба стоит Гончарова,
Улыбается жалко и вдаль равнодушно глядит -
в стихотворении 1921 г. из книги Георгия Адамовича «Чистилище» (1922),
посвященной памяти Андрея Шенье. Или у М. Кузмина «Пушкин едет на дуэль» (1927): ...Ни
теней, ни снов, ни карт, -1С видом, хладной скуки I Господин кавалергард I
Потирает руки. I Кончен путь. I Последний брег. I Чей-то крик: «Начните!» I И без
чувств упал на снег I Пушкин, сочинитель.
Храм во имя Иоанна Сурского на Карповке стал усыпальницей Иоанна
Кронштадтского и местом его культа, многие десятилетия гонимого, преследуемого,
искореняемого, но продолжающего свое существование. Люди приходят сюда, приводят
детей, приносят цветы, крестики (или рисуют их на стене), молятся перед заложенным
окном над подвалом, где находилось погребение Иоанна Кронштадтского (на месте
этого бывшего окна узревают изображение его, более ясное при дожде), или у
часовенки, над входом в которую (прочно заколоченным) висит его переведенный на
овальную пластинку фотографический портрет; память о подвижнике жива, и
приходящие сюда рассказывают о нем. До закрытия храма здесь совершались чудесные
исцеления. Одно из них произошло в 1909 г. перед могилой Иоанна
Кронштадтского с 16-летним юношей Павлом Ильиным, будущим отцом Павлом, ставшим впо-
569
следствии послушником Оптиной пустыни. См.: Концевин ИМ. Оптина пустынь и ее
время. N.Y., 1970. С. 360-363 и др. Свидетельница пишет об отце Павле и литургии в
этом храме: «В 1916 г. мне пришлось зимовать в Петербурге, и там я ходила на
исповедь к отцу Павлу. Передо мной был человек необычайно углубленный,
сосредоточенный, боящийся произнести лишнее слово. Это был строгий монах, хотя и без
пострига. Он часто участвовал в всенощных бдениях, которые совершались ночью на
Карповке в церкви-гробнице отца Иоанна Кронштадтского... Во время упоминания
имени Божией Матери принимались выть злые духи, сидевшие в одержимых,
приходивших туда в надежде исцелиться. Вой этот тончайший мистический не похожий на
голос человеческий. Он неописуем, острый и ледяной, леденящий ужасом душу.
Я еле могла удержаться от крика ужаса, когда они испускали свой вой. Душа трепещет,
как птица, слыша голос своего лютого врага». См.: Концевин ИМ. Указ. соч.
С. 308-309 (в этой же книге, с. 545, А.о. упоминается в связи с примером
прозорливости Оптинского старца Нектария, пославшего в 1927 г. своего духовного сына к
своим знакомым, жившим на А.о.: «Там вы встретитесь с бухгалтером
деревообделочного завода (Мельцера. - В. Г.), который вам достанет работу», - сказал он, что и
произошло в действительности). Кроме этого храма, построенного в начале века в
«византийском» стиле, на А.о. были Преображенская церковь (изуродована после
революции) и церковь при Ботаническом саде - в восточной части острова и
Георгиевская церковь (там, где было училище слепых, - Песочная, 376) - в западной части.
111 Карповка, дом 32, кв. 31.
112 Этот эпизод, в частности, вошел и в книгу о блокаде: Salisbury H.E. The 900 Days: The
Siege of Leningrad. L., 1969. P. 11-12.
113 Е.П. Иванов вместе с женой, душевно больной дочерью Мариной, крестницей Блока,
и сестрою Марией Павловной (Блок посвятил ей стихотворение «На железной
дороге»: Под насыпью, во рву не кошенном...) жил по адресу: наб. Карповки, 18, кв. 7, т.е.
на левом берегу реки. Черный ход (со двора) сейчас может рассматриваться как
интереснейший пример старых и страшных петербургских лестниц. Е.П. Иванову
принадлежат опубликованные посмертно воспоминания о Блоке («с Блоком они
говорили на непонятном для "непосвященных" языке: какие-то недосказанные слова,
отрывочные мысли - это был и χ язык», - писала Н.Г. Чулкова) и ряд других работ. Эта
фигура заслуживает особого внимания. «Евгений Иванов - юродивый с
проблесками гениальности, похожий на рыжего мужика из сна Анны Карениной», - скажет о
нем Георгий Иванов в «Китайских тенях». «Вот кто естественный профессор
университета: сколько новых мыслей, какие неожиданные, поразительные замечания,
наблюдения, размышления», - писал о нем современник (см.: Розанов В.В. Опавшие
листья: Короб второй и последний. Пг., 1915. С. 58; кстати, Е.П. Иванов был
автором важной статьи об университетах. См.: Университет // Вопросы жизни. 1905.
Апр.-май. С. 264-267). Но он был и человеком чистой души и глубоких чувств,
мистиком с элементами провидчества. Во время финской войны Н.Г. Чулкова, вдова
писателя-символиста, оставившая «Воспоминания о моей жизни с Г.И. Чулковым и о
встречах с многими интересными людьми", поручила дочери В.В. Розанова Надежде
Васильевне, жившей тогда в Ленинграде, купить сластей и закусок и отнести их
Евгению Павловичу, находившемуся в беспросветной нужде (можно напомнить, что
неподалеку на А.о., на Песочной, жила падчерица В.В. Розанова Александра
Михайловна Бутягина, переехавшая сюда в знак протеста против позиции отчима в «деле
Бейлиса»). В письме от 26 февраля 1940 г. Е.П. Иванов благодарит Н.Г. Чулкову:
«Спасибо вам за память сочувствующую, память, которую не осилило время, память,
в которой залог "вечной памяти"... Целых два кило кускового сахару, масла кило,
колбасы ливерной (превкусной)... Да за что это? Разве, когда Вам было тяжело, я
откликнулся на Ваше горе хоть одним словом? [...] Правда, как и Вас, меня здорово
жизнь потрепала и теперь не легко... Я слышал от Нади о конце Георгия Ивановича.
Свято чту всякий конец, а такой конец просветляет "тем светом". На этом свете,
когда живешь, все "тем светом" живешь, говорю о собственном переживании. Всю
жизнь с ее трагедиями могу оценить и осмыслить только в свете "того света". В ис-
570
кании познания Слова того света проводил всю жизнь. И теперь оно же в моем
математическом искании в связи с Платоном... И на это-то мое математическое
занятие многими смотрится как на безумие. Впрочем, этот крест безумия я бережно
несу. Он в жене моей и в дочурке моей милой Марине. Жена теперь дома, но мучитель
ее еще не совсем отстал от нее. Дочь в больнице. Последние дни она в сознании
ясном, и не смеется безумным смехом... Милая Надежда Григорьевна, поверьте, что
болезни душевные не случайное и не напрасное явление в жизни. В нем (в безумии)
совершается какое-то великое мировое дело. Этот крест, на котором мир распят для
меня и я - для мира, таким крестом не грех хвалиться, ибо он позор в глазах мира...
Думаю, в трагедиях как в жизни, так и искусства (так! - В.Т.) [...] мы стоим на той же
таинственной меже, меж здешним и нездешним, где "явны духи в душах" и "не
миновать сей двойственной грани" или здесь или там, или и здесь, и там... Здесь, в их
горниле происходит творчество не над хаосом, а из хаоса, как писал мне Блок».
ОБ ИНДИЙСКОМ ВАРИАНТЕ «ГОВОРЕНИЯ ЯЗЫКАМИ»
В РУССКОЙ МИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
I. Е.Ф. ТАТАРИНОВА И ЕЕ КРУЖОК
В романе Мельникова-Печерского «На горах» (часть 3, глава IV)
описывается радение «божьих людей» в сионской горнице в барском доме в Лупо-
вицах. После «верчения в кругах», в котором принял участие и блаженный
Софронушка, «напевая бессмыслицу и махая во все стороны пальмовой
веткой»1, всем участникам радения стало ясно:
«- На Софронушку накатило! На блаженного накатило!.. - заговорили
люди божьи.
Вышел блаженный на середину сионской горницы и во все стороны стал
платком махать. Потом, ломаясь и кривляясь, с хохотом и визгом понес
бессмысленную чепуху. Но люди божьи слушали его с благоговением.
- Слушай лес - бор говорит, - начал юродивый... - Игумен безумен -
бом, бом, бом!... Чайку да медку, да сахарцу! Нарве стане наризон, рами
стане гаризон.
И, захохотав во все горло, начал прыгать на одном месте, припевая:
Тень, тень, потетень,
Выше города плетень,
Садись, галка, на плетень!
Галки хохлуши -
Спасенные души,
Воробьи пророки -
Шли по дороге,
Нашли они книгу.
Что в той книге?
Хоть и знали люди божьи, что Софронушка завел известную детскую
песню, но все-таки слушали его с напряженным вниманием... Хоть и знали,
что «из песни слова не выкинешь», но слова: «нашли пророки книгу»
возбудили в них любопытство. «А что, ежели вместо зюзюки он другое запоет и
возвестит какое-нибудь откровение свыше?» В самом деле, блаженный не
зюзюку запел, а другое:
А писано тамо:
«Савишраи само,
Капиласта гандря
Дараната шантра
Сункара пуруша
Моя дева Луша».
Только и поняли божьи люди, что устами блаженного дух возвестил, что
Луша - его дева. Так иные звали Лукерьюшку, и с того времени все так ста-
572
ли звать ее. Твердо верили, что Луша будет «золотым избранным сосудом
духа».
В одной из авторских сносок к приведенному отрывку, к первому
образцу «безумной» речи {Нарве стане наризон...), сказано: «Эти бессмысленные
слова и подобные им в ходу у хлыстов, особенно на Кавказе, где тамошние
"прыгунки" (то же, что хлысты) уверяют, будто это на иерусалимском
языке (курсив здесь и далее наш. - В.Т.). Непонятные слова в кораблях
говорятся больше безумными и юродивыми, которых охотно принимают в корабли,
в уверенности, что при их участии на других дух святый сходит скорее».
В другой сноске Мельников-Печерский поясняет: «В двадцатых годах в
корабле людей божьих отставного полковника Александра Петровича Дубо-
вицкого этими словами говорил один из пророков. Члены корабля думали,
что это по-индийски. Последний стих в нашей рукописи: «Майя дива луча»2.
Свидетельство связи приведенного выше текста с кораблем Дубовицко-
го, принадлежащее Мельникову-Печерскому, который с 1847 г., став
чиновником по особым поручениям при нижегородском генерал-губернаторе,
занимался почти исключительно старообрядческими делами, вел
догматические диспуты с начетчиками-старообрядцами и был для своего времени,
пожалуй, лучшим знатоком религиозных уклонов и ересей, очень важно. Дело
в том, что Дубовицкий был последователем известной Екатерины
Филипповны Татариновой, которая наряду с госпожой Крюнедер, Госнером, Лаб-
зиным и др. существенно определяла мистический климат в известном слое
образованного петербургского общества в последнее десятилетие
царствования Александра I, особенно на рубеже lO-x-20-x годов (Кондратий
Селиванов в это же царствование играл сходную роль в петербургских низах,
хотя им интересовались и выше - вплоть до Александра I)3.
«Татариновский» локус песни, которую в романе Мельникова-Печер-
ского пел «луповицкий» Софронушка, достаточно вероятен и
правдоподобен. Поэтому здесь нелишне сказать несколько слов об этой женщине.
Екатерина Филипповна Татаринова, урожденная Буксгевден, пожалуй,
колоритнейшая фигура эпохи «александровского» мистицизма. Ее мать, к
тому времени вдова полковника (а позже директора рязанской гимназии),
была приглашена в няни первой из дочерей Александра I, умершей едва
достигнув годовалого возраста (18 мая 1799 - 27 июля 1800) Марии. После
смерти младенца она продолжала жить в Михайловском замке. Но и после
убийства Павла и опустения замка ее положение не изменилось. Ее дочь
получила воспитание в Обществе благородных девиц и позже стала женой
офицера Измайловского полка Ивана Михайловича Татаринова,
получившего тяжелое ранение под Бородиным. В 1815 г., когда ее муж скончался от
последствий этого ранения, она переселилась к матери в Михайловский
замок. Даже когда мать вернулась в Лифляндию, дочери было разрешено
жить в замке и далее. Более того, по просьбе князя А.Н. Голицына
Александр I назначил ей пенсию в шесть тысяч рублей в год. Будучи чутка к
сфере религиозного и легко улавливая то, что, по ее мнению, относилось к
«всемирной истине», она, несомненно, обладавшая синтетическим дарованием,
старалась объединить разные религиозные идеи и обобщить обрядовую
практику. Татаринова была деятельна и отзывчива к новым духовным вея-
573
ниям. «Пока другие увлекались пиэтизмом, масонством, разными
сектантскими толками, Татаринова сосредоточила свою деятельность
исключительно на помощи бедным, нищим и бродягам, а также посещала "корабли"
(собрания) скопцов, участвовала на их "страдах" (пениях) и духовных
плясках (радениях)»4. В отмеченный для замка день, вокруг которого
складывалась своего рода «замковая» мифология, ждущая своего исследователя,
произошло «обращение» Екатерины Филипповны. В день св. Архангела
Михаила 8 ноября 1817 г. она перешла из лютеранства в православие и сразу
ощутила в себе дар пророчества. Ситуация была благоприятной.
Веротерпимость и интерес Александра I к разным направлениям религиозной мысли,
возвышение князя Александра Николаевича Голицына, друга императора, с
1816 г. министра народного просвещения, а с 1818 г. и министра духовных
дел, объединившего вокруг себя А.И. Тургенева, В.М. Попова и др., одного
из основателей и президента «Российского Библейского Общества»
(с 1812 г.), покровителя Е.Ф. Татариновой, живой интерес тогдашнего
общества к широкому спектру религиозных исканий и т.п. - все это
способствовало новым начинаниям. Вокруг Татариновой сложился кружок избранных
лиц. Сначала собирались в одной из зал Михайловского замка, куда
приходил сам Голицын и другие лица высокого положения5. Читали Священное
Писание, пели кантаты на «простонародной речи», вели беседы на
религиозные темы, и все это не встречало препятствий6. Более того, Татаринова
была принята самим Александром I, пожелавшим ее видеть; беседа была
продолжительной и доброжелательной7. В это время он усиленно (хотя и
без должной последовательности) и повсюду искал в религии утешения и
успокоения переживаемых им мук. Чтение Библии, встречи с квакерами (в
частности, в 1814 г., будучи в Англии, Александр I подолгу беседовал с
видными их представителями Алленом и Грилле)8 и с моравскими братьями,
общение с Крюденер и Татариновой были личной потребностью Александра I, и
это во многом объясняет его тогдашнюю веротерпимость9. Но в начале
20-х годов его настроения меняются. Здесь не место говорить о причинах этой
перемены и о том, насколько она была радикальной. В одних случаях вина
была, несомненно, не его (так, «Крюденерша» действительно сама
переступила грань в отношении с императором, агитируя его в пользу восставших
греков и пренебрегая намерениями самого Александра I в этом вопросе), в
других случаях были известные основания для недовольства (деятельность
баварских проповедников Линдля и Госнера, оказавшихся в конце 10-х годов
в Петербурге), наконец, в-третьих, сами обстоятельства вынуждали к
негативному решению (Михайловский замок, переименованный в Инженерный,
передавался Инженерному училищу и должен был освобождаться от
жильцов). Так или иначе, но в начале 20-х годов и Крюденер, и баварские
проповедники, и Татаринова, в течение пяти лет возглавлявшая «духовный союз»
и регулярно собиравшая собрания в замке, должны были покинуть
Петербург10, да и сам А.Н. Голицын в 1822 г. теряет доверие Александра I, а
вскоре, в 1824 г., и свой министерский пост. Одним словом, в 30-х годах кружок
Татариновой распадается: в 1837 г. она ссылается в Кашинский монастырь,
Попов в Зилантов монастырь в Казани, о Дубовицком уже говорилось11.
Из последователей Татариновой фигура Дубовицкого в данной связи
привлекает наибольшее внимание. До приезда в Петербург, где он познако-
574
милея с нею, Дубовицкий был вполне зауряден по своим интересам и той
жизни, которую он вел. Его свобода от мистических устремлений до этой
встречи, видимо, вне сомнений. Но, войдя в «духовный союз», он стал не
просто активным прозелитом, но и деловым, энергичным, весьма
практичным распространителем соответствующих идей и обрядов среди дворовых и
крестьян своего имения. В этом отношении он был тем посредствующим
звеном, благодаря которому столичное, дворянское, официальное,
«культурное» соединялось с провинциальным, крестьянским, неофициальным,
«некультурным» или, говоря персонифицированно, - Татаринова с Софро-
нушкой и Лукерьюшкой12. Нельзя пройти и мимо того факта, что
Дубовицкий сам сочинял обрядовые песни, правда, непохожие ни на хлыстовские, ни
на скопческие, но имеющие более литературный характер13. И, наконец, в
близком окружении Дубовицкого был человек, присутствие которого могло
бы объяснить тему «иного» языка, существенную для приведенной в начале
песни. В романе «На горах» это Егор Сергеич Денисов, который «повсюду
у хлыстов был велик человек». Рано потеряв родителей, он был воспитан
Луповицкими, поступил в морской корпус. Служа в Кронштадте, случайно
узнал, что тамошнее «братское общество» те же божьи люди, что и в Лупо-
вицах. Выйдя в отставку, он устроился на маленькую должность,
единственным преимуществом которой были дальние разъезды и встречи с разными
людьми14. Особенно подчеркивается его связь с Закавказьем, с божьими
людьми, «веденцами», или «прыгунками»: «С нетерпеньем ждали Луповиц-
кие Егора Сергеича. Ехал он с подошвы Арарата, с верховьев Евфрата, из
тех мест, где при начале мира был насажден Богом земной рай и где, по ве-
рованьям людей божиих, он вновь откроется для блаженного пребывания
святых, праведных, для вечного служения их Богу и Агнцу. Доходили слухи
до Луповиц, что там, где-то у подножья Арарата, явился царь, пророк и
первосвященник, что он торжественно короновался и, облачась в порфиру,
надев корону с другими отличиями царского сана, подражая Давиду, с гуслями
в руках, радел среди многочисленной толпы на широкой улице деревни
Никитиной» («На горах»). В автокомментарии к этому месту писатель говорит
о «веденцах», или «прыгунках», секте промежуточной между молоканами и
хлыстами и живущих (большей частью) в деревне Никитиной, близ Алек-
сандрополя и в Эриванском уезде. Эти места входят в своего рода эпицентр
мистического религиозно-поэтического творчества на «иных» языках,
включая и чисто «глоссолалические»15.
II. «ГОВОРЕНИЕ ЯЗЫКАМИ»
Эти «иные» языки, в том числе и заумные, как раз и возвращают к
процитированному выше «индийскому» тексту, с одной стороны, и ко всей
соответствующей теме «говорения языками», с другой. Прежде всего еще раз
следует напомнить, что на собраниях у Татариновой практиковалось «язы-
коговорение», подобно тому, как это делалось и на хлыстовских радениях,
ср.: «При кружении они всячески дурачатся и бесятся, иные из них трясутся,
кривляются, ломаются, как бесноватые, другие топают ногами, приседают
к земле и вдруг как неистовые вскрикивают, приходят в энтузиазм, нечто
575
пересказывают, и говорят иными языками. А какими? Татарскими ли,
тарабарскими ли? Думаю, и сами не понимают, кольми, паче другие ни
одного слова не знают, да и понимать нечего»16 или же: «Из других
источников, имеющихся у нас под руками, видно, что если во время радения
кто-нибудь из хлыстов начнет приходить в исступленный восторг, почувствует, что
ему захватывает дух (это называется: "заблажил Дух свят"), он тяжело
дышит и начинает вскрикивать: "Вот катит! Вот катит! ...Дух свят! ...Дух свят!
...Накатил! ...Накатил!..." И начинает снова кружиться, кружится, как
дервиши, до беспамятства и после того, не помня себя, произносит
скороговоркой или нараспев бессвязные речи. Эти речи и считаются пророчествами»17.
Посторонний наблюдатель, описывающий «говорение языками» извне,
стандартно описывает эту речь как «бессвязную», «бессмысленную»,
«безумную». Нередко подчеркивается, что она непонятна ни «внешнему»
свидетелю, ни самому говорящему (при этом добавляется утешительное
«да и понимать нечего»). Так ли это было для участников радения в
«корабле», - сказать трудно, поскольку свидетельства с их стороны отсутствуют
или - в лучшем случае - неизвестны. Но зато есть свидетельство самой
Е.Ф. Татариновой, человека образованного, эрудированного, тонко
чувствующего специфику религиозного опыта. Она бросает свет и на источник, из
которого была взята идея «говорения языками», впрочем, разумеется,
понятный и сам по себе. «Святой Павел учит, - пишет она, - ревностно искать
даров духовных... не возбраняя глаголати и языками: говорящий бо
языками Богу глаголет, а не людям. Понятно, что это был язык духовный,
внутренний, восхищающий душу, от коего рождаются и наружные языки, как
было на апостолах. Мы сего искали с верою и получали Св. Духа, который
производил в нас различные дарования»18.
Действительно, идея «говорения языками» даже в кривом зеркале
русского мистического сектантства восходит к апостолу Павлу, к его
высказываниям, засвидетельствованным в «Деяниях», и, видимо, к ему же
принадлежащим мыслям, изложенным Лукой в «Первом Послании к Коринфянам», а
также в некоторых других текстах. Размышляя теоретически и решая
практически вопрос о роли языка в религиозном опыте человека, апостол Павел
подчеркивает четыре аспекта проблемы - многообразие и различие языков;
язык sub specie того, кто им пользуется; язык и значение; язык, вера и
неверие. Центральное событие в этом контексте - день Пятидесятницы, когда
апостолам «явились разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали
говорить на иных языках (λαλεΐν έτέραις γλώσσαις), как Дух давал им провеща-
вать» (Деяния 2:4) и далее - о том смятении, которое объяло народ, «ибо
каждый слышал их говорящих его наречием (τη ιδία διαλέκτω)» (2:6), и разные
народы удивлялись - «Как же мы слышим каждый день собственное
наречие, в котором родились» (2:8), «слышим их нашими языками (ταΐς
ήμετέραις γλώσσας), говорящих о великих делах Божиих?» (2:11), «и
недоумевая говорили друг другу: что это значит» (2:12)19. Языки, различные
между собой и непонятные друг другу, «закрытые» для всех, кроме тех, кто
говорит на них, вдруг как бы открываются перед религиозным опытом,
ведущим верующего к Богу. Каждый язык открыт Богу, и Бог открыт каждому
языку: «живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и
576
всякий язык будет исповедывать Бога» (К Римл. 14:11)20. Каждый язык
оказывается суверенным в том смысле, что на нем можно говорить Богу: в этом
отношении любой язык - как все другие. Но говорить «своим» языком
людям «другого» языка значит снова вернуться в состояние закрытости,
отказаться от пророчества. Язык, непонятный другим, требует истолкования,
ибо без истолкования нет назидания. Но само истолкование предполагает
осмысленность даже этого изолированного и непонятного языка, значение
каждого его элемента, знаковость его. Поэтому «бессвязное»,
«бессмысленное», «безумное» для другого для себя связано, осмыслено, «умно». - «Ибо,
кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу (ουκ
άνθρώποις λαλεί άλλα Θεώ), потому что никто не понимает его, он тайны
говорит духом. - А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание,
увещание и утешение. - Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а
кто пророчествует, тот назидает церковь. - Желаю, чтобы вы все говорили
языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий
превосходнее того, кто говорит языками ... - Так, если и вы языком
произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете
говорить на ветер. - Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного
из них нет без значения21; - Но если я не разумею значения слов, то я для
говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец... - А потому
говорящий на незнакомом языке молись о даре истолкования22... - Итак,
языки суть знамение (ση μείον) не для верующих, а для неверующих;
пророчество же не для неверующих, а для верующих. - Если вся церковь сойдется
вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие
или неверующие, - то не скажут ли, что вы беснуетесь? ... - Итак, братия,
ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и
языками» (1 Поел, к Коринф. 14).
Но эта основа в мистическом экстазе преобразуется: выход из себя
означает и выход из обычных связей, значений, смыслов. Общение с Духом
Святым предполагается возможным лишь при таком выходе, и поэтому
участники подобных экстатических радений практикуют специальные приемы,
позволяющие осуществить достижение подобного состояния. Д.Г.
Коновалов, чье выдающееся исследование о религиозном экстазе в русском
мистическом сектантстве появилось более 80 лет тому назад, собрал
значительный материал, относящийся к хлыстам, скопцам, шалопутам, прыгунам,
малеванцам и др., и, проанализировав его, пришел к ряду важных выводов
общего характера. Согласно его наблюдениям, экстаз этого типа в своем
последовательном развитии проходит три фазы «телесных явлений»:
1. Период возбуждения органических функций (кровеносной системы,
секреторной функции, дыхания, пищеварительного аппарата); 2. Период
двигательного возбуждения (общие дрожательные движения, местные
движения, локомоторные движения); 3. Период возбуждения функции речи.
Особенно существенно то, что относится к последнему периоду. Физическое
возбуждение приходящего в экстаз человека, прежде чем окончательно
разрядиться, как бы локализуется, сосредоточиваясь на некоторое время в
группе мускулов (дыхательных, гортанных, небных, язычных, губных),
которые производят членораздельную речь. Сама эта концентрация отмечает
начало третьего периода. «Физиологическое возбуждение функции речи
19. Β.Η. Топоров
577
стоит в непосредственной связи с дыхательно-голосовыми спазмами
(спастические крики), осложняющими картину органического и двигательного
возбуждения сектанта. Связующим звеном в данном случае являются
смешанные спазмы, одновременно захватывающие мускулы дыхания, фонации
и отчасти членораздельной речи, выражением которых служит
выкрикивание отрывочных, но артикулированных звуков, слов и фраз. В последнем
периоде экстаза эти смешанные спазмы как бы преобразуются в артикуля-
торные. Результатом этого является настоящая автоматическая речь
("живое слово" или "вода живая"23, по выражению сектантов), заключающаяся в
непроизвольном произнесении различных сочетаний членораздельных
звуков человеческой речи. Здесь возможны два типа: 1. Непонятные слова
(глоссы), не существующие ни в каком языке (т.е. чистые неологизмы) или
заимствованные из иных по сравнению с обычными языков; 2. Изречения из
слов и выражения родного или известного языка»24.
Характерным примером автоматического произнесения непонятных
слов могут служить «глоссолалические приступы»,
засвидетельствованные, в частности, в экстатической практике хлыстов25. Тому же
исследователю (Д.Г. Коновалов) принадлежит заслуга в установлении
«произносительных» типов глоссолалии - прорекание громким и крикливым
голосом, выпевание, изречение, пение, бормотание и т.п. и в определении
инвентаря «поэтических» приемов глоссолалии26 - дистрибуция звуков и их
сочетаний, слов и фраз, повторы, аллитерации, ассонансы, рифма, метр
и т.п., хотя в этой последней области предстоит сделать еще очень
многое. Более того, сама «поэтика» таких глоссолалии и - шире - описание
языка глоссолалических текстов и их структуры требует введения их в
более широкий контекст или даже в два особых контекста - ситуативный
(место глоссолалического текста в данной точке сценария радения, с
одной стороны, и в данном периоде возрастающего физического
возбуждения мистика-экстатика, с другой)27 и «смысловой». Учет последнего - и
вообще и в связи с темой этой статьи - особенно важен, поскольку в
целом наблюдается тенденция все глоссолалии «свалить» в общую кучу
«бессвязного» и «бессмысленного», хотя такой подход a priori
представляется неверным, кроме отдельных случаев28. Поэтому, имея дело с
экстатическими мистическими глоссолалиями, исследователь должен
помнить евангельские слова в связи с незнакомым языком - «молись о даре
истолкования». Особенно это существенно, в частности, и по
практическим соображениям, когда перед нами не чисто глоссолалическая речь,
определяемая не только полным суверенитетом звуковой стихии, но и ее
гипертрофированным выражением, но просто незнакомая речь, звуковая
идея которой не очевидна из-за достаточно сложной дистрибуции
звуковых элементов, но зато «мерцают» некоторые повторяющиеся
элементы, конфигурация которых дает основание думать, что перед нами нечто
подобное тексту на неизвестном языке, сигнализирующему об отдельных
морфологических, словообразовательных и синтаксических узлах29.
Текст песни, которую в определенный момент экстаза
(последовательность все более и более обессмысленных текстов, когда параллельно
подавлению содержания происходит сублимация звукового начала) поет лу-
повицкий Софронушка, как раз этого рода.
578
III. «А ПИСАНО TAMO: САВИШРАИ САМО...»
Сам текст «Савишраи само...» представляет двоякий интерес - и как
великолепный образчик «говорения языками», и как один из самых ранних
примеров «индийского» языка в русской культурной традиции. Поэтому уместно
высказать некоторые соображения о структуре этого текста и специально о
его «индийскости», которая уже отмечалась Д.Г. Коноваловым30.
Естественно, что даже при поверхностном взгляде на текст выделяются санскритские
слова (или - осторожнее - истолкование ряда слов текста как санскритских
представляется наиболее естественным). Далее, при более внимательном
рассмотрении, обнаруживается, что весь текст в целом носит «санскритский»
колорит, и в нем почти нет ничего такого, что было бы заведомо
несанскритским, противоречило бы санскриту. Но самое главное заключительное
впечатление от этого фрагмента состоит в том, что перед нами квази-текст, в
санскритском характере которого в целом сомнений нет, но который лишен
очевидной смысловой «связанности», кроме той, какая неизбежно возникает
из совокупности любым даже случайным (о неслучайном и говорить не
приходится) образом отобранных membra disjecta. Впрочем, в связи с этим
текстом стоит настаивать на особом типе его смысловой организации (см. ниже).
«Формально» анализируемый далее фрагмент организован достаточно
четко. Он представляет собою стихотворение из пяти строк, членящееся на
две части (стихи 1-3 и 4-5). Наиболее регулярны первые три стиха - шести-
сложники с правильной акцентной схемой: ударение на 3-м и 5-м слогах
задает хореическую схему (1-й слог является безударным или слабоударным);
каждый стих (во всяком случае в записи) состоит из двух слов - четырех- и
двусложного. Вторая часть (стихи 4-5) лишена обозначений ударения, но, исходя
из наиболее бесспорного слова пуруша (= санскр. purusa-), следовало бы
читать Сункара пуруша, т.е. с ударением на 1-ми 4-м слогах, меняющим
ритмическую схему предыдущих стихов. Но, конечно, предполагаемая
«санскритская» схема, ориентированная на древнеиндийские акцентно-просодические
правила, могла в данном случае не играть никакой роли, а инерция схемы
стихов 1-3 могла бы определять и расстановку ударений в 4-м стихе - Сункара
пуруша (ударение на 3-м и 5-м слогах). Однако при любом из этих подходов
4-й стих оказывается отличным от предыдущих: он состоит из двух
трехсложных слов, и это единственное исключение во всем пятистрочном фрагменте.
В этом отношении он образует своего рода переход («Grenzsignal» - при ином
подходе) между стихами 1-3 и стихом 5, где три двусложных слова, видимо, с
четкой хореической схемой - Майя дива луна (ср. «русскую»
осмысливающую транскрипцию этого стиха - Моя дева Луша, где выпадает моя,в
частности, согласующееся по ударению с санскр. mäyä).
Стиховая организация текста обнаруживает себя и в тяготении к «риф-
мообразным» ходам (нужно напомнить, что, по совету хлыстовских
наставников, с наступлением экстатического восторга надо смело приступать к
прореканию, «быстрым соображением подводя слова в рифму»). Учитывая
одну из типичных манер произнесения подобных текстов (быстро, громко,
как бы выкликивая, с подъемом в начале (ср. хорей) и т.п.), к рифмоидам
можно отнести (г)андря - (ш)антра и (р)уша - (л)уна; несомненная рифма
связывает само (1-й стих) с тамо вводной строки, находящейся вне текста.
Принимая во внимание такие особенности русской транскрипции, как пре-
19*
579
небрежение придыхательными, церебральными и т.п., можно говорить и о
таких узлах звуковой организации, как Ca... са... (1), ...аранат... антра... (3)
и т.п. Особенно показательны вокалические контрасты под ударением: в
стихах 1-3 только гласный а оказывается под ударением (шесть я!), в
стихе 4 - только у (дважды), в стихе 5 - спектр гласных а - и- у, т.е. вся
триада «простых» гласных санскрита. Любопытно, что подобный прием с
завершающей вокалической суммацией был отмечен и в ведийских поэтических
текстах. Кстати, последний стих, который в аналогических случаях в
санскритских текстах заключается священным возгласом от, т.е. а-и-т, дает
основание (разумеется, весьма условное) и для такого понимания.
Лексико-семантическая характеристика текста складывается - в
«индийской» версии, разумеется, - из бесспорных соответствий древнеиндийским
словам, как правило, очень важным в концептуальном плане и обозначающим
ключевые понятия в соответствующей модели мира. Прежде всего в этом ряду
нужно назвать пуруша при санскр. ригща- 'человек' (и как «первочеловек», пер-
сонализация антропологического принципа космогонии, ипостасный «состав»
Вселенной, демиург ее); майя при санскр. mäyä, особая божественная энергия,
чудо, игра, иллюзия, колдовство, сверхчеловеческая мудрость и т.п. (слово
вошло и в новую европейскую культуру), обозначение понятия, без учета
которого не может быть решена проблема различения ноуменального и
феноменального, сути и явления. Некоторые смежные слова как бы формируют
«локальные» смыслы эвентуального характера. Так, майя, когда она
положительная сила, то связана с богами и сияющим небом, ср. Майя дива луна, что
могло бы наиболее естественным образом быть истолковано через соотнесение
с санскр. mäyä & divä 'небо', 'день' (divä 'дней', Instr.), от глагола div- 'сиять',
'блестеть' (отсюда же и devà- 'бог', т.е. 'небесный', тогда как небо
семантически мотивируется как сияющее) & rus-lluc- 'сиять', 'блестеть', 'излучать' (ср.
loca, locana, rocana-, rue- и т.п.). Уместно напомнить, что уже ведийские тексты
неоднократно фиксируют сочетания mäyä с diva, devà, с одной стороны, и diva и
под. с rus(luc-), с другой. Сункара пуруша, скорее всего, могло бы быть понято в
контексте темы состава человека, столь важной в макро- и микрокосмическом
планах для архаичной индийской традиции. В таком случае это сочетание
допускало бы его истолкование в связи с санскритским sam-(s)-kara- (пали sankhara-)
& purusa- (реально отмеченное сочетание в санскритских и палийских текстах),
где sam-(s)-kara- -обозначение принципа аггрегатности, составности, в
частности, именно человека (мотив, усиленно разрабатывавшийся в буддизме).
Находящееся поблизости Дараната отсылает, кажется, к имени известного
тибетского автора XVII в. - Taranatha, создателя знаменитого компендиума по
буддизму (само имя состоит из скр. tara- 'спаситель', 'защитник' и т.п., букв. -
'пересекающий'31, и natha- neut. 'убежище', 'помощь'; masc. 'защитник',
'обладатель', 'господин' и т.п.), или к соответствующему двучленному апеллятиву.
В таком случае есть известные основания, чтобы говорить о своего рода
«буддийском» фрагменте текста. Если это допущение оправдано, то к этому
фрагменту, вероятно, могло бы подключиться и слово капиласта - ср. санскр.
kapilâ- 'красновато-коричневый' и asta- 'родина', 'родимое место', но
особенно - целое, топоним Kapilavastu-, обозначающий место, где родился Будда.
В этом контексте «относительно организованных» семантически частей
текста обретают свое приблизительное место и вероятное значение другие
580
отрезки текста, хотя настаивать на каком-либо предложении как
единственно возможном или даже безусловно самом вероятном едва ли
целесообразно. Практически лучше исходить из некоего множества вероятных
решений, образующих характерную флуктуирующую область, своего рода
туманность, в которой разные сгущения получают изменяющиеся время от
времени истолкования. Именно так нужно относиться к нижеследующим
предложениям-гипотезам. Первый стих Савишраи само, кажется, может
быть понят в контексте сочетания трех санскритских элементов - sa- (Pron.
demonstr.) & vis- 'дом, 'семья', 'род' и т.п. & rayi 'благо', 'богатство', 'дар'
и т.п. (ср. raya- 'дающий' от га- 'давать'32) & sama- 'подобный' и т.п. Менее
вероятно членение - sa- & vi-sraya, от vi-sri- 'открывать', 'распространять'
и т.п. Зато заманчивым было бы предположить в приведенном
гипотетическом трехчленном сочетании в качестве третьего элемента не sama-, a
saman- 'песнь', но и 'богатство', 'обилие'. При обеих версиях истолкования
этой строки в «санскритском» коде над нею витает некое подобие смысла -
или (разумеется, сугубо гадательно) - «Этот род (дом) подобен богатству»,
или - «Этот дом - (дом) песни»33 (собственно священного ритуального
напева, ср. «Samaveda»). Последнее толкование, возможно, ближе к реалиям
«хлыстовского» мира. В их языковом узусе «явный» дом обозначает
обыкновенное жилище, тогда как «тайный» дом или Дом Божий, Давидов,
царский - место сектантских собраний, радений, где поются песни херувимские,
псальмы, святое пение34. Если учесть, что предшествует строке Савишраи
само (а именно: Нашли они книгу, I Что в той книге? I А писано тамо: и,
наконец, указанный «индийский» стих), то Савишраи само можно было бы
понять и как «почти перевод» знаменитого места из евангелия от Луки...
«написано "дом Мой есть дом молитвы"» (19:46), ср.: «Scriptum est, Domus
mea, domus orationis est»35, т.е. как «индийскую» версию речения Христа.
Наиболее сложный случай - гандря и шантра. Оба эти слова, строго
говоря, не противоречат предположению об их «индийскости»; более того, они,
вероятно, принадлежат к одной и той же форме, - может быть, на -tr-, tra-.
В этом случае гантря могло бы соотноситься с санскр. gàntr-, от gam- 'идти',
'приходить' (приблизительный контекст - «В Капилавасту пришел
/приходящий/» и т.п.), а шантра - с santr-, от санскр. sam-, ср. samitr- 'жрец',
'действующий при жертвоприношении', хотя все это, конечно, гадательно - тем
более, что русский «индийский» текст в целом почти аграмматичен.
Итак, учитывая все ограничения и оговорки, первый
предположительный «смысловой» перевод этого «индийского» текста мог бы быть
представлен в следующем виде:
[Нашли они книгу.
Что в той книге?
А писано тамо:]
Се дом блага и песни3.
В Капилавасту пришел
Защитник прибежища6, принес в жертву8
Состав человекам
Божественная сила« на небе сияет.
а Вар. - Се дом подобный богатству (благу); б Вар. - Господин помощи; - в Вар. -
Жрец. -г Вар. - человеческого тела. - Д Вар. - энергия чуда и т.п.
581
Однако сама возможность истолкования текста «псальмы», которую пел
Софронушка во время хлыстовского радения в Луповицах, даже если бы это
истолкование было безусловным, еще не решает главного вопроса - о том,
чем был этот текст для участников радения и исполнителя этого
«песенного» фрагмента. Дать вполне определенный ответ на этот вопрос трудно. Но
все-таки представляется целесообразным считать, что для русского
«потребителя» этого текста он был чистым и целостным, т.е. не
дифференцирующимся на элементы, которые носили бы определенное содержание,
знаком «мистического», тайного, отсылкой к запредельному и экстатическому,
не- и сверх-человеческому языку («экстаз самого языка»), открытому
только Богу, как открыты ему все языки человеческие, по евангельскому слову;
и, как для других людей, чужие языки закрыты в их раздельно-смысловом
аспекте, но они могут ощущать присутствие Божьего слова, так и для лупо-
вицких «радетелей» логико-дискурсивный смысл «индийской» псальмы был
недоступен, но веянье Духа Святого чувствовалось отчетливо, и встреча с
ним совершалась благодаря, в частности, и этому мистическому тексту.
Именно тогда, в тот момент, когда сами участники радения чувствуют себя
готовыми к принятию «бани паки бытия», к очищению и рождению в Боге,
они и начинают призывать Дух Святой - «Накати, накати, накати! / Ой
ега, ой ега, ой ега!» и сразу же после этого свидетельствуют совершение
этой желанной встречи - «Накатил, накатил, /Дух Свят, дух Свят! / Царь
Дух, Царь Дух!...»36. Для «избранных» же членов татариновского кружка
(«духовного союза») текст «Савишраи само...» мог быть, конечно, и более
специализированным знаком - «чужого», для некоторых, может быть, даже
«индийского», эзотерического особого типа (например, восходящего к некоей
древней мистической традиции).
Но, конечно, помимо вопроса о том, нем (и для кого) был этот текст в
России в первой половине XIX в. (татариновский петербургский круг и
участники тайных радений в имении Дубовицкого), существенно знать о
природе и происхождении37 самого этого «индийского», точнее - санскритского,
текста. Сейчас трудно окончательно решить, соответствовал ли этим
«русским» глоссолалическим стихам некий подлинный и достоверный
санскритский текст, известный нам в сильно вырожденном виде и отражающий
результат длительного процесса передачи его во времени и в пространстве,
или же речь идет об искусственно составленном «кабинетном» тексте с
использованием «пословного» принципа, когда нанизывается цепь
концептуально и сакрально значимых слов-понятий из индийской
духовно-религиозной традиции.
Ввиду этих неясностей разумно, видимо, отказаться от попыток
форсированного решения проблемы, но зато попытаться очертить, хотя бы
только как вероятность, тот круг возможностей, который мог бы
рассматриваться как правдоподобный источник появления этого «индийского» текста.
Реально это означает учет всех тех элементов и факторов русской жизни
того времени, которые были носителями информации об Индии, ее культуре
и ее языке, конкретно - о санскрите.
На этих путях обнаруживается несколько локусов такой информации.
Они неравноценны по авторитетности, по характеру информации, по своему
влиянию на общественное мнение, но исключать из их круга хотя бы один
582
такой локус пока нет достаточных оснований. Напротив, только учет всех
таких локусов и может объяснить характер и объем знаний об «индийском»
в начале XIX в., самое атмосферу интереса к нему, которая была, несомненно,
новым явлением в России38.
IV. РУССКИЙ «ИНДИАНИЗМ» НАЧАЛА XIX ВЕКА
Нужно напомнить, что для России XIX век начался под знаком Индии.
И этот знак возник совершенно неожиданно, по наитию, почти
фантастически: Павел I задумал поход в Индию39. 12 января он отправляет рескрипт к
атаману Войска Донского генералу Орлову. Сообщая ему о приготовлении
англичан к нападению, он замышляет удар по их интересам там, «где
меньше ожидают». И далее все кажется очень простым: «Заведении их в Индии
самое лучшее для сего. От нас ходу до Индии, от Оренбурга, месяца три, да
от вас туда месяц, а всего месяца четыре ... Соберитесь ... и вступите в поход
к Оренбургу, откуда любою из трех дорог или и всеми пойдити, и с артилле-
риею, прямо через Бухарию и Хиву на реку Индус и на заведения англий-
ския, по ней ... лежащия ... вы имеете полный авантаж ... все богатство
Индии (ср. Индия богатая русского фольклора. - В. Г.) будет нам за сию
экспедицию наградою ... Таковое предприятие увенчает вас всех славою,
заслужит, по мере заслуги, мое особое благоволение, приобретет богатство и
торговлю и поразит неприятеля в его сердце. Здесь прилагаю карты,
сколько у меня их есть» и - чуть далее, в приписке - «Карты мои идут только до
Хивы и до Амударьи реки, а далее ваше уже дело достать сведения до
заведений английских и до народов индийских, им подвластных»40; правда, на
другой день - «Посылаю вам подробную и новую карту всей Индии.
Помните, что вам дело до англичан только и мир со всеми теми, кто не будет им
помогать; итак, проходя их, уверяйте о дружбе России и идите от Инда до Ган-
геса, и так на англичан. Мимоходом утвердите Бухарию, чтоб китайцам не
досталась. В Хиве высвободите столько-то тысяч наших пленных
подданных». Последние сорок дней своей жизни несчастный царственный
обитатель Михайловского замка, где через полтора десятка лет будет собираться
кружок Татариновой, думает об Индии, а тем временем 22 тысячи человек
выступили в поход. Сначала - морозы, метели, бездорожье, позже - весна в
тот год была ранней и бурной - переправа через Волгу, начавшую
вскрываться, с угрозой гибели людей, лошадей, артиллерии. Переправа все-таки
была завершена 18 марта. Никто из продолжавших поход в Индию еще не
знал, что неделю назад того, кто задумал это предприятие, не стало в
живых. Когда весть об убийстве Павла дошла до войска, стало ясно, что
встреча с Индией не состоится. Не состоялась она и позже, когда в 1807-1808 гг.,
после Тильзита, в медовый месяц русско-французских отношений,
Наполеон убеждал Александра I вернуться совместно к этой идее.
Индия политики и политических авантюр, которая вот-вот должна была
стать новой модой русской общественной жизни, снова отошла в глубокую
тень, но торговля между двумя странами как-то шла, искались новые пути и
новые формы сотрудничества, и эти контакты, внешне случайные,
необязательные и не привлекавшие к себе особого общественного интереса, не только
поддерживали взаимное знакомство двух стран, но и медленно, но более
надежно закладывали основания для возможного сближения в будущем.
583
Но не меньшую (и во всяком случае несравненно более заметную)
работу делала и литература. Отставая по времени от торговли (хотя Афанасию
Никитину еще в XV в. удалось синхронизировать литературные - очень
удачные - и торговые - очень неудачные - аспекты русско-индийских
связей) и опережая политику, русская литература в XVIII в. начала свою
службу по ознакомлению русского общества с культурными достижениями
древней и средневековой Индии. Рубеж 80 - 90-х годов оказался в этом
отношении отмеченным41. Именно тогда появился русский перевод книги, который
определил, пожалуй, самую плодотворную линию в будущих индийских
привязанностях русской читательской аудитории. Перевод не преследовал ни
развлекательно-курьезные, ни «просветительские» (в принятом тогда
понимании этого слова), ни «энциклопедические», ни научные цели. Он был
обращен к сфере духовного, сам был порожден духовной атмосферой
масонского новиковского круга и адресовался единомышленникам в духе. Речь
идет о книге, появившейся в 1788 г. в Москве, «в Университетской
Типографии у Н. Новикова», и довольно значительной по объему (213 страниц), -
«Багаут-Гета, или беседы Кришны с Аржуном, с примечаниями,
переведенная с подлинника, писанного на древнем Браминском языке, называемом
Санскритта, на Английской, а с сего на Российской язык». Этот перевод,
появившийся всего через три года после знаменитого английского перевода
(1785) Ч. Уилкинса, был сделан Александром Андреевичем Петровым,
литератором и переводчиком, другом (ср. «На гроб друга моего Агатона»)
Карамзина, с которым в пору работы над «Бхагавадгитой» он жил вместе в
домике «Дружеского общества» в Кривоколенном переулке, недалеко от
Чистых прудов42. Карамзин любил «Агатона» и чтил в нем своего
литературного учителя. Все, что нам известно о Петрове, рисует его как человека
высокого ума и глубоких чувств. Его литературные вкусы, образованность
и чувство современности в понимании культурных задач достойны самого
глубокого уважения и должны получить самую высокую оценку.
Безвременная смерть этого человека не позволяет судить о том, сколь много
потеряла с ним русская культура. Но выбор «Бхагавадгиты» для перевода на
русский язык неслучаен, и сам по себе он говорит о личности переводчика.
Вместе с тем интерес к этому древнеиндийскому памятнику может
рассматриваться и как свидетельство внутреннего притяжения московского
масонства в лице его лучших представителей к высоким образцам индийской
духовности, к Индии духа, как скажет позже поэт43. В этой связи важно
подчеркнуть посредствующую роль английских переводов.
Дань индийской литературе отдал и Карамзин, но в центре его внимания
было художественное наследие древней Индии, как оно отразилось в одном
из самых известных произведений ее драматургии. «Творческий дух обитает
не в одной Европе; Он есть гражданин вселенной. Человек везде человек,
везде имеет он чувствительное сердце и в зеркале воображения своего
вмешает небеса и землю. Везде натура есть его наставница и главный
источник его удовольствий. Я чувствовал сие весьма живо, читая "Саконталу",
драму сочиненную на индейском языке, за 1900 лет перед сим, азиатским
поэтом Калидасом и недавно переведенную на английский Виллиамом
Джонсом, бенгальским судьею ... Почти на каждой странице сей драмы находил я
высочайшие красоты поэзии, тончайшие чувства, кроткую, отменную, не-
584
изъяснимую нежность ... - чистейшую, неподражаемую натуру и
величайшее искусство», - писал Карамзин. Для «читателей, имеющих тонкий вкус и
любящих истинную поэзию», он и перевел отрывки из этой, пьесы, «сии
благовонные цветы азиатской литературы», в надежде, что они будут
приятны читателям44.
Постепенно круг публикуемых переводов из древнеиндийской
литературы расширяется. Помимо случайных текстов, оставшихся
изолированными среди всего массива переводов, усиленно переводят отрывки из
эпоса, прежде всего из «Махабхараты», в том числе и те, что стали
впоследствии хрестоматийно известными («Наль и Дамаянти», «Савитри»
и др.); расширяется, хотя и медленнее, репертуар драматических
произведений. Кое-что начинают переводить непосредственно с санскрита;
появляются переводы, сделанные опытными филологами (М.Я. Петров,
К.А. Коссович), но это относится уже к более позднему времени, как и
появление таких шедевров, как «Наль и Дамаянти» Жуковского (с
немецкого перевода Рюккерта). В первые два десятилетия XIX в. появилось
лишь семь переводов древнеиндийских текстов, большая часть их -
небольшие отрывки, и ни один из них не был переведен с санскритского
текста. И все-таки семя было посеяно.
Еще один «санскритско-древнеиндийский» локус - в Петербурге, это -
академический круг. На фоне «открытия» санскрита в конце XVIII в. и
начала европейской моды на него благодаря деятельности У. Джонса и ряда
других энтузиастов санскрита может показаться странным, что уже на рубеже
20 - 30-х годов XVIII в. в Петербурге появляются две работы,
предполагающие, в частности, знакомство с санскритом и с санскритской литературой.
Т.З. Байер, став одним из первых русских академиков, по приезде в Россию в
1726 г. начал среди прочих своих научных дел заниматься «браминским»
языком под руководством приехавшего в Россию ученого индийца Сонхбары45.
Результатом этих занятий были первые индологические труды, появившиеся
в России46. Впрочем, в дальнейшем наступил длительный перерыв - вплоть
до «Сравнительных словарей» (1787-1789), где, помимо ряда новоиндийских
языков, были представлены и некоторые «самшкрутанские» слова. Еще до
появления в 1816 г. знаменитой книги Боппа идея «сравнительного»
языкознания уже носилась в воздухе, и санскрит составлял главный ее нерв.
В 1811-1812 гг. в Петербурге публикуются два сочинения об отношениях
между санскритом и русским языком47, которые не прошли незамеченными,
хотя русское общество в целом еще не было готово к принятию подобных
идей. Несравненно более заметными явлениями были труды Ф.П. Аделунга по
санскритской литературе и в продолжение идеи «сравнительных словарей»48,
но и эти труды, насколько известно, затронули преимущественно немецкую
среду - как академическую, так и просто образованных людей с
гуманитарными интересами, ориентирующимися на европейскую, в основном
немецкоязычную культуру. Тем не менее, несколько позже исследования Аделунга
вошли в круг интересов и русского образованного общества, прежде всего
ученых и читателей журналов (в 30-е годы появился ряд рецензий на эти работы).
В 30-е - 40-е годы начинают публиковаться труды немецких специалистов,
членов Академии наук или работающих в Петербурге: Р. Ленц и особенно
О. Бетлингк - виднейшие среди них, но они относятся уже к следующему
585
периоду, и введение их здесь существенно, главным образом, для
обозначения общей перспективы русской (или русско-немецкой) санскритологии49.
Разумеется, индийская (в частности, и санскритская) тематика из этого
ученого «немецкого» круга в принципе могла проникать и в светское
русское общество, к которому принадлежал и татариновский кружок, или
непосредственно или через посредство образованных петербургских немцев.
В этой же связи должен быть учтен и «английский» элемент в Петербурге.
К концу 10-х годов XIX в. англичане все чаще стали появляться в
Петербурге. Еще интереснее и важнее, что среди них были тесно связанные с
А.Н. Голицыным, который был не только вхож в татариновский круг, но
и, несомненно, близок к самой Е.Ф. Татариновой. Когда в Петербурге был
образован Библейский комитет и основано Библейское общество, именно
англичане через «British and Foreign Bible Society» приняли живейшее
участие в помощи русским коллегам. В Петербург был командирован пастор
Патерсон, а одним из директоров Библейского общества стал другой
английский пастор - Питт. Среди англичан этого рода, конечно, были люди
близкие к мистическим настроениям, и, вероятно, они легко находили
общий язык с петербургскими «мистиками» конца 10-х - начала 20-х годов.
Не менее любопытно, что Англия, в начале XIX в. прошедшая через
«индийский» бум, в лице своих посланцев в Петербург могла оказаться
дополнительным источником интереса к индийскому тайноведению и даже к
санскриту. Нельзя исключать, что какой-нибудь английский гость, так или
иначе знакомый с санскритом и индийскими религиозными реалиями, мог,
опираясь или на расхожий набор «индийских» символов и клише, а также
санскритских терминов, или даже на некоторые реальные тексты,
попытаться составить некий санскритский «квази-текст». Также нельзя
исключать, что составитель такого текста мог преследовать и цель
мистификации. Во всяком случае и Голицын и Татаринова, как и некоторые члены ее
кружка (В.М. Попов и др.), поддерживали английские связи и, судя по ряду
данных, были открыты для соответствующей информации с английской
стороны - тем более, что «индийская» тема становилась заметной (и даже
модной, ср. волну русской англомании в петербургском высшем обществе
в эти годы) в Петербурге. Но, разумеется, все эти соображения относятся
скорее к открывающимся возможностям, чем к сфере доказательства.
Но на этом пути внимание привлекает еще одна фигура, сочетающая в
себе «английскую» и «индийскую» темы, причем в такой их органической
связи, какой в это время не могло быть ни у одного русского человека. Речь
идет, конечно, о первом русском «индианисте», человеке совершенно
удивительной судьбы Герасиме Степановиче Лебедеве (1749-1817). Говорить о
нем здесь подробно после ряда очень основательных (в частности,
относительно недавних) работ50 нет смысла. Но зато уместно отметить некоторые
детали, которые могли бы оказаться существенными при обсуждении темы
«авторства» текста «Савишраи само...» или, по крайней мере,
посредничества в «трансляции» этого текста в татариновский кружок.
Прежде всего в Лебедеве поражает обилие талантов, естественность их
сочетания, кажущаяся легкость в овладении разнообразными знаниями. Он
был писателем, переводчиком, музыкантом, лингвистом, филологом,
исследователем религии, страноведом, театральным деятелем, организатором ти-
586
пографии, чиновником, путешественником51, и этот список не исчерпывает
круга занятий Лебедева. Другая бросающаяся в глаза черта Лебедева - его
горячий интерес к Индии, неистребимая любознательность к индийской
жизни в самых разных ее аспектах, умение войти в нее почти как «свой»,
убеждение, иногда предвосхищающее более поздние достижения, в особом
месте Индии в истории. По словам Лебедева, она «есть та первенствующая
часть света, из которой ... род человеческий по лицу сего земного круга
рассеялся, и которыя национальный Шомскритский язык, не довольно со
многими азиатскими, но и с европейский языками имеет весьма ощутительное в
правилах сближение». Двенадцать лет провел он в Индии, и там он успел
сделать очень многое. В письме Александру I он говорит о своих целях и
итогах: «Главным для меня предметом было проникнуть там во нравы, а с
тем вместе приобрести нужные сведения в их языках и учености, в чем и
получил посильный успех»52. Обе его книги - для начала XIX в. событие,
недостаточно оцененное по отсутствию квалифицированной аудитории или по
иному направлению «индийской» моды. Какова она, окончательно стало
ясно после 1808 г., когда в Гейдельберге вышла знаменитая книга Фр. Шлеге-
ля «Über die Sprache und die Weisheit der Indier», и особенно после появления
в 1816 г. бопповского исследования «Über das Conjugationssystem der Sanskrit-
Sprache, in Vergleichung mit...». Древняя Индия и санскрит как ее язык - вот
что отныне на долгое время стало самым интересным и важным среди
всего многообразия культурных зеркал Индии. Но Лебедев писал о другом - о
современной ему Восточной Индии и ее диалектах53. В «Memorandum»
Лебедев вспоминает, что его учитель языка Голок-натх «настоятельно»
советовал ему «освоить санскритский алфавит, так как это был золотой ключ к
неоценимым сокровищам восточных наук и знания». Несомненно, что Лебедев
достаточно хорошо овладел бенгали (во всяком случае он перевел на этот
язык комедию «Притворство», поставленную в Калькутте), а также
калькуттской формой разговорного хиндустани. Но в связи с темой этой статьи
интереснее всего определить, насколько он знал санскрит. B.C. Воробьев-
Десятовский, наиболее полно изучивший этот вопрос, писал, что Лебедев
«освоил большое количество санскритских слов в бенгальском
произношении и основы грамматики этого языка. Полного знания санскрита Г.С.
Лебедеву достичь не удалось. Знавшие этот язык брахманы, к которым,
вероятно, относился и учитель Г.С. Лебедева Голок-натх Даш, считали
страшным грехом обучать санскриту членов низших каст и тем более
чужестранцев. Поэтому число европейцев, в совершенстве изучивших санскрит в
XVIII в., было совершенно ничтожным»54. Вероятно, оценка знаний
Лебедева в области санскрита верна, но, судя по всему, их было вполне достаточно
для опытов составления «квази-текста», подобного «Савишраи само...». Но
и это, конечно, только возможность, которая никак не связана с тем, «как
это могло быть на самом деле». Тем не менее, о Г.С. Лебедеве как первом
знатоке «индийского языка, религии, нравов, обычаев» в петербургском
свете знали, о его «бенгальской» типографии на заброшенной Богадельной
(позже - Орловской) улице, неподалеку от Невы, слышали55, о его высоком
положении «надворного советника и кавалера» ведали56, и поэтому трудно
предположить, что, если кому бы то ни было, в частности и мистикам тата-
риновского кружка, понадобилась консультация в индийском тайноведении
587
или «индийском» языке, не обратились бы именно к «первому русскому
индианисту».
И еще одно совпадение. 15 июля 1817 г. скончался «Иностранной
Коллегии индийского языка переводчик, надворный советник и кавалер» Герасим
Степанович Лебедев. В эпитафии на его могиле на Георгиевском кладбище
на Большой Охте57 оценены и его «профессиональные» заслуги:
Сей мужъ съ названиемъ согласно
Три части св-Ьта пролетелъ
Полет он д-Влалъ не напрасно,
Въ отдаленнейший предъ-лъ.
Он первый изъ сыновъ Российскихъ
Восточну Индию проникъ,
и Списки нравовъ снявъ индийскихъ
Въ Россию ихъ принесъ языкъ,
Без вс-Ьхъ ума образований, толь
Важный совершилъ полетъ, составъ
И отъ индийскихъ мудрований,
Не безъ успешно выдалъ в св-Ьтъ.
Судьба всеобща упредила
Труды покоемъ наградить
Супруга н-Ьжна разсудила
Сей памятникъ соорудить
Да сим любви ея залогомъ
Пришельцевъ убедить земныхъ
Да с нею воздохнетъ предъ Богомъ
Ему желая мЪсть святых58.
В том же 1817 г. происходит обращение Татариновой, начинаются
«радения» в Михайловском замке, открывается дар пророчества и «говорения
языками». Все это любопытно и провоцирует мысль на более сложные
построения, но и это, конечно, из сферы гипотез. Как бы то ни было, видимо,
никак нельзя исключать Лебедева из круга подозреваемых составителей
(или консультантов) «индийского» текста. Во всяком случае подобная
задача, предполагающая у составителя знание семантики соответствующих
санскритских слов и установку на создание семантически «однородного»
(однонаправленного) текста, была Лебедеву по силам.
И, однако, существуют и другие возможности объяснения этого
«индийского» текста - не «сверху», а «снизу». Они вытекают из двух разных по своей
природе совокупностей фактов.
Во-первых, приходится считаться с довольно отчетливой ориентацией
русского мистического сектантства и староверчества на «индийскую»
тему. Как бы она ни возникла, но она в основе своей связана с тем кругом
древнерусских представлений об Индии, которые выделяют Индию среди
всех стран как нечто идеальное, действительно, «первенствующее», как
заветную цель устремлений русского человека. Индия - страна чудес,
которыми могут быть или сказочные богатства (ради них отправляются в «Ин-
деюшку богатую» русские богатыри или герои типа Дюка Степановича),
или подлинная праведность жизни, без царей, вельмож, купли-продажи,
лжи, татьбы, разврата, разбоя, высокая духовность истинных христиан -
588
рахманов. И Нестор в летописи, зависящий в данном случае от Георгия
Амартола, и старец Кирилло-Белозерского монастыря Ефросин, и
«Хождение Зосимы к рахманам» свидетельствуют важность для русского
человека этой последней трактовки отмеченности «индийского»59.
Старокнижные и фольклорные представления об «Индийском царстве» сливаются, по
сути дела, воедино. Оно - заветная цель, место справедливости и
нравственной чистоты, и что-то глубоко интимное, почти неуловимое связывает
с ним и русскую землю. Продолжая этот круг идей и образов, «олонецкий
крестьянин» и поморский старообрядец, Клюев доводит «индийскую» тему
до своего апофеоза: «Белая» Индия становится как бы образом святой
Руси, очищенной от скверны и зла, средоточием духовности, вселенским
«Градом Обетования Вечной жизни», тем белокаменным градом Лидда,
что «на славном Индийском Поморий» («Погорелыцина»). Тайны и чудеса
Индии (И страна моя, Белая Индия, / Преисполнена тайн и чудес!)
раскрывается Клюевым в его прозе: «Иконописные миры, где живет
последний трепет серафимских воскрылий... гром слова - былинного,
мысленного, моленного, заклинательного, раздельного ... тайные, незримые для
гордых взоров вехи, ведущие Россию - в Белую Индию, в страну
высочайшего и сейчас немыслимого духовного могущества и духовной культуры»
(«Звезда Вытегры», 1919, 3 авг.). Об этом чаемом «мужицком рае»,
«Индии в русской светелке» и одновременно космогоническом источнике
духовности - и «белая Индия», и «Индия в красном углу», и «Погорелыцина»,
погребальная песнь по России именно как по Белой Индии.
Во-вторых, при попытках выяснения источников «Савишраи само...»
нельзя пренебрегать и обращением к собственно индийскому этническому
элементу. Прежде всего следует подчеркнуть становящуюся теперь явной
недооценку непосредственных связей Индии с Россией, прежде всего
инфильтрации индийского этнического элемента в Восточную Европу. Не
останавливаясь здесь на ранних этапах этого процесса, на роли Волги и
древнего Хорезма, позже Хивы и «Бухарин», стоит, однако, отметить значение
«индийских» колоний на пути между Индией и Россией, существовавших
еще в XVIII в. Речь идет о Сураханах, неподалеку от Баку, где был храм
огня, в котором сохранились высеченные на камне индийские надписи60.
Можно напомнить, что по договору с Персией от 12 августа 1723 г. Россия
приобрела Дербент и Баку с Гилянской, Мазандеранской и Астрабадской
провинциями. Одним из мотивов этого приобретения было развитие восточной
торговли России, особенно с Индией. Следовательно, контакты русских и
индийцев в этом месте в XVIII в. не могут подвергаться сомнению.
Другим следствием тех же мотивов были поощрения, предоставляемые
индийским купцам в России. Им позволялось свободно торговать в
Астрахани, в других городах, в основном по Волжскому пути, и даже в Москве, а
также участвовать в ярмарках61. Указом от 21 октября 1722 г. Петр I
предоставил индийским купцам широкие права в разрешении взаимных
имущественных споров и в вопросах наследования. Особенно значительна и влиятельна
была астраханская индийская колония62. Индийские купцы начали селиться
в Астрахани с 30-х годов XVII в., что не исключает, конечно, их
спорадического присутствия здесь и раньше. Вскоре здесь образовалась постоянная
индийская колония. Отчасти это было следствием деятельности торговцев-
589
индийцев, несколько ранее утвердившихся в Исфагане и ведших торговые
дела с Дагестаном и Шемахой. Утверждение их в Астрахани открывало
двери для «русской» торговли. Начиная с этого времени действительно,
фиксируются довольно многочисленные следы индийских торговцев в Саратове,
Нижнем Новгороде, Ярославле и т.д.63, включая и Москву, где в середине
XVII в. оказался индийский купец Сутур, получивший из государственной
казны крупную ссуду и оставивший в залог русские товары. В 70-х годах
этого же века документы фиксируют наличие лавок и жилых помещений
индийских купцов в Китай-городе и в Белом городе. В 1679 г. царь Федор
Алексеевич указывает «...Гранатной каменной двор, который за Никицкими
вороты, ведать в Посольском приказе. А ставить на том дворе кизылбашских
купцов армян и индейцев и бухарян». Русские купцы недовольны
коммерческими успехами московских индийцев и формулируют разные предлоги,
чтобы ограничить деятельность индийцев Астраханью. Индийцы, как
отмечается в жалобе 1684 г., «живут на Москве... многие годы без съезду... самые
свои добрые товары вывозят с собой к Москве... московские жители всяких
чинов покупают у них, индейцев врозь... индейцы... в долги дают великою
ценою... и живучи на Москве и в Астрахани безданно, обогатились вельми».
Или же: «Да индейцы ж, живучи на Москве и в городах и в Астрахани
многая годы, и помирают, и мертвые своя тела в землю не кладут, пожигают
огнем, а пепел тех своих мертвых тел мечют в реки, а достальной пепел
бросают по ветру, и от того чинитца человеком и скотом великое повреждение.
А нам, Христианом, они, индейцы, зазирают и посмехаютца по своей безза-
коной бусорманской вере» (Россия и Индия, 52; Русско-индийские
отношения в XVII е., документ № 225 и др.). Но и индийцы в свою очередь
жаловались на чинимые им притеснения. Уже упомянутый Сутур, вернувшись в
Астрахань, пишет в челобитной царю о том, что его «били и изувечили».
Начиная с Петра I положение, видимо, начинает выправляться. В октябре
1722 г. во время пребывания Петра I в Астрахани к нему обратился Амбу-
рам Мулим, глава Астраханской индийской колонии с просьбой дать право
распоряжаться имуществом умерших членов этой колонии. Любопытно,
что он «российскому языку немного знал», а его компаньоны Нат (Натх) и
Суханд (Сухананд) «не токмо языку, но и письмо российское знают». О
внутренней жизни астраханских индийцев в XVII в. сведения сообщаются в
трудах целого ряда путешественников - Корнелий де Бруин (1703), Джон Белл
(1716), особенно подробно И.Г. Георги (1777) и Н.Я. Озерецковский (1804).
Благодаря этим данным разные аспекты жизни астраханских индийцев -
быт, жилища, одежды, еда, торговая деятельность, религия, обряды и т.п. -
освещаются довольно полно. Мальчиком В.К. Тредиаковский мог
наблюдать эту жизнь индийцев в Астрахани в начале XVIII в., а ближе к концу его
академик Паллас записывал здесь индийские слова и фразы для
«Сравнительных словарей» от астраханских индийцев. Важно подчеркнуть, что для
индийской астраханской колонии пространство между Астраханью и Индией
было лишь половиной их сферы деятельности, другая, и притом особенно
«активная» и динамичная половина, - пространство между Астраханью и
русскими торговыми центрами до Нижнего Новгорода (особенно) и
верхневолжских городов. Хотя астраханской колонии посвящена немалая
литература64, задача обобщающего синтетического исследования этой темы про-
590
должает стоять на повестке дня (тем более, что есть основания говорить о
некоторых дополнительных материалах). Достоверное присутствие
индийского этнического элемента в окрестностях Баку и в Астрахани (ср.
важность именно этих двух пунктов для Афанасия Никитина на пути,
приведшем его (в обратном порядке) в Индию) позволяет лучше понять структуру
и характер этого участка «великого» индо-русского пути, который все более
и более становится реальностью, причем скорее регулярной, нежели
случайной. В этом широком контексте можно думать как о реальности и об
инфильтрации элементов индийской духовной культуры в гущу русской мифо-
поэтической и религиозной традиции в ее народном варианте, далеко к
северо-западу. Пространство от Индийского океана до Северного Ледовитого
оказывается не только реальным культурным пространством, но таким
пространством, которое существенным образом определяется, конституируется
как раз этими культурными инфильтрациями - слов, образов, мотивов, идей.
И, наконец, еще один ресурс в вопросе о возможных источниках
рассмотренного здесь «индийского» текста. Речь идет об отдельных индийцах,
довольно рано оказавшихся в отдельных старых русских городах, но не
в качестве членов некоего сообщества типа торговой колонии или
конфессиональной общины, но изолированно, сами по себе. К сожалению, данные
этого роды скудны, разбросаны по разными местам, иногда плохо
документированы. Поэтому здесь, в заключение, придется остановиться лишь на
двух-трех примерах, относящихся, во-первых, к Петербургу и, во-вторых,
к началу XIX в., т.е. к пространственно-временным координатам русского
мистицизма «татариновского» типа65.
Удивительнейшим примером этого рода следует считать появление в
Петербурге во второй половине 10-х годов XIX в. индийца по имени, Нам
Джоги Алан. Более всего поражает не сам факт проживания индийца в
Петербурге, но условия и цели, сопутствовавшие этому факту. Прежде всего
Нам Джоги Алан жил (1816-1818) в доме Алексея Николаевича Оленина
(точнее, его жены, «доброй Элизы», Елизаветы Марковны Полторацкой)
на Фонтанке, против Обуховской больницы. А.Н. Оленин был президентом
Академии художеств, первым директором Публичной библиотеки,
государственным секретарем. Круг его интересов в самых разных областях
гуманитарного знания был очень широк. Как стало известно позже, в этот круг
входила и Индия, ее история, литература, культура. Как указывает Е.Я. Лю-
стерник, в архиве Оленина сохранились его рукописные «Заметки о
санскритском языке и литературе», «Краткий свод преданий первостепенных
восточных народов» и другие материалы. В письме от 28 мая 1817 г. к
неизвестному адресату он подвергает разбору четырехтомное сочинение «Индусы»,
появившееся в Париже в 1810 г. (Россия и Индия, 121-122). Как выясняется,
приглашение, сделанное Олениным Нам Джоги Алану, связано именно с ин-
дологическими увлечениями этого деятеля русской культуры. Об этом
свидетельствует ряд документов - письмо самого Оленина; письма К.А. Коссо-
вича (Санкт-Петербургские ведомости. 1856. 1 янв. № 8. С. 1-2), в котором
этот санскритолог сообщает интересные подробности о Нам Джоги Алане
со слов дочери А.Н. Оленина Анны Алексеевны; портрет индийского
информанта, написанный сыном Оленина Петром с личной надписью
художника - «Портрет брамана индийского, пришедшего из Индии из области
591
Мальвы, города Удепура, владение Пешвы, в Санкт-Петербург в 1816 году
именем Нам Джоги Алан. Скончался в доме нашем 29 апреля 1818 года.
Портрет зарисовал Петр Оленин»66. Весьма интересно, что этому индийцу
Публичная библиотека обязана уникальным списком на деванагари
рукописи «Бхагавадгиты». В истории этого «петербургского» индийца особое
внимание привлекают три обстоятельства - время (1816-1818), совпадающее с
началом татариновского кружка (1817); связь с наиболее эрудированным в
индологии (в частности, в новых ее веяниях) дилетантом среди высшего слоя
русского общества А.Н. Олениным, стоявшим в центре интеллектуальной
жизни Петербурга этих лет (его связи были очень обширны - Александр I,
высоко ценивший этого Tausendkünstlera и любивший беседовать с ним,
высший свет, ученые, писатели, художники и т.п.); определенный уровень
«филологической» профессиональности Нам Джоги Алана.
Другой пример - из числа надежных, но не вполне ясных в том, что
касается деталей, которые в данном случае приобретают первенствующее
значение. Речь идет об индийском выходце, появившемся в России в конце
XVIII в., из рода «Визапурских» (виджапурских) раджей. В России он стал
зваться Александром Ивановичем Порюс-Визапурским, был на военной
службе, в 1800 г. стал полковником, а в 1802 г. он уже статский советник,
служащий в Коллегии Иностранных дел. Еще через два года он женится на
русской дворянке Надежде Александровне Сахаровой. Два сына из троих
умерли рано, а старший Александр Александрович стал литератором67. Еще
один пример особого рода.
П.А. Каратыгин, известный артист, водевилист и мемуарист, говоря о
тогдашней бедности актерского сословия и всегдашней потребности
занимать деньги, рассказывает в своих «Записках»68:
«Некоторые петербургские старожилы, вероятно, и теперь еще помнят,
например, известного в то время богатого индийского ростовщика Модже-
рама-Мотомалова, который с незапамятных времен поселился в
Петербурге и объяснялся по-русски довольно порядочно. Эту оригинальную личность
можно было встретить ежедневно на Невском проспекте в своем
национальном костюме: широкий темный балахон был надет у него на шелковом
пестром халате, подпоясанном блестящим кушаком; высокая баранья папаха,
с красной бархатной верхушкой, была обыкновенно заломана на затылок;
бронзовое лицо его было татуировано разноцветными красками, черные
зрачки его, как угли, блистали на желтоватых белках с кровяными
прожилками; черные широкие брови, сросшиеся на самом переносье, довершали
красоту этого индийского набоба; в правой руке у него была постоянно
длинная бамбуковая палка, с большим костяным набалдашником, а в
левой - он держал перламутровые и янтарные четки. Он был тогда уже очень
стар, приземист и, ходя, пыхтел от своей безобразной тучности.
К театральным он вообще был как-то особенно благосклонен, не потому,
чтобы он любил театр, куда никогда, конечно, не заглядывал; но он
пользовался особенной привилегией у театрального казначея и вычеты из
жалованья своих должников получал беспрепятственно по предъявлении их
расписок. Каждый месяц, 1-го числа, он аккуратно являлся спозаранка в
театральную контору с целым ворохом векселей и расписок, садился около казначея и,
потирая руки от удовольствия, поджидал своих горемычных заемщиков.
592
В конце 1820-х годов этот благодетель страждущего человечества
покончил свое земное странствование и, по индусскому обряду, бренные его
останки были торжественно сожжены на костре, на Волковом поле.
Конечно, многие из его должников почли весьма приятною обязанностью отдать
ему последний долг, и этот печальный обряд мог вполне назваться
погашением долгов, потому что Моджерам, кажется, не оставил после себя
наследников и все неудовлетворенные обязательства и недоимки рассыпались
вместе с его прахом»69.
Этому индийцу Моджераму-Мотомалову, нашедшему последнее
успокоение на Волковом поле, суждено было получить новую жизнь в литературе.
Конечно, речь идет о страшном и таинственном ростовщике из
гоголевского «Портрета», прототипом которого и был упоминаемый П.А.
Каратыгиным индиец70. В редакции «Арабесок» этот ростовщик выступает под
именем Петромихали (ср. звуковую тему р, м, ал, отдаленно напоминающую
сходные узлы в имени Моджерама-Могаолсалова). Его национальность
остается не проясненной до конца (восточный или южный человек?), но портрет
достаточно колоритен:
«Был ли он грек, или армянин, или молдаван, - этого никто не знал, но
по крайней мере черты лица его были совершенно южные. Ходил он всегда
в широком азиатском платье, был высокого роста, лицо его было темно-
оливкового цвета, нависнувшие черные с проседью брови и такие же усы
придавали ему несколько страшный вид. Никакого выражения нельзя было
заметить на его лице: оно всегда почти было неподвижно и представляло
странный контраст своею южною резкою физиогномией с пепельными
обитателями Коломны».
В поздней редакции «Портрета» Гоголь, вводит намек на индийское
происхождение ростовщика: «темная краска лица указывала на южное его
происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом
никто не мог сказать наверно». Но существен и другой мотив в описании
ростовщика - его особая отмеченность, выделенность среди других («Но на этих
ростовщиков (собственно, всех остальных. - В. Т.) вовсе не было похоже одно
странное существо, носившее фамилию Петромихали»), ср. «Итак, между
ростовщиками был один - существо во всех отношениях необыкновенное»,
«Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и
какой-то непостижимо-страшный цвет его, большие необыкновенного огня
глаза ... Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные
домики ... Но какими-то арифметическими странными выкладками
заставлял их восходить до непомерных процентов ... Но что страннее всего ... - это
была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги» и т.п.
Сходство между этим ростовщиком «Портрета» и Моджерамом-Мотомаловым
несомненно, и есть все основания (и вытекающие из текста, и связанные с
реалиями жизни Гоголя в Петербурге, ср. связь с театральным кругом и т.п.)
полагать, что писатель лично видел «петербургского» индийца. Этот реальный
индиец, столь необыкновенный, таинственный и странный, знакомый с
оккультными силами, типологически мог бы быть и носителем «странного»
индийского языка и составителем «безумного», никому не доступного в его
значении, «индийского» мистического текста, отвечающего, однако, знакомой и
дорогой идее «говорения языками».
593
Независимо от того, каковы результаты перебора возможностей,
которые могли бы прояснить происхождение и характер «индийского» текста,
сам этот перебор, как бы произвольно и вторично, позволяет нащупать
пока еще в целом неясные очертания «индийского» космоса русской культуры,
только что возникающего из некоего хаотического предшествующего
состояния. Границы этого становящегося космоса даже для начала XIX в.
достаточно широки: Петербург и Москва, керженецкие скиты, верхнедонские
«сионские горницы», поморская «избяная Индия», Астрахань; царь, министр
просвещения, высший свет, чиновники, дворовые, крестьяне, солдаты,
моряки; художественная литература, наука, религиозная полемика, народная
словесность, обряды, суеверия - вот приблизительный объем сил русского
«индианизма», от поучительных уроков и положительных знаний до
мечтаний, лишенных духа трезвения, и горячечных фантазий, от глубоких
духовных прозрений до губительных предрассудков и изуверства.
1 Цит. по изд.: П.И. Мельников (Андрей Печерский). Собр. соч.: Вот. М., 1963.
Приведенный отрывок - из романа «На горах», т. 5. С. 100.
2 Поэтому Луповицы романа («В степной глуши, на верховьях тихого Дона, вдали от
больших дорог, городов и людных селений стоит село Луповицы» - т. 5. С. 7) реально
соответствуют Дубовицам, а владелец Луповиц, своего наследственного имения,
Николай Александрович Луповицкий - Александру Петровичу Дубовицкому, имение
которого находилось в Елецком уезде Орловской губ., т.е. тоже в верховьях Дона (ср.,
между прочим, упоминание Дона в известной хлыстовской песне «Аи у нас на Дону / Сам
Спаситель во дому...»). Софронушке романа реально отвечал, видимо, пророк Ерми-
лушка, крепостной человек Дубовицкого, его ближайший помощник и наперсник. К
религиозному «обращению» отца Николая Александровича, одного из богатейших
помещиков той стороны, столбового барина Александра Федоровича Луповицкого (ср.
Александр Дубовицкий), бывшего до того в кругу иных забот и развлечений
(губернский предводитель, увлечение породистыми конями, псовой охотой, крепостным
оркестром и театром и т.п.), ср. в романе (а судя по всему, и в жизни А.П. Дубовицкого):
«Под шумок поговаривали, будто Луповицкий масонства держится. Немудрено - в то
время каждый сколько-нибудь заметный человек непременно был в какой-нибудь
ложе. Масонство, однако ж, не мешало шумной, беспечной жизни богатых людей, а не
слишком достаточные для того больше и поступали в ложи, чтобы есть роскошные
даровые ужины. Ежели Луповицкий и был масоном, то это не препятствовало ни пирам
его, ни театру, ни музыке, ни охоте. Иное сталось, когда он прожил в Петербурге
целую зиму. Воротившись оттуда, к удивлению знакомых и не знакомых, вдруг охладел
он к прежним забавам, возненавидел пиры и ночные бражничанья, музыку и отъезжие
поля - все, без чего в прежнее время дня не мог одного прожить. Музыканты, актеры,
живописцы распущены были по оброкам, псарня частью распродана, частью
перевешана, прекратились пиры и банкеты. Для привычных гостей двери стали на запоре, и
опустел шумный дотоле барский дом. Луповицкий с женою стали вести жизнь
отшельников. Вместо прежних веселых гостей стали приходить к ним монахи да монахини,
странники, богомольцы, даже юродивые. Иногда их собиралось по нескольку человек
разом, и тогда хозяева, запершись во внутренних комнатах, проводили с ними напролет
целые ночи. Слыхали, что они взаперти поют песни, слыхали неистовый топот ногами,
какие-то странные клики и необычные всхлипывания. Через несколько времени, оп-
ричь странников и богомольцев, стали к Луповицким сходиться на ночные беседы
солдаты, крестьяне, даже иные из ихних крепостных» (т. 5, с. 8-9). Раньше он добивался
отдачи детей в пажеский корпус, но теперь он не хотел об этом думать: - «Хочу из них
сделать сельских хозяев» (т. 5, с. 10). Гонения на А.П. Дубовицкого начались в 20-е годы.
В письме от Александра I, полученном Аракчеевым 5 февраля 1824 г., предписывается:
594
«Дубовицкой здесь, то прикажи его арестовать чрез обер-полицмейстера» (Великий
князь Николай Михайлович. Опыт исторического исследования. СПб., 1912. Т. 2.
Приложение. С. 644). Позже в 1837 г. Дубовицкий был сослан в Саровскую пустынь, а
потом в суздальский Спасо-Ефимьев монастырь или в Соловки.
3 Кондратий Иванович Селиванов был основателем скопческой секты белых голубей,
выделившейся из хлыстовщины, и начал свою деятельность в хлыстовском корабле
богородицы Акулины Ивановны, где главной пророчицей («ходила в слове») была
Анна Родионова. Именно она и опознала Селиванова, приветствуя его появление в
корабле словами: «Сам Бог пришел! Теперь твой конь бел и смирен!» («конь» - образ
плоти, с которой борется дух; белый цвет - символ чистоты - «непорочности, грехам
тяжким недоточности»; «сесть на белого коня» - оскопить себя, ср. убелить и под.; см.
«Песни русских сектантов мистиков» / Сост. Т.С. Рождественским и М.И. Успенским.
СПб., 1912, XX, XXXIII). Селиванов начал с того, что решил истребить разврат у
«людей божьих», и неустанно обличал их. «Лепость весь свет поедает и от Бога
отвращает», - учил он. - «Единые девственники предстоят у престола Господня... Храните
девство и чистоту». Эта проповедь пришлась хлыстам не по нраву. В ней видели злой
умысел изменить закон. Селиванова ненавидели и не раз покушались на его жизнь.
Неудача в устной проповеди заставила сделать следующий шаг. Он оскопил себя. Пример
оказался заразительным. Сложилось сообщество единомышленников со всеми
признаками весьма радикальной секты. Злоумышления хлыстов продолжались. Результатом
было отдание Селиванова под суд. 15 сентября 1774 г. его секли кнутом и погнали в
Сибирь. На этом пути он встретился с Пугачевым, которого везли на казнь в Москву. «Не
тут ли пришла ему мысль назваться императором Петром III», - спрашивает
исследователь (см. Мельников-Печерский П.И. Белые голуби // Собр. соч. Т. 6. С. 331). Во
всяком случае из дел о скопцах видно, что в Сибири Селиванов именовал себя именно так,
а белые голуби в своих песнях и стихах (их писал и сам Селиванов) рассказывают, что
он как отец-искупитель воплотился от Святого Духа и родился от пренепорочный
девы Елизаветы Петровны по благовествованию ей Иоанна Богослова. Она
царствовала лишь два года и после этого, «отложив царские одежды» и надев нищенское платье,
ушла в Киев на богомолье, оставив престол своей фрейлине, похожей на нее. На пути
в Орловской губернии, познав истинную веру, она осталась жить с божьими людьми
под именем Акулины Ивановны, а сын ее Петр Федорович, родившийся еще в
Петербурге, был отправлен на воспитание в Голштинию, где стал белым голубем.
Вернувшись в Петербург, он стал наследником престола, но Петр III, своевременно проведав
ее намерения, переменился платьем с караульным солдатом, которого убили и
похоронили как Петра III, и скрылся, начав странствовать по России и «проповедывать
чистоту». Скопческий фольклор говорит о состоявшейся позже встрече с Павлом I - «Наш
батюшка-искупитель I Кротким гласом провестил: I "Я бы Павлушку простил, I
Воротись ко мне ты, Павел, IЯ бы жизнь твою исправил". IА царь гордо отвечал, I
Божества не замечал, I Не стал слушать и ушел. I Наш батюшка-искупитель I Своим
сердцем воздохнул, I Правой рученькой махнул: I "О земная клеветина! I Вечером
твоя кончина; I Изберу себе слугу, I Царя Бога на кругу, I А земную царску справу I
Отдам кроткому царю: I Я всем троном и дворцами I Александра благословлю,
/Будет верно управлять, I Властям воли не давать"». Действительно, Александр I
вместе с графом Строгоновым 6 марта 1802 г. навестил Селиванова в тюремном
отделении Обуховской больницы, долго говорил с ним, а расставаясь, приказал освободить
его и поместить в богадельню. «Привезли то древо-кипарис во Питер-град, -
радовались скопцы освобождению Селиванова, - Становили древо от земли до неба: I
Будут строить град Иерусалим 1...И великие дома строятся... Некоторое время он
открыто проповедовал скопчество в Петербурге. Бывали у Селиванова и тогдашние
мистики: князь А.Н. Голицын, А.Ф. Лабзин, В.М. Попов и другие, почитавшие его
боговдохновенным сосудом. В Михайловском дворце, у Татариновой, совершались
те самые обряды, которые совершались по ночам у отца-искупителя» (Мелъников-
Печерский П.И. Белые голуби, с. 370-371). В дома, где жил Селиванов (у Ненастьева,
595
Кострова, Солодовниковых) приглашали петербургского генерал-губернатора графа
Милорадовича, министра полиции Балашова, графа П.А. Толстого, обер-полицеймей-
стеров. При них происходили молитвы, произносились поучения, и подобное сочетание
присутствующих и образ их действия считался довольно естественным. Это
отступление о Селиванове и «белых голубях» существенно в связи с темой Татариновой и
Дубовицкого и, следовательно, в связи с тем текстом, который пелся во время радения
в доме Луповицкого-Дубовицкого.
4 Великий Князь Николай Михайлович. Указ. соч. Т. 1. С. 199.
5 Потолок сионской горницы в квартире Татариновой в Михайловском замке был
расписан Боровиковским: Святой Дух в окружении девяти кругов небесных сил (по
роману Мельникова-Печерского, им же была расписана сионская горница и в Луповицах).
Есть сведения, что этот же художник писал картину, на которой были изображены
члены «корабля» Татариновой.
6 Более того, митрополит Петербургский Михаил негласно поддерживал эти собрания.
Однако неусыпным стражем «основ» оставался архимандрит Фотий, писавший
(правда, позже, в связи со смертью госпожи Крюденер, 25 декабря 1824 г.): «В сетях
Татариновой и Криднерши сам министр духовных дел весь увязал. Его любимцы с ним
одно творили»; впрочем, и Карамзин не сочувствовал ни «мистической вздорологии», ни
голицынскому «министерству затмения». Но многие из духовенства открыто
сочувствовали мистикам (но не масонам), как, например, Филарет, будущий знаменитый
митрополит Московский. - Во французских донесениях из Петербурга сообщалось (от
1/13 июня 1821 г.): «Les dames zélées pour la religion mystique continuent toujours à jouir de
la même faveur. Entre autres on loge au Palais Michel Mme Tatarinoff, qui réunit chez elle des
assemblées pieuses, où la ferveur des prières et l'agitation qu'elles causent sont, dit-on,
extraordinaires. L'on ajoute que Г affluence des personnes qui s'y rendent est assez considérable pour
qu'on ait été obligé de leur ouvrir de nouveaux appartements» (см. Великий Князь Николай
Михайлович. Указ. соч. Т. 2. С. 356).
7 Об отношении Александра I к кружку Татариновой свидетельствует то, что он будто
бы писал P.A. Кошелеву, что он «пламенеет любовию к Спасителю, когда только
читает в письмах... об обществе госпожи Татариновой в Михайловском замке», что «сим
обществом надеюсь я истребить ереси - и скопцов, и масонов». См. «Девятнадцатый
век». М., 1872. Кн. 1: «Юрий Толстой. О духовном союзе Е.Ф. Татариновой».
8 На обратном пути в Бадене, где он встретился с императрицей Елизаветой
Алексеевной, ему был представлен Юнг-Штиллинг.
9 Характерно в этом отношении письмо Александра I от 9 мая 1818 г. к Рижскому
генерал-губернатору Паулуччи в связи с тем, что последний чинил препятствия Крюденер
и ее спутникам, собиравшимся ехать в Россию: «С сожалением вижу, что вы не
вполне поняли содержание разговора, который имели мы с Вами об этом предмете в
Царском Селе. К чему нарушать спокойствие существ, занимающихся только молитвами
к Предвечному и никому не делающих зла? Чем более в таких случаях розысков и
надзору, тем прибавляется только важности для зевак. Оставьте госпожу Крюденер и
других пользоваться совершенным спокойствием, потому что, какое Вам до того
дело, кто как молится Богу! Каждый отвечает Ему в том по своей совести. Лучше, чтоб
молились каким бы то ни было образом, нежели вовсе не молились», см.: Великий
Князь Николай Михайлович. Указ. соч. Т. 1. С. 196-197.
10 Ср. переписку Голицына и Александра I по поводу необходимости оставления
Татариновой ее жилья в Михайловском замке (письмо от 19 апреля 1822 г. и ответ Государя).
См.: Указ. соч. Т. 1. С. 571-572, ср. с. 573 (№ 13, от 31 мая 1824 г.). Правда, сначала
Татаринова перебралась на новое жилье в Петербурге же, за Московской заставой.
11 В художественной литературе Татаринова и ее последователи, особенно В.М. Попов
и М.С. Пилецкий, изображены в романе Писемского «Масоны» (1880), опирающемся
на большой и ценный фактический материал; в мемуарной - прежде всего Вигелем.
12 Мельников-Печерский настоятельно подчеркивает сходство луповицких радений с та-
тариновскими, пение - обязательное - и здесь и там «молитвы Господней»: «Дай к
нам, Гоподи, дай к нам Исуса Христа», даже сходство в структуре «сионской горницы»
596
(изображение Святого Духа на потолке и его ритуальная роль), наконец, общий
«хлыстовский» характер и татариновского кружка и белых голубей.
13 Обычно среди них указывают «Прочь лесть, прочь ложь, хитро-сплетенность... и В
яслях - колыбель Исуса». Мельников-Печерский, противопоставляя их «народным»
псальмам, говорит, что «простонародные хлыстовские песни - большею частью
импровизация, всегда почти бессмысленная, нелепая» (Белые голуби. С. 299). Правда,
следующие далее тексты никак не могут быть признаны бессмысленными.
14 «Знали его и образованные люди божьи, и монахи с монахинями, и сестры женских
общин, приведенные к познанию тайны сокровенной, слыхали о нем по всем городам,
по всем селам и деревням, где только живут хлысты. Не раденьями, не
пророчествами достиг он славы, а беседами своими, когда объяснял собратьям правила
сокровенной веры, служение Богу и Агнцу» (На горах // Собр. соч. Т. 5. С. 134).
15 Между прочим, заумное «Нарве стане наризон...», которым начинает свою «партию»
Софронушка, записано как раз от закавказских «прыгунов». В области Карса
(неподалеку от Арарата) у молокан-прыгунов была записана заумная «бесконечная молитва» -
фолдырь анифей / фолдырь мефи царимей, / Царь мафами цаларей... (см. Хазанов.
Секта молокан-прыгунов в Карской области // Духовный Вестник Грузинского Экзархата
1894. № 18, 28); ср. сходные элементы в речи юродивого - ...дай, царь-государь, / импе-
лай Николай, / на иконку\ ... Царица-лисица, / бух-бух, / помалей алалей... (Тарковский.
Юродивый в 1918 году), ср. в скопческом пророчестве: Пшеницу рассей, а тарицу висей...
В т. наз. «обряде» (требнике амурских прыгунов) зафиксирована заумь, которая
довольно близка к Нарве стане наризон..., ср.: Стали дон заневере навин, / навередон ривян
нави дон I заневеравин востанъ невередон... (см. Кириллов. Амурские прыгуны //
Камчатские Епархиальные Ведомости. 1897. № 10. С. 152, т.е.: Нарве - невере, стане - стани,
(во)стань, наризон - навередон, рами - ...равин, ривьян. В зауми тамбовских хлыстов ср.
«Христос анесте (= Χριστός ανέστη)» проясняющее форму «"стани", "стане"», и «фри-
сон» (: «фатисон»), перекликающееся с «гаризон» (: «наризон»); наконец, не тан фан...
тинтись тинтись как бы откликается в Софронушкином Тень, тень, потетенъ...
Совсем иной принцип зауми у штундовых прыгунов -А бдол, сир, фу, мла, I конал, сеир,
чика... (см. Сопоцько. На собрании у штундовых прыгунов с. Дешек Киевской губ. //
Миссионерское обозрение. 1901. Ч. 1. С. 662-664). См. подробнее: Коновалов Д.Г.
Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Сергиев Посад, 1908. С. 157 и след.
16 Мельников-Печерский П.И. Белые голуби // Собр. соч. Т. 6. С. 306.
17 Там же. С. 310-311.
18 См. «Тверские Епархиальные Ведомости». 1891. № 12. С. 349. - О явлении дара
святого пророчества (в указанном смысле) в собраниях Татариновой сообщают и
официальные документы, ср. так называемое «Секретное дело» М.С. Пилецкого и др.
19 Ср. еще: «И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они
стали говорить иными языками и пророчествовать» (Деяния 19:6), ср. 1. Поел, к Коринф.
14:21.
20 Ср. ... και πασσα γλώσσα έξομιλογήσεται τώ Θεώ.
21 και ουδέν άφωνον.
22 .. .προσευχέσθω ϊνα διερμηνεύη.
23 Об иных значениях выражения «живая вода» см. «Песни русских сектантов
мистиков». С. ΧΧΙ-ΧΧΙΙ.
24 Коновалов Д.Г. Указ. соч. С. 157-159.
25 Уже в документах XVIII в. упоминается хлыстовская глоссолалия Сергея Осипова,
говорившего «странными языками», ср.: «рентре фенте рентре финтрифунт, / нодар ли-
сентрант нохонтрофинт» (см. «Описание документов и бумаг Московского архива
Министерства юстиции». Кн. 6. С. 179) или «иностранные речи» московского хлыста
того же времени Варлаама Шишкова: «насонтос лесонтос фурт лис натруфунтру на-
трисинфур кресерефире кресентреферт...» и т.п. (там же, с. 140). Нельзя исключать,
что в ряде глоссолалических опытов мог реализоваться тот же принцип рассечения
текста на слоги и расширения их стандартным «вставочным» элементом, как в
знаменитом говорении «по херам», но, конечно, с дополнительными усложнениями.
597
О «поэтическом» аспекте экстаза ср.: «Пророческий экстаз, подобно поэтическому
вдохновению, возбуждая автоматическую работу функции речи, имеет вообще
наклонность выражаться в рифмованных стихах» {Коновалов Д.Г. Указ. соч. С. 251).
Общий контекст глоссолалии можно проиллюстрировать двумя (в принципе очень
схожими) примерами. Первый из них - описание «Луповицких» радений Мельнико-
вым-Печерским: «Живей и живее напев, быстрей и быстрее вертятся в кругах. Не
различить лица кружащихся. Радельные рубахи с широкими подолами раздуваются и
кажутся белыми колоколами, а над ними веют полотенца и пальмы. Ветер пошел по
сионской горнице: одна за другой гаснут свечи в люстрах и канделябрах, а дьякон свое
выпевает. - «Бысть шум яко же носиму дыханию бурну и исполни дом, иде же бяху
седяще, и вси начаша глаголати странными глаголы, странными учении, странными
повелении Святыя Троицы» (из стихиры на день Пятидесятницы. - В.Т.).
Быстрей и быстрее кружатся. Дикие крики, резкий визг, неистовые вопли и
стенанья, топот ногами, хлопанье руками, шум подолов радельных рубах, нестройные
песни сливаются в один зычный потрясающий рев... Все дрожат, у всех глаза блестят,
лица горят, у иных волосы становятся дыбом. То один, то другой восклицают: - Ай
дух! Ай дух! Царь дух! Бог дух! - Накати, накати! - визгливо вопят другие. - Ой ева!
Ой era! - хриплыми голосами и задыхаясь, исступленно в диком порыве восклицают
третьи. - Благодать! Благодать! - одни с рыданьем и стонами, другие с безумным
хохотом голосят во всю мочь вертящиеся женщины.
Со всех пот льет ручьями, на всех взмокли радельные рубахи, а божьи люди все
радеют, лишь изредка отирая лицо полотенцем.
- Это духовная баня. Вот истинная, настоящая баня паки бытия; вот истинное
крещение водою и духом...» (На горах // Собр. соч. Т. 5. С. 101-102). -Другой
пример - из «Глоссалолии» Андрея Белого, определяемой им как импровизация на
несколько звуковых тем. «Пусть для вас она - сказка, - говорит автор, - а для меня она -
истина, дикую истину звука я буду рассказывать» {Андрей Белый. Глоссолалия.
Поэма о звуке. Берлин, 1922. С. 37). «Но знаю я: за образной субъективностью
импровизаций моих скрыт вне-образный, несубъективный их корень ... Так же звук я беру
здесь, как жест, на поверхности жизни сознания, - жест утраченного содержания»
(С. 9-10). К пляске глоссолалии (см. выше описание радений) ср.: «Прежде
явственных звуков к замкнувшейся сфере своей, как танцовщица, прыгал язык; все его
положения, перегибы, прикосновения к нёбу и игры с воздушной струей (выдыхаемым
внутренним жаром) сложили во времени звучные знаки - спиранты, сонанты, оп-
лотневали согласными; и - отложили массивы из взрывных: глухих (р, t, k) и
звучащих (b, d, g)... Игры танцовщицы с легкой, воздушной струей, точно с газовым
шарфом - теперь нам невнятны ... Все движения языка в нашей полости рта - жест
безрукой танцовщицы, завивающей воздух, как газовый, пляшущий шарф; разлетался в
стороны, концы шарфа щекочут гортань; и - раздается сухое, воздушное, быстрое
"h", произносимое, как русское "ха"; жест раскинутых рук (вверх и в сторону) - "h" ...
Жесты рук отражают все жесты безрукой танцовщицы, пляшущей в мрачной
темнице: под сводами нёба; безрукую мимику отражает движение рук; те движения -
гиганты огромного мира, незримого звуку, так язык из пещеры своей управляет громадою,
телом; и тело рисует нам жесты; и бури смысла - под ними. Жест руки наш безрукий
язык подглядел; и повторил его звуками, звуки ведают тайны древнейших душевных
движений ... Звуки - древние жесты в тысячелетиях смысла» (С. 13-16). И вывод -
«Умение прочитывать звук - только первый намек на язык языков; и мы знаем -
второе пришествие Слова - свершится» (С. 123). Хочется сказать: это и так чувствовали
во время радений и белые голуби, и автор «Серебряного голубя» многим в этих
описаниях обязан им. И еще одна зависимость-параллель - от древнеиндийских
представлений о системе отождествлений элементов языка с элементами космоса,
отраженной отчасти уже в Ведах, но в особенности в пратишакхьях, брахманах, араньяках,
упанишадах (согласные - ночи, гласные - дни или согласные - тело, гласные - душа,
фрикативные - дыхание и т.п.). См. Varma S. Critical Studies in the Phonetic Observations
of Indian Grammarians. Delhi, 1961. 3-4; Chakravarti P.Ch. The Philosophy of Sanskrit
598
Grammar. Calcutta. 1930, и др. Ср. у Андрея Белого о параллелизме творения мира и
звуков, о семантике звуков, специально индийские параллели, в частности, анализ От
(71) и т.п. Следует напомнить, что из русских писателей того времени Андрей Белый
был наиболее эрудирован (отчасти это можно сказать и о Вяч. Иванове) в области
новых работ о древнеиндийской культуре - от Дейссена до Щербатского. Что же
касается его «Глоссалолии», то она предвосхищает или, точнее, повторно открывает те
древнеиндийские идеи «фоно-космоса» и звуковой семантики, которые были
открыты наукой лишь позже. Так, в личном опыте Андрея Белого «древнеиндийское» и
«хлыстовское» слились в органическое единство, корень и субстрат которого общи.
28 Речь идет об очень коротких звуковых цепях. Как только они удлиняются (при
удлинении цепи возникают почти непреодолимые препятствия звуковому многообразию,
комплексы звуков начинают повторяться, как бы преформируя семантический аналог
повторяющимся звуковым группам), создаются условия для «рождения» смыслов,
хотя бы неясных и приблизительных. Такая семантизация звуков, исходно
бессмысленных для принадлежащих к данному языковому кругу, неизбежна, особенно в
условиях, когда развиваются высшие энергии, которые и должны открыть новый и главный
смысл происходящего (как при радениях). Разумеется, что некоторые
«бессмысленные» тексты институализируются и передаются во времени именно как таковые, но и
в этом случае они должны пониматься как некая фигура с целостным смыслом, как
знамение или символ целого, не допускающего его «осмысленного» членения на
части. Все сказанное, конечно, не исключает и случаев утраты значения в текстах,
становящихся глоссолалическими.
29 Ср.: «Присутствие в глоссолалических речах повторяющихся слогов и слов может
наводить на мысль, что эти речи - не набор бессмысленных случайных звуков и слогов,
но произносятся на каком-либо действительном языке» (см. Коновалов Д.Г. Указ. соч.
С. 248) и, следовательно, образуют смысл. Некоторые исполнители «заумных»
текстов, как, например, Варлаам Шишков (о нем говорилось ранее), приоткрывали
завесу над «смыслом» и, более того, наталкивали на сами приемы «затемнения» смысла,
подобные тем, которыми пользовались древнеирландские филиды, продолжавшие
еще более древнюю индоевропейскую традицию. Он указывал ряды
«практических» соответствий, содержащие «смысловые» ключи. Ср.: здрувулъ д ρ е -
миле- «не дремли, человек»; "у з д ρ о в о лне" - «будь здрав, человек»; к ρ е с
ерефире - «крестное знамение на себе носи»; крес е н m ρ е ферт - «встрепенись
сердцем к Богу» и т.п. - Кстати, сами экстатики-глоссолалы, как уже указывалось в
литературе, обладают способностью различать «глоссолалические» языки по тем
ощущениям, которые исходят от органов речи в момент глоссолалии, и по
характеру звуков. При решении конкретных вопросов в этой области нужно помнить,
что целое охватывает «глоссолалический» опыт не только мистиков-экстатиков, но и
душевно-больных, афатиков, детей, поэтов, пророков и т.п.
30 Указ. соч. С. 168.
31 От и.-е. *ter-, корня, обозначающего важнейшее понятие космологии - проницание-
пересекание трехчленного состава мира (верхний, средний, нижний миры), связь трех
космических зон как победа, преодоление принципа единой целостности над
множественной партикулярностью.
32 Слово этого индо-иранского корня (ср. др.-инд. räy-, ras, 'богатство', 'благо', rayi-
'дар', 'владение', авест. ray- 'то же' и т.п.) считается обычно источником славянского
заимствования, ср. рай и т.п., из праслав. *rajb. Впрочем, существуют и иные
объяснения этого славянского слова.
33 Точнее - «дом блага (богатства) и песни» или «дом благой песни».
34 Сектантские моленные в песнях называются также «церковью соборной», «новой
горенкой», «сионской горницей», «светлицей», «собором», «храмом», «монастырем».
35 К «дому молитвы» ср. Исайя 56:7; Иер. 7:11; 3 Цар. 8:29.
36 Как указывалось ранее, сам корень слова, обозначающего совершение действия,
ради которого и происходит радение, восходит к ритуально отмеченному
употреблению и.-е. *καί-, фиксирующего движение сверху (с неба) вниз, соединение
599
небесного и божественного с земным и человеческим. Ср. др.-греч. κατά, κατα-βαί-
νω ούρανόθεν, ο схождении с небес; интересно и «схождение вниз» слова, языка -
κατα-λαλέω, с естественным «ухудшением» значения ('разбалтывать',
'наговаривать', 'злословить', 'хулить', но и просто 'рассказывать'), ср. κατά-λωσσος, κατά-
λωττος, в частности, о нарочито темном языке, отсылающие в сумме к γλωσσά &
λαλέω, глоссолалии.
При выяснении вопроса о происхождении этого текста важно обратить внимание на
параллель между его зачином {«...пророки I Шли по дороге. I Нашли они книгу. I
Ч m о в той к н и г е? IА писано тамо?...») и началом духовного стиха «О
Голубиной книге»: «Выпадала книга голубиная /... / Ко этой книге голубиныя I собирались
к ней соезжалися I... / как бы нам узнать, во книге что написан о. I... I Не
узнать нам, во книге что написан о.» (потому, что она слишком
велика). Таким образом, общими, помимо языковой формы этого «ядра», нужно считать
мотивы явления некоей сакральной книги, ее нахождения и собрания вокруг нее
персонажей, занимающих особое место в иерархии (пророки, цари, царевичи, князья, кня-
зевичи, в несколько иной связи упоминается и свят Исай пророк), вопрошания о
содержании книги и ответа-отказа, как бы уклоняющегося от заданного вопроса: в
одном случае - заумь, непонятное (Савишраи само... и т.п.), в другом - Не узнать нам,
что во книге написано.
До этого интерес к Индии (как и Индии к России) определялся торогово-экономиче-
скими, реже дипломатическими соображениями, хотя то там, то здесь
обнаруживаются факты, когда ведущим стимулом оказывается любопытство, любознательность, а
деловые мотивы выступают скорее как предлог-мотивировка. О русско-индийских
связях в XVII в. см.: Уляницкий В. А. Сношения России со Средней Азией и Индией в
XVI-XVII вв. По документам Главного архива Министерства иностранных дел //
Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Российских при Московском
университете. 1889. Кн. 3. С. 1-62; Байкова Н.Б. К вопросу о русско-индийских
торговых отношениях в XVI-XVII вв. // Труды Института востоковедения. Ташкент, 1956.
№ 4. С. 75-94; Дахшлейтер Г.Д. Из истории русско-индийских связей в XVII - первой
половине XVIII веков // Вестник Академии наук Казах. ССР. Алма-Ата, 1956. № 3.
С. 75-82; Голъдберг Н.М. Русско-индийские отношения в XVII веке // Учен. зап.
Тихоокеанского института АН СССР. М.; Л., 1949. Т. 2. С. 129-148; Goldberg N. Russo-Indian
relations in the seventeenth century // Special session of the Academic council of the Institute
of Oriental Studies dedicated to the seventh anniversary of the Republic India. M., 1957.
C. 1-17; Антонова К.А. Русско-индийские связи в XVII в. // Материалы первой
Всесоюзной научной конференции. Ташкент, 1958. С. 434-441; Она же. Русско-индийские
отношения в XVII и XV вв. М., 1963; Русско-индийские отношения в XVIII в. Сб.
документов. М., 1958, и др. Та же ситуация в основном сохранялась и в XVIII в., о чем
можно судить по документам, относящимся к тому времени. См. «Русско-индийские
отношения в XVII в.» Сб. документов. М., 1965; ср. также: Изъяснение о способах к
произведению Российской коммерции из Оренбурга с Бухарскою, а из оной и с
Индийскими областями // Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах. СПб., 1768.
Ноябрь. С. 401-408; Описание индийских царей, которые имели ссылки с государями
царями и великими князями российскими, какие от них и к ним были грамоты, и какие
титулы употребляли//Древняя Российская вивлиофика. СПб., 1791. Ч. 16. С. 231-233;
Малиновский А.Ф. Известие об отправлениях в Индию российских посланников,
гонцов и купчин с товарами и о приездах в Россию индийцев, с 1469 по 1751 г. // Труды и
летописи Общества истории и древностей Российских при Императорском
Московском университете. М., 1837. Ч. 7. С. 121-207; Люстерник Е.Я., Шапот Е.Г. О
некоторых проектах организации русско-индийской торговли в XVII веке // Учен. зап. ЛГУ.
1960. № 279. Серия востоковедческих наук. Вып. 9. С. 15-30; Перцмахер В.В. Русские
моряки в Индии в 60-х годах XVIII в. (по архивным материалам) // Страны и народы
Востока. Вып. 5. Индия - страна и народ. М., 1967. С. 220-228; ср. также: Kemp P.M.
Bharat-Rus. An Introduction to Indo-Russian contacts and travels from mediaeval times to the
October revolution. Delhi, 1958 и др.
600
39 Де Санкгис в своих записках рассказывает историю этого решения, напоминающую
анекдот, что не противоречит правдоподобности сообщения (вся жизнь Павла хорошо
укладывается в сотни анекдотов, согласно девизу «L'anecdote est le rayon de soleil de
l'histoire», см.: Павел I. Собр. анекдотов, отзывов, характеристик, указов и пр. / Сост.
А. Гено и Томич. СПб., 1901): император Павел приказал принести карту Европы,
разложил ее на столе, согнул надвое, провел по лбу рукою и сказал: «Только так мы
можем быть друзьями» (с Францией. - В. Т.) (см. Шилъдер Н.К. Император Павел I Ис-
торико-биографический очерк. СПб., 1901. С. 416-420; Он же. Император Александр
Первый. Его жизнь и царствование. СПб., 1904. Т. 1. С. 200-203 и др.); следствием
примирения с Францией и стал задуманный «тайный» поход в Индию, строго говоря
(помимо своей неосуществимости), необязательный и с внешнеполитической точки
зрения, хотя и сам Наполеон проектировал нечто подобное; ср.: Проект Наполеона I о
покорении Индии // Сб. географических, топографических и статистических
материалов по Азии. СПб., 1885. Вып. 16. С. 159-166, а также: Списки с собственноручных
высочайших рескриптов Государя императора Павла I атаману Войска Донского
генералу от кавалерии Василию Петровичу Орлову о походе в Индию» // Чтения в
Императорском Обществе истории и древностей Российских при Московском
университете. 1860. Кн. 3. С. 167-168; Проект русско-французской экспедиции в Индию,
1800 г.» // Русская старина. 1873. Т. 8. № 9. С. 401-410; Баторский A.A. Проект
экспедиций в Индию, предложенных Наполеоном Бонапартом императорам Павлу и
Александру I в 1800 и 1807-1808 гг. // Сб. географических, топографических и
статистических материалов по Азии. СПб., 1856. Вып. 23. С. 1-104; Донадзе В. К вопросу
о проекте русско-французского похода в Индию (конец 1800 и начало 1801 г.), на
груз, яз., и др.
40 Эта «простота» решения о выборе пути в Индию резко контрастирует с тем, что в
продолжение почти всего XIX в. (как и, конечно, ранее) выбор сухопутных
маршрутов в эту страну из России оставался дискуссионной проблемой, вокруг которой шли
долгие споры, породившие целую литературу. Ср.: О торговом пути в Среднюю
Азию и Индию через Россию, предлагаемом Платоном Голубковым. М., 1848;
Соколов А. О торговом пути в Среднюю Азию и Индию, предлагаемом г. Голубковым //
Северное обозрение. 1848. Т. 3. Март. Отд. 6. С. 13-15; Иванов АЛ. Пути в Индию.
Краткий очерк развития торговых сношений с отдаленным Востоком. СПб., 1889,
и др., не говоря уж о том, что спор продолжался и позже в связи с проектами
проведения железных дорог из России в Индию. См.: Барановский СИ. Об экономическом
значении железного пути через Центральную Азию в Индию // Известия
Императорского Русского Географического Общества. 1874. Т. 10. № 4. С. 169-170; Нечаев Б.
Каспийско-индийская железная дорога // Естествознание и география. 1897. № 1.
С. 72-84 и др.
41 До этого времени можно отметить лишь опубликованный в 1762 г. в Петербурге
Б. Волковым перевод с французского «Политических и нравоучительных басен Пиль-
пая, философа индийского». Басни и сказки, несомненно, пользовались успехом в
средних слоях русского общества и были коммерчески выгодны. В 1802 г. в
Петербурге в сборнике «Опыт любословия» публикуется «Разговор между Бидпаем, индийским
философом, и Лафонтеном» (пер. с франц. Я.П., 62-74), принадлежащий к жанру
разговоров в царстве мертвых, весьма популярному в русской литературе XVIII - первой
половины XIX в., ср.: Марналис Н. Разговоры в царстве мертвых в русской
литературе XVIII века // Europa Orientalis. 7. 1988. Contributi italiani al X Congresso Internazionale
degli Slavisti (Sofia, 1983). 285-305, особенно 300. В основе русского перевода 1802 г. -
Dialogue entre Bidpai, Philosophe Indien, et Jean de la Fontaine // Journal Encyclopédique.
15 octobre 1777. 319-325. - В ближайшие годы появляются новые переводы книг
этого жанра. Ср.: Басни и сказки индийские, сочиненные Вишну-Сармою, на древнем
индусском или санскритском языке и служившие образцом басням Пилъпаевым, Езопо-
вым и др. Ч. 1-2. СПб., 1803; Басни и сказки для детей с картинками. Ч. 1-2. СПб.,
1816. Литература этого рода продолжала появляться и позже. Но здесь важнее
напомнить о двух ранних переводах-пересказах, представляющих собой отклик на перевод
601
«Пильпаевых басен», сделанный Б. Волковым. Уже в 1763 г. в «Свободных часах»
появляется обработка А.Г. Карина - «Два прохожих и река». В 1766-1767 гг. в Москве
появляются две части «Нравоучительных басен Василия Майкова». Среди них -
сокращенный перевод-пересказ той же басни под заглавием «Двое прохожих и клад»
(«Прохожих двое шло дорогою одною; / ...А впереди река..»). - Более ранние опыты
перевода литературы с индийской тематикой очень редки и случайны. Ср., например,
перевод с немецкого «Индии восточной», появившийся во 2-й половине XVII в. в
Москве (о двух плаваниях в Индию и Индо-Китай - «от Георгия Спильбергия» и «от
Каспара Бальби Бисерного»). Зато для складывающейся атмосферы русского «индианиз-
ма» существен учет все возрастающей доли индийской темы в публицистике (включая
и тексты, принадлежащие Новикову, Радищеву и др.) и в научной литературе, ср.
вышедший в Петербурге в 1789 г. перевод двух глав из исторического исследования по
Индии, принадлежащего А. Доу.
Пройдет тридцать лет, и неподалеку от дома «Дружеского общества» (через участок,
занимаемый позже школой для дефективных, а до этого армянской церковью
Воздвижения), в том же тихом и зеленом урочище, облюбованном масонами, будет
возведено красивое здание, предназначенное выходцами из Армении Лазаревыми для
армянского учебного заведения (нужно напомнить, что двумя столетиями раньше
поблизости находился Армянский двор для купцов, приезжавших в Москву с Востока), ныне
Армянский переулок, дом № 2. В этом доме, и сейчас принадлежащем армянам,
позже размещался Лазаревский Институт восточных языков, где учились многие, чьи
имена (от Тургенева до Якобсона) дороги русской культуре. Еще позже, уже в наше
время, в 50-е - 70-е годы, это место станет центром московского востоковедения;
здесь переводились и издавались мистические гимны Наммальвара и Маниккавашага-
ра и Упанишады; здесь в конце 50-х годов вместе с Ю.Н. Рерихом обсуждался
смирновский перевод «Бхагавадгиты», а позже, почти через двести лет после петровского,
готовился еще один перевод, последний по времени, этого памятника и исследование,
ему посвященное. Место помнит о своем прошлом и своих людях. «Индийское» и
«мистическое» в данном случае придают ему свой особый оттенок как и «армянское»,
«русское». Выше говорилось об «араратском» локусе того «говорения языками»,
которое практиковалось в кружке Дубовицкого-Луповицкого. Но надо помнить
и о других вариантах связей: еще в XVII в. армяне были важнейшими посредниками
в торговле между Индией, Персией и Россией; позже армяне, жившие в Индии, уже
в начале XIX в. поддерживали отношения с русскими армянами. Армянские издания
из Индии проникали в Россию; в них же публиковались сведения о России. В
Лазаревском институте учился посланец калькуттских армян Никита Эмин, один из
первых выпускников этого заведения. См.: Mesrop Y. Armenians in India from the
Earliest Times to the Present Day. Calcutta, 1938. C. 50 и ел.; Россия и Индия. M., 1986.
С. 123,312.
Впрочем, о ней наряду с другим помнили и раньше. «Семену же велели проведать
вЫндеех о всем обычаи их: Иасафа царевича где мощи ево лежат, и о всяких товарах
и торгах, и о проезде руских людей...», см. «Русско-индийские отношения в XVII е.»,
документ № 91 (наказ толмачу Семену Измаилу, отправленному вместе с послом
Борисом Пазухиным в 1670 г. на поиск путей в Индию через Бухару и Балх).
Первая публикация - Московский журнал. 1792. Ч. 6. Кн. 2 (февраль). Ср.: Сцены из
Саконталы, индийской драмы / Пер. Н.М. Карамзина // Московский журнал. 1792.
Ч. 6. Кн. 2. С. 125-126; Кн. 3. С. 294-323; через десять лет этот перевод был
переиздан - Московский журнал. 1802. Ч. 6. С. 114-144, 281-310. Еще раз перевод
Карамзина был переиздан в Пантеоне иностранной словесности (М., 1818. Ч. 1. С. 128-182).
В ближайшие 20 лет к «Сакунтале» обращались еще дважды - «Саконтала,
Восточное сказание (из Круммахера)» // Благонамеренный. 1823. Ч. 22. № 8. С. 81-88 и
«Сакунтала. Индийская драма». 1-4 акты / Пер. с франц. и примеч. Шези // Сын
Отечества. 1833. Т. 3. Июнь. Отд. 2. С. 105-160. - Интерес Карамзина к Индии питался не
только европейской модой и появлением новых переводов с санскрита, но и старой
традицией особого отношения к этой стране. В «Истории Государства Российского»
602
он уделяет внимание тем сведениям об Индии, которые имели хождение на Руси в
XII в. В шестом томе (1817) в разделе «Путешествие в Индию» Карамзин сообщает
читателю о «хождении» Афанасия Никитина, обнаруженном им в летописях. Опыты
«чужого» языка в этом памятнике, воспринимавшиеся как глоссолалия, конечно,
нужно иметь в виду и в связи с «индийским» текстом, здесь разбираемым.
45 Ср. о нем: Материалы для истории факультета восточных языков
Санкт-Петербургского университета. Т. IV. С. 11; Азиатский музей -Ленинградское отделение
Института востоковедения АН. М., 1972. С. 235.
46 См. Bayer T.S. Elementa litieraturae brahmanicae, tangutanae, mungalicae. Cum 10 tabulis aeri
incises // Commentant Academiae scientiarum Imperialis Petropolitanae. SPb., 1728. T. 3.
G 389-422; Idem. Elementa brahmanica, tangutana, mungalica. Cum 9 tabulis aeri incisis //
Ibid. SPb., 1729. T. 4. С 289-301; повторение - соответственно в 1732 и 1735 гг.
Индийская тема была затронута и в его книге «Historia regni graecorum Bactriani, in qua simul
Graecarum in India coloniarum vetus memoria explicatur» (SPb., 1738). В 30-е годы занятия
алфавитом деванагари и некоторыми новоиндийскими языками были продолжены
Д.Г. Мессершмидтом; см. Бескровный ВМ. Из истории изучения живых восточных
языков в России в XIX в. // Вестник Ленинградского университета. 1957. № 8. Серия
истории, языка и литературы. Вып. 2. С. 37; ср. Булин С.К. Очерк истории
языкознания в России. СПб., 1904. Т. 1. С. 494-^95, а также 200-201.
47 Ср.: Rapports entre la langue sanscrite et la langue russe. Présentés à l'Académie Impériale
russe. SPb., 1811. 16 p. и пер. на русский: О сходстве санскритского языка с русским.
СПб., 1811. 20 с; Леванда И. Рассуждения о пользе и достоинстве сочинения,
сообщенного от неизвестной особы под названием: Сходство... СПб., 1812. 64 с. (тогда же был
издан и французский текст). Но еще ранее, в 1807 г., в «Минерве» (М., 1807. Ч. 5.
С. 25-28) появилась статья под названием «Нечто о санскритском языке» (пер. с
немецкого СР.). В 1815 г. в Вестнике Европы (М., 1815. Ч. 84. № 23. С. 196-216)
печатается статья Шези «О преимуществах изящности и богатстве языка санскритского,
также о пользе и удовольствиях от изучения оного», представляющая собою пер. с
французского (из «Magasin encyclopédique»). Ср. также: О языке санскритском //
Атеней. 1828. Ч. 5. № 18. С. 168-170; Dorn В. De affinitate linguae slavicae et sanscritae.
Харьков, 1833.
48 Ср.: Adelung F. Catherinens der Grossen Verdienste um die Vergleichende Sprachenkunde.
SPb., 1815 (Лебедев. С. 205-206). Ср. также Idem. Versuch einer Literatur der Sanscrit-
Sprache. SPb. 1830; Idem. Literatur der Sanscrit-Sprache. 2te Ausg. SPb., 1837, и др. Ср.
ранее: Adelung J. Ch. Mithridates oder Allgemeine Sprachkunde. T. 1. 1806.
49 Можно напомнить еще, что уже к 30-м годам XIX в. в Петербурге, в Азиатском музее,
хранилось довольно значительное количество интересных санскритских рукописей. -
Двумя десятилетиями ранее уже говорилось об особом значении древнеиндийской
литературы и предусматривалось преподавание санскрита и других индологических
дисциплин. См.: Уваров С.С. Мысли о заведении в России Академии Азиатской // Вестник
Европы. 1811. № 1. С. 27-54; № 2. С. 96-120, ср.: Project d'une Academic Asiatique. SPb.,
1810.
50 Ср. прежде всего ценную и очень скрупулезную и критически точную работу B.C.
Воробьева- Десятовского «Русский индианист Герасим Степанович Лебедев // Очерки по
истории русского востоковедения. Сб. 2. М., 1956. С. 36-73; ср. также: ГамаюновЛ.С.
Герасим Лебедев - основоположник русской индологии // Советское востоковедение.
1956. № 1.С. 145-154; Он же. Из истории изучения Индии в России (К вопросу о
деятельности Г.С. Лебедева // Очерки... Сб. 2. С. 74-117; «К истории русско-индийских
культурных связей. Из тетрадей Г.С. Лебедева» // Исторический архив. 1956. № 1.
С. 156-195; Овчинников Р.В. Из истории русской индологии (Новые данные о
биографии Г.С. Лебедева) // Вестник истории мировой культуры. 1960. № 4. С. 74-83, и др.
Из более ранних см. (Руссов СВ.) Путешествие Герасима Лебедева в Индию
//Воспоминания на 1832 год. Кн. VII. СПб., 1832; Булгаков Ф.И. Герасим Степанович
Лебедев - русский путешественник, музыкант в Индии в конце XVIII века // Исторический
вестник. СПб., 1880. Т. III. № 11. С. 515-524 и др.
603
51 Роль путешественников в ознакомлении с Индией особа, и в начале этого ряда стоит,
конечно, Афанасий Никитин, но и в конце XVIII - начале XIX в. описания Индии русскими
путешественниками составляли очень важный источник знаний об этой стране. В «лебе-
девскую» эпоху на этом поприще особо отличились Филипп Ефремов, девять лет
странствовавший в Персии, Кашгаре, Яркенде, Тибете, Индии (его книга о странствовании и
приключениях в этих странах, «писанная им самим» (1771-1782), появилась первым изданием
в Петербурге в 1786 г.; интерес к ней был велик, и в 1794 и 1811 гг. последовали
2-е и 3-е издания; в 1952 г. вышло 5-е издание - «Девятилетнее странствование»), братья
Атанасовы (1790), рассказ которых был опубликован лишь в XIX в., Рафаил Данибегов
(его описание путешествия в Индию стало известно читателю в 1815 г.). О них см.: Бар-
толъд В.В. История изучения Востока в Европе и России. Изд. 2. Л., 1925, 227 и след.
52 Цитируется по: Воробъев-Десятовский B.C. Указ. соч. С. 40.
53 См. Лебедев Г. Беспристрастное созерцание систем Восточной Индии брагменов,
священных обрядов их и народных обычаев. СПб., 1805; Lebedeff H.A. Gramar of the pure
and mixed East Indian dialects,... according to the Brahmaian system of the Shamscrit
Language. L., 1801.
54 См. Воробъев-Десятовский B.C. Указ. соч. С. 44. В связи с сравнительной таблицей
числительных, составленной Лебедевым, говорится, что «он имел сравнительно
точные знания санскрита, хотя и не знал этого языка в совершенстве, так как
санскритские числительные приводятся им правильно, но с некоторыми искажениями в форме,
которые в большинстве случаев вызваны их бенгальским произношением» (Там же.
С. 64). - Интересно, что Лебедев привез в Россию «Амаракошу», известный словарь
санскритских синонимов, и рукопись «Хитопадеши».
55 Как оказалось, она была первой по времени в Европе и лишь на 27 лет опоздала по
сравнению с такой же типографией в самой Бенгалии.
56 Удивительны и отношения Лебедева с двумя русскими царями. Еще весной 1782 г. в
Париже Лебедев был представлен Павлу, тогдашнему наследнику русского престола,
путешествовавшему по Европе под именем «графа Северного», и изложил ему свои
планы поездки в Индию. В 1797 г. он покидает Индию, приезжает в Лондон и явно
медлит вернуться на родину, хотя там о нем помнят и им интересуются: «В одних
английских ведомостях помещено между прочим следующее, - пишут в 1799 г.
"Московские ведомости" (26, 30 марта), - "Один музыкант из русских,
возвратившийся с последним флотом из Индии, намерен издать в Лондоне собрание индостанских и
бенгальских арий. Поскольку же он весьма сведущ как в упомянутых языках, так и в
музыке, то ожидают, что он первый введет здесь в употребление восточную музыку,
мало известную между нами"» (см. Воробъев-Десятовский B.C. Указ. соч. С. 53).
Биограф Лебедева высказывает предположение, что его задержка в Англии была
связана с опалой его покровителя, русского посла в Англии графа СР. Воронцова в
конце царствования Павла I. Известен неблагоприятный ответ на письмо Лебедева,
записанный со слов Павла Ф.В. Растопчиным и посланный русскому поверенному в делах
в Лондоне В.Г. Лизакевичу 22 мая 1800 г. См. Архив князя Воронцова. Т. XXIV. С. 179
(Там же. С. 53-54). Вернулся Лебедев в Россию, очевидно, после убийства Павла.
Сразу же устанавливаются отношения с Александром I: в 1801 г. он преподносит царю
свою грамматику, знакомит его с проектом типографии и просит об определении его
на казенную службу, где он мог бы с пользой для России использовать свои знания об
Индии. Александр I удовлетворяет все просьбы Лебедева и распоряжается выдать ему
большую сумму денег на устройство типографии и присвоить ему звание профессора
восточных языков при Академии наук с жалованием 1800 руб. в год. В известной
степени Лебедев оказывается чем-то вроде консультанта по Индии при царе.
57 См. «Петербургский некрополь». СПб., 1912. П. С. 624. В настоящее время могильная
плита с эпитафией - в Музее городской скульптуры (Ленинград).
58 Орфография подлинника.
59 См. исследования этой темы в народной словесности и древнерусской литературе - от
классических работ А.Н. Веселовского до недавней книги В.К. Шохина. См.
Шохин В.К. Древняя Индия в культуре Руси (XI - середина XV в.). М., 1988.
604
60 См. Eichwald E. Reise auf dem Caspischen Meere und in den Kaukasus in den Jahren
1825-1826. Bd. II. Teil 1. В., 1838. С. 238-239 («Erklärung einer neuen Indischen Inschriften»
с разбором надписи, выполненной, судя по всему, Ф. Боппом); Дорн Б.Л. Отчет об
ученом путешествии по Кавказу и южному берегу Каспийского моря // Труды
Восточного Отделения Археологического Общества. VIII отд. 1861; Сысоев М.В. Храм и
монастырь огнепоклонников в Сураханах, близ Баку // Известия Азербайджанского
Археологического Комитета. I. Баку, 1925. С. 1-28; Unvala J.M. Journal of the Bombay
Branch of the Royal Asiatic Society (New Series) 26. 1950. C. 82-87; Воробьев-Десятов-
ский B.C. Заметка по индийской эпиграфике (К надписям храма огня в Сураханах,
около Баку) // Эпиграфика Востока. IX. Л., 1954. С. 83-87 (в частности, анализ
надписи, начинающийся с санскритского привествия - О/т/ Sri Gan/e/saya namah на девана-
гари и продолжающейся на хинди). Датированные надписи относятся к XVIII в. - Ср.
также Березин И. Индусы на Апшеронском полуострове (Из путевого журнала) //
Отечественные записки. 1845. Т. 43. № 12. С. 101-108.
61 По рассказам, которые автору этих строк не раз приходилось слышать во время
войны в г. Коврове (Владимирская обл., в 250 км к востоку от Москвы) от местных
жителей, здесь до второй половины 20-х годов XX столетия на ежегодных ярмарках
можно было встретить приезжих «индусов», торговавших сладостями и специями,
показывавших фокусы и т.п. Кем были эти «индусы», сказать с достоверностью трудно, но
исключать их «индийское» происхождение, конечно, нельзя.
62 Кстати, Астрахань издавна рассматривалась как ключевой пункт предполагаемой и
реальной торговли с Индией, окном в Индию. Посылая в 1646 г. астраханского купца
Анисима Грибова в Бухару, царь Алексей Михайлович предписывал ему собрать
сведения об Индии и о наиболее подходящем пути от Астрахани до Индии. См.
Жуковский СВ. Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее трехсотлетие. Пг., 1915.
С. 17; Бартольа В.В. Указ. соч. С. 179; Уляницкий В.А. Указ. соч. С. 21-22; Гамаю-
новЛ.С. Указ. соч. С. 78-79, и др. Другим ключевым пунктом в XVIII в. был Оренбург,
см. Матвиевский П.И. О роли Оренбурга в русско-индийской торговле в XVIII в. //
История СССР. 1969. № 3 и др.
63 С 1720 г. индийские торговцы появляются уже в Петербурге, и в то же время есть
данные о том, что они добирались и до Архангельска (Астрахань-Архангельск), ср.
выше о «поморско-индийских» схождениях (кстати, еще в 30-х годах XVII в. русские
покупали индийские товары у англичан и притом в Архангельске). В 1723 г. Амбурам
Мулин просит Петра I разрешения «в Немецкие земли, также чрез Сибирь в Китай
ездить для торгов своих». См.: Русско-индийские отношения в XVIII в. Док. № 37.
64 Ср.: Малиновский Λ.Φ. Указ. соч.; Гольдберг U.C. Указ. соч.; Русско-индийские
отношения в XVII в.; Русско-индийские отношения в XVIII в.; Россия и Индия. С. 45-46,
49-53, 70-75, 301-304, и др., если говорить о трудах общего характера, и специально -
Павлов А. Об индийцах, водворившихся в Астрахани. Сочинение путешествовавшего
по России с 1824 по 1835 г. СПб., 1842; Палъмов H.H. Астраханские архивы (Образцы
материалов о национальностях). I. «Индейцы (индусы) в Астрахани по данным XVII и
XVIII вв., кончая 1843 г.» // Записки Института востоковедения. М., 1934. Т. 2.
Вып. 4. С. 161-162; Юхт A.M. Индийская колония в Астрахани (XVII-XIX вв.) //
Вопросы истории. 1957. № 3. С. 135-143; Овчинников Р.В. К истории индийской
торговой колонии в Астрахани // Народы Азии и Африки. 1962. № 4. С. 129-132, и др. -
Особый аспект «астраханской» темы - Хлебников. Поэт родился в Астраханской
губернии, жил в Астрахани. Но эта связь была не только биографической, но и
идеологической: Астрахань - не только перепутье великих культур, но узел, их связывающий;
она - окно в Индию, которая для русской словесности (в отличие от Астрахани,
очевидно) «какая-то заповедная роща», остающаяся почти неизвестной, а значит, и в
буддизм. «Родился 28 октября 1885 в стане монгольских исповедующих Будду
кочевников - имя "Ханская ставка", в степи - высохшем дне исчезающего Каспийского моря
... В моих жилах есть армянская кровь ... Принадлежу к месту Встречи Волги и
Каспийского моря (Сигай). Дно не раз на протяжении веков держало в руке весы дел
русских и колебало чаши» («Автобиографические заметки». И еще определеннее:
605
«Думалось, что у устья Волги встречаются великие волны России, Китая и Индии и
что здесь будет построен Храм изучения человеческих пород и законов
наследственности, чтобы создать скрещиванием племен новую породу людей будущих
насельников Азии, а проследование индусской литературы будет напоминать, что Астрахань -
окно в Индию» («Открытие народного университета»). «Присылаю вам лотос
Каспия, - пишет Хлебников 18 января 1915 г. из Астрахани М.В. Матюшину. -
Хорошо бы летом из Перми на особой беляне устроить поход Аргонавтов за лотосом
в Астрахань». Вид верблюда (типичная реалия тогдашней астраханской жизни)
приоткрывает поэту тайну буддизма - «Где верблюд, чей высокий горб лишен
всадника, знает разгадку буддизма» (Зверинец. 1909), ср. в письме Вяч.И. Иванову от
10 июня 1909 г.: «...и мне странно бросилась в глаза связь верблюда с буддизмом ...
Я в спокойном лице верблюда читал развернутую будийскую книгу». Подробнее см.
в другом месте.
65 Разумеется, эти примеры не были первыми (ср. о посланце Бабура в Москве в 1532 г.
и выше о Сутуре или об индийце, обучавшем Байера санскриту уже в 20-х годах
XVIII в.).
66 Портрет и сейчас экспонируется в краеведческом музее г. Касимова. См.
Полторацкий В. Касимовская история. Неделя. 1962. № 8.
67 Ср. князь Долгоруков П.В. Российская родословная книга. СПб. 1856. Ч. III; Списки
титулованным родам и лицам Российской Империи. СПб., 1892; Энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1898. Т. 48: «Порюс Визапурские»; Россия и
Индия. С. 122, 312. - Есть и еще одна категория случаев - русские «индийцы», но по
разным причинам (временным или локальным) в данной ситуации ими можно
пренебречь. Ср. князя Алексея Дмитриевича Салтыкова, побывавшего дважды в Индии, но
уже в 40-е годы, и являющегося автором интересных писем об Индии и из Индии и
художником, захваченным индийской темой; вернувшись в Россию, он старался
подчеркнуть свою «индийскость» в одежде и манерах; окружающие звали его
«Индейцем», «Русским Индейцем» (см. Русский биографический словарь. СПб., 1904. Т. 19.
С. 72-73); или «русских» индийцев в Индии - семейство Гревса, ранее придворного
врача Александра I, которое получило богатое наследство в Бомбее и должно было
переехать в Индию; их дом стал пристанищем для русских, оказывавшихся в Индии
(см. (Цикулин Д.И.) Необыкновенные похождения и путешествия русского крестяни-
на Дементия Иванова Цикулина в Азии, Египте, Восточной Индии с 1808 по 1821 год,
им самим описанные // Северный архив. СПб., 1825. № 8, 9; Грибоедов A.C. Собр. соч.
Пг., 1917. Т. 3. С. 110 (письмо Ф. Булгарину; Россия и Индия. С. 122, 312 и др.).
68 См. Каратыгин U.A. Записки. Л., 1929.-С. 264-265.
69 Сведения об этом индийце-ростовщике проникли и на страницы петербургской
газетной и журнальной периодики. И вообще, можно думать, что он был популярным
лицом, одной из достопримечательностей петербургской жизни того времени. -
Интересно, что ростовщичество было второй тайной профессией русских индийцев в XVII
и XVIII вв., причем этот ростовщический промысел расширялся, а проценты
становились все более высокими. «Индийцы-ростовщики давали в долг купцам разных
национальностей - калмыкам, татарам, русским горожанам - под залог огородов, дворов
или по кабальной записи, а также русским «хорошего положения» - помещикам,
полковникам и даже «высокому юридическому лицу» - Астраханской ратуше.
Интересно, что царская Россия поддерживала претензии индийцев в их тяжбах с русскими
должниками» (см. Россия и Индия. С. 73).
70 См. Коробка H.H. Оригинал ростовщика в Гоголевском «Портрете» //
Литературный вестник. СПб., 1904. Т. VII. Кн. 1. С. 20-23; ср. также Гоголь Н.В. Поли. собр.
соч. М., 1938. Т. 3. С. 671 (комментарии). Конечно, нужно помнить и о возможности
иных влияний, например, Scènes de la vie privée (1830), где есть повесть Бальзака
о ростовщике.
ДВЕ СТРАНИЧКИ ИЗ ИСТОРИИ
«ПЕТЕРБУРГСКО-ИТАЛЬЯНСКОГО» НЕКРОПОЛЯ
Марцио был первьм в моей жизни итальянцем, с которым я
познакомился лично, первым, в ком мне непосредственно открылось то, что
можно назвать «итальянскостью», первым, кого я полюбил. В первую же
нашу встречу в Москве, у меня дома, я услышал от него слова о смерти,
запомнив их и почувствовав их неслучайность для него, обостренное
прислушивание к знакам судьбы. Однажды солнечным, но ветренным
сентябрьским днем, возвращаясь с кладбища Донского монастыря, из окна
медленно ехавшего по Калужской троллейбуса я увидел Марцио,
идущего в том же направлении, но только еще медленнее, в красном шарфе
вокруг шеи, с развевающимися концами, и успел заметить то выражение
его лица, которое было мне знакомо уже по первой нашей встрече.
Конечно, я могу ошибаться, но мне трудно отделаться от мысли, что он
носил в себе предчувствие преждевременной смерти. Кажется, это был
последний раз, когда я видел Марцио. Осталась фотографическая карточка
Марцио, сделанная в 1989 г. в Венеции на Piazza S. Marco. На нем черный
шарф и красный свитер. Полуулыбка не может скрыть выражения
печали и, более того, ничем не устранимой горечи. Марцио на фото
неотделим для меня от Марцио, каким я увидел его из окна троллейбуса в
последний раз. Для автора этих строк тема смерти окрашивала все наши
встречи - от первой до последней.
Тема русско-итальянских связей обычно предполагает то, что имело
место по сю сторону смерти, прижизненно. Но если брать эту тему во всем ее
объеме, то она, конечно, продолжается во времени и в пространстве и
посмертно. И, может быть, подобная ситуация - прах итальянца, нашедший
свое последнее пристанище в России, и русские могилы в Италии - в каком-
то важном отношении имеет особое значение. Встреча человека с «чужой»
землей кладет на все печать окончательности, невозможности каких-либо
изменений и пересмотров. Кем бы ни был нашедший вечное упокоение в
«чужой» для него земле, становится ей с в о и м, и итальянские могилы в
России, как и русские в Италии, становятся общим достоянием и должны
быть особенно отмеченными уже в силу того, что здесь происходит своего
рода обмен «своего» на «чужое» или, точнее, то объединение того и
другого, которое и составляет существенную часть взаимодействия двух
традиций, их наследия, их ценностей. Но, конечно, этот обмен существенно
выходит за пределы пространства «культурных» русско-итальянских связей.
И этот аспект не должен быть упущен из вида, особенно когда речь идет об
«итальянском» некрополе в Петербурге.
607
Но был обмен и иного рода. Когда итальянцы, проживавшие в
Петербурге, женились на русских женщинах, принимавших итальянскую
фамилию мужа, «итальянский» круг расширялся за счет этнически русских
женщин, так или иначе социально, культурно, «фамильно»
итальянизировавшихся. Когда сестры, дочери, внучки петербургских итальянцев выходили
замуж за русских мужчин, подобным же образом и в подобном же
отношении «итальянский» круг сужался, а русский расширялся за счет
русифицирующихся этнически итальянских женщин. Оба направления этого обмена
хорошо представлены и в петербургской истории знаменитого рода Кавосов и
в «петербургско-итальянском» некрополе. Род Кавосов, давший ряд
выдающихся деятелей искусства и в России и в Италии1 и подробно (четверть
сотни персонажей) описанный в «Моих воспоминаниях» А.Н. Бенуа, мать
которого Камилла Альбертовна была урожденной Кавос, в замужестве Бенуа
(«французско-итальянский» обмен), дает немало примеров этого взаимного
итальянско-русского осмоса. Так, Екатерина Сергеевна Зарудная, ставшая
женой Евгения Цезаревича Кавоса («сына дяди Сезара»), стала в
замужестве Кавос, а Инна Цезаревна Кавос, дочь того же дяди Сезара, вышла замуж
за полковника Пашкевича и в замужестве усвоила себе его фамилию. И
подобные ситуации, особенно в связи с дочерьми дяди Сезара, были скорее
правилом, чем исключением. Так, другая его дочь Софья Цезаревна Кавос
вышла замуж «согласно свободному выбору» за известного в те времена
врача Владимира Гавриловича Дехтерева2 и стала в замужестве Дехтеревой.
Впрочем, и сам дядя Сезар женился на Софье, урожденной Мижуевой. Но
особенно колоритна была «бабушка Кавос» - Ксения Ивановна, ставшая
второй женой дедушки А.Н. Бенуа и страстной (видимо, до чрезмерности)
поклонницей всего итальянского, так сказать, «более итальянкой, чем сами
итальянцы» (и, пожалуй, ее муж)3. Таким образом, источником русского
«итальянизма» были не только сами итальянцы - носители итальянской
культуры, мод и вкусов, но и часть русских, уже воспринявших
«итальянское» от итальянских свойственников или друзей, не говоря об анонимном
влиянии тех или иных феноменов итальянской культуры - театр,
архитектура, скульптура, живопись, музыкально-вокальное искусство, уличные сценки
(шарманка, «Петрушка» и др.).
Смешанные итальянско-русские браки, где - главным образом -
«итальянское» представлено мужем, а «русское» - женой, отражают
соответствующие контакты и на материале текстов на надгробных памятниках
петербургского некрополя. Ср., например, могилу жены известного итальянского
скульптора Винченцо Мадерни, работавшего в Петербурге, на Смоленском
православном кладбище - Модерни Дарьи (урожд. Самсоновой), 1815-1855;
при этом можно думать, что носительница итальянской фамилии в
замужестве Дарья Самсонова сохраняла «русскую» (православную) веру. Таких
примеров по данным петербургского некрополя не так уж мало, хотя
многие данные утрачены и уже несколько десятилетий наблюдается тенденция
к сокращению примеров этого рода. Другая тенденция, исследование
которой составляет особую задачу, состоит в постепенном - от поколения к
поколению - уменьшению доли иноязычного, инонационального как в
данных, относящихся к петербургскому некрополю, так и в данных более
широкого демографического характера. То, что в XVIII - начале XIX в. высту-
608
пало как «чужое» в разных его вариантах (итальянском, французском,
немецком, английском и т.п.), во второй половине XIX в. существенно
русифицировалось как на ономастическом уровне, так и на общекультурном и на
уровне самосознания, как оно отражается в самоидентификации.
Следует особо напомнить, что потери в составе «итальянского»
некрополя в Петербурге особенно велики. Как известно, петербургские католики
долгое время не имели своего кладбища и пользовались протестантскими,
сначала Сампсониевским, позже Смоленским лютеранским и Волковским
лютеранским. К середине XIX в. положение стало критическим.
«Католическое» население Петербурга к этому времени перевалило за 30 тысяч, а
число ежегодных захоронений доходило до семисот4. Только в 50-е годы XIX в.
после многочисленных ходатайств было дано разрешение на открытие
Римско-католического кладбища на Выборгской стороне, в окраинной
уединенной части города, к тому же пользовавшейся дурной репутацией - так
называемое Куликово поле с холерным кладбищем. Собственно говоря, это
место было уже не самим городом, а городским выгоном. Неподалеку отсюда в
те же годы в доме вдовы Пшеницыной проводил свои дни Обломов, и по
роману можно отчасти составить представление об этом месте и характере
самой жизни, здесь протекающей5. Но за устройство кладбища взялись
энергично. К кладбищу провели дорогу, а самое территорию поделили на
прямоугольные участки, названные по именам католических святых.
Велика была роль в совершенствовании кладбища Н.Л. Бенуа. По его проекту на
кладбище воздвигли каменную часовню, дома для смотрителя кладбища и
священника, другие служебные постройки. Несколько позже часовню
превратили в костел. Спустя некоторое время Н.Л. Бенуа пристроил к часовне
башню-колокольню. Роспись стен храма осуществил А.И. Шарлемань. На
рубеже XIX и XX вв. в землю этого кладбища лег прах Н.Л. Бенуа и
А.И. Шарлеманя. В ней же нашли себе упокоение и многие другие
известные люди - иностранцы и русские, католики и православные. Кладбище
было богатым и, как сейчас сказали бы, престижным, и к началу XX в. мест для
новых захоронений почти не осталось. Перед Первой мировой войной
появилось предписание прекратить захоронения на Выборгском
Римско-католическом кладбище и перенести их на католическое отделение Успенского
кладбища. Но в мае 1939 г. было принято решение о полной ликвидации
кладбища, и, по советскому обычаю, планировалось на месте кладбища
разбить парк, что, к счастью, не осуществилось, хотя и без этого кладбище
перестало существовать (не прошло и трех десятков лет, как «удовольствия
ради» да и потому, что осталось так мало греков в Ленинграде, что мы
сломали Греческую церковь, чтобы воздвигнуть на ее месте убогий концертный
зал «Октябрьский»). Лишь четыре захоронения (певицы А. Бозио,
художников Ф.А. Бруни и Л.О. Премацци и генерала К.К. Данзаса, секунданта на
пушкинской дуэли, - трое первых итальянцы) удалось перенести в
Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры. Костел был отдан под
производственные цеха, доступ к нему и к окружающему его пустырю, где
практически ничего не осталось, для «посторонних» практически закрыт.
«Католическому», в частности, и «итальянскому» некрополю Петербурга
нанесен непоправимый урон, и то, что по крупицам приходится собирать
теперь, составляет лишь ничтожную часть всего «католического» некрополя
20. В.Н. Топоров
609
и специально - «итальянского». Не одна сотня «итальянских»
захоронений утрачена окончательно; кое-что можно восстановить по данным
четырехтомного «Петербургского некрополя» (I-IV. СПб., 1912-1913),
связанного с именами В.И. Саитова и Великого Князя Николая
Михайловича. То, что этот труд был издан в последний год существования мирной
России, заставляет видеть в этом явление безусловно провиденциальное.
Появление несколько раньше (1907-1908) «Московского некрополя»
свидетельствует о том, что старая Россия успела отслужить вечную память
по своим мертвецам.
Как только омрачение советских «окаянных» дней обнаружило первые
признаки своего исчезновения, проявилось весьма своевременное и ценное
издание «Исторические кладбища Петербурга. Справочник-путеводитель»
(СПб., 1993). В нем собраны данные о шести-семи десятках «итальянских»
захоронений6. По наблюдениям автора этих строк эти данные можно было
бы расширить еще на несколько десятков за счет не попавших в данное
издание «итальянских» захоронений. Обращение к «Петербургскому
некрополю» и некоторым другим источникам позволяет еще более существенно
раздвинуть состав «итальянско-петербургского» некрополя - важная и
полезная работа, которая могла бы объединить российских и итальянских
исследователей и дать надежду на существенно новую картину в этой области.
Конечно, подавляющее большинство итальянских захоронений в
петербургском некрополе исчезло. Не случайно, что известные захоронения
преимущественно связаны с выдающимися деятелями архитектуры,
скульптуры, живописи, музыкально-вокального искусства и т.п. и/или
представителями отмеченных итальянских родов и семейств. Практически ничего не
известно о самом обширном слое захоронений. Куда делись в Петербурге
могилы итальянских шарманщиков, странствующих комедиантов, уличных
певцов, рыцарей удачи, надеявшихся достичь благополучия, мелких
торговцев, учителей музыки и пения, преподавателей итальянского (если только
ему не обучали императрицу Елизавету Петровну)!
Но, подступая к теме «итальянского» некрополя в Петербурге, нужно
напомнить о разнообразных отражениях в нем «итальянского». Оно
предполагает и умерших и погребенных в Петербурге итальянцев (коренных или
по свойству), и «мастеров» разных специальностей и уровней -
архитекторов, скульпторов, художников, обработчиков камня и резчиков, лепщиков и
т.п.7, и тех, кто, умирая, пополнял «семейные» участки захоронений и тем
самым невольно способствовал расширению родовых локусов «итальянских»
захоронений. Наконец, к «итальянскому» слою нужно отнести и
захоронения тех русских людей, которые жили и/или скончались в Италии, но чей
прах был перенесен в землю Петербурга или же остался на кладбищах
Рима, Венеции или Флоренции.
Сказанное до сих пор имеет непосредственное отношение к теме
«итальянско-русских» встреч в «посмертном» времени, к тому общему и разному,
что, объединяя, разъединяет и, разъединяя, объединяет, конкретно - те «две
странички», два портрета безвременно усопших людей, которые важны не
только как иллюстрация некоей общей ситуации, но и в сугубо
индивидуальном, личном ракурсе.
610
Речь пойдет о знаменитой итальянской певице Анжеле (Анджолине)
Бозио, чья смерть потрясла и многих ее современников (может быть, прежде
всего в России, где кончились ее дни), и наиболее чуткого к тайне ее
обаяния и трагичности ее конца человека, родившегося через три с лишним
десятилетия после ее гибели и, следовательно, никогда не видевшего и не
слышавшего ее, но, кажется, понявшего в ней главное и усвоившего себе эту
смерть как некое страшное и судьбоносное наследие, как урок, как
собственную парадигму, и о мало кому известном молодом человеке, если не
считать его родителей, родственников, знакомых, может быть, друзей, если
только они были, Дмитрии Михайловиче Иванове.
В их судьбе много общего, но не меньше и разного, даже
противоположного. Общее - обмен родины, в узком смысле - места рождения, на «чужое»
место смерти, встреча в собственной их судьбе Италии и России, единое
место упокоения их праха. И еще то, что и она и он умерли совсем молодыми.
Вся жизнь Анджолины Бозио на виду, о ней известно многое, неизмеримо
больше, чем о Дмитрии Михайловиче, о котором известно, кажется, лишь
то, что сказано о нем в надписи на могильном памятнике. Знай мы о нем
больше, может быть, нашлось бы и еще что-нибудь общее (например,
предполагаемый общий трагизм безвременно оборвавшейся жизни), но это
знание едва ли что-то прибавило бы: и того, что известно, достаточно, чтобы
понять, что все остальное было разным. Жаль, пожалуй, лишь того, что мы
не знаем, слышал ли он вообще о Бозио и ее судьбе и, если слышал, то
нашелся ли в его душе отклик на услышанное, узнанное. Разного между
ними было, конечно, больше, но общее-с некоей метафизической
точки зрения - было, представляется, в а ж н е е, и их встреча,
реконструируемая как некая объективная реальность, напоминающая о чем-то в духе
«третьего» мира Карла Поппера, могла иметь место в этом мире и потому в
известном смысле была, хотя бы уже в силу того, что кто-то вообразил эту
встречу, свел ее участников в особый хронотоп, где топос был реальным в
самом тривиальном смысле, а хронос растянулся на шесть десятков лет,
сколько и было бы Бозио, доживи она до последних лет жизни Дмитрия
Михайловича Иванова.
Для обретения этой реальности «третьего» мира и неотделимого от
этого субъективного переживания ее нужно как минимум оказаться в
том двуедином локусе, где находятся эти две могилы, и прочитать то, что
написано на могильных памятниках. Решение обеих этих задач не составляет
труда. Обе могилы находятся на территории Александро-Невской лавры, но
каждая на своем кладбище - могила Д.М. Иванова в начале северной трети
Никольского кладбища (к северу от Никольской дорожки), поблизости от
церкви, почти на берегу «аглицкой» речки, на 4-й дорожке. За могилой,
метрах в четырех по направлению к «речке» - старый клен. Перед могилой -
тылом к ней - богатое пышное архитектурное надгробие, Алексея
Сергеевича Суворина (1834-1912), известного издателя и журналиста (3-я
дорожка); на надгробии раньше был бюст покойного работы Л.А. Бернштама,
1891 г. (теперь - в Государственном музее городской скульптуры). Могила
Анжелы Бозио находится в Некрополе мастеров искусств (ранее -
Тихвинском, первоначально - Ново-Лазаревском кладбище) на 2-й поперечной
дорожке, идущей в направлении к Монастырке. Прах и памятник были пере-
20*
611
несены сюда с Выборгского Римско-католического кладбища в 1939 г.
Между обеими могилами расстояние не превышает 200 метров; между ними
протекает Монастырка, и Некрополь расположен к северо-западу от
Никольского кладбища. Все четыре кладбища Александро-Невской лавры
несмотря на их отгороженность друг от друга и четкие границы
воспринимаются как некое совокупное кладбищенское пространство, хотя каждое из
составляющих его подпространств имеет свою специфику. Но могилы
Бозио и Д.М. Иванова объединяются общей идеей безвременной смерти,
идеей, подкрепленной мотивом трагической итальянско-русской встречи
и некиим акцентом на «художественном». Нужно быть совсем
невнимательным, чтобы не заметить это единство, не определить его характер, не
почувствовать общий нерв, объединяющий эти два могильных локуса8.
Поскольку более подробное описание двух этих локусов отсутствует
(особенно это относится к могиле Д.М. Иванова; надмогильный памятник
Анжелы Бозио по крайней мере не раз воспроизводился на фотографиях и
все-таки в большей степени описан), уместно заполнить здесь этот пробел.
Надмогильный памятник Дмитрия Михайловича Иванова представляет
собой довольно высокий беломраморный столп-колонну (не из каррарского
ли мрамора?) с плоским горизонтальным навершием. Поверхность колонны
тонко прорезана изображениями крестов, расположенных по вертикали, но
таким образом, что нижний конец крестов одного ряда по горизонтали
доходит до уровня крестовины в параллельном соседнем вертикальном ряду.
Вместе с тем центры всех крестов соединены идущей снизу вверх прорезанной
линией, что в целом создает впечатление оригинальности, изысканности,
определенной художественной тонкости и, если не бояться на первый взгляд
рискованных определений, некоей «итальянское™», во всяком случае в
восприятии человека, прочитавшего надписи на памятнике. Столп-колонна как бы
концентрирует в себе со всей ненавязчивостью и тонкостью художественное
изобразительное начало: прямоугольный в сечении и достаточно высокий
постамент, как бы соотнесенный с округлостью колонны, несет
информационную функцию. Передняя и обе боковые грани образуют «т е к с т»
памятника, состоящий из двух частей - «формальной», почти анкетной, без которой
памятник нем, и той, которая пытается определить смысл человека в свете
его кончины, сам дух происшедшего, как он воплощается в слове тех, чья
любовь к ушедшему не подвержена изменениям. Эта вторая часть текста как
бы не для всех, но только для сочувственников, и потому она скромно уходит
в сторону, на боковые грани пьедестала. Первая же часть не боится быть
нескромной: у нее нет ни места, ни времени для чего-либо лишнего -
Дмитрш Михайловичъ
ИВАНОВ
Род. в Рим-Ь 21 Сентября 1874
Ум. въ Петербурга 14 марта 1893
Толцыте и отверзетсА вамъ!
Последняя фраза - обетование истины, если вы достойны ее. Совсем
иное на боковых гранях пьедестала. Слева (с точки зрения стоящего
перед могильным памятником) - надпись по-русски:
612
Онъ на зар-Ь расцв-Ьлъ, как утренш цв-Ьтокъ
И жизнь едва узнавъ, он на зар-Ь поблекъ
И справа по-итальянски -
Mai figlio fu più amoroso di te,
Mai Dio dono tante virtù come ate.
Che Dio ti benedica figlio adorato!
Разное, но по сути дела об одном и том же, с тем же чувством, которое
превращает прозу в стихи и нейтральное в художественное. Горечь и
надежда на благословенье Бога - tante virtù о таких добродетелях, среди
которых, вероятно, был и дар творчества. Если бы этот памятник и эти тексты
на нем не сохранились, многое в человеческом (humanitas) было бы
потеряно. Спасибо за слово, что aère perennius. Оно единственный и уже только
поэтому последний свидетель о юноше, ушедшем на заре его жизни. -
См. иллюстрации на с. 617.
В отличие от Дмитрия Михайловича Иванова о ней было сказано много
слов - и до смерти, и сразу же после нее, и много позже. Ее вспоминали, в
частности, и в прошлом году9. Память о ней самой многократно была
усилена свидетелями ее явления - и очными, и заочными, услышавшими о ней от
очных свидетелей и усвоившими себе ее образ как он сложился в восприятии
русского театрального зрителя и как он был развит воображением людей с
глубокой интуицией и/или фантазией.
Судьба была благосклонна к Анджолине Бозио, случай не такой уж
редкий, но все-таки не исключительный. Она родилась в Турине в бедной семье
странствующего комедианта (basso comico), и атмосфера искусства не могла
не окружать ее с детства. Поэтому и ее тяге к искусству не приходится
удивляться. К тому же, с успехами в искусстве пения связывалась и надежда
выбраться из бедности - случай не одной итальянской девочки, мечтавшей об
этом и иногда дождавшейся осуществления этой надежды. У нее оказался
опытный учитель В. Каттанео, и уже в 16 лет она взошла на театральные
подмостки, сначала в Милане, а вскоре и в Париже, и в Мадриде, и в
Лондоне, и в Нью-Йорке. Не заставил себя ждать и Петербург, внимательно
следивший за европейским театральным, особенно оперно-вокальным
«рынком». В 1855 г. Бозио уже в Петербурге. Четыре сезона (зимних) она прима
Императорской оперы и выступает в «Севильском цирюльнике»,
«Риголетто», «Дон Паскуале», «Фра Диаволо», «Пуританах», «Травиате» и других
операх. «Травиата» стала апогеем ее оперного искусства и стала ее судьбой.
В конце театрального сезона 1858-1859 гг. она простудилась. Ее
неправильно лечили, и 12 или 13 апреля 1859 г. она умирает от воспаления легких. Ее
смертельная болезнь прочно вошла в контекст «Травиаты», и
восторженные поклонники певицы тотчас же связали одно с другим, жизнь с
искусством, выдумку с реальностью. Локусом этого мифа «Бозио», почти
неотделимого от «правды» (Dichtung und Wahrheit), был, конечно, Петербург, хотя
Бозио бывала и в Москве, и еще в 1856 г., в дни коронации Александра II,
она участвовала в спектакле открытого вновь после пожара Большого
театра. Север, снега, грубые, резкие ветры похищают молодую, нежную,
прекрасную певицу - цветок ее жизни съежился, поблек, увял и погиб, как ска-
613
зано о Дмитрии Михайловиче Иванове в его эпитафии. Эта ситуация не
прошла бы мимо петербургской публики, даже если бы Бозио не была
замечательной певицей, украшением русской оперной сцены в тяжелых условиях
сразу же после поражения России в Крымской войне, в которой итальянцы
были на стороне противника. Но у нее был подлинный талант, может быть,
Божий дар, как считали многие, и тем горше воспринималась эта утрата. Не
следует забывать, что Анджолина Бозио была к тому же прекрасна,
открыта людям, демократична. Она знала, что такое бедность, и охотно и часто
выступала в пользу «недостаточных» студентов в благотворительных
концертах. Двери ее салона также были широко открыты для многих
почитателей ее искусства. 21 февраля 1859 г. она получила звание «солистки Его
Величества» и золотую медаль с бриллиантами и надписью «За усердие».
В России ей везло: недостатка в приглашениях на годы вперед не было. И,
собственно, смерть ее была до нелепости случайной. Воспользовавшись
Великим постом, она побывала в Москве, и на возвратном пути поссорилась со
своей подругой по сцене де Мерик-Лаблаш, перешла в другой, на этот раз
неотапливаемый вагон и схватила смертельную болезнь. Петербургская
публика осталась осиротевшей, она оплакивала эту потерю, но наиболее
наблюдательные и компетентные люди в России, которые не могли и
предполагать такого конца, сразу же заметили и выделили Бозио среди других10.
Похороны Анджолины Бозио, как нередко бывает в России, приобрели
неожиданно мощное общественное звучание. Народу на похоронах, в
частности, студенчества, было очень много. Начальство поспешило испугаться и
согнало множество полицейских, появление которых было встречено
криками «Долой полицию!». Оберполицеймейстер Шувалов вынужден
отступить. И эта реалия, принявшая столь неожиданный ракурс, была, кажется,
увидена Бозио еще за месяц до этого во сне - весь состав Итальянской
оперы поет Реквием, она хочет присоединиться, но не может... Как бы то ни
было, но похоже, что Бозио перед смертью поняла ошибочность своих планов
остаться в России и предчувствие смерти уже угнездилось в ее сознании.
Расставание с Бозио было очень теплым и прочувствованным: так или иначе
она вошла в русскую культуру, и «российский» эпизод ее жизни стал одним
из символов «русско-итальянской» встречи, взаимного тяготения двух
культур и двух народов.
О смерти Анджолины Бозио много писали и в газетах, и в журналах, и в
переписке, и в художественной литературе. На нее откликнулся Н.Г.
Чернышевский. Тургенев в письме к И.А. Гончарову от 7(19) апреля 1859 г. из
Спасского писал: «А впрочем, довольно об этом. Вся эта возня ни к чему не
ведет: все мы умрем и будем смердеть после смерти. Здесь у нас наступила
весна, снег сошел почти весь, но как-то некрасиво, безжизненно. Дни
сырые, холодные, серые, поля обнажились и желтеют мертвенной
желтизной... Сегодня я узнал о смерти Бозио и очень пожалел о ней. Я видел ее
в день ее последнего представления: она играла "Травиату"; не думала она
тогда, разыгрывая умирающую, что ей скоро придется исполнить эту роль
не в шутку. Прах, и тлен, и ложь - все земное».
Спустя шесть лет, описывая жестокие петербургские морозы в
стихотворении «О погоде» (вторая часть), вспомнил Некрасов и жертву их Анд-
жолину Бозио, встречу «полуденной» итальянской «розы» с русским моро-
614
зом, которая уже содержательно, жизненно, бытийственно связала розы и
морозы, как связаны они в соответствующей избитой рифме (кстати,
воспроизводимой у самого Некрасова):
Самоедские нервы и кости
Стерпят всякую стужу, но вам,
Голосистые южные гости,
Хорошо ли у нас по зимам?
Вспомним - Б о з и о. Чванный Петрополь
Не жалел ничего для нее.
Но напрасно ты кутала в соболь
Соловьиное горло свое,
Дочь Италии! С русским морозом
Трудно ладить полуденным розам.
Перед силой его роковой
Ты поникла челом идеальным,
И лежишь ты в отчизне чужой
На кладбище пустом и печальном.
Позабыл тебя чуждый народ
В тот же день, как земле тебя сдали,
И давно там другая поет,
Где цветами тебя осыпали.
Там светло, там гудит контрабас,
Там по-прежнему громки литавры.
Да! на севере грустном у нас
Трудны деньги и дороги лавры!
Но по существу судьбу Бозио глубже всего увидел и пережил
Мандельштам, возвращаясь в «Египетской марке» (1928) к ретроспекции мира своих
детских воспоминаний: «За несколько минут до начала агонии по Невскому
прогремел пожарный обоз. Все отпрянули к квадратным запотевшим
окнам, и Анджолину Бозио - уроженку Пьемонта, дочь бедного
странствующего комедианта - basso comico - предоставили на мгновение самой себе.
Воинственные фиоритуры петушиных пожарных рожков, как
неслыханное брио безоговорочно побеждающего несчастья, ворвалось в плохо
проветренную спальню демидовского дома. Битюги с бочками, линейками и
лестницами отгрохотали, и полымя факелов лизнуло зеркала. Но в
потускневшем сознаньи умирающей певицы этот ворох горячечного казенного
шума, эта бешеная скачка в бараньих тулупах и касках, эта охапка
арестованных и уводимых под конвоем звуков обернулась призывом оркестровой
увертюры. В ее маленьких некрасивых ушах явственно прозвучали
последние такты увертюры к "Duo Foscari", ее дебютной лондонской оперы...
Она приподнялась и пропела то, что нужно, но не тем сладостным
металлическим, гибким голосом, который сделал ей славу и который хвалили
газеты, а грудным необработанным тембром пятнадцатилетней девочки-
подростка с неправильной, неэкономной подачей звука, за которую ее так
бранил профессор Каттанео.
"Прощай, Травиата, Розина, Церлина..."».
Но можно предположить, что приближение поэта к этой теме и
разыгрываемой ею идее началось раньше, хотя сама тема могла
привязываться к иным образам, вероятно, с 1916 г.; ср.: Мне холодно. Проз-
615
рачная весна / В зеленый пух Петрополъ одевает... (1916); / В Петропо-
ле прозрачном мы умрем, / Где властвует над нами Прозерпина... (1916);
Еще далеко асфоделей / Прозрачно-серая весна... (1917); На страшной
высоте блуждающий огонь... (1918) (с дальнейшими мотивами
Прозрачной весны над черною Невой и умирания) и т.п., и оформляется в 1920 г.,
когда «ночная» тема умирания, конца получает поддержку и в обращении
к «итальянской» теме, ср.: «В е н и ц е й с к о й жизни мрачной и
бесплодной...», «Мне жалко, что теперь зима...» (см.: В тебе все дразнит, все
поет, I Как итальянская рулада...), Ничего, голубка, Эвридика, / Что у
нас студеная зима. / Слаще пенья итальянской речи / Для меня
родной язык... («Чуть мерцает призрачная сцена...»). Характерно также
обращение к образу ласточки: Слепая ласточка бросается к ногам /
С стигийской нежностью и веткою зеленой («Когда Психея-жизнь
спускается к теням...»); Слепая ласточка в чертог теней вернется... /
То мертвой ласточкой бросается к ногам... («Я слово позабыл,
что я хотел сказать...»); И живая ласточка упала / На горячие
снега... и т.п. Но уже и после «Египетской марки» в 1930 г., защищаясь от
наседавшей писательской своры, как последний свой довод он упоминает
имя Бозио - «Нет, уж позвольте мне судиться!.. То, что было прежде,
только увертюра. Сама певица Бозио будет петь в моем
процессе». Она - в конечном счете - тот «блаженный, певучий притин»,
откуда К нам летит бессмертная весна, / Чтобы вечно ария звучала: / Ты
вернешься на зеленые луга, / И живая ласточка упала / На горячие
снега». Круг замкнулся. Образ Бозио, ее пения, ее голоса, ее связи с
«бессмертной весной» - вот высший предел, который был достигнут русской
литературой в символическом осмыслении образа итальянской певицы,
вошедшей навсегда в наше культурное пространство и в само сознание
людей этого пространства.
О самом надмогильном памятнике Бозио, прошедшем через 80 лет
после того, как он был установлен на Выборгском Римско-католическом
кладбище, вместе с останками покойной, через новые мытарства, уже
говорилось. Сейчас памятник не впечатляет: тяжеловат, громоздок,
неважно структурирован, но богат. Полтораста лет назад его, конечно,
оценивали иначе, выше, чем теперь. Конечно, и сейчас сохраняет свою
цену «официальная» надпись на высоком постаменте, хотя и сбивает
несколько с толку: перед нами некто Ксиндавелонис, фамилия по мужу,
и что мадам Ксиндавелонис еще и Бозио, сообщается лишь на втором
месте, в сильно затянутом и производящем впечатление многословия
тексте. Выделить стоит, пожалуй, бюст Бозио (бронза) работы П. Коста
(Флоренция) и французское стихотворение, вполне среднего вкуса,
в духе поэтики надмогильных текстов, но сейчас, в свете открытого
русской культурой в образе Бозио иной глубины, стихи кажутся не
соответствующими той, чей прах лежит под памятником. Но, конечно,
нельзя исключать ни того, что в «русском» образе Анджолины Бозио
много фантазий, желаемого, идеализированного, ни того, что самой
покойнице стихи понравились бы. Поэтому, чтобы не отклоняться от
факта, эти стихи:
616
Elle avait tout ce qu'on envie;
Elle reçut tout en naissant.
Tout, excepté la longue vie,
Elle est morte en la commençant!
La mort, jalouse de la gloire,
Brisant un avenir si beau,
N'ensevelit pas sa mémoire
Sous le marbre de ce tombeau.
Elle n'est plus, sa gloire reste;
Dieu le veut, respectons ses loix;
Dans les anges du choeur céleste
Il manquait, sans doute, une voix!
617
1 История Кавосов рассматривается в «Моих воспоминаниях» А.Н. Бенуа (М., 1980.
Кн. 1.4. 1. С. 33 и ел. - гл. 5: «Предки с материнской стороны») начиная с XVII в.,
когда какой-то Кавос, кажется, каноник одной из главных церквей Венеции, сделал
щедрый дар библиотеке Сан-Марко, а прапрадед А.Н. Бенуа Джованни (видимо, Аль-
берто Джованни) Кавос был директором театра «Фениче». Особо выделяет воспоми-
натель сына этого Кавоса Катарино Камилла (Альбертовича) Кавоса, с детства
обнаружившего необыкновенные музыкальные способности и сочинившего для театра в
Падуе балет «Сильфида», а после падения Республики оказавшегося в Петербурге,
ставшего там «директором музыки», написавшего множество опер, балетов и
симфонических сочинений и опередившего Глинку в обращении к теме Ивана Сусанина. Из
сыновей этого прадеда Кавоса А.Н. Бенуа выделяет младшего Джованни Катарино-
вича, двоюродного деда, избравшего своей профессией музыку и состоявшего одно
время помощником отца А.Н. Бенуа в опере, и особенно старшего - Альберта Ката-
риновича, деда воспоминателя, окончившего математический факультет Падуанско-
го университета, составившего уже в Петербурге себе имя как специалист по
постройке театральных зданий («необычайно просторный воздушный зал Мариинско-
го театра», зрительный зал петербургского Большого театра и сходный зал
одноименного театра в Москве) и автор соответствующего фундаментального труда
«Traité de la construction des théâtres. Ouvrage contenant toutes les observations pratiques sur
cette partie de la architecture (Paris; Saint-Pétersburg, 1847), увлекавшийся
коллекционированием предметов искусства, ставшем страстью и его внука Александра
Николаевича Бенуа (ср. описание в «Моих воспоминаниях» дома деда в Венеции на Canale
Grande, ставшего настоящим музеем (указ. соч., кн. I, ч. 1, гл. 5. С. 37).
2 Софья Цезаревна Дехтерева (урожд. Кавос) завела в своем доме, украшенном
венецианскими зеркалами из палаццо отца и портретами Беллоли, нечто вроде
литературно-художественного салона, в котором равно можно было слышать и пение
знаменитой Ферни Джермано и чтение стихов Якова Петровича Полонского. Этот
пример частного «итальянско-русского» культурно-художественного синтеза отразился,
видимо, и на воспитании и образовании трех сыновей Софьи Цезаревны Дехтеревой-
Кавос, которые «росли, как все "кавосята", прехорошенькими». При всем этом
А.Н. Бенуа выражает сомнение в том, что Софья Цезаревна «могла страстно и
нежно любить этого громоздкого, неотесанного бородача, каким был ее супруг» (Указ.
соч., кн. I, ч. 1). Но с большей определенностью можно говорить об ироническом и
даже критическом отношении к Владимиру Гавриловичу Дехтереву и его
«народническим» идеалам самого А.Н. Бенуа и особенно его друзей - Димы Философова и
Сережи Дягилева.
3 Рассказывая в своих воспоминаниях о случайном, но весьма романтическом
знакомстве своего деда с «писаной красавицей», которую, проходя по одной из линий
Васильевского острова, он увидел в окне нижнего этажа занимающейся шитьем, и
будучи человеком предприимчивым, тотчас же заказал сшить ему дюжину сорочек, тут
же внеся крупный задаток. Через месяц Ксении Ивановне было сделано
предложение, которое и было благосклонно принято. «После свадьбы молодые тотчас же
уехали за границу, и несомненно именно то обстоятельство, что масса совершенно
новых впечатлений сразу же нахлынула на юную (ей было лет семнадцать) Ксению
Ивановну, что эти впечатления сочетались с самыми счастливыми моментами ее
жизни, с истинным "медовым месяцем", проведенным в обществе молодого, красивого и
блестящего человека, это обстоятельство (это стечение обстоятельств) произвело то,
что Италия получила для этой простой русской
девушки значение какой-то обетованной земли и
чуть что не рая земного. Этому культу Италии и всего итальянского
мадам Кавос осталась затем верной на всю жизнь. Ни малейшей критики Италии она
в своем присутствии не допускала. Все там было безоговорочно прекрасно - и
местности, и здания, и картины, и статуи, и люди, и нравы и, разумеется, музыка.
Прекрасны Рим, Неаполь, Флоренция, но все же прекраснее всего была Венеция - родина
мужа, где она оказалась хозяйкой очаровательного дома насупротив божественной
618
Салуте» {Бенуа А.Н. Указ. соч., кн. I, ч. 1, гл. 6: «Бабушка Кавос», с. 39). - «Дед мог
вполне гордиться своей "находкой", а о том, что он совершил своего рода мезальянс,
все со временем забыли. Когда подросла и стала выезжать моя мать, то "бабушка",
хотя и казалась почти одних лет с ней, с большим тактом и с подобающей
сердечностью играла роль опекающей, а у себя дома она умела и принять, и угостить и занять.
Тут пришелся кстати ее столь быстро усвоенный "итальянизм". Это создало ей в те
дни бешеного увлечения итальянской музыкой и итальянской оперой особый ореол.
Она перестала быть петербуржанкой, а превратилась в какое-то своеобразное
подобие чужестранки, а ведь еще со времен Петра за иностранцами сохранялось в
столице до некоторой степени привилегированное положение» (Там же, с. 40). - Поэтому
не случайно, что «вдова дедушки Кавос и после его смерти продолжала занимать
видное положение в нашем семейном кругу, ей же было уделено самое почетное место в
домашних торжествах. Все ее обожали, и не только "линия Кавос", но и "линия Бе-
нуа". Между тем она не была родной бабушкой в прямом смысле - "бабушка Кавос"
была второй женой дедушки» (Там же, I, 1,6, 38).
4 См. Исторические кладбища Петербурга. Справочник-путеводитель. СПб., 1993.
С. 561, ср. ЦГИАЛ. Ф. 800. Оп. 2. Д. 1. Л. 2.
5 Ср.: «И на Выборгской стороне, в доме вдовы Пшеницыной, хотя дни и ночи текут
мирно, не внося бурных и внезапных перемен в однообразную жизнь, хотя четыре
времени года повторили свои отправления, как в прошедшем году, но жизнь все-таки
не останавливалась, все менялась в своих явлениях, но менялась с такою медленною
постепенностью, с какою происходят геологические видоизменения нашей планеты:
там потихоньку осыпается гора, здесь целые века море наносит ил или отступает от
берега и образует приращение почвы» («Обломов», часть четвертая, I).
6 См.: Исторические кладбища Петербурга - Адамини Анна (урожд. Визлер),
1799-1867 - стела с акротериями и фронтоном, надпись на итальянском, 294 (Смол, лю-
тер. кл.); Адамини Антонио, 1794-1848, архитектор, гранитная стела, надпись на
итальянском, 294 (Там же); Адамини Елизавета, t 1835, 29 лет; гранитная стела, надпись на
итальянском, 294 (Там же); Альбертини Николай Викентьевич, 1826-1890, публицист;
гранитная плита, 387 (Новодев. кл.); Антонелли Дмитрий Иванович, 1791-1842,
живописец, портретист, академик (Смол, правосл. кл.); Бианки Виталий Валентинович,
1894-1959, детский писатель; скульптурное надгробие, 499 (Богосл. кл.); Бианки
Валентин Львович, 1859-1920, отец В.В. Бианки, 484 (Шувал. кл.); Бозио Анжела (в
замужестве - Ксиндавельнис), 1829-1859, певица, 188 (Некроп. мает, искусств); Бианки Лев,
1827-1911, дед В.В. Бианки; гранитный постамент, 484 (Шувал. кл.); Бренна София
Винченца, 1797-1799, дочь архитектора В. Бренна; мрам. обелиск со скульптурным
декором, 368 (Волк, лютер. кл.); Бруни Анжелика Антоновна (урожд. Серии), 1811-1881,
жена Ф.А. Бруни; мрам. стела-крест, 189 (Некроп. мает, искусств, до 1936 г. - Выборг,
катол. кл.); Бруни Александр Константинович, 1825-1915, академик архитектуры, 516
(Северн, кл.); Бруни Николай Александрович, 1856-1935, художник, мозаичист, сын
арх. А.К. Бруни; бетонн. раковина с крестом, 258 (Смол, правосл. кл.); Бруни Федор
Антонович, 1799-1875, художник, муж A.A. Бруни, 189 (Некроп. мает, искусств); Вен-
драмини Лев Францевич, 1812-1857, архитектор, академик, 296 (Смол, лютер. кл.); Вен-
драмини Франсуа, 1780-1856, видимо, отец Л.Ф. Вендрамини; гранитный крест на
круглом постаменте, 296 (Там же); Висконти Александр, 1810-1855; мрам. жертвенник,
скульптура плакальщицы, сброшена с постамента, 369 (Волк, лютер. кл.); Висконти
Александр Александрович, 1839-1888, генерал-майор; гранитный жертвенник, 369
(Там же); Висконти Давид, 1772-1838, архитектор, надворный советник; гранитный
постамент с гербом, завершение утрачено, 369 (Там же); Висконти Давид Александрович,
1872-1902, возможно, внук предыдущего, 369 (Там же); Висконти Евгений, 1817-1841;
гранитный жертвенник с гербом, 369 (Там же); Висконти Марсалий Александрович,
1874-1896; гранитная каплица, семейное место Висконти, 369 (Там же); Витали Иван
Петрович, 1794-1855, скульптор, 189 (Некроп. мает, искусств); Витали Карл Иванович,
1843-1879, сын предыдущего; мрам. бюст на постаменте, 189 (перенесено с Волк,
лютер. кл. в 1936 г.); Галотти Фердинанд, t 1842, 49 лет; гранитный постамент; ваза пере-
619
несена в парк Петергофа, 297 (Смол, лютер. кл.); Гуцци Мария Степановна, 1752-1817,
камер-фрейлина; архитект. надгробие с надписью на греческом, 142 (Лазар. кл.);
Данный Эмилий Камиллович, 1882-1909, педагог, племянник архит. С.А. Данини, 518
(Северн. кл.); Де Роберти Евгений Валентинович, 1843-1915, философ, социолог, 336 (Ли-
терат. мостки); Занетти Тулио Иосифович, 11906, профессор пения, 564 (Католич. кл.);
Кавос Альберт Катаринович, 1810-1865, архитект., академик; мрам. крест, на
постаменте, 370 (Волк, лютер. кл.); Кавос Джованни, 1805-1861, музыкант; мрам. постамент,
крест утрачен, 370 (Там же); Кавос Катарино Альбертович, 1775-1840, композитор;
мрам. крест на постаменте, 191 (Некрополь мает, искусств; перенесено с Волк, лютер.
кл. в 1936 г.); Кавос Цезарь Альбертович, 1824-1883, архитект., академик; мрам. крест
на постаменте, семейное место, 370 (Волк, лютер. кл.); Квадри Виктор Викторович,
1861-1908, генерал-майор, военный писатель; гранитный крест на постаменте, 205 (Ни-
кольск. кл.); Кваренги Джакомо, 1744-1817, архитектор; полуколонна с урной на
постаменте, 145 (Лазар. кл., перенесено с Волк, лютер. кл. в 1967 г.); Корнелли Александра
Алексеевна, 1890-1934, актриса, режиссер; гранитный обелиск, 206 (Никольск. кл.);
Лагорио Лев Феликсович, 1827-1905, художник, пейзажист, 383 (Новодев. кл.); Литта
Екатерина Васильевна, графиня (урожд. Нарышкина), 1761-1829, в первом браке жена
графа П.М. Скавронского, во втором - вице-адмирала графа Ю.П. Литта, приора
Мальтийского ордена, 173 (Благовещ. усыпальница); Лукини де Иван Еркулович, t 1833, на
50 году, архитектор; гранитный кубический постамент, завершение утрачено, 300
(Смол, лютер. кл.); Мадерни Винченце, 1797-1843; мрам. жертвенник с портретным
барельефом, надпись на итальянском, 300 (Там же); Мадерни Дарья (урожд. Самсонова),
1815-1855, жена Винченце Мадерни, 249 (Смол, правосл. кл.); Мадерни Этьен, t 1843,
63 лет; гранитный жертвенник с мрам. вазой под покрывалом, надпись на итальянском,
300 (Там же); Маруцци Паоло, 1730-1799, итал. аристократ, воспитатель сыновей имп.
Павла I - Александра и Константина; гранитный обелиск-пирамида, 149 (Лазар. кл.,
149); Молинари Аббондио, 1830-1880, художник (Катол. кл.); Монигетти Ипполит
Антонович, 1819-1878, архитектор, академик; мрам. крест, 486 (Шувал. кл.); Моретти
Фердинанд, t 1807, 65 лет, преподаватель итальянского императрице Елизавете
Петровне, 288 (Смол, лютер. кл.); Премацци Людвиг Осипович, 1814-1819,
художник-график; гранитный постамент с мрам. урной, 194 (Некрополь мает, искусств; перенесено с
Выборгск. катол. кл. в 1939 г.); Растрелли К. (t 1744, погребен, вероятно, на Сампсони-
евском иноверческом кладбище); Росси Карл Иванович, 1775-1849, архитектор;
гранитная стела, надпись по-французски, 154 (Лазар. кл.; перенесено с Волк, лютер. кл. в
1939 г.); Росси Леонтина, 1800-1846; общая стелла с К.И. Росси, 154, см.; Рупини (Ру-
пин) Иван Алексеевич, 1798-1850, музыкант, композитор, руководитель хора
Императорских театров, 250 (Смол, правосл. кл.); Руска Маргарита (урожд. Маттеи),
1775-1795, жена арх. Л. Руска, дочь медика Б. Маттеи; архитектурный склеп, арх. Л.
Руска, кон. XVIII в., 372 (Волк, лютер. кл.); Сакеллари Николай Александрович,
1880-1934, кораблестроитель, профессор, капитан дальнего плавания; гранитная стела
с бронзовым картушем, 302 (Смол, лютер. кл.); Саккети Ливерий Антонович,
1852-1916, историк и теоретик музыки, почетный член Болонской филармонической
академии, заслуж. проф. Петербургской консерватории; бетонная раковина с крестом
(разбит), 273 (Смол, правосл. кл.); Сариотти (Сироткин) Михаил Иванович, 1839-1878,
оперный певец, 250 (Там же); Скотти Пьетро, 1768-1838, художник-орнаменталист;
гранитный саркофаг, 155 (Лазар. кл., перенесен со Смол, лютер. кл. в 1940 г.); Трезини
Доменико (t 1734; первый архитектор Петербурга; похоронен на Сампсониевском
иноверческом кладбище); Трискорни Августин, 1761-1824, скульптор, владелец
мастерской по изготовлению декоративной скульптуры и надгробных памятников в
Петербурге; гранитный обелиск, 157 (Лазар. кл., перенесен со Смол, лютер. кл.); Труцци
Вильяме Жижеттович, 1889-1931, цирковой артист-наездник; стела с бронзовым
горельефом, 349 (Литерат. мостки, перенесен с Никольск. кл.); Флорио Петрус Бако
(Петр Филиппович), 1786-1847, доктор медицины, хирург; гранитный саркофаг (Волк.
лютер. кл.); Чиарди Цезарь, 1818-1877, флейтист (Выборгск. катол. кл.); Чинизелли
Андреа, 1840-1891, наездник, дрессировщик, в 1886-1891 гг. директор Петербургского
620
цирка; известняковый постамент, бюст утрачен, 304 (Смол, лютер. кл.); Чинизелли
Анна Вильгельмина (урожд. Гинне), 1817-1886, наездница, жена Г. Чинизелли, после
смерти мужа возглавляла цирк в Петербурге; гранитный постамент, крест утрачен,
надпись на итальянском, 304 (Там же); Чинизелли Гаэтано, 1815-1818, конный акробат,
наездник, дрессировщик, педагог, владелец Петербургского цирка; мрам. стела с нишей,
бюст, 304 (Там же); Чинизелли Клотильда, t 1908; мраморный постамент, 304 (Там же).
Среди этих итальянцев, имевших отношение к созданию локусов захоронения от
храмов, соотносимых с кладбищами, до устройства «могильного» места, надгробного
памятника и т.п., были такие разные и разносторонние мастера, как Карло Альбагани,
И.И. Андролятти, Аргенти, В.И. Беретти, И.П. Бернаскони, Ботта, В. Бренна,
А.К. Бруни, H.A. Бруни, Ф.А. Бруни, Е. Бутти, Ф.А. Бутти, И.П. Витали, Ф. Галеотти,
К.О. Гвиди, Л. Гульельми, К. Дузи, С. Кампиони, Катоцци, Дж. Кваренги, Коста, Кос-
толи, В. Ливи, В. и Э. Мадерни, А. Мартелли, М. Микели, А. Молинари, И.А. Монигет-
ти, Л.О. Премацци, Ф.Б. Растрелли, А. Ринальди, Ив. Росси, Е. Руджия, Л. Руска,
Ф.И. Руска, Ф. де Санти, Д. Трезини, П.А. Трезини, Август Августович Трискорни,
Агостино Трискорни, Алессандро Трискорни, Паоло Агостино Трискорни, А.Е. Фолет-
ти и др. При этом обращает на себя внимание, что эти занятия, связанные с захронени-
ями, становились «фамильной», семейной или даже родовой профессией.
Это положение дел в похоронно-ритуальной сфере весьма напоминает ситуацию и
в театрально-музыкальной сфере, в которой исключительную роль играли
итальянцы - как постоянно жившие в Петербурге, так и приезжавшие из Италии по
контракту. Первая итальянская театральная труппа появилась в Петербурге при дворе Анны
Иоанновны в 1733 г. В ее репертуаре были и импровизированная «комедия масок», и
интермедии с музыкой, прообразом более поздней opera buffa. Но, видимо, вкусы
двора требовали «высокого» искусства. Антреприза оказалась, кажется, неудачной, и
вскоре был найден эстетически приемлемый и высокоценимый вариант в виде
итальянской opera séria неаполитанского образца. Успех пришел с постановкой на сцене
дворцового Эрмитажного театра оперы Франческо Арайя (он приехал в Петербург
вместе с несколькими оперными певцами) «Сила любви и ненависти», впервые
поставленной 29 января 1736 г., в день рождения Анны Иоанновны. Опера имела успех.
Характерно распределение обязанностей в этой постановке. В качестве композитора и
капельмейстера выступал Ф. Арайя, декорации писал Джироламо Бона, балеты,
завершавшие каждое действие, ставил Антонио Ринальди, автором либретто был
итальянский поэт граф Прата (русский перевод либретто, сделанный с французского,
принадлежал В.К. Тредиаковскому), исполнители - «придворные оперисты», т.е. итальянская
оперная труппа, возглавлявшаяся Ф. Арайя, язык - итальянский. Музыка к первой
опере, написанной на русский текст и поставленной при дворе императрицы Елизаветы
Петровны 27 февраля 1755 г. - «Цефал и Прокрис», принадлежала также Ф. Арайя.
«Театральные украшения» были подготовлены Джузеппе Валериани; его сотрудником
«при исправлении красками» был Антонио Перезинотти; исполнителями были
малолетние придворные певчие, главную же женскую роль исполняла дочь придворного
певчего Елизавета Белоградская. Русский текст был написан самим А.П.
Сумароковым. 29 ноября 1768 г. на придворной сцене был поставлен аллегорический
балет-пантомима «Побежденное предрассуждение». В лице Гаспаро Анджолини были
представлены и автор музыки, и балетмейстер, и танцор, и либретист; состав участников
постановки был смешанный, итальянско-русский. Кроме Ф. Арайя в Петербурге работали
(иногда подолгу) Бальтазар Галуппи, Томазо Траэтта, возглавлявшие в 60-е годы
XVIII в. придворную итальянскую оперу в Петербурге. В 70-80-е годы восемь лет
проводит в Петербурге знаменитый Дж. Паизиелло, много сделавший для развития opera
buffa и ознакомления русской аудитории с ее характерными чертами. Его преемником
был работавший также в Петербурге в жанре opera buffa Джузеппе Сарти. В связи с
этим жанром заслуживает внимания и итальянский антрепренер Локателли,
работавший в Петербурге и в Москве и содержавший открытый публичный театр на
коммерческих началах. В Петербурге жили и работали автор блестящей комической оперы
«Тайный брак» Доменико Чимароза и драматург Марко Колтеллини, автор музыкаль-
621
ной драмы «Люцинда и Армидор» (музыка Паизиелло), впервые поставленной в
Петербурге в 1777 г. (М.Н. Муравьев в письме от 4 декабря 1774 г. к сестре сообщает: «Я,
сударыня, был в маскераде и застал несколько оперы: играли "Лучинду", последнюю
пьесу нашего Колтелини. Он уж покойник», см.: Письма русских писателей
XVIII века. Л., 1980. С. 323). Ср. также Русский музыкальный театр 1700-1835 гг.
Хрестоматия / Сост. С.Л. Гинзбург. Л.; М., 1941; Келдыш Ю. История русской музыки.
Часть первая. М.; Л., 1948; Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны.
Документальная хроника 1730-1740. Вып. 1 / Сост. Л.М. Старикова. М., 1995 и др.
Каким бы странным это ни казалось, но существенное сходство ситуации в «похо-
ронно-ритуальной» и «музыкально-театральной» областях не подлежит сомнению, и
главное общее в них - ведущая роль «итальянского» культурного элемента,
определяемая примерно одними и теми же временными рамками. Сказанному не противоречит ни
то, что сходную роль могли играть и другие национально-культурные традиции (ср.
смену «итальянской» моды в «музыкально-театральной» сфере на «французскую» в 80-х
годах XVIII в. - Филидор, Монсиньи, Гретри, Далейрак), ни то, что «итальянские»
увлечения могли иметь место и в других областях (ср. своего рода культ Метастазио в русской
поэзии последней четверти XVIII в. и начале следующего - образ и тема Nice-Нисы).
8 Об этих могилах см. сведения формально-описательного характера в двух основных
трудах о составе петербургского некрополя - Великий Князь Николай Михайлович.
Петербургский Некрополь. СПб., 1912. Т. 2. (по материалам В.И. Соштова, 1849-1939).
С. 241 (Д.М. Иванов), 545 (Ксиндавелонис, урожд. Бозио); Исторические кладбища
Петербурга..., 188, 205.
9 См.: Лосев С. «И живая ласточка упала на горячие снега». 22 августа (2000 года. - В.Т.)
исполнилось 160 лет со дня рождения замечательной певицы Анджолины Бозио //
Русская мысль. № 4330. 31 августа - 6 сентября 2000 г. Следует заметить, что в
литературе о Бозио дата ее рождения представлена в двух вариантах (1824 г. и 1829 г.). В любом
случае в августе 2000 г. 160-я годовщина со дня рождения праздноваться не могла.
10 Характерна тема Бозио в письмах Тургенева к Полине Виардо, в которых русский
писатель вынужден был соблюдать в оценке певицы и некоторую дипломатичность.
Так, в письме от 10(22) февраля 1855 г. впервые возникает эта тема - «Il paraît que
Mme Lagrange ne revient pas l'hiver prochain. On parle de Mme В о s i o... si... mais voilà
un si bien fou! Il ne faut pas même se permettre de penser à des choses si bonnes et si
impossibles. L'opéra a bien mal marché, c'était du reste assez naturel... Je vous prie de ne pas
oublier votre promesse et de me parler de vos concerts», см.: Тургенев И.С. Полное собрание
сочинений. Письма. Том третий. 1855-1858. М., 1987, 11-12; - «On donne "Le C(om)te
Ory" a l'Opéra avec Mme В о s i о et Calzolari: et il faut avouer que l'exécution en est
parfaite. - Dieux veuille qu'à l'aide de cette délicieuse partition du maestro par exellence, Verdi
devienne un peu moins envahissant, car il n'ya pas de chance à ravir, quoique sa voix m'ait
paru un peu fatiguée et incertaine - le public l'aime toujours beaucoup» (Там же, 353-354) и
др. В письме к М.Н. и В.П. Толстым от 8(20) декабря 1855 г. Тургенев пишет: «Что
вам еще сказать? В опере я был всего два раза - идет она довольно плохо. Нет
отличной первой певицы, хотя г-жа Бозио и не дурна. Понравился мне "Трубадур"
(новая опера Верди), против которого я, как вообще против Верди, имел сильнейшее
предубеждение - но особенно одна сцена в последнем акте удивительно хороша и
поэтична» (Там же, 72). - Более подробно и профессионально голос Бозио
характеризуется критиком Ростиславом (Феофаном Толстым) в «Северной пчеле» - «Голос
Б о з и о - чистый сопрано, необычайно приятный, в особенности в средних звуках...
Верхний регистр чист, верен и хотя не слишком силен, но одарен некоторою
звучностью, не лишенною выразительности... Отличительные свойства - мягкость и
приятность в медиуме и замечательная гибкость и выразительность» (см. юбилейную
статью С. Лосева и там же слова другого музыкального критика: «Сколько мягкости и
нежности в голосе Бозио, столько же в пении ее грации и изящества. Бозио-
певица хорошей школы... и эта школа, кроме техники, развила у нее строго
благородный вкус, эстетический такт. Присоедините к этому глубину чувства. Пение Бозио
истинная поэзия»).
ИТАЛИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
I. Это парадоксальное сопряжение-совмещение двух отнюдь не
равновеликих «географических» понятий в данном случае не более чем метафора
присутствия «итальянского» в Петербурге (П.), доведенная до статуса мифа.
Напряженность и обостренность этой метафоре-мифу придает
контрапунктическое отношение внешнего и внутреннего, далекого и близкого,
случайного и необходимого. Внешне П. и Италия не только сильно разъединены в
пространстве и в объясняемых этой разделенностью особенностях, но и
противопоставлены друг другу как образцы двух крайностей (север - юг,
«суровый» П. -«нежная» Италия); внутренне же, на должной глубине, они «срод-
ственны», так интимно связаны в какой-то части своей сути, что
«итальянское» в П. не может быть сведено к сумме «внешних» фактов, вещей,
событий: оно - некая стихия-дух, выявляющая общее для П. и Италии; в этом
смысле перед нами тот платоновский «вековой прототип», который
объясняет и «итальянское» и «петербургское» и, возможно, нечто иное, хотя
отношения этих элементов при избираемом здесь ракурсе не симметричны: в
центр ставится П., а «итальянское» - только способ описания П.,
«итальянский» код его, то хрестоматийно-известное и общепарадигматическое, через
которое описывается и уясняется П. Но вместе с тем «итальянское»
относится не только к тому, что объективно и «реально» присутствует в
северной столице России, но и, что важнее в данном случае, к субъективно-
м у выбору того, кто узревает «итальянское» в П. Этот выбор (а он тем
ответственнее и «сильнее», чем он субъективнее) и определяющее его и им
определяемое самосознание, идеологическая установка на «итальянскость»
П. определяют стержень всей этой темы. Именно здесь ядро мифа,
средоточие живой творческой энергии. Герой этого мифа в силу того же
субъективного выбора - Петербург: Италия ни в итальянской, ни в русской, ни
в какой-либо иной традиции не описывается через Петербург, и поэтому
итальянцу этот «петербургско-итальянский» диван может показаться
искусственным и нарочитым, но Петербург может и в каких-то ситуациях
должен описываться через «итальянское». Во всяком случае таково его
желание и таков выбор, сделанный им самим.
Э. Ло Гатто, чьим неустанным трудам в области русско-итальянских
культурных связей мы обязаны очень многим и чья многолетняя
деятельность и ее плодотворные результаты сами стали важной составной частью,
фактом этих связей, одно из самых значительных своих исследований
посвятил «Петербургскому» мифу. В этом мифе, представляющем собой «сверх-
миф» (при оценке по шкале интенсивности) или целый корпус мифов (по
шкале экстенсивности), находит свое место и более частный миф, точнее -
623
мифологема об «итальянском» П. - «Италия в Петербурге», или П. sub
specie «итальянского». О ней и пойдет речь в дальнейшем.
П. «Итальянский» П. имеет свой более широкий контекст и свой
«реальный» и конкретный субстрат. Особенности создания П. и его положения
(крайняя пространственная периферия, строго говоря, не своя, пока еще
«чужая» земля, эксцентричность города, заложенного на роковой грани над
«бездной» - равно природно-космологической и культурной) определяют
его открытость вовне, ориентацию на «чужое» и его заимствование,
освоение, усвоение, кумулятивно-синтетическую установку, космополитичность
как умение и желание пользоваться разными «чужими» культурными
кодами и соотносить их со «своим». Само наименование города предполагает
наличие «чужого» языкового и культурного кода и его учет, а идеологическое
осмысление Петербурга как своего рода нового Рима, но в отличие от
«итальянского» и «папского» Рима и от Москвы - третьего Рима -
«вечного» и подлинного, уже при Петре I апеллировало к мощному
историософскому контексту (Лотман, Успенский), определяющему особое от других
(Excudent alii spirantia mollius аега / Credo equidem; vivos ducent de marmore vul-
tus...) назначение Рима (Tu regere imperio populos, Romane, memento; / Hae tibi
erunt artes... Aen. VI, 847-848, 851-852) и восходящему к Вергилию. Об этом
П. всегда помнил, особенно в своем начале, при Петре I, и в своем конце,
перед революцией, и не раз примерял к себе «римскую» тогу, судьбу Рима.
Именно здесь корни «итальянской» темы П. и - шире -вообще темы
«чужого», «нерусского». Но если «голландский» компонент, также
присутствовавший в П. с самого начала и «вещественно» даже более знакомый, отсылал к
бытовому («заимствования» элементов голландского образа жизни, мода,
интерьер, дом (архитектура, «голландское» барокко), пространство около
дома («голландский» сад) и т.п.), через расширение которого были
замечены и «голландско-петербургские» ландшафтно-культурные параллели, то
«итальянский» компонент поначалу имел чисто идеологическое (часто в
пику Москве, в перехват идеи «Третьего Рима») значение. Так или иначе, но
этнокультурный плюрализм П. и формирующаяся «синтетическая»
установка берут свое начало в этот самый ранний период (см. Анциферов), и
здесь же источник позднейших острых споров о том, «русский» ли город П.
или «нерусский». Подлинное, «парадоксально-предельное», глубинное
решение проблемы было предложено Достоевским: «Один лишь русский...
получил уже способность становиться русским именно лишь тогда, когда он
наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие
наше от всех... Я тогда эмигрировал, но разве я покинул Россию? Нет, я
продолжал ей служить... Я повез туда мою русскую тоску... Русскому Европа
так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа
так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более
любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что
Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их -
мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти
чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам
дороже, чем им самим!...», - говорит Версилов («Да кстати, - пишет Достоевский
31 июля 1861 г. Полонскому, - когда Вы приедете и все ли время пробудете
в одной Австрии. Италия под боком, как, кажется, не соблазниться и не
624
съездить? Счастливый Вы человек! Сколько раз мечтал я, с самого детства,
побывать в Италии... А вместо Италии попал в Семипалатинск, а прежде
того в Мертвый дом»). В своем романе «Николай Переслегин» Степун
сознательно продолжает мысль Версилова-Достоевского, замыкая ее на П. и
отчасти на Риме и Италии: «Какой великолепный, блистательный и, несмотря
на свою единственную в мире юность, какой вечный город. Такой же
вечный, как сам древний Рим. И как нелепа мысль, что П., в сущности, не
Россия, а Европа. Мне кажется, что по крайней мере так же правильно и
обратное заключение, что П. более русский город, чем Москва. Во Франции нет
анти-Франции, в Италии - анти-Италии, в Англии -анти-Англии. Только в
России есть своя анти-Россия: Петербург. В этом смысле он самый
характерный, самый русский город» (ср. у Достоевского: «всякий француз может
служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем
условием, что останется наиболее французом... Я во Франции - француз, с
немцем - немец, с древним греком - грек и, тем самым, наиболее русский,
тем самым я - настоящий русский и наиболее служу для России, ибо
выставляю ее главную мысль»; ср. к сочетанию «русского» и «итальянского», их
слиянности; «Я люблю иногда от скуки, от ужасной душевной скуки...
заходить в разные вот эти клоаки. Эта обстановка, эта заикающаяся ария из
Л ю ч и и, эти половые врусских до неприличия костюмах, этот
табачище, эти крики из биллиардной, все это до того пошло и прозаично, что
граничит почти с фантастическим» - «Подросток»). В связи с цитатой из Степу-
на и ахматовским «И пришел в наш град угрюмый / В предвечерний тихий
час. - О Венеции подумал / И о Лондоне зараз» Тименчик напомнил слова
В.Я. Парнаха об особенностях П., обращенные к иностранной аудитории - «в
некоторых своих аспектах он напоминает Рим, Венецию иЛондон».
Лившиц в поистине пророческом своем стихотворении «Пророчество» (сб.
«Болотная медуза»; в те же годы в связи с П. этот образ возникает и у
Мандельштама: Но, как медуза, невская волна... или Сердито лепятся капризные
медузы... («Адмиралтейство»)), обращаясь к П., в котором он так
проницательно и точно узревал присутствие «итальянского», и продолжая «восточно-
западную» тему Вл. Соловьева, предсказывает - Когда тебя петлей
смертельной I Рубеж последний захлестнет, / И речью нечленораздельной / Своих
первоначальных вод // Ты воззовешь в бреду жестоком I Лишь мудрость
детства восприняв, I Что невозможно быть востоком, /
Навеки запад потеряв,-// Тебе ответят рев звериный, / Шурша-
нье трав и камней рык, / И обретут уста единый / России подлинный язык...
Эта «идеологичность» итальянской темы П., давшая обильные плоды,
имела и свои корни, тот «неидеологический» профанический бытовой
субстрат, в котором смешивалось материально-вещественное и духовное,
природное и культурное, относящееся к низкой злобе дня и к высоким
праздникам духа. И то и другое вступали в диалог, где одно провоцировало другое к
развитию этого диалога плоти и души «итальянского» комплекса П. Трудно
сказать, где начало и где конец этой единой цепи. Для каждого периода в
истории П. и для разных мест в самом городе и в его пригородах было свое
«итальянское», но говорить обо всем разнообразии этого элемента по
необходимости приходится суммарно. Поэтому субстрат «итальянской» темы П.
здесь может быть обозначен лишь самыми общими чертами.
625
Конечно, этот субстрат с самого начала более всего был связан с
итальянцами в П. Хотя по численности они существенно уступали немцам,
французам, англичанам, но представляемое ими «итальянское» было и очень
разнообразно и, главное, очень ярко и воспринималось как отмеченное.
Архитекторы, живописцы, скульпторы, декораторы, музыканты, певцы, актеры,
импровизаторы (ср. «Египетские ночи»), врачи (И.-А. Ацаретти уже в
1721 г. был приглашен в Россию, ср. портреты его и его жены работы
А. Матвеева. Эрмитаж), коммерсанты (при неудаче нередко становившиеся
учителями, как Беглец Италии, Жъячинто, дядька мой, кому столь многим
был обязан его благодарный воспитанник - А я, я, с памятью живых
твоих речей, I Увидел роскоши Италии твоей\ - и с кем он, умерев в Италии,
как бы обменялся судьбой), рестораторы, уличные певцы, скрипачи,
шарманщики, жонглеры, барахольщики и т.п. (можно напомнить, что первое
компактное поселение выходцев из Венеции появилось в П., на Мойке
около Круглого рынка, очень рано, еще в XVIII в.). Для многих из них земля П.
стала последним из пристанищ, и на кладбищах города еще не так редки
итальянские надгробные надписи, хотя несравненно больше их погибло
(прежде всего на уничтоженном католическом кладбище на Выборгской
стороне). Лучше всего известен вклад итальянского искусства в культуру П.
на высшем для своего времени профессиональном уровне. Но разве можно
забыть тех безвестных тружеников и мучеников искусства, обойденных
славой, достатком, человеческим участием, от описанного Григоровичем
петербургского шарманщика («Взгляните на этого человека... всмотритесь
внимательно во всю его фигуру. Разодранный картуз, из-под которого в
беспорядке вырываются длинные, как смоль, черные волосы, осеняя
худощавое загоревшее лицо, куртка без цвета и пуговиц, гарусный шарф,
небрежно обмотанный вокруг смуглой шеи, холстинные брюки, изувеченные
сапоги и, наконец, огромный орган». И за это самоотверженное «уличное»
искусство - нечастый грош, но и сострадание: в темном переулке, поздно
ночью, «вы невольно подумаете: может быть, в эту самую минуту,
продрогший от холода, усталый, томимый голодом, одинокий среди безжизненной
природы, вспоминал он родные горы, старуху мать, оливу, виноград,
черноокую свою подругу, и невольно спросите вы: для чего, каким ветром занесен
он бог знает куда, на чужбину, где ни слова ласкового, ни улыбки
приветливой, где, вставши утром, не знает он, чем окончится день, где ему холодно,
тяжело...») и до того затерявшегося в «холоде и мраке» наших дней, в чужом
городе, итальянца, чье объявление о готовности учить итальянскому языку,
пению, музыке (и, собственно, чему угодно еще, лишь бы не помереть с
голоду) висело в начале 50-х годов нашего века на углу Невского и
Екатерининского канала, против Казанского собора, и отчаянно-смелым, нелепо-
смешным своим русским языком говорило о трагедии, ибо за предложением
услуг стояла мольба о куске хлеба. Но тень свою на стенах города оставили
и многие другие итальянцы, для которых П. был лишь эпизодом, - знатные
путешественники, гастролеры, дипломаты, иезуиты, капуцины, искатели
удачи, авантюристы, сошедшие на берег, списанные и почему-либо
оставшиеся матросы (типичный персонаж толкучки у Старого Гостиного двора,
сзади Биржи, - продрогший, нередко в живописных лохмотьях, с обезьянкой
или попугаем на плече, матрос-итальянец, почти превратившийся в петер-
626
бургского «лаццарони») и т.п. С этим кругом итальянцев («заезжие» на
время - случайно или, напротив, с умыслом, иногда тайным) в сознании русских
жителей П. связывался широкий спектр впечатлений - артистизм,
доведенный до совершенства, иллюзионизм, мистификаторство, граничащее с
сомнительностью или переходящее в обман, авантюризм, фокусничество,
шарлатанство, двуличность, «подрывные» цели (выведывание, шпионство,
опутывание обещаниями, надеждами, услугами) и т.п. Соответственно этому
спектру был и прием - от восторгов и установления моды на «итальянское»
(особенно в сфере музыкального и театрального) вплоть до известного «от
ворот поворот». Калиостро, Казанова, «ловцы душ» иезуиты,
сомнительный итальянец, врач и конфидент Элен Безуховой, музыканты и
художники, творящие чудеса с помощью демонических сил, - реальные или
созданные творческой фантазией (ср. образ Варфоломея от пушкинского
«Уединенного домика» до зоргенфреевского «Варфоломея Венценосного» (Бар-
толомео) и возможную связь его с мифологизирующей «растреллиевой
(Бартоломео-Варфоломей) традицией), представляют разные
«сомнительные» части обозначенного выше спектра. Впрочем, в целом отношение к
итальянцам было положительным: отдавалось должное их открытости,
общительности, артистичности, яркости, веселости, и комплекс
«неполноценности-превосходства» (как выражение «низкой» самооценки себя в
сравнении с «иностранцами»), игравший важную роль в отношении немцев,
французов, англичан, отступал в тень или вовсе исчезал в случае итальянцев, и
чувства недоброжелательности, зависти, ревности, пренебрежения не
получили сколько-нибудь отчетливого выражения («итальяшка» появляется
поздно, как и «макаронник», первая итальянская «макаронная» появилась на
Екатерининском канале, около Невского, в начале века), ср., впрочем,
темную историю со скрипачем-итальянцем в «Неточке Незвановой».
Все эти представители разных слоев итальянского общества,
оказавшиеся в П., непосредственно или косвенно, через свои дела, формировали
образ Италии и ее проекции в виде «итальянского» в П. К этому процессу,
несомненно, подключались и те русские люди, которые посещали Италию,
жили там (о них см. Е. Lo Gatto. Russi in Italia. Dal s. XVII ad oggi. Roma, 1971),
почувствовали и полюбили Италию, сложили свой образ ее и, вернувшись
на родину, чаще всего именно в П., так или иначе поведали о нем. А. Норов
и А. Муравьев; Батюшков, Вяземский, Тютчев, Баратынский, Шевырев,
К.Павлова, Гоголь, Тургенев, Герцен, Достоевский, Майков и Бутурлин;
С.Щедрин, Кипренский, Ф. Толстой, А. Иванов и А. Бенуа; Погодин,
Буслаев, Веселовский, Гревс и Карсавин; Суворин и Розанов и многие другие
принимали участие в передаче «их» Италии русскому читателю или зрителю, и
эти образы, этот итальянский опыт явно или неявно учитывались при
формировании «итальянского» в П. и - шире - в России.
Лишь самым кратким образом уместно обозначить, как «итальянское»
входило в жизнь П., отвоевывая себе право на terra ferma в петебургской
культуре. Раньше всего «итальянский» прорыв в П. дал себя знать в
архитектуре (Д. и П. Трезини, Микетти, Киавери, Растрелли, Фоссати, Порто,
Антонетти, Ринальди, Кваренги, Бренна, Л. Руска, Росси, Лукини, Висконти,
Адамини, Феррари, Монигетти и др.), в «высоком» декоративном искусстве
(Растрелли-отец, Валериани, Перезинотти, Гонзага, Скотти, Виги, Стаджи,
627
Трискорни, Б. Медичи, Корсики и др.), в опере, театре, музыке (1733 -
итальянская труппа при дворе Анны Иоанновны, см. Перец и др.;
репертуар - импровизированная «комедия масок» и интермедии с музыкой; 29
января 1736 - постановка на сцене Эрмитажного театра оперы композитора
Ф. Арайя «Сила любви и ненависти» под его руководством (перевод текста,
как и ряда других комедий и интермедий, был сделан Тредиаковским,
выучившим итальянский, как и латынь, еще в Астрахани, в школе капуцинов-
итальянцев), отмечающая начало русского придворного театра; 40-е годы -
регулярные постановки итальянских опер; 1755 г. - постановка оперы
Ф. Арайя «Цефал и Прокрис» на русский текст Сумарокова; XIX в. -
«Итальянская опера» в П., «упоительный Россини», появление частных
«итальянских» опер, популярность арий из итальянских опер, все более
частые и регулярные выступления известных, в том числе и самых знаменитых
певцов и драматических актеров (Тальони, Бозио, Рубини и др.); начало
XX в. - увлечение commedia dell'arte, «маскарадно-карнавальная» мода и т.п.,
см. ниже.
«Итальянское» в П. существенным образом формировалось самим
обликом города - дворцами, особняками, храмами, зданиями общественного
назначения, жилыми домами. Стоит говорить о формах его проявления. С
одной стороны, речь должна итти о зданиях, построенных итальянскими
архитекторами, начавшими свою деятельность в Италии и /или работавшими в
«итальянской» традиции. Как бы ни зависели их «русские» постройки от уже
сложившейся архитектурной традиции П. и от вкусов и желаний заказчика,
все же в ряде случаев они отражают и «итальянские» архитектурные и
градостроительные принципы и отдельные особенности, даже если они
выступают в сильно переработанном виде. Учитывая это, как и то, что в П.
гораздо лучше, чем где бы то ни было в России, помнили имена тех, по
чьему проекту создавались здания (память с «превышением» породила, в
непрофессиональной среде в особенности, целый ряд мнимых «растреллиев» и
«гваренги»), и гордились ими, нельзя изымать из «итальянского» в П.
многие десятки зданий, среди которых большинство шедевров, определяющих и
общий вид города и их высочайшую художественную ценность.
Петропавловский собор, здание 12 коллегий, Кунсткамера, дворцы Зимний,
Строганов, Воронцов, Смольный монастырь и институт, Мраморный дворец и храм
Вознесения, Эрмитажный театр, здание Академии наук, Аничков дворец и
Кабинет, Мальтийская капелла, Екатерининский институт, Мариинская
больница, Ассигнационный банк, католический храм Св. Екатерины, дом
Безбородко, Конногвардейский манеж, Инженерный замок, Михайловский
дворец, Сенат и Синод, здание Генерального штаба, Александрийский театр
и здания по улице зодчего Росси, дворец Бобринского, портик Перинной
линии, офицерский корпус и манеж Кавалергардского полка, Гренадерские и
Измайловские казармы, дом ордена иезуитов, здание Духовной Академии,
церковь Всех скорбящих, дом Адамини, здание Таможни и многое другое
лишь в общих чертах описывают вклад итальянских архитекторов и, хотя
бы отчасти, «итальянское» в облике П. Сюда же подвёрстывается и
соответствующая архитектура малых форм (садовые павильоны, беседки, гроты,
ограды и ворота, обелиски, верстовые столбы, кроншпицы и т.п.). С другой
стороны, в П. достаточное количество зданий, которые непосредственно
628
отсылают к первоисточнику как целому или воспроизводят определенный
стиль и тип архитектуры, или содержат приметы-знаки отдельных
известных архитектурных памятников, не претендуя на близость к целому.
Примерами первой ситуации могут быть Биржа, воспроизводящая храм
Посейдона в Пестуме, или Мальтийская капелла, копирующая церковь Джезу в
Риме, или Михайловский замок, отсылающий как к источнику к одному из
известнейших памятников итальянской архитектуры (кстати, аттик замка
венчается рельефами, напоминающими арку Константина в Риме), или
Казанский собор, имеющий своим прототипом Св. Петра в Риме (А зодчий не был
итальянец, / Но русский в Риме, - ну так что ж\ / Ты каждый раз, как
иностранец, I Сквозь рощу портиков идешь), ср. двери собора,
воспроизводящие известное творение Гиберти во Флоренции (купол собора модифицирует
знаменитый купол Брунеллески). Вторая ситуация представлена очень
значительным числом зданий известных итальянских архитектурных типов
(ренессансный, палладианский). «Петербург воплотил мечты Палладио у
полярного круга», - скажет Г.П. Федотов. Впрочем, у представителей
русского неоклассицизма, создавших ряд шедевров и даже своего рода
ансамбль в конце Каменноостровского проспекта (ср. там на
противоположной стороне особняк Покотиловой), были и другие источники вдохновения
кроме Палладио. Наконец, примером третьей ситуации может быть банк
Вавельберга, в архитектуре которого переплетаются мотивы дворца
Медичи во Флоренции и Св. Марка в Венеции, при том что наиболее интимные
связи определяются благодаря «palli» и медицейско-бурбонским лилиям.
Что касается малых форм («скульптурных»), то они представлены
многочисленными статуями итальянских скульпторов XVII-XVIII вв., прежде
всего в Летнем саду, в пригородных дворцовых парках; ранее скульптура этого
рода была распространена в П. шире; правда, подлинное довольно часто
восполнялось копиями, иногда весьма неплохими, или просто «цитатами»
или знаками «итальянского» (ср. «отсылки» к Пинтуриккио, Андреоли,
Гиберти, Брустолоне в виде изображений или к Джованни да Удине, Орканья,
Антонио Филарете и др. в виде надписей без изображения на фасаде Училища
Штиглица), нередко поддерживаемого латинскими надписями.
Это «итальянское» продолжается в двух направлениях: внутрь (ср.
замечательные коллекции итальянской живописи, скульптуры, прикладного
искусства в Эрмитаже, у Строгановых, Юсуповых; копии в Академии
Художеств, у Штиглица и т.п.; картины русских художников на итальянские темы
(пейзажи, жанровые сценки и т.п.) прежде всего в Русском музее и
Академии Художеств, а также в частных собраниях; в дворцах характерно наличие
специальных помещений, отсылающих к «итальянскому», ср. залы Рафаэля
и Тициана в Академии, Рафаэля в Инженерном замке, Римский и
Итальянский залы и Ротонду Кановы в дворце Юсуповых на Мойке, Помпейскую
галерею и зал с помпейскими мотивами в Эрмитаже и т.п.) и вовне, в сферу
именословия (помимо перифрастических обозначений типа «северная
Венеция», ср. такие названия улиц и отдельных отмеченных объектов, как-то Б.
и Малая Итальянская, Итальянский сад, Итальянский дворец, Итальянский
театр, Итальянское посольство, Басков пер. (считается, что от фамилии
Bosco), «Неаполь», гостиница, «Квисисана», кафе, эвентуальные
обозначения типа Ponte del Sospiri, о мосте через Пряжку у дома Блока (в языке
629
Блока и Дельмас) и т.п. вплоть до недавнего времени - пл. Растрелли, пер.
Кваренги).
Картина «итальянского» в П. станет еще отчетливее, если напомнить,
что к концу XIX и особенно в XX в. переводятся все наиболее значительные
западные труды по Италии, ее культуре, искусству, истории (в том числе и
фундаментальные - «Культура Италии в эпоху Возрождения» Буркхардта,
«Путешествие по Италии» Тэна, «Археологические прогулки по Риму» Бу-
ассье, работы Виллари о современной Италии и о драматических эпизодах
прошлого, о Савонароле и т.п.), становятся модными и определяющими по-
новому «итальянскую» перспективу книги Верной Ли, Уолтера Патера,
Джона Рескина и др., появляются русские путеводители по городам Италии
(Грифцов - по Риму, Долгова - по Флоренции и окрестностям, Перцов - по
Венеции и др.). Шедевром, не потерявшим своего значения, стали «Образы
Италии» Муратова, прощальный взгляд на страну, которая именно в это
время была по-новому остро увидена, прочувствована, принята в душу.
Появляются ценные исследования по итальянской истории, религиозной
жизни, культуре, литературе, искусству, источниковедению (Веселовский, Ко-
релин, Гревс, Карсавин и др.), но интерес привлекает и современная Италия
(ср. «Очерки современной Италии» М. Осоргина). Складываются
«итальянские» циклы в университетском преподавании. Расширяется круг
переводчиков, соответственно растет число переводов итальянской художественной
литературы, намечается тенденция к синхронизации переводов (лучший
пример многотомное собрание сочинений Г. Д'Аннунцио). В русском языке
увеличивается число итальянизмов. Русские люди все чаще и все охотнее
ездят в Италию - богатые туристы-путешественники, представители
творческой интеллигенции (писатели, художники, артисты) и ученые, студенты,
представители средних слоев. Становятся модными групповые (дружеские,
корпоративные, профессиональные) поездки, ср. путешествия в Италию
студентов СПб. Университета под руководством Гревса или художников
круга «Мир искусства». Итальянцы также все чаще приезжают в П. и
Москву (ср. резонанс, который получил приезд Маринетти). В своих
«итальянских» пристрастиях Москва начинает соперничать с П., но все-таки
«итальянское» как некий внутренний комплекс характеризовало только П.,
и только здесь оно обретало мифотворческие потенции.
III. В XVIII в. ведущей силой в формировании образа «итальянского» П.
были приезжие итальянцы, часть которых навсегда осталась в П. В XIX в.
такой силой оказывается русская литература, точнее - писатели, причем не
столько даже в своих художественных произведениях, сколько в
высказываниях личного характера, свидетельствующих об особом отношении к
Италии, о тяге к ней, тоске по ней, любви к этой второй или даже некоей
вечной прототипической своей родине. Русские охотно и не без пользы и
удовольствия ездили в Германию, Францию, Англию, но тем не менее русский
вариант романтического Dahinl чаще всего имел в виду именно Италию.
Нередко она оказывалась только мечтой, предметом страстного желания, тем
благодатным, блаженным местом, которое знают доопытно или в которое
верят, образом, таинственно и глубоко интимно, почти иррационально
связанным с Россией. Мотивы ностальгии по Италии обычно не объясняются
или даются слишком общо, но иного и не нужно, потому что здесь - чувство,
630
интуиция, вера. Круг подобных высказываний об Италии, которому нет
аналогий в связи с другими дорогими русскому сердцу странами, можно
обозначить лишь очень выборочно. «Я знаю Италию, не побывав в ней. Там не
найду счастья: его нигде нет; уверен даже, что буду грустить о снегах
родины и о людях мне драгоценных» (Батюшков); «Отгадайте, на что я начинаю
сердиться? На что? На русский язык и на наших писателей... И язык-то по
себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за ы? Что за ш, ший, щий,
при, тры? О варвары!... Но Бог с ними! Извини, что я сержусь на русский
народ и на его наречие. Я сию минуту читал Ариоста, дышал чистым воздухом
Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка и
говорил с тенями Данта, Тасса и сладостного Петрарка, из уст которого что
слово, то блаженство...» (Батюшков, ср., век спустя: «Не искушай чужих
наречий, но постарайся их забыть - / Ведь все равно ты не сумеешь стекла
зубами укусить - как вывод из чтения Ариосто); - ...Адриатические волны\
О Брента, нет, увижу вас, / И, вдохновенья снова полный, - Услышу ваш
волшебный глас\ (Пушкин, ср. отклик век спустя - Брента, рыжая реченка).
у Ходасевича); - Небо Италии, небо Торквата, / Прах поэтический
древнего Рима, I Родина неги, славой богата, / Будешь ли некогда мною ты
зрима! I Рвется душа, нетерпеньем объята, I К гордым остаткам падшего
Рима\ I Снятся мне долы, леса благовонны, / Снятся упадших чертогов
колонны]» (Баратынский); «Завтра увижу я башни Ливурны, / Завтра
увижу Элизий земной\ (Баратынский); «Не успел я въехать в Италию уже
чувствую себя лучше. Благословенный воздух ее уже дохнул» (Гоголь);
«Здесь мое всегдашнее пребывание... Небо чудное, пью его воздух и
забываю весь мир» (Гоголь); «Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу и
уж на всю жизнь... Вся Европа для того, чтобы смотреть, и Италия для того,
чтобы жить. Вот мое мнение: кто был в Италии, тот скажи прощай другим
землям. Кто был на небе, не захочет на землю» (Гоголь); «Когда я увидал,
наконец, Рим во второй раз, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне
казалось, что я будто увидел свою родину... в которой жили только мои
мысли. Но нет, то все не то: не свою родину, но родину души своей я увидел, где
душа моя жила еще прежде меня...» (Гоголь); «Когда вам все изменит, когда
больше не останется такого, что бы привязывало вас к какому-нибудь
утолку мира, приезжайте в Италию. Нет лучшей участи, как умереть в Риме;
целой верстой здесь человек ближе к Божеству» (Гоголь); «Рим мне не
чужой город; - это часть моей жизни... Рим - родина для моего нравственного
существования» (Буслаев); «Эта резкость пределов, определенных
характеров, самобытная личность всего: гор, долин, травы, города, населения
каждого местечка одна из главных черт и особенностей Италии... В Италии все
определенно, ярко, каждый клочок земли, каждый городок имеет свою
физиономию, каждая страсть - свою цель, каждый час - свое освещение,
тень как ножом отрезана от света...» (Герцен) и др., ср. также у Муратова.
Подобные высказывания обычно не относились непосредственно к П., но
они задавали и более широкий контекст «итальянской» темы и более
глубокий духовный уровень «итальянской» идеи, и эти рамки не могли не
учитываться при формировании образа «итальянского» П.
Одним из непосредственных следствий той внутренней тяги к Италии,
которая отражается в приведенных выше словах, была, во-первых, потреб-
631
ность в установлении сети «итальянско-русских» (обычно в варианте -
петербургских) соответствий (положительных - П. как Италия или
отрицательных - в П. так («плохо»), в Италии иначе («хорошо»)), которые,
собственно, и стали непосредственной основой формирования образа
«итальянского» П. как синтеза соответственных, подобных; близких элементов из
обоих сопоставляемых кругов - «итальянского» и «петербургского», и, во-
вторых, признание «композитности» П. в свете «итальянских» соответствий:
П. напоминал многие элементы из «итальянского» (и - шире - европейского:
Амстердам, Париж, Лондон, Афины) набора.
Впервые эти две особенности П. - его «соответственность» знаменитым
европейским городам (в варианте - подражательность, заемность,
неорганичность) и его эклектичность (сочетание в нем разнородных, не
соотносимых друг с другом чужих элементов) - с выделением «итальянских» связей
были обозначены «внешним» и идеологически предвзятым наблюдателем -
Мицкевичем в «Дзядах», в главе, посвященной П. (ср. теперь ценные
наблюдения СВ. Вернадского). П., по мнению поэта, возник среди болот не
потому, что этого хотели люди - Саг upodobai i stawic rozkazalj Nie miasto ludziom,
lecz sebie stolice: I Car tu wszechmocnosc woli swej pokazal. Несмотря на
эклектическую перенасыщенность города «чужими» элементами («Итальянский»
дворец, статуи, руины, киоски в китайском и японском стилях и т.п.),
обязанными своим возникновением поту и крови «чужих», покоренных народов, П.
призрачен, он «город из дымов» (ср. Достоевского и всю родословную
мотива призрачности, дыма в «Петербургском тексте»). Главный фрагмент
посвящен как раз демонстрации неорганической заемности того, что
считается лучшим в П. Царь был в Париже и приказал сделать в П. парижские
площади (pariskie place), побывал в Амстердаме - приказал соорудить в П.
плотины. Но особенно отмеченными в этом ряду оказываются «итальянские»
образцы для подражания - Рим и Венеция: Slyszal, ze w Rzymie s$ wielkie
palace: / Palace staj^, Wenecka atolica, / Co wspol na zieme a do pasa w wodzie /
Plywa, jak piçkna syrena-dziewica, / Uderza сага: i zaraz w swym grodzie / Porzn^l
blotniste kawalami pole, / Zawiesiï mosty i puscil gondole... / Ma Wenecyfa Paryz,
London drugi, / Procz ich piçkrosci, poloru, zeglugi! (к «do pasa w wodzie» ср. И
всплыл Петрополъ, как тритон, / По пояс в воду погружен; - к «Zawiesiï
mosty» ср. Мосты повисли над водами). И далее - U architektow slawne jest
przyslowie: / Ze ludzi rçk$ byl Rzym budowany, / A Wenecyjç stawili bogowe; /
Ale kto widzial Petersburg, ten powie, / Ze budowaly go chyba szatany», откуда
можно заключить, что при всем подобии Риму и Венеции П. - анти-Рим и
анти-Венеция.
Действительно, Рим и Венеция чаще других городов выступают в связи
с «итальянским» П., хотя существенно само стремление вообще
сопоставлять с «итальянским» петербургское, даже когда сопоставляемые явления в
принципе, напр., в силу разных природно-климатических условий непохожи
(М.М. и Ф.М. Достоевские 21 июля 1837 г. пишут отцу: «...мы не знаем,
какой-то в вашей стороне урожай, какова-то у вас погода? Что касается до
петербургской, то у нас прелестнейшая, итальянская»; Солженицын о
марте в П. - «Утро было - великолепное, покорите л ьное, небо - голубое,
как в И τ а л и и...»; Суворин же, напротив, в дневниковой записи от 3
апреля 1893 г. фиксирует «петербургскую» погоду в Италии: «Я в пятый раз в
632
Венеции, в 4-й весною или в конце марта, или в начале апреля и всегда одно
и то же: скверная погода; но прежде были дожди, а теперь холодно»; ср. в
«Сабинуле» Комаровского изображение итальянской зимы как
петербургской (царскосельской) осени и т.п.). Но эти «итальянские» ассоциации П.
еще чаще, когда речь идет о действительно схожем, и они не
ограничиваются Римом и Венецией. Ср. описание послереволюционного П.
Анциферовым: «Исчезла суета суетствий... Исчез привычный грохот... Прохожие идут
прямо по мостовой, как в старинных городах И τ а л и и... В тихие, ясные
вечера выступают на бледно-сиреневом небе контуры строений. Четче стали
линии берегов Невы, голубая поверхность которой еще никогда не казалась
так чиста. И в эти минуты город кажется таким прекрасным, как никогда.
Тихая Равенна»; «Мы подошли к окну и, отдернув занавеску, стали
смотреть на канал. Когда бывают такие ясные осенние ночи, мне всегда П.
представляется не русским северным городом, а какою-то Вероною, где
живут влюбленные соперники, и всегда кажется, что наступает не зима, а
готовится какая-то весна, лето чувств, жизни всего» (Кузмин. «Завтра будет
хорошая погода»); то, что случилось в П., имеет продолжение: «Прошла
зима, весна и лето, снова наступило то время года, когда П. моему другу
казался влюбленною Вероною. В один из таких вечеров... я читал старинное
путешествие по Италии и невольно думал о своем друге, неумеренная
чувствительность которого подтолкнула его на такие странные и
неожиданные поступки. Как будто в ответ на мои мысли раздался звонок... я в
позднем госте узнал того же Олега»; связь П. с Вероной оказывается не только
внешней, но и внутренней, мистической; совсем иной характер
«итальянских» ассоциаций в «Тихом страже» Кузмина: «Павел сквозь дремоту видит
круглое красное пятнышко на столе, он ткнул его и увидел вдруг на полу
лужу в форме Италии; Коля наступает на пятно и переставляет ногу - рядом с
Италией отпечатывается Сицилия, а потрясенный всей этой «итальянизаци-
ей» Павел готов умереть от ужаса); все мне болезненно напоминает
Италию, Соловьевский переулок - пизанские улочки... Мойка -Венецию.
Чуть ли не символистом становишься - ужас какой! - в этих соответствиях»
(Городецкий. Письмо к Чулкову от мая 1914 г.); «Петербург
дореволюционного времени был, вероятно, самым фантастическим городом в мире,
напоминая, пожалуй, Венецию XVIII века» (Алданов. Рецензия на
«Петербургские зимы» Г. Иванова); «Как странно вспоминать теперь классические
характеристики П.... и слепому стало ясно, что не этим жил П. Кто посетил
его в страшные, смертные годы 1918-1920, тот видел, как вечность
проступает сквозь тление... В городе, осиянном небывалыми зорями, остались
одни дворцы и призраки. Истлевающая золотом Венеция и даже вечный
Рим бледнеют перед величием умирающего П. Рим - П. ... П. воплотил
мечты Палладио» (Г. Федотов. «Три столицы»); «В 1920 г. Мандельштам
увидел П. как полу-В е н е ц и ю, полу-театр» (Ахматова; но ср. Флоренцию
в Москве у него же) и т.п. В рукописях Голлербаха хранится набросок о П.
под названием «Наша Венеция». Наконец, есть и другие примеры
соотнесения П. с Венецией, но более сложные, тонкие или опосредствованные. Все
это дает основания говорить о том, что это соотнесение-сопоставление
стало в начале XX в. своего рода «культурным» клише, определенным
ориентиром в историософском пространстве «Петербургского текста», по кото-
633
рому пытались понять судьбу П. (иногда П. мог отсутствовать в тексте, и
акцент делался на самой Венеции в ее исторических превратностях и на
уроках, из них извлекаемых, ср. тютчевскую «Венецию», одноименное
стихотворение М.М. Дмитриева, с отсылкой к «Дожу и догарессе» и др.; в
конечном счете об этом же и пушкинское Где Тасса не поет уже ночной гребец...).
Венеция напоминает чудный град Петра и своим сочетанием воды и суши,
и соединением роскоши и нищеты, замеченным применительно к П. рубежа
40-50-х годов и Достоевским, и «физиологическим очерком»: Город
чудный, чресполосный, - / Суша, море по клочкам, - / Безлошадный,
бесколесный, I Город - рознь всем городам... Рядом - грязные трущобы / И
роскошные дворцы, I Нищеты, великолепья / Изумительная смесь', / Злато,
мрамор и отрепья: / Падшей славы скорбь и спесъ\ / Здесь как в пестром
маскараде - Разноцветный карнавал... Приласкаешь, приголубишь / Мыслью,
чувством и мечтой / И Венецию полюбишь / Без ума и всей душой
(Вяземский. «Венеция», ср. и «К Венеции»: Во всех ты, душенька, нарядах
хороша...). Потому-то в Венеции так естественно мысль уводит на север, в
Россию, в П. - Когда, пресытившись природой южной, / Родных воспоминаний
след ловлю I И чувствами мне осветиться нужно /Ив душу север
просится, - люблю, I Забыв лагуны с прелестью их мирной / И бег гондол,
скользящих здесь и там, -/И чудный мир, из глубины сапфирной / Улыбчиво
ласкающийся к нам, -1 Люблю бродить в саду и думой далъной / Иных
дорожек хладный грунт топтать /Ив осени, красавице печальной, / Черты
давно знакомые встречать... И шорох хрупких листьев облетевших, /
Ногой моей встревоженных слегка, / В душе подъемлет рой снов, глубоко
засевших, / И грустно мне, но эта грусть легка («Giardino publico»). Но
мысль, воспоминание, желание знают и обратный путь - с севера на юг:
Глядел я, стоя над Невой... Всходили робко облака / На небо зимнее, ночное, /
Белела в мертвенном покое / Оледенелая река // Я вспомнил,
грустно-молчалив, / Как в тех странах, где солнце греет, / Теперь на солнце пламенеет /
Роскошный Генуи залив. И почти как заклинание - О, если б мимолетный
дух, / Во мгле вечерней тихо вея, / Меня унес скорей, скорее / Туда, туда, на
теплый юг... - где суждено нам было / Сказать последнее прости... Где
вечный блеск и долгий цвет; / Где поздних, бледных роз дыханьем
/Декабрьский воздух разогрет (ср. также Давно ль, давно ль, о юг блаженный / Я зрел
тебя лицом к лицу, а теперь - Но я, я с вами распростился: / Я вновь на
север увлечен; / Вновь надо мною опустился / Его свинцовый небосклон).
Тютчев вопрошал: О север, север-чародей, / Иль я тобою околдован! / Иль
в самом деле я прикован / К гранитной полосе твоей!. А другой поэт, зная,
что он, действительно, прикован, тосковал по югу, его морю (На вершок бы
мне синего моря, на игольное только ушко...) и небу, по холмам Тосканы: -
Где больше неба мне - там я бродить готов, / И ясная тоска меня не
отпускает / От молодых еще, воронежских холмов - / К всечеловеческим,
яснеющим в Тоскане. Встречи с югом, Тосканой не произошло:
прикованность к северу оказалась роковой, как, впрочем, роковой стала и описанная
писателем встреча солнечного юга с морозным севером в судьбе знаменитой
уроженки Пьемонта Анджиолины Бозио («Египетская марка»). Эта
последняя встреча и ее результат - смерть - произошли как бы по неведению,
неосторожности, случайности; во всяком случае неизбежность еще не была
634
заложена в этой ситуации, хотя введение здесь мотива смерти не только не
случайно, но пророчески-провиденциально и потому необходимо.
IV. Соотнесение П. с Венецией и Римом, обозначенное еще Мицкевичем,
полное свое развитие получило в начале XX в., когда в предчувствии
катастрофы актуализировались историософские смыслы именно этих
итальянских городов как образов-символов П., указующих и его судьбу.
Разумеется, существует целый ряд оснований для соотнесения П. с
Венецией: природные условия (чередование воды и суши, всепроникающий
характер водной стихии, плоскостность и «островность»), «космичность»
(открытость воде, небу, солнцу, подчеркнутость нередко пророческих закатов)
и как следствие - некая иллюзорность, призрачность, миражность, а также
отдельные аспекты мифологизированной генеалогии и эсхатологии (и
возникновение и гибель обоих городов связаны с водной стихией), ландшафт-
ность, включающая в себя и «природное» (характер невской дельты и
венецианский лагуны) и «культурное», архитектурный антураж (как состав его
элементов, так и установка на своего рода «декоративность»), «нерус-
скость», общий колорит фантастичности (П. как самый фантастический и
умышленный город, идея, идущая от Достоевского и имеющая свою
богатую судьбу, и Венеция, чья «фантастичность» стала клише, в частности, в
русской литературе об этом городе, ср. у Суворина: «В мире нет города
более красивого, фантастического, более декоративного. Декорации везде и
прежде всего красота, оригинальность фантастические... Святой Марк -
чистая фантасмагория. Фантазия декоратора не могла бы создать ничего
более изумительного» или у Перцова: «В воздухе фантастическое смешение
красок», «Фантастическое смешение всех настроений и вкусов, всех стилей
и эпох» и т.п.), красота, «маскарадно-карнавальное» начало и т.п. О
последнем см. теперь в тезисах И.П. Уваровой о венецианском мифе в культуре П.
Нет необходимости говорить об этой стихии в Венеции - тем более, что в
русской (оригинальной и переводной) литературе начала века этот мотив
был из числа самых распространенных и излюбленных. В П. эта стихия имеет
давние «итальянские» (в значительной степени именно венецианские)
корни - итальянские актеры еще в XVIII в. на углу Марсова поля разыгрывали
комедии масок; неподалеку, в шереметевском Фонтанном доме
устраивались знаменитые «машкерады» (здесь же бывал и «арлекин» Павел I, для
которого карнавальное начало было весьма существенным, ср. мандель-
штамовское Здесь арлекин вздыхал о славе яркой; известно, что хозяин дома
Н.П. Шереметев в свою очередь был сотрапезником Павла в роковую для
него ночь, ср. последнюю ночь Казановы перед арестом в Венеции,
описанную им в его книге); маскарады процветали в 30-40-е годы XIX в. (напр., у
Энгельгардта), ср. лермонтовский «Маскарад», при дворе, в знатных домах;
карнавальная масленичная традиция исстари имела и свои народные формы.
В начале XX в. «карнавально-масочное» актуализировалось необыкновенно
и, в частности, в тех же местах, ср. «Привал комедиантов» в том же углу
Марсова поля (здесь были фрески работы Судейкина с итальянскими
масками, с одной из которых связывали «Доктора Дапертутто» - Мейерхольда в
венецианской бауте) или Фонтанный дом (ср. ряженых, приходящих сюда в
новогодний вечер, - теней из 13-го года в «Поэме без героя»: Вы ошиблись:
Венеция дожей - / Это рядом... Но маски в прихожей, / И плащи, и жезлы,
635
и венцы I Вам сегодня придется оставить..,', другие символы той же
стихии - Дапертутто, Арлекин, Пьеро, Коломбина, тень «без лица и названья»,
участники «Гофманианы» - калиостры, маги, лизиски, наряженный
полосатой верстой; вся маскарадная болтовня, Путаница-Психея и т.п.; и даже
Гость из будущего, пришедший сюда, повернув налево с моста, позже). Но
и не только здесь: ср. практический и теоретический интерес к комедии
масок, деятельность Мейерхольда, «Незнакомку» и «Балаганчик», «Любовь к
трем апельсинам» (в частности, статьи Соловьева), работы Судейкина,
Сапунова, Головина, актуализацию Гоцци и Гофмана, внимание к образам
Лонги (между прочим, к баутам в ридотто), «Венецианские безумцы» и
многое другое вплоть до постановки «Маскарада» в Александрийском театре
(25 февраля 1917 г.), символически совпавшей с началом Февральской
революции. Современный исследователь пишет: «Но в эпицентре мифа
(венецианского. - В.Т.) оказывается все-таки не город, но венецианская маска.
"Эпидемия масок", захлестнувшая П. 10-х годов, втягивала в себя миф о
венецианском карнавале... символизм покидал поле всемирной мистерии,
теряя вселенские символы. Блок сказал: "У нас лица обожжены,
обезображены лиловым сумраком". Тогда и явилась маска. Скрывающая,
мистифицирующая, обещающая соблазн лукавых обманов, иронии и забвения, она
провожала искусство в его гордом отступлении, в его движении от мистерии к
маскараду. Высокая утопическая идея преобразования жизни через театр
уступала место утопической театрализации». Но главное, наиболее
глубинное, историософски напряженное и заостренное, что объединяло П. с
Венецией, было зревшее в нем сознание-предчувствие собственной
обреченности, заката, «катаклитичности» -смерти. В начале века П. как бы дорос
до понимания венецианской ситуации за век перед этим, когда Венецианская
республика перестала существовать, проникся ее чувствами, осознал, что
«безумные» карнавалы ее последних лет - это и попытка заговорить
смерть-гибель и уже, в глубине души, примирение с нею, и приготовился
принять ее, Венеции, судьбу, но в еще неизвестных и оказавшихся
неизмеримо более страшными и трагическими формах (можно напомнить, что в
последние годы «прежней» Венеции (1782) ее посетил Павел под «маской»
Prince du Nord; почувствовал ли он торжественность и трагичность
«венецианской» ситуации, неизвестно, но современный зритель известной картины
Гварди «Festeggiamenti in onore dei conti del Nordo» не может не
почувствовать этой ситуации и тени обреченности в самом этом празднике,
предшественнике теперешних печальных венецианских карнавалов). С тех пор
умирание Венеции стало внутренне укорененным свойством города, о
чем не раз писалось и, может быть, наиболее впечатляюще, с
невысказанным предчувствием-пророчеством перед самой революцией и сразу после
нее. «Умирание или как бы тонкое таяние жизни здесь разлито во всем, -
пишет Муратов, - ...Не тени ли это, не тень ли и гондола, без шума и без
усилия увозящая нас к Венеции? И самые эти воды - не воды ли смерти,
забвения» (глава «Летейские воды», открывающая очерк о Венеции; ср. ахматов-
ское там, у устья Леты - Невы в «Поэме», пушкинский эпиграф... Я воды
Леты пью,,, и даже другой - из «Дон Жуана» - эпиграф: Di rider finirai pria
dell·aurora). Умирание Венеции - тонкая субстанция, и она не предполагает
смерти и тем более гибели ее жителей: во всяком случае им нечего постоян-
636
но бояться за свою жизнь. Иное дело в П. - Помоги, Господь, эту ночь
прожить, I Я за жизнь боюсь, за твою рабу, / В Петербурге жить, словно
спать в гробу. И не случайно, что именно Мандельштам понял и общий,
главный смысл венецианской жизни и что она преобразует в его
собственной: Веницейской жизни мрачной и бесплодной I Для меня значение
светло. I Вот она глядит с улыбкою холодной / В голубое дряхлое стекло...
Всех кладут на кипарисные носилки, / Сонных, теплых вынимают из
плаща. IIИ горят, горят в корзинах свечи, / Словно голубь залетел в ковчег. /
На театре и на праздном вече / Умирает человек. //... /Тяжелы твои,
Венеция, уборы, IВ кипарисных рамах зеркала. / Воздух твой граненый. В
спальне тают горы / Голубого дряхлого стекла... Ц Только в пальцах роза или
склянка, - I Адриатика зеленая, прости\ - / Что же ты молчишь, скажи,
венецианка, / Как от этой смерти праздничной уйти! // Черный Веспер в
зеркале мерцает. / Все проходит. Истина темна / Человек родится.
Жемчуг умирает. / И Сусанна старцев ждать должна. В П. умирание, смерть
города и мучения, гибель человека связаны по самой своей сути, ибо П. -
«последний круг дантова ада - Коцит» (Анциферов), о котором сказано «Noi
passamm'oltre, là dove la gelata / Ruvidamente un altra gente fascia» (Inf. XXXIII,
31), что уже было сопоставлено с одним из вариантов петербургской
эсхатологии - медленное, торжественное замерзание, превращение столицы в
ледяное царство («Сон Карелина» Григоровича), ср. χ о л о д и мрак
грядущих дней и Город смерти - город сказки у Блока (по свидетельству тех, кто
пережил страшные послереволюционные и блокадные зимы, холод и темнота
причиняли большие страдания, чем голод). Во всяком случае в П. DIES
IRAE может воплощаться как Nox frigoris, ночь холода, стужи (ср. у
Мандельштама - А на губах, как черный лед, горит / Стигийского
воспоминанье звона или В черном бархате январской ночи, / В бархате
всемирной пустоты, или Черным табором стоят кареты, / На дворе
мороз трещит... И храпит и дышит тьма./ Ничего, голубка, Эвриди-
ка, I Что у нас студеная зима или, наконец, В огромной комнате,
над черною Невой, / Двенадцать месяцев поют о смертном часе, /
Струится в воздухе лед бледно-голубой... и т.п.). Русский перевод Данте
Лозинским, чьи собственные стихи были видениями-пророчествами, в этом
контексте должен восприниматься как знак высокой мистической
телеологии. Та же муза, которая вела Данте по Аду (Ты ль Данту диктовала
страницы Ада! I Отвечает: «Да»), внушила Ахматовой дантовский образ
проигранного в карты П. - Ты как будто проигран в карты / За твои роковые
марты IИ за твой роковой апрель, что отсылает к образу П. - ставке в
игре некиих высоких и недобрых демонических сил и далее к П. - игорному
дому, где как раз и был проигран город, петербургскому ridotto,
заставляющему вспомнить его венецианский прототип и его роль в жизни Венеции перед
ее концом (уместно напомнить об игре в рулетку в доме Зерщикова /
(«говорящая» фамилия) в «Подростке» в связи с образом той историософской
перспективы, которая разыгрывается в мотиве бегства разгоряченного игрой
Аркадия через центр П. и его замерзания на дровяном складе в переулке).
Стихи Ахматовой, предшествующие приведенным («Весь ты сыгранный на
шарманке, / Отразившийся весь в Фонтанке, / С ледоходом уплывший весь /
И подсунувший тень миража...»), акцентируя мотивы холода (ледоход), опу-
637
стошения, миража, заставляют вспомнить и «венецианскую» трактовку
Фонтанки, ср. Фонтанный дом и Венецию дожей, венецианские ассоциации
у В. Арене («Фонтанка», 1915,23) и Б. Лившица (Что - венетийское
потомство... в стих. «Фонтанка», где «венецианское» протягивает руку
Достоевскому: - И сквозь рябые черныши /Дотянешься, как Достоевский, I До дна
простуженной души?; кстати, Черныши, по сути дела, локус раннего
Достоевского, его «Бедных людей», к «венецианскому» ср. также у самого
писателя о «дожеских окнах» и «ихних голоштанных дожах» в связи с
архитектурными вкусами тогдашнего П.), бывший Итальянский дворец (с
находящимся за ним Итальянским садом) на Фонтанке, выходящую к Фонтанке, по
другую ее сторону, Б. Итальянскую и т.п., ср. «венецианское» в Летнем саду -
от статуй до фонтанов (давших название реке), которые в петровскую
эпоху, а отчасти и позже, воспринимались как «итальянское» (ср. сквозную
тему фонтана в тютчевской «Итальянской вилле», важную для поэта как в
символическом, так и в аллегорическом планах, ср. «Фонтан»).
Римская тема «итальянского» П. также очень существенна, и она
разделяет первенство с венецианской. В них есть общее - блеск,
великолепие, слава, но время, их породившее, - в прошлом, и отсюда - тема
преходящее™, умирания, свершения приговора судьбы. Но есть и разное.
Венецианская тема интимнее, она в большей степени связана с человеком, в ней
присутствует «тайная струя страданья». Римская тема громче, звучнее, ярче, от-
крытее, и обращена она не столько к человеку, сколько к государству, к
власти, к величию и глубинно и метонимически - к России. Рим и есть образ
этой власти-величия во всей ее полноте и славе, образ державы, Империи,
мира в целом (Рим - мир постоянно связываются в русской поэзии, и
соответствующие слова взаимно друг друга анаграммируют). Тема П. как
нового, «третьего», подлинного Рима, как уже говорилось, родилась и многое
окрашивала еще в петровские времена и была сугубо официальна и насквозь
идеологична. Поэтому в отношении П. нельзя говорить о его «римском»
слое, как говорилось выше о «венецианском», но следует помнить о Риме
как образе огромной символической тяги и важнейшем историософском
ориентире, некоей сверх-функции, прототипической конструкции, форме.
В этом смысле «исторический» Рим должен быть отделен от вечного,
вневременного Рима. Первый преходящ, он весь в прошлом, о котором можно
судить по дошедшим до нас отзвукам славы и по его руинам, остаткам, по
его праху. И в своем распаде Рим производит неизгладимое впечатление,
насылает свои сны на тех, кто в нем оказался, влечет к себе. Рвется душа,
нетерпеньем объята, IК гордым остаткам падшего Рима, - пишет
Баратынский, сознающий, однако, что увидит он там только Прах поэтический
древнего Рима. Призрачен ночной Рим, но этот призрак волшебен и это призрак
не просто города, но мира: В ночи лазурной почивает Рим - / Взошла луна
и овладела им, / И спяший град безлюдно-величавый / Наполнила своей
безмолвной славой... II Как сладко дремлет Рим в ее лучах\ / Как с ней
сроднился Рима вечный прах\.. / Как будто лунный мири град почивший - /
Все тот же мир, волшебный, но отживший... («Рим ночью» Тютчева).
Тот, кто был свидетелем римской славы даже при прощании с ней, кто видел
Во всем величьи... Закат звезды ее кровавой, - счастлив, потому что он
посетил сей мир I В его минуты роковые и причастился к бессмертию (ср. дру-
638
гой образ заката в «Mal'aria»: Божий гнев, Во всем разлитое, таинственное
зло, IВ цветах, в источнике, прозрачном как стекло, /Ив радужных лучах,
и в самом небе Рима\ и возможный смысл тех явлений, которые
Предвестники для нас последнего часа / И усладители последней нашей муки).
Высокие символические смыслы, связываемые с Римом, определяют и мандель-
штамовские образы вечного города, реализующие и личную
прикосновенность к нему, связь северного, русского, петербургского с римским, и над-
личный «парадигматический» статус города. Рим и снег мешался не только
в песнях Овидия (ср. «О временах простых и грубых...»), но и у самого
Мандельштама. - Взяв посох, мою свободу, / Сердцевину бытия... Я земле не
поклонился... И в далекий Рим пошел. // А снега на черных пашнях / Не
растают никогда... / Снег растает на утесах, / Солнцем истины палим. / Прав
народ, вручивший посох / Мне, увидевшему Рим. - Рим -родина,
неизбежно возвращающаяся к поэту: Да будет в старости печаль моя светла: /
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся; / Мне осень добрая волчицею
была, I И - месяц цезарей - мне август улыбнулся. Рим -естественная
родина и принадлежит всем, поскольку он мир и одновременно природа, ее
образ, отражение, зеркало - Не город Рим живет среди веков, IА место
человека во вселенной; - Природа - тот же Рим и отразилась в нем. И уже
перед своей гибелью, снова обратившись к Риму, за которым частично
угадывается и другой город {Город, любящий сильным поддакивать, который
Превратили в убийства питомник, где Ямы Форума заново вырыты, где
диктатор-выродок и где Мощь свободная и мера львиная I В усыпленьи и
в рабстве молчит), Мандельштам скажет о нем - Рим-человек («Рим»),
подчеркнув этим уравнением и антропоцентричность Рима и «римоцентрич-
ность» человека. Так же и П. вписан в «римскую» культурно-историческую
перспективу, между прочим, и в более широком контексте связей (и тяги-
устремленности) «русского» и «итальянского», «средиземноморского» - о τ
воспоминаний детства («Как убедительно звучали эти размягченные
итальянским безвольем, но все же русские скрипичные голоса в грязной
еврейской клоаке» - о еврейском оркестре в Дуббельне, когда при исполнении
Чайковского мальчик испытывал «болезненное напряжение, напоминавшее
желание Неточки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный
концерт за красным полымем шелковых занавесок») и до настроений
последних лет жизни - Любезный Ариост, быть может, век пройдет -IB одно
широкое и братское лазорье I Сольем твою лазурь и наше черноморье. /
...И мы бывали там. И мы там пили мед или - И ясная тоска меня не
отпускает / От молодых еще, воронежских холмов - / К всечеловеческим,
яснеющим в Тоскане (к невозможности осуществления этих связей ср.
призыв «не искушать чужих наречий» (Ведь все равно ты не сумеешь стекло
зубами укусить) - тем более, что они как бы присутствуют in mice в родном
языке, ср. в стих. 1920 г. - Слаще пенья итальянской речи /Для меня
родной язык, I Ибо в нем таинственно лепечет / Чужеземных арф родник).
«Римская» тема имеет еще один важный акцент - Рим как мировой
центр католичества, столица католического сверхгосударства, как точка
отталкивания и притяжения, повод для опасений, соблазнов, искушений,
страхов, противостояния, но и для любопытства, пристального внимания,
тайного влечения, а потом и измены своей вере, разрыва с православием, «ухода
639
в Рим». Не было в России другого столь «католичного» и «римоопасного»
места, как П., город устойчивого и немалочисленного католического
населения, храма Св. Екатерины, Римско-Католической духовной Коллегии,
Дома иезуитов, где в начале XIX в. обучались русские юноши из лучших семей,
католического кладбища, город, откуда рекрутировались первые русские
католики-одиночки и где в начале XX в. вокруг Леонида Федорова, экзарха
будущей католической русской церкви греческого обряда, сложился первый
кружок последователей этой конфессии. Двойственность положения П.
(максимум «католического» в России и ближайшее соседство с ним, с одной
стороны, и максимум противостояния ему в «антикатолических»
сочинениях, выходивших из-под пера духовных лиц, историков, философов,
публицистов, писателей и т.п., с другой) объясняет и острейшую полемику против
католического Рима (И в наши дни - дни Божьего суда - / Свершится казнь
в отступническом Риме / Над лженаместником Христа - в тютчевской
«Encyclica») и те настроения, которые отражены у Мандельштама: -
Поговорим о Риме - дивный град - / Он утвердился купола победой. /
Послушаем апостольское credo I Несется пыль, и радуги висят! // На Лвентине
вечно ждут царя... На дольный мир бросает пепел бурый / Над Форумом
огромная луна, IИ голова моя обнажена, -/О, холод католической тонзуры\
(ср. в стих. «Аббат»: Я поклонился, он ответил / Кивком учтивым головы /
И, говоря со мной, заметил: / «Католиком умрете вы!»).
«Римско-католическое» в П. и весь этот «Рим - мир» актуализировал старую тему
«Третьего Рима», которая ассоциировалась непосредственно с П. (ср. роман Г.
Иванова о П. «Третий Рим» или - косвенно - тот ракурс, который подчеркнут в
«Петербургских строфах»: А над Невой - посольства полумира, /
Адмиралтейство, солнце, тишина). / И государства жесткая порфира, / Как
власяница грубая, бедна и т.п.), или опосредованно, в широкой историософиче-
ской перспективе, с далеко идущими ассоциациями: - А в Угличе играют
дети в бабки... По улицам меня везут без шапки, I И теплятся в часовне
три свечи. // Не три свечи горели, а три встречи, - / Одну из них сам Бог
благословил, / Четвертой не бывать, а Рим далече, - / И никогда он Рима
не любил... Царевича везут, немеет страшно тело, / И рыжую солому
подожгли. В том же 1916 г., накануне трагедии, - ясное сознание умирания П.,
и предстоящей смерти - В Петрополе прозрачном мы умрем, / Где
властвует над нами Прозерпина, / Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, /
И каждый час нам смертная година; - Декабрь торжественный сияет над
Невой. /Двенадцать месяцев поют о смертном часе (ср. в 1918 г.:
Прозрачная весна над черною Невой / Сломалась, воск бессмертья тает, / О, если
ты звезда, - Петрополь, город твой, / Твой брат, Петрополь, умирает).
«Третий Рим» становится царством смерти, кончается П., «обрывается
Россия» - Ты знаешь, мне земля повсюду / Напоминает те холмы... Где
обрывается Россия / Над морем черным и глухим (в предвосхищении темы
воронежских и тосканских холмов). Эти эсхатологические настроения, в
которых П. и Россия сопрягались с Римом, были распространены и сразу же
после революции (Друзья! Мы -римляне... Г. Шенгели, Мы Запада
последние осколки Вагинова и др.), когда «Третий Рим» - П., Россия - раскрывался
«как возможный, несозревший или ложный Рим» (A.M. Ранчин), и
значительно позже, у Бродского - как в его «петербургский» период (для поэта,
640
жителя П., Рим = Империя (насилие, власть), но Империя =
послереволюционная Россия), так и в «заграничный», ср. о «Римском тексте» этого
периода у Ранчина: «Механизм поэзии Бродского, основанный на смене
означаемых и означающих, предполагает, что "антиримский" план содержания и
"римский" план выражения... поменяются местами - т.е. будет создан "римо-
центричный" по смыслу текст, по поэтическому стилю очень далекий от
классических образцов. Перекодировка осуществлена в "Римских
элегиях"... Переосмысление поддержано автоцитацией (ср. "Письма римскому
другу" и др.). Приход в Рим трактован как паломничество, возвращение в
отечество. "Римские элегии" - вариация мотивов "Римских сонетов"
Вяч. Иванова, воспевающих новую исконную родину. Контекст "Римских
элегий" - стихотворение... "Сан-Пьетро", рисующее итальянский П.,
"эклоги" - переосмысление "доэмигрантского" РТ ("Римского текста". - В.Т.) и
освобождение от власти "империи". Ритуальное погребение... лирического
героя в завершающих строках XII "Римской элегии" обозначает прощание с
поэзией, расставание с РТ автора. Он прочтен "до конца наоборот".
Одновременно в обратном направлении - от "римоцентричности" к "римоцентро-
бежности" - "последний поэт" И. Бродский проходит по РТ русской поэзии
(ср. "римский" путь "последнего поэта" О. Мандельштама)». Отзвук старой
концепции обнаружит себя в стих. «Умершему другу», посвященном
замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима другу. С этим обменом,
выворачиванием ситуации наизнанку ср. отношение двух тем - «русский Рим» (по
крайней мере, от Гоголя и первых русских художников-итальянцев до
Вяч. Иванова), в основном, конечно, «петербургский Рим» и «итальянский
Петербург» (в значительной степени - «римский»).
Наряду с «венецианским» и «римскими» компонентами темы «Италия
в П.» заслуживает внимания и «флорентийский» слой. В количественном
отношении он сильно уступает двум первым, и чаще всего его связь с П.
менее бросается в глаза: она - корневая, глубинная и определяется прежде
всего образом Данте, певца Ада и изгнанника, который и в изгнании не мог
забыть О своей Флоренции желанной, / Вероломной, низкой,
долгожданной. Особенно остро флорентийско(тосканско)-дантовская тема
переживалась другим изгнанником, сполна узнавшим «черствые лестницы» и
взявшим себе в последние годы своей жизни в проводники по аду именно
Данте. Для Мандельштама 37-й год раскрылся на Данте, и образы дантов-
ского Ада схватывают суть трагедии, развертывавшейся hic et nunc:
Слышу, слышу ранний лед, / Шелестящий под мостами, / ...С черствых
лестниц, с площадей / С угловатыми дворцами / Круг Флоренции своей -
Алигьери пел мощней / Утомленными губами. // Так гранит зернистый
тот I Тень моя грызет очами, / Видит ночью ряд колод, /Днем
казавшихся домами... И несладким кормит хлебом / Неотвязных лебедей... - и
тогда же: Заблудился я в небе, - что делать? / Тот, кому оно близко,
ответь\ / Легче было вам, Дантовых девять / Атлетических дисков
звенеть. // Не разнять меня с жизнью, - ей снится / Убивать и сейчас же
ласкать, / Чтобы в уши, в глаза и глазницы / Флорентийская била
тоска. II Не кладите же мне, не кладите / Остроласковый лавр на виски
(обе версии этого стихотворения перекликаются со стих. «Неизвестному
солдату»), ср. также «Разговор о Данте».
21. В.Н.Топоров
641
«Римское» и «флорентийское» у Мандельштама входят в
исключительно густой и диагностически четкий «итальянский» культурно-исторический
контекст, в большинстве случаев - явно или неявно - замыкающийся на П.
или отсылающий к нему: Овидий, Вергилий, Цицерон, Цезарь, Август;
Данте (Алигьери), Петрарка, Тассо, Ариосто (и Орланд); Рафаэль (и ягненок
гневный с рафаэлева холста). Микельанджело (Буонаротти, и его Давид,
Моисей, Ночь), Джорджоне (и его Юдифь), Гваренги, Страдиварий,
Паганини, Бозио, «дочь бедного странствующего комедианта - basso comico» (ср.
ее похороны - «А потом кавалергарды слетятся на отпеванье в костел
Гваренги. Золотые птички-стервятники расклюют римско-католическую
певунью») , Каттанео, Duo Foscari, Травиата («Прощай, Травиата, Розина, Цер-
лина...»), чернорубашечники; Италия (Италии медуза), Рим (Капитолий,
Форум, Мост Ангела, купола, фонтаны, лестницы, ворота, площади, улицы
и проулки, желтые воды), Венеция, Флоренция (и Палаццо Питти), Верона,
Феррара; Тоскана, Пьемонт, Сицилия, Адриатика и т.д. И еще немало
«итальянского» - ср. И ты раскрывала свой аленький рот, / Смеясь,
um а ль ян я с ь, русея; - Пускай там итальяночка, / Покуда снег
хрустит, - На узеньких на саночках / За Шубертом летит (Шуберт
отсылает и к На мертвых ресницах Исакий замерз, / И барские улицы сини, /
Шарманщика смерть и медведицы ворс, / И чужие поленья в камине...
И Шуберта в шубе застыл талисман, ср. шубертовского «Шарманщика»; в
условиях П. - замерзший шарманщик скорее всего итальянец; не раз
«разыгрываемая» Мандельштамом мифологема гибели в петербургской
стуже артиста-итальянца, шире - рокового соприкосновения южного и
нежного, хрупкого (ласточка, растение, цветок) со снегом и льдом, находит
нередкие подтверждения в петербургской хронике происшествий в XIX в.); -
«Пусть ленивый Шуман развешивает ноты, как белье для просушки, а
внизу ходят итальянцы, задрав носы» и т.п.
Этот «итальянский» художественный
(архитектурно-живописно-музыкально-театральный) пласт П., некоторые точки которого расставлены
Мандельштамом, заставляет вспомнить и других (кроме отчасти уже
названных выше) его представителей на вершинном уровне. В П. ставились оперы
Чимарозы, Россини, Доницетти, Верди, Леонкавалло (петербургская опера
была в значительной степени итальянской оперой); перед зрителями на
петербургской сцене прошли балетные постановки Тальони, великие певцы,
балерины и актеры Бозио, Рубини, Цукки, Дузе, Росси, Сальвини;
петербургский люд на Масленой потешался на балаганах арлекинадами,
представлениями кукольного театра (кукольники нередко были итальянцами;
Александр Бенуа также разделял в детстве эти восторги; кстати, он говорит и о
той радости, которые доставили ему привезенные бабушкой Кавос из
Венеции марионетки; в семье Кавос были люди искусства, среди них выделялись
известный композитор Катарино Кавос и известный архитектор Альберто
Камилл Кавос); в цирке Чинизелли итальянские цирковые актеры (ср.
труппу Труцци и др.) давали представления, которые сразу же стали любимым
развлечением петербуржцев, объединявшим все возрасты, начиная с
детского; петербургские архитекторы-«неоклассики» начала века сменили
прежнее увлечение ордерами Виньолы на серьезную проработку паллади-
анских принципов, а несколько позже на творческое изучение итальянских
642
ренессансных стилей (Микеле сан-Микеле, Серлио, Скамоцци и др.). К
концу XIX - началу XX в. в П. образовался достаточно плотный,
многокомпонентный, эстетически высокоценный и многое обещающий в будущем
художественный «итальянский» слой. В отдельных родах искусств и в целом их
составе усиливались плодотворные синтетические тенденции; они обещали
то же цветение талантов, которым отмечен клан Бенуа-Кавосов, в котором
смешались французские, итальянские, немецкие, русские струи. В «Моих
воспоминаниях» Александр Бенуа, высоко оценивавший эти синтетические
тенденции, писал: «Петербург, или точнее Санкт-Петербург, означает
город-космополит, город, поставленный под особое покровительство того
святого, который уже раз осенил идею мирового духовного владычества - это
означает "второй" или "третий" Рим». Быть Римом, каким бы то ни было по
счету, как раз и значит нести в себе образ Италии, «итальянского». П.
оказался достойным этой высокой роли.
ИЗ РАЗДЕЛА X:
ТЕКСТ ПЕТЕРБУРГА И МИФОЛОГИЯ ГОРОДА
ПЕТЕРБУРГ
И «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
(Введение в тему)1
I. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИДЕЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ.
ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА
И призрачный миражный Петербург («фантастический вымысел»,
«сонная греза»), и его (или о нем) текст, своего рода «греза о грезе», тем
не менее принадлежат к числу тех сверхнасыщенных
реальностей, которые немыслимы без стоящего за ними целого и,
следовательно, уже неотделимы от мифа и всей сферы символического. На иной
глубине реальности такого рода выступают как поле, где разыгрывается
основная тема жизни и смерти и формируются идеи преодоления смерти,
пути к обновлению и вечной жизни. От ответа на эти вопросы, от
предлагаемых решений зависит не только то, каковою представляется
истина, но и самоопределение человека по отношению к истине и, значит, его
бытийственный вектор. Именно поэтому тема Петербурга мало кого
оставляет равнодушным. Далекая от того, чтобы быть исчерпанной или
окончательно решенной, она характеризуется особой антитетической
напряженностью и взрывчатостью, некоей максималистской установкой
как на разгадку самых важных вопросов русской истории, культуры,
национального самосознания, так и на захват, вовлечение в свой круг тех,
кто ищет ответ на эти вопросы. Прорыв к этой более высокой
реальности, вводящий в действие новые энергии, в случае «иного» Петербурга
осуществляется или с помощью интуитивного постижения целого, или
путем вживания в усваиваемые себе образы Петербургского текста, все
время соотносимые с самим городом, с «этим» Петербургом, но не
отвлеченно, а конкретно - hic et nunc. Петербургский текст, представляющий
собой не просто усиливающее эффект зеркало города, но устройство, с
помощью которого и совершается переход a realibus ad realiora,
пресуществление материальной реальности в духовные ценности, отчетливо
сохраняет в себе следы своего внетекстового субстрата и в свою очередь
требует от своего потребителя умения восстанавливать («проверять»)
связи с внеположенным тексту, внетекстовым для каждого узла
Петербургского текста. Текст, следовательно, обучает читателя правилам
выхода за свои собственные пределы, и этой связью с внетекстовым живет
и сам Петербургский текст, и те, кому он открылся как реальность, не
исчерпываемая вещно-объектным уровнем.
644
Тема Петербурга, как и сама «петербургская» идея русской истории,
сильно пострадала и во многих отношениях приобрела искаженный вид из-
за чрезмерной идеологизации (чаще эмоциональной, чем рациональной)
проблемы и вытекающих из этого следствий. Одним из них является
непомерное развитие субъективно-оценочного подхода, полнее всего
выступающего в русле плоского историзма. Разумный тезис о немыслимости
понимания определенного периода русской истории, культуры и литературы без
уяснения феномена Петербурга слишком часто искажался тем, что оценка,
как правило, опережала уяснение, которое тем самым становилось все
более труднодостижимой задачей. Оценка оказывалась не беспристрастной
фиксацией взаимозависимостей между явлениями двух разных сфер, а чем-
то первичным, сплошь идеологизированным и в высшей степени
субъективным; мотивировка оценки в таких случаях подбиралась задним числом. То,
что субъективное начало набирало особую силу в связи с петербургской
темой, далеко от случайности и весьма симптоматично. В данном случае,
однако, плоха не сама субъективность (более того, можно сожалеть, что в
огромном большинстве случаев она оказывалась недостаточно
последовательной, уклоняясь с пути максимального самовыявления, прикрывая себя
вторичными, «идеологизированными» мотивировками), а ее, так сказать,
неуверенность в себе, апелляция к чему-то внешнему, что по условию
не может обладать той целостной достоверностью, которая присуща
беспримесно чистой структуре Я. Д ρ у г и м следствием искажающей суть
дела идеологизации нужно считать тот вид дурного историзма, который, с
одной стороны, берется судить и рядить о Петербурге в зависимости от
общего отношения к создателю Петербурга Петру I2 и ко всему
«петербургскому» периоду русской истории, а с другой стороны, берет на себя
ответственность решать, что хорошо и что плохо и, главное, подводить некий
нравственный баланс в связи с Петербургом3. В данном случае речь идет о
непреоборимой эгоистической тенденции к нравственному комфорту, об
отсутствии мужества стоять лицом к лицу с вопросом, который решить нельзя и в
самой нерешенности и нерешаемости которого кроется его последняя
глубина: Петербург - центр зла и преступления, где страдание превысило меру
и необратимо отложилось в народном сознании; Петербург - бездна, «иное»
царство, смерть, но Петербург и то место, где национальное самосознание и
самопознание достигло того предела, за которым открываются новые
горизонты жизни, где русская культура справляла лучшие из своих триумфов,
так же необратимо изменившие русского человека. Внутренний смысл
Петербурга, его высокая трагедийная роль, именно в этой несводимой к
единству антитетичности и антиномичности, которая самое смерть кладет в
основу новой жизни, понимаемой как ответ смерти и как ее искупление, как
достижение более высокого уровня духовности. Бесчеловечность
Петербурга оказывается органически связанной с тем высшим для России и почти
религиозным типом человечности, который только и может осознать
бесчеловечность, навсегда запомнить ее и на этом знании и памяти строить новый
духовный идеал. Эта двуполюсность Петербурга и основанный на ней соте-
риологический миф («петербургская» идея) наиболее полно и адекватно
отражены как раз в Петербургском тексте русской литературы, который
практически свободен от указанных выше недостатков и актуализирует
645
именно синхронический аспект Петербурга в одних случаях и панхрониче-
ский («вечный» Петербург) в других. Только в Петербургском тексте
Петербург выступает как особый и самодовлеющий объект художественного
постижения, как некое целостное единство4, противопоставленное тем
разным образам Петербурга, которые стали знаменем противоборствующих
группировок в русской общественной жизни. И это становится возможным
не в последнюю очередь именно потому, что обозначенное «цельно-единст-
во» создает столь сильное энергетическое поле, что все «множественно-
различное», «пестрое», индивидуально-оценочное вовлекается в это поле,
захватывается им и как бы пресуществляется в нем в плоть и дух единого
текста: плоть скрепляет и взращивает этот текст, дух же определяет
направление его движения и глубину смысла текста. Поэтому - в известном
отношении - все частное фиксируется «вторично», «инструментально-приклад-
нически», как бы походя, почти сомнамбулически, на уровне не до конца
проясненного сознания или сознания, лишенного должной смысловой
тяги, - в подчинении императивам, исходящим из цельно-единого. Именно в
силу этого «субъективность» целого парадоксальным образом
обеспечивает ту «объективность» частного5, при которой автор или вообще не
задумывается, «совпадает» ли он с кем-нибудь еще в своем описании Петербурга,
или же вполне сознательно пользуется языком описания, уже сложившимся
в Петербургском тексте, целыми блоками его, не считая это плагиатом, но
всего лишь использованием элементов парадигмы некиих общих мест,
клише, штампов, формул, которые не могут быть заподозрены в акте плагии-
рования.
Впрочем, и эта идеологическая рознь вокруг Петербурга не может быть
здесь полностью обойдена и должна быть вкратце обозначена. На одном
полюсе признание Петербурга единственным настоящим (цивилизованным,
культурным, европейским, образцовым, даже идеальным) городом в России.
На другом - свидетельства о том, что нигде человеку не бывает так тяжело,
как в Петербурге, анафематствующие поношения, призывы к бегству и
отречению от Петербурга.
Здесь нет смысла говорить о «п о л о ж и τ е л ь н о м» Петербурге,
удивительном, единственном в своем роде городе, вызывающем всеобщее
(казалось бы) восхищение: вся петербургская одопись XVIII в., в тех или иных
формах проникшая и в XIX в., захватив три первых десятилетия его (есть
основания говорить об особом «Люблю»-фрагменте Петербургского текста,
ср.: Люблю, тебя, Петра творенье, /Люблю твой строгий, стройный
вид, /... /Люблю зимы твоей жестокой /... / Люблю воинственную
живость /.../Люблю, военная столица / ... и многие другие примеры),
свидетельствует о силе «петербургского» эффекта на сознание и тех, чья
жизнь протекала в этом городе, и тех, кто впервые встречался с ним, - от
просвещенного вельможи и тонко чувствующего и умеющего передать свои
чувства поэта до крестьянина и ремесленника, оказавшегося в Петербурге
по случаю и решившего связать с ним судьбу или проведшего здесь
некоторое время, но навсегда усвоившего себе, что такое этот город. Может быть,
именно поэтому «народное» слово о «прелестях» Петербурга, чаще всего
погребенное в толще времени и лишь изредка доходящее до нас, особенно
важно. Оно недвусмысленно говорит о том, что в Петербурге каждый нахо-
646
дил свое, и сам город открывал приезжему то «свое», что могло быть им
усвоено с пользой или удовольствием, благодарностью или восхищением, во
всяком случае по своей потребности, разумению, вкусу. Это народное слово
о Петербурге расходилось по всей стране. В одних случаях оно становилось
«общим местом» и как таковое даже вошло в «экспозиционную» часть
исторических песен - Что во славном городе что было во Питере; У нас было
на Святой Руси, / На Святой Руси в славном Питере; Что у нас было на
Святой Руси, I В Петербурге в славном городе; Как по славной матушке
Неве-реке, / Подле устьица ее широкого, / Что при самом ли истоке бы-
строем и т.п.6 В других случаях - следы личного, «приятственного» и
вполне конкретного знакомства с городом. В далекой Самарской губернии
распевали - Что за славная столица / Славный город Питербург, / Испроездя
всю Россию /Веселее не нашел. / Там трактиров, погребов / И
кофейных домов, I Там таких красоток много, / Будто розовый цветок...1 Но и
в самом Петербурге простой люд пел: И - расприкрасная столица, /
Славный город Питинбрюх* / Шел по Невскому прошпехту / Сам с перчаткой
рассуждал9 (ср.: «Поди доложись, барин, мол, из Петенбурха
приехал! - Из Петербурга?!..» СР. Минцлов - «За мертвыми душами», разговор
происходит в глуши Смоленской губ. в начале XX в.; к мотиву «веселости»
Петербурга ср. название локуса, где, собственно, и возник «первый»
Петербург - Lust-Eiland, т. е. Веселый остров - Заячий остров; в своей рукописи,
составленной в 1712-1714 гг., Л.Ю. Эренмальм, оказавшийся в 1710-1712 гг.
в Петербурге в качестве пленника, упоминает о «прекрасном устье» Невы,
а также о «столь многочисленных веселых острова х»). Некоторая
ирония последнего стиха понятна: в этом Вавилоне и не такое может
случиться, и сама эта «вавилонски-смесительная» стихия тоже подмечена
народным словом и тоже не без иронии. На народных гуляниях на Марсовом
поле (а после этого и в других местах гуляний) до самой революции
слышалось -А это город Питер, / Которому еврей нос вытер10. Это город
-русский, I Хохол у него французский, / Рост молодецкий, / Только дух -
немецкий* I Да это ничего: проветрится*. / Воды в нем - тьма тьмущая: /
Река течет преболъшущая, / А мелкие реки не меряны, / Все счеты им
потеряны...п Сам тип описания Петербурга народным словом,
построенный на указании разного, иногда даже противоположного, но разного и
противоложного м н и м о, а по сути дела акцентирующего одно и то же,
нечто вроде «Петербургу быть пусту», восходит, если верить
историческим анекдотам, еще к петровским временам. Так, рассказывают, что,
когда Петр спросил у шута Балакирева, что говорят о Петербурге,
ожидая, видимо, услышать нечто для города и для себя лестное, тот ответил
формулой, сам тип которой позже стал классическим и даже вышел за
пределы собственно «петербургской» темы: С одной стороны море, /
С другой горе, / С третьей мох, /Ас четвертой ох. Петр, отвесив шуту
несколько ударов дубиною, запретил ему говорить о Петербурге12.
По сути дела, и в текстах этого типа «положительное» и
«отрицательное» часто выступают не только в подозрительном соседстве и даже
опасном смешении, но в той тесной и органической связи, где одно и
другое находятся в отношении взаимозависимости, где они - при
определенном взгляде - дополняют и обусловливают друг друга.
647
Но здесь важнее обратить внимание на то, ч τ о в Петербурге виделось
как отрицательное, потому что ни к одному городу в России не было
обращено столько проклятий, хулы, обличений, поношений, упреков, обид,
сожалений, плачей, разочарований, сколько к Петербургу, и Петербургский
текст исключительно богат широчайшим кругом представителей этого
«отрицательного» отношения к городу, отнюдь не исключающего (а часто и
предполагающего) преданность и любовь. Этот текст знает своих Исайий,
Иеремий, Иезекиилей, Даниилов, но и своих поносителей, клеветников,
ненавистников, а также и тех, кто находится между первыми и последними,
кто встретился с городом непредвзято или даже с преувеличенными
надеждами («гипероценка»), но не сумел найти себе в нем места и кого
перенесенные страдания «петербургского» существования сломали и /или озлобили13.
Сейчас, однако, важнее обозначить круг фрагментов, в которых люди
просвещенные, способные к рефлексии и даже многим Петербургу обязанные,
как бы отринув объективность, нарочито сгущая темное, по сути дела,
заявляют о своей несовместимости сПетербургом, за чем стоит
нечто более общее и универсальное - несовместимость этого города с
мыслящим и чувствующим человеком, невозможность жизни в Петербурге. Да,
в этом городе жить невозможно, и нечто подлинное, последний остаток
человеческого протестует против него, и все-таки люди этих убеждений и
чувств жили в Петербурге, продолжали жить, как правило, имея
возможность выбора, нередко соблазнительного, и получали от города нечто
неоценимо важное и нужное. Поэтому всем «анти-петербургским» филиппи-
кам и исповедям приходится доверять условно, постольку поскольку. И дело
не в том, что авторы этого «анти-петербургского» подтекста были
неискренни, легкомысленны или лишены чувства ответственности. Пожалуй,
наоборот, именно искренность, серьезность и сознание долга понуждали их
говорить о Петербурге то, что не претендовало на общую истину и не
предполагало согласия с другими, но было ценно именно своей
«субъективностью», в данном случае - истинностью и верностью самому себе hic et nunc,
и - только. После, может быть, даже завтра или, напротив, некогда в
прошлом, даже вчера эта «истина» была бы тривиальностью, ошибкой, даже
ложью, уже из-за того только, что она потеряла именно свою
«субъективность» и, значит, утратила свою бытийственность. Но как раз по этой
причине важно, не обобщая, не распространяя это мимолетное «субъективное»
слово-мнение за пределы того ситуационного локуса, где оно возникло,
ничего не преувеличивая и не ища тайн и умышленностей там, где их нет,
учесть эти «анти-петербургские» признания, исповеди, совершаемые
бескорыстно, исключительно в силу некоего внутреннего, субъективного
императива. Самое важное и существенное в том, что - по слову поэта - Das was es
и что это и было главным и истинным. Все остальное - мотивировки,
разъяснения, комментарии, параллели, оценки и т. п., - каким бы оно ни было
интересным, имеет относительный, частный характер, и никакие
противоречия и разноречия в высказываниях в этом случае не в счет.
Вот один из примеров. Молодой, 27-летний Николай Иванович Тургенев
вернулся в Россию, побывал в Москве и, наконец, приехал в Финополис
(vulgo Петербург), как он называет северную столицу в дневниковой записи
от 9 января 1817 г., или, проще, в «финское болото», как называли город
648
многие и тогда и значительно позже («финскость», «чухонскость», «ингер-
манландскость» Петербурга - важные составляющие его образа). В своем
дневнике он обычно уравновешен, суховат, деловит, временами - когда он
говорит о России, о ее положении, о политике - «теоретичен», во всяком
случае для жанра дневника. 7 ноября 1816 г. он записывает: «Порядок и ход
мыслей о России, который было учредился в голове моей, совсем
расстроился с тех пор, как заметил везде у нас царствующий беспорядок. Положение
народа и положение дворян в отношении к народу, состояние
начальственных властей, все сие так несоразмерно и так беспорядочно, что делает все
умственные изыскания и соображения бесплодными. Невыгода
географического положения Петербурга14 в отношении к
России представилась мне еще сильнейшею, в особенности смотря по
нравственному отдалению здешних умов от интересов Русского народа. Все сие
часто заставляло и заставляет меня сожалеть, что я не искал остаться в
чужих краях, т. е. в Париже... Бросить все, отклонить внимание от горестного
состояния отечества, увериться в невозможности быть ему полезным - вот
к чему - думаю я часто - должно мне стремиться»15. Несколько позже,
1 февраля 1817 г., - первая формулировка своей несовместимости с
Петербургом -«Далеко жить от Петербурга есть
непременное условие, дабы жить спокойно. Неудобства
здешней жизни ничем не вознаграждаются. В отдалении можно еще ожидать
сих вознаграждений, но вблизи они исчезают» (Указ. соч., 24); в записи от
19 июля того же года: «Петербург меня ни мало не прельщает. Не хочется о
нем и думать... Но что может быть для меня приятного в П(етер)бурге?»
(Указ. соч., 133), и это - несмотря на запись, сделанную двумя неделями
раньше (5 июля 1817 г.), в которой оглядка на Москву как бы смягчает и
оценку Петербурга, которому даже отдается предпочтение в некоем важном
отношении: «Обширность Москвы представляет, хотя и слабо, обширность
России. Пространство затрудняет сообщение людей,
следственно и образованность. Мне кажется, что при всей
Петербургской скуке лучше жить там, нежели здесь» (Указ. соч., 129).
Примерно в то же время, но гораздо трагичнее засвидетельствовал свое
отношение к Петербургу Жуковский. Проклиная этот город, он сознает, что
для него «не жить в Петербурге нельзя», и эта принудительность, которую
ты сам как бы и выбираешь, приводит к утрате обычной у Жуковского
уравновешенности, к состоянию, близкому к срыву. Авдотье Петровне
Киреевской, племяннице и другу, он пишет: «О, Петербург, проклятый
Петербург с своими мелкими, убийственными рассеяниями! Здесь, право,
нельзя иметь души! Здешняя жизнь давит меняй душит!
Рад все бросить и убежать к вам, чтобы приняться за доброе настоящее,
которого здесь у меня нет и быть не может». Тому же адресату он пишет о
себе в Петербурге: будущее не заботит его, «для меня в жизни есть только
прошедшее... Но что же вам скажу о моей петербургской жизни? Она была
бы весьма интересна не для меня! Много обольстительного для самолюбия,
но мое самолюбие разочаровано - не скажу опытом, но тою
привязанностью, которая ничему другому не дает места». И еще раз, возвращаясь к
«петербургской» теме в письме к А.П. Киреевской в Долбино: «Въехал в
Петербург с самым грустным, холодным настоящим и самым пустым будущим
649
в своем чемодане... Здесь беспрестанно кидает меня из одной противности в
другую, из мертвого холода в убийственный огонь, из равнодушия в досаду»,
и далее: «У вас только буду иметь свободу оглядеться после того пожара,
выбрать место, где бы поставить то, что от него уцелело». Личная драма не
позволяет объяснить его (и прежде всего его) суровые слова в адрес
Петербурга: в это время он против него, и это «против» отнюдь не ситуативно: и
город и люди, в нем живущие, ему тяжелы («это мумии, окруженные
величественными пирамидами, которых величие не для них существует»).
Петербург и счастье - для Жуковского почти contradictio in adjecto. Именно
так надо понимать фразу Жуковского в его шутливом письме от 1 марта
1810 г. из Москвы И.И. Дмитриеву: «Иногда, вообразив, что счастие в
Петербурге, готов взять подорожную...»16
Еще резче говорят о Петербурге люди 40-х годов - как «западники»
(и именно те, кто этому городу обязан был многим), так и «славянофилы»,
противопоставление, которое, впрочем, отступает в данном случае перед
более определяющим их позицию противопоставлением: москвичи (если не
по рождению, то по местожительству и душевной привязанности) -
петербуржцы. Нередко в отношении Петербурга они вполне единодушны:
«Питер имеет необыкновенное свойство оскорбить в
человеке все святое и заставить в нем выйти наружу все
сокровенное. Только в Питере человек может узнать себя - человек он,
получеловек или скотина: если будет страдать в нем - человек; если Питер
полюбится ему - будет или богат, или действительным статским советником»
(Белинский. Поли. собр. соч., XI, 418). «Нигде я не предавался так часто, так
много свободным мыслям, как в Петербурге. Задавленный тяжкими
сомнениями, бродил я, бывало, по граниту его и был близок к отчаянию.
Этими минутами я обязан Петербургу, и за них я полюбил его так, как
разлюбил Москву за то, что она даже мучить, терзать не умеет. Петербург
тысячу раз заставит всякого честного человека проклясть этот Вавилон...
Петербург поддерживает физически и морально лихорадочное состояние»
(Герцен. «Москва и Петербург», 1842), или даже: «Первое условие для
освобождения в себе пленного чувства народности - возненавидеть Петербург
всем сердцем своим и всеми помыслами своими» (И.С. Аксаков). Ср.
особенно слова Имеретинова из рассказа А. Григорьева «Другие из многих» (1847):
«Так или иначе, только, право, я рад, что вижу опять Петербург... Я его как-
то люблю. - За что?... - А вот, видите ли, - отвечал Он... - в нем есть одно
удивительное качество -способность тревожить разные
раны и болезни нравственной природ ы».
Уже в 60-е годы один из героев «Трудного времени» (1866) Слепцова
говорит: «Нет, в самом деле... я замечал, что Петербург как-то совсем
отучает смотреть на вещь прямо, в вас совершенно
исчезает чувство действительности; вы ее как будто не
замечаете, она для вас не с у щ е с τ в у е т». Во всех подобных случаях,
однако, страдание, связанное с Петербургом, и «момент отрицательного»,
им вызываемый (вплоть до ожесточения, ненависти), как это ни покажется
странным на первый взгляд, содержит в себе и нечто благое, «момент
положительного», заключающийся именно в освобождении чего-то
глубинно-важного, подлинного, человеческого. Впрочем, удивляться этому не
650
стоит, ибо, как сказано, где о-пасность, там ис-пасение.
Отталкивание от Петербурга; столь сильная энергия отрицательного восприятия,
что она помимо собственной воли связывает субъект с «отрицательным»
объектом, чревато, конечно, большими результатами, нежели
«ровно-незаинтересованное» (негорячее и нехолодное) отношение или игнорирование
города, то есть «недопущение» города до себя и себя до города17.
И в XX в. эта тяжба о Петербурге с акцентом на «моменте
отрицательного» продолжается. Лишь несколько примеров, принадлежащих
свидетельствам очень разных между собою людей. 18 августа 1907 г. (по почтовому
штемпелю) из Крыма Волошин пишет Вячеславу Иванову в Загорье,
объясняя тот морок, который мог иметь трагические последствия:
«Дорогой Вячеслав!... Я жду тебя и Лидию в Коктебель. Мы должны
прожить все вместе здесь на этой земле, где подобает жить поэтам, где есть
настоящее солнце, настоящая нагая земля и настоящее одиссеево море. Все,
что было неясного между мною и тобой, я приписываю не тебе и не себе, а
Петербургу. Здесь я нашел свою древнюю ясность, и все, что есть
между нами, мне кажется просто и радостно. Я знаю, что ты мне друг и брат,
и то, что мы оба любили Амори, нас радостно связало и сроднило и
разъединить никогда не может. Только в Петербурге с его ненастоящими
людьми и ненастоящей жизнью я мог так запутаться
раньше... На этой земле я хочу с тобой встретиться, чтобы здесь навсегда
заклясть все темные призраки петербургской
ж и з н и»18.
В «Моем временнике» Б.М. Эйхенбаум, вспоминая о своем приезде из
Воронежа в город, который позже он столь хорошо узнал, пишет: «Я застал
Петербург накануне смятения... Волшебный город встретил меня дождем,
наводнением, 1905 годом. В 12 часов я вздрогнул и проверил часы. Это было
у Биржи... Я поехал снимать комнату на Петербургской стороне. Вода
стояла высоко. Город вздрагивал всю ночь. Цитатой из Пушкина торчал на
скале Петр. К утру все было спокойно. Вторично поэма не удалась... На меня
нападала тоска. Петербург - не город, а государство. Здесь нельзя
ж и τ ь, а нужно иметь программу, убеждения, врагов, нелегальную
литературу, нужно произносить речи, слушать резолюции по пунктам, голосовать
и т. д. Нужно, одним словом, иметь другое зрение, другой мозг». И - как бы
обманывая ожидание: «По Васильевскому острову стали шагать немецкие
академики и российские поэты... Здесь, на набережной, недалеко от здания
12 коллегий, родилась российская словесность, превратившаяся потом в
русскую литературу»19.
Но, конечно, значительно большим количеством примеров
представлена «мягкая» ситуация: неблагоприятное впечатление от Петербурга при
первой встрече и постепенная перемена к отчетливо положительному
отношению, привязанности, любви.
Случаи подобных изменений в настроениях - как «мягких»,
постепенных, так сказать, органических, так и резких, как бы связанных с
решительным волевым выбором, нужно признать диагностически наиболее
важными. Совершается ли переход от отрицательного отношения к
Петербургу (наиболее показательный случай, своего рода свидетельство
знания двух крайних состояний, в которых Петербург может выступать, пре-
651
одоления односторонности взгляда на город и выхода к некоей
синтетической позиции, с которой Петербург воспринимается во всей его
антиномической целостности) к положительному или, наоборот, от π о л о -
жительного к отрицательному (случай менее ценный в
эвристическом отношении, ставящий под сомнение и подлинность или даже
самое ценность предыдущего положительного отношения к городу и часто
характеризующий позицию «слабых душ» с установкой на
«приспособленчество» и неспособных усвоить себе Петербург именно как
цельно-единое), - в обоих случаях, хотя и в каждом по-своему, так или иначе
присутствует презумпция исключительности Петербурга, его особого места, его
единственности в России, непохожести на все остальное.
На почве этих идей в определенном контексте русской культуры как раз
и сложилось актуальное почти уже два века20 противопоставление
Петербурга Москве, связанное, в частности, с изменившимся соотношением этих
городов21. В зависимости от общего взгляда размежевание этих столиц
строилось по одной из двух схем. По одной из них бездушный, казенный,
казарменный, официальный, неестественно-регулярный, абстрактный,
неуютный, выморочный, нерусский Петербург противопоставлялся душевной,
семейственно-интимной, патриархальной, уютной, «почвенно-реальной»,
естественной, русской Москве. По другой схеме Петербург как
цивилизованный, культурный, планомерно организованный, логично-правильный,
гармоничный, европейский город противопоставлялся Москве как
хаотичной, беспорядочной, противоречащей логике, полуазиатской деревне22. Сам
словарь этих признаков и его структура очень показательны. Наряду с
обильными и диагностически очень важными клише и более или менее
естественными следствиями из них в виде флуктуирующей совокупности
относительно индивидуализированных определений выстраиваются целые ряды
образов, предопределяющих логику и стиль сопоставительного анализа двух
городов и доводящих антитезу до крайних (нередко с тягой к анекдотизму
и парадоксу) пределов.
Ср. лишь несколько примеров: «... В самом деле, куда забросило русскую
столицу - на край света! Странный народ русский... "На семьсот верст
убежать от матушки!... Экой востроногой какой!" - говорит московский народ,
прищуривая глаз на чухонскую сторону. Зато какая дичь между матушкой и
сынком! Что это за виды, что за природа! Воздух продернут туманом; на
бледной, серо-зеленой земле обгорелые пни, сосны, ельник, кочки... А какая
разница, какая разница между ими двумя! Она еще до сих пор русская
борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как расширилась старая
Москва! Какая она нечесаная! Как сдвинулся, как вытянулся в струнку
щеголь Петербург!... Москва - старая домоседка, печет блины, глядит издали
и слушает рассказ, не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете.
Петербург - разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и
похаживает на кордоне, охарашиваясь перед Европой... Петербург весь шевелится, от
погребов до чердаков; с полночи начинает печь французские хлебы,
которые назавтра все съест немецкий народ, и во всю ночь то один глаз его
светится, то другой; Москва ночью вся спит, и на другой день, перекрестившись
и поклонившись на все четыре стороны, выезжает с калачами на рынок.
Москва женского рода. Петербург мужского. В Москве все невесты, в Пе-
652
тербурге все женихи23... Москва всегда едет завернувшись в медвежью шубу,
и большей частью на обед; Петербург, в байковом сюртуке, заложив обе
руки в карман, летит во всю прыть на биржу или "в должность"... Москва -
большой гостиный двор; Петербург - светлый магазин. Москва нужна для
России; для Петербурга нужна Россия... Петербург любит подтрунить над
Москвой, над ее аляповатостью, неловкостью и безвкусием; Москва
кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить
по-русски... Сказал бы еще кое-что, но - Дистанция огромного размера!..» {Гоголь.
«Петербургские записки 1836 года»). Или же: «Говорить о настоящем
России - значит говорить о Петербурге, об этом городе без истории в ту или
другую сторону, о городе настоящего, о городе, который один живет и
действует в уровень современным и своеземным потребностям на огромной
части планеты, называемой Россией. Москва, напротив, имеет притязания на
прошедший быт, на мнимую связь с ним: она хранит воспоминания какой-то
прошедшей славы, всегда глядит назад, увлеченная петербургским
движением, идет задом наперед и не видит европейских начал оттого, что касается их
затылком. Жизнь Петербурга только в настоящем: ему не о чем вспоминать,
кроме о Петре I, его прошедшее сколочено в один век, у него нет истории,
да и нет и будущего, он всякую осень может ждать шквала, который его
потопит. Петербург - ходячая монета, без которой обойтиться нельзя;
Москва - редкая, положим, замечательная для охотника нумизма, но не имеющая
хода... В Петербурге все люди вообще и каждый в особенности
прескверные. Петербург любить нельзя, а я чувствую, что не стал бы жить ни в
каком другом городе России. В Москве, напротив, все люди предобрые,
только с ними скука смертельная... Оригинального, самобытного в Петербурге
ничего нет, не так как в Москве, где все оригинально - от нелепой
архитектуры Василия Блаженного до вкуса калачей. Петербург - воплощение
общего, отвлеченного понятия столичного города; Петербург тем и
отличается от всех городов европейских, что он на все похож; Москва - тем, что она
вовсе не похожа ни на какой европейский город, а есть гигантское развитие
русского богатого села» (Герцен. «Москва и Петербург». 1842). Впрочем,
иногда допускалась мысль о снятии антитетичности в будущем синтезе:
«Везде есть свое хорошее и, следовательно, свое слабое или
недостаточное. Петербург и Москва - две стороны или, лучше сказать, две
односторонности, которые могут со временем образовать своим слиянием прекрасное и
гармоническое целое, привив друг другу то, что в них есть лучшего. Время
это близко: железная дорога деятельно делается» (Белинский. «Петербург и
Москва». 1845). Стоит напомнить, что дань сравнительному «петербургско-
московскому» анализу отдал и Булгарин в своем «Иване Выжигине».
Из примеров позднего времени, тоже нередких, но все-таки уже не
принадлежащих к жанру «московско-петербургских» сравнительных текстов
(особое внимание в этом смысле должна привлечь гигантская «дилогия»
Андрея Белого - «Петербург» и «Москва», в которой сравнение по сути
дела, обычно не осознаваемой в должной мере, составляет главную ось всей
конструкции, хотя многое относящееся к сравнению присутствует
имплицитно), достаточно остановиться на одном. В январе 1903 г., т.е. задолго до
«Петербурга» и «Москвы», Андрей Белый пишет Э.К. Меттнеру: «...Знаете
ли, в чем я убедился? Москва - своего рода центр - верую. Мы еще увидим
653
кое-что. Еще будем удивляться - радоваться или ужасаться, судя по тому, с
Ним или не с Ним будем (с Христом. - В.Т.). События не оставят нас в
стороне... Все же мы званы поддержать Славу Имени Его. Будем же
проводниками света и свет в нас засветится, и тьма не наполнит нас... В Москве уже
потому центр, что уж очень просится в сердце то, чему настанет когда-либо
время осуществиться... Получил от Блока письмо. Он тоже полагает, что
центр в Москве» (комментатор указывает, что Белый в данном случае,
кажется, имеет в виду письмо Блока от 3 января 1903 г.). Тема Москвы-центра
еще раз возникла примерно через год, когда в письме Э.К. Меттнеру (не
позже 25 января 1904 г.) Андрей Белый пишет: «Были Блоки 2 недели.
Происходило Бог знает что: хорошее, больше хорошее (кое-что было из области
ужасов). Язык не передаст всех тех нюансов, которые меня совершенно
вывели из колеи, так вот сейчас я даже как будто болен. Время приблизилось.
Обозначился центр в Москве. Э.К., со временем нужно, чтобы Вы жили в
Москве. Блок по окончании курса переезжает в Москву»24. Упоминания
Блока в связи с Москвой в перспективе христоцентрической идеи Андрея
Белого важны сами по себе, но эти упоминания позволяют вспомнить
кратковременный период в жизни молодого Блока, когда перспектива переезда
в Москву обсуждалась всерьез, Москва оценивалась и сама по себе и в
сопоставлении (для Москвы лестном) с Петербургом, и этот аспект блоковской
части Петербургского текста тоже нуждается в учете. В письмах 1904 г. этот
аспект обозначен достаточно четко. В письме от 14-15 января матери из
Москвы: «Очень полна жизнь. Москва поражает богатством всего» (VIII,
84). В письме от 19 января матери же: «Я думаю с удовольствием только о
нашей квартире в Петербурге. Видеть Мережковских слишком не хочу.
Тоже - всех петербургских "мистиков"-студентов. Все это - в стороне...
Хочется святого, тихого и белого. Хочу к книгам, от людей в Петербурге
ничего не жду, кроме "литературных" разговоров в лучшем случае и
пошлых издевательств или "подмигиваний о другом" - в худшем. Но будет так
много хорошего в воспоминаниях о Москве, что я долго этим проживу... на
меня пахнуло кошмаром. Но я твердо знаю, что мы тысячу раз правы, не
видя в Петербурге людей, ибо они есть в Москве. Нельзя упускать из виду
никогда существования Москвы, всего, что здесь лучшее и самое чистое» (VIII,
88). В письме A.B. Гиппиусу от 23 февраля 1904 г., делясь с ним
впечатлениями от поездки в Москву, Блок пишет: «Но мы видели и людей, не только
поэтов и писателей. Московские люди более разымчивы, чем
петербургские. Они умеют смеяться, умеют не путаться. Они добрые, милые, толстые,
не требовательные. Не скучают... Я жил среди "петербургских мистиков",
не слыхал о счастье в теории, все они кричали (и кричат) о мрачном,
огненном "синтезе". Но пока я был с ними, весны веяли на меня, а не они... В
Москве смело говорят и спорят о счастье. Там оно за облачком, здесь - за
черной тучей. И мне смело хочется счастья» (VIII, 91-92). В связи с этим
кругом настроений Блока комментатор этих писем справедливо вспоминает
слова СМ. Соловьева, сказанные позже: «В январе Блок вернулся в
Петербург завзятым москвичом. Петербург и Москва стали для него символами
двух непримиримых начал»25. Разумеется, известны и различные
спецификации этого «московско-петербургского» сравнительного текста. Здесь
можно, упомянуть о трех их видах: указание некиих наиболее общих и зна-
654
чимых сходств и /или различий26; указание предельно конкретных и
эмпирических черт, обладающих, однако, большой диагностической силой27;
указание петербургско-московских «литературных» различий и
противоположностей28.
Тексты, подобные приведенным (их число легко может быть
увеличено), при всей их «независимости» и «индивидуальности» их авторов,
обнаруживают между собой очень много общего - от самой идеи сопоставления и
семантики сопоставляемых объектов до жанрового типа, композиционных
приемов, синтаксической структуры и стилистических приемов,
фразеологии и лексики, часто - в рамках этого «сравнительного» текста - сильно тер-
минологизированной. Частотность лексики «локального» описания,
довольно жесткий отбор «ключевых» слов, высокая предсказуемость появления в
определенных местах текста и их повышенная «сигнальность», а нередко и
«идеологичность», способствующая возрастанию клишированности, - все
это приводит к тому, что в ряде случаев элементы этого словаря
приобретают статус классификаторов в соответствующих описаниях. Сопоставления
Москвы и Петербурга достаточно многочисленны в русской литературе, и
тексты, подобные цитируемым, составляют особый класс или даже жанр
сравнительной дескрипции sub specie антитезы29.
Антитетичности Москвы и Петербурга в сопоставительных описаниях
этих городов, как ни странно, лишь изредка соответствует нечто сходное в
отношении писателей-москвичей (родившихся или выросших в Москве) к
Петербургу и писателей-петербуржцев к Москве (последнее для
обсуждаемой здесь темы менее важно; нередко существен учет отношения к
Петербургу вообще писателей непетербуржцев), о чем отчасти здесь уже
говорилось. Разумеется, соответствия этого рода все-таки существуют, но они
обычно не связаны с Петербургским текстом и относятся к особым
случаям - тексты с сильным влиянием идеологических схем, тексты с
преобладанием эстетической оценки (тургеневские «Призраки»), вторичный
(«интеллигентский») фольклор бытового обихода30 и т.п. В действительности же
отношение к Петербургу несравненно сложнее и многообразнее. К
сожалению, о нем чаще всего судили по художественным произведениям и
пренебрегали свидетельствами бытового характера, которые могли бы составить
своего рода антологию. Особенно важны описания первой встречи с
Петербургом - переход от неприязни (или равнодушия) к любви, от внешнего к
внутреннему, от одностороннего к многоаспектному, от необязательных
отношений к городу к захваченности им31, о чем также уже кое-что было
сказано. Нередко противоположные чувства к Петербургу уживаются; хотя
и оказываются разведенными по разным уровням или по разным жанрам.
«Ты разве думаешь, что свинский Петербург не гадок мне? что мне весело в
нем жить между пасквилями и доносами» (A.C. Пушкин - H.H. Пушкиной.
Не позднее 29 мая 1834, СПб.), как и настоятельное желание плюнуть на
Петербург, не отменяют поэтической декларации - Люблю тебя, Петра
творенье, /Люблю твой строгий, стройный вид... Но смысловая
структура особой напряженности создается тогда, когда противоположности
вводятся в единый текст, что как раз характерно для Петербургского текста
(ослабленный случай - столкновение реального Петербурга с городом
мечты, ср. мысли Раскольникова, связанные с благоустройством Петербурга,
655
или статью Гончарова «Идеал Петербурга»). Впрочем, и вполне реальный
Петербург нередко приемлем, по-своему удобен и даже необходим при
отсутствии каких-либо высоких оснований. Помимо уже приводившихся
примеров ср. свидетельство писателя, которого никак нельзя упрекнуть ни в
симпатиях к Петербургу, ни в привязанностях к нему: «Короче тебе скажу,
что петербургская жизнь на меня имеет большое и доброе влияние: она
меня приучает к деятельности и заменяет для меня невольно расписание; как-
то нельзя ничего не делать, все заняты, все хлопочут, да и не найдешь
человека, с которым бы можно было вести беспутную жизнь - одному же
нельзя» (Л.Н. Толстой - С.Н. Толстому, нач. 1849 г., СПб.)32. В конце концов, и
на другом социальном полюсе петербургская жизнь рисовалась приемлемой
и даже не без удовольствий (Что за славная столица, развеселый (вар.
распрекрасный) Петербург] - пелось в лакейской песне). И, однако,
доминантой в отношении к Петербургу, если говорить о Петербургском тексте,
стала та смысловая конструкция, которая была впервые выражена
Григорьевым (Да, я л ю б л ю его, громадный, гордый град, / Но не за то, за что
другие; /... / Я в нем л ю б л ю,о нет\ Скорбящею душою / Я прозираю в нем
иное, -1 Его страдание под ледяной корой, / Его страдание больное. /... /
Страдание одно привык я подмечать, / В окне ль с богатою гардиной, /
Иль в темном уголку, - везде его печатъ\ / Страданья уровень единый] -
«Город») и развита Достоевским.
Не ставя здесь себе целью более подробный сопоставительный анализ
Петербурга и Москвы или их образов в литературе (а традиция такого
сопоставления не прекратилась и в XX в., ср. «Москва и Петербург» (1908)
А. Мертваго, «Три столицы» (1922) В. Шульгина, «Москва-Петербург»
(1933) Е. Замятина, «Историческая мистика Петербурга» (1993) К. Исупо-
ва - о диалоге столиц, «Петербург и Москва» (1993) М. Уварова и др.),
уместно все-таки указать один ключевой пункт, в котором Петербург и Москва
резко расходятся. При этом ведущим членом сопоставления в данном случае
нужно считать Москву, учитывая, что образ Петербурга в Петербургском
тексте во многом строится как мифологизированная антимодель Москвы.
Речь идет о важнейшей пространственной характеристике,
совмещающей в себе черты диахронии и синхронии и имеющей выход в другие
сферы (вплоть до этической). Москва, московское пространство (тело),
противопоставляется Петербургу и его пространству, как нечто органичное,
естественное, почти природное (отсюда обилие растительных
метафор в описаниях Москвы), возникшее само собой, без чьей-либо воли,
плана, вмешательства, - неорганичному, искусственному, сугубо
«культурному», вызванному к жизни некоей насильственной волей в соответствии с
предумышленной схемой, планом, правилом. Отсюда - особая конкретность
и заземленная реальность Москвы в отличие от отвлеченности,
нарочитости, фантомности «вымышленного» Петербурга. См., с одной стороны,
образ города-растения («...Замоскворечье и Таганка могут похвалиться
этим же преимущественно перед другими частями громадного города-села,
чудовищно-фантастического и вместе великолепно разросшегося и
разметавшегося растения, называемого Москвою... Во-первых, уж то
хорошо, что чем дальше идете вы вглубь, тем более Замоскворечье тонет
перед вами в зеленых садах; во-вторых, в нем улицы и переулки расходились
656
так свободно, что явным образом они росли, а не делились. Вы, пожалуй, в
них заблудитесь... Но не в воротах сила, тем более что ворот, некогда
действительно составлявших крайнюю грань городского жилья, давно уже нет, и
город-растение разросся еще шире за пределы этих ворот».
Григорьев - «Мои литературные и нравственные скитальчества»)33, а с другой
стороны, многочисленные примеры описания Петербурга как миража,
фикции (ср.: «Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но
навязчивая греза: "А что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с
ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и
исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото...?"» Достоевский -
«Подросток») и многочисленные реминисценции этого места; или -
имитируя Андрея Белого: «В ту ночь - там, в туманных концах проспектов
автомобиль сорвался с торцов, с реальностей перспектив - в туманность, в
туман - потому - что Санкт-Питер-Бург - есть таинственно-определяемое, то
есть фикция, то есть туман - и все же есть камень» {Пильняк -
«Повесть Петербургская, или Святой-Камень-Город» и т. п.). Разница в
структуре между полновесным пространством Москвы и квази-пространст-
вом Петербурга объясняет, почему в Москве живется у д о б н о34, уютно,
свободно («по своей воле»), надежно (с опорой на семью, род, традицию), а
в Петербурге - не по своей воле и безопорно. Учет этих различий важен не
только сам по себе, но и в силу того, что в Петербургском тексте
присутствует некий московский компонент, который определяет, как это ни
парадоксально, известную «москвоцентричность» Петербургского текста,
по крайней мере, в плане некоторой эмоциональной гипертрофированности
в описании петербургских реалий; в Петербургском тексте порой
обнаруживаются следы языка «московской» модели мира в виде навязывания
описываемой петербургской реальности внешних по отношению к ней критериев
и оценок. Этот «московский» слой Петербургского текста имеет свое
объяснение в самой истории формирования Петербургского текста (о чем
см. ниже). Во всяком случае, было бы ошибкой полагать, что смысл
сопоставлений Петербурга и Москвы и всего их «сопоставительного» текста
только в фиксации различий, противоположностей, расхождений, которые
не могут быть сняты, примирены, преодолены. Конечно, петербургско-мос-
ковская антонимичность и противопоставленность существуют и имеют
свое объяснение. Но все-таки эта особенность соотношения обоих городов,
безусловно важная, неслучайная и многое объясняющая, составляет - в
значительной степени - поверхностный слой проблемы. Петербург vice versa
Москва - слишком броская, эффектная, «остроумная» (в барочном смысле)
формулировка проблемы и, по сути дела, достаточно тривиальная
смысловая конструкция, чтобы не стать объектом определенной моды, предметом
попыток разыграть заложенную в ней идею до конца, до предела, с
дополнительным акцентированием, с готовностью идти на преувеличения и
упрощения. Уже одно то, что Петербург как столичный град был преемником
Москвы (и это преемство было далеко не внешним фактом: оно относилось
к конкретным людям, которые были «первыми» сначала в Москве, а потом
и в Петербурге), что и в «петербургский» период русской истории Москва не
была полностью разжалована из столиц, что - в известной степени, особенно
в отмеченные периоды - Москва дублировала Петербург, а в символической
657
сфере Москва обладала и особыми, лишь ей свойственными функциями, -
все это делает оправданной постановку вопроса о том общем, что объединяло
Петербург и Москву. Говорить здесь об этом нет ни возможности, ни
необходимости, но все-таки стоит обозначить, что любой дуализм выдвигает
проблему распределения функций между противоположными частями,
самого типа этого распределения и - что еще важнее - проблему того целого
(в глубине своей - цельно-единого), которое только и делает возможным
дуалистический тип воплощения этого «цельно-единого». И какими бы
опасными и вызывающими сожаление ни были противоречия и дисбалансы
между двумя столицами, какую бы рознь, смуту и соблазн «единого» и
однозначного решения вопроса они ни сеяли, в общем контексте русской
истории, взятой на должной глубине, оба города служили одному общему делу, в
котором, однако, общее нередко затуманивалось на поверхности тем, что
казалось разным или даже взаимоисключающим. Но по существу явления
Петербурга и Москвы в общероссийском контексте, в разных его фазах,
были, конечно, не столько взаимоисключающими, сколько
взаимодополняющими, подкрепляющими и дублирующими друг друга. «Ина-
кость» обеих столиц вытекала не только из исторической необходимости,
но и из той провиденциальности, которая нуждалась в двух типах,
двух стратегиях, двух путях своего осуществления.
II. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ:
ЕГО ГЕНЕЗИС И СТРУКТУРА, ЕГО МАСТЕРА
Как и всякий другой город, Петербург имеет свой «язык». Он говорит
нам своими улицами, площадями, водами, островами, садами, зданиями,
памятниками, людьми, историей, идеями и может быть понят как своего рода
гетерогенный текст, которому приписывается некий общий смысл и на
основании которого может быть реконструирована определенная система
знаков, реализуемая в тексте. Как некоторые другие значительные города,
Петербург имеет и свои мифы, в частности, аллегоризирующий миф об
основании города и его демиурге (об этом мифе и о его соотношении с
исторической реальностью см. работы Н.П. Анциферова и H.H. Столпянского в
первую очередь, Ло Гатто и др.). С этим мифом своими корнями связан миф о
«Медном Всаднике», оформленный в знаменитой поэме Пушкина, ставшей
одной из главных составных частей Петербургского текста, хотя
мифологизация этой фигуры царственного Всадника началась значительно раньше.
Сочетание в поэме Пушкина синтетичности, проявляющейся, в
частности, и в «композитности» ее текста, содержащего обильные явные и еще
чаще неявные цитаты, реминисценции, отсылки к другим - русским и
нерусским - текстам, с глубиной историософской мысли и, по сути дела,
с первым опытом постановки в русской литературе темы «простого»
(«маленького») человека и истории, частной жизни и высокой государственной
политики сделало «Медный Всадник» своеобразным фокусом, в котором
сошлись многие лучи и из которого еще больше лучей осветило последующую
русскую литературу. Поэма Пушкина стала некоей критической точкой,
вокруг которой началась вот уже более полутораста лет продолжающаяся
658
кристаллизация особого «подтекста» Петербургского текста и особой
мифологемы в корпусе петербургских мифов. Миф «творения» Петербурга
позже как бы был подхвачен мифом о самом демиурге, который выступает,
с одной стороны, как Genius loci, а с другой, как фигура, не исчерпавшая
свою жизненную энергию, являющаяся в отмеченные моменты города его
людям (мотив «ожившей статуи») и выступающая как голос судьбы, как
символ уникального в русской истории города35. Остается добавить, что
если своими истоками миф Медного Всадника уходит в миф творения города,
то своим логическим продолжением он имеет эсхатологический миф о
гибели Петербурга. К сожалению, до сих пор не обращали внимания или не
придавали значения тому, что «креативный» и эсхатологический мифы не
только возникли в одно и то же время (при самом начале города), но и
взаимоориентировались друг на друга, выстраивая - каждый себя - как антимиф по
отношению к другому, имеющий с ним, однако же, общий корень. Это
явление «обратной» зеркальности более всего говорит о внутренней
антитетической напряженности ситуации, в которой происходила мифологизация
петербургских данностей.
Но уникален в русской истории Петербург и тем, что ему в соответствие
поставлен особый «П етербургский» текст, точнее, некий
синтетический сверхтекст, с которым связываются высшие смыслы и цели. Только
через этот текст Петербург совершает прорыв в сферу символического и
провиденциального. Петербургский текст может быть определен эмпирически
указанием круга основных текстов русской литературы, связанных с ним, и
соответственно хронологических рамок его36. Начало Петербургскому
тексту было положено на рубеже 20-30-х годов XIX в.37 Пушкиным
(«Уединенный домик на Васильевском», 1829; «Пиковая дама», 1833 («В такое
петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого-нибудь
пушкинского Германна из "Пиковой дамы" (колоссальное лицо, необычайный,
совершенно петербургский тип - тип из петербургского периода!), мне
кажется, должна еще более укрепиться». Достоевский - «Подросток»),
«Медный Всадник», 1833, ср. также ряд «петербургских» стихотворений
30-х годов). Это начало, уже в 30-е годы, было подхвачено петербургскими
повестями Гоголя (1835-1842) и его петербургскими фельетонами,
печатавшимися в «Современнике», и лермонтовским отрывком «У графа В. был
музыкальный вечер», 1839 (существенны и некоторые фрагменты «Княгини
Лиговской», 1836, ср. начало романа, где задан один из сквозных мотивов
Петербургского текста, многократно воспроизводимый и далее (молодой
чиновник, который чуть не был задавлен гнедым рысаком, везшим
Печорина, - сочетание двух тем: «задумчивости», «мечтания» среди уличной суеты
и социального неравенства), а также начало главы IV, о подверженности
«странному влиянию здешнего неба» тех, кто провел свое детство в другом
климате, и особенно главу VII: петербургская числовая апокалиптика,
описание узкого, угловатого, грязного и зловонного петербургского двора,
предвосхищающее Достоевского). 40-50-е годы - оформление
петербургской темы в ее «низком» варианте - бедность, страдание, горе - и в
«гуманистическом» ракурсе, первые узрения инакости города, его мистического
слоя - почти весь ранний Достоевский, включая и «Петербургскую
летопись» (ср. также Аполлона Григорьева, чья роль в осознании Петербурга
659
весьма значительна - оба «Города» (Да, я люблю..., 1 января 1845 г., и
Великолепный град\ пускай тебя иной..., 1845-1846), «Прощание с
Петербургом», 1846, проза - «виталинский» цикл и др., особенно статья о
Достоевском и школе сентиментального натурализма, но и Буткова, Некрасова,
авторов многочисленных повестей о «бедных чиновниках», Победоносцева,
Гончарова, В.Ф. Одоевского, начинавшего несколько ранее, Соллогуба,
Панаева, Дружинина, недооцененного в плане петербургской темы М.М.
Достоевского и др.), Белинский, Герцен («публицистический», отчасти, «пред-
историософский» образ Петербурга). 60-80-е годы - петербургские романы
Достоевского (но и Григорович, Вс. Крестовский, Полонский, Писемский,
Тургенев, Салтыков-Щедрин, Лесков, Случевский, Генслер, Михневич и др.,
из поэтов Тютчев, Надсон, Апухтин, тот же Случевский и др.). В начале
XX в.- центральные фигуры Петербургского текста - Блок и Андрей
Белый («Петербург»); особого упоминания в этой связи заслуживают Аннен-
ский и Ремизов («Крестовые сестры» и др.), ср. также Коневского, рубеж
двух веков, Мережковского, Сологуба, 3. Гиппиус, Вяч. Иванова, Кузмина,
А. П. Иванова, старшего брата Евгения Павловича Иванова, автора
повести «Стереоскоп» (1909, 1918), из числа лучших образцов петербургской гоф-
манианы («Эта повесть, - по отзыву Волошина, - безусловно новая и
замечательная страница в области петербургской фантастики, начинающейся с
"Пиковой дамы" и "Медного всадника"» (см. Лица 3, 1993, 5 ел.) и др.).
С 10-х годов - Ахматова, Мандельштам, несколько раньше - Гумилев (но и
Б. Лифшиц, Лозинский, Зенкевич, Зоргенфрей, Скалдин, Ходасевич,
Садовской и др.). В 20-е и до рубежа с 30-ми годами - прежде всего Вагинов,
стихи и проза которого представляют своего рода отходную по Петербургу, как
бы уже по сю сторону столетнего Петербургского текста38, но и Замятин
(«Пещера», «Москва-Петербург» и др.), С. Семенов («Голод» и др.),
Пильняк, Зощенко, Каверин, И. Лукаш и др. И как некое чудо - гигантский
шлейф, выплеснувшийся в 20-е годы и за их пределы: «петербургская»
поэзия и проза Мандельштама и Ахматовой, завершающиеся «Поэмой без
героя» и «петербургскими» заготовками к прозе (особо следует отметить
«Беспредметную юность» А.Н. Егунова). В этом кратком обозрении не
упомянуты многие другие фигуры и еще большее количество текстов,
образующих как бы субстрат (или некий резерв) Петербургского текста и нередко
бросающих луч света на те или иные детали его или же дополняющих уже
известное новыми примерами.
Но в связи с темой Петербургского текста они не должны быть забыты,
как и образы Петербурга в изобразительном искусстве, особенно в эпоху
осознания и актуализации петербургской темы в начале XX в. (начиная с
художников круга «Мира искусства»), ср. также «Живописный Петербург»
А. Бенуа (1902), труды Г.К. Лукомского, В.Я. Курбатова и др., а в
несколько ином плане и П.Н. Столпянского, И.М. Гревса (в частности, рукописные
работы 20-х годов) и др. В связи с петербургской темой в ее мифо-символи-
ческом захвате с благодарностью должны быть отмечены имена Евгения
Павловича Иванова («Всадник. Нечто о городе Петербурге», 1907) и
Николая Павловича Анциферова. Эмпиричность указанного состава
Петербургского текста будет в известной степени преодолена, если обозначить
наиболее значительные именно в свете Петербургского текста имена - Пушкин и
660
Гоголь как основатели традиции; Достоевский как ее гениальный
оформитель, сведший воедино в своем варианте Петербургского текста свое и
чужое, и первый сознательный строитель Петербургского текста как
такового; Андрей Белый и Блок как ведущие фигуры того ренессанса
петербургской темы, когда она стала уже осознаваться русским интеллигентным
обществом; Ахматова и Мандельштам как свидетели конца и носители памяти
о Петербурге, завершители Петербургского текста; Вагинов как закрыва-
тель темы Петербурга, «гробовых дел мастер». При обзоре авторов, чей
вклад в создание Петербургского текста наиболее весом, бросаются в глаза
две особенности: исключительная роль писателей - уроженцев Москвы
(Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Григорьев, Ремизов, Андрей Белый и
др.) и - шире - непетербуржцев по рождению (Гоголь, Гончаров, чей вклад
в Петербургский текст пока не оценен по достоинству, Бутков, Вс.
Крестовский, Г.П. Федотов и др.; строго говоря, непетербуржцами по рождению
были и Мандельштам и Ахматова), во-первых, и отсутствие в первом ряду
писателей-петербуржцев вплоть до заключительного этапа (Блок,
Мандельштам, Вагинов)39, во-вторых. Таким образом, Петербургский текст
менее всего был голосом петербургских писателей о своем городе. Устами
Петербургского текста говорила Россия и прежде всего Москва.
Потрясение от их встречи с Петербургом ярко отражено в Петербургском тексте, в
котором трудно найти следы успокоенности и примиренности. Но не только
смятенное сознание, пораженное величием и нищетой Петербурга,
находилось у начала Петербургского текста. Как повивальная бабка младенца, оно
принимало на свои руки сам город с тем, чтобы позже усвоить его себе в
качестве некоего категорического императива совести. Именно поэтому через
Петербургский текст говорит и сам Петербург, выступающий,
следовательно, равно как объект и субъект этого текста (удел многих подлинно великих
текстов). Одна из задач, стоящих перед исследователями Петербургского
текста, - определение вклада в него двух названных начал, сотрудничающих
при создании этого текста.
Возможно, однако, и менее эмпирическое описание сущности
Петербургского текста. В другой работе было показано, какими чертами
«Преступление и наказание», как и некоторые другие произведения русской
литературы, включаются в Петербургский текст. В этой части уместно поэтому
ограничиться лишь некоторыми дополнительными соображениями о природе
этого текста.
Первое, что бросается в глаза при анализе конкретных текстов,
образующих Петербургский текст, и на чем здесь нет надобности останавливаться
особо, - удивительная близость друг другу разных описаний
Петербурга как у одного и того же, так и у различных (но - и это особенно важно -
далеко не у всех) авторов, - вплоть до совпадений, которые в другом случае
(но никак не в этом) могли бы быть заподозрены в плагиате, а в данном,
напротив, подчеркиваются. Их источники не только не скрываются, но
становятся именно тем элементом, который прежде всего и включается в игру.
Создается впечатление, что Петербург имплицирует свои собственные
описания с несравненно большей настоятельностью и обязательностью, чем
другие сопоставимые с ним объекты описания (напр., Москва), существенно
ограничивая авторскую свободу выбора. Однако такое единообразие
661
описаний Петербурга, создающее первоначальные и предварительные
условия для формирования Петербургского текста, по-видимому, не может быть
целиком объяснено ни сложившейся в литературе традицией описания
Петербурга, ни тем, что описывается один и тот же объект, а описывающий
пользуется имеющимися в его распоряжении «штампами». Во всяком случае
единство описаний Петербурга в Петербургском тексте не исчерпывается
исключительно климатическими, топографическими, пейзажно-ландшафт-
ными, этнографически-бытовыми и культурными характеристиками города
(в отличие, напр., от описаний Москвы от Карамзина до Андрея Белого, не
образующих, однако, особого «московского» текста русской литературы).
Нужно думать, что предварительные условия формирования
Петербургского текста должны быть дополнены некоторыми другими, чтобы текст стал
реальностью. Главное из этих других условий - осознание (и /или
«прочувствование-переживание») присутствия в Петербурге некоторых более
глубоких сущностей, кардинальным образом определяющих поведение
героев структур, нежели перечисленные выше. Эта более глубокая и
действенная структура по своей природе сакральна, и она именно
определяет сверх-эмпирические высшие смыслы, то пресуществление частного,
разного, многого в общее и цельно-единое, которое составляет и суть высших
уровней Петербургского текста (о «сакральном» см. далее). Тайный нерв
единства Петербургского текста следует искать в другом месте. Подобно
тому, как, напр., в тексте «Преступления и наказания» мы «вычитываем»
(= формируем) некие новые тексты (как подтексты) или как на основании
всей петербургской прозы Достоевского строим единый текст этого
писателя о Петербурге, точно так же можно ставить перед собой - применительно
к Петербургу - аналогичную задачу на всей совокупности текстов русской
литературы. Формируемые таким образом тексты обладают всеми теми
специфическими особенностями, которые свойственны и любому отдельно
взятому тексту вообще и - прежде всего -семантической
связностью. В этом смысле кросс-жанровость, кросс-темпоральность, даже
кросс-персональность (в отношении авторства) не только не мешают
признать некий текст единым в принимаемом здесь толковании, но, напротив,
помогают этому снятием ограничений как на различие в жанрах, во
времени создания текста, в авторах (в этих «разреженных» условиях единство
обеспечивается более фундаментальными с точки зрения структуры текста
категориями). Текст един и связан (действительно, во всех текстах,
составляющих Петербургский текст, выделяется ядро, которое представляет
собой некую совокупность вариантов, сводящихся в принципе к единому
источнику40), хотя он писался (и, возможно, будет писаться) многими
авторами, потому что он возник где-то на полпути между объектом и всеми этими
авторами, в пространстве, характеризующемся в данном случае наличием
некоторых общих принципов отбора и синтезирования материалов, а также
задач и целей, связанных с текстом. Тем не менее единство Петербургского
текста определяется не столько единым объектом описания, сколько
монолитностью (единство и цельность) максимальной смысловой
установки (идеи) - путь к нравственному спасению, к духовному
возрождению в условиях, когда жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь и зло
торжествуют над истиной и добром. Именно это единство устремления к высшей
662
и наиболее сложно достигаемой в этих обстоятельствах цели определяет в
значительной степени единый принцип отбора «субстратных» элементов,
включаемых в Петербургский текст. В этом контексте стоит обратить
внимание на высокую степень типологического единства многочисленных
мифопоэтических «сверхтекстов» (текстов жизни и смерти, «текстов
спасения»), которые описывают сверхуплотненную реальность и всегда несут в
себе трагедийное начало, подобно Петербургскому тексту от «Медного
Всадника» до «Козлиной песни» (τραγωδία, трагедия). Участие этих начал в
Петербургском тексте, может быть, четче всего объясняет различие между
темами «Петербург в русской литературе» и «Петербургский текст русской
литературы». Хотя единство устремления, действительно, в значительной
степени определяет монолитность Петербургского текста, нет
необходимости преувеличивать ее значение. В любом случае Петербургский текст -
понятие относительное и меняющее свой объект в зависимости от целей,
которые преследуются при операционном использовании этого понятия41.
Уместно обозначить крайние пределы его, внутри которых обращение к
Петербургскому тексту сохраняет свой смысл: теоретико-множественная
сумма признаков, характерных для произведений, составляющих субстрат
Петербургского текста («экстенсивный» вариант), и
теоретико-множественное произведение тех же признаков («интенсивный» вариант). В этих
пределах только, видимо, и имеет смысл формировать Петербургский текст
русской литературы (следует, однако, заметить, что конкретно оба
обозначенных предела могут сдвигаться при условии включения в игру новых
текстов, подозреваемых в принадлежности к Петербургскому тексту).
Необходимо также отметить, что единство Петербургского текста не в
последнюю очередь обеспечивается и единым «локально»-петербургским
словарем, представление о котором в общих чертах можно получить далее.
Этот словарь задает языковую и предметно-качественную парадигму
Петербургского текста, а поступая в распоряжение синтаксиса, словарные
элементы заполняют имеющиеся схемы развертывания синтаксических
структур, что уже выводит к нарративным пред-мотивным построениям. Словарь
же задает и семантическое пространство Петербургского текста - как
«ближнее», эмпирическое, так и «дальнее», сферу последних смыслов и
основоположных идей.
Подводя предварительные итоги рассмотрению понятия
Петербургского текста, нужно сказать - с известным заострением, помогающим уяснить
основной принцип, который определяет сложение и функционирование
этого текста, - следующее. Петербургский текст есть текст не только и не
столько через связь его с городом Петербургом (экстенсивный аспект
темы), сколько через то, что образует особый текст, текст par excellence,
через его резко индивидуальный («неповторимый») характер,
проявляющийся в его внутренней структуре (интенсивный аспект). Если бы все
элементы Петербургского текста («объектный» состав, «природные» и
«культурные» явления, «душевные» состояния) и все связи между этими
элементами были закодированы с помощью некоего набора символов
(чисто условных, т. е. не отсылающих к «содержательному») и если бы
семантика текста оставалась неизвестной, то все-таки сам набор элементов,
связей был бы ясен. Более того, при остающейся «неинтерпретируемости»
663
текста в отношении его содержания с известной вероятностью вырисовывались
бы лейтмотивы текста (не говоря уж о весе отдельных элементов в целом
текста). Несомненно, можно было почувствовать некие тенденции, сгущение
напряженности, остроту или «расслабление, синкопы, по которым можно
было бы судить об «абстрактно-содержательных» ореолах текста, о
трагических и /или эйфорических ритмах его, о распределении некоей внутренней
энергии-силы, определяющей структуру текста. Уже на этом уровне так
закодированный текст обнаруживает состояние известной близости к
воплощению, «вот-вот-проявлению» неких «предсмыслов», отсылающих
к соответствующим «музыкальным», «энергетическим» структурам,
оказывающим определенное - на уровне подсознания - влияние на состояние души
и вызывающим чувство угнетенности, беспокойства, страха, страдания или
бодрости, легкости, радости, эйфории, а иногда и ощущение близости к
некоей последней тайне, способной открыть высшие смыслы. Именно в этом,
между прочим, и можно видеть «сверх-семантичность» Петербургского
текста, смыслы которого (или, точнее, смысл) превышают
эмпирически-возможное в самом городе и больше суммы этого «эмпирического». Этот
высший смысл - стрела, устремленная в новое пространство всевозрастающего
смысла, который говорит о жизни и о спасении. Это и делает Петербургский
текст самодостаточным и суверенным внутренне, хотя эти свойства
текста объясняются исходным и постоянно возобновляющимся
компромиссом-договором «петербургского» с текстом: складывающийся текст ставил
городу свои условия - в обмен на поставляемое ему «эмпирическое» текст
требовал для себя (и получил) независимости, проявляющейся в том, что
он собирался делать с этим «эмпирическим». И в этой сфере текст диктует
«петербургскому», а принимающее этот диктат «петербургское» помогает
оформить сам этот текст в то, что здесь называется Петербургским текстом.
III. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ.
«ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНЫЙ» СИНТЕЗ. СФЕРА СМЫСЛОВ
Выше говорилось о конкретных текстах русской литературы, которые
выступают как субстратные по отношению к Петербургскому тексту.
Вместе с тем целесообразно указать субстратные элементы другого типа,
относящиеся к природной, материально-культурной, духовно-культурной,
исторической сферам. Состав и характер этих элементов определяется и
контролируется двояко - реальным присутствием соответствующих особенностей
Петербурга и принципами отбора. Ни одна из этих инстанций не обладает
абсолютной суверенностью. Компромисс проявляется в своего рода
балансировании. Жертва конкретного материала принципам отбора в том, что
материал позволяет себя субъективизировать, придать разным, исходно
равноправным его частям неодинаковую семиотическую ценность. Жертва со
стороны принципа отбора в том, что они вынуждены обращаться и к тому
материалу, без которого могли бы обойтись и который может быть дан при
наличной установке только с некоторым сдвигом. Как бы то ни было,
исследователям Петербурга и Петербургского текста необходимо считаться с
двумя ограничениями: внеположенная Петербургскому тексту реальность
664
не вполне адекватно отражается в нем и свобода текста в отношении
используемого материала относительна. Из субстратных элементов
природной сферы формируются
климатически-метеорологический (дождь, снег, метель, ветер, холод, жара, наводнение, закаты, белые
ночи, цветовая гамма и светопроницаемость и т. п.)иландшафтный
(вода, суша /твердь/, зыбь, однообразие местности, ровность, отсутствие
природных вертикальных ориентиров, открытость /простор/,
незаполненность /пустота/, разъятость частей, крайнее положение и т.п.) аспекты
описания Петербурга в Петербургском тексте. Специально подчеркиваются
явления специфически петербургские (наводнения, белые ночи, особые
закаты, погодные явления)42; делается установка скорее на космологическое,
чем на бытовое, скорее на отрицательно-затрудняющее, чем на
положительно-благоприятствующее; многое субъективизируется43, элементы анти-
тезируются; наблюдается тенденция к обыгрыванию некоторых
тонкостей44, знание которых становится иногда своего рода паролем вхождения в
Петербургский текст. Среди субстратных элементов, равно относящихся и к
природной и к материально-культурной и исторической сферам, особая
роль в Петербургском тексте принадлежит крайнему положению
Петербурга, месту на краю света, на распутье {Предо мною распутье
народов. I Здесь и море, и земля все мрет... / Это крайняя заводь глухая...
Коневской). Этот мотив, многократно отраженный в Петербургском
тексте, впервые со всей основательностью и остротой был сформулирован
Карамзиным в уже цитированном фрагменте об «одной блестящей ошибке»
Петра, об основании им столицы в северных пределах страны, где сама
природа осуждает все на бесплодие и недостаток, об ужасных результатах
этого решения и о том, что «человек не одолеет натуры». Но для
Петербургского текста как раз и характерна подобная же игра на переходе от
пространственной крайности к жизни на краю, на пороге смерти, в
безвыходных условиях, когда «дальше идти уже некуда» (формула горя-безнадежности,
не ограничивающаяся эпизодом, в котором она была явлена впервые в
русской литературе (Мармеладов), не раз повторяющаяся (в частности,
у Вс. Крестовского) - и зависимо и независимо - в Петербургском тексте и
ставшая своего рода знаком-клише). Собственно говоря, и Петербургскому
тексту, инфицированному «пространственной», «социальной», «жизненно-
бытовой», «природной» крайностью Петербурга, тоже «дальше уже идти
некуда». Как и Петербург, он - вне центра, эксцентричен, на краю, у
предела, над бездной, и эта ситуация, принятая как необходимость, дает силы
творить, и творчество это интенсивно-напряженно и обращено к бытийствен-
ному. Но за это приходится платить, хотя провести границу между платой и
наградой, ущербом и прибылью, жертвой и воздаянием в этом случае
трудно. Более того, город и его текст связаны некиим единым, но
двунаправленным осмотическим процессом, и потому так же трудно решить
окончательно, в наиболее сложных и, возможно, ключевых случаях, что в тексте
от города и - чаще - что в городе и от его текста. Как бы то ни было в
конкретных текстах, но Петербургский текст разделяет с городом его
«умышленность», метафизичность, миражность, фантастичность и фантас-
магоричность (в данном случае речь идет не только о некоей отвлеченной,
метафизической характеристике Петербургского текста, но и о вполне
665
конкретной и «реальной» роли «фантастического» - обилие видений, диви-
наций, снов, пророчеств, откровений, прозрений, чудес - в противоречие
с известными словами Анненского из стихотворения «Петербург»)45.
Петербургский текст включает в себя в качестве субстратных
элементов и другие особенности города, относящиеся уже кматериально-
культурной сфере, - планировка, характер застройки, дома, улицы и
т. п. Об этом подробнее писалось раньше, и здесь, пожалуй, стоит только
отметить значительную степень изоморфности самого города и его
природного пространства, когда в описании того и другого используются общие
категории (просторность-обозримость, пустота, разъятость частей, ровность и
т.п., что не исключает и противоположных характеристик - теснота,
скученность и т.д.), и использование в Петербургском тексте этих особенностей
для выражения некоторых метафизических реальностей46 (ср. ужас -
узость)41. Но наряду с метафизическим, так сказать, страхом в
Петербургском тексте выступает и тот «ужас жизни», который «исходит из ее
реальных воздействий и вопиет о своих жертвах» (Анненский. «Господин Прохар-
чин». - Книга отражений).
Этот «ужас жизни», потрясший сознание и совесть, и вызвал в конечном
счете к жизни Петербургский текст как противовес ему и преодоление его.
Как субстрат, принадлежащий материально-культурной, экономической,
социально-исторической сферам, он вошел в Петербургский текст, и
хорошо известно, как эта тема разыгрывается в нем. Тем не менее масштаб -
относительный и абсолютный - этих «ужасов жизни» чаще всего забывают:
удовольствия и удобства Петербурга (развеселая жизнь) заставляют обычно
смотреть на ситуацию не так безнадежно. Такой «примиряющий» взгляд не
имеет опоры в Петербургском тексте, который при любой антитезе все-
таки ориентирован на тот полюс, где плохо, где страшно, где страдают.
Одна из несомненных функций Петербургского текста - поминальный синодик
по погибшим в Петрополе, ставшем для них подлинным Некрополем.
Для того чтобы слово Некрополь в данном случае приобрело свое
подлинное значение, нужно напомнить некоторые факты. Прежде всего по
смертности Петербург в его благополучные первые два века не знал себе
соперников ни в России, ни за ее пределами (разумеется, речь идет о крупных
городах, сопоставимых, хотя бы относительно, с Петербургом, для которых
к тому же есть статистические данные), несмотря на то, что подлинная
смертность населения города была сильно затушевана тем фактом, что
масса приезжих, живших в Петербурге, умирать уезжали к себе на родину,
будучи уже, как правило, неизлечимо больными людьми. «Ротация» населения
этого Некрополя, собственно, заполнение одной и той же кладбищенской
площади, происходила быстрее, чем, например, в Москве, чему
способствовали почвенно-климатические условия в Петербурге (процесс разложения,
гниения и полного распада совершался в более короткий период времени, и
«оборачиваемость» в использовании одного могило-места была тоже
существенно большей). Наконец, следует напомнить, что, несмотря на
последовательное расширение с течением времени почти всех петербургских
кладбищ, могилы на них располагались гораздо теснее, с чем отчасти была
связана и установка на членение кладбищ на участки, ограничиваемые
дорожками, мостиками, рвами, значительную часть времени заполненными водой.
666
Пушкин, хорошо знавший сельские кладбища и московские, сильно
отличавшиеся от петербургских, не раз подчеркивал невыгодные особенности
последних:
Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетка, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом.
Могилы склизкие, которы также тут
Зеваючи жильцов к себе наутро ждут, -
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое48
Статистические данные по петербургским кладбищам характеризуют город
как гигантскую и споро работающую фабрику по переработке покойников
и приему новых. Так, в XIX в. число погребенных на площадях,
сопоставимых с московскими, было огромным. На Волковом Православном
кладбище в третьей четверти века в день хоронили по 10-20 покойников (а в 1846
и 1848 гг. - по 30-40). К 1884 г. на Волковом кладбище был погребен 574 781
покойник (следует напомнить, что миллионным Петербург стал лишь в
1890 г.49). Примерно та же картина и по другим большим петербургским
кладбищам, для которых известны соответствующие данные. Роль
климатических условий в изживании жизни человека в Петербурге была очень
значительной (опять-таки не в пример Москве): многие приезжавшие в город
так и не смогли адаптироваться к погодно-климатическим условиям и
погибали от простудных заболеваний, воспаления легких, чахотки, а то и от
обморожения, о чем свидетельствует петербургская пресса. «В общем климат
Петербурга нельзя назвать благоприятным для здоровья, он повышает
процент заболеваемости и смертности, сокращает продолжительность жизни и
несомненно отрицательно отражается на характере петербуржцев», -
пишет исследователь петербургского климата50, а в сноске к приведенному
абзацу добавляет: «Столица и Санкт-Петербургская губерния принадлежат к
тем немногим местностям России, где, благодаря главным образом
климатическим условиям, число умирающих превышает число
рождающихся, и будь оно изолировано, население ее вместо какого-
либо прироста должно бы постепенно вымирать, хотя,
конечно, число умирающих потому так велико, что велик наплыв населения
пришлого, трудно акклиматизирующегося, а коренное население более
жизненно». О том же говорится и в книге Статистического Комитета,
выпущенной в начале 70-х годов XIX в., и у В. Михневича (не говоря уж о ряде
667
более поздних источников): «Можно сказать без преувеличения, что
значительный процент этого люда (речь идет о переселенцах в Петербург извне,
за счет непрерывного и все возрастающего наплыва которых росло
население города. - В.Т.) приходит только умирать в Петер-
бур г ». Следовательно, и сам Петербург метафорически тоже может быть
обозначен как фабрика смерти. Перевес смертности над рождаемостью, как
правило, был громаден (так, в 1872 г. умерло 29 912, а родилось 20 791
человек, то есть число умерших на треть превышало число родившихся). Эта
метафора приобретает особенно грозное значение, если вспомнить, что
города Западной Европы и многие города в России растут «изнутри», за счет
перевеса рождаемости над смертностью, тогда как в Петербурге процент
пришлого населения был неправдоподобно огромным (так, в 1900 г. 69%
населения Петербурга составлял пришлый элемент)51. Эти данные выглядят
тем более удручающими, что в начале XX в. уровень заработной платы в
Петербурге в полтора раза превышал среднюю величину ее по России
(уступал этот уровень только уровню заработной платы в Бакинской и Екате-
ринославской губерниях), а среднее потребление мяса на душу населения
было очень высоким - 5 пудов в год, то есть более чем по 200 граммов в день
(практически же, считая посты и учитывая вегетарианцев, существенно
больше). Другой аномалией Петербурга была необыкновенная скученность
населения. На 15 декабря 1910 г. на один дом в Петербурге в среднем
приходилось 70 человек (в Лондоне - 8 (!), в Париже - 35, в Берлине - 48, в Вене -
50)52. В 1897 г. в Петербурге было 12 000 «углов» (угловых квартир), а перед
Первой мировой войной их стало значительно больше53. Третьей
петербургской аномалией было большое (по началу огромное), устойчивое,
сохранявшееся, во всяком случае, до войны и революции преобладание мужского
населения над женским. В год смерти Пушкина женщины в Петербурге
составляли лишь 30% населения (в 1906 г. на 791 716 мужчин приходилось
666 663 женщины, т.е. на каждую тысячу мужчин - 843 женщины, тогда как
в европейских столицах, наоборот, женское население заметно преобладало
над мужским). Следствием такого соотношения населения был огромный
процент безбрачных и бездетных мужчин (на пятеро приходилось четверо
холостых) в низшем, а отчасти и в среднем сословии (бедный чиновник
русской литературы обычно бессемеен), с одной стороны, и, с другой, сильное
развитие проституции и предшествующих ей форм (институт «душенек» и
«кум»), «камелий» («Сашек» и «Катек», «Минн» и «Луиз»), что еще более
уменьшало процент женщин жён и матерей, а следовательно, и процент
браков и семейных людей. Еще одним следствием этого было огромное
количество незаконнорожденных детей (в 70-е годы XIX в. они составляли
четверть всех рождавшихся в городе детей), среди которых смертность была
особенно высока; выжившие становились объектами «питомнической»
индустрии54: их отдавали в Воспитательный дом, а потом раздавали по
деревням (прежде всего Псковщины) кормилицам, и судьба их чаще всего тоже
была горькой. Выделялся Петербург и в других отношениях. Он шел
впереди всей России по венерическим заболеваниям, по чахотке, по алкоголизму,
по числу душевнобольных и по числу самоубийств. В 70-е годы XIX в.
ежегодно кончало самоубийством по 140-170 человек, причем - редчайшее для
России явление - среди самоубийц наблюдался очень высокий процент жен-
668
щин (в некоторые годы - до 30%)55. Нищенство и бродяжничество,
представители преступного мира также были одной из язв Петербурга, и как
литература - художественная, публицистическая, этнографическая, социально-
экономическая и т.п., - так полицейские и судебные акты широко
развертывают всю типологию этого явления56. «Беспачпортность» тоже имела в
Петербурге самое широкое распространение, несмотря на контроль властей
(особую категорию составляли евреи, в своем подавляющем большинстве
не имевшие «вида на жительство», более или менее регулярно
высылавшиеся из Петербурга и снова в него в обход закона возвращавшиеся).
Иностранцы в Петербурге - особая тема, здесь не рассматриваемая. Уместно лишь
напомнить, что ни в одном русском городе их процент не был так высок и
они не играли столь видную роль в структурах власти, начиная с царского
двора, администрации, в армии, науке и искусстве, в сфере обслуживания,
промышленности, медицине и т.п. Народное сознание понимало этот
парадокс «нерусскости» русского города, и во время народных гуляний на
Марсовом поле, а потом и в других местах охотно потешались над этой ситуацией -
А это - Питер, / Которому еврей нос вытер..., см. об этом выше (ср. ахма-
товское А вокруг старый город Питер, / Что народу бока повытер /
(Как тогда народ говорил)), ср. в Петербурге и «петербургской» литературе
роль поддразниваний, насмешек над русской речью иностранцев (особенно
немцев), юмористических имитаций и т.п.57 (особый вариант этой темы -
«финско-чухонский» Петербург-«Фино-полис»).
И еще одно типично петербургское явление - г о л о д: он был и уносил
множество жизней, пока город строился, он был во время революции,
гражданской войны и разрухи, но на фоне других бедствий остался малозамечен-
ным событием (страшным свидетельством этого голода стал семеновский
«Голод», отчасти замятинская «Пещера» и некоторые другие
малочисленные, разрозненные и, видимо, не привлекшие к себе внимания тексты.
Среди них и недавно опубликованные письма Л.Н. Андреева Н.К. Рериху; так,
в письме от 28 ноября 1918 г. сообщается: «Большевики дышат на ладан... и
голод в городе ужасный, вымирают целые семьи. Последнее
достоверно...» // De visu, 1993, № 4, 33; мемуарная литература последних лет тогда же
не раз возвращается к теме голода тех лет - ср.: «в Петербурге очень плохо,
недостаток продовольствия становится настоящим голодом» (из письма
В. Юнгера Б. Садовскому); «На Петербург надвигается голод»; - «Голод уже
прочно завладел Петроградом» и т.п. - Е. Юнгер. «Все это было» и др.),
голодали и в годы коллективизации; наконец, самый страшный голод - вплоть
до каннибализма - был во время блокады. О нем есть ряд ценных
источников, но эта трагедия все еще не только не осмыслена во всей ее глубине и ее
последствиях, но и - приходится признать - не описана с той полнотой,
которой она заслуживает. Вся правда о нем все еще не сказана58, и ее
последствия, живо ощущаемые и сегодня, несомненно, продолжатся и в следующем
веке (уместно напомнить, что трехсполовиномиллионный город к сентябрю
1945 г., уже после возвращения значительной части эвакуированных,
насчитывал лишь 36,6% прежнего населения, и даже десять лет спустя, несмотря
на все преимущества «сытого» Ленинграда перед голодной провинцией,
население составляло лишь 85% от довоенного). Несомненно, что и в
этом отношении первенство Петербурга среди больших городов России не
669
вызывает сомнений (впрочем, и голод - не самое страшное, и об этом
узнали, а иногда и написали перенесшие блокаду; собственно, это было
известно в Петербурге и в первые послереволюционные годы. «Я поняла, - пишет
в "Петербургских дневниках" 3. Гиппиус, - что холод хуже голода, а тьма
хуже и того и другого вместе. Но и голод, и холод, и тьма - вздор! Пустяки!
Ничто - перед одним, еще худшим, непереносимым, кажется в самом деле
не-вы-носимым... Но нельзя, не могу, потом! после!»).
Петербург в России был и родиной хулиганства. Москва еще не знала
этого слова, когда в Петербурге уже было и слово и обозначаемое им новое
и достаточно интересное явление, свидетельствующее о становлении
нового социального типа. В 1914 г. об этом явлении говорили еще как о
возникающем, но в семнадцатом - и чем далее, тем более в течение полутора
десятка лет оно, выплеснувшись наружу, стало непременным элементом
петербургской, а затем и вообще российской городской жизни. Одно из первых
описаний этого явления, сопровождаемое вдумчивым анализом,
принадлежит А. Свирскому59.
Эта особая чуткость Петербурга к «неблагоприятному» и как бы легкая
готовность принять его проявилась и в наше время: так, более чем
пятимиллионное население города (к началу 90-х годов) уже в 1992 г. снизило заметно
свою численность и теперь не доходит до этого рубежа.
Особое значение для Петербургского текста имеет субстрат
духовно-культурной сферы - мифы и предания60, дивинации и
пророчества, литературные произведения и памятники искусств,
философские, социальные и религиозные идеи, фигуры петербургского
периода русской истории и литературные персонажи, все варианты спиритуа-
лизации и очеловечивания города {Тень моя на стенах твоих, /
Отраженье мое в каналах, / Звук шагов в Эрмитажных залах61). Собственно,
именно наличие этих элементов образует из Петербургского текста
особый класс текстов, не представленный в русской традиции какими-либо
другими примерами (анализ этого аспекта Петербургского текста
нуждается в специальном исследовании), и формирует внутри него ту
атмосферу повышенной, даже гипертрофированной знаковости, которая, с одной
стороны, связывает все воедино, уединоображивает текст, минимализи-
рует случайность, а с другой стороны, толкает его к осознанию
некоторых более глубоких структур и уровней - и самого города, и этот город
воспринимающего собственного сознания. К знаковой
перенасыщенности города присоединяется таковая текста, и тот, для кого Петербургский
текст реальность, должен усвоить совершенно иную степень
детализации, дифференциации, взаимосвязанности, сложнейшей игры, в которую
вступают различное и тождественное, реальное и мнимое, временные и
пространственные планы. Особого внимания заслуживает
принципиальная установка «резонантного» Петербургского текста на отсылку к уже
описанному прецеденту, к цитате, аллюзии, пародии (в этом отношении
пример был задан «Медным Всадником»), к сложным композициям цен-
тонного типа, к склеиванию литературных персонажей (или повышению
их знакового ранга в целом Петербургского текста, ср. Германна, Голяд-
кина и др.), к переодеванию, переименованию и иного рода камуфляжу
(Петербург как Венеция, Рим, Афины у Мандельштама («в 1920 г.
670
Мандельштам увидел Петербург как полу-Венецию, полу-театр»62, -
по словам Ахматовой), Вагинова («Козлиная песнь», тема Филострата) и
ряда других писателей; ср. также самообыгрывание и удвоение
Петербурга в декоративно-театральных опытах - от Гонзага до Бакста и
позже), в отдельных случаях к анаграммированию ключевых слов
{Петербург - Петрограду Нева и т.п.), причем Нева особенно открыта
для многочисленных анаграмматических опытов.
Здесь можно кратко очертить лишь один вопрос в связи с той более
глубокой структурой, которую можно назвать сакральной в том смысле,
что она задает новое по сравнению с обычным (профаническим) опытом
членения пространства, времени, новые типы соотношения между причиной
и следствием и т.п. Эта структура, лежащая в основе Петербурга как
результата синтеза природы и культуры и имплицитно содержащаяся в
Петербургском тексте, принципиально усложнена, гетерогенна и
поля ρ н а; разные ее звенья не только обладают разными ценностями, но
способны к перемене и к обмену этими ценностями. Усложненность и
гетерогенность проявляются, в частности, в том, что нет единых правил
ориентации в разных узлах этой структуры. Эти правила определяются в контексте
соотношений элементов в большей степени, чем субстанционально.
Сложность определяется тем, что каждый элемент принципиально обладает всей
суммой возникающих в разных ситуациях значений. Отсюда - предельная
неопределенность каждого элемента, особенно с точки зрения
воспринимающего его «петербургского» сознания, которое также может быть
«сдвинутым». Полярность этой петербургской структуры в том, что природа,
противопоставленная культуре, не только входит в эту структуру (сам
этот факт, обычно упускаемый из виду, весьма показателен), ноиравно-
ценна культуре. Таким образом, Петербург как великий город
оказывается не результатом победы, полного торжества культуры над природой, а
местом, где воплощается, разыгрывается, реализуется двоевластие природы
и культуры (ср. идеи Н.П. Анциферова). Этот природно-культурный
кондоминиум не внешняя черта Петербурга, а сама его суть, нечто имманентно
присущее ему.
Типология отношений природы и культуры в Петербурге предельно
разнообразна. Один полюс образуют описания, построенные на
противопоставлении природы, болота, дождя, ветра, тумана,
м у τ и, с ы ρ о с τ и, м г л ы, м ρ а к а, н о ч и, τ ь м ы и т. п. (природа) и
шпиля, шпица, иглы, креста, купола (обычно освещенных
или - более энергично - зажженных лучом, ударом луча солнца)63,
линии, проспекта, площади, набережной, дворца,
крепости и т.п. (культура). Природа тяготеет к горизонтальной
плоскости, к разным видам аморфности, кривизны и
косвенности, к связи с низом (земля и вода); культура -к вертикали,
четкой оформленности, прямизне, устремленности
вверх (к небу, к солнцу). Переход от природы к культуре (как один из
вариантов спасения) нередко становится возможным лишь тогда, когда
удается установить зрительную связь со шпилем или куполом (обычно
золотыми, реже просто светлыми, ср. темно-серые характеристики
природных стихий или белый (мертвенно) снег)64.
671
Вместе с тем и природа и культура сами полярны. Внутри природы
вода (холодная, гнилая, затхлая, вонючая, грязная, стоячая), дождь, слякоть,
мокрота, муть, туман, мгла, холод, духота противопоставлены солнцу,
закату, глади воды, взморью (Нам бы только до взморья добраться... у
Ахматовой), зелени, прохладе, свежести. Когда приобретают силу элементы
первого ряда, наступает беспросветность, безнадежность, тоска (зрительно -
ничего не видно и не различимо; событийно - дурная
повторяемость, ориентация на прошлое, отсутствие выхода, безверие). Когда же
появляются элементы второго природного ряда, становится видно во
все концы, с души спадает бремя (свободное, незатрудненное
дыхание)65, наступает эйфорическое состояние (и, как правило, мгновенно66, в
отличие от депрессии), новая жизнь67, что, собственно говоря, и означает
переход к другому измерению времени. Зрительно - бескрайняя
видимость (простор), чему на более глубоком и внутреннем уровне
соответствуют экстатические видения будущего, счастливый
выход, вера, что, собственно, и является знаком совершившегося прорыва в
космологическое, почти совпадающее в данном случае с пространством
свободы. В этих условиях ход событий ускоряется, они являются так, как от
них этого ожидают, но и вполне неожиданно и непредсказуемо, или же в
самых причудливых и неожиданных конфигурациях (нелишне снова
вспомнить - Всё, что хочешь, может случиться), чаще, однако, благоприятных
человеку, но нередко, конечно, и неблагоприятных и даже гибельных.
Этой мистической «духовной» дальновидимости, обретаемой в
состоянии эйфории, соответствует и вполне реальная дальновидимость,
объясняемая особенностями ландшафта и организации пространства города. Эта
черта образует один из очень важных признаков петербургского пространства,
и об этом нужно сказать несколько слов. Петербург - город проспектов
и, более того, город проспекта (ср. у Андрея Белого: «Есть бесконечность
в бесконечности бегущих проспектов с бесконечностью в
бесконечность бегущих пересекающихся теней. Весь Петербург
бесконечность проспекта, возведенного в энную степень. За Петербургом
же ничего нет»), потому что Невский проспект - своего рода идеальный
образ города, его идея, взятая в момент ее высшего торжества воплощения.
Собственно, подобная идея равным образом отсылает и к городу и к
проспекту и обнаруживает дважды свою мотивировку и укорененность в комплексе
видения, идеального, а значит, если и не бесконечного, то несомненно
дальнего: ιδέα - прежде всего 'наружный вид', 'видимость' и лишь потом
'идея' (*εϊδον < и.-евр. *ueid-: *uoid-: *uid-, ср. русск. видеть и др.) и pro-spec-
to 'смотреть вдаль', 'созерцать', 'открывать вид' (т.е. как бы
предуготовлять условия для эпифании), слово, лежащее в основе русск. проспект
(перспектива). Мотив легкой «просматриваемости» Петербурга (человеку,
исходящему из «московских норм», она кажется почти идеальной; «Далеко
было видно по пустым улицам», - сказано у Толстого, когда он описывает
бессумрачную июньскую петербургскую ночь, в которую Пьер
возвращался от Андрея Болконского к себе домой), обеспечиваемой прямыми
проспектами, широкими площадями, открытыми пространствами вдоль реки и
горизонтальной ровностью города, имеет существенные продолжения уже
в плане трактовки жителем города своего положения по отношению к опас-
672
ности. В отличие от Москвы Петербург представляется открытым и
просматриваемым. Степень же «просматриваемости» или дальновидения могла
бы определяться количеством идеальных наблюдателей, расставленных в
нужных точках города (минимально необходимых) и обладающих
«бесконечным» зрением по прямой (до упора или поворота, изгиба), которые в
сумме «просматривают» весь город, т.е. все проспекты, улицы, переулки,
площади, йабережные и т.п., иначе говоря, всё свободное открытое
пространство, исключая разного рода постройки, стены, заборы и т.п.
Естественно, что такое «петербургско-московское» сравнение оперировало бы с
минимумом наблюдателей, способных «просмотреть», увидеть максимум
пространства (т.е. всё открытое городское пространство). При таком
сравнении, как об этом свидетельствуют обильные выборки, сделанные на
материале планов, выяснилось бы, что в сопоставимых размерах пространства
количество таких «условно-идеальных» наблюдателей для Петербурга в
десятки раз меньше, чем для Москвы, так как их «дальнозоркость»
соответственно в десятки раз больше (так, наблюдатель, поставленный у
главного входа в Адмиралтейство, только по трем основным перспективам
видит одновременно (не меняя позиции) более чем на 6 км (!); таким же было
бы дальновидение наблюдателя, поставленного в створе Невского и
Литовского; подобных примеров немало, а есть и такие, которые сильно
превосходят указанные; ср., например, позицию наблюдателя в створе
Московского проспекта и Обводного канала, откуда можно видеть более чем на 10 км,
и т.п.; наблюдателю, стоящему на Троицком мосту, ближе к
Адмиралтейской стороне, видно по речной глади не менее чем на 7 км; если же этот
наблюдатель будет смотреть не «перспективно», а «панорамно», то он увидит
линию («суммарную») длиной существенно более 20 км; наконец, с западных
границ Крестовского, Петровского, Васильевского, Канонерского островов
дальновидение наблюдателя было бы практически неограниченным,
«бесконечным»; ничего даже приблизительно подобного для Москвы не
существует из-за меньшей длины улиц, их кривизны или ломаности, высокой
степени «закрытости» (см. ниже)). Этот исключительно высокий коэффициент
«просматриваемости»-дальновидения в Петербурге объясняется большой
длиной и прямизной улиц и высокой степенью «открытости» (см. ниже).
С точки зрения преследуемого человека, петербургская ситуация крайне
невыгодна, а сам преследуемый предельно уязвим: он видим очень издалека и
часто с нескольких разных сторон; но вместе с тем и у него есть
преимущества: он издалека и, следовательно, заранее может увидеть опасность
преследования, хотя все равно укрыться на открытом пространстве у него мало
шансов. Вместе с тем в этих условиях нередко нелегко прийти на помощь
жертве: увидеть ее просто, но поспеть на помощь из-за большого
расстояния или разъединенности частей городского пространства (ср. ситуацию,
когда наблюдатель и жертва разделены, например, пространством Невы)
трудно или - в нужный (имеющийся в запасе) отрезок времени - вовсе
невозможно, что делает непереносимой ситуацию присутствия при страдании при
невозможности помочь страдающему. Таким образом, дальновидение
человека как субъекта этой способности в «далекопросматриваемом»
городе соотносится с дальновидением этого человека как объекта: его видят
тоже издалека и, кроме того, нередко слишком видят. По оживленным
22. В.Н. Топоров
673
берегам I Громады стройные теснятся /Дворцов и башен... Каждая из
таких громад (а их в городе много) многооконна и, значит, многоочита. Во
всяком случае, масштабы этого явления не на один порядок больше, чем в
Москве. Так, на прохожего на Дворцовой площади одновременно устремлены
многие сотни окон-глаз с обеих сторон - Зимнего дворца и здания Главного
штаба (достаточно сказать, что только гигантская фасадная «кулиса»
последнего в «оконном» измерении насчитывает 145 единиц, видимых и
видящих одновременно; общее число окон этого фасада больше в три-четыре
раза, учитывая трехэтажность здания и окна подвального уровня (если
смотреть с площади, то эти 145 единиц распределяются - при движении взгляда
слева направо - так: 25 & 38 - ось симметрии - арка & 38 & 44); вся же
длина «громады» в оконном измерении - 253 единицы, которые должны быть
помножены на три-четыре по числу этажей (63 из них приходится на
«моечный» фасад, 29 на «под-арочную» часть, 16 на «невскую» (проспект)). Не
слишком многим уступает этому зданию Зимний дворец во всей
совокупности составляющих его зданий и их фасадов. Собственно, «фасадность»
Петербурга предполагает не только известную
демонстративность-декоративность города, но и его многооконность: освещенные изнутри, «горящие»
окна-очи (правда, их такое множество, что, конечно, одновременно все вместе
они никогда не были освещены) и притягивают к себе любопытных
(излюбленный мотив Петербургского текста: некто бедняк-аутсайдер
вожделенно - с завистью или ненавистью (ужо тебе\) - смотрит на «горящие» окна и
пытается представить себе, что за ними происходит), и вместе с тем смотрят
на тех, кто находится вне самой «громады», контролируют их взглядом
своих многочисленных окон-очей.
С этим ключевым критерием «дальновидения» так или иначе связаны
другие. Лишь некоторые из них вкратце могут быть здесь названы:
- коэффициент «прямизн ы», «кривизн ы», «л о м а н о с τ и»
улиц (т.е. отношение числа «прямых» улиц к «кривым», «ломаным»,
«кривым» и «ломаным» вместе и обратно) - высокий коэффициент прямизны,
т.е. очень большое преимущество числа «прямых» улиц над улицами
«непрямыми» и еще большее преимущество суммарной длины первых над
вторыми, в сильнейшей степени определяет и степень «организованности»
городского пространства;
- коэффициент «организованности» пространства,
определяемый количеством информации, необходимой для исчерпывающего
описания структуры этого пространства, или, иначе говоря, принципом
«минимально - о максимальном», во-первых, и, во-вторых, соотношением
площади «организованного» и «неорганизованного» (практически -
«слабоорганизованного») пространств (коэффициент «организованности» по каждому из
этих двух параметров очень высок, ср. пространства между Большим и
Малым проспектами Васильевского острова, между Пушкарской и Гесле-
ровским на Петроградской стороне, в бывших Преображенской,
Семеновской и Измайловской ротах, в Рождественской части, на правом берегу
Невы севернее нижнего течения Охты и т.п.68, причем все перечисленные
выше пространства практически идеальны и требуют для своего
структурного описания двух данных - числа параллельных улиц и числа
перпендикулярных к ним и, следовательно, тоже параллельных улиц; но и подавляющая
674
часть остальной площади города тоже достаточно хорошо организована, во
всяком случае, по сравнению с московским пространством; ср. лучевые
структуры между Невским и Вознесенским проспектами, к югу от истоков
Обводного канала; число деформаций высокоорганизованного
пространства немного, и они обычно связаны с некиими первичными условиями и
поэтому сами должны быть признаны вторичными (ср. структуру улиц и
переулков за пределами дуги бывшего «гласиса» на Петроградской стороне или
улицы, вынужденные, хотя бы в смягченном варианте, принять условия,
которые ставятся природными объектами - Большая Морская, учитывающая
кривизну Мойки, Садовая, выбирающая свой путь с оглядкой как на
Фонтанку, так и на Екатерининский канал, и т.п.; ср. также деструктивные
зазоры при соединении разных частей, строившихся неодновременно69 или
вынужденных подчиняться некиим природным реальностям);
- коэффициент «открытост и»-«з акры тост и», определяемый
соотношением первых и вторых или вторых и первых (условно «открытым»
можно считать пространство, обеспечивающее стоящему в его центре
круговой обзор с радиусом в 100 метров (ср. невские пространства, морская
оконечность города, Марсово поле, Сенатская площадь, Сенная, Дворцовая и
т. д.70); «сильнозакрытых» пространств в городе относительно немного
(таковыми можно условно считать пространства не только не имеющие
кругового обзора, но имеющие не более двух линий обзора, причем каждая из них
для человека, стоящего на скрещении этих линий, не превышает 200-300
метров: реально взгляд упирается в дом, стену, забор и не имеет продолжения),
ср. «срединный» Петербург, например угол Столярного и Мещанской, где
обычно помещают дом Раскольникова, или же район, примыкающий к дуге
«гласиса» с севера, отчасти и с востока);
- коэффициент «π ρ е ρ ы в н о с τ и»-«н епрерывност и», или
«разъединенност и»-«с л и τ н о с τ и» (соотношение пространств,
внутри которых коммуникация совершается легко, во всяком случае
беспрепятственно, из улицы в улицу, к пространствам, достижение которых из
данного связано с затруднениями; конкретно - «материковость»
(левобережье) - «островность» (при учете, что в старом Петербурге мосты через
крупные реки были малочисленны, а до середины XIX в. вообще носили
временный характер (мосты плашкоутного типа) и не всегда могли
выполнять свою соединительную функцию - обстоятельство, приводившее к
существенной изолированности островной части Петербурга и
накладывавшее свой отпечаток на жизнь петербуржцев) и т.п. Интересно, что и
Петербург и Москва обладают, тем не менее, некиими внутренними резервами
компенсации своих отличий друг от друга - нередко противоположными по
характеру (так, в частности, анализ маршрутов городского транспорта,
преимущественно трамвая, показывает, что в «кривой» Москве он в принципе
часто движется по кратчайшему, хотя и «кривому», расстоянию между
двумя конечными точками, т. е. как бы «по прямой»; в «прямом» же
Петербурге трамвай нередко стремится к пробегу по возможно более длинному пути,
стремясь обежать максимум пространства, причем не исключаются и
частичные возвращения к уже пройденному; ср. также московскую манеру в
целях экономии усилий и еще больше от лености и неприязни к «жесткой»
организации срезать углы при петербургской манере пользоваться в подобных
22*
675
случаях проходными дворами, иногда образующими последовательности в
4-5 дворов, что для Москвы совершенно нехарактерно). Дуги малых рек и
извивающийся Екатерининский канал (Кривуши) на Адмиралтейской
стороне перекликаются с концентрическим («дуговым») принципом
московской планировки и как бы реализуют идею «петербургской» кривизны
(о присутствии и важности «криволинейной» структуры в «лабиринтном»
пространстве города см. теперь статью В. Серковой «Неописуемый
Петербург (Выход в пространство лабиринта)», 1993). Такие компенсации
известны и в других областях (ср. бледно-разноцветную окраску домов
(желтый цвет был введен при Екатерине II и утвердился при Павле, а замечен
как петербургская особенность Гоголем), рассчитанную на особое
«излучение» именно в пасмурную погоду, - эффект подсвечивания или же роль
сияющих вод при солнечной погоде, контраст зеленых островов с
колоритом самого города и т.п.).
Внутри культуры - жилище неправильной формы и невзрачного
или отталкивающего вида, комната-гроб, жалкая каморка, грязная
лестница, колодец двора, дом - «Ноев ковчег»71, шумный переулок, канава, вонь,
известка, пыль, крики, хохот, духота противопоставлены проспекту,
площади, набережной, острову, даче, шпилю, куполу. И здесь, как и внутри
природы, в одном случае ничего не видно и душно (преобладающее значение
приобретают слух, подслушивание, шепот, аморфные акусмы), а в другом -
открывается простор зрению, всё заполняется свежим воздухом, мысль
получает возможность для развития. То, что природа и культура не только
противопоставлены друг другу, но и в каких-то частях смешиваемы, слиянны,
неразличимы, образует другой полюс описаний Петербурга.
Из этого соотношения противопоставляемых частей внутри природы и
культуры и возникают типично петербургские ситуации: с одной стороны,
темно-призрачный χ а о с, в котором ничего с определенностью не видно,
кроме мороков и размытости, предательского двоения, где сущее и не-сущее
меняются местами, притворяются одно другим, смешиваются, сливаются,
поддразнивают наблюдателя (мираж, сновидение, призрак, тень, двойник,
отражения в зеркалах, «петербургская чертовня» и под.), с другой стороны,
светло-прозрачный космос как идеальное единство природы и культуры,
характеризующийся логичностью, гармоничностью, предельной видимостью
(ясностью) - вплоть до ясновидения и провиденциальных откровений72.
И призрачный и прозрачный - два очень важных определения не только
«физической», «атмосферной» характеристики города в Петербургском
тексте, обладающих высокой частотностью, но и как узрение его духовной,
метафизической сути, приникание к ней. Казалось бы, весьма различные
между собой (огрубление: неясный, едва видимый - абсолютно ясный,
видимый без помех), эти определения применительно к петербургским условиям
оказываются предельно сближенными, вступают в обоюдную игру,
вовлекая в нее и читателя, погружая его в пространство иллюзий - как от
неясного видения, так и от сверх-вйдения, - как, впрочем, и сами эти слова, столь
разные по смыслу и столь сближенные, по форме и равно принимающие
участие в этой месмерической игре-споре о духовном смысле этого
петербургского двоения. Соответственно этой структуре и строится внутреннее
пространство Петербургского текста, оказывающееся таким образом
676
идеально приспособленным как к «разыгрыванию» неопределенности,
двусмысленности, призрачности, т. е. всего того, что связано с максимальной
омонимичностью, энтропией, так и к заключениям провиденциального
характера, когда все тайное, невидимое, недоступное становится открытым,
зримым, легко достижимым - пусть на миг («сверхвидимость» как
гипертрофия определенности и как самообнаружение «эктропической» тенденции).
И та и другая задачи в конечном счете объединяются в одну сверхзадачу, но
их истоки лежат в разных сферах и их прагматика существенно различна.
Как бы то ни было, петербургский текст русской литературы построен как
предельно усложненный текст аккумулирующего73 типа с
сохранением стольких степеней неопределенности и свободы, что едва ли оправдан
подход к нему только как к слепку с Петербурга даже в самых сокровенных
его деталях. Нужно думать, что текст такой сложной структуры (во всяком
случае его сложность уникальна в пределах русской культуры,
воплощенной в текстах) предполагает еще более высокие цели, и мессианизм
петербургской темы русской литературы, конечно, глубже и напряженнее
усвоенного в свое время мессианизма Москвы - «третьего Рима».
Хаотическая слепота (невидимость) и космическое сверхвидение
образуют те полюса, которые определяют не только диапазон Петербургского
текста, но и его интенциональность и сам характер основного конфликта,
который послужил образцом для его перекодирования в
культурно-историческом плане. Любопытно, что петербургская мифология и эсхатология
исходят из аналогичных начал. История Петербурга мыслится замкнутой; она
не что иное как некий временный прорыв в хаосе. Миф сначала
рассказывает о том, как из хаоса был образован космос, из преисподней (ср. др.-греч.
Αϊοης как 'невидимый', собств. - 'без-видный', как земля в начале творения
(Бытие 1, 2), из и.-евр. *n-uid-)' - «парадиз» в виде петровского Петербурга.
Миф конца определяет, пожалуй, не только главную тему петербургской
мифологии, но и тайный нерв ее. Этот конец не где-то там далеко, за
тридевять земель, и не когда-то в далеком будущем и даже не просто близко и
вскоре: он здесь и теперь, потому что идея конца стала сутью города, вошла
в его сознание. И это катастрофическое сознание, возможно, страшнее
самой катастрофы. Последняя снимает всё разом, и перед нею человек - 1а
quantité négligeable. Но сознание катастрофы до того, как она состоялась,
ставит перед человеком проблему выбора, от которого он не может
уклониться. И в этой ситуации человек - значимая величина. Сознание конца,
точнее, возможность его, которая, как Дамоклов меч, висит над городом,
порождает психологический тип ожидания катастрофы. Такая
настроенность на ожидание поддерживается практически ежегодными репетициями
конца: за 290 лет существования города он пережил более 270 наводнений,
когда вода поднималась на полтора метра выше ординара и более и
начинала подтапливать город и извне и изнутри - через городские реки и
водопроводные люки. Фольклорная традиция, точнее, может быть, «низовая»,
твердо стояла на неизбежности конца с самого основания Петербурга и даже до
него: предание рассказывает (и в отдельных случаях оно подтверждается и
практикой более позднего времени), что первонасельники дельты Невы не
строили основательных жилищ и не обременяли себя имуществом, но
привязывали свои верейки к дереву и, когда стихия разыгрывалась, садились,
677
взяв с собой необходимый минимум, в верейку и вверяли свою жизнь
судьбе, которая нередко выносила их к Дудергофским высотам, как праотца
Ноя и его спутников к Арарату. Если Петербург страдал от воды, то
Москва - от огня, тоже от почти ежегодных пожаров, и москвичи тоже в
ожидании пожаров не очень-то заботились о восстановлении жилья, которое вот-
вот еще раз будет спалено новым пожаром. Но если катаклизм стал
навязчивой идеей в Петербурге и лег в основу петербургского эсхатологического
мифа, то москвичи проявляли больший фатализм и большую
беззаботность - пожаров ждали, но экпиросис не сделали объектом-темой своей
мифологии.
Народный миф о водной гибели был усвоен и литературой, создавшей
своего рода петербургский «наводненческий» текст. Об этом немало
было написано, и поэтому здесь нет смысла возвращаться к этой теме во
всей ее полноте. Однако для общей ориентации уместно обозначить ряд
довольно разных имен, связанных с темой, которая разыгрывается в
сверх-эмпирическом плане - или эсхатологическом, или
историософском. В этом ряду прежде всего стоит отметить стихотворение СП. Ше-
вырева «Петроград» (в автографе первоначально оно называлось
«Петербург»), 1829, опубликованное в «Московском Вестнике» за 1830 г.,
№ 1. В двух отношениях оно заслуживает упоминания в этой работе: во
вступлении к «Медному Всаднику» Пушкин, не называя автора, учел это
стихотворение74, во-первых, и, во-вторых, конструкция, на которой
держится тема, представляет собой жанр прений-поединка двух начал -
Петра и моря, человека и стихии, с сильным мифологизирующим
элементом: Петр победил (Что чернеет лоно вод? / Что шумят валы
морские! I То дары Петру несет / Побежденная стихия), и хотя всадник,
взлетевший «на отломок диких гор», Зоркий страж своих работ /
Взором сдерживает море / И насмешливо зовет: I «Кто ж из нас могучей
в споре!», победа Петра двусмысленна. Ее цена -Ив основу зыбких
блат I Улеглися миллионы, - / Всходят храмы из громад, / И чертоги, и
колонны при Петре и Помнит древнюю вражду, / Помнит мстительное
море I И, да мщенья примет мзду. / Шлет на град потоп и горе по сей
день. Центральная в этом ряду фигура, Пушкин не нуждается в данном
случае в комментарии. Зато заслуживает внимания далеко не всем
знакомая биографическая деталь, связанная с Лермонтовым и известная из
«Воспоминаний» В.А. Соллогуба: «Лермонтов, одаренный большими
самородными способностями к живописи, как и к поэзии, любил чертить
пером и даже кистью вид разъяренного моря, из-за которого подымалась
оконечность Александровской колонны с венчающим ее ангелом. В
таком изображении отзывалась его безотрадная, жаждавшая горя
фантазия». Но Лермонтов был одарен и провидческими способностями, что
придает этому рассказу свидетеля особую цену, тем более что
существует некий контекст, в котором поэт уподобляет себя морю, точнее,
волне75. Новый ракурс эсхатологического петербургского мифа был найден
М.А. Дмитриевым в стихотворении «Подводный город» (1847) - своего
рода жизнь после смерти. Катаклизм произошел. Картина безрадостна:
Море ропщет, море стонет\ /... / Море плачет; брег песчаный / Одинок,
печален, дик; / Небо тускло; сквозь туманы / Всходит бледен солнца
678
лик. Но жизнь остаточно продолжается. Рыбак спускает на воду ветхую
лодку. Мальчик сети расстилает, / Глядя молча в дальний мрак. // И
задумался он, глядя, I И взяла его тоска: / «Что так море стонет,
дядя!» -1 Он спросил у рыбака. И дядя отвечает: «Видишь шпиль! Как нас
с погодку I Закачало с год тому, / Помнишь ты, как нашу лодку /
Привязали мы к нему!.. II Тут был город всем привольный / И над всеми
господин, I Нынче шпиль от колокольни / Виден из моря один. // Город,
слышно, был богатый / И нарядный, как жених', I Да себе копил он
злато, IА с сумой пускал других\ // Богатырь его построил: / Топь
костьми он забутил, / Только с Богом как ни спорил, / Бог его перемудрил\
Природа, море отомстили человеку за своеволие и несправедливость.
О том, что произошло и за что было послано наказание, рыбак и
рассказывает мальчику: В наше море в стары годы / Говорят, текла река, /
И сперла гранитом воды / Богатырская рука. // Но подула буря с моря, /
И назад пошла их рать, / Волн морских не переспоря, / Человеку
вымещать^. II Всё за то, что прочих братии / Брат богатый позабыл, / Ни
молитв их, ни проклятий / Он не слушал, ел да пил. Оттого и стонет
морская волна, набегая на берег и откатываясь от него. Мальчик слушал,
робко глядя, / Страшно делалось ему: / «А какое ж имя, дядя, / Было
городу тому!» II «Имя было! Да чужое, / Позабытое давно, / Оттого что
неродное - / И не памятно оно». (Чужое имя - как бы не имя: подлинное
имя «внутренне» (имя < *п-теп как «внутреннее»), «чревно»; впрочем, до
30-х годов XVIII в. петербургские улицы действительно не имели
названий, что весьма удивляло иностранцев. «Однако удивительно, - писал Ве-
бер, - что ни одна улица в Петербурге не имеет названия, а один другому
описывает место, о котором спрашивают, называя того или иного
живущего в этой местности, пока не назовут такого человека, которого
знают, а затем приходится продолжать расспросы»). Сходный мотив
разыгравшейся стихии, наказывающей город за попрание справедливости, за
эгоизм, - в рассказе В.Ф. Одоевского «Насмешка мертвеца» (1834),
причем наводнение рисуется именно как катаклизм, как конец света, когда
гибнут живые и восстают мертвые, в какой-то момент волей стихии
встречаясь друг с другом. Эсхатологичен Петербург и в изображении
Андрея Белого. Призрак конца постоянно присутствует в романе, ибо
Петербург - над бездной, и переход от реального, бытового, ежедневного к
единственному, грозному, сверхреальному и окончательному легко
может совершиться, когда угодно: «Изморось поливала улицы и проспекты,
тротуары и крыши. Она поливала прохожих: и награждала их гриппами...
Издалека-далека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно и
принизились острова; и принизились здания; казалось - опустятся воды, и
хлынет на них в этот миг: глубина, зеленоватая муть», ср. уже
упоминавшееся ранее описание наводнения в Петербурге у Мережковского как
своего рода эсхатологии и немало других подобных текстов76. Поэтому
неслучайны столь частые сравнения Петербурга и Невы (или даже
прямые определения их) с Аидом, Стиксом, Коцитом, Некрополем, царством
мертвых, бездной, глубью, морским дном77 или просто «глубокой, темной
ямой» (3. Гиппиус), как неслучайны пророчества о гибели Петербурга,
проклятия, призывания кар и наказаний:
679
Твое холодное кипенье
Страшней бездвижности пустынь.
Твое дыханье смерть и тленье,
А воды - горькая полынь.
Как прежде вьется змей твой медный,
Над змеем стынет медный конь...
И не сожрет тебя победный,
Всеочищающий огонь78.
Нет, ты утонешь в тине черной,
Проклятый город,
Божий враг.
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк.
(3. Гиппиус. «Петербург»)
В предреволюционные и первые послереволюционные годы тема
умирания, гибели, уничтожения Петербурга разными способами
возникает все чаще и чаще в многообразных вариантах и в известной степени
становится общим местом (среди этих текстов стоит отметить «Землю и
воду» А. Грина и «1918 год» А.Н. Толстого, где умирание города
выступает как исполнение некоего старого пророчества, и особенно
«Петербург», 1915, Поликсены Соловьевой - Мне снятся жуткие провалы...,
высоко ценимый Волошиным).
Но петербургская эсхатология открывалась не только русским
писателям. Лишь два, но, может быть, наиболее значительных примера, будут
упомянуты здесь. Прежде всего речь идет о «петербургской» теме в
третьей части «Дзядов» Мицкевича, конкретно о фрагменте «Oleszkiewicz»,
навеянном петербургским наводнением (ср. подзаголовок - Dzieri przed
powodzi^ peterbursk^ 1824 г). Уже в отрывке «Pomnik Piotra Wielkiego», в
самом конце его, описывая монумент Петра, поэт задает роковой вопрос о
том, что будет с Всадником и с тем, что он символизирует, - ζ kaskadq tyranst-
wa19. В «Олешкевиче», начинающемся впечатляюще мрачной картиной
города80, дается ответ на этот вопрос, которым и завершается отрывок. В этом
ответе - и проклятия городу, и пророчество о его конце, как бы на глазах
воплощающееся в реальность (эффект присутствия усиливается
обстоятельствами: молодые поляки, гуляя по набережной Невы, встречают
неизвестного им человека, измерявшего, насколько уровень воды поднялся
сверх ординара; оторвавшись от своего дела он, как бы говоря с самим
собой, объявляет: «Kto jutra dozyt, wielkich cudow dozyi, / Bçdzie to drugq, nie
ostatnia probq; / Pan wstrzqsnie szczeble assurskiego tronu, / Pan wstrzqsnie grunty
miasta Babilonu; / Lecz trzeciq widziec, Panie! I Nie daj czasu»). Неизвестный, в
котором был узнан поляк-художник, выходит на площадь перед царским
дворцом, устремляет на него взор и как бы обращается к царю: все спят, но
ты, царь, не спишь; Бог добр и посылает тебе духа, чтобы остеречь тебя
хотя бы в предчувствиях {On ciç w przeczuciach ostrzega о karze); в годы твоей
молодости ангел-охранитель посылал тебе благие сны; в те годы царю
было чуждо зло, и он был человеком {dawniej byt czlowiekiem), но с годами,
становясь тираном, царь coraz to glçbiej wpadal w moc szatana: сатанинское
стоит между царем и тем, что его ожидает, предчувствием гибели; но завтра
680
Господень гнев сметет всё - az dojdzie w koncu do legowisk dzika. И дальше
главное - о вихрях, расковавших воды, о буре, которые несут гибель:
Sfyszç!.. tam... wichry... juz wytknçly glowy
Ζ polarnych lodow, jak morskie straszydla;
Juz sobie ζ chmury porobity skrzydla,
Wsiedly na falç, zdjefy jej okowy.
Siyszç!.. juz morska otchlari rozkielznana
Wierzga i gryzie lodowe wçdzidla,
Juz токщ szyjç pod obloki wzdyma,
Juz!., jeszcze jeden, jeden laricuch trzyma...
Wkrotce rozkuJ4... styszç mlotow kucie...81
Второй пример - поразительное и несколько неожиданное видение
Петербурга в финале «Аврелии», написанной Нервалем в 1853-1854 гг.
(впрочем, первая версия восходит к 1841-1842 гг.). Эта дивинация включена
в профетический контекст мистических связей России и Польши, что, хотя
и по-иному, связывает Нерваля с Мицкевичем. Тема видения - эсхатология
Петербурга: узрение бездны (un abîme profond), куда низвергаются волны
оледеневшего Балтийского моря, Нева, корабли, готовые сорваться со
своих якорей и исчезнуть в пучине, и внезапное воссияние божественного
света, прорвавшего туман и выхватившего из него скалу со статуей Петра82.
Эсхатологический миф Петербурга - о том, как космос растворяется в
хаосе, одолевается им, и этот хаос - по преимуществу водный: то, что
принадлежало «космическому», то, что по-своему организовывало городское
пространство - и величественные и торжественные невские воды и уютные,
«домашние» маленькие речки «местного» значения, - по мере распадения
этого пространства, его хаотизации всё более и более обнаруживают иное
в себе, связанное с бездной, нижним миром, смертью. Вижу серого
оттенка I Мойку, женщину и зонт, / Крюков, лезущий на стенку, / Пряжку, Кар-
повку, Смоленку, /Стикс, Коцит иАхеронт, по слову
современного поэта. Эсхатологичность Петербурга сама по себе если и не
предполагает с необходимостью, то в сильной степени способствует не только связи с
темой смерти, гибели, но и с образами носителей этого гибельного начала,
насельниками темного пространства смерти, преисподней или посланцами
этого царства, носителями его духа, началом двоения, сомнительности,
соблазна, петербургскими пороками, маревами, горячечным бредом. Это
соображение может быть представлено и в несколько ином, более «центри-
рованно-направленном» виде: эсхатология петербургского мифа, принятая
и усвоенная как неотменимый конец города, как и сформировавшееся (в
частности, и на этой основе) эсхатологическое сознание явно или неявно
исходят из того, что семена, посеянные «в начале», в дни творения, дадут свои
плоды «в конце», в дни распада и гибели. И эта судьба города
предопределена «злыми» семенами того далекого «злого» начала. А зло состояло в
нарушении законов природы, здравого смысла, человеческой жизни, говоря в
общем, -справедливости, какой она выступает на природном и
социальном уровне. Таким образом, «злое» начало прошло, проходит и
пройдет через всю петербургскую историю от ее начала до ее конца. И сам
Петербург в этом отношении подобен «черному» заговору «на зло», в котором
тема зла и дух зла - сквозные, и это зло - то отчетливее, то туманнее, то, в
681
благополучные периоды, отступая, то, в неблагополучные, выступая на
первый план, - осознавалось в народной «петербургской» традиции (и даже вне
Петербурга, о котором страна судила как о чем-то чуждом и греховном, и
если тянулась к нему, то часто корысти ради, поддаваясь низким
соблазнам, - едва ли стоит напоминать, что речь идёт лишь об одной, но очень
весомой части спектра внешних «мнений» о Петербурге) и начиная с
30-х годов XIX в. и в литературе - художественной, публицистической,
исторической.
Вот это «злое» начало, несомненно, во многом объясняет тему
инфернального в Петербурге в разных ее вариантах - сатанинства (ср. szatan y
Мицкевича), дьяволизма, чертовщины и бесовщины (от гоголевского
«Портрета» (ср. Чартков, характерная в этом контексте фамилия) и
«Уединенного домика» до Волошина и «Поэмы без героя» с ее петербургской
чертовней83, приуроченной к порогу конца, когда вдруг припоминаются и
уясняются связи прошлого и будущего: Как в прошедшем грядущее зреет, I Так в
грядущем прошлое тлеет - I Страшный праздник мертвой листвы - и
возникает страшный вопрос: Не последние ль близятся сроки!./, «"Черто-
град" замерз. Ледяной покой», говорит о Петербурге Зинаида Гиппиус
(к Lust-Eiland как названию Заячьего острова существовала эвентуальная
антонимическая параллель в виде Teufel-Eiland, т.е. «Чертов остров»);
многое было написано и о петербургской нечисти, привидениях, мороках, ср.
Ремизова, у которого миф-анекдот, быличка, меморат иногда приобретали
характер guignol^)84, «макаберности» («петербургские» части «Учителя
музыки» и др., ср. «Бобок» Достоевского), той «темной» мистики
промежуточных состояний сознания на грани реального и ирреального, где всё
подозрительно неопределенно и двусмысленно, как это бывает в тех случаях, когда
неясна связь между причиной и следствием, и человек оказывается в некоем
«странном» пространстве, в котором можно встретить всё, что угодно, - от
страха-ужаса до мелких каверз и простых подножек (ср. петербургскую
гофманиану, позже - Лескова, Ремизова, Сологуба, Георгия Иванова,
прежде всего - «Петербургские зимы», А.Д. Скалдина - как его роман
«Странствия и приключения Никодима Старшего», так и представляемый самим
автором психологический тип человека, общающегося с иным миром (ср. об
этом у Г. Иванова), и многое другое), наконец, тех аномальных,
патологических состояний человека, которые в Петербургском тексте чаще всего
объясняются не случайностью, а результатом соприкосновения со «злым»
началом (Германн, Чартков, Поприщин, Голядкин, Вася Шумков, Николай
Иванович из победоносцевской «Милочки», Семен Семенович Черноусен-
ков из «Бамбочады» и др. как персонажи, стоящие у истоков этой линии и
далее). Рассматривая вопрос о том, как эти варианты «текста дьявола»
(условно говоря) отразились в Петербургском тексте, существенно
различать два слоя - «низкий», традиционный дьяволизм, от Варфоломея в
«Уединенном домике на Васильевском острове» до Варфоломея
Венценосного в рассказе Зоргенфрея о дьяволе («Санкт-Петербург. Фантастический
пролог», 1911)85, и «высокий», оригинальный и, как правило, «личный»
демонизм
-от«МедногоВсадника»до«блоковских»стихов.Апокалиптическая числовая символика86 Петербургского текста также отсылает к
эсхатологическому и апокалиптическому слою Петербургского текста, а сам
682
этот слой - к идее безосновности Петербурга, жить в котором можно, только
опираясь на ничто (ср. ницшевское das Nicht), которое ведет или прямо к
гибели, или к подлинному спасению, достигаемому уже не прежним
человеком, но новым уже в силу своего мучительного, личного жизненного опыта.
Но если от зла к добру, от смерти-гибели к спасению есть путь, то не
значит ли это, что из одного корня растут два близнеца, противоположные
друг другу во всем, кроме этого единого корня, главной ситуации
существования человека?! Действительно, из этого же источника, из заложенного в
нем импульса вырос и благой побег - историософия «петербургского»
периода русской истории, глубокие мистические прозрения о сути города, его
идее, наконец, наиболее отвлеченные метафизические конструкции
высокой смысловой наполненности, казалось бы, совсем оторвавшиеся от
петербургской почвы и тем не менее глубинно с нею связанные. Эту связь можно
было бы назвать тайной, если бы сами авторы почти сомнамбулически не
расписывались в «петербургское™» своих творений. Аркадий Долгорукий в
«Подростке» говорит о раннем петербургском утре, об особой бодрости и
сообщительности петербуржцев в это время суток и о том, как ему
нравится оно: «Утро было холодное, и на всем лежал сырой молочный туман. Не
знаю почему, но раннее деловое петербургское утро, несмотря на
чрезвычайно скверный свой вид, мне всегда нравится, и весь этот спешащий по
своим делам, эгоистический и всегда задумчивый люд имеет для меня, в
восьмом часу утра, нечто особенно привлекательное. Особенно я люблю
дорогой, спеша, или сам что-нибудь у кого спросить по делу, или если меня кто
об чем-нибудь спросит: и вопрос и ответ всегда кратки, ясны, толковы,
задаются не останавливаясь и всегда почти дружелюбны, а готовность ответить
наибольшая во дню. Петербуржец, среди дня или к вечеру, становится менее
сообщителен и, чуть что, готов и обругать или насмеяться; совсем другое
рано поутру, еще до дела, в самую трезвую и серьезную пору. Я это заметил».
Бодрость физическая, телесная, сообщительность и деловитость -
действительно поутру. Но бодрость духовная, живость мысли, жар мечтаний,
переходящих в горячечные грезы, - это по ночам, после того как
физическая бодрость уже ушла и высвобождающая от дремоты рефлексия ума, как
бы переняв эстафету бодрости, начинает раскручивать обороты, пока
глубокой ночью она не выводит мысль близко к предельным для нее
возможностям, где она сама уже не гарантирована от рискованных ходов и
перехлестов, которых поутру приходится стыдиться. Аркадий знал и об этом:
«Всякое раннее утро имеет на природу человека отрезвляющее действие. Иная
пламенная ночная мечта, вместе с утренним светом и холодом, совершенно
даже испаряется, и мне самому случалось иногда припоминать по утрам
иные свои ночные, только что минувшие грезы, а иногда и поступки, с
укоризною и стыдом. Но мимоходом, однако, замечу, что считаю
петербургское утро, казалось бы самое прозаическое на всем земном шаре, - чуть ли
не самым фантастическим в мире» (и далее - «среди этого тумана» - о
«странной, но навязчивой грезе», отсылающей и к Германну, и к Медному
Всаднику и подводящей к «последнему» вопросу о сути Петербурга, о самом
его бытии, задаваемому самому себе не только героем «Подростка»: «Вот
они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, всё это чей-нибудь
сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного по-
683
ступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому всё это
грезится, - и всё вдруг исчезнет»). В Москве ночью спали, а те редкие, что не
спали, проводили ночь в спорах и не поодиночке, а в компании, где-нибудь на
Сивцевом Вражке, в Большом Афанасьевском или Чернышевском, к тому
же разгоряченные жженкой. В Петербурге ночью мечтатели бодрствовали,
но каждый сам по себе, и разгорячиться можно было только от жара
мыслей или чувств. Таким был один из первых мечтателей Петербургского
текста, герой «Белых ночей»: жизнь мысли и чувства приходилась на ночь, и
счет этой жизни шел по ночам. По ночам предается рефлексии и другой
мечтатель три четверти века спустя - и тоже о любви и тоже переживая
любовь, кончившуюся драмой. Об этих девяти ночах он оставил свидетельство,
в котором личную драму любви и свое поражение как человека,
захваченного любовью, он пытается восполнить построением метафизической
конструкции любви о соединении двух любящих в двуединое я. Могут спросить:
а где же здесь Петербург и причем он вообще? Он здесь, за ночным окном,
через которое мало что видно и мало что слышно («Опять тихая, морозная,
лунная ночь. Редкие прохожие идут торопливо. Наверно, на улице слышен
хруст снега под их ногами. Нет шумной дневной сутолоки, и собор потерял
свою суетливость, очерченный луной. Везде длинные редкие тени рядом с
бледным светом, медленно ползущим по полу передо мной. Жизнь затихла,
но всё живет иною лунною жизнью, зовущей к себе и недоступной. На душе
непонятная грусть. И встают сомнения, мучительно неразрешимые...»).
Этих скупых слов о «внешнем» Петербурге здесь достаточно: «внутренний»
Петербург - в подъемной тяге метафизической конструкции любви,
выстраиваемой в петербургские ночи. Книга, многим обязанная «Белым ночам»
Достоевского и «Русским ночам» Одоевского (1844), где тоже девять ночей
и они - по существу и по преимуществу - тоже петербургские, так и
называется - «Noctes Petropolitanae» (Л. Карсавин) и несет в себе эхообразные
следы всей традиции петербургских ночей и вечеров (среди последних нужно
выделить книгу глубоких рефлексий и проницательных наблюдений,
теснейшим образом связанную с Петербургом, обладающую высокими
художественными достоинствами и до сих пор не только не оцененную, как она
того заслуживает, но и вообще мало кому у нас известную, - «Les soirées de
St.Pétersbourg» Жозефа де Местра, вышедшую в двух томах в 1821 г. в
Петербурге87; о петербургских интеллектуальных, преимущественно
художественных и литературных вечерах см. книгу М.С. Жуковой «Вечера на
Карповке» (1837), проанализированную с этой стороны в другом месте). Как
противоположно это ночное узревание, мечтание, осмысление, прорыв
к глубине утренним размышлениям при свете сознания,
«просвещенческим» Morgenstunden Мендельсона и его собратьев по западной культуре!
Одна из много объясняющих особенностей «петербургской»
историософии о Петербурге же - сродство историософского метатекста о городе с
самим «объектным» текстом города, с Петербургом, и это сродство
осуществляется не столько принудительно - через тему, сколько через общие
особенности соотносимых явлений. Одна из них - сочетание рационального,
логико-дискурсивного, исторического и философского, умопостигаемого
дискретного с иррациональным, художественным, интуитивно-мистическим
непрерывным. Именно этим объясняется то, что мастера «петербургской»
684
историософии, поэты по преимуществу, - будь то Пушкин, Тютчев,
Достоевский, Анненский, Блок, Белый, Гумилев, Волошин, Мандельштам,
Ахматова, Вагинов или славянофилы и западники, Анциферов, Федотов, Даниил
Андреев. И именно поэтому в своих текстах о Петербурге эти мастера так
близко и вовсе не редко подходят к мистическому слою и, томимые
трансфизической тревогой, прорываются сквозь завесу эмпирии «исторического»
в пространство метаистории или - по меньшей мере - заглядывают в него,
узревая его высокие и тайные смыслы и обнаруживая их в своих
«петербургских» текстах, выполняя тем самым миссию вестничества. Неясность,
неопределенность, недосказанность, неоконченность, туманность в этих случаях
не недостаток, а по сути дела, наиболее точная интуитивная фиксация
наличного состояния: оно и есть таково, и любая попытка прояснения,
дискретизации и рационализации, «логического» комментирования способна враз
разрушить этот чудный град из облаков.
Из до сих пор сказанного следует, что Петербург, «петербургская»
ситуация, «Петербургский текст» должны обнаруживать некоторую
предрасположенность к сфере профетического: «петербургское» как бы открыто
пророчествам и видениям будущего - и потому что оно та пороговая
ситуация, та кромка жизни, откуда видна метафизическая тайна жизни и
особенно смерти, и потому что знамения будущего, судьбы положены в
Петербурге плотнее, гуще, явственнее, чем в каком-либо ином месте России. (И
мертвый у руля, твой кормчий неуклонный, I Пронизан счастием чудовищного
сна, I Ведя свой верный путь, в дали окровавленной I Читает знаменья
и видит письмена. Лозинский. «Петроград», 1916.) Апокалиптический
характер петербургской беды как бы уравновешивается видением ее конца,
даваемого человеку как последняя благодать; во всяком случае, есть
психологическая расположенность к тому, чтобы видеть некую связь между
огромным масштабом страшного и открытостью судьбы человеку. Все
помнят того несчастного дьяка, который, как обезумев, твердил свое
«Петербургу быть пусту», когда закладывались первые камни в основание
будущего города. Это пророчество, по временам уходящее в скрывающую
его тьму, всегда жило, в нужный момент выходило наружу и два века
спустя, накануне гибели «имперского» Петербурга, снова прозвучало с
первоначальной силой - Нет, ты утонешь в тине черной, I Проклятый город,
Божий враг (3. Гиппиус). Но мало кто помнит допетербургское
пророчество о Петербурге великого святителя Митрофана Воронежского, сделанное
им Петру I уже в 1682 г., когда Петру не могли еще прийти в голову мысли
о столице России на берегах Балтики. В этом контексте трудно провести
грань между подлинным пророчеством и наказом, через два десятилетия
(или три, если речь идет о столице) выполненным царем. «Ты воздвигнешь
великий город в честь святого апостола Петра. Это будет новая столица.
Бог благословляет тебя на это. Казанская икона будет покровом города и
всего народа твоего. До тех пор пока икона Казанская будет в столице и
перед нею будут православные, в город не ступит вражеская нога», - говорил
тогда Митрофан. С тех пор было много пророчеств (см. В. Вейдле.
«Петербургские пророчества», 1939 и др.), и в этом отношении Петербург -
«горячий» город: сам пророческий жар прорвался в Петербурге и в литературу -
в отличие от Москвы, которая в эти века, несомненно, не была «горячей» и
685
уступала Петербургу. Все это по-своему объясняет состояние ожидания
пророчества и еще более - его исполнения даже тогда, когда шансов на это
почти нет: Но поет петербургская вьюга I В заметенное снегом окно, I
Что пророчество мертвого друга I Обязательно
сбыться должно как отсылка к самому пророчеству - В
Петербурге мы сойдемся снова I Словно солнце мы похоронили в нем, IИ
блаженное, бессмысленное слово I В первый раз произнесем.)
Два-три примера напоминательного характера, которые, может
быть, помогли бы почувствовать ту духовную ситуацию, которая лежит
в основе этих узрений иного, «небесного», запредельного Петербурга,
того «сверх-Петербурга», в котором все реальные и случайные черты
стерты {сотри случайные черты) ради того, чтобы из сферы
изменчиво-преходящего увидеть его «вечно-неподвижную» основу, идею города.
Первый пример - мистически-пророческое видение Петербурга во времени -
в контексте всей его истории, в пространстве - в контексте своего рода
«Западно-восточного дивана» (Нил, Бейрут, Индия - Сена, не
обозначенная явно, но предполагаемая Германия). Речь идет о таинственном и,
вероятно, лучшем стихотворении-завещании Гумилева «Заблудившийся
трамвай» (1921). Подлинность пережитого - в том удивительном
сочетании личного и сверхличного, эмпирически-реального и, по
воспоминаниям современников, хронотопически определенного с тем
неопределенным пространством мистического, где так легко совершаются переходы
от этого к тому, к иному, где граней и перегородок практически нет и
открывается то дальновидение, которое не что иное как глубоковидение,
узрение духа-идеи (билет в Индию Духа уже куплен), откровение своей и,
думается, петербургской, российской судьбы (несмотря на верную
твердыню православъя - врезанный в вышине Исаакий):
Вывеска... кровью налитые буквы
Гласят: «Зеленная», - знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мертвые головы продают.
В красной рубашке, с лицом, как вымя
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь, в ящике скользком, на самом дне.
А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.
Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.
И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.
686
Верной твердынею православья
Врезан Исаакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравье
Машеньки и панихиду по мне.
И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить...
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить88.
Одним из наиболее выдающихся опытов историософского осмысления
Петербурга нужно считать многочисленные работы 20-40-х годов Г.П.
Федотова, особенно его статью «Три столицы», напечатанную в 1926 г. в
первом номере журнала «Версты». Это столь же историческое, сколь и
художественное проникновение в роль Петербурга в русской истории и в его
предназначение, где «историческое» контролирует потенциальную
безграничность интуитивно-художественного видения, а последнее, сознавая, что оно
на поводке у строго-холодного «исторического», тем собраннее, направлен-
нее и глубже проникает в тайны загадки Петербурга. Достоинства этой
статьи Федотова трояки -в попытке понять и показать, что «старая
тяжба» между Москвой и Петербургом - при всем их различии и особом
назначении у каждого из этих городов - не имеет универсального разрешения и
что равным образом «лихорадящий Петербург и обломовская Москва -
дорогие покойники» и теперь уже перед нами иной Петербург и иная
Москва; в попытке увидеть Петербург, Москву и Киев в таком широком
контексте, что становится ясной, с одной стороны, их уникальность и
неповторимость, отменяющая всяческие или... или..., а с другой, равность их друг
другу в том отношении, что каждая из этих столиц была
единственной, кто в должном месте, в должное время, в должных экономических,
социальных, политических и духовных обстоятельствах мог решить стоящую
перед каждой из них задачу, ответить на некий сверх-вопрос о бытии
России и ее спасении; в попытке определить эту
единственность Петербурга, Москвы и Киева в целом русской истории. Эти задачи,
выдвинутые мыслителем, и сама формулировка «сверх-вопроса» были
первым и необходимым шагом, когда опасность гибели из ожидания ее
превратилась в реальность, в будни русской жизни и требовала с невиданной
дотоле настоятельностью уяснить происшедшее и попытаться увидеть, что
могло бы стать основой спасения, первым шагом к нему. Решение, к
которому приходит Федотов, отличается трезвостью и глубиной, и, может
быть, самое важное, что в нем формулируется главная опасность сего дня,
которая - на первый взгляд - снова должна отбросить нас в обсуждение
«старой тяжбы». Пунктирно - о ходе мыслей автора статьи, главным
образом в связи с Петербургом, поскольку федотовский текст - плач по городу,
посмертный панегирик и последняя надежда -да будет!:
«Старая тяжба между Москвой и Петербургом становится вновь одной
из самых острых проблем русской истории. Революция - столь богатая
парадоксами - разрубила ее по славянофильски... Речь идет не о
самобытности и Европе, а о Востоке и Западе в русской истории. Красный Кремль не
символ национальной святыни, а форпост угнетенных народов Азии...
Евразийство расширяет и упраздняет старое славянофильство. Но другой член
687
антитезы, западничество, и в поражении сохраняет старый смысл.
Дряхлеющий, зарастающий травой, лишенный имени Петербург духовно живет
своим отрицанием новой Москвы. Россия забывает о его существовании, но он
еще таит огромные запасы духовной силы. Он еще мучительно болеет о
России и решает ее загадку: более чем когда-либо, она для него сфинкс...
Москва и Петербург еще не изжитая тема. Революция ставит ее по-новому
и бросает новый свет на историю двухвекового спора...
Петербург - чиновник, умеренно либеральный, европейски
просвещенный, внутренне черствый и пустой. Миллионы провинциалов, приезжавших
на берега Невы обивать пороги министерских канцелярий, до самого конца
смотрели так на Петербург. Оттого и не жалеют о нем: немецкое пятно на
русской карте. Уже война начала его разрушение. Город форменных
вицмундиров... - революция слизнула его без остатка. Но тогда и слепому стало
ясно, что не этим жил Петербург. Кто посетил его в страшные смертные годы
1918-1920, тот видел, как вечность проступает сквозь тление... В городе,
осиянном небывалыми зорями89, остались одни дворцы и призраки.
Истлевающая золотом Венеция и даже вечный Рим бледнеют перед величием
умирающего Петербурга... Петербург воплотил мечты Палладио у полярного круга,
замостил болото гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст
среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого
гения, прокаленного в кузнице русского духа... Русское слово расторгло свой
тысячелетний плен и будет жить. Но Петербург умер и не воскреснет. В его
идее есть нечто изначально безумное, предопределяющее его гибель.
Римские боги не живут среди «топи блат», железо кесарей несет смерть
православному царству. Здесь совершилось чудовищное
насилие над природой и духом. Титан восстал против земли и неба и
повис в пространстве на гранитной скале. Но на чем скала? Не на мечте ли?
Петербург вобрал всё мужское, всё разумно-сознательное, всё гордое и
насильственное в душе России. Вне его осталась Русь, Москва, деревня,
многострадальная земля, жена и мать, рождающая, согбенная в труде,
неистощимая в слезах, не успевающая оплакивать детей своих, пожираемых
титаном. Когда слезы все выплаканы, она послала ему проклятье. Бог услышал
проклятье матери, «коня и всадника его ввергнул в море».
При покорном безмолвии Руси, что заполняет трагическим
содержанием петербургский период? Борьба Империи с Революцией. Это борьба
отца с сыно м90, - и не трудно узнать фамильные черты: тот же дух
системы, «утопии», беспощадная последовательность, «западничество», отрыв
от матери земли... Размышляя об этой борьбе перед кумиром Фальконета,
как не смутиться, не спросить себя: кто же здесь змий, кто змиебо-
р е ц? Царь ли сражает гидру революции или революция сражает гидру
царизма? Мы знаем земное лицо Петра - искаженное, дьявольское
лицо, хранящее следы божественного замысла, столь легко
восстанавливаемого искусством... В жестокой схватке отца и сына стираются
человеческие черты... Когда начиналась битва, трудно было решить: где
демон, где ангел? Когда она кончилась, на земле корчились два звериных
трупа. Империя умерла, разложившись в невыносимом зловонии.
Революция утонула в крови и грязи. Теперь нет города в России, где не было бы
Музея Революции. Это верный признак ее смерти: она на кладбище...
688
Ужасный город, бесчеловечный город! Природа и культура соединились
здесь для того, чтобы подвергать неслыханным пыткам человеческие души
и тела, выжимая, под таким давлением прессов, эссенцию духа... Для
пришельцев из вольной России этот город казался адом. Он требовал
отречения - от солнца, от земли, от радости. Умереть для счастья,
чтобы родиться для творчеств а... Да, этот город торопился
жить, точно чувствовал скупые пределы отмеренного ему времени. Два
столетия жизни, одно столетие мысли, немногим более сроков человеческой
жизни! За это столетие нужно было, наверстав молчание тысячи лет,
сказать миру слово России. Что же удивительного, если, рожденное в муках
агонии, это слово было часто горьким, болезненным? Аскетизм отречения
Петербург простер - до отречения от всех святынь: народа, России, Бога.
Он не знал предела жертвы, и этот смертный грех искупил жертвенной
смертью...
Чем может быть теперь Петербург для России? ... Эти стены будут еще
притягивать поколения мыслителей, созерцателей. Вечные мысли родятся в
тишине закатного часа. Город культурных скитов и монастырей, подобно
Афинам времени Прокла, - Петербург останется надолго обителью русской
мысли.
Но выйдем из стен Академии на набережную. С Невы тянет влажный
морской ветер - почти всегда западный ветер. Не одни наводнения несет он
Петровской столице, но и дух дальних странствий... сердце дрогнет, как
птица в неволе. Потянет в даль, на чудесный Запад, омытый океаном, туда, где
цветут сады Гесперид, где из лона вод возникают Острова Блаженных.
Иногда шепчет искушение, что Там уже нет ни одной живой души, что только
мертвые блаженны. Все равно, тянет в страну призраков, «святых могил»,
неосуществленной мечты о Свободной человечности. Тоска целых
материков - Евразии - по Океану скопилась здесь, истекая узким каналом Невы в
туманный, фантастический Балт. Оттого навстречу западным
ветрам с моря дует вечный «западный» ветер с суши. Петербург останется
одним из легких великой страны, открытым западному ветру.
Не сменил ли он здесь, на Кронштадтской вахте, Великий Новгород? ...
только последние годы с поразительной ясностью вскрыли в городе Петра
город Александра Невского, князя Новгородского. Революция, ударив всей
тяжестью по Петербургу, разогнала все пришлое, наносное в нем, - и
оказалось, к изумлению многих, что есть и глубоко почвенное: есть
православный Петербург, столица Северной Руси. Многие петербуржцы впервые
(в поисках картошки!) исколесили свои уезды, и что же нашли там? На
предполагаемом финском болоте русский суглинок, сосновый бор, тысячелетние
поселки-погосты, народ, сохранивший в трех часах езды от столицы песни,
поверья, богатую славянскую обрядность... Когда бежали русские из
опустелой столицы, вдруг заговорила было по-фински, по-эстонски петербургская
улица. И стало жутко: не возвращается ли Ингерманландия, с гибелью дела
Петрова, на берега Невы? Но нет, русская стихия победила91.
Богат и славен Великий Новгород. Мы и сейчас не понимаем, как мог он
совместить с буйным вечем молитвенный подвиг, с русской иконой
ганзейский торг. Все противоречия, жившие в нем, воскресли в старом и новом
Петербурге... Есть в наследстве Великого Новгорода завещанное Петербургу,
689
чего не понять никому, кроме города святого Петра. Первое - завет
Александра: не сдавать Невской победы... Второе - хранить святыни
русского Севера, самое чистое и высокое в прошлом России. Третье -
слушать голос из-за моря, не теряя из виду ганзейских моряков. Запад,
некогда спасший нас, потом едва не разложивший, должен войти своей
справедливой долей в творчество национальной культуры. Не может быть
безболезненной встречи этих двух стихий, и в Петербурге, на водоразделе их, она
ощущается особенно мучительно. Но без их слияния - в вечной борьбе - не
бывать и русской культуре. И хотя вся страна призвана к этому подвигу,
здесь, в Петербурге, слышнее историческая задача, здесь остается если не
мозг, то нервный узел России»92.
Еще один исключительно оригинальный вариант «петербургской»
историософии засвидетельствован Даниилом Андреевым в его книге «Роза
мира». Три специфические особенности характеризуют этот вариант:
первая -«петербургское» берется здесь как определяющее начало
«российског о», как некий самодовлеющий и если не всё, то главное -
судьбу России направляющий центр, независимо от того, каковы желания и
намерения эмпирически-реальной России; вторая - «петербургское»
(как и «российское») рассматривается, строго говоря, не на историческом,
нонаметаисторическом уровне (при этом важно не столько то,
что метаистория - «метафизика» истории, но то, что вместо
причинно-следственного принципа объяснения используется телеологически й)93;
третья - метаисторический метод истолкования «исторических» данных
и отмеченная роль интуиции в раскрытии тайн метаисторического. Как в
центре «российского» стоит «петербургский», так и в центре
«петербургского» стоит гигантская фигура Петра, в конечном счете предопределившая и
высшие взлеты «петербургского» периода русской истории и то «злое» семя
ее, предрешившее трагедию не только Петербурга, но и всей России.
Конфликт между двумя инвольтациями - демиурга и демона государственности,
усиливаемый отрицательными особенностями личности императора,
прежде всего всепоглощающим духом насилия, с самого начала заложил то, что
кончилось взрывом. «Как грандиозна ни была фигура этого императора и
сколь провиденциально-необходимой ни являлась его деятельность, - пишет
Даниил Андреев, - но двойственность инвольтаций, воспринятых его
бушующим сердцем, богатырской волей и дальновидным, но утилитарным умом,
превратила родомысла в двойственное существо, перед которым врата
Синклита оказались закрытыми». Здесь лишь вкратце могут быть обозначены
основные идеи петербургской метаистории в понимании Андреева.
Метаистория Петербургской Империи приходится на второй уицраор, период,
определяемый уицраорами, могущественными, разумными и исполненными
зла существами, демонами великодержавной государственности,
играющими в истории огромную, но противоречивую, двойственную роль. Суть
ситуации, складывавшейся после Смутного времени, состояла в фатальной
невозможности создать светлейшие силы, которые смогли бы оградить народ
от опасности извне и распрей изнутри. Все это привело к тому, что «второй
уицраор России вместе со своими человекоорудиями - носителями
государственной власти - был осенен провиденциальной санкцией как меньшее
из з о л». Россия была наследственной монархией, и поэтому именно дина-
690
стия сама собой оказывалась в положении главного проводника воли уицра-
оров. Но династическая цепь была представлена живыми людьми разных
характеров и разных достоинств, что обусловило создание некоей шкалы
различных степеней инвольтированности. Столкновение воли уицраоров и
живой пестроты человеческих характеров оказалось «одним из трагических
внутренних противоречий, которое уицраор хранил и укреплял и которое
могло возглавляться только наследственным монархом. Принцип
наследственного абсолютизма оказывался инструментом крайне несовершенным,
ненадежным, искажавшим осуществление метаисторического плана
уицраоров постоянным вмешательством случайностей». Именно в этой сфере
демон великодержавной государственности уже до Петра I осложнял свое
положение выходами за пределы этики как в силу аморальности уицраоров,
так и из-за непонимания кармического закона вин и воздаяний,
преступлений и возмездий. В редких случаях кармическая цепь преодолевается
вмешательством могущественных провиденциальных сил, и это вторжение их
могло быть некиим «внешним» резервом. Таким было положение, когда Петр
стал русским царем. Нечувствие к кармическому началу, на поверхностном
уровне проявляющееся в дефекте «этического», в утрате института
«справедливости», осложняло ситуацию еще более. «Умерщвляя своего сына
Алексея, Петр I так же мало подозревал о том узле, который он
завязывает, как и его невидимый инспиратор». В записной книжке от 10 марта 1910 г.
Блок, имея в виду поэму Пушкина, писал: «"Медный Всадник", - все мы
находимся в вибрациях его меди». Но уже более чем столетие до написания и
опубликования этой поэмы петербургская метаистория свидетельствовала о
своем нахождении в вибрациях насильственного духа Петра: из 13 монархов,
занимавших престол после Петра, четверо взошли на трон в результате
переворотов, а шестеро погибли насильственной смертью; механизм
престолонаследия был надолго разрушен, дворцовые перевороты надолго стали
скорее правилом, чем исключением. «Столкновение между волей уицраора
и непонятным ему законом человеческой кармы было вторым
противоречием народоустройства, которое он охранял и укреплял... Но главное еще не
в этом... Цель идеальной тирании маячила перед вторым уицраором сперва
как отдаленная мечта, но со времени Петра Великого становится заметно
следующее: демон великодержавия начинает как бы раскачиваться между
попытками выполнить волю демиурга - и своей собственной тенденцией к
превращению государственности в тиранический аппарат». Российский
уицраор окончательно вступил на гибельный путь: санкция Яросвета была
утрачена, и он оказался исторически обречен.
Эта обреченность проявилась в «идейной нищете» второго демона
государственности, но и сама эта нищета делала историческую ситуацию еще
более обреченной. Ко времени вступления Петра на престол у русского
народа появилось «смутное, но властное ощущение мировых
пространств; оно походило на дыхание океана, на пронизывающий,
соленый и шумный ветер, вдруг ворвавшийся в замкнутый столько веков
мир... Эпоха Петра спасительно перевернула представление русских о
человечестве... собственный сверх-народ... и по объему своему, и по размерам
территории, и по ощущению затаенной в нем силы предназначен, очевидно,
к чему-то великому и вынужден нагонять упущенное». Идея великого
691
будущего России носилась в воздухе, а вскоре и прокламировалась. Но
«какое содержание вкладывалось в понятие "великого будущего" России?
Каким культурным или социальным смыслом оно насыщалось?» - эти
вопросы не получили ответа, а те следствия, которые могли бы быть
расценены как «практический» ответ, поражали «идейной нищетой». Демонический
дух государственности и великодержавия неизбежно извращал идею
величия, сеял соблазны, и меньшее из зол превращалось в большее - в
гибельный путь. Но и во внутреннем пространстве русской и петербургской мета-
истории следствия действий этого духа были гибельны. «Первое
следствие - экономическое и культурное. Это - троглодитский уровень
материального благосостояния и соответствующий ему уровень требований к жизни
...Второе следствие - нравственно-психологическое. Это - устойчивые,
глубоко вкорененные в психологию народных масс навыки рабского миро-
отношения: отсутствие комплекса гражданских чувств и идей, унизительная
покорность, неуважение к личности и, наконец, склонность превращаться в
деспота, если игра случая вознесла раба выше привычной для него ступени...
Третье следствие - религиозное в широком смысле. Из рабской
психологии, из убожества требований и стремлений, из узости кругозора, из
нищеты проистек и паралич духовно-творческого импульса. Нельзя сидеть при
лучине с раздутым от голода животом, с не обогащенным ни одною книгою
мозгом и с оравой голодных и голых ребят и творить "духовные ценности".
И это - несмотря на то что в лице своих крупнейших представителей народ
доказал и духовную свою одаренность, и глубину, и размах религиозных
возможностей!..»
Предвидятся два возражения как наиболее вероятные - при чем здесь
Петр и при чем Петербург? Одно уже было до них, другого при Петре еще
не было и возникло оно позже. На эти вопросы можно ответить примерно
так: именно через Петра и через его детище
Петербург, несущее в себе и демиургический творческий гений Петра и всё
«злое» насилие своего «строителя чудотворного», прошел главный и
определяющий поток русской истории и вобрал в себя всё, что мог взять от них,
а взяв это наследие и сделав его своим, Петербург не мог не выступать
и как субъект гениального творчества, и как субъект злой воли.
Творчество всегда происходило над бездной, во всяком случае то, что связано
с высшими взлетами художественного, научного, философского и
религиозного гения. Но губил Россию не этот творческий гений и его взлеты, а злая
воля и тот страшный разрыв между ними, между творческим «верхом» и
деструктивным «низом», который в течение всего «петербургского» периода
русской истории - как его наследие - и посейчас не мог быть заполнен
«средни м» органическим элементом. И еще один ответ, дополняющий
предыдущий: метаистория не может рассматривать свой объект вне
некоей широчайшей панорамы, вне «предсуществования и посмертия» его.
А в контексте этой панорамы как раз особенно ясно видно, что некий
решающий слом, о котором говорилось выше и значение которого не было и не
могло быть понято в узких рамках второго «петербургского» уицраора и
тем более во время царствования Петра, произошел именно при Петре и
именно в Петербурге, и при этом Петр был активным деятелем: он,
несомненно, приподнимался над потоком истории (но не метаистории!), а не был
692
щепкой, несомой этим потоком. То же самое можно сказать и о
Петербурге. Несомненно, что эта активность перед лицом истории говорит о великих
творческих возможностях и Петра и его города, но она же не позволяет
снять с Петра ответственности и вины (по киркегоровским критериям, Петр
невинен, но преступен), очевидной в метаисторическом целом, о котором
лучше всего сказал сам Даниил Андреев94. Забыть всё то, что думали и
могли бы сказать о Петербурге (а иногда и говорили, жалуясь или проклиная)
те, чья жизнь была сломана им, те, кто бедствовал, страдал и погибал в нем,
сославшись на «историческую необходимость», интересы государства,
требования прогресса, - никак нельзя, как нельзя забыть и того, что было
обратной стороной этих страданий, этого пребывания над бездной и чего
могло и не быть, - высшего цветения творческого гения, оплаченного столь
дорогой ценой. Спускаясь от метаистории к истории, от метафизического
Петербурга («мета-Петербурга») к реально-эмпирическому городу, обо всем
этом следует постоянно помнить, ибо здесь возникает евангельски-расколь-
никовский вопрос о цене кров и95.
IV. ПЕТЕРБУРГ И ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ:
МИР, ЯЗЫК, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
В заключение несколько наблюдений о критериях выделения в русской
художественной литературе особого Петербургского текста. Один из
наиболее простых и объективных - способы языкового кодирования основных
составляющих Петербургского текста. Уже на этом уровне открываются
необыкновенно богатые возможности, связанные с поразительной густотой
языковых элементов, выступающих как диагностически важные показатели
принадлежности к Петербургскому тексту и складывающихся в небывалую
в русской литературе по цельности и концентрированное™ картину,
беспроигрышно отсылающую читателя к этому «сверх-тексту». В качестве
некоего конкретного итога можно привести часть наиболее употребительных
именно в Петербургском тексте элементов (легко заметить, что
преимущественное внимание уделено прозе Достоевского; объясняется это не только
соображениями большей простоты и наглядности, но и двумя другими
: как было показано раньше, «петербургский» словарь Достоевского,
с одной стороны, аккумулировал данные складывавшейся традиции, а с
другой, послужил часто и разнообразно эксплуатируемой основой во многих
продолжениях Петербургского текста после Достоевского)96. Приводимые
ниже данные представлены фрагментарно, но каждый из упоминаемых
элементов мог бы быть подкреплен многочисленными примерами как из
Достоевского, так и из многих других авторов. В целом ряде случаев есть веские
основания говорить об особом классе внутри Петербургского текста -
«достоевски-образных» текстах или их фрагментах. Более того, начиная с
Достоевского мы научились по-новому видеть Петербург и замечать то,
чего раньше не видели (подобно, согласно Уайлду, лондонцам, заметившим
лондонские туманы после картин Тернера).
Внутреннее состояние: а) отрицательное -
раздражительный, как пьяный, как сумасшедший, усталый, одинокий, мучительный,
693
болезненный, мнительный, безвыходный, бессильный, бессознательный,
лихорадочный, нездоровый, смятенный, унылый, отупевший...; напряжение,
ипохондрия, тоска, скука, хандра, сплин (ср.: «Кажется, нет ничего в мире
тоскливее и скучнее петербургских тротуаров под осеннюю или
предосеннюю пору. В сколь бы веселом расположении ни вышли бы в это
благодатное время на улицу, как бы ни было светло и благоуханно настроение ваших
мыслей и лирических порывов и чувствований, - эти несносные, серые,
мокрые тротуары непременно убьют все и нагонят на вас тоску, хандру,
сплин, скуку» (Вс. Крестовский. «Погибшее, но милое созданье»,
1861), бред, полусознание, беспамятство, болезнь, лихорадочное состояние,
бессилие, страх, ужас (ср. мистический ужас), уединение, апатия, отупение,
тревога, жар, озноб, грусть, одиночество, смятение, страдание, пытка,
забытье, уныние, нездоровье, боязнь, пугливость, нестерпимость, мысли без
порядка и связи, головокружение, мучение, чуждость, сон...; уединяться,
замкнуться, углубиться; не знать, куда деться; не замечать, говорить вслух,
опомниться, шептать, впадать в задумчивость, вздрагивать, поднимать голову,
забываться, не помнить, казаться странным, тускнеть (о сознании),
надрывать сердце, чувствовать лихорадку, жар, озноб, тосковать, очнуться, быть
принятым за сумасшедшего, мучить, терять память, давить (о сердце),
кружиться (о голове), страдать...; б) положительное - едва выносимая радость,
свобода, спокойствие, дикая энергия, сила, веселье, жизнь, новая жизнь...;
глядеть весело, внезапно освобождаться от..., потянуться к людям, дышать
легче, сбросить бремя, смотреть спокойно, не ощущать усталости, тоски,
стать спокойным, становиться новым, придавать силу, преобразиться,
ощутить радость, размягчиться (о сердце), предаваться мечтаниям, фантазиям,
приятным «прожектам»...
Общие операторы и показатели модальности:
вдруг, внезапно, в это мгновенье, неожиданно...; странный,
фантастический...; кто-то, что-то, какой-то, как-то, где-то, всё, что ни есть, ничего,
никогда...
Природа: а) отрицательное - закат (зловещий), сумерки, туман,
дым, пар, муть, зыбь, наводнение, дождь, снег, пелена, сеть, сырость,
слякоть, мокрота, холод, духота, мгла, мрак, ветер (резкий, неприятный),
глубина, бездна, жара, вонь, грязь...; болото, топь, заводь... грязный, душный,
холодный, сырой, мутный, желтый, зеленый (иногда)... (показательно, что
именно из «объективных» показаний о природно-климатических условиях
города, засвидетельствованных, например, в описаниях иностранцев,
оказавшихся в Петербурге в XVIII в., было отобрано, институализировано и вошло
в Петербургский текст, икаковым было направление сдвига
«метафизического» по сравнению с «объективно-реальным»); б) положительное -
солнце, луч солнца, заря; река (широкая), Нева, море, взморье, острова,
берег, побережье, равнина; зелень, прохлада, свежесть, воздух (чистый),
простор, пустынность, небо (чистое, голубое, высокое), широта, ветер
(освежающий)...; ясный, свежий, прохладный, теплый, широкий, пустынный,
просторный, солнечный...97
Культура: а) отрицательное - замкнутость-теснота, середина, дом
(громада, Ноев ковчег), трактир, каморка-гроб (разумеется, и гроб98),
комната неправильной формы, угол, диван, комод, подсвечник, перегородка,
694
ширма, занавеска, обои, стена, окно, прихожая, сени, коридор, порог, дверь,
замок, запор, звонок, крючок, щель, лестница, двор, ворота, переулок,
улицы (грязные, душные), жара-духота, скорлупа, помои, пыль, вонь, грязь,
известка, толкотня, толпа, кучки, гурьба, народ, поляки, крик, шум, свист,
хохот, смех, пенье, говор, ругань, драка, теснота-узость, ужас, тоска, тошнота,
гадость, Америка...; душный, зловонный", грязный, угарный, тесный,
стесненный, узкий, спертый, сырой, бедный, уродливый, косой, кривой, тупой,
острый, наглый, нахальный, вызывающий, подозрительный...; теснить,
стеснять, скучиться, толпиться, толкаться, шуметь, кричать, хохотать, смеяться,
петь, орать, драться, роиться...; б) положительное - город, проспект, линия,
набережная, мост (большой, через Неву), площадь, сады, крепость, дворцы,
церкви, купол, шпиль, игла, фонарь...; распространить(ся), простираться,
расширяться...
Предикаты (чаще с отрицательным оттенком): ходить (по
комнате, из угла в угол), бегать, кружить, прыгать, скакать, летать, сигать,
мелькать; юркнуть, выпрыгнуть, скользить, шаркнуть, шмыгнуть, ринуться,
дернуть, вздрогнуть, захлопнуть, сунуть, топнуть, встрепенуться; ползти, течь,
валить, собираться, смешиваться, сливаться, пересекать, проникать,
исчезнуть, возникнуть, утонуть, рассеяться, кишеть, чернеть, умножаться,
подмигивать, подсматривать, подслушивать, слушать, подозревать, шептать,
потупиться; переступить, перейти, открыть, закрыть...
Способы выражения предельности: крайний,
необъяснимый, неизъяснимый, неистощимый, неописуемый, необыкновенный,
невыразимый, безмерный, бесконечный, неизмеримый, необъяснимый,
величайший... (характерно преобладание апофатических форм выражения).
Высшие ценности: жизнь, полнота жизни, память,
воспоминание, детство, дети, вера, молитва, Бог, солнце, заря, мечта, пророчество,
волшебная грёза, будущее, видение, сон (пророчески-указующий)...
Фамилии, имена и числа, см. в другом месте.
Элементы метаописания: театр, сцена, кулисы, декорация,
антракт, публика, роль, актер, куколки, марионетки, нитки, пружины
(иногда сюда же: тень, силуэт, призрак, двойник, зеркало, отражение)...
Эти же языковые элементы, данные в приведенных выше списках
парадигматически, могут быть аранжированы и синтагматически, что
практически и происходит при формировании фрагментов Петербургского
текста («объективный» аспект) или при чтении его конкретных отражений
(«субъективный» аспект). Принцип комбинации на синтагматической оси
задан основным мотивом -путем (выходом) из центра, середины, узости-
ужаса на периферию - на простор, широту, к свободе и спасению (в другой
геометрической интерпретации - снизу вверх или даже с периферии
(окраины) к центру, ср. последний мотив в романе Андрея Белого), см. выше. При
этом, однако, следует иметь в виду сохранение основных черт (и
следовательно, слов, обозначающих их) при переходе от описания внутреннего
состояния героя к описанию его жилища и далее - к описанию
пространственно-природных условий, что вынуждает говорить об изоморфной структуре
сущностей, лежащих в основе всех этих описаний. Ср. в «Идиоте»:
«Подходя к перекрестку Гороховой и Садовой, он сам удивился своему
необыкновенному волнению. Один дом, вероятно, по своей особенной физиономии,
695
еще издали стал привлекать его внимание, и князь помнил потом, что сказал
себе: "Это наверно тот самый до м"... он чувствовал, что ему почему-
то будет особенно неприятно, если он угадал... - Я твой дом сейчас, подходя,
за сто шагов угадал, сказал князь. - Почему так? - Не знаю совсем. Твой
дом имеет физиономию всего вашего семейства
и всей вашей рогожинской жизни... Бред, конечно. Даже
боюсь, что это меня так беспокоит. Прежде и не вздумал бы, что ты в таком
доме живешь, а как увидел его, так сейчас и подумалось: "да ведь
такой точно у него и должен быть дом !"» (ср.
высказывания Достоевского о влиянии жилища на характер и его же образы
«спиритуализованных» домов).
Большинство из этих слов-понятий обладают очень значительной
«импликационной» силой: по данному слову обычно с большой степенью
надежности восстанавливается его «словесное» окружение, а следовательно, - на
очередном шаге - и особый ситуационный контекст, некая «картинка» из
книги Петербургского текста. Во всяком случае, навык чтения
«петербургской» литературы и умение узревать в ней те или иные структуры-схемы и
элементы (на уровне слов-«шиболетов») Петербургского текста, иначе
говоря, «редуцировать» или «сублимировать» первую («петербургскую»
литературу) в ее эмпирической конкретности и очевидной данности до второго
(Петербургского текста) в его сверх-эмпиризме и мета-эмпиризме,
особенно наглядно свидетельствует о диагностической роли подобных слов-«сигна-
лов», позволяющих по отдельному, изолированному и частному судить об
общем и целом, к которому эти «сигналы» отсылают.
Но диагностически важны для Петербургского текста не только
перечисленные выше и подобные им слова (а также элементарные
минимальные узелки, завязывавшиеся вокруг этих слов), повторяющиеся многие
десятки, а нередко и многие сотни раз и составляющие «базовый» лексико-по-
нятийный словарь Петербургского текста, внутри которого, естественно,
можно выделить и более узкое ядро. Диагностичность слов этого типа в
том, что они отсылают к ключевым узлам семантической структуры
Петербургского текста и сами по себе самодостаточны и полноценны. Но
Петербургский текст знает и иной тип диагностических элементов -
периферийные слова, не обладающие - каждое порознь - полноценностью и
самодостаточностью с точки зрения Петербургского текста и не
характеризующиеся особыми «импликационными» возможностями, во всяком случае такими,
которые существенны для этого текста. Эти периферийные слова
Петербургского текста, как правило, периферийны и для русского языка
соответствующего времени вообще. В Петербургском тексте они образуют своего
рода орнамент, который сигнализирует о степени «пестроты»,
диверсифицированное™, специализированности и «умышленности» (любимое слово
Достоевского для характеристики Петербурга, позже усвоенное и рядом
других авторов) «петербургского». Такие слова - жаргонизмы, арготизмы,
профессионализмы, элементы «тайных» языков, часто весьма
экспрессивные, неофициальные, иногда неприличные, рассчитанные на
юмористический эффект или на эпатирование, и т. п. - тоже диагностичны, хотя чаще
они берут не «умением», а «числом» (с этим связано то, что такие слова
часто выступают целыми совокупностями или навязчиво повторяясь, как бы
696
щеголяя своею «оригинальностью»). Эта установка на
гипертрофированное^ отчасти свидетельствует о потере (снижении) смыслового потенциала
этих слов, обессмысливании, переходе в «орнаментальный» план. Эти слова
относятся почти исключительно к сфере культуры, чаще всего «низовой»,
но и не только; в последнем случае существен оттенок некоей
«экзотичности» этих слов, и знание их - отмеченная характеристика, предмет гордости,
сознание определенной престижности (и мы не лыком шиты!). Нередко эти
слова относятся к элементам из мира вещей, создающего второй, так
сказать, «культурный» хаос, который изнутри как бы подкарауливает человека
и ложится на его душу дополнительным бременем. Эти вещи, а еще более
(если говорить о Петербургском тексте) слова, эти вещи обозначающие,
подталкивают человека всё ниже и дальше к ситуации абсурда. В
Петербургском тексте они начинают играть особую, ни с чем не сравнимую роль.
Они выходят из первоначальных своих границ в пределах художественного
текста, обнаруживают тенденции к гипертрофированию, «дурному»
повторению, хождению по кругу, к чрезмерной детализации, в результате чего
они теряют свою разумную определенность, сужают возможность быть
понятыми и использованными человеком и, следовательно, также
способствуют хаотизации, возрастанию энтропии (ср. воротник новой шинели Акакия
Акакиевича, который застегивается на серебряные лапки под аплике, или
табакерку Петровича в «Шинели», канзу, крошъ, тамбур, фальбала, цвет
масака100 в «Бедных людях» или «сардинницу ужасного содержания»
в «Петербурге» и т.п.). В конце Петербургского текста - бессмысленное,
выморочное вещеведение героев Вагинова и «неудавшееся домашнее
бессмертие» («милый Египет вещей»), хотя и согретое душевностью и памятью, в
манделынтамовской прозе (ср. также описание кабинета Мазеса да Винчи).
Но когда большой писатель пишет об этом вещном хаосе и как бы
пригвождает эти части хаоса словами - и чем более экзотичными,
периферийными, для «неспециализированного», «нормального» сознания
приближающимися к бессмысленности или к сильному опустошению смысла, тем
лучше, успешнее, - эти периферийные элементы словаря как бы вспыхивают
на миг, прорывая равнодушие и инерционность читателя, которому не надо
или, уж во всяком случае, необязательно знать, что обозначают эти слова, и
память этой вспышки хранится иногда бережнее чего-либо другого, более
существенного, потому что такое блаженное бессмысленное слово, чем
более оно бессмысленно, тем в большей степени оно сигнал дорогого нам
текста и нашей связи с ним.
Несколько характерных примеров из «Бедных людей»: «Да скажите
еще, что я раздумала насчет канзу; что его нужно вышивать к ρ о -
шью... буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром;
слышите ли? тамбуром, а не гладью. Смотрите же не забудьте, что
тамбуром... чтобы листики на пелерине шить возвышенно, усики и шипы
кордонне, а потом обшить воротник кружевом или широкой
фальбало й»; - «Да еще, вы там фальбалу написали, так она и
про фальбалу говорила. Только я, маточка, и позабыл, что она мне
про фальбалу говорила... Так того-то, я всё фальбалу-то
проклятую - эх, мне эта фальбала, фальбала!»;- «Да что он вам-то,
маточка, Быков-то? Чем он для вас вдруг мил сделался? Вы, может быть,
697
оттого, что он вам фальбалу-то всё закупает... Да ведь что же
фальбала? зачем фальбала? Ведь она, маточка, вздор! Тут речь
идет о жизни человеческой, а ведь она, маточка, тряпка -фальбала;
она, маточка, фальбала-то - тряпица. Да я вот вам сам, вот только
жалованье получу, фальбалы накуплю»101.
В ином роде примеры «периферийной» лексики у Вс. Крестовского,
особенно в «Петербургских трущобах». Их автор не только был
великолепным знатоком «неофициальной» лексики и фразеологии (кстати, и
низового петербургского фольклора), последовательно
коллекционировавшим их, но, несомненно, любил и выставить эту свою эрудированность
напоказ, иной раз щегольнуть ею - не столько для художественного
эффекта, сколько для этнографической полноты102 (надо напомнить и о «разно-
язычности» этого романа: на его страницах звучит не только русская речь,
но и немецкая, французская, даже английская, еврейская, русская
«испорченная» речь в устах иностранцев и т. п.; большим мастером последнего
приема был Достоевский, прежде всего в своих «петербургских вещах», ср.
«Униженные и оскорбленные», «Подросток» и др.; любопытны
юмористические приемы макаронической немецко-русской речи у Генслера и
других авторов). Каждая специальная область порождала свое
терминологическое поле, в котором были и эфемериды, окказионализмы, и слова,
укоренившиеся в пределах своего «локального» лексического поля, и,
наконец, слова, со временем утрачивавшие свою терминологичность, но
даже эти последние с большим опозданием попадали в словари, а нередко и
вовсе не попадали. Каковы были эти потери, сказать трудно, но они не
могли не быть довольно значительными103. Но одно можно сказать с
определенностью: и Петербургский текст, и особенно конкретные
«петербургские» тексты начиная с петровского времени и большую часть всего
петербургского периода русской истории в наибольшей степени определяли
направление развития лексики русского языка и возникновение
разнообразных новых локальных лексических «кругов», причем развитие их
и оборот происходили быстрее, чем где-нибудь в России. Ни Москва, ни
провинция в этом отношении - в целом - не могли сравняться с тем, что
представлено «петербургской» литературой и петербургскими
источниками (справедливости ради нужно отметить еще раз очень большую, по
временам исключительную роль московских и провинциальных писателей в
«петербургской» литературе). Зато Москва ревниво следила за тем, что
«делают с языком» в Петербурге, и старалась не пропустить случая
упрекнуть язык петербуржцев в невзыскательности, дурном вкусе, даже
неправильности (иногда это называлось «нерусскостью»). Многие из этих
упреков и критик были вполне справедливы. Говоря более осторожно, можно
с известным основанием говорить об установке «петербургского» языка,
особенно словаря, на некоторую «инструментальность», практичность,
отсутствие «традиционно-сентиментального», эстетического отношения
к слову, что сильнее всего сказывалось именно в развивающейся части
словаря.
В Петербургском тексте русской литературы отражена квинтэссенция
жизни в «лиминальном» состоянии, на краю, над бездной, на грани смерти,
и намечаются пути к спасению. Вместе с тем нельзя забывать о прогнозиру-
698
ющей и предсказующей роли этого текста, выступающего как дивинация и
пророчество на тему русской истории, рассматриваемой sub specie
Петербурга. Именно в этом городе сложность и глубина жизни - государственно-
политической, хозяйственно-экономической, бытовой, относящейся к
развитию чувств, интеллектуальных способностей, идей, к сфере
символического и бытийственного, - достигла того высшего уровня, когда только и
можно надеяться на получение подлинных ответов на самые важные
вопросы. В то столетие, когда складывался Петербургский текст, другого такого
города в России не было.
Одним из самых весомых «ноосферических» вкладов в русскую и
мировую культуру было создание Петербургского текста. По отношению к
городу он «напоминателен». В его синтетически-усиленной симфонии легко
распознаются его лейтмотивы и возникают тени Петра, Павла и Александра I,
святых подвижников, великих писателей и людей искусства, мысли, науки
и - увы! - злодеев, негодяев, бесов. По всему пространству этого текста
бродят тени Германна и Пиковой дамы, Медного Всадника и бедного Евгения,
Акакия Акакиевича и капитана Копейкина, Макара Девушкина и Голядки-
на, Прохарчина и Раскольникова, Маракулина и Дудкина, Парнока и
Неизвестного поэта и многих других. По малому, иногда почти тайному знаку
нам ясно - Какой-то город, явный с первых строк, I Растет и отдается в
каждом слоге, и ясно, какой именно.
Петербургский текст - мощное полифоническое резонансное
пространство, в вибрациях которого уже давно слышатся тревожные
синкопы русской истории и леденящие душу «злые» шумы времени. Значит, этот
великий текст не только «напоминал» о своем городе, а через него и обо
всей России, ноипредупреждал об опасности, и мы не можем не
надеяться, по крайней мере, не предполагать, что у него есть еще и
спасительная функция, знамения которой были явлены уже не раз за
последние без малого два века. Поэтому-то, вслушиваясь в эти вибрации, мы чаем
услышать некую гармоническую ноту, в которой мы опознали бы намек на
какой-то спасительный ресурс и, наконец-то, сами сделали бы свой
подлинный и благой выбор.
На пороге трехсотлетнего юбилея города и третьего тысячелетия
христианской эры мысль опромыслительной роли Петербурга,
провиденциально обретшего свое, казалось бы, навсегда потерянное и забытое
имя (теперь - вопреки автору поэмы о петербургской эсхатологии - мы
твердо знаем: это имя не чужое, не позабытое давно, и оно памятно нам
именно потому, что оно родное), все чаще посещает нас. Это не значит,
что спасение надо искать только здесь и что оно придет само собой.
Петербург Петербургского текста еще иучителен, и он как раз и учит, что
распад, хлябь и тлен требуют от нас духа творческой инициативы, гения
организации, но и открытости, верности долгу и веры, надежды, любви,
предчувствия или просто ясного и неуклончивого сознания, что и сейчас в этом
«анти-энтропическом» устремлении Петербург может оказаться нашим
ближайшим и надежнейшим ресурсом, если только мы окажемся
достойными того вечного и благого в нем, что было открыто нам Петербургским
текстом и самим Петербургом. Но сейчас город тяжко болен, и ему нужно
помочь.
699
1 В следующем ниже тексте ряд важных вопросов по необходимости обойден или
только обозначен в самых общих чертах. Но и то, о чем говорится несколько подробнее,
поневоле представлено в очень неодинаковом масштабе. Примеры из текстов
(именно здесь пришлось пойти на наибольшие жертвы) в данном случае имеют не столько
доказательную, сколько напоминательную функцию (следует помнить, что более
полный набор примеров образует самостоятельную ценность, восстанавливая те или
иные фрагменты Петербургского текста и обозначая густоту соответствующего
образного слоя). Ссылки документирующего характера сведены к минимуму. - Понятие
«Петербургского текста» введено в более ранних работах автора (там же названы
важнейшие элементы Петербургского текста).
2 В настоящее время есть достаточно надежные возможности реконструировать
замысел Петра I в отношении Петербурга, сняв искажающий эффект петербургского
мифа государственного происхождения о заложении града (об этом мифе см.:
Анциферов Н.П. Быль и миф Петербурга. Петербург, 1924, репринтное воспроизведение -
1991 г. с приложением; в несколько ином аспекте ср. Лотман ЮМ., Успенский Б.А.
Отзвуки концепции «Москва - третий Рим» в идеологии Петра Первого //
Художественный язык Средневековья. М., 1982; Лотман ЮМ. Символика Петербурга и
проблемы семиотики города // Труды по знаковым системам, 18. Тарту, 1984 и др.).
Впрочем, сама потребность в мифологизации (как и вытекающей из нее последующей
демифологизации) и то, как она осуществляется, свидетельствуют о присутствии здесь
некоего высокого символического смысла, с самого начала связываемого с городом, с
самим основанием его, и с необходимостью его возобновления и актуализации в
изменяющихся обстоятельствах. Этот смысл открывается в том типе суммации (с учетом
конкретного исторического контекста возникновения Петербурга) двух
мифологических «кругов» - «космологического» (борьба космоса с хаосом и победа над ним) и
«культурно-тетического» в варианте «основания-заложения города» (ср. Urbem
condere у Ливия, где condere восходит к «синтетически-тетическому» глаголу и.-евр.
*kmdhë- «класть, полагать, ставить, собирая в цельно-едином»; ср. Ливии I, 8, 4:
построение города в расчете на его будущее многолюдство, а пока отчасти
незаполненного и фантомного, но охотно принимающего в свои слишком широкие границы кого
угодно со стороны, лишь бы заполнить пустоту; подобные «синойкические» акты
проходят через всю раннюю историю Рима; эта же, по сути дела «потемкинская» идея
существенным образом определяла - до Потемкина - опережающее реальность
стремление при Петре I конституировать [con-stituo : -statuo] Петербург). Сама эта интенция
опережения становились мощным «мифологизирующим» и «символизирующим»
стимулом к созданию особого образа города.
3 История как нечто уникальное, неповторимое и, главное, необратимое не знает
нравственного критерия, всегда предполагающего выбор, которого в данном случае нет
по условию. Этот критерий, однако, существует в условиях так наз. «исторических
игр», когда в мысленном эксперименте по-разному «проигрывается» некая реальная
историческая ситуация. Эта теоретическая вариативность res gestae, образующих тело
истории, предполагает типологию исторических персонажей (и самих res
gestae). В этой сфере выбор уже возможен, в связи с чем формируется нравственный
аспект истории (менее благоприятна ситуация выбора в исторической синтагме,
поскольку в ней обычно персонажи занимают разные позиции по отношению к
одному и тому же историческому акту). Однако и в этих «исторических играх»
обсуждалась лишь альтернатива Москва - Петербург, но никогда не «проигрывались» другие
варианты, в частности, и такие, которые по своей нестандартности и неожиданности
мало отличались бы от выбора столицей Петербурга (еще более западные и морские
варианты). Уже в силу этого заключения о том, хорошо или плохо (правильно или
неправильно) было создавать столицу на месте Петербурга, не могут быть признаны
вполне корректными. И вообще как выбор, так и о ц е н к а его результатов не
отделимы от категории интенциональности (в гуссерлианском понимании), или, иначе
говоря, находят себе достаточное обоснование и оправдание именно в таком «интен-
циональном» контексте.
700
4 Эту особенность Петербурга, кажется, первым зафиксировал Батюшков
(«Смотрите, - какое единство! как все части отвечают целому! какая красота зданий,
какой вкус и в целом какое разнообразие, происходящее от смешения воды со
зданиями». - «Прогулка в Академию Художеств»). Косвенным образом она отражена и в
негативно ориентированных описаниях, где Петербург выступает как образ
безжизненной (доорганической) упрощенности, механического единообразия частей целого.
5 При этом весьма существенно различать само описание как таковое в его отношении
к описываемому и оценку описываемого: «верное» описание может сочетаться с
«неверной» (ложной) оценкой описываемого и, наоборот, «неверное» описание не
исключает с непременностью «верную» оценку (правда, критерии «верности» и
«неверности» оценки вообще довольно относительны в этом случае). После второго
«открытия» Петербурга в начале XX в., честь которого принадлежит прежде всего людям
круга «Мира искусства», стало общим местом подчеркивать непонимание красоты
Петербурга Тургеневым, отразившееся в «Призраках» (1863). Тем не менее (пожалуй,
кроме одного «оценочного» места: «ненужная пестрая биржа») в знаменитом
фрагменте, где описывается Петербург, всё верно. Ср.: «Высокий золотой шпиль бросился
мне в глаза: я узнал Петропавловскую крепость... Так вот Петербург! Да, это он,
точно. Эти пустые, широкие, серые улицы; эти серо-беловатые, желто-серые, серо-
лиловые, отштукатуренные и облупленные дома, с их впалыми окнами, яркими
вывесками, железными навесами над крыльцами и дрянными овощными лавчонками
(«дрянные» здесь в значительной степени лишено элемента оценочности: речь идет,
действительно, о жалких, плохих лавчонках в отличие от вполне хороших магазинов
по продаже овощей и фруктов. - В. Т.); эти фронтоны, надписи, будки, колоды;
золотая шапка Исаакия; ненужная пестрая биржа; гранитные стены крепости и
взломанная деревянная мостовая; эти барки с сеном и дровами; этот запах пыли,
капусты, рогожи и конюшни; эти окаменелые дворники в тулупах у ворот, эти
скорченные мертвенным сном извозчики на продавленных дрожках, - да, это она, наша
Северная Пальмира» (разрядка здесь и далее наша. - В. Т.).
Каждая из этих деталей неоднократно воспроизводится и в других образцах
Петербургского текста - как до «Призраков», так и после них. Более того, нельзя не
отдать должное Тургеневу в том, что он не просто коснулся стихии «низкого» в
Петербурге (как это делали представители «натуральной» школы и Достоевский в его
ранних - до ареста - произведениях), но создал на этой «низкой» эмпирии
метафизический («фантастический») образ «низкого» Петербурга, в котором золотой шпиль
крепости и золотая шапка Исаакия входят в один контекст с лавочниками, будками,
барками, дворниками и извозчиками (цепь «э τ и» в описании Петербурга, см. выше,
была позже усвоена как особый прием описания «петербургской тоски» однообразия и
беспросветности; ср. в «Подростке» рассказ Версилова: «Я люблю иногда от скуки...
от ужасной душевной скуки... заходить в разные вот эти клоаки. Эта обстановка,
эта заикающаяся ария из «Лючии», эти половые в русских до неприличия
костюмах, этот табачище, эти крики из биллиардной - всё э τ о до того пошло и
прозаично, что граничит почти с фантастическим» и др.]. «Безобразие»
Петербурга лишь частично отражало дефект зрения и вкуса: скорее оно говорило о выборе
акцента, а сам выбор свидетельствовал о складывании новой эстетической категории,
начавшей усиленно эксплуатироваться в описаниях Петербурга (впрочем, еще в
20-х годах XIX в. Пржецлавский, говоря о Петербурге, подчеркивал однообразие его
построек, их цвет и т. п. и заключал: «Поэтому, целые, даже главные улицы имели
какой-то казарменный вид - наружность улиц и площадей утомляла своим
однообразие м»). В своей знаменитой статье «Живописный Петербург»,
начинающейся со слов «Кажется нет на всём свете города, который пользовался бы
меньшей симпатией, нежели Петербург. Каких только он не заслужил эпитетов...», Бенуа
далее писал: «Любопытно, что мнение о безобразии Петербурга настолько
укоренилось в нашем обществе, что никто из художников последних 50 лет не
пожелал пользоваться им, очевидно пренебрегая этим "неживописным", "казённым",
"холодным" городом. В настоящее время можно найти не мало художников, занятых
701
Москвой и умеющих действительно передать красоту и характер ее. Но нет ни одного,
кто пожелал бы обратить серьезное внимание на Петербург», см. Александр Бенуа.
Живописный Петербург // Мир искусств, 1902, т. 7, № 1,4 (1-5); ср. также его статью
«Архитектура Петербурга» // Там же, 82-85 особой пагинации; Лукомский Т.К.
Старый Петербург. Прогулки по старинным кварталам. Изд. 2. Пг., [б.г.], 18-19 и др.
Эти замечательные работы, сыгравшие исключительную роль в пробуждении
интереса к «живописности» Петербурга, всё-таки не учитывали эстетику живописного
«безобразия». Вместе с тем Бенуа справедливо обращает внимание на пренебрежение
художниками «петербургской» темой в его годы. Стоило бы указать - в связи с темой
данной работы, - что именно поэтому Петербургский текст русской литературы -
реальность, тогда как такого же текста русской живописи нет, несмотря на
многочисленные разработки «петербургской» темы от Патерсена, Алексеева и Воробьева до
мирискусников, Шиллинговского, Митрохина, Тырсы и др.
6 См. Народные исторические песни. М.; Л., 1962. 226, 233, 293, 294 и др. Особая
версия Петербурга - некогда райского праведного места, а теперь несчастного города,
расставшегося с «живым Богом», - бытовала у старообрядцев. Ср.: Как во
Питере во граде I Жили праведны в отраде. I Красно солнышко светлело, I Рай и
царство там было; I Красно солнышко скатило, I Рай и царство затворило. /Со
ночной, други, страны I Налетали черны враны, I Сына Божья они взяли, I Со
престола они сняли IА наш, свет не устрашился, I Саваофу преклонился, I В путь
дорожку покатился, /Питер Москве поклонился. I Несчастлив Питер остался, I
Что с живым Богом расстался... См.: Песни русских сектантов мистиков.
Сборник, составленный Т.С. Рождественским и М.И. Успенским. СПб., 1912, 62-63, № 38.
Ср.: Как во Питере во граде I При духовном винограде I Украшен собор
построен, I Украшен семью главами, Всей вселенной был преславный. I На главах кресты
златые, I Все притворы пресвятые, I А престолы золотые. I На престоле сам
Спаситель /... I Из сосуда причащает, / Творить леность запрещает. / Эка
тихость, теплота. I Вся тут солнечня красота. / ... / Нонче, мои други, пришло
время - та пора, / Сион матушка гора / Укатилась на восток /... / Наш небесный
архирей / Затворил много дверей, /.../ Так вы батюшке молитесь, / В грехах
кайтесь и винитесь, / Опять за них не беритесь... (Там же, 329-330, №245). Ср.
также № 9,14, 17,19, 26, 28, 30-33, 35-39, 42^14, 49, 51, 53-54, 83, 146, 570. Эти и
подобные им «сектантские» тексты с полным основанием должны рассматриваться
как особая версия «петербургского» историософского мифа - блаженное
состояние вначале, катастрофа (или преступление), несчастье в наши дни, покаяние.
Заслуживает внимания усиленно подчеркиваемая в этих песнях тема
противопоставления Петербурга Москве.
7 См. Прыжов И.Г. Очерки, статьи, письма. Academia, 1934, 200.
8 Питинбрюх на «народно-этимологическом» уровне как бы отсылает к двум из
главных наслаждений «веселого» Петербурга (этот эпитет прочно связался с именем
города в низовом «петербургском» фольклоре) -питию и чревоугодию
(брюхо). См. известную книгу - Бахтиаров А. Брюхо Петербурга.
Общественно-физиологические очерки. СПб., 1888 (ч. 1 - Источники продовольствия нашей столицы;
ч. 2 - Слуга столичного брюха).
9 В таком варианте песня приведена в романе Вс. Крестовского «Петербургские
трущобы» (т. II, ч. четвертая, XXIX). Известны варианты - Развеселый Питинбрюх (вместо
Славный город Питинбрюх), и Сам с собою рассуждал I говорил (вместо Сам с
перчаткой рассуждал). Любопытно, что мотив «мнимого» разговора - с самим собой
(или с перчаткой) - многократно воспроизводится в Петербургском тексте
(Раскольников - лишь наиболее известный пример из многих, ср.: «Но скоро он впал как бы в
глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел,
уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только
бормотал он ч τ о-т о про себя, от своей привычки к
монологам^ которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал,
что мысли его порой мешаются и что он очень слаб...»).
702
10 А вокруг старый город Питер, I Что народу бока повытер I {Как тогда народ
говорил) - в «Поэме без героя». - О «еврейской» теме Петербургского текста см. особо.
11 См. Бахтиаров А. Указ. соч., 315, а также 304 и ел. О петербургских народных
гуляниях и «балаганах» ср. Александр Бену а. Мои воспоминания. М., 1980. 284-298;
Русские народные гулянья по рассказам А.Я. Алексеева-Яковлева в записи и обработке
Евг. Кузнецова. Л.; М., 1948, и др.
12 См. Снегирев ИМ. Дневник I. 1822-1852. М., 344 (со ссылкой на рассказ П.Ф. Караба-
нова); ср. теперь: Петр I. Предания. Легенды, сказки и анекдоты. М., 1993. -
Пишущему эти строки во время войны не раз пришлось слышать рассказы о листовках,
сбрасываемых немцами с самолетов (текст листовок приписывался Гитлеру, во всяком
случае в них излагалась его программа и требование капитуляции): Ленинград будет
море, I Москва будет поле, I Горький - граница, I Ковров - столица. Нет смысла
указывать место хождения подобных рассказов. - К петровской эпохе относятся и другие
примеры народного слова о Петербурге, ср. хрестоматийно известное Петербургу
быть пусту (вариант - Питербурху, Питербурху пустеть будет). - пророчествовал
с утра 9 декабря дьячок Троицкой церкви на Петербургской стороне, после того как
ночью раздавались какие-то странные звуки и шум сверху, как будто кто-то бегал по
колокольне - «кикимора или чорт», по наиболее распространенной версии). Вскоре,
когда Петр I скончался, появился новый круг текстов, связанных с его похоронами и
так или иначе отраженных в известном лубке «Мыши кота погребают» (насколько
можно судить, эти тексты сильно мифологизированного типа и содержат ряд очень
интересных архаизмов, ср. Мыши - е л е с и, идут хвосты повеся; Мышь Корна,
мышь Чюрилка Сарнач и под.). См. Ровинский Д.А. Русские народные картинки.
СПб., 1881. Кн. I, 391-401; IV, 156-160; Семевский М.И. Царица Екатерина
Алексеевна, Анна и Виллим Монс. 1692-1724. СПб., 1884, 230, 236 и ел., и др.
13 Таких свидетельств очень много, но еще больше проклятий и плачей навсегда
потеряны для нас, и теперь можно только гадать об их числе и характере, о бездонности
горя человека в пустоте и одиночестве каменного города, глухого к страданию и
мольбе. И тем больше и непереносимей было горе, чем больше надежд возлагалось на
Петербург и чем в более радужных тонах представлялся он по людской молве, по
рассказам близких и знакомых. Николай Иванович Свешников, из угличских мещан (его
отец занимался холщевничаньем по ярмаркам и базарам), глубокий и чистый душою
человек, ставший пьяницей и в минуты безнадежности опускавшийся до воровства, в
своих воспоминаниях «пропащего человека» поведал об этом страшном дисбалансе
между ожидаемым и чаемым и петербургской реальностью. И эта ситуация,
провинциального «идеалиста», оказавшегося в мире петербургского «материализма» и
материальности, повторялась неоднократно, став особым типом. Поэтому здесь есть повод
вспомнить Свешникова, отдав дань памяти этого святого грешника. «Расставаясь
первый раз с родиной, я не особенно грустил по ней, во-первых, потому, что, по
рассказам всех наших родственников и знакомых, Петербург представлялся мне каким-то
золотым царством, где люди не живут, а блаженствуют; у меня не было и
в мыслях, что там могут существовать нужда, бедность и горе, так как об этом мне
никто не рассказывал, а говорили только, что там и нищие никогда не бывают без
белого хлеба и без чаю или кофе, которых в нашем городе далеко не всем жителям, как я
знал, приходилось видеть и в праздники, а во-вторых, потому, что на родине я уже
мало был к кому привязан... ». См. Свешников Н.И. Воспоминания пропащего человека.
Academia, 1930, 37. Лишь помощь добрых людей и случай сохранили нам эти ценные
свидетельства. Впрочем, такие случаи иногда повторялись, особенно перед Первой
мировой войной, когда в литературе чаще стали появляться люди, не собиравшиеся
стать писателями и принадлежавшие совсем к иному кругу. Вот, например, «Записки
Анны» (1910) Надежды Санжарь, чьей судьбой и книгой так интересовался Блок.
Анна («Записки» носят явно автобиографический характер) не знала детства - вместо
него беднота, заброшенность (отец в тюрьме, мать проститутка), но и неясная тяга к
чему-то лучшему, зовущая девушку в Петербург. Чем кончилась попытка «честно»
заработать деньги и устроиться (история с художником, «маэстро», к которому Анна
703
пришла как натурщица), известно: такие «истории» тоже образуют знакомый
«ситуационный» тип, хорошо отраженный в Петербургском тексте (в конечном счете - при
всех различиях - и Настасьи Филипповна из этого же круга). И вот Анна у разбитого
корыта. Крушение личной судьбы как бы открыло ей глаза на Петербург. «Сфинкс
разгадан. Боже милосердный, есть ли что-нибудь хуже и нелепей Петербурга?
Кажется, гадостью и нелепостью обрызганы все его дома и их обитатели. Ну и поразил же
меня Петербург, до сих пор не могу опомниться - этой-то науки еще не доставало!
Намыкалась я за эти месяцы, натерпелась всего в волюшку. Тут мне хочется ругаться.
Ах, не понимаю я нелепости больших городов, не понимаю...». И чуть дальше - «О, в
Петербурге на надежды огромный спрос. А люди какие тут непроницаемые, как-то
особенно недоступные и холодные, как стены их бездушных жилищ». Но Анне
«повезло»: она решилась на выбор: «В отвратительный, промозглый петербургский день,
прошагав несколько часов подряд из угла в угол моей клетки (начиная с
Достоевского, этот мотив один из важных индексов героя Петербургского текста. - В.Т.), я
подошла к зеркалу и, взглянув на бледное, точно чужое мне лицо, сказала - Ну, Анна, на
этот раз глухую стену тебе не прошибить - не молись напрасно. Из твоего
положения есть только два выхода: проституция или "тот свет". Выбирай любое»
(Надежда Санжаръ. Указ. соч., 66-67, 70, 89). (В этот момент Анне повезло: вопреки ее
ожиданиям редакция журнала приняла ее сказки, всё пошло на лад, кроме теперь
главного - поиски человека ни к чему не привели, и физиология - Анна воплощает «анти-
санинский» характер - снова подводит ее к краю пропасти: «Я вся во власти
физиологии: тридцатые годы, бурный темперамент делают свое дело, порабощают волю,
мутят разум... Зверею, с каждым днем зверею. Какой позор, какая мука: я не могу видеть
мужчин... Зверь и человек борются во мне страшно, отчаянно, на смерть». Указ. соч.,
147-148.)
И другая, по сути дела, похожая история человека, чье письменное свидетельство
о встрече с Петербургом - случай и удача. Полный надежд молодой человек
мещанского звания стремится в Петербург с неясными планами и надеждами. «На дворе уже
наступали сумерки. День сырой, туман клубился над городом, порывистый, резкий
ветер пронизывал холодом, а я, как в блаженном сне, ехал на коночных клячах... уже
стемнело, ветер бушевал во всю ночь, и люди, очевидно, не понимали, как можно
сиять так, как я, в такую тьму египетскую», см. Михаил Сивачев. Прокрустово ложе
(Записки литературного Макара). Книга первая // Собр. соч. М., 1911. Т. I, 102.
Разочарование пришло вскоре, сначала - через климат («Климат Петербурга для меня
недопустимый климат: мой ревматизм протестовал не только иногда жесточайшими болями,
но и прогрессирующим уродством суставов», 109). И все-таки климат и телесные
боли, с ним связанные, не главное. Больной, голодный, без копейки денег, герой
«Прокрустова ложа» поселяется у своей сестры, семья которой едва сводит концы с
концами. Но даже и эти нужда и голод не главное, что мучает его. Главное душевные
страдания от сознания своей неполноценности, ущемленности, социального аутсайдерства.
И тут - в оригинальной трактовке - возникает тема брандмауэра, возможно,
навеянная красной кирпичной глухой стеной, вид на которую открывался Ипполиту из окна
его комнаты («Идиот»). «Я рад, что перед единственным окном моей комнаты торчит
брандмауер, - говорит герой повести. - Это представляет известные
неудобства - он мне заслоняет свет, но зато создает иллюзию иногда так необходимой
замкнутости. Я не увижу из своей комнаты гордых самодовольных походок, важной
надменной поступи и бесконечных... гнусных лиц» (113); - «Но когда я машинально подошел
к окну ибрандмауер тупо встал перед моими глазами, напоминая, что за ним
город, то, что мне не обойти, это гнусное капище разнузданных божков и униженных,
раздавленных людей, - исчезло бодрое чувство...» (131, ср. 158); - «Город. Город! Вот
твоя улица: обаятельная, как волшебное марево - проклятое марево, где гибнет
человек, его лицо. Всмотритесь в толпу города - в ту толпу, которая в определенный час
спешит в наиболее жадную пасть его... Какой это ужас для того, кто подмечает,
чувствует, что нет ни одного лица похожего на другое... о, какая это насмешливая,
жестокая, лживая, равнодушная ко всему, кроме своего я, толпа Невского! Она течет, сгу-
704
щается и лжет, лжет, лжет. Вот блестят похотью глаза, тихо звучат слова соблазна,
слова торга - сегодня будет, как и всегда, много купли и продажи тела, сегодня будет,
как и всегда, много обманутых» (158-160: не вполне переработанное гоголевское уже
предвещает тот ужас толпы, который не раз отразился в предвоенных записях Блока
и который охватывал его при зрелище «невской» толпы и ее отдельных
представителей). И - как итог: «Я долго смотрю в окно: "Эх, взглянуть бы теперь на всю ширь
жизни и помечтать...". Но мешает брандмауер, на который я, впрочем, не
сержусь. - Милый б ρ а н д м а у е р, ты можешь быть пока спокоен за себя: меня от
аппетита на тебя избавили!» (165).
14 Этот мотив, конечно, отсылает к оценке создания северной столицы Карамзиным в
«Записке о Древней и Новой России». Написанная к февралю 1811 г., она оставалась
личной тайной Карамзина (впервые текст «Записки» появился в 1861 г. в Берлине, а в
России - в 1870 г.), но следы карамзинских идей по некоторым общим вопросам
обнаруживаются в ряде текстов конца 10-х годов XIX в. Стоит отметить, что именно в это
время Н.И. Тургенев нередко встречался с Карамзиным, отношение к которому в этот
период достигло наиболее низкой отметки, что было очевидно и самому Карамзину.
Нелицемерная оценка идеи создания Петербурга в «Записке», предназначенной
непосредственно для Александра I, не может быть здесь обойдена. Многие русские люди,
особенно не-петербуржцы по рождению, догадывались о том же, что было сказано
Карамзиным, который, однако, сказал это точно, веско и кратко, на широком
историческом и государственно-политическом фоне: «Утаим ли от себя еще одну блестящую
ошибку Петра Великого? Разумею основание новой столицы в северном крае
Государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных природою на бесплодие и
недостаток. Еще не имея ни Риги, ни Ревеля, он мог заложить на берегах Невы купеческий
город для ввоза и вывоза товаров; но мысль утвердить там пребывание наших
Государей была, есть и будет вредною. Сколько людей погибло, сколько миллионов и
трудов употреблено для приведения в действо сего намерения? Можно сказать, что
Петербург основан на слезах и трупах. Иноземный путешественник, въезжая в
Государство, ищет столицы, обыкновенно, среди мест плодоноснейших, благоприятнейших
для жизни и здравия; в России он видит прекрасные равнины, обогащенные всеми
дарами природы, осененныя липовыми, дубовыми рощами, пресекаемыя реками
судоходными, коих берега живописны для зрения, и где в климате умеренном благораство-
ренный воздух способствует долголетию - видит и, с сожалением оставляя сии
прекрасные страны за собою, въезжает в пески, в болота, в песчаные леса сосновые, где
царствуют бедность, уныние, болезни. Там обитают Государи Российские, с
величайшим усилием домогаясь, чтобы их царедворцы и стража не умирали голодом и чтобы
ежегодная убыль в жителях наполнялась новыми пришельцами, новыми жертвами
преждевременной смерти. Человек не одолеет натуры!» См. Карамзин Н.М. Записка
о Древней и Новой России. СПб., 1914, 30-31.
15 См. Архив братьев Тургеневых. Выпуск 5. Дневники и письма Николая Ивановича
Тургенева за 1816-1824 годы (III том). Пг., 1921, 7.
16 См. Неизданные письма В.А. Жуковского // Русский архив, год 38. № 9. 1900, 9.
17 Любопытна позиция Баратынского, его видение Петербурга. В письме матери он
пишет: «Известите меня, здоров ли наш управляющий Петря, я видел его во сне.
Обнимаю Вас от всего сердца, а также Авдотью Николаевну, благодарю ее за заботы о
моих голубях, в Петербурге же их совсем нет; здесь вообще ничего нет,
кроме камне й...». Иное увидела в Петербурге сестра поэта Софья. В
«Журнале Софи. Письмах русской путешественницы» она пишет: «6 часов утра. Всё спит
кругом. Еще шесть часов. Заря прекрасна... -Как прекрасен Петербург
в сравнении с Москвою; Москва против него - сущая темница. В Петербурге
невозможно грустить; всё кругом источает веселье; часто мы смеемся
даже когда нет желания смеяться» (см. Письма Софии Абрамовны Боратынской к
маменьке. - ИРЛИ № 26. 432). См. Песков A.M. Боратынский. Истинная повесть. М.,
1990, 211,213.- Характерно отношение к Петербургу Салтыкова-Щедрина. «Михаил
Евграфович, - говорил мне Анненков, -любит Петербург, хотя и клянет его
23. В.Н. Топоров
705
на разные лады... Ему без петербургских привычек и обстановки и жизнь не в жизнь!..
Вероятно, так оно и было. Когда у него в последние годы открылась полная
возможность выбрать себе Монрепо в самом благословенном уголке Западной Европы или
даже России, где-нибудь на Южном берегу Крыма, на прибрежьях Кавказа, усадьба
его очутилась на болотном Севере, неподалеку все от того же Петербурга, этого
"города ядовитых признательностей!". И он вкушал добровольно этот яд, не мог
стряхнуть с себя ностальгии по Петербургу. Мечтая о "Монрепо", настоящем, привольном,
с солнцем и тенью роскошных деревьев, с благоуханным рокотом нежной морской
волны, он тайно любил гнилой и пасмурный Петербург, любил потому, главнее всего,
что там ему писалось. Это не мое досужее предположение. Я слышал от самого
Михаила Евграфовича, и не один раз, такие слова: "Без провинции у меня не было бы
половины материала, которым я живу как писатель. Но работается мне лучше всего
здесь, в Петербурге. Только этот город подхлестывает мысль, заставляет уходить в
себя, сосредоточивает замыслы, питает охоту к перу"». См. Боборыкин П.Д.
Воспоминания. М., 1965. Т. 2. 417^18.
18 См. Вячеслав Иванов. Собр. соч. П. Брюссель, 1974, 809.
19 См. Эйхенбаум Б.М. Мой временник. Словесность, наука, критика, смесь. Л., 1929,
22-23, 33. Б.М. Эйхенбаум по заслугам оценен как выдающийся
ученый-литературовед. Нам известно и то, что может быть по праву названо его художественным
наследием (здесь достаточно ограничиться отсылкой к его «петербургскому»
стихотворению: Вот город мой: он тот же самый, I Зимой и летом тот же край, I Где
хроматические гаммы I Поет по улицам трамвай II Мистерия домов и храмов, I Неумолка-
ющих страстей, I Из рая изгнанных Адамов I И тихо плачущих детей. II Под
солнцем - неподвижный камень, I Дома - над мертвою рекой... I Какими гневными руками
I Тебя строитель строил твой! - Эпитет гневный отсылает к самому названию
мертвой реки («навной Невы») - традиция, слагавшаяся уже в поэзии XVIII в. и
эксплуатированная и усвоенная после «Медного Всадника»). Но, к сожалению, остается
в тени Эйхенбаум-культуролог, историософ, мыслитель. Дорого и то нетривиальное
доброжелательное отношение его к Москве, которое засвидетельствовано в ряде его
текстов, относящихся еще ко времени Мировой войны. Его понимание места Москвы
в антитезе Петербург-Москва, ее сути и предназначения, думается, проницательно
верно и глубоко, и не вина Эйхенбаума, что пронесшийся смерч лишил Москву (как,
впрочем, и Петербург) уготованной ей высокой судьбы. Приветствуя выход первого
номера журнала «София» в «Русской мысли» (1914, № 1), Эйхенбаум писал: «Итак,
следует признать, что появление такого журнала, как "София", вполне
оправдывается характером нашего момента. И очень важно, что журнал издается в Москве, а не в
Петербурге. Именно Москва должна стоять во главе изучения русских культурных
традиций. Она сама - живой символ прошлого. А "Старые годы" и "Аполлон" -
журналы слишком петербургские, и больше всего вдохновляются они тем периодом,
когда на развалинах прошлого воздвигался новый город-сфинкс. Им не вырваться из
объятий этого зверя, и пусть он остается властителем их дум, а Москве подобает
сказать свое слово». См. Эйхенбаум Б.М. О литературе. Работы разных лет. М., 1987, 305, а
также 485: о контексте мифологизированной антитезы Москвы и Петербурга в 10-е годы
(Я. Тугендхольд, С. Патрашкин и др.). Об этой антитезе ср. статью самого
Эйхенбаума «Душа Москвы» (Современное слово. 1917. 24 января) и др. В связи со словами
Эйхенбаума о рождении российской словесности, а позже и русской литературы в
Петербурге и даже уже - на Васильевском острове уместно напомнить о
появившемся в середине XIX в. и тогда же распространившемся понятии «петербургская
литература», в формировании которого значительную роль играл А. Григорьев. В контексте
«московско-петербургских» антитез, перенесенных на соотношение соответствующих
литератур, любопытна статья некоего Н.К. «Нечто о петербургской литературе
(Письмо к редактору "Времени")» // Время. 1861. Т. II, № 4. 119-127. Ср.: «В Москве
родилось западничество и славянофильство; в Петербурге, по-видимому, ничего не
родилось. По-видимому, перевес на стороне Москвы; Москва смотрит на все гораздо
серьезнее и глубже, чем Петербург. Но мысль моя другая. Я хотел бы сказать нечто
706
именно в пользу петербургской литературы. "В Москве, - пишет Гоголь, -
литераторы проживаются, а в Петербурге наживаются". Что это значит? То, что в
Петербурге больше пишут и что в России больше читают то, что здесь пишется. И в самом
деле, несмотря на все преимущества Москвы, несмотря на обилие в Петербурге всякого
рода Брамбеусов больших и маленьких, петербургские журналы несравненно
многочисленнее и в совокупности имеют гораздо больше читателей, чем московские. Факт
многозначительный. В литературе, как известно, господствует право сильного. Горе
побежденным!» (122).
20 Впрочем, это противопоставление Петербурга и Москвы, давшее своеобразное
приложение к Петербургскому тексту в виде «сравнительного» петербургско-московско-
го подтекста («суб-текста»), конечно, восходит к самому началу XVIII в., к первым
годам основания Петербурга. Этот «сравнительный» подтекст не мог не складываться в
кругу первой жены Петра Авдотьи Лопухиной (И, царицей Авдотьей
заклятый, /Достоевский и бесноватый I Город в свой уходил туман), царевича
Алексея и их московских «сочувственников», как и вообще всех противников
петровских затей (круг Софьи), с одной стороны, и отчасти среди тех русских людей
«московской» ориентации, которые тысячами трудились, строя новую столицу, и там
отдавали безвременно свои жизни, с другой стороны. Естественно, этот текст был
преимущественно устным, но изредка он облекался и в письменную форму подметных писем
или показаний, записанных под пыткой. Но все-таки у начала этого «сравнительного»
петербургско-московского текста по праву стоит Екатерина II, масштабно и
достаточно жестко и лично наметившая principia divisionis, положенные в основание двух
сравниваемых столиц. Это было сделано ею во французском наброске под названием
«Размышления о Петербурге и Москве» (он был дополнен написанной по-русски
инструкцией главнокомандующему Москвы П.С. Салтыкову, 1770 г.). Текст был впервые
напечатан в «Сборнике русского исторического общества» (СПб., 1872. Т. 10, 577-
581; ср. также Сочинения императрицы Екатерины П. СПб., 1907. Т. 12, 641-643;
Записки императрицы Екатерины II. СПб., 1907, 594-596, 651-653). Основные мысли
Екатерины II сводятся к следующему:
«В старину много кричали, да еще и в настоящее время часто говорится, хотя и с
меньшей колкостью, о построении города Петербурга и о том, что двор поселился в
этом городе и покинул древнюю столицу Москву. Говорят, и это отчасти верно, что
там умерло несколько сот тысяч рабочих от цинги и других болезней, особенно в
начале; что провинции обязаны были посылать туда рабочих, которые никогда не
возвращались домой; что дороговизна всех предметов в этом городе, сравнительно с
дешевизною в Москве и в других областях, разоряла дворянство и проч., что
местоположение была нездорово и неприятно, и что это место менее, чем Москва, подходит для
господства над Империей и что это предприятие Петра Великого похоже на
предприятие Константина, который перенес в Византию престол Империи и покинул Рим,
причем римляне не знали, где искать свою отчизну, и, так как они не видели более
всего того, что в Риме воодушевляло их усердие и любовь к отечеству, то их доблести
мало-помалу падали и наконец совсем уничтожились. Я вовсе не люблю
Москву, но не имею и никакого предубеждения
против Петербурга, я стану руководиться благом Империи и откровенно
выскажу свое чувство. I. Москва столица безделья и ее чрезмерная
величина всегда будет главной причиной этого. Я поставила себе за правило,
когда бываю там, никогда ни за кем не посылать, потому что только на другой день
получишь ответ, придет ли это лицо, или нет; для одного визита проводят в карете
целый день, и вот, следовательно, день потерян. Дворянству, которое собралось в этом
месте, там нравится: это неудивительно; но с самой ранней молодости оно принимает
там тон и приемы праздности и роскоши; оно изнеживается, всегда разъезжая в
карете шестерней, и видит только жалкия вещи, способныя разслабить самый
замечательный гений. Кроме того, никогда народ не имел перед глазами больше предметов
фанатизма, как чудотворныя иконы на каждом шагу, церкви, попы, монастыри,
богомольцы, нищие, воры, безполезные слуги в домах - какие дома, какая грязь в домах,
23*
707
площади которых огромны, а дворы грязныя болота. Обыкновенно каждый дворянин
имеет в городе не дом, а маленькое имение. И вот такой сброд разношерстной толпы,
которая всегда готова сопротивляться доброму порядку и с незапамятных времен
возмущается по малейшему поводу, страстно даже любит разсказы об этих возмущениях
и питает ими свой ум. Ни один еще дом не забыл совсем старинное слово "дозор"... Не
следует еще исключать из этой черты деревни, слившияся в настоящее время с этим
городом, и где не правит никакая полиция, но которыя служат притоном воров,
преступлений и преступников; таковы: Преображенское, Бутырки и проч. и проч. - Петербург,
надо сознаться, стоил много людей и денег; там дорога жизнь, но Петербург в течение
40 лет распространил в Империи денег и промышленности более, нежели Москва в
течение 500 лет с тех пор, как она построена; сколько там народу занято
постройками, подвозом съестных припасов, товаров, сколько денег они вывозят в провинции;
народ там мягче, образованнее, менее суеверен, более свыкся с иностранцами, от
которых он постоянно наживается тем или иным способом и т. д., и т. д., и т. д.».
Мнение Екатерины II о Москве и москвичах, разумеется, не было только ее
достоянием: оно уже во второй половине XVIII в. складывалось в определенном круге
петербургского общества (Екатерина только смогла увидеть эти «неудобные» и
неприятные ей особенности московской жизни в свете государственных задач и планов), а с
начала XIX в. всё чаще, но вместе с тем нередко и как бы всё камернее оно
обнаруживало себя то здесь, то там. Наиболее открыто и четко отрицательное мнение о
Москве заявляли бывшие «москвичи», быстро сообразившие выгоды петербургской жизни.
Так, Борис Друбецкой, который «за это время своей службы благодаря заботам
Анны Михайловны, собственным вкусам и свойствам своего сдержанного характера
успел поставить себя в самое выгодное положение по службе», вполне усвоил, что
нужно для успеха в Петербурге. «Он был не богат, но последние свои деньги он
употреблял на то, чтобы быть одетым лучше других; он скорее лишил бы себя многих
удовольствий, чем позволил бы себе ехать в дурном экипаже или показаться в старом
мундире на улицах Петербурга. Сближался он и искал знакомств только с людьми,
которые были выше его и потому могли быть ему полезны. Он любил
Петербург и презирал Москву. Воспоминание о доме Ростовых и о его
детской любви к Наташе было ему неприятно, и он с самого отъезда в армию ни разу не
был у Ростовых». А вот Андрей Болконский, приехав в Петербург, хотя и усвоил по
необходимости его ритм, удовлетворения от этого не получал. «Первое время своего
пребывания в Петербурге князь Андрей почувствовал весь свой склад мыслей,
выработавшийся в его уединенной жизни, совершенно затемненным теми мелкими
заботами, которые охватили его в Петербурге. С вечера, возвращаясь домой, он в памятной
книжке записывал четыре или пять необходимых rendez-vous в назначенные часы.
Механизм жизни, распоряжение дня такое, чтобы везде поспеть вовремя, отнимали
большую долю самой энергии жизни. Он ничего не делал, ни о чем даже не думал и не
успевал думать, а только говорил, и с успехом говорил то, что он успел прежде обдумать
в деревне. Он иногда замечал с неудовольствием, что ему случалось в один и тот же
день, в разных обществах, повторять одно и то же. Но он был так занят целые дни, что
не успевал подумать о том, что он ничего не делал».
Неуютно и как-то несколько неопределенно чувствовали себя в Петербурге и
«москвичи» Ростовы. «Несмотря на то, что в Москве Ростовы принадлежали к
высшему обществу, сами того не зная и не думая о том, к какому они принадлежали
обществу, в Петербурге общество их было самое смешанное и неопределенное. В
Петербурге они были провинциалы, до которых не спускались те самые люди, которых, не
спрашивая их, к какому они принадлежат обществу, в Москве кормили Ростовы».
Лишь возвращение в Москву восстанавливало былую определенность, уверенность,
привычность. То же случилось и с Пьером Безуховым, когда он после неприятностей
с женой в дурном настроении приезжает в Москву: «Ему стало в Москве покойно,
тепло, привычно и грязно, как в старом халате». Люди попроще из «москвичей»
почувствовав некоторый холодок к себе со стороны петербуржцев и свою неполную
соответственность городу, его нормам и правилам, возвращаясь в родные Палестины, пы-
тались реваншироваться. Такова история двух сестер из повести «Милочка» С.
Победоносцева («Отечественные записки», 1845, т. X, № 5-6, 283-369). Одна из них -
Настасья Ивановна - после замужества «пожелала жить в Петербурге... Петербург всегда
представлялся ею такою блестящею мечтою! Это город молчания, тогда как Москва
город болтовни и сплетней. Там двор, там люди, настоящий хороший вкус, изящныя
манеры, совершенство; там железныя дороги, пароходы, все дива мануфактур и
промышленности. Прошлая жизнь Настасьи Ивановны, неудачи на ловле женихов,
насмешки приятельниц - всё это поссорило ее с Москвой окончательно. К тому же, в
Москве так любят говорить, а говорить, на московском наречии, - всё равно, что
злословить... Воображение Настасьи Ивановны представляло ей Петербург каким-то
Эльдорадо, в котором она найдёт полное, совершенное счастье. Сначала, как
водится, Петербург ей понравился». Иное дело - Прасковья Ивановна,
отправляющаяся в Петербург на крестины сына сестры. Приехав, она в первую очередь «облетала
все магазины Невского проспекта и Морских, весь Гостиный двор», но оценку
Петербургу дала, вернувшись в Москву. «Там рассказы ее о Петербурге были неистощимы.
В Петербурге, видите ли, всё ей не понравилось. Невский проспект нашла она не
таким широким, как воображала; на хваленых петербургских тротуарах она то и дело
спотыкалась; Летний сад показался ей ни на что непохожим; а между
петропавловским шпицом и колокольней Ивана Великого не могло быть никакого сравнения. Где
же Петербургу тягаться с Москвой! Что против Москвы!..» (это Где же Петербургу...
стало важным элементом позиции «московского» превосходства, многократно и по
разным поводам воспроизводимым и в дальнейшем). Строго говоря, такие
высказывания трудно отнести к «анти-петербургским»: скорее они знак самолюбивого
нежелания и несогласия на аутсайдерство, некая попытка преодоления комплекса хотя бы
частичной неполноценности. «Петербургская» позиция по отношению к Москве в целом
была высокомернее, насмешливее, предполагала свое преимущество в чем-то
бесспорном и главном (впрочем, от высокомерия до комплекса иногда рукой подать; так,
некий петербуржец вспоминает о чтении Цветаевой ее стихов: «Помню еще: Москва,
какой огромный, странноприимный дом... и еще что-то о "колокольной груди"
Москвы. Во всех этих московских мотивах даже мы, с нашими с отрочества
развившимися антимосковскими комплексами, не могли
не почувствовать чего-то привлекательного и милого для каждого русского
человека», см. Вероника Лосская. Марина Цветаева в жизни. М., 1992, 80). Но в русской
литературе XX в. этот мотив преимущества нередко отступает и остается некое
иррациональное, иногда с эстетическим оттенком, неприятие «московского».
Немало таких «уколов» в сторону «московского» у Набокова (типа: «Питался он
в русском кабачке, который когда-то "раздраконил": был он москвич и любил слова
этакие густые, с искрой, с пошлейшей московской прищуринкой». - «Отчаяние»,
1936). Очень характерен в этом отношении диалог петербуржца Батенина с молодым
москвичом, доктором Адамантовым в «Одиночестве» (1929) Г.П. Блока: « - Вы из
Медицинской академии? - Нет, Московского университета. - Ммм... - Не любите
москвичей? - Не люблю. - За что ж это? - интересуется доктор. - Да за всё. Ужасно
удовлетворенные. Ужасно примирившиеся с собой. И уж хвастуны! Радушие и то
хвастливое! Говор и тот хвастливый! И потом москвичу что ни дай - всё только обслюнявит.
Ведь вот им же не понять, например, что можно итти этак где-нибудь по Средней
Подьяческой (знаете там, где Екатерининский канал таким подленьким коленцем
ломается), итти в дождик, в грязь, смотреть на кислые дома, дышать мокрой вонью и
вдруг остановиться перед всем этим... Ну, как бы выразиться? ну, в тайном что ли
восторге... Да, да, в настоящем, понимаете ли, восторге, в блаженных, разрешите сказать,
слезах умиления... Нет, где им понять. Да и хорошо, что не понимают. - Стало быть,
питерские лучше? - Гм... Питерские... Слово "Питер" придумано тоже, должно быть,
у Тестова в трактире. После растягаев... Нет-с, питерские не лучше!». -Что
москвичи понимают в Петербурге и чего они не понимают, - едва ли в компетенции Г.П.
Блока, во всяком случае тогдашнего, но, оказавшись в последний период своей жизни
в Москве, сам он, кажется, многое понял в ней и оставил хорошую книгу о древней
709
Москве, как раз и обнаруживающую понимание ряда неявных и тонких деталей
московской жизни.
Наконец, заслуживает внимания еще одна позиция «москвичей» по отношению к
Петербургу - «протеическая», как бы беспринципно меняющаяся в зависимости от
внешних и внутренних обстоятельств легкая подвижность. Характерный пример -
письма Александра Яковлевича Булгакова, московского почт-директора и типичного
москвича, своему брату в течение 18 дней своего пребывания в Петербурге (см. «Из
писем Александра Яковлевича Булгакова к его брату. 1817-1818 годы» // Русский
архив, год 38, № 9, 1900). «10 августа 1818. Я дотащился или, лучше сказать, доплыл до
Петербурга, любезный брат. Что за погода, ты себе представить не можешь... У
заставы такой дождь пошел, что не только лошади не шли, но и люди не шли из
караульной требовать подорожной. Уж климат, ай-да Петербург!... Не смотря на то, что
въезжал сюда очень весело, не смотря на дурную погоду, Петербург при всей своей
красоте, не имеет той приятности и разнообразия, которые представляет
Москва. Здешняя чистота меня поразила: на улицах, как в гостиных, только мебели не
достает. - 11-го августа. Уж для гуляльщиков, как я, Петербург город единственный!...
видя, что дождь перестал, я пошел ходить пешком; ну, вот как по паркету, и сухо, как
будто не было дождя. - 20 августа 1818. Петербург прекрасен, но
тоска возьмет в нем жить; время же препакостное, сыро и мокро.
Здесь все с утра до ночи работают, пишут, не с кем и побалагурить... Очень мне
хорошо у Закревского, но всё не Москва...-25 августа 1818. Вчера ввечеру был я
у Голицыной, очень поздно там заболтался, говорил много о Москве. - 27 августа
1818. По всем вероятностям, мы выезжаем с Закревским в Четверг поутру: Я в
восхищении, что пускаюсь вбесценную Москву».
21 И перед младшею столицей/ Померкла старая Москва,! Как перед новою
царицей I Порфироносная вдова - в развитие карамзинского образа Москвы: «... когда
татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и
когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного Бога ожидала помощи в
лютых своих бедствиях» («Бедная Лиза»); ср. вдова: столица, царица у Пушкина при
вдовица у Карамзина.
22 Как бы учитывая, а отчасти и упреждая этот «петербурго-центричный» (градо-цент-
ричный) взгляд, Федор Глинка не без некоторого вызова занимает «деревне-центрич-
ную» позицию, причем за образом деревни легко усматривается и сама Москва,
«большая деревня», по речению самих ее жителей. Нужно ли напоминать о московском
патриотизме Глинки, о знаменитой «Москве» {Город чудный, город древний, I Ты
вместил в свои концы I И посады, и деревни, I И палаты, и дворцы! II ... Сколько
храмов, сколько башен /На семи своих холмах! II... Это матушка
Москва! II... II Процветай же славой вечной, /Град срединный, град
сердечный, /Коренной России град!) и о другом «московском»
стихотворении, где воспроизводятся близкие образы (Таков уж город наш, стохрамный,
с m о η а л a m н ы й! I Чего там нет в Москве, для взора необъятной! /.../ Москва -
святой Руси и сердце и глава!), о его послесловии к книге П. Хавского «Семисотлетие
Москвы» (М., 1847, послесловие Ф. Глинки носит то же название) и о многих других
проявлениях его преданности Москве? Одно из таких проявлений - очерк «Город и
Деревня», сохранившийся в черновиках писателя и до сих пор неопубликованный
(далее цитируется по книге: Карпец В. Федор Глинка. Историко-литературный очерк.
М., 1983, 84-85). Конечно, Деревня может пониматься как любая конкретная деревня
и как деревня вообще, так же как и Город - как всякий реально существующий город
и как город вообще. Но символическое поле фрагмента дает все основания подставить
под «Деревню» душевно-сердечную Москву, а под «Город» - холодно-рассудочный
Петербург. Все симпатии автора принадлежат Деревне:
«...В Городе каждый есть нота, приписанная к своей линейке, цифра, гаснущая в
своем итоге, математический знак, втиснутый в свою формулу... В Деревне многие
считаются сами единицами, в Городе могут быть они только при единицах!... в Городе
каждый цветок прилажен к какому-нибудь букету, каждая буква к какой-нибудь строке.
710
В Деревне цветы еще по букетам не разобраны и буквы в строки не стиснуты: до иных
не дошел черед, другие уже из череда вышли! Те и другие в ожидании поступления в
дело живут, растут и обретаются как-нибудь, на авось, как кому сподручнее! Много
простора в Деревне: улицы тесны, а жить широко! В Городе никто не дома! В
Деревне - всякий у себя!.. В Городе никто почти не знает, кто живет у него за стеною?
В Деревне почти всякий знает всякого! В Городе нужна голова, в Деревне - сердце; в
Городе гражданственность, в Деревне - семья! И в этой семье вас любили
по-семейному! Поступая в Город, где будете находиться при единицах, не забудьте Деревни, где
вы сами будете единицею!..».
23 Различия Москвы и Петербурга по полу и по роли в семье возникают не раз в
Петербургском тексте и во многих отношениях вполне подкрепляются реальными
характеристиками обоих городов. Выше уже приводилось .фольклорное клише Москва -
матушка, Петербург - отец (не случайно, что не Петербург - батюшка, что
придавало бы сочетанию ненужный в данном случае оттенок патриархальности). В известной
народной песне есть строфа Питер женится, I Москва замуж идет, I А Клин
хлопочет, I В поезжан ехать не хочет (см. Бекетова МЛ. Воспоминания об Александре
Блоке. М., 1990, 482).
24 См. Блок в неизданной переписке и дневниках современников (1898-1921) //
Литературное наследство. Т. 92, кн. 3. М., 1982, 194-195, 210-211.
25 См. Письма Александра Блока к родным. Л., 1927, 24.
26 Ср.: «Общее и разница между Москвою и Петербургом в следующем: здесь умничает
глупость, там ум вынужден иногда дурачиться - подстать другим». См. Вяземский Π Л.
Записные книжки. М., 1963, 24.
27 Так, Дурылин считает важным различительным признаком двух столиц изжелта-се-
рую гамму Петербурга при белой Москвы.
28 Ср. два важных периода в развитии русской литературы, когда возникал вопрос о
различии между «петербургской» и «московской» литературами. Первый - начало
XIX в.: «шишковизм» vice versa «карамзинизм» (ср. Греч H.H. Записки о моей жизни.
М.; Л., 1930. 250-251). Второй - начало XX в.: «петербургский» символизм и
«московский» символизм (помимо дискуссий по этому поводу между самими участниками
символического движения, ср. Перцов 77. Литературные воспоминания. 1890-1902. М.;
Л., 1933, 248). Третий период - 20-е годы XX в. - указан С. Кржижановским:
литература «понятий» («ничего не видят») - литература образов («ничего не
понимают»), см. «Штемпель: Москва» («Письмо четвертое»), ср. ниже. Особый интерес
представляет работа Замятина «Москва-Петербург» (1933), см. «Новый журнал». Нью-
Йорк, 1963, № 72, а также «Наше наследие» I, 1989, 106-113.
29 Показательно, что развернутую форму этот «жанр» получает на рубеже 30-40-х
годов XIX в., в обстановке идеологического размежевания западничества и раннего
славянофильства. Впрочем, существуют тексты о городах и иного рода, сохраняющие,
однако, антитетический принцип композиции, с помощью которого сталкиваются
кажущееся (мнимое, поверхностное) и подлинное (истинное, глубинное). Ср.
разыгрывание ситуации обманутого ожидания, с одной стороны, в батюшковской «Прогулке
по Москве» («...Этот, конечно, англичанин: он разиня рот смотрит на восковую куклу.
Нет! Он русак и родился в Суздале. Ну, так этот - француз: он картавит и говорит с
хозяйкой о знакомом ей чревовещателе... Нет, это старый франт, который не езжал
далее Макарья... Ну, так это - немец... Ошибся! И он русский, а только молодость
провел в Германии. По крайней мере жена его иностранка: она насилу говорит по-русски.
Еще раз ошибся! Она русская, любезный друг, родилась в приходе Неопалимой
Купины и кончит жизнь свою на святой Руси»), ас другой стороны, гоголевский
«Невский проспект» со сквозной темой мнимости петербургской жизни («О, не
верьте этому Не некому проспекту!... Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!» -
и далее по той же схеме: «Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично
сшитом сюртуке, очень богат? - Ничуть не бывало: он весь состоит из Своего
сюртучка. Вы воображаете, что... - Совсем нет...» и т. п.; ср. также И пусть горят светло
огни его палат, I Пусть слышны в них веселья звуки -/Обман, один обман! Они
711
не заглушат I Безумно-страшных стонов муки! - в самом «петербургском»
стихотворении Аполлона Григорьева «Город»).
30 Ср.: «Между Петербургом и Москвою от века шла вражда. Петербуржцы
высмеивали "Собачью площадку" и "Мертвый переулок", москвичи попрекали Петербург
чопорностью, несвойственной "русской душе"» (Г. Иванов. «Петербургские зимы»; ср.
здесь же обозначения петербургско-московских гибридов - Петросква. Куз-невский
моспект). - Показательны мотивировки в диалоге княгини Веры Дмитриевны
(«партии» Москвы) и дипломата («партия» Петербурга) из «Княгини Лиговской» (1836):
«Так как вы недавно в Петербурге, - говорил дипломат княгине, - то, вероятно, не
успели еще вкусить и постигнуть все прелести здешней жизни. Эти здания, которые с
первого взгляда вас только удивляют как все великое, со временем сделаются для вас
бесценны, когда вы вспомните, что здесь развилось и выросло наше просвещение, и
когда увидите, что оно в них уживается легко и приятно. Всякий русский должен
любить Петербург; здесь всё, что есть лучшего русской молодежи, как бы нарочно
собралось, чтоб дать дружескую руку Европе. Москва только великолепный памятник,
пышная и безмолвная гробница минувшего, здесь жизнь, здесь наши надежды...
Княгиня улыбнулась и отвечала рассеянно: - Может быть, со временем я полюблю и
Петербург, но мы, женщины, так легко предаемся привычкам сердца и так мало думаем,
к сожалению, о всеобщем просвещении, о славе государства! Я люблю Москву, с
воспоминаниями об ней связана память о таком счастливом времени! А здесь, здесь всё
так холодно, так мертво ... О, это не мое мнение... это мнение здешних жителей. -
Говорят, что въехавши раз в петербургскую заставу, люди меняются совершенно».
31 Ср. различные традиции, «J'ai vu la Neva, tous les magnifiques bâtiments qui la bordent,
Pierre le Grand, l'église de Casan, en un mot tout ce qu' il y a de plus beau à Pétersbourg ...
Mais j'aime mieux laisser mûrir ou du moins croître ces impressions. Je ne suis pas
encore de coeur à Pétersbourg et les souvenirs de
Moscou m'occupent beaucoup trop pour que je puisse contempler
avec toute l'attention nécessaire et jouir franchement de ce que je vois» (Д.В. Веневитинов -
C.B. Веневитиновой, И ноября 1826, СПб.); - «Москву оставил я, как шальной, - не
знаю, как не сошел с ума. Описывать Петербург не стоит. Хотя Москва и не дает об
нем понятия, но он говорит более глазам, чем сердцу»
(Д.В. Веневитинов - A.B. Веневитинову, 20 ноября 1826, СПб.); но через два с
небольшим месяца в письме СВ. Веневитиновой: (1 февраля 1827 г.) обнаруживается, как
Петербург начинает захватывать поэта, побуждая его анализировать анатомию
красоты и величия города, подталкивая к интроспекции. «Je voudrais vous parler en long de
ma journée d'avant hier. C'est une des plus belles que j'ai passées à Pétersbourg. Je me suis
promené pendant toute la matinée par le plus beau soleil possible... Toute la ville semble
éclairée par deux énormes bougies qui sont la flèche de l'amirauté et celle de la fortresse. Elles
dominent tout Pétersbourg et par un beau soleil on dirait que ce sont deux grands foyers de
lumière... La cathédrale est imposante sans être belle. Tous les murs sont couverts de drapeaux
conquis. J'apprécie plus cette sorte de joissance que je ne le faisais à Moscou. Cela tient-il à
ma disposition individuelle ou bien à d'autres causes qu'il
faut attribuer à la pauvreté même de P-g dans ce genre de beauté - c'est ce qui vous reste à
déterminer». Ср. также одно из последних стихотворений поэта с фрагментом невской
панорамы («К моей богине»).
Ср. и другие «петербургские» впечатления писателей «не-петербуржского»
происхождения - сто лет спустя: «Я стал бродить по городу, размышляя о своей судьбе.
Петербург, который впоследствии очаровал и пленил меня, казался мне в эти дни
скучным и неприветливым. Был сезон стройки и ремонта. Леса вокруг домов;
перегороженные тротуары; кровельщики на крышах, известка, маляры, висящие в ящиках,
подвешенных на канатах; развороченные мостовые; всё это было буднично, уныло и
внушило человеку чувство его собственной, ненужности» (Г. Чулков - «Годы
странствий»); «Сейчас под угрозой сердце. Вообще жду околеванца. Подвел меня Петр.
Прорубил окно, сел я у окошечка полюбоваться пейзажами, а теперь приходится
отчаливать. Финляндия! Почему я в Финляндии? Конечно, первое тут - тяга к морю. Потом
712
близость к Петербургу... Но была и смутная мысль; сесть на какой-то границе...
Москва, которую только и узнал в дни моего писательства... слишком густа по запаху и
тянет на быт. Там нельзя написать ни «Жизни Человека», ни «Черных масок», ни
другого, в чем есмь. Московский символизм притворный и проходит как корь. И близость
Петербурга (люблю, уважаю, порою влюблен до мечты и страсти) была хороша, как
близость целого символического арсенала: бери и возобновляйся... тогда верил и
исповедовал Петроград... по собственным смутным переживаниям, сну прекрасному,
таинственному и неоконченному...» {Л. Андреев. Из дневника, от 16 апреля 1918 г.) и др.
32 Характерно отношение к Петербургу Карамзина, который в истории русской
культуры был первым, кто понял самостоятельную ценность города и выделил город как
таковой в качестве независимого объекта переживаний («В каждом городе для меня
любопытнее всего сам город»); он же был первым, кто «почувствовал» Москву и дал ее
описание в этом новом качестве (несколько статей о Москве, отдельные места в
«Истории», замечательный московский пейзаж в экспозиции «Бедной Лизы» и т.п.).
Переехав в 1816 г. в Петербург (предполагалось, что на время), Карамзин до конца
жизни продолжал любить Москву и душевно стремиться к ней. Вместе с тем он не только
умел отдать должное Петербургу («Меня еще ласкают; но московская жизнь кажется
мне прелестнее, нежели когда-нибудь, хотя стою в том, что в Петербурге более
общественных удовольствий, более приятных разговоров» - из письма И.И.Дмитриеву от
27 июня 1816 г. или, потрафляя московскому патриотизму своего адресата: «Берега
Невы прекрасны; но я не лягушка и не охотник до болот», в письме от 28 января
1818 г.), но и, несомненно, понял, что ось русской истории проходит через Петербург
и что он сам связан с Петербургом на всю жизнь («Я жил в Москве; не придется ли
умереть в Петербурге?», в письме от 3 августа 1816 г.). Следует, однако, принять в
расчет особую деликатность Карамзина при обсуждении петербургской темы с
Дмитриевым. Еще отчетливее сходное отношение к Петербургу реконструируется для
Достоевского, который как никто из его современников сознавал эту осевую роль
Петербурга в русской жизни, какой она виделась в то время.
33 Сходные метафоры Москвы обычны как в XIX, так и в XX в. Ср.: «Из русской земли
Москва "в ы ρ о с л а" и окружена русской землей, а не болотным кладбищем с
кочками вместо могил и могилами вместо кочек. Москва выросла - Петербург вы-
рощен, вытащен из земли, или даже просто "вымышлен"» (Мережковский. «Зимние
радуги») или: «...Я заметил, что теме тесно... : она растет под пером, как Москва,
вширь, расходящимися летораслями» (Кржижановский. «Штемпель: Москва». Письмо
двенадцатое, ср. и другие примеры «вегетативного» образа Москвы у этого писателя),
или известный отрывок из тыняновского «Кюхли»: «Петербург никогда не боялся
пустоты. Москва росла по домам, которые естественно сцеплялись друг с другом,
обрастали домишками, и так возникали московские улицы. Московские
площади не всегда можно отличить от улиц, с которыми они разнствуют только шириною, а
не духом пространства; также и небольшие кривые московские речки под стать
улицам. Основная единица Москвы - дом, поэтому в Москве много тупиков и переулков.
В Петербурге совсем нет тупиков, а каждый переулок стремится быть проспектом...
Улицы в Петербурге образованы ранее домов, и дома только восполнили их линии.
Площади же образованы ранее улиц. Поэтому они совершенно самостоятельны,
независимы от домов и улиц, их образующих. Единица Петербурга - площадь».
Художественно убедительная антитетическая схема, отраженная здесь, в иных случаях может
быть выражена корректнее и, так сказать, историчнее. Существенно, что речь идет о
двух типах освоения «дикого» пространства - органичном (в частности, постепенном)
и неорганичном (типа «Landnahme»). В первом случае центром иррадиации является
точка (напр., Кремль в Москве; ср. подчеркнутость отсутствия кремля в стих. Аннен-
ского «Петербург» - Ни кремлей, ни чудес, ни святынь...), и распространение
происходит относительно равномерно по всему периметру (с учетом, конечно, естественных
преград). Во втором случае такого центра нет, но есть некая исходная точка за
пределами подлежащего освоению пространства. Необходимость быстрого «захвата»
большого пространства заставляет намечать линии как наиболее эффективное
713
средство поверхностного знакомства с пространством (раннепетербургские «першпе-
ктивы»); периметр же городского пространства оказывается размытым, а
подпространства между линиями-першпективами на первых порах вовсе не
организованными или оформленными наспех, напоказ. Площади гипертрофированных размеров в
Петербурге, позже вторично освоенные как важнейшие градостроительные
элементы имперской столицы, по сути дела, отражают неполную переработанность
пространства в раннем Петербурге (не случайно, что Башмачкина грабят на широкой
площади, тогда как в Москве это делалось в узких переулках). В этом контексте
московские площади возникали органичнее и с большей ориентацией на заданную
конкретную функцию городской жизни.
Частое слово в старых описаниях московской жизни (ср., напр.: «И тут вы видите
больше удобства, чем огромности или изящества. Во всем этом и на всем печать
семейственности: и удобный дом, обширный, но тем не менее для одного
семейства». - «Петербург и Москва»). В Москве живут как принято, как сложилось, как
удобно сейчас; в Петербурге - как должно жить, т.е. как может понадобиться
потом. Естественно, эта схема имеет и свой инвертированный вариант («петербурго-
центричный»). Упреждающая идея «как должно быть» (а не «как есть») отражается
во многих проявлениях - от подчеркнутой фасадности (ср. разрисованные слепые
окна на здании Главного Штаба - фасад, выходящий на Дворцовую площадь, слева) до
«завышенных», идеализированных планов и изображений (ср. зубовские или махаев-
ские) Петербурга.
«Медный Всадник» аккумулировал в себе целый ряд петербургских мифов, легенд,
преданий, анекдотов, отдал дань молве и слухам. Одним из источников поэмы был
рассказ Александра Николаевича Голицына о том сне, который он видел летом
1812 г., когда считался возможным марш Наполеона на Петербург и уже шла
подготовка к эвакуации разных ценностей из города и встал вопрос о снятии статуи Фаль-
коне и транспортировке ее во внутренние области России (содержание сна - скакание
Всадника по улицам и площадям города, явление его Александру I, который в это
время жил в Елагином дворце, и слова, ему сказанные: «Ты соболезнуешь о России! ... Не
опасайся... пока я стою на гранитной скале перед Невою, моему возлюбленному
городу нечего страшиться. Не трогайте меня - ни один враг ко мне не прикоснется»).
Содержание сна было пересказано Пушкину, пришедшему от него в восторг («Какая
поэзия! какая поэзия!»). Наиболее подробно эта версия была изложена в книге
А.Милюкова «Старое время. Очерки былого» (СПб., 1872, 224-229; Милюков, знавший
отрывки из поэмы Пушкина еще при жизни поэта, слышал вышеизложенный рассказ из
уст М.Ю. Виельгорского).
Но еще задолго до 1812 г. и даже до 1782 г., когда был открыт фальконетовский
памятник Петру, с Павлом Петровичем, тогда еще наследником престола случилась
таинственная история, о которой он позже рассказал баронессе Оберкирх и князю де-
Линю в присутствии А.А.Куракина, непосредственного участника этой истории. Суть
истории - явление Павлу во время его ночной прогулки с Куракиным по городу (их
сопровождали двое слуг) незнакомца («шаги его по тротуару издавали странный звук,
как будто камень ударялся о камень», ср. тяжелозвонкое скаканье, топот и под.), от
которого исходил холод. Лицо незнакомца было закрыто шляпой. «Я дрожал не от
страха, но от холода. Какое-то странное чувство постепенно охватывало меня и
проникало в сердце. Кровь застывала в жилах», - рассказывал Павел. Наконец,
незнакомец назвал Павла по имени, и на вопрос последнего, кто он, ответил: «- Бедный
Павел! Кто я? Я тот, кто принимает в тебе участие. Чего я желаю? я желаю, чтобы ты
не особенно привязывался к этому миру, потому что ты не останешься в нем долго.
Живи, как следует, если желаешь умереть спокойно, и не презирай укоров совести:
это величайшая мука для великой души». Дойдя до будущей Сенатской площади,
незнакомец остановился: «Павел, прощай, ты меня снова увидишь здесь и еще в другом
месте». Он приподнял шляпу, и Павел увидел, что незнакомцем оказался Петр I.
Куракин ничего этого не видел и считал, что Павлу приснился сон. Но существенно, что
в ту же прогулку эта история или сон были рассказаны Куракину, что никаких планов
714
ставить памятник Петру именно на этом месте еще не было, что Павел ничего не
говорил матери об этом месте, предуказанном призраком. Несомненно, что для
мистически одаренного Павла эта встреча была реальностью. См. Шильдер Н.К.
Император Павел Первый. Историко-биографический очерк. СПб., 1901, 166-171
(этот рассказ впервые был напечатан в «Mémoires de la baronne d'Oberkirch», t. 1,
356-363, позже - в «Русском архиве», 1869, 517, и др.). - В связи с темой Медного
Всадника ср. также Осповат АЛ., Тименник Р.Д. «Печальну повесть сохранить...». Об
авторе и читателях «Медного Всадника». М., 1985; приложения и комментарии к кн.:
Пушкин A.C. Медный Всадник. Л., 1978 и др. Иной аспект - в кн.: Каганович АЛ.
«Медный Всадник». История создания монумента. Л., 1975. Интересные соображения
высказаны в связи с этой темой в статье: Кнабе Г.С. Понятие энтелехии и история
культуры // Вопросы философии, 1993, № 5, 61 след.; ср. также Викторова К.
Петербургская повесть // Литературная учеба. 1993. Кн. 2. 197 и ел. - Роль монумента
Фальконе и поэмы Пушкина, как и всей этой темы, в петербургской культуре и
Петербургском тексте слишком значительна, чтобы касаться ее здесь подробнее,
несмотря на то что тема ждет новых исследований, открытий, осмыслений.
36 При исследовании Петербургского текста в ряде случаев нельзя пренебрегать
данными, лежащими за его хронологическими пределами - как д о, так и после. Что
касается «д о»-текстов, выступающих как субстрат, на котором, в частности,
складывался Петербургский текст, то они включают в себя не только художественные
произведения или так называемую петербургскую хронику (напр., в
«Санкт-Петербургских ведомостях»), но и описания Петербурга с первых лет его существования, среди
которых в указанном отношении особое значение имеют труды Богданова, изданные
Рубаном, Георги и А.П. Бащуцкого, в ряде случаев поднимающиеся над
петербургской эмпирией (особенно это относится к последнему). Также существен учет как
строго фактологических описаний, как известная книга П.Н. Петрова (1885), так и
«мифологизирующей» литературы типа пыляевского «Старого Петербурга». О
свидетельствах петровского времени см. теперь Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в
иностранных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии. Л., 1991. Особый круг
источников образуют тексты фольклорной традиции, связанные с фигурой Петра, ср.: Петр I.
Предания, легенды, сказки и анекдоты. Сборник. Составитель И. Райкова. М., 1993.
37 Петербургская тема в литературе XVIII в. - первой четверти XIX в., строго говоря, к
Петербургскому тексту не относится, хотя ее разработки (образ идеального
Петербурга, чудесного города, вызывающего восторженные чувства) были учтены в
Петербургском тексте, особенно в той его части, которая относилась к «светлому»
Петербургу, но основательно переработаны. Особое значение для Петербургского
текста имели те произведения, которые цитатно или в виде реминисценций
отразились позже в текстах, принимавших участие в формировании самого Петербургского
текста (ср., напр., упоминавшуюся статью Батюшкова или идиллию Гнедича
«Рыбаки», 1821 г., широко использованные в «Медном Всаднике»; из XVIII в. ср.
стихотворение М.Н. Муравьева «Богине Невы» и некоторые другие).
38 Здесь не рассматривается специально вопрос о закрытости Петербургского текста,
хотя очерченный его объем вполне может рассматриваться как самодовлеющее
целое. При обсуждении же этого вопроса нужно помнить о нескольких категориях
текстов: тексты-имитации (А.Н. Толстой, Тынянов, Федин и др.); тексты, которые могут
рассматриваться как субстрат Петербургского текста и/или его «низкий»
комментарий (петербургские повести о бедном чиновнике, петербургский фельетонизм и
анекдот, низовая литература типа петербургской беллетристики Вл. Михневича или «Тайн
Невского проспекта» Амори); тексты с более или менее случайными прорывами в
проблематику или образность Петербургского текста, которые будут неизбежно
всплывать (актуализироваться) по мере выявления и уточнения особенностей этого
текста. Наконец, нуждается в определении по отношению к Петербургскому тексту
петербургская тема в поэзии 30-60-х годов (Мандельштам и Ахматова). Особо должен
решаться вопрос о соответствующих текстах Набокова. Тем более это относится к
прозе Андрея Битова («Пушкинский Дом» и др.). Основная трудность в решении воп-
715
роса об открытости или закрытости Петербургского текста лежит не в формальной
сфере. Главное зависит от наличия конгениальной этому тексту задачи (идеи), если
исходить из того, что в течение века определяло Петербургский текст. При отсутствии
ее - неизбежное вырождение этого текста. При конкретной же оценке нужно помнить
о возможности более позднего втягивания (или постредактирования) несовершенных
заготовок в целое текста.
39 Следует напомнить, что писатели-петербуржцы по рождению впервые заметно
выступили на поприще русской литературы в середине XIX в. и роль их увеличивалась по
мере приближения к концу этого века и в начале XX в. До середины 40-х годов XIX в.
лишь немногие успели заявить себе: Бестужев A.A. (Марлинский), 1797 (да двое его
братьев, родившихся в Петербурге, тоже были писателями - H.A., 1791 и М.А., 1800);
Кюхельбекер, 1797; Вельтман, 1800; П.А. Каратыгин, 1805; Бенедиктов, 1807;
И.И. Панаев, 1812; В.А. Соллогуб, 1813; А.К. Толстой, 1817 (кажется, петербуржцем
по рождению был и Попугаев, 1778 или 1779; нет необходимости здесь учитывать
писателей третьего ряда, как-то А.П. Башуцкого, А.П. Беляева, В.Н. Григорьева,
родившихся в 1803 г., П.М. Бакунину, 1810, и др.). В следующие десятилетия (20-50-е)
ситуация в принципе не меняется. Заметных и тем более крупных
писателей-петербуржцев в эти сорок лет появляется немного - Дружинин, 1824; Курочкин, 1831;
Помяловский, 1835; Случевский, 1837; Шеллер-Михайлов, 1838; A.A. Голенищев-Кутузов,
1848; Гарин-Михайловский, 1852; П.П. Гнедич, 1855. В 60-70-е годы в Петербурге
появляются на свет те, кто своим творчеством существенным образом определял лицо
русской литературы конца XIX - начала XX в. или, по крайней мере, литературную
моду - Надсон, 1862; Фофанов, 1862; Ф.К. Сологуб, 1863; Мережковский, 1865;
Коневской, 1874 и др. - вплоть до первого великого писателя петербургской темы,
уроженца Петербурга - Блока, 1880. Длительное время, во всяком случае до послере-
форменной эпохи, Петербург был трудным местом для рождения писателей (фигуры,
сыгравшие главные роли в развитии русской литературы от Ломоносова до Чехова, по
рождению не были петербуржцами). Зато они в нем легко умирали.
40 Эта ситуация отчасти аналогична соотношению типа сказки и ее вариантов. Во
всяком случае концепция Петербургского текста, будучи принятой, как бы обучает
умению видеть за разными текстами этого круга некий единый текст, ориентирует на
анализ под углом зрения единства. Действительно, многие тексты, образующие
Петербургский текст, обладают высокой степенью структурной конгруэнтности и
остаются «семантически» (в широком смысле) правильными при их мысленном
совмещении. В этой связи не может быть сочтено случайным настойчивое
стремление обозначить произведения, входящие в Петербургский текст, именно как
«петербургские». Такое сходство в названиях, имеющее длинную и характерную
историю, делает правдоподобным предположение о том, что эпитет «петербургский»
является своего рода элементом самоназвания Петербургского текста. Ср. «жанро-
определяющие» подзаголовки «Медного Всадника» («Петербургская повесть») и
«Двойника» («Петербургская поэма», ср. также «Петербургские сновидения»),
рано закрепившееся название гоголевского цикла «Петербургские повести». В кругу
«Отечественных записок» в 40-е годы считали возможным говорить об особой
«петербуржской» литературе (ср. в воспоминаниях А. Григорьева: «Волею судеб или,
лучше сказать, неодолимою жаждою жизни я перенесен в другой мир. Это мир
гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху его миражной оригинальности, в эпоху, когда
существовала даже особенная петербуржская литература...»). В те же годы появляются
два сборника - «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник» (1845-1846).
Рассказ Некрасова «Петербургские углы» в первом из этих сборников перекликается с
«Петербургскими вершинами» Я.П. Буткова (1845), «Петербургскими трущобами»
Вс. Крестовского и др.; ср. «Петербургскую быль» П.П. Гнедича (подзаголовок первого
появившегося в печати его рассказа «Во тьме» - в «Ниве»; справедливости ради нужно
отметить, что ни заглавие, ни подзаголовок автору не принадлежали; авторским
заглавием было «Поздно»). Та же традиция продолжается и в XX в. - «Петербургская поэма»,
цикл из двух стихотворений Блока (1907) в альманахе с характерным названием
716
«Белые ночи»; «Петербургские дневники» Гиппиус; «Петербургские строфы»
Мандельштама; «Повесть Петербургская» как подзаголовок «Ахру» Ремизова (о Блоке;
ср. его же «Петербургский буерак»); «Петербургские зимы» Г. Иванова; «Noctes
Petropolitanae» Карсавина; «Повесть Петербургская, или святой-камень-город»
Пильняка; «Петербургская повесть» - название одной из частей «Поэмы без героя»
Ахматовой; «Петербургская поэма» Ландау, многочисленные «Петербурги» (в их числе
роман Андрея Белого; ср. также рассказ Зоргенфрея «Санкт-Петербург.
Фантастический пролог», 1911) и т. п. Эта спецификация («петербургский») как бы задает некое
кросс-жанровое единство многочисленных текстов русской литературы.
41 Тем не менее, практическая натренированность в работе с Петербургским текстом
обеспечивает достаточно высокий коэффициент точности в заключениях о
принадлежности тех или иных элементов к этому тексту и восстанавливает описанную
поэтом ситуацию - Какой-то город, явный с первых строк, I Растет и отдается в
каждом слоге.
42 Явления, связанные с северным положением Петербурга, особо остро
воспринимались иностранцами, впервые оказавшимися в городе, и выходцами из глубины России.
Ср., напр.: «До тех пор я никогда так ясно не представлял себе, что значит
северное положение России и какое влияние на ее историю имело то обстоятельство, что
центр умственной жизни на с е в е ρ е, у самых берегов Финского залива...»
(Кропоткин. «Записки революционера»). Как известно, Петербург - единственный из крупных
«мировых» городов, который лежит в зоне явлений, способствующих
возникновению и развитию психо-физиологического «шаманского» комплекса и разного рода
неврозов.
43 Жара, духота, холод в Петербурге описываются как особенно сильные и
изнурительные (соответствующие микрофрагменты становятся в Петербургском тексте почти
клише); ничего подобного нет, напр., в московских описаниях, хотя объективно в
Москве летом температура заметно выше, а зимой ниже, и соответственно число жарких
и холодных дней значительно больше. Неудобства петербургского климата
постоянно подчеркиваются в литературе (ср. цикл Некрасова «О погоде»). То же относится и
к духоте-влажности: петербургская «духота» существенно «влажнее» московской.
Нередко они оказываются гибельными: «... была такая нездоровая и сырая зима, что
умерло множество людей всех сословий», - сообщает в феврале 1782 г. петербургский
чиновник Пикар в письме в Москву А.Б. Куракину.
44 К числу таких тонкостей относится, напр., мотив «весенней осени». Несколько
примеров, начиная с наиболее диагностически важных: И весенняя осень так жадно
ласкалась к нему... (Ахматова; такой «весенней осени» посвящено ахматовское
стихотворение «Небывалая осень построила купол высокий...», 1922); - «Весна похожа на осень»
(Блок, VIII, 280); - «Со двора нечувствительно повеяло возвращением с дачи или из-
за границы, черная весна похожа на осень» (Вагинов. «Козлиная песнь», ср. у него же:
«Червонным золотом горели отдельные листочки на черных ветвях городских
деревьев, и вдруг неожиданно тепло разлилось по городу под прозрачным голубым небом.
В этом нежном возвращении лета мне кажется, что мои герои мнят себя частью
некоего Филострата, осыпающегося вместе с последними осенними листьями» -
Там же) и др.
В начале XX в. «весенняя осень» стала почти штампом, парадоксально не
замечаемым в литературе, но являющимся расхожим способом описания климатических
(чаще всего резких) перемен, которые могут совершаться в обе стороны, - «весна,
похожая на осень» и «осень, похожая на весну», - в «сезонном» быту человека. Еще ряд
литературных примеров: «На Неве, как это часто бывает во время
ледохода, поднялся холодный ветер с Ладожского озера. Весна превратилась
вдруг в осень. Тучки, которые казались ночью легкими, как крылья ангелов,
стали тяжелыми, серыми и грубыми, как булыжники; солнце - жидким и
белесоватым, словно чахоточным» (Мережковский. «Петр и Алексей». Кн. X, гл. 1; ср. у
Зинаиды Гиппиус, правда, применительно к Адриатике: герой в ослепительный осенний
день гуляет по дорожкам нагорного парка; его внутренний монолог - «Какая
717
осень! Прекрасна, как в е с н а, но прекраснее: это мудрая весна. Весна -
бездумная радость настоящего; а в этой осени торжество жизни и торжество смерти в единой
радости бессомненного будущего воскресенья» - «Suor Maria»); «Мне всё кажется, что
это не сентябрь, а весна. - Это весна и есть, - отозвался Лаврик, - начало всегда
кажется весною» (Кузмин. «Плавающие путешествующие»: разговор двух действующих
лиц на борту парохода, отправляющегося из гавани Васильевского острова в
Англию); - «Когда бывают такие ясные осенние ночи, мне всегда Петербург
представляется не русским северным городом, а какою-то Вероною, где живут влюбленные
соперники, и всегда кажется, что наступает не зима, а готовится какая-то весна, лето
чувств, жизни, всего» (Кузмин. «Завтра будет хорошая погода»); - Поет надежда:
«осенью сберем I То, что весной сбирать старались втуне». I Но вдруг
случится ветреной Фортуне /Осенний май нам сделать октябрем (Кузмин.
«Для нас и в августе на ступит май!», из «Осенних озер», ср. там же «Ты замечал:
осеннею парою...»); И весною своей осеннею I Приникаю к твоей вешней
осени (Северянин. «Будь спокойна»); Мне Осень чудится единственной Весною
(Палей. «Осень»); «Мартовский день походил на октябрь» (Пильняк. «Повесть
Петербургская») и др. - вплоть до: «Дни стояли туманные, странные: проходил мерзлой
поступью ядовитый октябрь... Уже ледяной бурелом шел на нас оловянными тучами: но
все верили в весну: на весну указывал популярный министр» (Белый. «Петербург»).
Нужно сказать, что разные вариации «весенне-осенней» темы отмечались и ранее и
относились как к Петербургу, где они нередко специально мотивировали эту contradictio
in adjecto (ср.: «Это случилось в сентябре, веселом и ясном в южных краях, где... небо
снова принимает светлый весенний цвет, но туманном и дождливом в Петербурге.
Однако как бы наперекор обычаям двух климатов в тот год на берегах Невы в сентябре
мелькнуло теплое солнце, и целые три дня продолжалась тихая, ясная погода; все
жители столицы спешили к знакомым своим на дачи». Ган. «Идеал», 1837, или же: «На
днях был семик. Это народный русский праздник. Им народ встречает весну... Но в
Петербурге погода была холодна и мертва. Шел снег, березки не распустились... День
был ужасно похож на ноябрьский, когда ждут первого снега» (Достоевский.
«Петербургская летопись»), так и безотносительно к «пространственной» локализации (ср.
тютчевское Как поздней осенью порою I Бывают дни, бывает час, I Когда
повеет вдруг весною I И что-то встрепенется в нас, 1870) или в связи с другими ло-
кусами. Ср.: «во все дни этой тревожной, этой памятной недели стояла та
необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче,
чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что глаза режет»
(Толстой. «Война и мир», ср. там же: Quel soleil, hein, monsieur Kiril? (Так звали Пьера
все французы). On dirait printemps», дело происходит 6 октября, в первом
случае - 2 сентября); Среди цветов поры осенней,/.../ Вдруг распустился цвет
весенний-/ Одна из ранних алых роз (И.С. Аксаков. «Среди цветов...», 1878);
...Сад обнажил свое чело, /Дохнул сентябрь, и георгины /Дыханьем, ночи, обожгло.
II... II Назло жестоким испытаньям I И злобе гаснущего дня I Ты очертаньем и
дыханьем I Весною веешь на меня (Фет. «Осенняя роза», 1887, ср. сходные мотивы в
стихотворениях «Осень» и «Учись у них - у дуба, у березы...»); «Сушь! А день стоит
такой радостный. Вот пять часов, а тепло еще не спало. Даже на весну непохоже: воздух
играет и опахивает свежестью... Ведь через несколько дней на дворе октябрь» (Бобо-
рыкин. «Китай-город», 1882); Весна или серая осень?! Березы и липы
дрожат. I Над мокрыми шапками сосен I Тоскливо вороны кружат (Саша Черный. «На
кладбище»); «Удивительная стоит в этом году осень! Вот уже 25-ое октября, а тепло
еще держится, и октябрь похож скорее на апрель, а осень на весну» (С. Нилус. «На
берегу Божьей Реки»); Синяя даль между сосен, / Говор и гул на гумне... / И улыбается
осень / Нашей весне» (Цветаева. «Ясное утро не жарко ...»); «...все замерзло в
ожидании зимы, а снега все нет. Южный ветер сбивает с толку даже северное сияние.
Осень - странная и тревожная, как весна» (А. Эфрон - Б. Пастернаку, 12 окт.
1953) и др. Разумеется, подобные мотивы не ограничиваются русской литературой
(ср.: «Ein Bruder des Frühlings war uns der Herbst, voll milden Feuers, eine Festzeit für
718
die Erinnerung an Leiden und vergangne der Liebe» - Hölderlin - «Hyperion» 2.Bd. 1. Buch),
но все эти «внешние» параллели не отменяют того, что мотив «весенней осени» стал
некоей «тонкой» сигнатурой Петербургского текста, как бы намечающей еще один
критерий, по которому разные части этого текста перекликаются между собой.
Такого же рода переклички по специфическим, «тонким» критериям,
отсылающим к некиим интимным особенностям города, возникают и в других случаях. Здесь
придется ограничиться лишь двумя примерами: первый -Днем
дыханьями в е е m вишневыми... (Ахматова. «Всё расхищено, предано, продано...»,
1921) при Рябое солнце. Воздух пахнет вишней (Вагинов. «Бегу в
ночи над Финскою дорогой»), оба примера из описаний Петербурга в годы разрухи
(характерно и другое сходное совпадение между этими же авторами: у Ахматовой -
И кладбищем пахла сирень при «Возьму сирень, трупом пахнет» у Вагинова -
«Храм Господа нашего Аполлона»); второй - Лишь две звезды над путаницей
веток, I И снег летит, откуда-то не сверху,/А словно подымается с
земли (Ахматова. «Эпические мотивы. 3») при: «снег не падал сверху, а
снизу клубился по ветру столбами, курился как дым» (Мережковский. «Петр и
Алексей». Кн. IV, II); «Прыснули вверх снега и, как лилии, закачались над
городом» (дважды), «...и улетел в небеса», «Столбы метели взлетали», «Вверх метнула
снега...» (все примеры из «Кубка метелей» Андрея Белого); «Прощание навеки: в
зимний день с крупным снегом, валившим с утра, всячески - и отвесно, и косо,
и даже вверх» (Набоков. «Дар»: проводы возлюбленной во время революции); «Он
шел домой медленно, не думая... снова один, он опять стал сам себе неощутим,
растворен - шел ли, плыл, парил что ли, - и так в бездумье, какой-то одинаковый со
снегом, медленно летевшим то ли вверх, то ли вниз, то ли во всех направлениях, он
очутился на своей улице» (Битов. «Сад»); ср.: «Было темно; снег летел со
всех сторон, исчезло ощущение времени и пространства. Где он? Куда идет?
Почему?» («Роль, роман-пунктир») и др. Может показаться несколько
неожиданным, но это явление, кажется, впервые было отражено в литературе еще юношей
Дельвигом: Лилета, пусть ветер свистит и кверху мятелица
вьется;/ Внимая боренью стихий, и в бурю мы счастливы будем... («К Лиле-
те», 1814). Из других ранних примеров ср.: «Вдруг все завертелось, закружилось
сверху вниз, снизу вверх. На Неве разыгралась метель» (Соллогуб.
«Воспоминания»). Собственно говоря, это вертикальное снизу вверх движение снега, как и
сохраняющаяся еще способность фиксировать «прямое» направление этого
движения, образует знак перехода к метели, турбулентно-вихревому, хаотическому
движению, когда все кроме самой метели исчезает и представителем главного в этом
всем становится она сама. Именно в этой ситуации абсурда, непредсказуемости,
гибельности как бы в противовес всему этому возникают мысль о жизни и ощущение
надежды. «Вихри снега, сталкиваясь, все стерли в колыханиях. Это была такая
метель, когда не стало больше ни Петербурга, ни России, ни неба, ни земли. Ничего
не стало на свете, только гудящие, огромные, движущиеся со всех сторон,
падающие, сероватые стены вьюги. Снег слепил глаза, Мусоргский шел чутьем, как
другие прохожие, точно грузные привидения в тряске метели. Он любил петербургские
непогоды, когда был отделен летящим снегом от всего на свете. Жизнь, впрочем,
где-то кишела, прорывалась мутными, проносящимися огнями, сиплым дыханием
извозчичьих лошадей, испугом натолкнувшегося прохожего. В шуме снега он
думал, что жизнь, настоящее бытие, не слова, не речи и выдумки, а вот это кишение,
бессловесное и бессмысленное, слепая возня вьюги... Внизу, от быстрого шелеста
снега, слышалось суровое шипение, но наверху, во тьме, гул был строен. Могучий,
дальний звук повторялся с неумолимостью, не умолкая, высоко во тьме... Он шел,
вслушиваясь в темный гул, и в свете падающего снега, в тысяче приглушенных
звуков стал слышать одну сильную мелодию, проносящуюся в мелькающей смуте.
Песня была так необыкновенна, прекрасна, грозна, что дрожь восторга проняла
Мусоргского. Заваленный снегом..., он шел, как слепой пророк, услышавший
Божье откровение» (Лукаш. «Бедная любовь Мусоргского»).
719
Несколько, отчасти наугад, примеров кодирования сферы
ирреально-фантастического в Петербургском тексте (примеры из Достоевского, несомненно, ключевые в этом
тексте, были приведены в одной из более ранних работ) позволяют хотя бы
пунктирно обозначить эту важную особенность Петербурга и то, как она представлена в
Петербургском тексте. Уже для Гоголя, по верному наблюдению Набокова, Петербург
не был реальностью, или, может быть, точнее, за его поверхностно-материальной
реальностью Гоголем узревалось в городе и нечто сверх-реальное, не всегда отличимое
от ирреального. Это двоение образа, возможность двояко (и так и этак) увидеть город
и соответственно этому двояко осмыслить его объясняет то впечатление миражности
города, о котором нередко, иногда с навязчивостью, говорят разные авторы. Аполлон
Григорьев был первым, кто не только осознал петербургскую миражность как
неслучайный, более того, некий основоположный признак города, но и сумел осмыслить
его и сформулировать. В работе о Достоевском и школе сентиментального
натурализма (написана не ранее второй половины 1862 г.) он писал:
«Да! бывалого Петербурга, Петербурга 30-40-х годов - нет более. Это факт и
факт несомненный. В настоящем Петербурге... нет ничего оригинального, кроме
того, что в нем подают в трактирах московскую селянку, которой в Москве не умеют
делать, и что в нем за Невой существует Петербургская сторона, которая гораздо
более похожа на Москву, чем на Петербург. А между тем, этот бывалый Петербург,
это кратковременное миражное явление - стоит
изучения как явление все-таки историческое. Те, которые не знали сами этого
миражного исторического явления - должны будут, конечно, изучать его по
источникам. А источников много - и в числе их, конечно, первоначальным
источником остается Гоголь. Пушкину в "Медном Всаднике" Петербург явился только с
его грандиозной стороны..., хотя в своем "Медном Всаднике", где поэтизировал он
по праву Невы державное теченье, береговой ее гранит... и по увлечению минуты
множество других явлений, в которых до него никто не видел ничего
поэтического - и этом же самом "Медном Всаднике", изображая бедную судьбу своего героя, -
почувствовал первый тот м у τ н о-с ерый колорит, который лежал на
тогдашней петербургской жизни... Но определительно и ярко сознать ту односторонность
жизни, которую представлял Петербург 30-40-х годов - дано было только Гоголю.
Удивительное понимание этой миражной жизни явилось у великого аналитика...
еще до повестей его, в гениальных фельетонах, которые писал он для
пушкинского "Современника". Разумеется, и до него - многим смутно кидалась в глаза
поражающая разница между жизнию, которою жил тогда Петербург, и между жизнию,
которой жила Москва - представительница великорусской жизни... Но
внутреннего, существенного различия никто не чувствовал до Пушкина, никто не отметил
клеймом до Гоголя. Москвичи только ненавидели Петербург, сами по себе не
отдавая отчета в причинах своей ненависти [...] Но всему этому смутному чувству
вражды еще не доставало определяющего слова...
В фельетонах Гоголя впервые проступила, и ярко проступила, эта особенность, -
впервые всем ее оттенкам даны были имена [...] Страшная, мрачная картина... Но
великий мастер по особенному свойству своего таланта поразился в ней прежде всего ее
я пошлостию... Два произведения Гоголя представляют, так сказать, венец, апогей его
поэтических отношений к представшей ему миражной жизни. Это "Нос" и
"Шинель", два неизмеримо глубокие фантастические произведения... Я назвал их
фантастическими... Не дивитесь этому. Фантастическая жизнь в них
изображается - столь же фантастически, как та, которую изображает Гофман, если не
более... если, я говорю, вы поняли эту жизнь, в которой "всё может случиться" (ср. ах-
матовское Всё, что хочешь, может случиться... - В.Т.)... Но вопрос, смеетесь ли вы
тому, что они бывают, или страх на вас нападает?... А вот и страх,
действительный, сжимающий сердце страх нападает на вас, когда вы читаете ледяной,
беспощадный, бессердечный даже рассказ об участи существа, созданного по образу и
подобию Божию - которого единственное наслаждение - выводить по бумаге буквы...
И не смешон, а преимущественно страшен смысл раскрываемой художником
720
картины... Еще до Гоголя глубокомысленный и уединенно замкнутый Одоевский -
поражался явлениям миражной жизни - и иногда (как в "Насмешке мертвеца") -
относился к ним с истинным поэтическим пафосом... Но пафоса тут мало. Тут нужна
была казнь - и явился великий художник казни. Углубляясь в свой анализ пошлости
пошлого человека, поддерживаемый и питаемый миражною жизнию, - он
додумался до Хлестакова».
К «миражно-фантастическому» Петербургу (или в Петербурге) ср. также: «Далее
набережной Васильевского острова Таня никогда не ходила, и Петербург по ту
сторону Невы представлялся ей каким-то фантастическим городом, который
возбуждал в ней и любопытство и болезнь» (И.И. Панаев. «Галерная гавань», 1856);
«В этой чопорности (Петербурга. - В.Т.), в этом, казалось бы, только филистерском
"бонтоне" есть даже что-то фантастическое, какая-то сказка об умном и
недобродушном колдуне, пожелавшем создать целый город, в котором вместо живых
людей и живой жизни возились бы безупречно исполняющие свою роль автоматы,
грандиозная, не слабеющая пружина. Сказка - довольно мрачная, но нельзя сказать,
чтобы окончательно противная. Повторяю - в этой машинности, в этой
неестественности - есть особая и даже огромная прелесть» (Бенуа. «Живописный Петербург»);
«...всю неизъяснимую прелесть Петербурга, прелесть его бесконечных улиц, скучных
площадей, огромных зданий, в особенности же прекрасно они выразили пустынность
Невы, фантастическую грандиозность и красоту ее, чудные эффекты
белых ночей» (Там же); «Милый юноша, приходи ко мне учиться. Я научу тебя видеть в
реальном фантастическое, как фотография, как Достоевский» (Врубель, по
воспоминаниям СЮ. Судейкина, см. Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике.
Л., 1976, 294) и др. Блок, Белый, Анциферов, Вагинов, как и многие менее связанные
с Петербургом авторы, неоднократно говорят о фантастичности города. Сама эта
фантастичность иногда превращается в штамп петербургского описания. Отсюда, в
частности, и нередкие контаминации (ср. в рецензии Алданова на «Петербургские
зимы» Г. Иванова о Петербурге как «самом фантастическом городе в мире»,
где как бы слиты определения Петербурга, данные ему Достоевским и Блоком).
Едкий Набоков в «Даре» говорит о писателе, читающем повесть из петербургской
жизни «с... Распутиным и апокалиптически-апоплексическими закатами над Невой».
Собственно говоря, фантастичность Петербурга обозначает уход от «грубой
действительности», от эмпирической реальности к высшей и подлинной реальности, ad realio-
га, и в этом отношении фантастичность - в известной мере - стоит в том же ряду, что
и другой способ ухода от «грубой действительности» - отучаться видеть, умерщвлять
в себе это чувство действительности: «Нет, в самом деле, - заговорил Щетинин, -
я замечал, что Петербург как-то совсем отучает смотреть на вещи прямо, в вас
совершенно исчезает чувство действительности: вы ее как будто не замечаете, она для вас
не существует... Я говорю о той действительности, которая нас окружает и дает себя
чувствовать на каждом шагу» (Слепцов. «Трудное время»).
Ср.: «Перспективы проспектов Санкт-Петербурга были к тому, чтобы там, в концах,
срываться с проспектов в метафизику» («Повесть петербургская», дважды). Об этом
аспекте «Петербургского» текста и самого города см. теперь: Метафизика
Петербурга. 1.СП6., 1993.
Речь идет не о том чувстве страха, который вызывает зрелище человеческого
страдания (страшная нищета, страшное горе), стихийных бедствий (страшное наводнение,
страшная вьюга, страшная метель, страшный холод) или социальных катаклизмов
(Революционных пург I Прекрасно-с m ρ а ш н ы и Петербург 3. Гиппиус (та же
рифма - у Волошина), с отсылкой к образу основателя Петербурга (Лик его ужасен,/
Движенья быстры, он прекрасен,/ Он весь как Божия г ρ о з а) и не о
бескрылом страхе молитвы (Помоги, Господь, эту ночь прожить. / Я за жизнь боюсь -
за Твою рабу -IB Петербурге жить - словно спать в гробу), но о страхе как
таковом, в его чистом виде, беспричинном, безобъектном, метафизическом. В
ряде случаев этот метафизический страх сам субъект страха склонен объяснять,
мотивировать чем-то вполне реальным и «физически»-конкретным, что действительно пу-
721
гает его: но чаще всего в таких случаях речь идет о «малом» страхе, как бы
призванном покрыть собою «большой» беспричинный страх. Первым, кто, ощутив этот страх,
сумел художественно ярко описать его как одну из петербургских стихий был
Достоевский (что, впрочем, не зачеркивает нескольких важных свидетельств из более
раннего времени, из которых здесь будут отмечены два; 12 апреля 1815 г. Жуковский
пишет А.И. Тургеневу: «Судьба жмет меня в комок, потом разожмет, потом опять
сожмет... Я боюсь Петербургской жизни, боюсь рассеянности, боюсь
своей бедности и нерасчетливости. Что, если с своим счастием еще и потерять и свою
свободу... и жить только для того, чтобы не умереть с голоду!», ср. четыре месяца спустя
в письме от 4 августа тому же адресату: «Я не буду жильцом Петербургским; но
каждый год буду в Петербурге непременно»; герой повести Павлова «Демон», 1839,
Андрей Иванович, живущий на Петербургской стороне, ранним утром растворяет окно:
«Свежий воздух и черные мысли пахнули с Невы. Петербург спал, покоился этот
гигант Севера, страшно и приятно было смотреть на грозный и великолепный
сон»). Видимо, уже первая встреча Достоевского с Петербургом приоткрыла ему эту
стихию безотчетного страха, носителем которой был сам город, точнее - нечто
тайное, незримо в нем присутствующее. «Еще с детства, - писал он в "Петербургских
сновидениях", - почти затерянный, заброшенный в Петербурге, я как-то боялся его;
Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какой-то тайной» и тогда же: «Мне
вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются...
Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в
глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается» («Белые ночи»), ср.
описание страха, вызываемого Парижем, где «страшное разлито в каждой частице
воздуха», в «Записках Мальте Лауридса Бригге» Рильке. Говоря об этом страшном, нужно,
конечно, учитывать и эффект контраста с Москвой, актуальный для
авторов-москвичей (описывая в романе «Пушкин» Петербург, Тынянов проницательно заметил, что
«самая беднота была здесь, казалось, другая -страшнее и явственней, чем в
Москве»; пожалуй, можно спорить о «явственности»: скорее московская беднота
живописнее и, следовательно, явственнее, но она органичнее связана с московской
патриархальностью, беспорядочностью, естественностью; но что петербургская беднота
страшнее, спорить не приходится, и эта большая «страшность» вытекает из контраста
бедности и цивилизованности, упорядоченности, организованности: потертая шинель
чиновника Акакия Акакиевича, имеющего регулярно выплачиваемое ему жалование,
заставляет сжиматься сердце больше, чем живописные рубища нищего, для которого
мнение окружающего мира и собственные социальные амбиции уже не существуют:
он в н е общества).
Разные люди писали о «петербургском» страхе, по-разному пытались они
объяснить его самим себе. Иногда, видимо, играла роль «отрицательная» предвзятость
(первая встреча с городом Хомякова), ср.: «Их (славянофилов. - В.Т.) бытовая и духовная
отчужденность от порожденной Петром Великим Империи ни в чем не сказывается с
такой отчетливостью, как в замечании Хомякова, что он, попав ребенком в
Петербург, почувствовал себя в языческом городе и испугался, что его принудят
отречься от православной веры» (см. Степун. «Встреча»). Но и «положительная»
предвзятость нередко не гарантировала от нарастания чувства тоски, а потом и страха (ср.
отчасти выше). Встречи с Петербургом давались нелегко. «Чем ближе подъезжали
мы к Петербургу, тем большей тоской и как бы с τ ρ а х о м обдавало душу.
Природа что шаг, то становилась беднее; бесплодные пажити, болота, бедные деревни,
болезненные, искривленные деревья на сырой тощей почве увеличивали тяжелое
настроение духа. В Петербурге всё нам было чуждо» (Т.П. Пассек. «Из дальних лет.
Воспоминания»). О «страшном холоде», который обдает человека в Петербурге и
«сковывает уста тяжелой думой», о страхе петербургской миражности, сжимающей
сердце, о внезапных приступах страха писал не раз Аполлон Григорьев (ср., в частности,
выше). Образ «страшного» Петербурга, не переставая быть достоянием тех, кто
впервые встречался с городом, распространялся и по всей России («И ее, разумеется,
родители не добром отпустили одну, за тысячу верст от себя, в этот страшный
722
Петербург, где теперь молодым людям со всех сторон грозила погибель». СВ.
Ковалевская. «Нигилист»).
В начале XX в. в кругу людей, наиболее чутко улавливавших «шум времени», всё
очевиднее и всё чаще открывалось страшное в Петербурге, и они неоднократно
свидетельствовали об этом. Это чувство страха отражено Мережковским во многих
его произведениях - тревожно, настойчиво, почти мономанически. «Тихон тотчас
узнал его, это был Петр. Страшное лицо как будто сразу объяснило ему
страшный город: на них обоих была одна Печать» («Петр и Алексей»);
«Петербург, который она мельком видела из окон своей комнаты - мазанковые здания,
построенные голландскою и прусскою манирою, церкви шпицом, Нева с верейками и
барками, каналы - всё это представлялось ей, как страшный и нелепый сон.
Сновидения казались ей действительностью. Она воображала, что живет в
Московском Кремле, в старых теремах» (Там же, о царице Марфе Матвеевне); «Сооружение
одной лишь крепости на острове Веселом - Lust-Eiland (хорошее название!) стоило
жизни сотне тысяч переселенцев, которых сгоняли сюда силою, как скот, со всех
концов России. Воистину, этот противоестественный город, страшный "Парадиз",
как называет его царь, основан на костях человеческих!» (Там же); «Накануне вода
поднялась. Сведущие люди предсказывали, что на этот раз не миновать беды.
Сообщались примеры... государыне приснился Петербург, объятый пламенем,
а пожар-де снится к потопу... Петр во всех взорах читал тот древний страх воды, с
которым тщетно боролся всю жизнь; "жди горя с моря, беды от воды; где вода, там
и беда; и царь воды не уймет"» (Там же); «И слушая эти пророчества, люди
испытывали новый неведомый ужас, как будто наступал конец мира,
светопреставление» (Там же); «Это озеро была Нева - пестрая как шкура на брюхе змеи, желтая,
бурая, черная, с белыми барашками, усталая, но всё еще яростная, страшная
под страшным, серым, как земля, и низким небом» (Там же); «И всё, что я
испытала, видела и слышала в этом страшном городе, - теперь более, чем
когда-либо казалось мне сном» (Там же) и т.п. - о городе, где страшен не только он,
но и - как следствие - страшно всё, что в нем есть и что порождено этим
универсальным «петербургским» страхом, сродни terror antiquus. Этот страх двухвековой
давности тем легче был восстановлен писателем, что он был знаком ему по
Петербургу его дней. И о нем тоже писал, по горячему следу, в своих публицистических
статьях и очерках на злобу дня, и, может быть, ярче всего в «Зимних радугах», ср.:
«Было страшно, как во сне. И вспомнился мне сон... Черный облик далекого
города на черном небе: груды зданий, башни, купола церквей, фабричные трубы.
Вдруг по этой черноте забегали огни... И понял я или кто-то мне сказал, что это
взрывы исполинского подкопа. Я ждал, я знал, что еще миг - и весь город взлетит
на воздух, и черное небо обагрится исполинским заревом» (и вскоре там же - «Но
ни холера, ни реакция, ни чудовищные слухи о самоубийцах, об "одиноких", о
"кошкодавах", ни даже эта страшная тоска на лицах, - о, конечно всероссийская,
но которая именно здесь, в Петербурге, достигает каких-то небывалых пределов
безумия... - нет, не всё это, а что-то иное заставляет меня испытывать вновь
знакомое "чувство конца", видеть в лице Петербурга то, что врачи называют faciès
Hyppocratica, "лицо смерти"»). И как некий вывод - «Достоевский понял, что в
Петербурге Россия дошла до какой-то "окончательной точки" и теперь "все
колеблется над бездной"... Но нельзя же вечно стоять на дыбах. И у ж а с в том, что "опустить
копыта" значит рухнуть в бездну. И тут уже дерзновенный вопрос переходит в
дерзновеннейший ответ, в безумный вызов: Добро, строитель чудотворный! Ужо
тебе! Это и есть первая точка нашего безумия, нашего бреда, нашего ужаса:
Петербургу быть пусту. И вдруг стремглав I Бежать пустился. Показалось I Ему,
что грозного царя, I Мгновенно гневом возгоря, I Лицо тихонько обращалось.
Лицо бога обращается в лицо демона. И все мы, как этот "безумец бедный", бежим
и слышим за собой, Как будто грома грохотанье, I Тяжело-звонкое скаканье I
По потрясенной, мостовой... Смерть России - жизнь Петербурга; может быть, и
наоборот, смерть Петербурга - жизнь России?»
723
Чувство страха, хорошо знакомое Зинаиде Гиппиус во всяком случае с молодых
лет и возникавшее в ситуациях личных, на пороге, за которым начиналась сфера
экзистенциального (от «Страха и смерти»: Лишь одно, перед нем я навеки без сил - I
Страх последней разлуки. IЯ услышу холодное веянье крыл... IЯ не вынесу муки
и до «Страшного», 1916: Страшно оттого, что не живется - спится... I И все
двоится, все четверится... H ...А самое страшное, невыносимое, -1 Это что
никто не любит друг друга...), нарастало по мере приближения революции, и всё
отчетливее источником этого страха, его носителем становился Петербург (к мотиву двоенья-
двойственности ср. о Коневском: «Этим крайним "распутьем народов"... стал для
Коневского город - Петербург, возведенный на просторах болот; это место стало для
поэта каким-то отправным пунктом в бесконечность, и финская Русь была
воспринята им сильно, уверенно - во всей ее туманности, хляби, серой слякоти и страшной
двойственности»- Блок, V, 599). Когда «страшное» города и «страшное»
истории (революция) сошлись в одном месте, «страшное» стало универсальным.
О нем - постоянно в «Петербургских дневниках»: «Мы следили за событиями по
минутам, - мы жили у самой решетки парка в бельэтаже последнего дома одной из
улиц, ведущих ко дворцу. Все шесть лет, - шесть веков, - я смотрела из окна, или с
балкона, то налево, как закатывается солнце в туманном далеке прямой улицы, то
направо, как опушаются и обнажаются деревья Таврического сада. Я следила, как
умирал старый дворец, на краткое время воскресший для новой жизни, - я видела, как
умирал город... Да, целый город, Петербург, созданный Петром и воспетый
Пушкиным, милый, строгий истрашный город -он умирал... Последняя запись
моя - это уже скорбная запись агонии» (ср. неподалеку: «...поверх зеленых шапок
Таврического сада можно видеть главы страшного Смольного... о, какое странное
томление, какая - словно предсмертная - тоска»); «Мы очутились на одной и той же
льдине с И.И. Когда по месяцам нельзя было физически встретиться, даже
перекликнуться с давними, милыми друзьями, ибо нельзя было преодолеть черных пространств
страшного города, - каким счастьем и помощью был стук в дверь и шаги
человека, то же самое понимающего, так же чувствующего, о том же ревнующего, так же
страдающего, чем страдали мы!»; «Петербург в одну неделю сделался неузнаваем. Уж
был хорош! - но теперь он воистину с τ ρ а ш е н». И отныне страшно всё: и
мгла, и казарменные переулки, и дни, и лица, и сами люди. «Петербург - просто
жители - угрюмо и озлобленно молчит, нахмуренный, как октябрь (запись от
29 октября. - В. Т.). О, какие противные, черные, страшные и стыдные дни!»; -
и, наконец: «мы поняли: надо уезжать. Надо бежать, говоря попросту. Нет более ни
нравственной, ни физической возможности дышать в этом страшном городе» (все
примеры - из «Петербургских дневников»). О страшном Петербурге после
октября 1917 г. писал и Бунин («Третий Толстой») и многие другие.
Очевидно, что «страшное» революции лишь суперстрат
«метафизически-страшного» самого города: ведь о страшном Петербурге писали и в «благополучные» годы
и особенно весомо - Андрей Белый в «Петербурге» и Блок - в стихах, в статьях, в
письмах, в дневниках и записных книжках - от относительно спокойного «Самым
страшным и царственным городом в мире остается, по-видимому, Петербург»
(письмо от 7 июня нового стиля Е.П. Иванову. Собр. соч. VIII, 287; ср. вариацию
этого в дневниковой записи от 17 октября 1911 г.: «Петербург -самый страш-
н ы й, зовущий и молодящий кровь - из европейских городов». VII, 72) до страшного
«Страшного мира», стихи которого - о страхе, более того, ужасе жизни (Я в ужасе,
зажмурив очи, I Я отступлю в ту область ночи, I Откуда возвращенья нет...),
который - в ясные минуты сознания - на время сменяется чувством обреченности, кончен-
ности, выхода из игры -Довольно - больше не могу... («страшный город», «мертвый
город» (Записи, кн. 456, 457)) как бы индуцирует страх во всем и в Я поэта: «страшное
всё это» (VII, 352) и «В снах часто, что и в жизни: кто-то нападает, преследует, я
отбиваюсь, мне страшно. Что это застрах?... Этот страх пошел давно из двух
источников - отрицательного и положительного: из того, где я себя испортил, и из того,
что я себе открыл» (VII, 269-270); страшно, страшный, ужасный, ужас, жуткий,
724
особенно субстантивированные, но беспредметные страшное, ужасное, жуткое
особенно показательны в этом контексте, смысл которого выражен и иначе - «Утренние,
до ужаса острые мысли, среди глубины отчаянья и гибели» (VII, 397). В этой
призрачной Пальмире, I В этом мареве полярном страх наполняет душу и другого поэта,
чуткого к совсем уже подступившему будущему: Замирая, кликом бледным / Клину я:
«Мне страшно, дева, I В этом мороке победном I Медноскачущего Гнева...» II
А Сивилла: «Чу, как тупо I Ударяет медь о плиты... I То о трупы, трупы, трупы I
Спотыкаются копыта...» (Вяч. Иванов. «Медный Всадник»). О страшных
былях Петербурга писал и Анненский, о страшных петербургских снах -
многие, в их числе Блок, Ремизов, Чулков. Страшный Петербург как один из образов
города признавал и открывший противоположный образ прекрасного и
пленительного Петербурга Бенуа - «Попробуйте выйти из состояния петербургского автомата, -
призывал он, - бросьте также на минуту бестолковые и приевшиеся жалобы на гниль,
на скуку, посмотрите-ка со стороны, и все же не уходя от жизни Петербурга, на эту
его жизнь, на его физиономию - и вам Петербург покажется страшным,
безжалостным, но и прекрасным... в одно и то же время чудовищным и пленительным,
колоссом. Для прежней, большой, доброй, неряшливой, беспорядочной России он всё
еще и через 200 лет чужой, непонятный и даже ненавистный сержант..., но для
всякого, кто не захочет слушать недовольный ропот расползшейся старушки, так страшно
любящей свою тяжелую и сладкую дрему - этот сержант превращается в мудрого,
страшного, но и пленительного гения» (Бенуа. «Живописный Петербург»).
Я за жизнь боюсь - за Твою рабу -IB Петербурге жить - словно спать в гробу, -
обращался к Господу в страшные тридцатые поэт, так глубоко чувствовавший и так
лично переживавший умиранье Петербурга и не отделимую от него собственную
смерть (В Петрополе прозрачном мы умрем... Твой брат, Петрополь, умирает). Но
страх, впервые почувствованный в Петербурге и в связи с ним, в составе которого
было и реальное будничное страшной эпохи, засвидетельствованное Мандельштамом, и
метафизическое, также соотнесенное с этим городом (ср. в «Египетской марке»:
«Страшно подумать, что наша жизнь - это повесть без фабулы и героя,
сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского ин-
флуэнцного бреда... Страх берет меня за руку и ведет... Я люблю, я уважаю страх.
Чуть было не сказал: "с ним, мне не страшно!". Математики должны были построить
для страха шатер, потому что он координата времени и пространства: он, как
скатанный войлок в киргизской кибитке, участвует в нем. Страх распрягает лошадей,
когда нужно ехать, и посылает нам сны с беспричинно-низкими потолками»), был
преодолен уже позже, когда страх будущего, страх ожидаемого поблек перед страхом
сего дня, когда терять было нечего, и страх был «снят», и было сказано: «я к смерти
готов» (о подобном эффекте «снятия» страха позже писала в «Записках блокадного
человека» Л.Я. Гинзбург: «Люди с Большой земли, попав в Ленинград, терялись. Они
спрашивали: "Почему это у вас никто не боится? Как это сделать так, чтобы не
бояться?" Им отвечали: "Прожить здесь полтора года, голодать, замерзать... Ну, объяснить
этого нельзя"»; можно вспомнить, как страшно было автору сначала видеть после
бомбежки висящую в воздухе лестницу). Но этот прорыв в «страшном» сам по себе
страшен, и это, кажется, не столько подлинное освобождение от страха, сколько
полное исчерпание душевных сил, утрата восприятия страха, но не победа над ним.
Сознание и чувство страха в страшное межвоенное двадцатилетие и после войны по-
своему более человечно и человекосообразно: я боюсь, я имею страх, - значит, я
живу. О двух разных полюсах единого страха в это двадцатилетие ср.: «Неизвестный
поэт смотрел вдаль. На небе перед ним постепенно выступал страшный,
заколоченный, пустынный, поросший травой город» (Вагинов. «Козлиная песнь»;
«Страшно быть человеком среди умерших», - говорится в «Монастыре Господа
нашего Аполлона». IX) и свидетельства о еще более страшном, перекочевавшем (или,
скорее, втянувшем в себя) из города в самого человека, в «Дневниках» Л.К.
Чуковской. Ср. I, 47, запись от 27.IX.39 (ср. I, 60 и др.): «Заговорили о том, что на улицах
сейчас мокро, темно, мрачно. - Ленинград вообще необыкновенно приспособлен для
725
катастрофы, - сказала Анна Андреевна. - Эта холодная река, над которой всегда
холодные тучи, эти угрожающие закаты, эта оперная страшная луна... Черная
вода с желтыми отблесками света... Все страшно. Я не представляю себе, как
выглядят катастрофы и беды в Москве: там ведь нет всего этого». Ср. у Зенкевича в «Эль-
ге»: «Какой дьявол занес меня в этот мертвый, страшный Петербург!... Пустынные
темные коридоры улиц, мертвые нежилые корпуса домов... Сколько окон здесь
светилось по ночам... ! А сейчас, как мертвецкие, страшны эти неосвещенные
заброшенные дома»; - «Ж у τ к о пересекать пустынное темное Марсово поле... на меня
напал ребяческий непреодолимый страх» и т.п.
Правдоподобно предположение хотя бы о частичной связи «петербургского»
страха с непривычной и, главное, не вполне понятной организацией пространства,
соотношением размеров его частей и некоторыми особенностями других структур (по
крайней мере, для непетербуржцев) и связанными с ними явлениями, с ситуацией
неопределенности, напряженного ожидания неизвестно чего (Всё, что хочешь, может
случиться...).
48 Конкретнее, детальнее, почти гротескно о петербургском похоронном обиходе писал
Некрасов. Лишь один фрагмент из цикла «О погоде». Часть первая. I. Утренняя
прогулка:
...По танцующим жердочкам прямо
Мы направились с гробом туда.
Наконец, вот и свежая яма,
И уж в ней по колено вода!
В эту воду мы гроб опустили,
Жидкой грязью его завалили,
И конец! Старушонка опять
Не могла пересилить досады:
«Ну, дождался, сердечный, отрады!
Что б уж, кажется, с мертвого взять?
Да, Господь, как захочет обидеть,
Так обидит: вчера погорал,
А сегодня, изволите видеть
Из огня прямо в воду попал!
Вообще нужно отметить, что петербургская кладбищенская Муза куда
плодовитее своей московской сестры (не говоря уж о провинциальной), что, однако,
уравновешивается преимуществом в количестве «народных» стихотворных эпитафий,
засвидетельствованных на московских кладбищах.
49 См. Вишняков И. Историко-статистическое описание Волковско-православного
кладбища. СПб., 1885, 50. Ср. теперь Исторические кладбища Петербурга. СПб., 1993.
50 См. Дороватовский U.C. Географический и климатический очерк Петербурга. //
Петербург и его жизнь. СПб., 1914, 15 и др.
51 См. Пажитнов К.Н. Экономический очерк Петербурга // Петербург и его жизнь,
41 и ел.
52 См. Пажитнов К.Н. Указ. соч., 55.
53 Правда, именно в 10-е годы начался новый процесс - создание комфортабельных
домов для рабочих, ср. Народный дом Нобеля, Народный дом графини Паниной и др.
54 См. Бахтиаров А. Брюхо Петербурга. Общественно-физиологические очерки.
СПб., 1888, 239-248 («питомнический промысел»). В литературе того времени
неоднократно отмечалось тяжелое положение детей, их заброшенность, с ранних лет
отданность улице со всеми следствиями из этого, побои дома (иногда они носили
зверский, садистский характер; об этом писала и городская криминальная хроника,
и публицистика, и художертвенная литература, особенно начиная с Достоевского,
а на рубеже веков - Федор Сологуб). Исследователи социальной жизни города
отмечали, что многие дети из центра Петербурга ни разув своей жизни не
видели Невы (!).
55 См. статистические данные, приведенные в книге: Михневич В. Петербург как на
ладони. СПб., 1874; ср. Он же. Язвы Петербурга. Опыт историко-статистического
исследования нравственности столичного населения // Исторические этюды русской жизни.
Том 3. СПб., 1886.
56 Следует отметить особую интенсивность и «промыслительный» характер
деятельности петербургских нищих, большую изобретательность и готовность переходить от
«собирательства» и попрошайничества к действиям преступного характера.
57 Особого внимания заслуживает «еврейская» тема в «петербургской» литературе. Не
считая немногочисленных исключений, она прочно (хотя обычно и в кратких
вариантах) утверждается в 60-70-е годы XIX в. (Крестовский, Лесков, Михневич, Н.
Никитин, из евреев, бывший кантонист, Свешников и др.) и быстро расширяет свои
пределы, приобретая уже к рубежу XIX-XX вв. вполне самостоятельное и довольно
заметное положение; растет число русскоязычных писателей евреев. Но здесь хотелось бы
обратить внимание на отражение «еврейской» темы в петербургской молве еще
петровских времен. Некоторые источники помогли Мережковскому в его романе «Петр
и Алексей» правдоподобно реконструировать эту «мифологизирующую» молву о
евреях. Одно место из второй книги («Антихрист») заслуживает особого упоминания.
«- А что, соколики, - начала Киликея-кликуша, еще молодая женщина... - а что
правда ли, слыхала я давеча, здесь же в Питербурхе на Обжорном рынке, государя-де
ныне на Руси нет, а который и есть государь - и тот не прямой, природы не русской и не
царской крови, а либо немец, немцев сын, либо швед обменный? - Не швед, не немец,
а жид проклятый из колена Данова (в предвосхищении горенштейновского "Псало-
ма". - В.Т.), - объявил старец Корнилий. Заспорили, кто Петр: немец, швед или
жид?.. - Я, батюшки, знаю, все про государя доподлинно знаю, - подхватила
Виталия...: как-де был наш царь благочестивый Петр Алексеевич за морем в Немцах и
ходил по немецким землям, и был в Стекольном, а в немецкой земле стекольное
царство держит девица, и та девица, над государем ругаючись, ставила его на горячую
сковороду, а потом в бочку с гвоздями заковала да в море пустила... А на место его
явился оттуда же из-за моря некий ж и д о в и н проклятый колена Данова, от нечистой
девицы рожденный. И в те поры никто его не познал. А как скоро на Москву наехал, -
и все" стал творить по-жидовски... Никого из царского рода... не видал, боясь,
что они обличат его, скажут ему, окаянному: "Ты не наш, ты не царь, а жид
проклятый"... Да он же, проклятый жидовин, с блудницами немками всенародно
пляшет... - А я опять скажу: швед ли, немец ли, жид,- чорт его знает, он таков, а только
и впрямь, как его Бог на царство послал, так мы и светлых дней не видали, тягота на
мир, отдыху нет... - Какой он царь? Царишка! Измотался весь. Ходит без памяти. -
Ожидовел и жить без того не может, чтобы крови не пить... - Мироед! Весь мир
переел, только на него, кутилку, переводу нет (Корнилий. - В. Т.). Внимайте,
православные, кто царствует, кто обладает вами с лета 1666, числа звериного. Вначале царь
Алексей Михайлович с патриархом Никоном от веры отступил и был предтечею
зверю, а по них царь Петр благочестие до конца искоренил, патриарху быть не велел, и
всю царскую и Божью власть восхитил на себя и возвышался против Господа нашего
Иисуса Христа, сам единою безглавною главою церкви учинился, самовластным
пастырем». Этническое разнообразие Петербурга в самом его начале бросалось в Глаза
уже первым иностранцам, письменно засвидетельствовавшим свои впечатления о
городе, ср.: «И вот сразу же из его (Петра I. - В.Т.) обширного государства и земель
было направлено огромное множество людей - русских, татар, казаков, калмыков и т.д.,
а также финских и ингерманландских крестьян» («Точное известие о ... крепости и
городе Санкт-Петербург...», 1713 г. - по впечатлениям 1710-1711 гг.); «...тотчас были
подготовлены приказы о том, чтобы предстоящей весной на работы явилось
множество людей - русских, татар, казаков, калмыков, финских и ингерманландских
крестьян... собралось много тысяч работных людей из всех уголков большой России»
(Вебер Ф.-Х. «Преображенная Россия», по впечатлениям очевидца, оказавшегося в
Петербурге в 1716-1717 гг.); «На другом острове, севернее этого, живут азиатские
купцы, а именно армяне, персы, турки, татары, китайцы и индусы. Однако евреям
727
теперь не дозволено торговать, да, пожалуй, и жить в Российской Империи» (Брюс П.Г.
«Мемуары», 1714-1716 гг.; «другой остров», судя по всему, - Петербургский) и т. п.
58 Нужно отметить, что петербургская хроника происшествий и в XVIII и даже в XIX в.
фиксирует отдельные случаи голодной смерти в «сытом» городе, и они объясняются
не столько отсутствием возможности удовлетворить голод, сколько тем одиночеством
и изолированностью человека в «страшном городе», при которых оказывается
невозможным воспользоваться возможностью. О голоде в первые годы существования
города, объясняемом жестокими условиями труда, плохими климатическими и
почвенными условиями, низким уровнем земледелия и положением города, отрезанного от
плодородных частей страны, писали уже первые описатели Петербурга из
иностранцев, как бы предвосхищая позднейшие мысли по этому поводу, высказанные
Карамзиным. Ср.: «Что же касается почвы этого места и окрестностей, то земля в этом краю
везде холодная из-за обилия воды, болот и пустошей, а также и потому, что лежит на
очень высокой северной широте... В крае нет почти ничего, разве немного репы,
белокочанной капусты и травы для скота... теперь из-за множества народа в
С.-Петербурге все съедено, и очень бедным людям стало даже нечем жить, и можно заметить,
что они ныне кормятся одними кореньями, капустой, репой и т.д., а хлеба уже почти
вовсе не видят. Поэтому легко себе представить, насколько убогое и жалкое
существование влачат эти бедные люди, и если бы туда не доставляли продовольствие из
Москвы, Ладоги, Новгорода, Пскова и других мест, то все живущие там в короткое
время поумирали бы с голоду» («Точное известие»; сходную картину рисует и Вебер);
«.. .однако в С.-Петербурге ее (чумы. - В.Т.) не было, но там очень много простых
людей умирало от недостатка продовольствия» (Там же) и др.
59 См. Свирский Л. Петербургские хулиганы // Петербург и его жизнь, 250-277. Автор
столкнулся в ночлежке со старым знакомым, наследственным алкоголиком, бывшим
студентом, которого когда-то он встречал в Вяземской лавре. Зашла речь о хулиганах,
и этот опустившийся человек толково и тонко объяснил суть явления хулиганства как
новой разновидности социальной функции и позиции, с нею связанной, в
Петербургской жизни начала века:
«- Что такое хулиган? Извольте, объясню вам. Ведь вы там, наверху, ничего не
знаете. Поймаете новое слово и пошли трепать его при всяком удобном и неудобном
случае. Вот так, я помню, было со словом "интеллигент". Ко всякому, кто носил
пиджак и галстук, применяли этот термин. То же самое теперь происходит со словом
"хулиган". По вашим понятиям и вор, и демонстрант, и безработный - все хулиганы.
Ошибаетесь: хулиган совсем не то. Это совершенно новый тип, народившийся
недавно и размножающийся с быстротой микроба... Когда человек с заранее обдуманным
намерением нападает на вас и ограбит, или, когда человек ради известной цели
произведет дебош на улице, в церкви или в ресторане, то знайте, что это - не хулиган.
Такого человека можно назвать преступником, потому что в нем живет злая доля, он
одержим известными желаниями. Ну, а у хулигана нечего подобного и в помине нет.
Хулиган - человек безыдейный. Он ничего не хочет, ни к чему не стремится и в
действиях своих не отдает себе никакого отчета. Хулиганы - это люди, потерявшие
всякий вкус к жизни. Понимаете. Полнейшая апатия. - Однако, они же действуют, -
заметил я. - Бессознательно. Хулиган - инстинктивный анархист. Он разрушает ради
разрушения, а не во имя определенной и заранее обдуманной цели. Нет, вы
подумайте только, какой это ужас, когда теряют вкус к жизни. Попробуйте испугать
человека, когда он ничего не боится, ничем не дорожит и ничего не желает. Ведь это
духовные самоубийцы!» - С 17-го года о хулиганах пишет вся петербургская печать (одна
из тем - хулиганы на скале с фальконетовским Петром: на это обратил внимание
Блок, вероятно, увидевший за этим нечто большее, чем эмпирию «низкой» городской
жизни, об этом писали и люди, проявлявшие беспокойство за судьбу памятников
истории и искусства - «Вниманию "охраны" памятников искусства и старины. Фальконе-
товский "Медный Всадник" в опасности - изо дня в день приходится наблюдать,
как подростки копошатся на пьедестале памятника, лазят на лошадь и самую фигуру
Петра, царапают поверхность, изощряются в похабной литературе и т.д.» - «Жизнь
728
искусства». Пг., 1923. № 12. 18); они попадают и в стихи, ср.: «Обращение к хулиганам»
Валентина Горенского {Господа хулиганы. I Банты - I Красные банты наденьте - I
Ваше право, I Вы их достойны - I Непокорная закону орава, I Непримиримые
воины, I Из предместий городских протестанты - I Наденьте I Банты!... и т. п. -
в журнале «Бич» (Пг. Май 1917. № 19, 4) и др.
О петербургских мифах см. особо в другом месте, но их типы, хотя бы в общем,
должны быть названы: миф творения («основной» тетический миф о возникновении
города), эсхатологические мифы о конечной катастрофической гибели города,
исторические мифологизированные предания, связанные с императорами, видными
историческими фигурами, персонажами, покровителями, святыми в народном мнении и т.п.
(Петр, Иоанн Антонович, Екатерина II, Павел, Александр I, Николай И; Меньшиков,
Аракчеев, Распутин; Ксения, Иоанн Кронштадтский и др.), литературные мифы
(Пушкин, Гоголь, Достоевский, Блок и др.), «урочищные» и «культовые» мифы
вплоть до их привязки к «узким» локусам (Зимний дворец, Михайловский замок,
Юсупов дворец, Исаакиевский собор, фальконетовский монумент Петра, Летний сад, «ва-
сильеостровская» мифология - от «Уединенного домика» до Шефнера, сфинксы,
отдельные «дурные» дома, населенные привидениями или связанные с
мифологизированными событиями блокадной поры), мифы «явлений» (Петра, Павла, Ксении,
некоего неизвестного лица, выделяющегося своими свойствами, и т.п.), «языковые» мифы:
ономастические или ономастически-этимологические прежде всего - Маркизова
лужа, Васильевский остров, Васина деревня, Голодай, Охта, Мишин остров, Каменный
остров, Крестовский остров, Волкове поле, Коломна и т.п.). Некоторые из образцов
этих типов мифологизации носят более или менее случайные черты, возникают
почти ad Hoc, многовариантны. Время производит свой отбор среди них, и многое,
конечно, навсегда осталось достоянием прошлого: недостаточно мифологизированные,
такие версии-однодневки нередко дают почву для образования жанра исторических
анекдотов, казусов, интересных случаев. Нужно также отметить, что мифологизация
идет как сверху, так и снизу. Самый устойчивый из петербургских мифов связан с
монументом Петра, и этот миф, в известной степени объединивший и «верхи» и «низы»,
сам стал источником целого мифологического комплекса, в котором слиты разные
отдельные типы мифов из числа перечисленных выше.- О петербургском мифе ср.
фундаментальное исследование Lo Gatto Ε. Il mito di Pietroburgo. Storia, leggenda, poesia.
Milano, 1960 и др.; ср. также Долгополое Л. Миф о Петербурге и его преобразование
в начале века // Долгополов Л. На рубеже веков. О русской литературе конца XIX -
начала XX века. Л., 1977, 158-204.
Всё это в аккумулированном виде оживляется в том жанре прогулок по Петербургу,
обладающем не столько историко-литературной мемориальной функцией, сколько
функцией включения субъекта действия в переживаемую им ситуацию прошлого.
В таких случаях он как бы «подставляет» себя в ту или иную схему, уже отраженную
в тексте, отождествляет себя с соответствующим героем, вживается в ситуацию и
переживает ее как свою собственную. Рекреация прецедента не только связывает
субъекта действием (здесь и теперь) с тем, что было (и делает его как бы участником
сценария, отраженного в тексте), но и, возможно, дает ему некоторые полномочия
продолжать и развивать ту событийную линию, которая потенциально служит субстратом
возможным продолжениям Петербургского текста. Особую роль играют так наз.
«аккумулирующие» маршруты, когда синтезируется несколько ситуаций и суммируются
соответствующие переживания. Один из возможных вариантов - «Если бы раздавали для
описания петерб(ургские) места, я бы взяла такую трещинку -от Конюш(енной)
площади до храма. I - Вынос тела П(ушки) на. Лития. Конюш(енная) пл(ощадь).
II - Убийство А(лександра) II (Екат(ерининский) канал). III - Павел смотрит из окна
комнаты, где его убили, на павловц(ев), которые все курносые и загримир(ованные) им.
IV - Цепной мост ("Зданье у Цепного моста"). V - Дом Оливье (Пан(телеймоновская),
кв(артира) Пушкина). VI - Ворота, из кот(орых) вывезли народов(ольцев) и
Достоевского. VII - Дом Мурузи (Клуб поэтов и стих(отворная) студия 1921). VIII - Конюш(енная)
пл(ощадь). Заседание Цеха (поэтов) у Лизы (Кузьминой-Караваевой) (1911-1912)
729
и церковь на месте избы, откуда Лизавета (Петровна) ...» (Ахматова, из записных
книжек). В этом контексте находят свое место и практикуемые иногда прогулки-
импровизации, прогулки-фантазии, в которых важен лишь некий исходный
«литературно-исторический» импульс, прецедент. Далее же, когда душа настроится на волну
«прецедента-импульса», начинается некая creation pure, свободное «разыгрывание»
исходной темы, ее варьирование, новые синтезы и т.п., где уже можно выйти из-под
власти прецедента и создавать новую мифологизирующую инерцию.
• Ср. также мандельштамовское стихотворение «Веницейской жизни мрачной и
бесплодной...». В нем как раз и присутствует то, что объясняет, почему Петербург был
увиден поэтом как «полу-Венеция, полу-театр». Ахматова, которой принадлежит это
наблюдение, сама осторожно намекала на это «веницейско»-петербургское сродство
(ср. в «реальном» контексте Фонтанного дома и новогоднего вечера: Вы ошиблись:
Венеция дожей -1 Это рядом.... Но маски в прихожей, I И плащи, и жезлы, и венцы I
Вам сегодня придется оставить.., а также подобное же сопряжение городов: И
пришел в наш град угрюмый I В предвечерний тихий нас. I - О Венеции подумал I И о
Лондоне зараз; Р.Д. Тименчик напомнил слова В.Я. Парнаха, характеризовавшего
Петербург иностранной аудитории: «в некоторых своих аспектах он напоминает Рим,
Венецию и Лондон»), ср. также «Закат над Петербургом» Г. Иванова. Впрочем, в
начале века «итальянское» в Петербурге видели многие - и римское (ср. недавнюю статью
Г.С. Лебедева «Рим и Петербург: археология урбанизма и субстанция вечного
города», 1993), и веронское, и равеннское, и вообще «итальянское» без дифференциации,
но особенно, конечно, венецианское. «Все мне болезненно напоминает Италию, -
писал Городецкий Чулкову в письме от мая 1914 г. - Соловьевский переулок - пизанские
улочки... Мойка - Венецию. Чуть ли не символистом становишься - ужас какой -
в этих соответствиях». Алданов в рецензии на «Петербургские зимы» Г. Иванова
признавался, что «Петербург дореволюционного времени был, вероятно, самым
фантастическим городом в мире, напоминая, пожалуй, Венецию XVIII
века» и др.; ср. «венецианские» ассоциации у В. Арене («Фонтанка», 1915) и у Б.
Лившица («Фонтанка»: Что - венетийское потомство..?) и др., в том числе и за пределами
художественной литературы. Так, оставшийся в рукописи Голлербаха набросок о
Петербурге озаглавлен «Наша Венеция». Г.П. Федотов в «Трех столицах» писал: «Как
странно вспоминать теперь классические характеристики Петербурга... и слепому
стало ясно, что не этим жил Петербург. Кто посетил его в страшные, смертные годы
1918-1920, тот видел, как вечность проступает сквозь тление... В городе, осиянном
небывалыми зорями, остались одни дворцы и призраки. Истлевающая золотом
Венеция и даже вечный Рим бледнеют перед величием умирающего Петербурга. Рим -
Петербург... Петербург воплотил мечты Палладио». В этом отрывке особенно важно
наблюдение о вечности, проступающей сквозь тление, и сближение Петербурга с
Венецией именно по этому признаку, выступающему из тени именно в страшные годы.
Но венецианско-петербургские аналогии возникли, конечно, раньше. Поэтому
нет ничего неправдоподобного в том эпизоде из «Петра и Алексея», в котором Езоп-
ка, беглый «навигатор», русский невозвращенец, оставшийся в Италии, рассказывает
Ефросинье о Венеции: «Венеция вся стоит на море, и по всем улицам и переулкам -
вода морская, и ездят в лодках... Воздух летом тяготей, и бывает дух зело грубый от
гнилой воды, как и у нас в Питербурхе от канавы Фонтанной, где засорено...» (ср. там
же: «Дворец в Летнем саду также окружен водою с двух сторон: ступени крыльца
спускаются в воду, как в Амстердаме и Венеции»). Эти аналогии приходили в голову
естественно, если только человек умел видеть и сравнивать. И даже «антипетербургски»
настроенный Мицкевич в главе, посвященной Петербургу (из «Дзядов»), не может не
признать «венецианского» в Петербурге: Siyszai {car. - В.Г.), ze w Rzymie sq wielkie
palace: I Palace stajq, W e η e с k a stolica, I Co wpoi na ziemi a do pasa w wodzie I Ptywa,
jakpiekna syrena-dziewica, I Uderza car a: i zaraz w swym grodzie I Porznqi biot niste kanaiami
pole, I Zawiesii mosty i puscil gondole... I Ma W e η e с y j q, Paryz, London drugi, I Procz ich
pieknosci, poloru, zeglugi! И далее - U architektöw siawne jest przyslowie: I Ze ludzi rekq byi
Rzym budowany, /AWenecyjq stawili bogowie; / Ale kto widzial Petersburg, ten powie, I
730
Ze budowaty go chyba szatany. Описатель Гавани Иван Генслер тоже вспоминает
Венецию каждый год, когда вода, гонимая моряной, выступает из берегов и заливает
гаванское поселение. К этому жители Гавани давно привыкли и не обращают на
наводнение никакого внимания - «и не даром: очень часто вслед затем Гавань превращается в
Венецию: по улицам разъезжают гаваньские гондолы, челноки и барочные лодки.
Сосед к соседу повидаться едет на челноке; в лавочку едут на челноке» (Генслер.
«Гаваньские чиновники в их домашнем быту...», 1860). Ср.: Уварова И.П. Венецианский
миф в культуре Петербурга // Анциферовские чтения. Материалы и тезисы
конференции (20-22 декабря 1989 г.). СПб., 1989, 135-139 («театральность», «карнаваль-
ность»), а также статью автора этих строк - Италия в Петербурге //Италия и
славянский мир. Сборник тезисов. М., 1990, 49-81 и наст, кн., с. 623.
Особая тема Петербург и Рим, здесь она не рассматривается, но все-таки стоит
отметить, что она имела свои предпосылки еще задолго до основания Петербурга.
К «предыстории» этой связи невского устья и будущего Петербурга с Римом (и
Царьградом) от «Повести временных лет» (...и втечешь въ озеро великое Нево и
того озера внидетъ устье въ море Варяжское, и по тому морю идти до Рима,
а отъ Ρ и м а... ко Ц а р ю г о ρ о д у...) и Новгородской летописи (В льто 6808
приидоша изъ замория Свей в силь велиць в H e в у, приведоша изъ своей земли ма-
стеры, изъ великого Рима от папы мастер нарочитъ, поставиша городъ надъ
H e в о й, на усть Охты реки; речь идет о Ландскроне, 'венце земли', ее пределе,
ср. сходные описания Петербурга как края земли, ее конца, предела) - вплоть до
Мандельштама, - ср. «Камень» (особено: Природа - тот же Рим и
отразилась в нем...). Нельзя забывать, что Петербург - город, носящий имя апостола
Петра, христианского патрона Рима и посвященный ему; ср., наконец,
соотнесенность легенды об основании Петербурга с рядом мотивов предания об
основании Рима. О «римской» теме Петербургского текста, занимающей и в нем и в
петербургской истории особое место, - в другой работе. - Недавно намечен и «иеруса-
лимско-петербургский» аспект темы - Λ я брожу кругами по двору - I Как далеко
до тех прекрасных стран! I Но Бог повсюду помнит человека I И поутру IЯ здесь
похороню Мельхиседека, I И речка Черная пусть будет Иордан. IЯ Кану
Галилейскую найду I Здесь у ларька пивного, право слово! I... I Скользит черно-зеленая
вода, I Пускай века и люди идут - мимо -1Я поняла - никто и никогда I Не выходил
из стен Ерусалима (Шварц Е. «Новый Иерусалим»); о «вавилонско-петербургском»
аспекте см. ниже.
Ср. многочисленные примеры у Гнедича, Пушкина, Тютчева, Гоголя,
Достоевского, Некрасова, Блока, Андрея Белого, Ахматовой, Мандельштама и многих других.
Шпили и шпицы были предметом особой гордости петербуржцев еще с XVIII в., ср.
их перечень в богдановском описании Петербурга (1779). Описание петербургских
шпилей и шпицев в петербургских текстах могло бы составить своего рода
антологию, насчитывающую сотни примеров. Существенно, что шпили - та
принадлежность петербургского пейзажа, которая предельно удалена от петербуржца и к
которой он, кажется, реально, практически не имеет никакого отношения. Но при
существенной важности любой значительной вертикали в Петербурге и ее организу-
юще-собирающей роли для ориентации в пространстве города, шпиль вместе с тем
то, что выводит из этого профанического пространства, вовлекает в сакральное
пространство небесного, «космического», надмирного, божественного. Поэтому
петербургский шпиль, пусть на определенное время, в определенных
обстоятельствах, когда человек находится в определенном состоянии, приобретает и высокое
символическое значение. Именно тогда шпиль оказывается в «сильной
позиции»: он и источник эйфории, с одной стороны, и, с другой, он не просто
замечается человеком, но, как магнит, притягивает его внимание к себе и через
эйфорию воспринимающего его сознания-чувства как бы входит в эту «сильную
позицию», в которой только и возможна «сильная» связь человека и шпиля. Одно из
лучших описаний этого рода в русской литературе - в начале второй части гнеди-
чевской идиллии «Рыбаки»:
731
Уже над Невою сияет беззнойное солнце;
Уже вечереет; а рыбаря нет молодого,
Вот солнце зашло, загорелся безоблачный запад;
С пылающим небом, слиясь, загорелося море,
И пурпур и золото залили рощи и домы.
Шпиц тверди Петровой, возвышенный, вспыхнул над градом.
Как огненный столп, на лазури небесной играя.
Угас он; но пурпур на западном небе не гаснет;
Вот вечер, но сумрак за ним не слетает на землю;
Вот ночь, а светла синевою одетая дальность
Без звезд и без месяца небо ночное сияет,
И пурпур заката сливается с златом востока
Слиянье волшебное тени и сладкого света...
Петербургские шпили функционально отчасти соответствуют московским крестам:
нечто «вещественно-материальное», что служит для ретрансляции природно-космиче-
ского, надмирного в сферу духовного.
64 Помимо пушкинского варианта (...и светла I Адмиралтейская игла...) и
приводившихся в другом месте примеров из Достоевского, Гоголя, Белого, Ахматовой (с
соположением шпилей, блеск - отблеск вод), ср. у Блока: Золотая игла!/
Исполинским лучом пораженная мгла;-И во мраке над собором /Золотятся
купола.../ Пропадающих во м г л е; - А там, как призрак возрастая, I День
обозначил купола;- Гляделась в купол бледно-синий I Их обреченная
душа (ср. у Анненского: На синем куполе белеют облака, I И четко
ввысь уйти...) и сотни других примеров, часто в контрастном контексте. Ср. у
Некрасова: ...Но и с о л н ц а не видел никто. I Без его даровых благодатных лучей I
Золоченые к у η о л ы пышных церквей I И вся роскошь столицы - ничто.
I Надо всем, что ни есть: над дворцом и тюрьмой, I И над медным Петром, и над
грозной Невой... I Надо всем распростерся туман, I Душный, стройный, угрюмый,
гнилой... Ср. у него же: Помнишь ли... I Брызги, дождя, полусвет, полутьму? («Еду
ли ночью...»), ср. употребление полу у Мандельштама.
65 О мотиве несвободного, затрудненного дыхания, жесткого горького воздуха у
Мандельштама и Ахматовой см. в другом месте. Этот же мотив встречается и у Замятина
и некоторых других авторов, хотя и не столь отчетливо.
66 Или на мгновение: «... новый порыв горячо охватил его сердце, и на мгновение
ярким светом озарился мрак, в котором тосковала душа его» («Идиот»); «... вдруг,
среди грусти душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его
мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его.
Ощущение жизни, самосознание почти удесятерялось в эти мгновения,
продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все
сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в
какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды. Но эти
моменты, эти проблеск и... "Да, за этот момент можно отдать всю жизнь"»
(Там же); «Затем вдруг как бы что-то разверзлось перед ним: необычайный
внутренний свет озарил его душу. Это мгновение продолжалось, может быть,
полсекунды...» (Там же) и т.п.
67 Помимо хорошо известных примеров из Гоголя, Достоевского, Тургенева («Нева»),
Белого, ср. «Обыкновенную историю» Гончарова и некоторые другие. В несколько
ином плане - у Набокова («Другие берега»): «Когда прошли холода, мы много
блуждали лунными вечерами по классическим пустыням Петербурга. На просторе дивной
площади беззвучно возникали перед нами разные зодческие призраки: я держусь
лексикона, нравившегося мне тогда. Мы глядели вверх на гладкий гранит столпов ... и
они, медленно вращаясь над нами в полированной пустоте ночи, уплывали в вы-
732
шину, чтобы там подпереть таинственные округлости собора. Мы останавливались
как бы на самом краю, - словно то была б е з д н а, а не высота, - грозных каменных
громад, ив лилипутовом благоговении закидывали головы, встречая на пути всё
новые видения... Всем известно, какие закаты стояли знаменьем в том
году (осень 1917. - В.Т.) над дымной Россией» (тут же ссылка на подобные же
дневниковые свидетельства Блока).
В старой Москве роль таких «организованных» участков пространства несравненно
меньшая, чем в Петербурге, и сама локализация их иная; практически можно говорить
о трех таких московских локусах (причем поздних по происхождению) - Бутырском,
Марьинорощинском и Черкизовском, занимавших периферийное «северное»
положение.
Лучевые структуры, поздние сопряжения двух городских частей, каждая из которых
была организована (распланирована) порознь, и некоторые другие условия
порождают такое характерное явление, как «остроугольность» (изнанкой является
отчасти компенсирующая ее «тупоугольность»), т.е. соединение двух улиц под углом
меньше прямого, причем и угловой дом сохраняет ту же величину острого угла. В
пределах старого Петербурга таких «острых углов» насчитывалось 30-40, и они,
естественно, в большинстве своем сохранились. «Остроугольность» связана, между прочим,
и с пятиугольной структурой площадей, не исчерпывающихся только известными
«Пятью углами» на скрещении Загородного, Троицкой, Чернышева и Разъезжей. Как
городская «остроугольность» обусловливает домовую, так и домовая предопределяет
те остроугольные в одних случаях и тупоугольные в других комнаты, о которых писал
Достоевский и ряд других петербургских писателей, чутко-болезненно
воспринимавших феномен «неправильного» пространства, особенно когда она совпадает с жилым
пространством. Естественно, что нередко фиксируемые литературой остроугольные,
тупоугольные и вообще неправильной формы дворы тоже в значительной степени
зависят от остроугольности или тупоугольности внешних по отношению к ним
пространств.
Говоря о высоком коэффициенте «открытости» Петербурга, нужно помнить не
только о горизонтальной плоскости, в которой обычно «работает» взгляд (прямо перед
собой), но и о вертикали, которая открывает взгляду еще одно открытое пространство -
небесное. Его роль, как и роль небесной линии, значительно важнее для
петербуржцев или приезжающего в Петербург, чем для москвича, реже обращающего внимание
на небо и меньше замечающего его, в частности, из-за большей закрытости и «призе-
мленности» московского пространства. В Петербурге в «панорамных» позициях
(например, на Неве) небо огромно, а обычно невысокие дома на набережных
кажутся по контрасту еще ниже, как бы выступающими как обрамление огромной небесной
открытости. Обычная упорядоченность домов на лучших набережных по высоте
придает этой небесной рамке особое скромное изящество. Ср.: Лихачев Д.С. Небесная
линия города на Неве // Наше наследие. 1989, 1.
Ноев ковчег как метафора скученности, избитости до предела и разнородности
населения петербургского дома, жилища хорошо известна из текстов Достоевского. Но
еще раньше этот образ и именно в таком применении был употреблен Белинским в
статье «Петербург и Москва» из «Физиологии Петербурга» (1845): «Дом, где
нанимает он (петербуржец. - В. Т.) квартиру, сущий Ноев ковчег, в котором можно найти по
паре всяких животных. Редко случается узнать петербуржцу, кто живет возле него,
потому что и сверху, и снизу, и с боков его живут люди, которые так же, как и он,
заняты своим делом и так же не имеют времени узнавать о нем, как и он о них. Главное
удобство в квартире, за которым гонится петербуржец, состоит в том, чтобы ко
всему быть поближе - и к месту своей службы, и к месту, где все можно достать и лучше
и дешевле. Последнего удобства он часто достигает в своем Ноевом ковче-
г е, где есть и погребок, и кондитерская, и кухмистер, и магазины, и портные, и
сапожники, и всё на свете. Идея города больше всего заключается в сплошной
сосредоточенности всех удобств в наиболее сжатом круге: в
этом отношении Петербург несравненно больше город, чем Москва, и, может быть,
733
один город во всей России, где всё разбросано, разъединено,
запечатлено семейственностью. Если в Петербурге нет публичности в истинном значении
этого слова, зато уж нет и домашнего или семейственного затворничества: Петербург
любит улицу, гулянье, театр, кофейню, вокзал, словом, любит все общественные
заведения» (К.С. Аксаков в рецензии на «Физиологию Петербурга», опубликованной в
«Москвитянине» (1845. Т. 3. № 5-6. Отделение второе, 91-96), цитирует отрывок с
«Ноевым ковчегом»). Впрочем, Ноев ковчег в те же годы был знаком, хотя и в
несколько иной форме, и Москве. Ср. в «Очерках Москвы сороковых годов» Кокорева:
«Пошли бы, пожалуй, в дома, где точно вНоевом ковчеге, смешано самое
разнообразное народонаселение». После семнадцатого ситуация Ноева ковчега не
только не была снята, но в известном отношении приобрела черту дополнительной
зловещести. Этот образ снова возникает в «Пещере» Замятина (1922): «В пещерной
петербургской спальне было так же, как когда-то недавно вНоевом ковче-
г е: потопно-перепутанные чистые и нечистые твари».
Космос под этим углом зрения панхроничен (в нем сосуществуют все временные
планы), но направлен в будущее, которое - в определенные моменты - человеку, этот
момент почувствовавшему, раскрывает себя, как бы вызывая в нем, себе навстречу,
ясновидение. И это относится не только к тем «космизированным»
состояниям, когда наступает «гоголевская» ситуация, нередко приурочиваемая разными
писателями (и не только ими) именно к Петербургу - «Вдруг стало видимо во все концы
земли», но и к совершенно бытовым ситуациям - и осуществляется это тем легче, что
сам город идет навстречу человеку, делает себя ясно- и дальновидимым. Н.Я.
Мандельштам (Вторая книга. Париж, 1972, 608) пишет: «Похваляясь друг перед другом
силой зрения, Ахматова с Мандельштамом придумали игру, возможную только в
Петербурге с его бесконечными и прямыми улицами и проспектами: кто первый разглядит
номер приближающегося трамвая? ... Наигравшись с ней в трамвайную игру, он
поверил в силу ее зрения. Не потому ли в воронежском стихотворении он наделил осу
особым зрением?» (в более ранней статье Ахматова была названа им «узкой осой»).
Уже один из первых и основоположных фрагментов петербургского текста, во
многом определивший принцип его построения - «Медный Всадник», - представляет
собой текст аккумулирующего типа. Не говоря о ссылках в тексте этой «Петербургской
повести» на Верха, Вяземского, Мицкевича, Рубана, ср. такие специфические
переклички, как: «... взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на
великолепную набережну ю... сим чудесным смешением всех наций... я
сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга?
Может быть, сосновая роЩа, сырой дремучий бор или
топкое болото, поросшее мхо м... ближе к берегу - лачуга
рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд
скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался... какой-нибудь длинно-
власый Φ и н н... Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал
молчание пустыни дикой, мрачной, а н ы н е?... И воображение мое представило мне
Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне
столь прекрасные! ...Зд есь будет город, сказал он, чудо света. Сюда
призову все Художества, все Искусства... Сказал - и Петербург
возник из дикого болот а...» и т.д. (Батюшков. «Прогулка в Академию
Художеств», 1814) при: На берегу пустынных волн; И вдаль глядел (ср. пародийно: На
берегу Невы он стоял, как-то тупо уставившись... - «Петербург»). По мшистым,
топким берегам; Приют убогого чухонца; И лес... кругом шумел; Здесь будет город
заложен; Все флаги в гости будут к нам; Из тьмы лесов, из топи блат...; Где
прежде финский рыболов!... Свой ветхий невод, ныне там I По оживленныл берегам I
Громады стройные теснятся... (ср. выше о громадах),... корабли I Толпой со всех концов
земли... и т.д. Интересно, что уже в батюшковский текст включена характерная
цитата из М.Н. Муравьева («Богине Невы») и, видимо, мысли А.Н. Оленина («Канва его,
а шелк мой», - Письма к Гнедичу, сентябрь 1816 г.). Ср. также идиллию Гнедича
«Рыбаки» (1821): Вон там, на Неве, под высоким теремом светлым I Из камня,
134
где львы у порога стоят, как живы е... (ср.: Где над
возвышенным крыльцом /...как живые, /Стоят два льва сторожевые);
ср. далее: И пурпур и золото залили рощи и домы. /Шпиц тверди Петровой,
возвышенный вспыхнул над градом и т. д.; о перекличке с Карамзиным см. выше.
Другой пример аккумуляции-синтезирования - образ Парнока в «Египетской
марке»: «...Парнок, собственно, нисколько не создан Мандельштамом, это такой же кри-
тико-импрессионистический отвар из героев классической литературы - в Парноке
откровенно введен Евгений "Медного Всадника", Поприщин Гоголя, Голядкин
Достоевского; Парнок суммирует классического разночинца девятнадцатого столетия.
"Начертание" Парнока... почти такая же "критическая" "виньетка на серой бумаге",
какую в свое время для "Двойника" Достоевского чертил Анненский... здесь
повторяется ситуация двух Голядкиных, из которых второй, двойник-удачник, бредово
присваивает все преимущества, дразнящие оригинала-неудачника, первого Голядкина...
Такова "Египетская марка": "суммарный" оцепеневший герой, "суммарная" оцепеневшая
фабула и "суммарные" видения героя...» См.: Берковский Н. О прозе Мандельштама
(1929). Подробнее о «Медном Всаднике» в перспективе «Петербургского текста» - в
другом месте.
См. Аронсон М. К истории «Медного Всадника» // Временник Пушкинской комиссии.
1936. № 1,221-226.
В письме Лермонтова от 28 августа 1832 г. к М.А. Лопухиной рассказывается о
бывшем накануне небольшом наводнении (une petite inondation), о том, как вода
опускалась и поднималась (baissait et montait), a поэт стоял у окна, выходившего на канал, и о
стихотворении, вызванном этим наводнением - Для него я не родился I Этой синею
волной? I ...Всё, нем так гордятся люди, / Мой набег бы разрушал; I И к моей
студёной груди IЯ б страдальцев прижимал; I ...Не искал бы я забвенья I В дольном
северном краю; I Был бы волен от рожденья I Жить и кончить жизнь мою!
Ср. неопубликованную поэму Н.И. Гаген-Торн о Петербурге и Ладоге, где также
подчеркнут эсхатологический план. Ср. самый последний вариант - «медленной», почти
незаметной гибели города - в стихотворении А. Городницкого «Петербург»:
Провода, что на серое небо накинуты сетью, I Провисают под бременем туч, постепенно
старея. I Город тонет в болотах, не год и не два, а столетье, -1 Человек утонул бы,
конечно, гораздо быстрее. I У Кронштадтского створа, грозя наводненъем
жестоким, I Воды вспять повернули балтийские хмурые ветры. I Погружается город в
бездонные финские топи, I Неизменно и медленно - за год на полсантиметра I
...Вместо плена позорного выбрал он честную гибель I ...Современники наши увидят
конец его вряд ли. I Но потомкам когда-нибудь станет от этого жутко; I На волне
закачается адмиралтейский кораблик, I Петропавловский ангел крылом заполощет,
как утка. I... I Он уходит в пучину без залпов прощальных и стонов, I Чуть
заметно кренясь у Подьяческих средних и малых, I Где землей захлебнулись распахнутые,
как кингстоны, I Потаенные окна сырых петербургских каналов.
«Морское дно» - не просто поэтический образ высокой литературы, но отражение
ощущения переживаемой реальности. Ср.: «Я пошла на кладбище. Город был совсем
пустынный. Это трудно сказать даже, какой был город. Почему-то нам всегда
казалось, что это на дне моря, потому что он был весь в огромном инее ... Это
было застывшее царство какого-то морского царя. И кто-то пришел с земли и вот
ходит...» (рассказ Л.А. Мандрыкиной в кн.: Адамович Α., Гранин Д. Блокадная книга. М.,
1982, с. 58). Представление о Петербурге как гиблом месте, берущее свое начало со
времени основания города, уже в течение XX в. становится более острым и
напряженным - не просто болото, трясина, хлябь, но обиталище душ усопших, загробное
царство, место забвения и небытия - и заставляет обращаться для своего выражения к
языку античной символики. Характерно, что эти образы начиная с середины XX в.
становятся все более частыми именно в поэтической части «Петербургского текста»
чутко уловившей и конкретизировавшей предсказание поэта, сделанное накануне
гибельного шага - И его поведано словом, I Как вы были в пространстве новом, I Как
вне времени были вы, I И в каких хрусталях полярных, I И в каких сияньях янтар-
735
ных, I Там у устья Л е m ы - H е в ы.В августе 1958 г. Георгий Иванов вспомнит -
...Зимний день, Петербург. С Гумилевым вдвоем, I Вдоль замерзшей Невы, как по
берегу Л е m ы,1 Мы спокойно, классически просто идем, I Как попарно когда-то
ходили поэты. И уже в последние годы, как бы приходя постепенно в себя и заново
переживая недавнее прошлое. - Что за город, где улицы странно и страшно прямы? I
Что за тени знакомые издали машут руками? IИ над С m и к с о м-рекой что за
окна? Не окна ль тюрьмы? I Что за всадник и конь тщатся змея втоптать в серый
камень? (Халупович); И шуршала Нева - неопрятная мутная Л е m а; - И нету
обратного брода IВ реке, именуемой Лета,/ Где связаны смерть и свобода I
Сообществом тени и света (Городницкий) и др.; ср. «Плач по великому городу» Л. Кукли-
на (Умирающий город, вдоль тихо гниющей воды...).
78 Впрочем, «пожарная» тема в связи с Петербургом возникала не раз, ярче и
настойчивее других у Ремизова (но уже и у Достоевского в «Прохарчине»).
79 Ср.: Car Piotr wypuscU rumakowi wodze, I Widac, ze leciat, tratujqc po drodze, / Odrazy
wskoczyl ai na sam brzeg skaty. / Juz kon szalony wzniôst w gore, kopyta, I Car о nie trzyma,
kon wedzidiem zgrzyta, I Zgadniesz, ze spadnie i prysnie w kawaty! / Od wieku stoi, skacze -
lecz nie spada: / Jaka lecqca ζ granitow kaskada, I Gdy, scieta mrozem, nad przepasciq
zwisnie... / Lecz skoro sionce swobody zabtysnie, // wiatr zachodni ogrzeje te panstwa - /1 coz
sie. stanie ζ kaskadq tyraqstwa? (Mickiewicz. «Pomnik Piotra Wielkiego»).
80 Gdy sic najtçzszym mrozem niebo zarzy, / Nagle zsinialo, plamami czernieje, / Podobne
zmarzlej nieboszczyka twarzy, / Ktora sic w izbie przed piecem rozgrzeje, / Aie nabrawszy
ciepla, a nie zycia, / Zamiast oddechu, zionie parq gnicia, / Wiatr zawial ciepiy. Owe slupy
dymow, I Ow gmach powietrzny, jako miasto olbrzymow, / Niknqc pod niebem, jak czarow
widziadlo, / Runelo w gruzy i na ziemiç spadlo: 11 dym rzekami po ulicach ptynql, / Zmieszany
ζ ciepla depta i wilgotnq, / Énieg zaczql topniec i, nim wieczor minql, / Oblewal bruki rzekq
Stygu bqotnq. / [...] / Widac je tylko po latarek btyskach, I Jako plomyki bi^dne na bagniskach
{Mickiewicz. «Oleszkiewicz»).
81 Ср.: Вернадский C.B. Образ Петербурга в «Отрывке» III части «Дзядов»
А.Мицкевича и его роль в формировании литературной традиции города // Анциферовские
чтения..., 107-110.
82 Ср.; «Les nuages devinrent transparents, et je vis se creuser devant moi un abîme profond où
s'engouffraient tumultueusement les flots de la Baltique glacée. Il semblait que le fleuve entier
de la Néwa, aux eaux bleues, dût s'engloutir dans cette fissure du globe. Les vaisseaux de
Cronstadt et de Saint-Pétersbourg s'agitaient sur leurs ancres, prêts à se détacher et à disparaître
dans le gouffre, quand une lumière divine claira d'en haut cette scène de désolation» (Nerval.
«Aurélia»). - Ср. статью M. Уварова «Метафизика смерти в образах Петербурга»
(1993).
83 Ср. в «Поэме без героя»: Хвост запрятал под фалды фрака... I Как он хром и
изящен... Однако I Я надеюсь Владыку Мрака I Вы не смели сюда ввести? I Маска это,
череп, лицо ли-1 Выражение злобной боли, I Что лишь Гойя мог передать. I ...Перед
ним самый страшный грешник -1 Воплощенная благодать...
84 В связи с темой петербургской чертовни нужно напомнить об обостренном интересе
к этой теме у целого ряда писателей начала века, в частности символистского и
околосимволистского круга, и сам этот интерес отсылает не только, а может быть, и не
столько к изображаемому объекту, сколько к субъекту, этот объект изображающему.
Этим демоническим началом, как известно, были затронуты в той или иной форме
такие крупные фигуры, как Владимир Соловьев, Блок, Сологуб. Жизненный опыт
Соловьева, отразившийся и в его творчестве (ср. «Das Ewig-Weibliche», «Слово
увещевательное к морским чертям» и др.), показывает, насколько сильным был этот натиск
демонического и какие соблазны искушали поэта и философа. Этот трагический
опыт, эта борьба имели, конечно, не только личный, но и сверхличный характер.
Вл. Соловьев и Блок одними из первых приняли на себя эти удары «злого» начала,
которое вскоре вышло наружу и приобрело пандемический универсальный характер.
Эту трагедию мыслителя и художника нужно, конечно, отличать от моды на «чорта»,
от заигрывания и кокетничанья с этим демоническим началом. Впрочем, и мода, ко-
736
нечно, оказывается диагностически важным показателем духовного состояния
общества. Поэтому за внешней несерьезностью нередко обнаруживаются признаки пора-
женности глубоким кризисом. Так, в частности, надо расценивать объявленный в
1906 г. журналом «Золотое руно» (с № 5 по № 10 включительно)
литературно-художественный конкурс на тему «Дьявол». В состав литературного жюри входили Блок,
Вяч. Иванов, Брюсов и др., в состав художественного - Серов, Добужинский, Милио-
ти, Кузнецов и др. Участники собрались в Москве, было прочитано около 100
рукописей про дьявола и просмотрено до 50 изображений его. Первая премия не была
присуждена, вторую получил A.A. Кондратьев за сонет о Люцифере, напечатанный через
месяц в специальном «дьявольском» номере журнала. Премии получили также Куз-
мин и Ремизов (все эти писатели в это время были петербуржцами). Все написанное
на эту тему в начале XX в. могло бы составить достаточно обширный, но чаще всего
малооригинальный «текст дьявола», в котором ведущую роль играли петербуржцы.
Отчасти об этой тематике говорится в книге автора «Неомифологизм в русской
литературе начала XX в. Роман A.A. Кондратьева "На берегах Ярыни"» (Trento, 1990).
85 Есть некоторые основания думать о вовлеченности в эту тему Растрелли - Бартоло-
мео-Варфоломея (мифологизированная фигура архитектора в разных традициях
нередко «дьяволизируется» - «архитектор зла»). - Характерно, что в другом рассказе
Зоргенфрея дьявол Варфоломей появляется как провокатор («Отрывок из адской
хроники») (ср. и другие фрагменты петербургского текста у Зоргенфрея: От
утреннего режущего света I В глазах, m е м н о. И вижу наяву I Такое же удушливое
лето// Такую же пустынную Нее у. /Кана л, решетка, ветхие
колонны. I Вот здесь, сюда! Мне этот дом знаком. I Но вдруг
опять... («Герман»); к теме двойничества: Умер и иду сейчас за гробом -1 Сам за
гробом собственным иду... I Холодно. Пронизаны ознобом, I Понемногу разбрелись
друзья. I Вот теперь нас двое -я за гробом, /Ив гробу покойник - тоже я. I Всё еще
не видно Митрофанья. I Вот Сенная. Вот Юсупов сад... Ср. также: «Грозен
темный хаос мирозданья...» и особенно «Горестней сердца прибой...» с перекличками
с Блоком. См.: Чертков Л.В. А.Зоргенфрей - спутник Блока // Русская филология. 2.
Тарту, 1967). К близким мотивам см. красное домино в «Петербурге» (ср. там
же кимоно: «порхал в кимоно...; хлопало, как атласными крыльями кимоно; и
полетел... в кимоно...») и в стихах (ср. огневое домино. - «Маскарад»), явно соотносимое с
красной свиткой и ее мельканием в «Сорочинской ярмарке». Связь
«Санкт-Петербурга» с гоголевскими повестями не менее очевидна. В свете исполнения
провиденциальных мотивов Петербургского текста в русской литературе показательна
неопубликованная поэма Вагинова о Петербурге «1925 год». Ср. также у Зоргенфрея: А уж над
сенью Невских вод, /... I Всесветным заревом встает I Всепомрачающая скука... или
Крест вздымая над колонной, I Смотрит ангел окрыленный I На забытые дворцы,
I На разбитые торцы («Над Невой») и мандельштамовскую тему умиранья века:
В Петербурге мы сойдемся снова, I Словно солнце мы похоронили в нем или:
Ленинград! Я еще не хочу умирать..; Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, I
И каждый час нам смертная година.
86 Ср.: «звериное число» 666, связываемое народной молвой с Петром как антихристом,
«окаянным, лютым, змиеподобным зверем, гордым князем мира сего», как раз в
контексте основания Петербурга, повторяющееся в истории Петербурга и
Петербургского текста не раз, в частности, и в «Уединенном домике» Пушкина, его петербургской
гофманиане. Несомненно, отмеченным нужно признать и число 17 (как и содержащее
его в себе 317). «Германн сошел сума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м
нумере, не отвечает ни на какие вопросы, и бормочет необыкновенно скоро: - Тройка,
семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..» (глубоко укорененный в тексте «Пиковой дамы»
числовой символизм - прежде всего речь идет о трех, но и о семи - дает основания, тем
более учитывая, что символически - числовое значение туза - один, допускать
наличие связи 17 с символикой чисел 1, 3, 7, ср. 317).
Друг Блока, глубокий мистик Евгений Павлович Иванов, был первым, кто сказал
о мистической сущности этого числа и его «петербургскости» (стоит указать, что вер-
24. В.Н. Топоров
737
ность глубинного узрения может в иных случаях сочетаться с экстенсивностью,
случайностью и даже ошибочностью «эмпирических» мотивировок: действительно, в
петербургских текстах многократно отмечаются дома и квартиры № 17,17-е число,
семнадцатилетний возраст и т.п.). Но лучше процитировать Е.П. Иванова и дополнить его
минимумом примеров этого рода. «Кстати, число 17 - число Петербурга: глава
Апокалипсиса, в которой говорится о сидящей на водах многих на звере Блуднице - глава
17-я; вышина "Медного Всадника" - 17 1/2 футов, и вот нумер, в котором Германн
сидит - 17-й нумер: "Семерка" участвует», см. Иванов Е. Всадник. Нечто о городе
Петербурге // Белые ночи. Петербургский альманах. СПб., 1907, 82 (здесь же о связи
Медного Всадника с Блудницей: «Не блудница ли эта наш город, сидящий на водах
многих, со Всадниками своими, сидящими в нем на звере и на водах многих...? И кто
хочет видеть суд над Нею, тот ведется в духе бури на пустынную площадь
или на пустынную вершину скалы, где Всадник стоит, и видит он Блудницу и тайну на
челе се, и суд над нею в тайне Ее. Каков суд - такова и судьба и Ее, и наша и нашего
города со Всадниками его... Не во сне ль всё это вижу? Не сон ли это Всадника,
который снится Ему вот уже третье столетье?» (Там же, 77-78; стоит напомнить о
довольно распространенном сравнении Петербурга с Вавилоном и Вавилонской блудницей).
Ср. еще: «Раз как-то, при мне, она разыгрывала 17 № третьего акта "Марты" - Mag
der Himmel euch vergeben, - мой роковой мотив... Я объяснил ей, какое капризно-
странное значение имеет в моей жизни этот мотив. Тут она вспомнила, как в ту ночь,
в деревне, услыша эти звуки, я побледнел и отшатнулся» (Вс. Крестовский. «Не
первый и не последний. Недоконченные записки студента»); - «Мне кажется, что
единственное спасение страны - присылка нескольких дивизий иностранных войск... Еще в
августе я предсказал гибель России и назначил дату: 17 октября. В результате ошибся
всего на неделю» («Глазами петроградского чиновника»; автором дневника, из
которого приведена запись (кстати, от 29 октября 17-го года), был, видимо, Сергей
Константинович Бельгард); «17 октября 1888 г. он (Николай И. - В.Т.) первый раз чудом
избежит смерти, крушение царского поезда произошло недалеко от Харькова (и
впервые в его жизни эта цифра "17" является вместе с бедой» (Радзинский - «Господи...
спаси и умири Россию»); - «Как много мистики в его судьбе! Хотя бы это зловещее
для него число - 17! - 17 октября - крушение поезда в Борках, когда он чудом
остался жив, 17 января он столь неудачно первый раз показался русскому обществу. 17
октября 1905 года - конец самодержавия: в этот день он подпишет Манифест о первой
русской Конституции. 17 декабря гибель Распутина. И 1917 год - конец его Империи.
А в ночь на 17 июля - гибель его самого и семьи. И эта страшная кровь во время его
коронации - в ночь с 17 мая» (Там же и др.). - «На Васильевском острове, в глубине
семнадцатой линии из тумана глядел дом огромный и серый» (Белый.
«Петербург»). Из него-то «вышел незнакомец с тщательно оберегаемым таинственным
узелком».
Иногда складывается впечатление, что это число помимо воли (а иногда даже и
сознания) автора как-то спонтанно, беспричинно выскакивает наружу, и сам автор в
состоянии некоторой неловкости не знает, что с ним делать (ср.: «Позади красный
фонарь... и номер - 457. Почему-то сердце упало у Вассы Петровны... - "Василий
(кучер. - В.Т.), живей, голубчик!" - обратилась она к кучеру, про себя твердя без всякого
смысла: "457, 457. На что делится это число? Ни на два, ни на три, ни на пять, даже на
семнадцать не делится»». Кузмин. «Неразлучимый Модест»; эта нумерология
прекратилась только, когда Васса Петровна узнала, что Модест живет в
девятнадцатом номере). Три локуса числа 17 надо признать основными - возраст героя, дата
(чаще всего число месяца) и в составе адреса (номер дома или квартиры). Следует
отметить пристрастие к этому числу в так называемой «уголовной» прозе с ее
подчеркиваемой фактографичностью («Вечером семнадцатого сентября 1879 года
судебный следователь... Валериан Антонович Лаврухин был в гостях у своего соседа»).
Амфитетров. «Казнь»; «Следствием было установлено следующее: в ноябре
текущего (т.е. 1921-го) года - в среду такого-то числа около девяти вечера жильцы дома № 17
по Загородному проспекту...» Б. Папаригопуло. «Чертова свеча. Роман» и т.п.).
738
Нередко и место появления числа 17 в тексте является отмеченным (начало текста
или его части, во фразах, где отсылка к 17 носит «объяснительный» характер и т.п.).
Также некоторые авторы склонны к созданию «сгущений» этого числа
(показательный пример - К.Н- Леонтьев, хотя это уже выходит за пределы «Петербургского
текста»). Число 17 иногда включается как составная часть в другие числа. Так, в
«Автобиографических заметках» Бунин вспоминает: «...и Хлебников тотчас же стал
стаскивать с кровати в своей комнате одеяло, подушки, простыни, матрац и укладывать всё
это на письменный стол, затем влез на него совсем голый и стал писать свою книгу
"Доски Судьбы", где главное - "мистическое число 317"... И, разумеется, полетел в
Астрахань первым поездом. Приехав туда ночью, он нашел Хлебникова и тот тотчас
повел его за город в степь, а в степи стал говорить, что ему удалось снестись со всеми
317 Председателями, что это великая важность для всего мира... Я... избран ими
Председателем Земного Шара!» Число 317 играет важную роль и в «нумерологической
историософии Хлебникова. - Мистическим числом для Е.П. Иванова было и 313: в
письме к матери Блока 14 декабря 1907 г. он писал: «Я же пошел на "Дункан" с Сашей. И
сидела между нами Волохова на стуле № 313. "Тройка, семерка, туз"». Ср. также роль
в нумерологии «Петербурга» Андрея Белого мистически отмеченных годов - 1913 и
1954. - И еще о 17 в сегодняшнем Петербурге: «Почему всемнадцатой
квартире на четвертом этаже ... всегда живут нерусские жильцы? Конечно, евреи евреям
рознь, есть люди, а есть, с позволения сказать, вроде Фрейдкиных, которые предали
Родину, уехали за легкой наживой в государство Израиль» (Н. Катерли. «Сенная
площадь»: Петуховы, одному из которых принадлежит это размышление, живут
на том же четвертом этаже, в квартире № 18, рядом с семейством Кац). - Кстати,
начиная с Достоевского, четвертый этаж - одна из важных констант Петербурга,
о чем писалось уже ранее.
Тем интереснее, что посыл, исходящий от де Местра, был столетие спустя услышан
другим художником-историософом «петербургской» темы как существеннейшей
части историософии России, Волошиным, в важном с точки зрения Петербургского
текста стихотворении «Петербург» (1915, опубликовано в 1916):
Над призрачным и вещим Петербургом
Склоняет ночь край мертвенных хламид.
В челне их два. И старший говорит:
«Люблю сей град открытый зимним пургам,
На тонях вод, закованных в гранит.
Он создан был безумным Демиургом.
Вон конь его и змей между копыт:
Конь змею - "сгинь!", а змей в ответ - "Resurgam!"
Судьба Империи в двойной борьбе:
Здесь бунт - там строй; здесь бред - там клич судьбе.
Но вот сто лет в стране цветут Рифейской
Ликеев мирт и строгий лавр палестр»...
И глядя вверх на шпиль Адмиралтейский,
Сказал другой: «Вы правы, граф де Местр».
(к мотиву двоенья ср. другое стихотворение поэта - «Петроград», 1917: И враг что
друг и друг что враг - / Меречат и двоятся... - так).
Свидетельства «личного» и «историософского» текста «Заблудившегося трамвая»
тем более значимы, что он был подготовлен как другими профетическими текстами
(«Рабочий»: Пуля, им отлитая, отыщет I Грудь мою, она пришла за мной. I Упаду,
смертельно затоскую, I Прошлое увижу наяву, I Кровь ключом захлещет на сухую, I
Пыльную и мятую траву. I И Господь воздаст мне полной мерой I За недолгий мой
и горький век, отчасти - «Сон»: Застонал я от сна дурного...), так и собственно
«петербургскими» текстами, ранее не свойственными поэту. Лучший из них - «Ледоход»
(Уж одевались острова I Весенней зеленью прозрачной, I Но нет, изменчива Нева, I
24*
739
Ей так легко стать снова мрачной. II Взойди, на мост, склони свой взгляд: I Там
льдины прыгают по льдинам, I Зеленые, как медный яд, I С ужасным шелестом
змеиным. II ... II Река больна, река в бреду. I Одни, уверены в победе, I В зоологическом
саду I Довольны белые медведи. II ... II знают, что один обман - I Их тягостное за-
точенъе. I Сам Ледовитый океан I Идет на их освобожденье), с рядом точных
сигнатур образа города в Петербургском тексте (ср. у Ахматовой темы ледохода {На Неве
под млеющим паром I Начинается ледоход) и зоологического сада). -
«Петербургская» историософия незаметно выстраивается и из серии «синхронных» и как бы
холодно-объективных фиксаций петербургских «культурных» и «природных»
достопримечательностей в книге стихов Б. Лившица, написанных в 1914—1915 гг., «Болотная
медуза», завершающейся позже осуществившимся автопророчеством, подобным гу-
милевскому: Когда тебя петлей смертельной I Рубеж, последний захлестнет, IИ
речью нечленораздельной I Своих первоначальных вод II Ты воззовешь в бреду
жестоком I Лишь мудрость детства восприяв, I Что невозможно быть востоком, I
Навеки запад потеряв, - И Тебе ответят рев звериный, I Шуршанъе трав и камней рык, II
И обретут уста единый I России подлинный язык. II Что дивным встретится
испугом, I Как весть о новобытии, IИ там, где над проклятым Бугом I Свистят
осинники твои («Пророчество», 1915). Из волошинских осмыслений «петербургской»
историософии, помимо уже приводившегося выше «Петербурга», ср. стихотворение,
написанное спустя полтора месяца после переворота - «Петроград» (9 декабря 1917 г.):
Как злой шаман, гася сознанье I Под бубна мертвое бряцанье, I И опоражнивая дух, I
Распахивает дверь разрух, -1И духи мерзости и блуда I Стремглав кидаются на зов,
I Вопя на сотни голосов, I Творя бессмысленные чуда, -1 И враг что друг и друг что
враг - I Меречат и двоятся - так, / Сквозь пустоту державной воли, I Когда-то
собранной Петром. I Вся нежить хлынула в сей дом I И на зияющем престоле, I Над
зыбким мороком болот I Бесовский правит хоровод. I Народ, безумием объятый,
I О камни бьется головой I И узы рвет, как бесноватый... I Да не смутится сей
игрой I Строитель внутреннего Града - I Те бесы - шумны и быстры, I Они вошли
в свиное стадо I И в бездну ринутся с горы.
89 Похоже, что эта «небывалость» у Федотова - от Ахматовой, ср. Небывалая
осень построила купол высокий I ... I Было душно от зорь, нестерпимых,
бесовских и алых. I Их запомнили все мы - до конца наших дней... (1922), ср.: Все
голодной тоскою изглодано, I Отчего же нам стало светло? II Днем дыханьями веет
вишневыми /Небывалый под городом лес II... II И так близко подходит чудесное
I К развалившимся грязным домам... I Никому, никому не известное, I Но от века
желанное нам (1921).
90 Это, как и многие другие диагностически важные детали, снова отсылает к так
называемому «основному мифу», и связь с ним здесь, конечно, не генетическая (хотя
все-таки не стоит недооценивать глубину коллективной памяти и роли под- и
бессознательного в истории культуры), но ситуационная, и ситуация эта -
экстремальная: человек лицом к лицу с гибелью, и выход один - умереть, чтобы
родиться снова и жить. Иначе говоря: крайняя опасность - высшее из возможных
спасение: в духе.
91 Ср.: «Я проехал как-то вверх по Неве на пароходе, - пишет Блок в одном из писем к
матери, - и убедился, что ... окраины очень грандиозные и ρ у с с к и е» (1915).
92 Федотов Г.П. Лицо России. Сборник статей (1918-1931). Париж, 49-56.
93 «Такое положение современного историка - историка в собственном значении этого
слова - совершенно закономерно. Для него применение к историческим фактам
принципа телеологического невозможно и в самом деле: какая методика позволила бы ему
подходить к фактам с вопросом "зачем"? С крутого берега этого вопроса ему не
видится, ничего, кроме безбрежного моря фантазии. Но метаисторику нет надобности
суживать свои возможности до границ, очерченных каузальным подходом. Для него -
с крутизны вопроса "зачем" тоже открывается море, но не фантазии, а второй
действительности. Никаким фетишем он каузальность считать не намерен и ко многим
проблемам подходит с другой стороны, именно -с телеологическо й...
740
Если же историку будет угодно не видеть коренного различия между игрой фантазии
и метаисторическим методом - не будем, по крайней мере, лишать его того утешения,
которое он почерпнет в идее, будто сидение в клетке каузальности есть последнее и
длительнейшее достижение на пути познания». См. Даниил Андреев. Роза Мира. М.,
1992, 307-308.
94 «Метаистория потому и есть метаистория, что для нее невозможно рассмотрение ни
отдельной человеческой жизни, ни существования целого народа или человечества в
отрыве от духовного пред существования и посмертия. Стезя космического
становлении любого существа или их группы прочертилась уже сквозь слои иноматериально-
стей, ряды миров, по лестнице разных форм бытия и, миновав форму, в которой мы
пребываем сейчас, устремится - может быть, на неизмеримые периоды - в новую
чреду восходящих и просветляющихся миров... И пока мы не приучим себя к созерцанию
исторических и космических панорам во всем их величии, пока не привыкнем к таким
пропорциям, масштабам и закономерностям, до тех пор наши суждения могут мало
чем отличаться от суждений насекомого или животного, умеющего подходить к
явлениям жизни только под углом зрения его личных интересов или интересов крошечного
коллектива.
Наша непосредственная совесть возмущается зрелищем страдания - и в этом она
права. Но она не умеет учитывать ни возможностей еще горшего страдания, которые
данным страданием предотвращаются, ни всей необозримой дали и неисповедимой
сложности духовных судеб как монад, так и их объединений. В этом - ее
ограниченность. Столь же правильны и столь же ограниченны и все гуманистические нормы, из
импульса этой совести рожденные. - Метаисторическая этика зиждется на
абсолютном доверии. В иных случаях метаисторику может приоткрыться то, ради чего
принесены и чем окупятся такие-то исторические, казалось бы, бессмысленные жертвы.
В других случаях это превышает вместимость его сознания. В третьих - уясняется, что
данные жертвы и сами исторические обстоятельства, их вызвавшие, суть проявления
сил Противобога, вызваны наперекор и вразрез с замыслами Провиденциальных
начал и потому не оправданы ничем. Но во всех этих "случаях" метаисторик верен
своему единственному догмату: Ты - благ, и благ Твой промысел. Темное и жестокое -
не от Тебя.
Итак, на поставленный вопрос следует отвечать без обиняков, сколько бы
индивидуальных нравственных сознаний ни оттолкнуло такое высказывание. Да,
всемирной задачей двух западных сверхнародов ("романо-католического" и
"северо-западного". - В.Т.) является создание такого уровня цивилизации, на котором объединение
Земного шара станет реально возможным, и осуществление в большинстве стран
некоторой суммы морально-правовых норм, еще не очень высоких, но дающих
возможность возникнуть и возобладать идее, уже не от западных демиургов исходящей и не
ими руководимой: идее преобразования государства в братства параллельно с
процессом их объединения сперва во всемирную федерацию, а впоследствии - в монолитное
человечество, причем различные национальные и культурные уклады будут в нем не
механически объединены аппаратом государственного насилия, но спаяны
духовностью и высокой этикой. Этот процесс будет возглавлен всевозрастающим
контингентом людей, воспитывающих в новых поколениях идеал человека
облагороженного образа». См. Даниил Андреев. Роза Мира. 320-321.
Переклички с книгой К. Поппера «The Open Society and Its Enemies», которую Д. Андреев не
мог знать, при поразительном различии контекстов весьма показательны.
95 Какова цена крови в истории российской государственности и как она
отразилась в судьбах России - царевич Димитрий, Иоанн Антонович (Иоанн VI), Павел,
Александр II, последний российский император и наследник, если говорить только о
фигурах большого символического значения, и гигантское, всякую мыслимую меру
превышающее заклание своего собственного народа в нашем веке, - хорошо известно
уже сейчас, но известно ли, что это только еще часть всей цены, что Россия - храм на
крови, и цена крови еще не оплачена сполна и что без этой оплаты благой России не
быть?
741
1 Дифференцирующее значение понятия «петербургский текст» (как и
целесообразность введения самого этого понятия) особенно подчеркивается тем, что, с одной
стороны, даже самые петербургские писатели не только не укладываются всеми
своими произведениями в петербургский текст, но и - при переходе к другим темам -
могут кардинально изменить поэтическую систему, и, с другой стороны, тем, что
не все произведения, посвященные описанию Петербурга, входят в петербургский
текст. Следовательно, приходится предполагать наличие целого ряда типов текстов, в
большей или меньшей степени Петербургскому тексту. Изучение их представляет
несомненный интерес. Поэтому в заключение уместно привести пример того, каким
образом Петербург, став объектом описания со стороны писателя, весьма далекого от
петербургских тем и «петербургской» поэтики, имплицирует, тем не менее,
«петербургообразный» текст («петербургизирующий», ср. антикизирующий и под.).
Речь идет о рассказе Бунина «Петлистые уши». Герой его, «некто Соколович,
бывший моряк, пьет в дешевом ресторане, бродит в тумане по
Невскому (ср. у Блока: И матрос, на борт не принятый, I Идет, шатаясь,
сквозь буран или у Ахматовой: Пьяный поет моряк и Город в свой уходил туман) и
кончает убийством женщины, совершенным в соответствии с идейными
убеждениями (ср.: «Людей вообще тянет к убийству женщины гораздо больше, чем к
убийству мужчины. Наши чувственные восприятия никогда не бывают так
внимательны к телу мужчины, как к телу женщины, низкому существу того пола, который родит
всех нас, отдаваясь с истинным сладострастием только грубым и сильным самцам...» - и
далее). Известная аналогия с Раскольниковым возникает не случайно: указание на нее
содержится в самом тексте рассказа - «И вообще пора бросить эту сказку о муках
совести, об ужасах, будто бы преследующих убийц. Довольно людям лгать, будто они так уж
содрогаются от крови. Довольно сочинять романы о преступлениях с
наказаниями, пора написать ©преступлении без всякого
наказания ... - Я читал "Преступление и наказание" Достоевского, - заметил Левченко
не без важности...» - И затем та же тема возникает в характерном контексте, которому
есть параллели в романе Достоевского: «...ни этих ассирийских царей, ни Ц е з а р е й,
ни инквизиции ... ни Робеспьеров ... Как вы думаете... мучились все эти господа
муками Каина или Раскольников а? ... Мучился-то, оказывается, только один
Раскольников, да и то только по собственному малокровию и по воле своего злобного
автора, совавшего Христа во все свои бульварные романы».
В свете этих указаний и перекличек следует более внимательно отнестись и к
некоторым другим элементам рассказа, подключающим его к петербургскому тексту. Вот
основные из них (на уровне языка и на уровне мотивов) в той последовательности, в
которой они даны в рассказе (аналогии из Достоевского см. выше): «...в этот темный и
холодный день то возле Николаевского вокзала, то в разных местах
Невского проспекта... с непонятной серьезностью смотрел... на вереницу (ср.: Летит
в туман моторов вереница ... / Чудак Евгений бедности стыдится...
(«Петербургские строфы» Мандельштама, или: Их вереница мимо глаз усталых I Ненужно
проплывет («Жизнь моего приятеля» Блока), или Вот нагляделся, вот идет, I Вокруг него
шумит столица. I Мечтаний странных вереница IВ душе встревоженной растет («Вот у
витрины показной...» Сологуба и др. - В.Т.)) трамвайных вагонов... на ч е ρ н ы е
людские φ и г у ρ ы, на извозчиков и ломовых... на дроги, увозившие куда-то среди этого
движения нищенский, никем не провожаемый я ρ к о-ж елтый гроб; стоя
на Аничковом мосту, он сумрачно заглядывался на темную воду
(ср. сходные сцены с участием Раскольникова и Свидригайлова. - В. Г.), на
посеревши е от нечистого снега барж и; бродя по Невском у... Не
заметить и не запомнить его было нельзя... испытал чувство смутной
неприятности, какого-то беспокойств а... худой и нескладный, долгоногий... с
лицом мрачными сосредоточенны м... из числа тех странных
людей, которые скитаются по городу с утра до вечера единственно потому, что могут
думать только на ходу, на улице... в дешевом ресторане недалеко от
Разъезжей... в тусклой и холодной комнате за неуютным столиком у
742
стен ы... дуло ледяной сырость ю..., веяло в е τ ρ о м... тут был порог в
три ступеньки,- ход в коридорчик, откуда пахло кухне й... головы их
терялись всумраке ...п ристально посмотрел на пивную рекламу...
сказал Соколович скакой-то странной торжественностью... хвастались... и все
спорили, поминутно к ρ и ч а... за метил в сумрачном раздумь е... он
опять направился к Невскому. Яркое освещение Невского подавлял густой
туман, такой холодный и пронзительны й... отчаянно били ерзал...
силясь... вскочить, упавший на бок, на оглоблю, вороной ж е ρ е б е ц... (ср. мотив
забиваемой лошади в «Преступлении и наказании». - В. Т.) до слуха Соколовича донеслось,
что задавлен какой-то переходивший улицу старик ... (ср. задавленного на
улице Мармеладова. - В. Т.).
Он повернул на H e в с к и й. Некоторые обгоняли его, с удивлением
заглядывали ему снизу в лицо... пряча влажную от тумана челюсть в
ворот и косясь на мелкую черную толпу... От электрических столбов падали в
дым тумана угольные тени ... мешавшийся с летевшими
по ветру дымными волнами... где в ледяной мути... которым
казался Невский, терялась бесконечная цепь... трамвайных о г -
ней... Он наискось пересек Аничков мости пошел по другой стороне
проспекта. Ветром и туманом понесло сильнее, вдали, в темной и
мглистой высоте, означился красноватый глаз часов на б а ш н е городской
думы. Соколович остановился и довольно долго стоял... исподлобья оглядывая
бесконечно и медленно проходивших мимо...
проституток ... Потом он зашагал дальше, дошел до обезглавленного туманной
темнотой Казанского с о б о ρ а ... Там, втесной толпе... он сел в τ е м -
ном у г л у ... осаждаемый толпой ... Ночью в туман Невский
страшен. Он безлюден, мертв, мгла, туманящая его, кажется частью той
самой арктической мглы, что идет оттуда, где конец мира ... до нутра
продрогшие от ледяной сырости... и лица некоторых из них поражают таким н и -
чтожеством черт, что становится жутко ... она вдруг загородила
дорогу... по Невскому ... вдожде или тумане... далее, по
туманным улицамипереулкам, втаинственную глушь...
Вздрогнула... вдруг... остановиться возле двухэтажного ... дома с вывеской: "Номера для
приезжающих Белград" (ср. описание "Андрианополя" и последней - перед
самоубийством - ночи, проведенной в нем Свидригайловым, с целым рядом существенных
совпадений. - В.Т.). Было уже без четверти два, место было глухое... по
затоптанному половику ... в полутемном коридоре... распахнул дверь в ...
д у ш н ы й ... н о м е р, половину окна в котором наискось загораживала
крыша... За о к н о м, за ч е ρ н ы м и стеклами, глухо раздавались
голоса, слышался шум... В четы ре часа задребезжал в коридоре
звонок... Снова очнулся он только вседьмом часу... Было еще совсем
темно и тихо, но в этой темноте и тишине уже чувствовалось близкое утро ...
Фонарь, стоявший со своей черной тенью против гостиницы, освещал
часть мостовой и улицы. Туман рассеялся ... громада теса,
возвышавшаяся из-за забора за фонарем, траурно белела на черноте ночи. Соколович
повернул направо и скрылся вдали... в номере было так страшно
тихо, как не бывает, когда есть в нем хотя бы и спящий человек, трещали
догоравшие ... свечи, всумраке бежали τ е н и». Ср. в написанном тоже в
1916 г. стихотворении «На Невском»: ...Каретный кузов быстро
промелькнул /... / Все пронеслось искры лось за м о с m о м, I В темнеющем
буране...Зажигали/Огни в несметных окнах вкруг меня,
/Чернели грубо баржи на канал е,1 И на мосту... /Дымились клочья
праха снегового ... I Всю жизнь я позабыть не мог / Об этом вечере бездомном.
Именно эти «петербургизирующие» элементы и делают названный рассказ не
только отмеченным, но и уникальным в творчестве Бунина (о влиянии Достоевского
на этот рассказ Бунина см. Долгополое Л. На рубеже веков, 183-184, 306-308).
743
97 Показательно, что и сам по себе гроб, как и похороны, могила и кладбище, равно
обязанные своим происхождением и природе и культуре, постоянно появляются в
Петербургском тексте. Один из мотивов, идущих от позднего Пушкина, - тесная и
сырая (заполненная водою могила, о чем см. также у Достоевского, Некрасова и др.)
могила; ср. также могилу в мерзлой земле: Вместо грязи, покрыто кладбище /
Белым снегом; сурово-пышна I Обстановка; гроб бросят не в лужу, I Червь не скоро в
него заползет I... I Бедняки пускай осенью мрут, (Некрасов) и мотив ранней смерти
Бозио холодной зимой у Некрасова и Мандельштама. Другой мотив -Даже ты, Вар-
сонофий Петров, I Подле вывески «делают гробы» I Прицепил полужоные скобы I
И другие снаряды гробов, I Словно хочешь сказать: «друг-прохожий»! /Соблазнись -
и умри поскорей! I ... I Непрестанные нужны заказы / ... / Ничего! обеспечен твой
труд I... / Не робей, Варсонофий Петров! (Некрасов. «О погоде» III) при - А рядом:
«Henriette», «Basile», «André» / И пышные гроба: «Шумилов старший» (Ахматова.
«Предыстория», ср. по соседству -А в Старой Руссе пышные канавы). Типичный
петербургский штрих - ярко окрашенный гроб. - Особо ср. кладбищенски-могильную
тематику в «Бобке» Достоевского.
98 Некоторые темы-идеи (закат, туман, ветер, метель, наводнение и т. п.) образуют
особые «подтексты» Петербургского текста. О них - в другом месте.
99 Об «одористическом» и «акустическом» кодах писалось в одной из ранних работ, как
и соотношении их с «зрительным» кодом.
100 Ср. из записей А.Г. Достоевской: «Ф.М. часто упоминал о цвете "масака" ... но
никогда не мог определить, какой это цвет ... Вообще Ф.М. плохо различал цвета». См.
Гроссман Л.П. Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1923, 60. Ср. также: гроб,
обитый бархатом цвета масака в «Вечном муже».
101 Пушкинское ...затем, / Что не в отеческом законе I Она воспитана была, IА в
благородном пансионе I У эмигрантки Фальбала («Граф Нулин») дважды отразилось
в «Двойнике» Достоевского: «Чем бы дома держать ее смолоду, а они ее в пансион,
к эмигрантке Фалъбалъ... А она там добру всякому учится у эмигрантки-то
Фальбала»; «Вы здесь не у эмигрантки Фальбала, где вы благонравно
учились» (позже ср. у Добролюбова: Учились, бедные, вы в жалком пансионе /
Француза Фальбала- «Мотивы современной русской поэзии»), см. Альтман М.С. У
истоков имен героев Достоевского // Сравнительно-историческое изучение
литературы. К 80-летию М.П. Алексеева. Л., 1976, 53-54. - Ср. еще до Достоевского:
«Непременно надобно было объяснить ей ... широка ли фальбора на наволочках»
(Погодин. «Черная немочь», 1829), а после него у Панаева в «Провинциальном
хлыще» (1856): «А пуще всего меня беспокоит это модное тряпье: блонды да
гипюры, да шляпки, да эти разные фальбаллы. Еще, пожалуй, не угодишь», но
даже в самом конце века у И. Коневского: «мелькают обтрепанные лоскутки и оборки
щегольской фалбалы» («Предводящий протест новых поэтических движений /
Стихи Лафорга»).
102 Ср. основной корпус такого рода примеров в «Петербургских трущобах» (в их
последовательности в романе; в скобках, где есть необходимость, указывается значение):
«С тех самых пор Юзич решил, что не следует заниматься таким неблагодарным
ремеслом, за которое хозяева выгоняют в шею да еще вором обзывают всеартельно, а
лучше-де призаняться искусством свободным - хотя бы на первый случай
карманным, а там швецовым или скорняжным, а затем ... можно и в ювелиры (воровское
искусство высшего класса; до этого упоминались швецы-рукодельники, т.е. воры,
специализирующиеся на кражах платья) начистоту записаться. И стал он, раб Божий ...
лыжи свои направлять с площади на улицу, с улицы в переулок, из трактира в кабак,
из кабака в "заведение" и всё больше задними невоскресными ходами
(замаскированный вход в заведение) норовил, с тех темных, незаметных лесенок, по которым
спускается и подымается секрет, то есть свои, темные людишки ... там он и резиденцию
свою основал, и незаметным образом пристал к ершовскому хороводнику (участник
воровской шайки из трактира "Ерши")... Ершовцы же в Александрийском театре не
столько искусством артистов пленялись, сколько рыболовному промыслу себя по-
744
свящали - "удили камбалы и двуглазым (лорнет, бинокль) спуску не давали"»;
«Маклак пронзительно устремляет взор свой в глубину его замшевой мошонки, и чуть
заметит там относительное обилие бабок (деньги) - как он там, значит, финалы
(ассигнации) шуршат, либо цари-колесники (серебряные деньги) мало-мальски вертятся ...
тотчас же дружески хлопает он мужичонку по плечу ... С буфетчиком у них давно
уже печки-лавочки - дело зарученое - свои люди - только глазом мигнет, так у того
уж и смекалка соответствует»; «А мне почем знать - тебя спрашивал! ... Возьми
зеньки в граблюхи, да и зетъ вон сквозь звенья! Может, и фигарис какой! (возьми
глаза в руки и смотри сквозь стекла! Может, сыщик какой) ... - Который это? что в
шельме (шинель) камлотной сидит, что ли? ... - Тот самый... Гляди, не фигарис ли ка-
плюжный (полицейский)... - Нет, своя гамля (собака)»; - «Другу Борисычу! ... Клей
(выгодное воровское предприятие) есть! - Ой ли, клевый (хороший) аль яманныи!
(негодный)... - А как пойдет: в слам (воровская доля) аль в розницу (вся выручка
одному). - Известно, в слам! Тебе, коли сам работать станешь, двойную растырбаним
(распределять выручку). Вот видишь, мухорта (любой человек, не вор), что со мной
сидел? ... Так вот ему темный глаз нужен (фальшивый паспорт) На кого? на себя? -
спросил Борисыч. - Нет, маруший (женский) нужен» (по соседству - любопытное
разъяснение: имя отсутствующего товарища мазурики избегают называть, «стараясь
выражаться более местоимениями: тот, этот, наш, или существительными вроде:
знакомый человек, нужный человек и т.п.; ср. совсем в ином стиле и жанре - «На
берегу пустынных волн / Стоял он дум великих полн...», при том, что в этой
экспозиции имя Петра не называется, но он отмечено курсивом; лишь далее, в
«литературно-панегирической» части и то лишь косвенно оно вводится (Петра творенье, град
Петров. - В. Т.) - «... Ив углах сваливается всё натыренное (наворованное) ...
Приобретает он тыренное то на смарку трактирного долга, то на хрястанъе с канновкой
(т.е. с водкой) ... Отсчитывает он в этом случае гроник да конику, а получает
колесами (соотв. - грош, копейка, рубль)»; «хорошо известно, что Пров Викулыч
занимается спуркой (скупка и перепродажа краденых вещей), все они именно и собрались
сюда не за чем иным, как только попурить (сбыть ворованное) ему тыренное»; -
«Что стырил ... - Да что, друг любезный, до нынче все был яман (плохо) ... а
сегодня, благодарение Господу Богу, клево (хорошо) пошло ... - Еще б те маху! Шмеля
срубил, да выначил скуржанную лозанку! (вынул кошелек да вытащил серебряную
табакерку)... - Мешок во что кладет веснухи? (барышник во что ценит золотые
часы?) ... Клей (всякая воровская вещь) не дешево стоит ... - А какой клей-mol - Да
канарейка с путиной (часы с цепочкой), как есть целиком веснушные ... Я по чести,
как есть, три рыжика правлю (просить три червонца). - Какими? рыжею Сарою?
(полуимпериал)»; - «Просто, брат, страсть! Вечор было совсем-таки влопался\
(попался в воровстве) да спасибо, мазурик со стороны каплюжника дождевиком
(камень) - тем только и отвертелся! А Гришутка - совсем облопался (взят полицией и
доставлен в участок или тюрьму), поминай как звали! Стал было хрять (бежать) в
другую сторону, да лих, вишь ты, не стремил (не смотрел, не остерегался), опосля
как с фараоном (будочником) справились; а тут стрела (патрульный казак)
подоспела вдогонку - ну и конец! Теперь потеет (сидит в части); гляди, к дяде на поруки
попадет (попасть в тюрьму), коли хоровод не выручит. - Значит, скуп (общая
складчина на выкуп попавшегося) надо? ... Значит, скуп\ Парень, братцы, клевый, нужный
парень! Отначиться (откупиться) непременно надо. - Сколько сламу потребуется?
... - Обыкновенно на гурт: слам на крючка, слам на выручку да на ключая (соотв. -
взятка, полицейский письмоводитель, квартальный, надзиратель, следственный
пристав)»; «Значит, можно в ход помадку (метод действия и приемов при совершении
кражи) пускать? ... А коли облопается да клюю прозвонит? (а если попадется и на
следствии приставу расскажет?)»; «Ну-с, а теперь затыньте-ка (скройте, заслоните),
братцы, хорошенько!»; «Нешто стырен? - Амба\ ... Амба\., так вот как! В домухе-
опатрулено (амба - убить, удар насмерть; домуха - дом; опатрулить - отобрать в
квартире). - Клевей, брат! почти что на гопе (в поле или в лесу) ... не заставь руку
расходиться! - ломоту (побои) задам добрую»; - «Да пусть приготовит мне ерша в
745
салфетке (бутылку шампанского, обернутую салфеткой)»; «... гнусным тенорком
"отхватывал" какую-нибудь чибирячку (песню со скандалезным характером)»; «Ма-
крида потянулась туда же с книжкой, на переплете которой "для близиру" (для виду)
лежало несколько медяков»; «А! ... Грызуны (нищие) привалили! Много ль
находили, много ли окон изгрызли! (просить милостыню) ... Ничего; звони (говорю) знай,
как звонилось»; - «Гречка выпучил глаза от изумления. - Труба\.. (вздор, пустяки)
Зубы заговариваешь! (сбиваешь в толку) ... - Ну, так лады (хорошо) ... - Стачка
(сделка, уговор) нужна ... за подвод (устроить предварительную подготовку дела)
половину сламу ... я, значит, в помаде (воровство), я и в ответе. - А коли на фортунке
к Смольному затылком (провоз преступника к эшафоту на позорной колеснице),
тогда как? ... Не бойся, милый человек: свою порцию миног сами съедим (принять
наказание плетьми)»; - «Как, и ему тырбанить! (угодить в тюрьму) ... А мы вот так:
у херова (пьяного) дочиста вызнаем ... - Ходит\ (идет, согласен)... - Надо бы рабо-
тить (обделывать дело) поживее ... Он, значит, осюшник (двугривенный) на
косушку сгребал ...» и т.п., ср.: мухортик (партикулярный человек), Алёшки (из лакеев),
Жоржи (из мошенников), захороводить (подговорить на воровство прислугу в доме),
на особняка идти (заниматься воровством в одиночку), мазы (опытные воры, ср.
патриарх мазов), звонки (ученики мошенников), кирюшка (палач, ср. имя реально
существовавшего в Петербурге палача Кирюшки), Кирюшкин брат (палач), золотая
тырка (очень удачное воровство), ошмалаш (ощупка), трекнуть (неосторожно
толкнуть жертву во время кражи, создавать давку), что звякало-то разнуздал!
(распустить язык), прихрякнуть (приехать), псира (собака), рахманно (прекрасно),
шишка (портмоне), финажки (ассигнации), на шарап (приступом, на ура), облопаться да
за буграми сгореть (попасться да в Сибири пропасть), приткнуть (убить), Кирюш-
кина кобыла (инструмент, на котором наказывали плетьми), граблюха (рука),
голову на рукомойник (зарезать), фига (шпион, сыщик), стремчаговый (трехрублевый),
выседки, на выседках (заключение на известный срок, по приговору суда),
подворотня (служитель-привратник), потемчиха (тюремная похлебка), голодная (уголовная
палата), с нашим нижайшим почтением отпустят (оставят в сильном подозрении),
жирмашник (гривенник), ламошник (полтинник), треки да синьки (трехрублевые и
пятирублевые), жулик (маленький острый ножик), жиган (каторжник), стрелец саво-
тейный (беглый сибирский бродяга), куклим четырехугольной губернии (бродяга,
не помнящий родства), отабуниться (собраться в кучу), двадцать шесть
(берегись!), почеши ногу (как же, дожидайся), без глаз ходить (быть без паспорта),
серенькая (кредитный билет в 50 рублей), радужная (кредитный билет в 100 рублей), серо
еще (неизвестно, как пойдут дела), мокро (опасность), снег (неудача), самодуринское
(вино или зелье, с подмешанным дурманом), темную накрыть (покушаться на
убийство удушением), взять на храпок (способ удушения), принакрытъ мякотью
дыхало (удушить, закрыв подушкой рот и ноздри), лататы (удрать), оказать нижайшую
благодарность (оставить в подозрении), потемный (убитый, задушенный), маз (вор,
заправляющий воровством), тырбанка (дележ добычи), краля (благородная дама),
проюрдонить (промотать, прокутить), капчук (сто), калыман (прибавка), кафя
(копейка), жирмабешь (двадцать пять), скипидарцем попахивать (подозревать),
бубновый туз в кандалах (приговоренный к ссылке в Сибирь), татебные (заключенные
преступницы, которые не ходят обедать в общую столовую), присяги (белый
передник), ширманы (карманы, ср. ширманам чистка, граблюхами по ширманам), с онику
(термин карточной игры), бирка (паспорт), липовый глазок (поддельный паспорт),
картинка (вид на жительство, паспорт), гопать (шататься), накидалище (верхняя
одежда), голуби (белье), шифтан (кафтан), ухлить (глазеть), затемнить (убить),
селитра (солдат, конвоирующий преступника), зеньки не заухлят (чужие глаза не
увидят), канька (копейка), трешка (три копейки), пискалик (пятак), звонить (просить
милостыню), склеиться (согласиться), шемяга (платок), ни канъки не скенит (ни
копейки нет).
103 Ср. номенклатуру рабочих на петербургской бойне - башколомы, нутрянщики,
резаки, кишечники, гусачники и т.п. (Бахтиаров), карточных игр - безик, макао, винт,
746
бакара, мушка и т.п, не говоря уж о более широко известных названиях, воровскую
номенклатуру и т.п., формирование административной, юридической, хозяйственно-
экономической, научной, философской и т.п. терминологии. Светская «бонтонная»
терминология и фразеология также не отставала от других областей, хотя от многих
из них она отличалась быстрой сменой мод. Ср.: «Слово пикантно я здесь (в Деми-
довом саду - "Демидроне". - В.Т.) впервые услышал, - модное и очень характерное
слово, сменившее шик, шикарно пятидесятых годов и риголъбош, ригольбошно
шестидесятых. - Как, что и почему "пикантно", - я сразу понял, когда увидел и услышал
на сцене "Демидрона", "неистощимо-веселую" Альфонсину, знойно-тропическую
Кадуджу, игриво-гривуазную, как шампанское, Филиппо, доводившую мимическое
объяснение "лямура" до физиологической откровенности», см. Михневин В.
Петербургское лето. Фельетонные наброски. СПб., 1887, 141 («1-е мая по дневнику
старого фланера»). Петербургская хроника (особенно с середины прошлого века) пестрит
неоценимым материалом по лексике и семантике, не говоря о фразеологии, весьма
часто не получившим отражения в словарях русского языка, а если и получившим, то
обычно без учета наиболее подвижных элементов, определявших моду в ее
изменениях, а следовательно, и часть русской культуры в ее «петербургском» варианте.
Источники фиксируют немало любопытных примеров варьирования формы слов, в
частности под влиянием установки на осмысление в «народно-этимологическом»
плане (ср. название гувернантки в повести Победоносцева «Милочка» - говорнянька
и т.п.).
Эти «народно-этимологические» игры функционально, по сути дела,
сопоставимы с опытами звуковой организации текста в художественной литературе, прежде
всего, конечно, в поэзии. Речь идет, с одной стороны, о творческом опыте анаграм-
мирования таких больших поэтов, как Пушкин, Вяч. Иванов, Ахматова,
Мандельштам и др., а с другой, об анаграммировании ключевых слов-символов, вокруг
которых в поэзии Петербургского текста - явно или тайно, сознавая это или
подсознательно - кристаллизовались своего рода анаграмматические структуры (или поля).
Центральным словом в этом ряду, бесспорно, является Нева. Учитывая критерии
сознательного или, так сказать, подсознательно-интуитивного, «случайного» анаграм-
мирования, а также очень различные «разрешающие» способности читателя в
отношении опознавания этого явления и даже вообще знания о существовании его,
уместно обозначить прежде всего бесспорные примеры. Бесспорность ядра анаграмми-
руемого слова обычно приводит к эффекту «высвечивания» того, что без этого
ядра, источника света, было бы незамечено. Будучи же замеченными, эти «неполно-
анаграмматические» фрагменты также вступают в игру и не столько размывают
бесспорное, сколько поддерживают его, образуя «плавные» подступы к ядру и отступы
от него. Предрасположенность слова Нева к анаграммированию подтверждается
десятками (если не более) примеров, из которых здесь достаточно указать немногое.
Ср.: Где прежде финский рыболов / ... / Бросал в_ неведомые воды / Свой ветхий
невод I... I... ныне там I... I В гранит оделася Нева. / Мосты повисли пае., водами:
Но силой ветров, от залива I Переграждеццая Нева / Обратно шла гневна,
бурлива... (ср. также: ... стройный вид, / Невы, державное теченье. / Береговой ее
гранит; - В неколебимой вышине, / Над, возмущенною Невою I... I Кумир на
бронзовом коне (к стройный вид ср. другое характерное петербургское описание: Город
пышный, город бедный, /Дух неволи, стройный вид. I Свод небес зелено-бледный, /
Скука, холод и гранит...); ... Вкруг него / Вода и больше ничего - у Пушкина; «И от
тех небылиц, надуваясь, Нева и ревела и билась в массивных гранитах» у Белого; О,
как не внять зловествованъю / Невы, когда, преодолев. / Себя и гневы младших Нее.
I Истощена вседневной данью ... - А там - из синевы Невы / Не вырастет ли знак
прощальный? и др. - у Б. Лившица; И весь траурный город плыл I По неведомому
назначенью, / По Неве иль против течения, -1 Только прочь от своих могил; -Ян£
взглянула на Неву! ... IИмн<е_ казалось - наяву. / Тебя увижу, позабытый - у
Ахматовой; - Нева - как вздувшаяся вена: -Декабрь торжественный сияет над / Невой.
/Двенадцать месяцев, поют о смертном часе (с вариациями); Цо как Медуза невская
747
волна I Мне отвращенье легкое внушает - у Мандельштама и др. Ср. также
известную в русской поэзии игру сталкивания Нева - небо.
В свете последующих опытов и учитывая, что Петербургский текст как
определенный литературный конструкт внутри себя времени не различает, уместно
поставить вопрос о пред-анаграмматической стадии разыгрывания звуковой темы Невы
до Пушкина. Действительно, Нева, часто упоминаемая в поэзии XVIII в. (прежде
всего в одической), во многих случаях оказывается в н-в-, в-н- контекстах, однако
обычно слабо организованных. Не входя здесь в этот вопрос подробнее, стоит, пожалуй,
выделить одного поэта - М.Н. Муравьева, автора стихотворения «Богине Невы»
(1794). Этот выбор объясняется не только ключевым для этого стихотворения
местом, для своего времени довольно искусно организованного в звуковом отношении:
Протекай спокойно, плавно, / Горделивая Нева. / Государей зданье славно / И тени-
сты острова - но и еще, по крайней мере, двумя обстоятельствами: высоким
уровнем звуковой организации в лучших образцах поэзии Муравьева («Ночь», «Зрение»
и др.) и если не влиянием его на последующую поэзию, то во всяком случае учетом
ряда муравьевских опытов и прежде всего этого стихотворения Батюшковым и
Пушкиным (ср. позднейшие ориентации на Прах великого Петра'. / Я люблю твои...;
И амуры на часах; - Полон вечер твой прохлады; Берег движется толпой...; Зрит
восторженный Пиит, / Что проводит ночь бессонну, / Опершися на гранит. То,
что Муравьев, поэт до сих пор не оцененный (хотя нередкая недоделанность его
стихов действительно может помешать высокой оценке его), был замечен и
Батюшковым и Пушкиным, которые учли Муравьева именно в своих описаниях Петербурга,
далеко не случайно. Кроме того, в историко-литературной перспективе несомненен
его вклад в Петербургский текст в ряде тонких деталей. Ему удалось заметить в
Петербурге не только туманы, которых до него старались не замечать, но зыбь, тонкий
пар, тонкую тьму, первый опыт русского литературного «пленеризма»: Ты велишь
сойти туманам — / Зыби кроет тонка тьма или Тонким паром ты восходишь I На
поверхность вод своих в стихотворении о «Неве». Эта образность много позже
была учтена и усвоена формирующимся Петербургским текстом.
И еще об одном явлении следует сказать особо: уже опыты анаграммирования
подталкивают поэтов к упражнениям на тему figura etymologica, граница между
которой и анаграммой иногда почти неразличима. Как известно, слово Нева происходит
от корня и,-евр. *пей-:* пои- * новый', что подтверждается и очень поздним
происхождением реки, уже на глазах населения этого ареала, и передачей ее названия на
некоторых других языках элементом «новый». В русской поэзии нередко Нева и слова с
корнем нов- находятся в непосредственном соседстве, ср., к примеру: Тогда над
Невой и над пышным Петрополем видят I... IКак будто бы новое видят беззвездное
небо (в интервале: вечер, ночи, тени, ср. и другие «невские» контексты в этой
замечательной идиллии 1821 г.) в «Рыбаках» Гнедича или же: Опять стою я над Невой.
I И снова, как в былые годы... у Тютчева (1868) и др.
[1971, 1993]
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТЕКСТЫ И ПЕТЕРБУРГСКИЕ МИФЫ
(Заметки из серии)
С неизменным живым интересом и чувством глубокой благодарности
автор этих заметок не раз слушал рассказы-воспоминания Юрия
Михайловича о городе, в котором он родился и жил, откуда он ушел на войну и куда
он с нее вернулся. В многосоставности научного и человеческого облика
Юрия Михайловича «петербургское» остается и сейчас, после десятилетий,
прожитых вне родного города, наиболее ярким и диагностически важным
элементом. Эта верность истокам при всей открытости иным опытам
заслуживает и внимания и уважения.
В ответ на эти «петербургские» дары Юрия Михайловича автор хотел
бы предложить своего рода возвратный дар - άντιδώρον, серию заметок
под названием - «Петербургские тексты и петербургские мифы». В течение
сорокалетнего петербургского «романа» автора он старался не упустить
возможности прислушаться к тому, что город говорит о самом себе -
неофициально, негромко, не ради каких-либо амбиций, а просто в силу того, что
город и люди города считали естественным выразить в слове свои мысли и
чувства, свою память и желания, свои нужды и свои оценки.
Эти тексты составляют особый круг. Они самодостаточны: их
составители знают, что нужное им не может быть передоверено официальным
текстам «высокой» культуры. И они правдивы, по крайней мере, на уровне
«авторских» интенций. Срок жизни этих текстов короток, и время поглощает
их - сразу же, если сказанное не услышано и не запомнено, до первого
дождя, тряпки уборщицы, метлы дворника, предпраздничной побелки, покраски
дома или ремонта. Лишь немногие классы этих текстов могут рассчитывать
на годы, десятилетия и даже столетия существования. Таковы эпитафии,
хотя нужно подчеркнуть, что более устойчивы ко времени именно эпитафии-
типы, эпитафии-образцы определенной традиции
кладбищенски-погребального красноречия; чем индивидуальнее текст эпитафии, тем больше шансов
на его скорое уничтожение. Но скоротечность жизни подобных текстов в
значительной степени уравновешивается тем, что время не только стирает
тексты, но и репродуцирует новые, так или иначе восстанавливающие
учитываемые образцы. Ни одно культурологическое исследование не может
претендовать на целостный взгляд, если оно не учитывает подобные тексты
и зарождающиеся в них элементы и их схемы, которые в одних условиях
формируют новые мифы, а в других оказываются не востребованными и
остающимися на уровне фантомов. Невнимание и тем более пренебрежение к
таким текстам - ничем не оправданное расточительство и сужение объема
самого понятия культуры, особенно опасное в условиях экспансии
«официальных» форм культуры.
749
Из обширного материала в несколько сотен записей в «Петербургские
тексты и петербургские мифы» здесь включено семь заметок, которых,
вероятно, недостаточно, чтобы по ним вполне представить себе целое. Для
того чтобы была уяснена общая макроперспектива, нужно подчеркнуть, что
тема «Петербургские тексты и петербургские мифы», при первом и
неизбежно поверхностном взгляде столь противоположная теме
«Петербургский текст русской литературы», при более глубоком рассмотрении
оказывается связанной с последней как связаны два полюса, два крайних предела
единой «сверх-темы» - «Петербург в слове».
I. ТЕКСТЫ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ И ЕЕ КУЛЬТА
(по материалам Смоленского кладбища, 70-80-е годы)
Короче и весомее всего о духовном подвиге Блаженной Ксении и его
значении сказано в двух литургических текстах: «Нищету Христову
возлюбивши, безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися, безумием мнимым
безумие мира обличивши, смирением Крестным силу Божию восприяла еси,
сего ради дар чудодейственныя помощи стяжавшая, Ксения Блаженная, моли
Христа Бога избавитися нам от всякаго зла покаянием» (Тропарь, глас 7) и
«Днесь светло ликует град Святаго Петра, яко множество скорбящих
обретают утешение, на Твоя Молитвы надеющиеся, Ксение Всеблаженная, Ты
бо еси граду сему похвала и утверждение» (Кондак, глас 3). И еще один
текст - об эмпирии жизненного пути: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
На сем месте положено тело рабы Божией Ксении Григорьевны, жены при-
дворнаго певчаго в ранге полковника Андрея Федоровича. Осталась после
мужа 26 лет, странствовала 45 лет.
А всего жития 71 год, звалась именем Андрей Федорович. Кто меня
знал, да помянет мою душу для спасения души своей... Аминь» (надпись на
плите, которая некогда лежала на могиле Блаженной Ксении)1.
Поскольку о Блаженной Ксении, недавно причисленной к лику святых,
существует довольно значительная литература и ей предполагается
посвятить более обширную работу, здесь позволительно ограничиться темой,
обозначенной в заглавии и ограниченной в данном случае лишь частью
имеющегося материала, собиравшегося автором в течение многих лет. Тем не
менее два предварительных замечания все-таки необходимы.
Первое. Блаженная Ксения, конечно, наиболее петербургская из
святых. Простой народ, особенно женщины, сознает свою преимущественную
близость к ней, наличие постоянной тесной, носящей необычно интимный
характер связи. Молодая, счастливая в браке женщина, в 26 лст потеряв
мужа, но не признав этой потери, а напротив, приняв его в себя вместе с его
именем, а себя, Ксению, похоронив2, вступила на путь, подвижцичества,
выбрав именно эту, редчайшую в истории христианской святости, форму. И
этот подвиг был почти сразу же понят, принят и высоко оценен. Молва,
народное устное предание (рассказы о Ксении более века назад собирал
священник Стефан Опатович) донесло живую память о Ксении через два века
до наших дней, когда она причислена к лику святых («книжная» и
официальная память сформировалась позже, причем на основе именно устного народ-
750
ного предания). Благодаря народной памяти мы знаем не только о
подвижничестве Ксении, но и о деталях ее жизни, где она жила, с кем встречалась,
что делала и что говорила. Память о Ксении сохранялась и в десятилетия
гонений и преследований, попыток уничтожить все, что связано с ее
почитанием. Зародившись в узком локусе Петербургской Стороны, тогдашнего
Городского острова, на улице под названием Андрей Петров (вариант -
Андрей Петрович), с 1877 г. - Лахтинская, и будучи перенесенной на
Смоленское православное кладбище3, память о Ксении стала достоянием всего
города. Сюда, к часовне Блаженной Ксении и в трудные годы приезжали с
разных концов России. Зарубежная православная церковь первой
канонизировала Блаженную Ксению. Престолы в ее память освящены в Греции и в
Америке, а теперь и в храме Смоленской Иконы Божией Матери, на
Смоленском кладбище, продолжающем оставаться центром культа и памяти
Святой Блаженной Ксении Петербургской.
Второе. Под текстами Блаженной Ксении понимаются свидетельства
о ней весьма разного рода, хотя отдельные разновидности этих текстов
часто, а иногда, в силу сказанного выше о роли народного предания, и
неизбежно пересекаются и контаминируются, и выделение «чистых» типов нередко
возможно лишь теоретически. Целесообразно говорить о следующих
разновидностях текстов: 1) тексты Ксении - подлинные ее слова, как эту
подлинность понимает народная традиция4; 2) тексты о Ксении, принадлежащие ее
современникам и легшие в основу широкого разветвленного устного
предания, сохраняющегося и в наши дни (в значительной степени эти тексты
реконструируются по данным других текстов); 3) эпитафически-мемориаль-
ные тексты (начиная с первой надписи на надгробной плите); 4)
официальные литургические тексты, относящиеся к культу Ксении (молитва,
тропари, стихиры, кондаки, канон молебный («песни»), подступы к житию и
т. п.)5; 5) синтезирующие исследовательские и эмпирически-собирательские
тексты о Ксении (ср. выше литературу о ней); 6) художественные тексты6;
7) тексты о Блаженной Ксении и ее культе, записанные в последние годы
(собственно, именно они и составляют предмет этого раздела статьи);
8) иконография Святой Блаженной Ксении7.
Приводимые далее тексты относятся к 70-80-м годам до канонизации
Блаженной Ксении. Место действия - Смоленское кладбище, обычно около
часовни Ксении. Почти всегда кто-то из верующих или любопытствующих
находился около часовни, двери и окна которой были заколочены, или
поблизости, нередко всем видом показывая, что они как бы сами по себе и их
присутствие здесь никак не связано с Ксенией. Когда у часовни собиралось
несколько человек (преимущественно женщин), начинались, нередко
издалека, разговоры, тема которых - Ксения. Чувствовалась неуверенность,
оглядывались по сторонам, иногда давался сигнал («кто-то идет») и
собравшиеся расходились в разные стороны: одни спешно, другие - соблюдая
достоинство. Мне не раз приходилось присутствовать при появлении
милиционера или людей в штатском. Мое пребывание здесь их несколько озадачивало,
и они проявляли сдержанность, не свойственную им в отношении к
женщинам. Впрочем, кажется, моя личность смущала и последних, и нужно было
некоторое время, чтобы они снова сходились к часовне. Среди женщин
были представительницы разных слоев городского населения; простой народ
751
преобладал, но были и интеллигентные люди; часто среди собравшихся
были приезжие издалека; мужчины оказывались у часовни довольно редко,
обычно с отсутствующим видом или некоторой внутренней
напряженностью.
Введением в ситуацию может быть разговор с кладбищенской
уборщицей 27 апреля 1980 г. (выходя с кладбища, у широкой полосы, на которой
могилы были уже уничтожены):
«- Что, говорят, что кладбище собираются закрывать? - Нет. А вы
откуда? - Из Москвы. - А вы не коммунист? - Нет, нет. - Тогда я вам расскажу.
У нас развелось много атеистов. После войны они потребовали сделать
вместо кладбища парк. Разрушили некоторые могилы8. Решили, что парк будет
через 25 лет. Когда 25 лет прошло, снова стали требовать выполнения
решения. Но в Женеве, в Швейцарии, духовная конвенция запретила
разрушать кладбища. Это было в 1962-63 гг.9 У нас об этом, конечно, не писали,
но объявили, что кладбище не будет разрушено еще 30 лет. А вы верующий
или нет? - Да, верующий. - Тогда я скажу, только вы меня не продайте.
Я работаю на кладбище уже 18 лет. Это мой долг. На моем участке
божница, которую я охраняю. Раз явились ко мне две девушки из Москвы. Одной
из них во сне было видение. Явилась Божья Матерь и сказала: «Иди в Киев,
возьми божницу (ведь Киев во время войны несколько раз переходил из рук
в руки) и отдай ее в Питере на кладбище Смоленской Божьей Матери». Она
так и сделала. Вот я и храню ее. И если уж Божья Матерь так велела, то
кладбище будет стоять не 30 лет, а вечно. - Ну, слава Богу. Спасибо вам. -
А вы видели доску у входа на кладбище? - Конечно. Арине Родионовне, что
ли? - Да, да. Ведь она не здесь похоронена. Доску-то специально повесили,
чтобы кладбище не трогали. Говорят, что здесь Арина Родионовна, а в
каком месте, неизвестно10, вот, будто, ее и ищут. Только никому не выдавайте
меня».
Следующая запись - более или менее обычные «духовные беседы» у
часовни Блаженной Ксении (27 июня 1982 г., 4 часа дня):
Свечи, конфеты, цветы (их сажают тут же почитатели Блаженной
Ксении, в частности, на соседней могиле какого-то архитектора). Оживленно.
Часовня разрушается, но подновляется таким образом, чтобы нельзя было
делать надписи: стена на высоту вытянутой руки облицована пористым
материалом, торкрет. Поэтому надписей мало. Вокруг часовни 8-10 пожилых
женщин. Одна (как бы ведущая) лет 70, в синем старомодном плаще и
голубом платке, из простых; невысокая, седая, большие голубые глаза, два зуба,
северный говор, хотя и не очень ярко выраженный. В хозяйственной сумке
целая кипа исписанных листов, среди них - большая тетрадь с молитвами.
Разговор начинается с поучения ею двух молодых женщин, одна из
которых - служительница кладбища. Разговором очень заинтересовалась
женщина в желтой кофте, с восточными чертами лица. Несколько раз
прикладывалась к кресту, нарисованному на часовне, осеняла себя крестом. Первая
женщина («ведущая») говорит окружающим, что у нее есть молитва,
которая помогает от всего. История записи молитвы:
Лет 10 назад она была на даче у одной приятельницы. Как-то та ушла в
лес за грибами, а гостья стала мыть полы. У этой женщины было очень
много икон, среди них - Иоанн Златоуст. Большая икона, а по бокам молитва.
752
Рассказчица списала молитву. Читает с выражением длинную молитву -
расширенный вариант Ефрема Сирина. После нее читает другую небольшую -
на исцеление недугов. Далее начинает говорить, воодушевляясь, глаза
загораются, выразительная мимика, явный драматический талант и учет
публики, в том числе и «внешней» - случайных прохожих. Не без элемента
импровизированной проповеди (рассказ-поучение, рассказ-быль).
Основная мысль: необходимо молиться, в молитве и посте - спасение, от
молитвы - благодать.
«Мы ведь пост забыли. Вот сейчас Петровский пост. Две недели прошло,
и две недели будет. А мы что делаем? Все забыли, все у нас есть, все едим.
Пусть молодежь мясо ест, они Бога забыли. А ты помолись, кто может - на
коленях, а кто не может - так, только надо в пояс кланяться (показывает), а
потом попей чайку с хлебом, да возьми простого хлеба, не булку, а потом
почитай о Боге, и так тебе хорошо будет (на лице выражение умиленного
восторга). Вот мы в блокаду собирались у одной женщины, у нее книг много
было (она сейчас на Украину уехала, чтобы там книги читать, повезла), и вот
читали и молились, и так нам хорошо было. Про молитву нельзя забывать,
молитва от всего помогает. Вот у меня нога болела, все врачи отступились, а я
помолилась, и Господь дал избавление. А то так сильно заболела, 9 дней
лежала, ничего не ела, только молилась - и выздоровела. Господь вылечил. Он
нам болезни посылает, за грехи наши, Он нас и лечит.
Язык наш - вот враг. Лучше не с соседями «бала-бала», а молиться. А
если кто обидит - не ругать! Ругать его или ее никак нельзя! А надо
помолиться и сказать: «Прости ей, Господи, ибо не знает что делает». И тебе будет
хорошо, а ее Бог накажет. Он накажет! И все мы будем на Страшном Суде, и
Господь будет судить. Он будет судить!
Вот я читала о Блаженной Ксении. Она была богатой, но все раздала, и
ходила по улицам, и ее все зазывали, чтобы она на конке проехала или
чтобы в лавке купила, хоть на копейку, чтобы у них дело пошло. А она не
покупала. Ее били, хлестали. Она ходила и за всех молилась. Об этом я в
книге читала. Надо книги читать».
В это время женщина средних лет, в платочке, с хорошим
благочестивым, чистым лицом, торопясь, несколько стесняясь, говорит: «Вот у меня
книга есть, давайте, я вам почитаю». Какая-то подслеповатая бабка
встревает, чтобы посмотреть, что за книга, где ее можно достать. Ее довольно
резко осаживают, говоря, что теперь таких книг нет, не продаются, и нечего
мешать. Владелица книги начинает читать с выражением и хорошим
литературным произношением (запнулась один раз на слове корчемщики -
корчемники). В это время первая женщина незаметно уходит, поглядев
формально книгу и сказав: «А, эту книгу я читала, очень хорошая!».
Содержание притчи: Некий простец, недовольный своей участью,
приходит к святому старцу просить себе доли. Старец предлагает ему выбрать
и взнести в гору один из нескольких крестов - золотой, серебряный, медный,
железный, каменный, деревянный. Простец выбрал «золотой крест», но он,
как все остальные, кроме деревянного, оказался ему не по силам.
Толкование: золотой - царский, самый тяжелый - забота обо всех, нет покоя.
Серебряный - духовенство, министры. Медный - богатые. Каменный -
купечество. Железный - солдаты. Все, что прельщает, имеет плохую сторону: либо
753
много тягот, либо опасности, либо впадаешь в грех. Не лучше ли
довольствоваться своей долей и жить в бедности, но весело, спокойно и честно.
Беседа продолжается.
В притче о простеце существенно, что у всех есть и преимущества и
тяготы, кроме доли простеца: у него нет ни того ни другого, и поэтому он один
может вести благочестивую естественную жизнь. То, что само дарование
жизни - величайшее благо, звучало у первой рассказчицы: надо благодарить
Господа за то, что мы живем.
Но основную и постоянно обновляемую массу текстов, пока часовня
была закрыта и службы не совершались, составляли надписи на стенах
часовни или на временном заборе, воздвигнутом, чтобы не делались надписи на
стенах. Круг просьб, с которыми люди обращаются к Ксении, очень
обширен и поучителен. Жизнь предстает в этих просьбах и мольбах под знаком
горя, беды, несчастий, но и надежд, желаний, планов.
Вот лишь две выборки. Первая сделана 13 октября 1980 г.
«Ксения матерь преподобная, освобождающая от болезней и грехов,
спаси Сашу от болезни. - Ксения, сохрани и помилуй меня, моего сына и
мужа. Раба Т. 3. - Ксения блаженная, помоги нам во всем. - Ксения блаженная,
помоги мне поступить в театральную студию. - Блаженная Ксения, помоги
от зла. Верни Юрия. Боюсь одиночества. - Блаженная Ксения! Моли Бога о
нас. - Ксения Блаженная, помоги от болезни, просим тебя помоги и от злых
людей. - Ксения, помоги мне выйти замуж. - Ксения, дай мне келью одной. -
Ксения блаженная, помоги дочери Ирине. - Ксения блаженная, благослови
меня на супружескую жизнь. - Дорогая Ксения, не покидай меня, прости.
Надя. - Ксения блаженная, помоги мне сдать экзамены. - Блаженная
Ксения, помоги нам, дай утешения и избавь от зла, помоги получить отдельную
квартиру. Вера, Ира. - Блаженная Ксения, подай нам здоровья, помоги мне
устроить жизнь, подай исцеление и здоровье моей бабушке. - Блаженная
Ксения, образумь Славу. - Ксения Блаженная, помоги, чтобы мой муж Иван
не пил. - Ксюша, помоги поступить в университет. - Ксения Блаженная,
образумь Валерия, спаси Ольгу и Татьяну. - Ксения Блаженная, помоги в
горе. - Ксения, помолись за Джона. - Ксения, помоги поступить в училище в
этом 1980 году. - Ксения Блаженная, помоги нам с учебой, дай Бог здоровья
и счастья Марина, Олег. 09.09.80. - Ксения преподобная, спаси сыновей
Григория и Сергия от пьянства и от всего плохого, от хамства. Пошли мне силы
и здоровья. Раба твоя Галина. - Ксения Блаженная, помоги моим детям,
вразуми их и отведи от пьянства Р.Б. Александра и Р.Б. Анатолия. - Пошли
благополучного размена и спокойствия. - Избавь от злобы, верни сердце
сына, к матери любовь и чтобы жил с мамой. - Ксенюшка Блаженная,
сделай, чтобы мой муж вернулся как можно скорее, помоги, умоляю, верни
моему ребенку отца. - Дорогая Блаженная Ксения, помоги мне в учебе, чтобы
в училище меня полюбили и я кончил его на отлично и мне хорошее место
досталось, и чтобы я не болел никогда и чтобы мне хорошо было. - Ксения
Блаженная, помоги Ирочки сдать экзамен и поступить в институт. - Ксения
Блаженная, дай здоровье матери моей Нине, брату Владимиру, Раисе, отцу
Анатолию. - Ксеничка, попроси у Бога, чтобы снял с меня грусть, тоску
одиночества, горечь обид, чтобы простил мой грех. Р.Б. Евгений. 19.07.80. Дай
счастья, сегодня мой день рождения, помоги мне, чтоб всё было хорошо. -
754
Ксения, помолись за меня, чтобы она меня не бросила. - Ксения Блаженная,
помоги нам избавиться от алиментов за незаконно рожденную. - Ксения!
Помоги мне и моей сестре выйти замуж за хороших людей в этом году.
Анна, Алла. - Ксения Блаженная, миленькая, прошу тебя, помоги, чтобы
между детьми был мир, чтобы все были здоровы, чтобы Ирина бросила пить,
курить, ругаться, чтобы жизнь у нее устроилась. - Блаженная Ксения, что
мне делать, если плохо. Прости. - Блаженная Ксения, помоги устроиться на
дневное отделение. - Помолись за нас, Блаженная Ксения. - Блаженная
Ксения, молись за меня, сына и врача. - Дорогая Ксения, Блаженная, помоги
моему внуку Дмитрию обойтись без операции» - и т.д. (пока происходит
переписывание надписей, старуха-уборщица рассказывает любопытствующим:
Ксения Блаженная была княжеского рода и полюбила офицера, а он ей
изменил. Тогда она раздала все свое состояние и пошла странствовать и
была хорошей предсказательницей, предсказывала людям будущее. Потом
умерла и, раньше говорили христиане, а теперь граждане собрались и
поставили ей часовню, а сейчас нашлись люди, которые часовню закрыли, и она
вся рушится, а снаружи ее граждане покрасили).
Вторая выборка сделана 13 мая 1987 года.
«Ксения Блаженная, спаси Россию от войны. - Ксения, моли Бога о нас.
Помяни рабу Божию Екатерину со чадою. - Ксения, дай мне сил
душевных. - Ксенюшка, помоги Ольге и Виктору. Христос воскресе! - Блаженная
Ксения, помоги мне закончить на 5. Иван. - Я Седов Гена, помоги мне
окончить школу, пожалуйста, и бросить курить. - Я Федоров Юра помоги мне
окончить школу. - Ксения Блаженная, помоги Николаю вернуться к Лидии
(нрзб.) и креститься. - Ксения, огради от бед. -Ксения, сделай так, чтобы
(нрзб.). - Блаженная Ксения, спаси, охрани и помилуй дочь мою Наталью,
защити ее. - Ксения помоги, чтобы все было хорошо в доме и семье. -
Ксения блаженная благослови и защити нас. - Отвергни всех врагов от нас
(нрзб.). - Ксения, милая, помоги мне в этом году поступить по моему
большому желанию. Маша. - Ксения, матушка, сними грех ненависть и неправду
к человеку (нрзб.). - Ксения блаженная, молю тебя верни ко мне Виктора
навсегда, чтоб жили с ним до конца жизни. - Ксения Блаженная, дай
здоровья мне и моим детям. - Ксения блаженная, помоги мне сдать экзамены.
Руслан. - Ксения блаженная, помоги мне сдать экзамены. Леша. И еще одна
просьба помоги мне в любви. Леша. - Ксения Блаженная, наведи нас на
правильный путь. Пусть мои мечты сбудутся. Анто/но/вы (записка! - В.Т.). -
Ксения блаженная, помоги мне без тоски прожить. - Ксения блаженная,
молю тебя сделай так, чтобы Виктор бросил ту женщину и вернулся ко мне
навсегда, что бы была у нас семья. - Ксюша! образумь моего мужа или пошли
мне другого. Вера. - Ксения Блаженная! Помоги мне, пожалуйста, искупить
свой грех. Навеки твой. Игорь. - Блаженная Ксения, помоги рабе Божьей
Любови и сгуби недругов ее и врагов. - Нет войне. - Святая Ксения, дай
моей маме здоровья и мне счастья. Вечно раба твоя Наталья. - Помири нас с
бабкой. - Ксения Блаженная, помоги чтобы суд окончился в мою пользу.
Раба Валентина. - Ксения, прошу тебя как женщина помоги мне во всех моих
желаниях. Раба твоя навеки Елена. - Спасите моего брата и т.д., На заборе
листок-объявление. Православные! В воскресенье 14-го сентября, после
обедни (после 12-ти часов) организуется воскресник по уборке строительно-
755
го мусора в часовне и на территории вокруг нее. Ваше, даже малое, участие
в работе ускорит ход ремонта часовни и принесет радость всем. Оденьтесь
попроще. Инвентарем (лопатами, ведрами, рукавицами) вас обеспечат на
месте. Приглашаем вас принять посильное участие в воскреснике по ремонту
церкви Блаженной Ксении!»11
Осенью 1985 г. переломный момент. С одной стороны, часовня
изолирована от приходящих: забор с настойчивыми надписями - «Осторожно! Не
ходить! Здание в аварийном состоянии». Писать негде. Но, с другой
стороны, многочисленные следы заботы: к восточной стороне забора
пристроены полочки, на которых едва умещаются разнообразные сосуды с цветами,
и жестяная конструкция с крышей, предохраняющей десятки горящих
свечей от дождя. Посередине забора выше большой лист плотной бумаги с
тропарем и двумя кондаками. Подписано: Фонд Блаженной Ксении.
Через полгода в мае 1986 г. на заборе лист с текстом, отчасти размытым
дождем: День Ангела сегодня Блаженной Ксении / и тысячи сердец к ней
(нрзб.) / радостью стучат (нрзб.) / Благодаря Творца в хвалебном I пении.
Возносят в небо (нрзб.) Свят, свят, свят!!! // Когда-то у Святой могилы
I Священник ладаном кадил. / Молил, чтоб нас Ты не забыла, IИ людям
помощи просила - /И милость Божия рекою I Через Тебя нам посылалась. I
Ты светишь яркою звездою; I В христианском мире - не таясь I Прими-же
скромную молитву, I Наставь на верные пути! I Исполни во благих
прощенья I И любящим Тебя - свети. I Вечная тебе память, I приснопамятная
Ксения. IАминь! 6II - день ангела12. - Тут же иконка с надписью. Святая
блаженная Ксения. Она в красного цвета одежде, с посохом в руке, над головой
нимб. Фон - часовенка Ксении, могилка с крестами, деревья.
Верность верующего люда Ксении (Ксенюшке, Ксюше) помогла пройти
через все испытания: 10 августа 1987 г. тогдашний митрополит
Ленинградский и Новгородский освятил обновленную часовню.
II. «ИСТОРИЧЕСКИЕ» ТЕКСТЫ ЦАРСКОГО СЕЛА
... И снова дух смятен и потревожен
Истомной скукой Царского Села.
Пять лет прошло. Здесь все мертво и немо.
Как будто мира наступил конец.
Как навсегда исчерпанная тема,
В смертельном сне покоится дворец.
«Первое возвращение» (1910)
Для поверхностного взгляда (а он, конечно, и был преобладающим, хотя и
не ведал о своей поверхностности) Царское Село в начале века было как бы
изъято из истории: для него все было в прошлом. Все соглашались, что оно
наиболее «благонадежное» и спокойное место, с размеренной до скуки
{Истомной скукой...)13, до тоски (излюбленное слово Анненского, своего рода
поэтический знак профилирующего царскосельского настроения)14
мучительно влекущейся однообразной жизнью. Здесь не было ни
террористических актов, ни даже революционных кружков, рабочего движения, ни сколько-
756
нибудь явных социальных, национальных или вероисповедных конфликтов
(хотя в городе жили люди многих и разных социально-экономических
статусов, национальностей и конфессий). «Благонадежность» Царского Села
была столь велика, что даже злой дух революции дважды показывался здесь,
чтобы под видом празднования Пасхи (2 апреля 1895 г.) провести совещание
в доме М.А. Сильвина, посвященное дальнейшим планам «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса», или избавиться от слежки во время
нелегальной поездки из Пскова в Петербург в мае 1900 г. В свете того, что
составило главное, хотя и подлинной глубины не отражающее, содержание
истории России XX в., Царское Село - полный контраст Петербургу и как
бы пустое для истории место. Здесь она - навсегда исчерпанная тема. И как
бы ни проявляло себя «историческое» вовне, казалось, что «шум истории»
сторонился места сего («Но в этом парке не слыхали шума...»), что отсюда
видно только прошлое, и тень юноши, склонившегося в лицейском окне над
томом Апулея, застит все остальное и отводит взгляд даже от того, что уже
при дверях. Но то, что не воспринималось царскосельскими обывателями -
от дворца до собственных уютных домиков15 - и лежало вне истории, стало
источником и стимулом подлинной глубины, остроты и напряженности
личностного переживания истории именно для царскоселов -
Анненского, Комаровского или Ахматовой. Но кто догадывался тогда, что
«историческое» знает и такой модус существования, столь непохожий на
общеизвестный, более того, что само чувство «исторического», наполовину
коренящееся в подсознании и формирующееся на несравненно более
широком круге фактов, признаков, намеков, предчувствий, оповещает о
совершенно новой форме этого «исторического» - о личностном переживании
его? И вот для возникновения этой новой формы «исторического» Царское
Село стало исключительно благоприятной почвой. На роковом пороге
материя истончилась здесь до того, что все стало казаться призрачным16, но
эта потеря «материальности» компенсировалась все большим обострением
чувства и своего рода ясновидением духа.
До поры равновесие между нейтральным «внеисторическим» и
отмеченным «историческим» (точнее, обостренно-историческим, предполагающим
переживание истории как своей личной и личностной судьбы) сохранялось,
хотя дистанция между двумя безднами, равно опасными для собственно
«исторического» и самой истории, быстро увеличивалась. Но когда
выяснилось, что Царского Села, по сути дела, как бы и нет или во всяком случае не
должно быть уже потому хотя бы, что его имя ложное и «самозванное»,
а есть совсем другая реальность - Детское имени товарища Урицкого,
подлинный смысл и ценность которой были «восстановлены» в результате
тотального и даже в то время поражавшего своей грубостью и
агрессивностью переименования «всего, что ни есть» в Царском Селе, указанное выше
равновесие было обречено на гибель. Его составляющие члены
преобразовались: нейтральное «внеисторическое» было заменено
агрессивно-антиисторическим с отчетливой «хамской» установкой, а отмеченное «обостренно-
историческое» («личностно-историческое») все более обнаруживало
тенденцию к нейтрализации и сползанию к более примитивным формам
«исторического», прежде всего к сохранению, хотя бы чисто знаковому,
«номенклатурному», некоторых исторических привязок места сего, к
757
какому бы ни было продолжению (хотя бы с помощью перевода в
долговременную память) старой культурной традиции, которая для все более
редеющего круга лиц, стала одним из жизненных прибежищ и в новых условиях
обнаружила новые ценности и смыслы.
Этот промежуточный период нашел такого внимательного и
проницательного описателя, каким был Вагинов. В «Бамбочаде» неизлечимо
больной молодой человек Евгений Фелинфлеин попадает в санаторий в Царском
Селе. «Агрессивно-антиисторическое» (как, впрочем, и «инокультурное»,
не сознающее своей несовместимости с традиционной культурой этого
места) начинается в самом санатории и в его ближайшем окружении17. Но здесь
важно не столько оно само, сколько как бы скрытно осуществляющееся
влияние этого начала на «царскосельские» тексты, те графитти, которыми
и новая «наступательная» и старая отступающая культуры ведут неравный
спор между собой.
Избавившись от назойливого спутника и желая наконец-то остаться
наедине с самим собой, Евгений пошел в парк (Екатерининский), к
увеселительному павильону, в надежде почитать книгу о сильфах. Он «сел на скамью и
вдруг увидел на полуколоннах прелестные нежные надписи: Внимай, мой
друг, как здесь прелестно. 30. VIII. 27. - Будет осень, ты придешь и
вспомнишь то милое время, когда мы были с тобой так счастливы. 14. V. 27.
Евгений, заинтересовавшись, встал и принялся читать надпись ... Тут
я тоже побывал и остался очень доволен после виденного мною
прекрасного парка. 20. VIII. 29. Серг. С. — Зачем вы под серой шинелью
красноармейца подозреваете царского солдата и грязное мнение Baute
несправедливое. Нет! - Отец с сыном во время своего отдыха посетили
этот чудесный уголок. - Здесь были мама и Ляля, скучали о папе. Папа
в Ташкенте. 16.VI.27.
Надписи сплетались в гирлянды ... Простое констатирование факта: Та-
буреткин дальше отказался говорить. 12.V.29. Или: Здесь были
красноармейцы Взвода Связи. Федя, Вася, Петя, Андрюша. Или: Здесь арка
свиданий преспокойно сплеталась с изречением в стихах: Коль боишься поцелуя,
I Так старайся не любить, I А любовь без поцелуя I Никогда не может
быть. М. - Прорывалось: Vera Smirnoff. - Опускалось сонетом: Когда-то
здесь узывчивой и нежной I Музыкою гремел блестящий зал, / Шел
разговор приятный и небрежный, / И шелк шумел, и женский смех дрожал /
Здесь в сумерках ротонды глубина I Вчера двоих укрыла на ступени. I В его
шинель закуталась она, IА он, смеясь, ей целовал колени. /Александр
Алексеев. - Наискось другой рукой было начертано: Прекрасной и сильной ...
Гваренги милое созданье, / Классический и стройный облик твой I Меня
пленил невольно, и порой I Тебя воспеть приходит мне желанье I ... I
Ал. Ал. - Пониже на полуколонне: Здесь был B.C. Чханов. - Перелетало на
другую: Посоветовал бы писать на современные темы и посылать в
редакции, чем писать их на стенах. Конечно, стихи писать дело хорошее, но
только не на стенах. - Убегала гирлянда под окно: Прощай, мечта,
прощай. 18 июля 29 г. - Пряталась гирлянда в подоконные карнизы: Будет
осень, ты придешь и вспомнишь то милое время, когда мы были с тобой
так счастливы. 14.V.27. - Гордо выступало на простенках: Таня, ты
будешь моей женой. 14.V.27. - Здесь прождал Петров Александр. - III - 30 г.
758
С глубоким интересом обходил Евгений увеселительный павильон,
построенный знаменитым архитектором. Черные, синие, фиолетовые,
красные надписи вызывали вокруг павильона особую атмосферу ... он был в
своей стихии, ему стало жалко, что сейчас все же, несмотря на зеленую
траву, зима, и что статуи стоят в дощатых футлярах. Он думал о том, сколько
нежных и памятных надписей начертано на их пьедесталах».
Евгений наших дней не испытал бы подобного чувства: весь набор типов
подобных надписей был бы ему известен - «Здесь были А, В ... N из X»
(иногда с указанием специальности или предприятия, учебного заведения и т. п.),
и «А+В= любовь» и под с небольшими вариациями и отдельные слова или
фразы айсхрологического характера (ср., напр., коллекцию надписей на не-
еловском Мраморном мосту в Екатерининском парке, до реставрации, еще
не оконченной)18. Это резкое сужение топики, стилей, форм, типологии
надписей разительно и, конечно, не может быть отделено от той культурной и
исторической амнезии, которая, как Божье наказание, поразила широкий
круг тех, кто по своему местожительству, биографии, социальному и
образовательному статусу обязан был бы знать и помнить несравненно больше19.
На этом мрачном фоне подарком судьбы для пишущего эти строки
стала встреча, состоявшаяся 28 сентября 1989 г. в Царском Селе и имевшая
своим итогом подлинно «исторический царскосельский» текст, тем более
важный, что принадлежит он свидетелю, во многих случаях непосредственному,
передаваемых событий. Ниже приводится отчет об этой встрече и
излагается сам текст по возможности близко к услышанному рассказу (запись была
сделана сразу же после встречи; она синтетична в том отношении, что
помимо самого рассказа включает в себя и некоторую характеристику всей
ситуации и рассказчика; кроме того, в этой записи, насколько можно, устранено
присутствие слушателя, если не считать предуведомительного замечания)20.
В названный осенний день, выйдя из Екатерининского парка через
Орловские ворота, я сел на автобус № 378 с тем, чтобы доехать до входа в Ба-
боловский парк со стороны Баболовского дворца. Автобус шел не вполне
регулярно, пропустив остановку, которая мне была нужна, и остановился на
углу Соболевской улицы, у развилки на Александровку. На остановке же я
спросил женщину средних лет, местную жительницу, как короче пройти в
Баболовский парк. Это название, кажется, ничего ей не говорило, и она не
могла мне помочь. В это время проезжую часть улицы пересекал старый
человек, довольно крупный, в бедноватой одежде, с газовым баллоном в руке.
Не было сомнения, что он тоже местный житель, и я с тем же вопросом
обратился к нему. Внимательно выслушав меня, он, не торопясь и очень
толково, можно сказать, профессионально, с указанием частей пути,
которые мне предстояло пройти, и их приблизительной длины в метрах,
объяснил весь путь до Баболовского дворца. Вероятно, заметив мой непраздный
интерес к месту, мой собеседник не спешил уйти - тем более, что его домик
был тут же, около остановки. Его речь была сильно затруднена,
прерывиста, и явно была заметна, особенно по рукам, частая мелкая дрожь, как я
узнал несколько позже, результат контузии во время войны. Лицо этого
человека, весь его облик, то, ч τ ό и к а к он говорил, не могло не внушить
доверия и симпатии почти с самого начала нашей беседы. Ум, серьезность,
бескорыстная расположенность и чувство собственного достоинства отсы-
759
лали к какой-то иной жизни и иным временам. Во всяком случае было ясно,
что передо мной человек редкой сейчас породы.
Моим собеседником оказался Алексей Евгеньевич Леммергирдт. Чтобы
не было сомнений, он специально сказал о двух мм и конечном дт. Но с
некоторым колебанием, примериваясь к моим возможностям, он все-таки
решился сказать: «это значит "пастух ягнят"». В пояснение А.Е. сказал, что, по
семейному преданию, предки его еще при Петре I переехали из Голландии в
Петербург для работы в Аптекарском саду21. Он сказал, что ему скоро
исполнится 91 год, что всю свою жизнь он прожил здесь, на участке, где стоит
им самим построенный скромный одноэтажный домик дачного типа
(раньше, до войны, на этом месте стоял красивый двухэтажный дом,
принадлежавший отцу А.Е. и им построенный). Правда, у А.Е. есть хорошая
квартира в Ленинграде, где он жил спорадически. Смущенно и как бы
оправдываясь, сказал: «Ветеранам разрешают иметь дачу, несмотря на ленинградскую
квартиру». И тут же, чтобы не создалось впечатление, что все хорошо: «Но
я последний Леммергирдт, на мне все кончается: дети носят уже другую
фамилию». И снова о славном прошлом: «У Андерсена (так! - В.Т.) есть
рассказ "Повелитель блох", там говорится о Левенгуке, но упоминается и
Леммергирдт из Амстердама. Так что наш род - первые микробиологи»22.
Учился А.Е. в Первом Реальном училище на Госпитальной («теперь
Пролеткульта, угол Московской»). «Плата была высокой, 450 рублей в год,
зато учились все, кто мог платить. Рядом сидели и сын бедных родителей, и
сын миллионерши Фокиной. Учили так, как сейчас у нас нигде не учат и
никогда не будут учить. Классическая гимназия была дороже и более сослов-
на, туда, бывало, устраивали и по протекции». В детстве не раз видел в
Царском Селе царя и всю царскую семью. «С наследником, с Алешей, раз даже
играл в снежки». Помнит Распутина. Сославшись на то, что сейчас стали
много писать о нем, сказал, что авторы допускают много неточностей и
ошибок (в частности, А.Е. имел в виду некую конкретную статью в каком-
то журнале, им не названном), особенно в связи с местом захоронения
Распутина (А.Е. спросил меня, знаю ли я точно, где оно было, и моим ответом
удовлетворен не был) и посмертными испытаниями, выпавшими на его
долю. «Распутин был похоронен в 600 метрах от места, где мы стоим (при этом
А.Е. обозначил рукой направление. - В.Т.), в Кузьминской церкви, в так
называемом Вырубовском городке, который начал строиться перед войной и
к 17-му году не был еще достроен. Тело Распутина поместили в цинковый
гроб, короткий, но очень высокий. Дело в том, что после убийства тело
окостенело в согнутом состоянии, сначала хотели перерезать сухожилия, но
царица запретила, и тогда сделали высокий гроб. Гроб положили в большой
ящик черного дуба и поместили его в подполье церкви». А.Е. помнит толпы
приехавших из Петербурга и пришедших из Царского Села на похороны
Распутина. «После февраля началось хулиганство. В церковь приходили
пьяные, на стенах писали неприличные стихи: Царь уехал за границу, I A
Распутин... царицу. / Он сказал тогда23 народу: / Вот вам х..., а не свободу.
Полковник Мальцев (такой, как вы) был начальником зенитной части,
которая стояла здесь, на Кудринском поле. Это было первое соединение в
истории нашей противовоздушной обороны (еще одна часть стояла
неподалеку от Александровского дворца24); у них были обычные трехдюймовые ору-
760
дия, но на особых станках - так, что они могли поворачиваться на 360
градусов и менять подъем. Чтобы избежать бесчинств, Мальцев приказал
тайком перевезти тело Распутина на Шуваловское кладбище и там похоронить
его. Надо сказать, что перед этим нарушили целостность гроба, отогнув
несколько листов против лица покойного». А.Е. видел лицо Распутина в гробу
и был поражен его коричневым цветом. «Но случилось так, что тело
пришлось отвезти не на кладбище, а в Лесной институт, где его и сожгли (об
этом рассказчик знает от бывшего студента Лесного института Королева. -
В. Т.), но кости и даже остатки плоти, кажется, на бедрах, не сгорели, так как
мощность печи была недостаточной. Их отвезли в Политехнический
институт, где было шесть больших мощных котлов. Там останки и сожгли, прах
снова привезли в Лесной институт, и все там же развеяли».
Сам А.Е. назвал себя инженером-строителем (отец его, кажется, был
архитектором). Он заведовал кафедрой техники безопасности в
железнодорожном институте, «но когда началась номенклатура, я как беспартийный
должен был уйти». В годы войны А.Е. был на фронте, в Синявинских
болотах, получил сильную контузию головного и спинного мозга, последствия
которой не прошли. «Командир, увидев, что руки-ноги целы, приказал
работать на кухне - носить дрова, чистить и т.д. Так что я пролежал в лазарете
всего один день». В заключение спросил меня, не писатель ли я, и снова
сжато объяснил дорогу к Баболовскому дворцу. Когда, распрощавшись с А.Е.,
я отправился по указанному маршруту, минуя дачный участок вглубь от
дороги, я еще раз увидел А.Е. Он стоял у задней ограды участка и как бы
проверял, правильно ли я усвоил его объяснения.
III. И «ИНЫЕ» ТЕКСТЫ
В один из приездов в Ленинград, весной 1966 г., не найдя места для
ночлега, я решил искать «счастья» на стороне и поехал в Комарово. Было
бессезонье, и мне неожиданно легко удалось устроиться. Меня поселили в
маленькой запроходной комнатушке. Потом мне не раз пришлось бывать в
этом доме, и я чувствую за собой право рассказать о хозяйке, моей
благодетельнице Евдокии Павловне Голубевой («Дусе»), которая по вечерам, когда
я возвращался из города, любила рассказывать мне о своей жизни. Дусе
было к семидесяти, ее «сожителю» Коле (Николаю Павловичу Павлову) лет на
10-12 меньше. Оба они были из Псковской области, жили в одной деревне и
крестьянствовали. О молодых годах Дуся вспоминала как о счастливом
времени. Рассказчица она была превосходная, знала секреты жанра, не просто
рассказывала, но «изображала», перевоплощаясь в тех, о ком шла речь в
рассказе. Пафос благородного негодования чередовался с лирическим
«смягчением», подчеркиваемая ею собственная высокоморальная позиция с
сомнительными эпизодами, ставящими эту позицию под сомнение, мифопо-
этическое с деталями быта. Воспроизвести ее рассказы не в моих силах и
поневоле приходится излагать лишь немногое, в отрывках и лишь иногда ее
словами, которые - произносимые ее голосом - я помню и сейчас.
Дусина жизнь складывалась по-разному, средняя часть ее - не менее
трех десятилетий - была тяжелой. В начале войны одна (первый муж погиб
761
в 20-х годах) с тремя детьми уходила пешком от немцев куда глаза глядят.
Сын Володичка (когда она говорила о нем, ее глаза сразу же наполнялись
слезами) погиб. Пригнало ее куда-то, как можно было догадываться, в
район Невской Дубровки, хотя почему-то там оказались и финны («очень вред-
нючие»). Как она выжила, Дуся не могла понять сама. После войны ее
поселили в Комарове. Жила от дачников летом и «лыжников» зимой. Денег
хватало на водку и на хлеб. Занятий никаких не было, если не считать
маленького огорода. После войны второй раз вышла замуж, но муж был больной,
видимо, чахоткой, она тяготилась им, но вела себя благородно: когда «Син-
дихаев-татарин» предложил «Павла-мужа» ткнуть лицом в снег и подержать
так минуты две-три и тем решить проблему (меня поразила простота и
техническая проработанность этого способа), Дуся - и тут она выступала как
персонификация добродетели и благородства - поборола соблазны и как
отрезала: «Ня надо, он ня виноват». Не хочу ни иронизировать, ни судить.
Слишком иная жизнь и совсем другой контекст25.
Ни Дусе, ни сожителю Коле (он, правда, подрабатывал грузчиком в
ближайшем продовольственном магазине), по сути дела, заняться было нечем
кроме питья - регулярного, ежедневного, обильного. Они были люди,
«отбитые» от их прежней, не отменимой, как им ранее казалось, как закон
природы, жизни, и жизнь, которую они вели сейчас, была фантастической и для
внешнего наблюдателя, и для них самих: «у нас все есть и ничего не надо
делать» - так они понимали свою ситуацию. Но теперь не было главного -
смысла жизни и сопряженной с ним подлинной радости26. Водка могла дать
только забвение глубинно сознаваемого неблагополучия жизни, вернее, ее
несоответствия какому-то неписанному закону, память о котором душа еще
хранила27.
Потому-то так часто Дуся и обращалась в своих воспоминаниях к дням
молодости, когда она была красавицей всем на удивление («Косишша - во!
грудишша - во!», - говорила она в таких случаях, подчеркивая сказанное
соответствующими движениями руки), и особенно к своему звездному часу,
когда она, нарядная, одетая по-городскому (кофта в талию), приехала
в соседнюю деревню и, посрамив одетых по-деревенски местных девок,
покорила сердце самого статного молодца, ставшего ее мужем. Во время таких
рассказов она воодушевлялась и хорошела, хотя ее главным козырем, как
можно было догадаться, была все-таки не красота, а жизненная сила,
темперамент, решительность, максимализм, игровое начало. Себя она ставила
высоко и в старости, когда я ее знал. Сохранив дар кокетства, она все-таки,
пожалуй, более всего гордилась своей нравственной высотой. «Вот Гуревич-
доктор, хоть и евреюга (пить нельзя, - сказал, - только фекир (кефир. -
В.Т.), говорит мне: "Ты, Дуся, самая чистая баба в Комарове"»28. Меня Дуся
сделала конфидентом и просила, чтобы я читал ей письма (сама она была
неграмотной; когда она чего-нибудь не понимала в моей речи, смущенно
опустив глаза, говорила: «я непониматная»). Думаю, что эти письма (два из
них я запомнил) ей кто-то читал и до меня, но дело было не в содержании
писем, не в желании что-то забытое вспомнить или непонятное прояснить:
чтение письма было ритуалом, лицо Дуси светлело и становилось
торжественным, казалось, что за произносимыми словами ею угадывается нечто
иное, высшее. В одном письме «доброжелательница» давала ценные советы:
762
«Дуся, живи сама, а Коле не давай компоту» - такой была моя первая
дешифровка. - «Ага, не давать компоту!» - догадывалась Дуся. Прочитав
письмо до конца, я усумнился в прочтении этого места. Для Дуси, как и для
Коли, компот был res incognita, да и лишение Коли компота было бы
слишком слабой воспитательной мерой. Вернувшись к началу письма, я понял,
что речь шла не о компоте, но о комнате, не давать которую Коле
действительно был резон. - «Ага, значит не давать комнату!» - заключила Дуся. Но,
как я понял из дальнейшего, никакого противоречия между этими двумя
версиями прочтения для Дуси не было. В сознании ее, видимо, осталось - «не
давать Коле комнаты и какого-то компота»29. Второе письмо было от
подруги из Краснодарского края, с которой Дуся познакомилась в конце войны.
Это письмо ценилось особо, и его требовалось читать не торопясь, с
выражением, потому что оно было не связано со злобой дня, как первое, было не
деловым письмом, а имело какой-то высший статус - «дружеский», как у
достойных людей. Запомнилось начало: «Здравствуй, дорогая подруга Дуся.
Тебе кланяются Иван Сидорович, Вася, Маня ... (далее длинный список
имен. - В.Т.). Дуся, жива ли ты, ай может, уже и померла ...». Дуся
понимающе кивала, и слезы выступали на глазах от того, что письмо может
говорить так кратко и точно о такой жизненной ситуации.
Вообще она была натурой эмоциональной, художественной,
артистичной и жила в том мире мифопоэтической архаики, на который мало влиял
окружающий современный мир, о котором она могла судить в основном по
своим ленинградским дачникам и по поездкам в «байню» в Терийоки (в
Ленинграде она практически не бывала, и едва ли он занимал какое-то место в
ее представлениях о мире). Правда, первое мое соприкосновение в этом
доме с мифопоэтическим произошло не на почве архаики, а наоборот, в связи
с самыми актуальными явлениями современной жизни. Однажды вечером,
довольно поздно, к Дусе и Коле пришел какой-то мужчина с бутылкой
водки и был сразу радушно принят. Завязался оживленный разговор, где
главная роль принадлежала гостю: он был активен, речист, по-своему развит и
даже политизирован и агрессивен в навязывании своей точки зрения.
Главной темой стали негры (это слово ни разу не было названо) в Москве «Что
же это такое, - восклицал гость, - светопреставление начинается. Умные
люди говорят, понаехали в Москву черно.опики, тьма тьмущая, ходют, где
попало, как будто так и надо, даже на Красную площадь приходют, к м а в -
з а л е ю. И к нам придут. Нет, нет, конец света!»30 Пророчество
продолжалось: эсхатологическое переплеталось с провокационным. На какое-то
время разговор прервался, я отвлекся, пока не услышал (мне показалось,
что все произошло внезапно и немотивированно), как гостя взашей
выталкивают на лестницу. Воистину, несть пророка в отечестве своем.
«Мифопоэтическое» Дуси было иного рода; оно составляло
органическую часть ее души и сознания; ничего иного, несмотря на весь
«современный» опыт, она, собственно, и не знала, и в призме этого «мифопоэтическо-
го» она только и видела происходящее вокруг: все индивидуальное,
конкретное, находящееся на поверхности сводилось к типовому, парадигматическому,
архетипическому. Этому соответствовал ее драматический дар,
перевоплощение в героев своих мифологизированных меморатов, изменение голоса и
даже фонетики. Тот, кого она называла устойчиво змей въюний и враг, хотя в
763
разных историях эту функцию и это имя воплощали разные персонажи, не
различал в своей речи шипящих и свистящих, звук л произносил «сладкоязыч-
но» или как мягкое л' и вообще говорил как-то обуженно, с соответствующим
изменением резонатора. Змей вьючий был реальностью и всегда был рядом.
У женщины-подруги умер муж, и кто-то стал приходить к ней по ночам; она
переживала, боялась, стала сохнуть; наконец, добрые люди догадались, что
это «змей вьючий» и посоветовали туго-натуго заплести перед сном косы;
«змей вьючий» явился в очередной раз, но сразу все понял и вихрем улетел в
трубу. Больше он никогда не прилетел. Но «змей вьючий» знал ход и в ее
собственный дом: муж куда-то уехал, и молодая Дуся осталась одна, забралась
на печь и заснула, а в доме был еще свекор, который улегся на лавку под
печкой; ночью она услышала какой-то шорох, шипение; проснулась и видит:
«змей вьючий» встает с лавки и собирается лезть на печку. Но «змей вьючий»
не только в прошлом: он может появиться и сейчас, стоит только потерять
бдительность. Некоторые рассказы о нем были столь мифологичны, что я не
мог отделаться от ассоциаций индоевропейского временного горизонта31.
Дуся знала несколько заговоров, верила в их силу и не очень охотно
позволила записать их. Так как это варианты известных уже заговоров, два из
них позволю себе здесь привести. Оба они как бы «личные» (своим полным
именем она считала Авдотья). Ср. первый заговор: Пойду раба Божжа в ля-
сишше, I В лясишше старый старичишше, / Грыже кожурышшу, / Ня гры-
жы кожурышшу, I Грыжы рабе Вожжей Авдотье грыжышшу: I Шулятную,
полшулятную, I Пупковую, полупупковую, I Знудовую, полузнудовую,
/Ломовую, полуломовую, I Косцяную, полукосцяную, I Жильную, полужильную.
I Ним цабе тут побываць, I Лучша пицъ да гуляць. I На кияне-море есть
столы дубовые, I Скацарцы бранные, напитки пьяные. - Другой заговор -
на сон (строки о плачущем дитяти произносились умиленно, со слезой в
голосе): Зорюшка-зорица, / Красная девица, I Посватаемся, побратаемся. I
Твоя дитя плаче, есть хоче, / Моя дитя плаче, спать хоче, I Возьми бяссон-
ную сонницу, I Дай рабу Божжему ("так. - В.Т.) Авдотьи I Сон-дряму.
Умиление вызывали у Дуси и воспоминания о том, как на Святках
ходили «гадаць на хрясты» (на перекресток дорог). Отправляясь «на хрясты»,
надо было прежде всего снять нательный крест (кстати, и в старости Дуся
носила его). «Как гадаюць? - Нащаплю лучину, в голову положу лучины чаты-
ре и пятый крюк ... Суженый-ряженый, I привяди свою лошадь I поить на
мой колодец. // Суженый-ряженый, I приди ко мне овес жать. - Ходюць на
хрясты, валятся на землю и слухаюць колокол звониць из-под зямли»32.
Гадали и в «байне». Надо было «подпяциць задницу» в окно, но, бывало, что
молодые парни, нарушая запрет, подсматривали с улицы, вызывая
притворный испуг и всеобщий веселый смех. На Крещенье «пололи снег» и пели:
Полю-полю беленький снежочек, I Полю беленький снежок I Ты залай-
залай, собачка, I Залай, буренъкий волчок, I Ты залай в тую сторонку, I Где
мне замужем бываць (далее последний стих звучал несколько иначе - Где
мой миленький живёцъ). Вспоминала Темную пятницу (сразу после Ильи).
На вопрос, почему она так называется, с некоторым сомнением отвечала:
«погода была плохая, цамно». На Темную пятницу была ярмарка, большое
веселье, пели песни. На Ивана Купалу собирали Иваньску траву. На «сяче-
ние головы Иваны» (29 августа) варили свеклу. «Зимний Ягорий» приходил-
764
ся на Рождественский пост, стригли овец, играл «гармонщик» и, кажется,
тоже было весело, хотя и не так, как на Темную пятницу. Когда я спросил, как
выглядел Егорий, не изображал ли кто-нибудь его, ответ был: «Нет, такого
покрушения ня было». Верила в сны и не только в свои. Ее очень смущал
сон старухи, жившей внизу, хотя она была «ня в сябе», «ошалевала». Той
приснился сон, в котором она видела Дусю (в пересказах и самое себя), как
«я в красных чулках на елыне сижу». Язык моей хозяйки был столь
оригинален, что заслуживал бы особого рассмотрения, но сейчас, когда ее давно
нет, трудно решиться на такую смелость33.
IV. МИФ ДОМА ПОЛОВЦОВА НА КАМЕННОМ ОСТРОВЕ
(к трактовке двух скульптурных изображений)
На западной оконечности Каменного острова стоит дом, до революции
принадлежавший сенатору Александру Александровичу Половцову и
построенный в 1912-1916 гг. (по некоторым источникам - в 1911-1915 гг.; во
всяком случае «Весь Петербург на 1915 год» уже фиксирует этот дом как
место проживания Половцова)34. Первоначальный адрес дома - Набережная
Большой Невки, 22; теперешний - Набережная Средней Невки, 6.
Этот дом, называемый также дачей, особняком и даже дворцом,
расположен в удивительнейшем месте города, где чаще, чем где-либо еще, можно
испытать чувство, близкое к блаженству. Вода и зелень - две основные стихии
места сего. Большая и Средняя Невка, Крестовка, Крестовский канал
окружают его, два затейливой формы пруда типа старинных «аглицких рек»
находятся здесь. Дыхание близкой Малой Невки, отделяющей Каменный остров от
собственно города, Петербургской стороны (бывшего Городского острова),
ощутимо отчетливо. Зелень не столько обильна, сколько разнообразна,
распределена в пространстве и как-то по-особому свежа. Эта та стихия зелени,
влажности, свежести, с которой Достоевский не раз связывал именно острова
и которая, хотя бы на время, приносит человеку города чувство освобождения.
От дома Половцова открываются виды - на разное расстояние и под разными
углами зрения - на Елагин и Крестовский, на бывшую заречную Новую
Деревню. Но эта «открытость» вовне как-то незаметно уравновешивается «укрыто-
стью» от внешнего взгляда. Деревья и кусты прикрывают вид на дом как раз с
той стороны, которая хорошо обозрима от дома. Сам же дом раскрывается
только для взгляда изнутри острова, но зато открывающееся ему видение
многочисленных ионических колонн - и вдоль обоих боковых ризалитов и в
два ряда вдоль портика - захватывает дух как некое сказочное чудо.
У этого локуса и своя история. Как раз на месте дома Половцова (ныне на
участке № 20/18 по набережной Большой Невки; прежде он был лишь частью
владения) еще в XVIII в. был построен дом загородного типа. 21 августа
1836 г., здесь на даче Ф.И. Доливо-Добровольского35, где проводил это лето
Пушкин, был написан «Памятник». Можно думать, что это был один из
последних счастливых дней поэта в череде трудных, иногда мучительных дней, о
которых пишут очевидцы36, прорыв к высшей форме творческой свободы,
когда - раз в жизни - позволительно сказать о себе то, что до сих пор оставалось
неизвестным самому или подлежало умолчанию. Это место, возможно, было
765
не просто удобно, но и любимо Пушкиным. Отсюда он видел то, что может
видеть и теперешний посетитель этого места - Елагин дворец напротив, шустов-
ский деревянный театр сбоку и даже особняк Клейнмихеля (арх. Штакенштей-
дер), законченный как раз в 1836 г., но позже перестроенный (арх. Претро,
парадные ворота и решетка - Мельцер). Как бы то ни было, как бабочку на
огонь, Пушкина влекло к этим местам. В 1833 и 1835 гг. лето проводил он в
Новой Деревне (где в это время стояли кавалергарды), на Черной речке, в
доме Миллера (угол Языкова пер., участок № 57), - там, где прочнее всего
завязывался тот узел, который требовал, по понятиям Пушкина, смертельной
развязки. Не прошло и полугода с того дня, когда был написан «Памятник», и эта
развязка состоялась на той же Черной речке, за комендантской дачей.
Дом Половцова лучшее творение И.А. Фомина и, может быть, всего
русского неоклассицизма начала века, в котором достигнута удивительная
органичность синтеза палладианства с традициями русского классицизма -
величественность, за которой чувствуется внутренняя мощь и высота замысла, и
почти аскетическая сдержанность, но не холодящая и отстраняющая, а
напротив, как бы приглашающая к общению на равных и намекающая на
достойно-интимный характер встреч. Идее «приглашения» как нельзя лучше
отвечают украшенные колоннадами низкие боковые крылья, вовлекающие гостя
в преддомовое пространство, и внушительный портик, как бы сделавший,
подобно приветливому хозяину, два-три шага навстречу этому же гостю и более
повелительно намечающий ось приглашающего движения внутрь дома37.
Пишущий эти строки не раз ощущал на себе эту мягкую
императивность, подчинялся и ей и в не меньшей степени собственным желаниям, и
оказывался вознагражденным, попав внутрь дома. Так было и 13 сентября
1981 г., когда, идя из глубины острова, я приближался к дому Половцова,
который до недавнего времени был занят клиническим санаторием ВЦСПС
для страдающих болезнями органов пищеварения. Контраст между фасадом
дома и примыкающим к нему самым непосредственным образом
пространством (горы антрацита, какие-то доски, бочки, известка, металлические
контейнеры с отбросами кухни, давно не вмещающимися в
предназначенные им емкости и разбросанными в радиусе нескольких метров,
неистребимые запахи гниения и дешевых щей и т.п.) - тяжелое испытание, которое,
однако, надо вынести, чтобы попасть внутрь дома38. Просьба к привратнице
разрешить осмотреть интерьеры почти всегда заканчивается отказом,
нередко агрессивным. Приходится прибегнуть или к вороватости (дождаться,
когда привратница на какое-то время покинет свой пост) или к нагловатости
(попытаться изобразить собой обитателя санатория, страдающего
болезнями пищеварительных органов). В тот день были использованы оба
варианта: невозбранно очутившись внутри, я, как всегда, осмотрел Белоколонный
и бывший Гобеленовый зал, замечательное помещение Зимнего сада,
столовую с парными коринфскими пилястрами, библиотеку, поднялся по
красивейшей овальной лестнице на более скромный второй этаж, но уже при
выходе, в вестибюле, был опознан сестрой-привратницей как «чужой» и в свое
оправдание вынужден был сказать, что я очень ценю это здание и приехал
из Москвы, чтобы посмотреть его. Моя собеседница, женщина лет 55, была,
видимо, несколько польщена моим интересом к дому, который именно она
сейчас передо мной представляла. Она стала предлагать посмотреть мне те
766
или иные помещения, но я их знал, и это мое знание несколько
разочаровало ее. Но это знание было поверхностным, визуальным, не опиравшимся на
традицию, одной из носительниц которой она и являлась. В этом у нее
передо мной было преимущество, и, пользуясь им, она рассказала мне
следующую «подлинную» историю, «как это было на самом деле».
Предварительно, однако, нужно напомнить, что разговор происходил в красивом круглом
вестибюле, стены которого прорезаны мраморными пилястрами
ионического ордера, а верх венчается кессонированным куполом; против двери с
улицы, у прохода из вестибюля во внутренние покои, стоит статуя нимфы и
сатира в хорошо известном со времен Ренессанса варианте (сатир находится у
ног нимфы, несколько сзади и снизу вверх бросает на нимфу
любострастный взгляд; она традиционно красива, он подчеркнуто некрасив).
«Вот вы не знаете, что тут у нас произошло, - начала рассказчица. - Вот
подойдемте, я вам покажу эту статую. У Половцова была дочь, и она
подружилась с одним молодым парнишкой, так что у них была любовь. А отец и
узнай об этом и сказал дочери: "Вот я велю изобразить тебя бесстыдницей,
голой, а его чертиком с рожками, и чтоб вы всегда тут стояли". А она от
стыда надела свое свадебное платье и с третьего этажа выбросилась сюда.
(И показывая рукой) Там, где теперь ее статуя стоит. Там раньше был
колодец. Она бросилась в него и утонула».
Речь идет об уже упоминавшейся статуе девушки в хитоне перед
портиком, которая действительно похожа на портретное изображение39.
Некоторый курьез состоит в том, что единственное окно, из которого можно было
выброситься, - полукруглое окно фронтона на уровне третьего этажа. Но,
во-первых, оно разделено слишком большим расстоянием от статуи и,
следовательно, колодца и, во-вторых, даже если предположить сверхдальний и
сверхметкий полет, выбросившись, упасть можно было не на землю, а на
обширную крышу портика, находящуюся практически на одном уровне с
нижним срезом фронтонного окна. И тем не менее, судя по некоторым данным,
рассказанное не ad hoc придуманная история и не просто индивидуальный
миф, а как бы квазиисторическое предание места сего, предполагающее
лежащий в его основе меморат.
V. ГРАФФИТИ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ («РОТОНДЫ»)
ДОМА ЕВМЕНТЬЕВА
(Фонтанка, 81)
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени,
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит ...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры - но о ней не просит...
Но в наши дни уже и просит и повторяет то, о чем поэт сказал - Не
скажет ввек с молитвой и слезой, I Как ни скорбит перед замкнутой дверью
I Впусти меня! - Я верю, Боже мой! I Приди на помощь моему неверью!...
767
На пересечении Гороховой с Фонтанкой находятся две примечательные
предмостные площади: на левом берегу полукруглая площадь, одна дуга
которой - здание казармы местных войск (наб. Фонтанки, 90, на месте старой
усадьбы, носившей в XVIII в. название «Глебов дом»; арх. Ф.И. Волков,
вероятно), а другая дуга - дом Петровых (наб. Фонтанки, 92; за этим домом во
дворе оригинальное круглое в плане, с круглым двором, здание,
построенное по проекту Шарлеманя); на правом берегу прямоугольная, площадь,
ограниченная домом Куканова (наб. Фонтанки, 79, арх. А.И. Мельников) и
домом Евментьева, первоначально Яковлева (наб. Фонтанки, 81, арх.
неизвестен). Названные четыре здания образуют единый ансамбль, внутри
которого различаются два полуансамбля (условно - дуговой, желто-белый левый и
прямоугольный, зеленоватый, «портиковый» (по 8 колонн) правый). Весь
ансамбль сложился лишь в 30-х годах XIX в., но представить его себе
можно было уже в самом начале того же века, когда три из четырех зданий
(кроме дома Куканова) уже были построены. Дом Евментьева самый старый из
этих домов. Он был построен в 80-е годы XIX в., и этой постройкой был
поставлен важный градостроительный акцент, определяющий не только
«ближнее» пространство двух формирующихся предмостных площадей, но
и оформляющий важный узел «дальней» перспективы, завершающейся
центральным объемом Адмиралтейства, увенчанным шпилем. Сам дом
Евментьева скромен; сейчас он проигрывает по высоте и этажности (три этажа)
смежному дому Лихачева (№ 83), который некогда состоял из двух этажей,
а теперь, после войны, из четырех40. Но в этой скромности есть своя
специфика и своя прелесть: восьмиколонный, коринфского ордера портик, белые
горизонтальные тяжи между этажами, гармонирующие и с белыми
колоннами и с белыми сандриками первого этажа, крутая крыша,
контрастирующая с пологой («нейтральной») крышей дома Куканова и сама по себе
говорящая о преимуществе в своем возрасте. Но главная особенность здания
внутри его: там, где на углу «фонтанной» и «гороховой» частей дома,
находится круглая в плане парадная лестница (вход во двор в первые ворота со
стороны Гороховой). На уровне первого этажа эта «ротонда» украшена
шестью свободно стоящими колоннами; металлические лестницы (1856) ведут
на второй этаж, где лестничная площадка огибает вдоль стен всю ротонду;
стены третьего этажа декорированы пилястрами; вертикаль завершается
красивым куполом; диаметр «ротонды» достаточно велик, и вся она
производит впечатление размаха в сочетании с оригинальностью проработки
деталей. К сожалению, «ротонда» находится (во всяком случае до самого
недавнего времени) в удручающем состоянии.
Но сейчас речь о другом. В силу изолированности и «закрытости» этой
«ротонды» для случайного посетителя, пространности помещения,
известной таинственности, необычности, романтичности этого места, наконец,
из-за обилия оштукатуренного пространства, годного для делания надписей,
в последние годы (видимо, с конца 70-х) «ротонда» сделалась местом, где
более или менее регулярно и во всяком случае преднамеренно собирается
городская молодежь41, в основном объединенная духом нонконформизма
(негативный аспект) и поисками новых духовных путей и состояний,
которые помогли бы найти выход из «выносимого» ими «невыносимого», если
перефразировать поэта (позитивный аспект). Преобладающая часть надписей
768
отражает именно эти поиски Бога, веры, истины. Заметен интерес к иному,
дальнему, чужому, незнакомому и к эмоционально-поэтическому стилю
выражения. Чаще всего надписи наивны, иногда просто примитивны, и
обнаруживают, что их авторы не только и не столько неофиты, сколько просто
ищущие (не всегда ясно чего) люди, в ряде случаев более заинтересованные
в самовыражении, нежели в находке искомого. Модернизм и мода
окрашивают и определяют многое. Неприличных надписей почти нет. Некоторое
представление о типологии этих надписей можно составить по приводимым
ниже образцам.
I. Господи, если Ты есть! / Я живу в ночи, но я хочу видеть звезды. /
Сделай так, чтобы он и мои / Друзья были счастливы, и пусть будут / счастливы
те, кого они любят.
Господи, если Ты есть! / Мне 19 лет и я прошу за него / Ты не можешь
отказать; один / среди всех, Ты был добрым.
Господи, если Ты есть! / Я люблю его каждую секунду / Своей жизни и
больше нее. / Это правда. Но я не могу ему / помочь. Тогда зачем я живу?
Иисус, сын Марии! / Сделай так, чтобы / он был счастлив, / а больше мне
ничего / не надо от тебя!
П. К тебе, господи, вознесу душу мою. Народ! Пока я его вижу, IЯ жив
еще. I И на судьбу я не обижен, I Не возмущен I Насилием над духом и над
волей, I Что здесь творят. I Но недоверием не болен, /Не каплет яд I Из
уст, познавших боль и радость, I Народ людской, I Все это душ ослепших
слабость. IЯ не такой.
Лишь тем силен, что вы со мною I И с нами Бог! I Пускай нас горсть
перед толпою, I но дайте срок -1 толпа пойдет за нами следом I туда, где свет
I тем, кто не верует в свободу, I Здесь места нет. - Ленинград. Июнь 87 г.
III. Бог един мы с тобой одной крови, человек! и это кайф.
IV. Божия коровка, I улети на небо, I здесь дают котлетки I только
тем, кто в клетке.
V. Покидая Петербург, я сохраню в памяти то, что видела здесь. Инна.
VI. Бхагведагита
VII. Харе Кришна. Мы дети Кришны.
VIII. Ребята, все, кто писал эти надписи, давайте соберемся 13. 11. 86 в 23
часа и поговорим. Я думаю, есть о чем!
VI. ИЗ РАЗГОВОРОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ УБОРНЫХ
Принято считать, что «сортирные» тексты это надписи и что они всегда
«неприличные», причем неприличие состоит не столько в используемой
лексике, сколько в эротической тематике и соответствующей образности,
нередко выражаемой не только в слове, но и в рисунке. Оба эти «общих»
мнения, как правило, верны, но тем большее значение имеют исключения: не
надписи, а разговоры и не «неприличное», а «приличное», т.е. такое, что
даже при использовании обычно табуируемой лексики не содержит установки
на эротичность, соответствующую образность или вовлечение собеседника
в определенный круг тем. Такие разговоры могут носить почти
«этикетный» характер (своего рода деликатность требует нечто сказать, хотя бы
25. В.Н. Топоров
769
столь же необязательное, как разговоры о погоде в известной ситуации) и
ничего более не значить или преследовать некоторые практические цели.
Любопытно, что в этих коротких высказываниях нередко возникают
религиозно-мифологические образы, иногда обнаруживающие и связь со сферой
архетипического или, напротив, колоритные бытовые детали во
«фламандском» духе. Что же касается первого, то этому даже и не приходится
удивляться: широта размаха позволяет объединить и святое и обыденное (В Бога,
в душу, в мать ...), хотя говорить здесь о причинах этого нет возможности42.
Три примера (Ленинград, май 1986 г.). Первый. Входя в уборную,
приветливо улыбаясь, как бы в предвосхищении облегчения - «По .. ать и пё .
нуть - как в церковь сходить!». Второй. Замешкавшемуся у писсуара: «Ну,
что ты ..й, как поп крест из-за пазухи, никак не достанешь!». Третий.
«Очередник» торопит предыдущего: «Ну, что застрял? Скорее!» - «А чего
торопиться. Придешь домой, штаны снимешь, а внучек тут же: Бабка! а дедка
опять в штаны на .. ал. А бабка ими прямо тебе по морде. Вот и торопись!»
VII. ЭПИТАФИЯ НА МОГИЛЕ САРРЫ МОИСЕЕВНЫ КАЦ
На Волковом Немецком (Лютеранском) кладбище, в самой середине
его, среди пышных темных надгробий дореволюционной эпохи с
полустершимися готизированными надписями и прогнивших крестов и заросших
могил - скромная небольшая белая стела. На ее передней грани несколько
слов:
/ Здесь 18-IX в 5 часов вечера I похоронена I любимая и незабвенная I
жена, мать и бабушка Пинхаса I Миши, Оли, Сени, Саши, I Иды, Симы и
Ларочки I Кац I Сарра Моисеевна 11873 -17/IX 1935.
Конечно, немногие из них остались в живых. Но что испытали они в
своей жизни и что стало с ними? Каждому поколению - мужу, детям, внукам
досталось свое. 1937-й, лагеря, война, блокада, 1949-й, опять лагеря, и любой
другой год. И равнодушие, отчуждение, унижения, оскорбления, обиды.
Расставание со страной, где они родились и где, наверное, лежат в земле не
только их мать и бабушка. Мы подлинно знаем только одно: Сарра
Моисеевна была любима и незабвенна. И то, за что ее любили и обещали всегда
помнить, хочется верить, унаследовали и те, кто ее знал, любил и так
дружно и горячо выразил свои чувства в этой надписи.
1 В литературе известна и в несколько ином варианте. Текст надписи, находящейся на
наружной стене часовни Блаженной Ксении, с левой стороны, и ориентированный на
надпись на могильной плите, добавляет: «В 1794-1796 году принимала участие в
построении Смоленской церкви, тайно по ночам таская на своих плечах кирпичи для
строящейся церкви». Из литературы о Ксении ср.: Свящ. Опатович СИ. Смоленское
кладбище в Санкт-Петербурге. Исторический очерк // Русская старина. 1873. Т. 8.
С. 168-200; Он же. Церковь во имя Смоленской иконы Божьей Матери на кладбище
// Историко-статистические сведения о СПб. епархии. Вып. 4. СПб., 1875. С. 76 и
ел. (второй пагинации); Протоиерей Петров Л. Справочная книга для петербургских
богомольцев. СПб., 1883. Ч. 2. С. 58-60; Бутаковский Д. Раба Божия Ксения или
юродивый Андрей Федорович. СПб., 1893, 7-е доп. изд.; Белорус Ф. Юродивый
Андрей Федорович или раба Божия Ксения, погребенная на Смоленском кладбище в
770
Петербурге. Очерк. СПб., 1893; Пыляев М.И. Старое житье. Очерки и рассказы.
СПб., 1892. С. 218-220; Протоиерей Рахманин Е. Раба Божия Ксения, почивающая на
Смоленском православном кладбище в СПб. 1913, 4-е изд. и др. В последнее время,
после канонизации Блаженной Ксении, ср. Кумыш В. В память Святой Блаженной
Ксении Петербургской // Церковная жизнь Северо-Запада. 1990. № 2. О
литургических текстах см. особо.
2 Когда ее окликали по имени, она не отзывалась, а когда пытались урезонить ее, она,
свято веря, что муж воплотился в нее, сердясь, отвечала: «Ну какое вам дело до
покойницы Аксиньи, которая мирно покоится на кладбище; ведь она вам ничего худого не
сделала». На вопрос благожелательницы и покровительницы Ксении некой Прасковьи
Ивановны, как она теперь будет жить без мужа, Ксения отвечала: «Да что, ведь я
похоронил свою Ксеньюшку, и мне теперь больше ничего не нужно. Дом я подарю тебе,
Прасковья, только ты бедных даром жить пускай; вещи сегодня раздам все, а деньги на
церковь снесу, пусть молятся об упокоении души рабы Божией Ксении».
3 В 1903 г. неподалеку от кладбища, на Малом проспекте Васильевского острова, был
открыт епархиальный Дом трудолюбия для бедных женщин духовного звания в
память рабы Божией Ксении.
4 Два таких высказывания Ксении приведены выше. Наиболее известные слова были
произнесены 24 декабря 1761 г. в связи с предсказанной Ксенией смертью
императрицы Елизаветы Петровны. Переходя из улицы в улицу, она кричала: «Пеките блины,
пеките блины, вся Россия будет печь блины» (на следующий день Елизавета умерла).
За три недели до гибели Иоанна Антоновича в Шлиссельбургской крепости Ксения
каждый день плакала; когда ее спрашивали о причине слез («Не обидел ли кто тебя»),
она твердила: «Там речки налились кровью, там каналы кровавые, там кровь, кровь,
кровь!» Выйдя из дома купчихи Крапивиной и взглянув на окна, Ксения сказала:
«Зелена крапива, а скоро завянет» (вскоре Крапивина, действительно, умерла). Придя к
своей знакомой на Петербургскую сторону и увидя, что она пьет кофе со своей
дочерью, уже невестою, Ксения обратилась к девице: «Ты вот кофе распиваешь, а твой
муж на Охте жену хоронит» (ни мать, ни дочь не могли понять этих загадочных слов;
пошли на Охту, встретили процессию, провожающую на кладбище какую-то
покойницу; спустя некоторое время вдовец стал мужем девицы, распивавшей кофе). В доме
купца Разживина Ксения, подойдя к зеркалу, сказала: «Вот зеркало-то хорошо, а
поглядеться не во что». Тут же зеркало падает на пол и разбивается вдребезги.
Пообедав у одной знакомой, Ксения поблагодарила ее и, улыбнувшись, сказала: «А уточки-
то пожалела дать; да ты ведь мужа своего боишься» (хозяйка сконфузилась, потому
что в печи у нее, действительно, была жареная утка). Бывало, что, приходя в
чей-нибудь дом, она требовала пирога с рыбою; когда ей нарочно говорили, что такого
пирога не пекли, Ксения решительно возражала: «Нет, пекли, а не хотите мне дать»,
после чего она получала именно пирог с рыбою. Встретив на улице одну знакомую,
Ксения подала ей медный пятак и сказала: «Возьми, возьми пятак, тут царь на коне,
пожар потухнет». Как только, расставшись, знакомая дошла до своей улицы, она
увидела, что ее дом в огне, она бросилась к нему, но не успела добежать, как пожар был
потушен. Как-то зайдя к Прасковье Антоновой, Ксения сказала: «Ты вот чулки тут
штопаешь, а тебе Бог сына послал. Иди скорей на Смоленское». Добежав до Большого
проспекта, Прасковья увидела толпу: извозчик сшиб беременную женщину, которая
тут же родила младенца, а сама умерла; не найдя отца ребенка, Прасковья взяла его
на свое попечение и вырастила как сына. Кроткая Ксения однажды не выдержала и
бросилась с палкой на дразнивших ее мальчишек: «Окаянные Жиденяты!» Наконец,
Ксении принадлежат слова ее надгробной надписи: «Кто меня звал, да помянет мою
душу для спасения своей души» (см. выше).
5 См. Служба ст-би и и блженн-Ьй во Хргв Ксении бездомн-вй и странншгв. Петрова
града. Jordanville, New York, 1978 и др. Ср. литургические тексты, относящиеся к Ксении,
в ее часовне на Смоленском кладбище.
6 Особенно речь идет о простом упоминании или частностях. Ср. рассказ Е. Гребенки
«Петербургская сторона» (из «Физиологии Петербурга»; об улице Андрей Петрович)
25*
771
или «Сестру печали» В. Шефнера: «... а тут без тебя чудо случилось ... В газетах,
понятно, об этом нет, а так уж все в городе знают. Я с вечерни шла от Николы, так мне
одна дама попутная рассказала. А чудо вот какое. Одна вдова на Смоленском пошла
могилку мужа навестить. Вдруг видит - навстречу ей женщина самоходом идет по
воздуху. То, конечно, не женщина была, а святая Ксения Блаженная. И говорит ей
Ксения Блаженная: "Не по мужу плачь, по себе плачь. Готовь себе смертное к осени, к
наводнению великому. Вода до купола на Исакии дойдет, семь дней стоять будет!'*. Тут
эта вдова бряк с катушек - час пролежала. - Я ничего не сказал тете Ыре в ответ на
ее историю с Ксенией Блаженной. Я понимал, что ее не переубедишь» (рассказ
отнесен к августу 1940 г.). Известен ряд свидетельств об обращении к Блаженной Ксении
с просьбой о помощи и в связи с трудными ситуациями в индивидуальных, сугубо
личных делах, и в связи с той общей бедой, которая неотделима от страшных советских
десятилетий, и - нередко - об исполнении этих просьб. Во всяком случае и в самые
«атеистически-материалистические» годы жила вера в действенность этих обращений
к Ксении и надежда на ее скорую помощь. Лишь два примера. Первый из
них - о «личной» ситуации. В дневниковой записи Даниила Хармса от 27 июля
1928 г. находим: «По моим просьбам судьба связала меня с Эстер. Теперь я вторично
хочу ломать судьбу... Но может быть, мною вызванный крест должен всю жизнь
висеть на мне? И вправе ли я, даже как поэт, снимать его? Где найти мне совет и
разрешение? Эстер чужда мне, как рациональный ум. Этим она мешает мне во всем и
раздражает меня. Но я люблю ее и хочу ей только хорошего... Неужели же ей будет
плохо без меня? ... Хоть бы разлюбила меня, для того чтобы легче перенести
расставание! Но что мне делать? Как добиться мне развода? Господи, помоги! Раба Б о -
жия Ксения, помоги! Сделай, чтобы в течение той недели Эстер ушла от меня
и жила бы счастливо. А я чтобы опять принялся писать, будучи свободен как прежде.
Раба Божия Ксения, помоги нам» (Новый мир. 1992. № 2. 202; ср. запись
от 8 февраля 1933 г. «Я не могу удержать себя и не увидеть сегодня Алисы Ивановны.
Ехать к ней сейчас, почти наверняка окончательно испортить все. Я знаю, как это
глупо, но я не могу удержать себя. Я еду к ней и, может быть, при помощи Ксении все
будет очень хорошо». Там же, 210). Второй пример - о страшном общем: «А
вторая половина тридцатых годов... Аресты, расстрелы, аресты, тюрьмы, лагеря Как-то
в 1937 г. к моей матери подошла нищенка, худая, в отрепьях, с лицом
высоко-одухотворенным: - "Вижу, что и у вас тоже горе... Помолитесь блаженной Ксении,
лучше всего на Смоленском кладбище: поможет по молитве Вашей" ... Вскоре матери
разрешили свидание со мной: я отбывал тогда свой "детский" пятилетний срок...
И ходили к блаженной Ксении верующие и неверующие, но страждущие матери и отцы,
жены и сестры - помолиться о родных узниках. И ходила блаженная Ксения по
трагическим улицам Ленинградского Петербурга лет Ягоды - Ежова - Берии, неканонизирован-
ная петербургская святая прошлого века, а может, и Пушкинских времен, посылая
утешение, внушая надежду и бодрость - и многие верили: именно ходила, молясь за
страждущих и благословляя их... Легенда... В легенде народ отсеивает все случайное и
наносное персонифицирует, отвоплощает не только живое зерно истины, но и упование своей
эпохи» (Борис Филиппов. Всплывшее в памяти. L., 1990, 380-381).
7 Ср., помимо «парижской» иконы, изображения Блаженной Ксении в ее часовне на
Смоленском кладбище, во Владимирской церкви (Владимирская площадь) и др.
Особенно характерна иконная композиция, где Блаженная Ксения изображена на фоне
храма.
8 С этими планами была связана и эксгумация Блока, о которой оставил леденящее
душу свидетельство Д.Е. Максимов («Метопа о перенесении праха A.A. Блока»).
9 Так! - нарушение хронологии (В.Т.).
10 Арина Родионовна, как считалось, была похоронена на Большеохтенском кладбище,
проходящая севернее его Евдокимовская улица в феврале 1939 г. на этом основании
была переименована в Ариновскую.
11 И на стене часовни: По субботам и воскресеньям в часовне Ксении блаженной
производятся большие работы. Кто может - ждем вас в 10.30.
772
12 6 февраля (24 января) чествуется преподобная Ксения «Римляныня», чья икона
находится в часовне Святой Блаженной Ксении Петербургской.
13 Тема «воскресной скуки» дежурная для царскоселов тех лет, и она отразилась как в
разговорах, так и в печати - в местной периодике, позднейших воспоминаниях,
художественной литературе.
14 Ср. в заглавиях стихотворений из цикла «Трилистники» - «Трилистник тоски»,
«Тоска отшумевшей грозы», «Тоска припоминания», «Тоска белого камня», «Тоска
вокзала», «Тоска маятника», «Тоска мимолетности» - все из «Кипарисового ларца».
15 Впрочем, нечувствие к «историческому» нужно отличать от той мистической
завороженности надвигающейся, отнимающей возможность действия, которая, несомненно,
охватила некоторых из главных участников вот-вот имеющей совершиться трагедии.
16 Ср. у Ахматовой о Царском Селе - Ворон криком прославил I Этот
призрачный мир ... и стихотворение «Призрак» - И странно царь глядит вокруг I
Пустыми светлыми глазами.
17 Ср.: «Рядом с пьянино стоял покрытый серебрянной (так! - В.Т.) краской экран; под
пьянино висел портрет Энгельса ... внизу сидели за шашечными столиками компании
больных, играли в шашки. Немного подальше, так называемые костоеды, дулись в
домино ... На стене рядом с курортом на дому висел цветочный плакат
"человек-машина". В просторных помещениях "человека-машины", работали люди; одни лазали по
лестницам, складывали крахмал и сахар; другие подавали; третьи служили
привратниками; четвертые мыслили по поводу прочитанного; пятые сидели на деревянных кобылах,
шестые снимали аппаратом (глаз); седьмые слушали у телефона (ухо); девушки в
голубых и сероватых платьях сидели у аппаратов (нервы) ... Евгений от скуки стал
рассматривать это условное и аллегорическое изображение; несомненно, был очень
интересный плакат; цель его была заставить трудящихся запомнить, какие органы что
вырабатывают, где они находятся и как действуют. Для Евгения этот плакат выражал целое
мировоззрение ... Там (в другой комнате. -В.Т.)... на полированных столах лежали
газеты; на одном из шкафов чернел громкоговоритель; на стенах были приколоты
лозунги: "пленникам капитала, борцам за мировой Октябрь, пламенный привет рабочих",
"Ударим по рукам провокаторов новой войны - помещиков и капиталистов". На
подоконнике среднего окна белели гипсовые бюсты Маркса, Калинина, Фрунзе».
18 К «предыстории» ср. вагиновского Костю Ротикова из «Козлиной песни» и всю
соответствующую традицию: «Особой зловещей тихостью и особой нищенской
живописностью полн Обводный канал ... Железные уборные времен царизма стоят на
ножках, но вместо них постепенно появляются домики с отоплением, того же назначения,
но более уютные с деревцами вокруг. По-прежнему надписи в них нецензурны и
оскорбительны, и как испокон веков стены мест подобного назначения покрыты
подпольной политической литературой и карикатурами. Некоторые молодые люди
вынимают здесь записные книжечки из кармана и внимательно смотрят на стены и,
тихо ржа, записывают в книжечки изречения народа ... Костя Ротиков вышел ...
спрятал записную книжечку и направился далее, к следующей уборной. В воскресные дни
он обычно совершал обход и пополнял книжечку».
19 Поражает не только характерное сужение набора исторических идентификаций, но и
крайне низкий уровень знания топографии, использующейся и в наши дни, если
только она не привязана к «практически полезным» объектам. Трудно поверить, но
решительное большинство современных царскоселов не знает, где находятся Казанское
кладбище, София, Колоничка, Баболовский парк и т.п., а иногда и не знакомы с
самими названиями. Екатерининский и Александровский парки и дворцы нередко не
различаются и идентицицируются вторично по культурно-исторически несущественным
признакам. О многих даже скромных, но дореволюционных постройках на вопрос о
том, что здесь раньше было, дается стереотипный ответ: «Богатые люди, графы здесь
жили», «Здесь цари жили-гуляли. Раньше тут было лучше» и т. п. (реальные ответы в
связи с участком дачи великого князя Бориса Владимировича). Удручающая
стереотипность таких ответов подтверждается многими десятками примеров, связанных с
самыми разными объектами.
773
20 Запись, конечно, короче рассказа, и ее публикатор ручается за верность смысла
(всегда) и последовательность его развертывания (почти всегда). Было сочтено
целесообразным передать рассказ в основном в третьем лице, лишь в наиболее надежных
случаях вводя перволичную речь рассказчика.
21 Документальные данные действительно подтверждают, что среди первых
«аптекарских» работников в тогдашнем Аптекарском огороде были голландцы и немцы,
сперва как практики, а потом и как ученые, среди которых были специалисты
европейского масштаба.
22 «У Андерсена» - скорее всего, оговорка, нужно - Гофман. Действительно, в «Meister
Floh» отчетливо представлены и голландская тема, и специально Левенгук, и «микро-
скопно-оптическая» тема, и сам Леммергирт, объявленный уже в «Einleitung» (Die
Weihnachtsbescherung bei dem Buchbinder Lämmerhirt in der Kalbächef Gasse und Beginn
des ersten Abenteuers) ср. также Loewenhoek. «Sehr wunderbare Wirkung eines ziemlich
kleinen mikroskopischen Glasses», «Die schöne Holländerin» и т.п.
23 В точности этих трех слов уверенности нет, но общий смысл не вызывает сомнения.
24 Ср. у Ахматовой - На Белой башне дремлет пулемет («Русский Трианон. В
Царскосельском парке»).
25 В очередной приезд я заметил, что Дуся очень грустна и спросил о причинах такого
настроения. «А я и ня знаю», - ответила она. А вечером, когда я вновь увидел ее, она
встретила меня словами (первыми): «А я вспомнила, Петя-внук разбился на
мотоцикле на Пасху» (это произошло за две недели до разговора; слово «мотоцикл» -
результат сложной реконструкции автора этих заметок).
26 Коля (его положение в доме было зависимое, и время от времени он Дусей
отлучался), человек скромный, совестливый, сознающий и свою выброшенность из жизни и
то, что он плохой и грешный, лишь однажды «взошел» на исповедь мне. В частности,
о причинах своего теперешнего состояния он сказал приблизительно так: «Советская
власть отбила меня от земли, а я ничего не умею, только знаю, как крестьянствовать,
а теперь делать нечего, и я пью». Кажется, он понимал, что все беды именно от того,
что людей «от земли отбили» («Вон финны сами себя кормят, а у них земля хуже
нашей. А в Америке тоже богато живут. Там колхозникам на трудодень по полтора
килограмма зерна дают»).
27 Сценарий вечера, перед сном, был отработан. Идея выпивки всегда приходила в
голову как на редкость удачная, но неожиданная (пили каждый день) находка. Настроение
поднималось: Дуся могла и пошутить, сказать что-нибудь безобидно-ироническое. Но
дальше все быстро изменялось. Начиналась (Дусей) матерная брань. Деликатный
Коля урезонивал ее: «Перестань·материться, так твою мать (à toutes lettres), люди
отдыхать приехали (или: люди ученые), а ты...» (обо мне Коля говорил всегда
неопределенно-лично и во множественном числе; меня они считали учителем - фигура,
воплощающая ученость; впрочем, Дуся однажды осторожно спросила меня: «А вы не Манер-
гем будете?» - «Нет, что вы». - «А то мне соседка снизу сказала: «Дуся, говорю тебе,
к тебе Манергем приехал»). Но далее у Коли появлялись и другие претензии и упреки
к «сожительнице», и тогда, с пафосом и во всем блеске риторики, произносилось
стандартное: «Ишшы сябе честную пасцель!» Далее тон менялся: «Лагерник (Коля после
войны сидел в лагере, видимо, как пленный. - В. Г.), дождесси, я тябя посажу, будешь
знать». Когда дело шло к драке и поножовщине, я приоткрывал дверь (она, кстати, не
только не запиралась, но и не прикрывалась до конца) и пытался успокоить
тяжущихся. «Простиття мяня, грешную», - картинно произносила Дуся свою формульную
фразу, кланяясь в пояс. Постепенно стихало. Коля куда-то исчезал. Наступала ночная
тишина, время от времени прерываемая криками Дуси во сне, который, кажется,
исчерпывался одним сюжетом: кого-то режут - или ее, или «мужука». Иногда среди
ночи она врывалась в мою комнату, ничего не соображая с перепоя, но в страшном
смятении: «Где ж это у мяня мужик? Нет мужука. Мужука маво разрезали!».
28 Что же касается физической чистоты, то здесь было много противоречий. Как
только утром я выходил первый раз из комнаты, слышал профилактическое: «А с нямы-
той рожей чай не пьют» (для нее самой утреннее умывание лица было правилом - ско-
774
рее ритуальным, чем гигиеническим). Тем не менее мне каждый раз объявлялось, что
она полгода не мылась - «некому мяня в байню сводить» и выражалось желание -
«кто бы мяня помыл». Мое же умывание перед сном сначала удивило, а потом
возмущало ее; как бы a parte произносилось: «как маленькие дети, каждый день мыться! что
они работают что ли, потеют!» Вместе с тем эпитет «маленький» был у нее в
определенных контекстах окрашен в шутливо-осуждающие тона («как маленькие все
ранно»). Когда она была довольна собой, шутливо произносилось - «я как большая»,
а уж когда ей было совсем хорошо, она расплывалась в несколько смущенной улыбке
и говорила: «я как большунная».
Впрочем, о Коле она иногда проявляла и заботу. Так, ее очень беспокоило, что Коля
в очередной раз пропил все, даже кальсоны. Восстановить эту деталь туалета ей
казалось совершенно необходимым: «Коля, купи кальсоны. Ведь помрешь, что ж в трусах
в зямле лежать будешь?» Одна мысль о таком нарушении этикета казалась
кощунственной. Возможно, что Коля послушался этого разумного совета. Не знаю, как дело
обстояло с кальсонами, но однажды в воскресенье около магазина я чуть было не
узнал его в довольно представительном господине в зеленой велюровой шляпе и
приличном, хотя и несколько потрепанном, с чужого плеча, пальто, которому перед
воскресной публикой (среди нее была и куча собутыльников), видимо, лестно было на
равных поговорить со мной. Вскоре Коля умер от рака, умирал мучительно, без
всяких врачей и лекарств. Когда я увидел его в последний раз, он лежал в белой нижней
рубахе, спокойный, достойный, даже просветленный. Со смертью он действительно
был на равных и встречал ее как нечто должное и высокое. Те несколько слов,
которые он сказал мне при прощании, я не забуду. Сейчас его тело покоится в левом
дальнем углу комаровского кладбища, где лежит Ахматова и многие другие знаменитые
покойники - люди литературы, искусства, науки.
Тогда же мне показалось, что я где-то что-то похожее слышал. Не сразу вспомнил о
беседе Степки с сапожником Бессмертным в Колпине из «Петербурга» Андрея
Белого: «От табаку и водки все и пошло; знаю то, кто и спаивает: японец!» - «А откуда ты
знаешь?» - «Про водку? Перво сам граф Лев Николаевич Толстой - книжечку его
"Первый винокур" изволили читывать? - ефто самое говорит; да еще говорят те вон
самые люди, под Питербурхом». - «А про японца откуда ты знаешь?» - «А про
японца так водится: про японца все знают... Еще вот изволите помнить, ураган-то, что над
Москвою прошел, тоже сказывали - как мол, что мол, души мол, убиенных, с того,
значит, света, прошлись над Москвою, без покаяния, значит, и умерли. И еще это
значит: быть в Москве бунту». - «А с Петербургом что будет?» - «Да что: кумирню
какую-то строят китайцы!» ... - «А что, Степка, будет?» - «Слышал я: перво-наперво
убиения будут, апосля же всеопчее недовольство; апосля же болезни - мор, голод, ну
а там, говорят умнейшие люди, всякие там волнения: китаец встанет на себя самого;
мухамедане тоже взволнуются оченно, только етта не выйдет». - «Ну а дальше? - «Ну
все протчее соберется на исходе двенадцатого года; только уж в тринадцатом году...
Да что! Одно такое пророчество есть ... и потом опять - рождение отрока нового
...».- «Да о чем же мы шепчемся?» «Все о том, об одном: о втором Христовом
пришествии».
Любопытно, что вьючий восходит к праслав. *vbjçt'- - и. -евр. *vi-ont-jo 'вьющийся',
'извивающийся'. Внешне эта форма сильно напоминает эпитет ведийского «змея вью-
чего» Вритры - vyànisa-, из *vi-ànïsa-y букв, 'с расставленными плечами' или,
наоборот, 'бесплечий' (противоречие, объясняемое на более глубоком уровне). Кстати,
эпитет Вритры - ahi-, букв, 'змей' из и.-евр. *ng'hi- (слово того же корня, что русск.
уж < *о2ъ< *ang[*h-isJ ср. лат. anguis и. т. п.).
Мотив слушания колоколов, звуки которых идут из-под земли, рассмотрен в статье
автора (см. «Балто-славянские исследования 1985». М., 1986. С. 163-168). - Роль
колодца во встрече суженых известна с библейских времен, если говорить о самых
известных примерах.
Лишь несколько на выбор примеров: Ня пень, ня колода, ня волчий хвост
(скороговорка); глухой, как валуй (когда я что-то не расслышу); дай мне ухо или под ухо, т.е.
775
слушай! (приступ к началу рассказа); муж звал меня винохода (быстрой на ноги, ср.
иноходь); градобойная харя (о человеке с лицом, покрытым оспинами; Бог метит
оспой в наказание); цаперь и в пост ухвяруюцъ скоромное; здынули хохот окылъ
старухи; я разумиласъ (в сомнении); пасёстра * любовница'; пол мыюць гвярстой
(песком); какой вятролом был! (ураган); я заветнула (дала зарок, завет); мужинно, пузд-
рищ во! Булыня (об отце невесты своего внука); наклали в мешок хатули и т.п.
Когда Дуся вспомнила о самых тяжелых днях своей жизни, она говорила: «Я ня видала
пространства никакова» (т.е. просвета, свободы). Но и современной лексике была не
чужда: няльзя радиву включить? телепай хочу послухацъ (телетайп, который, как я
заметил, она очень ценила).
34 Дом Половцова (с фотографией портика главного фасада) еще успел попасть в книгу
Г.К. Лукомского «Современный Петербург» (Пг., 1917. С. 63-65).
35 Неподалеку от дома Половцова еще сохраняются остатки деревянной постройки,
находившейся некогда при даче Доливо-Добровольского (Кухонный флигель).
36 «При последнем свидании с братом, в 1836 году (в конце июня) Ольга Сергеевна
была поражена его худобою, желтизною лица и расстройством его нервов. Александр
Сергеевич с трудом уже выносил последовательную беседу, не мог сидеть долго на
одном месте, вздрагивал от громких звонков, падения предметов на пол; письма же
распечатывал с волнением; не выносил ни крика детей, ни музыки». См. Павлищев Л.Н.
Воспоминания об A.C. Пушкине. М., 1890. С. 87.
37 В кругу перед портиком стоит скульптура девушки в хитоне, в человеческий рост.
Правая рука ее у плеча поддерживает складки одежды, а левая чуть отведена в
сторону и ненавязчиво приглашает гостя приблизиться. В известной степени эта статуя
девушки подхватывает идею «приглашения», но уже на персонифицированном уровне.
38 Внутри дома иные испытания - лозунги, портреты, олеография на революционные
темы и общее несоответствие людей и стен, ощущаемое, кажется, и теми и другими.
39 Воспроизведение (частичное) статуи девушки в хитоне (неизвестный скульптор,
мрамор, 160 х 84 х 41) см. в кн.: Декоративная скульптура садов и парков Ленинграда и
пригородов XVIII-XX веков. Л., 1981, илл. № 3 в разделе «Сады в городе», а также
с. 367.
40 Между прочим, дом Лихачева примечателен любопытной лестницей начала
прошлого века (вход из-под арки): две каннелированные дорические колонны, стены с
пилястрами, архитрав с чередованием триглифов и розетт.
41 Ленинградские газеты не раз упоминали об этом месте и об этих собраниях, но здесь
речь идет именно о граффити.
42 Сказанное относится и к надписям, В старой деревянной пристанционной уборной
в Комарове, снесенной в конце 60-х годов параллельно с литературно изощренной
«интеллигентской» надписью, имеющей особый резон в месте, где находятся
ленинградские дома творчества {Художники, писатели I Уборных стен маратели, I
Нельзя ли вас, приятели, Послать: /к... ёной матери), находилось граффити
совсем иного рода, отсылающее в своих истоках чуть ли не к эпохе мирового дерева:
Для царя здесь кабинет, /Для царицы спальня, /Для сохатого буфет, /Для Ивана
... алъня. Верхний слой очевиден, учитывая, что перед нами «сортирный» текст, что
подтверждается последним стихом и последним словом-point'ом, проясняющим,
чему посвящен этот текст (... слово найдено). Все стихотворение может быть
представлено как загадка: Что такое царский кабинет? и т.п. - с ответом: отхожее место
(или как в тексте). Почему уборная - кабинет царя? (кстати, эта стихотворная
надпись может пониматься как обращение самой уборной, отражающее схему
архаичной авто-загадки, реализуемой в некоторых культурах близкими по типу
надписями на вещах - посуде, утвари, одежде, оружии и т.п.). Первый стих об уборной как
кабинете для царя отсылает и к кабинету задумчивости, к пониманию уборной как
кабинета, куда сам царь своими ногами ходит, и к образности «изначального» типа:
высокий трон и низкий нужник равны друг другу в том отношении, что и на том и
на другом сидит царь и т.п. Второй стих об уборной как спальне царицы и
третий об уборной как кормушке сохатого, похоже, находят свое частичное объясне-
776
ние в рамках схемы мирового дерева и соответствующих ритуальных песен. Связь
царского трона с мировым деревом (сам трон одна из исторических трансформаций
мирового дерева) основательно проанализирована в ряде работ. Трон стоит у
ствола дерева. Свадебные обряды происходят у дерева с тремя угодьицами (ср. русские
вьюнишные песни): на вершине - птицы, посередине - пчелы ярые, / Под корень
деревца-/Кровать нова тесова / / На той накроватушке
Ефиму шка лежит, I С молодой своей женой/ Со Оксиньюшкой душой .... (текст
типовой, формульный, многократно воспроизводимый). Каждая свадьба -
повторение иерогамии; поэтому жених и невеста в этом ритуале функционально
приравниваются к царю и царице, и постель - образ их совместного трона-ложа. В известной
картине Петруса Кристуса «Мадонна сухого дерева» (XV в.) Богоматерь стоит
посередине дереза, на его развилке, где начинаются ветки, образующие вокруг нее
род кольца-ореола. Но в ряде традиций именно в этом месте дерева изображается
ложе, на котором покоится женщина священного, в ряде случаев конкретно
царского, статуса. В этом контексте объясняется образ спальни царицы, ее ложа
(как существенный ресурс объяснения остается обычай ритуального соития в
отхожем месте, на кладбище и т.п.), как бы на пороге «нижнего» мира. Образ буфета
(кормушки) для сохатого трудно отделить от клишированного фрагмента схемы
мирового дерева - парнокопытное, крупное рогатое животное (нередко именно
лось, как в ряде сибирских традиций) пасется на лугу у ствола мирового дерева,
щипля траву. Иван находится в самом низу, и сам он представлен исключительно
своим телесным низом (ср. «Ярмарку с театральным представлением» Брейгеля
Старшего с фигурой человека, делающего то же, что и Иван, у большого дерева,
стоящего на переднем плане). Этот конкретный образ Ивана, резюмирующий
ситуацию, индуцирует подобную топику и в предыдущих стихах. Связь верха с низом,
царя с Иваном, царской власти с производительной функцией объясняет, по каким
критериям мир-царство сопоставим с антимиром отхожего места (золото - атрибут
царя, но «золото»-фекалии характеризуют и Ивана, ср. золотарь). Народная
низовая комика предлагает два типа нейтрализации ситуации или ее перевертывания:
царь проваливается в отхожее место, Иван садится на трон; место царицы - ложе -
неизменно, но принадлежит оно то царю, то Ивану. - К «сродству» скатологии и
эсхатологии ср. Schwartz M. Scatology and Eschatology in Zoroaster // Papers in Honour of
Professor Mary Boyce. Leiden, 1985. S. 473-496.
26. B.H. Топоров
ИЗ РАЗДЕЛА XI: ПАМЯТНИКИ
О ДИНАМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
«ТРЕХМЕРНЫХ» ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
(семиотический взгляд)
ФАЛЬКОНЕТОВСКИЙ ПАМЯТНИК ПЕТРУ I
Перегородок тонкоребрость
Пройду насквозь, пройду, как свет,
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.
Ниже по необходимости вкратце излагаются некоторые положения более
подробного текста на тему, названную в заглавии и суженную здесь до
нескольких соображений, относящихся к фальконетовской статуе Петра I1.
Конкретнее речь пойдет о том, как нужно «смотреть» этот памятник, чтобы
выявить максимум формообразующих элементов и уяснить и усвоить себе всю
возможную полноту соединяемых с ними смыслов, реализующую некий
единый и общий смысл и превышающую мыслимую создателем памятника их
полноту. Это преимущество - пусть потенциальное - возможностей
конгениального автору «зрителя» над актуализированными в творении
возможностями творца-создателя объясняется именно тем, что дело последнего уже
завершено и в известном смысле все остальное более не зависит от творца (впрочем,
и создавая памятник, он в своем творении зависел не только от своих
собственных возможностей), тогда как дело «зрителя» находится в процессе своего
развития, и пока памятник существует, оно будет продолжаться, открывая в нем
все новые и более глубокие смыслы, поскольку теперь именно такой
«зритель» определяет дальнейшую жизнь памятника в пространстве его
смыслового возрастания и углубления, ибо и в этом случае действительно то, что
относится к любому эстетически отмеченному «великому» тексту: «Divina eloquia
cum legente crescunt»,— говорил папа Григорий Великий («In Hiezechihelem» I,
VII, ср. также: «Scriptum cum proficiente proficit»). Сама эта связь
«непосредственного» творца с тем, что «выше» его, с вне его находящимся источником
творческой «сверх-силы», и с тем, что «ниже» его, зрителем или читателем,
делает такого творца некиим посредствующим звеном, во-первых, и, во-вторых,
помещает всех троих в единое пространство творения, хотя роли каждого из
них разные, и превращает их в своего рода органы некоей свыше идущей
инспирации и/или вынуждает их испытывать жажду иного, другого как
собеседника, потребность в нем, как и вообще в расширении проективной сферы
творческого духа в надежде на возрастание творения - открытие новых, до
того скрытых, точнее, еще неродившихся смыслов.
778
В основе такой двусторонней связи, за которой предчувствуется
присутствие великой тайны, лежит лишь на поверхностном уровне кажущийся
естественным принцип соотнесенности точки зрения («внутреннее») и зримой
структуры («внешнее»), воспринимающего (восприятия) и воспринимаемого
(воспринимаемости), активного и пассивного, в конечном и уже достаточно
упрощенном счете - субъекта и объекта, практически удобной иллюзии,
порождаемой в мире сем в процессе переработки и приспособления к своим
нуждам тайны мира иного.
Сама же только что указанная соотнесенность основана на
распределении некоего единого начала в том и другом, обладающих-владеющих
(и.-евр. *vel-d-: *vol-d-) этим единым, но пребывая при этом в разных
модусах, - как чистая потенция в первом случае и как осуществленность-реали-
зованность в другом. «Дантовская» любовь, движущая мирами (L'Amor che
muove il Sole e Valtre stelle), бросает то и другое в объятия друг друга,
соединяя их в благодатном союзе, без чего невозможно рождение их общего
плода - смысла как высшей формы «знакового» бытия, цветения и
плодоношения. Раздельно-разъединенное существование, принципиальная
несоединимость того и другого - второе «или» альтернативы - означает
«знаковое» бесплодие, некий нуль как неизбежный результат зрения
незримого н и ч τ о или н и к е м не зримого нечто. Потому-то так и нуждаются друг
в друге эти двое возлюбленных -этот и тот, «зритель» и то, что,
доступное созерцанию, готово к бытию в созерцании «зрителя» - «созерцаемое».
Здесь нет ни возможности, ни надобности говорить обо всех контекстах,
существенных в связи с соотношением «зрителя» и «созерцаемого» им. Но
имея в виду конкретный пример (памятник Петру I), все-таки важно кратко
обозначить некоторые из этих контекстов. Только один из них имеет
общий, так сказать, теоретический характер, но обойти его здесь невозможно.
Этот контекст -онтологический, и его по праву следовало бы
назвать «платоновским», а в связи с его продолжением-развитием в сфере
искусства «трехмерных» форм, - еще и «гейдеггеровским». Поскольку речь
и в данной заметке идет о трехмерном объекте искусства, в котором
каждая из трех «мер», физически, материально «принудительно»
необходима и независима от свободной воли творца (если только он не готов
покинуть «трехмерное» пространство как поле своего творчества) и, более того,
з н а к о в о отмечена, т.е. реализует некую особую функцию или какую-то
сторону общей функции, приходится ввести лишь одно ограничение - речь
идет именно о трехмерном пространстве и соответственно о «сродном»
ему в отношении количества «мер» объекте, и, следовательно, из
рассмотрения исключается как «ущербное» двумерное пространство (в
русском слове пространство/: простор/, смысловое богатство которого
отмечал Гейдеггер, префикс про- предполагает сочетание двух идей -
устремленности действия «странения-сторонения» вперед и сквоз ь-ч е ρ е з
«пустоту» и в разные, во всех мыслимых направлениях, стороны; и первая
идея в известном смысле диагностически более важна, чем идея
разнонаправленное™ «странения-сторонения», несомая словом pac-lnpo/странение,
поскольку геометрия пространства такова, что всякое «вперед» и «сквозь-че-
рез» предполагает ρ а с-/про/странение, но не всякое «рас-/про/странение»
предполагает «вперед», ср. случай инволюции пространства, выхода из дан-
26*
779
ного в широкую область иных пространств), так и слишком богатые п-мер-
ные (где η > 3) пространства, практически недоступные человеку (во всяком
случае в «нормальных» состояниях).
«Платоновский» контекст имеет дело с соотношением бытия,
пространства и материи (возникновения) и - в отличие от атомистического учения
Левкиппа и Демокрита о пространстве как пустоте (το κένον), заполняемой
движущимися единицами, - оказывается чутким и отзывчивым к началу
«мифопоэтического». У Платона существенно прежде всего подчеркивание
разницы между материей как чистым становлением и пространством как не-
киим оформлением. «(...) есть еще один род, - пишет он, - а именно
пространство ((...) αΰ γένος öv το της χώρας): оно вечно, не приемлет
разрушения, дает обитель всему рождающемуся, но само воспринимается вне
ощущения, посредством некоего незаконного умозаключения, и поверить в
него невозможно. Мы видим его как бы в грезах и утверждаем, будто этому
бытию непременно должно быть где-то, в каком-то месте и занимать какое-
то пространство (έν τινί τόπω και κατέχον χώραν τινά), а то, что не
находится ни на земле, ни на небесах, будто бы и не существует. Эти родственные им
понятия мы в сонном забытьи переносим и на непричастную сну природу
истинного бытия, а пробудившись, оказываемся не в силах сделать
разграничение и молвить истину, а именно что, поскольку образ не в себе самом
носит причину собственного рождения, но неизменно являет собою призрак
чего-то иного, ему и должно родиться внутри чего-то иного, как бы
прилепившись к сущности, или вообще не быть ничем. Между тем на подмогу
истинному бытию выступает тот безупречно истинный довод, согласно
которому две вещи, доколе они различны, не могут родиться одна в другой как
единственная вещь и одновременно как две (ποτέ γενόμεν έν αμα ταΰτόν και
δύο γενήσεσθον). Итак, согласно моему приговору, краткий вывод таков:
есть бытие, есть пространство и есть возникновение
(öv τε και χώραν και γένεσιν είναι), и эти три (рода) возникли порознь еще до
рождения неба» (Timaeus 52 a-d). В связи с темой этой заметки особенно
существенно платоновское понимание материи как чистого становления, не
связанного в отличие от пространства с каким-либо оформлением.
Материя - «восприемница и как бы кормилица всякого рождения» (πάσης είναι
γενέσεως ύποοοχήν αυτήν οίον τιθήνην, 49а); она «вскармливает» все живое,
и через нее «воспринимаются» высшие идеи в мире чувственных
феноменов. Именно бесформенность материи объясняет, почему она способна к
идеальному восприятию образца (отсюда, по Платону, воспринимающее
начало - мать, образец - отец, промежуточная природа - дитя, 50d). Общение
отца и матери, идеи и материи, свободного и необходимого приводит к
воплощению - материализации идеального, к созданию Космоса,
размещенного в пространстве как «обители всего рождающегося»2. Материя-мать,
воспринимая образец-семя, как бы передает свое свойство «матричности»
(быть матрицей) пространству, «месту», способному являть себя через вещь,
то, что находится в нем и оформляет его.
«Гейдеггеровский» слой в «платоновском» контексте пространства
связан прежде всего с вопросом о видах связи между пространством и вещами,
причем в последних подчеркивается не столько их
материально-физический, «вещественный» аспект, сколько пространственный. В этом послед-
780
нем вещи выступают как м е с τ а, и пространство не более чем их
распространение. Эта излюбленная идея немецкого философа может быть
подкреплена, в частности, и тем, что в мифопоэтической модели мира
пространство находит себяв вещи и тем явственнее, чем сакральнее вещь.
Великое произведение искусства, воплощая собой с особой энергией и
яркостью пространство, тем самым воплощает и «истину бытия», освещая этим
и тайную суть пространства, и тайну пространственности искусства
трехмерных форм. Поэтому неслучаен опыт совместного, на фоне друг друга и,
более того, одного через другое, рассмотрения пространства и искусства,
предпринятый Гейдеггером в конце его жизни3. Тем более существенно, что
искусство в данном случае представлено наиболее репрезентативным в
контексте темы пространства видом -скульптурой.
Имея в виду ходячие истины на тему «искусство и пространство» и
модные направления в ее развитии, Гейдеггер начинает с ключевых вопросов -
«Скульптурное тело что-то телесно воплощает. Оно воплощает
пространство? Скульптура есть овладение пространством, достижение господства над
ним? Скульптура соответствует тем самым технически-научному
покорению пространства? (...) Пространство (...) все упрямее провоцирует
современного человека на свое окончательное покорение? Не следует ли и
современное изобразительное искусство тоже этой провокации, пока понимает
себя как некое противоборство с пространством? (...) Позволяет ли она
(собственная суть пространства - В. Т.) еще и высказать себя?» И далее -
вывод о туманности понятия художественного пространства, непреодолимой
до тех пор, пока не уяснена «собственная суть пространства», после чего
новые, но уже отчасти и таящие в себе намек на ответ вопросы: «Если только
признано, что искусство есть про-из-ведение истины в действительность и
что истина обозначает непотаенность бытия, то не должно ли в
произведении пластического искусства стать основополагающим также и истинное
пространство, то, что раскрывает его интимнейшую суть?» И после
призыва прислушаться к языку, к тому, что он говорит в слове «пространство», в
котором являет себя простор, «нечто простираемое, свободное от преград»,
несущее свободу и открытость для человеческого поселения и обитания, -
«простор, продуманный до его собственной сути, есть высвобождение мест,
в которых судьбы обитающего человека повертываются к целительности
родины, или к гибельной безродности, или уже к равнодушию перед лицом
обеих. Простор есть высвобождение мест, вмещающих явление бога, мест,
покинутых богами, мест, в которых божественное долго медлит с
появлением. Простор несет с собой местность, готовящую то или иное обитание.
Профанные пространства - это всегда отсутствие сакральных пространств
(...) В просторе и сказывается, и вместе таится событие (...) В о - π е ρ в ы х,
простор уступает чему-то. Он дает царить открытости, позволяющей, среди
прочего, явиться и присутствовать вещам, от которых оказывается
зависимым человеческое обитание. Во-вторых, простор приготовляет вещам
возможность принадлежать каждая своему "для чего" и, исходя отсюда, друг
другу». И, наконец, переходя непосредственно к теме пространства и
скульптуры:
«Нам следовало бы научиться сознавать, что вещи сами суть места, а не
только принадлежат определенному месту. В таком случае мы на долгое
781
время были бы вынуждены допустить странное положение вещей (...) О
взаимодействии искусства и пространства пришлось бы думать, исходя из
понимания места и области. Искусство как скульптура: вовсе не овладение
пространством. Скульптура тогда не противоборство с пространством.
Скульптура - телесное воплощение мест, которые, открывая каждый раз
свою область и храня ее, собирают вокруг себя свободный простор, дающий
вещам пребывать в нем и человеку обитать среди вещей. (...) По-видимому,
объем уже не будет отграничивать друг от друга пространства, в которых
поверхности облекают что-то внутреннее, противопоставляя его внешнему.
То, что получило название объема, должно было бы утратить это свое имя
(...) А что станет с пустотой пространства? (...) возможно, как раз пустота
сродни собственной сути места и потому есть вовсе не отсутствие, а
произведение (...)
Пустота не ничто. Она также и не отсутствие. В скульптурном
воплощении пустота вступает в игру как ищуще-проектирующее выпускание,
создание мест. (...) Скульптура: телесно-воплощающее про-из-ведение мест и,
посредством этих последних, открытие областей возможного
человеческого обитания, возможного пребывания окружающих человека, касающихся
его вещей. Скульптура: телесное воплощение истины бытия в ее создающем
места про-из-ведении. (...) истина как непотаенность бытия не обязательно
привязана к телесному воплощению» (Heidegger 1969)4.
Какое «про-из-ведение мест» телесно воплощает статуя Петра I и какие
области «возможного человеческого обитания и пребывания касающихся
его вещей» она открывает? в каком пространстве и как происходит телесное
воплощение «истины бытия» в ее создающем места про-из-ведении? - все
эти вопросы, так или иначе относящиеся к связи «внутреннего»
пространства памятника с «внешним» пространством, его окружающим, не могут быть
здесь рассмотрены ни по условиям места и времени, ни из-за ограниченных
возможностей автора этих строк, ни, наконец, в силу динамизма самой
ситуации, предполагаемого поставленными вопросами: они обращены к
бесконечности (и в этом их право), а ответ поневоле конечен и обречен не
соответствовать самому принципу такого вопрошания.
Поэтому здесь и пока осторожнее сказать вкратце о локальном
контексте памятника и о роли художника в выборе того пространства,
которое собирается этим памятником воедино. Что касается выбора места для
него, которое остается физически (и «статически») одним и тем же с 1782 г.,
когда памятник был открыт, и по сей день, то в этом выборе Фальконе не
принимал и не мог принимать никакого участия. Разумеется, он знал о
разных предлагавшихся проектах, но влиять на выбор он никак не мог, и ему не
дано было познакомиться с памятником in loco и de visu. Вопрос о выборе
места решался выше. Вариантов было много, поскольку в Петербурге, даже
в его центральной «казовой» части, расположенной вдоль южного берега
Невы в пределах Адмиралтейского острова, «пустых» пространств было
достаточно. Поэтому и количество разных проектов было значительным5, и в
выборе места участвовали и Сенат, и Контора строений, и ближайшее
окружение Екатерины, и, конечно, она сама. Отбор проектов продолжался
четыре года и был закончен в 1770 г., когда, как сообщает Фальконе в своих
«Наблюдениях над статуей Марка Аврелия», им была завершена работа над
782
моделью памятника, продолжавшаяся 18 месяцев, начиная с февраля
1768 г.6. «Внешне е» пространство памятника, определяемое
возможностями его обзора, а также фоном, на котором памятник мог быть увиден, не
оставалось одним и тем же с конца XVIII в. по середину XIX в., когда это
пространство приняло тот вид, который в основном сохраняется и сейчас,
если не считать упразднения понтонного Исаакиевского моста,
распространения Александровского сада на Сенатскую площадь, что существенно
сузило обзор памятника со стороны Исаакия, и частичного изменения фасадной
линии домов № 3-7 (от Конногвардейского манежа до дома Мятлевых) на
Исаакиевской площади (что, впрочем, мало изменило прежнюю картину).
Обращаясь к вопросу о пространстве, окружающем памятник,
современный исследователь пишет: «Таким образом, избранное для будущего
монумента место представляло собой небольшую площадь7, ограниченную с
севера Невой; на юге эта площадь замыкалась Адмиралтейским каналом и
Малым Исаакиевским мостом через него, который вел к площади, где
находился старый Исаакиевский собор; с запада площадь ограничивалась
старым зданием Сената, а на востоке проходил земляной вал и каналы,
окружающие Адмиралтейство» (Каганович 1975: 49). Это описание соответствует
плану Сенатской (ранее - Петровской) площади и примыкающей к ней с
юга, за Адмиралтейским каналом, площади - Исаакиевской, составленному
в XVIII в. (современную копию этого плана см.: Каганович 1975: 47).
«Внешнее» пространство памятника менялось по сравнению с 80-ми годами
XVIII в., когда была засыпана (1817) часть канала (западная его часть,
соединявшаяся с Невой), окружавшего Адмиралтейство с 1715-1716 гг., срыты
параллельные этой части канала валы, ликвидированы некоторые
хозяйственные постройки в западной части территории Адмиралтейства. Когда в
1842 г. был засыпан Адмиралтейский канал, отделявший Сенатскую
площадь от Исаакиевской, «внешнее» пространство памятника удлинилось
наполовину, и сдвоенная площадь приобрела характерный для больших
петербургских площадей отпечаток пустынности (ср. пустыни немых площадей у
Анненского)8.
Разумеется, происходили и менее значительные изменения в размерах
этого «внешнего» пространства памятника. Некоторые из них известны,
другие предполагаются с определенной степенью достоверности по данным
письменных документов и материалам изобразительного искусства
(картины, рисунки, гравюры, литографии и т.п.), хотя «реальная» интерпретация
последних иногда ставит перед исследователем серьезные вопросы,
ответить на которые в ряде случаев весьма трудно. Один из таких случаев -
картина Б. Патерсена 1794 г. (Эрмитаж), изображающая Исаакиевский мост и
Сенатскую площадь со стороны Васильевского острова (см.: Патерсен
1978: рис. 25-28)9. В конце XVIII-начале XIX в. Патерсен, несомненно, был
самым талантливым, наблюдательным, тонким и работоспособным
художником, создавшим большую серию видов Петербурга в разных его частях.
Его произведения нередко фиксируют такие детали петербургской жизни,
городского пейзажа, архитектуры и т.п., которые остались не
зафиксированными другими художниками. Тем большее недоумение вызывает одна из
наиболее ценных по содержащейся в ней информации упомянутая картина
1794 г. Одно из основных ее достоинств, объясняющее и ряд других, - ее па-
783
норамность. Левый берег Невы охвачен от башни коробовского
Адмиралтейства (и даже забирая несколько левее) до старого здания Сената,
помещавшегося в бывшем доме А.П. Бестужева-Рюмина и в 1763 г.
перешедшего в казну. Естественно, что изображения этой части левобережья
Невы нередки и, можно сказать, хрестоматийны, но именно этот участок,
выбранный Патерсеном, в «прямой» фронтальной перспективе, с видом на
Сенатскую площадь во всем ее охвате никто из художников XVIII - первой
четверти XIX в. не изображал10. В этом, как и в заполнении пространства
изображения, в пристальном внимании к деталям и в тщательности их
проработки, в русской живописи того времени лучших свидетельств об этой
части города, чем упомянутая картина Патерсена не было. Панорамность
как один из принципов организации пространства приобретает в этой
картине полную свою силу, определяющую и выдающееся значение целого
картины, введением в нее другого композиционного акцента -
направляющей взгляд зрителя доминантой, образуемой низким плашкоутным Исааки-
евским мостом, который строго перпендикулярен к берегам Невы и на
мысленном продолжении которого, уже за его пределами, находится монумент
Петра (см. фрагмент картины Патерсена 1794 г.). Эта «поперечная»
доминанта, как бы продолженная и во всяком случае усиленная самой
значительной на картине вертикалью в виде стройной колокольни ринальдиевского
Исаакия, настолько активна и «энергетична», что она не только собирает
собой и вокруг себя более пассивную горизонтальную линию левобережья,
застроенного низкими (за исключением собора) зданиями, но не позволяет
затеряться в этой небольшой картине (68,0 х 85,0) крошечной фигурке
конного всадника, почти до предела удаленного от переднего плана картины:
длинный и довольно узкий мост почти принудительно направляет взгляд
зрителя именно в сторону памятника, соотносимого и с Исаакием, подобно
тому как многочисленные, почти стаффажные фигурки, всадники, возы с
впряженными в них лошадьми с правого, васильевскоостровского, берега
вовлекаются в узкое пространство моста, откуда уже нет другого пути
кроме левого, адмиралтейского, берега, а там - к памятнику и Исаакию
(и наоборот, ср. два экипажа, почти достигших правого берега).
Но этот «сильный» акцент на оси, перпендикулярной к течению Невы,
приводит к странной, до конца необъяснимой топографической аттракции,
неожиданной в картине такого чуткого к передаче «реального»
пространства мастера, каким был Патерсен. Изображение ширины «внешнего»
пространства памятника не вызывает никаких сомнений в верности11. Но г л у-
б и н а этого же пространства, беспощадно обнаруживаемая «поперечной»
доминантой, не может не поставить втупик любого знатока петербургской
топографии конца XVIII в., особенно при сопоставлении ее с глубиной того
же пространства после постройки монферрановского Исаакия, который,
как часто утверждают, был возведен на месте разобранного
ринальдиевского собора. Но даже если принять во внимание, что последний стоял
несколько ближе (незначительно) к Неве (кстати, он был и сдвинут немного влево в
сторону Адмиралтейства)12, такая ничтожная глубина, определяемая
расстоянием от берега Невы до собора и так отчетливо переданная на картине
Патерсена, представляется резко не соответствующей реальному положению
вещей. В это «мелкое» по глубине пространство художник втискивает (в на-
784
правлении от берега к собору) памятник Петру, нечто относящееся к
строительству еще не достроенного собора, одноэтажное строение с башенкой
(слева), по-видимому, ограду вокруг собора, и все это занимает разные по
глубине места. Для продолжения «пра-Галерной» влево и Адмиралтейского
канала, которые отделяли памятник Петру от Исаакия, в этой скученности
физически не могло быть места, и поэтому не приходится удивляться, что
художник отказывается даже от приблизительного обозначения
Адмиралтейского канала и перпендикулярного к нему ответвления в сторону Невы,
отделяющего Адмиралтейский канал от Прядильного и носившего название
Смоляного (позже - Мастерского), который был засыпан только в
1797-1798 гг.13, т.е. позже появления памятника и написания Патерсеном
своей картины. Это несоответствие изображаемого реальности, с одной
стороны, внушает определенную надежду на объяснение «казуса» (в нем,
кажется, можно видеть результат той игры художника с реальным
пространством, следы которой обнаруживаются и в других его работах, -
«сокращенная» перспектива, сгущение и «энергетизация» пространства,
динамизация его через его заполнение, своего рода «экономия» пространства,
одним словом - скорее следование духу пространства, чем его эмпирии как
главному предмету изображения), а с другой стороны, это
несоответствие существенным образом компенсируется «раз-движением» этого
неглубокого пространства в полосе, определяемой направлением Исаакиевского
моста, сильно вглубь в сторону Исаакиевской площади, находящейся за
собором, вплоть до дворца графа И.Г. Чернышева, построенного Валлен-
Деламотом в 1762-1768 гг. (в начале 40-х годов XIX в. на этом месте был
построен Штакеншнейдером Мариинский дворец, причем частично в него
были включены и некоторые объемы Чернышевского дворца). В результате
этого раздвижения-углубления пространства фигура Петра, в о-п е ρ в ы х,
оказывается на фоне сдержанно-величественного, несколько
«французского» дворца Чернышева14, выступающего здесь как своего рода кулиса; в о-
вторых, памятник отмечает точку скрещения-пересечения двух узких
перпендикулярных полос - продольной и поперечной, как бы образующих
крест, в центре которого - Петр (этот большой «горизонтальный»,
«земной» крест может быть соотнесен с пятью малыми крестами тесно
сомкнутых «золотых» куполов ринальдиевского Исаакия15); в-третьих, фигура
Петра (особенно жест его правой руки) некиим образом приглашает к
расширению «внешнего» пространства памятника направо и назад, намекает на
его реальное существование и в 80-е годы XVIII в., и в годы, когда
писалась картина Патерсена, и позже вплоть до настоящего времени.
То, что эти «операции» с пространством были сознательными и
«расхождение» изображенного с изображаемым далеки от случайности, видимо, не
должно вызывать сомнений: слишком хорошо знал Патерсен это место16, и
слишком привержен он был документализму, чтобы что-то менять в
изображаемом без основательных причин, из простого своеволия, соблазна
импровизации. То, ради чего он готов был в определенных случаях идти на
изменение изображаемого в изображении его, можно назвать духом
целостности, завершенности, стремящимся обнаружить себя в картине или рисунке
таким собиранием деталей изображаемого в целое, которое, соотнося их
друг с другом и оставаясь верным эмпирии, все-таки обозначает и некий на-
785
мек на общее, единое, глубинное, что уже и является первым шагом к
достижению сверх-эмпирического слоя в произведении искусства.
Продуманность ракурсов изображения (иногда «интенсифицирующего» характера и
нередко предполагающих подчинение частного общему), соотношение
элементов цветовой гаммы, «пред-пленеризм», взаимная соотнесенность
(нередко нестандартная) человеческих фигур и их групп, обживающих
пространство, расположение крупных объектов (жилые строения, дворцы,
храмы, хозяйственные постройки и т.п.) - все это работает на
синтетически-целое, все это пронизано «потенциальным» или вполне осуществляющимся
движением, придающим некий «внутренний» динамизм изображению
того, что преобладающе статично17. Размер человеческих фигурок
существенно мал по сравнению с изображаемыми объемами зданий и «пустых»
пространств, и поэтому они могут быть поняты как некие кванты движения,
как бы «прошивающие» все изображение: зритель не всегда осмысляет роль
этого движения (кстати, вовсе необязательного для стаффажных фигурок),
но чаще всего подсознательно усваивает его, «ощущает» как некое связующе-
динамизирующее начало, в котором незримо присутствует не только то, что
уже есть, но и то, что будет или может быть (или даже уже некогда было)18.
В этом контексте представляется убедительным мнение что, изображая
на картине 1794 г. ринальдиевский Исаакий, художник сделал сознательный
динамический сдвиг не только в пространстве, но и во в ρ е м е н и: такого
Исаакия, каким изобразил его Патерсен, ни при жизни художника, его
запечатлевшего, ни при жизни архитектора, создавшего его проект, и вообще
никогдане было, а было - замечательный проект гениального
мастера, модель Исаакиевского собора (1768), хранящаяся теперь в
Музее Академии художеств, и картина выдающегося художника,
воплотившего в цвете в двумерном пространстве до конца не осуществившийся
проект. О ринальдиевском Исаакий и надо судить не по тому сооружению,
которое кое-как было завершено архитектором Бренна в 1802 г., а по э τ о й
модели и этой картине19. И та и другая превосходны и дают
представление о том, чем должен был бы стать собор, но они же дают в полной
мере почувствовать горечь от недовоплощенного, более того, от
извращенного проекта: еще в 1784 г. в результате несчастного случая Ринальди
вынужден был навсегда покинуть Россию, чтобы через десять лет, дожив до
середины девятого десятка лет, найти свой конец в Риме; после смерти
Екатерины, когда Павел задумал строить Михайловский замок, он
распорядился передать мрамор, которым только до антаблемента успели
облицевать храм, новой стройке, а недостроенные главы и купола сделать из
кирпича. Двух царствований памятник приличный: I Низ мраморный, а верх
кирпичный... - острили в обществе20. Как бы обесчещенный достоял он до
монферрановской поры. Мрамор действительно был, и он отчетливо виден
на картине Патерсена; золотые купола должны были быть, но таковыми не
успели стать: их можно видеть только на той же картине. Когда Бренна
довел строительство до конца, расстроенный художник изобразил «новый»
Исаакий уже «честно», каким он был, без всяких «фантазий» (картина
«Исаакиевский понтонный мост и Сенатская площадь в дни празднования
столетия Петербурга», 1803)21, но от этого не стало легче; впрочем,
честность Патерсена и без того вне всяких сомнений: проект Ринальди был
786
изменен Бренной в 1797 г., через три года после того, как Патерсен
предвосхитил в своей картине известный ему первоначальный проект22.
Изменениям в объеме и очертаниях «внешнего» пространства памятника
соответствуют и изменения «кулис», т.е. того фона, на котором мог восприниматься
памятник. Так или иначе, но менялось все - и вид Адмиралтейства с запада, и
фасад Исаакия, ограничивающий площадь с юга, и вид «сенатской» стороны
для зрителя, находящегося восточнее ее. И в этом изменении равно
существенны были и эволюция внешнего декора при том, что некоторые здания в
своей основе оставались прежними, но кардинально перестраивались (так,
конную фигуру Петра с одной и той же точки зрения можно было видеть и
на фоне барочного бестужево-рюминского дома, и на фоне этого же дома в
его раннеклассицистической интерпретации, и на фоне сменившего его на
этом месте Сената в духе россиевского зрелого классицизма), и возрастание
этажности и/или высотности здания. Даже наиболее устойчивые к
изменениям во времени «северные» кулисы, будущая Университетская набережная
(ряд зданий, определявших лицо этого места уже существовали до открытия
памятника Петру, другие возникли почти в то же самое время, как здание
Академии наук, или несколько позже), претерпевали изменения и в первой
трети XIX в. (Румянцевский (Соловьевский) сад, бывший Музейный
флигель Академии, южный пакгауз Биржи). Неизменными оставались только
«верхние», небесные кулисы (если не считать, что возрастание высотности
зданий делало ничтожные изъятия по периферии и из них).
Как изменялся фон, на котором выступал памятник Петру I, довольно
хорошо известно, и здесь нет необходимости говорить ни об этом, ни о
наборе, так сказать, «институализированных» ракурсов, с которыми по
традиции имеют дело и зрители, и художники и - нередко - даже исследователи
памятника, искусствоведы23. К сожалению, хуже известна остающаяся в
тени динамика изменений образа статуи при переходе от одного
такого «институализированного» ракурса (соответственно - позиции) к
другому, и, следовательно, поневоле недооценивается роль «нестандартных»
ракурсов и соотносимых с ними позиций, образующих своего рода «веер»
возможностей, при случае актуализирующихся и иногда вступающих
в сложные взаимоотношения с «реальными» объектами24.
«Локальный», в частности, конкретно-пространственный контекст
памятника Петру I наиболее существен в связи с темой статьи, хотя бы
потому что речь идет в ней о динамических изменениях, обнаруживаемых в
пространстве. Другие важные контексты, которые должны быть
проанализированы в подробной версии текста, здесь могут быть только перечислены:
1. «И деологический» (в государственно-политической версии),
обнаруживающий себя и в самой идее создания памятника и выборе места
для него, в окружении памятника (Сенат, Синод, Исаакий, Адмиралтейство;
для полной «симфонии» власти закона, духа, силы и денег не хватало
высшей власти, в той или иной мере реализующей или подчиняющей и все
остальное, - императорской: в 1782 г. символ последней появился здесь, в
соответствующем ему окружении), в литературе и документах официально-
государственного направления и т.п.
2. «И с τ о ρ и о с о φ с к и й» (от Пушкина до Е. Иванова, Г. Федотова
и Д. Андреева, если говорить о наиболее диагностически важном столетии
787
в спорах о Петербурге и его скульптурном символе, об этом см. в другом
месте).
3. «М ифопоэтический», художественно отмеченный, в высших
своих проявлениях достигающий высот символического (от «основного»
мифа в варианте поединка и победы конного всадника божественного
происхождения над своим противником хтонической природы, чаще всего Змеем,
поражаемым на камне, каменной скале нередко каменным же оружием,
громом-молнией, ср. «Гром-камень» как название скалы, несущей конного
Петра, до «петербургской» мифологии, возникшей вокруг памятника сразу же
после его открытия, а вероятно, уже и до этого25, и оформленной
Пушкиным, но продолжавшей и позже порождать новые версии как в
художественной литературе, так и в «низовом» петербургском фольклоре, лишь
частично просачивавшемся в письменные источники - ср. Анциферов 1924; Lo
Gatto 1960 и др.).
4. Контекст «Петербургского текста» русской литературы
(см. об этом в другом месте).
5. Контекст, специально относящийся к традиции изображения в
искусстве конного всадника- бога, властелина, героя-победителя и т.п.
(от архаичных мифологических и ритуальных образов типа хеттского Пир-
вы или так называемого «фракийского всадника» до их более поздних
продолжений, многочисленных в эпоху Возрождения и позже вплоть до
настоящего времени; в связи с фальконетовским памятником существенно
выделить хотя бы основные звенья соответствующей традиции, которые были
безусловно известны автору памятника Петру или известны с большой
долей вероятности - античная конная статуя Марка Аврелия в Риме, конные
статуи Гаттамелаты Донателло в Падуе и Коллеони Вероккио в Венеции,
XV в., статуи Людовика XIV Жирардона в Париже, XVII в. и Фридриха III
Шлютера в Берлине, XVIII в. и другие, включая и барочную конную статую
Петра I работы Растрелли-отца в Петербурге; при более широком
временном охвате в этот контекст входят и другие всадники - памятник Николаю I
Клодта, как бы симметричная статуя Петра I относительно Исаакия, и
памятник Александру III Трубецкого, не говоря уж о менее представительных
образцах этого жанра, хотя некоторые из них, в частности, расположенные
в непосредственном соседстве также заслуживают внимания, ср. парные
статуи конных Диоскуров на постаменте перед портиком Конногвардейского
манежа, работа П. Трискорни, ориентированная на квиринальский образец;
простояв здесь около четверти века с рубежа 10-20-х годов XIX в., они
снова оказались на своем первоначальном месте более чем столетие спустя; в
70-х годах того же века в тимпанах фронтонов манежа появились
терракотовые барельефы с изображением сцены укрощения коней,
перекликающимся со статуями Клодта на Аничковом мосту и отчасти с четырьмя
«конскими» барельефами того же автора на садовом фасаде Служебного
корпуса Мраморного дворца; ср. также и другие образцы Петербургской
equiniana'hi; нельзя пройти и мимо иных скульптурных воплощений образа
Петра, среди которых теперь выделяется шемякинский.
Оставляя все эти и другие мыслимые контексты в стороне, уместно
сосредоточить внимание на том контексте, который в заглавии статьи
обозначен как «динамический»- тем более, что идея динамизма уже не раз
788
возникала выше в связи с особенностями восприятия памятника Петру,
меняющимися в зависимости от разных условий, - как субъективных (точка
зрения), так и объективных; (привходящие объекты, участвующие в данном
акте восприятия памятника), но в обоих случаях отсылающих к структуре
пространства (ср. выше о «локальном» контексте).
Некоторые биологические особенности человека, существенно
предопределяющие его реакцию на «пространственность» и пространство, знание
и понимание его и соответственно правила ориентации в нем, как и
сложившиеся с учетом этого императивы культуры, формируют определенные
клише «естественного» восприятия произведений изобразительного
искусства, так сказать, подходак ним (в прямом физическом и переносном
духовном смыслах этого слова). Здесь достаточно выделить несколько
положений, имеющих отношение к характеристике самого «подхода», не
претендуя ни на детальность, ни на полноту, но помня о непосредственной теме.
В о-п е ρ в ы χ (и с этого все начинается), статуя и картина воспринимаются
как нечто предметное (в этимологическом смысле), поставленное или,
точнее и семантически и по существу дела, брошенное («метнутое») вперед
и навстречу зрителю ярко, броско (: бросать), метко (: метать). Этот
меткий бросок, если у него есть свидетель, «зритель», воспринимается как
своего рода информационный «взрыв» в пространстве привычно-обыденного,
будничного, неброского и. уже известного, в сфере природного, бытового,
«естественного», приводящий к тому прорыву к новой «информации»,
который, увлекая за собой зрителя-свидетеля, вовлекает его в новую ситуацию,
которой соответствует если еще не «новое» сознание, то готовность к нему,
во всяком случае открывающаяся перспектива более широкого и
глубокого, уже «не-естественного» взгляда... В о-в торых, сама описанная
ситуация первой встречи с «предметом» этого рода апеллирует к некоей реакции
человека, который призывается к ответу на вызов (соответственно
response - challenge в концепции истории Тойнби) предмета, необычного,
неожиданного, нарочито умышленного с точки зрения застигнутого врасплох
«естественного» воспринимателя, если угодно, к. вступлению с ним, этим
здесь и сейчас активным и энергетически более инициативным, чем
«зритель» предметом, в «немой» диалог, к установлению, следовательно,
взаимной двусторонней связи. И первый, не требующий требующей по меньшей
мере времени рефлексии ответ человека, -увидеть это нечто перед ним
и ему навстречу, в лицо, в глаза брошенное. В этом случае речь идет о
«чистом» видении, потому что оно бесцельно и, значит, бескорыстно: сам
человек еще не успевает осознать, что он уже втянут в видение, «завязан» на
предмете и уже не уйдет от него, не оставит его без своего внимания, без
себя, хотя сам он еще не осознает и другого - для чего ему нужно это видение
и как оно может быть им использовано. В-т ρ е τ ь и х, невозможность не-
увидения предмета и, следовательно, известная принудительность,
императивность видения толкает (и чаще всего именно инстинкт и принимает эту
команду и в свою очередь толкает человека к действию) к поиску и
нахождению достаточно удовлетворительной, в пределе - оптимальной, точки
зрения, определению своей позиции относительно предмета.
В этой ситуации самым простым и естественным (во всяком случае тем
«достаточным», что исключает риск неувидения, т.е. «не-ответа» на
789
посыл, исходящий от предмета) является выбор некоей
стандартно-канонической точки зрения, имеющей свои корни и в природно-биологическом и в
культурно-духовном, -пред-стояние пред-мету, прямо, лицом к нему
и даже сильнее - лицом к лицу, потому что τ о (вернее -тот), что было
инициатором диалога, - конечно, лицо, и только потом, что-то увидев и
оценив, все ли это из того, что нужно, или надо и дополнительно к этому
увидеть еще что-то в предмете (пусть, хотя бы по первому впечатлению,
второстепенное, относящееся к частностям), «зритель» от целостно-нерасчленен-
ного, цельноохватывающего взгляда, которому предмет предстает как
единое и неделимое целое (одна форма - один смысл-содержание), переходит к
дискурсивному рассматриванию-обозрению предмета и одновременно
осуществляющейся рефлексии над его формами и смыслами, к интерпретации
аналитического характера.
Разумеется, описанная ситуация, предполагающая акт «первоувидения»
и «естественного» зрителя, несколько искусственна и абстрактна, но в
известном отношении она может считаться удовлетворительной моделью
реакции зрителя на встречу с «предметом» искусства, потому что и в более
сложных и дифференцированных случаях (если только речь не идет об
опытных и искушенных зрителях и тем более профессионалах) нередко
наблюдаются элементы подобной клишированной реакции, и выбор
«канонического» места обзора (точки зрения) лишь одна из составляющих этого
клише. Точно так же можно считать удовлетворительной и модель
восприятия, которая может быть описана примерно следующей
последовательностью действий и психологических мотивировок их: можно видеть
(наличие возможностей) и нужно видеть (целевая установка, реализующая
возможность), и - по слову книги Бытия - это χ ο ρ о ш о, но вместе с тем и
далее нужно - и это лучше -ведать (соотв. и евр.* ueid- : *uid- и *uoid-); в
основе ведения - пройденный зрителем путь, динамика смены этапов пути-
познания; но самое лучшее - не только видеть и ведать, но и з н а т ь, ибо
знание, обретение его менее всего доступны клишированию как форме
омертвения смысла; знание - всегда порождение (и.-евр. *gen- 'знать', но и
'рождать'), и как всякое порождение оно всегда единственно в своем роде и
неповторимо, что и составляет неотъемлемые особенности творчества;
поэтому, когда «зритель» становится творцом или, точнее, сотворцом
вместе с художником и пространством, которое он «разыгрывает», можно
говорить, что он π о-з н а л (ср. библейское же познать жену свою), π о-н я л
(пояти жену себъ) смысл «предмета» искусства, как «понимают» и
«познают» жену-породительницу, а это и составляет второе (первое - дело
художника) рождение сотворенного, на этот раз в душе «зрителя», в идеале
способного стать конгениальным творению.
Фальконетовский памятник Петру I с самого начала был окружен
большим пространством, которое в дальнейшем было расширено
(приблизительно к середине XIX в.) еще больше, во всяком случае большим чем
нужно «среднему» зрителю, который склонен пренебрегать периферией и
вообще «несоседними» с памятником зонами пространства и сам методом проб и
ошибок определяет оптимальное расстояние, с которого нужно обозревать
памятник и ту позицию (точку зрения), которая, как ему кажется исходя из
«общих» соображений, позволяет увидеть главное в нем. Приблизительно
790
такое оптимальное для «среднего» зрителя расстояние определяется тем
кругом, ранее (с самого начала) обнесенным оградой, который
своевременно как бы останавливает зрителя, подходящего к памятнику, на должной и
для него удобной дистанции. Но замечают (за-метить : метать :
предмет) памятник намного раньше (едва вступив в его «внешнее»
пространство с севера или с юга), чем смогут удовлетворительно рассмотреть его, и
«проясняется» памятник зрению (соответственно - складывается о нем
впечатление) лишь постепенно, по мере приближения к нему, в ходе
динамической смены позиций и динамического же открывания памятником себя
непраздному взгляду.
Два этапа встречи-знакомства {знать : знак), знакового становления
памятника, то есть своего бытия знаком для познавшего и отныне
знающего его субъекта восприятия и участника того акта, который составляет
суть «семиозиса», могут быть выделены естественно и органично.
Первый- приближение к памятнику во «внешнем» его пространстве вплоть до
того магического круга, подойдя к которому, как бы исчерпываешь
«внешнее» пространство и, стоя на грани «внешнего» и «внутреннего», уже не
имеешь никакого другого выбора, как войти зрением, чувствами, душой,
разумом во «внутреннее» пространство памятника и, если повезет, открыть его
во всей доступной тебе смысловой глубине. Этот этап можно понимать (во
всяком случае такова его не всегда осознаваемая суть) как игру зрителя с
памятником «внешним» его пространством, с его помощью и на самом этом
пространстве, как серию динамически сменяемых отражений-отбрасываний
на его горизонт, на ту возвышающуюся над уровнем земли полосу, которая,
как кулисы, ограничивает «внешнее» пространство памятника и от которой
открывается ничем не нарушаемый прямой вид на памятник. Второй
этап встречи с памятником связан уже не с прямолинейным (в
основном) движением во «внешнем» пространстве памятника, не с π о д-х о д о м
к нему, но с начинающимся по достижении ближайшей к памятнику полосы
его «внешнего» пространства круговым движением, с о б-х о д о м
памятника, позволяющим зрителю сделать знакомство с ним более полным и
глубоким, а самое встречу - при определенных возможностях зрителя,
особенно в пределе - интимно переживаемой и творческой. Разница между
этими двумя видами движения не только в объеме и самом характере
возможностей, предоставляемых зрителю в одном и другом случае, но и в том, что
первое, прямолинейно-приближающее зрителя к памятнику движение -
одно из многих не только возможных, но и необходимых (в достаточно полном
их наборе) для «освоения» памятника движений (и поэтому каждое
отдельное такое движение принципиально ограничено, «частично» и экстенсивно),
тогда как второе, «круговое», движение - одно единственное, и только оно
позволяет зрителю «войти» в памятник, почувствовать-познать его
«внутреннее» пространство (отсюда - интенсивный характер этого движения,
совмещающего в себе все многообразие точек зрения и «ракурсных» образов
памятника).
Возвращаясь к теме прямолинейного под-хода к памятнику,
следует напомнить, что он находился на большой прямоугольной (не считая
незначительных отклонений, которыми здесь можно без ущерба пренебречь)
площади, ограниченной двумя линиями застройки - «сенатской» с запада и
791
«адмиралтейской» с востока (после постройки захаровского здания эта
линия стала особенно четко организованной), а также невской набережной с
севера и довольно массивным зданием Исаакиевского собора с юга.
«Невская» набережная (речь идет об участке южного берега Невы против
памятника) нуждается в особом комментарии: она ограничивает площадь, но не
ограничивает взгляда зрителя (и соответственно - Петра), который может
видеть памятник и с более далекого (почти на триста метров) расстояния, от
линии домов на Университетской набережной Васильевского острова,
образующей «северный» предел «зрительного» горизонта для Петра. Во время
существования Исаакиевского наплавного моста путь к памятнику с
северной стороны, естественно, был длиннее на те же триста метров, и именно он
вообще был самым длинным из возможных для зрителя, непосредственно
видящего памятник с любой точки своего пути.
Разумеется, в пределах этой прямоугольной площади могут быть
намечены многие различные подходы, пути приближения к памятнику, но
практически как «интересующийся» памятником, так и «случайный» прохожий,
невольно оказавшийся в роли зрителя, в частности, и впервые увидевший
памятник, обычно (в подавляющем большинстве случаев) имеют дело
с шестью маршрутами к памятнику (ср. ниже еще два маршрута, меньшей
частотности). Речь идет о трех осях, каждая из которых делится на две
неравные части памятником, поскольку он находится не в центре
прямоугольника площади, а сильно сдвинут к Неве (если расстояние от памятника до
Невы принять за единицу, то расстояние от него до Исаакия будет равно
четырем единицам). Первая ось - «центральная» и прямая - проходит через
памятник с севера на юг и предполагает, следовательно, два неравных
участка - «северный» (или «невский») и «южный» (или «исаакиевский»).
Наряду с этой осью существуют еще две «диагональных» оси (условно
диагональных, так как в месте их пересечения в памятнике они несколько
надламываются). Одна из них идет через памятник от северо-восточного угла Сената
до юго-западного угла Адмиралтейства (ил. 1, 2), а другая - от
северо-западного угла Адмиралтейства до Конногвардейского манежа на юго-западе
площади (ил. 3, 4). Эти шесть участков определяют направления
приближения к памятнику, подходов к нему, которые могут считаться наиболее
естественными, поскольку они предполагают обычные, «типовые» варианты
попадания на Сенатскую площадь с разных сторон, в частности, и для тех,
кто приходит сюда ради памятника.
Наиболее внезапно и эффектно памятник открывается (возникает)
зрителю, который выворачивает на площадь с набережной или из-за угла
Сената или из-за угла Адмиралтейства, поскольку в этих случаях памятник
Петру I возникает раньше, чем целое его «внешнего» пространства, поскольку
расстояние до него относительно невелико, и поскольку, наконец, конный
всадник виден спереди (хотя и с некоторым сдвигом, см. ил. 1, 2,4). Стоит
заметить, что для зрителя, выворачивающего на площадь из-за
северо-западного угла Адмиралтейства, Петр виден en face, с наилучшей позиции для
обозрения, хотя и несколько удаленной в начале пути. «Южные» части
диагоналей длиннее и подводят зрителя к памятнику сзади (и тоже под
некоторым углом, впрочем, незначительным из-за длины этих участков
диагоналей). Можно говорить еще об одной оси - «боковой», также членимой
792
В.Н. ТОПОРОВ В ПЕТЕРБУРГЕ 1993 г.
ρ>*ρι
| щ ψ
■'■flSnr
Ш
if
i
' .V,
ж
ΙΛ*ν
r
Щ|
lltti
i
' %-
LP^"
Η
r·
Iч
• ,
."' jtf^
Η
■—>Ujjfji
« 1
I
1
■^
1
памятником на два (на этот раз равных) участка - от Адмиралтейства прямо
до памятника и от памятника прямо до Сената. Оба этих прямых участка
предполагают предварительные отрезки пути, не образующие единую
прямую с указанными заключительными участками: чтобы начать движение по
каждому из двух участков «боковой» оси, зрителю нужно попасть в
соответствующую точку против памятника на «сенатской» или «адмиралтейской»
стороне. Оба эти пути связываются с как бы замедленным, непрямым
путем, с некоей умышленностью и чаще всего имеют в виду зрителя
«аналитического» склада, «умышленно» избирающего «неестественный» путь к
памятнику.
Но по какому бы из этих путей зритель (особенно если он достаточно
внимателен) ни приближался к памятнику, он не может не обратить
внимания на д в а изменения того «первого» впечатления, которое сложилось
у него при встрече с памятником - в первый временной отрезок и еще на
наиболее удаленной от памятника точке, откуда он был впервые увиден.
Первое изменение связано с возрастанием степени информации о самом
памятнике в целом и о деталях этого целого по мере приближения к нему и
нахождения оптимальной точки восприятия на данном направлении. В этом
случае зритель слишком зависит от своего зрения, от возможностей глаза,
рефлексия может играть самую незначительную роль. Второе изменение
более важно и ведет к более далеко идущим следствиям. Оно как раз и
связано с той игрой зрителя, в которой объектами выступают сам памятник
и «внешнее» пространство его, прежде всего кулисы как устойчивая и
материально-плотная часть «внешнего» пространства, его предел. Естественно,
что в этом случае роль рефлексии возрастает, и, более того, ее результаты
начинают подсказывать глазу, какую точку зрения и в каком порядке
он должен выбрать и что именно он должен увидеть
преимущественно. А увидеть он должен, во-первых, не столько нечто статическое,
сколько динамическое и не столько само «материально-плотное», сколько
отношения, в которые оно входит, и изменение этих отношений
по мере приближения к памятнику. Без помощи со стороны сознания глаз
выполнить эту работу не сможет: ему нужен руководитель, его
направляющий и одновременно осмысляющий результаты деятельности глаза.
Одна из выдающихся особенностей фальконетова памятника как раз и
состоит в особенностях его отношения, особенно самой статуи конного
всадника, к границе его «внешнего» пространства -к кулисам. Это
пространство достаточно обширно, а высота «боковых» кулис (Адмиралтейство,
Сенат, Синод) относительно обширности пространства должна быть
признана малой, что и определяет две особенности той игры памятника с
«внешним» пространством, о которой сейчас идет речь. В о-п е ρ в ы х, по
мере постепенного и «длительного» приближения к памятнику он и прежде
всего статуя последовательно и «долго» возрастают, как бы отрываясь
от земли, становясь все более величественными и грозными и вынуждая
зрителя сознавать свою малость, ничтожность и угрожаемость своего
положения (Евгений, сидя на одном из «львов сторожевых» перед домом
Лобанова-Ростовского, в удалении от памятника, однако, вполне ему видимого, мог
быть относительно спокоен за себя: его волновала судьба Параши, но когда
он приблизился к памятнику непосредственно, его объял страх уже за себя
27. В.Н. Топоров
793
самого, и смятенный ум его не выдержал этого испытания). Во-вторых,
дело не только и не столько в «возрастании» памятника по мере
приближения к нему (явление более или менее механическое, зависящее от величины
пространства обзора), сколько в том, что всадник на коне чаще всего (а
иногда и исключительно), с самого далекого расстояния, уже оторван от кулис,
вознесен над ними, причем нередко это возрастание-вознесение совершается
на глазах зрителя.
В самом деле, приближаясь к памятнику сзади, со стороны Исаакия,
можно видеть, как статуя возносится над линией застройки васильевско-ост-
ровского берега, как она все выше и глубже входит в небесное
пространство, которое и само становится более глубоким, а при подходе
непосредственно к памятнику и очень сильно раздвинутым вширь. «Васильевско-ост-
ровская» кулиса в этой точке полностью теряет свою «кулисную» роль и
нужна лишь для того, чтобы по достоинству оценить степень вознесенности
статуи и бездонность небесной кулисы. Со стороны Сената (на уровне
земли) также нельзя найти точки, с которой статуя виделась бы целиком на
фоне «адмиралтейской» кулисы, но зато отсюда хорошо видна динамика
вырастания фигуры конного всадника, как бы преодолевающей то
«материально-плотное», что до сих пор, хотя бы частично, удерживало ее в связи с
землей и творениями рук человеческих. Несколько в меньшей степени то же
наблюдается зрителем с «адмиралтейской» стороны в сторону Сената.
Лишь с относительно небольшого участка «адмиралтейского» пространства
можно увидеть статую на фоне «сенатской» кулисы (ил. 3), но уже при
небольшом приближении к памятнику статуя как бы преодолевает «земное»
тяготение и взлетает над этой кулисой. И только «исаакиевская» кулиса
может, на первый взгляд правда, показаться вполне надежной и устойчивой.
Действительно, при приближении к памятнику со стороны Невы статуя
видится на фоне и широкой и очень высокой «исаакиевской» кулисы, которая
сначала (может показаться) даже несколько подавляет памятник, как бы не
позволяя и ему обнаружить сполна свое собственное величие. Роль этой
кулисы сохраняется отчасти и при максимально допускаемом приближении к
памятнику, хотя легко заметить, как стремительно взмывает статуя Петра
по вертикальной оси Исаакия. Но «абсолютность» этой «исаакиевской»
кулисы оказывается мнимой, и сама устойчивость ее относительна. Стоит,
находясь перед памятником спереди по его оси, сдвинуться на несколько
метров в сторону Адмиралтейства, как памятник как бы освобождается от
Исаакия как своих кулис, уходя вправо и оставляя Исаакий влево от себя26.
Более того, находясь в полосе перед памятником, примыкающей спереди к
ограде, зритель легко найдет не только участок, когда фигура Петра видна
на фоне неба, но и некий слегка искривляющийся отрезок пути, при
медленном прохождении которого отчетливо видно, как правая рука Петра, до
того приближавшаяся к правому скату центрального, большого и самого
высокого золотого купола Исаакия, как бы тянувшаяся к нему, по мере
движения зрителя начинает скользить по поверхности этого ската вверх и,
следуя изгибу купола, несколько влево, все более и более тянясь-приближаясь
к слабо видимому «маленькому» кресту, то ли актуализируя его смысловую
глубину, то ли подкрадываясь к нему и покушаясь на него в предвидении его
малости и слабости (ил. 5, 6, 7)27.
794
То обстоятельство, что даже эта единственная представлявшаяся не
только надежной, но и могучей кулиса, оказалась недостаточно стабильной
и абсолютной, способствует тому, что главной кулисой-фоном конной
статуи оказывается небесное пространство, в которое так дерзко и
окончательно мастер вдвинул памятник и еще резче конную статую Петра. Роль
неба в восприятии памятника и в представлении возможностей для
«разыгрывания» статуи на его фоне (стоит напомнить, что сама связь статуи с
небом решительно отделяет конного всадника от скалы, на которой он
находится) очень велика: при, казалось бы, предельной контрастности статуи и
неба главное в них общее - открытость, широта размаха, величие. И еще
одно сходство между статуей и небом, особенно в ветреную, часто ненастную
погоду, не может быть упущено - странное сочетание неподвижности с
движением: неподвижна массивная скала, сама символ устойчивости и
неизменности, вечного покоя, неподвижна и статуя, изображающая резкое и
быстрое движение, но неподвижно и небо, по которому, учитывая особенности
петербургского климата, часто, подобно морским волнам, бегут - быстро-
неправильно - то размытые облака, то рваные тучи. Сочетание памятника
и такого неба - излюбленный прием художников и фотографов,
изображающих памятник: сознательно или бессознательно они открывают или им
открывается некое сродство именно этих двух стихий - неподвижной
устойчивости и динамических изменений, когда и статуя и небо приходят в
движение, становятся «живыми» (к образцам изображения статуи на фоне такого
живого неба ср. два варианта - «умеренный», как, например, названная
картина Сурикова, и «бурный» - фото, см.: Каганович 1975: 173). Особенно
интенсивно эта динамизация раскрывается зрителю, стоящему перед
памятником спереди, преимущественно в темное время суток, в ветреную погоду,
когда ветер гонит неестественно светлые (при луне) облака навстречу
памятнику. В этих условиях у зрителя, смотрящего на памятник на фоне неба,
после некоторой аккомодации, возникает иллюзия, что облака неподвижны,
а всадник на коне движется на зрителя - и тем более угрожающе, чем
быстрее движутся по небу эти облака.
Когда зритель достигает памятника, он останавливается перед ним,
чтобы, не торопясь, внимательно, ничего не упуская, т.е. наилучшим образом,
рассмотреть его. Движение кончается, начинается - по идее - стояние,
фиксированная неподвижность в одной, но лучшей из всех возможных точке.
Неопытный зритель чаще всего выбирает предстояние статуе спереди
по оси памятника. Что же увидит он отсюда? Образ из страшного и/или
сюрреалистического сна - гиперморфизированного коня, простирающего свою
правую руку (так!) над куполом Исаакия и завершающим купол крестом
(ил. 5); у коня как бы две пары, не сразу ясно различаемых, ног - свои,
вскинутые в рывке над бездной и «запасные», пристегнутые к конским бокам
несколько выше и сзади. Первоначальная оторопь проходит, когда зритель
осознает то, что он, конечно, уже знает с самого начала: за вздернутой
высоко конской мордой скрывается Петр, его голова и туловище, полностью
невидимые зрителю. О присутствии Петра на коне, за его мордой, можно
судить по правой руке «коня» и по слабо различимым на общем фоне конеоб-
разного монстра «запасным» ножкам, которые тоже, оказывается,
принадлежат всаднику. Поняв, что «наилучшая» точка зрения - наихудшая, даже
27*
795
самый неопытный и наивный зритель, расстроенный своим собственым
непониманием и нуждающийся в прояснении картины (тем более что
самолюбие его задето и уязвлено собственной бестолковостью), как бы начинает
понимать, что стоят ь-т о около памятника надо, но только не здесь. И он
делает первое движение вправо или влево в поисках «лучшей» позиции.
Если зритель любознателен и добросовестен, он обойдет вокруг всего
памятника, время от времени останавливаясь (как солнце обходит по кругу
небо, останавливаясь в зодиакальных «домах-стоянках») и снова и снова
рассматривая (можно уже сказать -изучая) памятник. Вовлекшись в это
круговое движение (то же произошло и с пушкинским Евгением - Кругом
подножия кумира I Безумец бедный обошел) с постоянными остановками28,
зритель, если он наблюдателен и хотя бы в меру аналитичен, может
заметить, во-первых, что он вошел в и г ρ у с «внутренним» пространством
памятника (изменение точек зрения и соответственно зримых образов
памятника быстро обучает даже не очень понятливого зрителя) и, во-вторых (для
этого нужна большая внимательность), что сам памятник как бы
«разыгрывает» ту же тему движения и покоя, причем первенствующее место в этой
теме занимает движение - как потому что оно является отмеченным по
сравнению с покоем (во всяком случае в этой ситуации), так и потому что
оно в описываемой ситуации не плавно и равномерно, а резко, энергично,
гетерогенно («рвано»).
Может показаться странным, но именно в этой ситуации внимательного
рассматривания памятника, «предстояния» ему, необходимого покоя и
сосредоточенности с особой настоятельностью проявляет себя именно то, что
здесь названо динамическим контекстом фальконетовского
памятника. Прежде всего самой статуе свойствен тот уровень энергетичности,
который не может сохраняться в статической композиции, как бы взрывает ее и
вынуждает выстраивать динамическую композицию. Когда говорят о
динамичности статуи, нередко склонны распространять эту особенность на всю
композицию памятника и при этом забывают ту роль фона («спокойного»),
которая обеспечивает особую яркость и подчеркнутость динамического
начала. Нужно напомнить, что, если говорить о статуе, то это начало
проявляется прежде всего в энергии и экспрессии того последнего рывка коня,
который не может не кончиться катастрофой и для коня и для всадника.
И этот динамизм в изображении коня тем ярче и, можно сказать, ужаснее,
страшнее29, чем спокойней («статуарней») всадник, зачарованно грезящий о
чем-то ином, не связанном ни с теперешним моментом (злобой дня), ни
с реальностями жизни30. Этот контраст коня и всадника, слишком часто и
неверно помещаемого исследователями только в контекст «во славу», сам
по себе выступает как некий резкий перепад, осмысляемый как своего рода
энергетический слом, трагическая «неподхваченность» динамического
рывка, отсутствие реакции на него за шаг до катастрофы, которая, не
исключено, еще могла быть предотвращена.
Но динамизм как тема «разыгрывается» и с к а л о й, несущей конного
всадника, причем тоже в контрасте с темой устойчивости и надежности, той
«каменной» прочности, на которой можно основать все самое главное
(«ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют
ее». Мф. 16, 18 (напоминание об этих словах тем более уместно, что в назва-
796
нии самого города Петром I была совершена подмена собой апостола
Петра, чье имя официально носил город)). Динамическая доминанта образа
скалы обнаруживает свое присутствие повсюду: при виде сзади (ил. 8, ср. 9) -
в той неожиданной неровности, рваности верхней и вверх восходящей
поверхности, ее «уступчивости» (: уступ, понимаемый не как
уступка-облегчение, а как препятствие на пути движения, вызов ему) и в столь же
неожиданном сужении-выемки скалы в ее средней части, которое как бы вынуждает
коня еще энергичнее продираться вперед из этой узости-ужаса к широкому
и благому пространству, которое вот-вот должно открыться конному
всаднику; эти препятствия на пути коня заставляют интенсифицировать
движение, придают ему дополнительный динамизм; при виде слева и справа
(ил. 10, 11, 12) особенно хорошо видно, что рвется вперед и вверх не только
конь, но и сама скала (слому скалы в ее передней части («вогнутость»)
обратным образом соответствует слом передних ног коня («выпуклость»), как
бы взаимодополняющих частей единого целого, ср. Каганович 1975: 129),
которая и здесь «разыгрывает» идею контраста: как камень она статична и
устойчива, как волна (а камень с боков обработан так, что на нем как бы
выступают волны, рвущиеся вперед и вверх, но не полностью
проталкивающиеся по всей длине скалы: задние части волны никнут, опадают и
отключаются от движения31), скала не только подвижна, но бурно динамична32
(ср. энергично обозначенные «взлизы» волн); при взгляде на скалу с боков
отчетливо видно, что не только на ней изображены волны33, но и она сама
изображает собой как бы последний, самый грозный вал волны, набравшей
предельную высоту (по вертикали в боковом ракурсе волна членится на три
слоя-пласта: верхний как более легкий опережает средний слой, вырываясь
опасно вперед, - именно на него, наиболее неустойчивый, а не на камень
должны опуститься копыта коня, но наибольшая мощь и энергия в самом
нижнем слое волны, успевшем вырваться далее всего вперед и несущем на
себе и над ним находящиеся слои волны и конного всадника; при виде
спереди (ил. 5) зритель, предстоящий грозному и видящий всю структуру
надвигающейся на него массы, имеющей его вот-вот поглотить, оказывается в
ситуации наиболее непосредственной угрозы ему самому: три исхода могут
ожидать его, хотя чего-то ждать, собственно, уж и нет времени - или
нижний пласт вала, самый тяжелый и вырвавшийся ближе всего к зрителю,
подкосит его и сметет в пучину, или верхний пласт накроет его с головой и не
позволит выплыть, или, наконец, средний вал, спереди напоминающий
воронку, провал в бездну, вовлечет его в свою глубь.
Возвращаясь к круговому обозрению памятника в целом,
инстинктивно ища чего-то прямо (максимально) противоположного виду спереди по
оси памятника, вызвавшего столько недоумений, зритель занимает позицию
на другом конце той же оси, сзади. Если говорить о конной статуе, то
отсюда открывается наиболее ясная и «спокойная» картина. Прежде всего
теперь понятно, кому принадлежит правая рука и «запасные» ноги, и это
приносит удовлетворение (правда, и сзади ноги Петра, тесно прижатые к бокам
коня и отчасти прикрытые полами ниспадающего плаща, легко не заметить
с первого взгляда, и тогда возникает соблазн увидеть в этой «гибридной»
фигуре что-то вроде кентавра). Рассматриваемый сзади, Петр величествен,
спокоен, державен, и, если угодно, можно было бы сказать, что ему свойст-
797
венна некая грация плавности, замедленности, если бы не приобретенное
уже отчасти знание общей ситуации. За верхней половиной фигуры
всадника и широкой задней половиной коня и почти преувеличенно мощным
хвостом скрыто все, что могло бы поселить чувство тревоги - вскинутые над
пропастью передние ноги коня и в ужасе задранная вверх конская голова.
Вид сзади открывает зрителю как бы только что пройденное, последнее
событие «предистории». Именно здесь отчетливее всего раскрывается «хтони-
ческая» тема - змея, видимая по всей своей длине и, предполагается, уже
попранная и уже не представляющая опасности: копыта и хвост, по видимости,
прочно прижимают ее к земле (в праславянском языковом коде *xvostb и
*хиуъ, возможно, несмотря на известные сомнения (ср. ЭССЯ 1981: вып. 8;
114, 133-134), генетически связаны, что не исключает и связь с *xvatati:
*xytiti)9 и здесь нужно напомнить, что и копыта (: копать), и хвост, и mem-
brum virile, и змея (: земля), как известно, отсылают к «хтоническому», к
Нижнему царству, а значит, и к демоническому.
«Боковые» ракурсы (вид справа и слева по боковой оси
памятника, ил. 11,10) более репрезентативны, так как они позволяют, во-первых,
лучше понять соотношение как конного всадника и змеи, так и всадника и
коня, и через это целое статуи; и, в о - в τ ο ρ ы х, осознать и оценить
опасность ситуации (она серьезнее, чем это видится сзади; спереди змея вообще
не видна; змея не поражена окончательно, и случится ли это вообще,
сказать трудно - слишком сильно влечет к себе всадника иное, и сейчас ему уже
не до змеи, а борьба, тем не менее, продолжается: об этом свидетельствуют
и вздымающиеся над поверхностью скалы витки ее тела, и то, что нога
коня, прижавшая змею к скале, в свою очередь прочно обвита ею, и она
готова умереть, но не отказаться от борьбы34). «Боковые» ракурсы лучше
описывают ситуацию, более информативны и настойчивее апеллируют к
содержанию, к «наррации». Это вовсе не означает, что игра «внутренним»
пространством отложена или утратила значение. Напротив, существенно
большая вытянутость конской фигуры с всадником, как она видна сбоку,
связана с дополнительными преимуществами, смысл которых составляет «в-
третьих»- предоставленную зрителю возможность (особенно при
выборе и других, желательно нескольких «боковых» ракурсов, в той или иной
степени отклоняющихся от «боковой» оси) понять тончайшую игру
воздушных проколов, иногда целых островков, и замыкающих их «плотных»
частей статуи, как и игру статуи с соседним воздушным пространством, его
вторжениями и отступлениями - как в статике, так и особенно в динамике
(при некоторых ракурсах можно одновременно видеть до десятка
«воздушных» пробелов в пределах общего контура статуи, ср. ил. 4,10, 11, 13), когда
даже при небольшом сдвиге зрителя происходят причудливые изменения -
одни пробелы увеличиваются, другие уменьшаются, третьи появляются,
четвертые вообще исчезают (в отличие от кружев, о которых было сказано,
что главное в них - проколы, пустоты на которых держится все остальное,
в случае фальконетовой статуи можно сказать, что в ней эти замкнутые
пустоты делают особенно точными и аскетически изысканными «внутренние»
контуры, линии, ограничивающие эти пустоты, и - кроме того -
чутко-отзывчивые даже к малому изменению позиции зрителя, они тоже
включаются в «разыгрывание» темы динамизма в самих тонких ее версиях). Эти «воз-
798
душные» пробелы в пределах контура статуи как бы намекают на
преимущественную «небесную» кулисность памятника (см. ил. 2, 4, 5, 8-13).
Таким образом, именно «круговой» обход памятника с частыми
остановками и фиксацией изменений образа («кванты изменения») развертывает
перед зрителем веер точек зрения и соответствующий ему веер ракурсов,
которыми памятник «открывает» себя зрителю. Этот веер ракурсов по идее
приближается к некоей «почти непрерывной» (особенно при ускорении
движения) картине, хотя все-таки и зазоры между любыми двумя соседними
ракурсами, по крайней мере соединительные швы, остаются реальностью, как
это и вообще свойственно многосоставной веерной конструкции.
Минимальное различие между соседними ракурсами может быть понято как
своего рода коэффициент «значимого» сдвига, отсылающий к указанию
ситуации, в которой дискретное и непрерывное оказываются предельно
сближены и парадоксальным образом служат общему делу. Сам же «веерный»
принцип, наличие соединительных швов как знаков некоего перерыва
важны потому, что сплошность и непрерывность объекта восприятия и самого
восприятия исключает возможность постановки вопроса о «переходах», о
цене каждого из них, тем самым - о преимуществах и недостатках той или
иной точки зрения и соответствующего ей ракурса объекта. Это
«разыгрывание» разных проективных возможностей памятника, собственно, и
восстанавливает, а тем самым и актуализирует полноту набора динамических
контекстов статуи. Наблюдая танцовщицу, исполняющую танец с лентами
(кольцом, булавой и т. п.), удивляются ее искусству вести свою партию в
более сложных условиях, не снижая уровня, но при этом нередко упускают из
виду или недооценивают той выгоды, которая связана с подобной
сложностью: движение самой ленты в этом случае порождает новые динамические
фигуры и их комбинации, а значит, и новые динамические контексты, то
высокое искусство «вписывания», вхождения из пустоты в плотность или
«выписывания», выхождения из плотности в пустоту, которое потенциально
обнаруживается и при подобном рассмотрении фальконетова памятника и
особенно самой конной статуи.
Лишь в этом полном динамическом контексте возможно выявить и
оценить преимущественную точку зрения. В данном случае такой наиболее
«сильной», «реконструктивно» мощной и динамически глубокой для
зрителя, совершающего свое путешествие по кругу, оказывается позиция,
совпадающая с направлением взгляда Петра (ил. 4), когда он оказывается лицом
к лицу с ним и может вполне оценить, что же волнует его самого после
мнимо-окончательной победы над змеей (кстати, в этом ракурсе змея
практически не видна). Самое важное состоит в том, что открывающийся
зрителю в этой позиции вид позволяет ему войти, наконец, в наиболее
напряженную ситуацию, фиксируемую hic et nunc, и осознать со всей полнотой и во
всей глубине ужас того, что должно произойти (не может не произойти) в
следующее же мгновение, на ближайшем к обрыву скалы клочке ее
«последнего» пространства, после чего останется голая скала и не будет ни
Петра, ни коня, ни змеи35. Более того, именно с указанной позиции четче всего
обнаруживается контраст не отдающего себе отчета в происходящем здесь и
сейчас безумного всадника и все понимающего, но смертельно испуганного
коня, слитых воедино, но так по-разному реагирующих на ситуацию, что
799
Ил. 2. Вид при приближении
к памятнику со стороны
северо-восточного угла
Сената.
Воздушные «кулисы»
800
^^ ;>> il 1 1 1 1 1
. ι 11 il 11 I Ι 4τΙ·ι éIii
^.i JUL· ЦЙ
'Т^ШЕяМн»
< Ш: U j;ï II *
it!« &L '
Ял. 3. Вид ow северо-западного угла Адмиралтейства
Ил. 4. Вид при приближении к памятнику
со стороны северо-западного угла
Адмиралтейства. Воздушные «кулисы»
Ил. 5. Вид спереди
чуть вправо от оси памятника
(рука Петра «скользит по куполу Исаакия)
801
Ил. 6. Вид спереди
при приближении к памятнику
(рука Петра «накрывает» крест
на куполе Исаакия)
Ил. 7. Вид спереди при еще большем
приближении к памятнику (рука Петра
«уходит» далеко вверх над куполом Исаакия
и его крестом). Воздушные «кулисы»
у
к""
Щ ^ ч ( Ц*.-^гйиг— -
Ил. 8. Вид сзади по оси памятника.
Воздушные «кулисы»
Ил. 9. Вид сзади при движении вправо
по оси памятника. Воздушные «кулисы»
802
Ил. 10. Вид памятника по боковой оси в сторону Сената.
Воздушные «кулисы»
Ил. 11. Вид памятника по боковой оси в сторону Сената.
Воздушные «кулисы»
803
Ил. 12. Воздушные «кулисы»
(вид в сторону стрелки
Васильевского острова
и Петропавловской крепости)
Ил. 13. Воздушные «кулисы»
(вид в сторону
Академии художеств)
804
разрыв и конец этого единства неизбежен и гибель обоих неотвратима.
Аллегорическое безоговорочно уступает место символическому, и не раз,
оплакивая гибель России и размышляя над причиной и истоком беды,
обращались к Петербургу как символу «петровской» России и к статуе Петра
как символу Петербурга и всего «петербургского» периода русской истории.
Именно динамизм и катастрофичность, столь зримо выраженные в этом
петербургском памятнике, дали основание сделать его образом
исторической катастрофы России.
«Русское слово расторгло свой тысячелетний плен и будет жить, - писал
Г.П. Федотов. - Но Петербург умер и не воскреснет. В его идее есть нечто
изначально безумное, предопределяющее его гибель ... Здесь совершилось
чудовищное насилие над природой и духом. Титан восстал и против земли и
неба, и повис в пространстве на гранитной скале. Но на чем скала? Не на
мечте ли? ... При покорном безмолвии России, что заполняет трагическим
содержанием Петербургкий период? Борьба империи с порожденной ею
культурой, - еще резче: борьба Империи с Революцией. Это борьба отца с
сыном - и не трудно узнать фамильные черты ... Размышляя об этой
борьбе перед кумиром Фальконета, как не смутиться и не спросить себя: кто же
здесь змий, кто змиеборец? Царь ли сражает гидру революции или
революция сражает гидру царизма? Мы знаем земное лицо Петра - искаженное,
дьявольское лицо, хранящее следы божественного замысла, столь легко
восстанавливаемого искусством. Мы знаем лица революционеров - как
лица архангелов, опаленные печалью. В жестокой схватке отца и сына
стираются человеческие черты. Кажется, что не руки и ноги, а змеиные кольца
обвились и давят друг друга, и яд истекает из разверстых пастей. Когда
начиналась битва, трудно было решить: где демон, где ангел? Когда она
кончилась, на земле корчились два звериных трупа.... Ужасный город,
бесчеловечный город!» (Федотов 1988: 50-52)36.
1 Как известно, памятник Петру I Фальконе уже давно привлекает внимание
искусствоведов, литературоведов, историков, философов-историософов, как и
писателей, художников, кинематографистов, наконец, просто тех, кто выступает как
благодарный бескорыстный зритель. Из работ последних двух десятилетий ср.:
Каганович, 1975; Измайлов, 1978; Осповат, Тименчик, 1985 (2-е изд., 1987); Викторова,
1993; Кнабе, 1993а (недавно опубликована другая работа этого же автора:
«Воображение знака: Медный всадник Фальконе и Пушкина» в серии «Чтения по истории и
теории культуры», вып. 3) и др.; ср. также Бобышев, 1993; Фейнберг, 1993. После
того, как статья была написана, появилась здесь не учтенная работа: Померанц,
1994. В данном случае нет необходимости излагать двухвековую «литературную»
историю этого памятника.
2 Связь материи и матери, намечаемая Платоном, отвечает глубинной реальности мифо-
поэтического сознания, отраженной и в языке, и в собственно мифологических
образах (ср. лат. materia (mâteriês) 'материя' и т. п. - mater 'мать' (ср. также matrix) русск.
матка, обозначающее не только мать (вообще мать в своем глубинном слое менее
всего имя родства), но и лоно, породу-носительницу другой, более ценной породы,
опору-восприемницу (ср. матица 'опорный брус'), источник, корень, средоточие,
центр (ср. также матки, в игре, как обозначение некоего шаблона, матрицы для
разделения участников игры и закрепляемого за ними пространства.
3 См.: Heidegger M. Die Kunst und der Raum. Sankt Gallen, 1969 (далее цитируется по
переводу В.В. Бибихина - Хайдеггер, 1991).
805
4 В связи с этим кругом идей ср. также работу автора - Пространство и текст // Текст:
семантика и структура. М., 1983, С. 227-284 и др.
5 Некоторые из этих проектов известны (ср., например, записку Билленштейна,
написанную еще в 1766 г.). См.: Каганович, 1975: 46-52 и др.
6 Интересно, что 1770 годом датируется рисунок Ф. Лосенко, на котором изображается
конная статуя Петра I на скале той же формы, что и та, на которой она стоит со дня
открытия памятника, и на том же самом месте, что и теперь. Рисунок, изображающий
с большой точностью то, что зрители увидели 7 августа 1782 г., был сделан
художником за 12 лет до этого события и хранится в настоящее время в Музее Нанси. Его
воспроизведение см.: Каганович, 1975: 55. Секрет такого предвосхищения (сам
«Гром-камень» был доставлен в Петербург только в сентябре 1770 г.) объясняется тем, что
Лосенко мог видеть модель памятника в том же 1770 г., когда Фальконе демонстрировал
ее публике в своей мастерской, помещавшейся в здании бывшего дворцового театра
на соседнем с домом Чичерина участке (между обеими Морскими, Невским и
Кирпичным переулком), ср.: Столпянский, 1918: 171-172. Отчасти сходная ситуация
реконструируется и по картине А.И. Шарлеманя «М.-А. Колло лепит голову Петра I»
(1867 г. СПб. Дом писателя), где художница изображена на фоне фальконетовского
памятника.
7 Характеристика площади, на которой был воздвигнут монумент, как «небольшой»
представляется неточной. Судя по имеющимся данным, ее площадь была
приблизительно равна произведению 300 х 150 метров.
8 Ср. отчасти литографию Ф. Бенуа (по рисунку A.A. Монферрана) «Исаакиевский
собор со стороны Конногвардейского манежа» (1845) и - в известной степени - другую
его литографию - «Установка колонн для колоколенки» (на Исаакии), 1850 г. (см.:
Петербург, 1972: 35, 36).
9 Ср. также гравюру очерком (акварель) Патерсена, на которой изображена Сенатская
площадь с памятником Петру I (Эрмитаж), см.: Патерсен, 1978: рис. 29-30. В отличие
от упомянутой картины 1794 г., акцентирующей глубину площади и, следовательно,
изображающей всадника en face, эта гравюра (1799) подчеркивает ширину площади,
как бы исключая ее глубину (отсюда и «профильный» Петр); впрочем, о ширине
площади (правда, в самом общем виде) можно судить и по работе 1794 г.
10 Типичны изображения этой части левого берега Невы «диагонального» (вниз по
течению) типа, иногда охватывающие и большую часть левобережья (ср. гравюру
Г.А. Качалова по рисунку М.И. Махаева в альбоме 1753 г.: от тогдашнего Зимнего до
Исаакия Матарнови и далее вправо, захватывая часть Английской набережной (см.:
Виды, 1968: 12), или опыты «панорамирования» левобережья Тозелли - от западного
фасада Зимнего дворца далеко вправо, включая большую часть Английской
набережной (см.: Панорама, 1992: л. 2-4; Neva Symph., 1975: рис. 43 и др.)), но или вовсе
исключающие Сенатскую площадь, или фиксирующие лишь незначительную ее часть, хотя
иногда в эту часть попадает и памятник Петра (ср.: Панорама, 1992: л. 4).
1 х Это не означает, что в картине не существует некоторых неясностей
топографического характера с точки зрения документации, ср. «пустой» угол площади справа от
памятника, одноэтажное, вытянутое в длину строение, несоответствующая известным
данным этажность некоторых домов в том же правом углу и т.п. В подобных случаях
представляется вероятным, что художник фиксирует ту «реальность», которая не
получила выражения в других источниках информации.
12 Ср., например, план Санкт-Петербурга в 1777 году (см.: Цылов, 1853).
13 К топографии этого места (в частности, его каналов) ср.: Столпянский, 1918: 215- 219
и приложение, рис. 9 (план); Атлас, 1981: 56-57 и др.
14 Фиксация дворца Чернышева на картине Патерсена важна и сама по себе: она
свидетельствует не только «физическую», но и художественную преемственность между
деламотовской постройкой и Мариинским дворцом, воспроизводящим (с
ослаблением) некоторые структурные элементы своего предшественника.
15 Нужно отметить, что с началом строительства монферрановского Исаакия эта
горизонтальная крестообразная структура была разрушена, так как более широкая новая
806
постройка, раздвинувшаяся несколько к западу наполовину укоротила длину взгляда
зрителя, находящегося у василеостровского начала моста: теперь он мог видеть
Петра (с той же точки зрения) только на фоне Исаакия (о чем, в частности, можно судить
по картине Сурикова «Вид памятника Петру I на Сенатской площади,
Санкт-Петербург», 1870). Взгляд современного зрителя еще короче: с той же точки на
Университетской набережной он видит статую на фоне густо разросшихся деревьев
Александровского сада. Кажущиеся в соотнесении с массивным памятником маленькими
кресты на куполах Исаакия, если и связываются с фигурой Петра, то очень неопределенно,
пассивно, робко.
Как известно, первое упоминание о пребывании художника в Петербурге относится к
1787 г., хотя, возможно, он приехал сюда раньше. Во всяком случае в самом начале
1787 г. он жил около Синего моста, в непосредственной близости от Исаакиевско-Се-
натского локуса. 22 января этого года «Санкт-Петербургские Ведомости» сообщали:
«Здесь, в Санкт-Петербурге, несколько времени пребывающий живописец Патерсен,
который портреты и исторические пьесы масличными красками и карандашом
рисует, сим извещает охотников до живописи, что он ныне живет в Погенполовом доме у
Синего моста под № 154» (см.: Патерсен, 1978: 6). Следующий из известных адресов
художника («по Екатерининской канаве между государственным заемным банком и
Кокушкиным мостом в Шаровом доме, под № 131») также предполагает ось,
ориентированную на Исаакиевский мост. Несомненно, что по этому пути и именно через этот
локус и конкретно через этот мост Патерсен ходил постоянно: Васильевский остров,
на который иначе (кроме как на лодке или зимой по льду) попасть было нельзя,
являлся средоточием художественной жизни Петербурга (Академия художеств, дома, в
которых жили многие художники, и т.п.). Да и интерес Патерсена - чисто
художнический - к Английской набережной [ср. его картину «Английская набережная у
Сената», 1801 г (см.: Патерсен 1978: рис. 33-56), а также три больших гравированных
листа, исполненных им по собственным рисункам, которые изображают вид на
Галерный двор от Сената до Ново-Адмиралтейского канала с Васильевского острова], а
возможно, и практический интерес (на Английской набережной были дома богатых
вельмож, причем некоторым из них были не чужды и художественные интересы,
склонность к меценатству; правда, граф Н.П. Румянцев, создатель будущего
«Публичного Музеума», поселился в этом районе только с 1802 г., в доме Вара) не вызывают
сомнения.
В этом отношении характерно изображение людей у Патерсена: они чаще всего в
движении - идут, едут, плывут (в лодках); даже стоя на одном месте, они что-то тянут,
толкают, вертят, нагибаются, пытаются достать, протягивают руки или взмахивают
ими над головой, манипулируют чем-то и т.д.; более того, даже в отношении наиболее
статичных фигур, часто вполне можно предполагать, что человек только что
остановился (и нередко даже для чего он это сделал) или что он вот-вот двинется (и куда
именно).
Догадка (разумеется, весьма неясная и спорная) о том, что и «прошлое», сейчас уже
исчезнувшее, могло как-то оставлять свой след в картине, возникает в связи с
помещением Патерсеном ринальдиевского собора почти непосредственно на берегу Невы.
Никаких «реальных», актуально присутствующих оснований для этого у художника
не было, но история церковного строительства, связанного с именем св. Исаакия
Далматского, а через него и с Петром I, родившимся в день, когда отмечали память этого
святого (возможно, она была известна Патерсену), упорно отсылала как можно
ближе к тому месту, где художник поместил изображение ринальдиевского Исаакия. Речь
идет о большой каменной церкви св. Исаакия с многоярусной колокольней. Ее
строительство началось в 1717 г. (арх. Матарнови; этой церкви предшествовала деревянная
церковь, построенная в 1710 г. у впадения Гороховой в Адмиралтейскую площадь) и
продолжалось до 1727 г. (после смерти Матарнови в 1719 г. строительством
руководили Н. Гербель, а затем Г. Киавери). Церковь просуществовала примерно полвека, до
начала строительства нового, третьего по счету Исаакия - ринальдиевского. И вот эта
церковь, возведенная по проекту Матарнови, действительно стояла на берегу Невы,
807
у самой воды, если верить уже упоминавшейся гравюре Качалова по рисунку
Махаева (см.: Виды 1968: 12) и сдвоенному листу под названием «Проспект вниз по
Неве от Невского моста между Исаакиевской церковью и корпусом Кадетским»,
выполненному тогда же (1753) гравером В.Я.Васильевым; на первом («левом»)
листе у самого левого обреза в изображение попадает часть колокольни матарнови-
евского Исаакия, как бы зажатой между адмиралтейским концом моста и
роскошным, еще барочным зданием, принадлежавшим Бестужеву-Рюмину (см.: Виды
1968: 30); церковь и колокольня находились справа от моста с точки зрения
пешехода, подходящего по мосту к адмиралтейскому берегу [поэтому трудно
согласиться с мнением, что церковь стояла на том месте, где в 1782 г. был установлен
памятник Петру I (см.: Виды 1968: 32)]. Если Патерсен знал, где находится матер-
новиевский Исаакий, и тем более был знаком с «махаевским» альбомом 1753 г.
(и то и другое более чем вероятно), то, изображая ринальдневский Исаакий
наполовину расстояния ближе к Неве, он как бы суммировал местоположение матар-
новиевского и «реального» ринальдиевского Исаакиев. Следует, однако,
напомнить, что некоторые сдвиги в пропорциях и расстояниях внутри пространства
могли объясняться тем, что ввиду срочности работы Махаев не рисовал с натуры,
а пользовался специальной «камерой-обскурой».
19 Двояким пониманием того, что следует считать подлинным ринальдиевским
Исаакием, объясняется разноречие в оценках. Доминирующее мнение нашло
отражение в (Санкт-Петерб. Энц. 1992: 240): незавершенность архитектурных форм, недо-
строен-ность колокольни, дисгармония с торжественной застройкой центра города.
Иное мнение, ориентирующееся на проект и его упомянутую модель (но не картину
Патерсена!), - «Большая модель, хранящаяся в Академии Художеств, дает
представление о красоте начатого сооружения (...) Даже по сравнению с изумительною
группою куполов Князь-Владимирского собора замысел Исаакия еще совершеннее и
музыкальнее. Обыкновенно связь колокольни с церковью кажется условной, в этой же
модели колокольня органически слита с самою церковью. Все детали исполнены с
величайшей уверенностью и спокойствием, доступным только великим мастерам. И все
это достигнуто при изумительной простоте замысла, могущего при беглом взгляде
показаться даже бедным, потому что такая плавность, простота линий и такая грация в
движении масс слишком контрастна с пышностью Растрелли и величием построек
Империи (...)» (Курбатов 1913: 116).
20 В этом месте Ринальди определенно не везло: остался неосуществленным и его
проект дворца Чернышева (1756-1762) на Исаакиевской площади, за Синим мостом;
предположения А.Н. Бенуа, а несколько позже и В.Я. Курбатова о том, что автором
проекта дома Мятлевых на этой же площади мог быть Ринальди, не были
поддержаны историками архитектуры, хотя отпечаток его стилистической манеры на этом
здании все-таки лежит (см.: Кючарианц 1984: 149-153). Впрочем, в известном смысле не
везло и всем четырем Исаакиям, воздвигавшимся в этом ответственном месте как
своего рода отмеченный градостроительный центр общестоличного характера и более
того - Верной твердынею православья I Врезан Исакий (sic!) в вышине... Ни один из
первых трех не простоял и полувека. Последний, монферрановский, до революции
большую часть времени находился в состоянии ремонта (и это его состояние было
признано нормальным и отчасти даже искусственно поддерживалось, ср. легенду,
имевшую распространение вплоть до семнадцатого, о том, что с окончанием ремонта
произойдет падение династии), а после революции был вообще закрыт и лишь
недавно стал «условно» и «ограниченно» действующим храмом.
21 Ср. также гравюру М.Г. Лори «Вид на Исаакиевский мост с Васильевского острова»
(1804, Эрмитаж), интересную тем, что она предполагает ту же точку зрения
художника, что и в картине Патерсена 1794 г., что она выполнена годом позже картины того
же художника 1803 г. («Исаакиевский мост и Сенатская площадь») и что, наконец, ри-
нальдиевский Исаакий изображен на гравюре в его «реальном» виде.
22 Ср.: Патерсен 1978: 11, 20, в частности, о соотношении работ художника, сделанных
большею частью с натуры, с современными им планами и чертежами.
808
23 Характерно, например, что в ранних опытах передачи трехмерного памятника в
двумерном пространстве решительно преобладал профильный ракурс (со стороны
Адмиралтейства), ср. Лосенко (1770), медаль (1772), Патерсен (1799, 1806), Товелли (1820),
Кольман (1825) (Neva Symph. 1975: 109), Садовников и Иванов и др. Редкое и потому
заметное исключение - гравюра А. Мельникова по рисунку А.П. Давыдова (1782,
Эрмитаж), на котором Петр изображен тоже профильно, но со стороны Сената (ср.:
Петербург 1972: 30—31; Neva Symph. 1975: 45). Следует особенно подчеркнуть, что на
картине Патерсена 1794 г. конный всадник изображен en face, что также для того
времени было редкостью.
24 Ср., в частности, известный эскиз Добужинского «Сенатская площадь», 1911, где
фигура конного всадника, данная на фоне среднего портика западного фасада
Адмиралтейства, глубоко символично увязывается с Зимним дворцом и Петропавловской
крепостью, как бы фланкирующими мощное течение Невы.
25 Примером такой мифологии вокруг еще не открытого памятника Петру I может быть
история, рассказанная Павлом в бытность его цесаревичем 29 июня (10 июля) 1782 г.
в узком кругу во время пребывания в Брюсселе (она известна в передаче князя де
Линя). Однажды весенним вечером («или скорее ночью») Павел и его друг князь
А.Куракин вышли погулять по петербургским улицам и встретили странного человека,
закутанного в плащ и в надвинутой на глаза шляпе. Он подошел к Павлу; «шаги его по
тротуару издавали странный звук, как будто камень ударялся о
камеи ь», и от него исходил холод («Я дрожал не от страха, но от холода. Какое-то
странное чувство охватывало меня и проникало в сердце»). Незнакомец обратился к
Павлу, и когда тот спросил его, кто он, услышал: «Бедный Павел Кто я? Я тот, кто
принимает в тебе участие. Чего я желаю? Я желаю, чтобы ты не особенно
привязывался к этому миру, потому что ты не останешься в нем долго. Живи как следует,
если желаешь умереть спокойно, и не презирай укоров совести: это величайшая мука
для великой души». И, прощаясь, добавил: «Павел, прощай, ты меня снова увидишь
здесь и еще в другом месте». Он приподнял шляпу, и Павел опознал в незнакомце
своего прадеда Петра I, который тотчас исчез. «На этом самом месте, - продолжал
Павел,- императрица сооружает знаменитый памятник, который изображает царя Петра
на коне, и вскоре сделается удивлением всей Европы. Не я указал моей матери на это
место, предугаданное заранее призраком. Мне страшно, что я боюсь (j'ai peur d'avoir peur),
вопреки князю Куракину, который хочет меня уверить, что это был сон ... Я сохранил
воспоминание о малейшей подробности этого видения и продолжаю утверждать, что это
было видение. Иной раз мне кажется, что все это еще совершается передо мной. ... -
Знаете ли вы, Государь, что эта история значит? - сказал князь де-Линь. - Она значит, что
я умру в младых летах (je mourrai jeune)» (Шильдер 1901: 166-171).
26 Идеально «кулисная» функция Исаакия в отношении памятника Петру обнаруживает
себя наблюдателю, находящемуся напротив памятника по набережной Васильевского,
острова, но отсюда сама статуя видна в столь большом уменьшении размеров, что
выглядит своего рода принадлежностью стаффажа.
27 Более определенно и подчеркнуто этот мотив «д о с я г а н и я» креста правой же
рукой выражен в венчающей Александрийскую колонну (арх. Монферран) фигуре
ангела, исполненной скульптором Б.Н. Орловским, придавшим лицу ангела черты
Александра I (следует заметить, что и на барельефе над главным входом в Исаакий, в
непосредственной близости от памятника Петру I, изображено освобождение из
темницы святого Исаакия императором Феодосием и его женой, которым были приданы
черты Александра I и Елизаветы Алексеевны; само соотнесение Петра I и
Александра^ спустя сто лет- один из примеров явленной, но все-таки неявной, в
основах своих тайной петербургской историософской мифологии: оба они, и отец,
повинный в убийстве сына, и сын, повинный в устранении отца и через это в его гибели,
на грани двух смежных веков, открыватели врат, ведущих в новый период русской
истории, связанный с прорывом к Европе и европейскому; обоих объединяет и не
раскрытая до конца тайна их смерти; некогда от портика Конногвардейского манежа
почти под прямым углом открывался вид на два памятника - влево и ближе на
809
Петра I, прямо перед собой и дальше - на Александрийскую колонну, отражения
которых как бы сходились в этой точке, намекая на некую историософскую загадку (ср.:
Андреев, 1992: 307 и ел.; 332 и ел.)). Если идти от проезда к мосту по Дворцовой
площади вдоль южного фасада Зимнего по тротуару или с отступом от него на 10-20
метров (каждый вариант имеет свои детали, касающиеся прежде всего степени
проявления некиих общих конфигураций) в сторону устья Миллионной, то фиксируются
следующие основные ситуации, существенные с точки зрения указанного выше
мотива: кисть правой руки ангела предельно далека от креста как влево, так и вниз от
него & постепенное сближение кисти с поперечной крестовиной & наибольшая
развернутость фигуры (позиция - по оси памятника) & указующий перст прикасается к
левому (с точки зрения наблюдателя) концу поперечной крестовины & кисть руки
постепенно сдвигается вправо к вертикальной крестовине, пока она не оказывается в
нижнем левом углу пространства, почти касаясь скрещения обеих крестовин & не
только кисть, но и вся правая рука слита с вертикальной крестовиной, голова на
фоне креста; ангел, совпавший с крестом, как бы ставший им; лишь правое крыло,
оказавшееся наиболее развернутым, указывает на некую иллюзорность подобного
слияния, и тем не менее крест достигнут и благодать его получена.
Такие игры частей целого характерны и для архитектурных памятников
достаточной сложности. Казанский собор в этом отношении один из наиболее удачных
объектов для динамизирования целого через изменение соотношения частей - вплоть
до парадоксальных ситуаций, напоминающих фокусы (ср. «пересаживание» купола на
правый или на левый портики, для чего «зрителю» нужно дойти по другой стороне
Невского соответственно до середины расстояния между Б. и М. Конюшенными или
на 250-300 метров в противоположном направлении). Динамическую игру частей
целого в случае Казанского собора особенно хорошо можно наблюдать, стоя в
подворотне жилого дома на противоположной стороне Екатерининского канала, напротив
места соединения восточной колоннады с телом храма. Этот вид, предельно
«неправильный», асимметричный, как бы несводимый ни к какому единству или мыслимому
принципу, висящий как бы на волоске перед срывом-катастрофой, необыкновенно
чуток к самым незначительным изменениям позиции «зрителя» и отзывчиво
откликается на них всплесками динамичности: может показаться, что и как предмет сечет
предмет... сказано именно об этом случае. В мандельштамовском стихотворении 1914 г. -
некая суммация наиболее характерных черт Казанского собора из статей,
посвященных столетию со дня смерти Воронихина (в первой публикации этому было
посвящено и стихотворение) и, что важно, нередко сопровождавшихся планами собора и его
первоначальным, не осуществленным проектом (второе полукружие-колоннада), и
личного опыта, позволившего поэту прочувствовать динамическую доминанту
собора, которая обнаруживает себя в целом веере быстро сменяющих друг друга
образов-видов и придает храму, несмотря на его монументальность и величественность,
особую свободу, живость вплоть до одушевленности - На площадь выбежав,
свободен/ Стал колоннады полукруг, - / И распластался храм Господень, I Как
легкий крестовик-паук (именно таков вид плана первоначального проекта. - В.Т.) / ...
/ Ты каждый раз, как иностранец, I Сквозь рощу портиков идешь. IИ храма
маленькое тело (эту малость очевиднее всего можно осознать при рассмотрении плана. -
В.Т.)/Одушевленнее стократ I Гиганта, что скалою целой I К земле
беспомощно прижат!
На определенном этапе вживания в памятник «хождением по кругу» возникает
иллюзия, свойственная пассажиру одного из двух стоящих на станции поездов, движущихся
в разные стороны: когда «чужой» поезд начинает двигаться в одну сторону, кажется,
что двинулся в другую сторону «твой» поезд. По идее движение вокруг неподвижного
памятника оказывается тем же самым, что и вращение его вокруг собственной оси
перед стоящим неподвижно зрителем. Когда художник или фотограф обращается к
жанру «серии» в изображении статуи Петра на коне, он нередко исходит из ситуации
вращения или памятника или самого себя вокруг памятника. В известном опыте
иллюстрирования пушкинского «Медного Всадника» (А. Бенуа) эта «вращательная»
810
идея, по сути дела, уже почувствована, как, впрочем, и сумасшедшим Евгением (а до
или - при ином подходе - после самим автором его): Показалось I Ему, что грозного
царя, I Мгновенно гневом возгоря, I Лицо тихонько обращалось.
29 Ср. у Пушкина тему «ужасного» в «Медном Всаднике» (в сочетании с динамизмом) -
Ужасен он в окрестной мгле! (...) / Какая с и л а в нем сокрыта! IА в сем коне
какой огон ь... или - на фоне И вот, насытясь разрушеньем I И наглым
буйством утомясь - бежит I В места знакомые. Глядит, I Узнать не может. Вид
ужасный!
30 Нужно сказать, что лицо Петра, воспроизводимое в разных ракурсах и с разных
расстояний, обладает той особенностью, что дает почву для разных интерпретаций его
выражения - от энергичной сосредоточенности, целеустремленности, властного
контроля над ситуацией до полной отключенности от происходящего, непонимания его.
Отсутствие окончательности и определенности в выражении лица Петра, как бы
подверженности его быстрой смене разных чувств и настроений должно расцениваться
как удачная находка Мари Анн Колло. Отмечаемая современниками подобная
изменчивость Петра находит себе соответствие в народных представлениях об
изменчивости выражений лица Антихриста.
31 В этом случае скала не только часть памятника конному всаднику, не только опора,
но и памятник самой себе, материалу, из которого она сделана, и материалу, который
она имитирует,- камню в первом случае и воде (волне) во втором. Не вспомнил ли о
фальконетовом монументе Мандельштам в «Разговоре о Данте»? «Стихи Данта, -
писал он, - сформированы и расцвечены именно геологически. Их материальная
структура бесконечно важнее пресловутой скульптурности. Представьте себе монумент
гранита или мрамора, который в своей символической тенденции направлен не на
изображение коня или всадника, но на раскрытие внутренней структуры самого мрамора
или гранита. Другими словами, вообразите памятник из гранита, воздвигнутого в
честь гранита и якобы для раскрытия его идеи,- таким образом вы получите
довольно ясное понятие о том, как соотносятся у Данте форма и содержание».
32 Хотя в этой статье вопрос о связях памятника с «основным» мифом не
рассматривается, все-таки уместно обратить внимание на то, что так изображаемые камень
(каменная скала) и вода (волны), две основные петербургские стихии, в общем тексте
конного всадника, попирающего змею, отсылают еще раз к той же схеме, что в
основном мифе, ср. волна, в конечном счете из и,-евр. *uel-: *uol-, корня, кодирующего имя
антагониста Громовержца.
33 Ср. в «Медном Всаднике», как Нева всю ночь / Ρ в а л а с я к морю против бури, как
она Обратно шла, гневна, бурлива, как и- И вдруг, как зверь остервенясь. I На город
кинулась и, наконец, о волнах - Осада! приступ! злые волны, I Как воры лезут в окна.
34 Очень выразительна голова змеи, практически не различимая зрителем, ср.
репродукцию этой детали (см.: Каганович, 1975: 87 и особенно 91).
35 Другой вариант эсхатологической темы, известный в «петербургской» литературе, -
ничего не осталось, все погибло, и среди бесконечных вод - скала с конным
всадником. Вообще нужно отметить какую-то особенную легкость, с которой можно
покидать скалу одному всаднику или вместе с конем (впрочем, так же легко скала и
заполнялась: в годы революции, если верить и записным книжкам Блока, и стихам на
«городские» темы, и периодике, скала была излюбленным местом, где собирались
хулиганы, непочтительно ведшие себя по отношению к приписанному к ней царственному
«жильцу»). Первый вариант - скала без всадника, но с конем - фиксируется в
«рабочей» тетради Пушкина ПД 842 (бывш. ЛБ 2373), захваченной им в 1833 г. с собой в
Болдино. В ней (л. 4) был нарисован фальконетов памятник - скала и конь,
попирающий змею, при отсутствии всадника (рисунок впервые отмечен В.Е. Якушкиным,
отнесшим его к «Медному Всаднику»). Позже А. Эфрос высказал предположение, что в
первом варианте поэмы Евгения преследовала бронзовая фигура Петра (аналогично
«каменному» Командору), а конь оставался на скале. Считают, что этот мотив мог
быть и результатом бесед с Мицкевичем на тему памятника Петру, одна из которых
состоялась у самого памятника (см.: Измайлов, 1978: 181-182), - тем более, что этот
811
же мотив в юмористической обработке известен и в «низовом» петербургском
фольклоре. Литературный отклик и обработка этого мотива - в рассказе С.Д.
Кржижановского «Рисунок пером». Второй вариант - всадник вместе с конем покидает
скалу - встречается чаще. Наиболее известных примеров два - пушкинский «Медный
Всадник» (отраженно - в «Петербурге» Андрея Белого) и рассказ из воспоминаний
А.П. Милюкова, в котором передается содержание сна князя А.Н. Голицына в
начале войны 1812 г., когда возникла угроза похода Наполеона на Петербург. По пути к
государю с докладом (на Елагин остров) князь увидел огромного бронзового Петра на
коне, скачущего во дворец, где он объясняет Александру 1, что, пока он, Петр, стоит
на скале, городу ничего не угрожает (эта легенда, знающая ряд вариантов и имевшая
широкое хождение, как говорят, и в наши дни, недавно была рассмотрена - Осповат,
Тименчик, 1985: 102-108 (в одном из вариантов подобный сон приснился не Голицыну,
а майору Батурину)).
36 К связи Медного Всадника с революцией и апокалиптическими всадниками ср.:
Иванов, 1907; Иванов, 1917; Лркин, 1991 и др. «Градом обреченным» был назван этот
город в самый канун революции (образ, восходящий к одноименной картине Рериха -
исполинский Змей как бы сдавливает лежащий в котловине город).
ЛИТЕРАТУРА
Андреев 1992 - Андреев Д.(Л.) Роза мира. М., 1992.
Анциферов 1924 - Анциферов Н.П. Быль и миф Петербурга. Петербург, 1924.
Аркин 1991 - Аркин Д.(Е.) Град обреченный. Публикация и предисловие Ю. Молока //
Новый журнал. Кн. 184-185. Нью-Йорк, 1991. С. 256-269.
Атлас 1981 -Ленинград: Историко-географический атлас. М., 1981.
Бобышев 1993 - БобышевД.В. Медный сидень // Метафизика Петербурга. Вып. 1. СПб.,
1993. С. 309-315.
Виды 1968 - Виды Петербурга и его окрестностей середины XVIII века. Гравюры по
рисункам М. Махаева. Л., 1968.
Викторова 1993 - Викторова К. Петербургская повесть // Литературная учеба. 1993.
Кн. 2. С. 197-209.
Иванов 1907 - Иванов Е.(П.) Всадник: Нечто о городе Петербурге // Белые ночи:
Петербургский альманах. СПб., 1907. С. 73-91.
Иванов 1917 - Иванов Вяч.(И.) Лик и личины России: к исследованию идеологии
Достоевского // Русская мысль. 1917. № 1.
Измайлов 1978 - Измайлов Н.В. «Медный Всадник» A.C. Пушкина: История замысла и
создания, публикации и изучения // Пушкин A.C. Медный всадник. Л., 1978.
С. 147-265.
Каганович 1975 - Каганович А.(Л.) «Медный всадник»: История создания монумента. Л.,
1975.
Кнабе 1993а - Кнабе Г.С. Понятие энтелехии и история культуры // Вопросы
философии. 1993. № 5. С. 64-74.
Кнабе 19936 - Кнабе Г.С. Воображение знака: Медный всадник Фальконе и Пушкина
(=Чтения по истории и теории культуры. Вып. 3). М., 1993.
Курбатов 1913 - Курбатов В.(Я.) Петербург: Художественно-исторический очерк.
СПб., 1913.
Кючарианц 1984 - Кючарианц Д.А. Антонио Ринальди. Л., 1984.
Осповат, Тименчик 1985 - Осповат АЛ., Тименчик Р.Д. «Печальну повесть
сохранить...»: Об авторе и читателях «Медного Всадника». М., 1985.
Панорама 1992 - Анжело Тозелли. Панорама Петербурга 1820 года. СПб., 1992.
Патерсен 1978 - Комелова Г., Принцева Г., Котельников И. Петербург в
произведениях Патерсена. М., 1978.
Петербург 1972 - Петербург-Ленинград глазами художников. Л., 1972.
Померанц 1994 - Померанц Г.С. Медный всадник // Октябрь. 1994. № 8. С. 134-162.
812
Санкт-Петерб. Энц,. 1992 - Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград:
Энциклопедический справочник. 1992.
Столпянский 1918 - Столпянский П.Н. Петербург: Как возник, основался и рос Санкт-
Питербурх. Пг., 1918.
Федотов 1988 - Федотов ГЛ. Лицо России: Статьи 1918-1930. 2-е изд. Рига, 1988.
Фейнберг 1993 - Фейнберг А.(И.) Заметки о «Медном Всаднике». М., 1993.
Хайдеггер 1991 - Хайдеггер М. Искусство и пространство // Самосознание европейской
культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном
обществе. М., 1991. С. 95-99.
Цылов 1853-Планы С.-Петербурга в 1700, 1705, 1725, 1738,1756, 1777,1799,1840 и 1849
годах с приложением планов 18 частей столицы. Составлены Н. Цыловым. СПб.,
1853.
Шильдер 1901 - Шильдер Н.К. Император Павел Первый: Историко-биографический
очерк. СПб., 1901.
ЭССЯ 1981 - Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический
фонд. Под ред. О.Н. Трубачева. Вып. 8. М., 1981.
Heidegger 1969 - Heidegger M. Die Kunst und der Raum. Sankt Gallen, 1969.
Lo Gatto 1960 - Lo Gatto E. II mito di Pietroburgo: Storia, leggenda, poesia. Milano, 1960.
Neva Symph. 1975 - The Neva Symphony: Leningrad in Works of Graphic Art and Painting. L.,
1975.
ИЗ РАЗДЕЛА XII:
ТОПОГРАФИЯ ГОРОДА. ЛАНДШАФТ. РЕКИ. ЗЕЛЕНЬ
ИЗ «СЕРОГО БЛОКНОТА»
Стр. 20
19 IX 2002
С Мытн(инекой) наб(ережной) (устье Зоологич(еского) пер(еулка))
можно увидеть совмещение ростр(альной) колонны как со шпилем
Адмиралтейства, так и с куполом Исаакия.
Зоологич(еский) пер(еулок) д(ом) 3-1 (лев(ая) стор(она)) -
густейший сад во дворе, как бы сводящий на нет сам двор. В основн(ом)
высокие) и густ(ые) кусты, образующ(ие) сплошн(ую) полосу, окружающие
центр(альную) площадку, извне практич(еск)и невидимую. Она
покрыта травой, отчасти песком. Маленькая фигурка сидящего идола.
Деревья окружают извне круг кустов с круглой площадкой. Деревьев 9
по кругу.
Стр. 24 об.
7 VI 2003
К ахматовск(ому) Был переулок узким и недлинным (о Тучковом пер(е-
улке)).
С моск(овской) т(очки) зр(ения) он длинный и не такой уж узкий. Во
всяк(ом) случ(ае) в Москве такой пер(еулок) получил бы сан улицы*. А вот
... пер(еулок)*, теперь ул(ица) Репина, очень узкий и (не) очень длинный,
но, чтобы Репину не было обидно, его возвели в сан улицы, что выглядит
абсурдом.
* Как щелочка темнеет (Так! - Т.Ц.) переулок...
А А вот Двинск(ий) пер(еулок)*, напротив, очень широк и очень
короток (два дома слева и один дом и незастроенн(ое) пр(остранст)во
справа.
* перпендикулярен к Тучкову
Ср. Апраксин и др(угие) широчайш(ие) переулки.
Стр. 35
Прод(олжение) Вознес(енского) пр(оспекта).
Слева № 34. Двор д. 34 и след(ующего) дома, перед кот(орым) - высок-
(ие) густ(ые) дер(евь)я, кусты, газон с травой (школа?).
То же № 34
Слева паралл(ельно) каналу 10 деревьев - высок(ие) ивы, справа газ(он)
с молод(ыми) д(ерев)цами.
814
Огромн(ый) двор, посред(и) к(оторо)го больш(ая) спорт(ивная) площ(ад)ка
и высокий холм с 2мя высок(ими) дер(евья)ми. В глубине вправо была
скамейка. Встреча 1971 г. и ответ на вопр(ос) Где точно стоял храм. Ответ:
дата снесения.
Стр. 26
СПб. 7 IX -X 2003. (Так! - Т.Ц.)
7IX Воскресенье
11.30. Небо над Дворц(овой) пл(ощадью)
По оси симметрии Алекс(андрийский столп) - арка Генер(ального)
штаба, за ними посреди неба не солнце, но яркое светло-желт(ое) пятно на
фоне темно-серых облаков - тучеобразных, особ(енно) справа. Слева, к
востоку они заменяются постепенно нежнобелыми кучев(ыми) облаками, под
кот(орыми), все расширяясь, чем дальше к востоку, чистое лазурно-голубое,
нежнейшее пр(остранство) (справа его совсем нет), напоминающее южное
море, на котором кое-где видны столь же нежные маленькие облачка
(архипелаг), воспринимаемые как крошечные островки. В целом - небесн(ая)
феерия, в которой солнце (точнее, то, что ему соотв(етству)ет, см. выше) как
бы патронирует ангела Алекс(андрийского) столпа, благословляет его
(спина ангела освещ(ена) лучами, спереди все значительно темнее). Вся картина
приобретает черты символически совершаемого здесь и там некоего
ключевого действа - апофеоза.
2Ш. Вид с Певческ(ого) моста в стор(ону) Дворц(овой) площ(ади) и
Ангела на Александр(ийском) столпе: нижняя полоса над зеленью
Александровского) парка (вровень с зап(адной) частью Главного штаба и Адмир(ал-
тейст)вом) - оранжево-изнемогающая, теряющая свою цветовую энергию.
Над ней полоса поблекшей голубизны, тоже изнемогающей. Над ней же
уже умершее сияние, вытесненное темно-серой однородной массой, над
нею - кучевые сгущения облаков, переходящих в тучи (или тучи, хранящие
наследие облаков). По сравн(ению) с небом на зап(аде) Дворц(овая) пл(о-
щадь) и Ангел - во тьме в отлич(ие) с картин(ой) на 10.30 (Так! - Т.Ц.).
Это - катафеоз.
Стр. 29 об.
Арка Сената за 150 м до нее и больше вся представл(яет) собой зел(еную)
кулису Александр(овского сада), метров за 100 начин(ает) виднеться
нижн(яя) часть Адмиралт(ейской) иглы. Вид из-под арки Галерн(ой) вдаль -
зелен(ая) кулиса.
От центр(ального) подъезда Сената, обращенная к Петру I, видна
верхняя) половина шпиля Петропавл(овской) крепости.
Б(олыная) Морская, лев(ая) стор(она) от Исаак(иевской) пл(ощади);
д(ом) 27 двор с неск(олькими) высок(ими) дер(евья)ми, почти равными по
высоте окружающим домам (редкость для Б(олыпой) Морской).
№ 23: довольно обширн(ый) двор; в лев(ой) дальн(ей) части участок с
деревьями и кустами.
№ 21: два вглубь двора, б(ез) з(елени)
3 19: два двора вглубь, б(ез) з(елени)
815
Стр. 33
Вас(ильевский) о(стро)в (И IX 2003, вечер): взгляд через Неву
Вдоль Адмиралт(ейской) наб(ережной) - цепочка деревьев, лишь в двух
случаях выше соотв(етствующего) здания*. Сразу после 1го адмир(алтей-
ско)го здания с флагштоком открыт(ый) двор с дер(евья)ми. Дерево в
переулке перед дворц(ом) Конст(антина) (зелень на Сенатской не в счет).
перед серым удлиненным) 4этажн(ым) зданием.
От здан(ия) А(кадемии) Н(аук) (Унив(ерситетская) наб(ережная) 5)
видна прерываю(щаяся) цепочка верхушек дер(евье)в от Сената до верфи,
выступающих из-за домов, см. далее (точка отсчета - дома на набережной
Васильевского) О(строва).
От пам(ятни)ка Ломон(осову) (Менд(елеевская) линия) видна верх(ушка)
дерева над аркой Галерн(ой), на практически находящейся за левой (от
арки) стор(оне) Галерн(ой), м(ожет) б(ыть), на Конногвард(ейском)
бульваре), и видна верх(ушка) дерева над зап(адной) оконечностью Сената (?), с
В(асильевского) О(строва) от дворца Меншикова оно видно на грани, где
западная) часть Сената сходится с вост(очной) частью д(ома) Л аваля...
(стр. 52 об.), 2001 или 2002 г. :
Зелень держит последн(ий) рубеж, но не собир(ает)ся его уступать.
Слаб(ые) формы сознан(ия) растений и Земли. Идение навстречу ч(елове)ка
и природы - и сознат(ель)но вследствие традиции и собств(енны)х удобств
и подсознат(ель)но, интуитивно.
Природное и антропогенное. Сознат(ель)ное и подсознат(ельное)
суммирование усилий.
Два в одном. Целесообразное сотруднич(ест)во. Жизнь и смерть.
Современная) зелень Петерб(урга) II праправнуки того что было 4-5 покол(ений)
назад. Случайное и закономерное. Жизнь возникает, сохраняется и
усиливается огромным колич(ест)вом попыток. Отбор и закрепление его —> семан-
тизация, осмысление. Ч(елове)к ищет место и шанс. Место и шанс
получают смысл существенным образом через ч(елове)ка. Взаимн(ая) нужда.
Природа нужд(ает)ся в ч(елове)ке, чтобы усиливать свою жизнь, силу,
энергию.
Смерть как предел жизни, и преодоление этого предела и есть
сверхжизнь, т.е. максимум жизни, ее бессмертие.
В(асильевский) О(стров), 14 линия 51-57. Детск(ая) больница св. Марии
Магдалины. Много зелени, деревьев, есть речка1.
Не вполне ясно, относится ли это топографическое указание к предыдущему тексту (Ред.).
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ РАБОТ, ВОШЕДШИХ В КНИГУ
От автора // Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы:
Избр. тр. СПб., 2003. С. 5-6.
Один год из жизни Муравьева по его письмам. Жизнь петербургская.
1772-1778 // Топоров В.Н. Из истории русской литературы. Том II. Русская
литература второй половины XVIII века. М.Н. Муравьев: введение в
творческое наследие. Кн. III. M., 2007. С. 9-478. (В выдержках).
На рубеже двух эпох: к новой русско-еврейской встрече: (Л. Невахович
и его окружение) // Славяне и их соседи. М., 1994. Вып. 5. С. 182-218.
Михаил Михайлович Достоевский по материалам Рукописного отдела
Государственной публичной библиотеки (им. М.Е. Салтыкова-Щедрина,
С.-Петербург) // Филологический сборник: (К 100-летию со дня рождения
акад. В.В. Виноградова). М., 1995. С. 369-381.
Проза будней и поэзия праздника: («Петербургские шарманщики»
Григоровича) // Europa Orientalis. 1997. Vol. 16, Ν 2. P. 97-192.
«Господин Прохарчин». К анализу петербургской повести Достоевского.
Иерусалим, 1982. 108 с. (Bibliotheca Slavica Hierosolymitana).
Мотив несостоявшегося счастья у Достоевского и Островского: (Об
одной возможной перекличке) // Russian. Literature. 1986. Vol. 19, Ν 3.
P. 255-290.
О сердце в ранних произведениях Достоевского // Russian. Literature.
2003. Vol. 54, Ν 1/2/3. Spec, issue. P. 297-395.
О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами
мифологического мышления («Преступление и наказание») // Structure of text and
semiotics of culture. The Hague; Paris, 1973. P. 225-302.
Еще раз об «умышленности» Достоевского // Finitis duodecim lustris: Сб.
ст. к 60-летию проф. Ю.М. Лотмана. Таллин, 1982. С. 126-132.
Сон смешного человека в призме «Петербургского текста». Первая
публикация.
Стихи Ивана Игнатова. Представление читателю // Биография и
творчество в русской культуре начала XX века: Блоковский сборник, IX: Памяти
Д.Е. Максимова. Тарту, 1989 (Учен. зап. Тартус. ун:та; Вып. 857). С. 22^43.
Аптекарский остров как городское урочище: (Общий взгляд) //
Ноосфера и художественное творчество. М., 1991. С. 200-279.
Об индийском варианте «говорения языками» в русской мистической
традиции: (К проблеме «индианизма» начала XIX века): I-IV // Wiener
Slavistischer Almanach. 1989. Bd. 23. S. 33-80.
Две странички из истории «петербургско-итальянского» некрополя //
Studi e scritti in memoria di Marzio Marzaduri. Padova, 2002. P. 423-441.
817
Италия в Петербурге // Италия и славянский мир. Советско-итальянский
симпозиум in honorem Professore Ettore Lo Gatto. M., 1990. С 49-81 .
Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в
тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области
мифопоэтического. М., 1995. С. 259-367.
Петербургские тексты и петербургские мифы: (Заметки из серии) //
Сборник статей к 70-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 452^86.
О динамическом контексте «трехмерных» произведений
изобразительного искусства: (семиотический взгляд): Фальконетовский памятник Петру I
//Лотмановский сборник. М., 1995. Т. 1. С. 420-462.
Из «серого блокнота». Первая публикация.
СОДЕРЖАНИЕ
С.Г. Бочаров. Петербургский текст Владимира Николаевича Топорова 5
Т.В. Цивьян. Об этой книге 19
От автора 25
В.Н. Топоров. «Петербургский космос и хаос». В 2-х томах. Состав 1-го и
частично 2-го тома, график работы. Факсимильное воспроизведение 27
ИЗ РАЗДЕЛА II:
ПЕТЕРБУРГ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА
Один год из жизни Муравьева по его письмам 33
ИЗ РАЗДЕЛА III:
ПЕТЕРБУРГ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
(1830-1840)
На рубеже двух эпох: к новой русско-еврейской встрече (Л. Невахович и его
окружение) 106
ИЗ РАЗДЕЛА IV:
ПЕТЕРБУРГ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА (1800-1830)
Михаил Михайлович Достоевский по материалам Рукописного отдела
государственной публичной библиотеки 141
Проза будней и поэзия праздника («Петербургские шарманщики»
Григоровича) 152
ИЗ РАЗДЕЛА V:
ПЕТЕРБУРГ И «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ ДОСТОЕВСКОГО»
(1840-1870)
«Господин Прохарчин». К анализу петербургской повести Достоевского 208
Мотив несостоявшегося счастья у Достоевского и Островского (об одной
возможной перекличке) 286
О сердце в ранних произведениях Достоевского 313
О структуре романа Достоевского в связи с архаическими схемами
мифологического мышления («Преступление и наказание») 391
Еще раз об «умышленности» Достоевского 453
«Сон смешного человека» в призме «Петербургского текста» Достоевского... 458
819
ИЗ РАЗДЕЛА VIII:
«ПОСЛЕ КОНЦА»-СВИДЕТЕЛИ
Стихи Ивана Игнатова. Представление читателю 482
ИЗ РАЗДЕЛА IX:
УРОЧИЩА. «СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» В ПЕТЕРБУРГЕ
Аптекарский остров как городское урочище (общий взгляд) 501
Об индийском варианте «говорения языками» в русской мистической
традиции 572
Две странички из истории «петербургско-итальянского» некрополя 607
Италия в Петербурге 623
ИЗ РАЗДЕЛА X:
ТЕКСТ ПЕТЕРБУРГА И МИФОЛОГИЯ ГОРОДА
Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему).... 644
Петербургские тексты и петербургские мифы (Заметки из серии) 749
ИЗ РАЗДЕЛА XI:
ПАМЯТНИКИ
О динамическом контексте «трехмерных» произведений изобразительного
искусства (семиотический взгляд). Фальконетовский памятник Петру 1 778
ИЗ РАЗДЕЛА XII:
ТОПОГРАФИЯ ГОРОДА. ЛАНДШАФТ. РЕКИ. ЗЕЛЕНЬ
Из «серого блокнота» 814
Библиографическая справка. Первые публикации работ, вошедших в книгу 817
Научное издание
Владимир Николаевич
Топоров
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТЕКСТ
Утверждено к печати
Редколлегией серии
"Памятники отечественной науки.
XX век"
Заведующая редакцией Е.Ю. Жолудь
Редакторы H Д. Александрова, Е.В. Белова
Художник В.Ю. Яковлев
Художественный редактор Т.В. Болотина
Технический редактор З.Б. Павлюк
Корректоры Г.В.Дубовицкая, Е.А. Желнова,
Т.А. Печко
Подписано к печати 06.10.2008
Формат 70 χ 100 Vi 6· Гарнитура Тайме
Печать офсетная
Усл.печ.л. 67,8. Усл.кр.-отт. 70,1. Уч.-изд.л. 73,8
Тираж 1000 экз. (1-й завод 1-820 экз.) Тип. зак. 3849
Издательство "Наука"
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
E-mail: secrel@naukaran.ru
www.naukaran.ru
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП "Типография "Наука"
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12
АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВОЙ ФИРМЫ "АКАДЕМКНИГА" РАН
Магазины "Книга-почтой"
121099 Москва, Шубинский пер., 6; (код 495) 241-02-52 Сайт: www.LitRAS.ru
E-mail: info@LitRAS.ru
197110 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7 "Б"; (код 812) 235-40-64
ak@akbook.ru
Магазины "Академкнига" с указанием букинистических отделов
и "Книга-почтой"
690002 Владивосток, Океанский проспект, 140 ("Книга-почтой");
(код 4232) 45-27-91 antoli@mail.ru
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 ("Книга-почтой");
(код 343) 350-10-03 Kniga@sky.ru
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289 ("Книга-почтой"); (код 3952) 42-96-20
aknir@irlan.ru
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90 akademkniga@bk.ru
220012 Минск, просп. Независимости, 72; (код 10375-17) 292-00-52, 292-46-52,
292-50-43 www.akademkniga.by
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; (код 495) 124-55-00
(Бук. отдел (код 495) 125-30-38)
117192 Москва, Мичуринский проспект, 12; (код 495) 932-74-79
127051 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; (код 495) 621-55-96
(Бук. отдел)
117997 Москва, ул. Профсоюзная, 90; (код 495)334-72-98
105062 Москва, Б. Спасоглинищевский пер., 8 строение 4; (код 495) 624-72-19
(Бук. отдел)
630091 Новосибирск, Красный проспект, 51; (код 383) 221-15-60
akademkniga@ mail.ru
630090 Новосибирск, Морской проспект, 22 ("Книга-почтой");
(код 383) 330-09-22 akdmn2@mail.nsk.ru
142290 Пущино Московской обл., МКР "В", 1 ("Книга-почтой");
(код 49677) 3-38^80
191104 Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57; (код 812) 272-36-65
ak@akbook.ru (Бук. отдел)
199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9-я линия, 16;
(код 812) 323-34-62 (Бук. отдел)
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18;
(код 3822) 51-60-36 akademkniga@mail.tomsknet.ru
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 ("Книга-почтой"); (код 3472) 23-47-62,
23-47-74 UfaAkademkniga@mail.ru
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 72-91-85 (Бук. отдел)
Коммерческий отдел, Академкнига, г. Москва
Телефон для оптовых покупателей: (код 495) 241-03-09
Сайт: www.LitRAS.ru
E-mail: info@LitRAS.ru
Склад, телефон (код 499) 795-12-87
Факс (код 495) 241-02-77
По вопросам приобретения книг
государственные организации
просим обращаться также
в Издательство по адресу:
117997 Москва, ул. Профсоюзная, 90
тел. факс (495) 334-98-59
E-mail: initsiat@naukaran.ru
www.naukaran.ru
ISBN 978-5-02-036015-0
9 "7 8502 0 "360 150