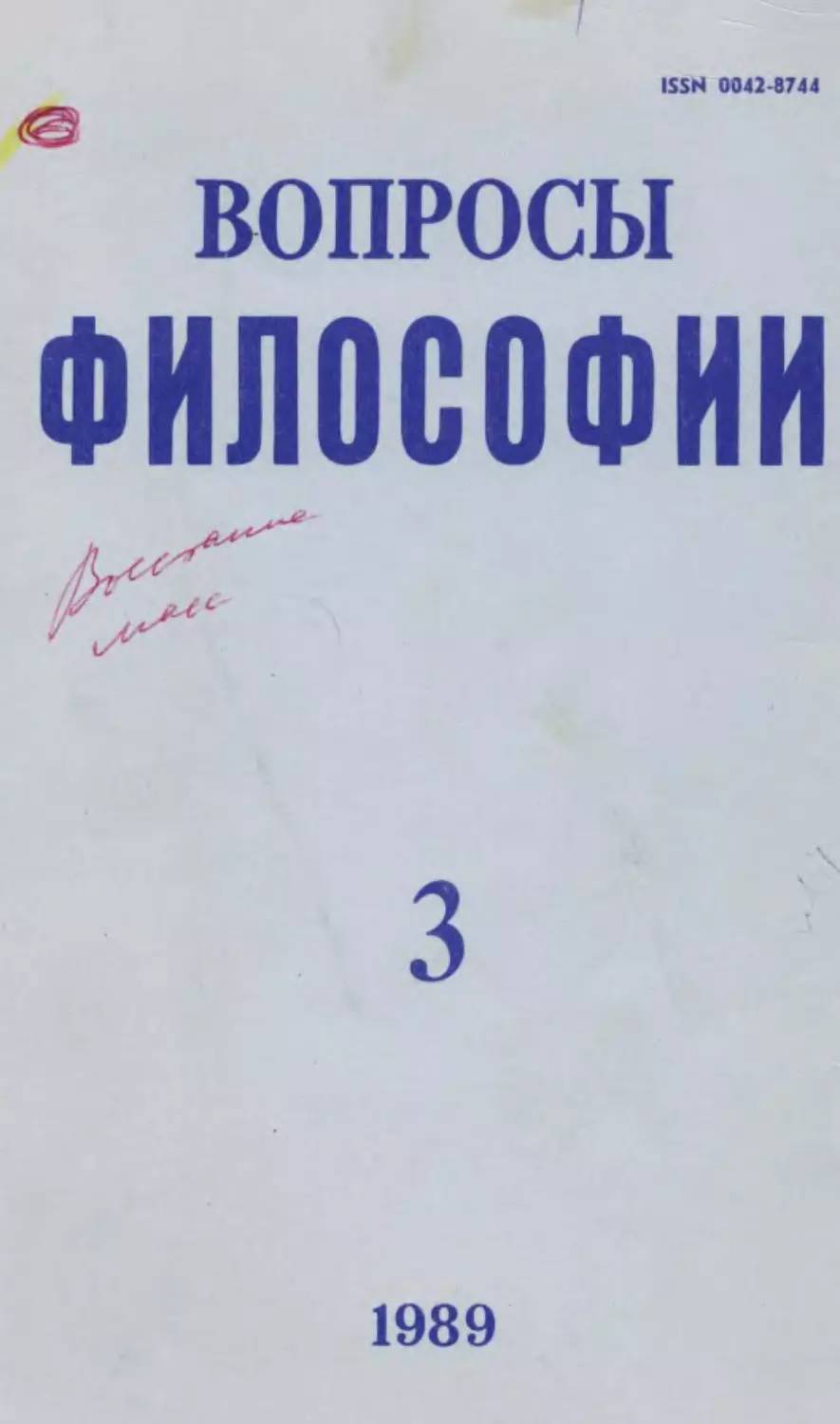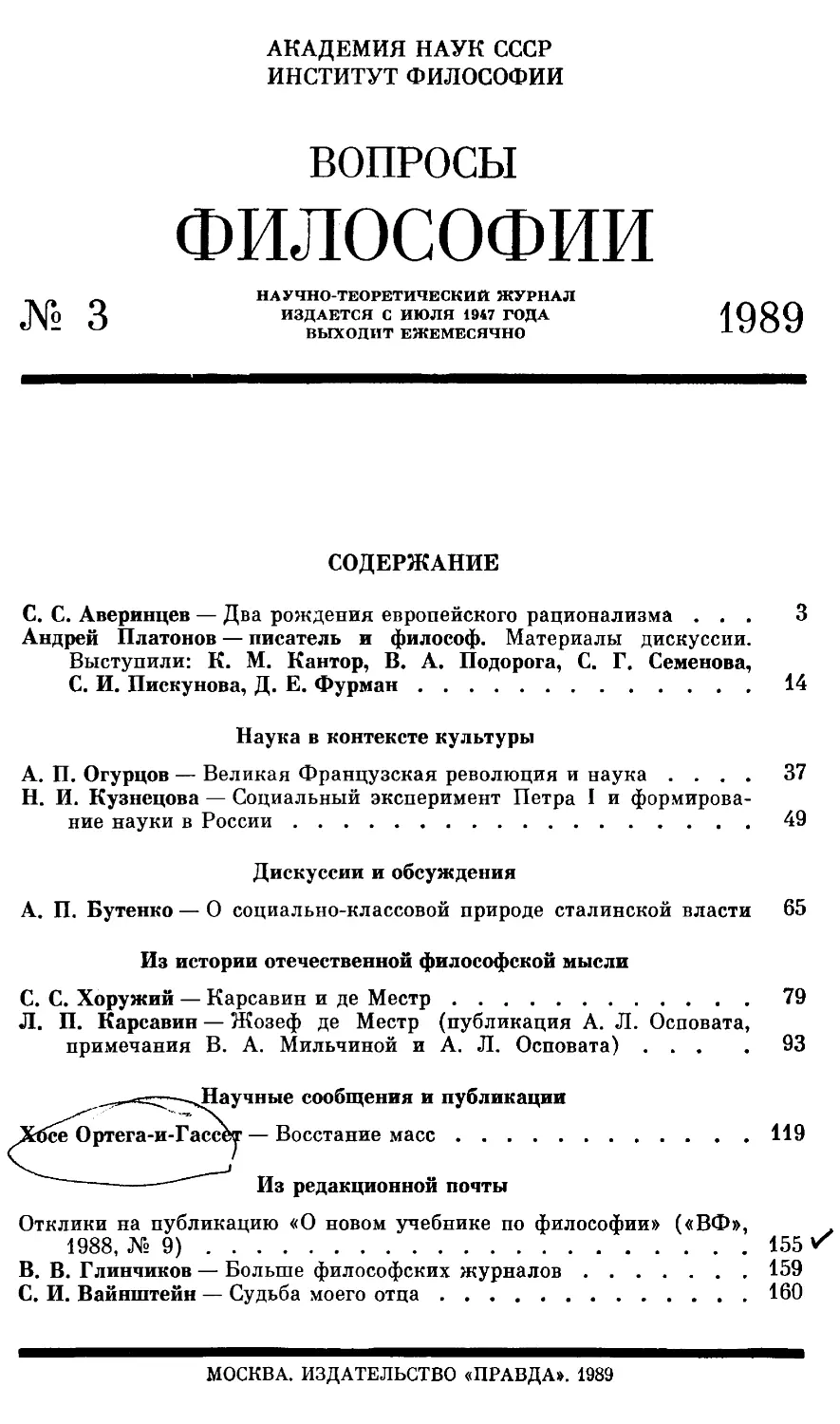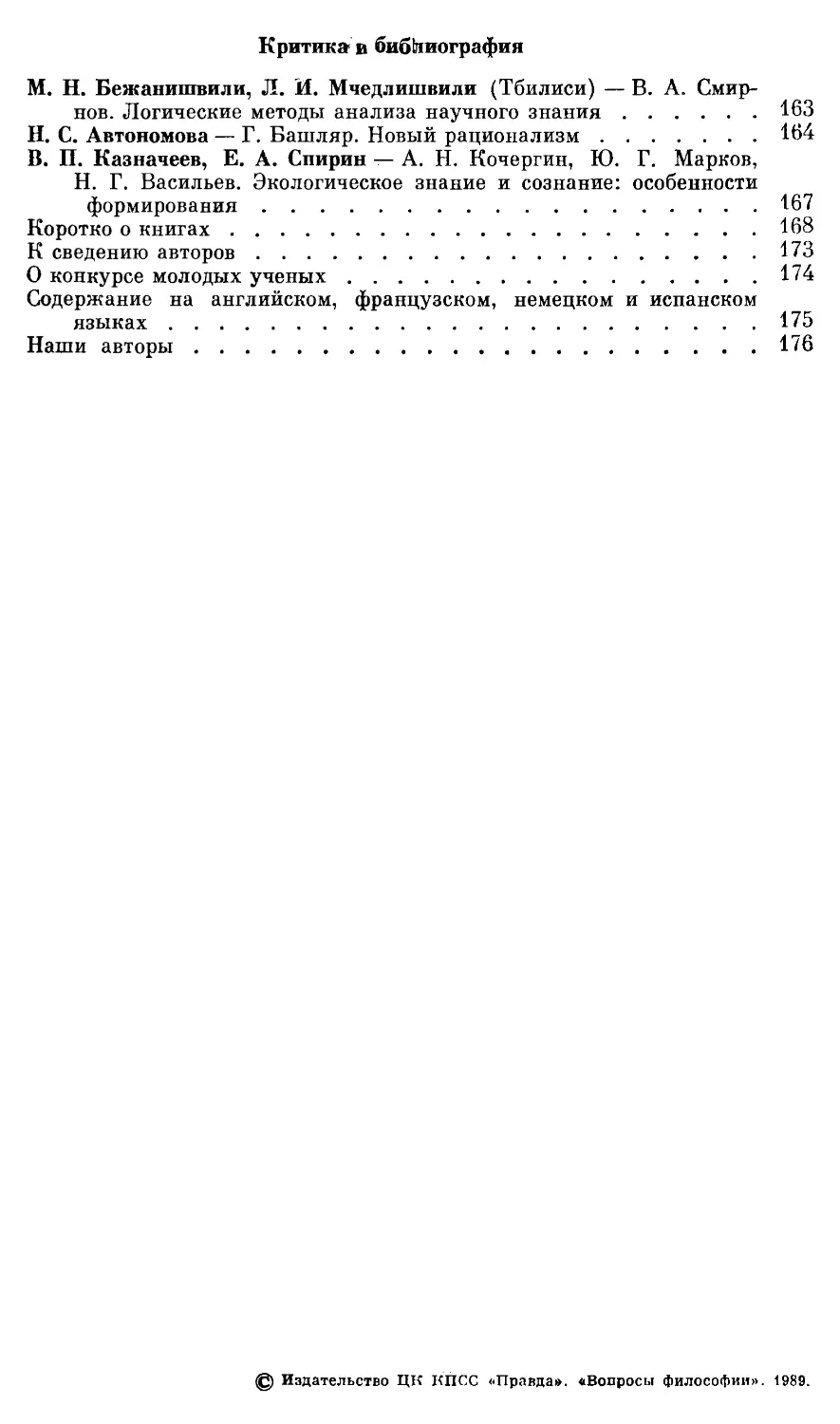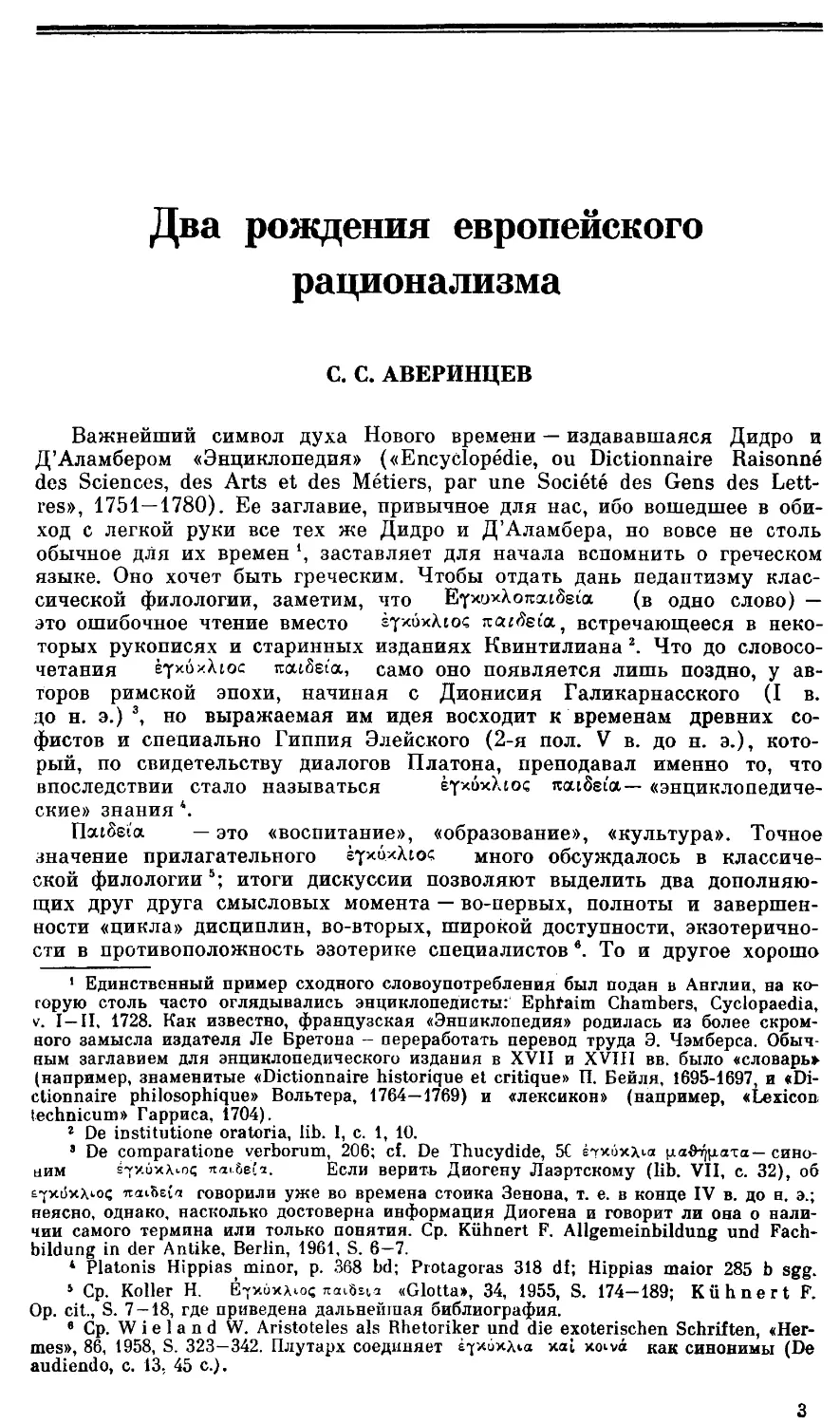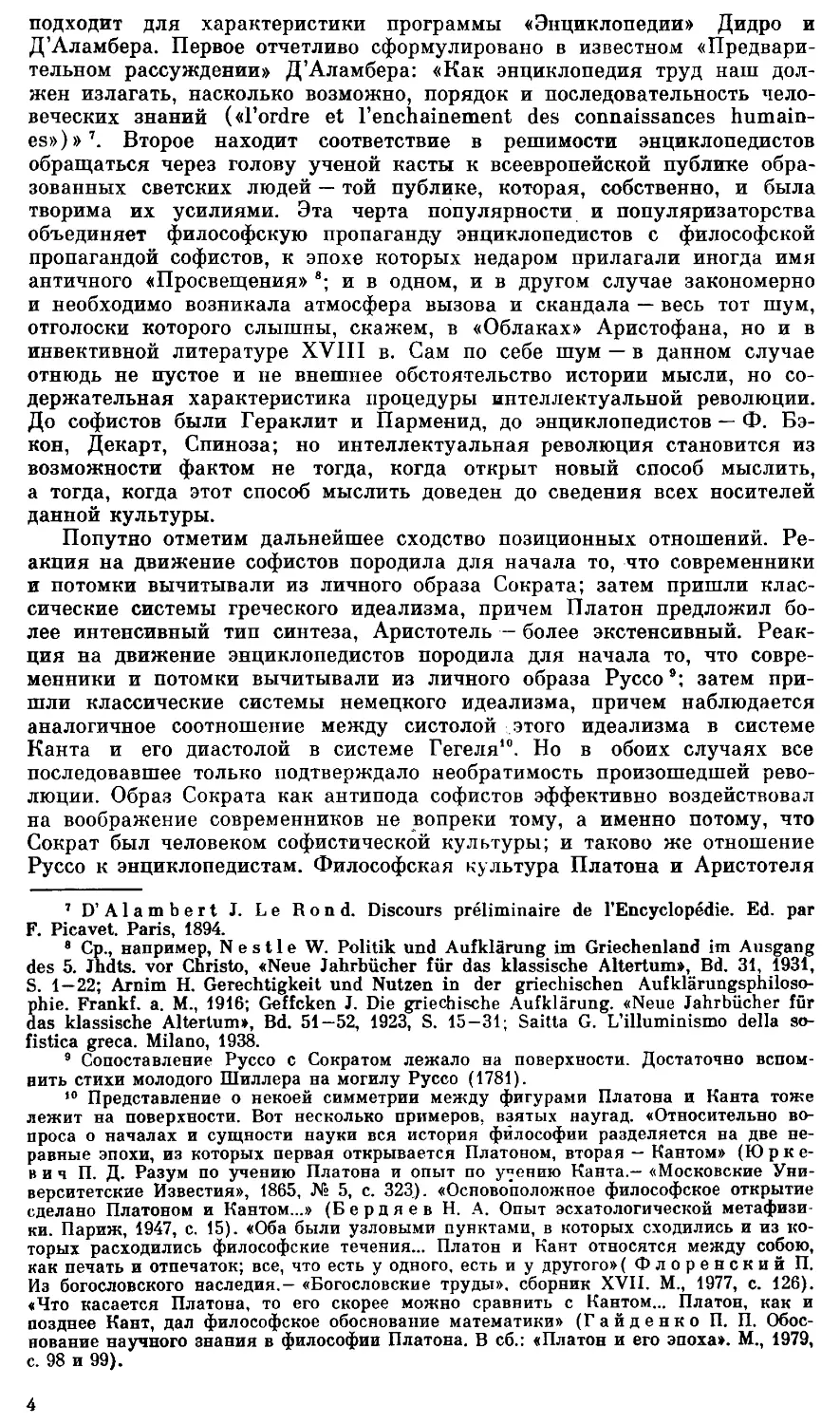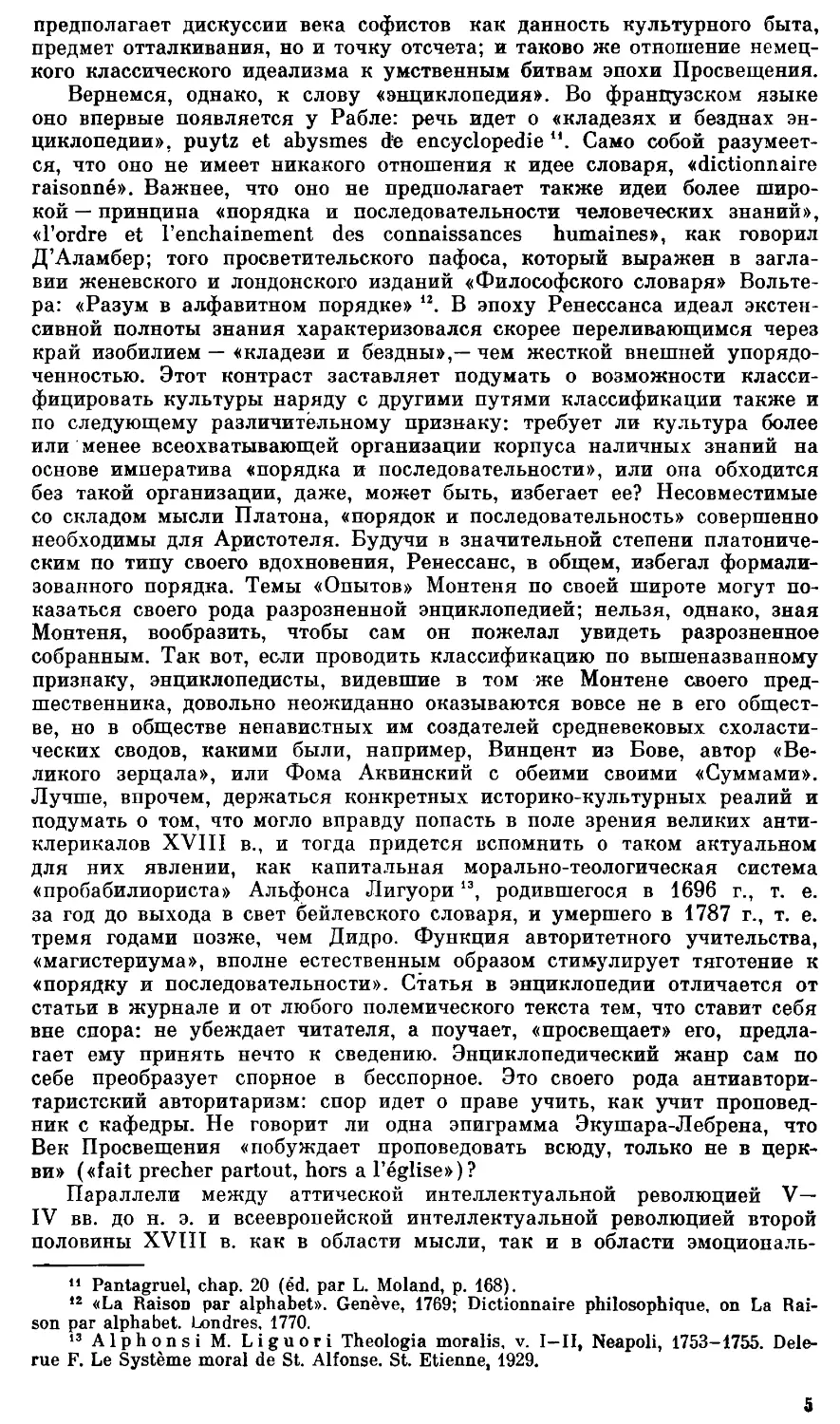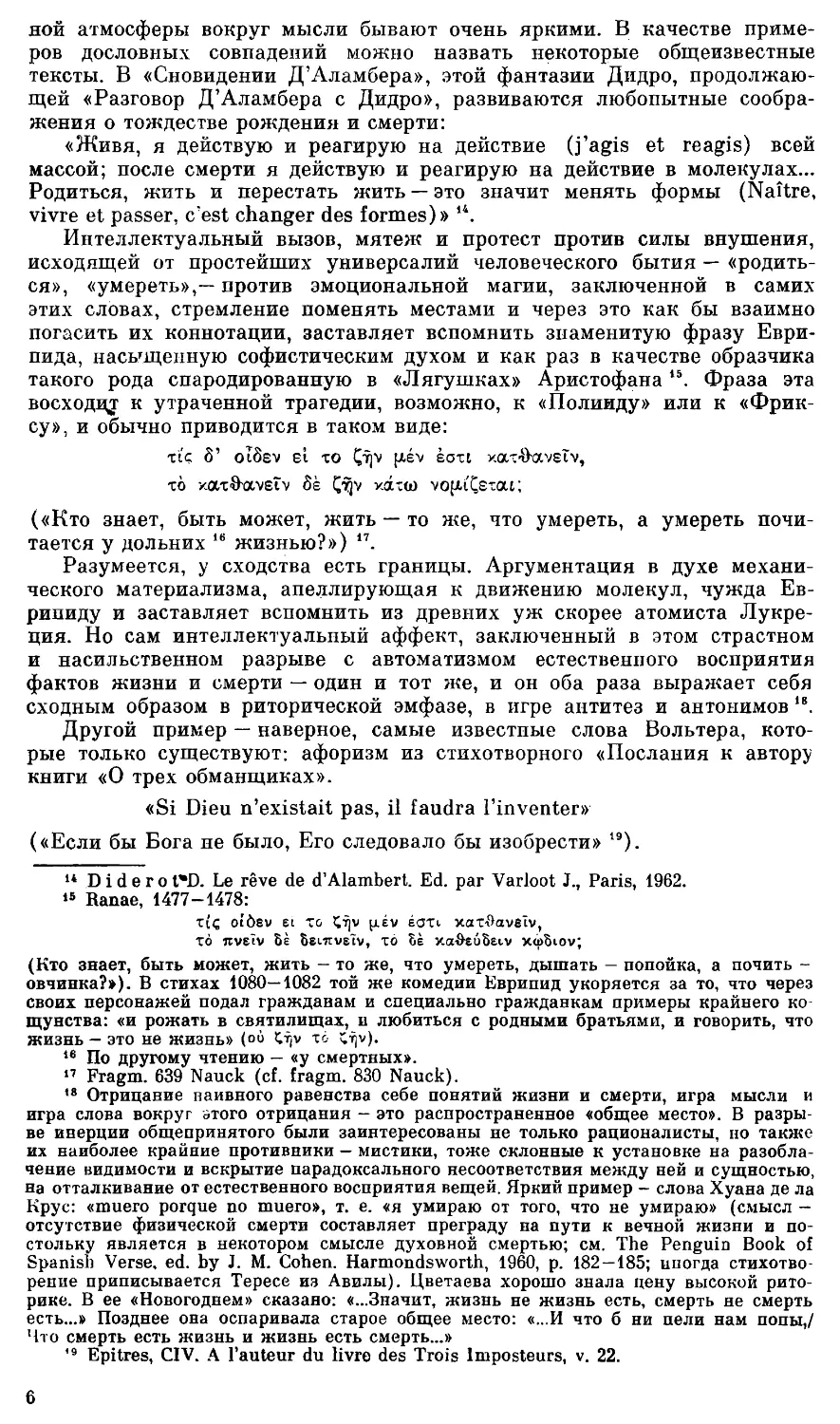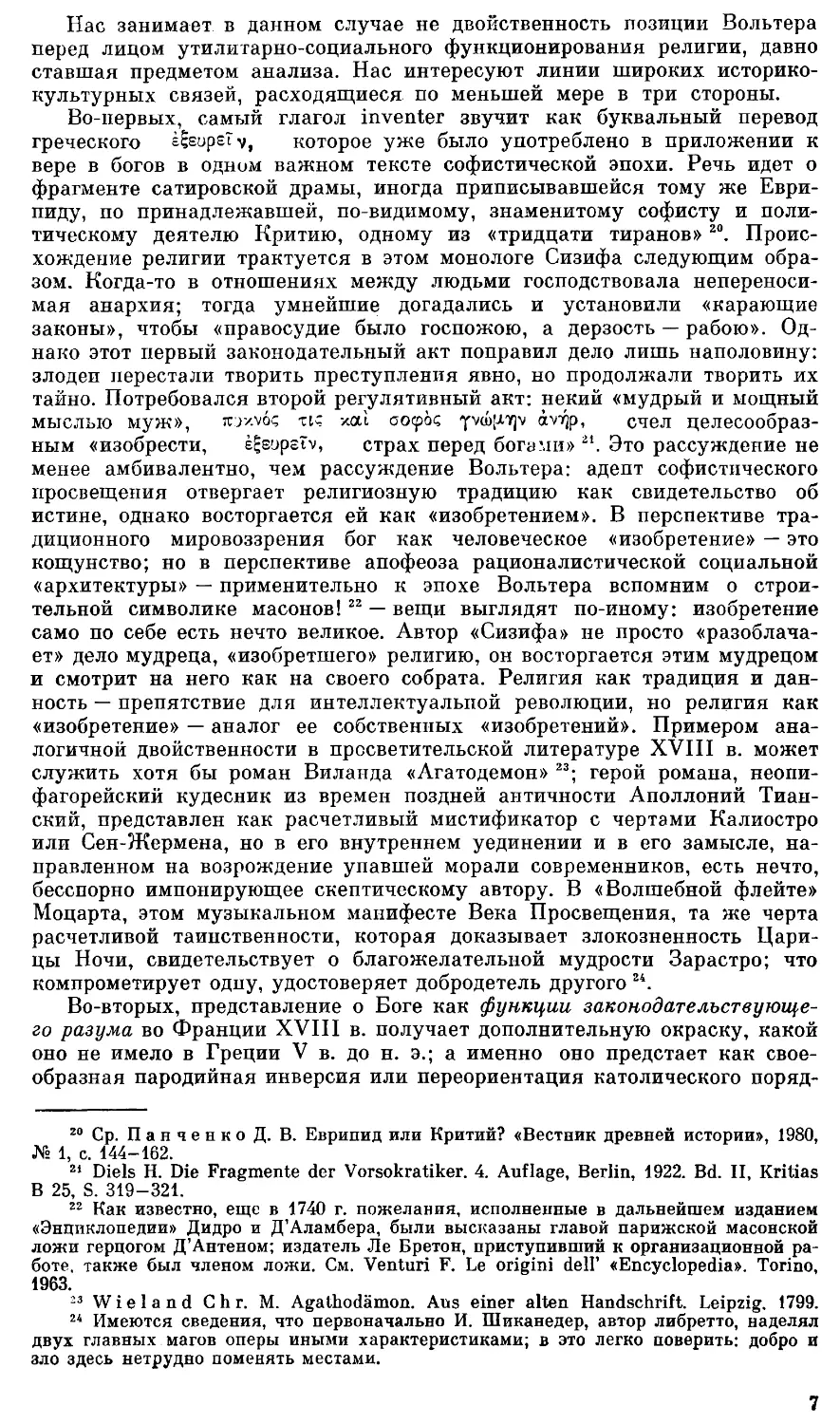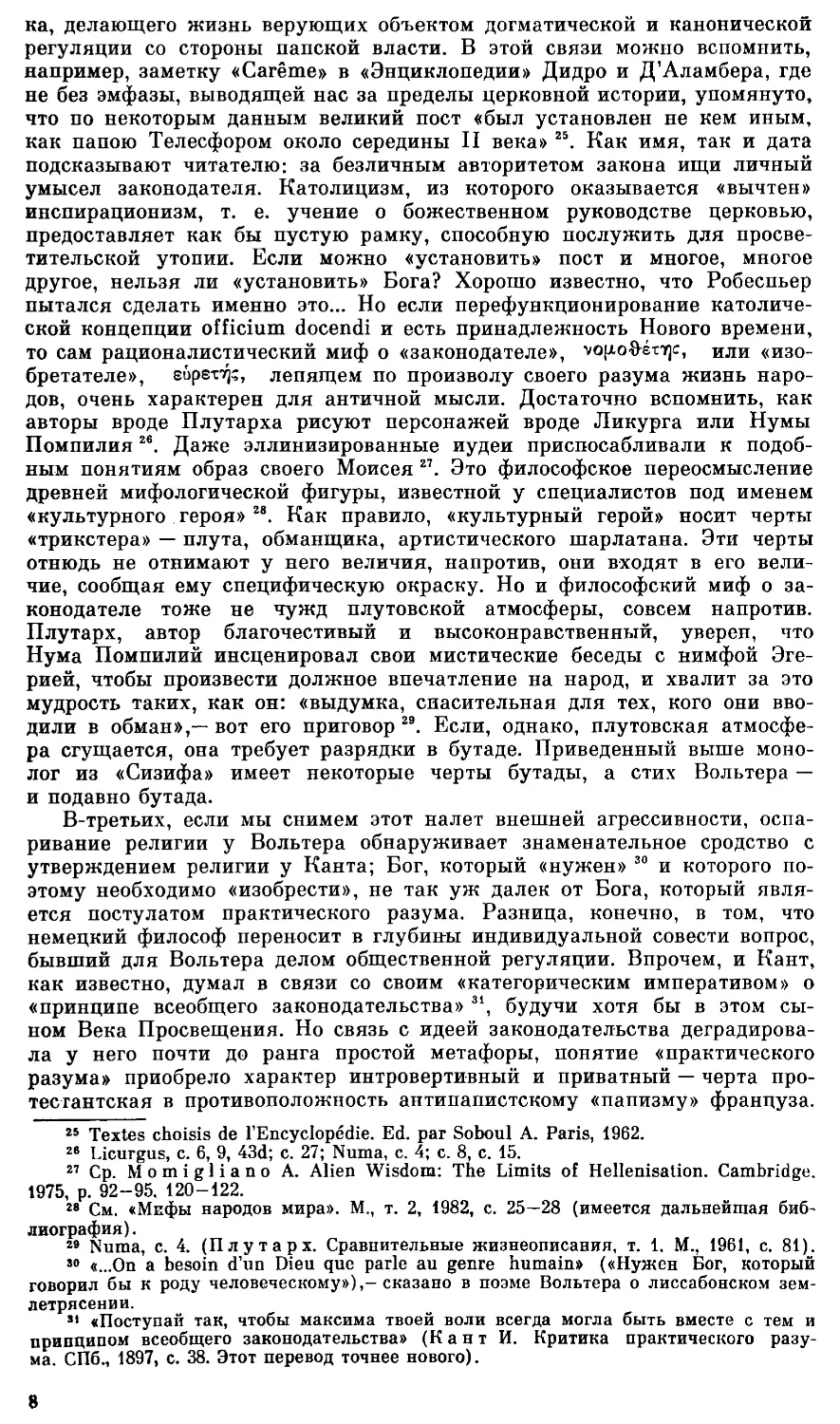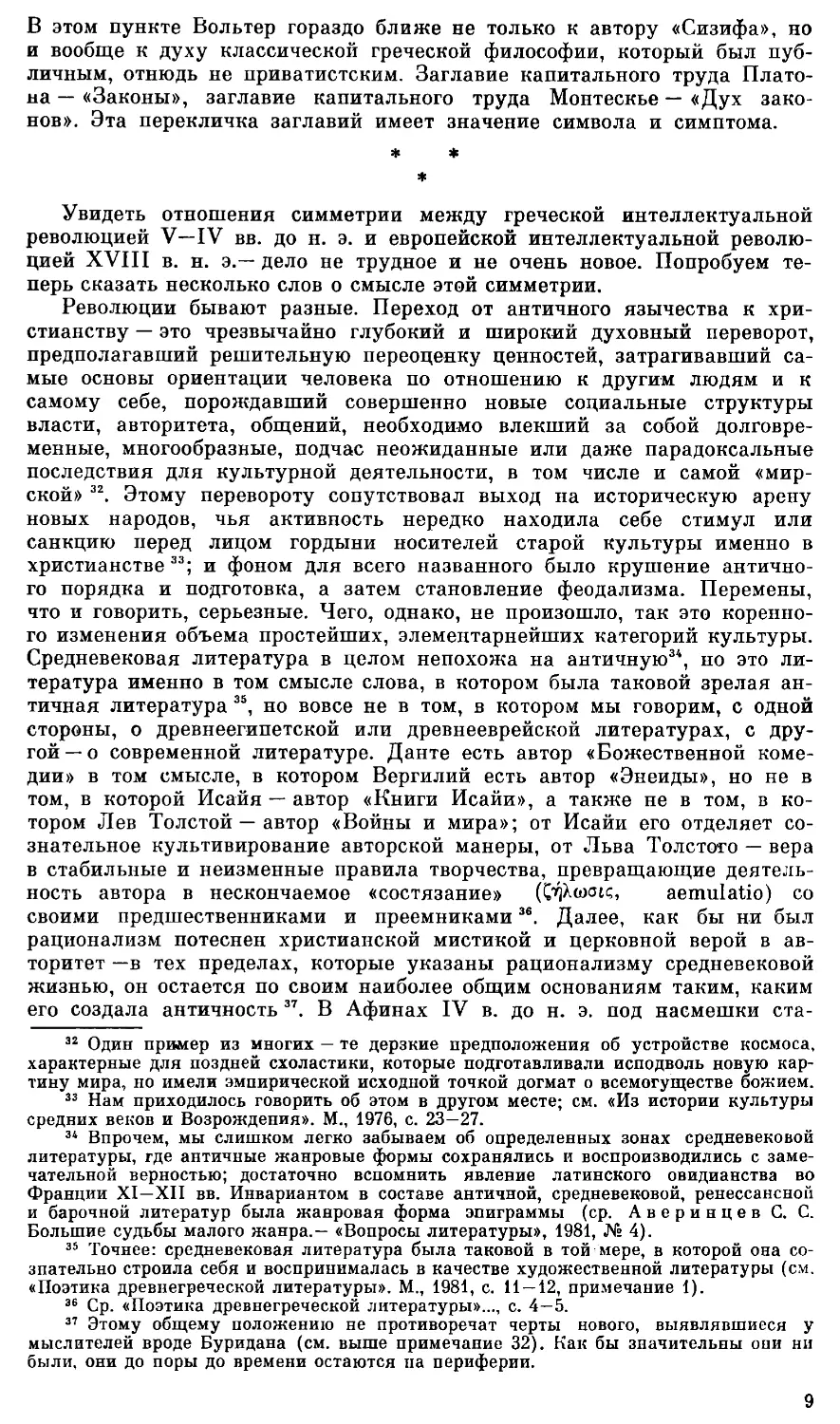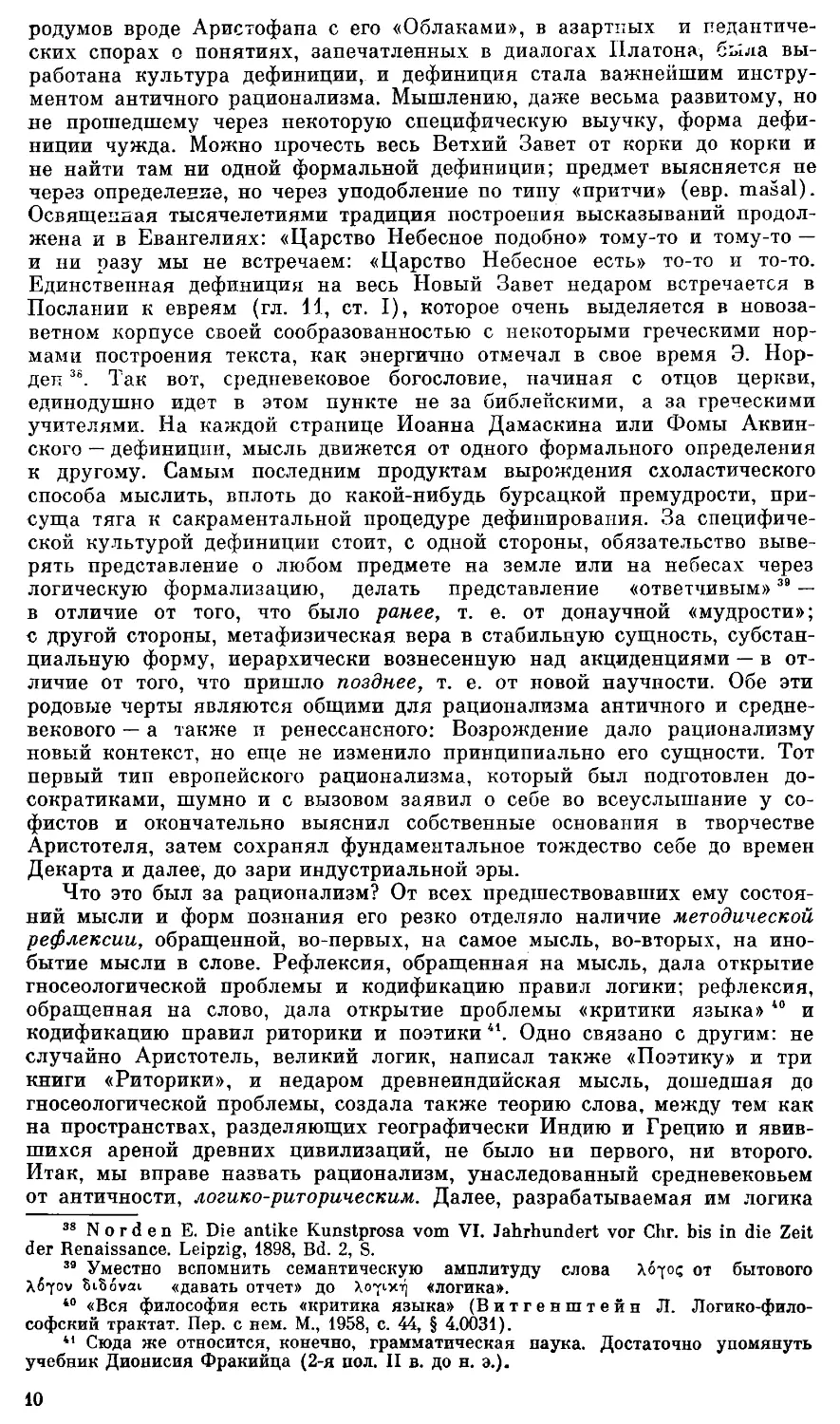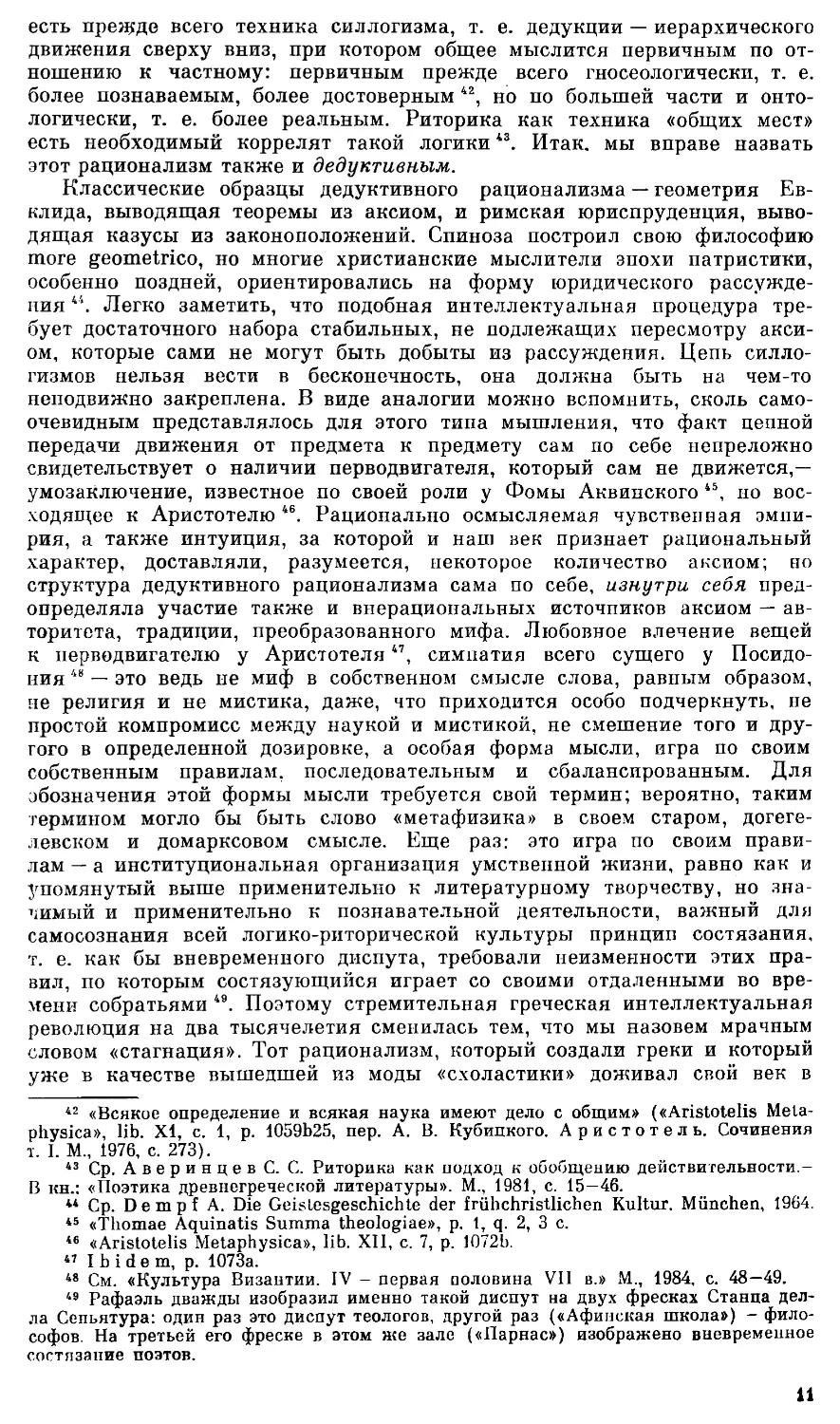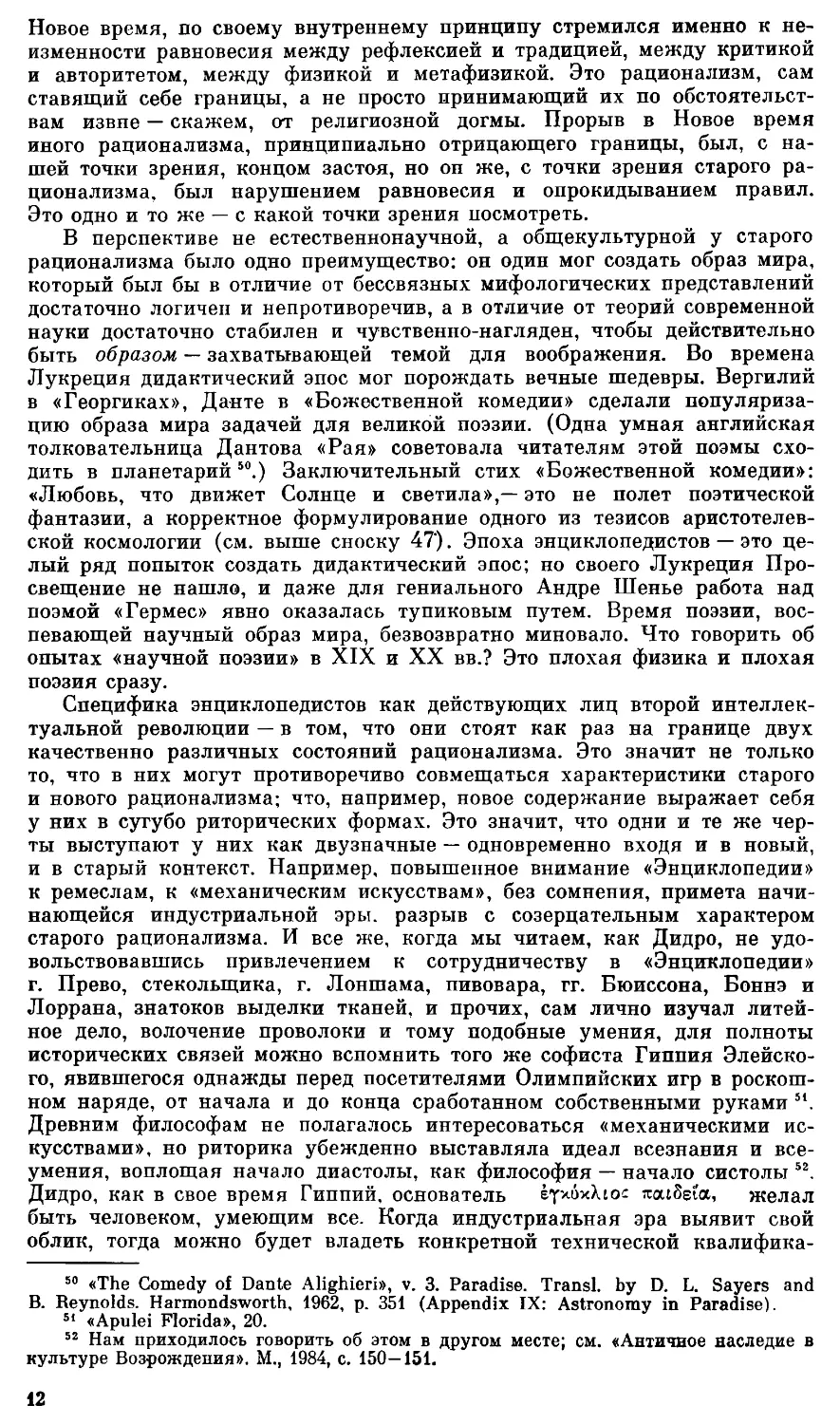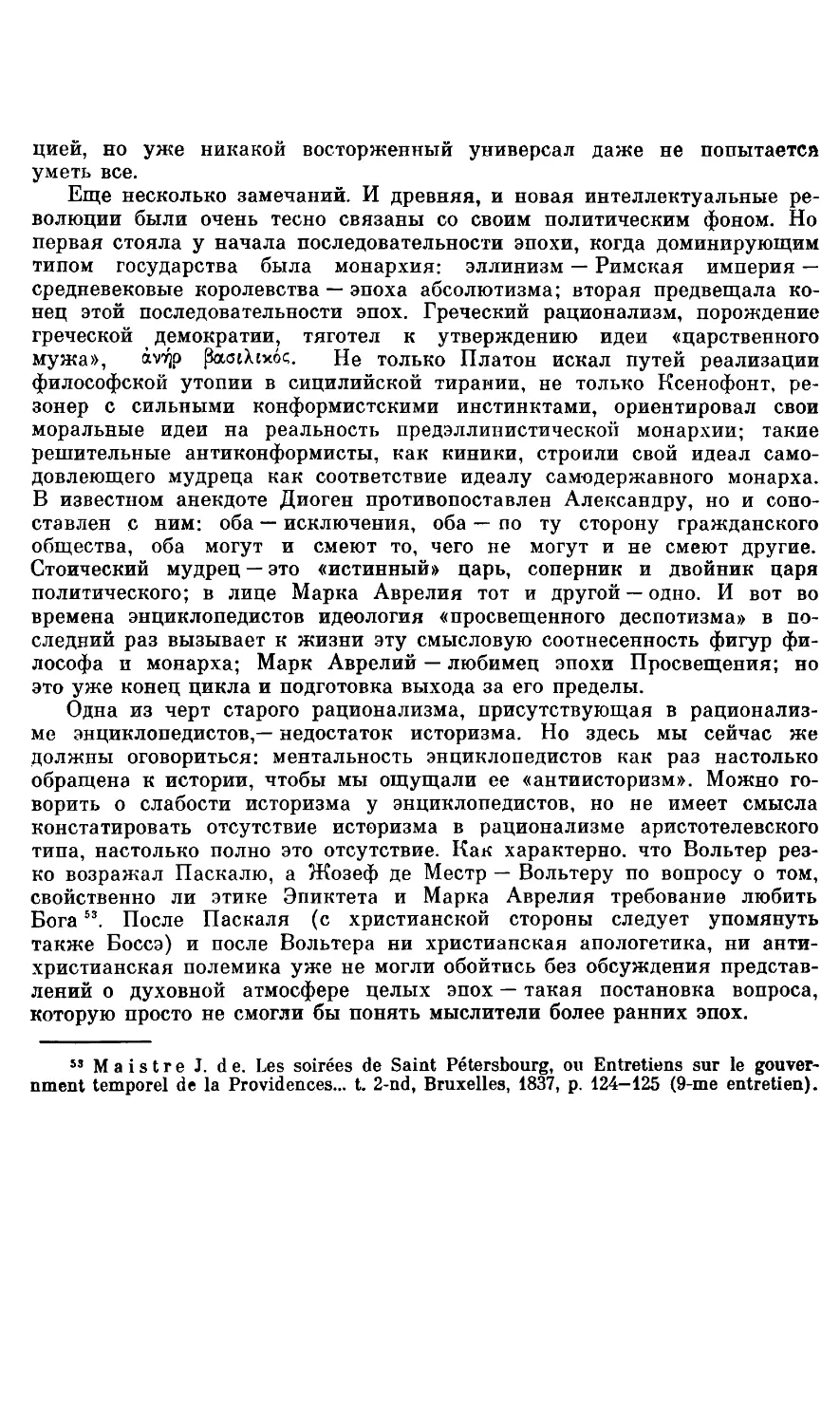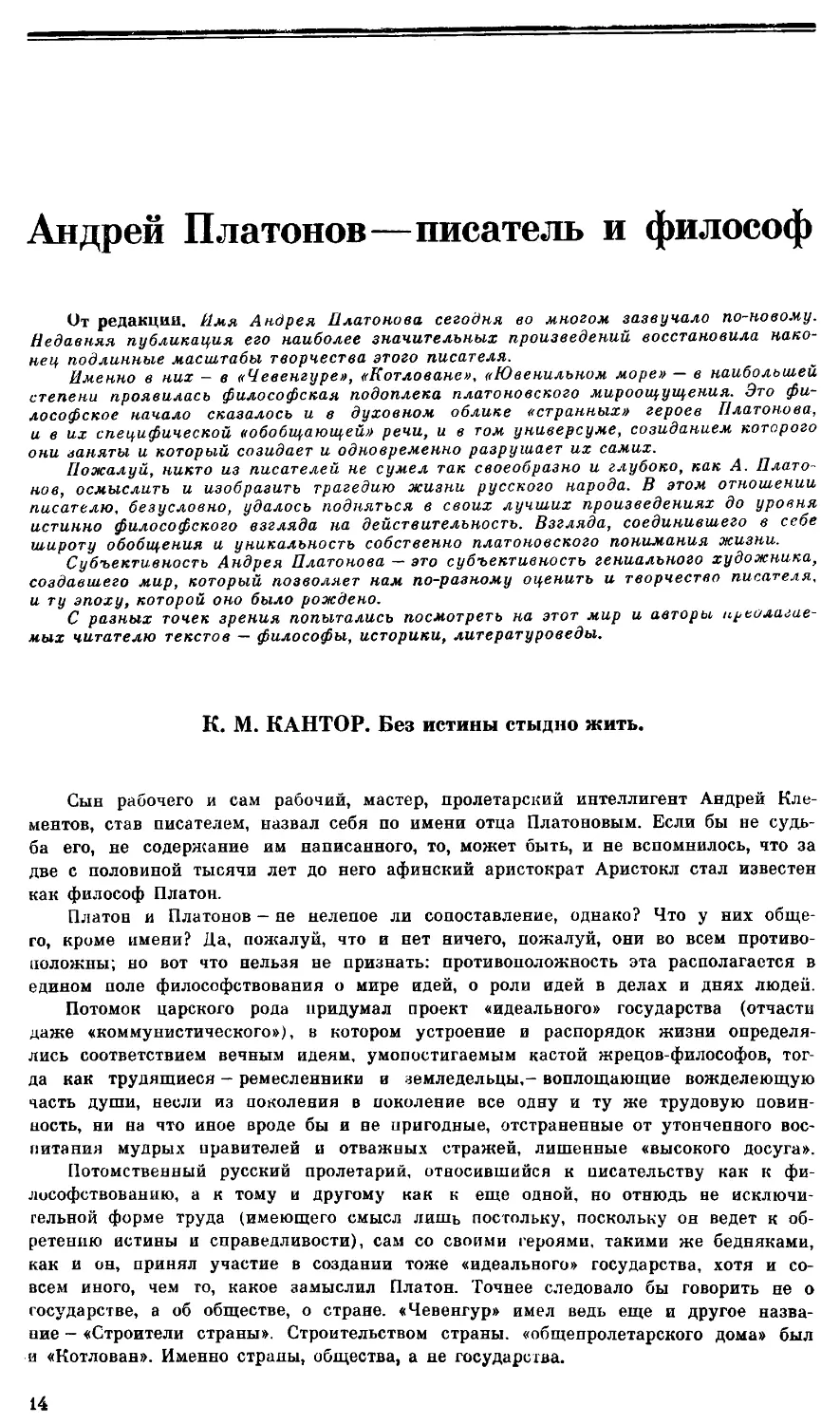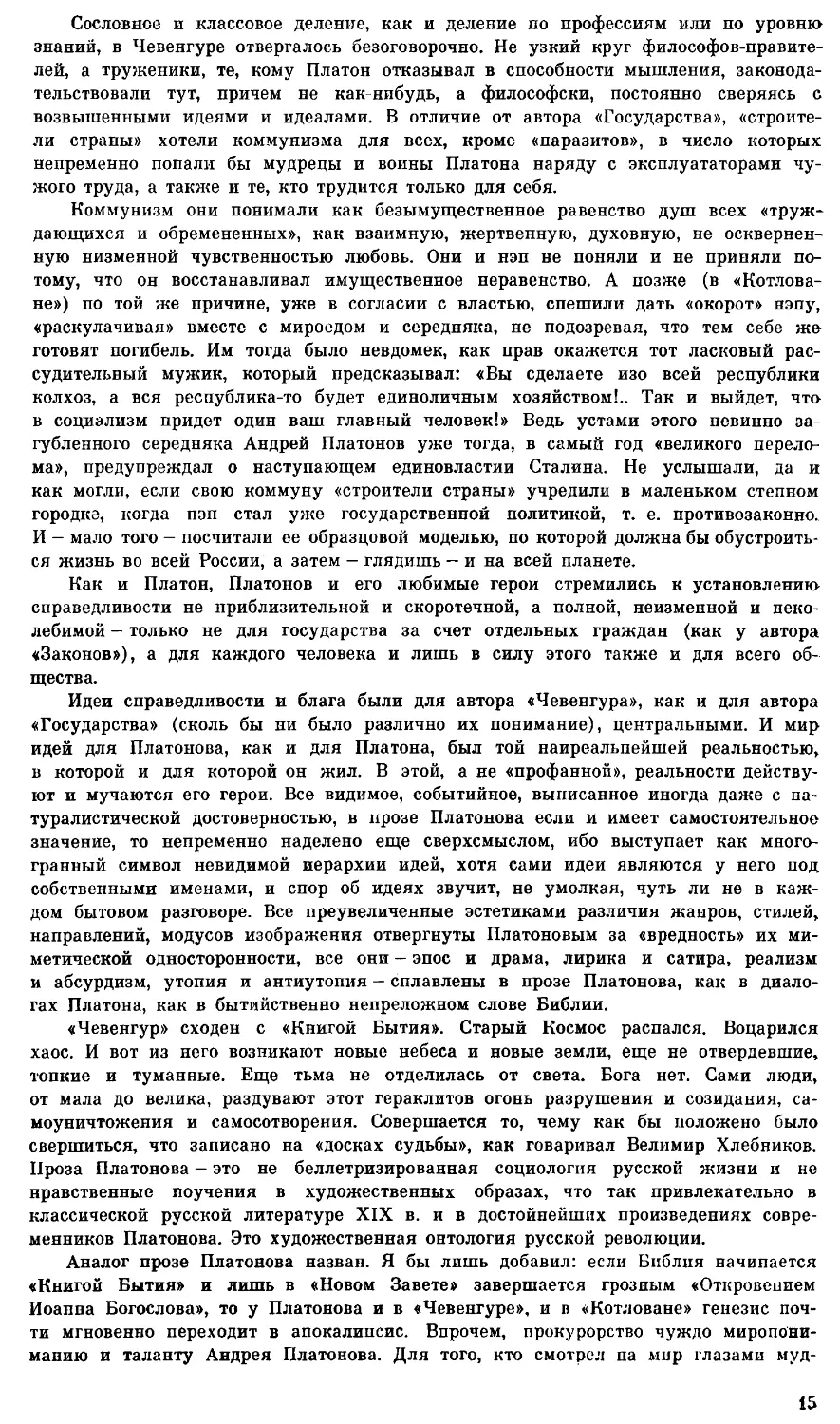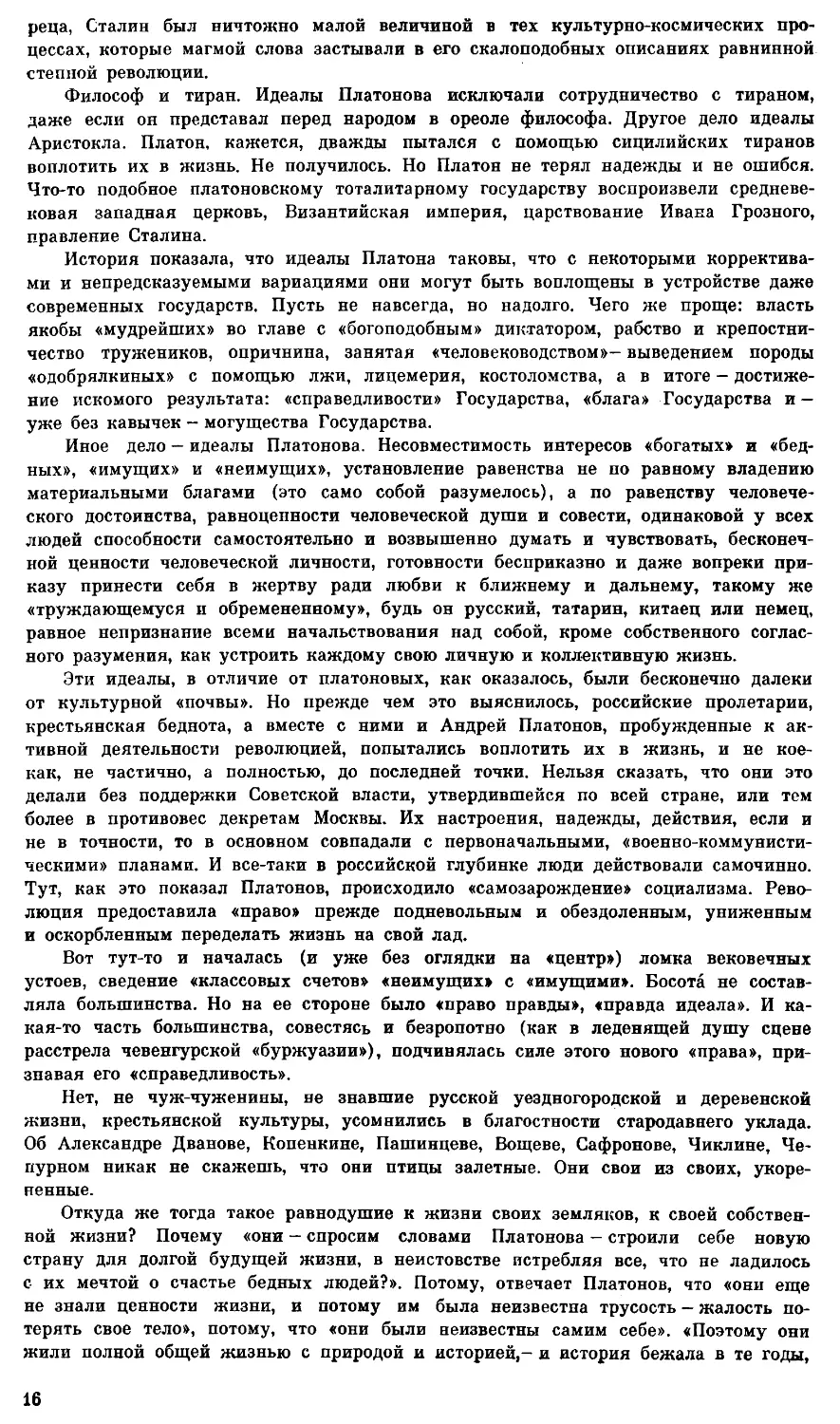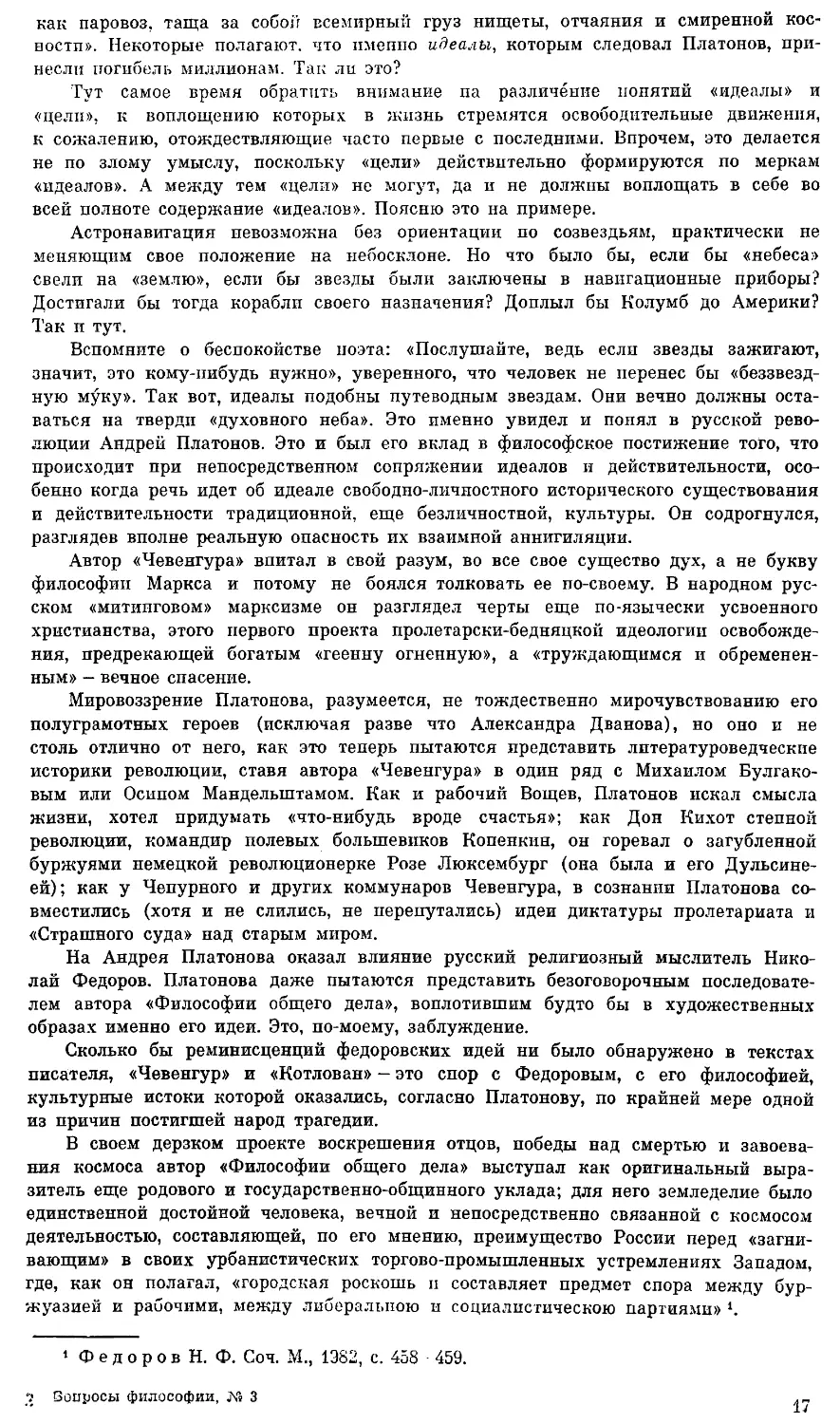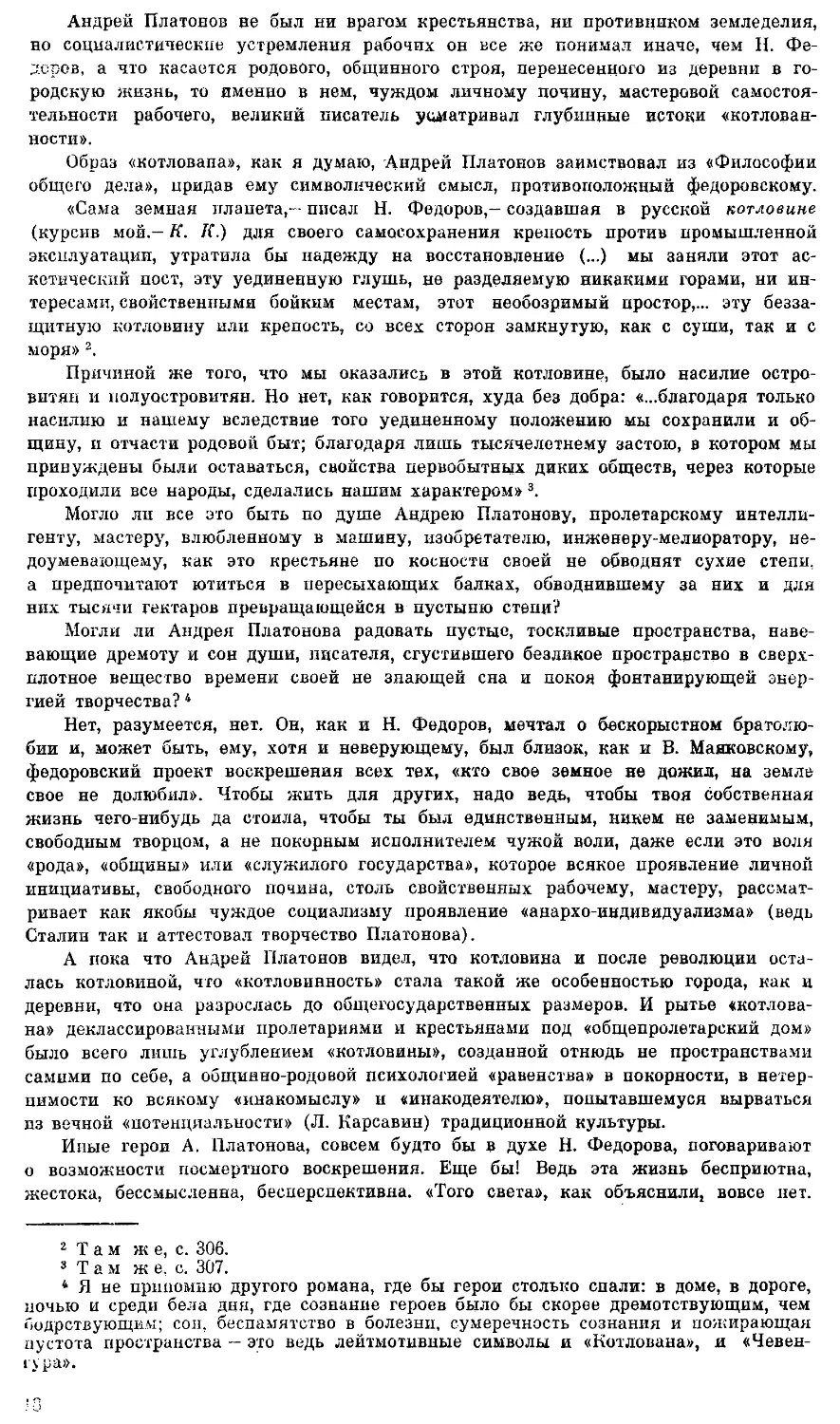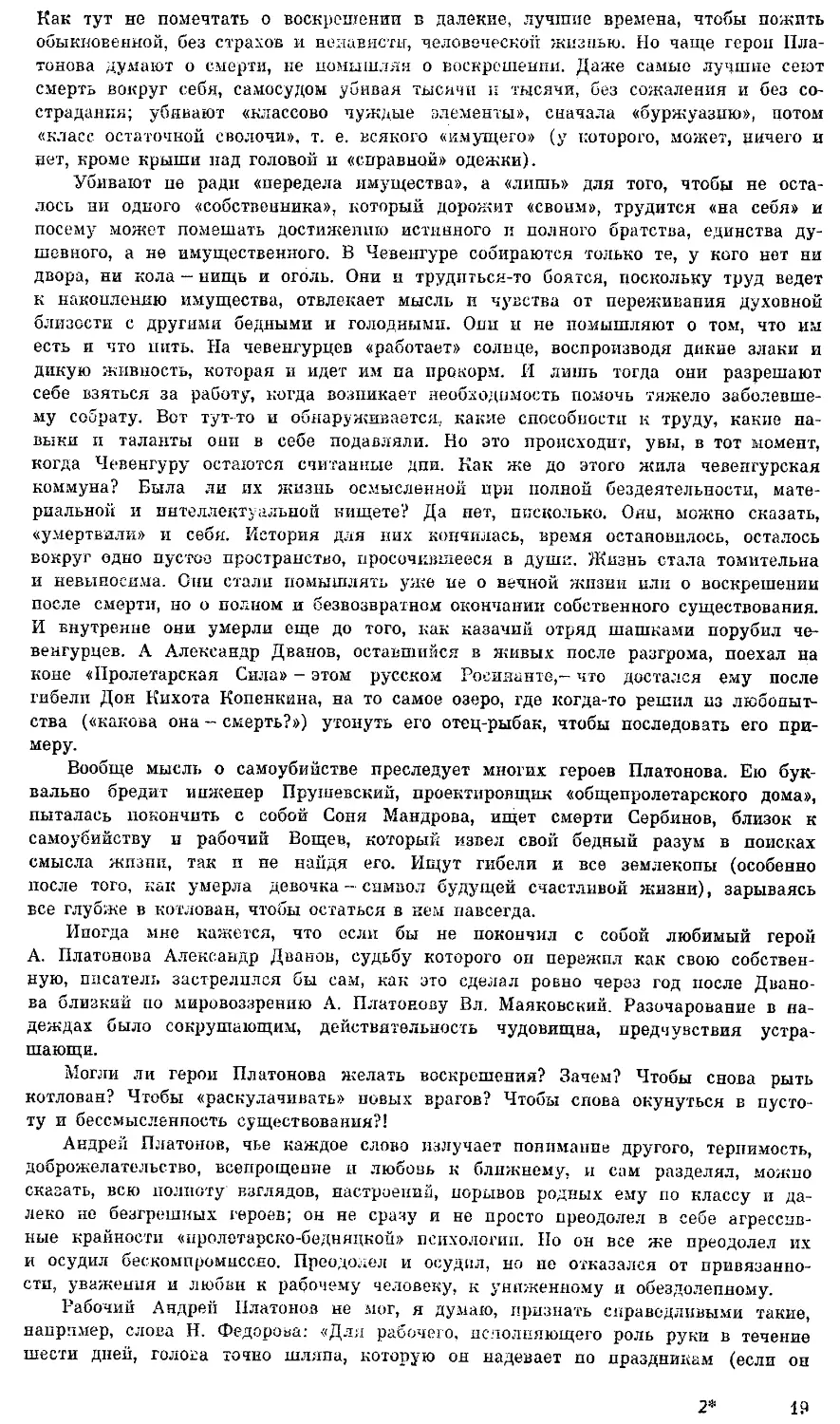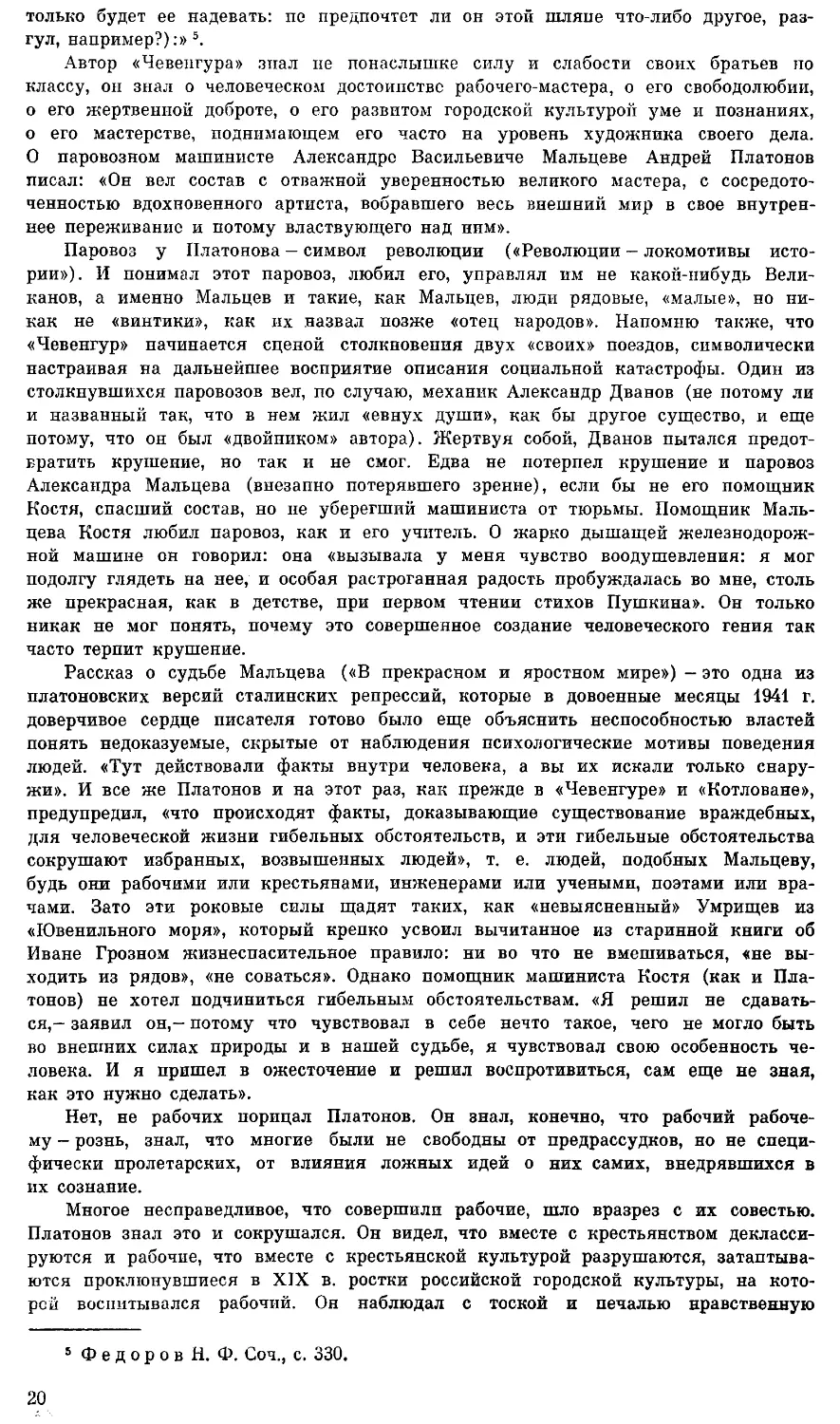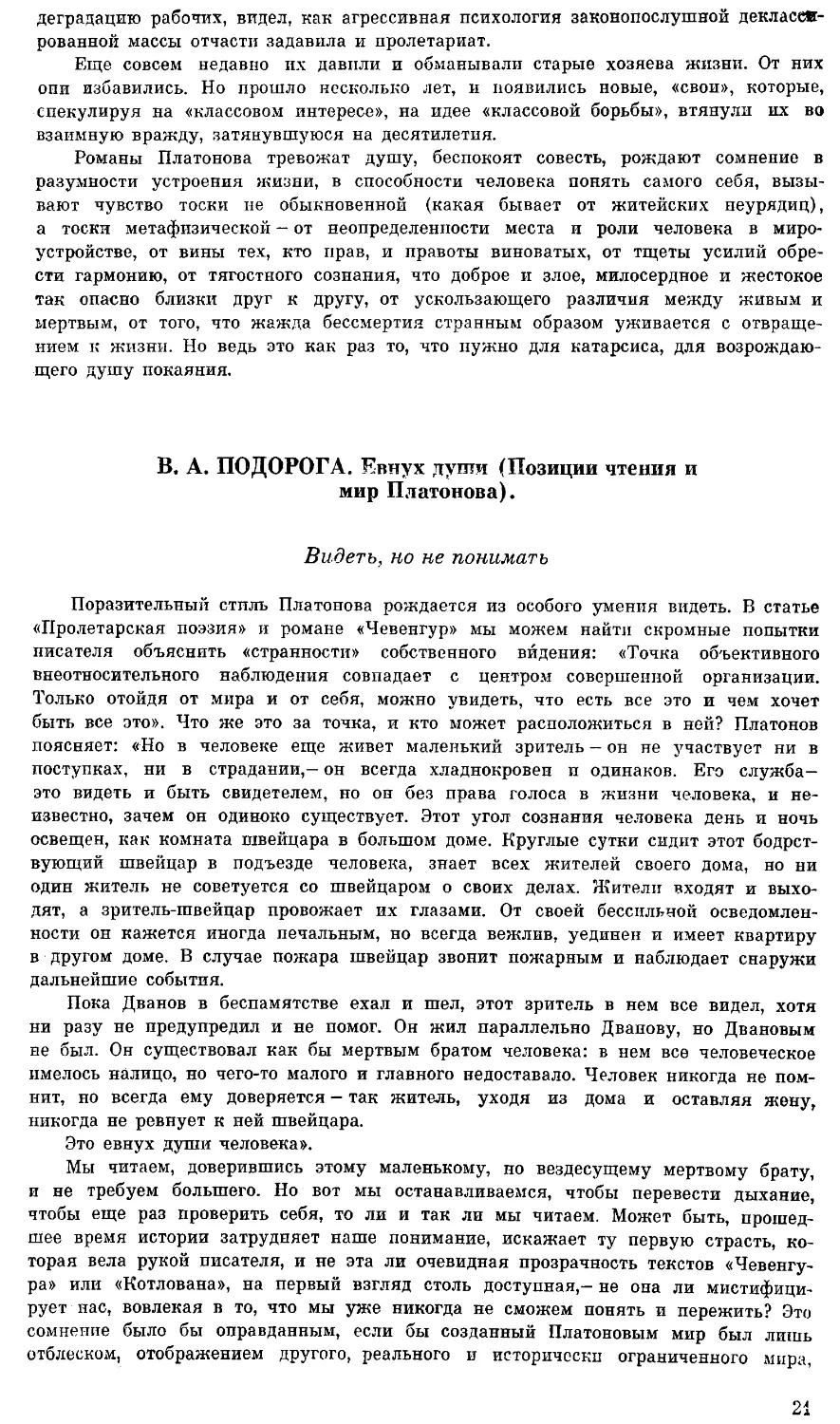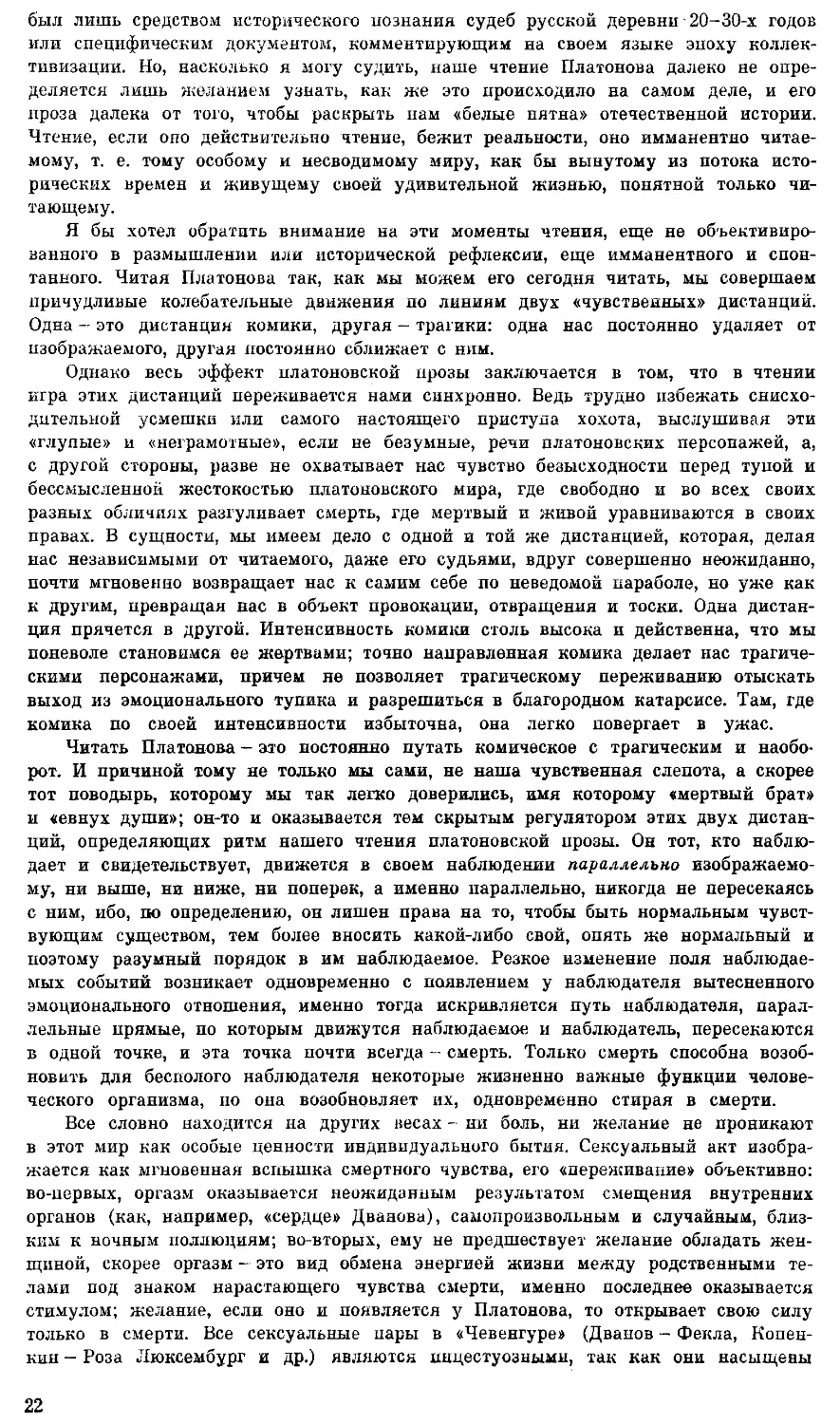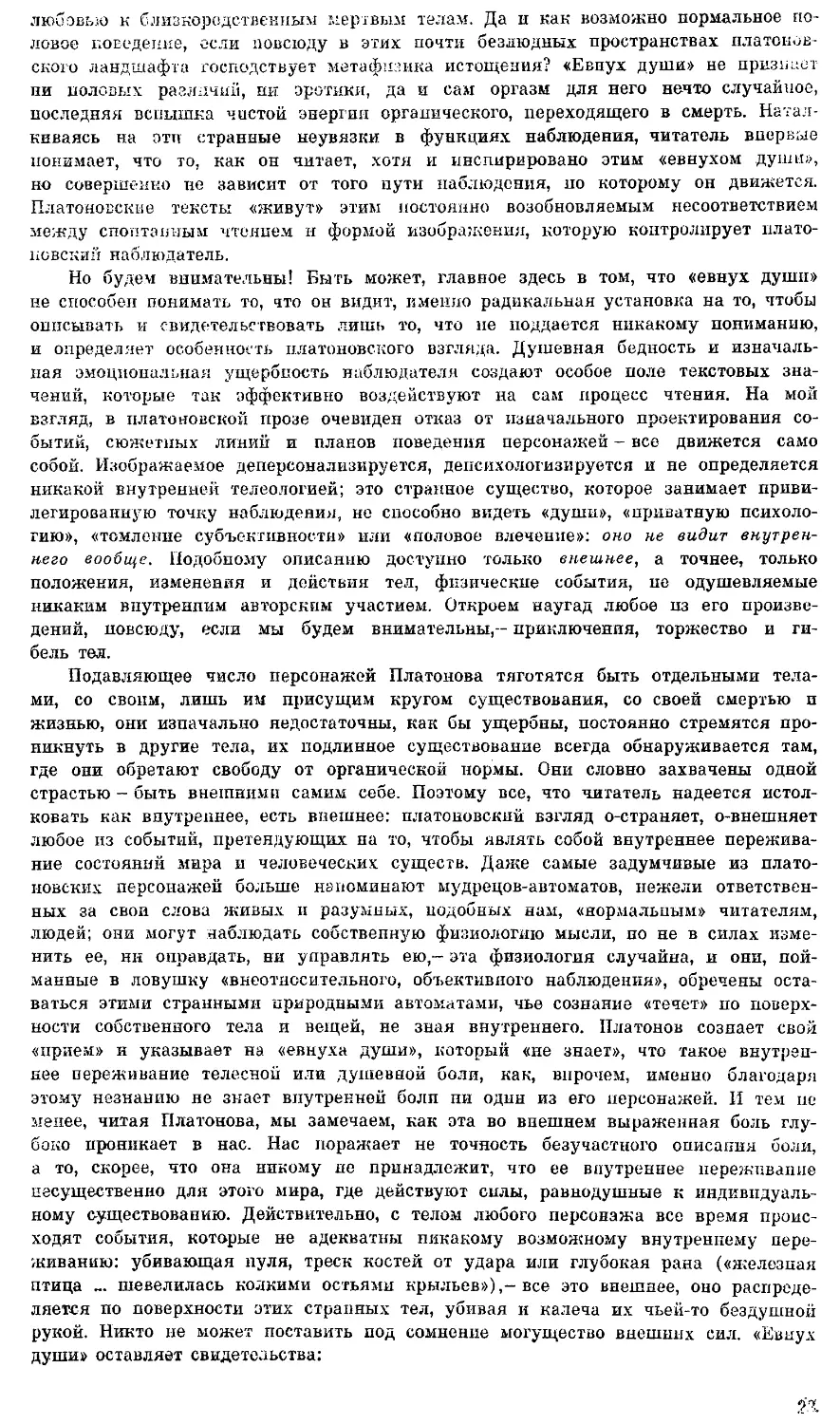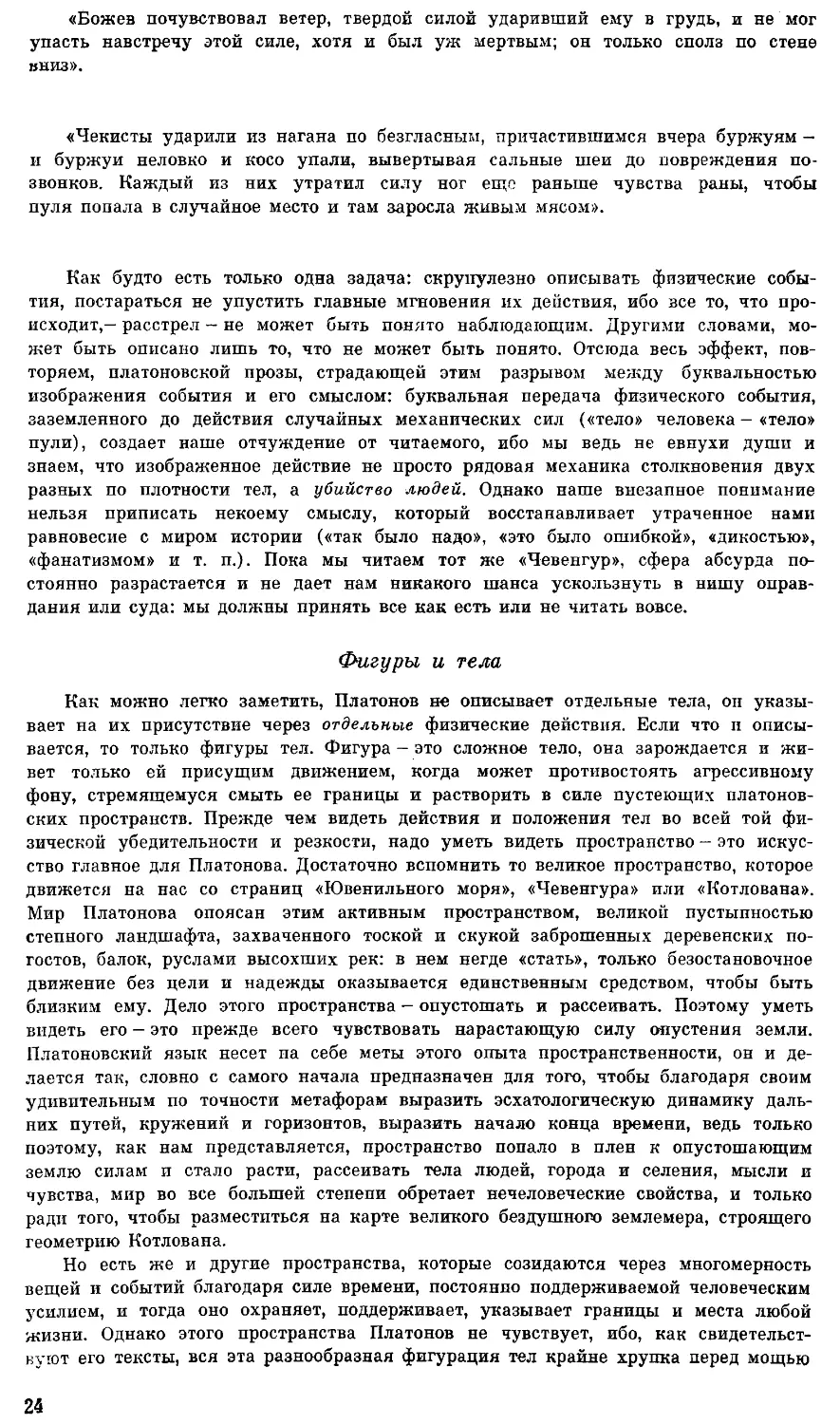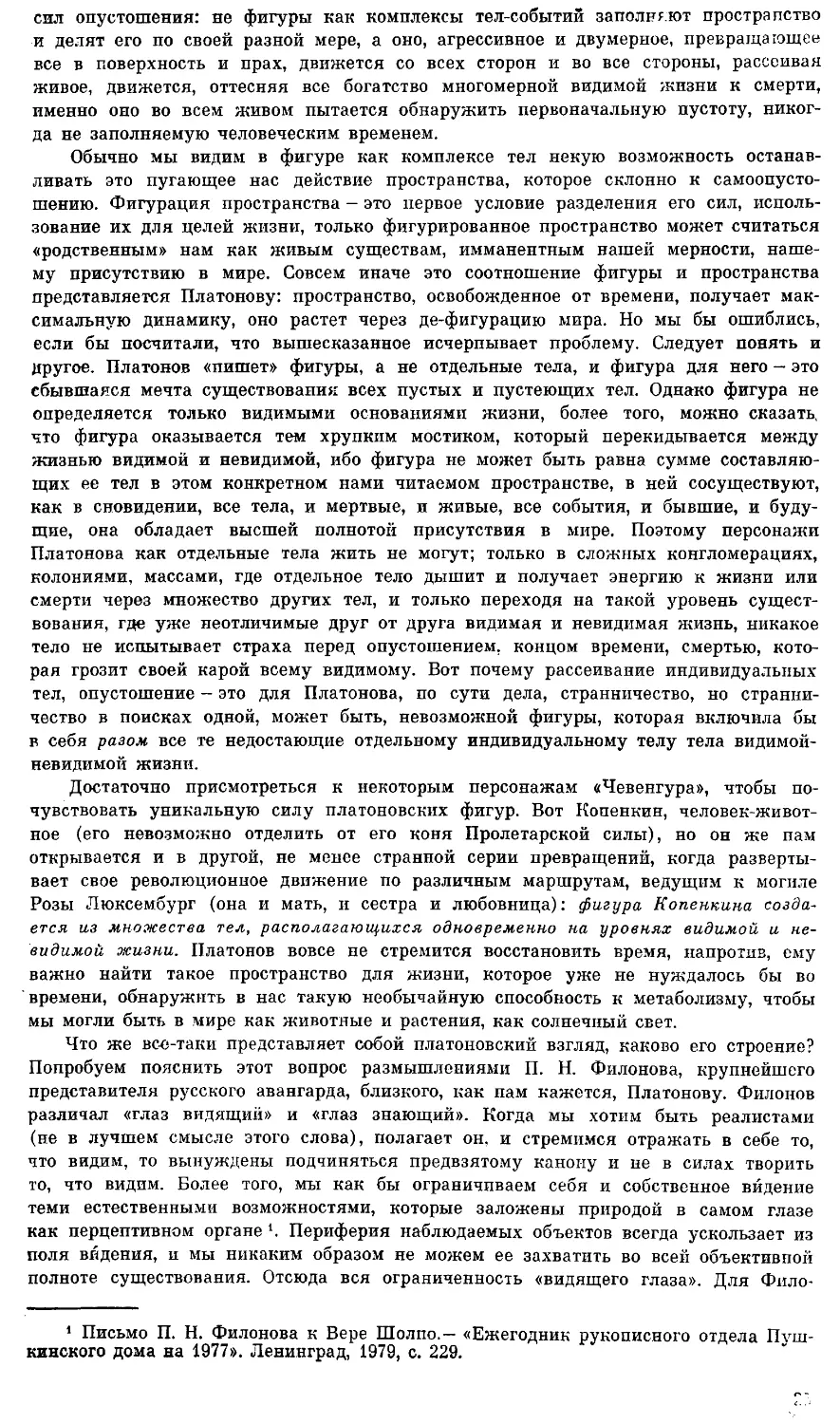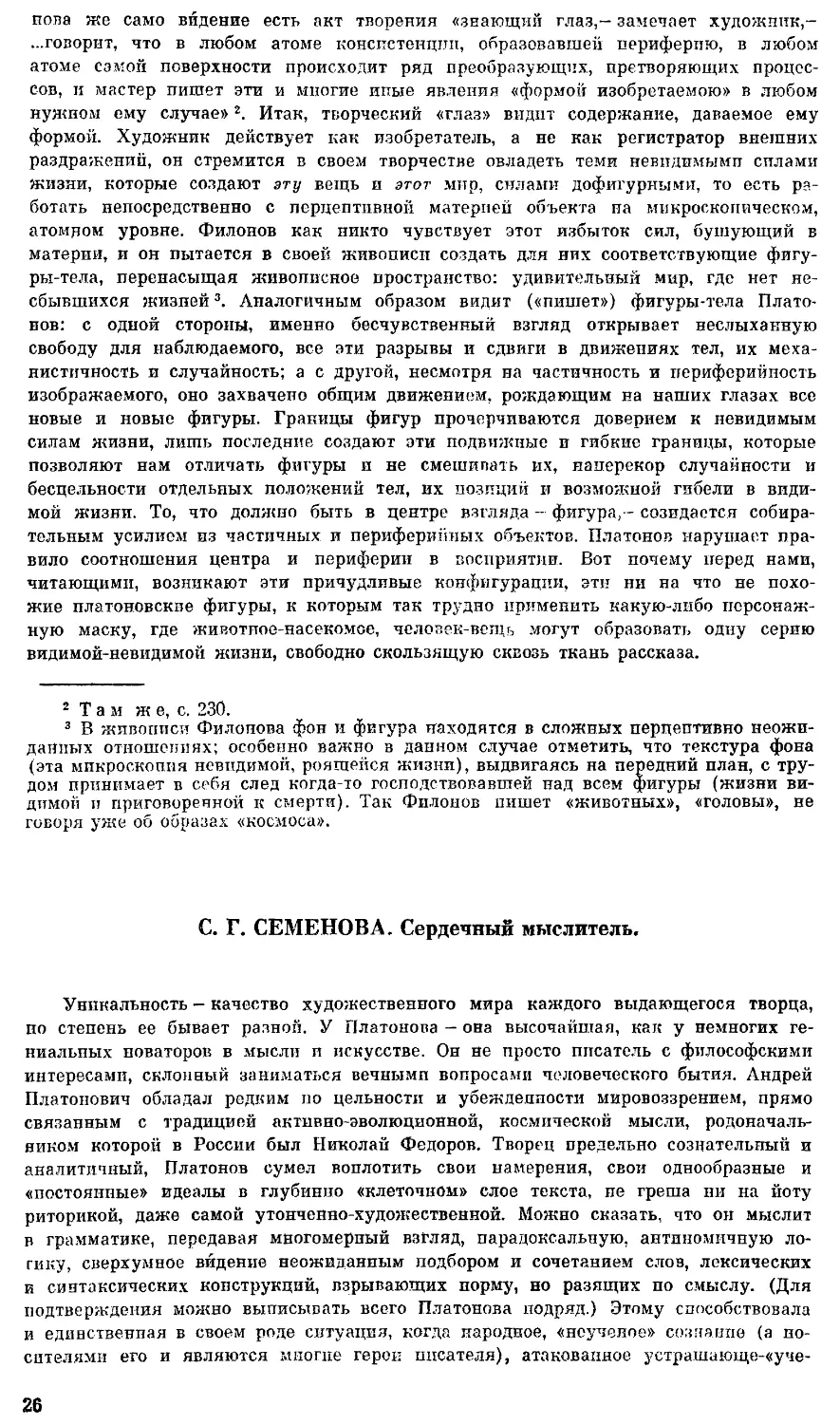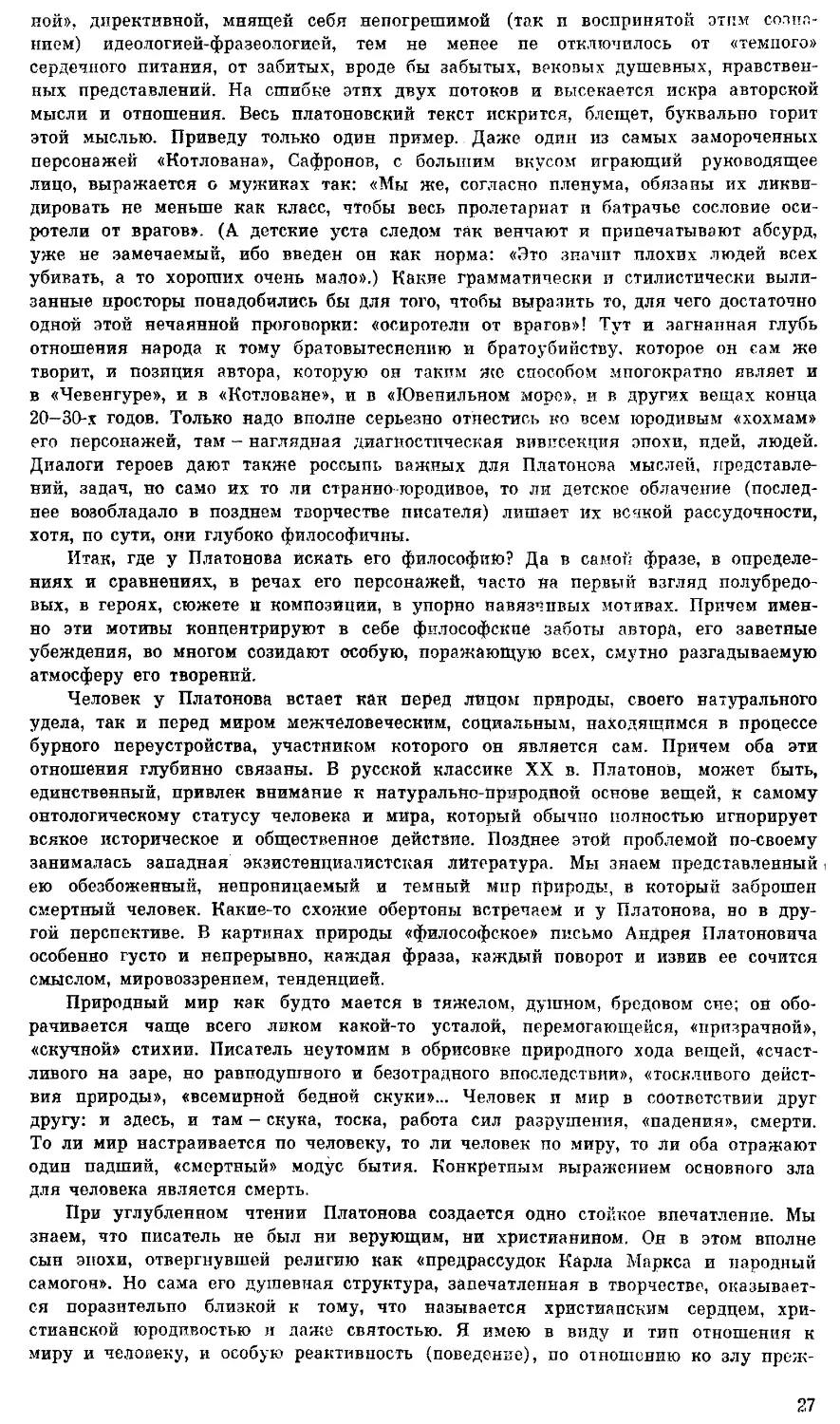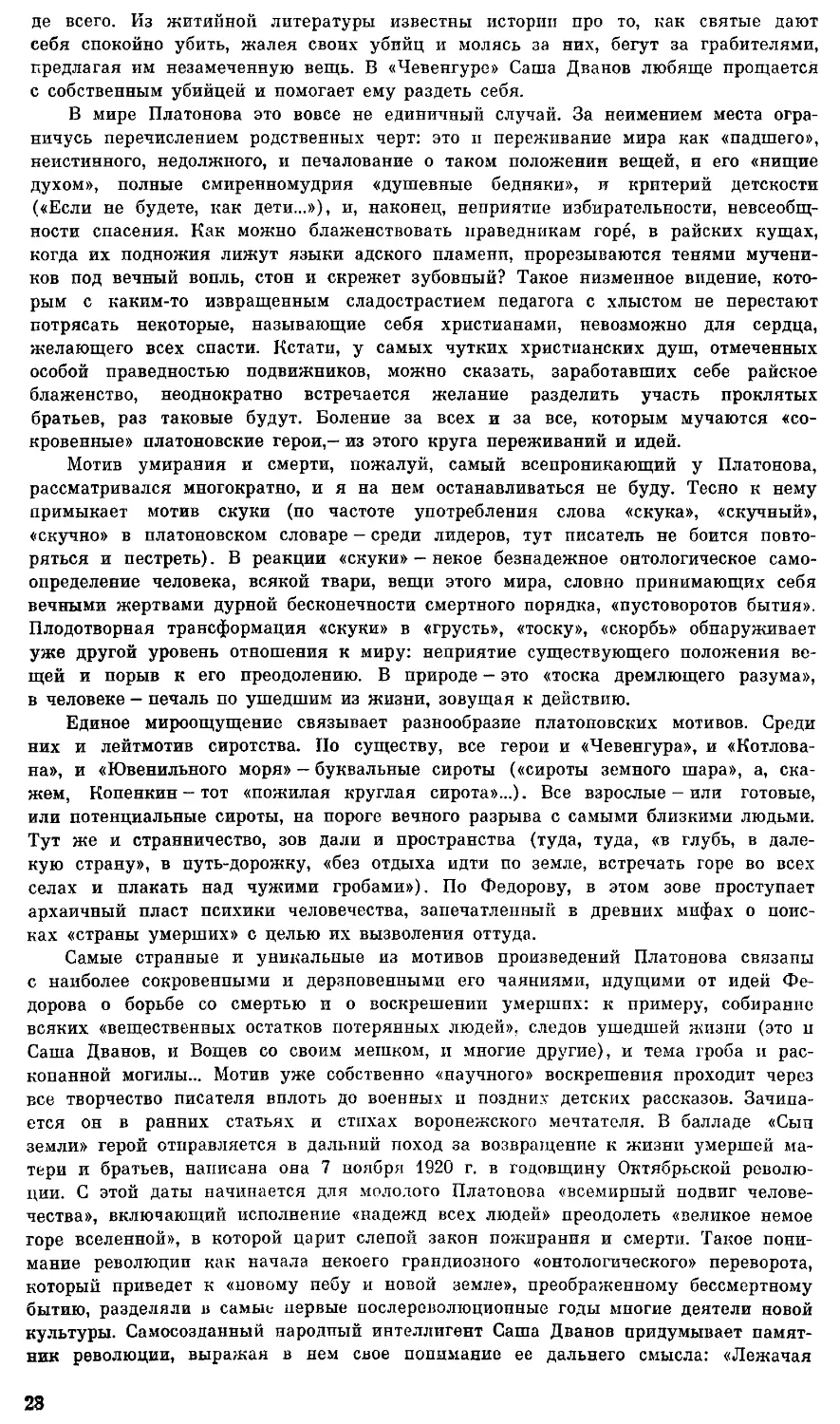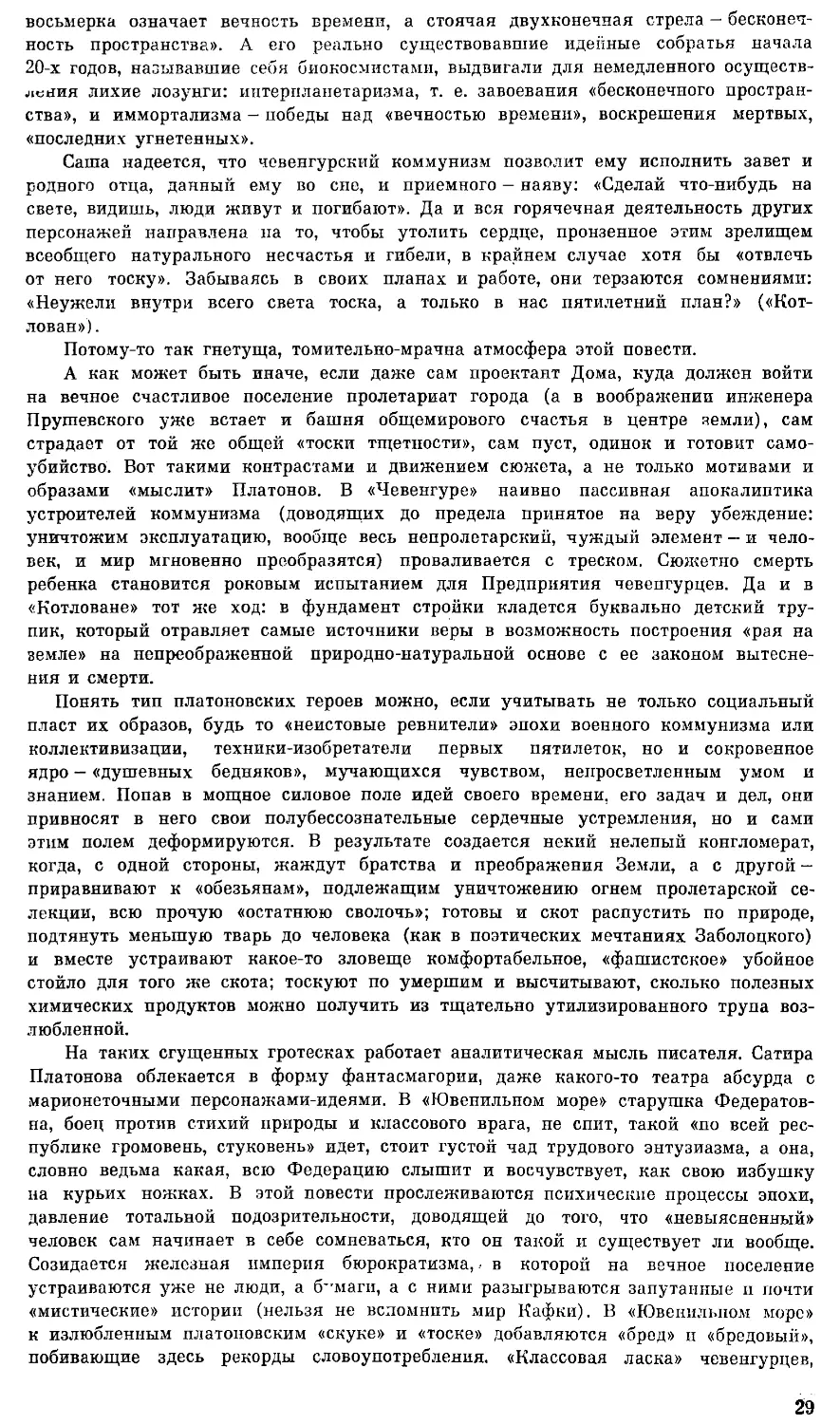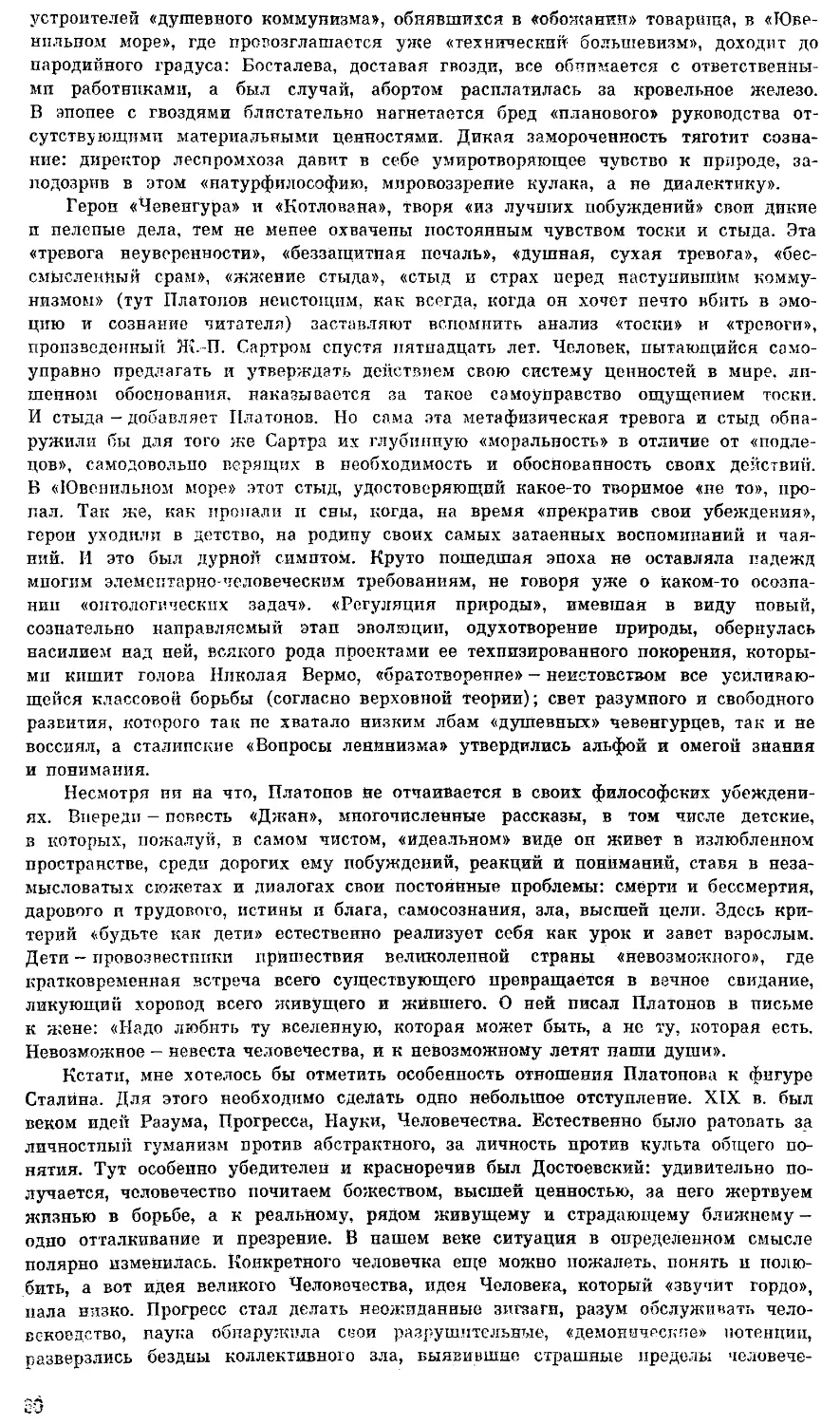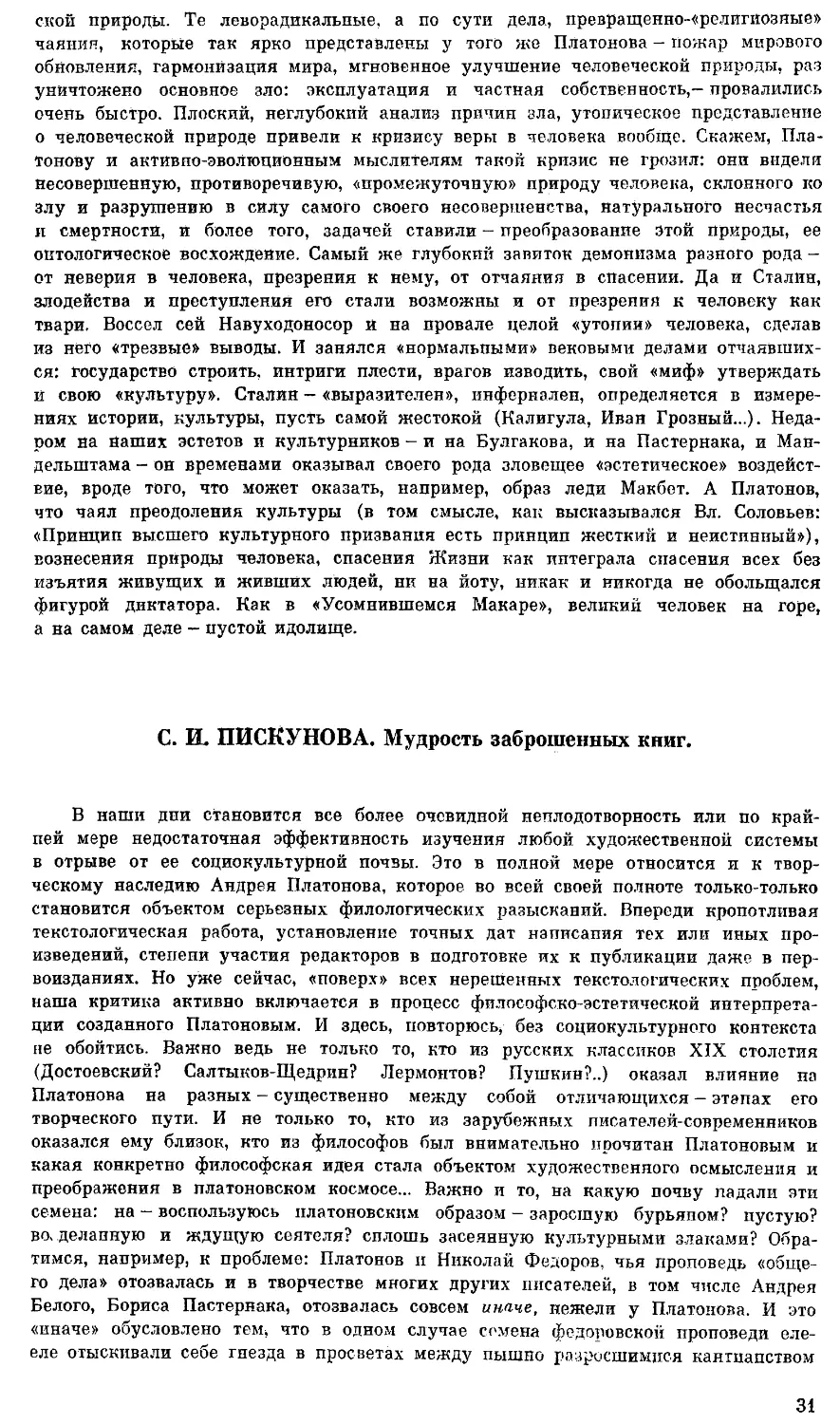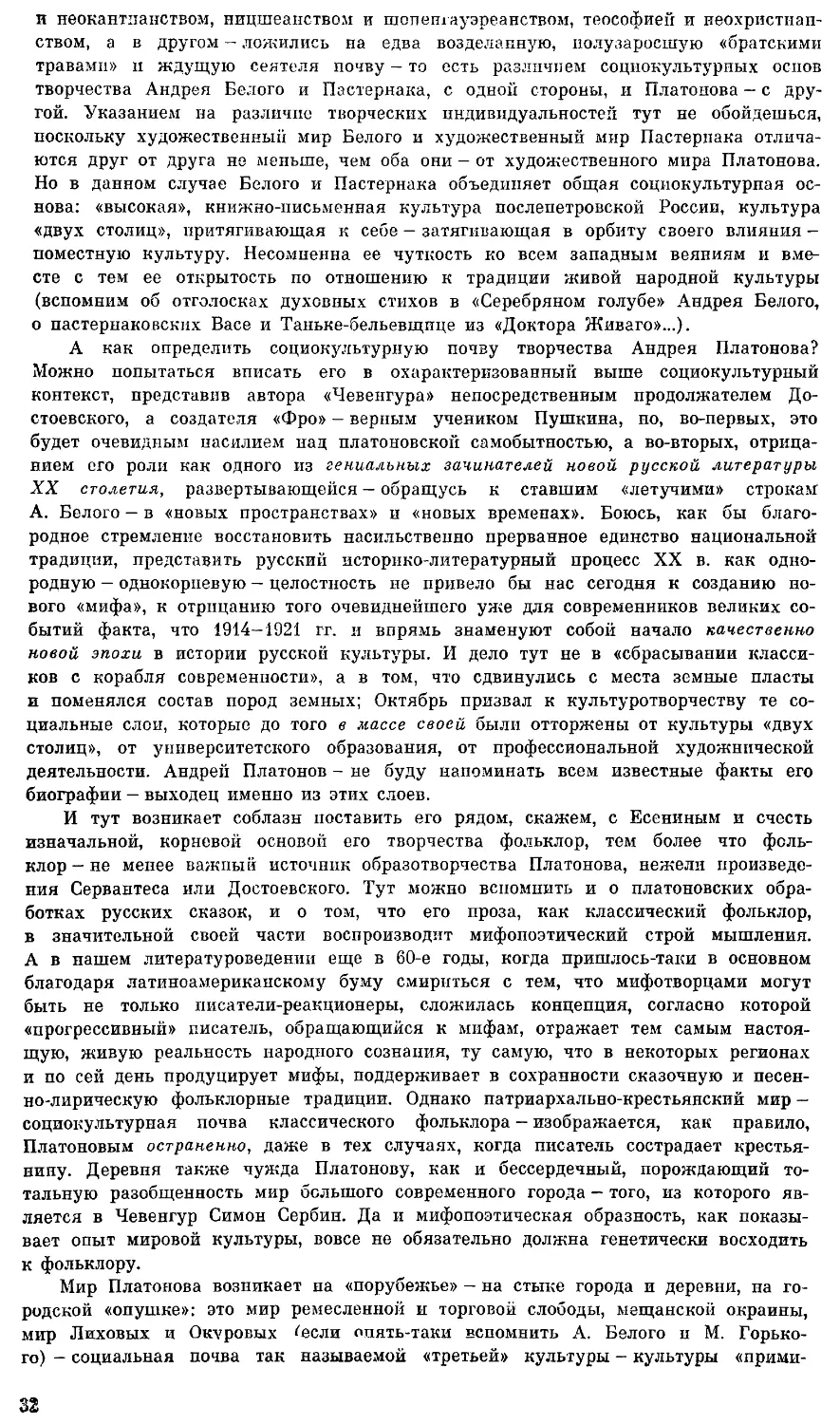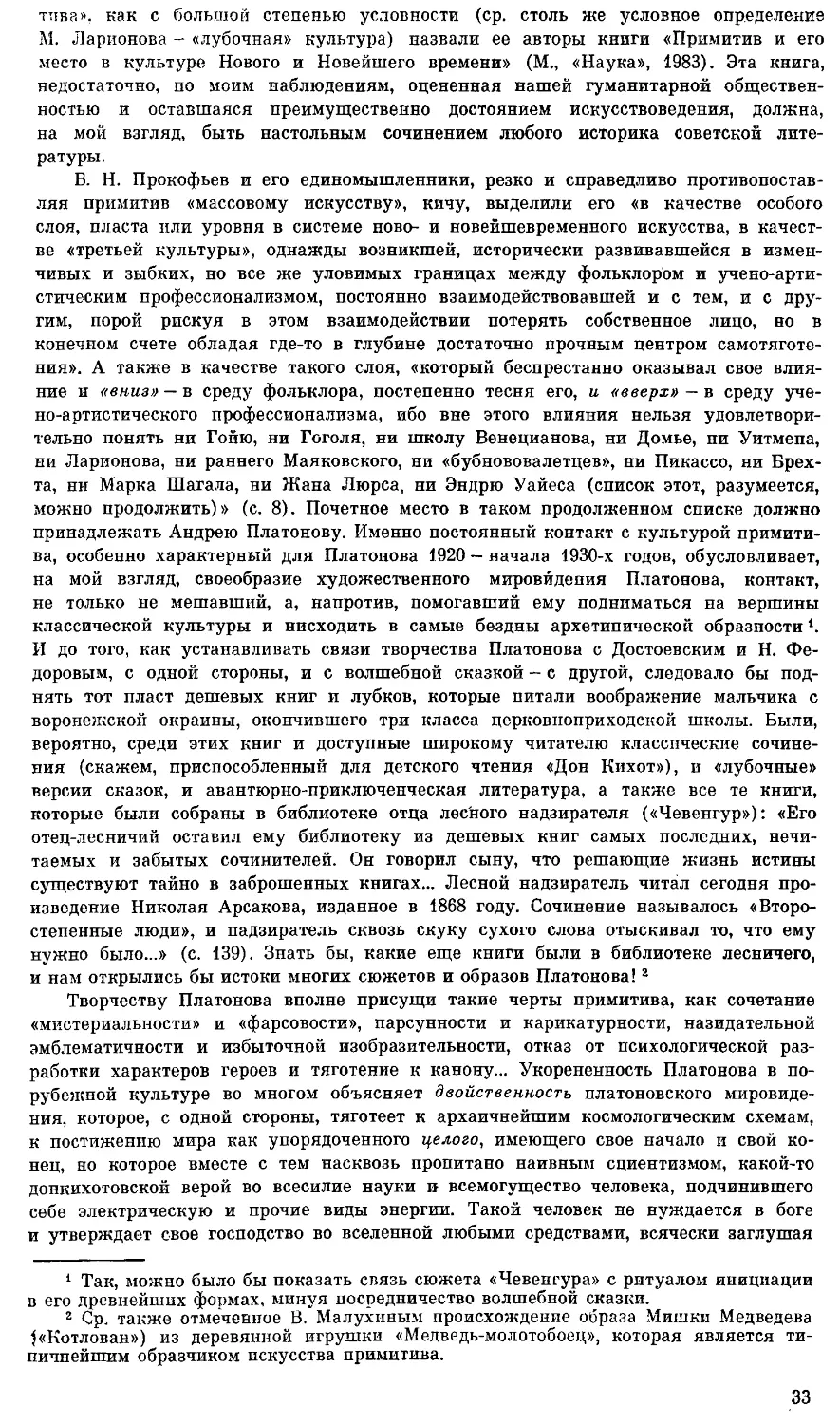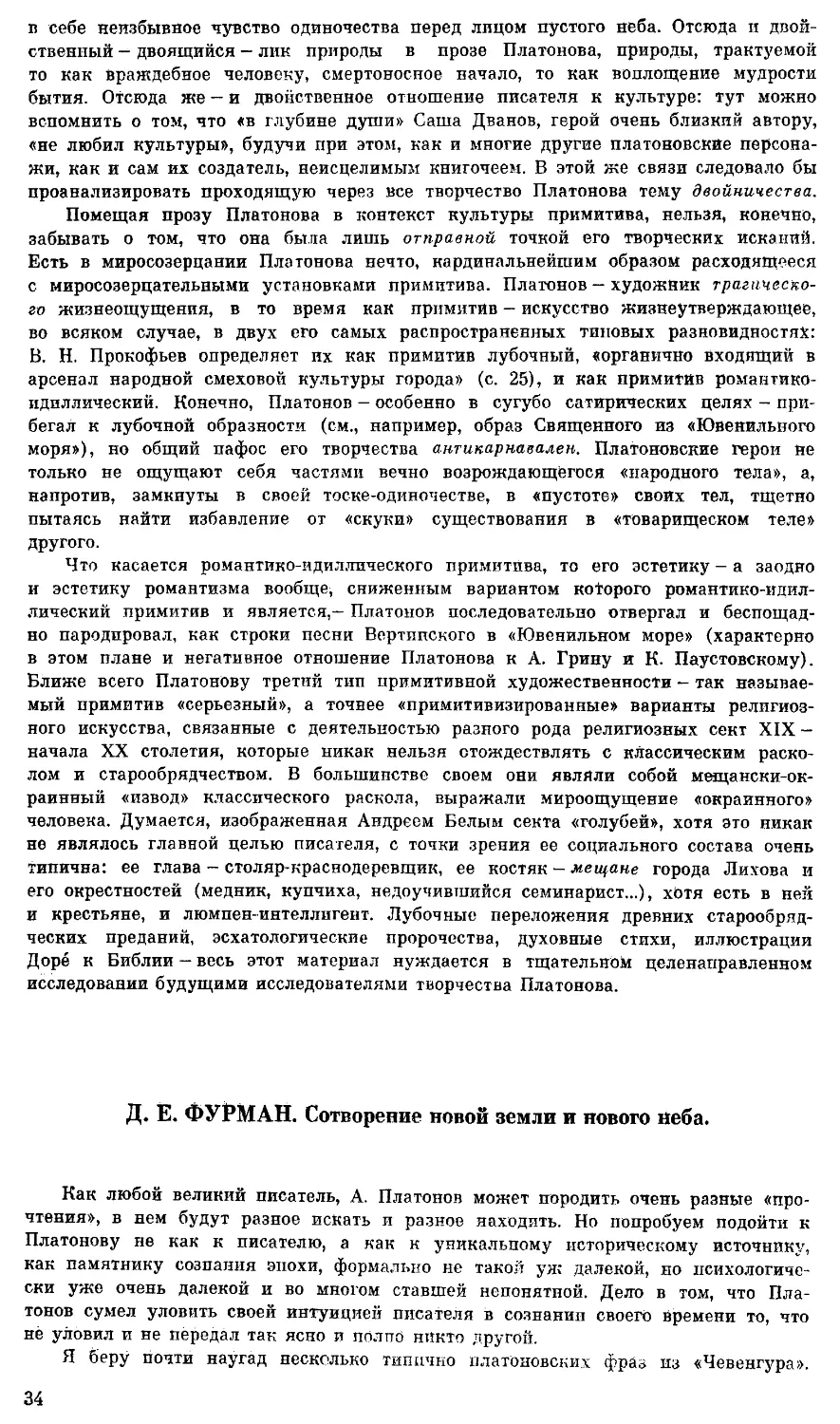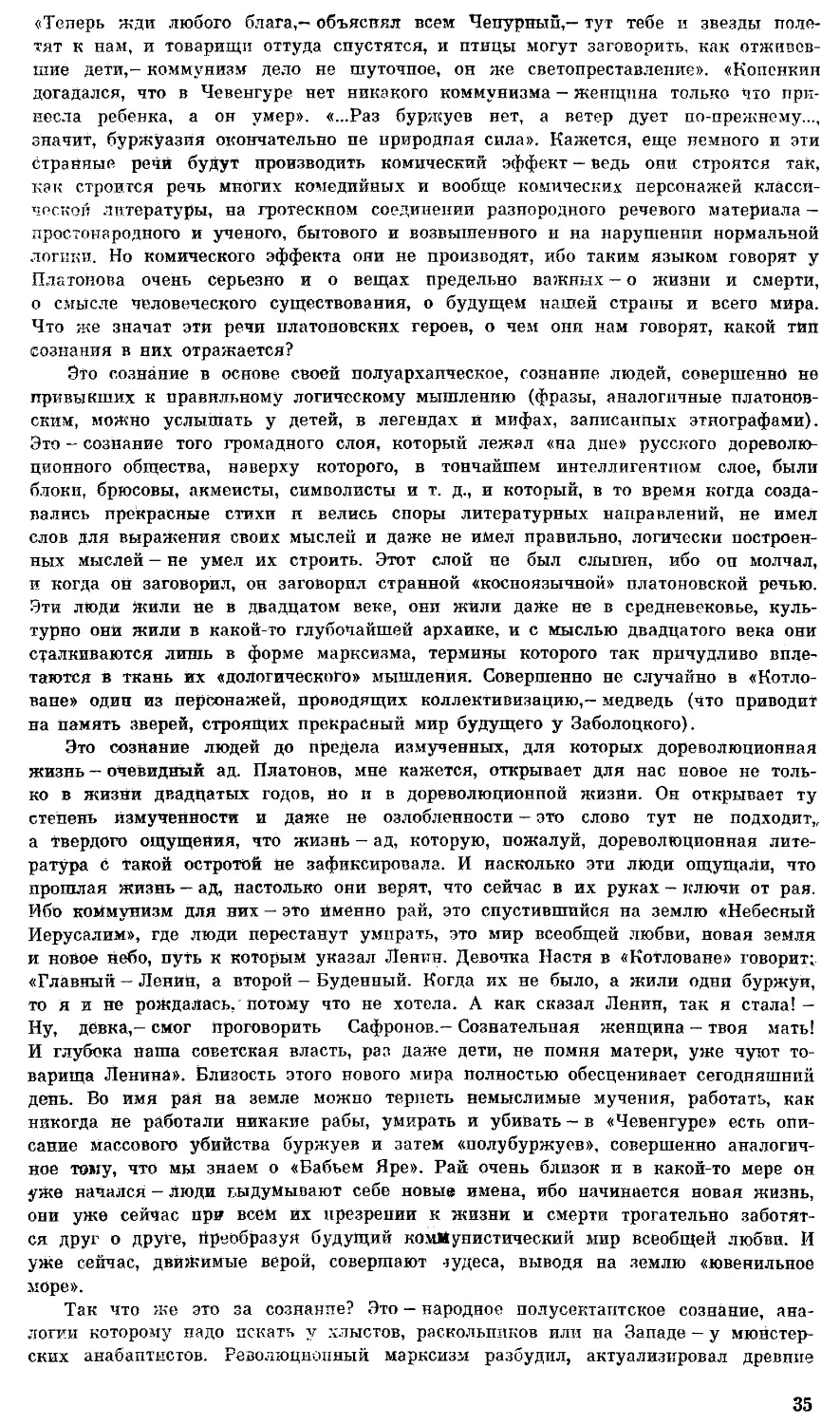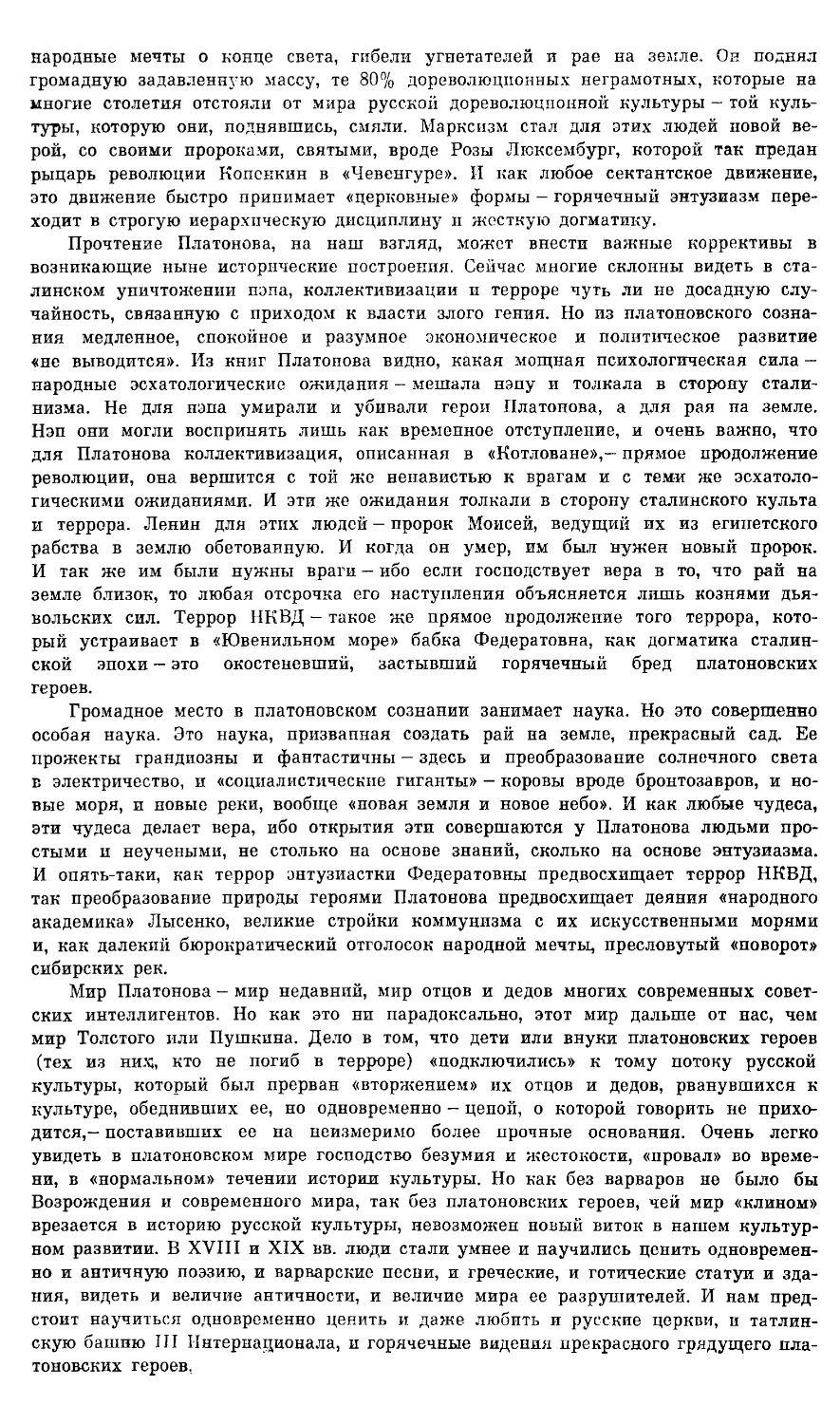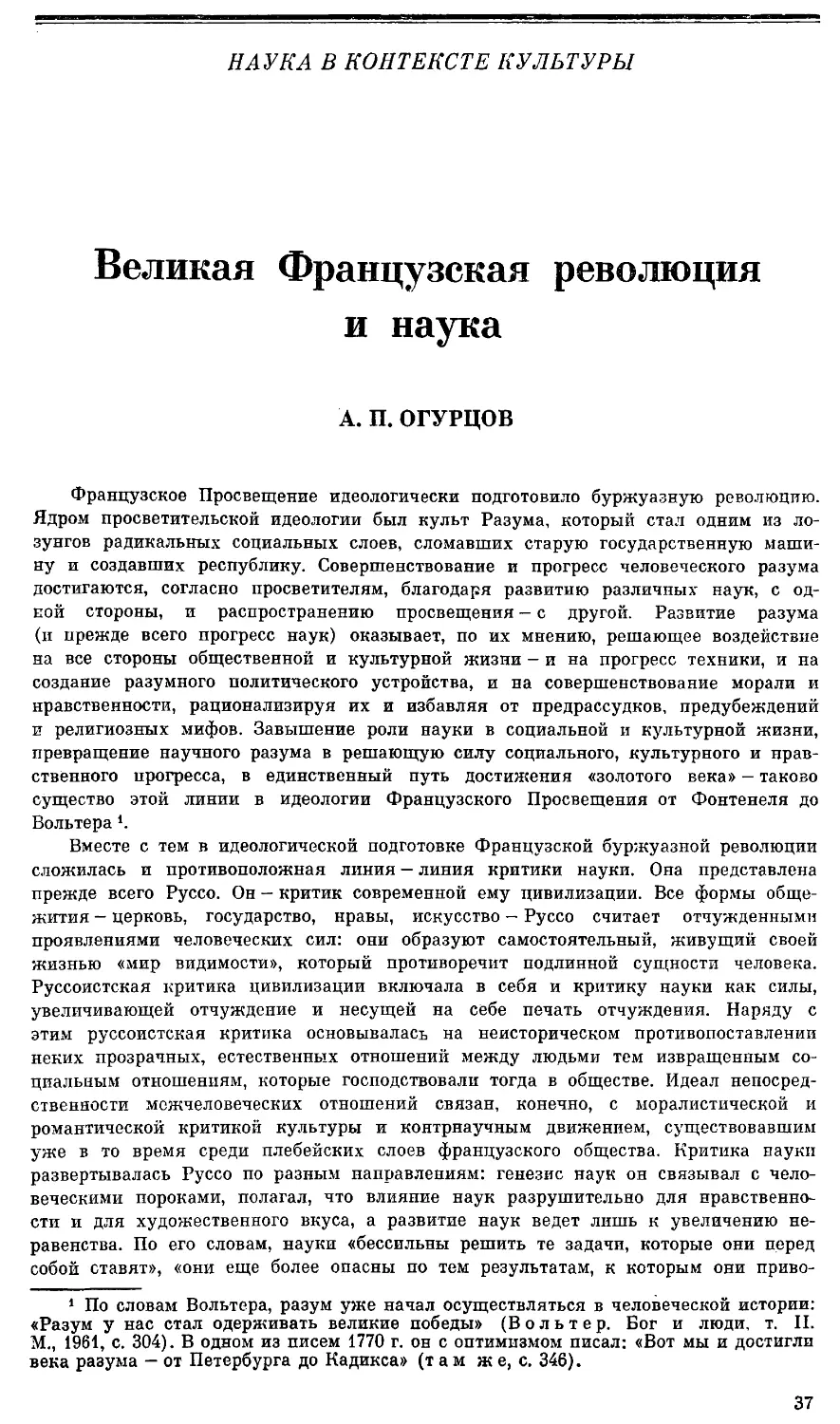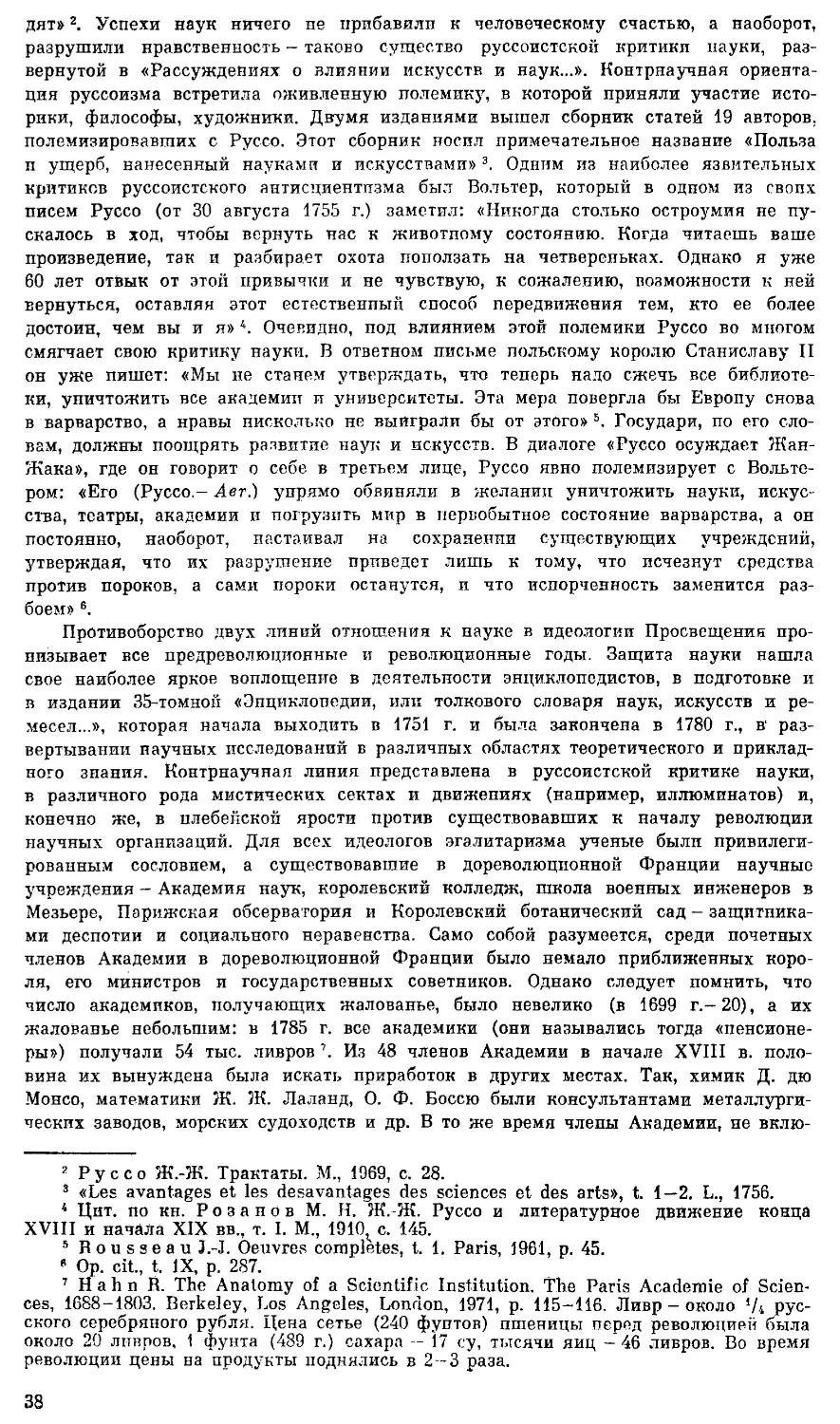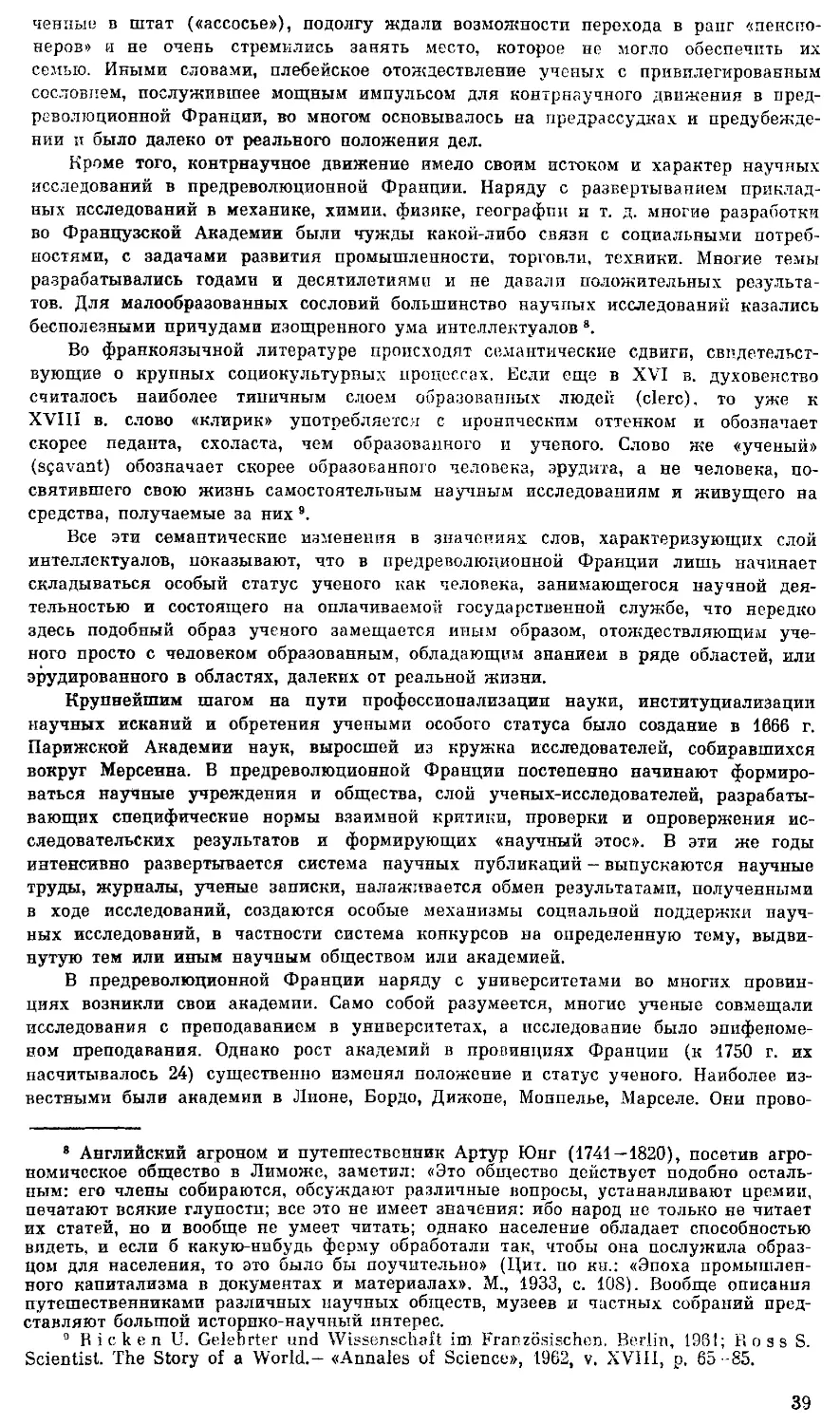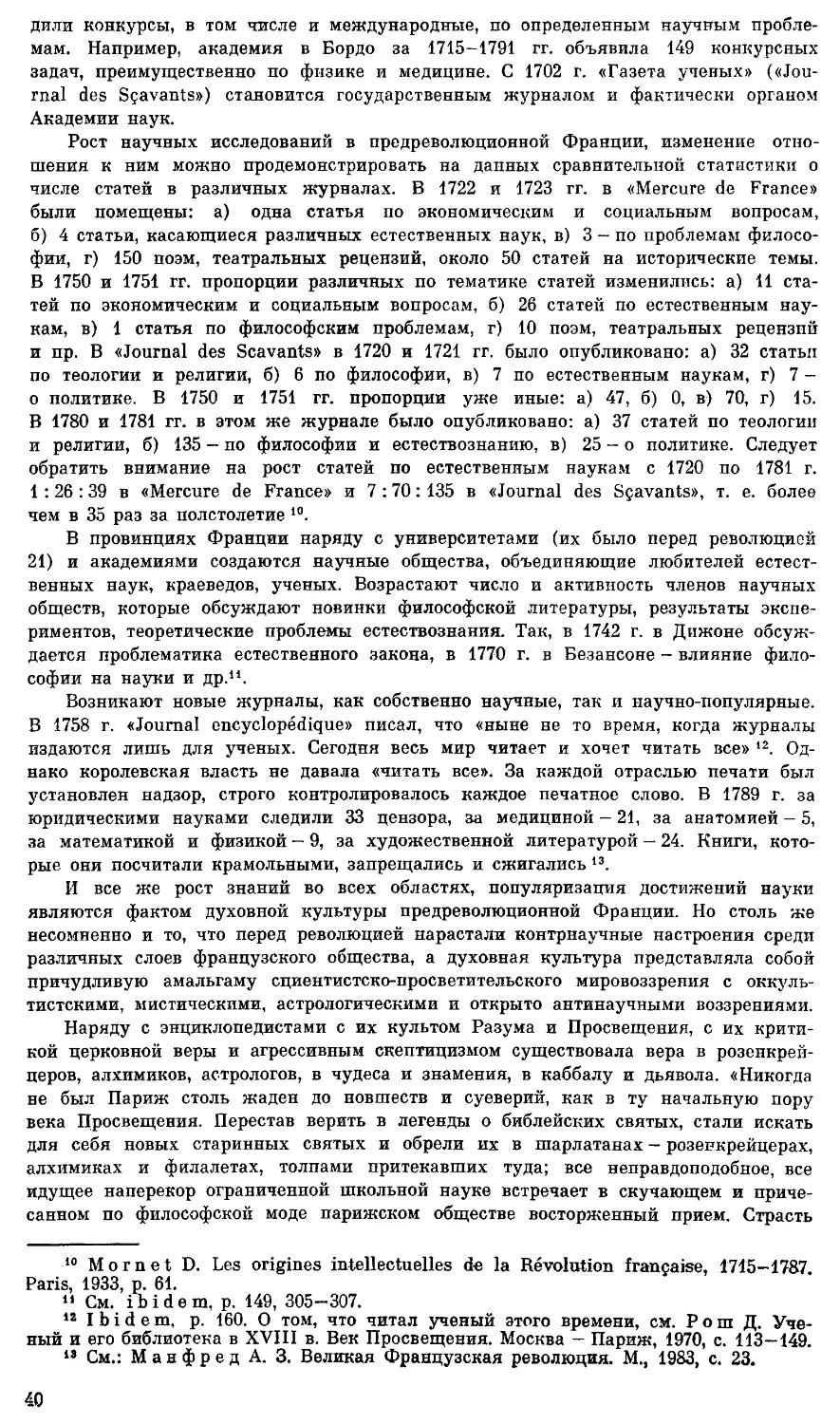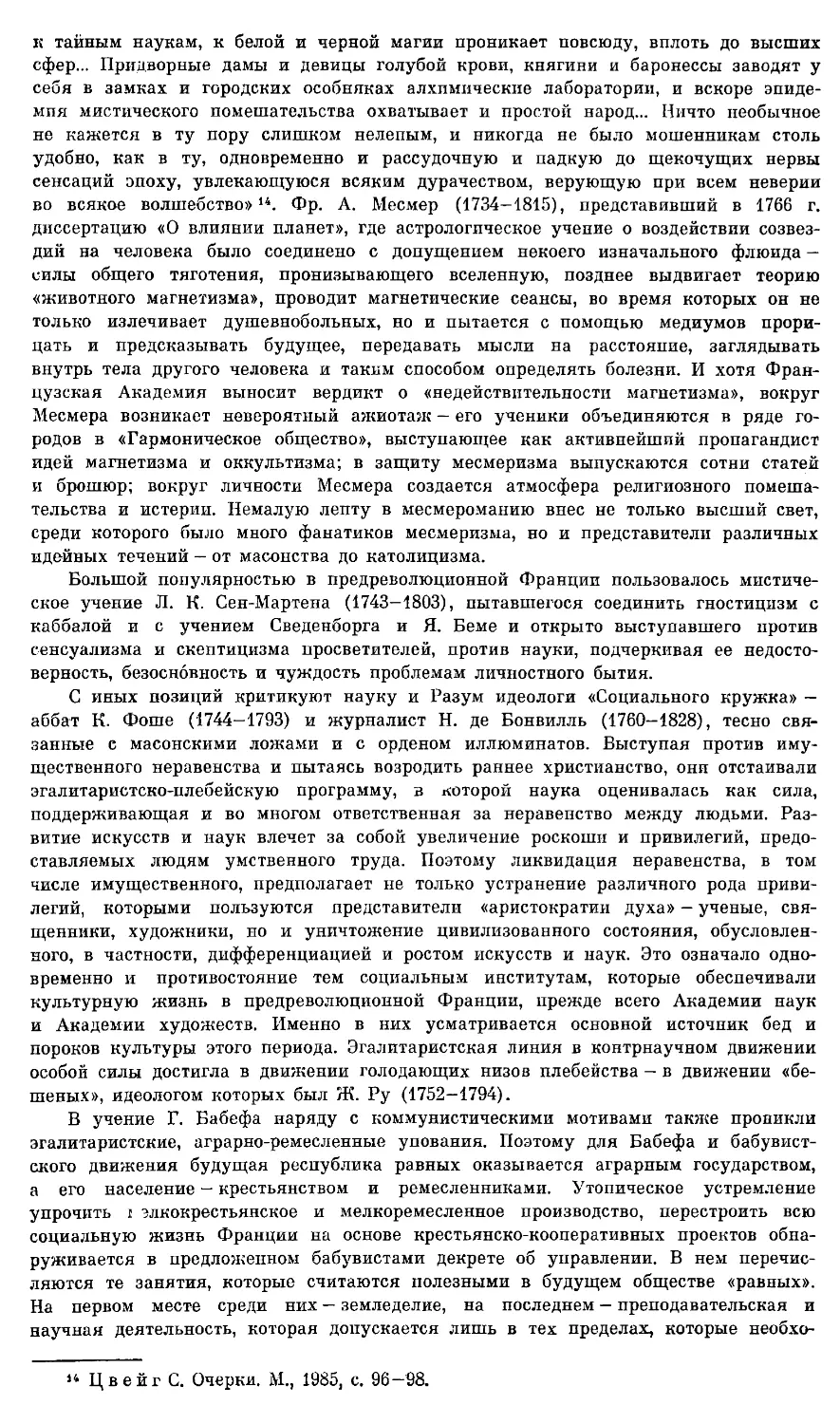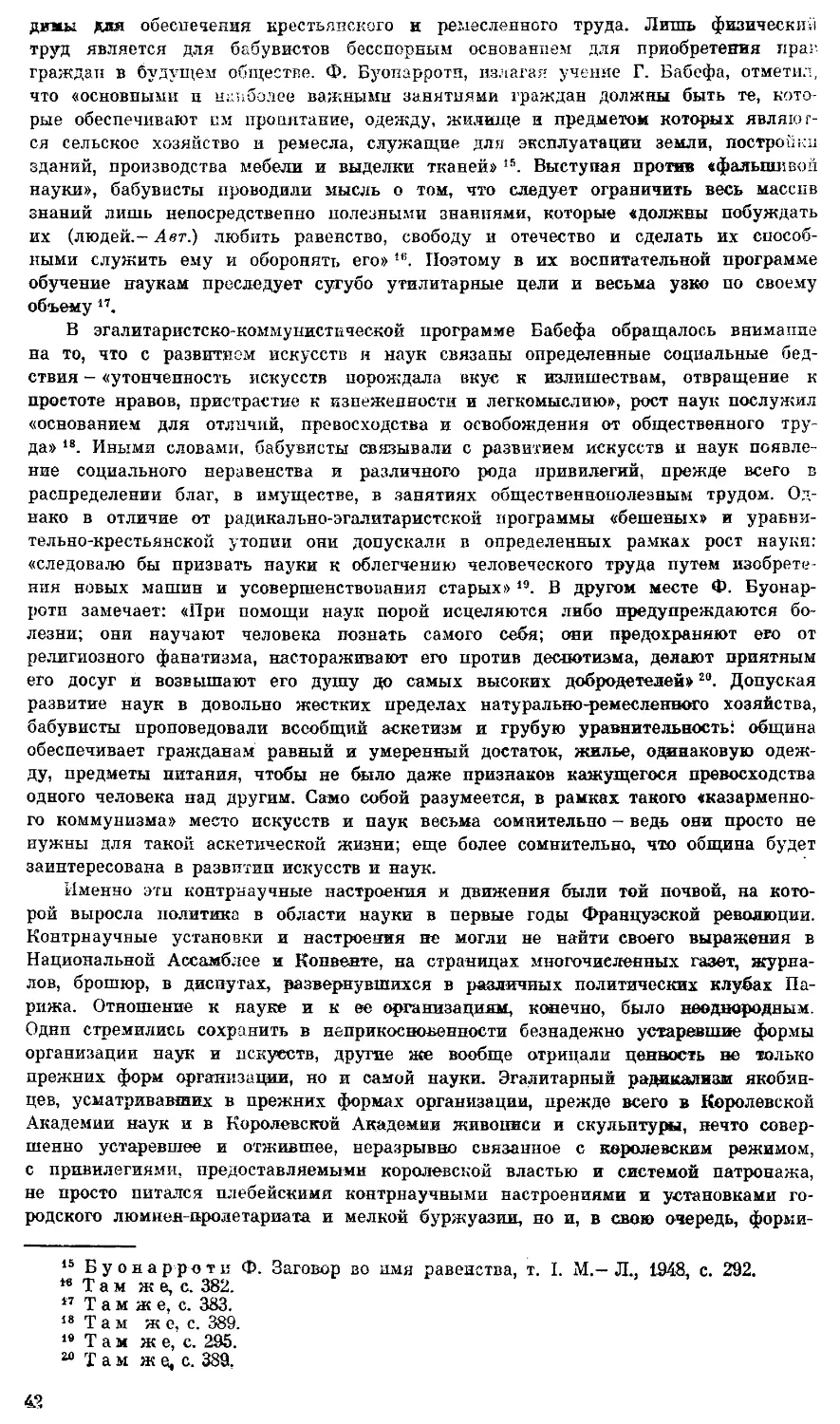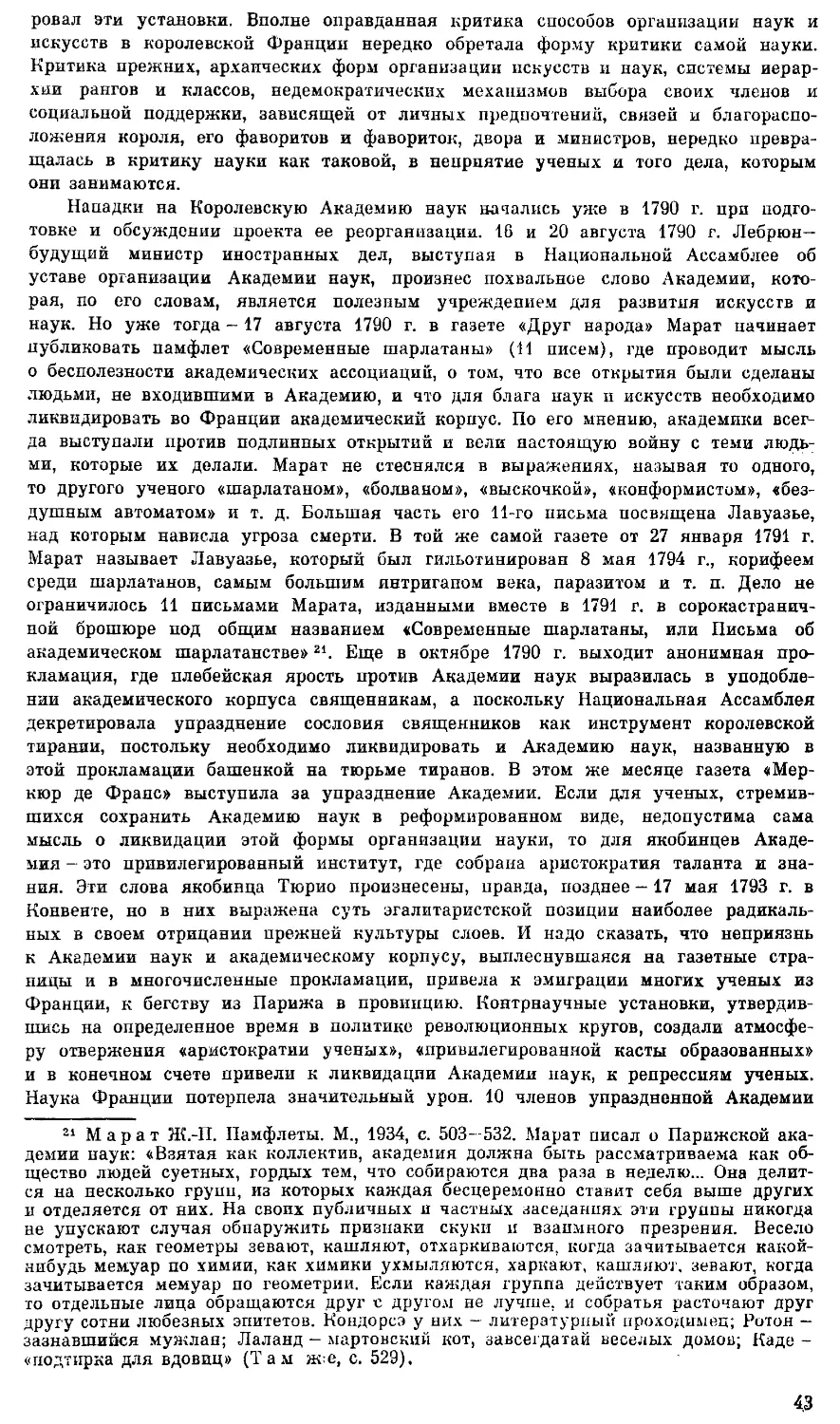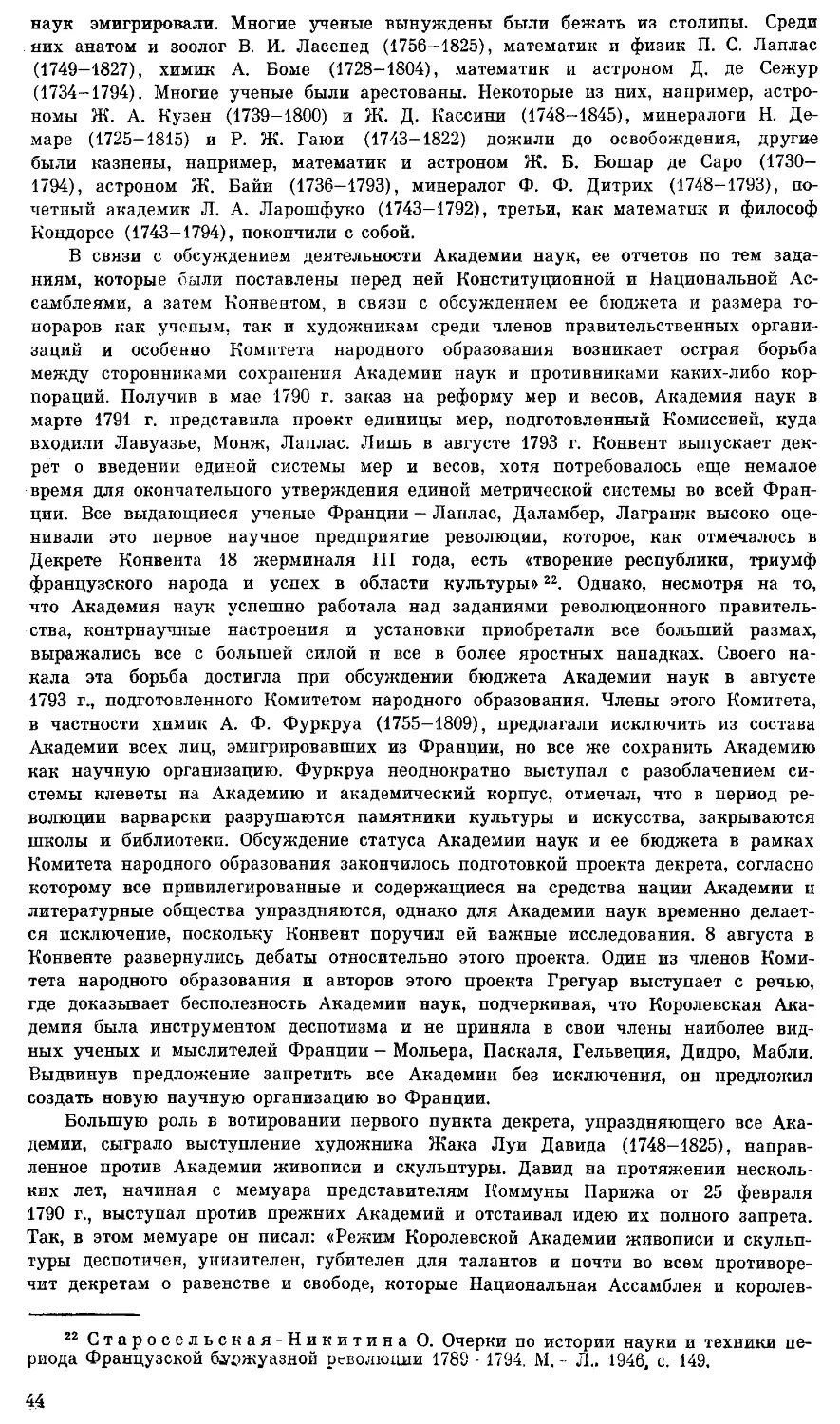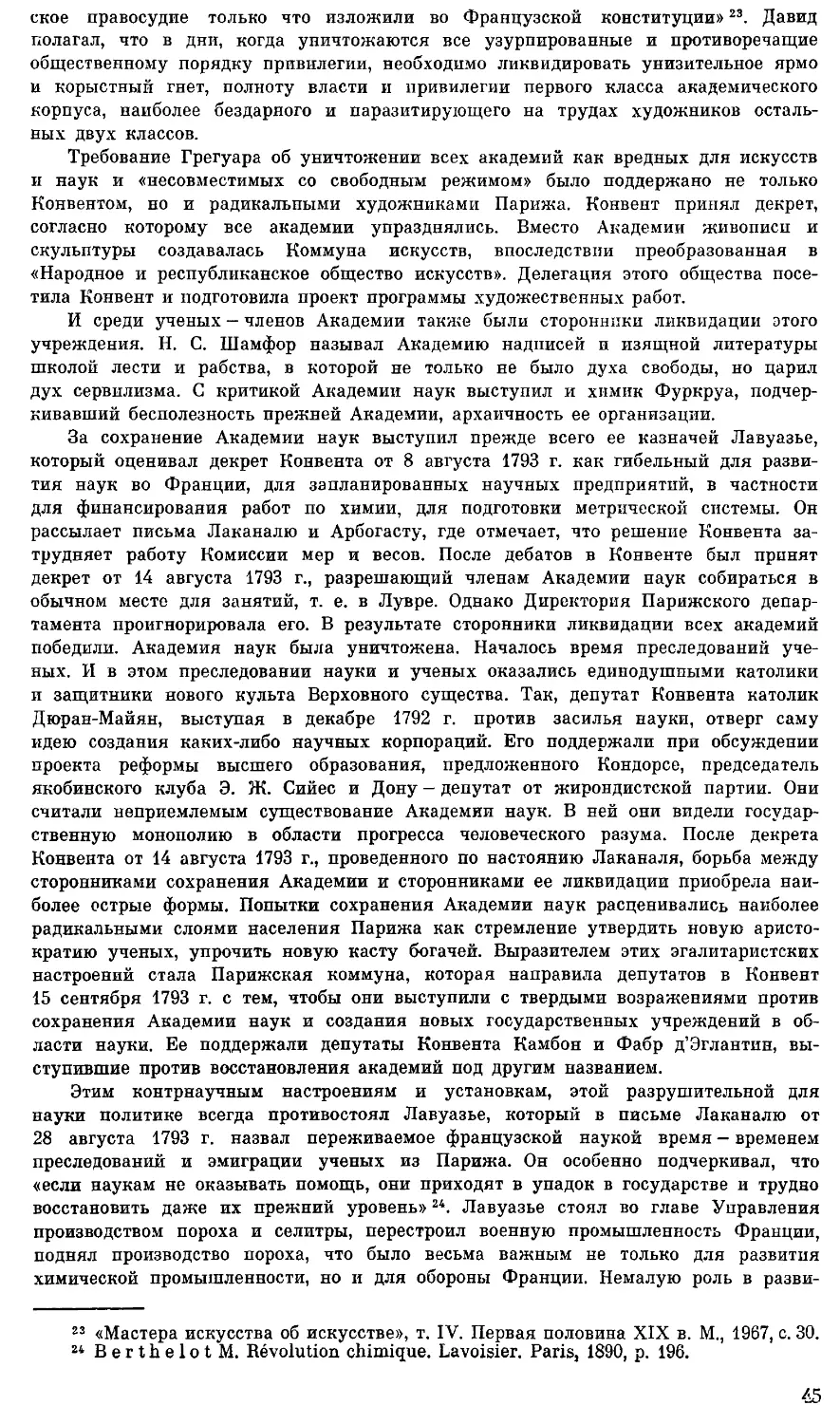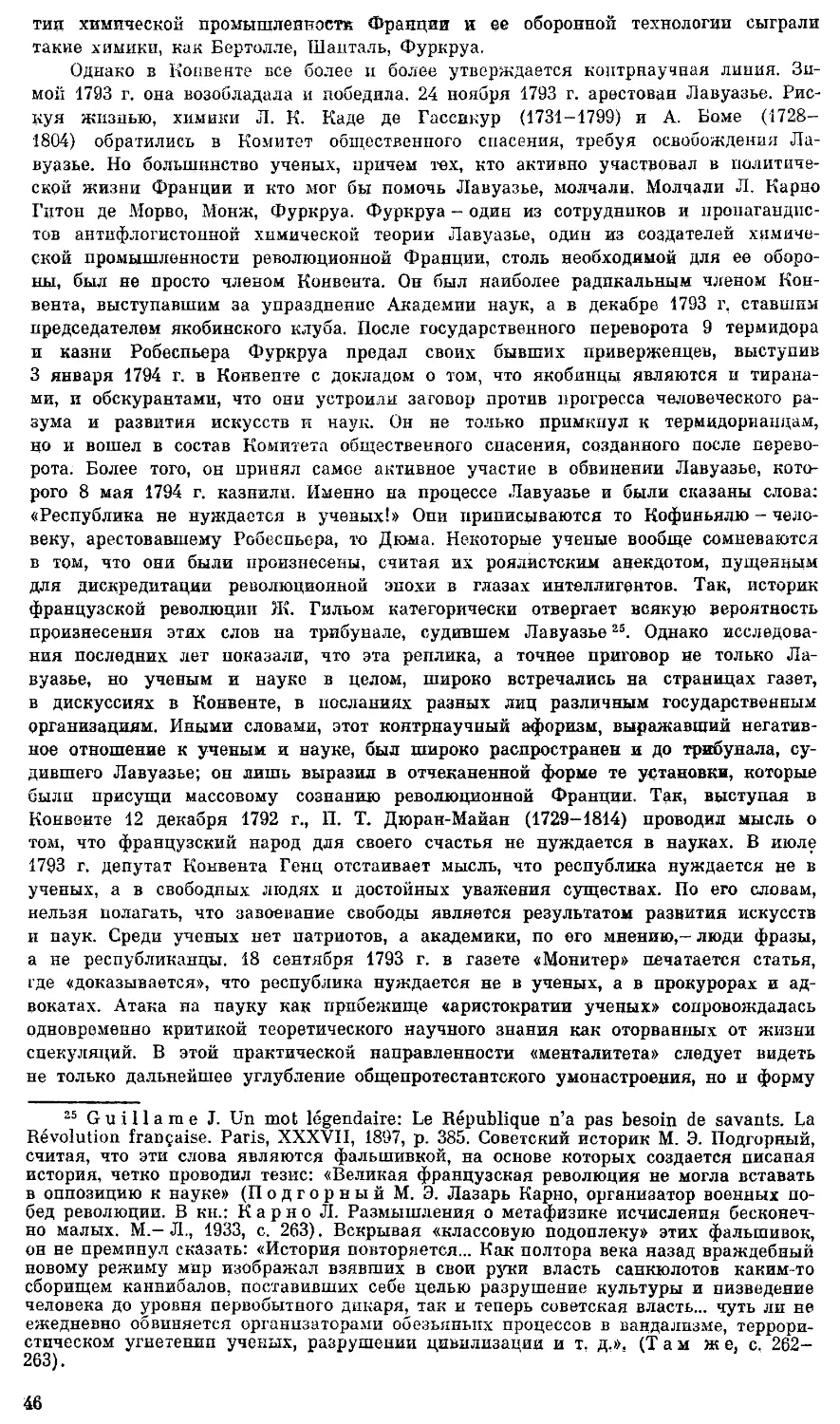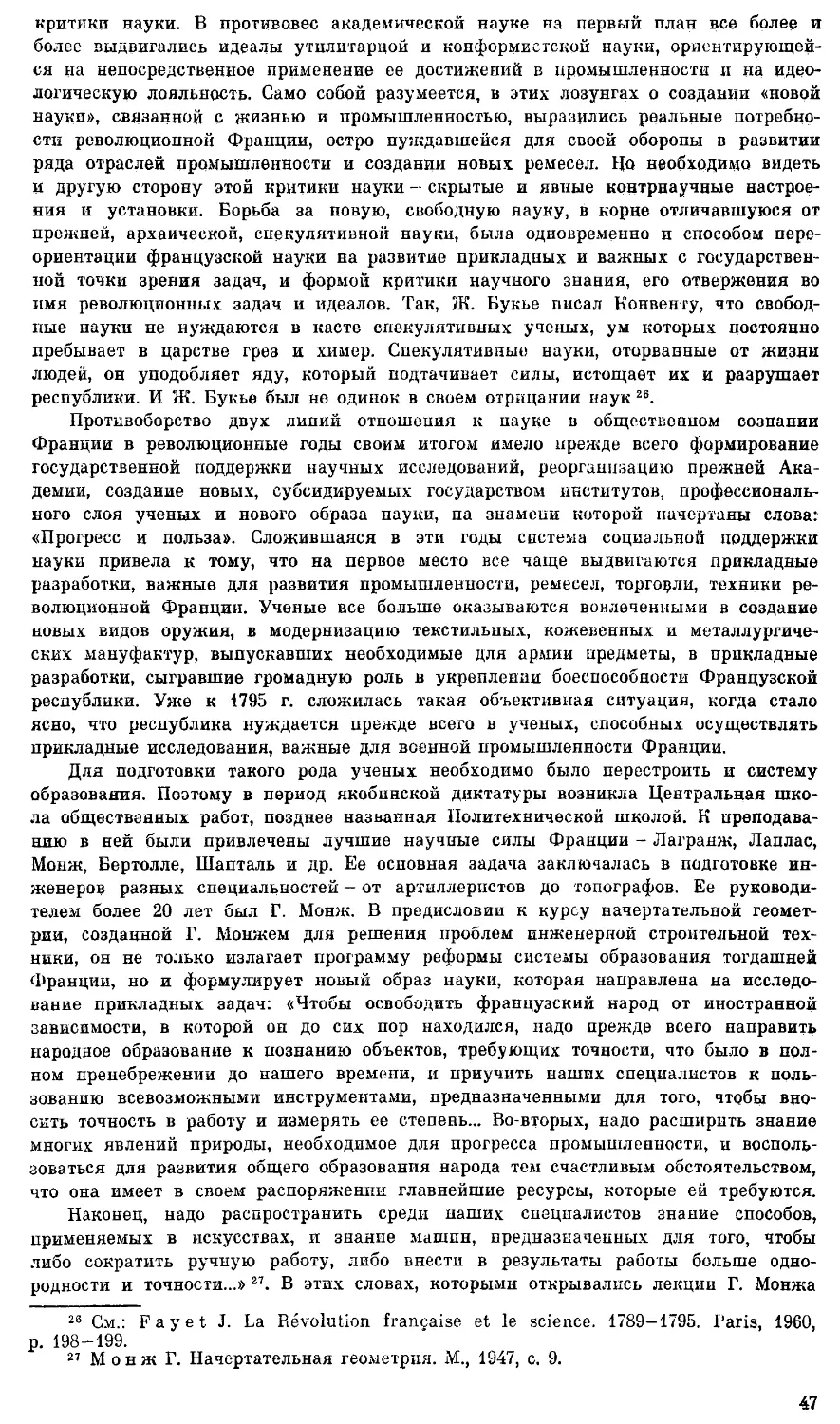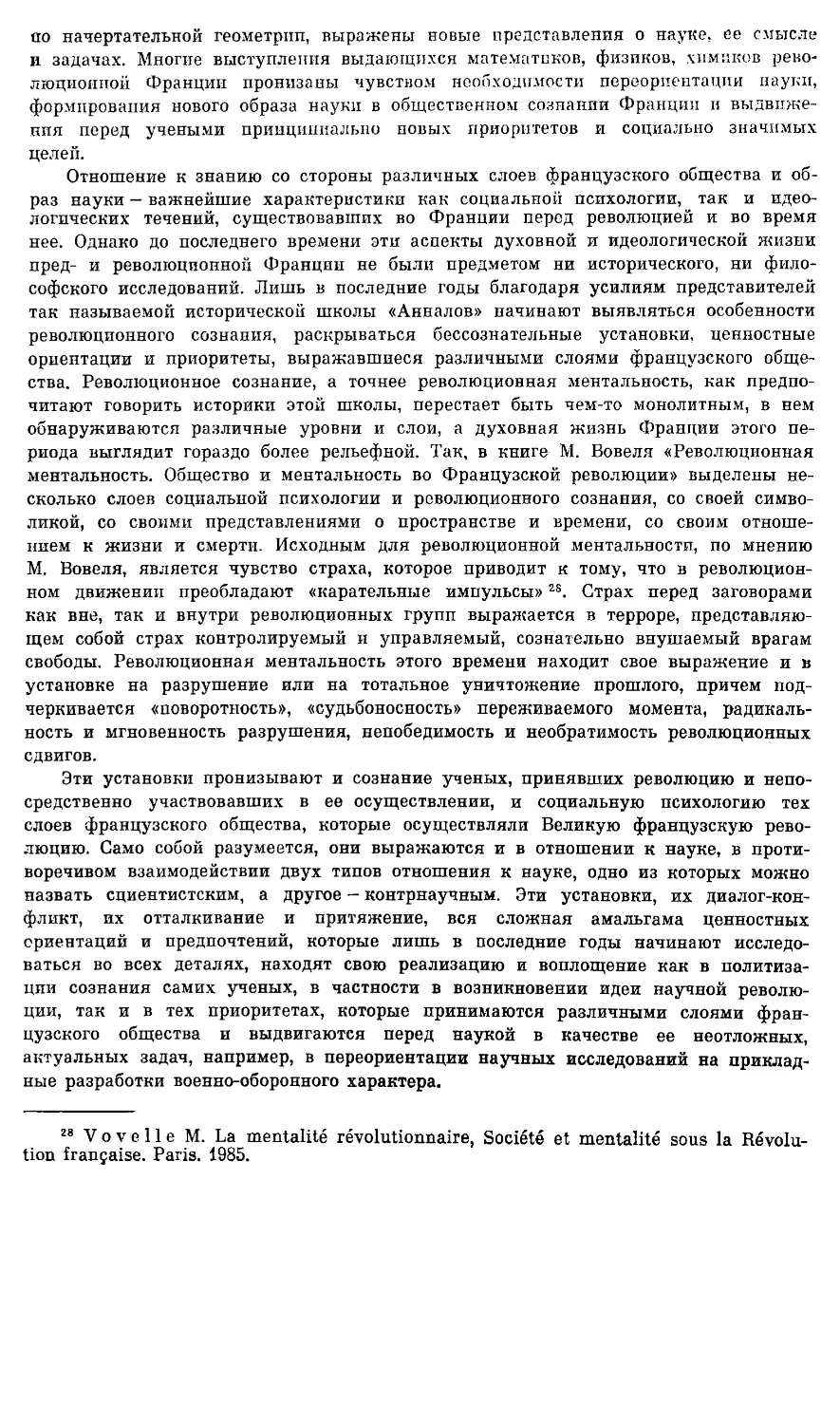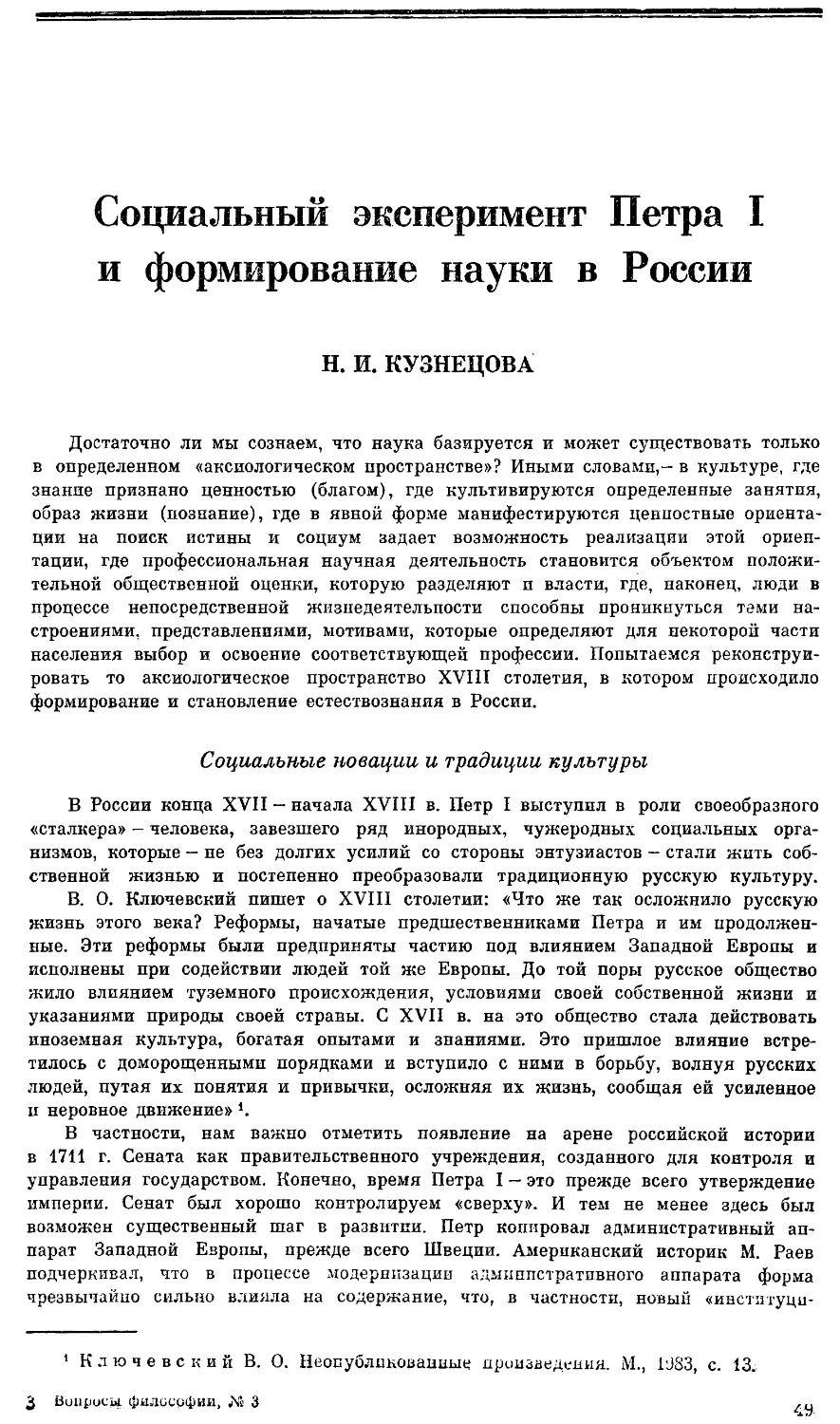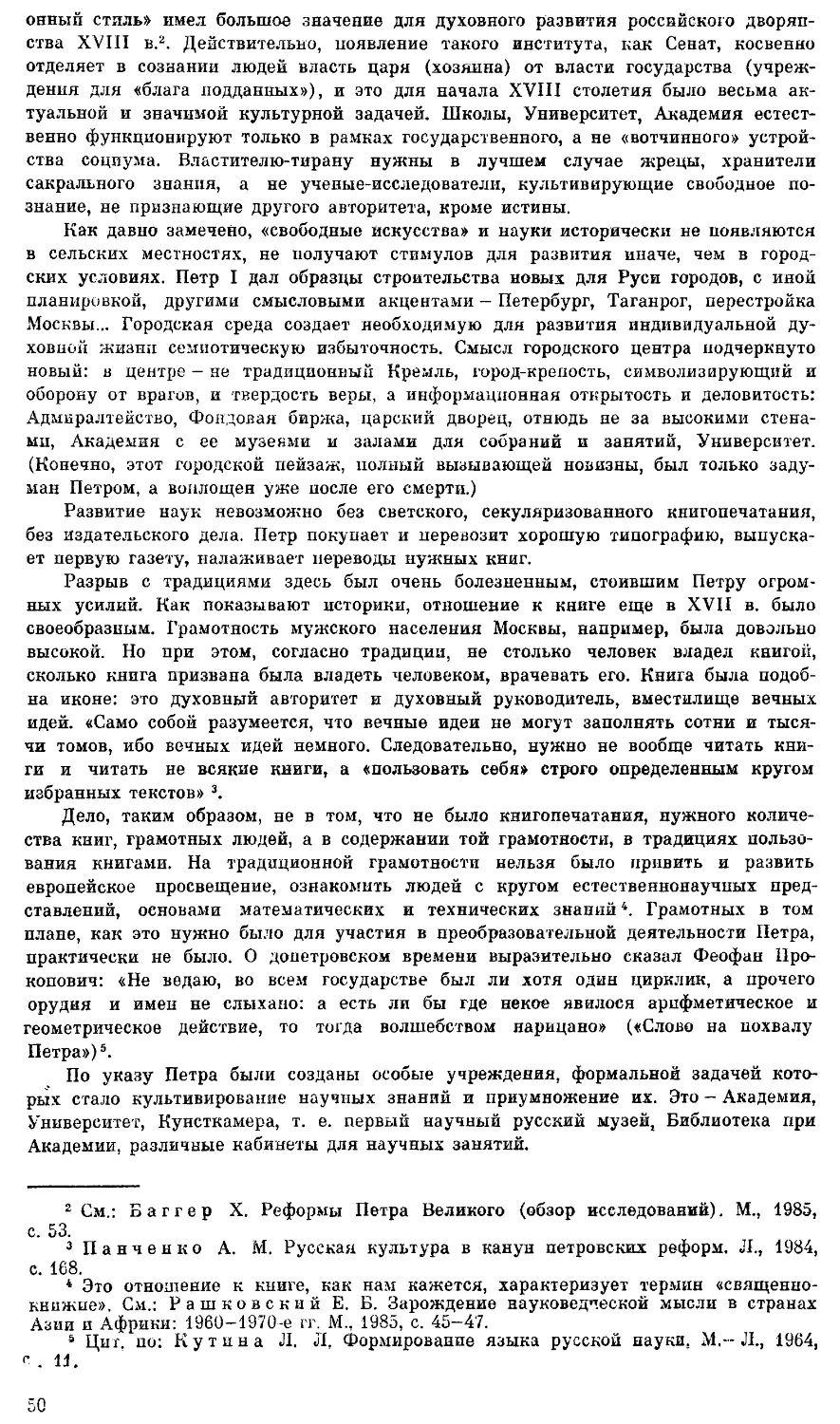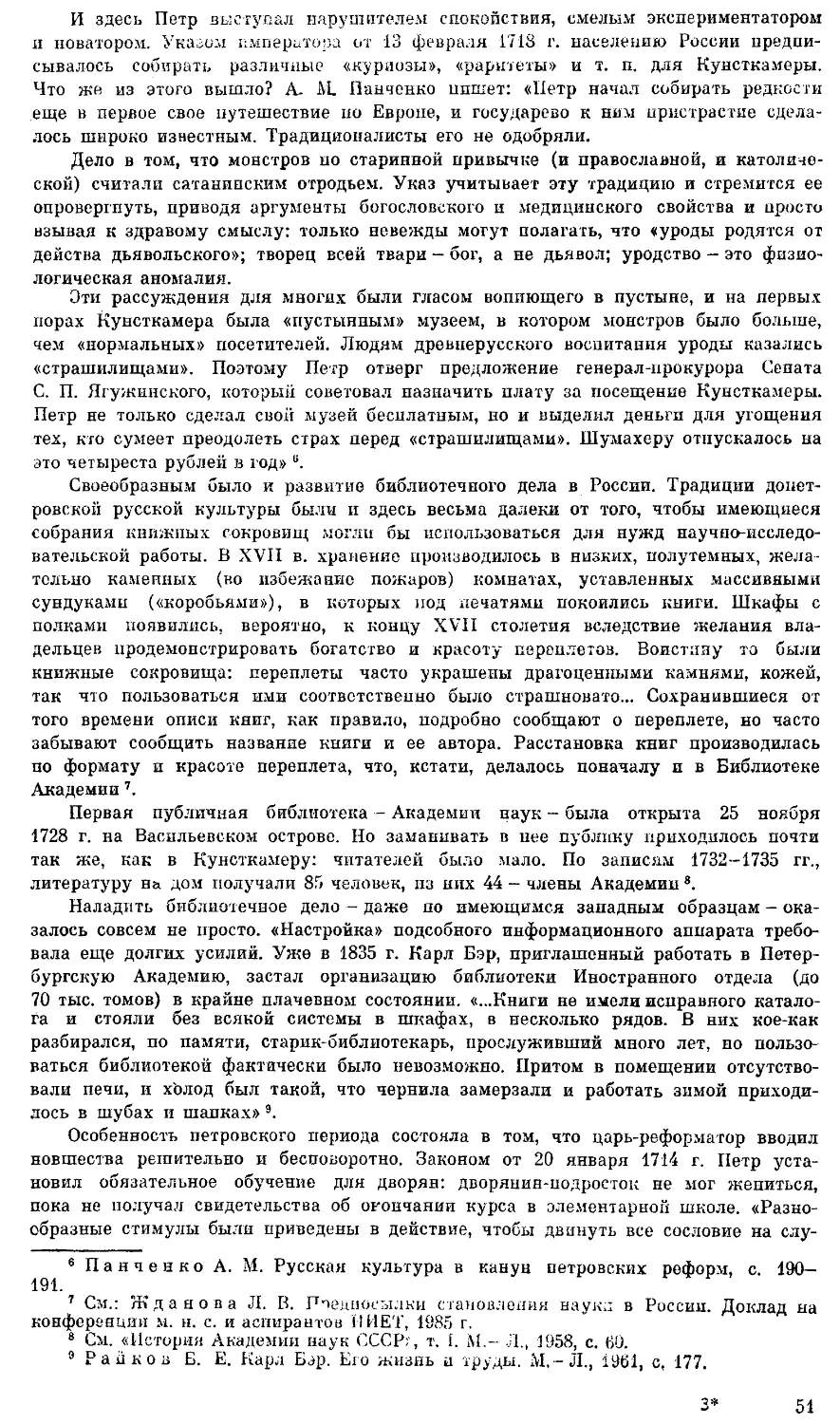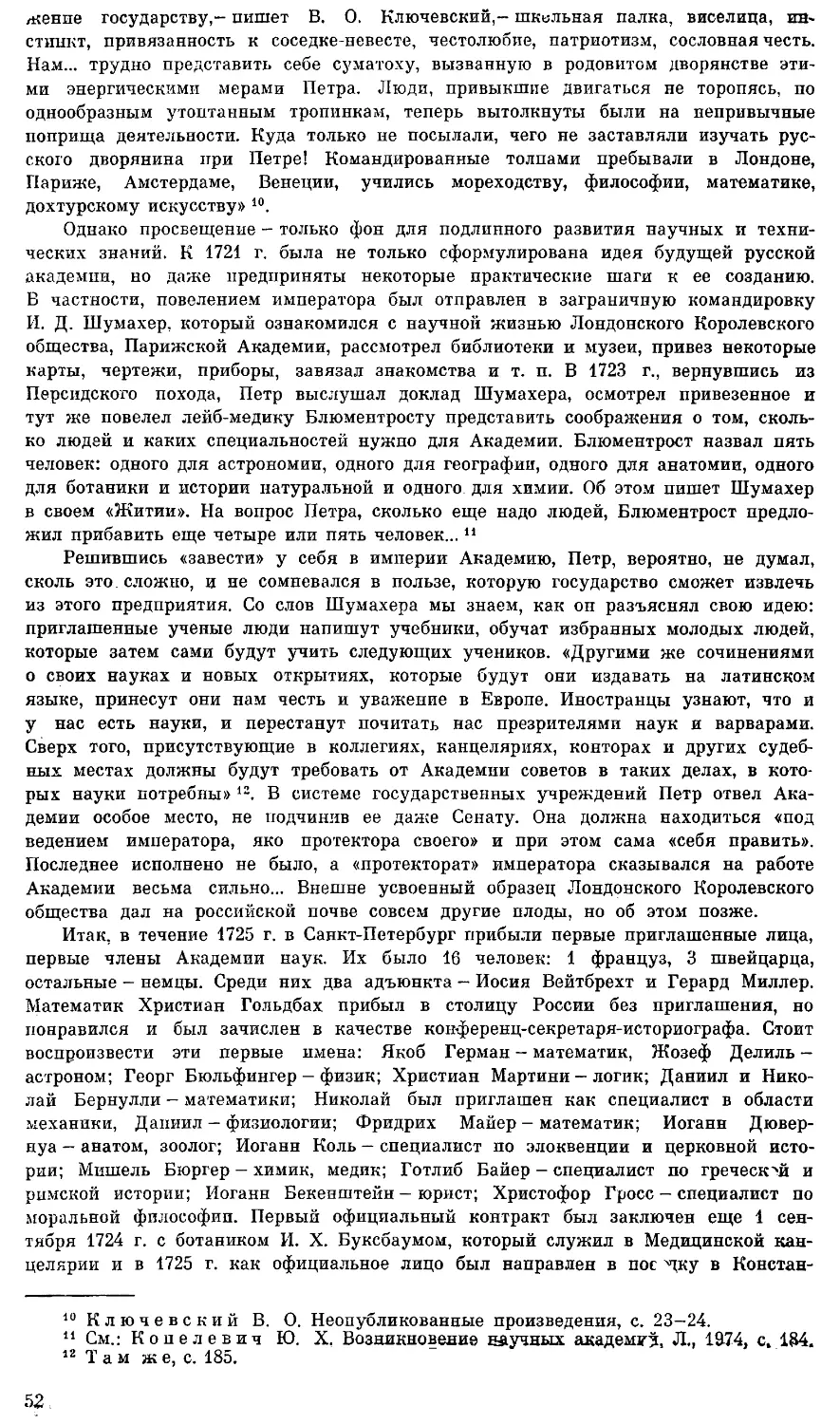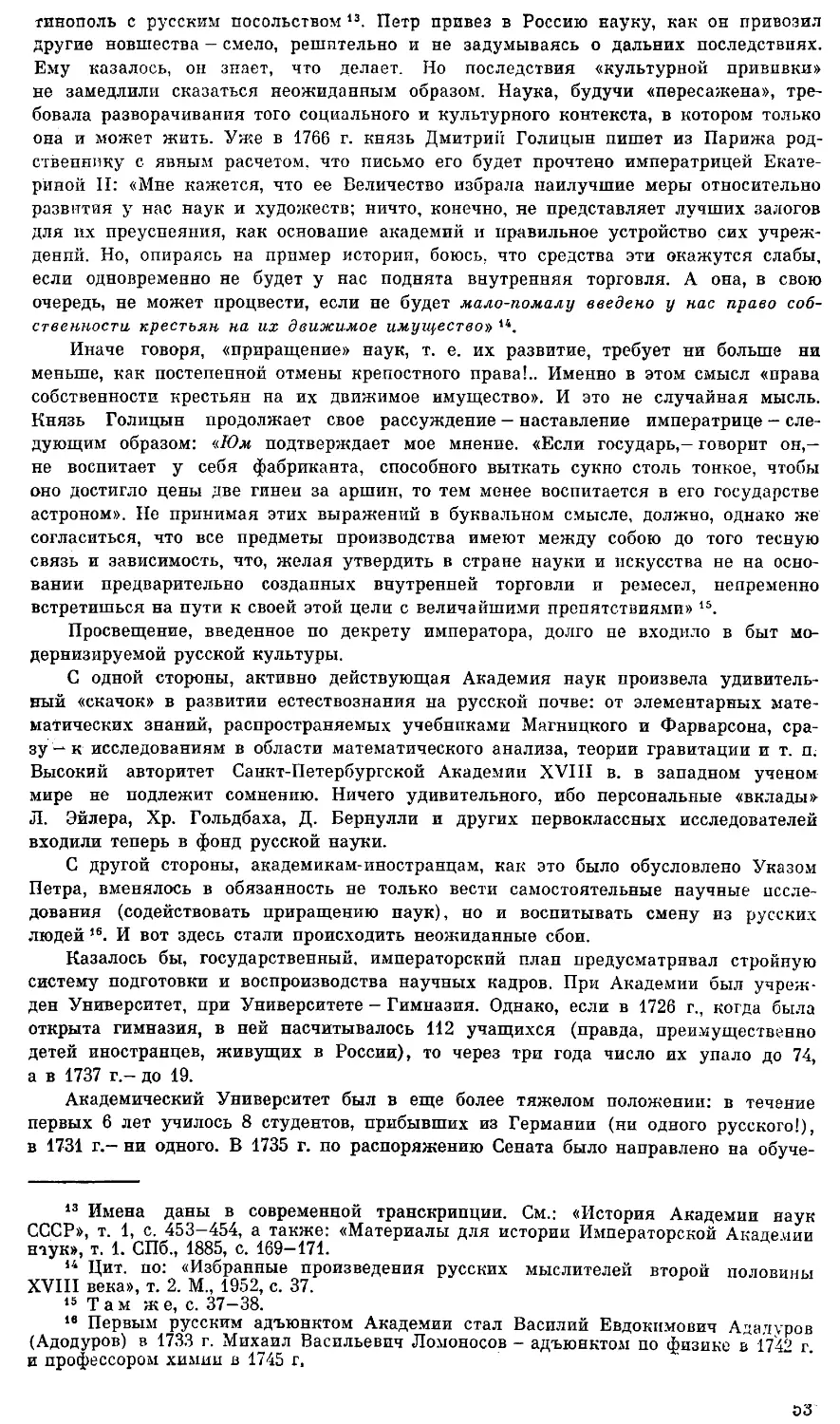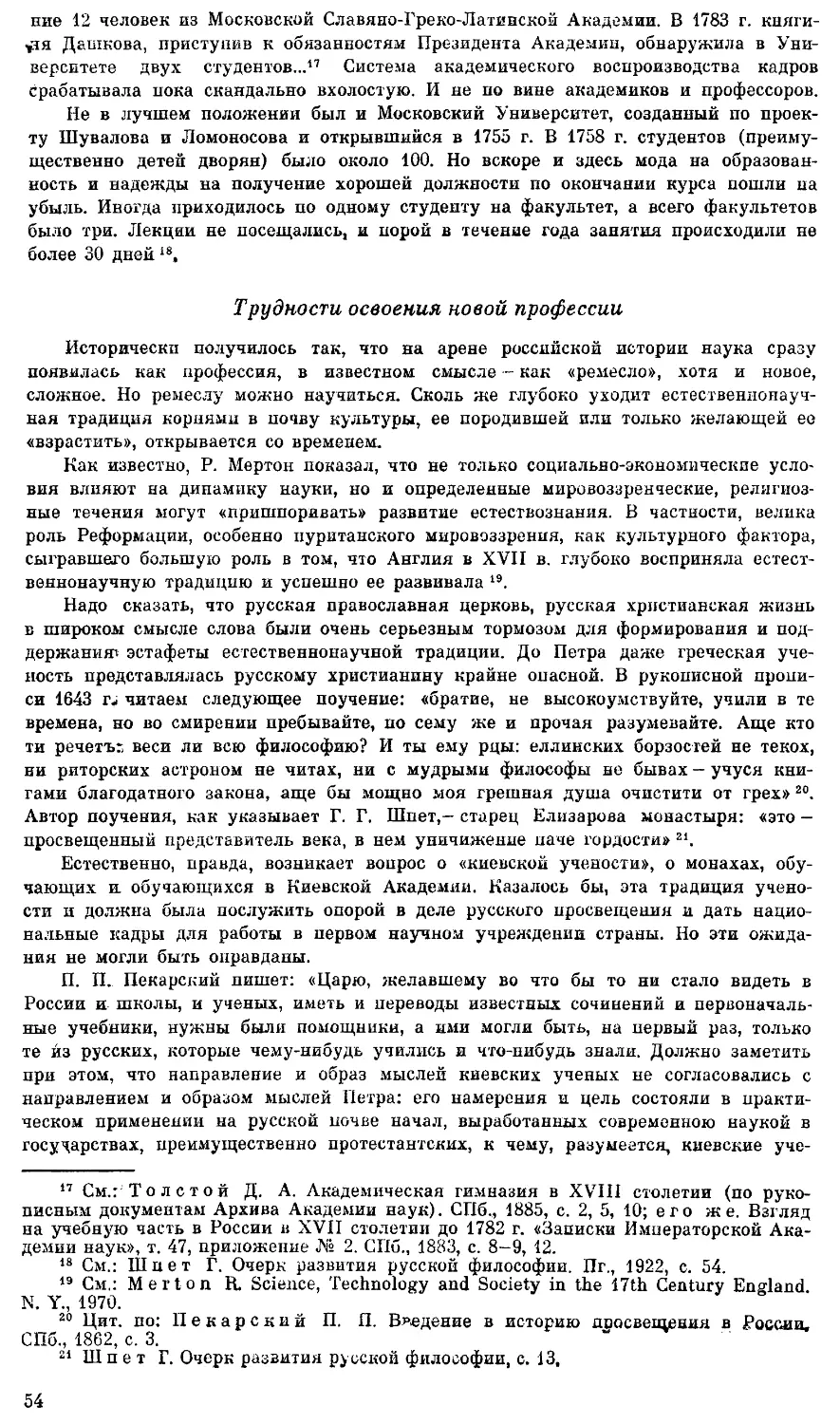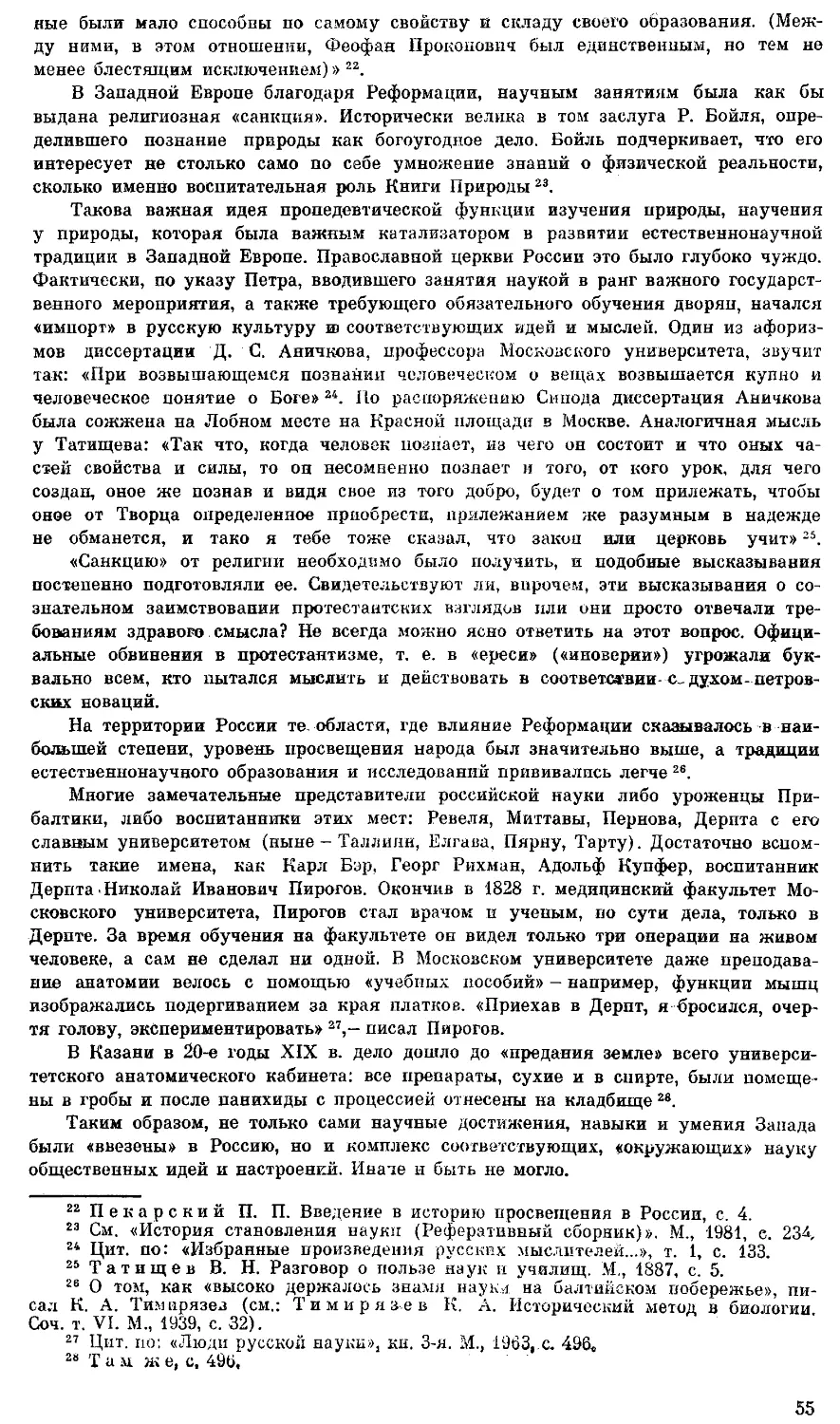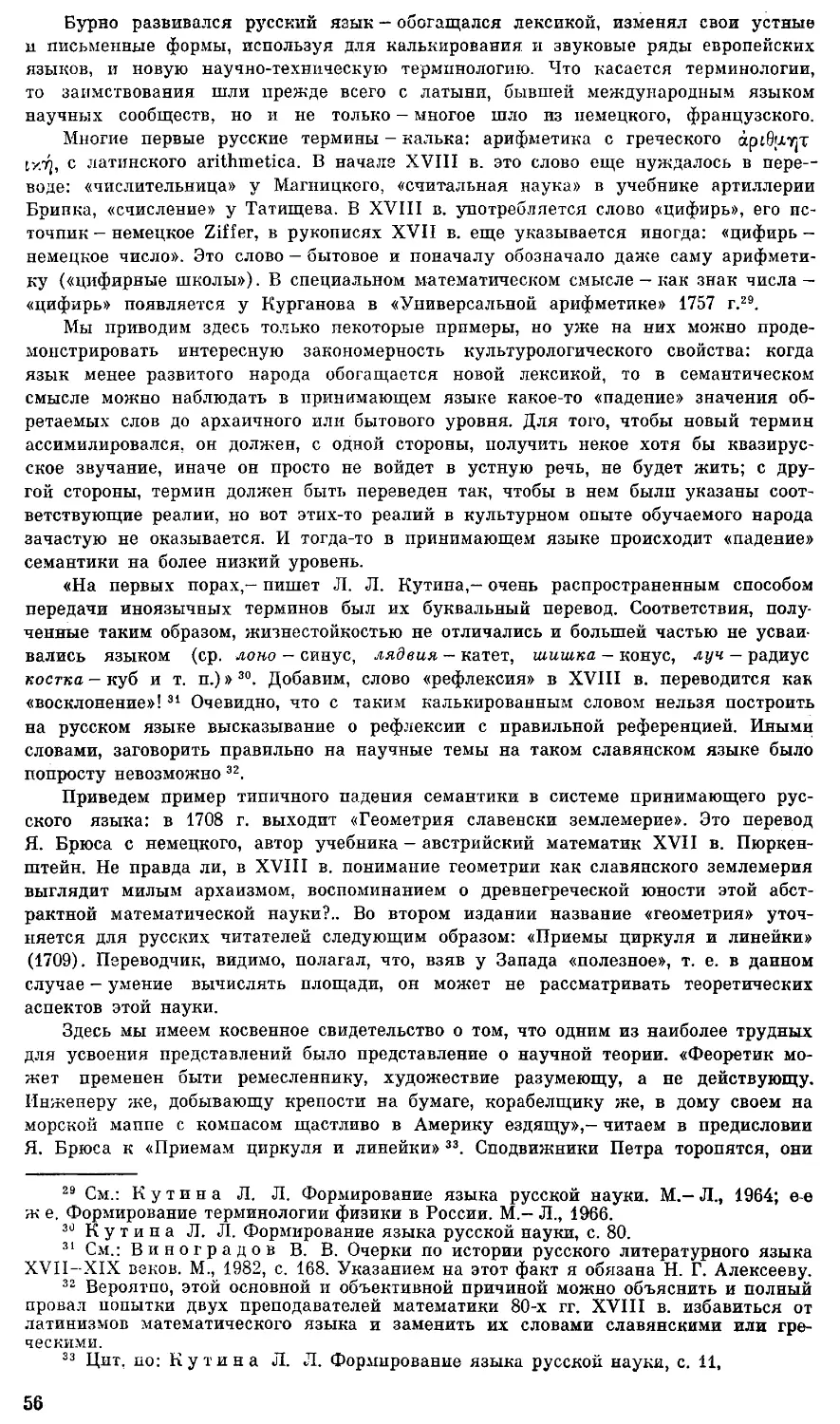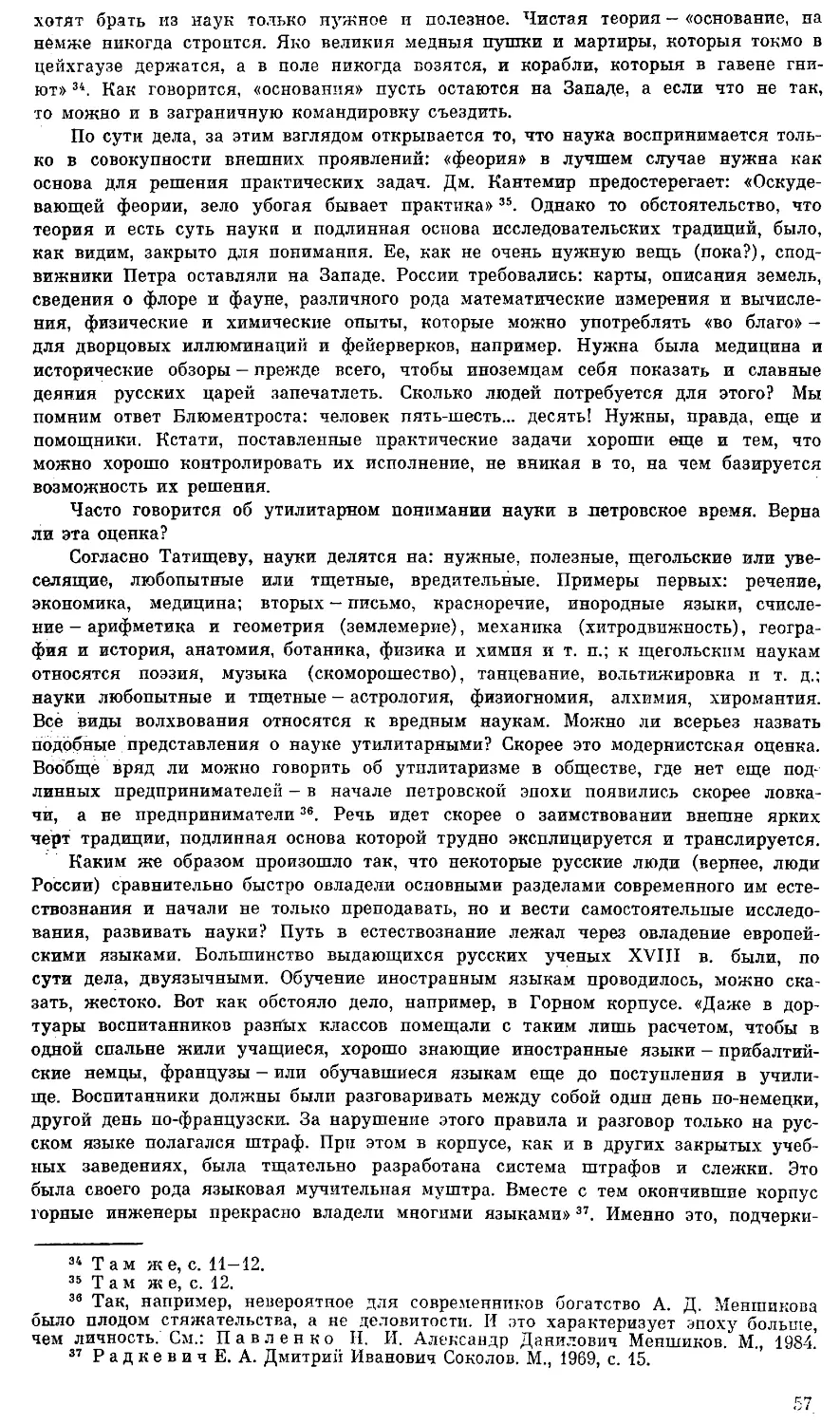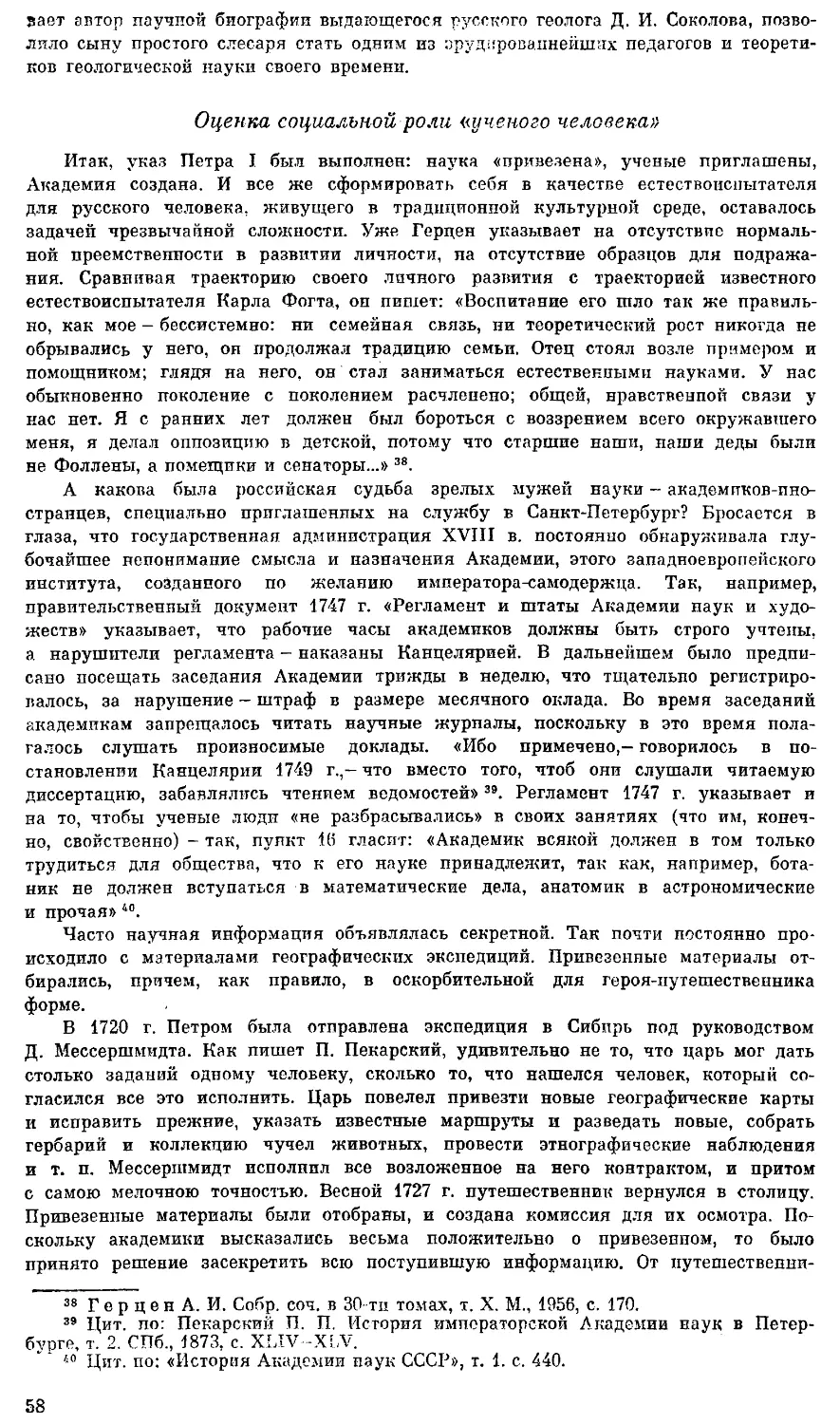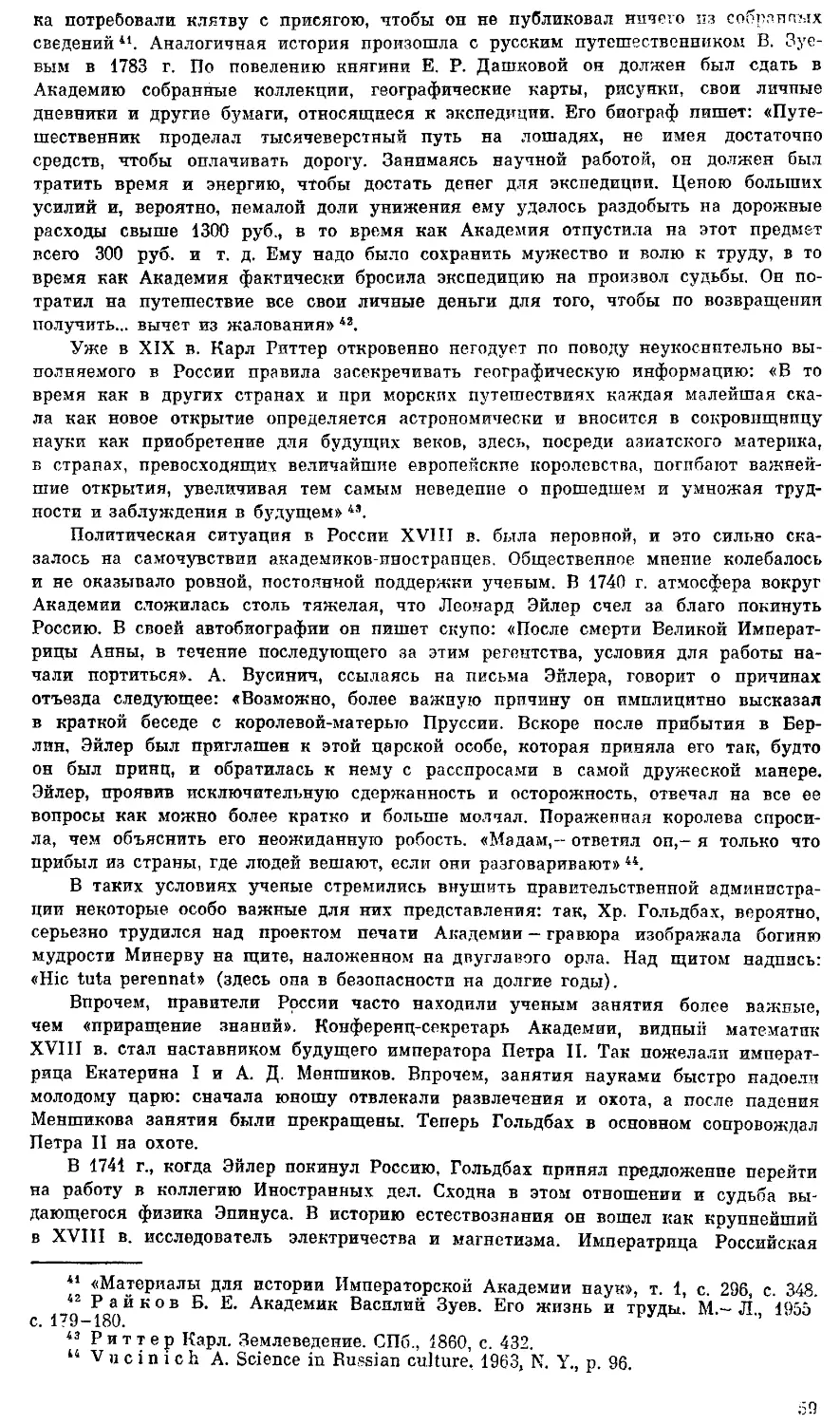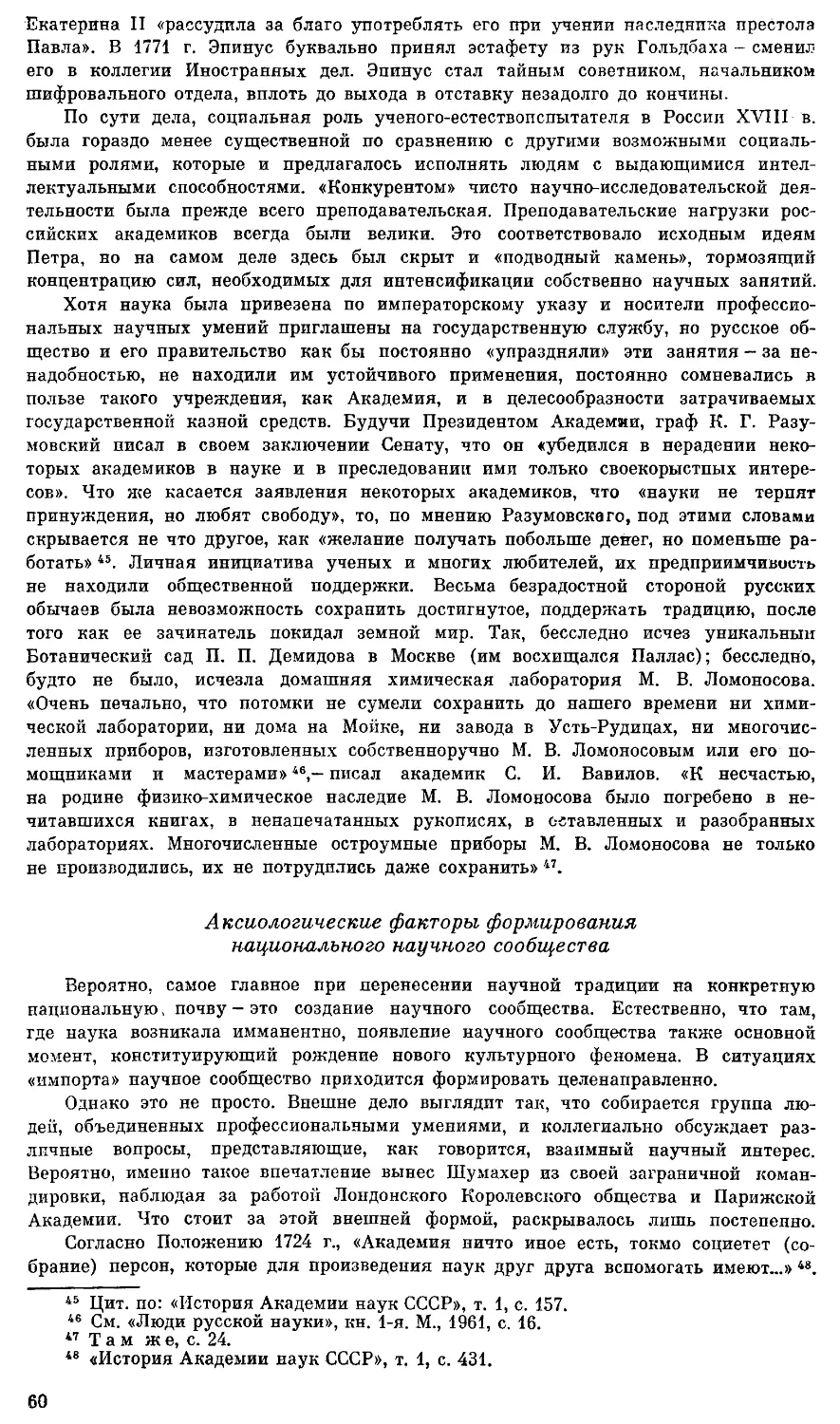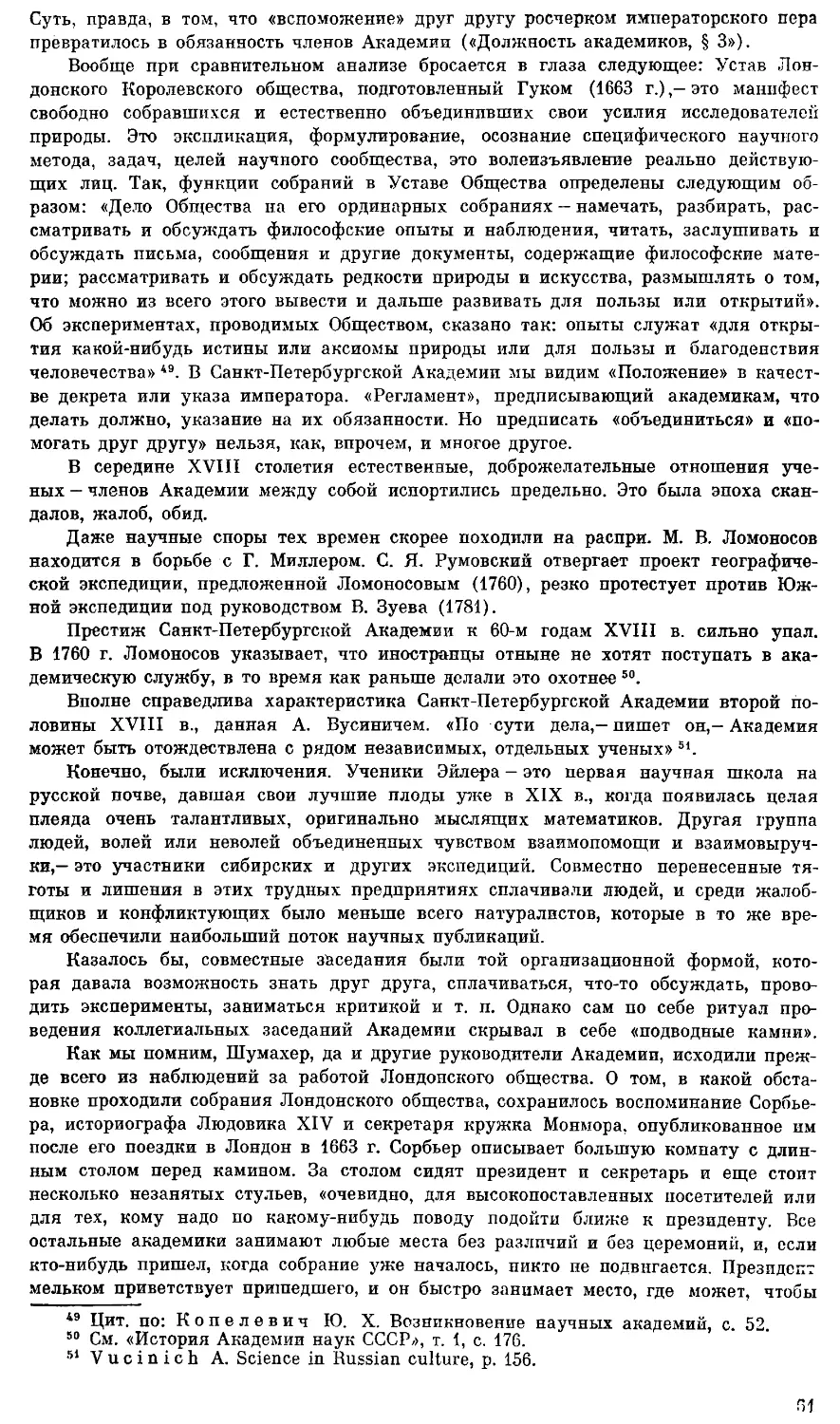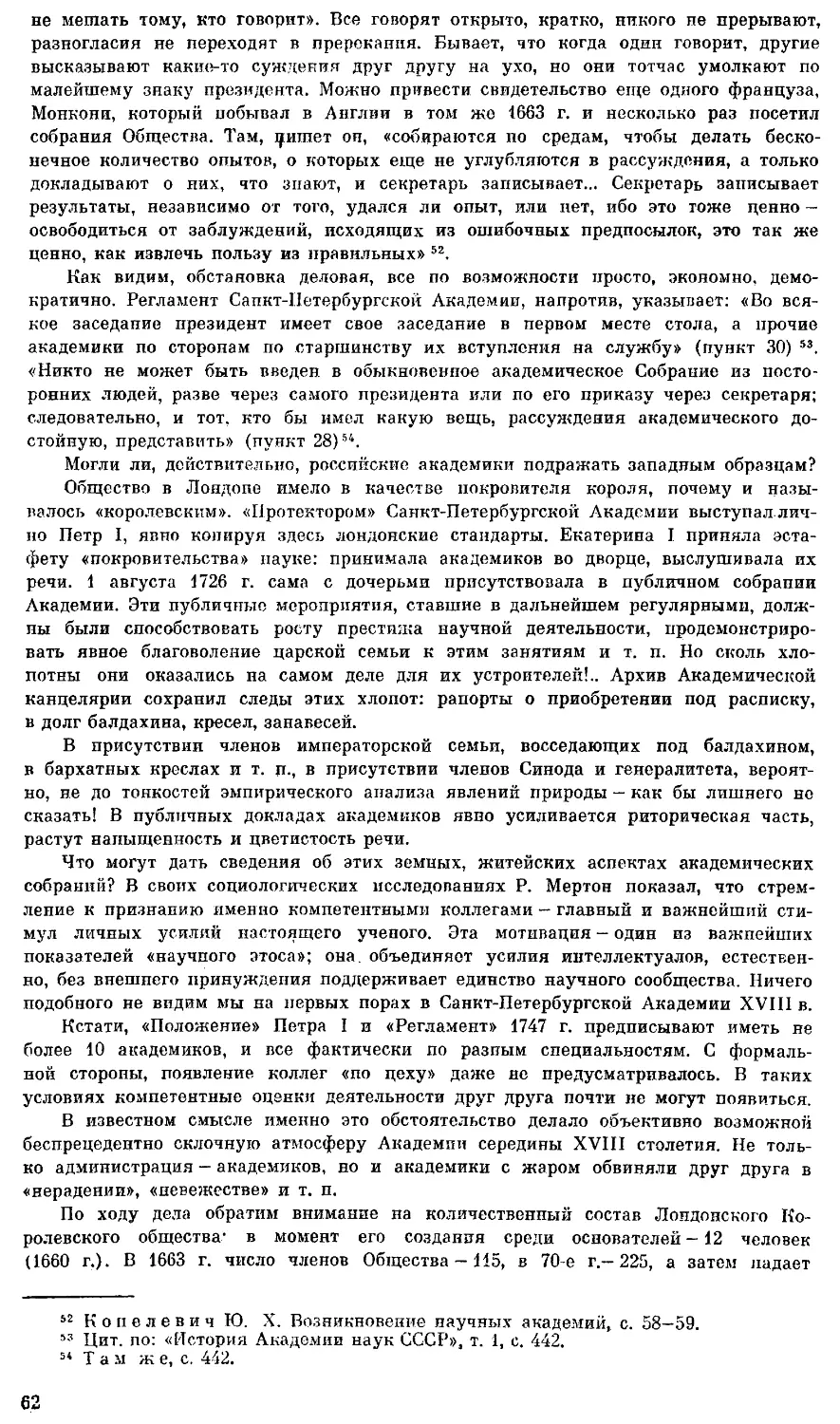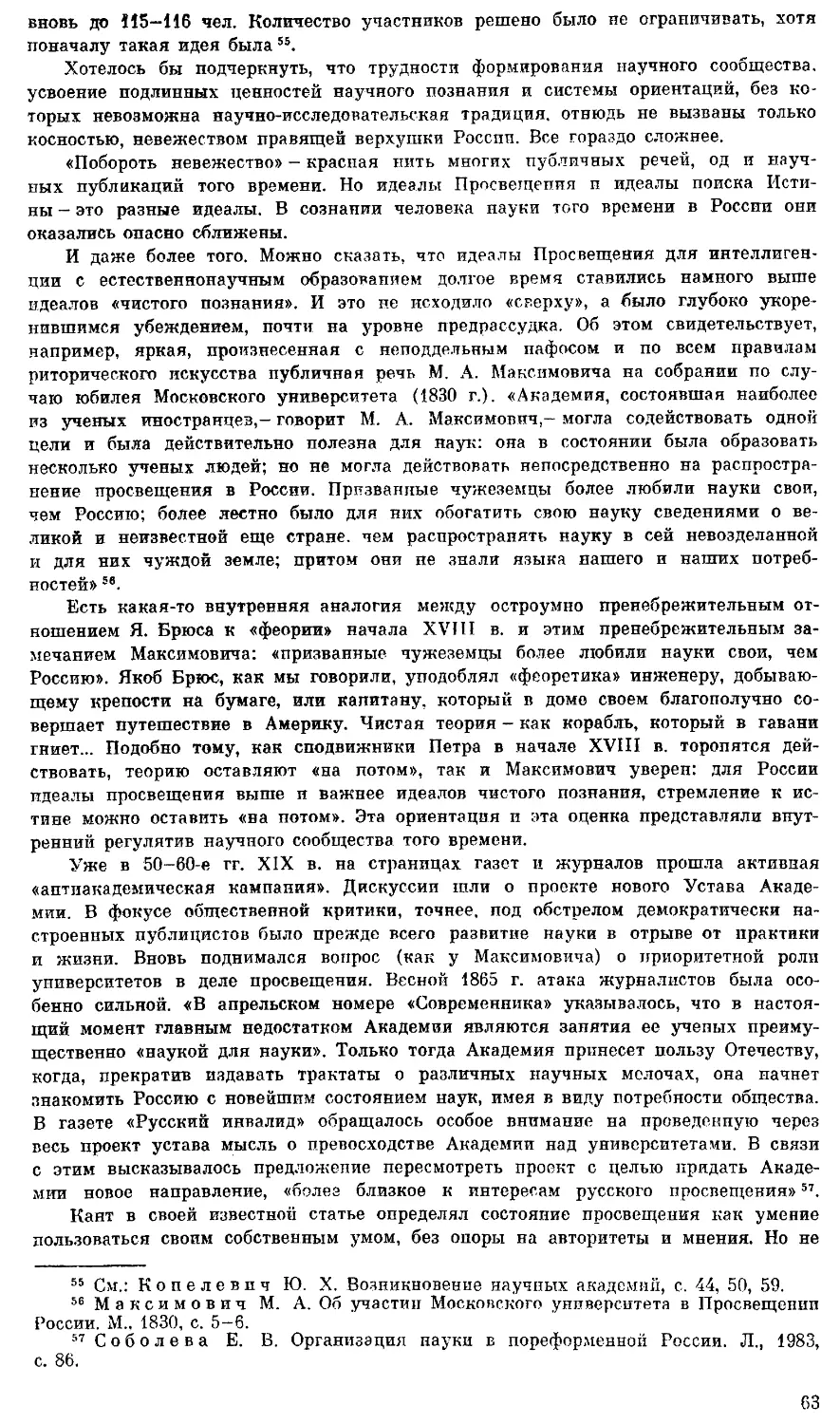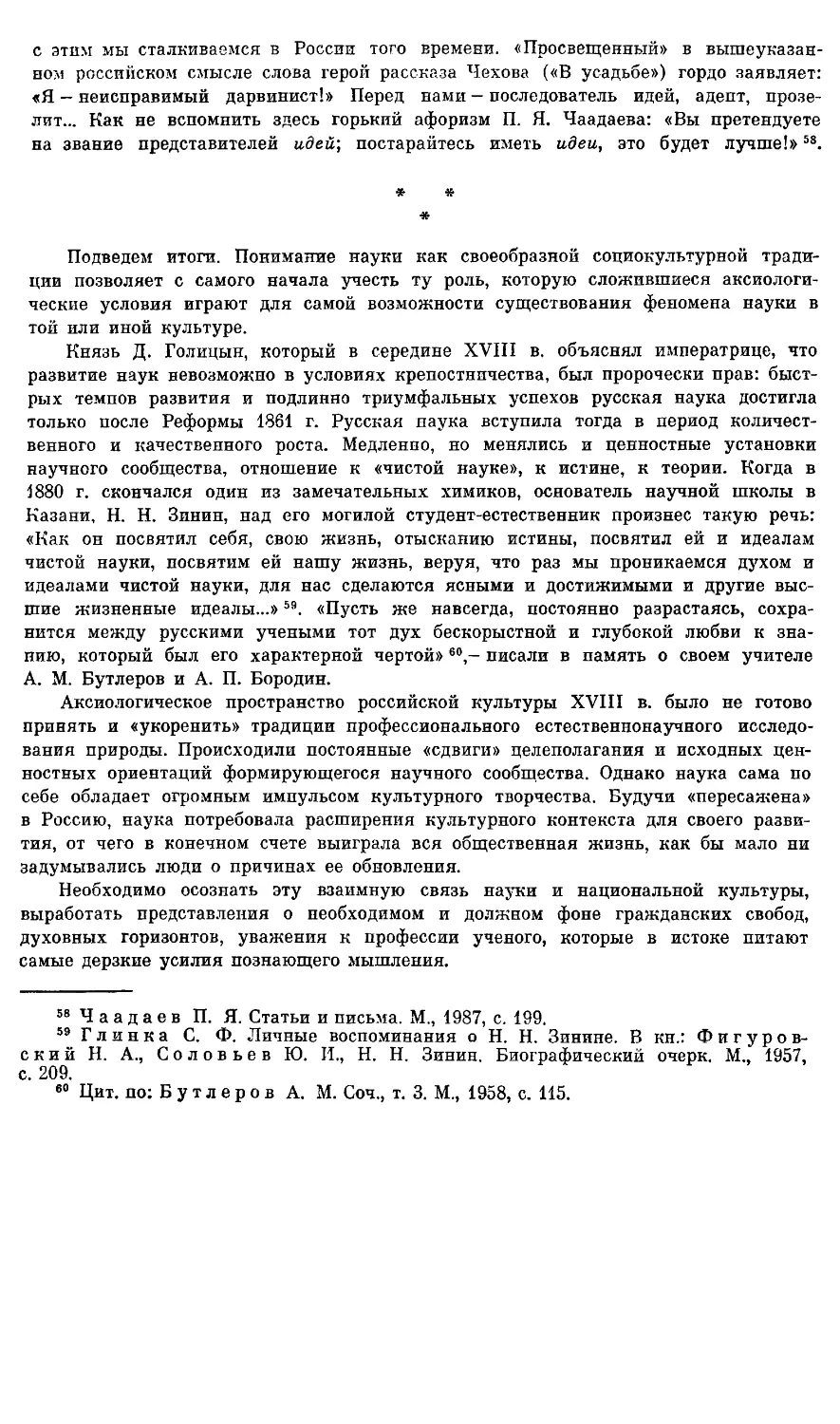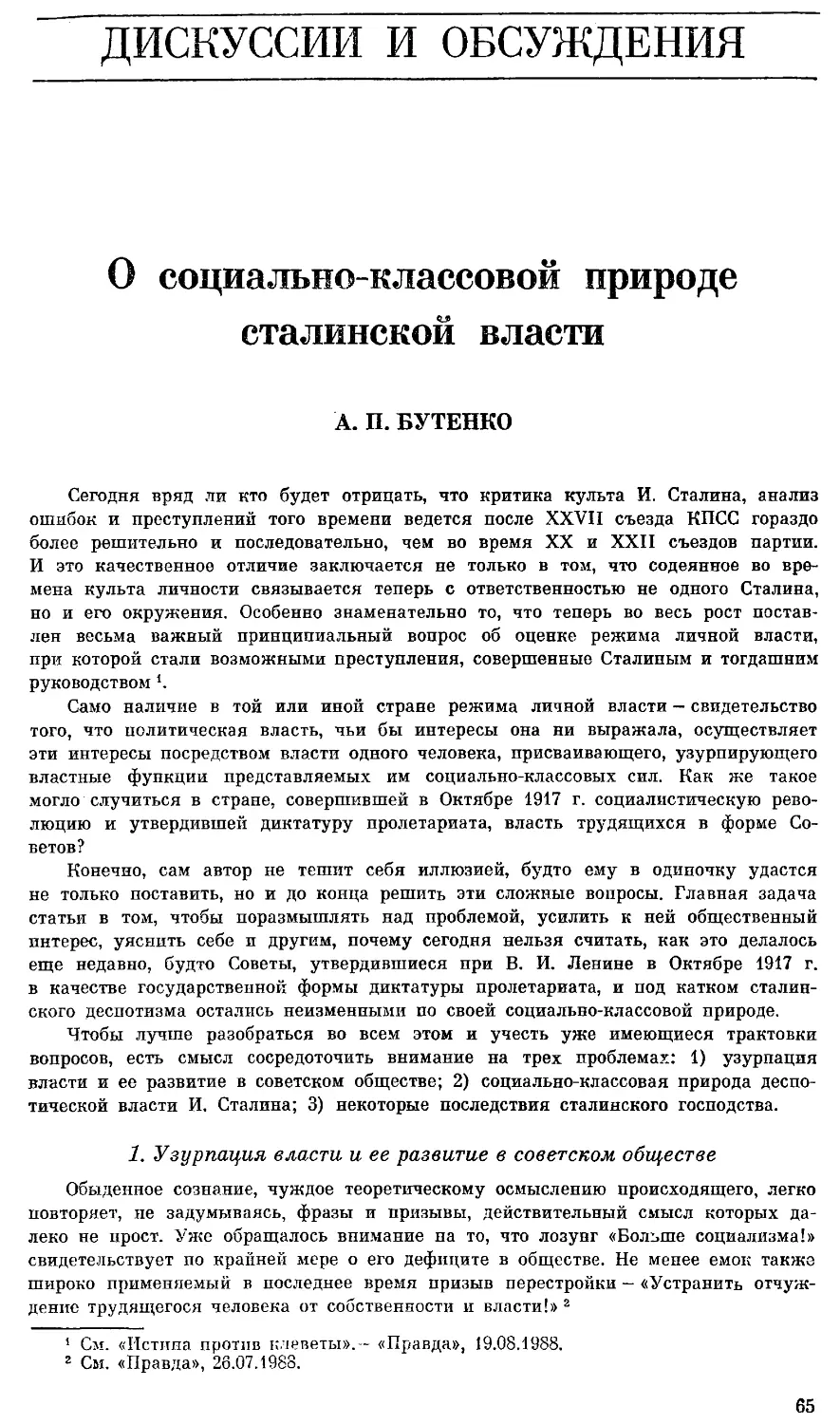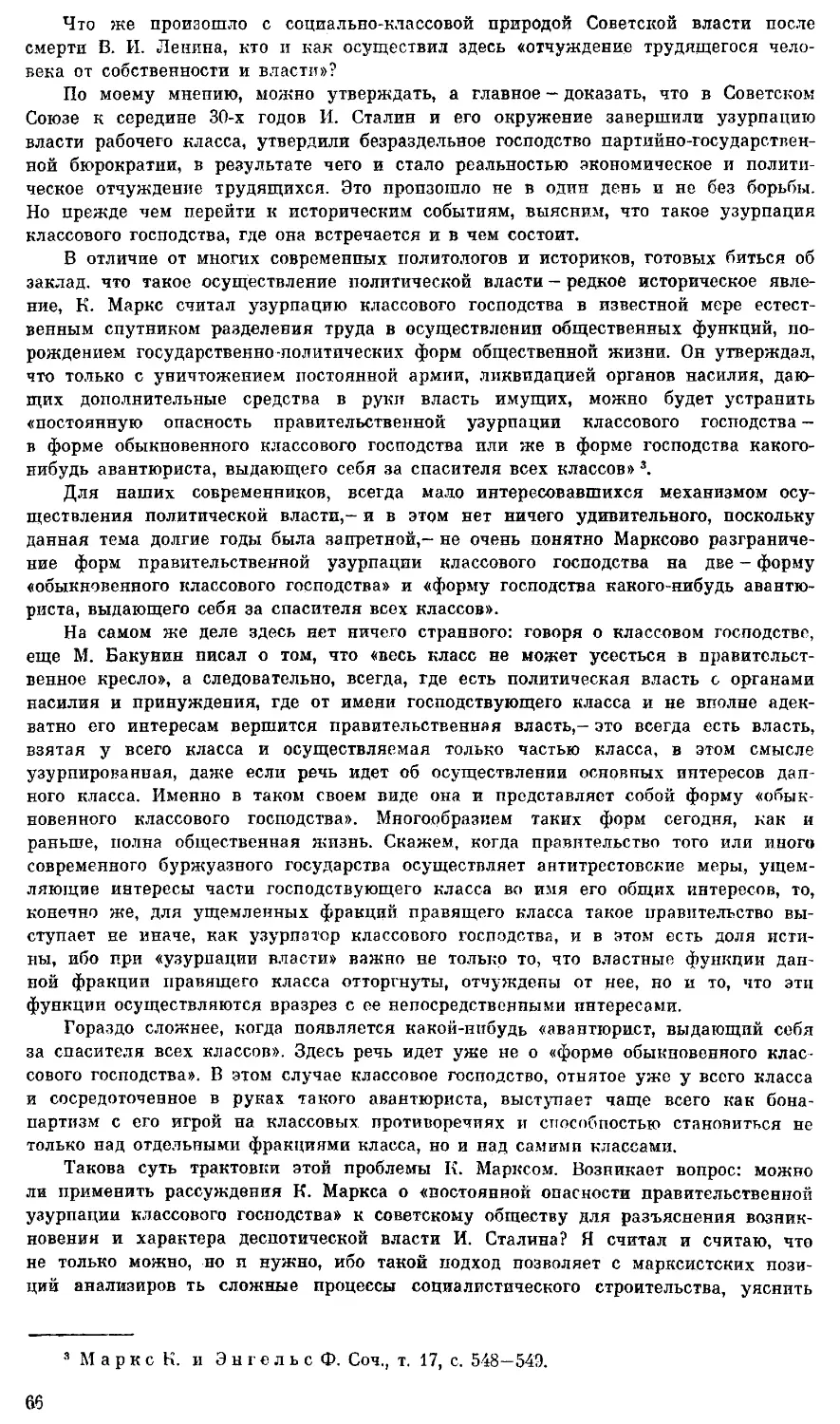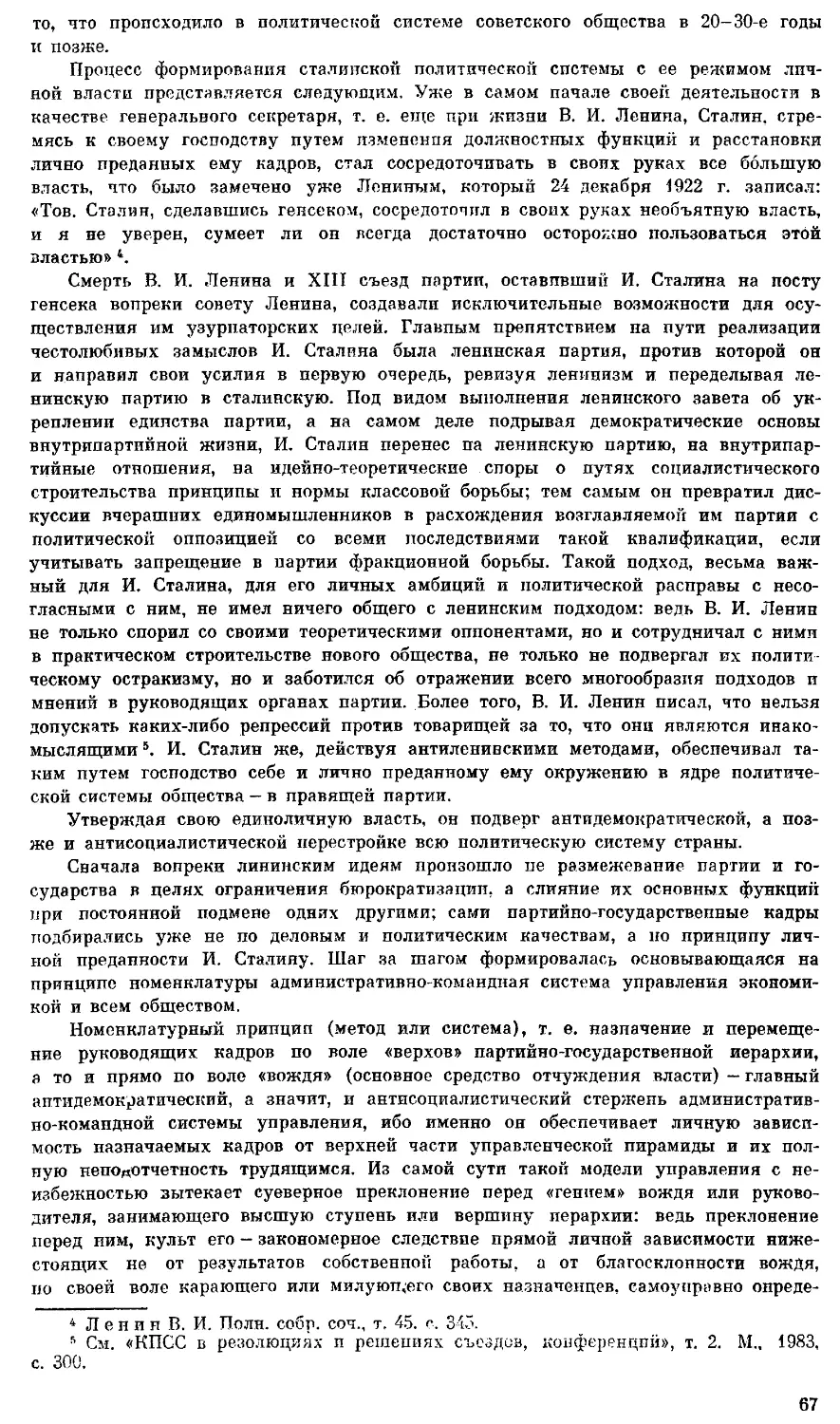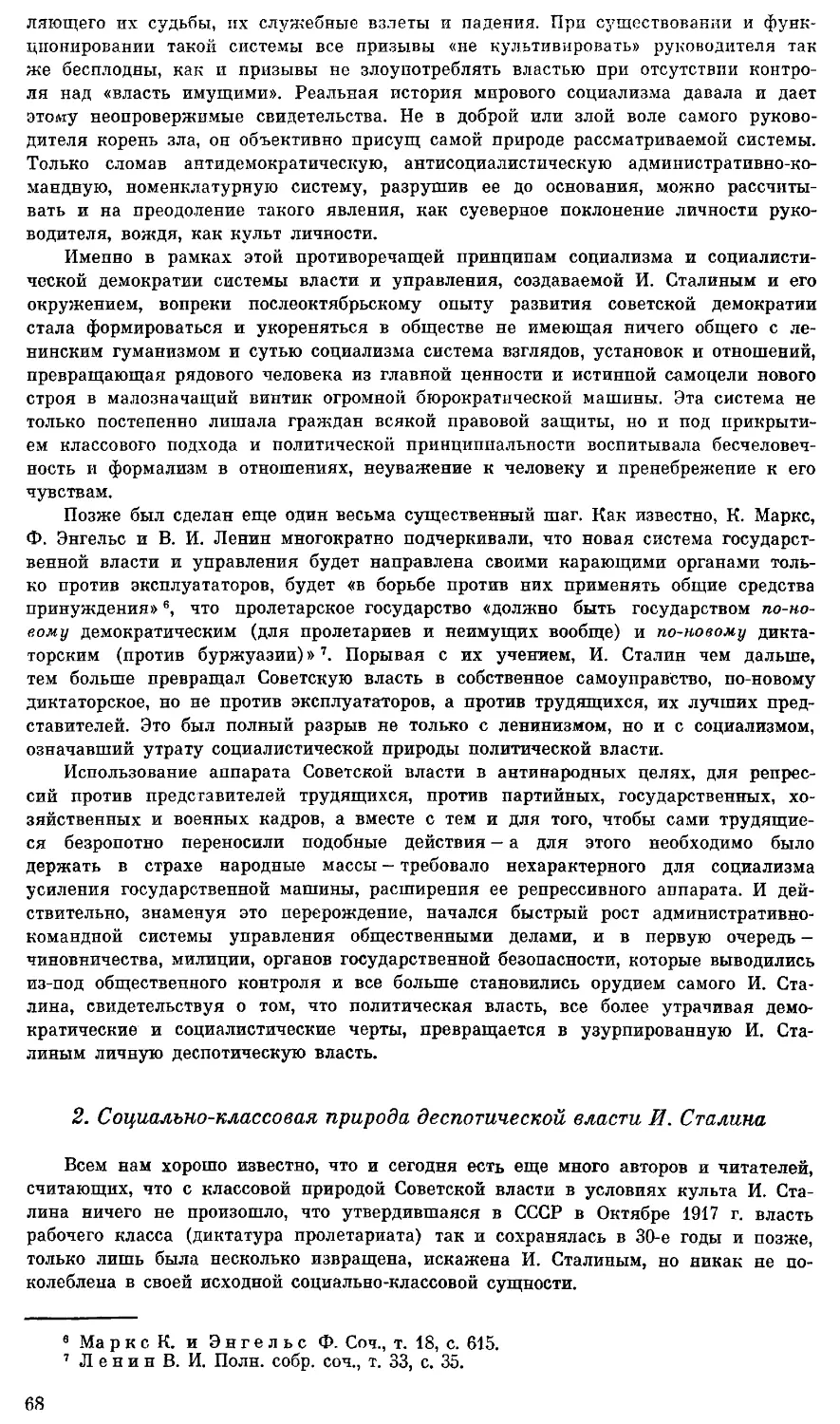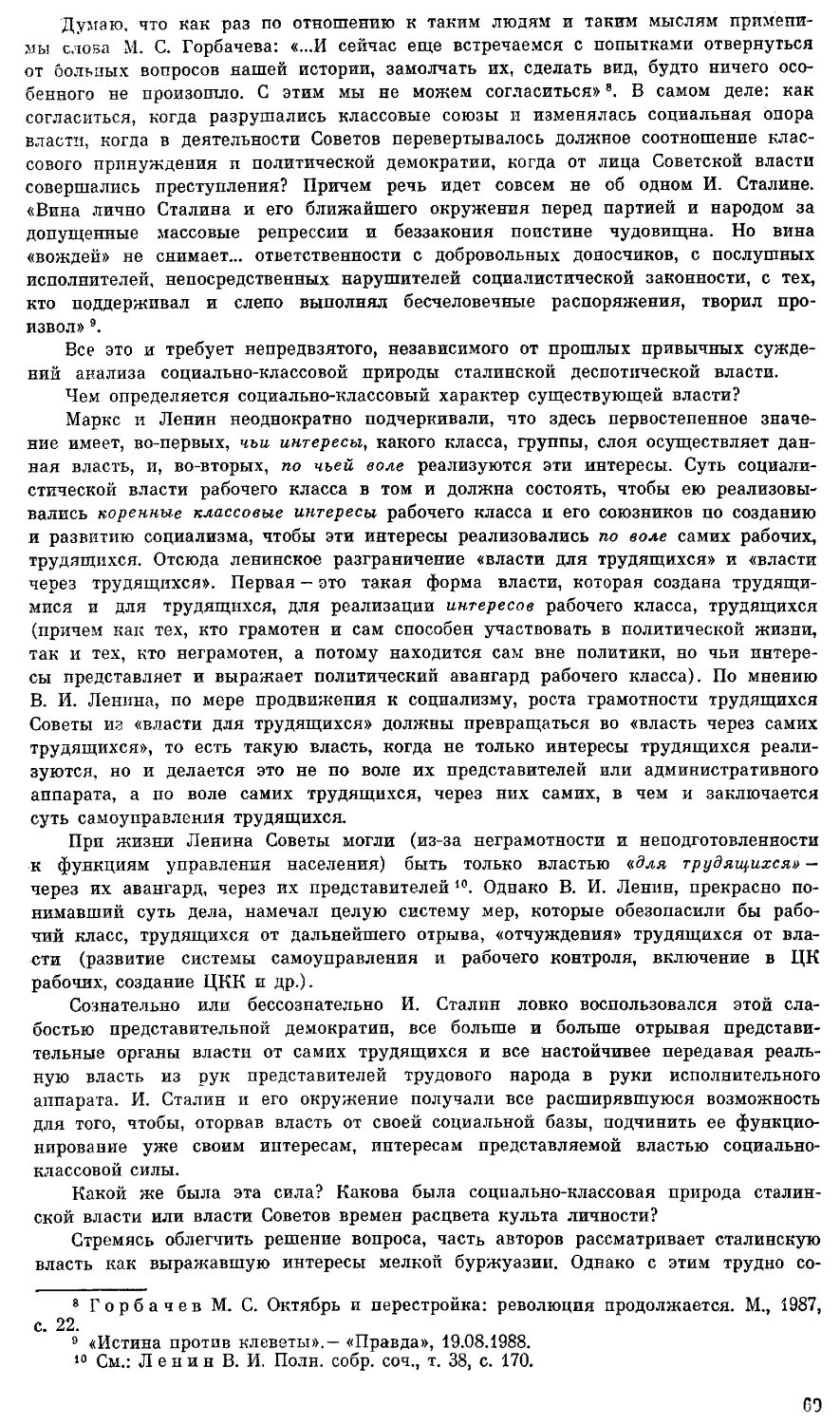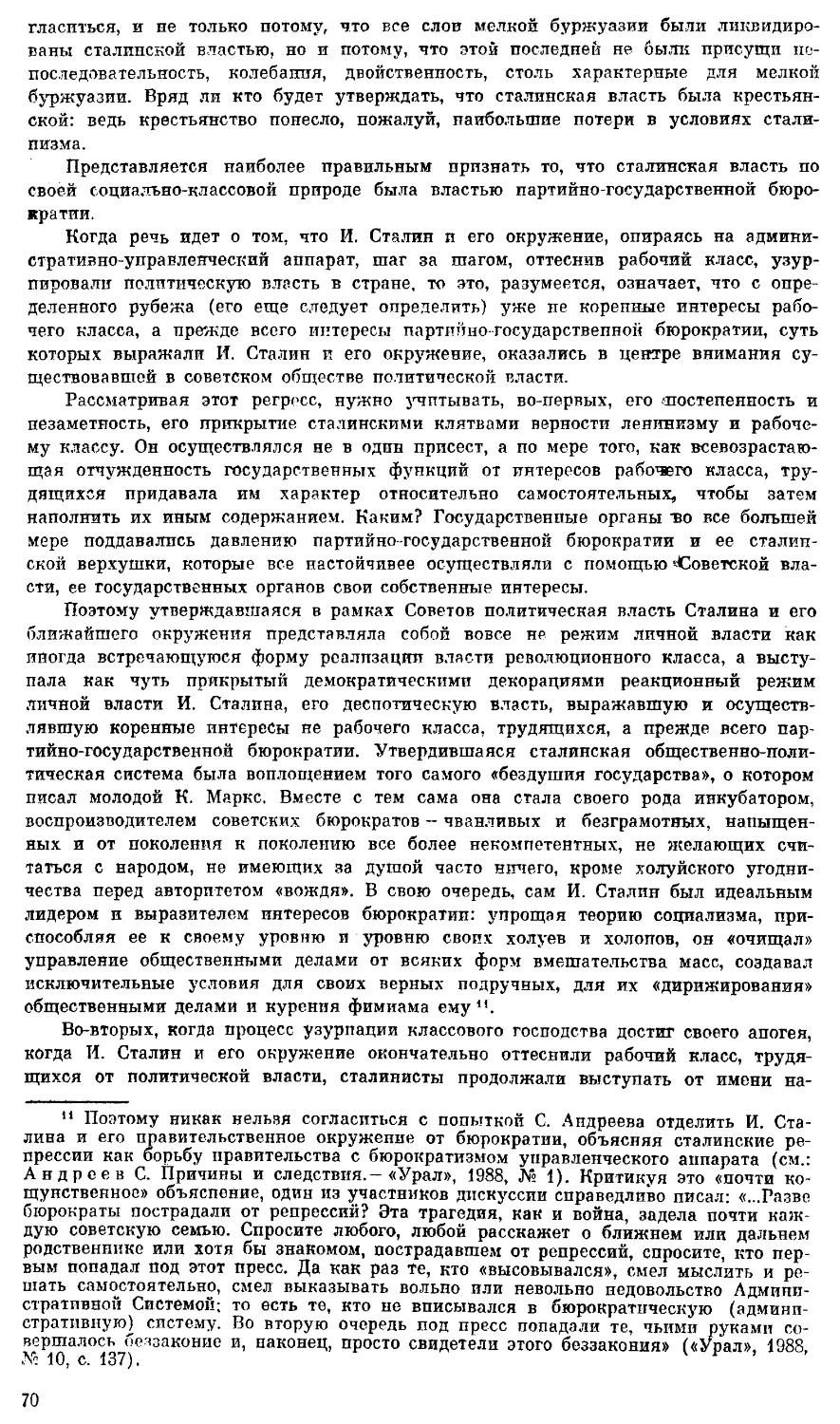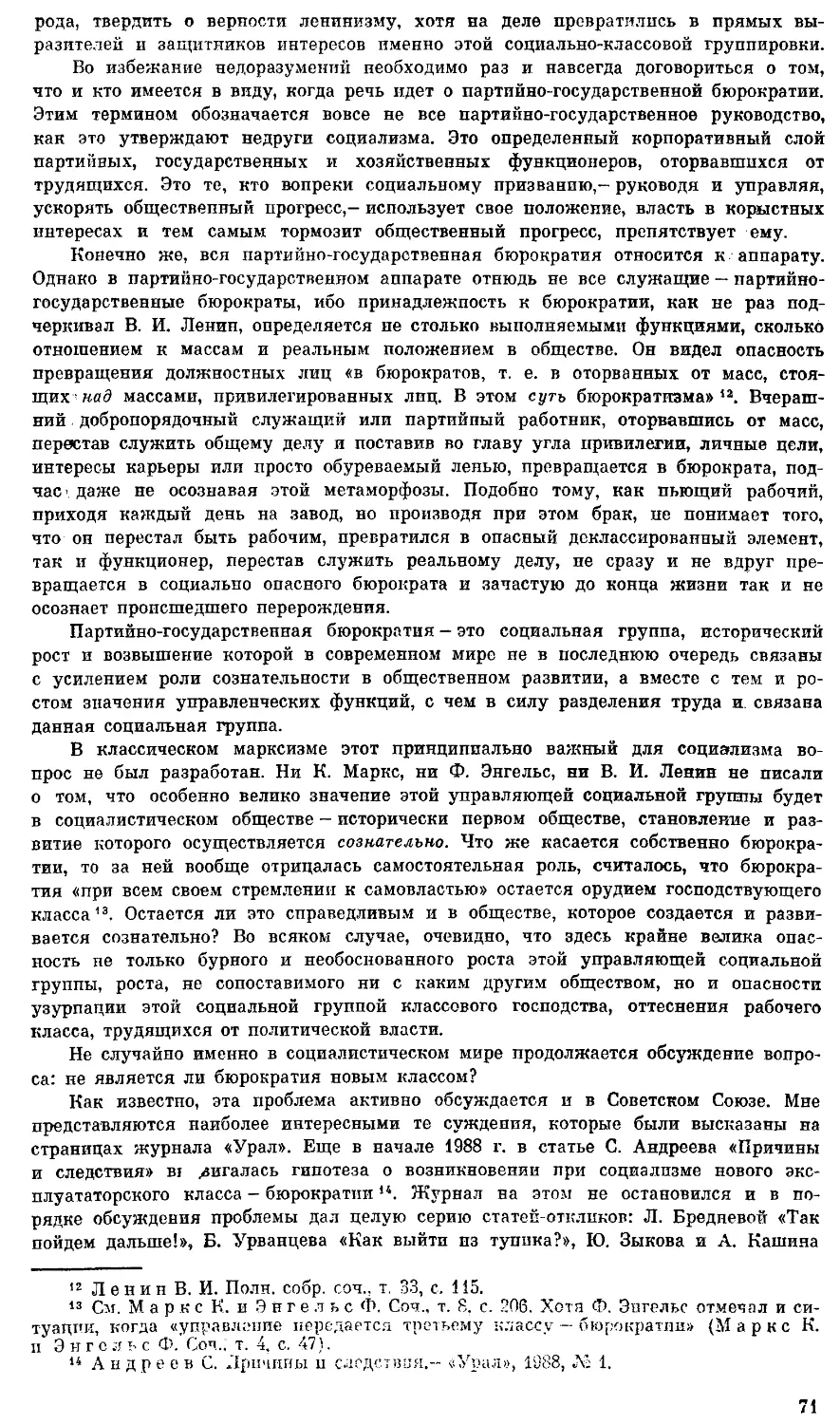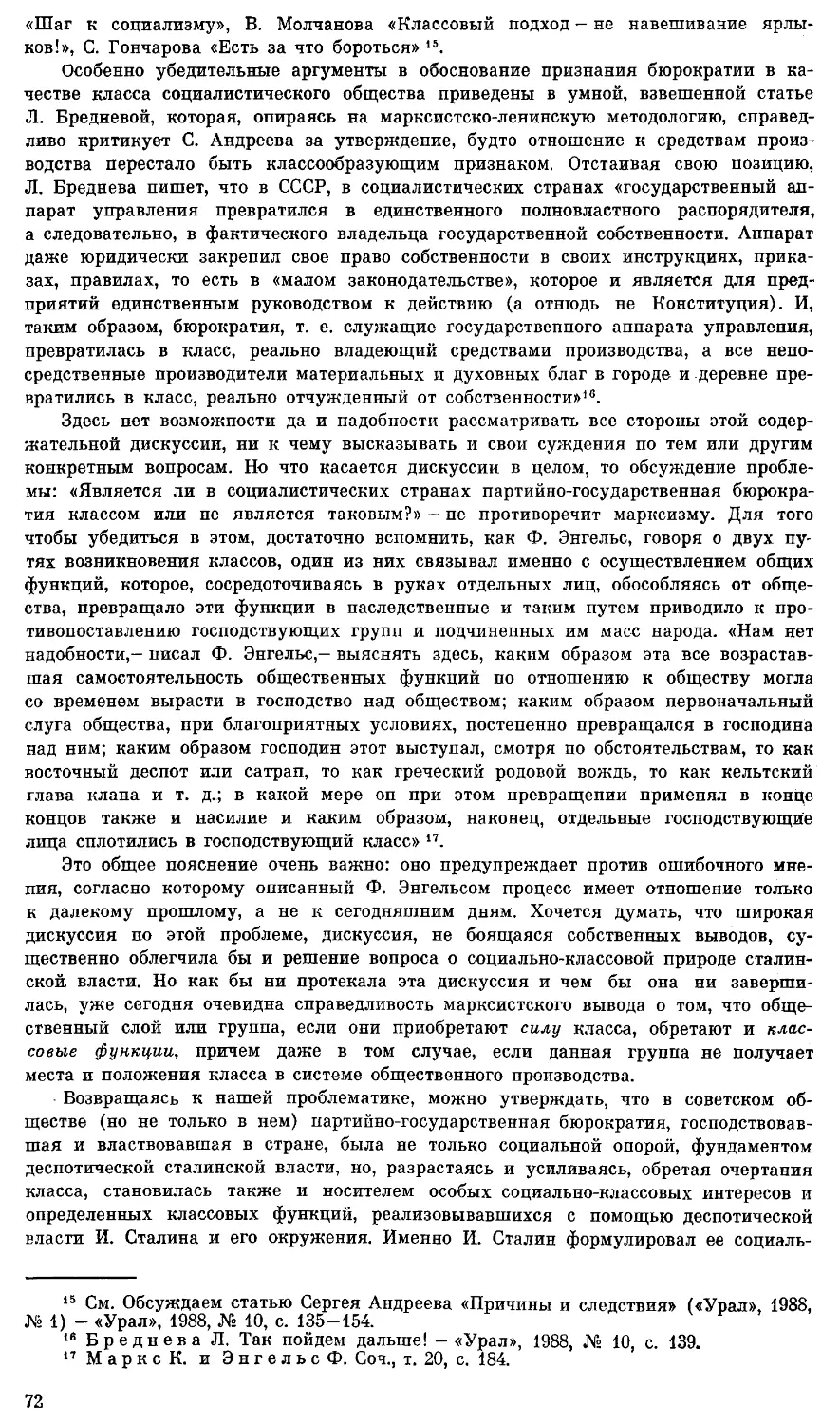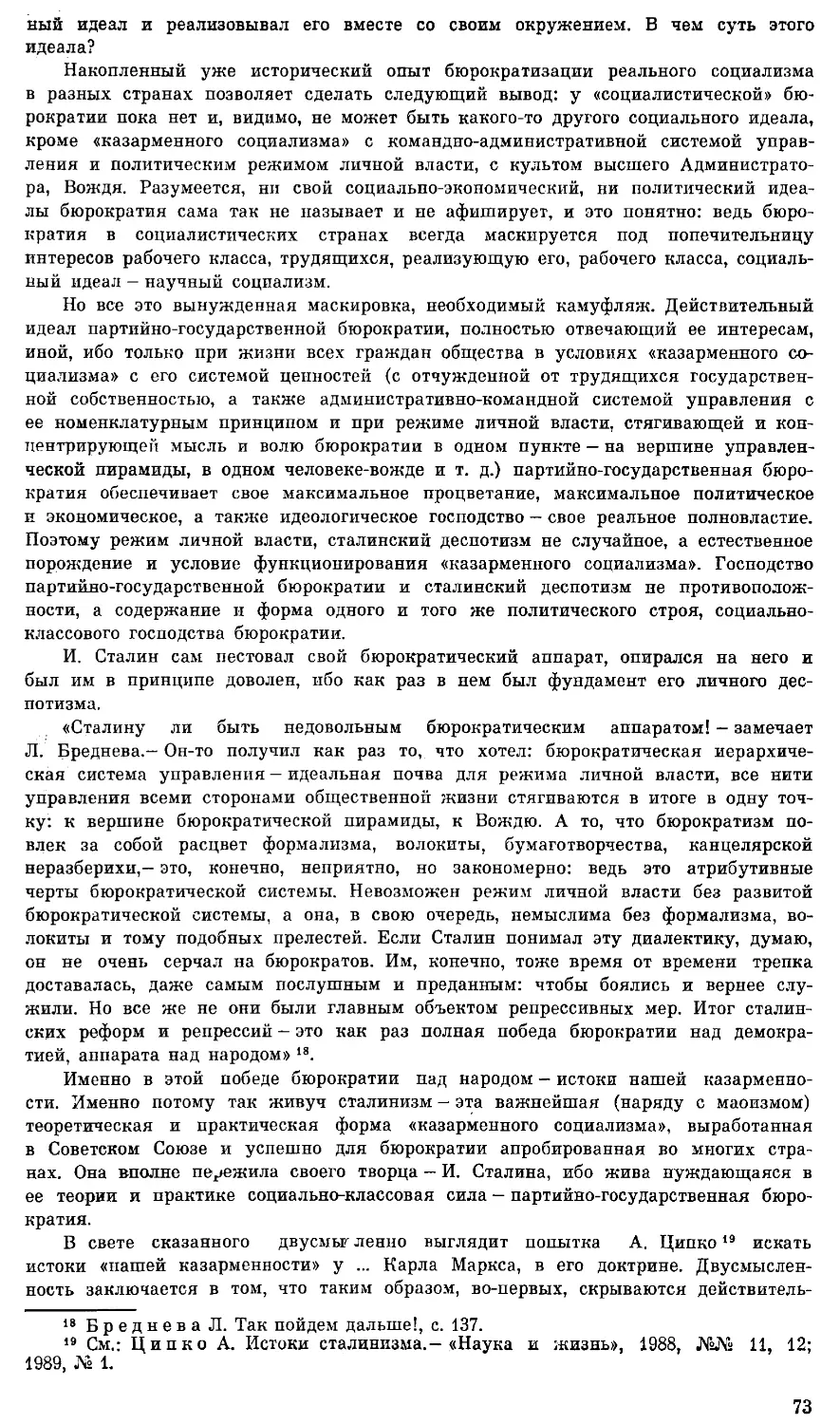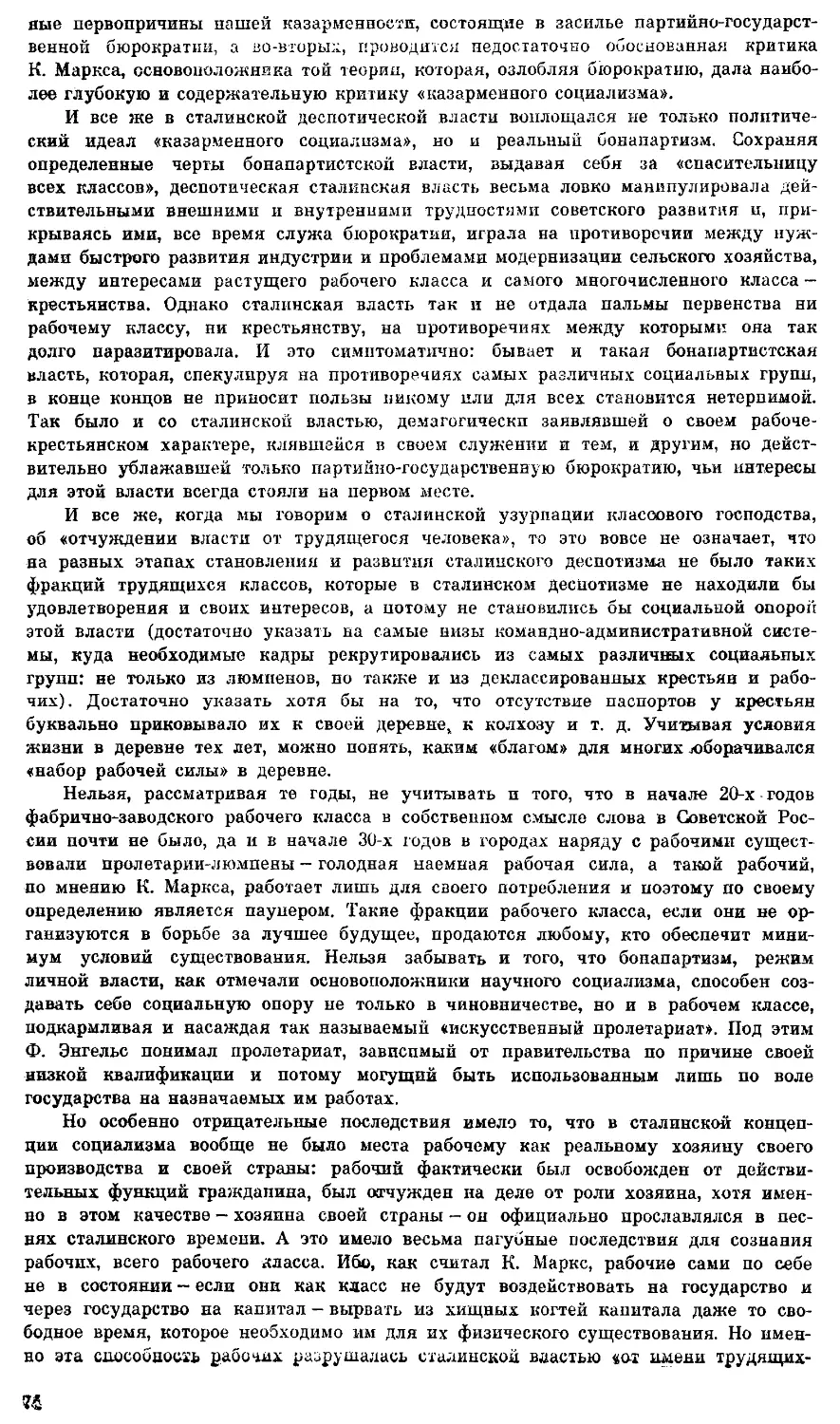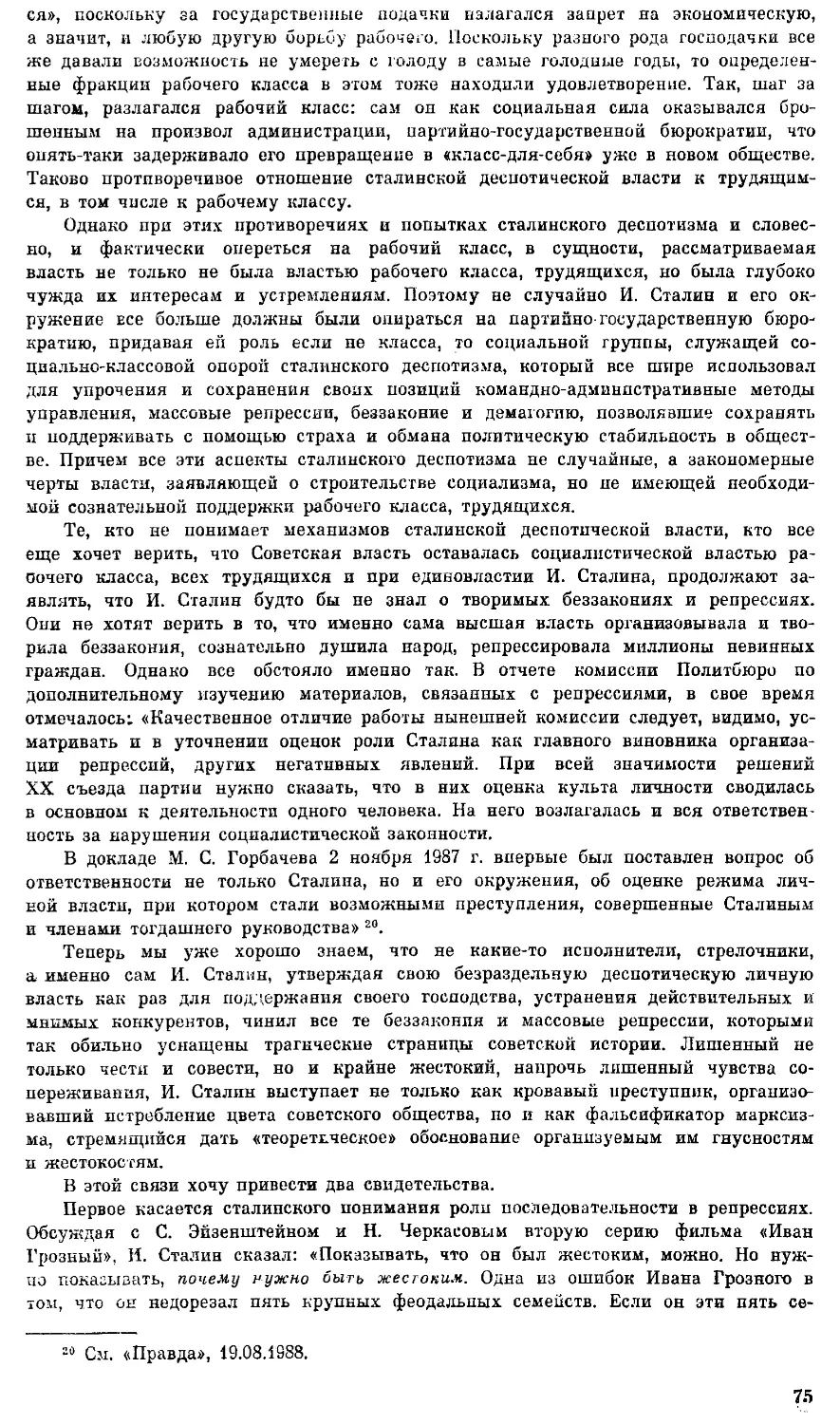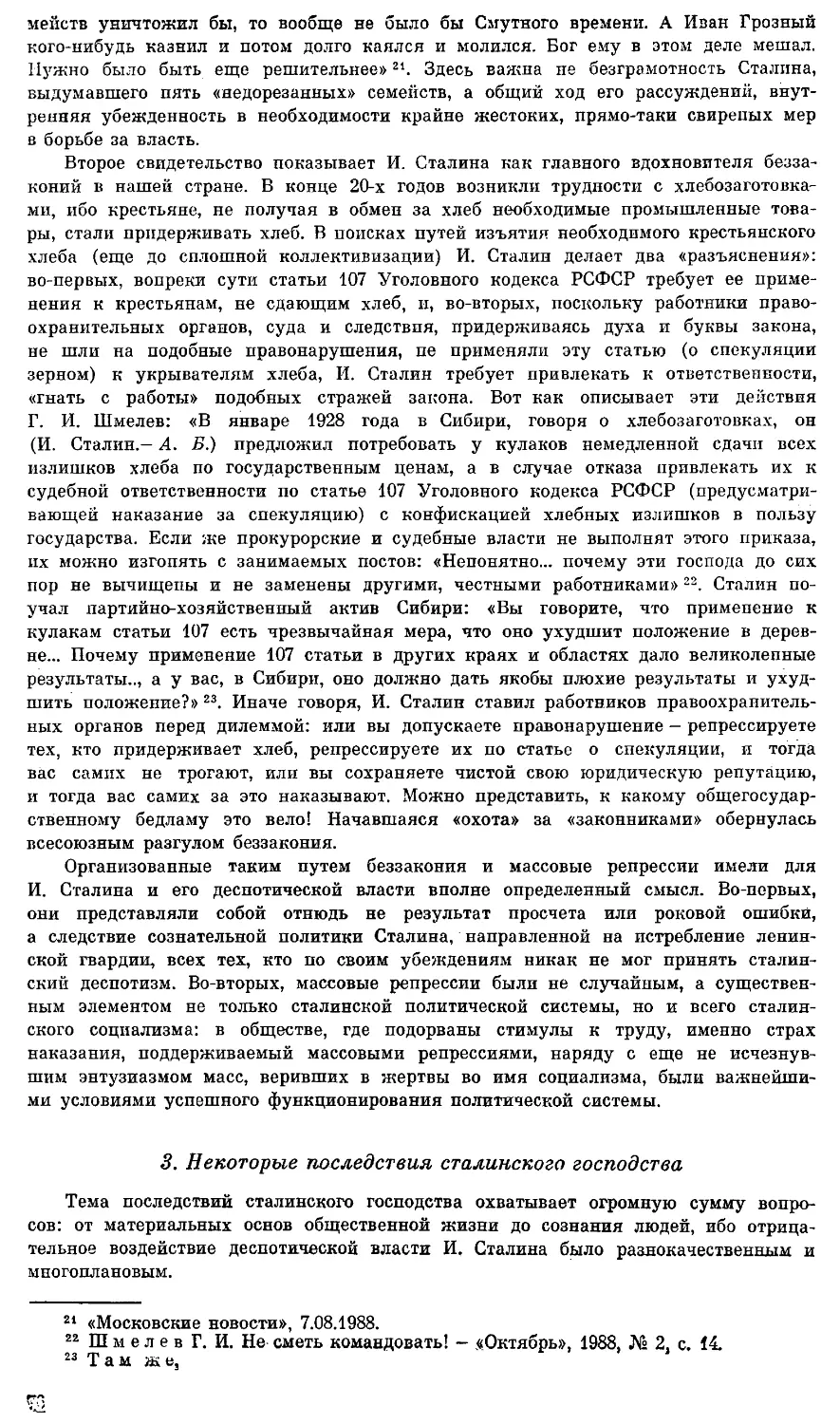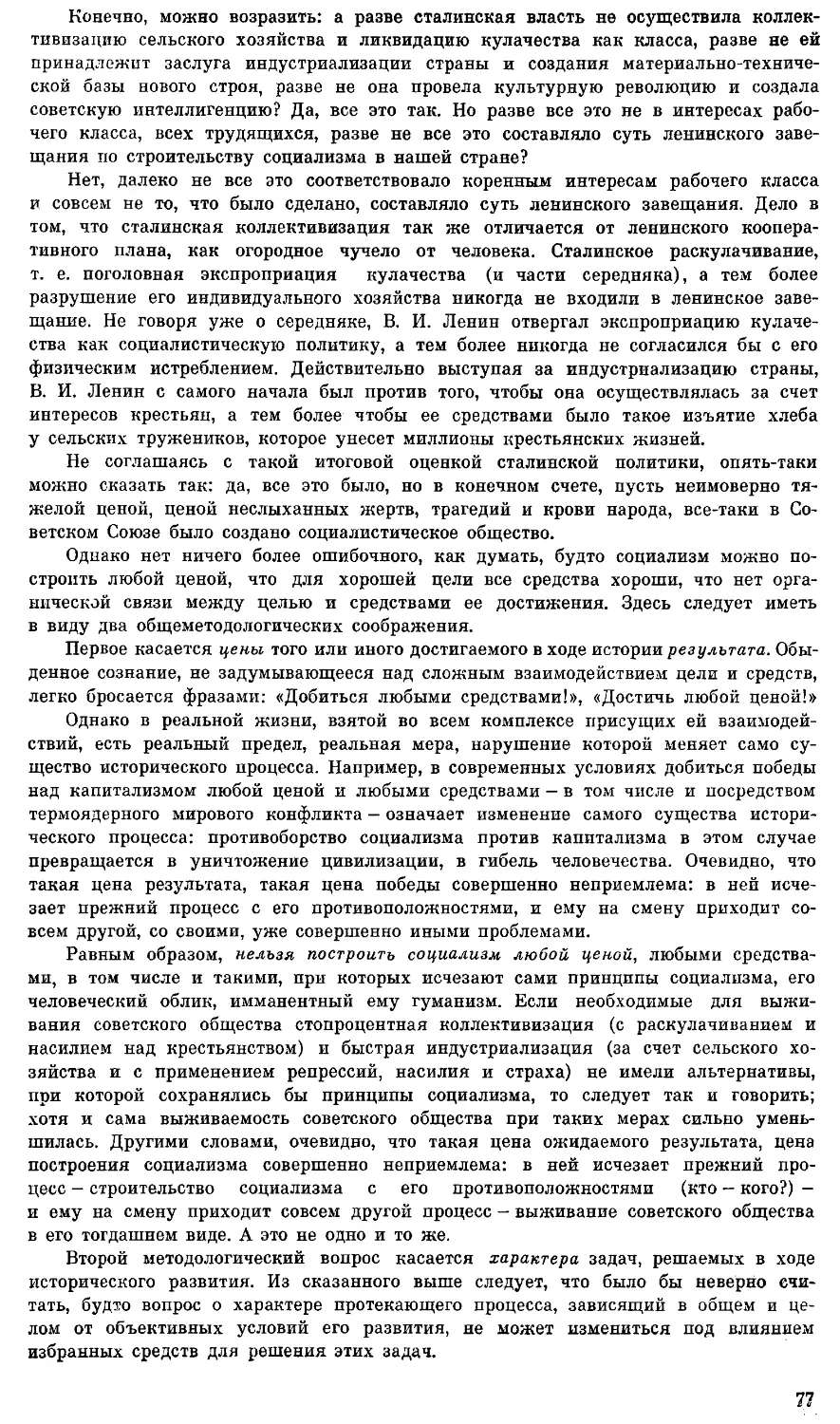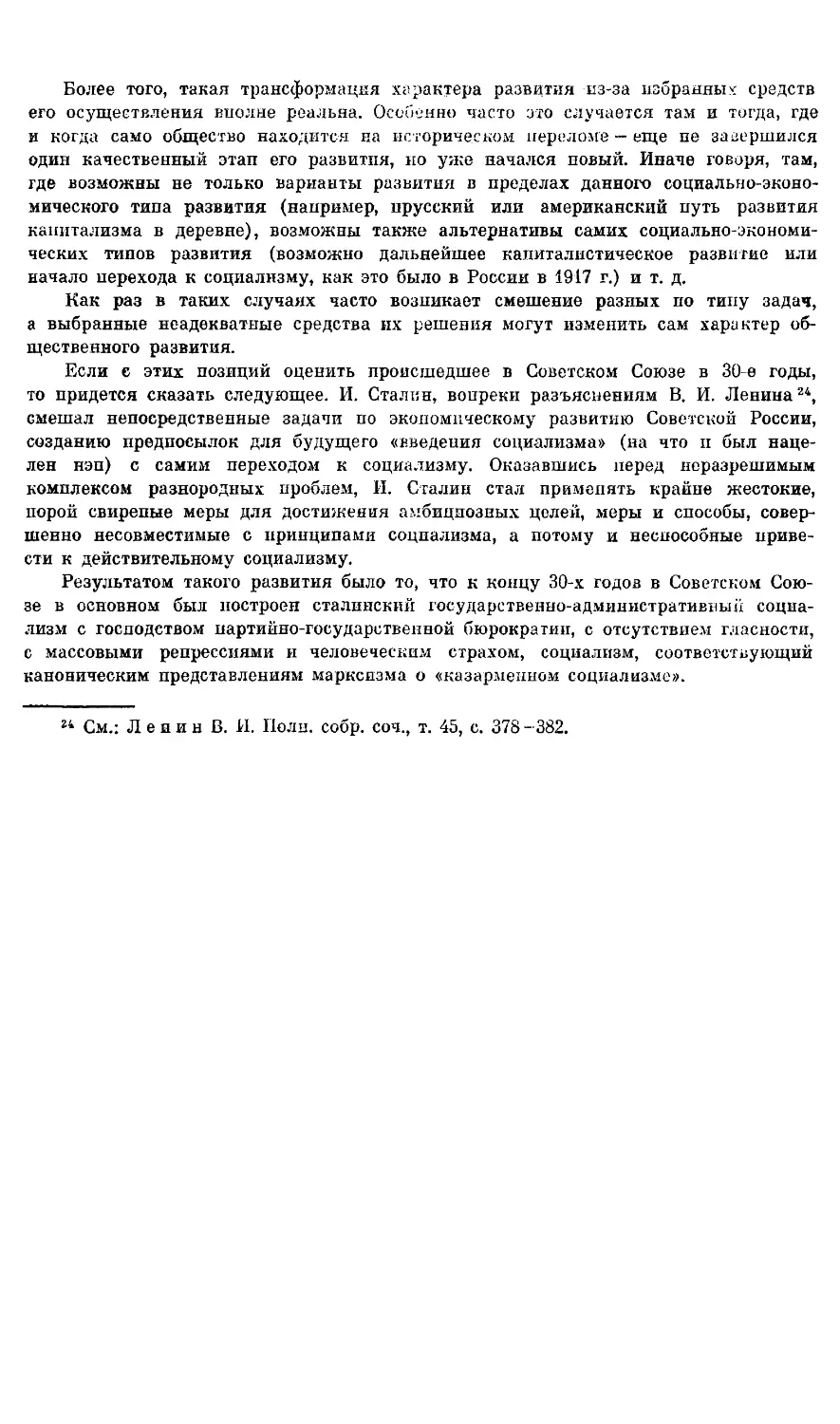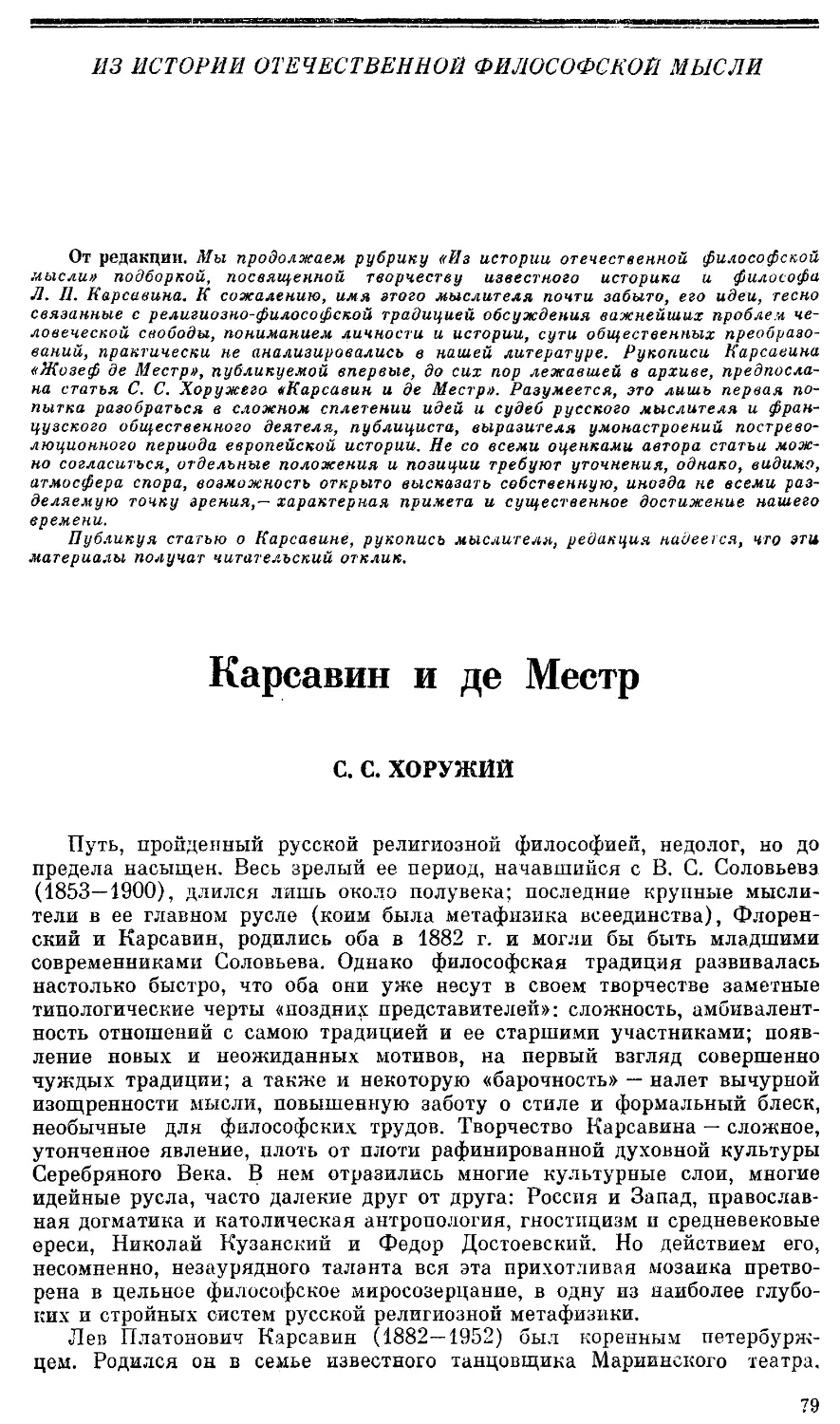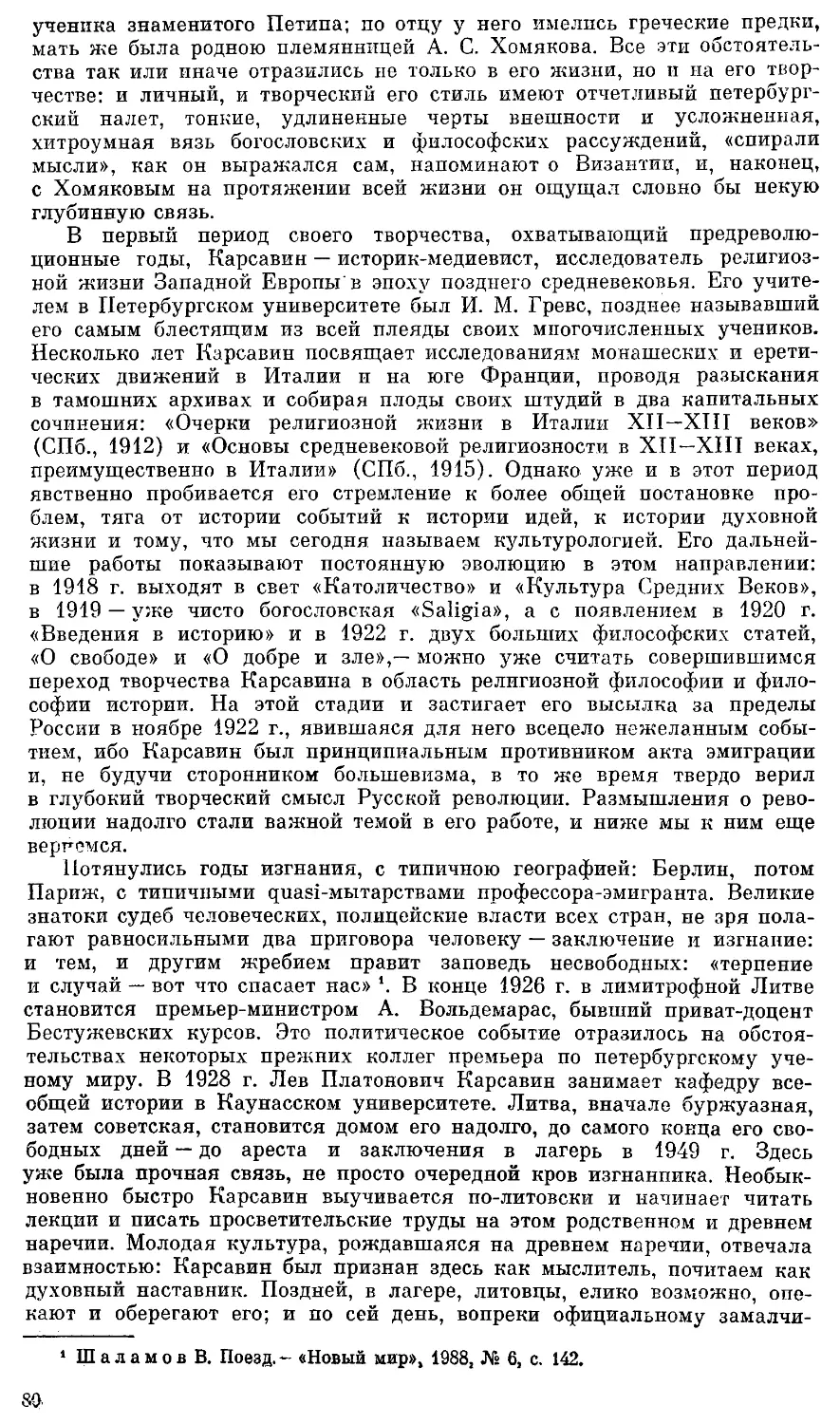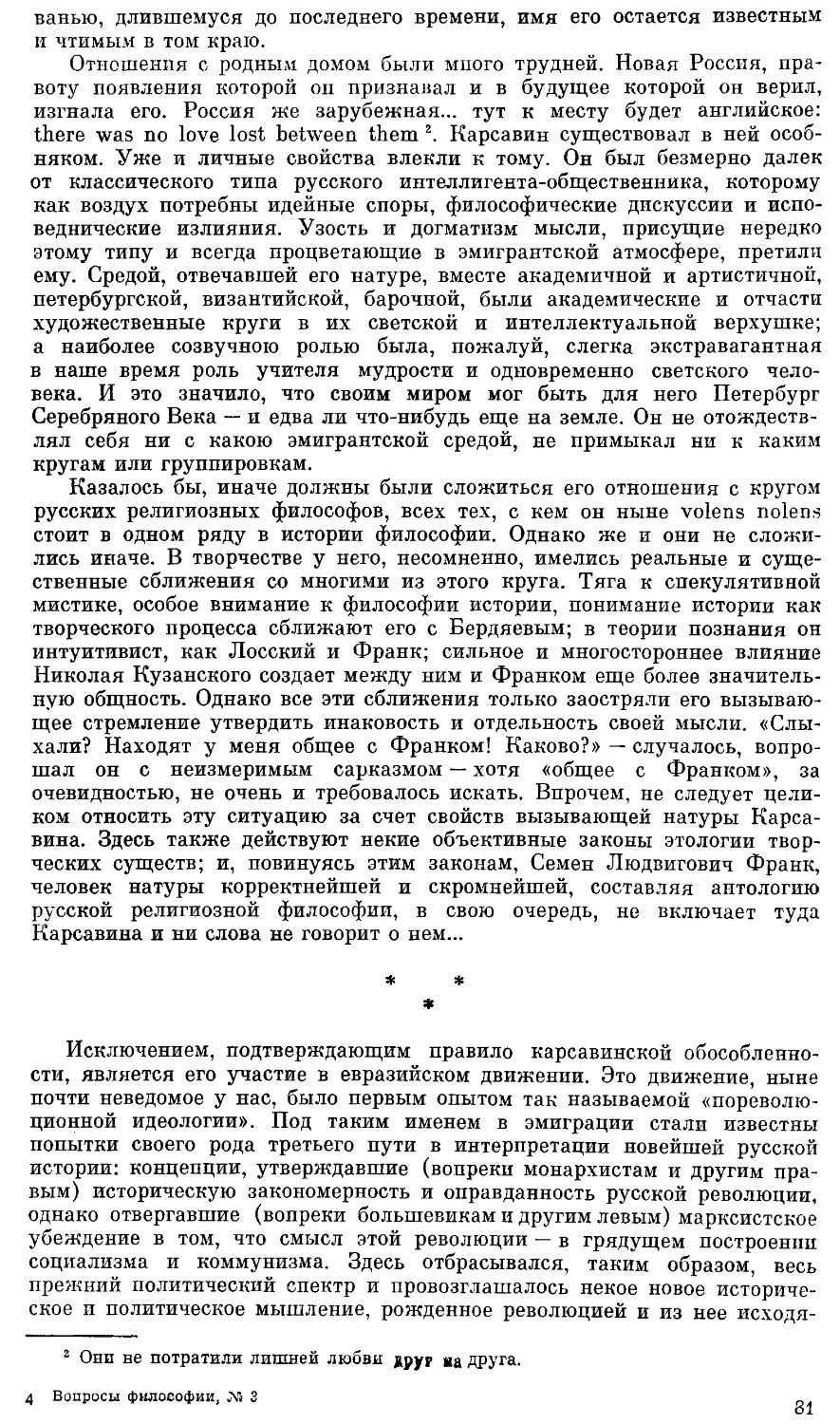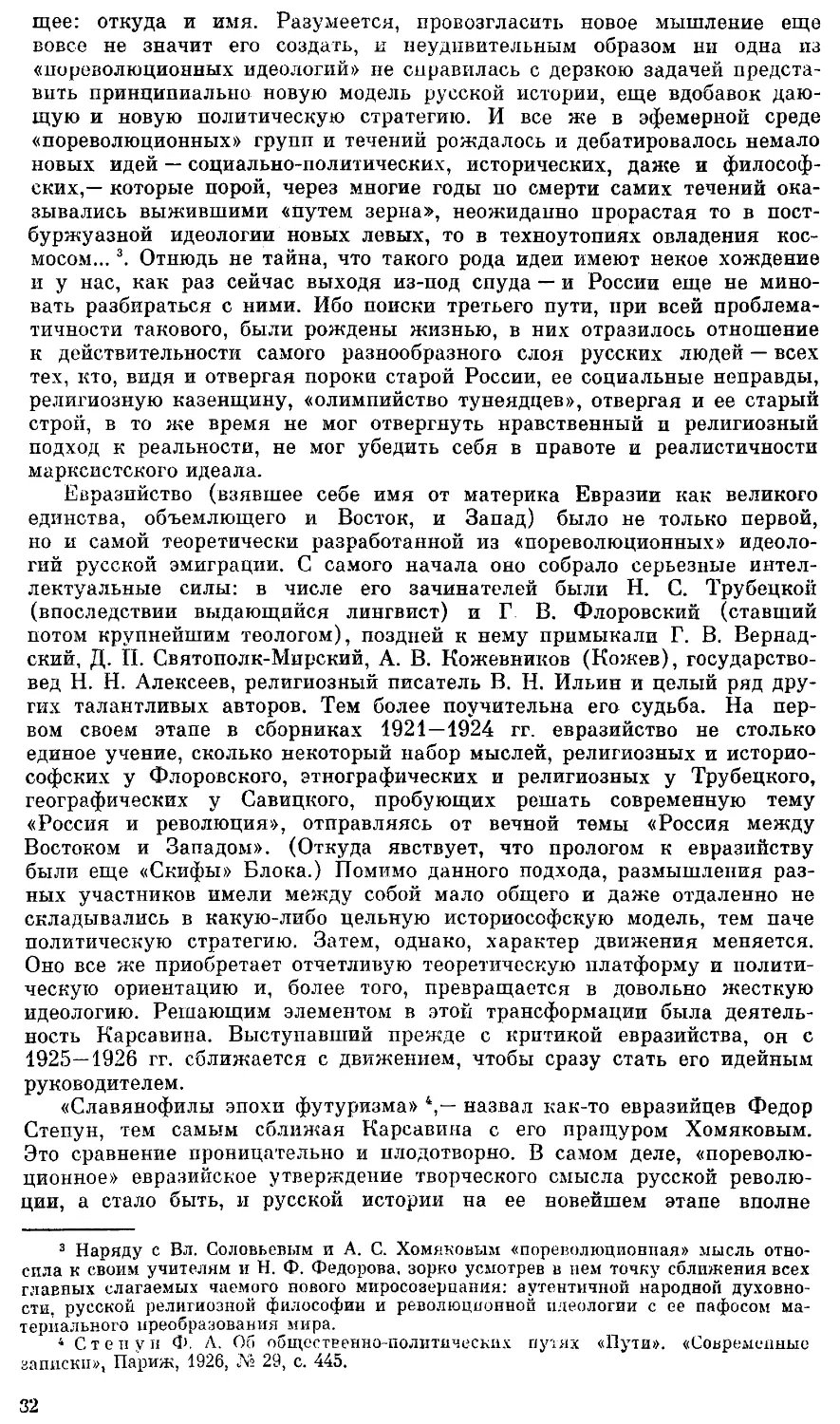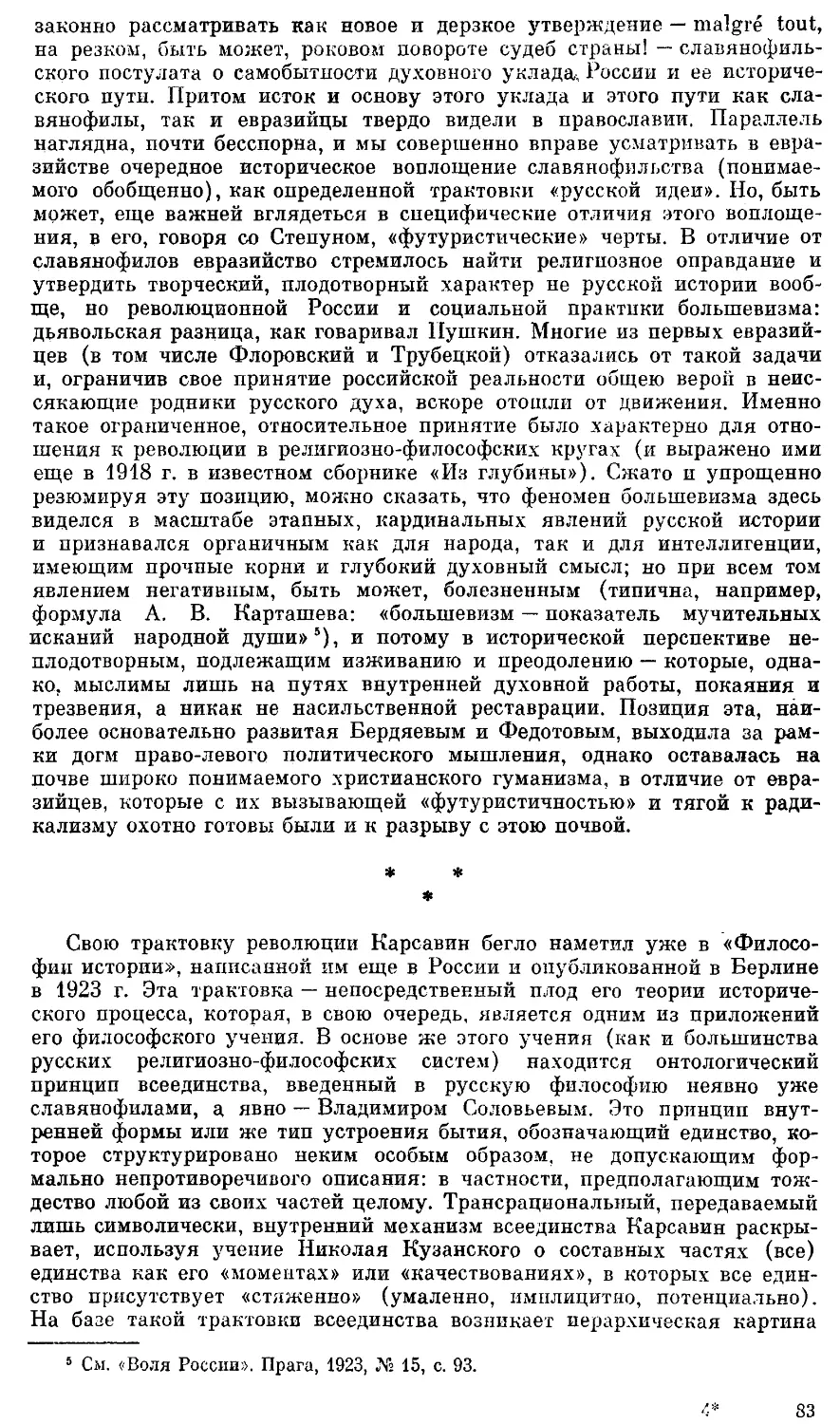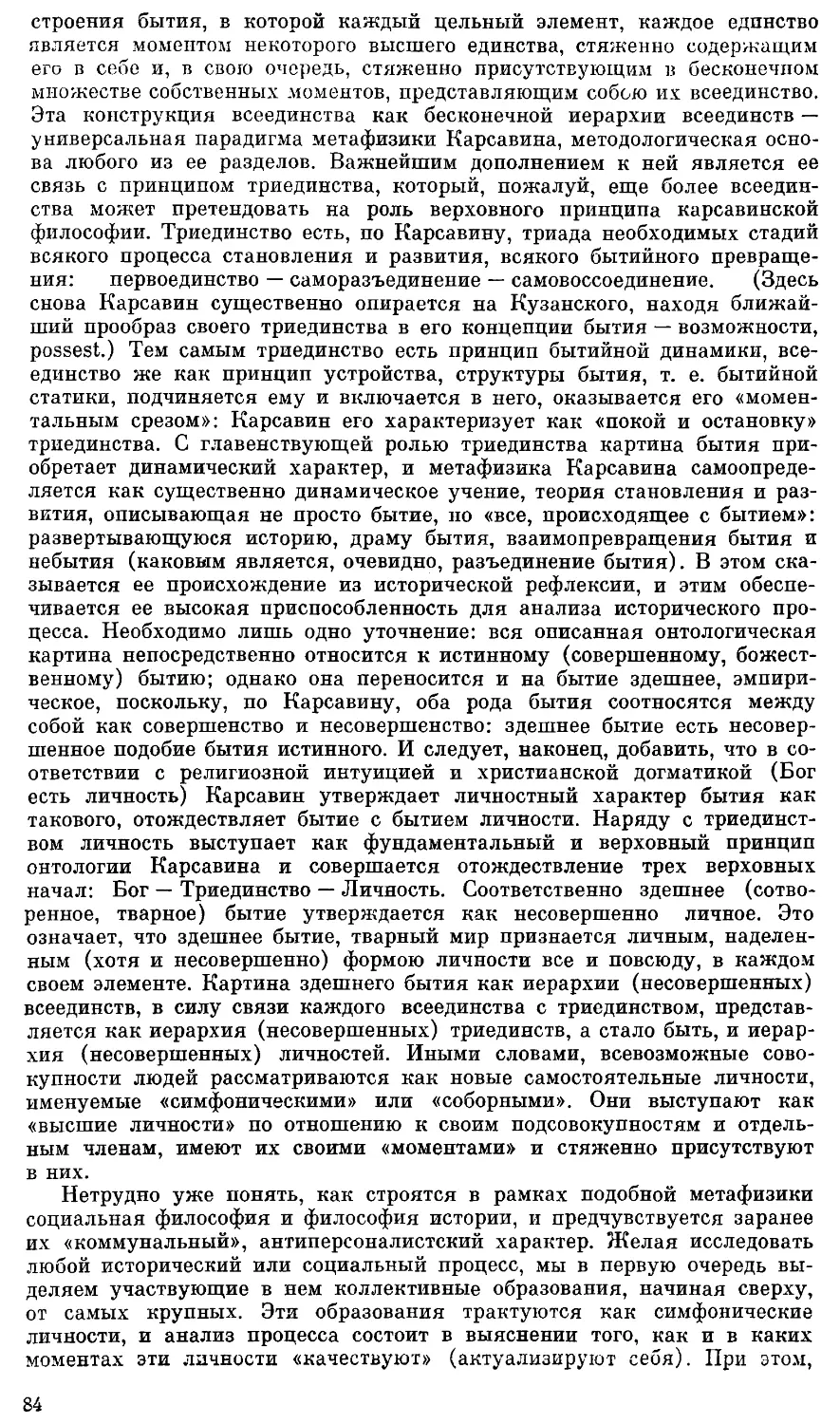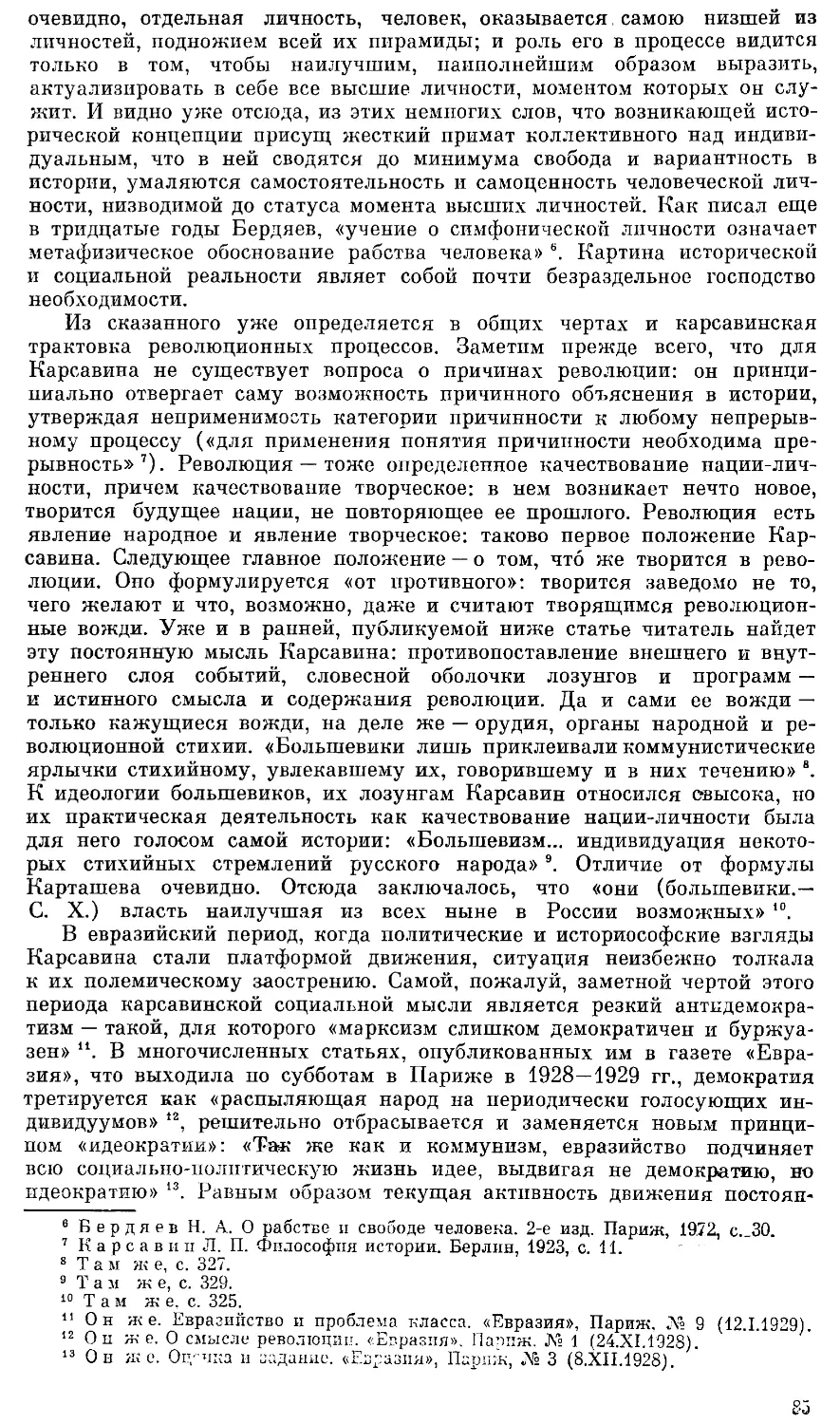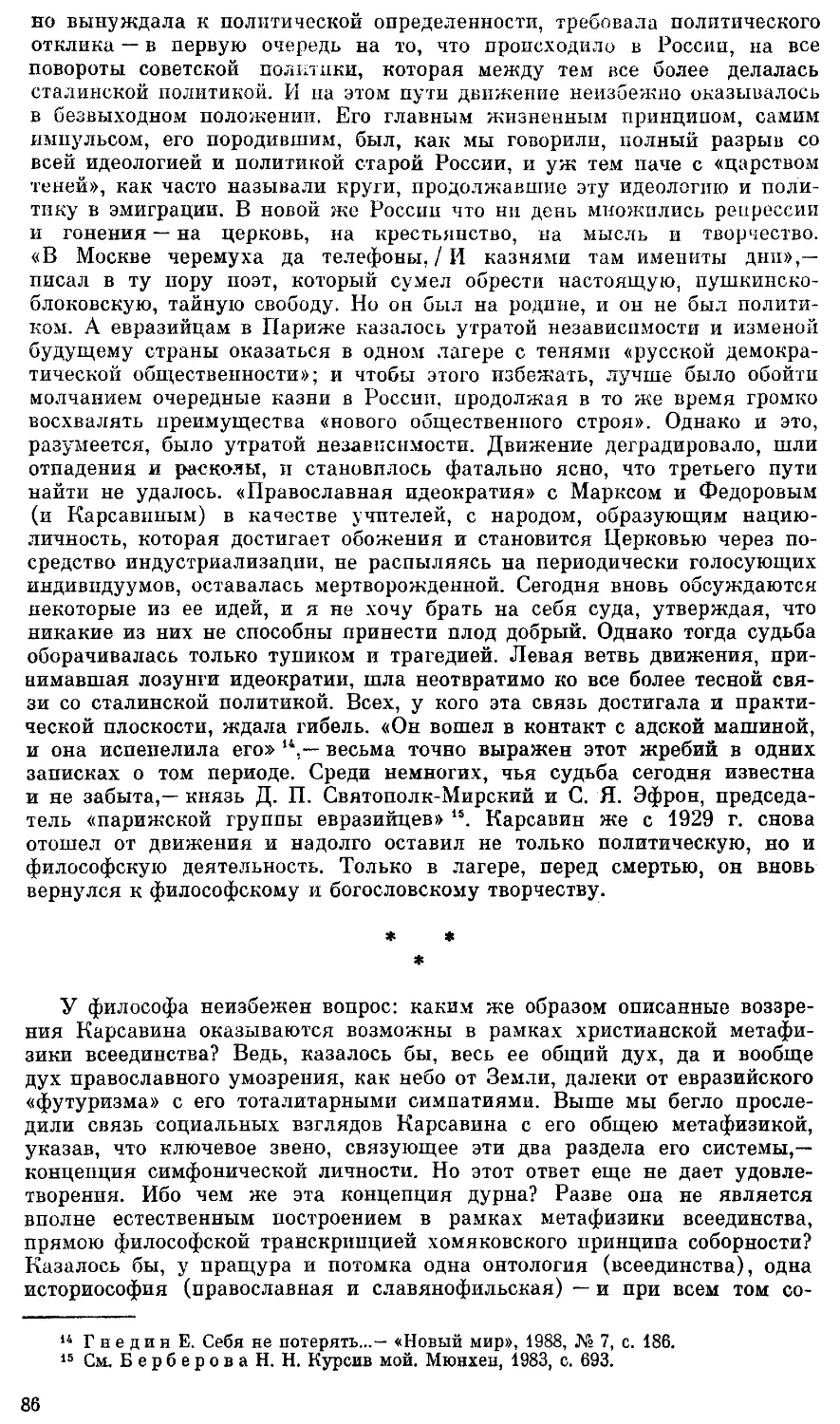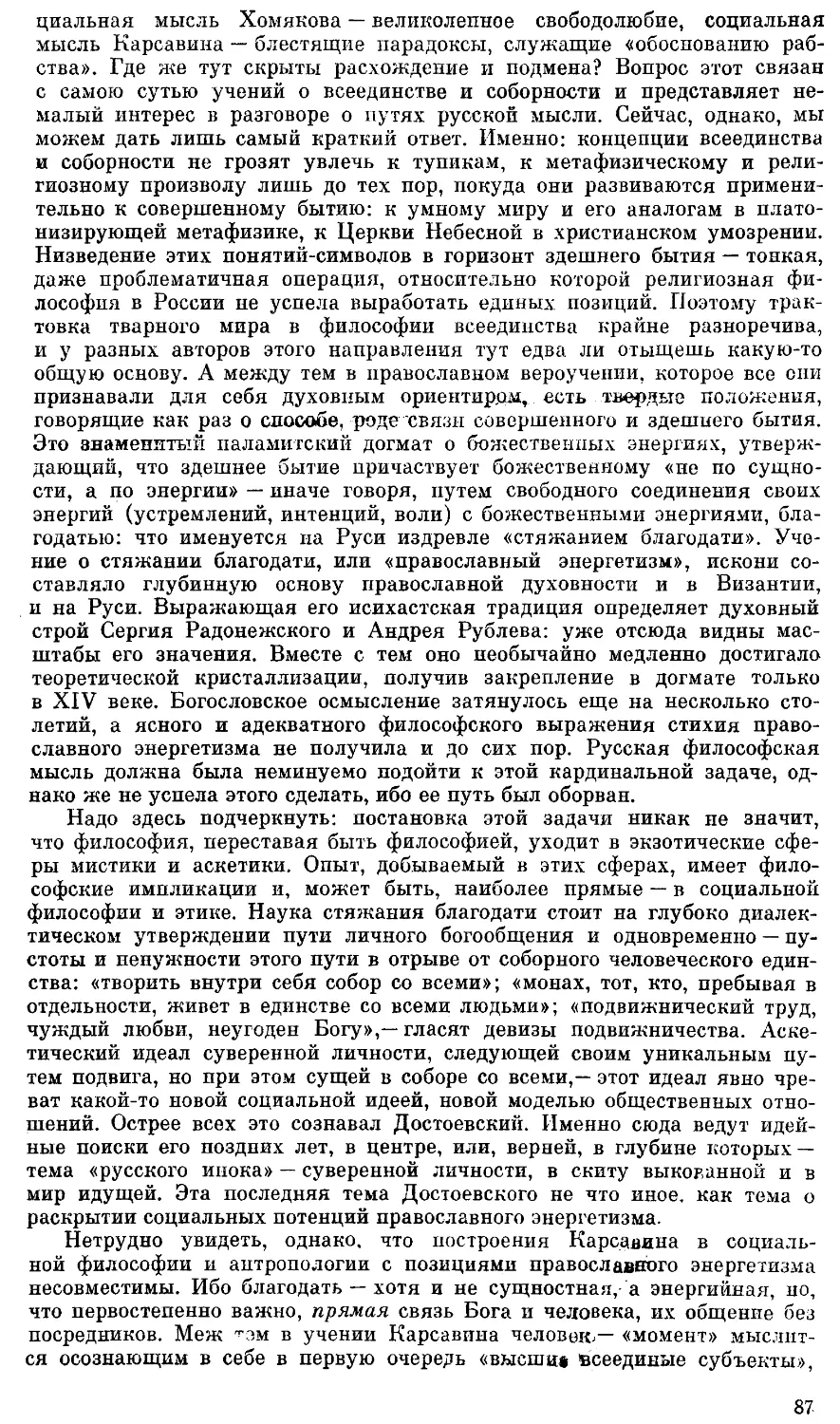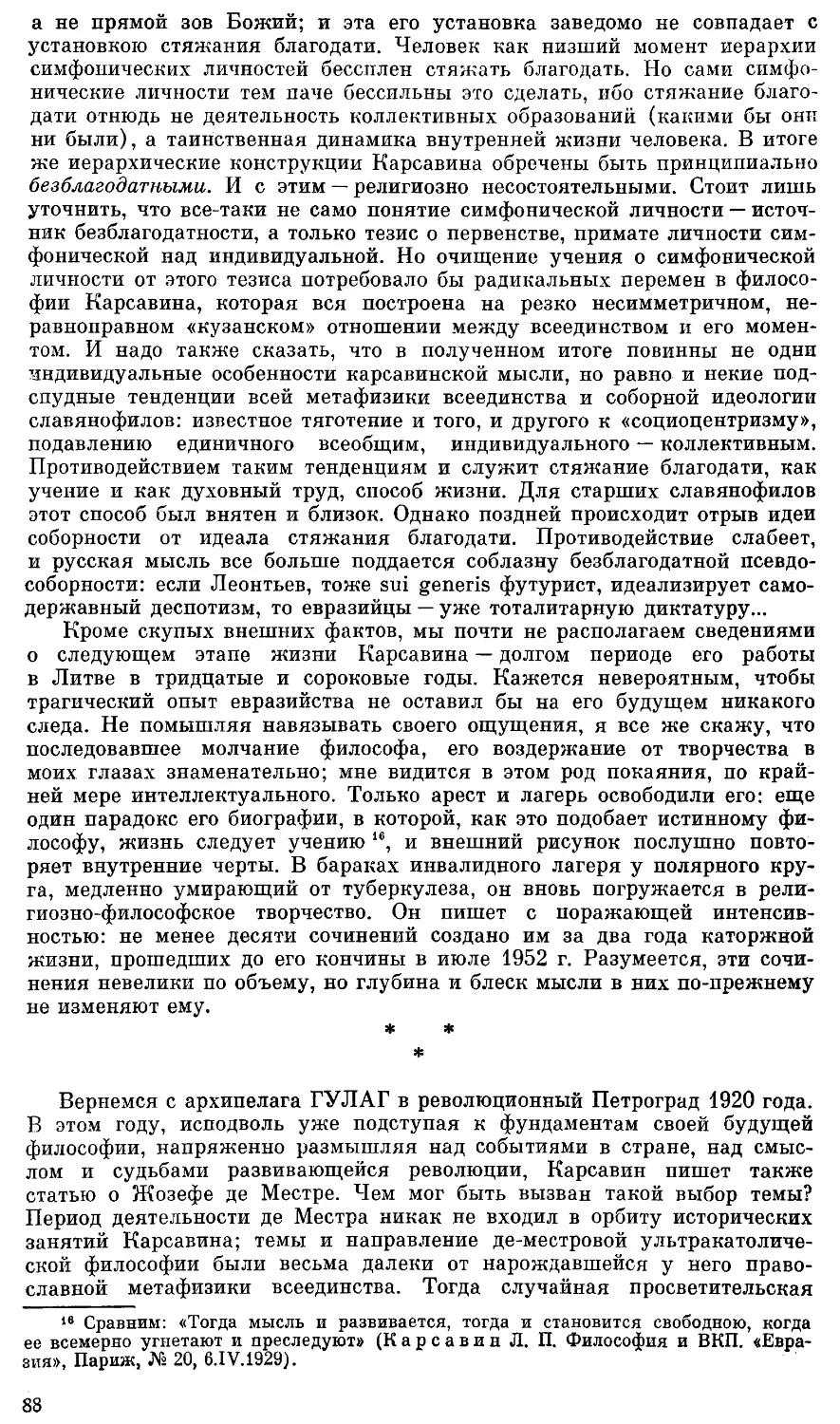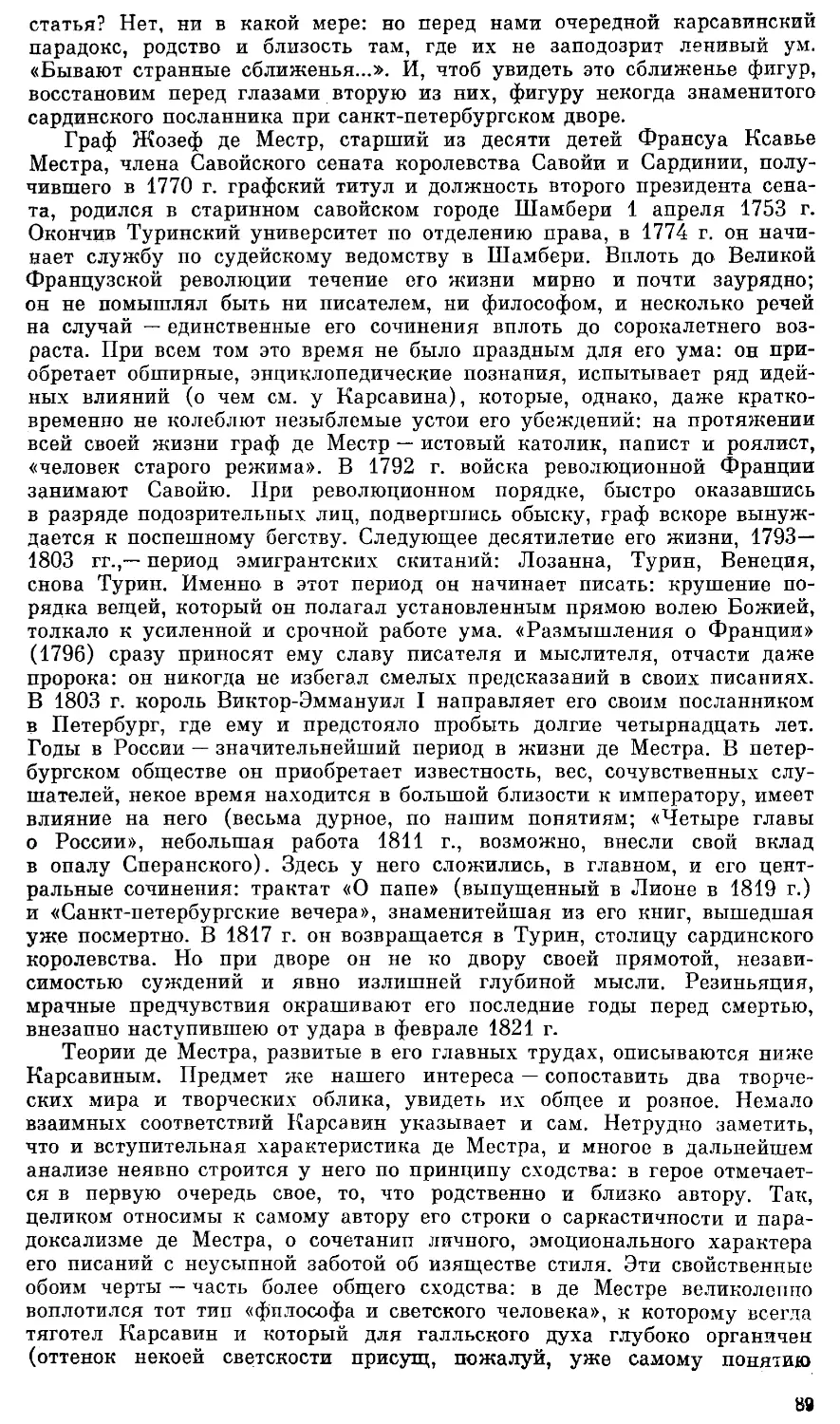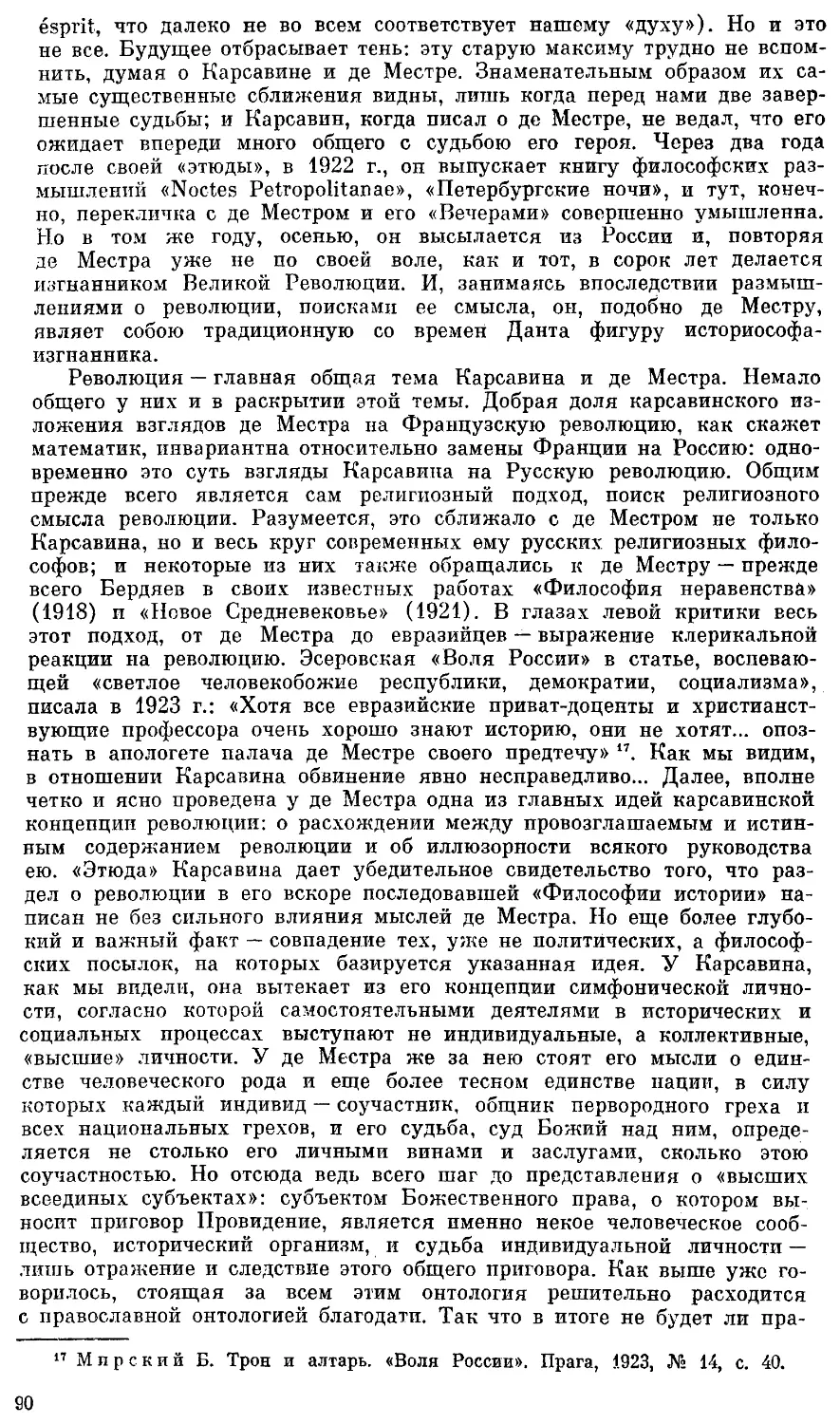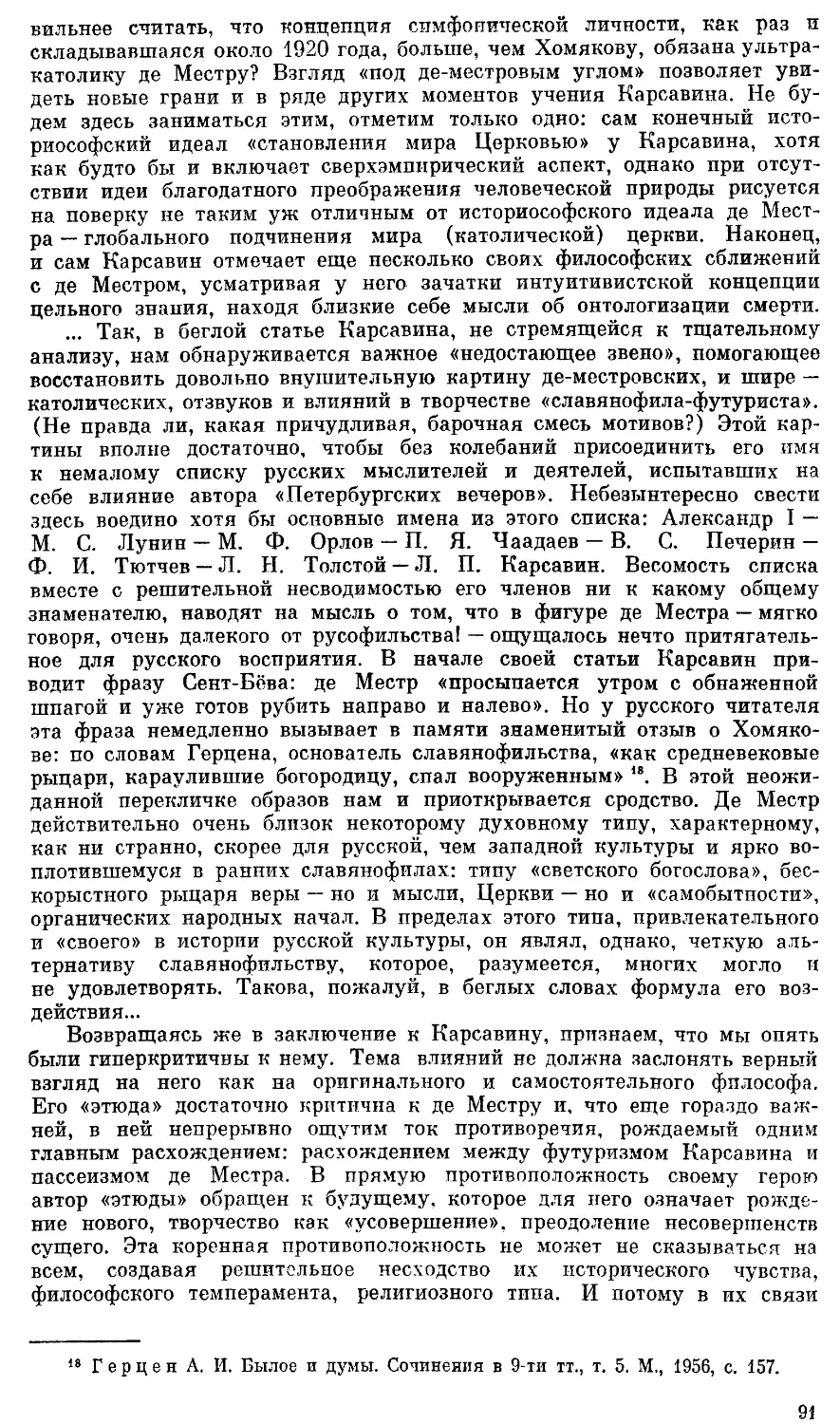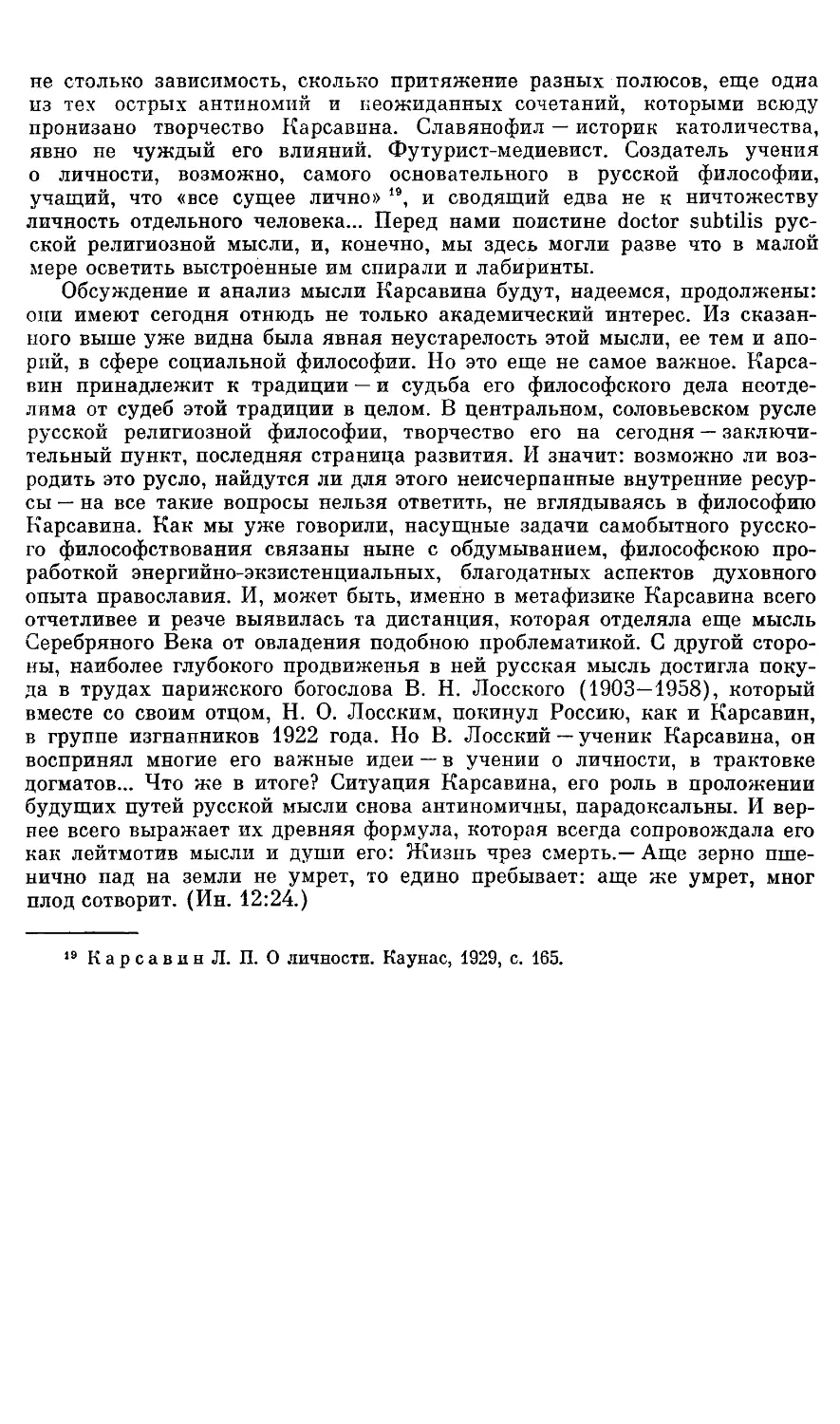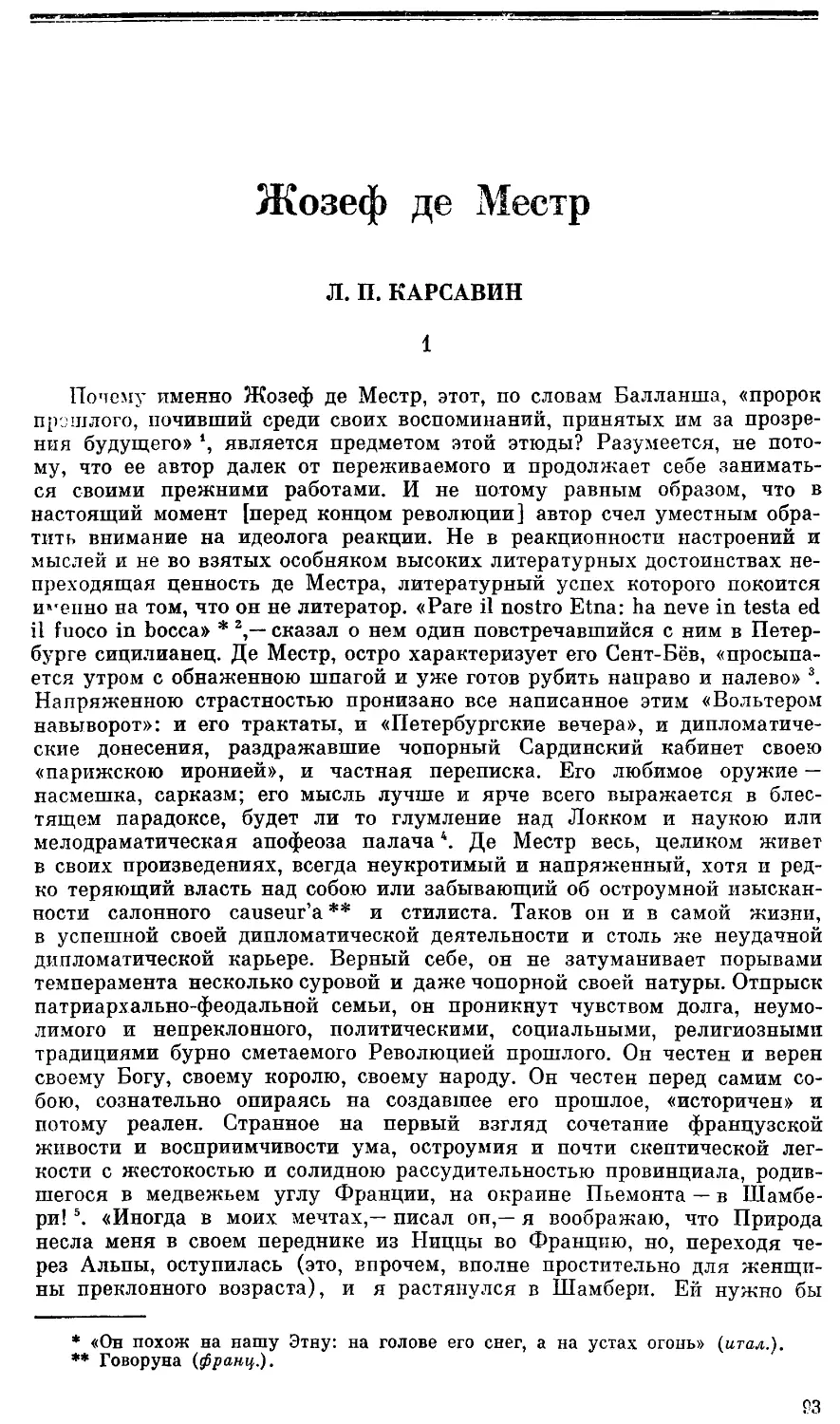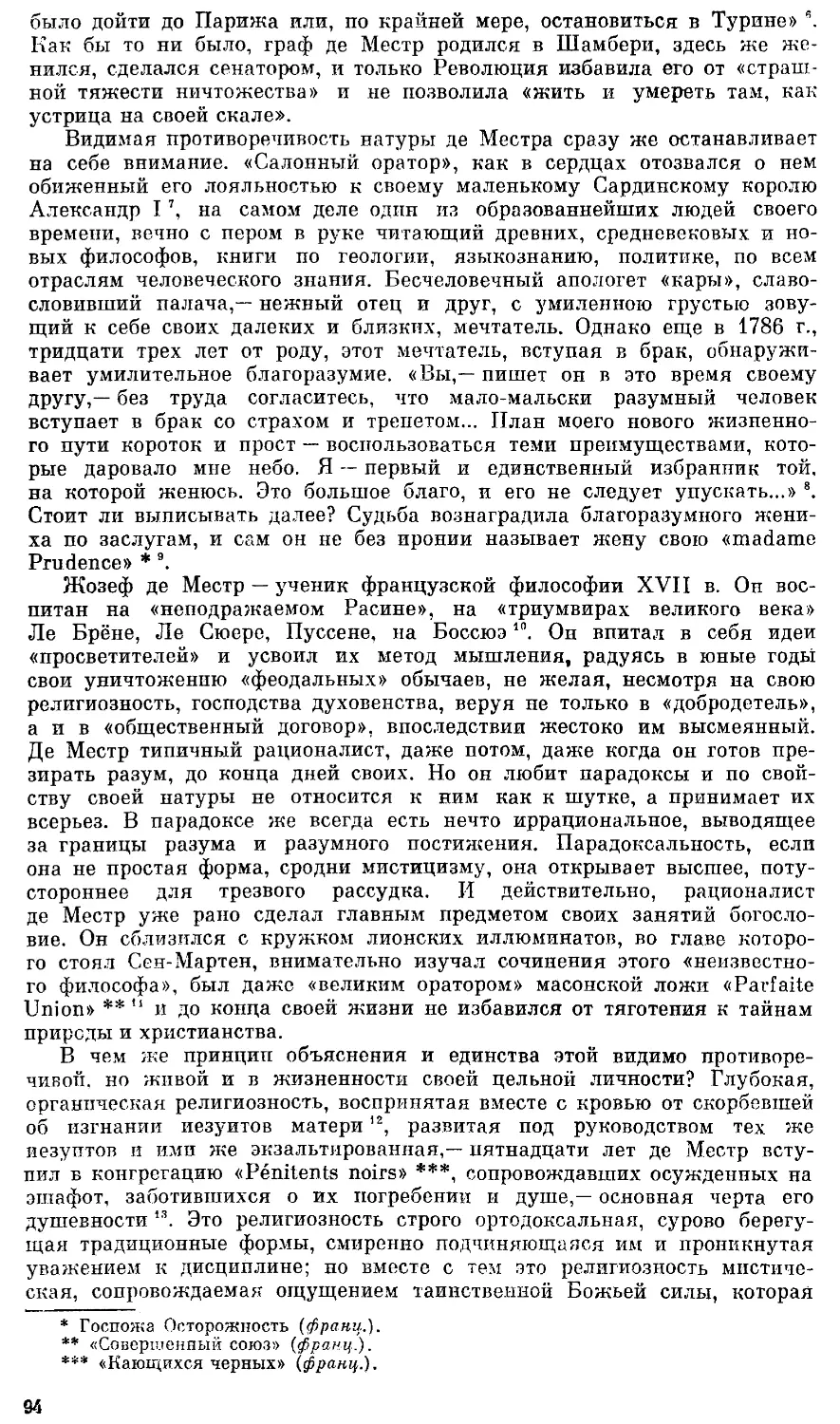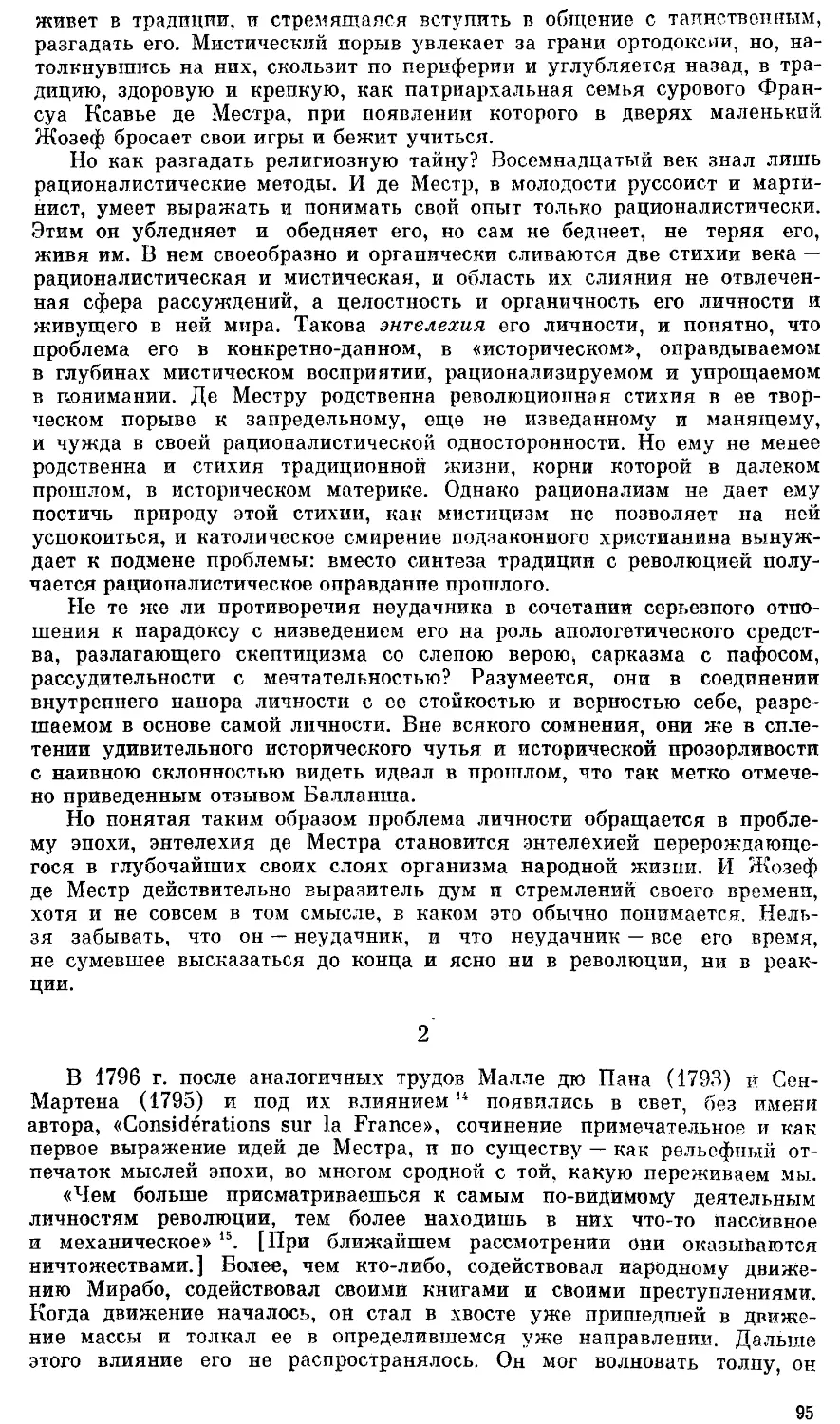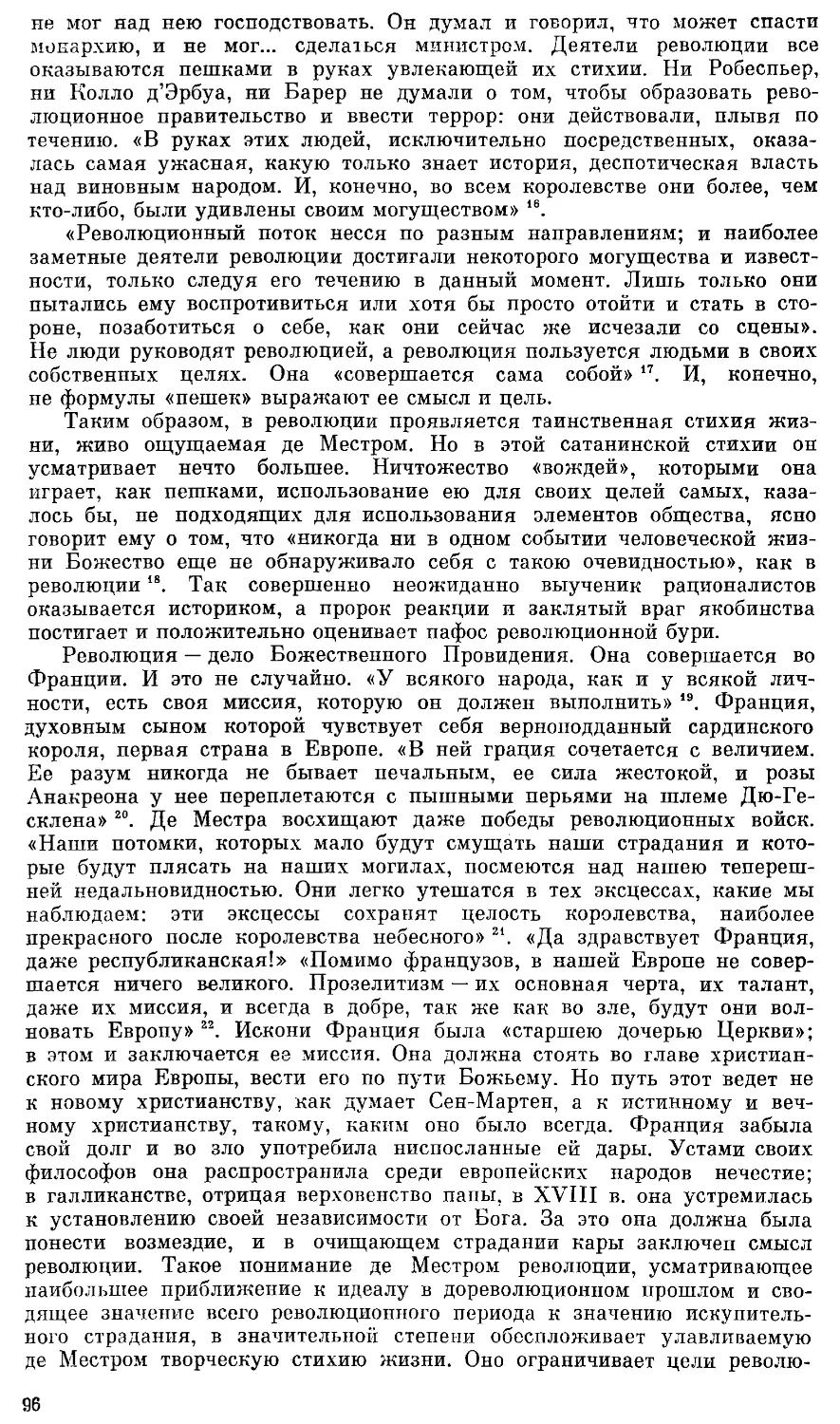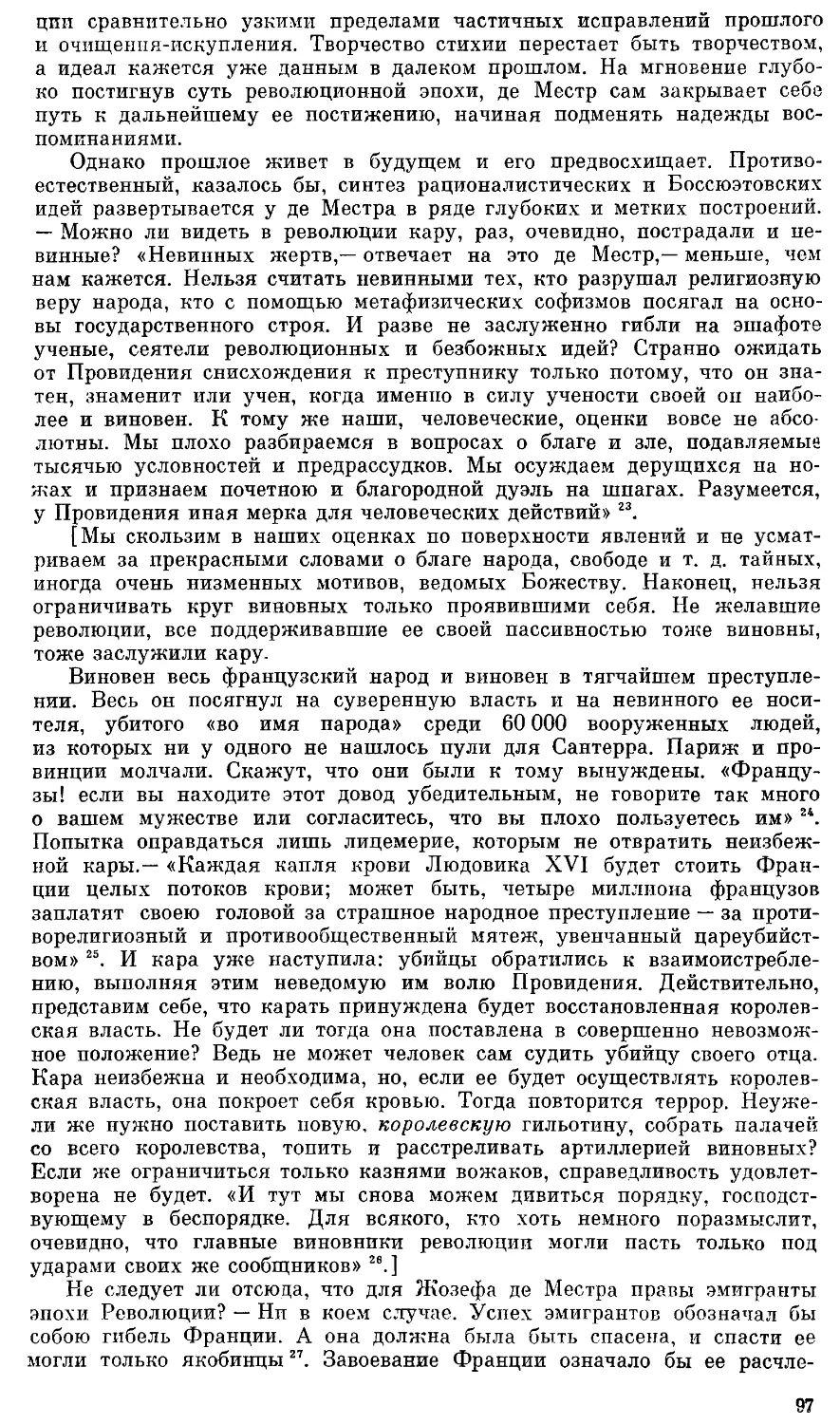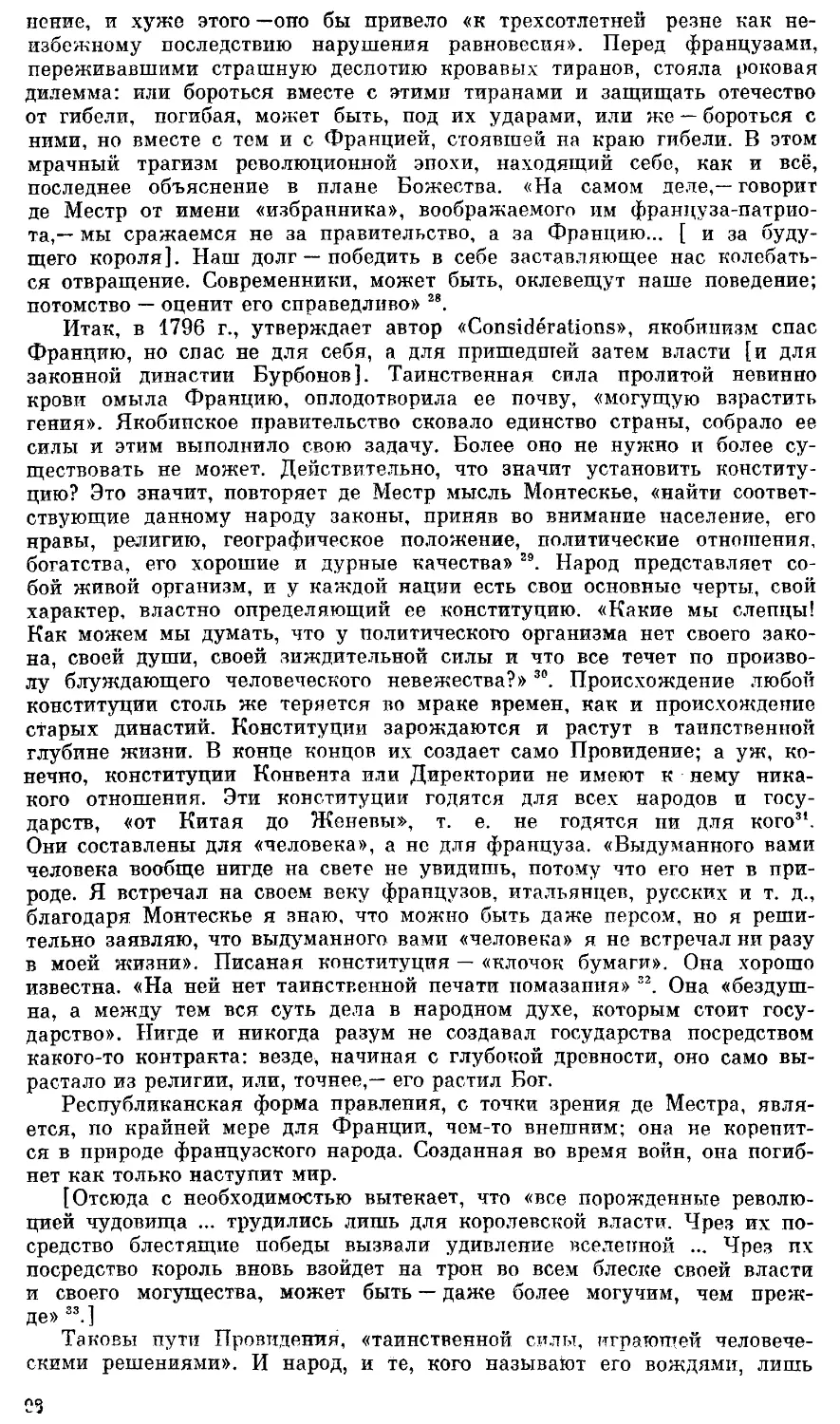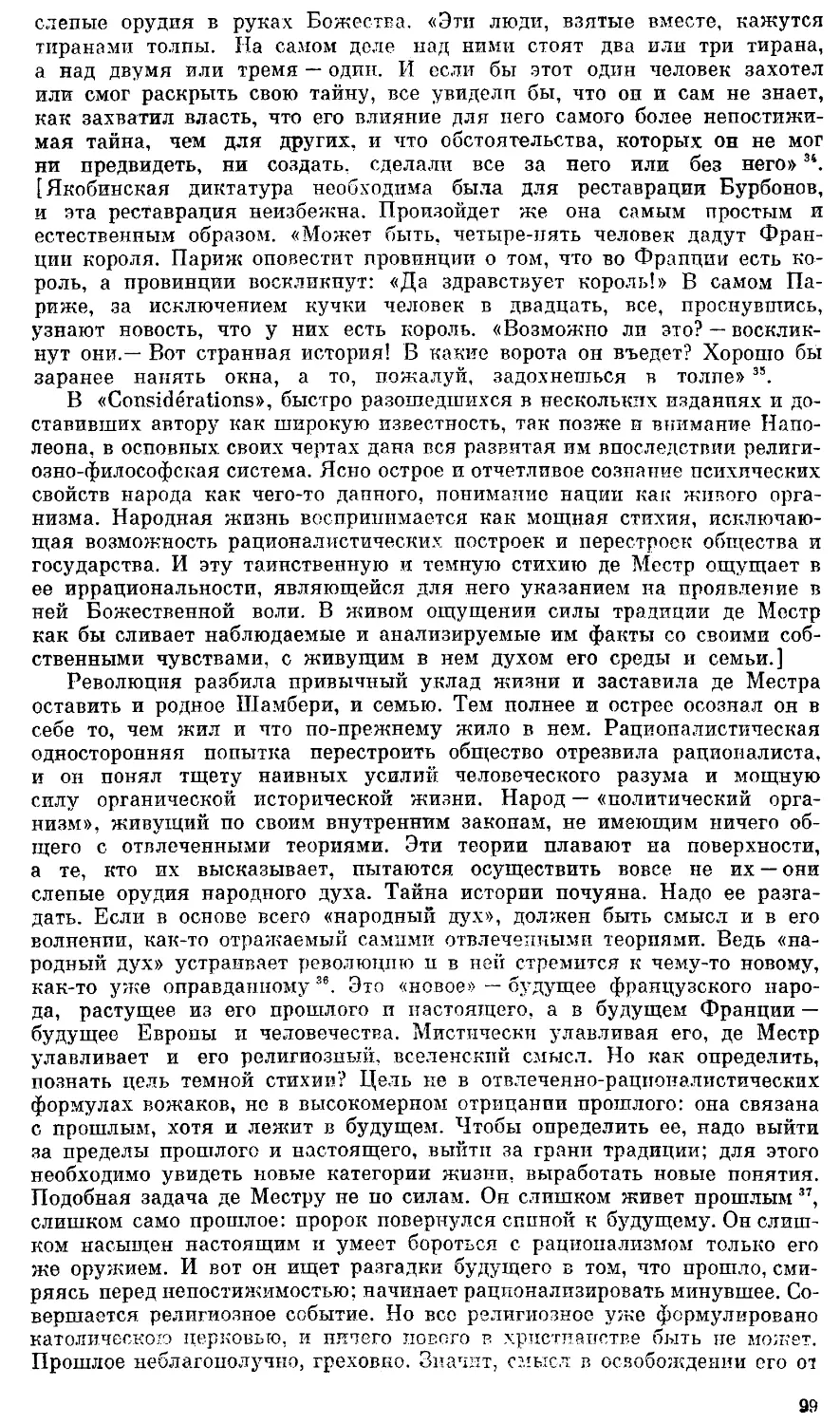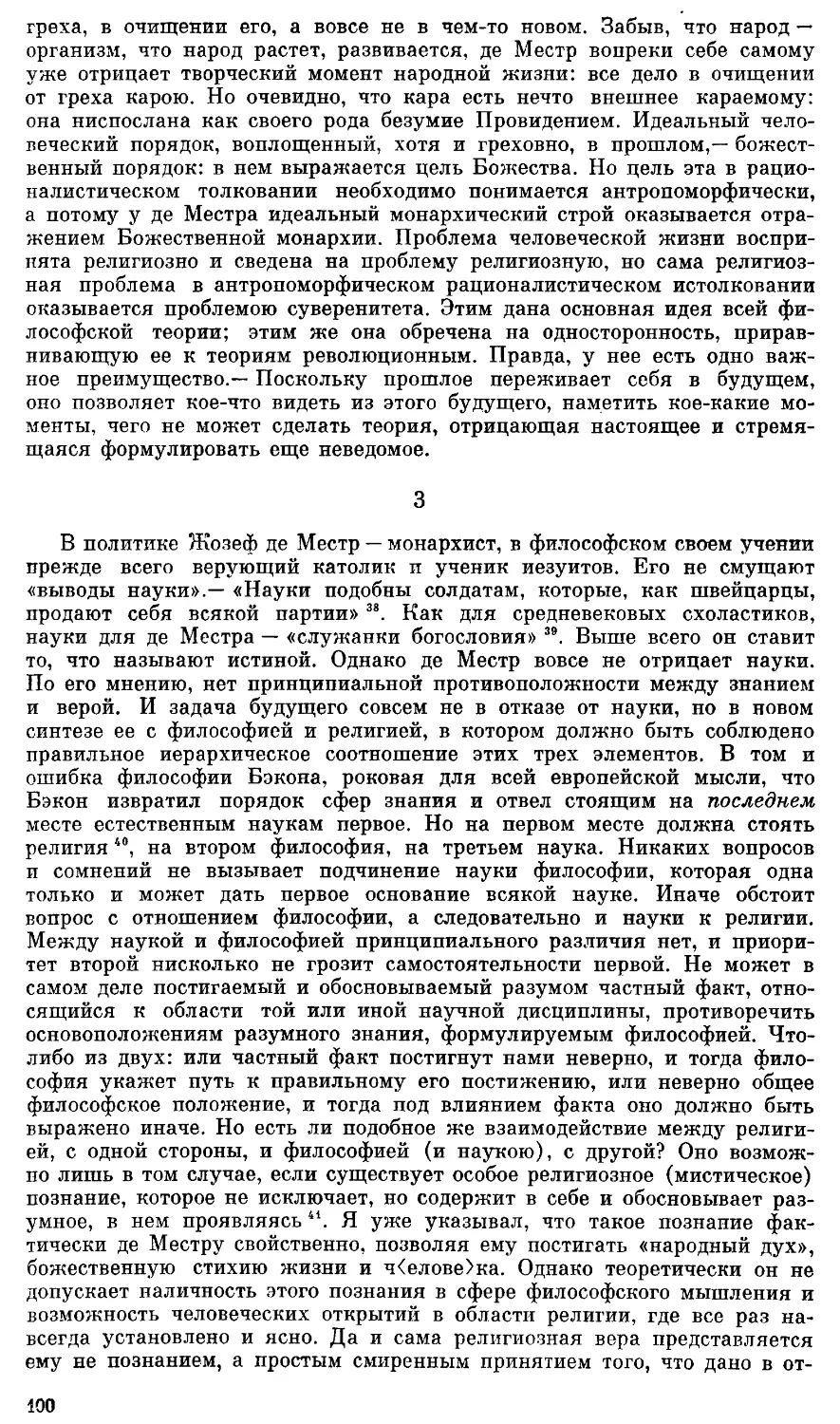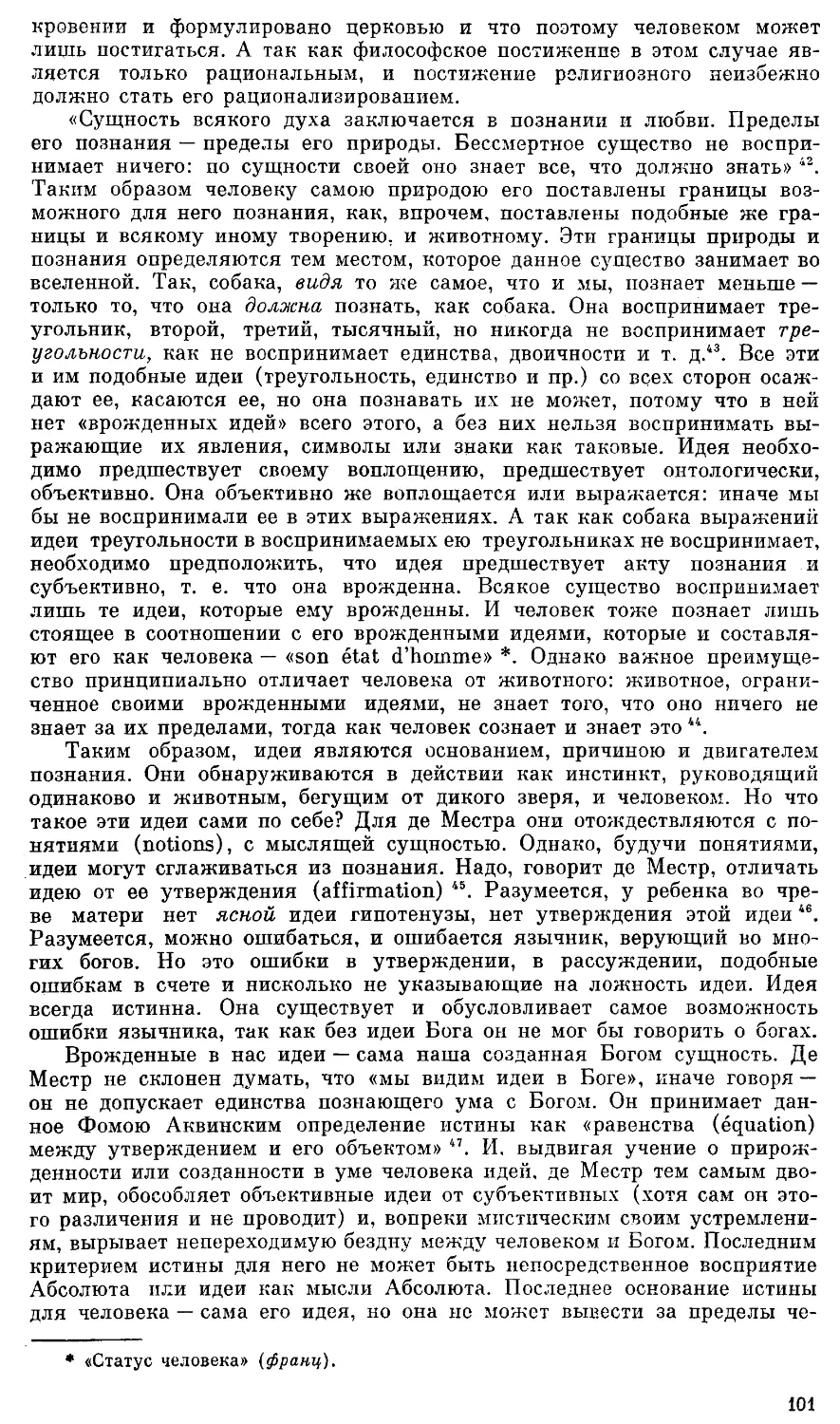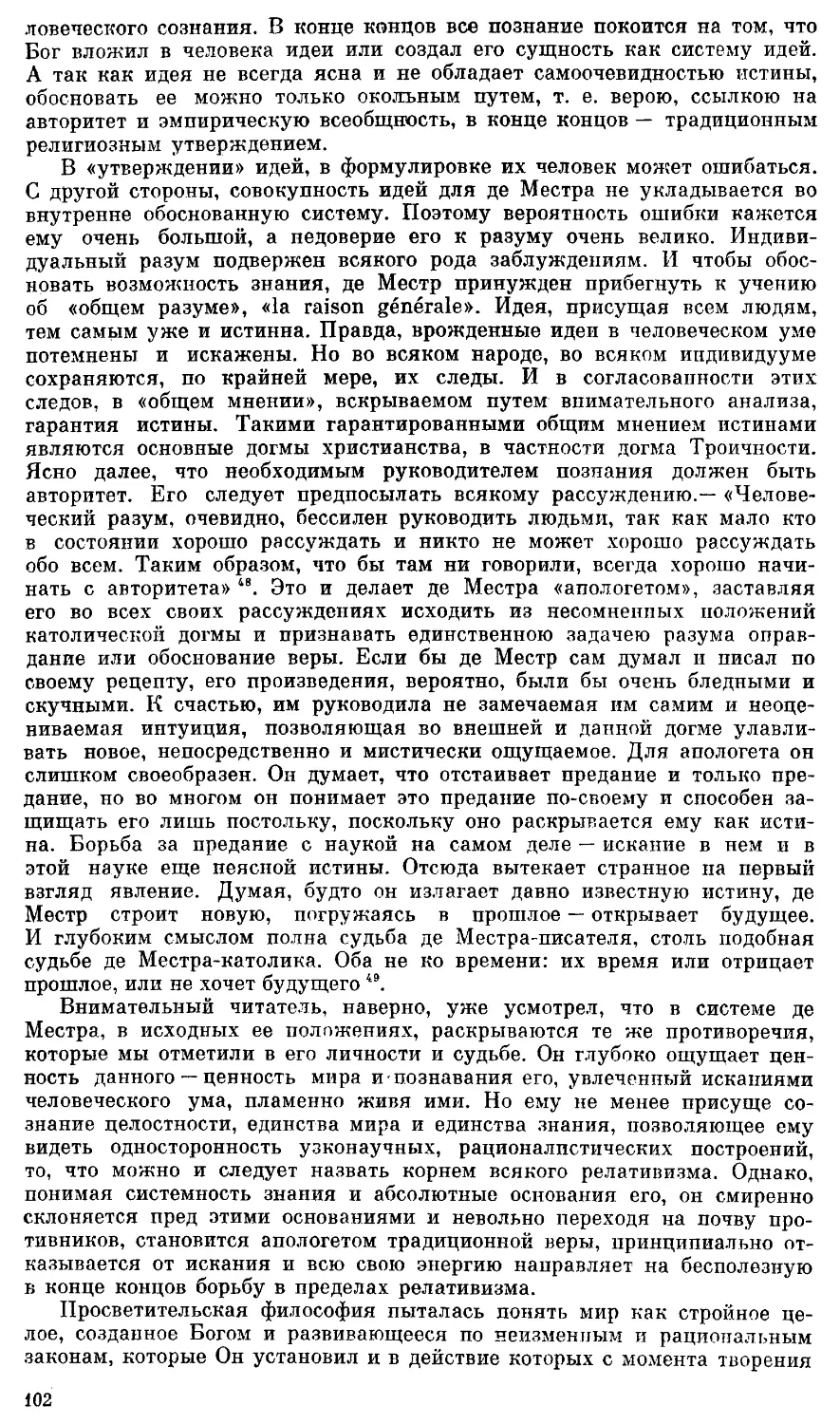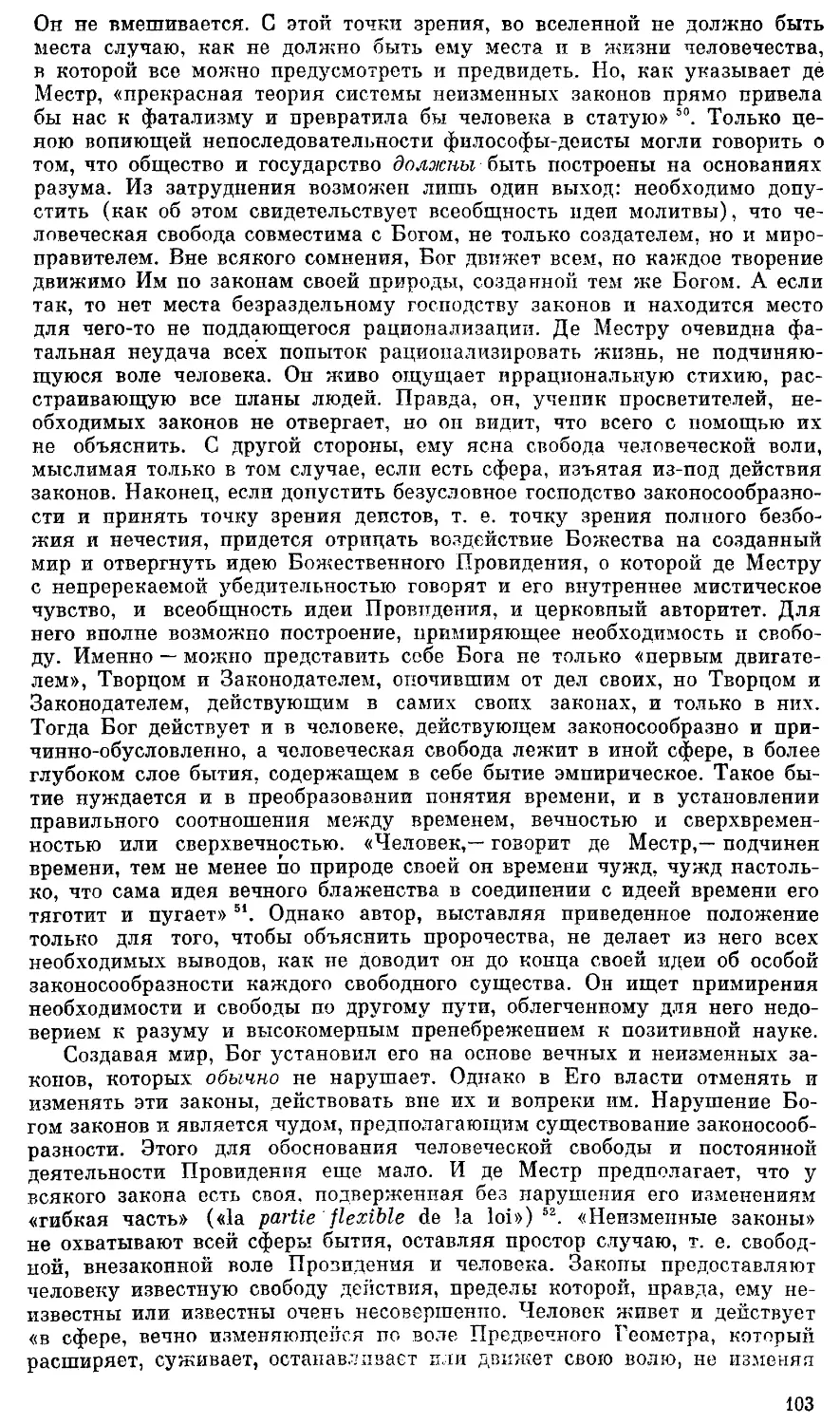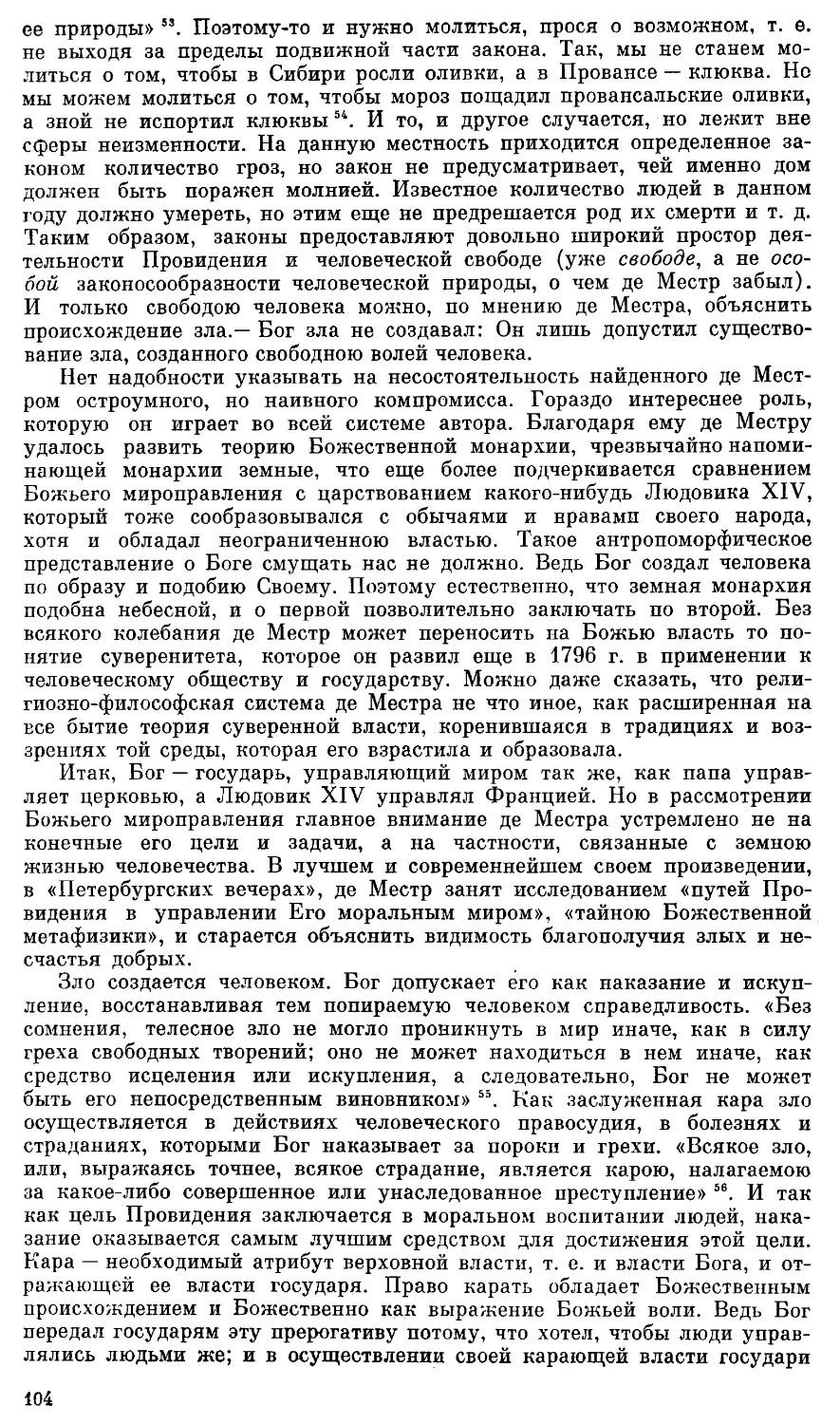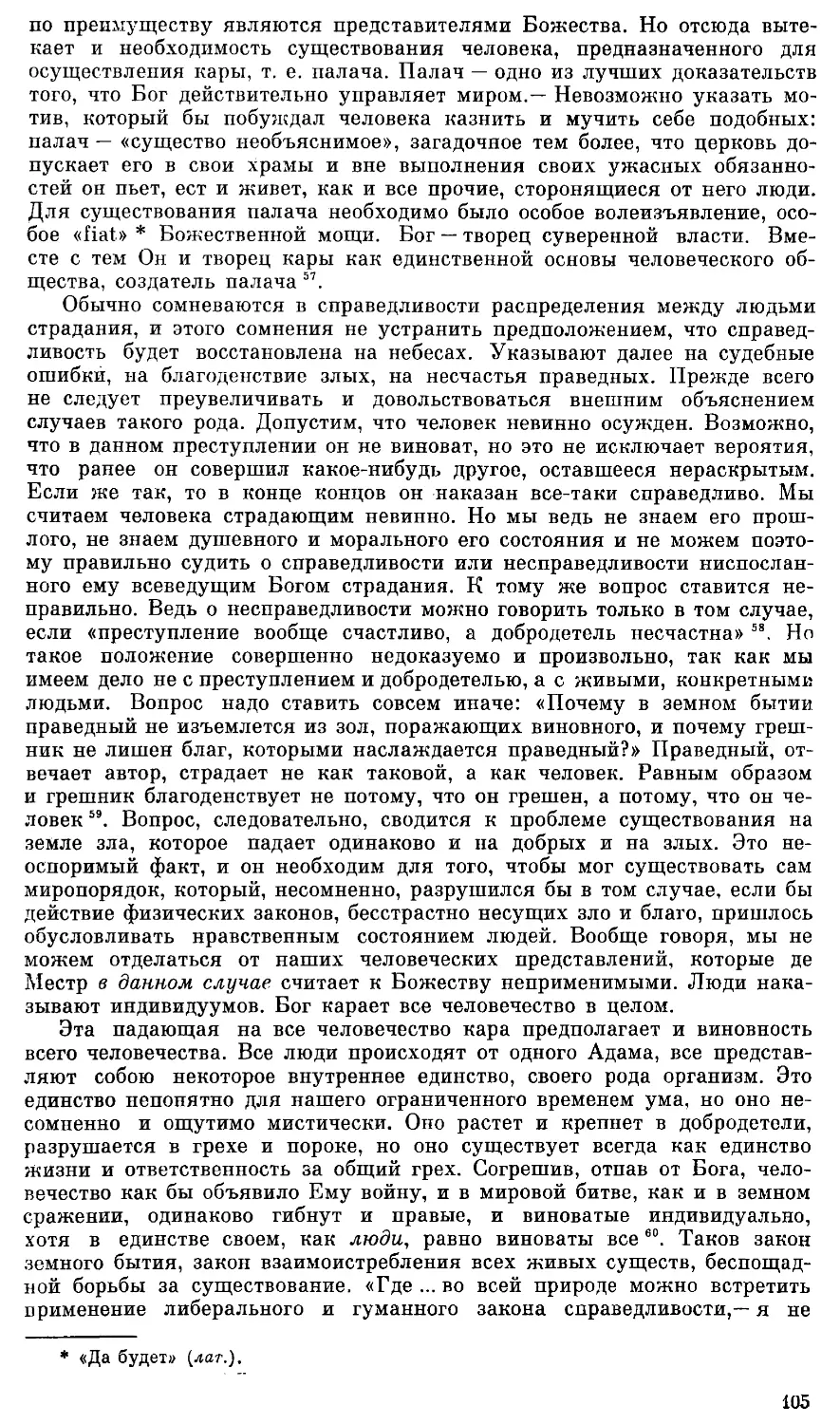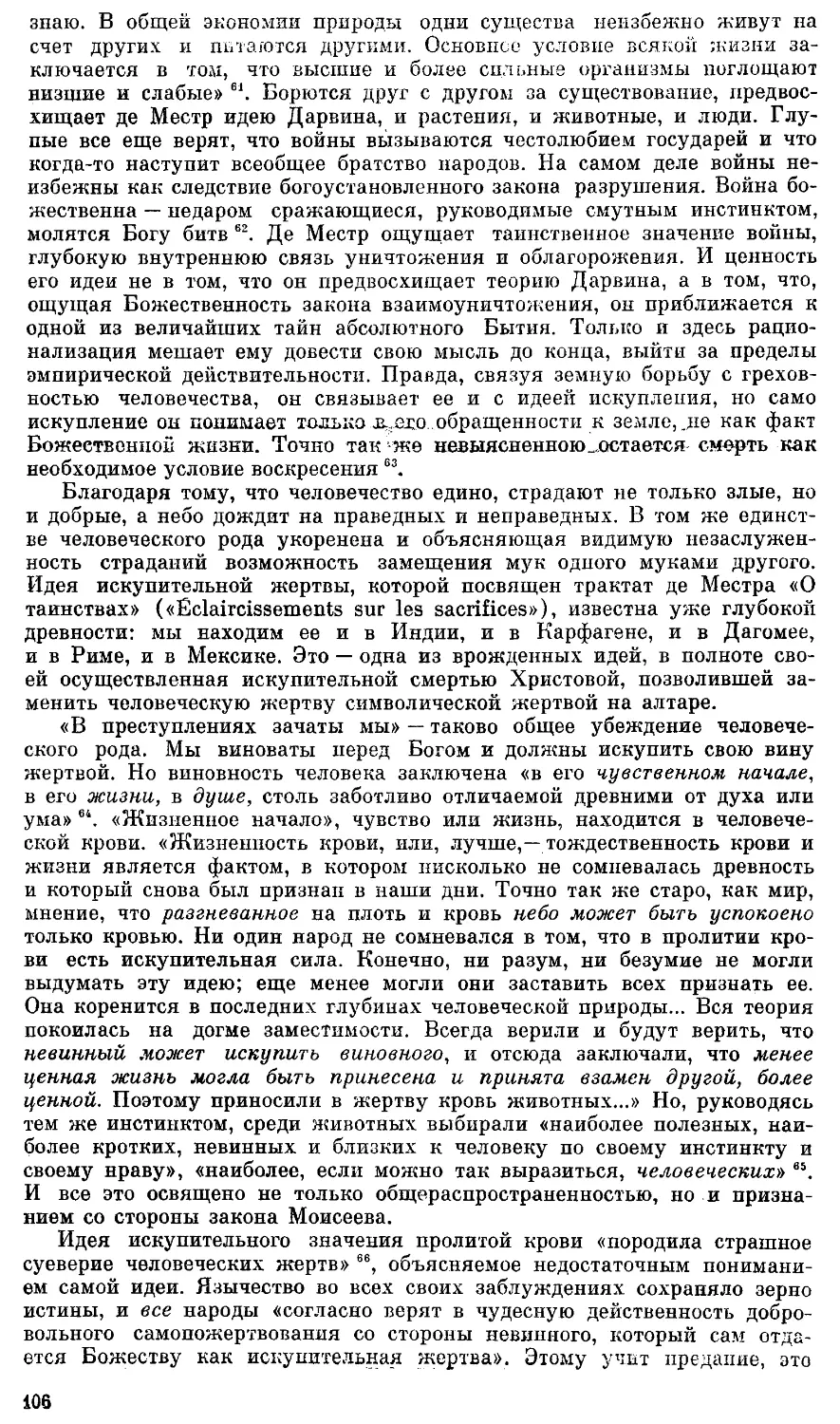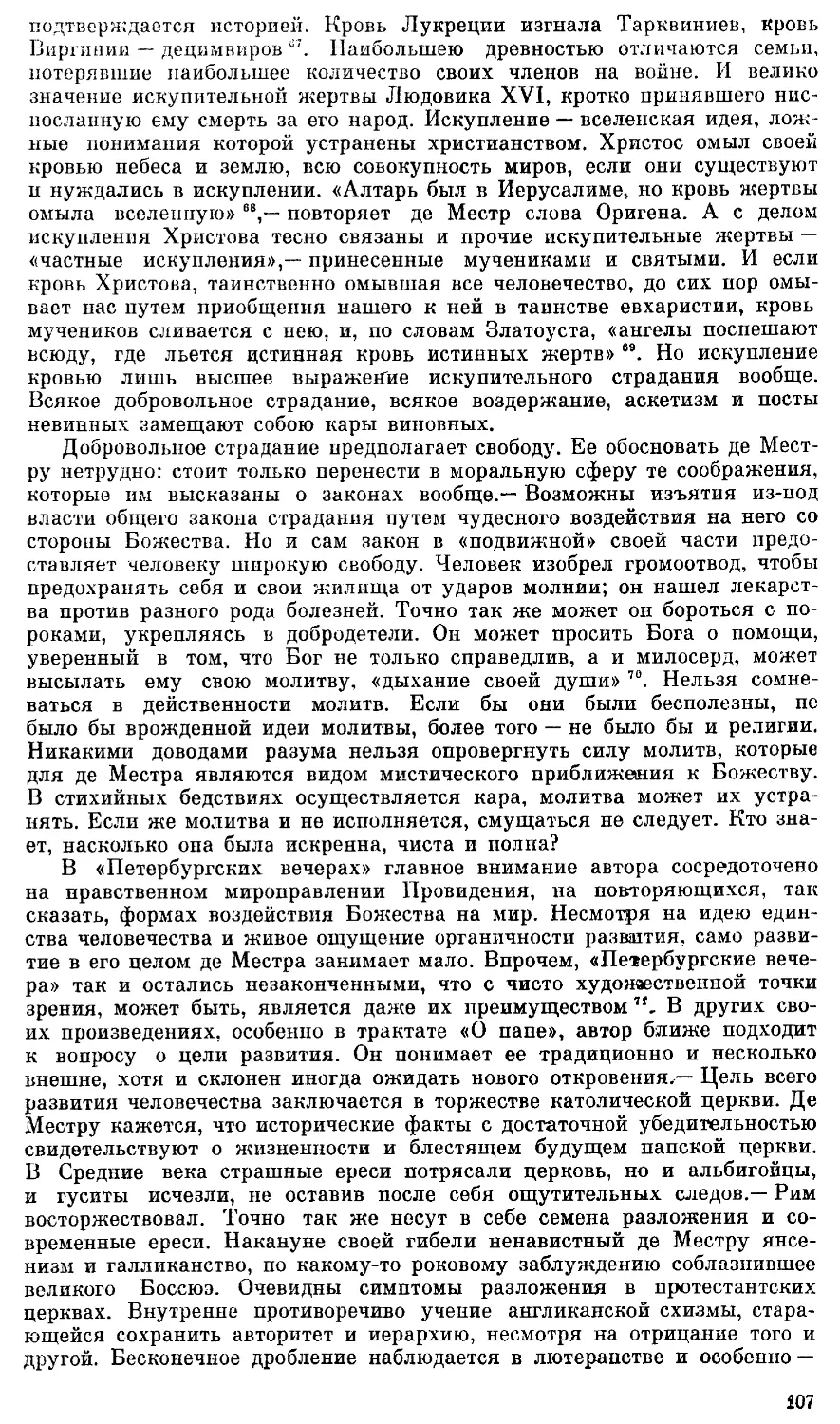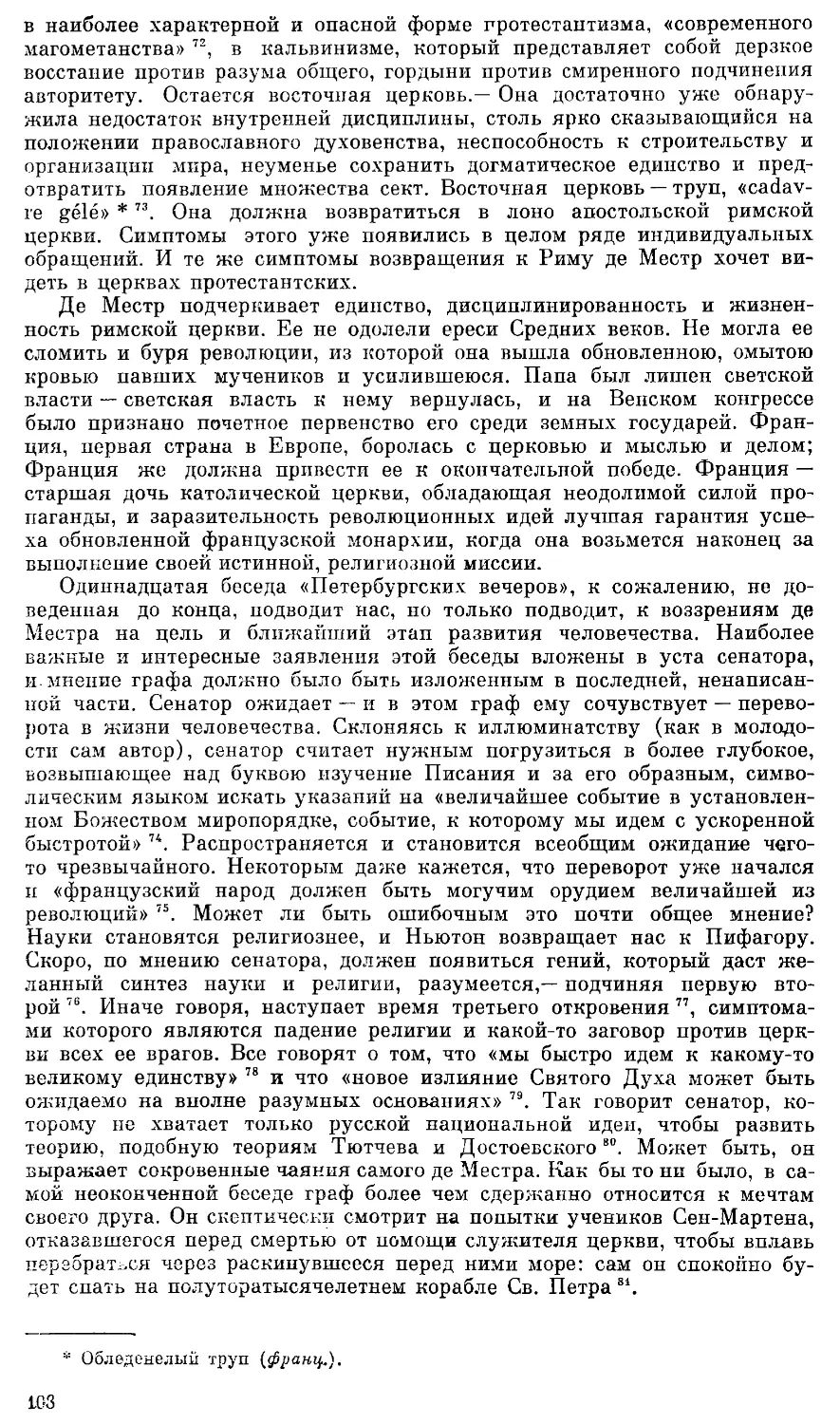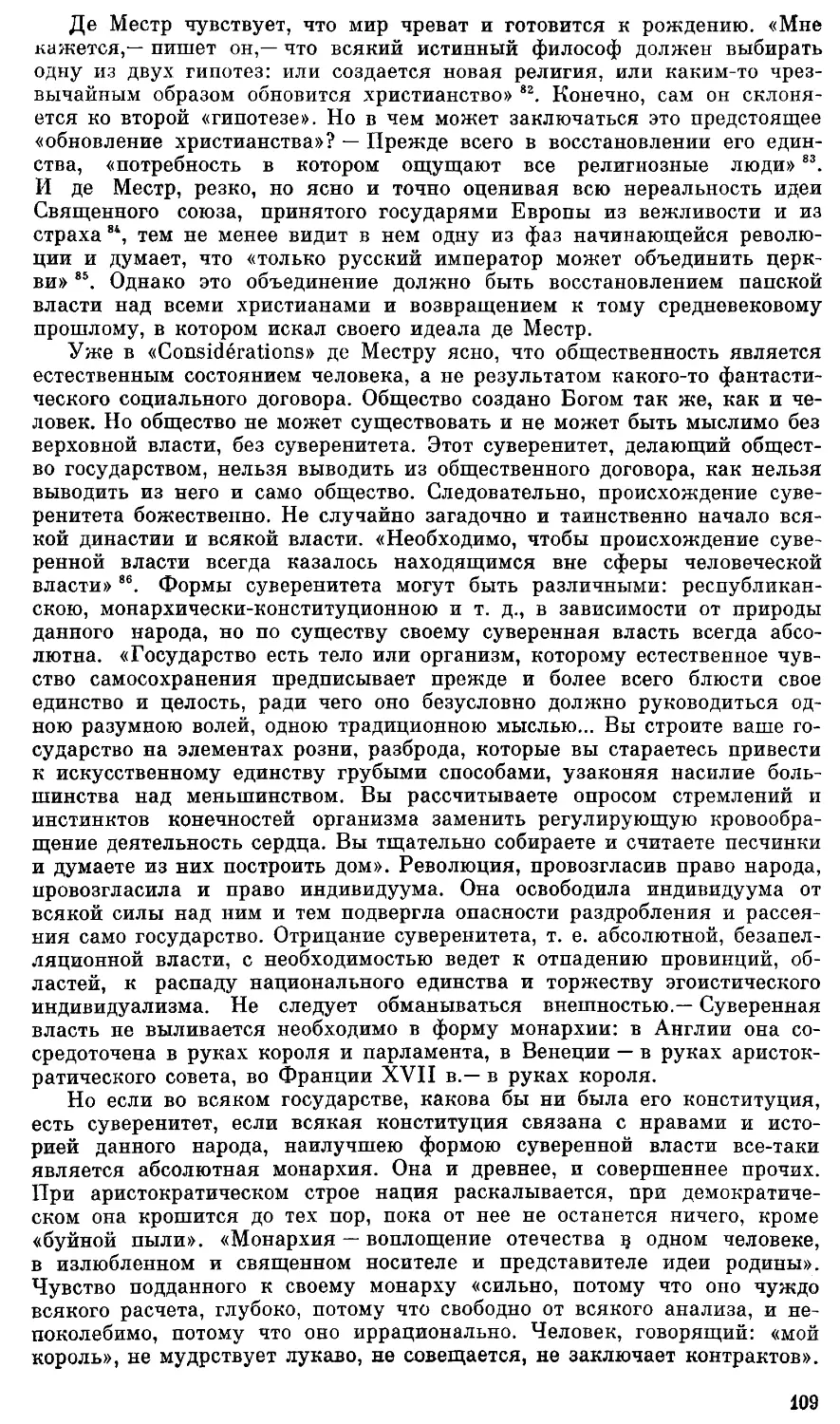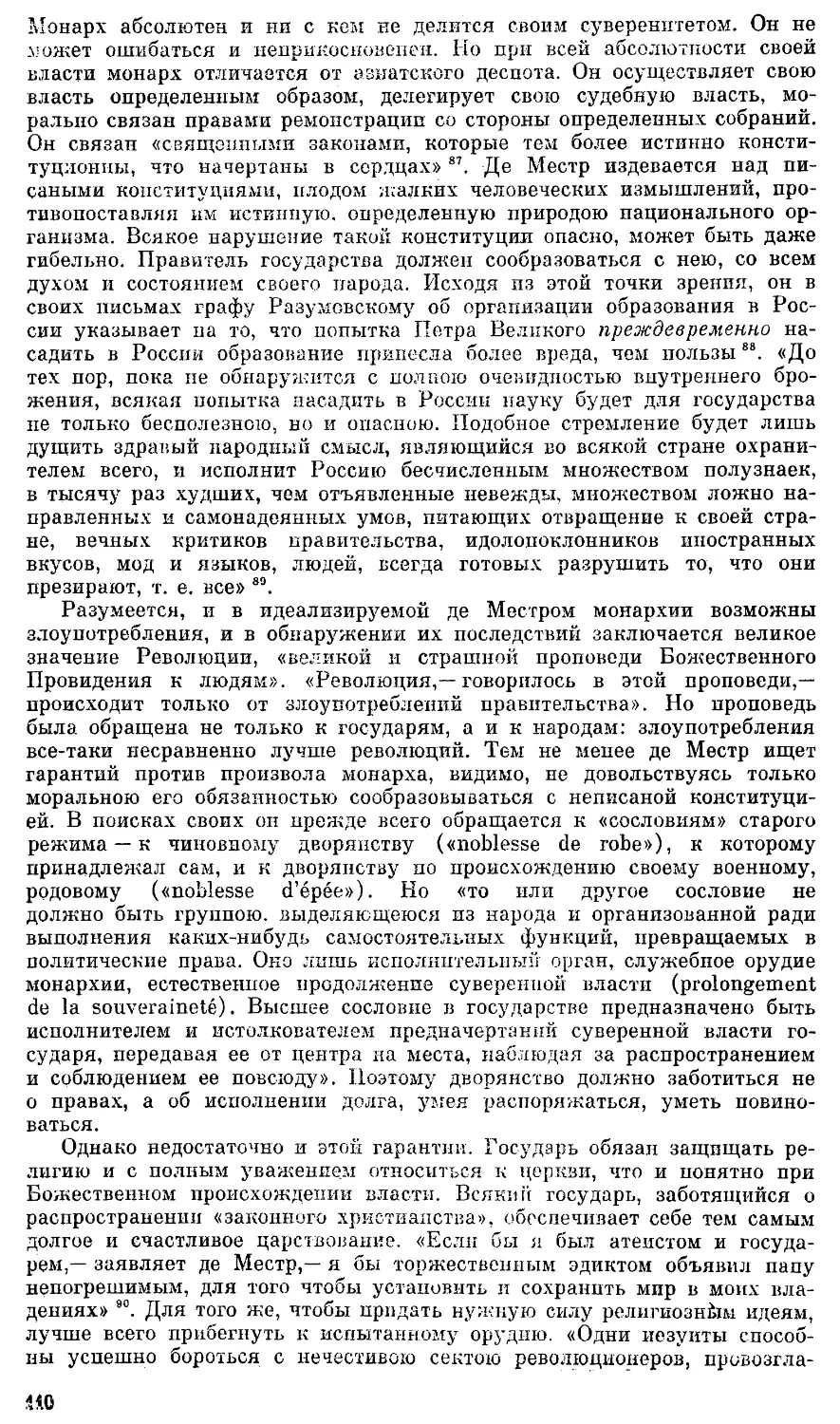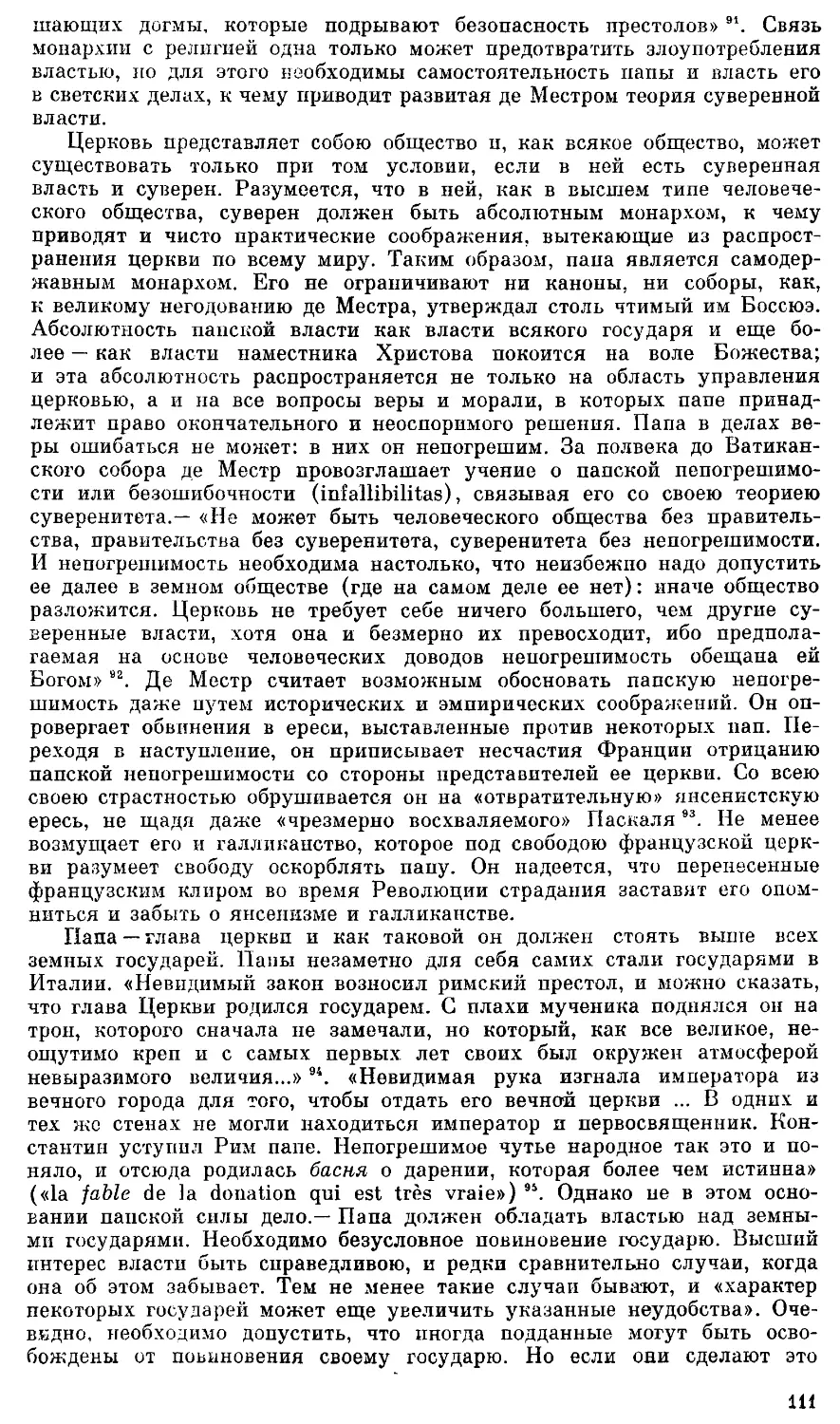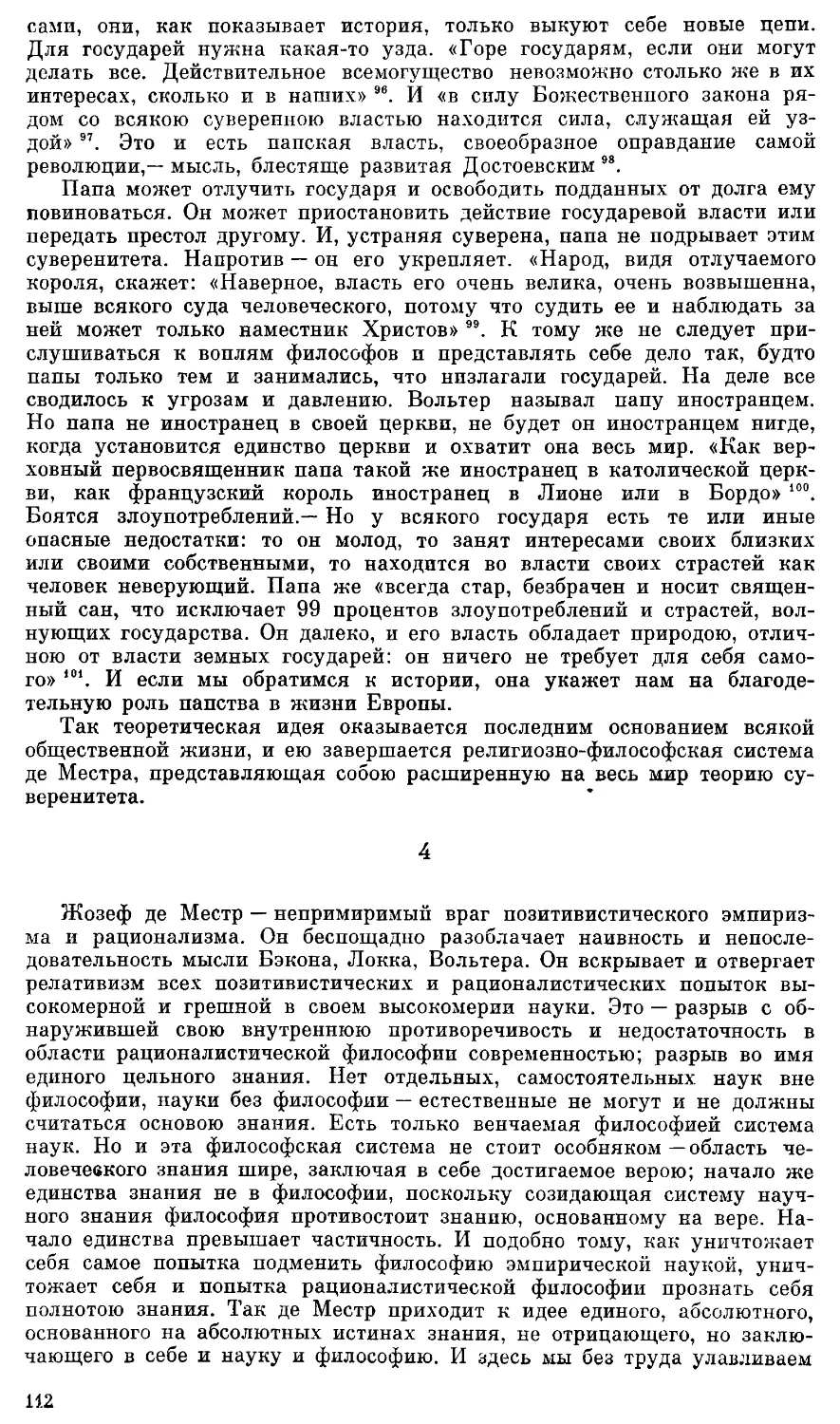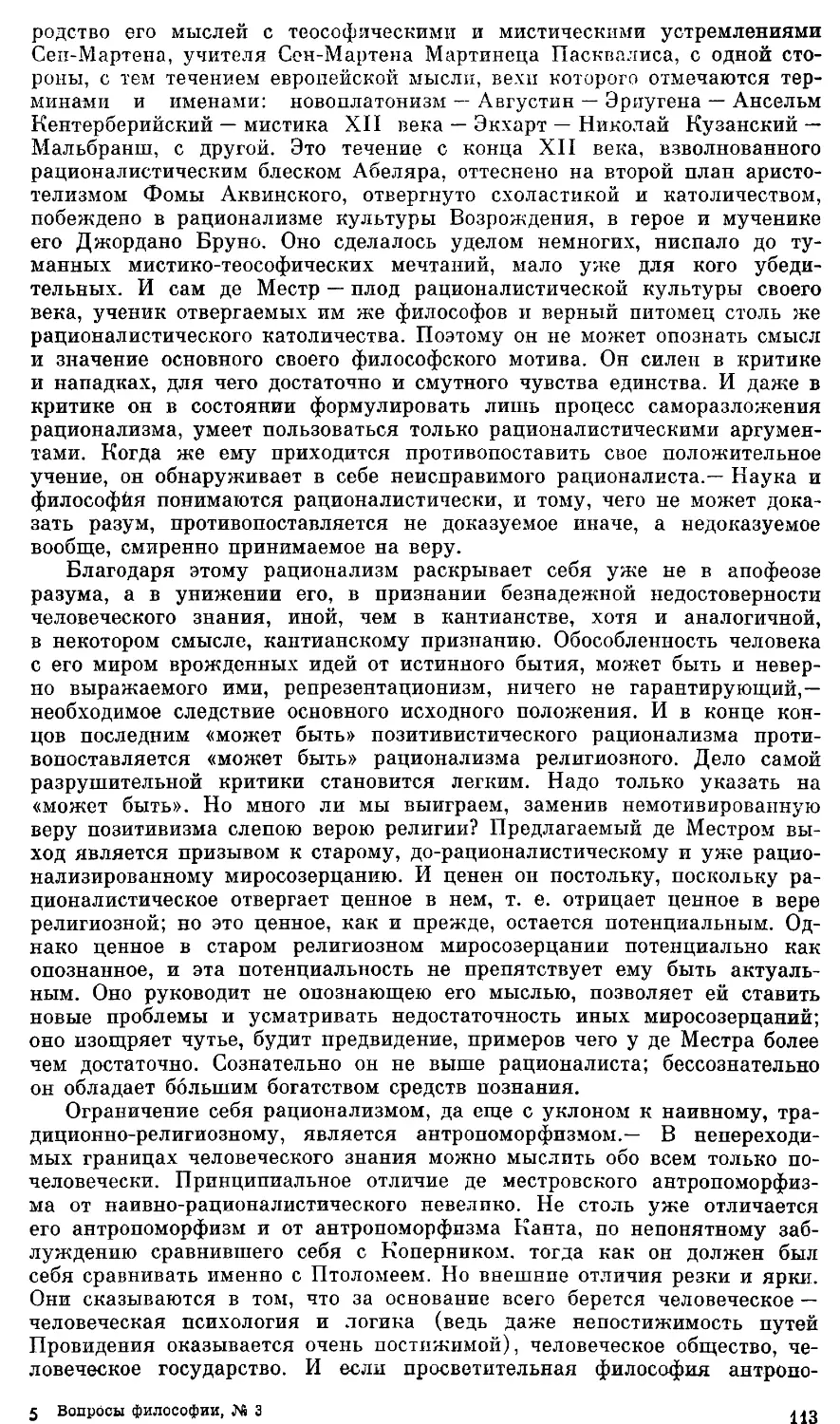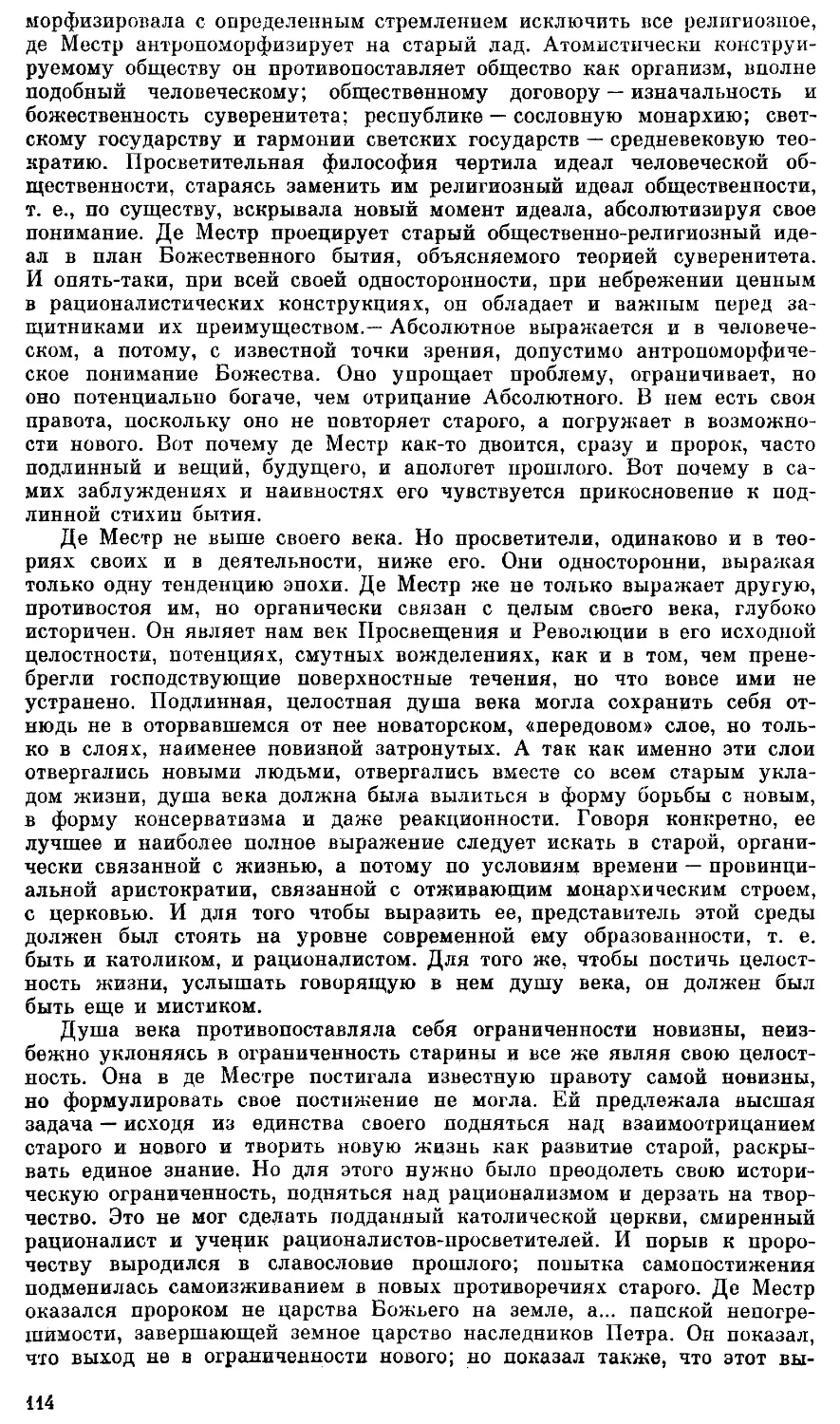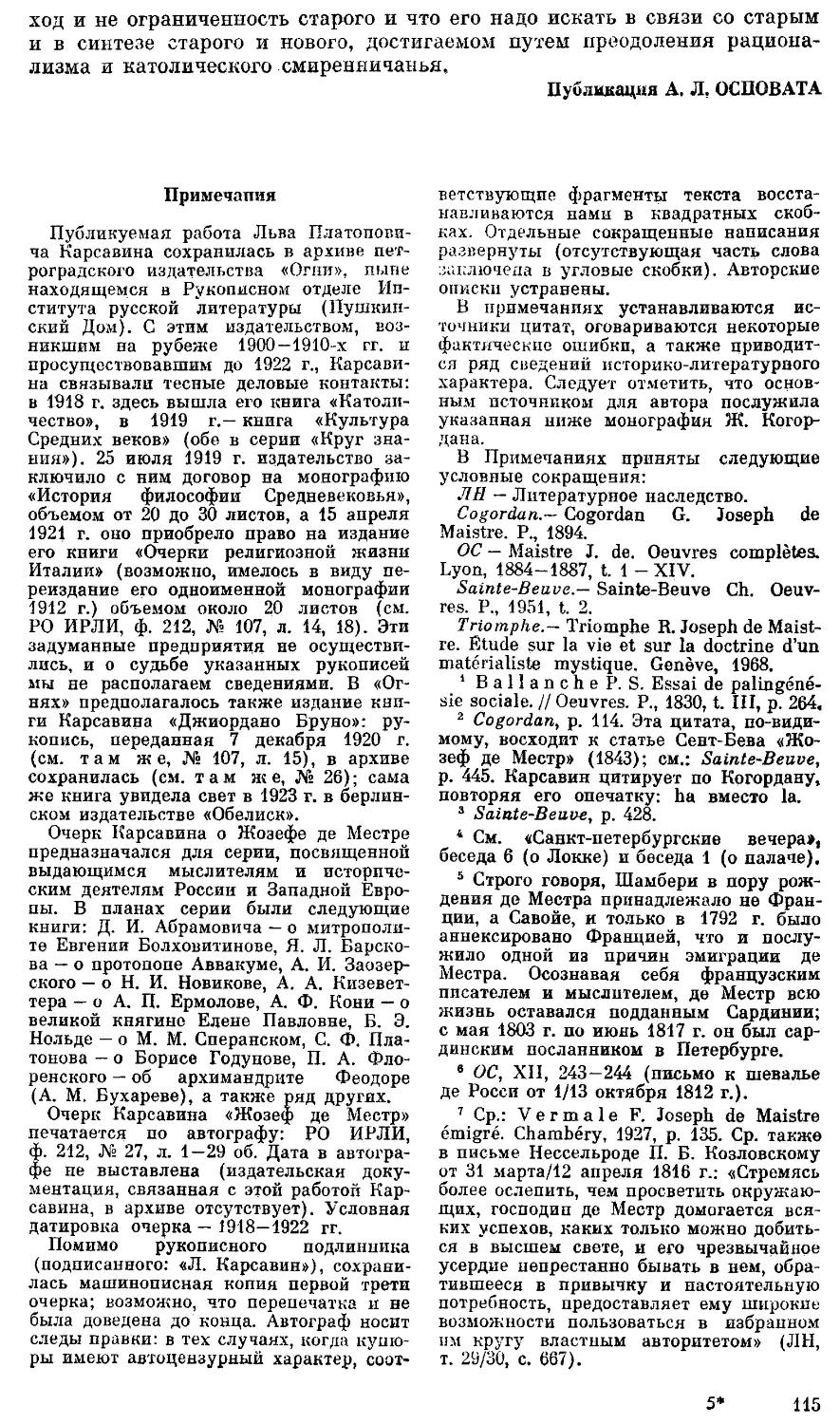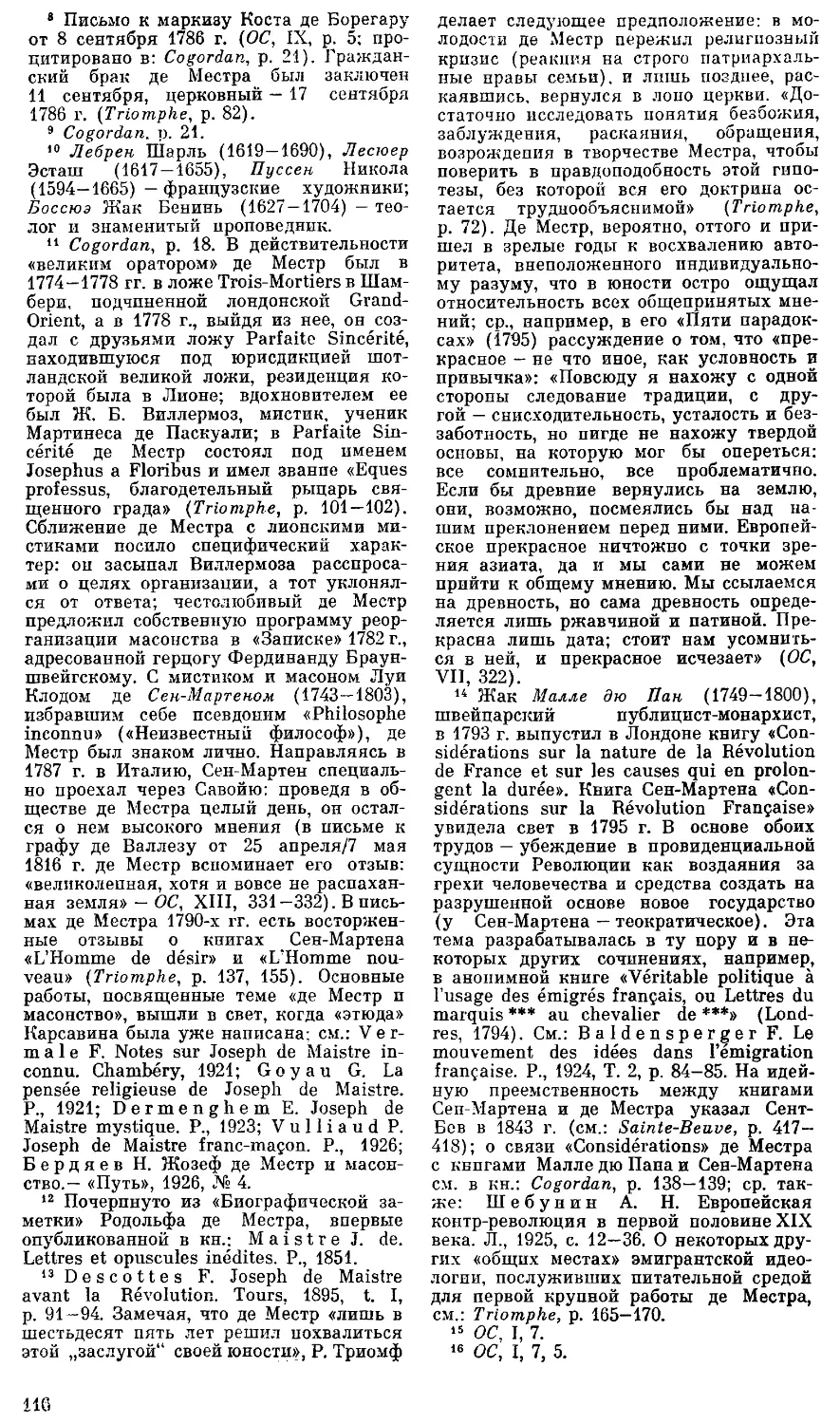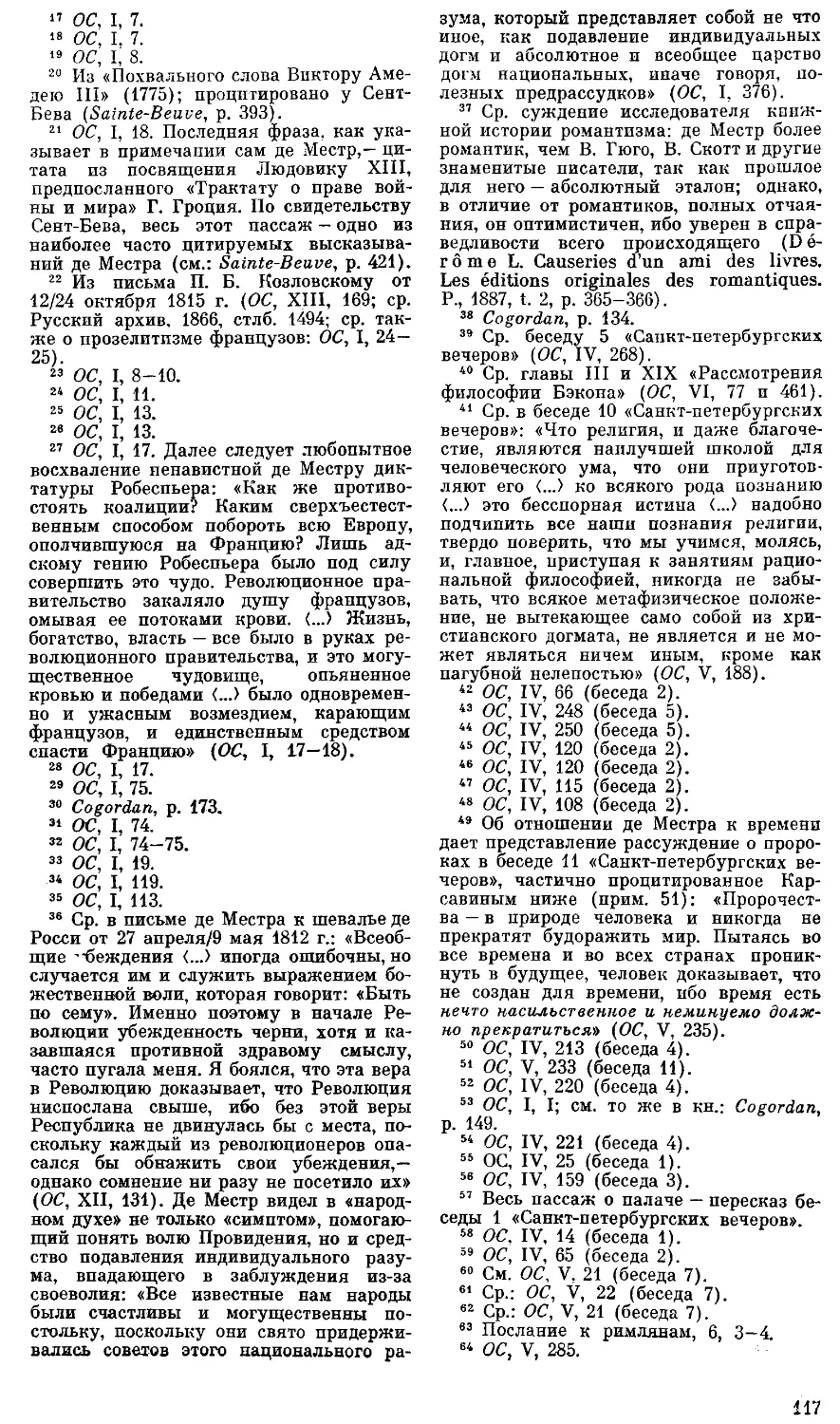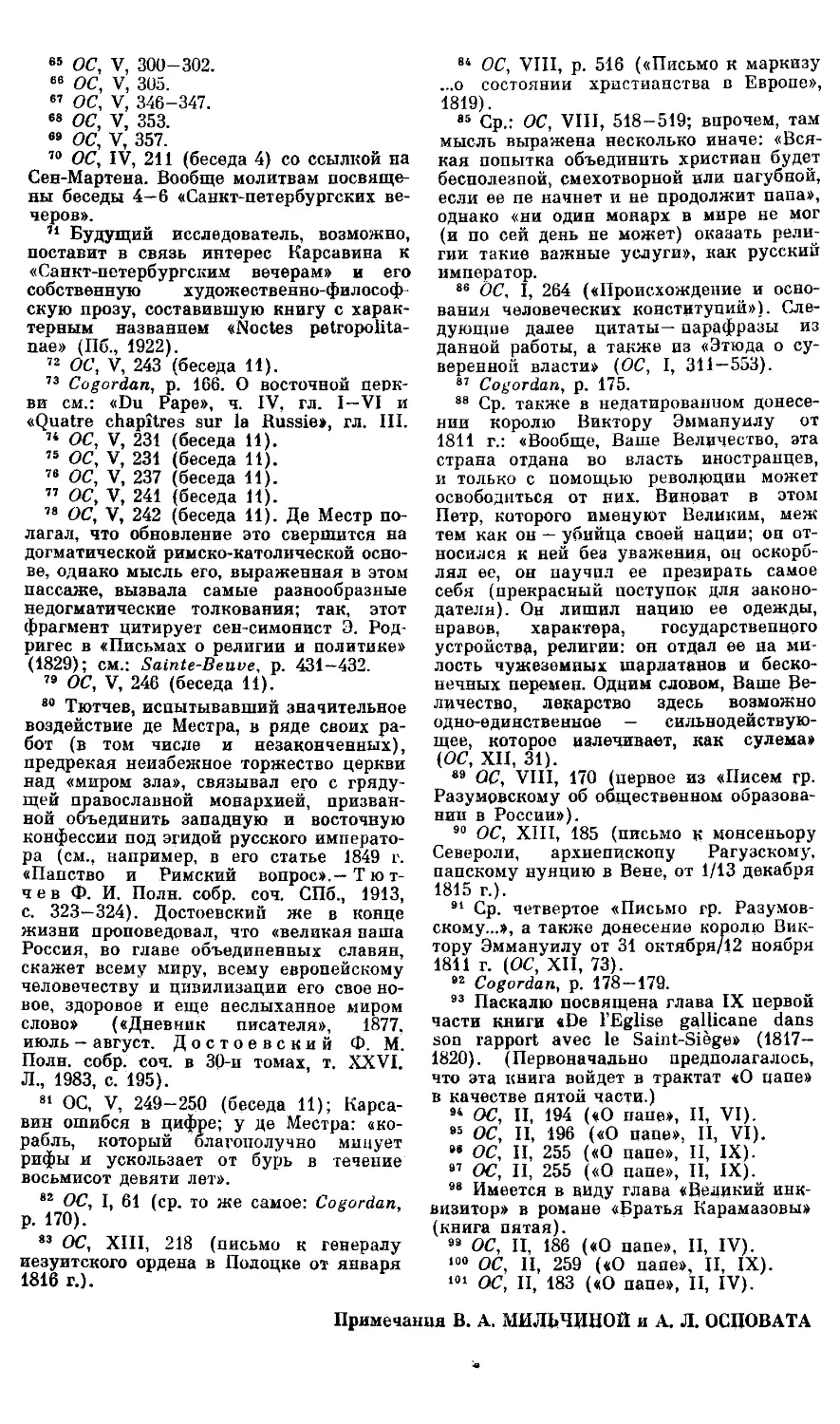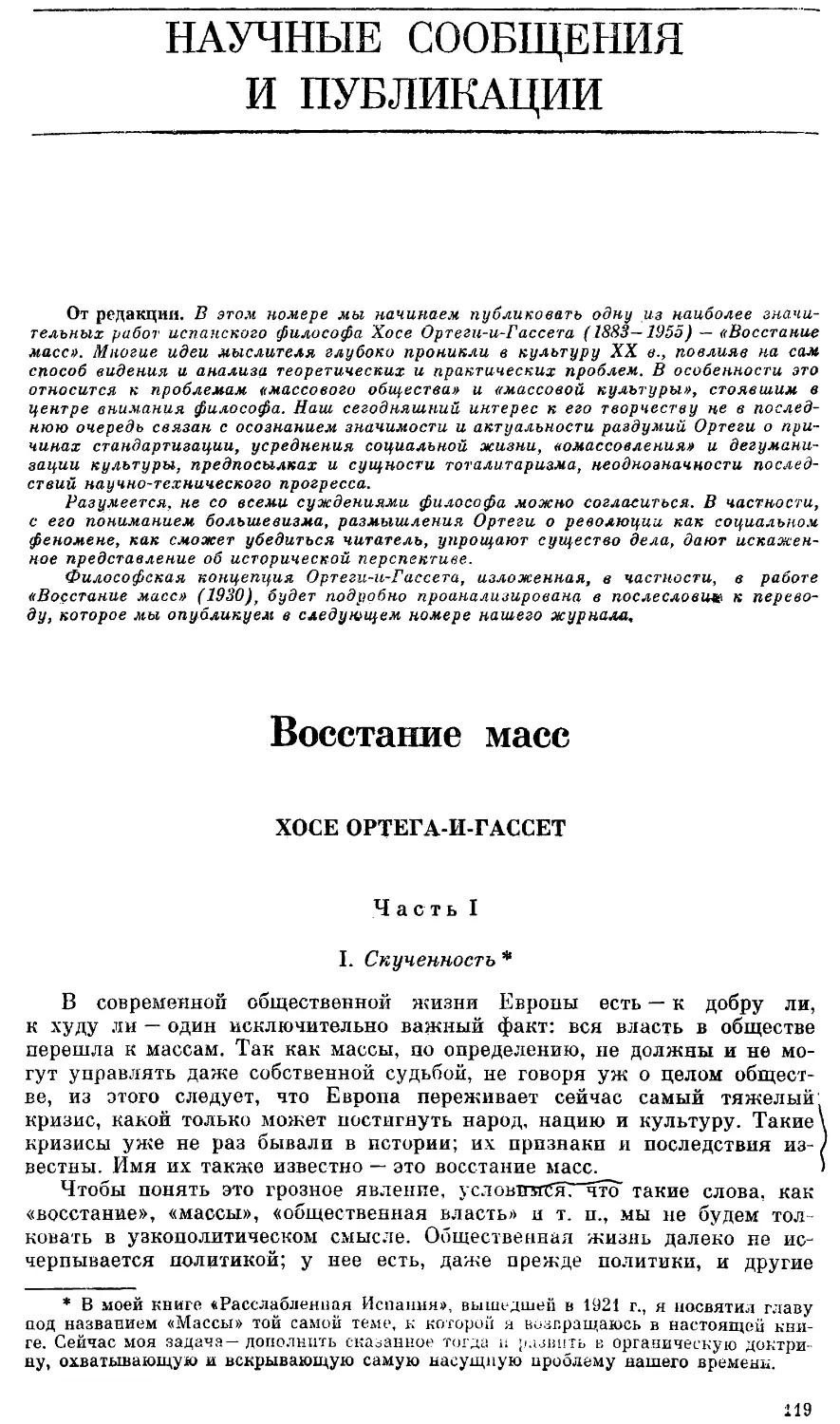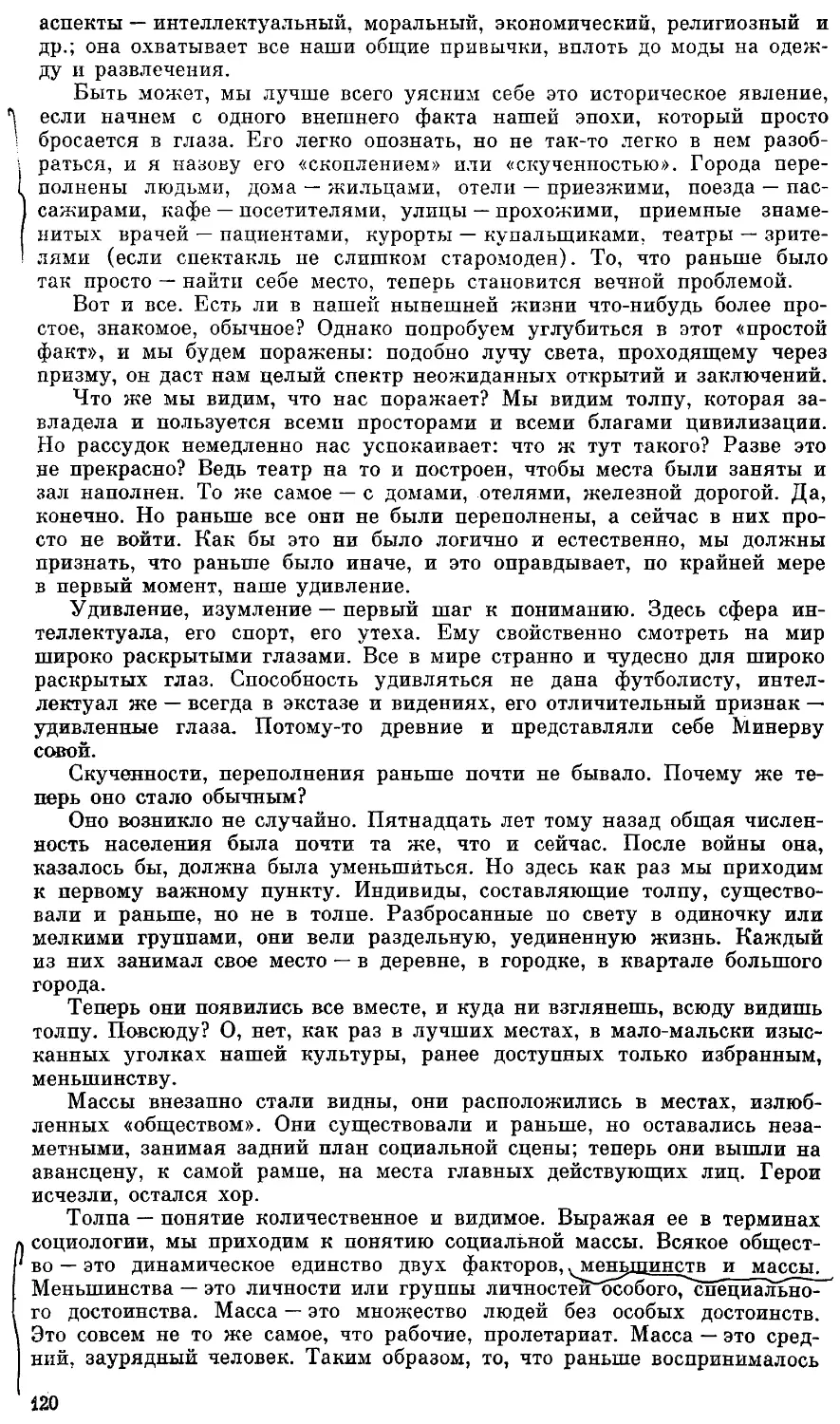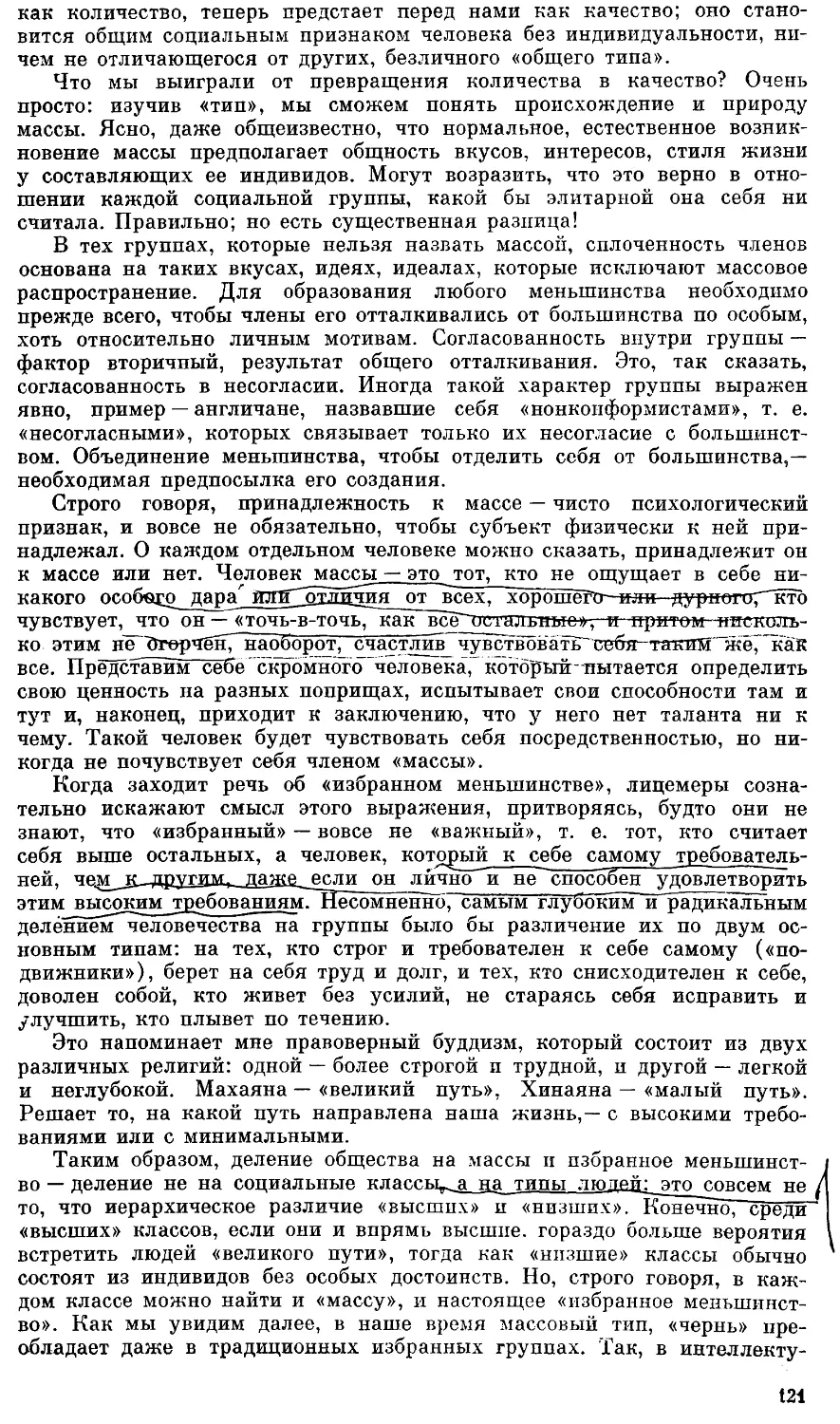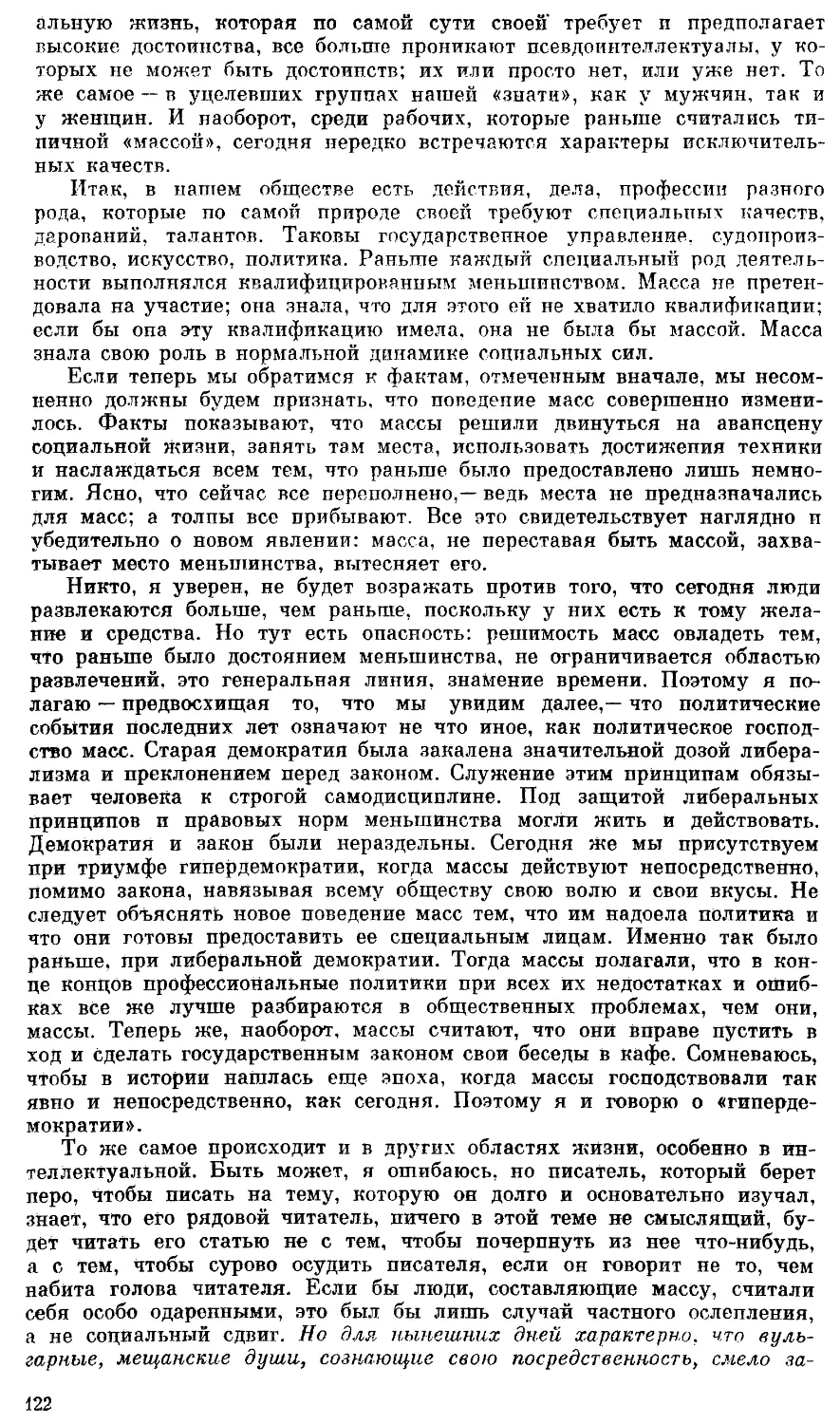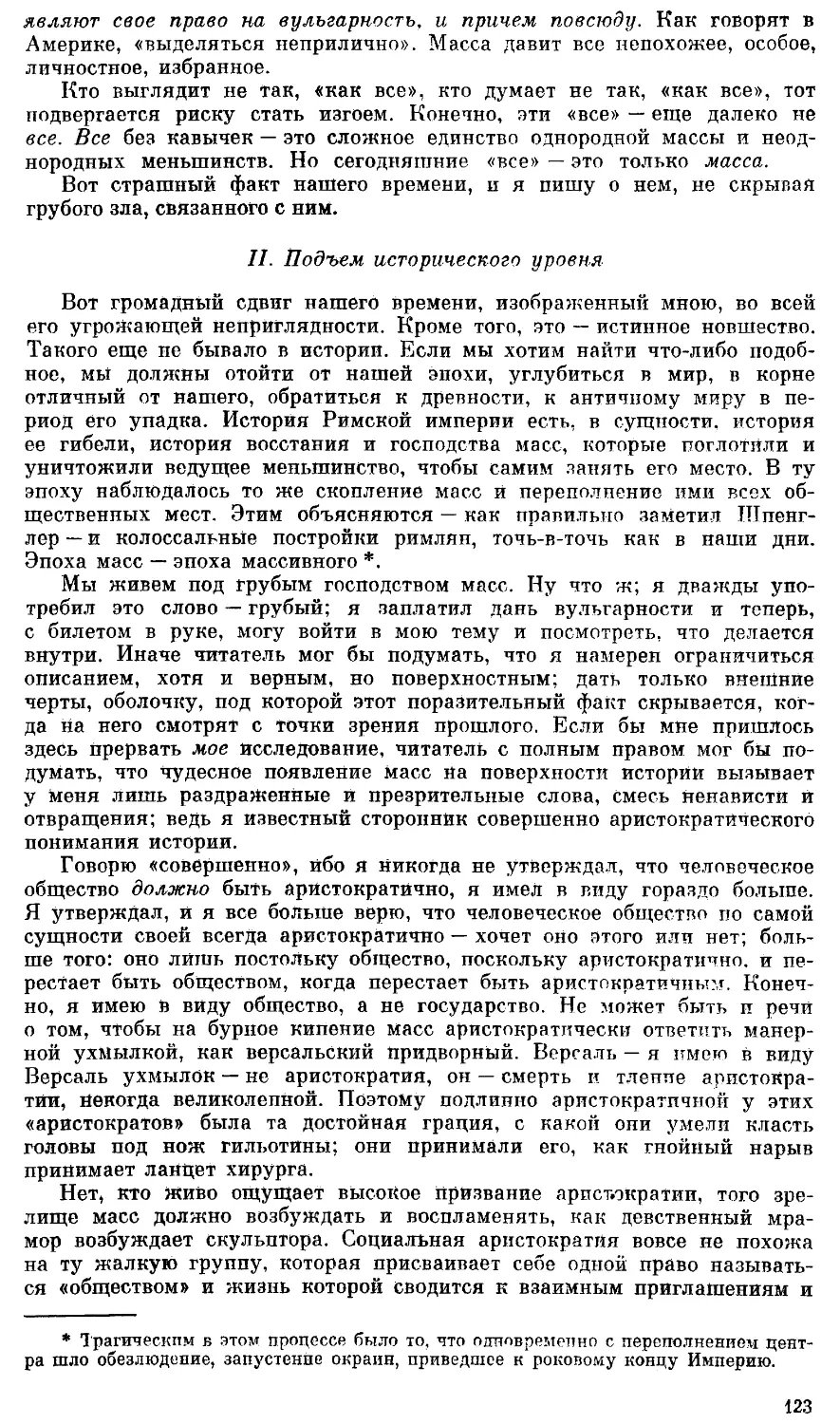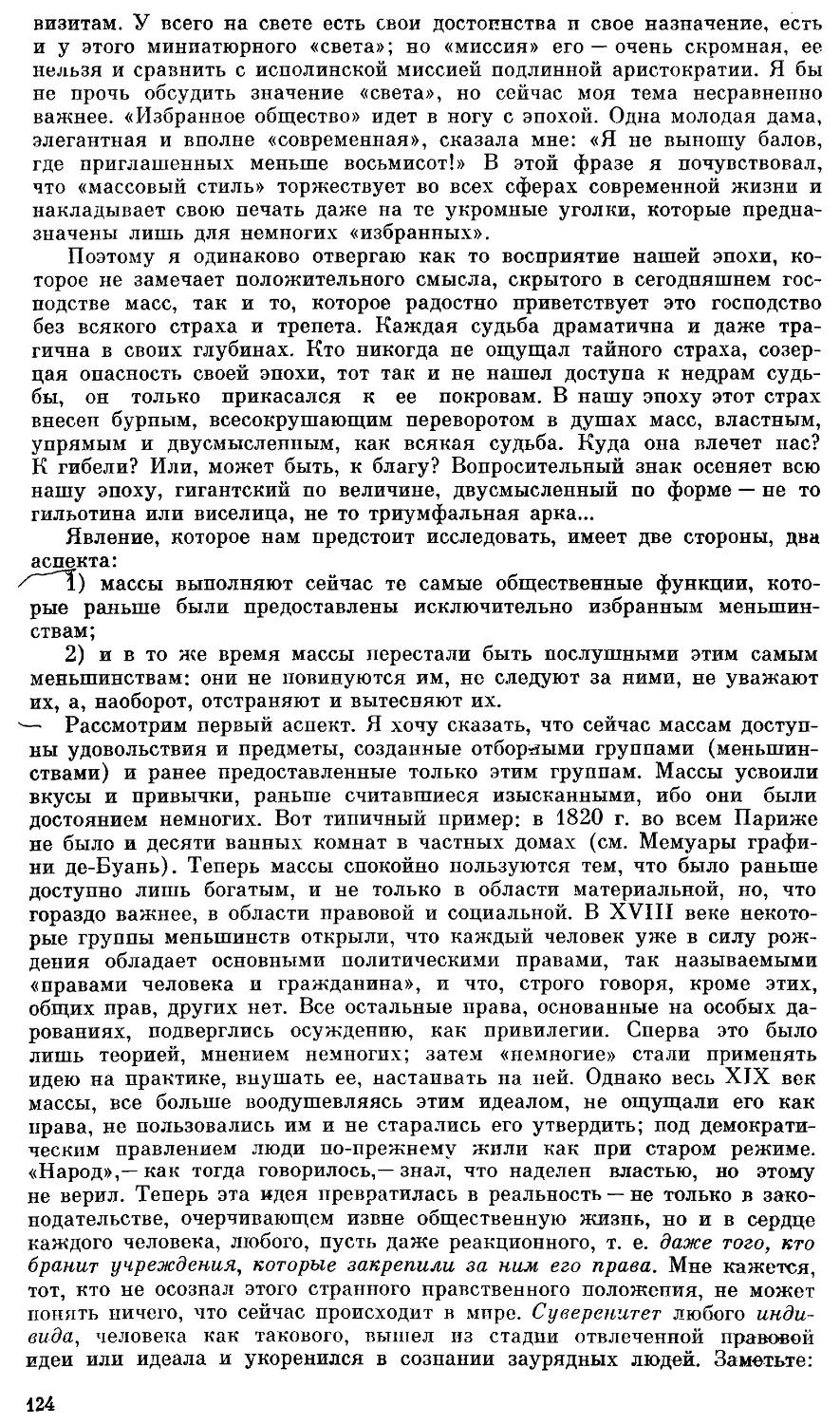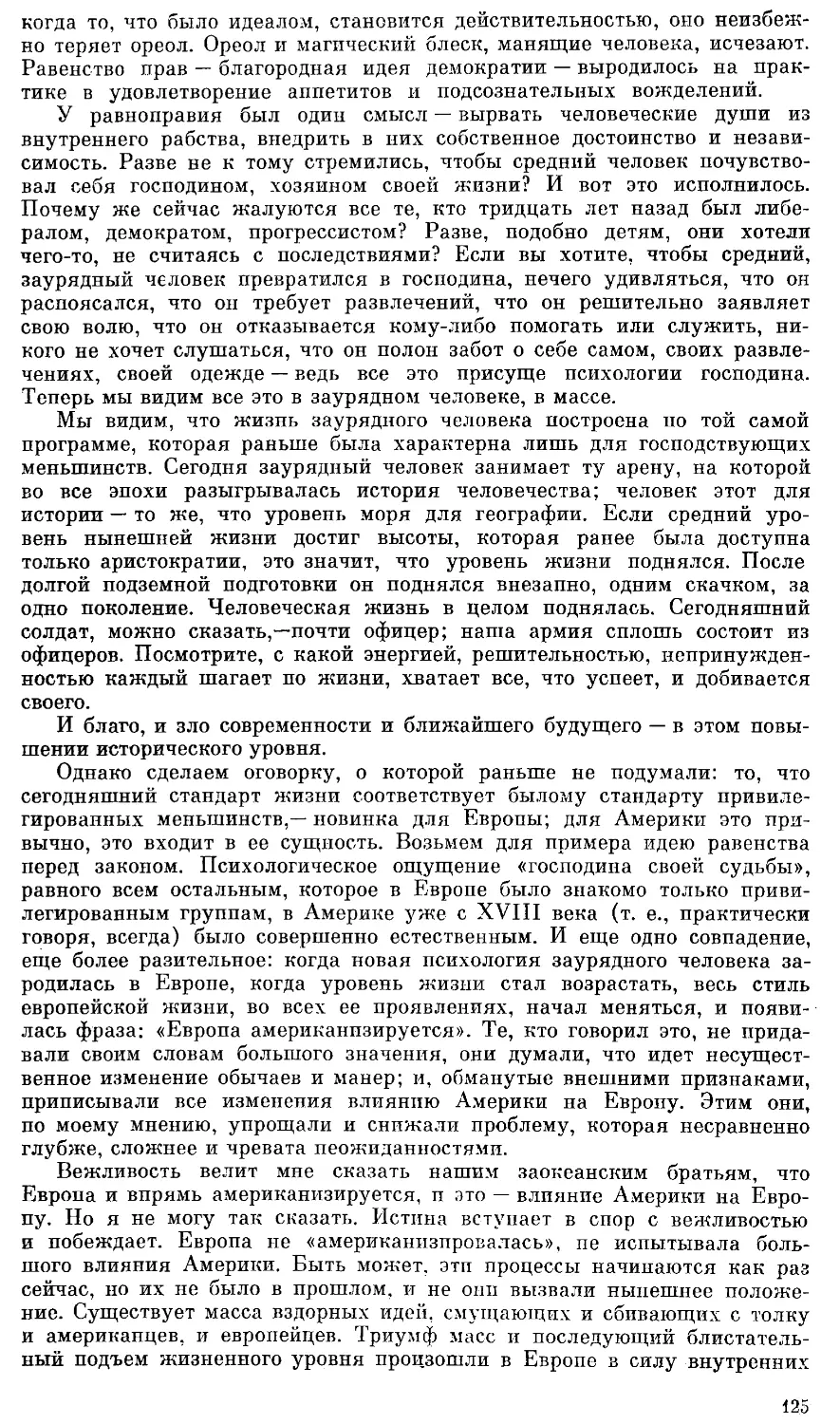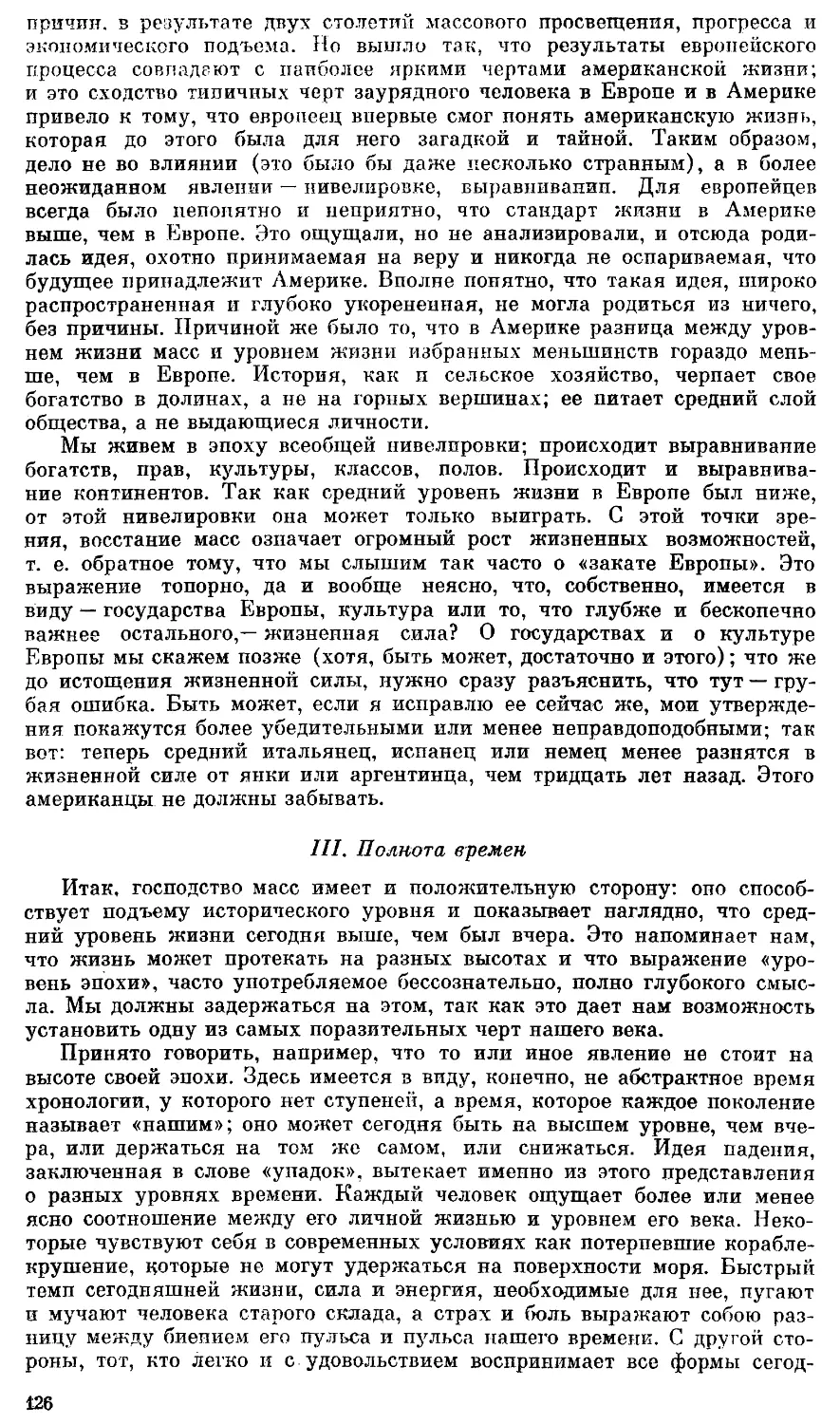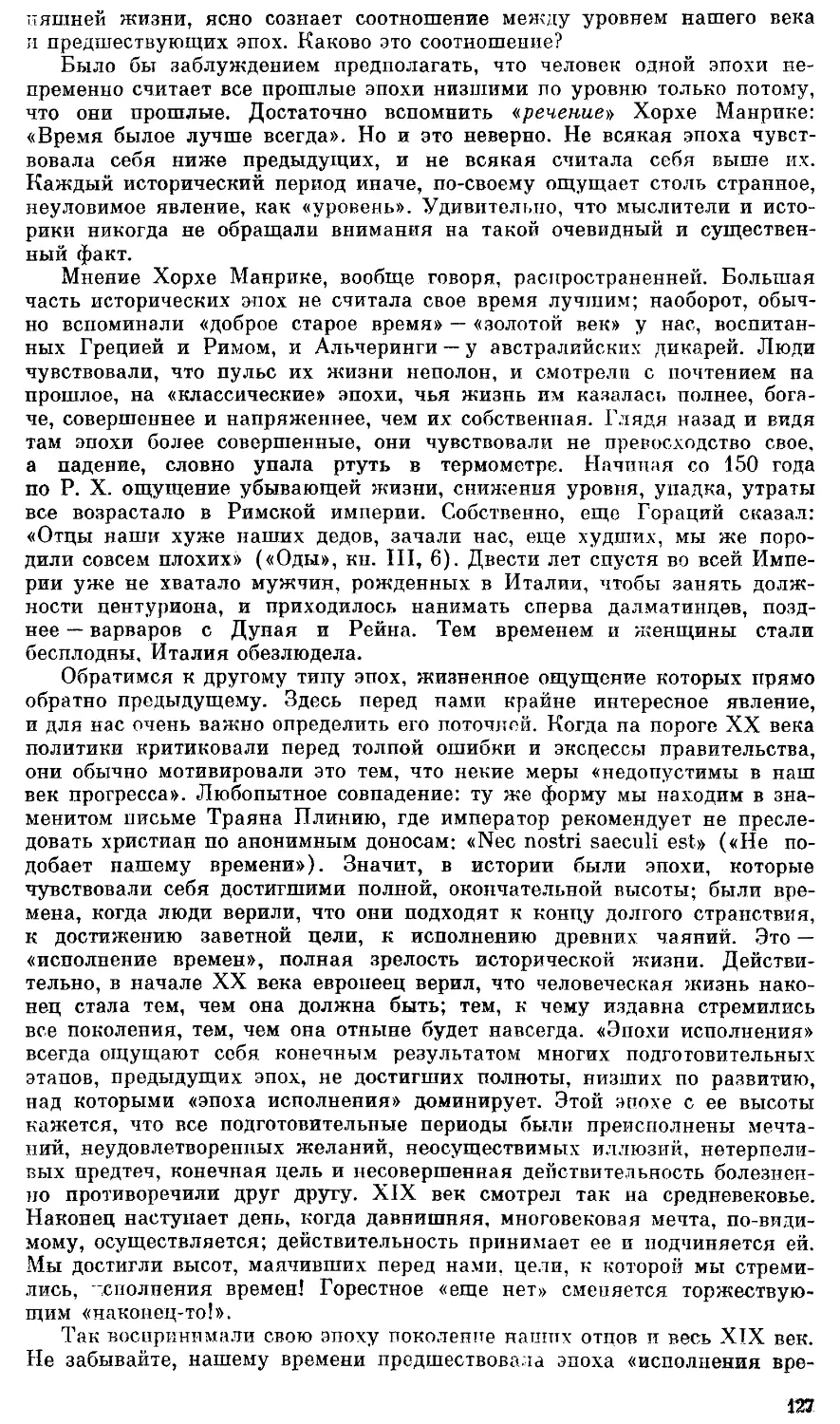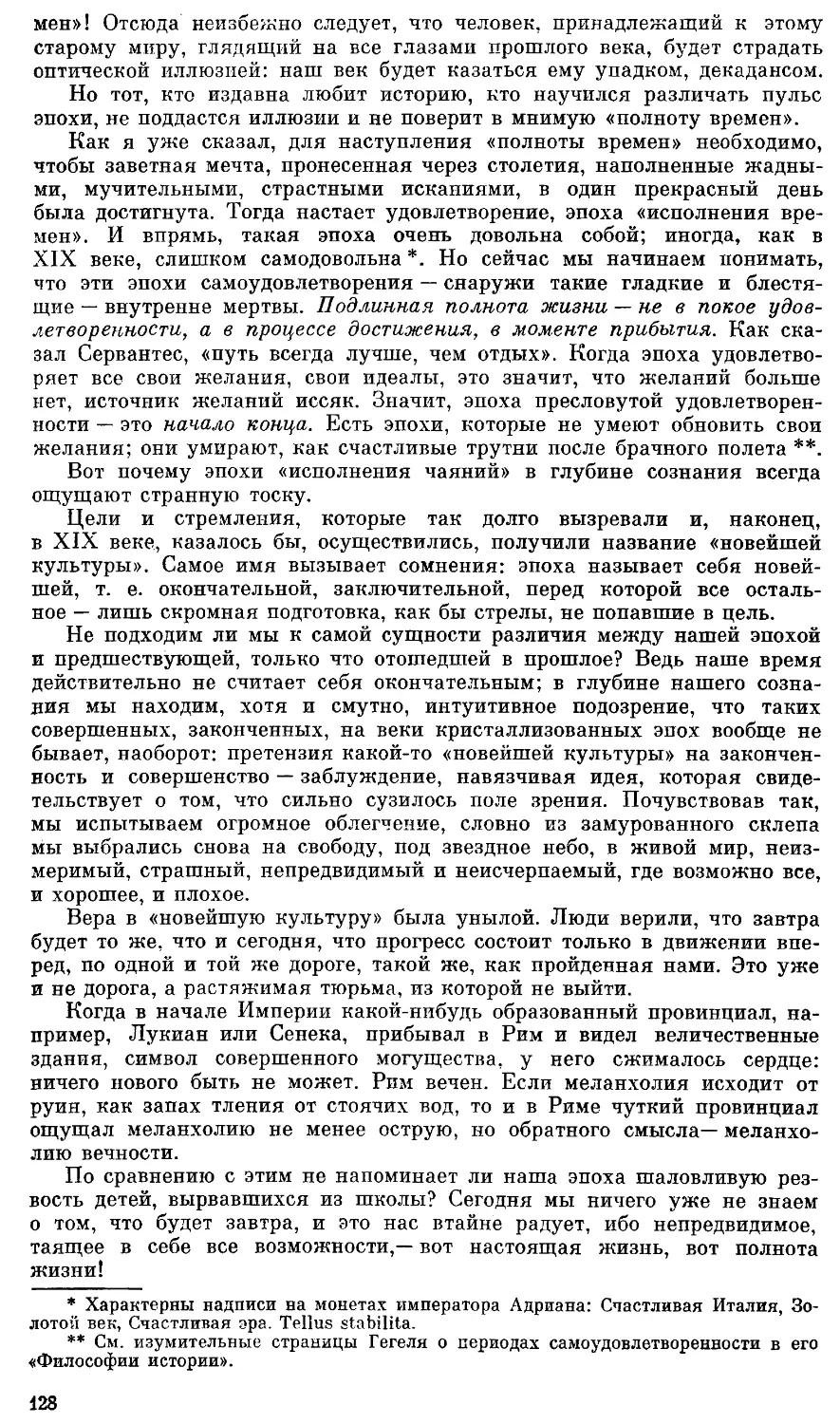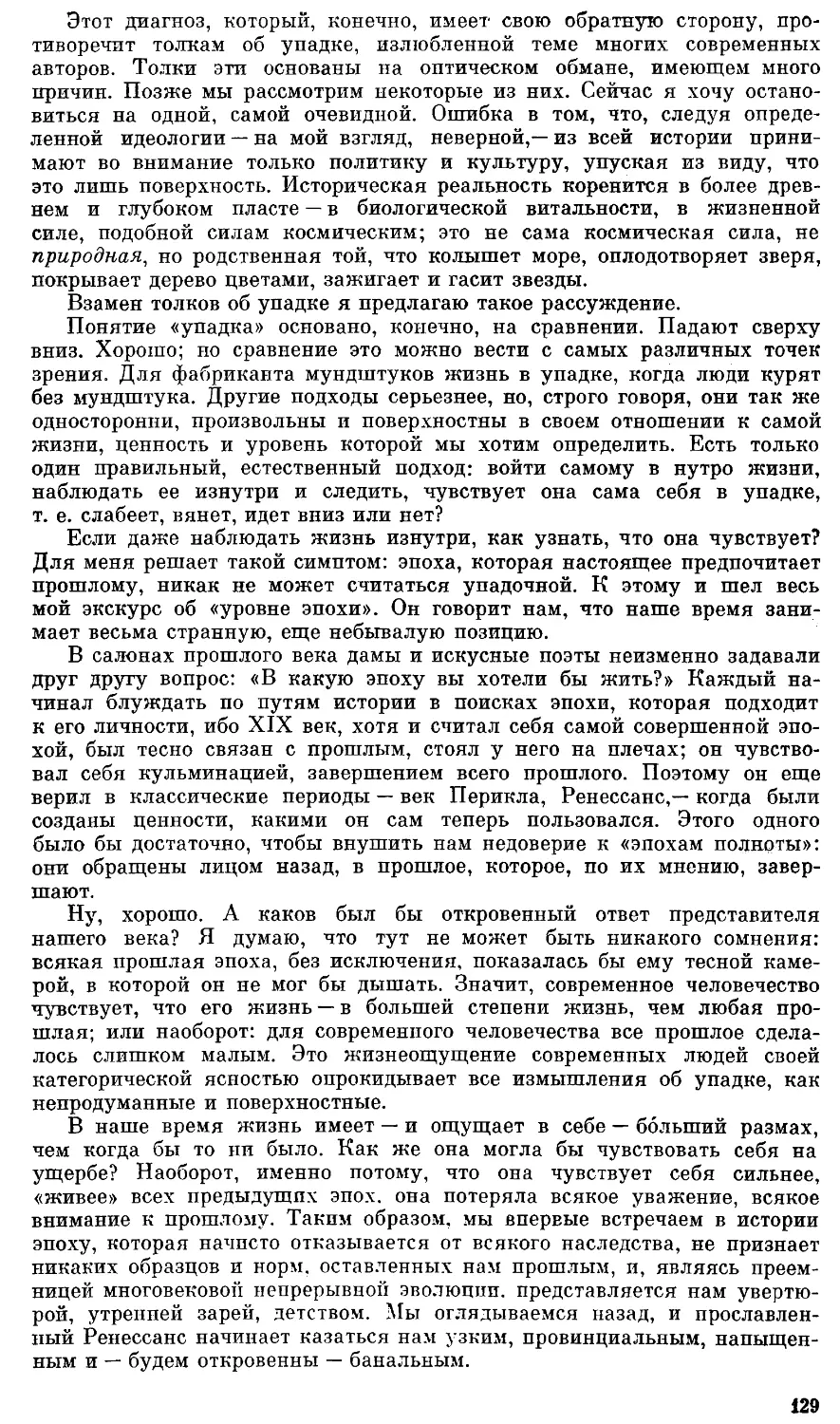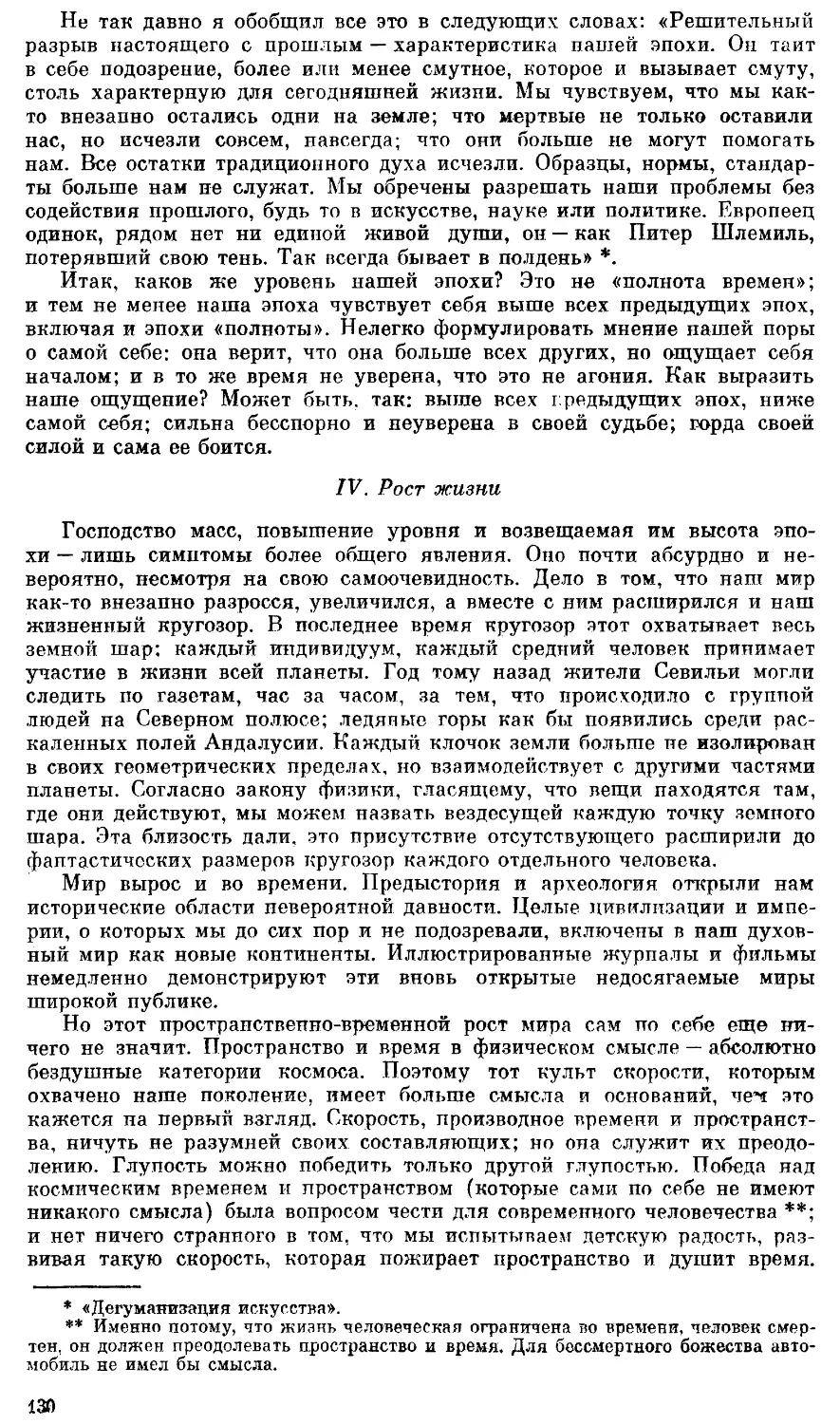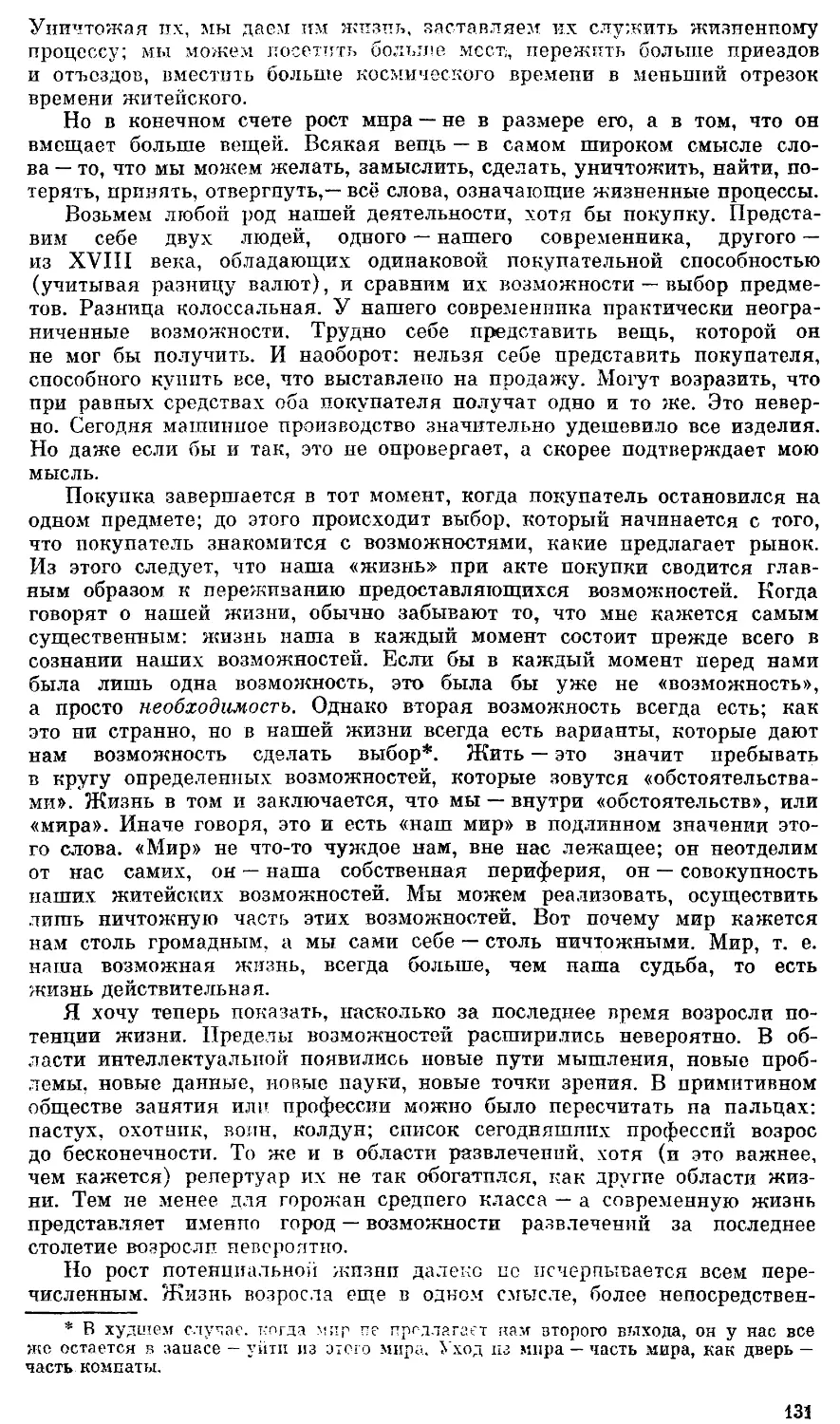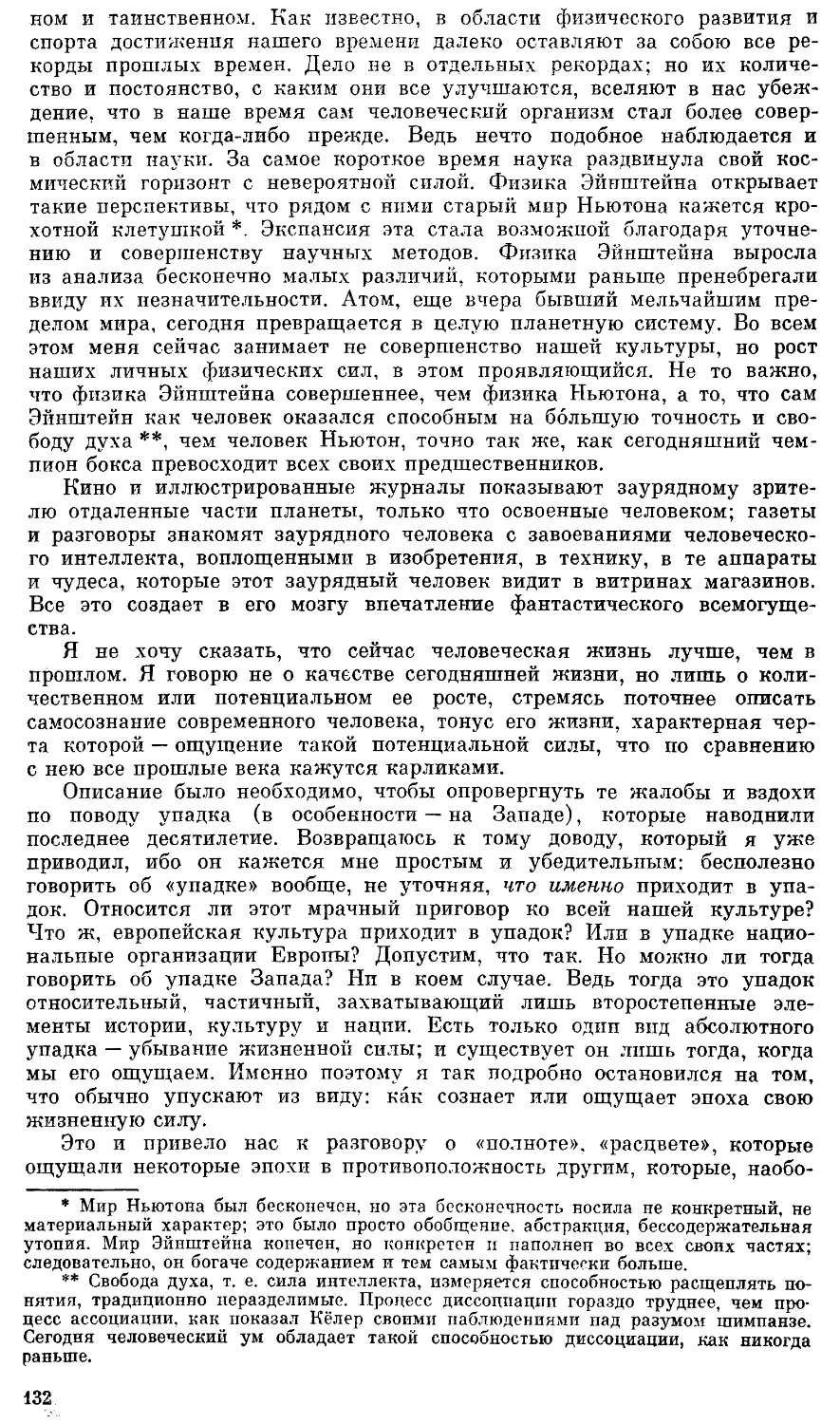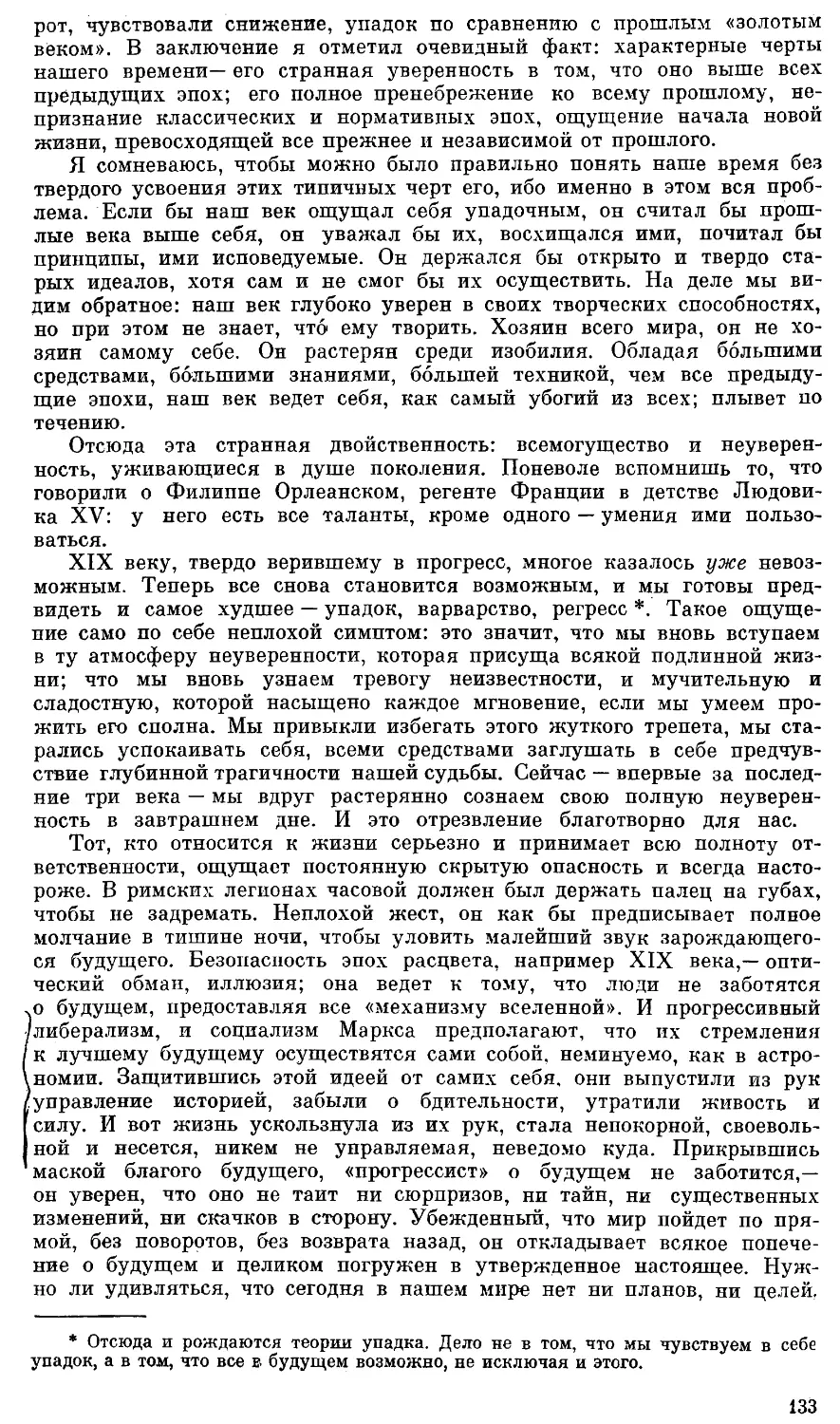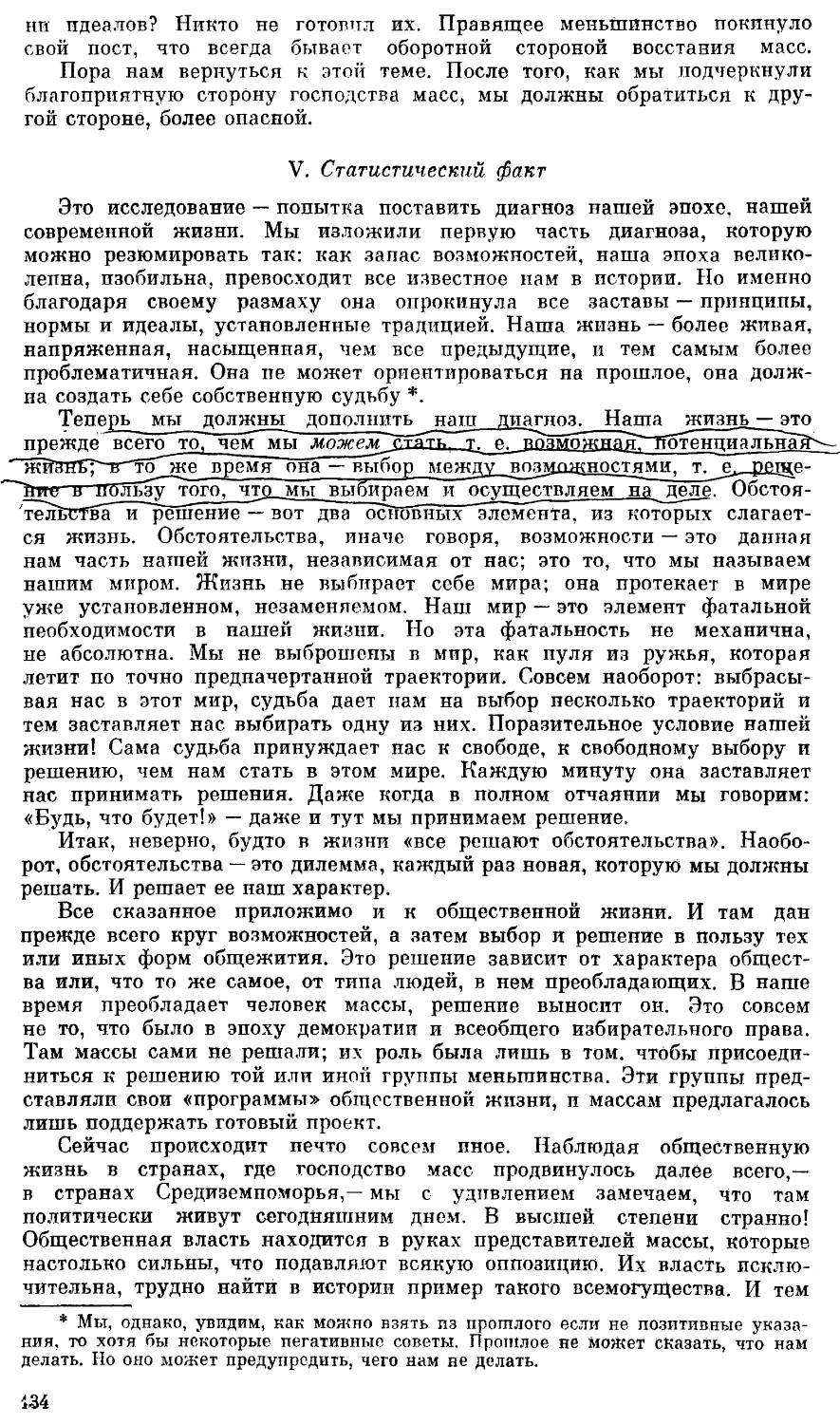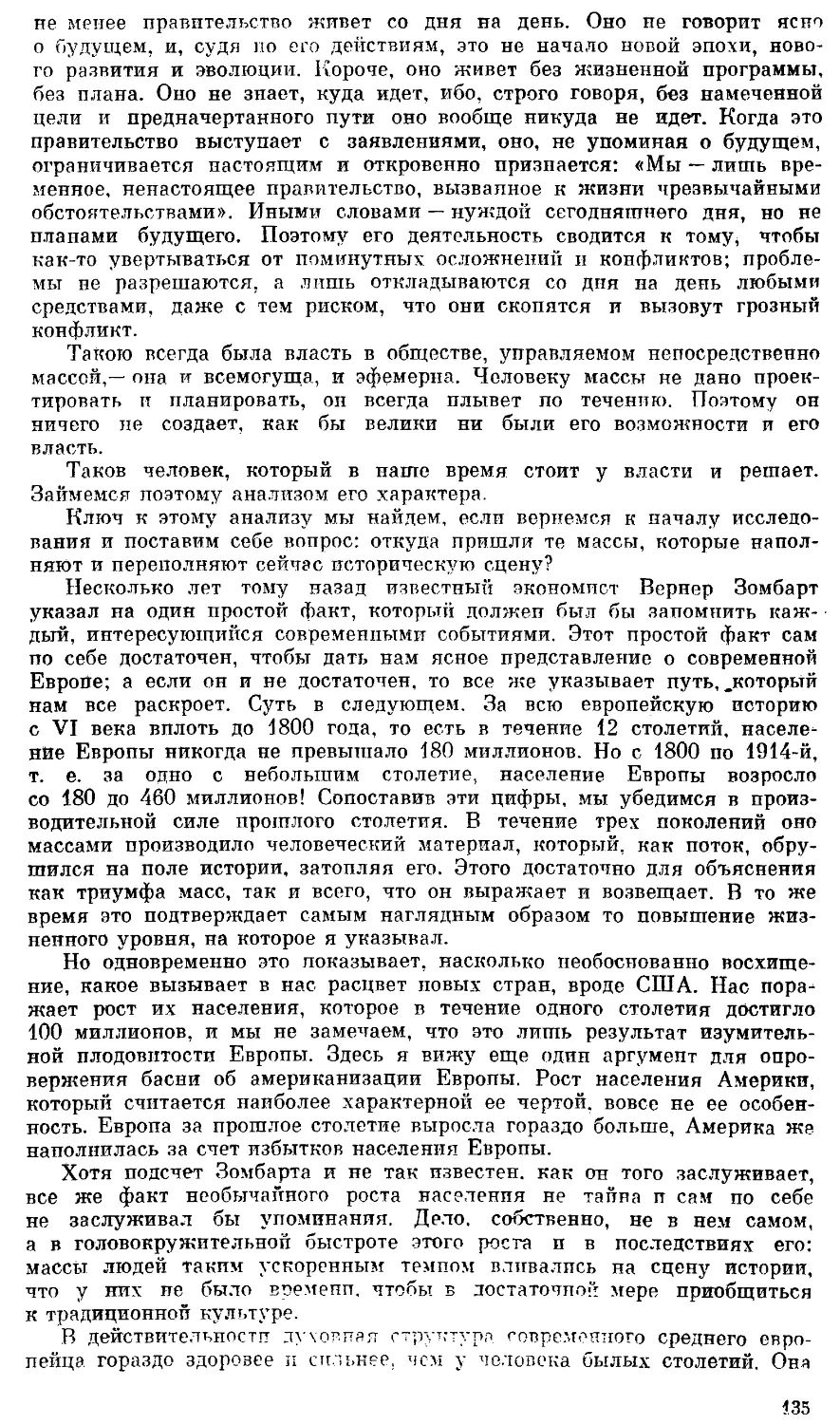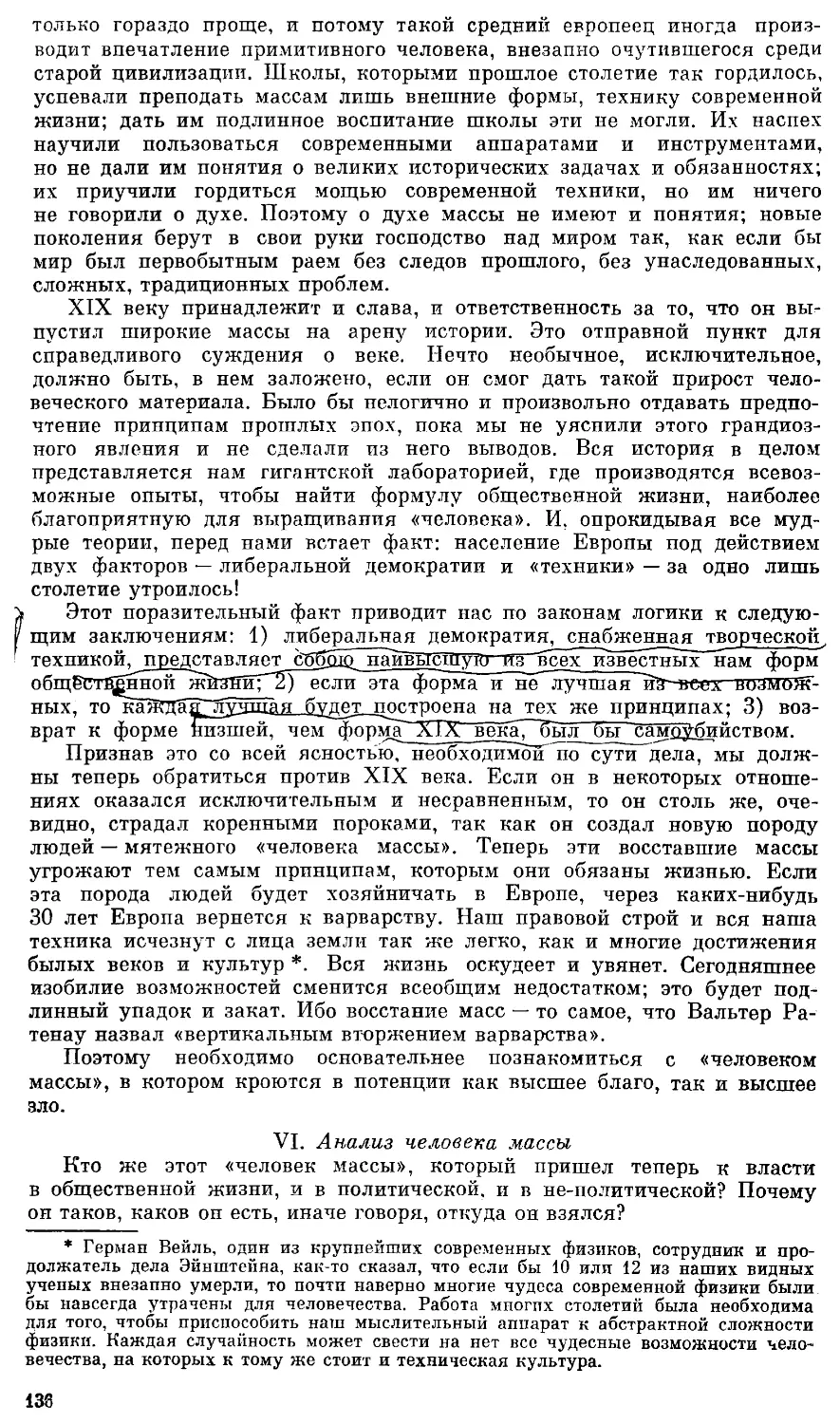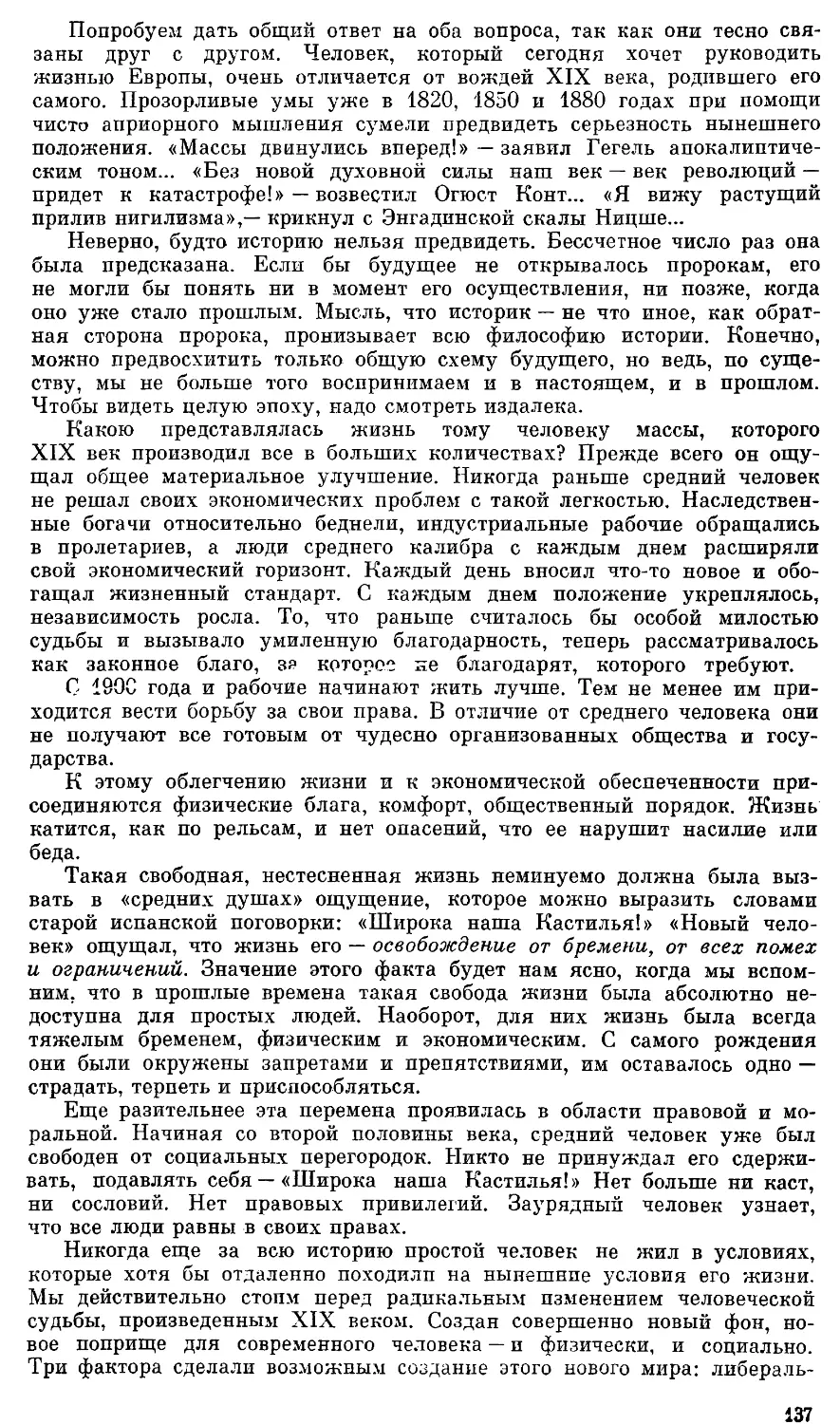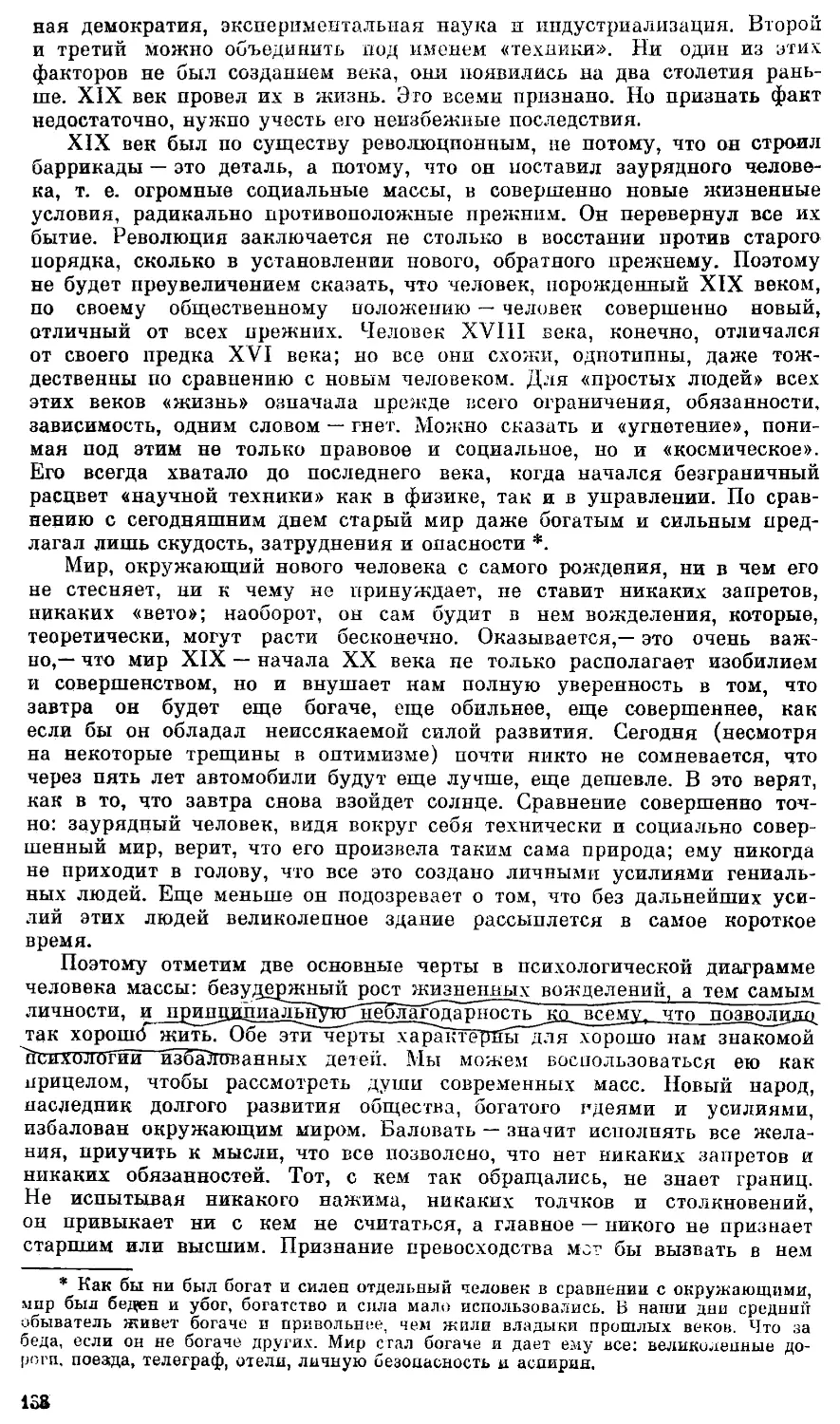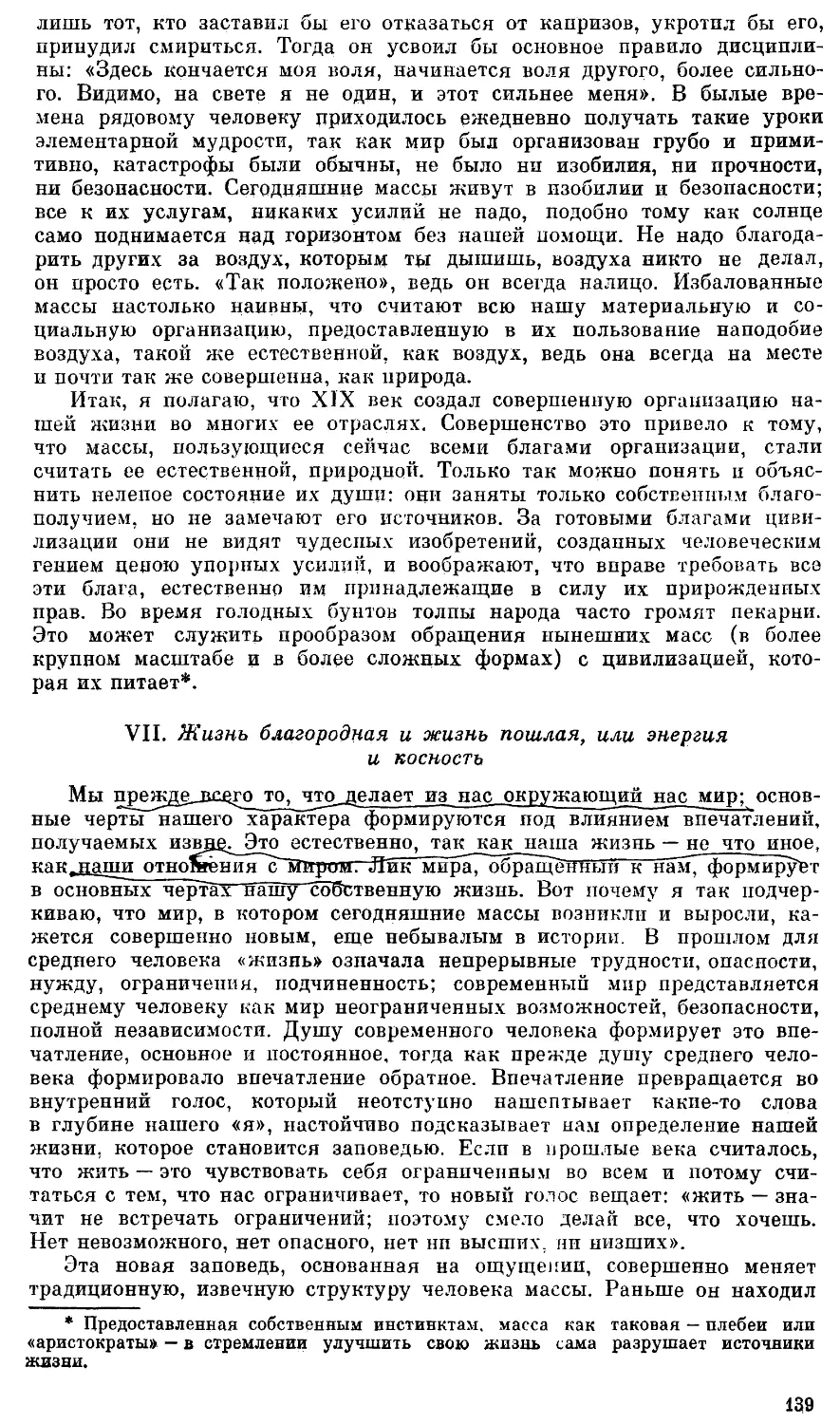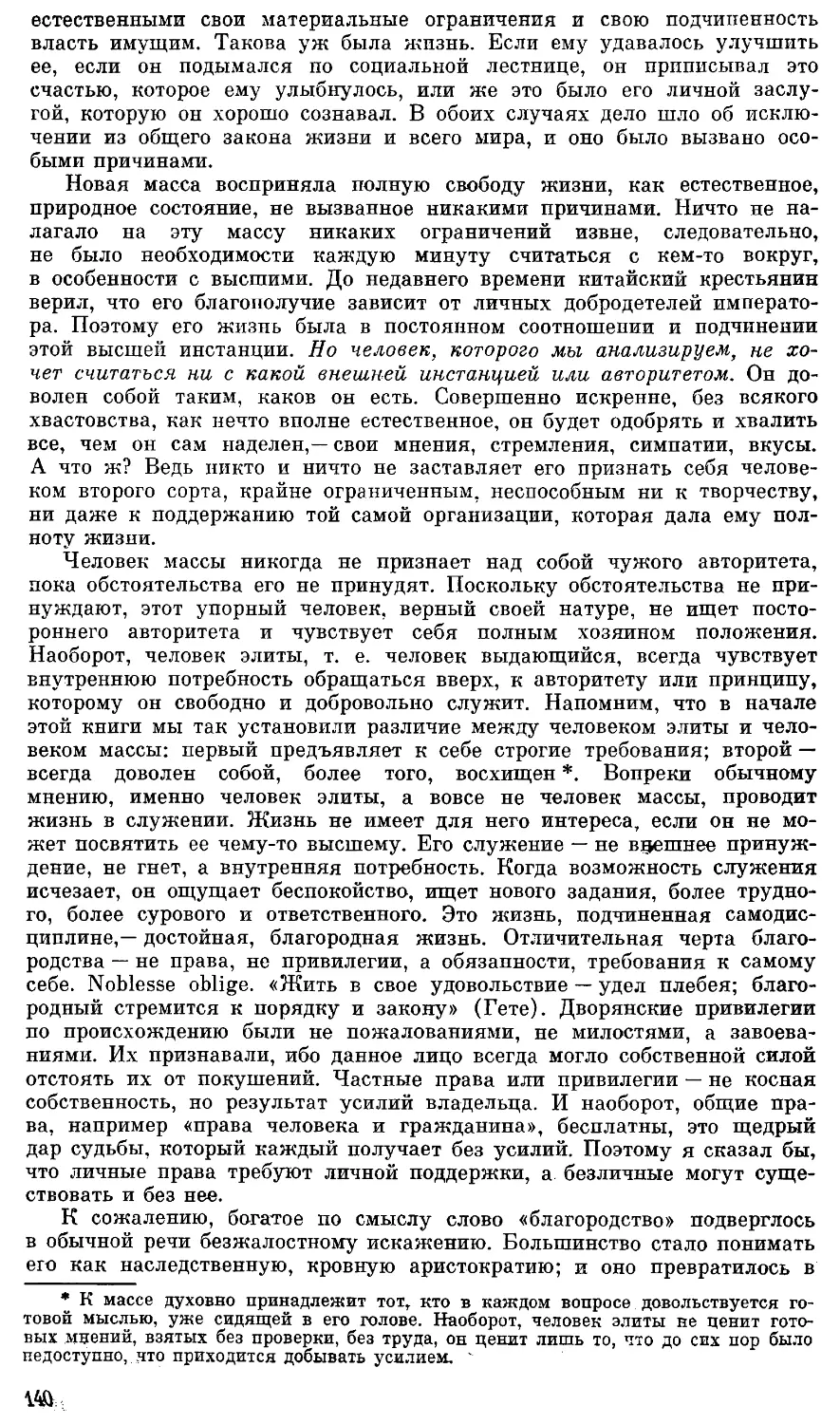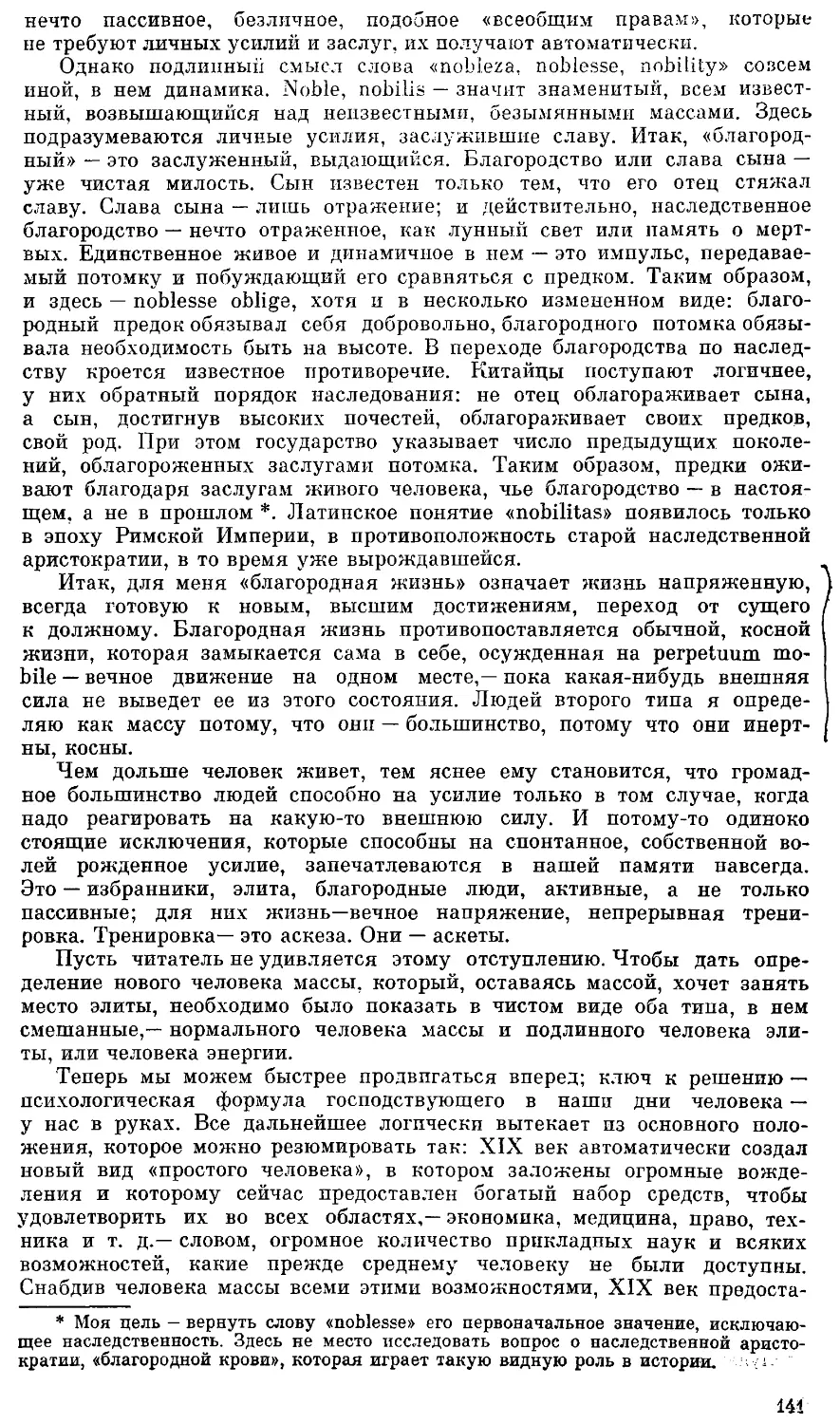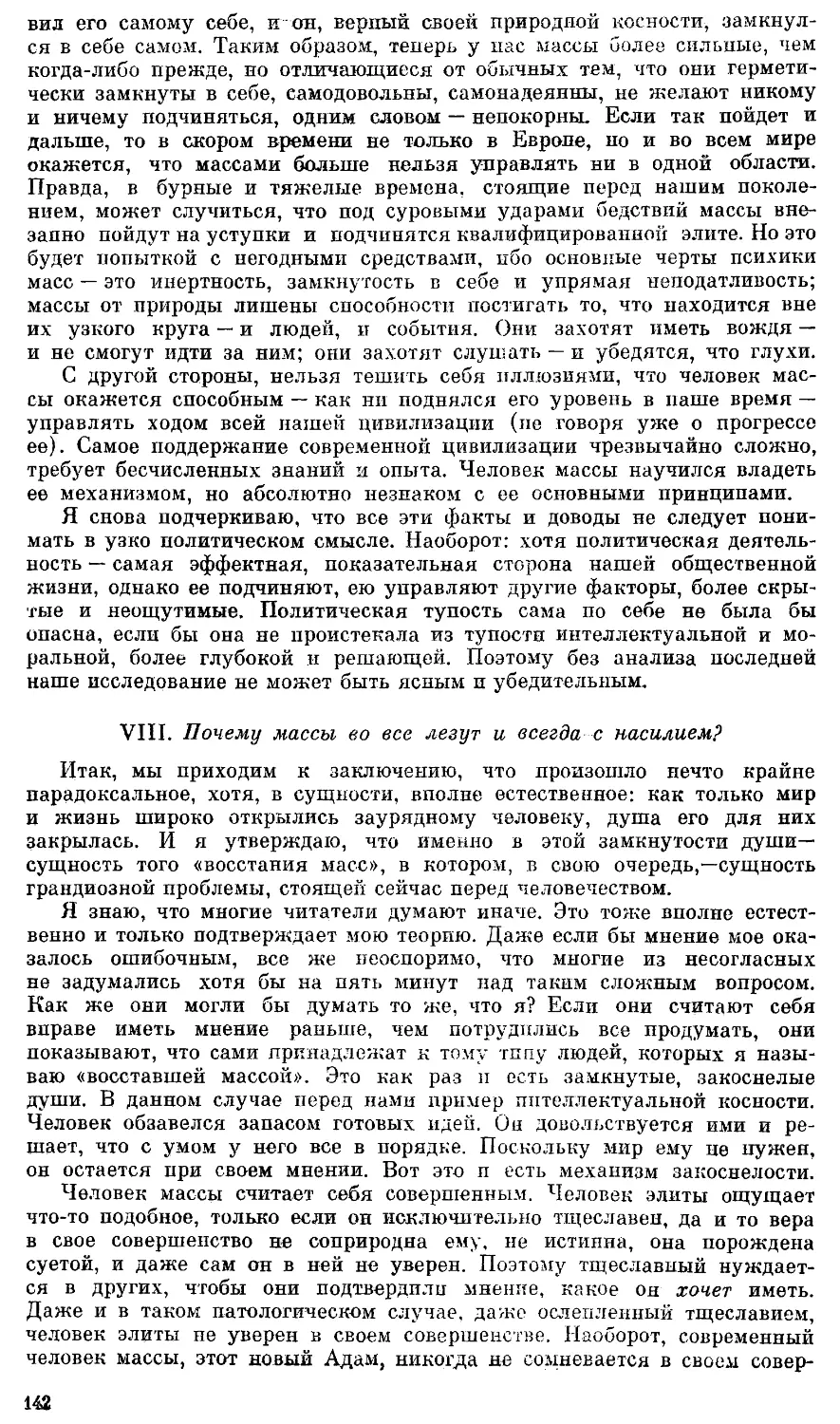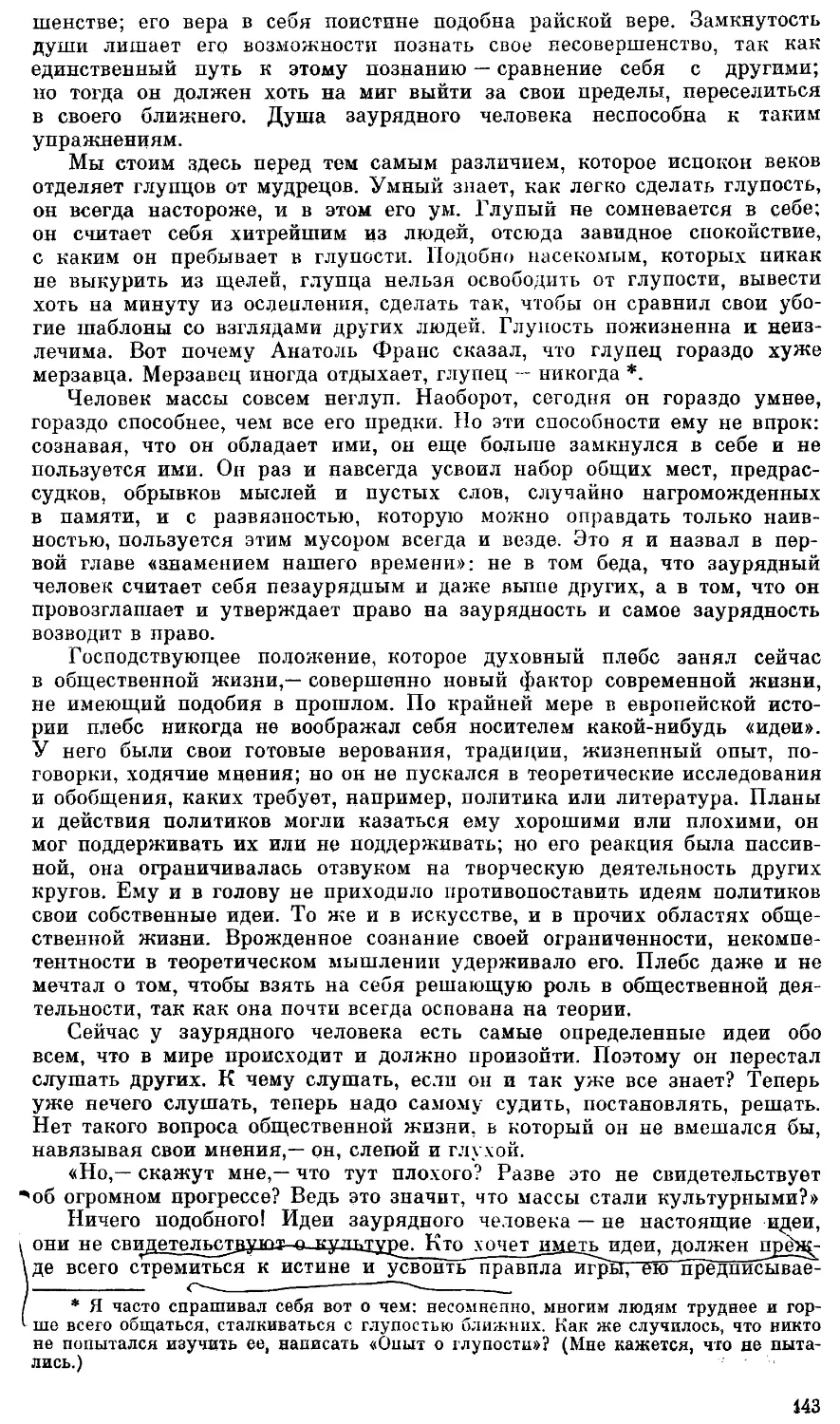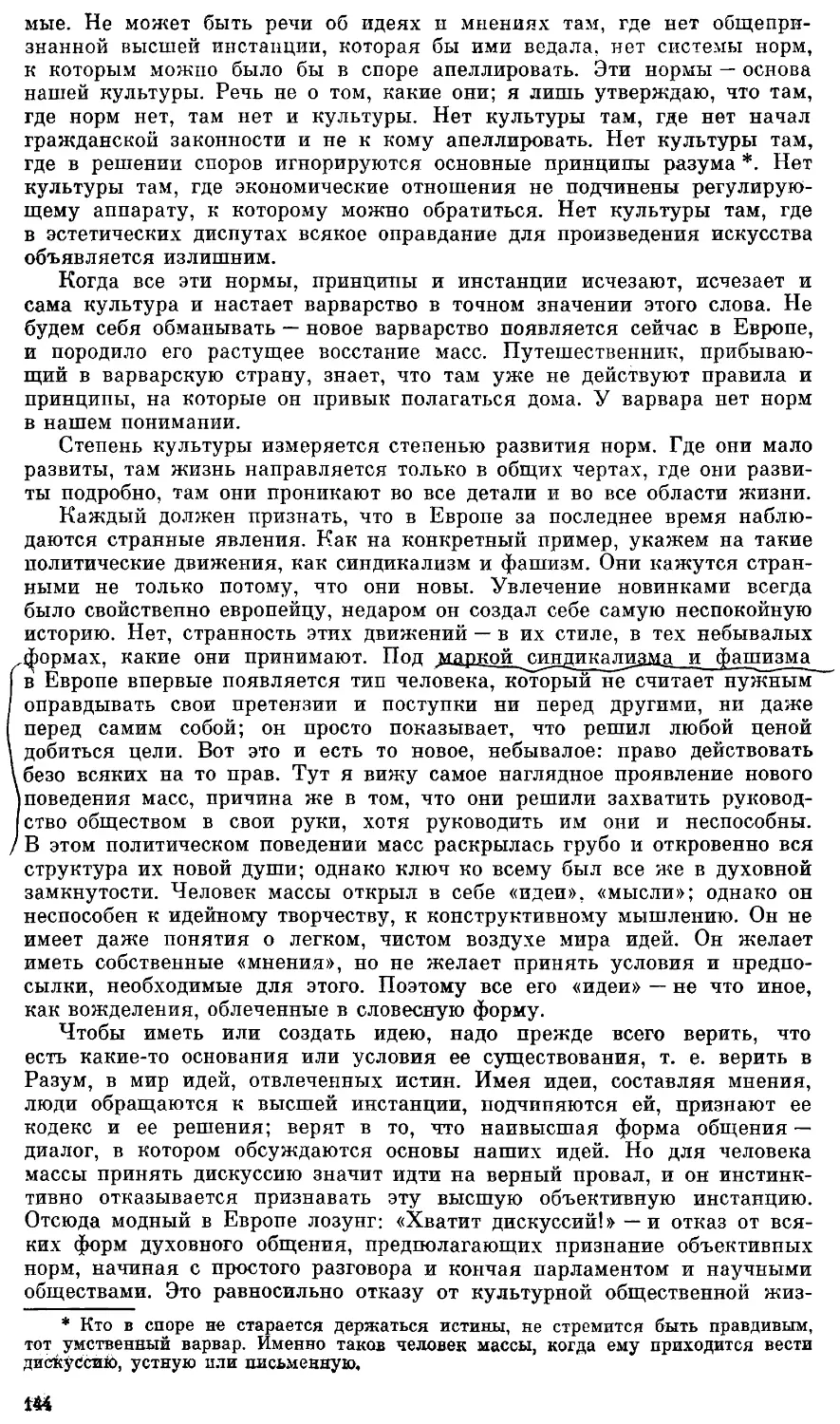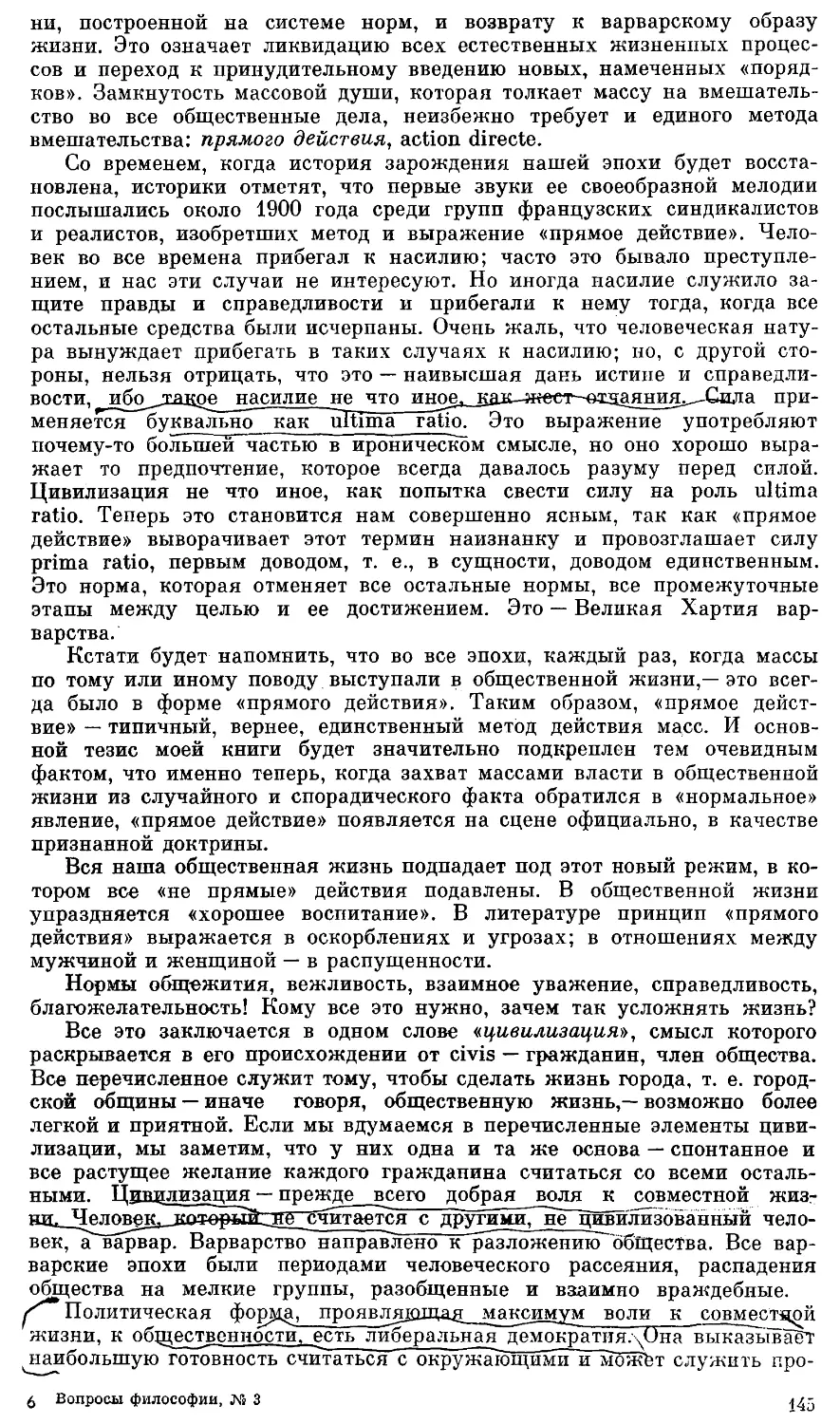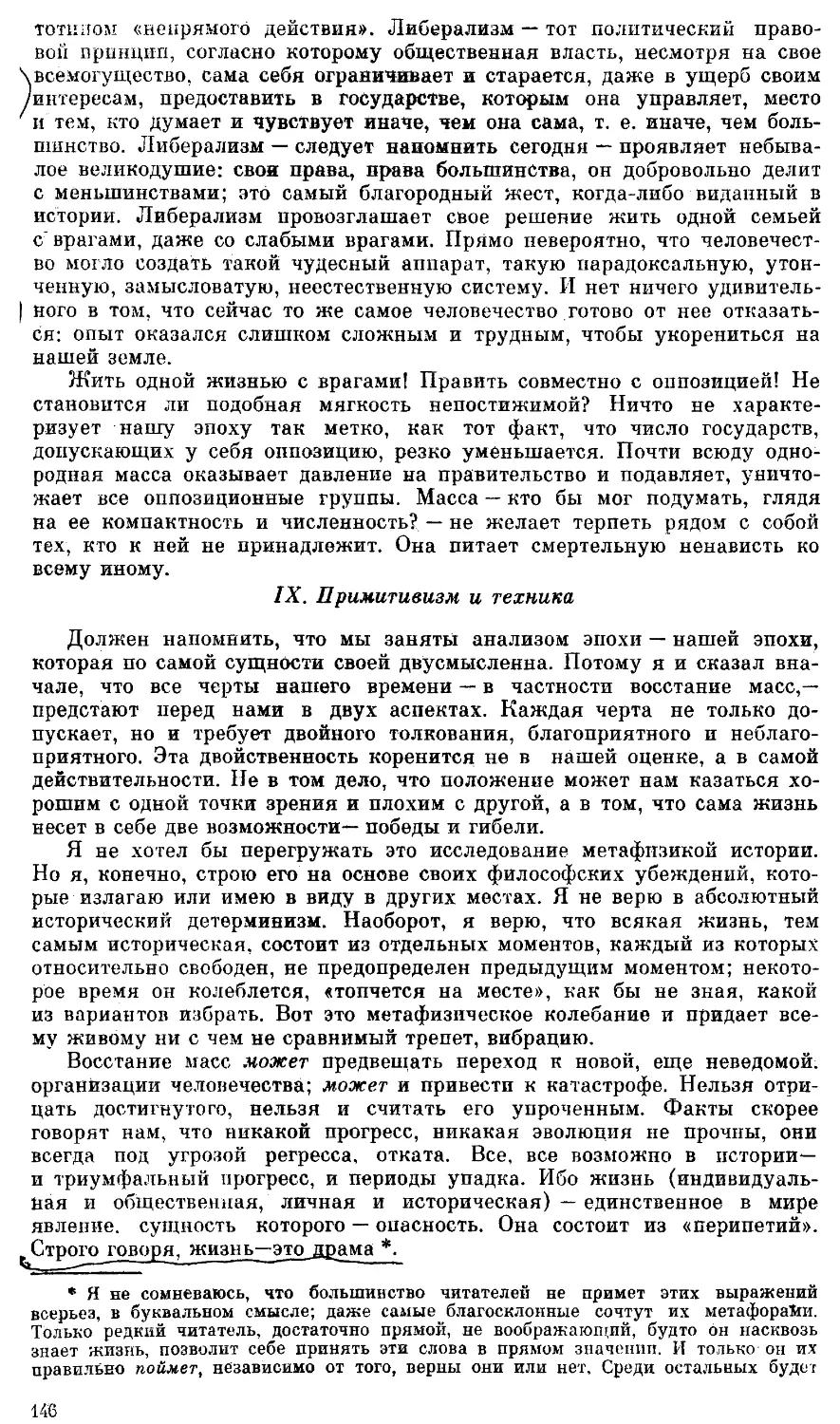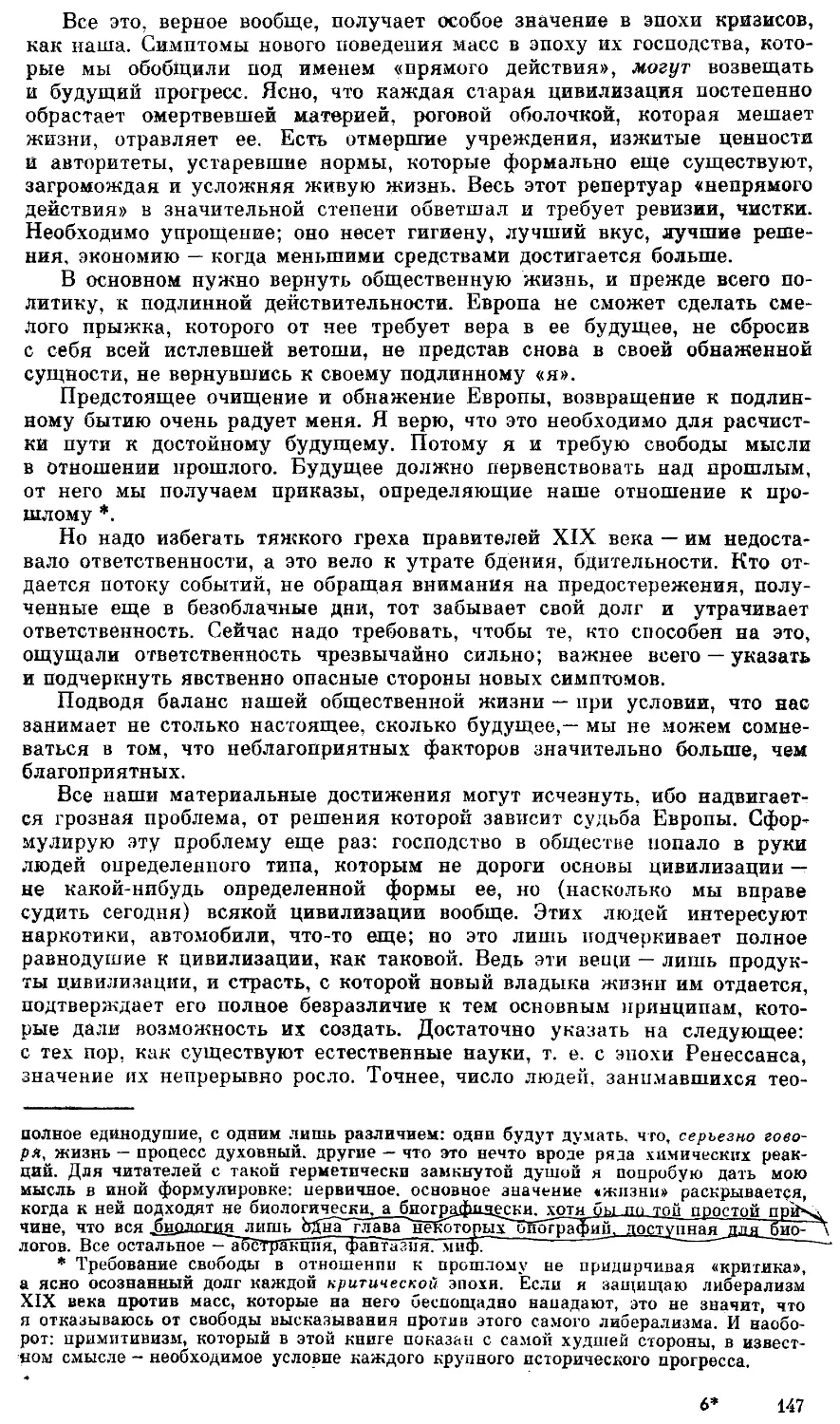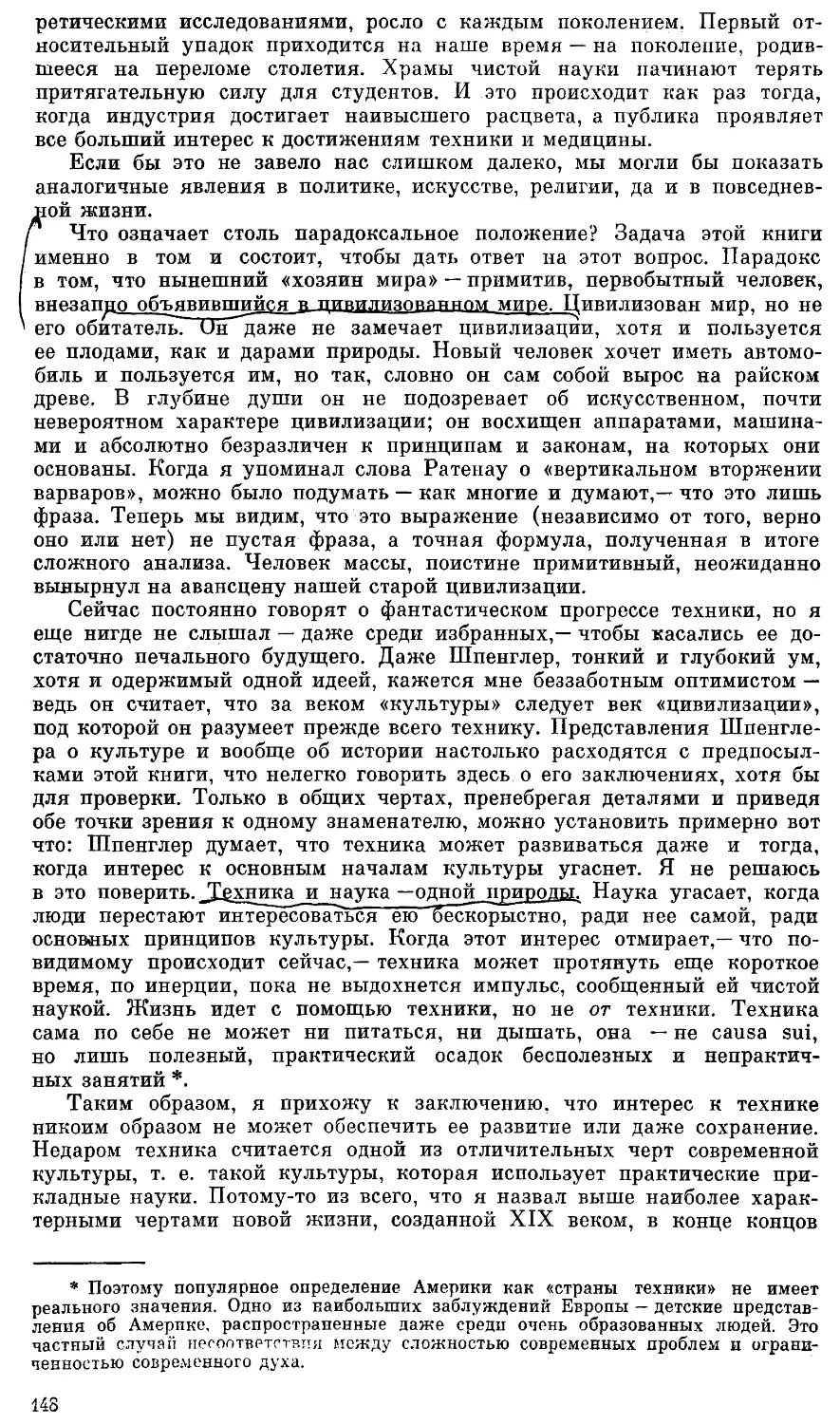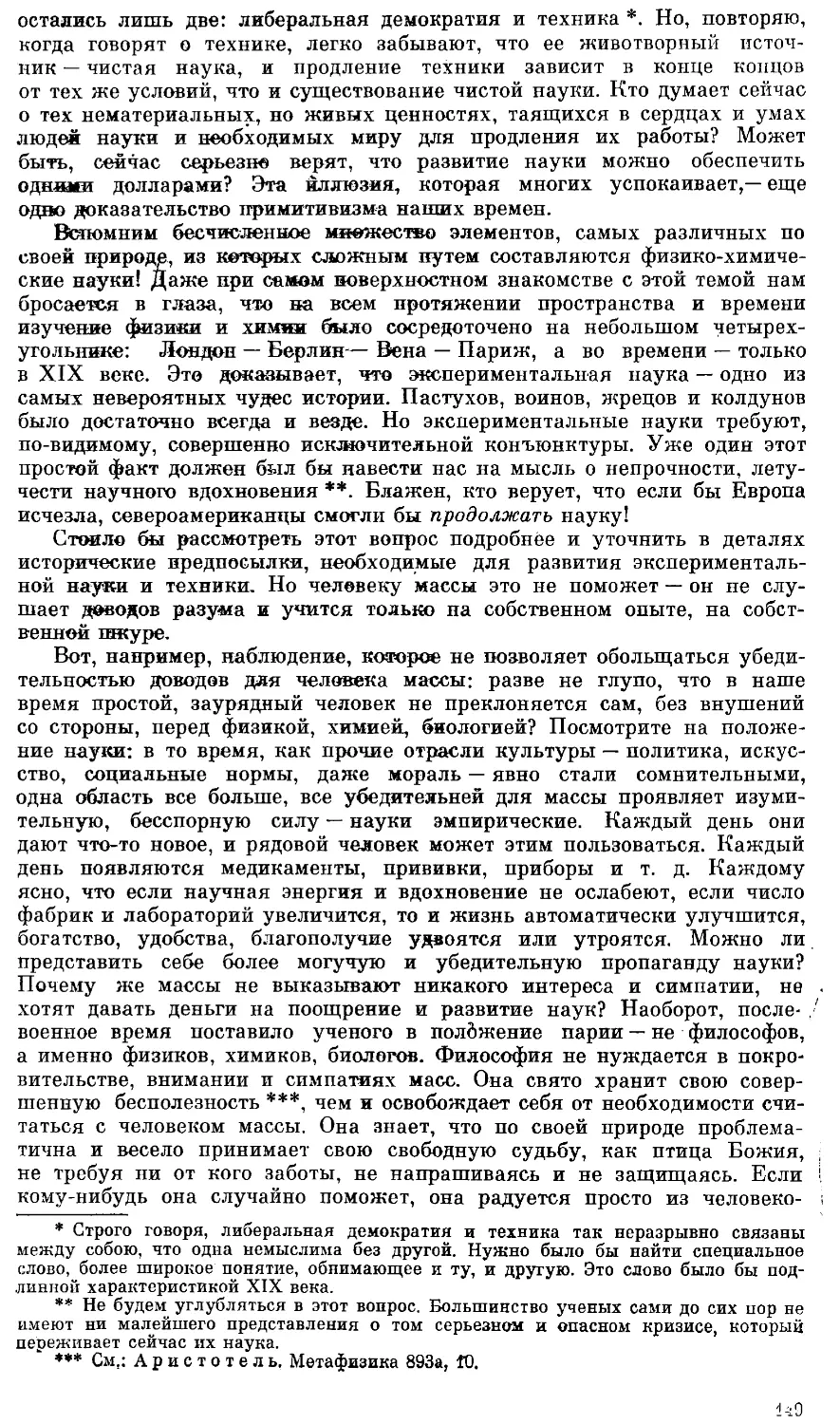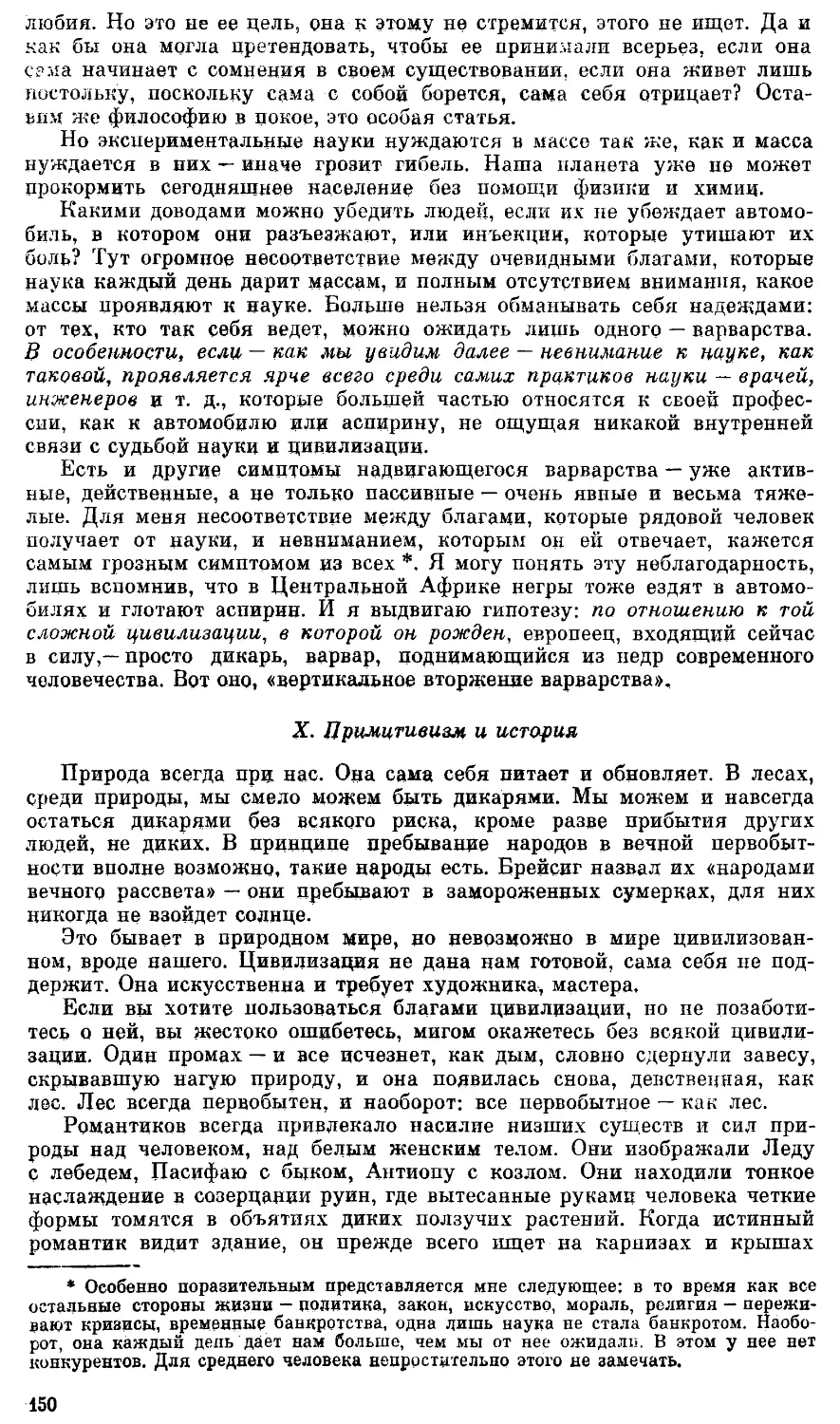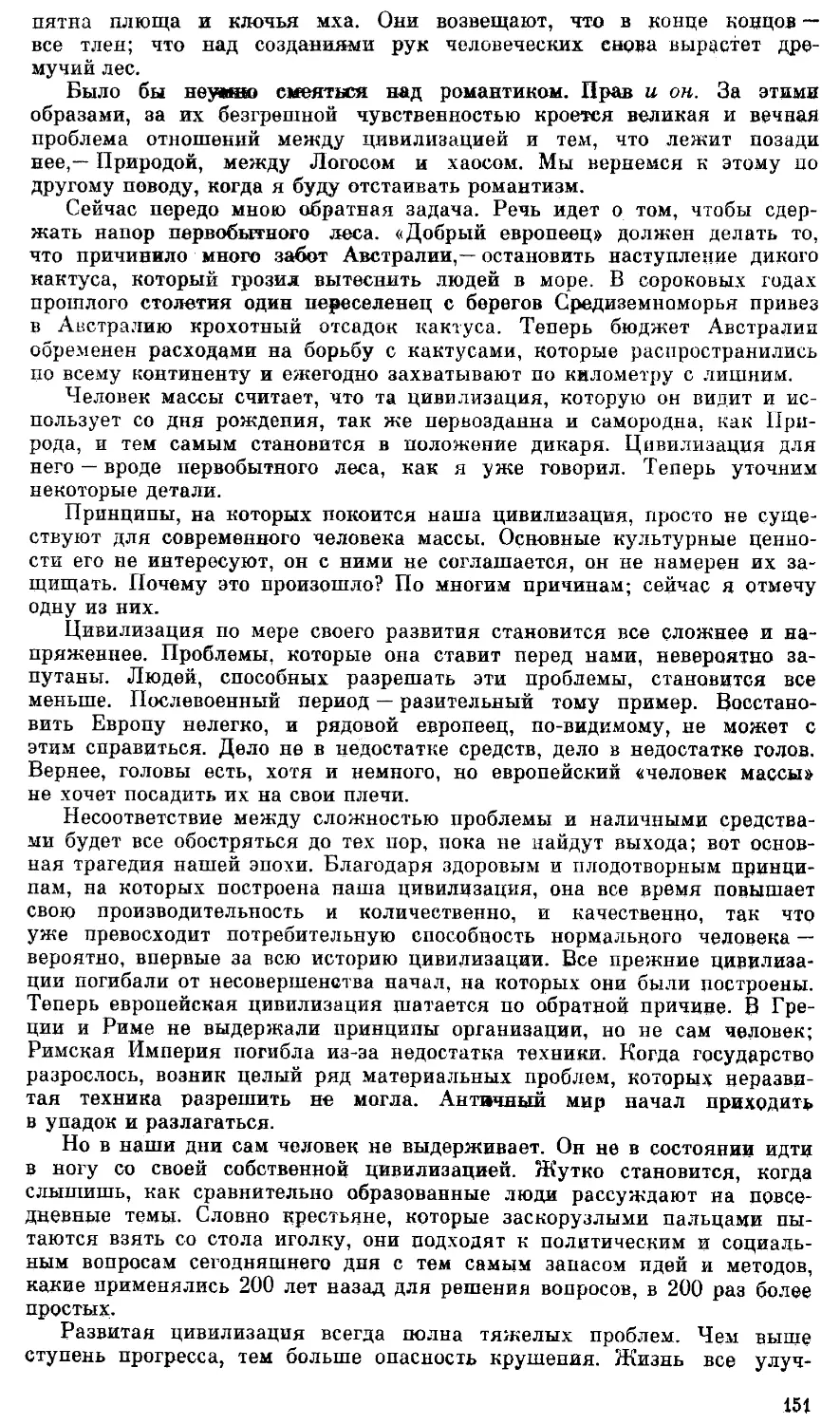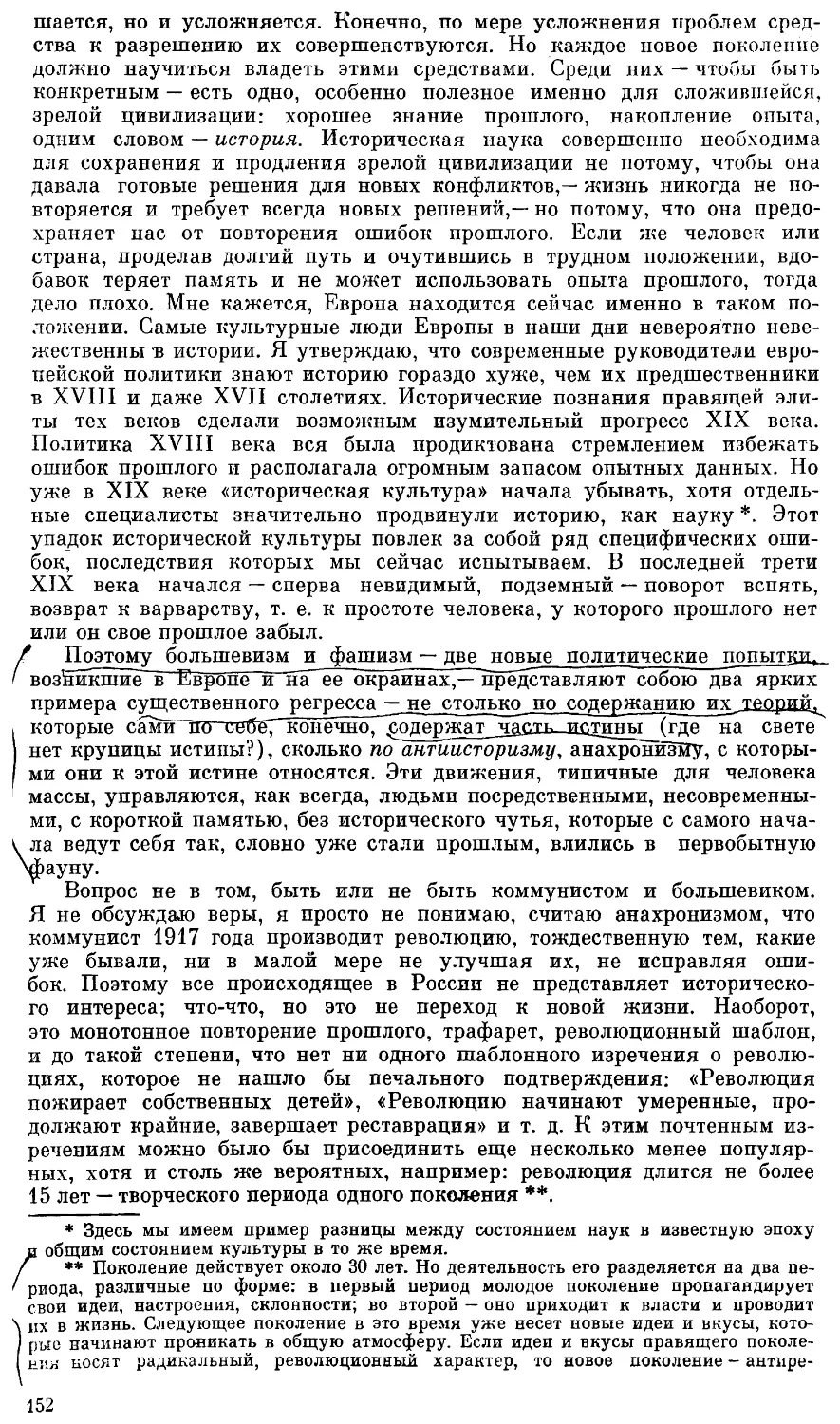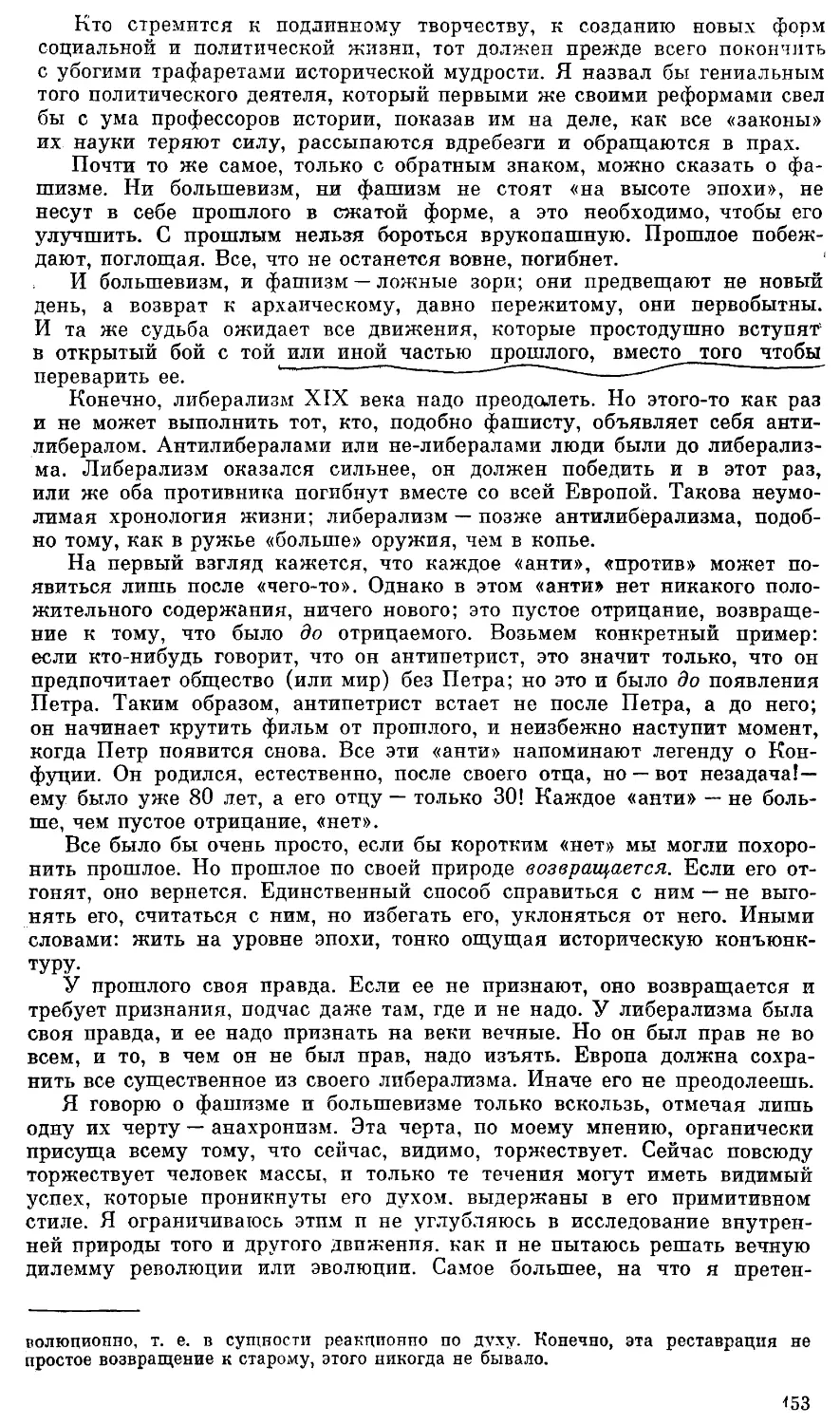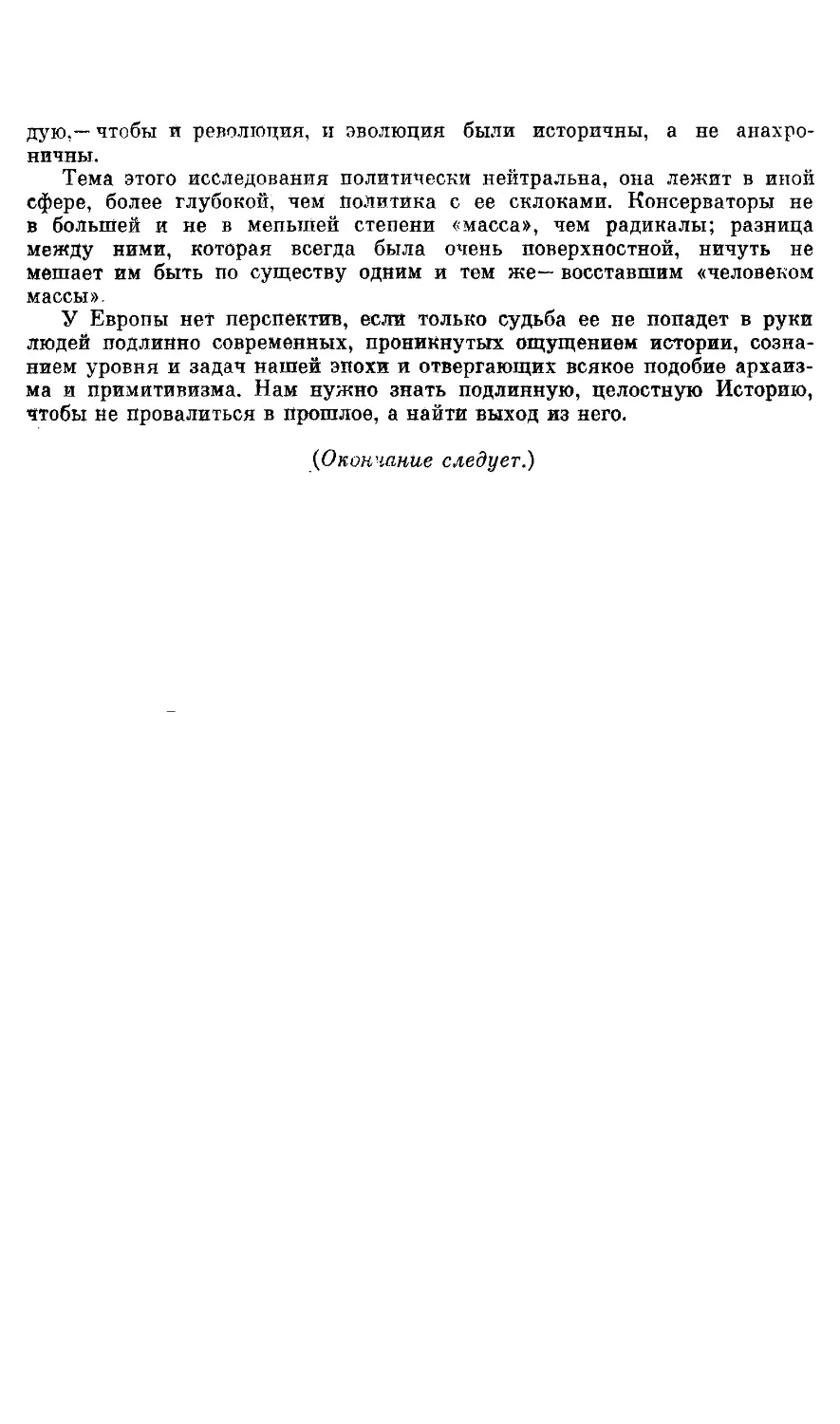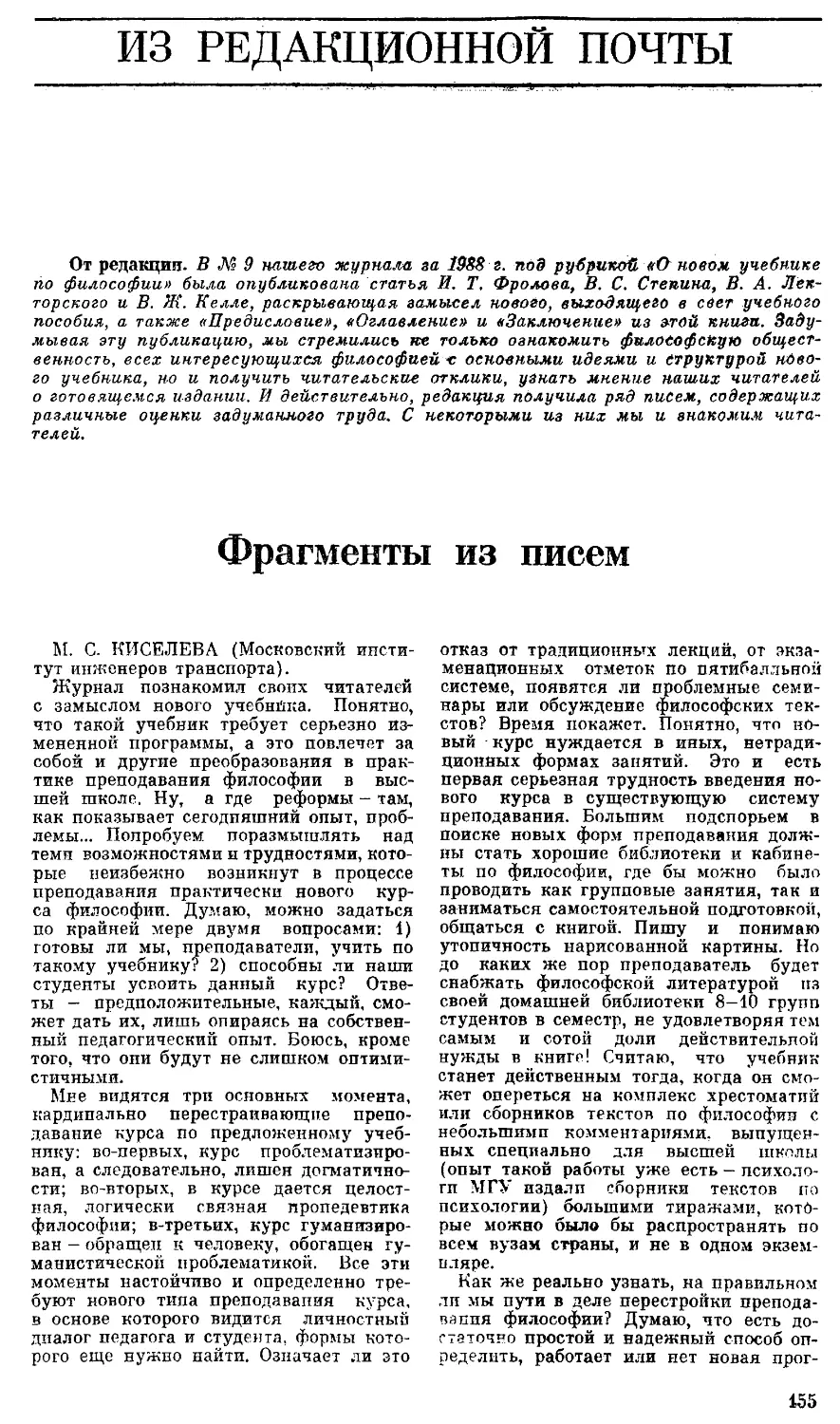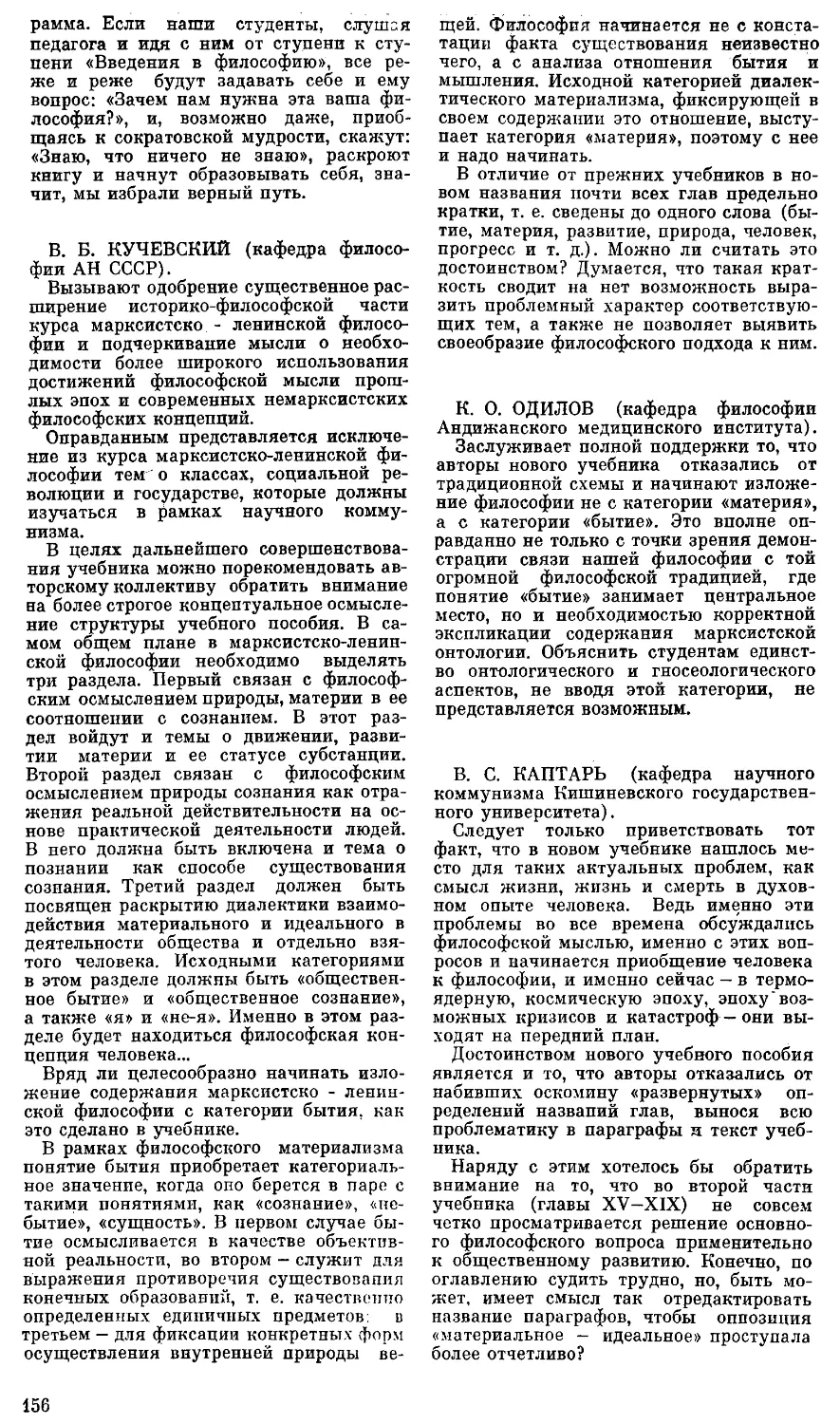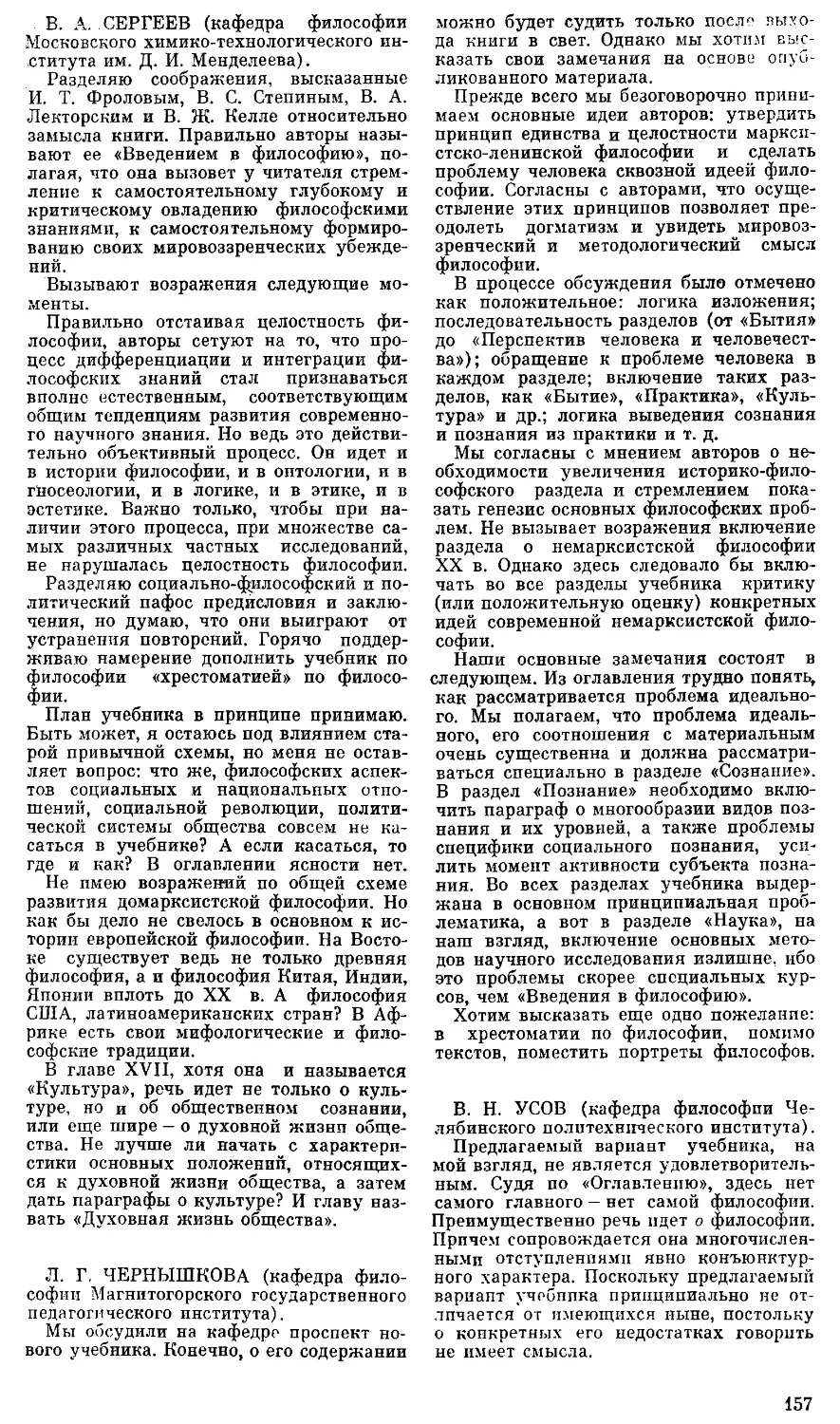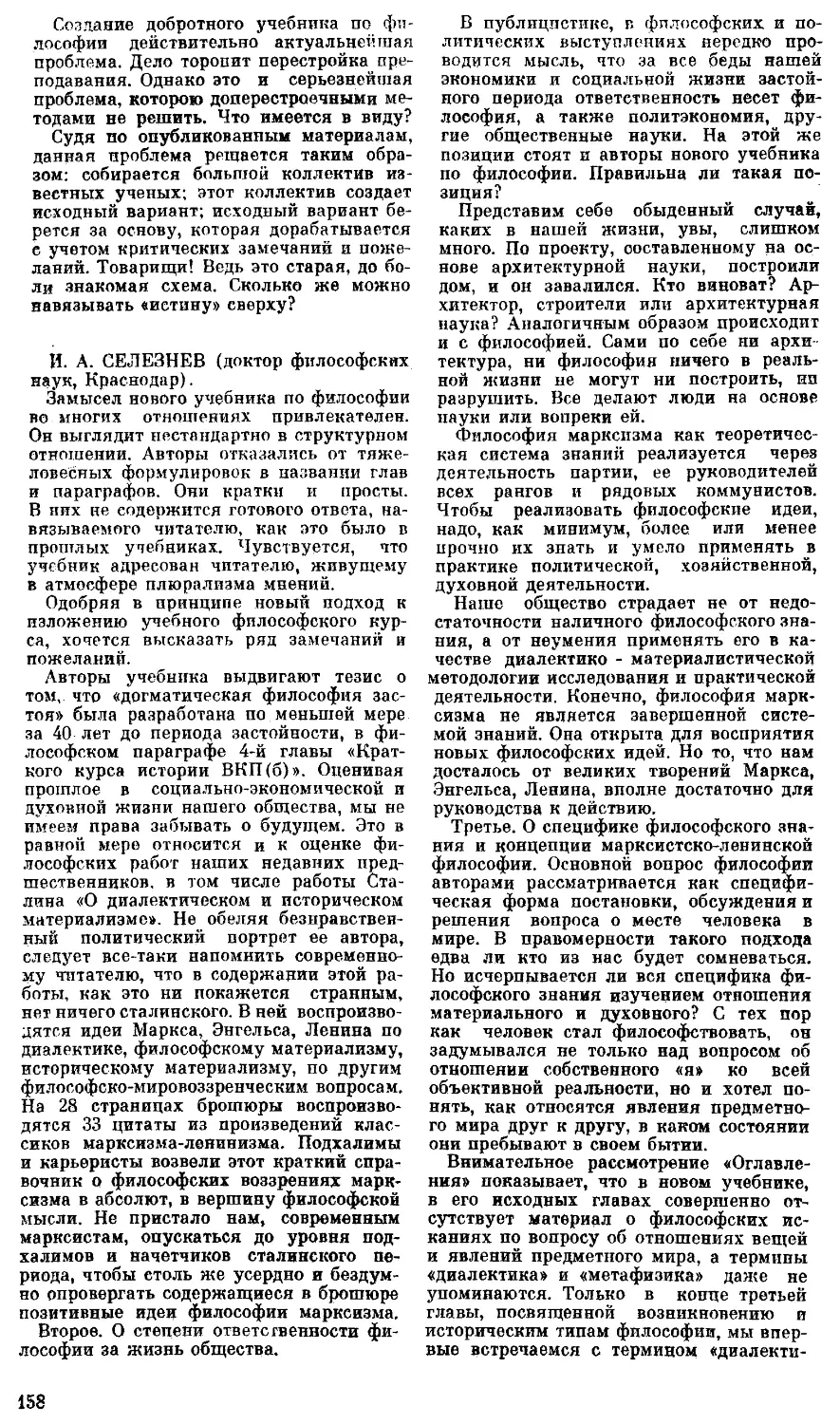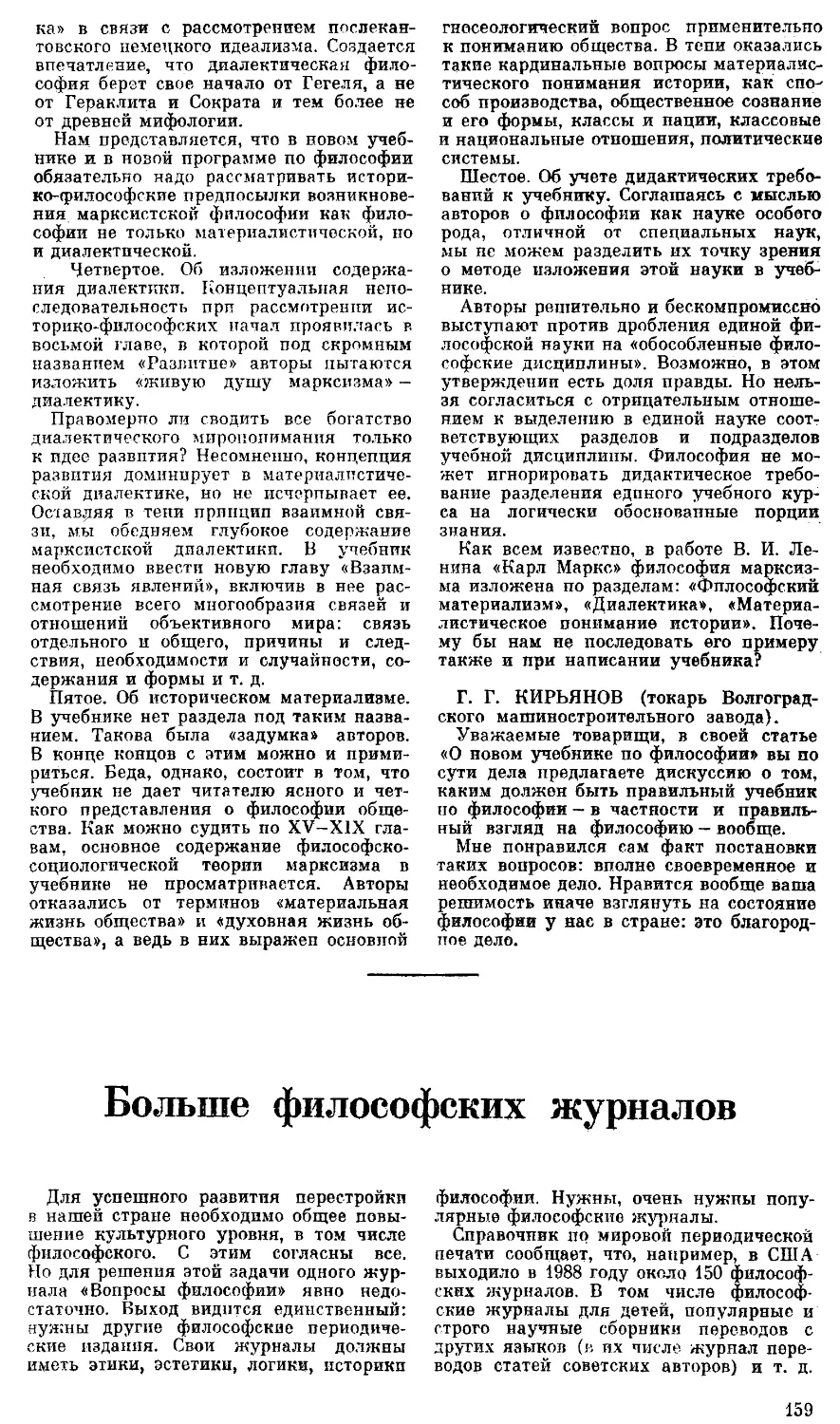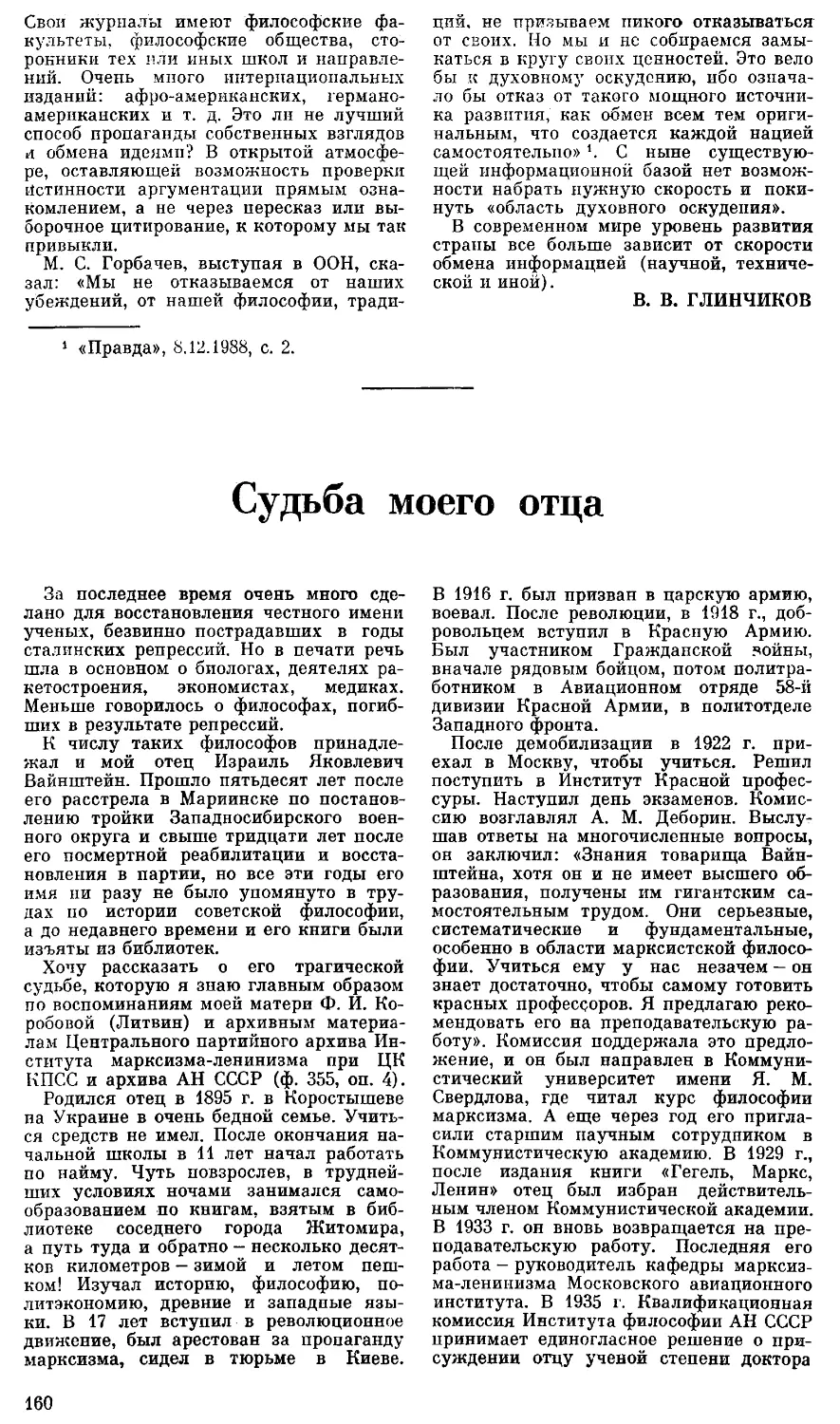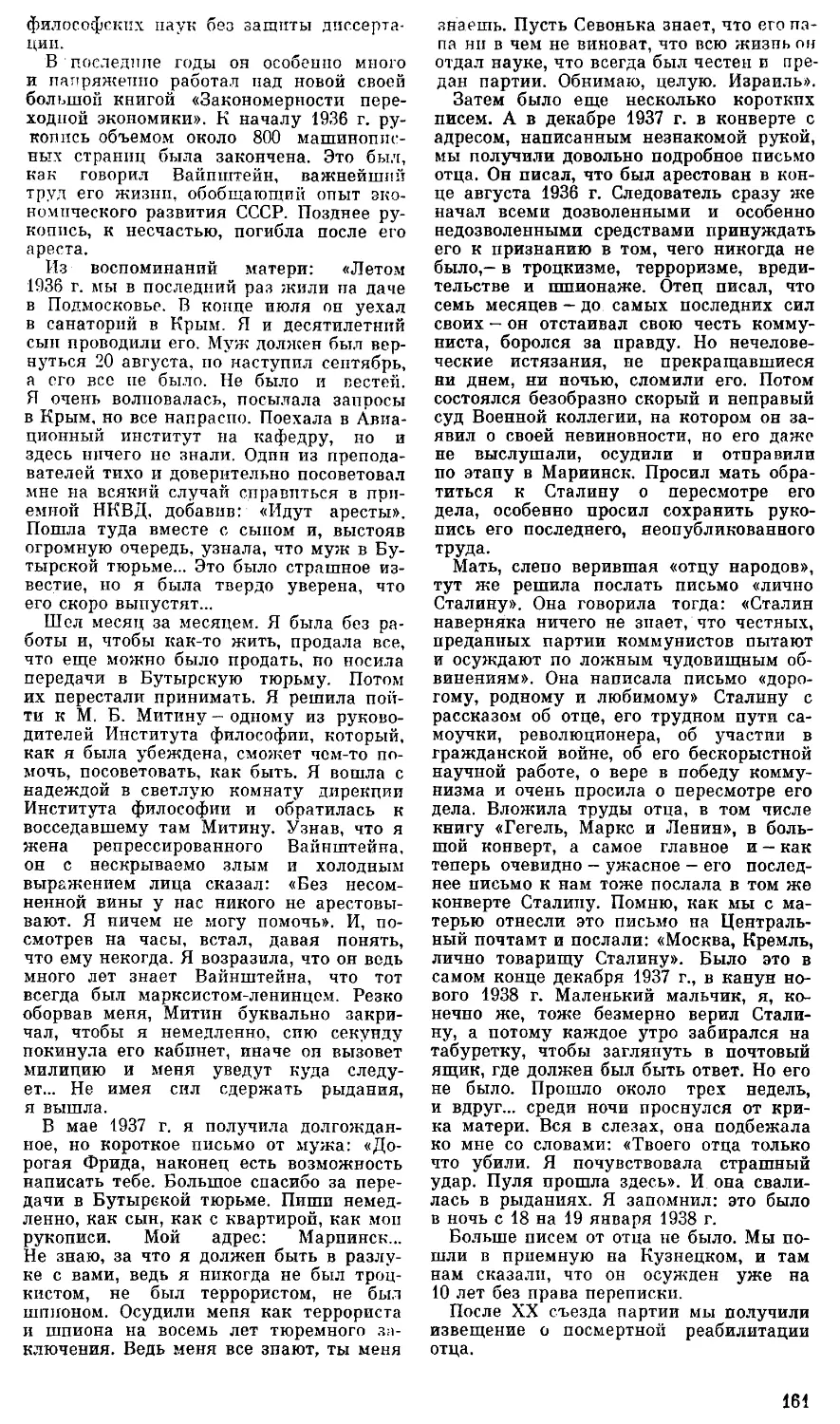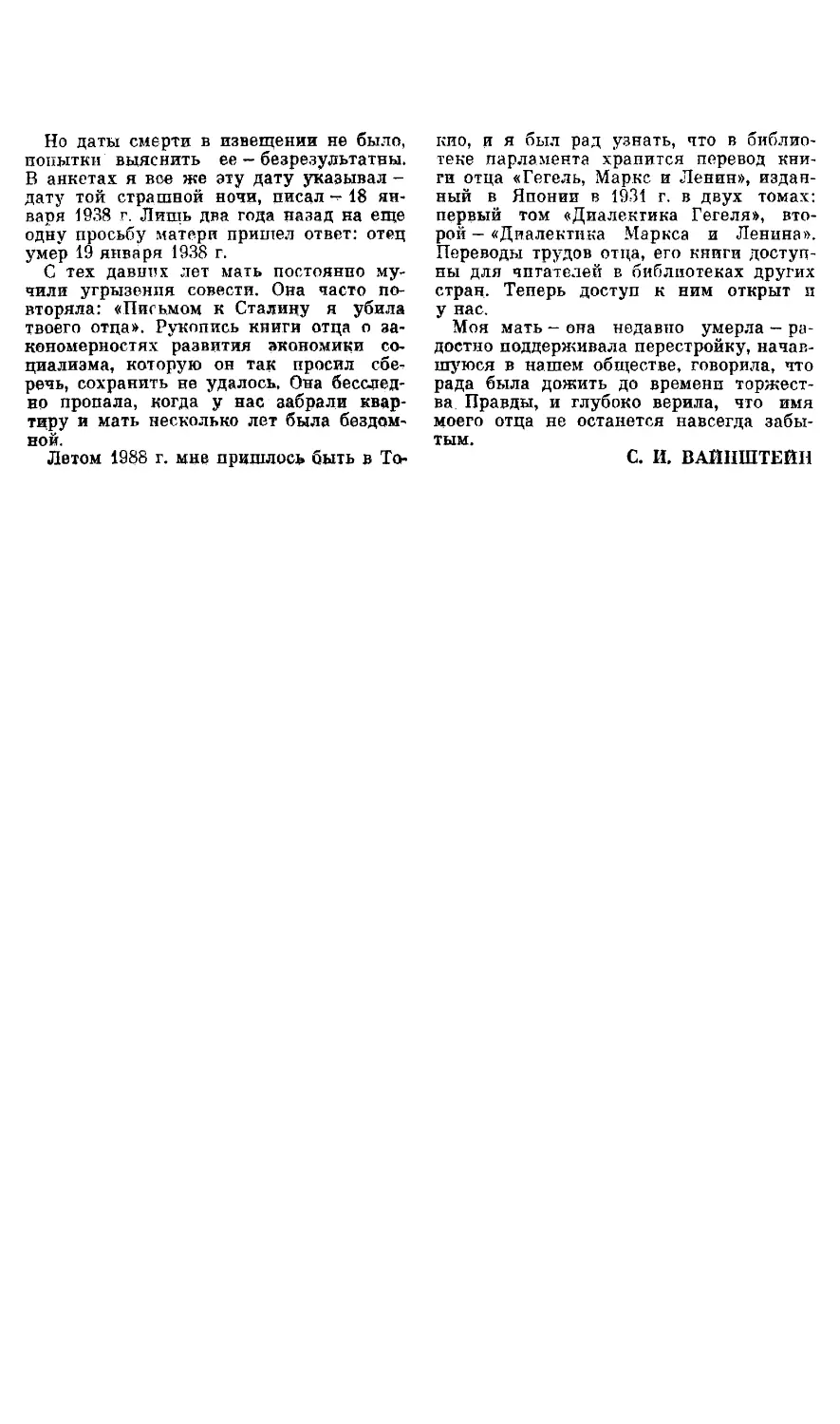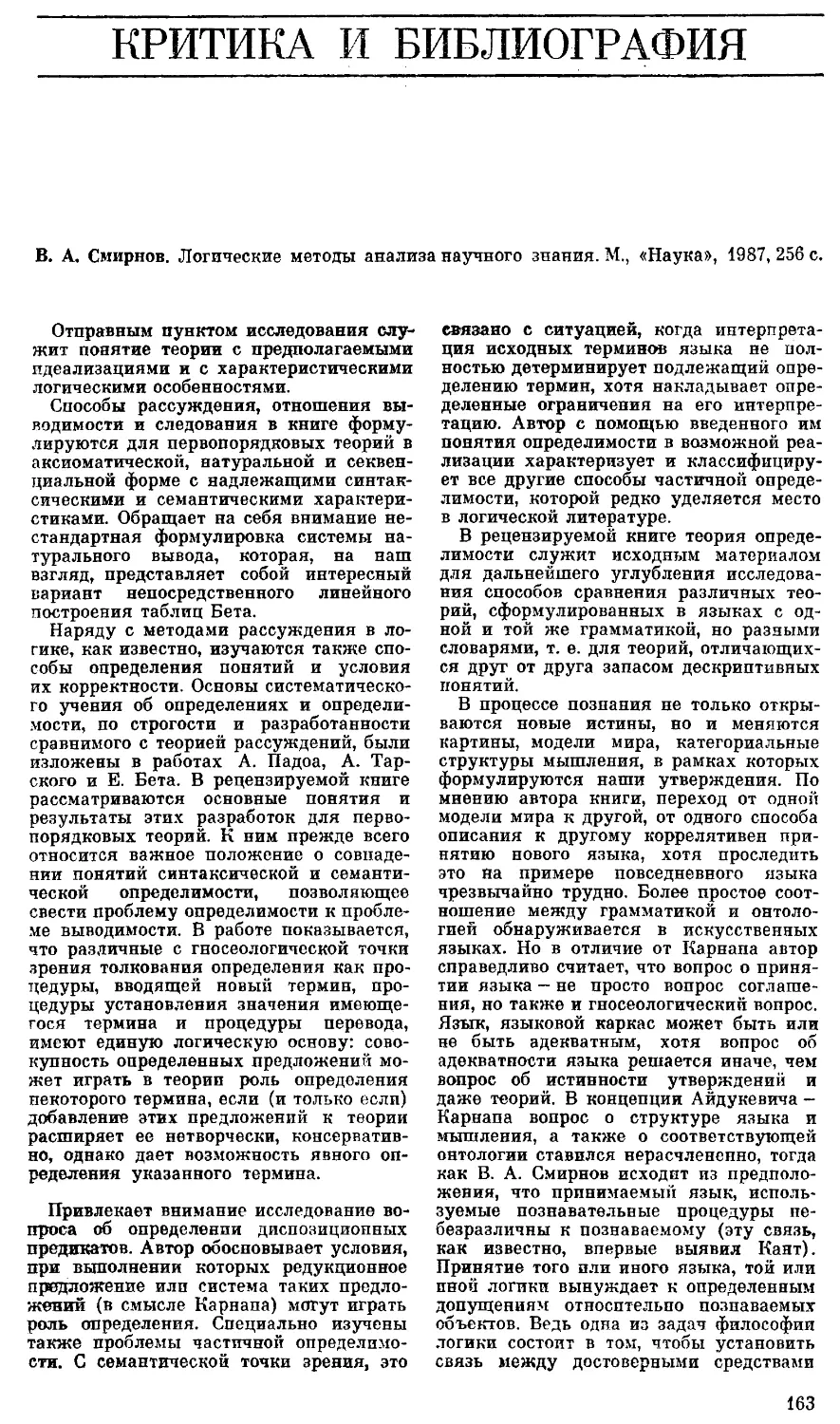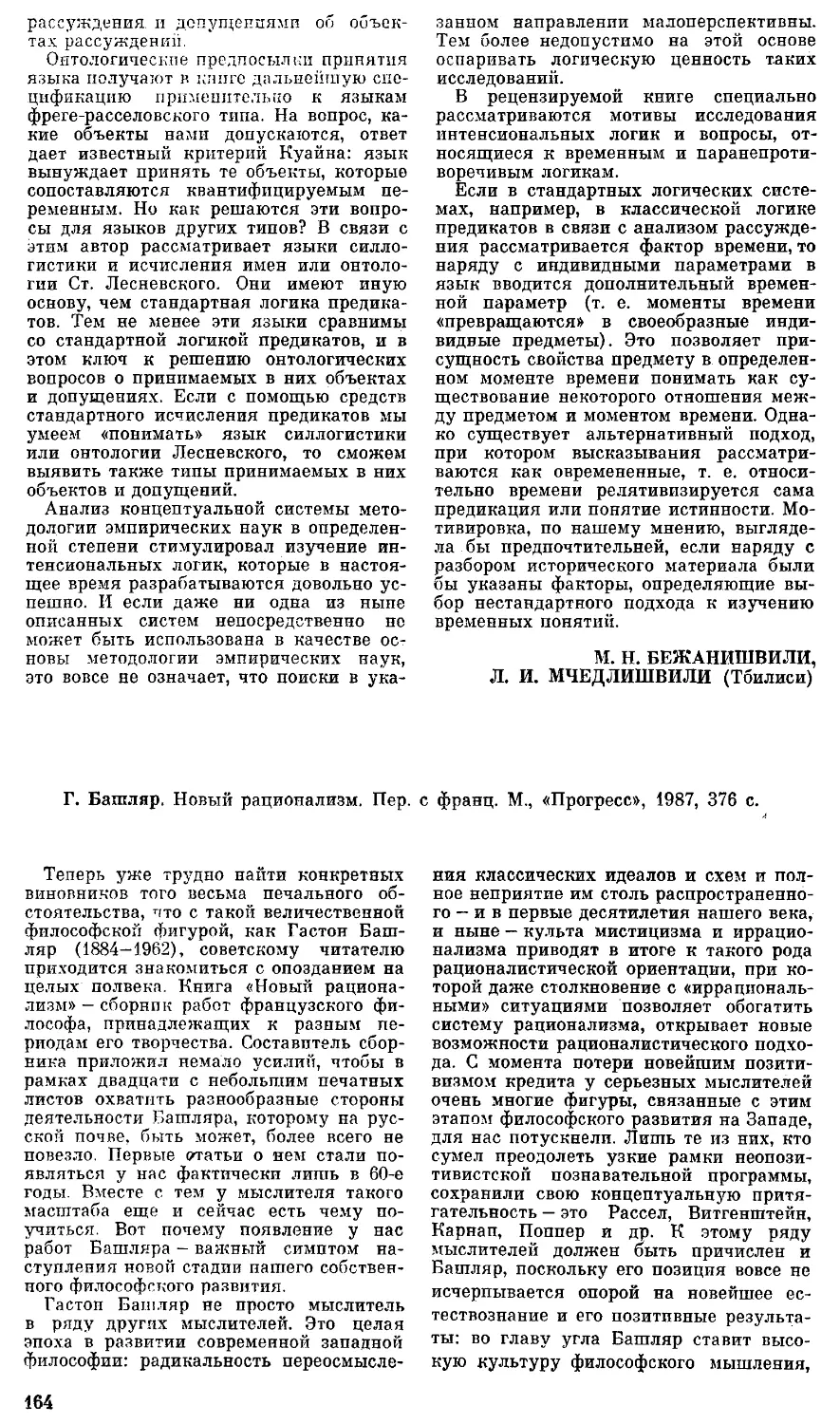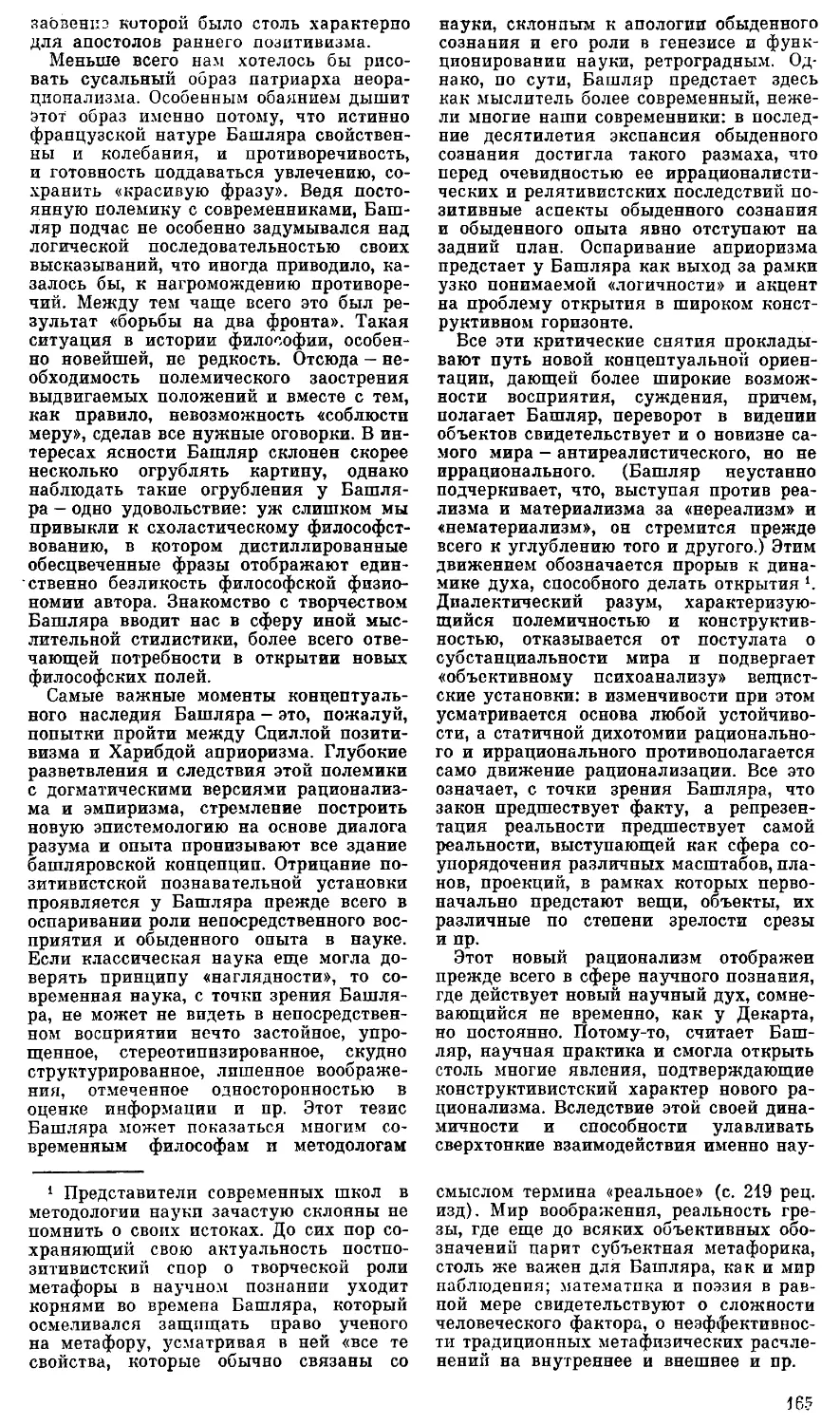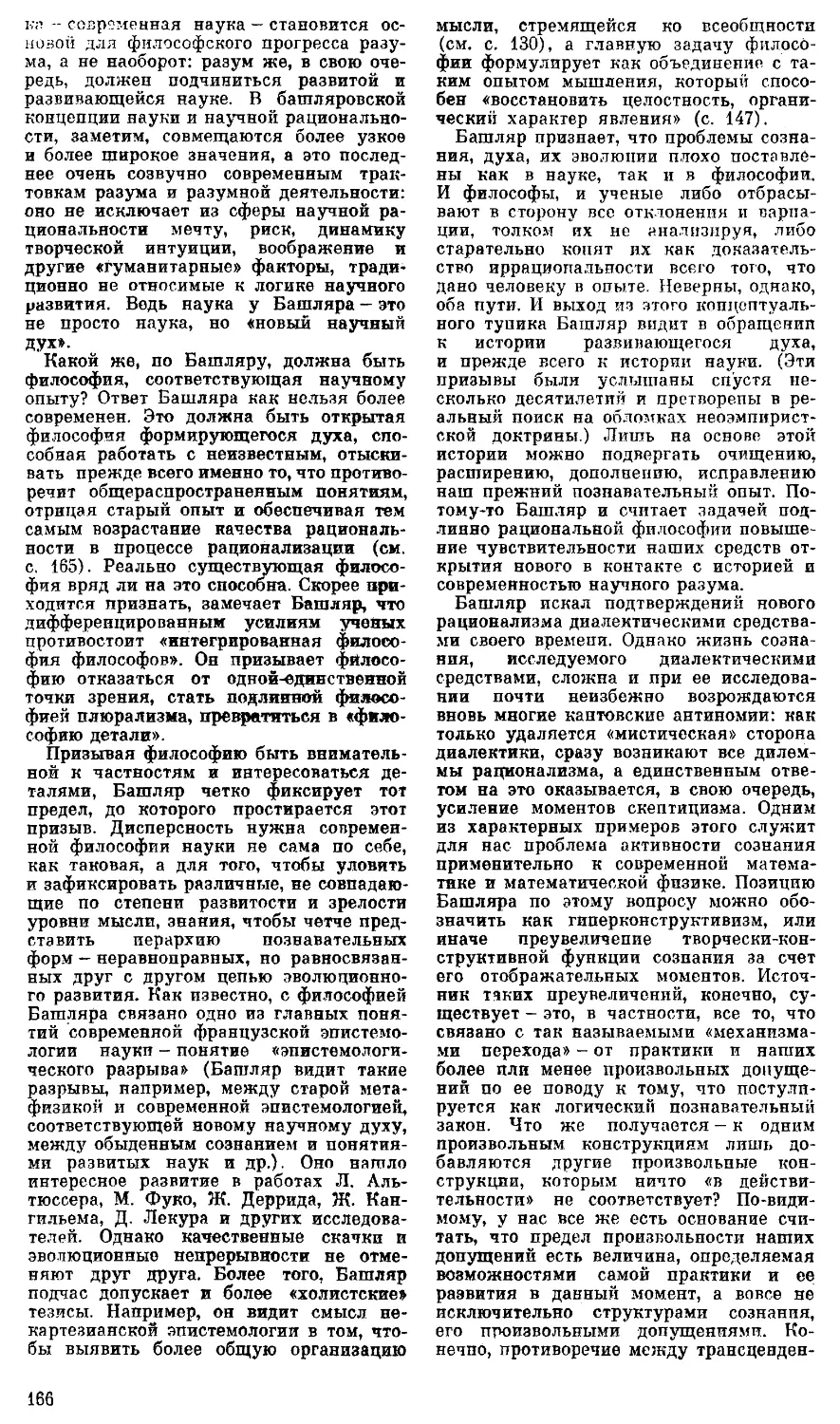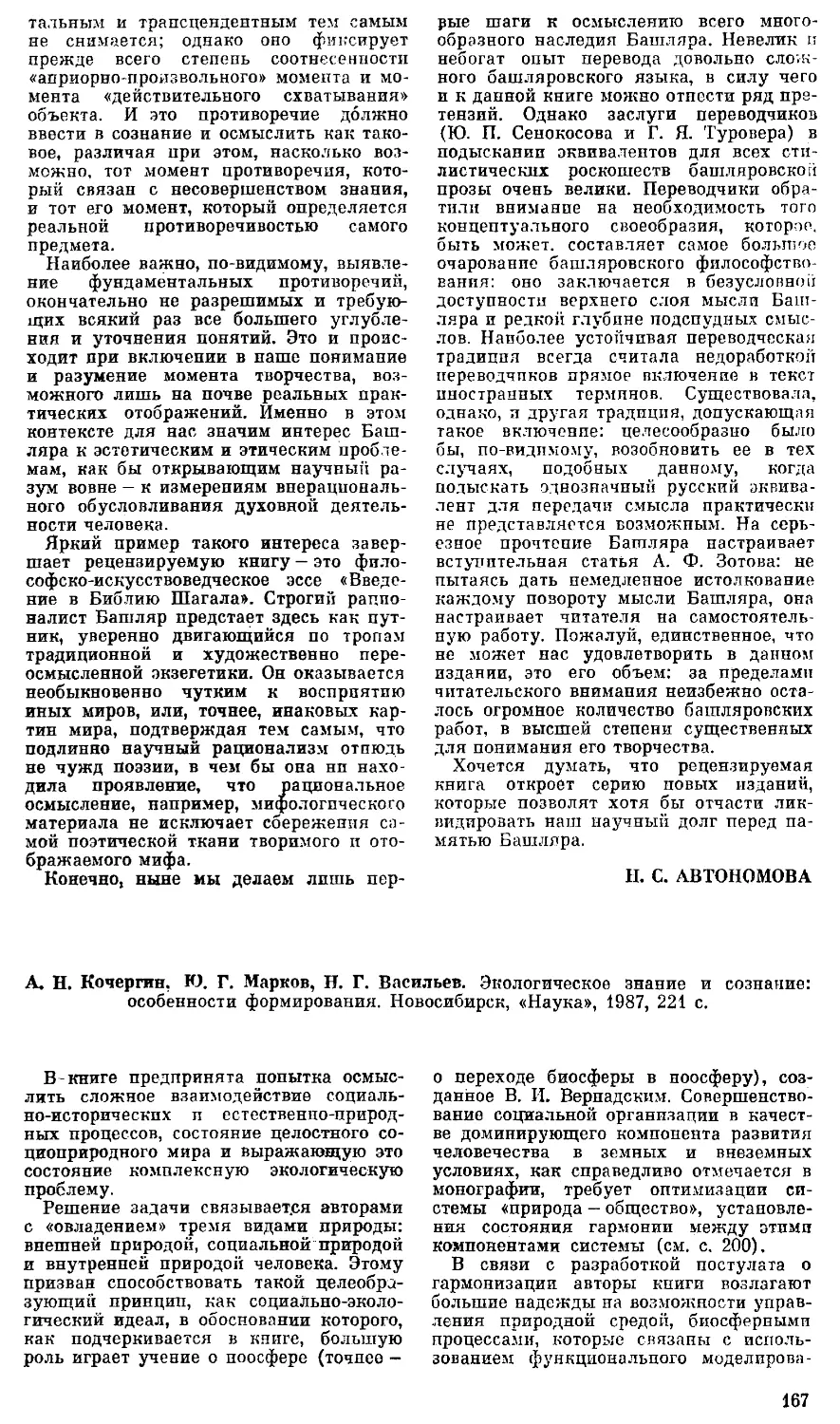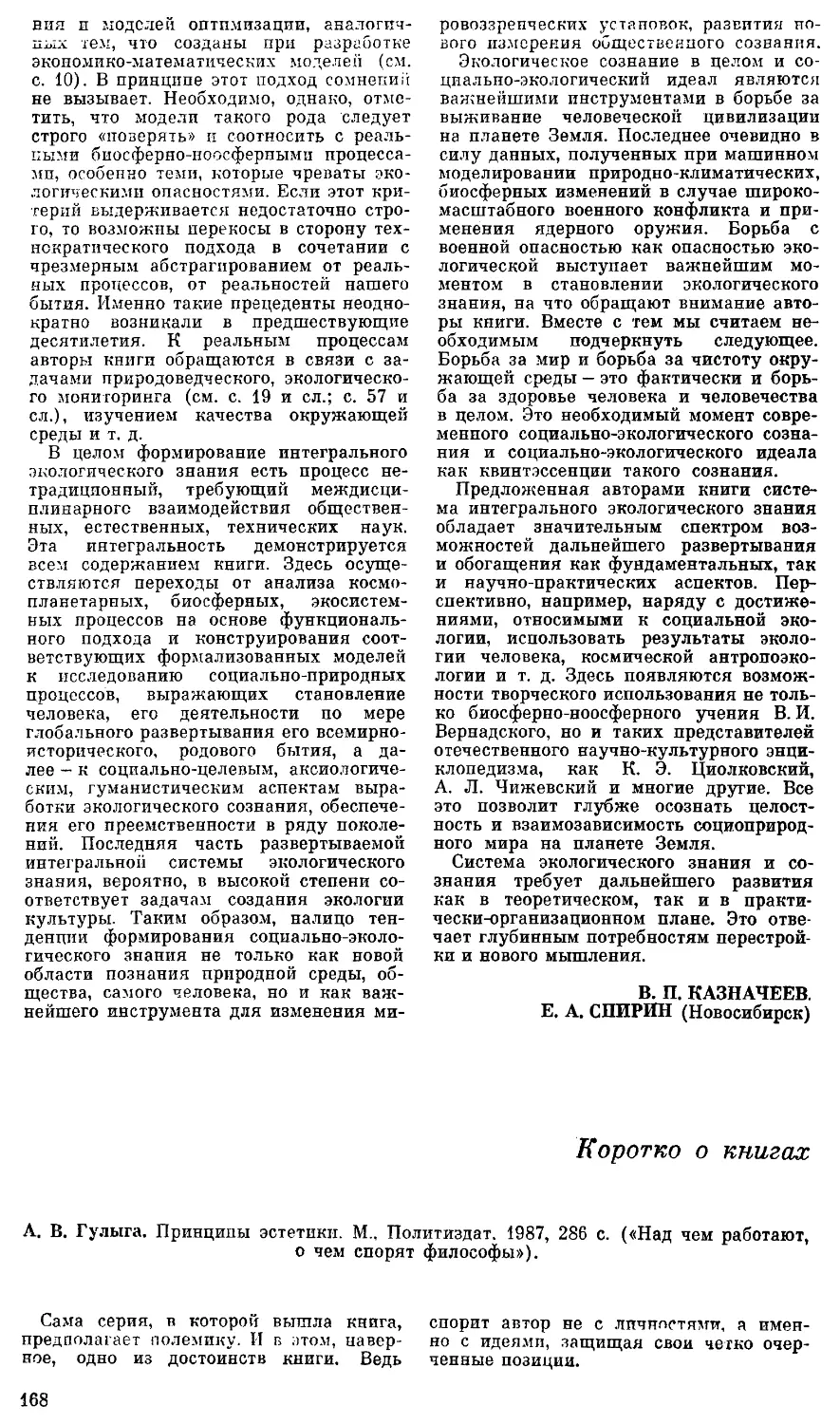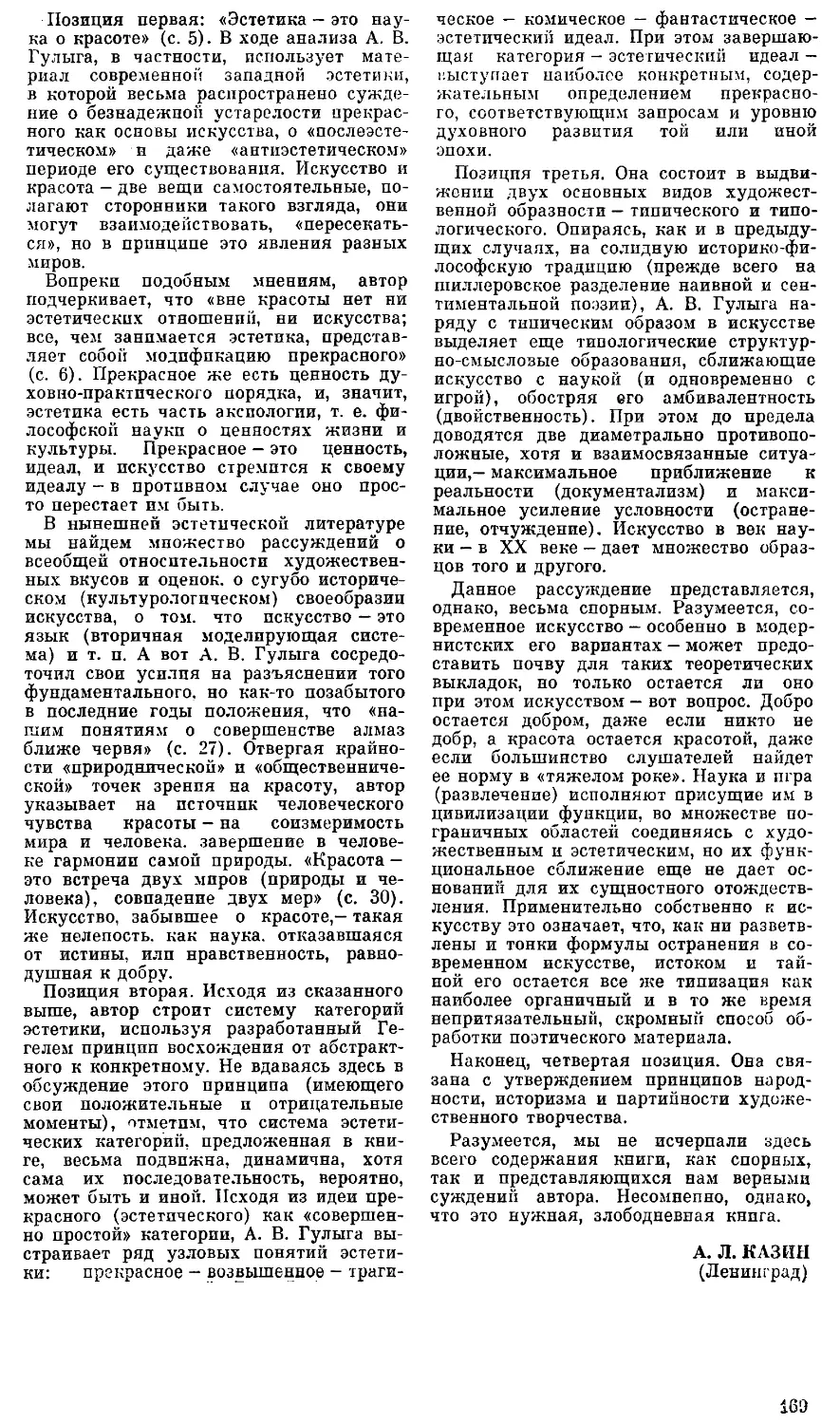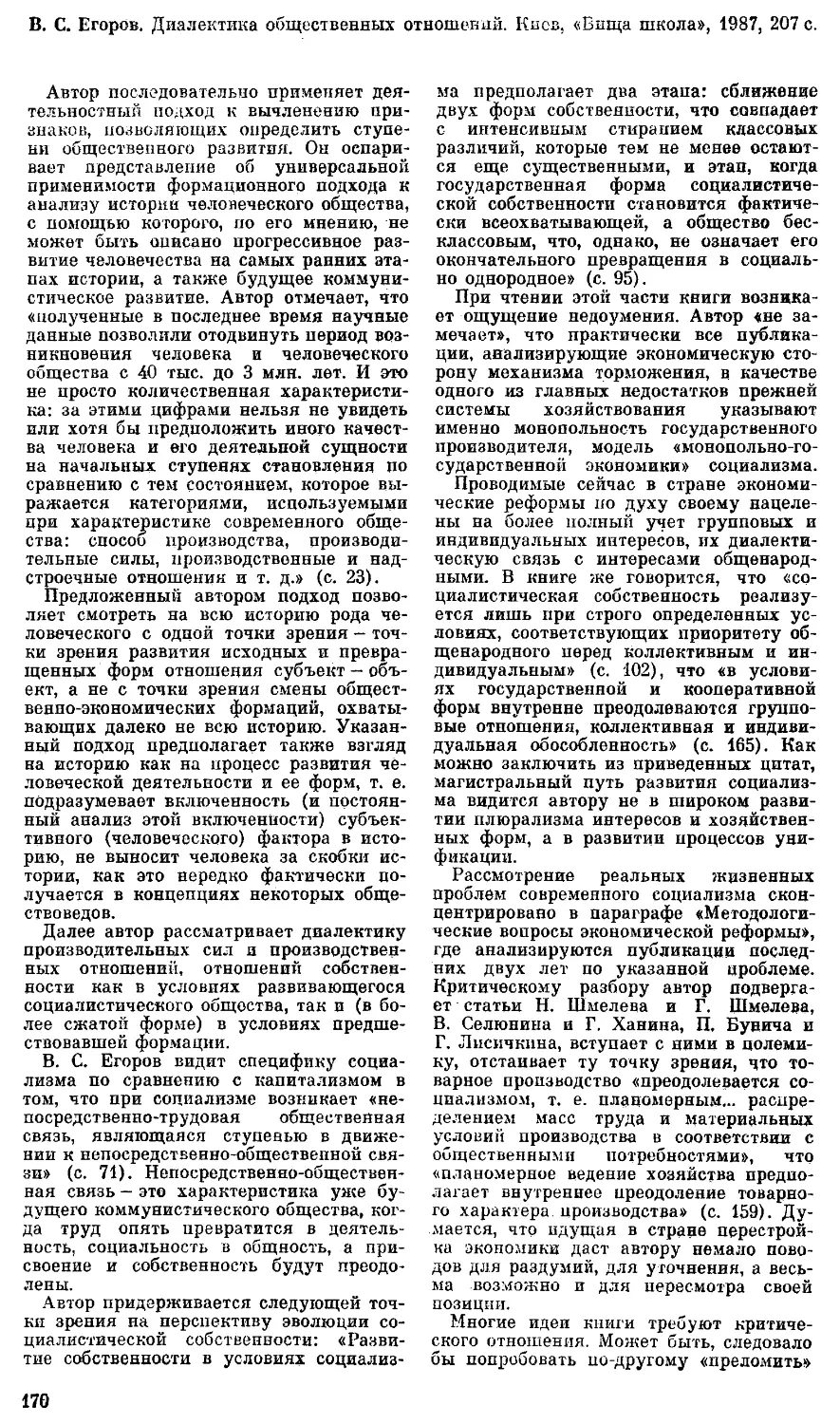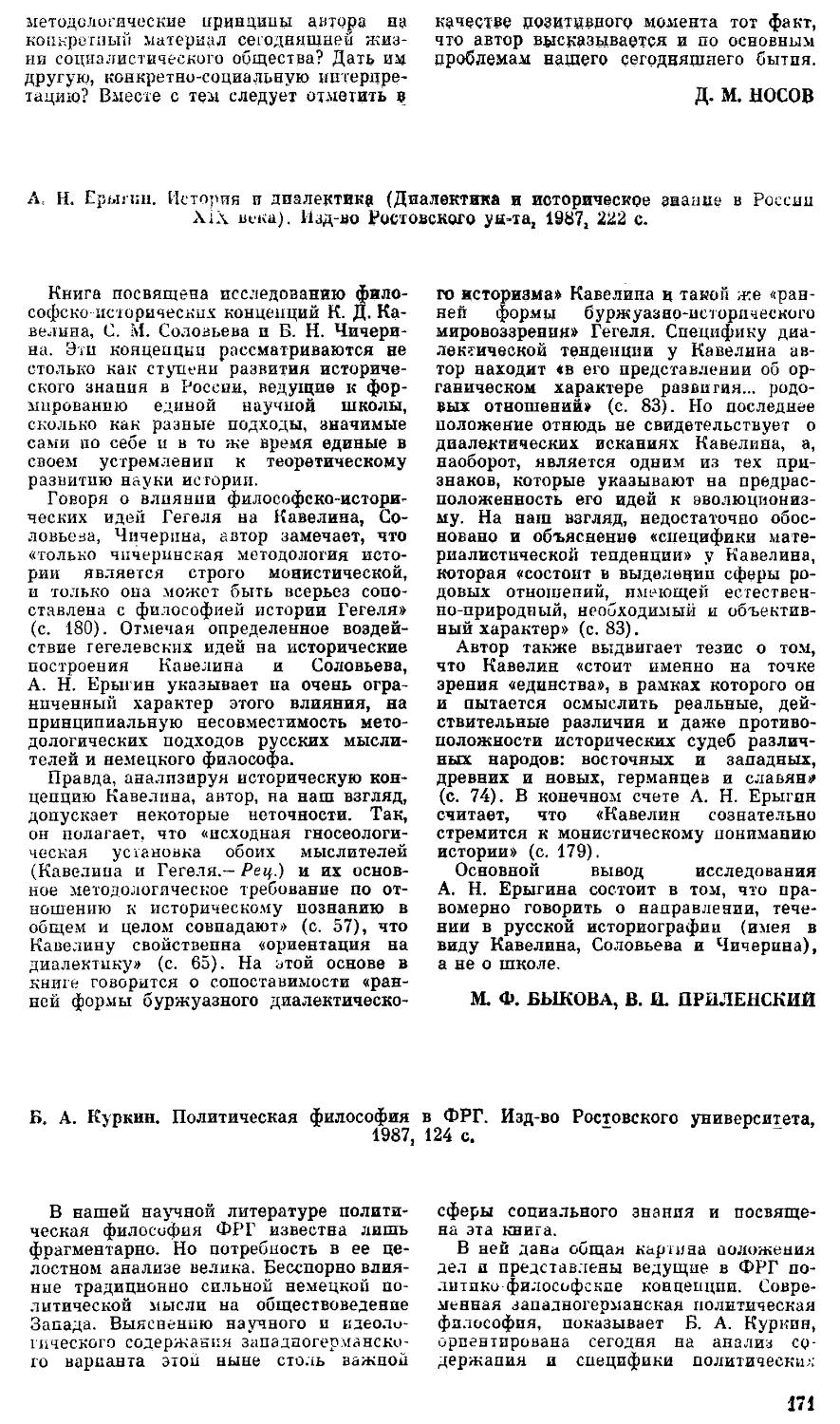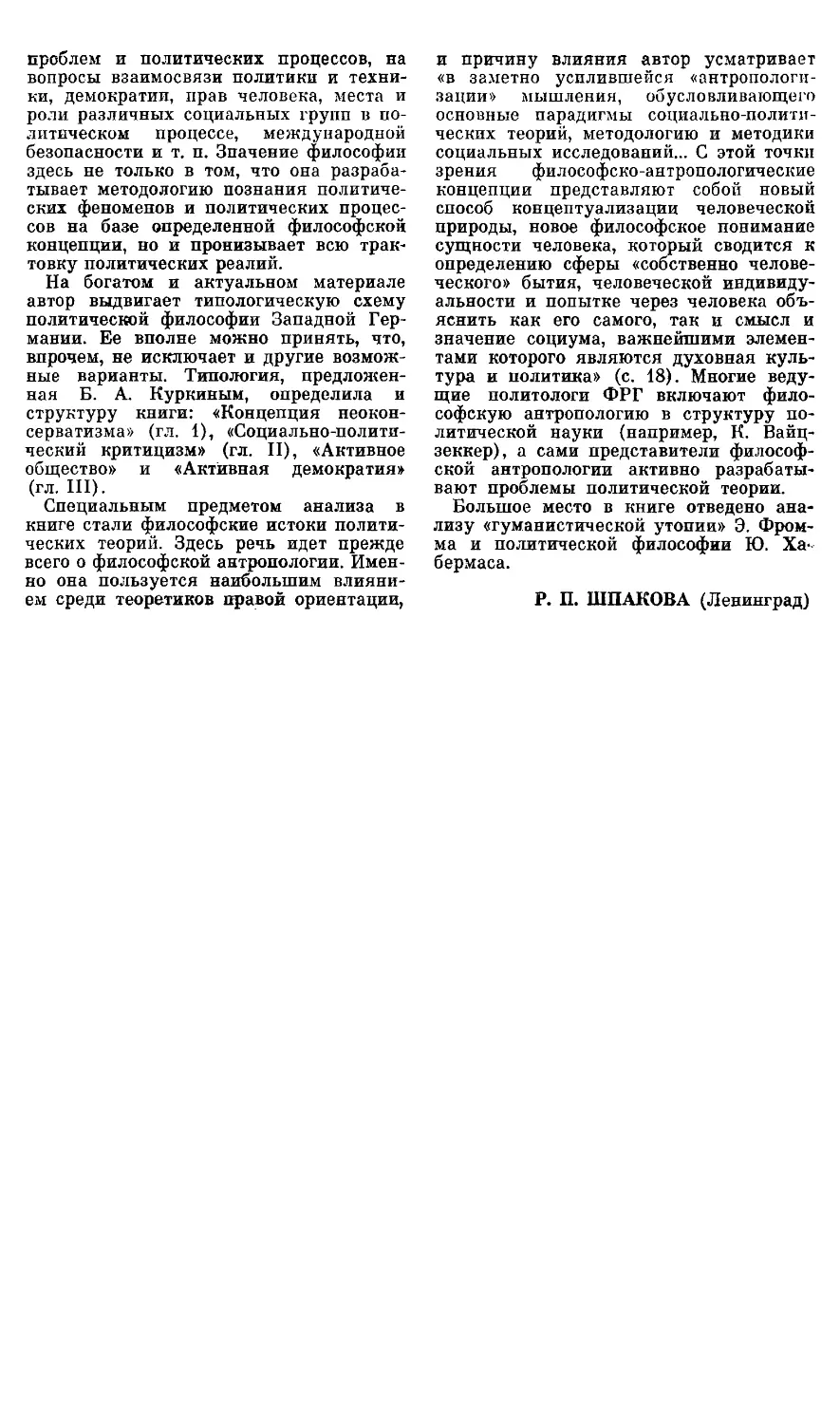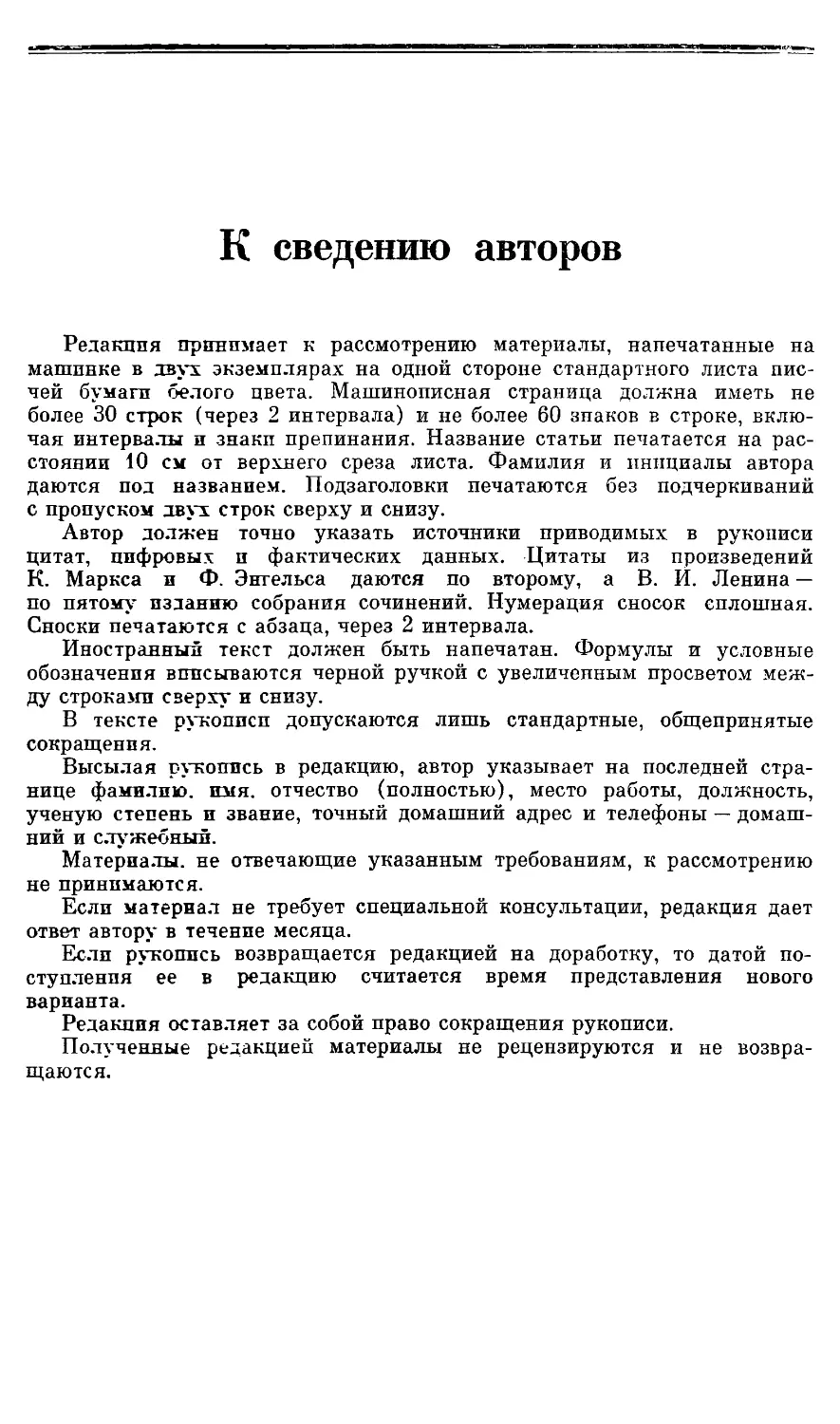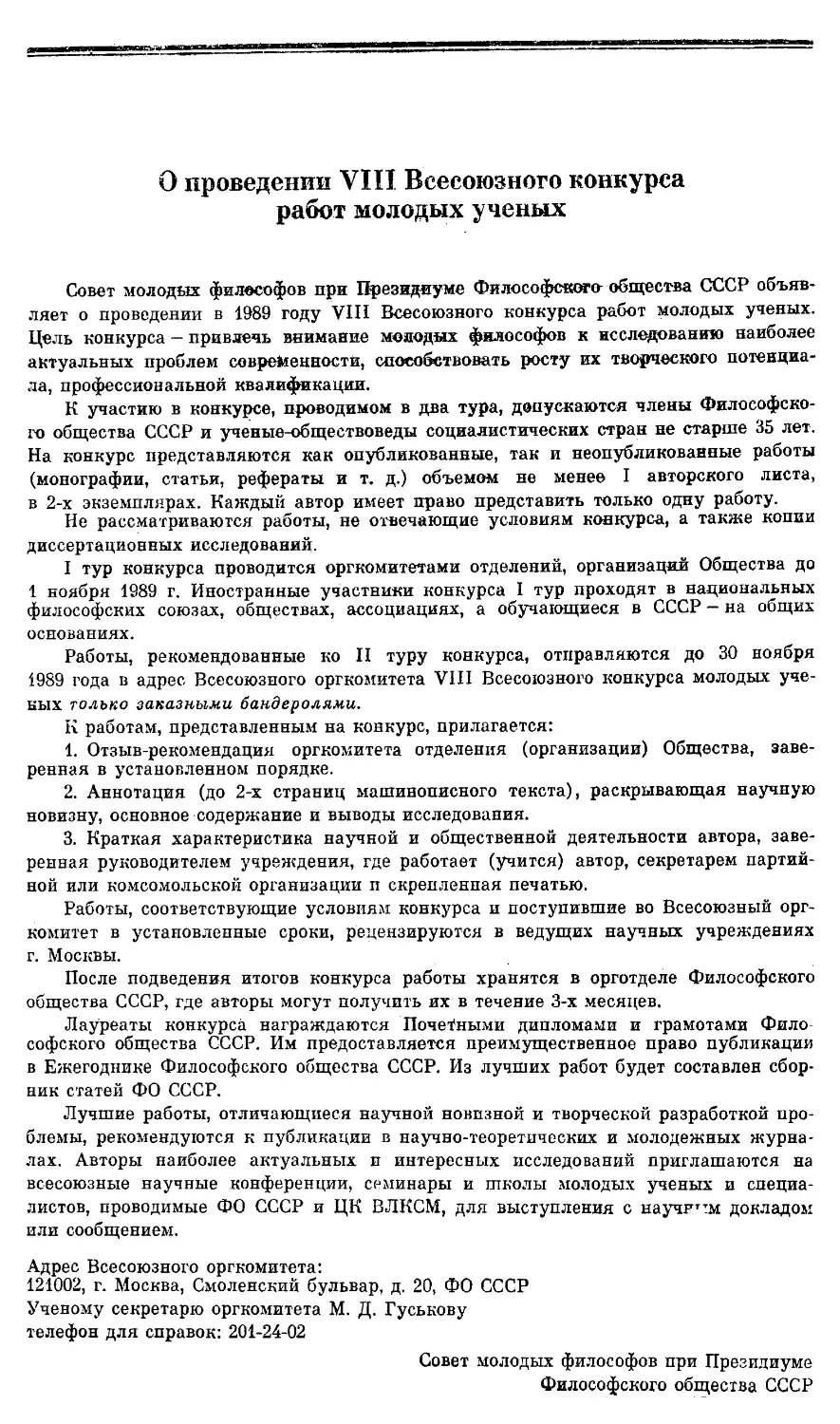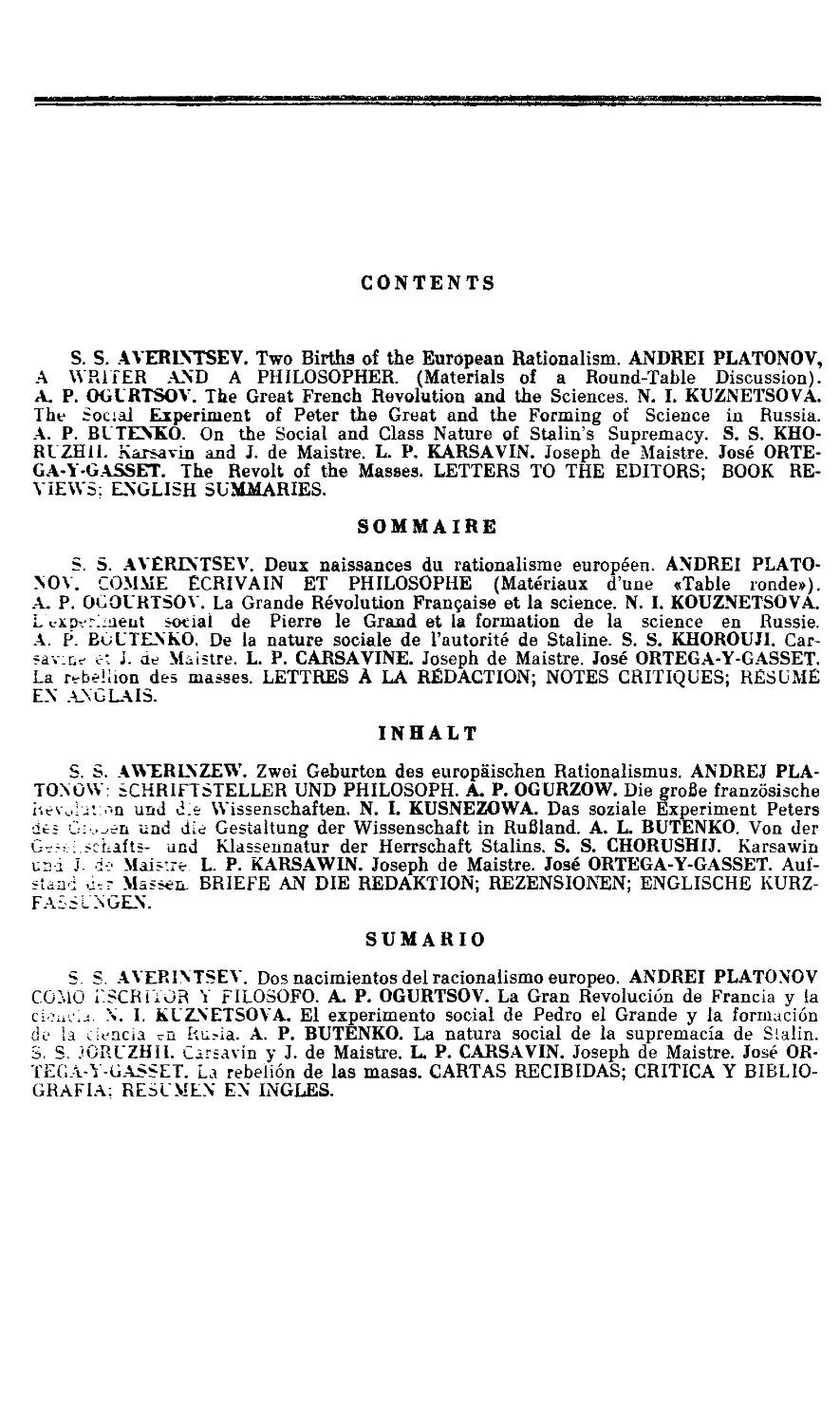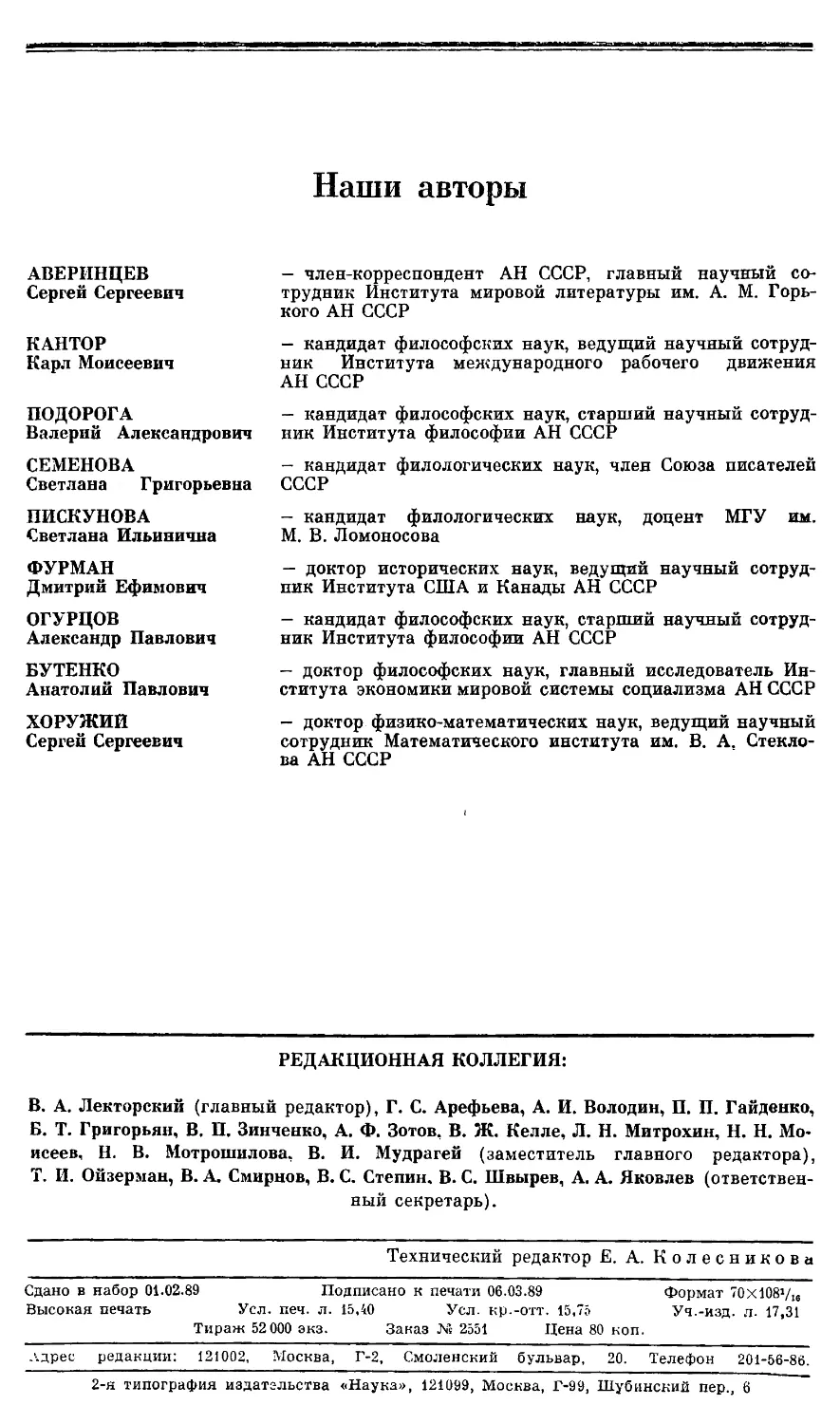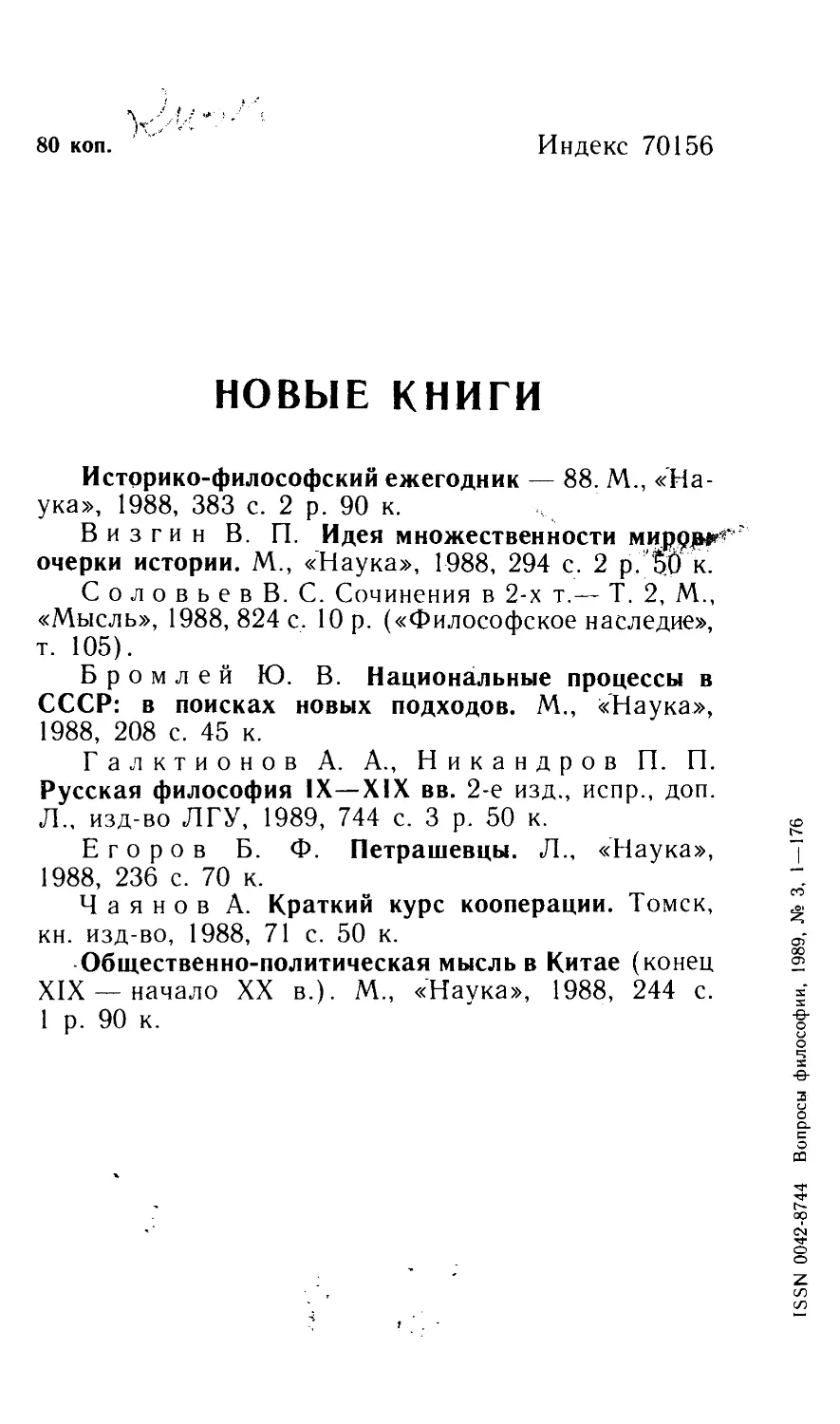Текст
ISSN 0042 8744
ВОПРОСЫ
ФИЛОСОФИИ
1989
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ВОПРОСЫ
ФИЛОСОФИИ
№ 3
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1947 ГОДА
ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО
1989
СОДЕРЖАНИЕ
С. С. Аверинцев — Два рождения европейского рационализма ... 3
Андрей Платонов — писатель и философ. Материалы дискуссии.
Выступили: К. М. Кантор, В. А. Подорога, С. Г. Семенова,
С. И. Пискунова, Д. Е. Фурман................................14
Наука в контексте культуры
А. П. Огурцов — Великая Французская революция и наука .... 37
Н. И. Кузнецова — Социальный эксперимент Петра I и формирова-
ние науки в России...........................................49
Дискуссии и обсуждения
А. П. Бутенко — О социально-классовой природе сталинской власти 65
Из истории отечественной философской мысли
С. С. Хоружий — Карсавин и де Местр...........................79
Л. П. Карсавин — Жозеф де Местр (публикация А. Л. Осповата,
примечания В. А. Мильчиной и А. Л. Осповата) ... .93
—-^Научные сообщения и публикации
Хбсе Ортега-и-Гассет — Восстание масс........................119
--------- J Из редакционной почты
Отклики на публикацию «О новом учебнике по философии» («ВФ»,
1988, № 9)...............................................155
В. В. Глинчиков — Больше философских журналов................159
С. И. Вайнштейн — Судьба моего отца..........................160
МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». 1989
Критика в библиография
М. Н. Бежанишвили, Л. И. Мчедлишвили (Тбилиси) — В. А. Смир-
нов. Логические методы анализа научного знания............163
Н. С. Автономова — Г. Башляр. Новый рационализм...............164
В. П. Казначеев, Е. А. Спирин — А. Н. Кочергин, Ю. Г. Марков,
Н. Г. Васильев. Экологическое знание и сознание: особенности
формирования..............................................167
Коротко о книгах..............................................168
К сведению авторов............................................173
О конкурсе молодых ученых.....................................174
Содержание на английском, французском, немецком и испанском
языках....................................................175
Наши авторы...................................................176
© Издательство ЦК КПСС «.Правда». «Вопросы философии». 1989.
Два рождения европейского
рационализма
С. С. АВЕРИНЦЕВ
Важнейший символ духа Нового времени — издававшаяся Дидро и
Д’Аламбером «Энциклопедия» («Encyclopedic, ou Dictionnaire Raisonne
des Sciences, des Arts et des Metiers, par une Societe des Gens des Lett-
res», 1751—1780). Ее заглавие, привычное для нас, ибо вошедшее в оби-
ход с легкой руки все тех же Дидро и Д’Аламбера, но вовсе не столь
обычное для их времен *, заставляет для начала вспомнить о греческом
языке. Оно хочет быть греческим. Чтобы отдать дань педантизму клас-
сической филологии, заметим, что Е^хоиХоконбеёа (в одно слово) —
это ошибочное чтение вместо syxoxAioc яа/йес'а, встречающееся в неко-
торых рукописях и старинных изданиях Квинтилиана 1 2. Что до словосо-
четания ёухохХюс itaiSeta, само оно появляется лишь поздно, у ав-
торов римской эпохи, начиная с Дионисия Галикарнасского (I в.
до н. э.) 3 4, но выражаемая им идея восходит к временам древних со-
фистов и специально Гиппия Элейского (2-я пол. V в. до н. э.), кото-
рый, по свидетельству диалогов Платона, преподавал именно то, что
впоследствии стало называться ёухбхХю; naiSeia— «энциклопедиче-
ские» знания ‘.
naiSsta — это «воспитание», «образование», «культура». Точное
значение прилагательного еухохЛюс много обсуждалось в классиче-
ской филологии5 *; итоги дискуссии позволяют выделить два дополняю-
щих друг друга смысловых момента — во-первых, полноты и завершен-
ности «цикла» дисциплин, во-вторых, широкой доступности, экзотерично-
сти в противоположность эзотерике специалистов *. То и другое хорошо
1 Единственный пример сходного словоупотребления был подан в Англии, на ко-
торую столь часто оглядывались энциклопедисты: Ephraim Chambers, Cyclopaedia,
v. I—И. 1728. Как известно, французская «Энциклопедия» родилась из более скром-
ного замысла издателя Ле Бретона — переработать перевод труда Э. Чэмберса. Обыч-
ным заглавием для энциклопедического издания в XVII и XVIII вв. было «словарь»
(например, знаменитые «Dictionnaire historique et critique» П. Бейля, 1695-1697, и «Di-
ctionnaire philosophique» Вольтера, 1764—1769) и «лексикон» (например, «Lexicon
technicum» Гарриса, 1704).
2 De institutione oratoria, lib. I, с. 1, 10.
’ De comparatione verborum, 206; cf. De Thucydide, 5C s-rxoxXia padijpaTa— сино-
ним syx.uxx^? Если верить Диогену Лаэртскому (lib. VII, с. 32), об
sqxuxXitx; яаЛе(а говорили уже во времена стоика Зенона, т. е. в конце IV в. до н. э.;
неясно, однако, насколько достоверна информация Диогена и говорит ли она о нали-
чии самого термина или только понятия. Ср. Kiihnert F. Allgemeinbildung und Fach-
bildung in der Antike, Berlin, 1961, S. 6—7.
4 Platonis Hippias minor, p. 368 bd; Protagoras 318 df; Hippias maior 285 b sgg.
5 Cp. Koller H. Eqxuxxioc naiSsia «Glotta», 34, 1955, S. 174—189; Kiihnert F.
Op. cit., S. 7-18, где приведена дальнейшая библиография.
’ Ср. Wieland W. Aristoteles als Rhetoriker und die exoterischen Schriften, «Her-
mes», 86, 1958, S. 323—342. Плутарх соединяет eqxuxXia xai xoiva как синонимы (De
audiendo, c. 13, 45 c.).
3
подходит для характеристики программы «Энциклопедии» Дидро и
Д’Аламбера. Первое отчетливо сформулировано в известном «Предвари-
тельном рассуждении» Д’Аламбера: «Как энциклопедия труд наш дол-
жен излагать, насколько возможно, порядок и последовательность чело-
веческих знаний («1’ordre et 1’enchainement des connaissances humain-
es»)»7 8 9 *. Второе находит соответствие в решимости энциклопедистов
обращаться через голову ученой касты к всеевропейской публике обра-
зованных светских людей — той публике, которая, собственно, и была
творима их усилиями. Эта черта популярности и популяризаторства
объединяет философскую пропаганду энциклопедистов с философской
пропагандой софистов, к эпохе которых недаром прилагали иногда имя
античного «Просвещения» и в одном, и в другом случае закономерно
и необходимо возникала атмосфера вызова и скандала — весь тот шум,
отголоски которого слышны, скажем, в «Облаках» Аристофана, но и в
инвективной литературе XVIII в. Сам по себе шум — в данном случае
отнюдь не пустое и не внешнее обстоятельство истории мысли, но со-
держательная характеристика процедуры интеллектуальной революции.
До софистов были Гераклит и Парменид, до энциклопедистов — Ф. Бэ-
кон, Декарт, Спиноза; но интеллектуальная революция становится из
возможности фактом не тогда, когда открыт новый способ мыслить,
а тогда, когда этот способ мыслить доведен до сведения всех носителей
данной культуры.
Попутно отметим дальнейшее сходство позиционных отношений. Ре-
акция на движение софистов породила для начала то, что современники
и потомки вычитывали из личного образа Сократа; затем пришли клас-
сические системы греческого идеализма, причем Платон предложил бо-
лее интенсивный тип синтеза, Аристотель — более экстенсивный. Реак-
ция на движение энциклопедистов породила для начала то, что совре-
менники и потомки вычитывали из личного образа Руссо *; затем при-
шли классические системы немецкого идеализма, причем наблюдается
аналогичное соотношение между систолой этого идеализма в системе
Канта и его диастолой в системе Гегеля”. Но в обоих случаях все
последовавшее только подтверждало необратимость произошедшей рево-
люции. Образ Сократа как антипода софистов эффективно воздействовал
на воображение современников не вопреки тому, а именно потому, что
Сократ был человеком софистической культуры; и таково же отношение
Руссо к энциклопедистам. Философская культура Платона и Аристотеля
’ D’Alambert J. Le Rond. Discours preliminaire de 1’Encyclopedie. Ed. par
F. Picavet. Paris, 1894.
8 Ср., например, Nestle W. Politik und Aufklarung im Griechenland im Ausgang
des 5. Jhdts. vor Christo, «Neue Jahrbiicher fiir das klassische Altertum», Bd. 31, 1931,
S. 1—22; Arnim H. Gerechtigkeit und Nutzen in der griechischen Aufklarungsphiloso-
phie. Frankf. a. M., 1916; Geffcken J. Die griechische Aufklarung. «Neue Jahrbiicher fiir
das klassische Altertum», Bd. 51—52, 1923, S. 15—31; Saitta G. L’illuminismo della so-
fistica greca. Milano, 1938.
9 Сопоставление Руссо с Сократом лежало на поверхности. Достаточно вспом-
нить стихи молодого Шиллера на могилу Руссо (1781).
” Представление о некоей симметрии между фигурами Платона и Канта тоже
лежит на поверхности. Вот несколько примеров, взятых наугад. «Относительно во-
проса о началах и сущности науки вся история философии разделяется на две не-
равные эпохи, из которых первая открывается Платоном, вторая — Кантом» (Юрке-
в и ч П. Д. Разум по учению Платона и опыт по умению Канта,— «Московские Уни-
верситетские Известия», 1865, № 5, с. 323). «Основоположное философское открытие
сделано Платоном и Кантом...» (Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизи-
ки. Париж, 1947, с. 15). «Оба были узловыми пунктами, в которых сходились и из ко-
торых расходились философские течения... Платон и Кант относятся между собою,
как печать и отпечаток; все, что есть у одного, есть и у другого» (Флоренский П.
Из богословского наследия,— «Богословские труды», сборник XVII. М., 1977, с. 126).
«Что касается Платона, то его скорее можно сравнить с Кантом... Платон, как и
позднее Кант, дал философское обоснование математики» (Гайденко П. П. Обос-
нование научного знания в философии Платона. В сб.: «Платон и его эпоха». М., 1979,
с. 98 и 99).
4
предполагает дискуссии века софистов как данность культурного быта,
предмет отталкивания, но и точку отсчета; и таково же отношение немец-
кого классического идеализма к умственным битвам эпохи Просвещения.
Вернемся, однако, к слову «энциклопедия». Во французском языке
оно впервые появляется у Рабле: речь идет о «кладезях и безднах эн-
циклопедии», puytz et abysmes de encyclopedic “. Само собой разумеет-
ся, что оно не имеет никакого отношения к идее словаря, «dictionnaire
raisonne». Важнее, что оно не предполагает также идеи более широ-
кой — принципа «порядка и последовательности человеческих знаний»,
«1’ordre et I’enchainement des connaissances humaines», как говорил
Д’Аламбер; того просветительского пафоса, который выражен в загла-
вии женевского и лондонского изданий «Философского словаря» Вольте-
ра: «Разум в алфавитном порядке» 11 12. В эпоху Ренессанса идеал экстен-
сивной полноты знания характеризовался скорее переливающимся через
край изобилием — «кладези и бездны»,— чем жесткой внешней упорядо-
ченностью. Этот контраст заставляет подумать о возможности класси-
фицировать культуры наряду с другими путями классификации также и
по следующему различительному признаку: требует ли культура более
или менее всеохватывающей организации корпуса наличных знаний на
основе императива «порядка и последовательности», или она обходится
без такой организации, даже, может быть, избегает ее? Несовместимые
со складом мысли Платона, «порядок и последовательность» совершенно
необходимы для Аристотеля. Будучи в значительной степени платониче-
ским по типу своего вдохновения, Ренессанс, в общем, избегал формали-
зованного порядка. Темы «Опытов» Монтеня по своей широте могут по-
казаться своего рода разрозненной энциклопедией; нельзя, однако, зная
Монтеня, вообразить, чтобы сам он пожелал увидеть разрозненное
собранным. Так вот, если проводить классификацию по вышеназванному
признаку, энциклопедисты, видевшие в том же Монтене своего пред-
шественника, довольно неожиданно оказываются вовсе не в его общест-
ве, но в обществе ненавистных им создателей средневековых схоласти-
ческих сводов, какими были, например, Винцент из Бове, автор «Ве-
ликого зерцала», или Фома Аквинский с обеими своими «Суммами».
Лучше, впрочем, держаться конкретных историко-культурных реалий и
подумать о том, что могло вправду попасть в поле зрения великих анти-
клерикалов XVIII в., и тогда придется вспомнить о таком актуальном
для них явлении, как капитальная морально-теологическая система
«пробабилиориста» Альфонса Лигуори13, родившегося в 1696 г., т. е.
за год до выхода в свет бейлевского словаря, и умершего в 1787 г., т. е.
тремя годами позже, чем Дидро. Функция авторитетного учительства,
«магистериума», вполне естественным образом стимулирует тяготение к
«порядку и последовательности». Статья в энциклопедии отличается от
статьи в журнале и от любого полемического текста тем, что ставит себя
вне спора: не убеждает читателя, а поучает, «просвещает» его, предла-
гает ему принять нечто к сведению. Энциклопедический жанр сам по
себе преобразует спорное в бесспорное. Это своего рода антиавтори-
таристский авторитаризм: спор идет о праве учить, как учит проповед-
ник с кафедры. Не говорит ли одна эпиграмма Экушара-Лебрена, что
Век Просвещения «побуждает проповедовать всюду, только не в церк-
ви» («fait precher partout, hors a 1’eglise»)?
Параллели между аттической интеллектуальной революцией V—
IV вв. до н. э. и всеевропейской интеллектуальной революцией второй
половины XVIII в. как в области мысли, так и в области эмоциональ-
11 Pantagruel, chap. 20 (ed. par L. Moland, p. 168).
12 «La Raison par alphabet». Geneve, 1769; Dictionnaire philosophique, on La Rai-
son par alphabet. Londres, 1770.
13 Alphonsi M. Liguori Theologia moralis, v. I—П, Neapoli, 1753-1755. Dele-
rue F. Le Systeme moral de St. Alfonse. St. Etienne, 1929.
5
ной атмосферы вокруг мысли бывают очень яркими. В качестве приме-
ров дословных совпадений можно назвать некоторые общеизвестные
тексты. В «Сновидении Д’Аламбера», этой фантазии Дидро, продолжаю-
щей «Разговор Д’Аламбера с Дидро», развиваются любопытные сообра-
жения о тождестве рождения и смерти:
«Живя, я действую и реагирую на действие (j’agis et reagis) всей
массой; после смерти я действую и реагирую на действие в молекулах...
Родиться, жить и перестать жить — это значит менять формы (Naitre,
vivre et passer, c’est changer des formes)» *4.
Интеллектуальный вызов, мятеж и протест против силы внушения,
исходящей от простейших универсалий человеческого бытия — «родить-
ся», «умереть»,— против эмоциональной магии, заключенной в самих
этих словах, стремление поменять местами и через это как бы взаимно
погасить их коннотации, заставляет вспомнить знаменитую фразу Еври-
пида, насыщенную софистическим духом и как раз в качестве образчика
такого рода спародированную в «Лягушках» Аристофана14 ls. Фраза эта
восходу к утраченной трагедии, возможно, к «Полииду» или к «Фрик-
су», и обычно приводится в таком виде:
tie 8’ oiSev el to Ci)» ре» sort xa-ilavsi»,
to zazShxveiv 8e zaw vopi'Cetat;
(«Кто знает, быть может, жить — то же, что умереть, а умереть почи-
тается у дольних 16 жизнью?») 17 * *.
Разумеется, у сходства есть границы. Аргументация в духе механи-
ческого материализма, апеллирующая к движению молекул, чужда Ев-
рипиду и заставляет вспомнить из древних уж скорее атомиста Лукре-
ция. Но сам интеллектуальный аффект, заключенный в этом страстном
и насильственном разрыве с автоматизмом естественного восприятия
фактов жизни и смерти — один и тот же, и он оба раза выражает себя
сходным образом в риторической эмфазе, в игре антитез и антонимов *8.
Другой пример — наверное, самые известные слова Вольтера, кото-
рые только существуют: афоризм из стихотворного «Послания к автору
книги «О трех обманщиках».
«Si Dieu n’existait pas, il faudra I’inventer»
(«Если бы Бога не было, Его следовало бы изобрести» *’).
14 DideroPD. Le reve de d’Alambert. Ed. par Varloot J., Paris, 1962.
‘s Ranae, 1477-1478:
tic oi'dev si to psv eati xatSavetv,
to itveiv Be Bsuitvsiv, to Be xadtuBeiv x<j>Biov;
(Кто знает, быть может, жить — то же, что умереть, дышать — попойка, а почить -
овчинка?»). В стихах 1080—1082 той же комедии Еврипид укоряется за то, что через
своих персонажей подал гражданам и специально гражданкам примеры крайнего ко-
щунства: «и рожать в святилищах, и любиться с родными братьями, и говорить, что
жизнь — это не жизнь» (оо Ц» тс- ч-ijv).
16 По другому чтению — «у смертных».
17 Fragm. 639 Nauck (cf. fragm. 830 Nauck).
’• Отрицание наивного равенства себе понятий жизни и смерти, игра мысли и
игра слова вокруг этого отрицания — это распространенное «общее место». В разры-
ве инерции общепринятого были заинтересованы не только рационалисты, но также
их наиболее крайние противники — мистики, тоже склонные к установке на разобла-
чение видимости и вскрытие парадоксального несоответствия между ней и сущностью,
на отталкивание от естественного восприятия вещей. Яркий пример - слова Хуана де ла
Крус: «muero porque по шиего», т. е. «я умираю от того, что не умираю» (смысл —
отсутствие физической смерти составляет преграду на пути к вечной жизни и по-
стольку является в некотором смысле духовной смертью; см. The Penguin Book of
Spanish Verse, ed. by J. M. Cohen. Harmondsworth, 1960, p. 182—185; иногда стихотво-
рение приписывается Тересе из Авилы). Цветаева хорошо знала цену высокой рито-
рике. В ее «Новогоднем» сказано: «...Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть
есть...» Позднее она оспаривала старое общее место: «...И что б ни пели нам попы,/
Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть...»
” Epitres, CIV. A 1’auteur du livre des Trois Imposteurs, v. 22.
6
Нас занимает в данном случае не двойственность позиции Вольтера
перед лицом утилитарно-социального функционирования религии, давно
ставшая предметом анализа. Нас интересуют линии широких историко-
культурных связей, расходящиеся по меньшей мере в три стороны.
Во-первых, самый глагол inventer звучит как буквальный перевод
греческого ilsupety, которое уже было употреблено в приложении к
вере в богов в одном важном тексте софистической эпохи. Речь идет о
фрагменте сатировской драмы, иногда приписывавшейся тому же Еври-
пиду, по принадлежавшей, по-видимому, знаменитому софисту и поли-
тическому деятелю Критию, одному из «тридцати тиранов»20. Проис-
хождение религии трактуется в этом монологе Сизифа следующим обра-
зом. Когда-то в отношениях между людьми господствовала непереноси-
мая анархия; тогда умнейшие догадались и установили «карающие
законы», чтобы «правосудие было госпожою, а дерзость — рабою». Од-
нако этот первый законодательный акт поправил дело лишь наполовину:
злодеи перестали творить преступления явно, но продолжали творить их
тайно. Потребовался второй регулятивный акт: некий «мудрый и мощный
мыслью муж», Kjzvo<; тк zai aotpoi 'ра>[лтр avijp, счел целесообраз-
ным «изобрести, egsopetv, страх перед богами» 2‘. Это рассуждение не
менее амбивалентно, чем рассуждение Вольтера: адепт софистического
просвещения отвергает религиозную традицию как свидетельство об
истине, однако восторгается ей как «изобретением». В перспективе тра-
диционного мировоззрения бог как человеческое «изобретение» — это
кощунство; но в перспективе апофеоза рационалистической социальной
«архитектуры» — применительно к эпохе Вольтера вспомним о строи-
тельной символике масонов!22 — вещи выглядят по-иному: изобретение
само по себе есть нечто великое. Автор «Сизифа» не просто «разоблача-
ет» дело мудреца, «изобретшего» религию, он восторгается этим мудрецом
и смотрит на него как на своего собрата. Религия как традиция и дан-
ность — препятствие для интеллектуальной революции, но религия как
«изобретение» — аналог ее собственных «изобретений». Примером ана-
логичной двойственности в просветительской литературе XVIII в. может
служить хотя бы роман Виланда «Агатодемон» 23; герой романа, неопи-
фагорейский кудесник из времен поздней античности Аполлоний Тиан-
ский, представлен как расчетливый мистификатор с чертами Калиостро
или Сен-Жермена, но в его внутреннем уединении и в его замысле, на-
правленном на возрождение упавшей морали современников, есть нечто,
бесспорно импонирующее скептическому автору. В «Волшебной флейте»
Моцарта, этом музыкальном манифесте Века Просвещения, та же черта
расчетливой таинственности, которая доказывает злокозненность Цари-
цы Ночи, свидетельствует о благожелательной мудрости Зарастро; что
компрометирует одну, удостоверяет добродетель другого 24.
Во-вторых, представление о Боге как функции законодательствующе-
го разума во Франции XVIII в. получает дополнительную окраску, какой
оно не имело в Греции V в. до и. э.; а именно оно предстает как свое-
образная пародийная инверсия или переориентация католического поряд-
20 Ср. Панченко Д. В. Еврипид или Критий? «Вестник древней истории», 1980,
№ 1, с. 144-162.
21 Diels Н. Die Fragmente der Vorsokratiker. 4. Auflage, Berlin, 1922. Bd. II, Kritias
В 25, S. 319-321.
22 Как известно, еще в 1740 г. пожелания, исполненные в дальнейшем изданием
«Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера, были высказаны главой парижской масонской
ложи герцогом Д’Антеном; издатель Ле Бретон, приступивший к организационной ра-
боте, также был членом ложи. См. Venturi F. Le origini dell’ «Encyclopedia». Torino,
1963.
23 Wieland Chr. M. Agathodamon. Aus einer alten Handschrift. Leipzig. 1799.
24 Имеются сведения, что первоначально И. Шиканедер, автор либретто, наделял
двух главных магов оперы иными характеристиками; в это легко поверить: добро и
зло здесь нетрудно поменять местами.
7
ка, делающего жизнь верующих объектом догматической и канонической
регуляции со стороны папской власти. В этой связи можно вспомнить,
например, заметку «Сагёте» в «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера, где
не без эмфазы, выводящей нас за пределы церковной истории, упомянуто,
что по некоторым данным великий пост «был установлен не кем иным,
как папою Телесфором около середины II века» 25. Как имя, так и дата
подсказывают читателю: за безличным авторитетом закона ищи личный
умысел законодателя. Католицизм, из которого оказывается «вычтен»
инспирационизм, т. е. учение о божественном руководстве церковью,
предоставляет как бы пустую рамку, способную послужить для просве-
тительской утопии. Если можно «установить» пост и многое, многое
другое, нельзя ли «установить» Бога? Хорошо известно, что Робеспьер
пытался сделать именно это... Но если перефункционирование католиче-
ской концепции officium docendi и есть принадлежность Нового времени,
то сам рационалистический миф о «законодателе», vop.o&etv]c, или «изо-
бретателе», еореттд;, лепящем по произволу своего разума жизнь наро-
дов, очень характерен для античной мысли. Достаточно вспомнить, как
авторы вроде Плутарха рисуют персонажей вроде Ликурга или Нумы
Помпилия26. Даже эллинизированные иудеи приспосабливали к подоб-
ным понятиям образ своего Моисея 27 28 *. Это философское переосмысление
древней мифологической фигуры, известной у специалистов под именем
«культурного героя» 2в. Как правило, «культурный герой» носит черты
«трикстера» — плута, обманщика, артистического шарлатана. Эти черты
отнюдь не отнимают у него величия, напротив, они входят в его вели-
чие, сообщая ему специфическую окраску. Но и философский миф о за-
конодателе тоже не чужд плутовской атмосферы, совсем напротив.
Плутарх, автор благочестивый и высоконравственный, уверен, что
Нума Помпилий инсценировал свои мистические беседы с нимфой Эге-
рией, чтобы произвести должное впечатление на народ, и хвалит за это
мудрость таких, как он: «выдумка, спасительная для тех, кого они вво-
дили в обман»,— вот его приговор ”. Если, однако, плутовская атмосфе-
ра сгущается, она требует разрядки в бутаде. Приведенный выше моно-
лог из «Сизифа» имеет некоторые черты бутады, а стих Вольтера —
и подавно бутада.
В-третьих, если мы снимем этот налет внешней агрессивности, оспа-
ривание религии у Вольтера обнаруживает знаменательное сродство с
утверждением религии у Канта; Бог, который «нужен» 30 * и которого по-
этому необходимо «изобрести», не так уж далек от Бога, который явля-
ется постулатом практического разума. Разница, конечно, в том, что
немецкий философ переносит в глубины индивидуальной совести вопрос,
бывший для Вольтера делом общественной регуляции. Впрочем, и Кант,
как известно, думал в связи со своим «категорическим императивом» о
«принципе всеобщего законодательства» будучи хотя бы в этом сы-
ном Века Просвещения. Но связь с идеей законодательства деградирова-
ла у него почти до ранга простой метафоры, понятие «практического
разума» приобрело характер интровертивный и приватный — черта про-
тестантская в противоположность антипапистскому «папизму» француза.
25 Textes choisis de 1’Encyclopedie. Ed. par Soboul A. Paris, 1962.
26 Licurgus, c. 6, 9, 43d; c. 27; Numa, c. 4; c. 8, c. 15.
27 Cp. Momigliano A. Alien Wisdom: The Limits of Hellenisation. Cambridge.
1975, p. 92-95. 120-122.
28 См. «Мифы народов мира». M., т. 2, 1982, с. 25—28 (имеется дальнейшая биб-
лиография).
28 Numa, с. 4. (Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. 1. М., 1961, с. 81).
20 «...On a besoin d’un Dieu que parle au genre humain» («Нужен Бог, который
говорил бы к роду человеческому»),— сказано в поэме Вольтера о лиссабонском зем-
летрясении.
’* «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла быть вместе с тем и
принципом всеобщего законодательства» (Кант И. Критика практического разу-
ма. СПб., 1897, с. 38. Этот перевод точнее нового).
8
В этом пункте Вольтер гораздо ближе не только к автору «Сизифа», но
и вообще к духу классической греческой философии, который был пуб-
личным, отнюдь не приватистским. Заглавие капитального труда Плато-
на — «Законы», заглавие капитального труда Монтескье — «Дух зако-
нов». Эта перекличка заглавий имеет значение символа и симптома.
* *
*
Увидеть отношения симметрии между греческой интеллектуальной
революцией V—IV вв. до н. э. и европейской интеллектуальной револю-
цией XVIII в. н. э.— дело не трудное и не очень новое. Попробуем те-
перь сказать несколько слов о смысле этой симметрии.
Революции бывают разные. Переход от античного язычества к хри-
стианству — это чрезвычайно глубокий и широкий духовный переворот,
предполагавший решительную переоценку ценностей, затрагивавший са-
мые основы ориентации человека по отношению к другим людям и к
самому себе, порождавший совершенно новые социальные структуры
власти, авторитета, общений, необходимо влекший за собой долговре-
менные, многообразные, подчас неожиданные или даже парадоксальные
последствия для культурной деятельности, в том числе и самой «мир-
ской» 32. Этому перевороту сопутствовал выход на историческую арену
новых народов, чья активность нередко находила себе стимул или
санкцию перед лицом гордыни носителей старой культуры именно в
христианстве 33; и фоном для всего названного было крушение антично-
го порядка и подготовка, а затем становление феодализма. Перемены,
что и говорить, серьезные. Чего, однако, не произошло, так это коренно-
го изменения объема простейших, элементарнейших категорий культуры.
Средневековая литература в целом непохожа на античную34, но это ли-
тература именно в том смысле слова, в котором была таковой зрелая ан-
тичная литература 35, но вовсе не в том, в котором мы говорим, с одной
стороны, о древнеегипетской или древнееврейской литературах, с дру-
гой—о современной литературе. Данте есть автор «Божественной коме-
дии» в том смысле, в котором Вергилий есть автор «Энеиды», но не в
том, в которой Исайя — автор «Книги Исайи», а также не в том, в ко-
тором Лев Толстой — автор «Войны и мира»; от Исайи его отделяет со-
знательное культивирование авторской манеры, от Льва Толстого — вера
в стабильные и неизменные правила творчества, превращающие деятель-
ность автора в нескончаемое «состязание» (WXwoi<;, aemulatio) со
своими предшественниками и преемниками36 37. Далее, как бы ни был
рационализм потеснен христианской мистикой и церковной верой в ав-
торитет —в тех пределах, которые указаны рационализму средневековой
жизнью, он остается по своим наиболее общим основаниям таким, каким
его создала античность ”. В Афинах IV в. до н. э. под насмешки ста-
32 Один пример из многих — те дерзкие предположения об устройстве космоса,
характерные для поздней схоластики, которые подготавливали исподволь новую кар-
тину мира, но имели эмпирической исходной точкой догмат о всемогуществе божием.
33 Нам приходилось говорить об этом в другом месте; см. «Из истории культуры
средних веков и Возрождения». М., 1976, с. 23 —27.
34 Впрочем, мы слишком легко забываем об определенных зонах средневековой
литературы, где античные жанровые формы сохранялись и воспроизводились с заме-
чательной верностью; достаточно вспомнить явление латинского овидианства во
Франции XI—XII вв. Инвариантом в составе античной, средневековой, ренессансной
и барочной литератур была жанровая форма эпиграммы (ср. А в е р и н ц е в С. С.
Большие судьбы малого жанра,— «Вопросы литературы», 1981, № 4).
35 Точнее: средневековая литература была таковой в той мере, в которой она со-
знательно строила себя и воспринималась в качестве художественной литературы (см.
«Поэтика древнегреческой литературы». М., 1981, с. 11 — 12, примечание 1).
36 Ср. «Поэтика древнегреческой литературы»..., с. 4—5.
37 Этому общему положению не противоречат черты нового, выявлявшиеся у
мыслителей вроде Буридана (см. выше примечание 32). Как бы значительны опи ни
были, они до поры до времени остаются на периферии.
9
родумов вроде Аристофана с его «Облаками», в азартных и педантиче-
ских спорах о понятиях, запечатленных в диалогах Платона, была вы-
работана культура дефиниции, и дефиниция стала важнейшим инстру-
ментом античного рационализма. Мышлению, даже весьма развитому, но
не прошедшему через некоторую специфическую выучку, форма дефи-
ниции чужда. Можно прочесть весь Ветхий Завет от корки до корки и
не найти там ни одной формальной дефиниции; предмет выясняется не
через определение, но через уподобление по типу «притчи» (евр. masal).
Освященная тысячелетиями традиция построения высказываний продол-
жена и в Евангелиях: «Царство Небесное подобно» тому-то и тому-то —
и ни разу мы не встречаем: «Царство Небесное есть» то-то и то-то.
Единственная дефиниция на весь Новый Завет недаром встречается в
Послании к евреям (гл. И, ст. I), которое очень выделяется в новоза-
ветном корпусе своей сообразованностью с некоторыми греческими нор-
мами построения текста, как энергично отмечал в свое время Э. Нор-
ден3S. Так вот, средневековое богословие, начиная с отцов церкви,
единодушно идет в этом пункте не за библейскими, а за греческими
учителями. На каждой странице Иоанна Дамаскина или Фомы Аквин-
ского — дефиниции, мысль движется от одного формального определения
к другому. Самым последним продуктам вырождения схоластического
способа мыслить, вплоть до какой-нибудь бурсацкой премудрости, при-
суща тяга к сакраментальной процедуре дефинирования. За специфиче-
ской культурой дефиниции стоит, с одной стороны, обязательство выве-
рять представление о любом предмете на земле или на небесах через
логическую формализацию, делать представление «ответчивым»38 39 —
в отличие от того, что было ранее, т. е. от донаучной «мудрости»;
с другой стороны, метафизическая вера в стабильную сущность, субстан-
циальную форму, иерархически вознесенную над акциденциями — в от-
личие от того, что пришло позднее, т. е. от новой научности. Обе эти
родовые черты являются общими для рационализма античного и средне-
векового — а также и ренессансного: Возрождение дало рационализму
новый контекст, но еще не изменило принципиально его сущности. Тот
первый тип европейского рационализма, который был подготовлен до-
сократиками, шумно и с вызовом заявил о себе во всеуслышание у со-
фистов и окончательно выяснил собственные основания в творчестве
Аристотеля, затем сохранял фундаментальное тождество себе до времен
Декарта и далее, до зари индустриальной эры.
Что это был за рационализм? От всех предшествовавших ему состоя-
ний мысли и форм познания его резко отделяло наличие методической
рефлексии, обращенной, во-первых, на самое мысль, во-вторых, на ино-
бытие мысли в слове. Рефлексия, обращенная на мысль, дала открытие
гносеологической проблемы и кодификацию правил логики; рефлексия,
обращенная на слово, дала открытие проблемы «критики языка» 40 41 и
кодификацию правил риторики и поэтики 4‘. Одно связано с другим: не
случайно Аристотель, великий логик, написал также «Поэтику» и три
книги «Риторики», и недаром древнеиндийская мысль, дошедшая до
гносеологической проблемы, создала также теорию слова, между тем как
на пространствах, разделяющих географически Индию и Грецию и явив-
шихся ареной древних цивилизаций, не было ни первого, ни второго.
Итак, мы вправе назвать рационализм, унаследованный средневековьем
от античности, логико-риторическим. Далее, разрабатываемая им логика
38 Norden Е. Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert vor Chr. bis in die Zeit
der Renaissance. Leipzig, 1898, Bd. 2, S.
39 Уместно вспомнить семантическую амплитуду слова Хбд-ос от бытового
X670V SiBovai «давать отчет» до Xofix-ij «логика».
‘° «Вся философия есть «критика языка» (Витгенштейн Л. Логико-фило-
софский трактат. Пер. с нем. М., 1958, с. 44, § 4.0031).
41 Сюда же относится, конечно, грамматическая наука. Достаточно упомянуть
учебник Дионисия Фракийца (2-я пол. II в. до н. э.).
10
есть прежде всего техника силлогизма, т. е. дедукции — иерархического
движения сверху вниз, при котором общее мыслится первичным по от-
ношению к частному: первичным прежде всего гносеологически, т. е.
более познаваемым, более достоверным 4г, но по большей части и онто-
логически, т. е. более реальным. Риторика как техника «общих мест»
есть необходимый коррелят такой логики42 43. Итак, мы вправе назвать
этот рационализм также и дедуктивным.
Классические образцы дедуктивного рационализма — геометрия Ев-
клида, выводящая теоремы из аксиом, и римская юриспруденция, выво-
дящая казусы из законоположений. Спиноза построил свою философию
more geometrico, но многие христианские мыслители эпохи патристики,
особенно поздней, ориентировались на форму юридического рассужде-
ния 4‘. Легко заметить, что подобная интеллектуальная процедура тре-
бует достаточного набора стабильных, не подлежащих пересмотру акси-
ом, которые сами не могут быть добыты из рассуждения. Цепь силло-
гизмов нельзя вести в бесконечность, она должна быть на чем-то
неподвижно закреплена. В виде аналогии можно вспомнить, сколь само-
очевидным представлялось для этого типа мышления, что факт цепной
передачи движения от предмета к предмету сам по себе непреложно
свидетельствует о наличии перводвигателя, который сам не движется,—
умозаключение, известное по своей роли у Фомы Аквинского 45, но вос-
ходящее к Аристотелю46. Рационально осмысляемая чувственная эмпи-
рия, а также интуиция, за которой и наш век признает рациональный
характер, доставляли, разумеется, некоторое количество аксиом; но
структура дедуктивного рационализма сама по себе, изнутри себя пред-
определяла участие также и внерациональных источников аксиом — ав-
торитета, традиции, преобразованного мифа. Любовное влечение вещей
к перводвигателю у Аристотеля47, симпатия всего сущего у Посидо-
ния 48 — это ведь не миф в собственном смысле слова, равным образом,
не религия и не мистика, даже, что приходится особо подчеркнуть, не
простой компромисс между наукой и мистикой, не смешение того и дру-
гого в определенной дозировке, а особая форма мысли, игра по своим
собственным правилам, последовательным и сбалансированным. Для
обозначения этой формы мысли требуется свой термин; вероятно, таким
термином могло бы быть слово «метафизика» в своем старом, догеге-
левском и домарксовом смысле. Еще раз: это игра по своим прави-
лам — а институциональная организация умственной жизни, равно как и
упомянутый выше применительно к литературному творчеству, но зна-
чимый и применительно к познавательной деятельности, важный для
самосознания всей логико-риторической культуры принцип состязания,
т. е. как бы вневременного диспута, требовали неизменности этих пра-
вил, по которым состязующийся играет со своими отдаленными во вре-
мени собратьями 49. Поэтому стремительная греческая интеллектуальная
революция на два тысячелетия сменилась тем, что мы назовем мрачным
словом «стагнация». Тот рационализм, который создали греки и который
уже в качестве вышедшей из моды «схоластики» доживал свой век в
42 «Всякое определение и всякая наука имеют дело с общим» («Aristotelis Meta-
physica», lib. XI, с. 1, p. 1059b25, пер. А. В. Кубипкого. Аристотель. Сочинения
т. I. М., 1976, с. 273).
43 Ср. Аверинцев С. С. Риторика как подход к обобщению действительности.-
В кн.: «Поэтика древнегреческой литературы». М., 1981, с. 15—46.
44 Ср. Dempf A. Die Geislesgeschichte der friihchristlichen Kultur. Munchen, 1964.
45 «Thomae Aquinatis Summa theologiae», p. 1, q. 2, 3 c.
46 «Aristotelis Metaphysica», lib. XII, c. 7, p. 1072b.
47 Ibidem, p. 1073a.
48 См. «Культура Византии. IV - первая половина VII в.» М., 1984, с. 48 —49.
49 Рафаэль дважды изобразил именно такой диспут на двух фресках Станца дел-
ла Сепьятура: один раз это диспут теологов, другой раз («Афипская школа») - фило-
софов. На третьей его фреске в этом же зале («Парнас») изображено вневременное
состязание поэтов.
11
Новое время, по своему внутреннему принципу стремился именно к не-
изменности равновесия между рефлексией и традицией, между критикой
и авторитетом, между физикой и метафизикой. Это рационализм, сам
ставящий себе границы, а не просто принимающий их по обстоятельст-
вам извне — скажем, от религиозной догмы. Прорыв в Новое время
иного рационализма, принципиально отрицающего границы, был, с на-
шей точки зрения, концом застоя, но он же, с точки зрения старого ра-
ционализма, был нарушением равновесия и опрокидыванием правил.
Это одно и то же — с какой точки зрения посмотреть.
В перспективе не естественнонаучной, а общекультурной у старого
рационализма было одно преимущество: он один мог создать образ мира,
который был бы в отличие от бессвязных мифологических представлений
достаточно логичен и непротиворечив, а в отличие от теорий современной
науки достаточно стабилен и чувственно-нагляден, чтобы действительно
быть образом — захватывающей темой для воображения. Во времена
Лукреция дидактический эпос мог порождать вечные шедевры. Вергилий
в «Георгинах», Данте в «Божественной комедии» сделали популяриза-
цию образа мира задачей для великой поэзии. (Одна умная английская
толковательница Дантова «Рая» советовала читателям этой поэмы схо-
дить в планетарий50 51 52.) Заключительный стих «Божественной комедии»:
«Любовь, что движет Солнце и светила»,— это не полет поэтической
фантазии, а корректное формулирование одного из тезисов аристотелев-
ской космологии (см. выше сноску 47). Эпоха энциклопедистов — это це-
лый ряд попыток создать дидактический эпос; но своего Лукреция Про-
свещение не нашло, и даже для гениального Андре Шенье работа над
поэмой «Гермес» явно оказалась тупиковым путем. Время поэзии, вос-
певающей научный образ мира, безвозвратно миновало. Что говорить об
опытах «научной поэзии» в XIX и XX вв.? Это плохая физика и плохая
поэзия сразу.
Специфика энциклопедистов как действующих лиц второй интеллек-
туальной революции — в том, что они стоят как раз на границе двух
качественно различных состояний рационализма. Это значит не только
то, что в них могут противоречиво совмещаться характеристики старого
и нового рационализма; что, например, новое содержание выражает себя
у них в сугубо риторических формах. Это значит, что одни и те же чер-
ты выступают у них как двузначные — одновременно входя и в новый,
и в старый контекст. Например, повышенное внимание «Энциклопедии»
к ремеслам, к «механическим искусствам», без сомнения, примета начи-
нающейся индустриальной эры. разрыв с созерцательным характером
старого рационализма. И все же, когда мы читаем, как Дидро, не удо-
вольствовавшись привлечением к сотрудничеству в «Энциклопедии»
г. Прево, стекольщика, г. Лоншама, пивовара, гг. Бюиссона, Боннэ и
Лоррана, знатоков выделки тканей, и прочих, сам лично изучал литей-
ное дело, волочение проволоки и тому подобные умения, для полноты
исторических связей можно вспомнить того же софиста Гиппия Элейско-
го, явившегося однажды перед посетителями Олимпийских игр в роскош-
ном наряде, от начала и до конца сработанном собственными руками 5*.
Древним философам не полагалось интересоваться «механическими ис-
кусствами», но риторика убежденно выставляла идеал всезнания и все-
умения, воплощая начало диастолы, как философия — начало систолы 5г.
Дидро, как в свое время Гиппий, основатель ёухбхХюг reaiSeta, желал
быть человеком, умеющим все. Когда индустриальная эра выявит свой
облик, тогда можно будет владеть конкретной технической квалифика-
50 «The Comedy of Dante Alighieri», v. 3. Paradise. Transl. by D. L. Sayers and
B. Reynolds. Harmondsworth, 1962, p. 351 (Appendix IX: Astronomy in Paradise).
51 «Apulei Florida», 20.
52 Нам приходилось говорить об этом в другом месте; см. «Античное наследие в
культуре Возрождения». М., 1984, с. 150—151.
12
цией, но уже никакой восторженный универсал даже не попытаете»
уметь все.
Еще несколько замечаний. И древняя, и новая интеллектуальные ре-
волюции были очень тесно связаны со своим политическим фоном. Но
первая стояла у начала последовательности эпохи, когда доминирующим
типом государства была монархия: эллинизм — Римская империя —
средневековые королевства — эпоха абсолютизма; вторая предвещала ко-
нец этой последовательности эпох. Греческий рационализм, порождение
греческой демократии, тяготел к утверждению идеи «царственного
мужа», avqp Paotktxoc. Не только Платон искал путей реализации
философской утопии в сицилийской тирании, не только Ксенофонт, ре-
зонер с сильными конформистскими инстинктами, ориентировал свои
моральные идеи на реальность предэллинистической монархии; такие
решительные антиконформисты, как киники, строили свой идеал само-
довлеющего мудреца как соответствие идеалу самодержавного монарха.
В известном анекдоте Диоген противопоставлен Александру, но и сопо-
ставлен с ним: оба — исключения, оба — по ту сторону гражданского
общества, оба могут и смеют то, чего не могут и не смеют другие.
Стоический мудрец —это «истинный» царь, соперник и двойник царя
политического; в лице Марка Аврелия тот и другой — одно. И вот во
времена энциклопедистов идеология «просвещенного деспотизма» в по-
следний раз вызывает к жизни эту смысловую соотнесенность фигур фи-
лософа и монарха; Марк Аврелий — любимец эпохи Просвещения; но
это уже конец цикла и подготовка выхода за его пределы.
Одна из черт старого рационализма, присутствующая в рационализ-
ме энциклопедистов,— недостаток историзма. Но здесь мы сейчас же
должны оговориться: ментальность энциклопедистов как раз настолько
обращена к истории, чтобы мы ощущали ее «антиисторизм». Можно го-
ворить о слабости историзма у энциклопедистов, но не имеет смысла
констатировать отсутствие историзма в рационализме аристотелевского
типа, настолько полно это отсутствие. Как характерно, что Вольтер рез-
ко возражал Паскалю, а Жозеф де Местр — Вольтеру по вопросу о том,
свойственно ли этике Эпиктета и Марка Аврелия требование любить
Бога53. После Паскаля (с христианской стороны следует упомянуть
также Боссэ) и после Вольтера ни христианская апологетика, ни анти-
христианская полемика уже не могли обойтись без обсуждения представ-
лений о духовной атмосфере целых эпох — такая постановка вопроса,
которую просто не смогли бы понять мыслители более ранних эпох.
53 М a i s t г е J. de. Les soirees de Saint Petersbourg, on Entretiens sur le gouver-
nment temporel de la Providences... t. 2-nd, Bruxelles, 1837, p. 124—125 (9-me entretien).
Андрей Платонов—писатель и философ
От редакции. Имя Андрея Платонова сегодня во многом зазвучало по-новому.
Недавняя публикация его наиболее значительных произведений восстановила нако-
нец подлинные масштабы творчества этого писателя.
Именно в них - в «Чевенгуре», «Котловане», «Ювенильном море» — в наибольшей
степени проявилась философская подоплека платоновского мироощущения. Это фи-
лософское начало сказалось и в духовном облике «странных» героев Платонова,
и в их специфической «обобщающей» речи, и в том универсуме, созиданием которого
они заняты и который созидает и одновременно разрушает их самих.
Пожалуй, никто из писателей не сумел так своеобразно и глубоко, как А. Плато-
нов, осмыслить и изобразить трагедию жизни русского народа. В этом отношении
писателю, безусловно, удалось подняться в своих лучших произведениях до уровня
истинно философского взгляда на действительность. Взгляда, соединившего в себе
широту обобщения и уникальность собственно платоновского понимания жизни.
Субъективность Андрея Платонова — это субъективность гениального художника,
создавшего мир, который позволяет нам по-разному оценить и творчество писателя,
и ту эпоху, которой оно было рождено.
С разных точек зрения попытались посмотреть на этот мир и авторы нреилагае-
мых читателю текстов — философы, историки, литературоведы.
К. М. КАНТОР. Без истины стыдно жить.
Сын рабочего и сам рабочий, мастер, пролетарский интеллигент Андрей Кле-
ментов, став писателем, назвал себя по имени отца Платоновым. Если бы не судь-
ба его, не содержание им написанного, то, может быть, и не вспомнилось, что за
две с половиной тысячи лет до него афинский аристократ Аристокл стал известен
как философ Платон.
Платон и Платонов - не нелепое ли сопоставление, однако? Что у них обще-
го, кроме имени? Да, пожалуй, что и нет ничего, пожалуй, они во всем противо-
положны; но вот что нельзя не признать: противоположность эта располагается в
едином поле философствования о мире идей, о роли идей в делах и днях людей.
Потомок царского рода придумал проект «идеального» государства (отчасти
даже «коммунистического»), в котором устроение и распорядок жизни определя-
лись соответствием вечным идеям, умопостигаемым кастой жрецов-философов, тог
да как трудящиеся - ремесленники и земледельцы,- воплощающие вожделеющую
часть души, несли из поколения в поколение все одну и ту же трудовую повин-
ность, ни на что иное вроде бы и не пригодные, отстраненные от утонченного вос-
питания мудрых правителей и отважных стражей, лишенные «высокого досуга».
Потомственный русский пролетарий, относившийся к писательству как к фи-
лософствованию, а к тому и другому как к еще одной, но отнюдь не исключи-
тельной форме труда (имеющего смысл лишь постольку, поскольку он ведет к об-
ретению истины и справедливости), сам со своими героями, такими же бедняками,
как и он, принял участие в создании тоже «идеального» государства, хотя и со-
всем иного, чем го, какое замыслил Платон. Точнее следовало бы говорить не о
государстве, а об обществе, о стране. «Чевенгур» имел ведь еще и другое назва-
ние — «Строители страны». Строительством страны, «общепролетарского дома» был
и «Котлован». Именно страны, общества, а не государства.
14
Сословное и классовое деление, как и деление по профессиям или по уровню
знаний, в Чевенгуре отвергалось безоговорочно. Не узкий круг философов-правите-
лей, а труженики, те, кому Платон отказывал в способности мышления, законода-
тельствовали тут, причем не как-нибудь, а философски, постоянно сверяясь с
возвышенными идеями и идеалами. В отличие от автора «Государства», «строите-
ли страны» хотели коммунизма для всех, кроме «паразитов», в число которых
непременно попали бы мудрецы и воины Платона наряду с эксплуататорами чу-
жого труда, а также и те, кто трудится только для себя.
Коммунизм они понимали как безымущественное равенство душ всех «труж-
дающихся и обремененных», как взаимную, жертвенную, духовную, не осквернен-
ную низменной чувственностью любовь. Они и нэп не поняли и не приняли по-
тому, что он восстанавливал имущественное неравенство. А позже (в «Котлова-
не») по той же причине, уже в согласии с властью, спешили дать «окорот» нэпу,
«раскулачивая» вместе с мироедом и середняка, не подозревая, что тем себе же
готовят погибель. Им тогда было невдомек, как прав окажется тот ласковый рас-
судительный мужик, который предсказывал: «Вы сделаете изо всей республики
колхоз, а вся республика-то будет единоличным хозяйством!.. Так и выйдет, что
в социализм придет один ваш главный человек!» Ведь устами этого невинно за-
губленного середняка Андрей Платонов уже тогда, в самый год «великого перело-
ма», предупреждал о наступающем единовластии Сталина. Не услышали, да и
как могли, если свою коммуну «строители страны» учредили в маленьком степном
городка, когда нэп стал уже государственной политикой, т. е. противозаконно.
И — мало того - посчитали ее образцовой моделью, по которой должна бы обустроить-
ся жизнь во всей России, а затем - глядишь — и на всей планете.
Как и Платон, Платонов и его любимые герои стремились к установлению
справедливости не приблизительной и скоротечной, а полной, неизменной и неко-
лебимой — только не для государства за счет отдельных граждан (как у автора
«Законов»), а для каждого человека и лишь в силу этого также и для всего об-
щества.
Идеи справедливости и блага были для автора «Чевенгура», как и для автора
«Государства» (сколь бы ни было различно их понимание), центральными. И мир
идей для Платонова, как и для Платона, был той наиреальпейшей реальностью,
в которой и для которой он жил. В этой, а не «профанной», реальности действу-
ют и мучаются его герои. Все видимое, событийное, выписанное иногда даже с на-
туралистической достоверностью, в прозе Платонова если и имеет самостоятельное
значение, то непременно наделено еще сверхсмыслом, ибо выступает как много-
гранный символ невидимой иерархии идей, хотя сами идеи являются у него под
собственными именами, и спор об идеях звучит, не умолкая, чуть ли не в каж-
дом бытовом разговоре. Все преувеличенные эстетиками различия жанров, стилей,
направлений, модусов изображения отвергнуты Платоновым за «вредность» их ми-
метической односторонности, все они - эпос и драма, лирика и сатира, реализм
и абсурдизм, утопия и антиутопия — сплавлены в прозе Платонова, как в диало-
гах Платона, как в бытийственно непреложном слове Библии.
«Чевенгур» сходен с «Книгой Бытия». Старый Космос распался. Воцарился
хаос. И вот из него возникают новые небеса и новые земли, еще не отвердевшие,
топкие и туманные. Еще тьма не отделилась от света. Бога нет. Сами люди,
от мала до велика, раздувают этот Гераклитов огонь разрушения и созидания, са-
моуничтожения и самосотворения. Совершается то, чему как бы положено было
свершиться, что записано на «досках судьбы», как говаривал Велимир Хлебников.
Проза Платонова — это не беллетризированная социология русской жизни и не
нравственные поучения в художественных образах, что так привлекательно в
классической русской литературе XIX в. и в достойнейших произведениях совре-
менников Платонова. Это художественная онтология русской революции.
Аналог прозе Платонова назван. Я бы лишь добавил: если Библия начинается
«Книгой Бытия» и лишь в «Новом Завете» завершается грозным «Откровением
Иоанна Богослова», то у Платонова и в «Чевенгуре», и в «Котловане» генезис поч-
ти мгновенно переходит в апокалипсис. Впрочем, прокурорство чуждо миропони-
манию и таланту Андрея Платонова. Для того, кто смотрел па мир глазами муд-
15
реца, Сталин был ничтожно малой величиной в тех культурно-космических про-
цессах, которые магмой слова застывали в его скалоподобных описаниях равнинной
степной революции.
Философ и тиран. Идеалы Платонова исключали сотрудничество с тираном,
даже если он представал перед народом в ореоле философа. Другое дело идеалы
Аристокла. Платон, кажется, дважды пытался с помощью сицилийских тиранов
воплотить их в жизнь. Не получилось. Но Платон не терял надежды и не ошибся.
Что-то подобное платоновскому тоталитарному государству воспроизвели средневе-
ковая западная церковь, Византийская империя, царствование Ивана Грозного,
правление Сталина.
История показала, что идеалы Платона таковы, что с некоторыми корректива-
ми и непредсказуемыми вариациями они могут быть воплощены в устройстве даже
современных государств. Пусть не навсегда, но надолго. Чего же проще: власть
якобы «мудрейших» во главе с «богоподобным» диктатором, рабство и крепостни-
чество тружеников, опричнина, занятая «человеководством»- выведением породы
«одобрялкиных» с помощью лжи, лицемерия, костоломства, а в итоге - достиже-
ние искомого результата: «справедливости» Государства, «блага» Государства и —
уже без кавычек - могущества Государства.
Иное дело — идеалы Платонова. Несовместимость интересов «богатых» и «бед-
ных», «имущих» и «неимущих», установление равенства не по равному владению
материальными благами (это само собой разумелось), а по равенству человече-
ского достоинства, равноценности человеческой души и совести, одинаковой у всех
людей способности самостоятельно и возвышенно думать и чувствовать, бесконеч-
ной ценности человеческой личности, готовности бесприказно и даже вопреки при-
казу принести себя в жертву ради любви к ближнему и дальнему, такому же
«труждающемуся и обремененному», будь он русский, татарин, китаец или немец,
равное непризнание всеми начальствования над собой, кроме собственного соглас-
ного разумения, как устроить каждому свою личную и коллективную жизнь.
Эти идеалы, в отличие от платоновых, как оказалось, были бесконечно далеки
от культурной «почвы». Но прежде чем это выяснилось, российские пролетарии,
крестьянская беднота, а вместе с ними и Андрей Платонов, пробужденные к ак-
тивной деятельности революцией, попытались воплотить их в жизнь, и не кое-
как, не частично, а полностью, до последней точки. Нельзя сказать, что они это
делали без поддержки Советской власти, утвердившейся по всей стране, или тем
более в противовес декретам Москвы. Их настроения, надежды, действия, если и
не в точности, то в основном совпадали с первоначальными, «военно-коммунисти-
ческими» планами. И все-таки в российской глубинке люди действовали самочинно.
Тут, как это показал Платонов, происходило «самозарождение» социализма. Рево-
люция предоставила «право» прежде подневольным и обездоленным, униженным
и оскорбленным переделать жизнь на свой лад.
Вот тут-то и началась (и уже без оглядки на «центр») ломка вековечных
устоев, сведение «классовых счетов» «неимущих» с «имущими». Босота не состав-
ляла большинства. Но на ее стороне было «право правды», «правда идеала». И ка-
кая-то часть большинства, совестясь и безропотно (как в леденящей душу сцене
расстрела чевенгурской «буржуазии»), подчинялась силе этого нового «права», при-
знавая его «справедливость».
Нет, не чуж-чуженины, не знавшие русской уездногородской и деревенской
жизни, крестьянской культуры, усомнились в благостности стародавнего уклада.
Об Александре Дванове, Копенкине, Пашинцеве, Вощеве, Сафронове, Чиклине, Че-
пурном никак не скажешь, что они птицы залетные. Они свои из своих, укоре-
ненные.
Откуда же тогда такое равнодушие к жизни своих земляков, к своей собствен-
ной жизни? Почему «они — спросим словами Платонова - строили себе новую
страну для долгой будущей жизни, в неистовстве истребляя все, что не ладилось
с их мечтой о счастье бедных людей?». Потому, отвечает Платонов, что «они еще
не знали ценности жизни, и потому им была неизвестна трусость — жалость по-
терять свое тело», потому, что «они были неизвестны самим себе». «Поэтому они
жили полной общей жизнью с природой и историей,- и история бежала в те годы,
16
как паровоз, таща за собой всемирный груз нищеты, отчаяния и смиренной кос-
ности». Некоторые полагают, что именно идеалы, которым следовал Платонов, при-
несли погибель миллионам. Так ли это?
Тут самое время обратить внимание па различение понятий «идеалы» и
«цели», к воплощению которых в жизнь стремятся освободительные движения,
к сожалению, отождествляющие часто первые с последними. Впрочем, это делается
не по злому умыслу, поскольку «цели» действительно формируются по меркам
«идеалов». А между тем «цели» не могут, да и не должны воплощать в себе во
всей полноте содержание «идеалов». Поясню это на примере.
Астронавигация невозможна без ориентации по созвездьям, практически не
меняющим свое положение на небосклоне. Но что было бы, если бы «небеса»
свели на «землю», если бы звезды были заключены в навигационные приборы?
Достигали бы тогда корабли своего назначения? Доплыл бы Колумб до Америки?
Так и тут.
Вспомните о беспокойстве поэта: «Послушайте, ведь если звезды зажигают,
значит, это кому-пибудь нужно», уверенного, что человек не перенес бы «беззвезд-
ную муку». Так вот, идеалы подобны путеводным звездам. Они вечно должны оста-
ваться на тверди «духовного неба». Это именно увидел и понял в русской рево-
люции Андрей Платонов. Это и был его вклад в философское постижение того, что
происходит при непосредственном сопряжении идеалов и действительности, осо-
бенно когда речь идет об идеале свободно-личностного исторического существования
и действительности традиционной, еще безличностной, культуры. Он содрогнулся,
разглядев вполне реальную опасность их взаимной аннигиляции.
Автор «Чевенгура» впитал в свой разум, во все свое существо дух, а не букву
философии Маркса и потому не боялся толковать ее по-своему. В народном рус-
ском «митинговом» марксизме он разглядел черты еще по-язычески усвоенного
христианства, этого первого проекта пролетарски-бедняцкой идеологии освобожде-
ния, предрекающей богатым «геенну огненную», а «труждающимся и обременен-
ным» — вечное спасение.
Мировоззрение Платонова, разумеется, не тождественно мирочувствованию его
полуграмотных героев (исключая разве что Александра Дванова), но оно и не
столь отлично от него, как это теперь пытаются представить литературоведческие
историки революции, ставя автора «Чевенгура» в один ряд с Михаилом Булгако-
вым или Осипом Мандельштамом. Как и рабочий Вощев, Платонов искал смысла
жизни, хотел придумать «что-нибудь вроде счастья»; как Дон Кихот степной
революции, командир полевых большевиков Копенкин, он горевал о загубленной
буржуями немецкой революционерке Розе Люксембург (она была и его Дульсине-
ей); как у Чепурного и других коммунаров Чевенгура, в сознании Платонова со-
вместились (хотя и не слились, не перепутались) идеи диктатуры пролетариата и
«Страшного суда» над старым миром.
На Андрея Платонова оказал влияние русский религиозный мыслитель Нико-
лай Федоров. Платонова даже пытаются представить безоговорочным последовате-
лем автора «Философии общего дела», воплотившим будто бы в художественных
образах именно его идеи. Это, по-моему, заблуждение.
Сколько бы реминисценций федоровских идей ни было обнаружено в текстах
писателя, «Чевенгур» и «Котлован» - это спор с Федоровым, с его философией,
культурные истоки которой оказались, согласно Платонову, по крайней мере одной
из причин постигшей народ трагедии.
В своем дерзком проекте воскрешения отцов, победы над смертью и завоева-
ния космоса автор «Философии общего дела» выступал как оригинальный выра-
зитель еще родового и государственно-общинного уклада; для него земледелие было
единственной достойной человека, вечной и непосредственно связанной с космосом
деятельностью, составляющей, по его мнению, преимущество России перед «загни-
вающим» в своих урбанистических торгово-промышленных устремлениях Западом,
где, как он полагал, «городская роскошь п составляет предмет спора между бур-
жуазией и рабочими, между либеральною и социалистическою партиями» *.
* Федоров Н. Ф. Соч. М., 1382, с. 458 459.
Вопросы философии, № 3
17
Андрей Платонов не был ни врагом крестьянства, ни противником земледелия,
но социалистические устремления рабочих он все же понимал иначе, чем Н. Фе-
деров, а что касается родового, общинного строя, перенесенного из деревни в го-
родскую жизнь, то именно в нем, чуждом личному почину, мастеровой самостоя-
тельности рабочего, великий писатель усматривал глубинные истоки «котлован-
ности».
Образ «котлована», как я думаю, Андрей Платонов заимствовал из «Философии
общего дела», придав ему символический смысл, противоположный федоровскому.
«Сама земная планета,— писал Н. Федоров,— создавшая в русской котловине
(курсив мой.- К. К.) для своего самосохранения крепость против промышленной
эксплуатации, утратила бы надежду на восстановление (...) мы заняли этот ас-
кетический пост, эту уединенную глушь, не разделяемую никакими горами, ни ин-
тересами, свойственными бойким местам, этот необозримый простор,... эту безза-
щитную котловину или крепость, со всех сторон замкнутую, как с суши, так и с
моря» 2.
Причиной же того, что мы оказались в этой котловине, было насилие остро-
витян и иолуостровитян. Но нет, как говорится, худа без добра: «...благодаря только
насилию и нашему вследствие того уединенному положению мы сохранили и об-
щину, и отчасти родовой быт; благодаря лишь тысячелетнему застою, в котором мы
принуждены были оставаться, свойства первобытных диких обществ, через которые
проходили все народы, сделались нашим характером» 3.
Могло ли все это быть по душе Андрею Платонову, пролетарскому интелли-
генту, мастеру, влюбленному в машину, изобретателю, инженеру-мелиоратору, не-
доумевающему, как это крестьяне по косности своей не обводнят сухие степи,
а предпочитают ютиться в пересыхающих балках, обводнившему за них и для
них тысячи гектаров превращающейся в пустыню степи?
Могли ли Андрея Платонова радовать пустые, тоскливые пространства, наве-
вающие дремоту и сон души, писателя, сгустившего безликое пространство в сверх-
плотное вещество времени своей не знающей сна и покоя фонтанирующей энер-
гией творчества?4
Нет, разумеется, нет. Он, как и Н. Федоров, мечтал о бескорыстном братолю-
бии и, может быть, ему, хотя и неверующему, был близок, как и В. Маяковскому,
федоровский проект воскрешения всех тех, «кто свое земное не дожил, на земле
свое не долюбил». Чтобы жить для других, надо ведь, чтобы твоя собственная
жизнь чего-нибудь да стоила, чтобы ты был единственным, никем не заменимым,
свободным творцом, а не покорным исполнителем чужой воли, даже если это воля
«рода», «общины» или «служилого государства», которое всякое проявление личной
инициативы, свободного почина, столь свойственных рабочему, мастеру, рассмат-
ривает как якобы чуждое социализму проявление «анархо-индивидуализма» (ведь
Сталин так и аттестовал творчество Платонова).
А пока что Андрей Платонов видел, что котловина и после революции оста-
лась котловиной, что «котловинность» стала такой же особенностью города, как и
деревни, что она разрослась до общегосударственных размеров. И рытье «котлова-
на» деклассированными пролетариями и крестьянами под «общепролетарский дом»
было всего лишь углублением «котловины», созданной отнюдь не пространствами
самими по себе, а общинно-родовой психологией «равенства» в покорности, в нетер-
пимости ко всякому «инакомыслу» и «инакодеятелю», попытавшемуся вырваться
пз вечной «потенциальности» (Л. Карсавин) традиционной культуры.
Иные герои А. Платонова, совсем будто бы в духе Н. Федорова, поговаривают
о возможности посмертного воскрешения. Еще бы! Ведь эта жизнь бесприютна,
жестока, бессмысленна, бесперспективна. «Того света», как объяснили, вовсе нет.
2 Т а м ж е, с. 306.
’Там ж е, с. 307.
4 Я не припомню другого романа, где бы герои столько спали: в доме, в дороге,
ночью и среди бела дня, где сознание героев было бы скорее дремотствующим, чем
бодрствующим; сон, беспамятство в болезни, сумеречность сознания и пожирающая
пустота пространства — это ведь лейтмотивные символы и «Котлована», а «Чевен-
гура».
Как тут не помечтать о воскрешении в далекие, лучшие времена, чтобы пожить
обыкновенной, без страхов и ненависти, человеческой жизнью. Но чаще герои Пла-
тонова думают о смерти, не помышляя о воскрешении. Даже самые лучшие сеют
смерть вокруг себя, самосудом убивая тысячи н тысячи, без сожаления и без со-
страдания; убивают «классово чуждые элементы», сначала «буржуазию», потом
«класс остаточной сволочи», т. е. всякого «имущего» (у которого, может, ничего и
нет, кроме крыши над головой и «справной» одежки).
Убивают не ради «передела имущества», а «лишь» для того, чтобы не оста-
лось ни одного «собственника», который дорожит «своим», трудится «на себя» и
посему может помешать достижению истинного и полного братства, единства ду-
шевного, а не имущественного. В Чевенгуре собираются только те, у кого нет ни
двора, ни кола - нищь и оголь. Они и трудпться-то боятся, поскольку труд ведет
к накоплению имущества, отвлекает мысль и чувства от переживания духовной
близости с другими бедными и голодными. Они и не помышляют о том, что им
есть и что нить. На чевенгурцев «работает» солнце, воспроизводя дикие злаки и
дикую живность, которая и идет им па прокорм. И лишь тогда они разрешают
себе взяться за работу, когда возникает необходимость помочь тяжело заболевше-
му собрату. Вот тут-то и обнаруживается, какие способности к труду, какие на-
выки и таланты они в себе подавляли. Но это происходит, увы, в тот момент,
когда Чевенгуру остаются считанные дни. Как же до этого жила чевенгурская
коммуна? Была ли их жизнь осмысленной при полной бездеятельности, мате-
риальной и интеллектуальной нищете? Да нет, нисколько. Они, можно сказать,
«умертвили» и себя. История для них кончилась, время остановилось, осталось
вокруг одно пустое пространство, просочившееся в души. Жизнь стала томительна
и невыносима. Они стали помышлять уже не о вечной жизни или о воскрешении
после смерти, но о полном и безвозвратном окончании собственного существования.
И внутренне они умерли еще до того, как казачий отряд шашками порубил че-
венгурцев. А Александр Дванов, оставшийся в живых после разгрома, поехал на
коне «Пролетарская Сила» - этом русском Росинанте,— что достался ему после
гибели Дон Кихота Копейкина, на то самое озеро, где когда-то решил из любопыт-
ства («какова она - смерть?») утонуть его отец-рыбак, чтобы последовать его при-
меру.
Вообще мысль о самоубийстве преследует многих героев Платонова. Ею бук-
вально бредит инженер Прушевский, проектировщик «общепролетарского дома»,
пыталась покончить с собой Соня Мандрова, ищет смерти Сербинов, близок к
самоубийству и рабочий Вощев, который извел свой бедный разум в поисках
смысла жпзпи, так п не найдя его. Ищут гибели и все землекопы (особенно
после того, как умерла девочка — символ будущей счастливой жизни), зарываясь
все глубже в котлован, чтобы остаться в нем навсегда.
Иногда мне кажется, что если бы не покончил с собой любимый герой
А. Платонова Александр Дванов, судьбу которого он пережил как свою собствен-
ную, писатель застрелился бы сам, как это сделал ровно через год после Двано-
ва близкий но мировоззрению А. Платонову Вл. Маяковский. Разочарование в на-
деждах было сокрушающим, действительность чудовищна, предчувствия устра-
шающи.
Могли ли герои Платонова желать воскрешения? Зачем? Чтобы снова рыть
котлован? Чтобы «раскулачивать» новых врагов? Чтобы снова окунуться в пусто-
ту и бессмысленность существования?!
Андрей Платонов, чье каждое слово излучает понимание другого, терпимость,
доброжелательство, всепрощение и любовь к ближнему, и сам разделял, можно
сказать, всю полноту взглядов, настроений, порывов родных ему по классу и да-
леко не безгрешных героев; он не сразу и не просто преодолел в себе агрессив-
ные крайности «пролетарско-бедняцкой» психологии. По он все же преодолел их
и осудил бескомпромиссно. Преодолел и осудил, но не отказался от привязанно-
сти, уважения и любви к рабочему человеку, к униженному и обездоленному.
Рабочий Андрен Платонов не мог, я думаю, признать справедливыми такие,
например, слова Н. Федорова: «Для рабочего, исполняющего роль руки в течение
шести дней, голова точно шляпа, которую он надевает по праздникам (если он
2‘
19
только будет ее надевать: пе предпочтет ли он этой шляпе что-либо другое, раз-
гул, например?):»5.
Автор «Чевенгура» знал пе понаслышке силу и слабости своих братьев по
классу, он знал о человеческом достоинстве рабочего-мастера, о его свободолюбии,
о его жертвенной доброте, о его развитом городской культурой уме и познаниях,
о его мастерстве, поднимающем его часто на уровень художника своего дела.
О паровозном машинисте Александре Васильевиче Мальцеве Андрей Платонов
писал: «Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредото-
ченностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутрен-
нее переживание и потому властвующего над ним».
Паровоз у Платонова — символ революции («Революции - локомотивы исто-
рии»), И понимал этот паровоз, любил его, управлял им не какой-нибудь Вели-
канов, а именно Мальцев и такие, как Мальцев, люди рядовые, «малые», но ни-
как не «винтики», как их назвал позже «отец народов». Напомню также, что
«Чевенгур» начинается сценой столкновения двух «своих» поездов, символически
настраивая на дальнейшее восприятие описания социальной катастрофы. Один из
столкнувшихся паровозов вел, по случаю, механик Александр Дванов (не потому ли
и названный так, что в нем жил «евнух души», как бы другое существо, и еще
потому, что он был «двойником» автора). Жертвуя собой, Дванов пытался предот-
вратить крушение, но так и не смог. Едва не потерпел крушение и паровоз
Александра Мальцева (внезапно потерявшего зрение), если бы не его помощник
Костя, спасший состав, но не уберегший машиниста от тюрьмы. Помощник Маль-
цева Костя любил паровоз, как и его учитель. О жарко дышащей железнодорож-
ной машине он говорил: она «вызывала у меня чувство воодушевления: я мог
подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне, столь
же прекрасная, как в детстве, при первом чтении стихов Пушкина». Он только
никак не мог понять, почему это совершенное создание человеческого гения так
часто терпит крушение.
Рассказ о судьбе Мальцева («В прекрасном и яростном мире») - это одна из
платоновских версий сталинских репрессий, которые в довоенные месяцы 1941 г.
доверчивое сердце писателя готово было еще объяснить неспособностью властей
понять недоказуемые, скрытые от наблюдения психологические мотивы поведения
людей. «Тут действовали факты внутри человека, а вы их искали только снару-
жи». И все же Платонов и на этот раз, как прежде в «Чевенгуре» и «Котловане»,
предупредил, «что происходят факты, доказывающие существование враждебных,
для человеческой жизни гибельных обстоятельств, и эти гибельные обстоятельства
сокрушают избранных, возвышенных людей», т. е. людей, подобных Мальцеву,
будь они рабочими или крестьянами, инженерами или учеными, поэтами или вра-
чами. Зато эти роковые силы щадят таких, как «невыясненный» Умрищев из
«Ювенильного моря», который крепко усвоил вычитанное из старинной книги об
Иване Грозном жизнеспасительное правило: ни во что не вмешиваться, «не вы-
ходить из рядов», «не соваться». Однако помощник машиниста Костя (как и Пла-
тонов) не хотел подчиниться гибельным обстоятельствам. «Я решил не сдавать-
ся,— заявил он,— потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть
во внешних силах природы и в нашей судьбе, я чувствовал свою особенность че-
ловека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная,
как это нужно сделать».
Нет, не рабочих порицал Платонов. Он знал, конечно, что рабочий рабоче-
му - рознь, знал, что многие были не свободны от предрассудков, но не специ-
фически пролетарских, от влияния ложных идей о них самих, внедрявшихся в
их сознание.
Многое несправедливое, что совершили рабочие, шло вразрез с их совестью.
Платонов знал это и сокрушался. Он видел, что вместе с крестьянством декласси-
руются и рабочие, что вместе с крестьянской культурой разрушаются, затаптыва-
ются проклюнувшиеся в XIX в. ростки российской городской культуры, на кото-
рой воспитывался рабочий. Он наблюдал с тоской и печалью нравственную
5 Федоров Н. Ф. Соч., с. 330.
20
деградацию рабочих, видел, как агрессивная психология законопослушной декласси-
рованной массы отчасти задавила и пролетариат.
Еще совсем недавно их давпли и обманывали старые хозяева жизни. От них
они избавились. Но прошло несколько лет, и появились новые, «свои», которые,
спекулируя на «классовом интересе», на идее «классовой борьбы», втянули их во
взаимную вражду, затянувшуюся на десятилетия.
Романы Платонова тревожат душу, беспокоят совесть, рождают сомнение в
разумности устроения жизни, в способности человека понять самого себя, вызы-
вают чувство тоски не обыкновенной (какая бывает от житейских неурядиц),
а тоски метафизической - от неопределенности места и роли человека в миро-
устройстве, от вины тех, кто прав, и правоты виноватых, от тщеты усилий обре-
сти гармонию, от тягостного сознания, что доброе и злое, милосердное и жестокое
так опасно близки друг к другу, от ускользающего различия между живым и
мертвым, от того, что жажда бессмертия странным образом уживается с отвраще-
нием к жизни. Но ведь это как раз то, что нужно для катарсиса, для возрождаю-
щего душу покаяния.
В. А. ПОДОРОГА. Евнух души (Позиции чтения и
мир Платонова).
Видеть, но не понимать
Поразительный стиль Платонова рождается из особого умения видеть. В статье
«Пролетарская поэзия» и романе «Чевенгур» мы можем найти скромные попытки
писателя объяснить «странности» собственного видения: «Точка объективного
внеотносительного наблюдения совпадает с центром совершенной организации.
Только отойдя от мира и от себя, можно увидеть, что есть все это и чем хочет
быть все это». Что же это за точка, и кто может расположиться в ней? Платонов
поясняет: «Но в человеке еще живет маленький зритель — он не участвует ни в
поступках, ни в страдании,— он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба—
это видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни человека, и не-
известно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день и ночь
освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки сидит этот бодрст-
вующий швейцар в подъезде человека, знает всех жителей своего дома, но ни
один житель не советуется со швейцаром о своих делах. Жители входят и выхо-
дят, а зритель-швейцар провожает их глазами. От своей бессильной осведомлен-
ности он кажется иногда печальным, но всегда вежлив, уединен и имеет квартиру
в другом доме. В случае пожара швейцар звонит пожарным и наблюдает снаружи
дальнейшие события.
Пока Дванов в беспамятстве ехал и шел, этот зритель в нем все видел, хотя
ни разу не предупредил и не помог. Он жил параллельно Дванову, но Двановым
не был. Он существовал как бы мертвым братом человека: в нем все человеческое
имелось налицо, но чего-то малого и главного недоставало. Человек никогда не пом-
нит, но всегда ему доверяется - так житель, уходя из дома и оставляя жену,
никогда не ревнует к ней швейцара.
Это евнух души человека».
Мы читаем, доверившись этому маленькому, но вездесущему мертвому брату,
и не требуем большего. Но вот мы останавливаемся, чтобы перевести дыхание,
чтобы еще раз проверить себя, то ли и так ли мы читаем. Может быть, прошед-
шее время истории затрудняет наше понимание, искажает ту первую страсть, ко-
торая вела рукой писателя, и не эта ли очевидная прозрачность текстов «Чевенгу-
ра» или «Котлована», на первый взгляд столь доступная,— не она ли мистифици-
рует нас, вовлекая в то, что мы уже никогда не сможем понять и пережить? Это
сомнение было бы оправданным, если бы созданный Платоновым мир был лишь
отблеском, отображением другого, реального и исторически ограниченного мира,
2
был лишь средством исторического познания судеб русской деревни 20-30-х годов
или специфическим документом, комментирующим на своем языке эпоху коллек-
тивизации. Но, насколько я могу судить, наше чтение Платонова далеко не опре-
деляется лишь желанием узнать, как же это происходило на самом деле, и его
проза далека от того, чтобы раскрыть нам «белые пятна» отечественной истории.
Чтение, если оно действительно чтение, бежит реальности, оно имманентно читае-
мому, т. е. тому особому и несводимому миру, как бы вынутому из потока исто-
рических времен и живущему своей удивительной жизнью, понятной только чи-
тающему.
Я бы хотел обратить внимание на эти моменты чтения, еще не объективиро-
ванного в размышлении или исторической рефлексии, еще имманентного и спон-
танного. Читая Платонова так, как мы можем его сегодня читать, мы совершаем
причудливые колебательные движения по линиям двух «чувственных» дистанций.
Одна - это дистанция комики, другая - трагики: одна нас постоянно удаляет от
изображаемого, другая постоянно сближает с ним.
Однако весь эффект платоновской прозы заключается в том, что в чтении
игра этих дистанций переживается нами синхронно. Ведь трудно избежать снисхо-
дительной усмешки или самого настоящего приступа хохота, выслушивая эти
«глупые» и «неграмотные», если не безумные, речи платоновских персонажей, а,
с другой стороны, разве не охватывает нас чувство безысходности перед тупой и
бессмысленной жестокостью платоновского мира, где свободно и во всех своих
разных обличиях разгуливает смерть, где мертвый и живой уравниваются в своих
правах. В сущности, мы имеем дело с одной и той же дистанцией, которая, делая
нас независимыми от читаемого, даже его судьями, вдруг совершенно неожиданно,
почти мгновенно возвращает нас к самим себе по неведомой параболе, но уже как
к другим, превращая нас в объект провокации, отвращения и тоски. Одна дистан-
ция прячется в другой. Интенсивность комики столь высока и действенна, что мы
поневоле становимся ее жертвами; точно направленная комика делает нас трагиче-
скими персонажами, причем не позволяет трагическому переживанию отыскать
выход из эмоционального тупика и разрешиться в благородном катарсисе. Там, где
комика по своей интенсивности избыточна, она легко повергает в ужас.
Читать Платонова - это постоянно путать комическое с трагическим и наобо-
рот. И причиной тому не только мы сами, не наша чувственная слепота, а скорее
тот поводырь, которому мы так легко доверились, имя которому «мертвый брат»
и «евнух души»; он-то и оказывается тем скрытым регулятором этих двух дистан-
ций, определяющих ритм нашего чтения платоновской прозы. Он тот, кто наблю-
дает и свидетельствует, движется в своем наблюдении параллельно изображаемо-
му, ни выше, ни ниже, ни поперек, а именно параллельно, никогда не пересекаясь
с ним, ибо, по определению, он лишен права на то, чтобы быть нормальным чувст-
вующим существом, тем более вносить какой-либо свой, опять же нормальный и
поэтому разумный порядок в им наблюдаемое. Резкое изменение поля наблюдае-
мых событий возникает одновременно с появлением у наблюдателя вытесненного
эмоционального отношения, именно тогда искривляется путь наблюдателя, парал-
лельные прямые, по которым движутся наблюдаемое и наблюдатель, пересекаются
в одной точке, и эта точка почти всегда - смерть. Только смерть способна возоб-
новить для бесполого наблюдателя некоторые жизненно важные функции челове-
ческого организма, по она возобновляет их, одновременно стирая в смерти.
Все словно находится на других весах - ни боль, ни желание не проникают
в этот мир как особые ценности индивидуального бытия. Сексуальный акт изобра-
жается как мгновенная вспышка смертного чувства, его «переживание» объективно:
во-первых, оргазм оказывается неожиданным результатом смещения внутренних
органов (как, например, «сердце» Дванова), самопроизвольным и случайным, близ-
ким к ночным поллюциям; во-вторых, ему не предшествует желание обладать жен-
щиной, скорее оргазм - это вид обмена энергией жизни между родственными те-
лами под знаком нарастающего чувства смерти, именно последнее оказывается
стимулом; желание, если оно и появляется у Платонова, то открывает свою силу
только в смерти. Все сексуальные нары в «Чевенгуре» (Дванов - Фекла, Копен-
кин - Роза Люксембург и др.) являются пнцестуознымн, так как они насыщены
22
любовью к близкородственным мертвым телам. Да и как возможно нормальное по-
ловое поведение, если повсюду в этих почти безлюдных пространствах платонов-
ского ландшафта господствует метафизика истощения? «Евнух души» не признает
пи половых различий, пи эротики, да и сам оргазм для него нечто случайное,
последняя вспышка чистой энергии органического, переходящего в смерть. Натал-
киваясь на эти странные неувязки в функциях наблюдения, читатель впервые
понимает, что то, как он читает, хотя и инспирировано этим «евнухом души»,
но совершенно не зависит от того пути наблюдения, по которому он движется.
Платоновские тексты «живут» этим постоянно возобновляемым несоответствием
между спонтанным чтением и формой изображения, которую контролирует плато-
новский наблюдатель.
Но будем внимательны! Быть может, главное здесь в том, что «евнух души»
не способен понимать то, что он видит, именно радикальная установка на то, чтобы
описывать и свидетельствовать лишь то, что не поддается никакому пониманию,
и определяет особенность платоновского взгляда. Душевная бедность и изначаль-
ная эмоциональная ущербность наблюдателя создают особое поле текстовых зна-
чений, которые так эффективно воздействуют на сам процесс чтения. На мой
взгляд, в платоновской прозе очевиден отказ от изначального проектирования со-
бытий, сюжетных линий и планов поведения персонажей - все движется само
собой. Изображаемое деперсонализируется, депсихологизируется и не определяется
никакой внутренней телеологией; это странное существо, которое занимает приви-
легированную точку наблюдения, не способно видеть «души», «приватную психоло-
гию», «томление субъективности» или «половое влечение»: оно не видит внутрен-
него вообще. Подобному описанию доступно только внешнее, а точнее, только
положения, изменения и действия тел, физические события, не одушевляемые
никаким внутренним авторским участием. Откроем наугад любое пз его произве-
дений, повсюду, если мы будем внимательны,— приключения, торжество и ги-
бель тел.
Подавляющее число персонажей Платонова тяготятся быть отдельными тела-
ми, со своим, лишь им присущим кругом существования, со своей смертью п
жизнью, они изначально недостаточны, как бы ущербны, постоянно стремятся про-
никнуть в другие тела, их подлинное существование всегда обнаруживается там,
где они обретают свободу от органической нормы. Они словно захвачены одной
страстью - быть внешними самим себе. Поэтому все, что читатель надеется истол-
ковать как внутреннее, есть внешнее: платоновский взгляд о-страняет, о-внешняет
любое из событий, претендующих на то, чтобы являть собой внутреннее пережива-
ние состояний мира и человеческих существ. Даже самые задумчивые из плато-
новских персонажей больше напоминают мудрецов-автоматов, нежели ответствен-
ных за своп слова живых и разумных, подобных нам, «нормальным» читателям,
людей; они могут наблюдать собственную физиологию мысли, но не в силах изме-
нить ее, ни оправдать, ни управлять ею,- эта физиология случайна, и они, пой-
манные в ловушку «внеотносительного, объективного наблюдения», обречены оста-
ваться этими странными природными автоматами, чье сознание «течет» по поверх-
ности собственного тела и вещей, не зная внутреннего. Платонов сознает свой
«прием» и указывает на «евнуха души», который «не знает», что такое внутрен-
нее переживание телесной или душевной боли, как, впрочем, именно благодаря
этому незнанию не знает внутренней боли ни одни из его персонажей. И тем не
менее, читая Платонова, мы замечаем, как эта во внешнем выраженная боль глу-
боко проникает в нас. Нас поражает не точность безучастного описания боли,
а то, скорее, что она никому не принадлежит, что ее внутреннее переживание
несущественно для этого мира, где действуют силы, равнодушные к индивидуаль-
ному существованию. Действительно, с телом любого персонажа все время проис-
ходят события, которые не адекватны никакому возможному внутреннему пере-
живанию: убивающая пуля, треск костей от удара или глубокая рана («железная
птица ... шевелилась колкими остьями крыльев»),- все это внешнее, оно распреде-
ляется по поверхности этих странных тел, убивая и калеча их чьей-то бездушной
рукой. Никто не может поставить под сомнение могущество внешних сил. «Евнух
души» оставляет свидетельства:
«Божев почувствовал ветер, твердой силой ударивший ему в грудь, и не мог
упасть навстречу этой силе, хотя и был уж мертвым; он только сполз по стене
вниз».
«Чекисты ударили из нагана по безгласным, причастившимся вчера буржуям —
и буржуи неловко и косо упали, вывертывая сальные шеи до повреждения по-
звонков. Каждый из них утратил силу ног еще раньше чувства раны, чтобы
пуля попала в случайное место и там заросла живым мясом».
Как будто есть только одна задача: скрупулезно описывать физические собы-
тия, постараться не упустить главные мгновения их действия, ибо все то, что про-
исходит,— расстрел - не может быть понято наблюдающим. Другими словами, мо-
жет быть описано лишь то, что не может быть понято. Отсюда весь эффект, пов-
торяем, платоновской прозы, страдающей этим разрывом между буквальностью
изображения события и его смыслом: буквальная передача физического события,
заземленного до действия случайных механических сил («тело» человека - «тело»
пули), создает наше отчуждение от читаемого, ибо мы ведь не евнухи души и
знаем, что изображенное действие не просто рядовая механика столкновения двух
разных по плотности тел, а убийство людей. Однако наше внезапное понимание
нельзя приписать некоему смыслу, который восстанавливает утраченное нами
равновесие с миром истории («так было надо», «это было ошибкой», «дикостью»,
«фанатизмом» и т. п.). Пока мы читаем тот же «Чевенгур», сфера абсурда по-
стоянно разрастается и не дает нам никакого шанса ускользнуть в нишу оправ-
дания или суда: мы должны принять все как есть или не читать вовсе.
Фигуры и тела
Как можно легко заметить, Платонов не описывает отдельные тела, оп указы-
вает на их присутствие через отдельные физические действия. Если что и описы-
вается, то только фигуры тел. Фигура - это сложное тело, она зарождается и жи-
вет только ей присущим движением, когда может противостоять агрессивному
фону, стремящемуся смыть ее границы и растворить в силе пустеющих платонов-
ских пространств. Прежде чем видеть действия и положения тел во всей той фи-
зической убедительности и резкости, надо уметь видеть пространство - это искус-
ство главное для Платонова. Достаточно вспомнить то великое пространство, которое
движется на нас со страниц «Ювенильного моря», «Чевенгура» или «Котлована».
Мир Платонова опоясан этим активным пространством, великой пустынностью
степного ландшафта, захваченного тоской и скукой заброшенных деревенских по-
гостов, балок, руслами высохших рек: в нем негде «стать», только безостановочное
движение без цели и надежды оказывается единственным средством, чтобы быть
близким ему. Дело этого пространства — опустошать и рассеивать. Поэтому уметь
видеть его — это прежде всего чувствовать нарастающую силу опустения земли.
Платоновский язык несет па себе меты этого опыта пространственности, он и де-
лается так, словно с самого начала предназначен для того, чтобы благодаря своим
удивительным по точности метафорам выразить эсхатологическую динамику даль-
них путей, кружений и горизонтов, выразить начало конца времени, ведь только
поэтому, как нам представляется, пространство попало в плен к опустошающим
землю силам и стало расти, рассеивать тела людей, города и селения, мысли и
чувства, мир во все большей степени обретает нечеловеческие свойства, и только
ради того, чтобы разместиться на карте великого бездушного землемера, строящего
геометрию Котлована.
Но есть же и другие пространства, которые созидаются через многомерность
вещей и событий благодаря силе времени, постоянно поддерживаемой человеческим
усилием, и тогда оно охраняет, поддерживает, указывает границы и места любой
жизни. Однако этого пространства Платонов не чувствует, ибо, как свидетельст-
вуют его тексты, вся эта разнообразная фигурация тел крайне хрупка перед мощью
24
сил опустошения: не фигуры как комплексы тел-событий заполняют пространство
и делят его по своей разной мере, а оно, агрессивное и двумерное, превращающее
все в поверхность и прах, движется со всех сторон и во все стороны, рассеивая
живое, движется, оттесняя все богатство многомерной видимой жизни к смерти,
именно оно во всем живом пытается обнаружить первоначальную пустоту, никог-
да не заполняемую человеческим временем.
Обычно мы видим в фигуре как комплексе тел некую возможность останав-
ливать это пугающее нас действие пространства, которое склонно к самоопусто-
шению. Фигурация пространства - это первое условие разделения его сил, исполь-
зование их для целей жизни, только фигурированное пространство может считаться
«родственным» нам как живым существам, имманентным нашей мерности, наше-
му присутствию в мире. Совсем иначе это соотношение фигуры и пространства
представляется Платонову: пространство, освобожденное от времени, получает мак-
симальную динамику, оно растет через де-фигурацию мира. Но мы бы ошиблись,
если бы посчитали, что вышесказанное исчерпывает проблему. Следует понять и
другое. Платонов «пишет» фигуры, а не отдельные тела, и фигура для него — это
сбывшаяся мечта существования всех пустых и пустеющих тел. Однако фигура не
определяется только видимыми основаниями жизни, более того, можно сказать,
что фигура оказывается тем хрупким мостиком, который перекидывается между
жизнью видимой и невидимой, ибо фигура не может быть равна сумме составляю-
щих ее тел в этом конкретном нами читаемом пространстве, в ней сосуществуют,
как в сновидении, все тела, и мертвые, и живые, все события, и бывшие, и буду-
щие, она обладает высшей полнотой присутствия в мире. Поэтому персонажи
Платонова как отдельные тела жить не могут; только в сложных конгломерациях,
колониями, массами, где отдельное тело дышит и получает энергию к жизни или
смерти через множество других тел, и только переходя на такой уровень сущест-
вования, где уже неотличимые друг от друга видимая и невидимая жизнь, никакое
тело не испытывает страха перед опустошением, концом времени, смертью, кото-
рая грозит своей карой всему видимому. Вот почему рассеивание индивидуальных
тел, опустошение — это для Платонова, по сути дела, странничество, но странни-
чество в поисках одной, может быть, невозможной фигуры, которая включила бы
в себя разом все те недостающие отдельному индивидуальному телу тела видимой-
невидимой жизни.
Достаточно присмотреться к некоторым персонажам «Чевенгура», чтобы по-
чувствовать уникальную силу платоновских фигур. Вот Копенкин, человек-живот-
ное (его невозможно отделить от его коня Пролетарской силы), но он же пам
открывается и в другой, не менее странной серии превращений, когда разверты-
вает свое революционное движение по различным маршрутам, ведущим к могиле
Розы Люксембург (она и мать, и сестра и любовница): фигура Копенкина созда-
ется из множества тел, располагающихся одновременно на уровнях видимой и не-
видимой жизни. Платонов вовсе не стремится восстановить время, напротив, ему
важно найти такое пространство для жизни, которое уже не нуждалось бы во
времени, обнаружить в нас такую необычайную способность к метаболизму, чтобы
мы могли быть в мире как животные и растения, как солнечный свет.
Что же все-таки представляет собой платоновский взгляд, каково его строение?
Попробуем пояснить этот вопрос размышлениями П. Н. Филонова, крупнейшего
представителя русского авангарда, близкого, как пам кажется, Платонову. Филонов
различал «глаз видящий» и «глаз знающий». Когда мы хотим быть реалистами
(не в лучшем смысле этого слова), полагает он. и стремимся отражать в себе то,
что видим, то вынуждены подчиняться предвзятому канону и не в силах творить
то, что видим. Более того, мы как бы ограничиваем себя и собственное видение
теми естественными возможностями, которые заложены природой в самом глазе
как перцептивном органе ‘. Периферия наблюдаемых объектов всегда ускользает из
поля видения, и мы никаким образом не можем ее захватить во всей объективной
полноте существования. Отсюда вся ограниченность «видящего глаза». Для Фило-
1 Письмо П. Н. Филонова к Вере Шолпо,— «Ежегодник рукописного отдела Пуш-
кинского дома на 1977». Ленинград, 1979, с. 229.
пова же само видение есть акт творения «знающий глаз,— замечает художник,-
...говорит, что в любом атоме консистенции, образовавшей периферию, в любом
атоме самой поверхности происходит ряд преобразующих, претворяющих процес-
сов, и мастер пишет эти и многие ипые явления «формой изобретаемою» в любом
нужном ему случае»2. Итак, творческий «глаз» видит содержание, даваемое ему
формой. Художник действует как изобретатель, а не как регистратор внешних
раздражений, он стремится в своем творчестве овладеть теми невидимыми силами
жизни, которые создают эту вещь и этот мир, силами дофигурными, то есть ра-
ботать непосредственно с перцептивной материей объекта на микроскопическом,
атомном уровне. Филонов как никто чувствует этот избыток сил, бушующий в
материи, и он пытается в своей живописи создать для них соответствующие фигу-
ры-тела, перенасыщая живописное пространство: удивительный мир, где нет не-
сбывшихся жизней3. Аналогичным образом видит («пишет») фигуры-тела Плато-
нов: с одной стороны, именно бесчувственный взгляд открывает неслыханную
свободу для наблюдаемого, все эти разрывы и сдвиги в движениях тел, их меха-
нистичность и случайность; а с другой, несмотря на частичность и периферийпость
изображаемого, оно захвачено общим движением, рождающим на наших глазах все
новые и новые фигуры. Границы фигур прочерчиваются доверием к невидимым
силам жизни, лишь последние создают эти подвижные и гибкие границы, которые
позволяют нам отличать фигуры и не смешивать их, наперекор случайности и
бесцельности отдельных положений тел, их позиций и возможной гибели в види-
мой жизни. То, что должно быть в центре взгляда - фигура,- созидается собира-
тельным усилием из частичных и периферийных объектов. Платонов нарушает пра-
вило соотношения центра и периферии в восприятии. Вот почему перед нами,
читающими, возникают эти причудливые конфигурации, эти ни на что не похо-
жие платоновские фигуры, к которым так трудно применить какую-либо персонаж-
ную маску, где животное-насекомое, человек-вещь могут образовать одну серию
видимой-невидимой жизни, свободно скользящую сквозь ткань рассказа.
2 Т а м ж е, с. 230.
3 В живописи Филонова фон и фигура находятся в сложных перцептивно неожи-
данных отношениях; особенно важно в данном случае отметить, что текстура фона
(эта микроскопия невидимой, роящейся жизни), выдвигаясь на передний план, с тру-
дом принимает в себя след когда-то господствовавшей над всем фигуры (жизни ви-
димой и приговоренной к смерти). Так Филонов пишет «животных», «головы», не
говоря уже об образах «космоса».
С. Г. СЕМЕНОВА. Сердечный мыслитель.
Уникальность - качество художественного мира каждого выдающегося творца,
по степень ее бывает разной. У Платонова — она высочайшая, как у немногих ге-
ниальных новаторов в мысли п искусстве. Он не просто писатель с философскими
интересами, склонный заниматься вечными вопросами человеческого бытия. Андрей
Платонович обладал редким по цельности и убежденности мировоззрением, прямо
связанным с традицией активно-эволюционной, космической мысли, родоначаль-
ником которой в России был Николай Федоров. Творец предельно сознательный и
аналитичный, Платонов сумел воплотить свои намерения, свои однообразные и
«постоянные» идеалы в глубинно «клеточном» слое текста, не греша ни на йоту
риторикой, даже самой утонченно-художественной. Можно сказать, что он мыслит
в грамматике, передавая многомерный взгляд, парадоксальную, антиномичную ло-
гику, сверхумное видение неожиданным подбором и сочетанием слов, лексических
и синтаксических конструкций, взрывающих норму, но разящих по смыслу. (Для
подтверждения можно выписывать всего Платонова подряд.) Этому способствовала
и единственная в своем роде ситуация, когда народное, «неученое» сознание (а но-
сителями его и являются многие герои писателя), атакованное устрашающе-«уче-
26
ной», директивной, мнящей себя непогрешимой (так и воспринятой этим созна-
нием) идеологией-фразеологией, тем не менее пе отключилось от «темного»
сердечного питания, от забитых, вроде бы забытых, вековых душевных, нравствен-
ных представлений. На сшибке этих двух потоков и высекается искра авторской
мысли и отношения. Весь платоновский текст искрится, блещет, буквально горит
этой мыслью. Приведу только один пример. Даже один из самых замороченных
персонажей «Котлована», Сафронов, с большим вкусом играющий руководящее
лицо, выражается о мужиках так: «Мы же, согласно пленума, обязаны их ликви-
дировать не меньше как класс, чтобы весь пролетариат и батрачье сословие оси-
ротели от врагов». (А детские уста следом так венчают и припечатывают абсурд,
уже не замечаемый, ибо введен он как норма: «Это значит плохих людей всех
убивать, а то хороших очень мало».) Какие грамматически и стилистически выли-
занные просторы понадобились бы для того, чтобы выразить то, для чего достаточно
одной этой нечаянной проговорки: «осиротели от врагов»! Тут и загнанная глубь
отношения народа к тому братовытеснепию и братоубийству, которое он сам же
творит, и позиция автора, которую он таким же способом многократно являет и
в «Чевенгуре», и в «Котловане», и в «Ювенильном море», и в других вещах конца
20-30-х годов. Только надо вполне серьезно отнестись ко всем юродивым «хохмам»
его персонажей, там - наглядная диагностическая вивисекция эпохи, идей, людей.
Диалоги героев дают также россыпь важных Для Платонова мыслей, представле-
ний, задач, но само их то ли странно-юродивое, то ли детское облачение (послед-
нее возобладало в позднем творчестве писателя) лишает их всякой рассудочности,
хотя, по сути, они глубоко философичны.
Итак, где у Платонова искать его философию? Да в самой фразе, в определе-
ниях и сравнениях, в речах его персонажей, часто на первый взгляд полубредо-
вых, в героях, сюжете и композиции, в упорно навязчивых мотивах. Причем имен-
но эти мотивы концентрируют в себе философские заботы автора, его заветные
убеждения, во многом созидают особую, поражающую всех, смутно разгадываемую
атмосферу его творений.
Человек у Платонова встает как перед лицом природы, своего натурального
удела, так и перед миром межчеловеческим, социальным, находящимся в процессе
бурного переустройства, участником которого он является сам. Причем оба эти
отношения глубинно связаны. В русской классике XX в. Платонов, может быть,
единственный, привлек внимание к натурально-природной основе вещей, к самому
онтологическому статусу человека и мира, который обычно полностью игнорирует
всякое историческое и общественное действие. Позднее этой проблемой по-своему
занималась западная экзистенциалистская литература. Мы знаем представленный ,
ею обезбоженный, непроницаемый и темный мир природы, в который заброшен
смертный человек. Какие-то схожие обертоны встречаем и у Платонова, но в дру-
гой перспективе. В картинах природы «философское» письмо Андрея Платоновича
особенно густо и непрерывно, каждая фраза, каждый поворот и извив ее сочится
смыслом, мировоззрением, тенденцией.
Природный мир как будто мается в тяжелом, душном, бредовом сне; он обо-
рачивается чаще всего ликом какой-то усталой, перемогающейся, «призрачной»,
«скучной» стихии. Писатель неутомим в обрисовке природного хода вещей, «счаст-
ливого на заре, но равнодушного и безотрадного впоследствии», «тоскливого дейст-
вия природы», «всемирной бедной скуки»... Человек и мир в соответствий друг
другу: и здесь, и там - скука, тоска, работа сил разрушения, «падения», смерти.
То ли мир настраивается по человеку, то ли человек по миру, то ли оба отражают
один падший, «смертный» модус бытия. Конкретным выражением основного зла
для человека является смерть.
При углубленном чтении Платонова создается одно стойкое впечатление. Мы
знаем, что писатель не был ни верующим, ни христианином. Он в этом вполне
сын эпохи, отвергнувшей религию как «предрассудок Карла Маркса и народный
самогон». Но сама его душевная структура, запечатленная в творчестве, оказывает-
ся поразительно близкой к тому, что называется христианским сердцем, хри-
стианской юродивостью и даже святостью. Я имею в виду и тип отношения к
миру и человеку, и особую реактивность (поведение), по отношению ко злу преж-
27
де всего. Из житийной литературы известны истории про то, как святые дают
себя спокойно убить, жалея своих убийц и молясь за них, бегут за грабителями,
предлагая им незамеченную вещь. В «Чевенгуре» Саша Дванов любяще прощается
с собственным убийцей и помогает ему раздеть себя.
В мире Платонова это вовсе не единичный случай. За неимением места огра-
ничусь перечислением родственных черт: это и переживание мира как «падшего»,
неистинного, недолжного, и печалование о таком положении вещей, и его «нищие
духом», полные смиренномудрия «душевные бедняки», и критерий детскости
(«Если не будете, как дети...»), и, наконец, неприятие избирательности, невсеобщ-
ности спасения. Как можно блаженствовать праведникам горе, в райских кущах,
когда их подножия лижут языки адского пламени, прорезываются тенями мучени-
ков под вечный вопль, стон и скрежет зубовный? Такое низменное видение, кото-
рым с каким-то извращенным сладострастием педагога с хлыстом не перестают
потрясать некоторые, называющие себя христианами, невозможно для сердца,
желающего всех спасти. Кстати, у самых чутких христианских душ, отмеченных
особой праведностью подвижников, можно сказать, заработавших себе райское
блаженство, неоднократно встречается желание разделить участь проклятых
братьев, раз таковые будут. Боление за всех и за все, которым мучаются «со-
кровенные» платоновские герои,— из этого круга переживаний и идей.
Мотив умирания и смерти, пожалуй, самый всепроникающий у Платонова,
рассматривался многократно, и я на нем останавливаться не буду. Тесно к нему
примыкает мотив скуки (по частоте употребления слова «скука», «скучный»,
«скучно» в платоновском словаре — среди лидеров, тут писатель не боится повто-
ряться и пестреть). В реакции «скуки» - некое безнадежное онтологическое само-
определение человека, всякой твари, вещи этого мира, словно принимающих себя
вечными жертвами дурной бесконечности смертного порядка, «пустоворотов бытия».
Плодотворная трансформация «скуки» в «грусть», «тоску», «скорбь» обнаруживает
уже другой уровень отношения к миру: неприятие существующего положения ве-
щей и порыв к его преодолению. В природе — это «тоска дремлющего разума»,
в человеке - печаль по ушедшим из жизни, зовущая к действию.
Единое мироощущение связывает разнообразие платоновских мотивов. Среди
них и лейтмотив сиротства. По существу, все герои и «Чевенгура», и «Котлова-
на», и «Ювенильного моря» — буквальные сироты («сироты земного шара», а, ска-
жем, Копенкин - тот «пожилая круглая сирота»...). Все взрослые - или готовые,
или потенциальные сироты, на пороге вечного разрыва с самыми близкими людьми.
Тут же и странничество, зов дали и пространства (туда, туда, «в глубь, в дале-
кую страну», в путь-дорожку, «без отдыха идти по земле, встречать горе во всех
селах и плакать над чужими гробами»). По Федорову, в этом зове проступает
архаичный пласт психики человечества, запечатленный в древних мифах о поис-
ках «страны умерших» с целью их вызволения оттуда.
Самые странные и уникальные из мотивов произведений Платонова связапы
с наиболее сокровенными и дерзновенными его чаяниями, идущими от идей Фе-
дорова о борьбе со смертью и о воскрешении умерших: к примеру, собирание
всяких «вещественных остатков потерянных людей», следов ушедшей жизни (это п
Саша Дванов, и Вощев со своим мешком, и многие другие), и тема гроба и рас-
копанной могилы... Мотив уже собственно «научного» воскрешения проходит через
все творчество писателя вплоть до военных п поздних детских рассказов. Зачина-
ется он в ранних статьях и стихах воронежского мечтателя. В балладе «Сын
земли» герой отправляется в дальний поход за возвращение к жизни умершей ма-
тери и братьев, написана она 7 ноября 1920 г. в годовщину Октябрьской револю-
ции. С этой даты начинается для молодого Платонова «всемирный подвиг челове-
чества», включающий исполнение «надежд всех людей» преодолеть «великое немое
горе вселенной», в которой царит слепой закон пожирания и смерти. Такое пони-
мание революции как начала некоего грандиозного «онтологического» переворота,
который приведет к «новому небу и новой земле», преображенному бессмертному
бытию, разделяли в самые первые послереволюционные годы многие деятели новой
культуры. Самосозданный народпый интеллигент Саша Дванов придумывает памят-
ник революции, выражая в нем свое понимание ее дальнего смысла: «Лежачая
23
восьмерка означает вечность времени, а стоячая двухконечная стрела — бесконеч-
ность пространства». А его реально существовавшие идейные собратья начала
20-х годов, называвшие себя биокосмистами, выдвигали для немедленного осуществ-
ления лихие лозунги: интерпланетаризма, т. е. завоевания «бесконечного простран-
ства», и иммортализма - победы над «вечностью времени», воскрешения мертвых,
«последних угнетенных».
Саша надеется, что чевенгурский коммунизм позволит ему исполнить завет и
родного отца, данный ему во сие, и приемного — наяву: «Сделай что-нибудь на
свете, видишь, люди живут и погибают». Да и вся горячечная деятельность других
персонажей направлена на то, чтобы утолить сердце, пронзенное этим зрелищем
всеобщего натурального несчастья и гибели, в крайнем случае хотя бы «отвлечь
от него тоску». Забываясь в своих планах и работе, они терзаются сомнениями:
«Неужели внутри всего света тоска, а только в нас пятилетний план?» («Кот-
лован»).
Потому-то так гнетуща, томительно-мрачна атмосфера этой повести.
А как может быть иначе, если даже сам проектант Дома, куда должен войти
на вечное счастливое поселение пролетариат города (а в воображении инженера
Прушевского уже встает и башня общемирового счастья в центре земли), сам
страдает от той же общей «тоски тщетности», сам пуст, одинок и готовит само-
убийство. Вот такими контрастами и движением сюжета, а не только мотивами и
образами «мыслит» Платонов. В «Чевенгуре» наивно пассивная апокалиптика
устроителей коммунизма (доводящих до предела принятое на веру убеждение:
уничтожим эксплуатацию, вообще весь непролетарский, чуждый элемент — и чело-
век, и мир мгновенно преобразятся) проваливается с треском. Сюжетно смерть
ребенка становится роковым испытанием для Предприятия чевепгурцев. Да и в
«Котловане» тот ясе ход: в фундамент стройки кладется буквально детский тру-
пик, который отравляет самые источники веры в возможность построения «рая на
земле» на непреображенной природно-натуральной основе с ее законом вытесне-
ния и смерти.
Понять тип платоновских героев можно, если учитывать не только социальный
пласт их образов, будь то «неистовые ревнители» эпохи военного коммунизма или
коллективизации, техники-изобретатели первых пятилеток, но и сокровенное
ядро - «душевных бедняков», мучающихся чувством, непросветленным умом и
знанием. Попав в мощное силовое поле идей своего времени, его задач и дел, они
привносят в него свои полубессознательные сердечные устремления, но и сами
этим полем деформируются. В результате создается некий нелепый конгломерат,
когда, с одной стороны, жаждут братства и преображения Земли, а с другой -
приравнивают к «обезьянам», подлежащим уничтожению огнем пролетарской се-
лекции, всю прочую «остатнюю сволочь»; готовы и скот распустить по природе,
подтянуть меньшую тварь до человека (как в поэтических мечтаниях Заболоцкого)
и вместе устраивают какое-то зловеще комфортабельное, «фашистское» убойное
стойло для того же скота; тоскуют по умершим и высчитывают, сколько полезных
химических продуктов можно получить из тщательно утилизированного трупа воз-
любленной.
На таких сгущенных гротесках работает аналитическая мысль писателя. Сатира
Платонова облекается в форму фантасмагории, даже какого-то театра абсурда с
марионеточными персонажами-идеями. В «Ювенильном море» старушка Федератов-
на, боец против стихий природы и классового врага, не спит, такой «по всей рес-
публике громовень, стуковень» идет, стоит густой чад трудового энтузиазма, а она,
словно ведьма какая, всю Федерацию слышит и восчувствует, как свою избушку
на курьих ножках. В этой повести прослеживаются психические процессы эпохи,
давление тотальной подозрительности, доводящей до того, что «невыясненный»
человек сам начинает в себе сомневаться, кто он такой и существует ли вообще.
Созидается железная империя бюрократизма, . в которой на вечное поселение
устраиваются уже не люди, а бумаги, а с ними разыгрываются запутанные и почти
«мистические» истории (нельзя не вспомнить мир Кафки). В «Ювенильном морс»
к излюбленным платоновским «скуке» и «тоске» добавляются «бред» и «бредовый»,
побивающие здесь рекорды словоупотребления. «Классовая ласка» чевенгурцев,
29
устроителей «душевного коммунизма», обнявшихся в «обожании» товарища, в «Юве-
нильном море», где провозглашается уже «технический большевизм», доходит до
пародийного градуса: Босталева, доставая гвозди, все обнимается с ответственны-
ми работниками, а был случай, абортом расплатилась за кровельное железо.
В эпопее с гвоздями блистательно нагнетается бред «планового» руководства от-
сутствующими материальными ценностями. Дикая замороченность тяготит созна-
ние: директор леспромхоза давит в себе умиротворяющее чувство к природе, за-
подозрив в этом «натурфилософию, мировоззрение кулака, а не диалектику».
Герон «Чевенгура» и «Котлована», творя «из лучших побуждений» свои дикие
и нелепые дела, тем не менее охвачены постоянным чувством тоски и стыда. Эта
«тревога неуверенности», «беззащитная печаль», «Душная, сухая тревога», «бес-
смысленный срам», «жжение стыда», «стыд и страх перед наступившим комму-
низмом» (тут Платонов неистощим, как всегда, когда он хочет нечто вбить в эмо-
цию и сознание читателя) заставляют вспомнить анализ «тоски» и «тревоги»,
произведенный Ж.-П. Сартром спустя пятнадцать лет. Человек, пытающийся само-
управно предлагать и утверждать действием свою систему ценностей в мире, ли-
шенном обоснования, наказывается за такое самоуправство ощущением тоски.
И стыда - добавляет Платонов. Но сама эта метафизическая тревога и стыд обна-
ружили бы для того же Сартра их глубинную «моральность» в отличие от «подле-
цов», самодовольно верящих в необходимость и обоснованность своих действий.
В «Ювенильном море» этот стыд, удостоверяющий какое-то творимое «не то», про-
пал. Так же, как пропали и сны, когда, на время «прекратив свои убеждения»,
герои уходили в детство, на родину своих самых затаенных воспоминаний и чая-
ний. И это был дурной симптом. Круто пошедшая эпоха не оставляла падежд
многим элементарно-человеческим требованиям, не говоря уже о каком-то осозна-
нии «онтологических задач». «Регуляция природы», имевшая в виду новый,
сознательно направляемый этап эволюции, одухотворение природы, обернулась
насилием над ней, всякого рода проектами ее технизированного покорения, которы-
ми кишит голова Николая Вермо, «братотвореяие» — неистовством все усиливаю-
щейся классовой борьбы (согласно верховной Теории); свет разумного и свободного
развития, которого так не хватало низким лбам «душевных» чевенгурцев, так и не
воссиял, а сталинские «Вопросы ленинизма» утвердились альфой и омегой знания
и понимания.
Несмотря ни на что, Платонов не отчаивается в своих философских убеждени-
ях. Впереди — повесть «Джан», многочисленные рассказы, в том числе детские,
в которых, пожалуй, в самом чистом, «идеальном» виде он живет в излюбленном
пространстве, среди дорогих ему побуждений, реакций и пониманий, ставя в неза-
мысловатых сюжетах и диалогах свои постоянные проблемы: смерти и бессмертия,
дарового и трудового, истины и блага, самосознания, зла, высшей цели. Здесь кри-
терий «будьте как дети» естественно реализует себя как урок и завет взрослым.
Дети - провозвестники пришествия великолепной страны «невозможного», где
кратковременная встреча всего существующего превращается в вечное свидание,
ликующий хоровод всего живущего и жившего. О ней писал Платонов в письме
к жене: «Надо любить ту вселенную, которая может быть, а не ту, которая есть.
Невозможное — невеста человечества, й к невозможному летят паши души».
Кстати, мне хотелось бы отметить особенность отношения Платонова к фигуре
Сталина. Для этого необходимо сделать одно небольшое отступление. XIX в. был
веком идеи Разума, Прогресса, Науки, Человечества. Естественно было ратовать за
личностный гуманизм против абстрактного, за личность против культа общего по-
нятия. Тут особенно убедителен и красноречив был Достоевский: удивительно по-
лучается, человечество почитаем божеством, высшей ценностью, за него жертвуем
жизнью в борьбе, а к реальному, рядом живущему и страдающему ближнему -
одно отталкивание и презрение. В нашем веке ситуация в определенном смысле
полярно изменилась. Конкретного человечка еще можно пожалеть, понять и полю-
бить, а вот идея великого Человечества, идея Человека, который «звучит гордо»,
пала низко. Прогресс стал делать неожиданные зигзаги, разум обслуживать чело-
векоедство, паука обнаружила свои разрушительные, «демонические» потенции,
разверзлись бездны коллективного зла, выявившие страшные пределы человеке-
свой природы. Те леворадикальные, а по сути дела, превращенно-«религиозные»
чаяния, которые так ярко представлены у того же Платонова - пожар мирового
обновления, гармонизация мира, мгновенное улучшение человеческой природы, раз
уничтожено основное зло: эксплуатация и частная собственность,— провалились
очень быстро. Плоский, неглубокий анализ причин зла, утопическое представление
о человеческой природе привели к кризису веры в человека вообще. Скажем, Пла-
тонову и активно-эволюционным мыслителям такой кризис не грозил: они видели
несовершенную, противоречивую, «промежуточную» природу человека, склонного ко
злу и разрушению в силу самого своего несовершенства, натурального несчастья
и смертности, и более того, задачей ставили - преобразование этой природы, ее
оитологическое восхождение. Самый же глубокий завиток демонизма разного рода -
от неверия в человека, презрения к нему, от отчаяния в спасении. Да и Сталин,
злодейства и преступления его стали возможны и от презрения к человеку как
твари. Воссел сей Навуходоносор и на провале целой «утопии» человека, сделав
из него «трезвые» выводы. И занялся «нормальными» вековыми делами отчаявших-
ся: государство строить, интриги плести, врагов изводить, свой «миф» утверждать
и свою «культуру». Сталин — «выразителен», инфернален, определяется в измере-
ниях истории, культуры, пусть самой жестокой (Калигула, Иван Грозный...). Неда-
ром на наших эстетов и культурников - и на Булгакова, и на Пастернака, и Ман-
дельштама - он временами оказывал своего рода зловещее «эстетическое» воздейст-
вие, вроде того, что может оказать, например, образ леди Макбет. А Платонов,
что чаял преодоления культуры (в том смысле, как высказывался Вл. Соловьев:
«Принцип высшего культурного призвания есть принцип жесткий и неистинный»),
вознесения природы человека, спасения Жизни как интеграла спасения всех без
изъятия живущих и живших людей, ни на йоту, никак и никогда не обольщался
фигурой диктатора. Как в «Усомнившемся Макаре», великий человек на горе,
а на самом деле - пустой идолище.
С. И. ПИСКУНОВА. Мудрость заброшенных книг.
В наши дни становится все более очевидной неплодотворность или по край-
ней мере недостаточная эффективность изучения любой художественной системы
в отрыве от ее социокультурной почвы. Это в полной мере относится и к твор-
ческому наследию Андрея Платонова, которое во всей своей полноте только-только
становится объектом серьезных филологических разысканий. Впереди кропотливая
текстологическая работа, установление точных дат написания тех или иных про-
изведений, степени участия редакторов в подготовке их к публикации даже в пер-
воизданиях. Но уже сейчас, «поверх» всех нерешенных текстологических проблем,
наша критика активно включается в процесс философско-эстетической интерпрета-
ции созданного Платоновым. И здесь, повторюсь, без социокультурного контекста
не обойтись. Важно ведь не только то, кто из русских классиков XIX столетия
(Достоевский? Салтыков-Щедрин? Лермонтов? Пушкин?..) оказал влияние па
Платонова на разных - существенно между собой отличающихся — этапах его
творческого пути. И не только то, кто из зарубежных писателей-современников
оказался ему близок, кто из философов был внимательно прочитан Платоновым и
какая конкретно философская идея стала объектом художественного осмысления и
преображения в платоновском космосе... Важно и то, на какую почву падали эти
семена: на — воспользуюсь платоновским образом — заросшую бурьяпом? пустую?
во, деланную и ждущую сеятеля? сплошь засеянную культурными злаками? Обра-
тимся, например, к проблеме: Платонов и Николай Федоров, чья проповедь «обще-
го дела» отозвалась и в творчестве многих других писателей, в том числе Андрея
Белого, Бориса Пастернака, отозвалась совсем иначе, нежели у Платонова. И это
«иначе» обусловлено тем, что в одном случае семена федоровской проповеди еле-
еле отыскивали свое гнезда в просветах между пышно разросшимися кантианством
31
и неокантианством, ницшеанством и шопепгауэреанством, теософией и иеохристпап-
ством, а в другом - ложились на едва возделанную, полузаросшую «братскими
травами» и ждущую сеятеля почву - то есть различием социокультурных основ
творчества Андрея Белого и Пастернака, с одной стороны, и Платонова — с дру-
гой. Указанием на различно творческих индивидуальностей тут не обойдешься,
поскольку художественный мир Белого и художественный мир Пастернака отлича-
ются друг от друга не меньше, чем оба они - от художественного мира Платонова.
Но в данном случае Белого и Пастернака объединяет общая социокультурная ос-
нова: «высокая», книжно-письменная культура послепетровской России, культура
«двух столиц», притягивающая к себе — затягивающая в орбиту своего влияния -
поместную культуру. Несомненна ее чуткость ко всем западным веяниям и вме-
сте с тем ее открытость по отношению к традиции живой народной культуры
(вспомним об отголосках духовных стихов в «Серебряном голубе» Андрея Белого,
о пастернаковских Васе и Таньке-бельевщице из «Доктора Живаго»...).
А как определить социокультурную почву творчества Андрея Платонова?
Можно попытаться вписать его в охарактеризованный выше социокультурный
контекст, представив автора «Чевенгура» непосредственным продолжателем До-
стоевского, а создателя «Фро» - верным учеником Пушкина, но, во-первых, это
будет очевидным насилием нац платоновской самобытностью, а во-вторых, отрица-
нием его роли как одного из гениальных зачинателей новой русской литературы
XX столетия, развертывающейся — обращусь к ставшим «летучими» строкам
А. Белого — в «новых пространствах» и «новых временах». Боюсь, как бы благо-
родное стремление восстановить насильственно прерванное единство национальной
традиции, представить русский историко-литературный процесс XX в. как одно-
родную - однокорневую - целостность не привело бы нас сегодня к созданию но-
вого «мифа», к отрицанию того очевиднейшего уже для современников великих со-
бытий факта, что 1914-1921 гг. и впрямь знаменуют собой начало качественно
новой эпохи в истории русской культуры. И дело тут не в «сбрасывании класси-
ков с корабля современности», а в том, что сдвинулись с места земные пласты
и поменялся состав пород земных; Октябрь призвал к культуротворчеству те со-
циальные слои, которые до того в массе своей были отторжены от культуры «двух
столиц», от университетского образования, от профессиональной художнической
деятельности. Андрей Платонов - не буду напоминать всем известные факты его
биографии - выходец именно из этих слоев.
И тут возникает соблазн поставить его рядом, скажем, с Есениным и счесть
изначальной, корневой основой его творчества фольклор, тем более что фоль-
клор—не менее важный источник образотворчества Платонова, нежели произведе-
ния Сервантеса или Достоевского. Тут можно вспомнить и о платоновских обра-
ботках русских сказок, и о том, что его проза, как классический фольклор,
в значительной своей части воспроизводит мифопоэтический строй мышления.
А в нашем литературоведении еще в 60-е годы, когда пришлось-таки в основном
благодаря латиноамериканскому буму смириться с тем, что мифотворцами могут
быть не только писатели-реакционеры, сложилась концепция, согласно которой
«прогрессивный» писатель, обращающийся к мифам, отражает тем самым настоя-
щую, живую реальность народного сознания, ту самую, что в некоторых регионах
и по сей день продуцирует мифы, поддерживает в сохранности сказочную и песен-
но-лирическую фольклорные традиции. Однако патриархально-крестьянский мир —
социокультурная почва классического фольклора — изображается, как правило,
Платоновым остраненно, даже в тех случаях, когда писатель сострадает крестья-
нину. Деревня также чужда Платонову, как и бессердечный, порождающий то-
тальную разобщенность мир большого современного города — того, из которого яв-
ляется в Чевенгур Симон Сербин. Да и мифопоэтическая образность, как показы-
вает опыт мировой культуры, вовсе не обязательно должна генетически восходить
к фольклору.
Мир Платонова возникает на «порубежье» - на стыке города и деревни, па го-
родской «опушке»: это мир ремесленной и торговой слободы, мещанской окраины,
мир Лиховых и Окуровых ''если опять-таки вспомнить А. Белого и М. Горько-
го) - социальная почва так называемой «третьей» культуры - культуры «прими-
23
тпва», как с большой степенью условности (ср. столь же условное определение
М. Ларионова - «лубочная» культура) назвали ее авторы книги «Примитив и его
место в культуре Нового и Новейшего времени» (М., «Наука», 1983). Эта книга,
недостаточно, по моим наблюдениям, оцененная нашей гуманитарной обществен-
ностью и оставшаяся преимущественно достоянием искусствоведения, должна,
на мой взгляд, быть настольным сочинением любого историка советской лите-
ратуры.
В. Н. Прокофьев и его единомышленники, резко и справедливо противопостав-
ляя примитив «массовому искусству», кичу, выделили его «в качестве особого
слоя, пласта или уровня в системе ново- и новейшевременного искусства, в качест-
ве «третьей культуры», однажды возникшей, исторически развивавшейся в измен-
чивых и зыбких, но все же уловимых границах между фольклором и учено-арти-
стическим профессионализмом, постоянно взаимодействовавшей и с тем, и с дру-
гим, порой рискуя в этом взаимодействии потерять собственное лицо, но в
конечном счете обладая где-то в глубине достаточно прочным центром самотяготе-
ния». А также в качестве такого слоя, «который беспрестанно оказывал свое влия-
ние и «вниз» — в среду фольклора, постепенно тесня его, и «вверх» — в среду уче-
но-артистического профессионализма, ибо вне этого влияния нельзя удовлетвори-
тельно понять ни Гойю, ни Гоголя, ни школу Венецианова, ни Домье, ни Уитмена,
ни Ларионова, ни раннего Маяковского, ни «бубнововалетцев», ни Пикассо, ни Брех-
та, ни Марка Шагала, ни Жана Люрса, ни Эндрю Уайеса (список этот, разумеется,
можно продолжить)» (с. 8). Почетное место в таком продолженном списке должно
принадлежать Андрею Платонову. Именно постоянный контакт с культурой примити-
ва, особенно характерный для Платонова 1920 —начала 1930-х годов, обусловливает,
на мой взгляд, своеобразие художественного мировйдепия Платонова, контакт,
не только не мешавший, а, напротив, помогавший ему подниматься на вершины
классической культуры и нисходить в самые бездны архетипической образности *.
И до того, как устанавливать связи творчества Платонова с Достоевским и Н. Фе-
доровым, с одной стороны, и с волшебной сказкой — с другой, следовало бы под-
нять тот пласт дешевых книг и лубков, которые питали воображение мальчика с
воронежской окраины, окончившего три класса церковноприходской школы. Были,
вероятно, среди этих книг и доступные широкому читателю классические сочине-
ния (скажем, приспособленный для детского чтения «Дон Кихот»), и «лубочные»
версии сказок, и авантюрно-приключенческая литература, а также все те книги,
которые были собраны в библиотеке отца лесного надзирателя («Чевенгур»): «Его
отец-лесничий оставил ему библиотеку из дешевых книг самых последних, нечи-
таемых и забытых сочинителей. Он говорил сыну, что решающие жизнь истины
существуют тайно в заброшенных книгах... Лесной надзиратель читал сегодня про-
изведение Николая Арсакова, изданное в 1868 году. Сочинение называлось «Второ-
степенные люди», и надзиратель сквозь скуку сухого слова отыскивал то, что ему
нужно было...» (с. 139). Знать бы, какие еще книги были в библиотеке лесничего,
и нам открылись бы истоки многих сюжетов и образов Платонова! 1 2
Творчеству Платонова вполне присущи такие черты примитива, как сочетание
«мистериальности» и «фарсовости», парсунности и карикатурности, назидательной
эмблематичности и избыточной изобразительности, отказ от психологической раз-
работки характеров героев и тяготение к канону... Укорененность Платонова в по-
рубежной культуре во многом объясняет двойственность платоновского мировиде-
ния, которое, с одной стороны, тяготеет к архаичнейшим космологическим схемам,
к постижению мира как упорядоченного целого, имеющего свое начало и свой ко-
нец, но которое вместе с тем насквозь пропитано наивным сциентизмом, какой-то
допкихотовской верой во всесилие науки и всемогущество человека, подчинившего
себе электрическую и прочие виды энергии. Такой человек не нуждается в боге
и утверждает свое господство во вселенной любыми средствами, всячески заглушая
1 Так, можно было бы показать связь сюжета «Чевенгура» с ритуалом инициации
в его древнейших формах, минуя посредничество волшебной сказки.
2 Ср. также отмеченное В. Малухиным происхождение образа Мишки Медведева
^«Котлован») из деревянной игрушки «Медведь-молотобоец», которая является ти-
пичнейшим образчиком искусства примитива.
33
в себе неизбывное чувство одиночества перед лицом пустого неба. Отсюда и двой-
ственный - двоящийся - лик природы в прозе Платонова, природы, трактуемой
то как враждебное человеку, смертоносное начало, то как воплощение мудрости
бытия. Отсюда же — и двойственное отношение писателя к культуре: тут можно
вспомнить о том, что «в глубине души» Саша Дванов, герой очень близкий автору,
«не любил культуры», будучи при этом, как и многие другие платоновские персона-
жи, как и сам их создатель, неисцелимым книгочеем. В этой же связи следовало бы
проанализировать проходящую через все творчество Платонова тему двойничества.
Помещая прозу Платонова в контекст культуры примитива, нельзя, конечно,
забывать о том, что она была лишь отправной точкой его творческих исканий.
Есть в миросозерцании Платонова нечто, кардинальнейшим образом расходящееся
с миросозерцательными установками примитива. Платонов — художник трагическо-
го жизнеощущения, в то время как примитив - искусство жизнеутверждающее,
во всяком случае, в двух его самых распространенных типовых разновидностях:
В. Н. Прокофьев определяет их как примитив лубочный, «органично входящий в
арсенал народной смеховой культуры города» (с. 25), и как примитив романтико-
идиллический. Конечно, Платонов - особенно в сугубо сатирических целях - при-
бегал к лубочной образности (см., например, образ Священного из «Ювенильного
моря»), но общий пафос его творчества антикарнавален. Платоновские герои не
только не ощущают себя частями вечно возрождающегося «народного тела», а,
напротив, замкнуты в своей тоске-одиночестве, в «пустоте» своих тел, тщетно
пытаясь найти избавление от «скуки» существования в «товарищеском теле»
другого.
Что касается романтико-идиллического примитива, то его эстетику - а заодно
и эстетику романтизма вообще, сниженным вариантом которого романтико-идил-
лический примитив и является,- Платонов последовательно отвергал и беспощад-
но пародировал, как строки песни Вертинского в «Ювенильном море» (характерно
в этом плане и негативное отношение Платонова к А. Грину и К. Паустовскому).
Ближе всего Платонову третий тип примитивной художественности - так называе-
мый примитив «серьезный», а точнее «примитивизированные» варианты религиоз-
ного искусства, связанные с деятельностью разного рода религиозных сект XIX -
начала XX столетия, которые никак нельзя отождествлять с классическим раско-
лом и старообрядчеством. В большинстве своем они являли собой мещански-ок-
раинный «извод» классического раскола, выражали мироощущение «окраинного»
человека. Думается, изображенная Андреем Белым секта «голубей», хотя это никак
не являлось главной целью писателя, с точки зрения ее социального состава очень
типична: ее глава — столяр-краснодеревщик, ее костяк — мещане города Лихова и
его окрестностей (медник, купчиха, недоучившийся семинарист...), хотя есть в ней
и крестьяне, и люмпен-интеллигент. Лубочные переложения древних старообряд-
ческих преданий, эсхатологические пророчества, духовные стихи, иллюстрации
Доре к Библии - весь этот материал нуждается в тщательном целенаправленном
исследовании будущими исследователями творчества Платонова.
Д. Е. ФУРМАН. Сотворение новой земли и нового неба.
Как любой великий писатель, А. Платонов может породить очень разные «про-
чтения», в нем будут разное искать и разное находить. Но попробуем подойти к
Платонову не как к писателю, а как к уникальному историческому источнику,
как памятнику сознания эпохи, формально не такой ум; далекой, но психологиче-
ски уже очень далекой и во многом ставшей непонятной. Дело в том, что Пла-
тонов сумел уловить своей интуицией писателя в сознании своего времени то, что
не уловил и не передал так ясно и полпо никто другой.
Я беру почти наугад несколько типично платоновских фраз из «Чевенгура».
34
«Теперь жди любого блага,— объяснял всем Чепурньш,— тут тебе и звезды поле-
тят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить, как отжнвев-
шиё дети,- коммунизм дело не шуточпое, он же светопреставление». «Копснкин
догадался, что в Чевенгуре нет никакого коммунизма — женщина только что при-
несла ребенка, а он умер». «...Раз буржуев нет, а ветер дует по-прежнему...,
значит, буржуазия окончательно не природная сила». Кажется, еще немного и эти
странные речи будут производить комический эффект - ведь опи строятся так,
как строится речь многих комедийных и вообще комических персонажей класси-
ческой литературы, на гротескном соединении разнородного речевого материала —
простонародного и ученого, бытового и возвышенного и на нарушении нормальной
логики. Но Комического эффекта они не производят, ибо таким языком говорят у
Платонова очень серьезно и о вещах предельно важных - о жизни и смерти,
о смысле человеческого существования, о будущем нашей страны и всего мира.
Что же значат эти речи платоновских героев, о чем они нам говорят, какой тип
сознания в них отражается?
Это сознание в основе своей полуархаическое, сознание людей, совершенно не
привыкших к правильному логическому мышлению (фразы, аналогичные платонов-
ским, можно услышать у детей, в легендах и мифах, записанных этнографами).
Это - сознание того громадного слоя, который лежал «на дне» русского дореволю-
ционного общества, наверху которого, в тончайшем интеллигентном слое, были
блоки, брюсовы, акмеисты, символисты и т. д., и который, в то время когда созда-
вались прекрасные стихи и велись споры литературных направлений, не имел
слов для выражения своих мыслей и даже не имел правильно, логически построен-
ных мыслей — не умел их строить. Этот слой не был слышен, ибо оп молчал,
и когда он заговорил, он заговорил странной «косноязычной» платоновской речью.
Эти люди жили Не в двадцатом веке, они жили даже не в средневековье, куль-
турно они жили в какой-то Глубочайшей архаике, и с мыслью двадцатого века они
сталкиваются лишь в форме марксизма, термины которого так причудливо впле-
таются в ткань их «дологического» мышления. Совершенно не случайно в «Котло-
ване» один из персонажей, проводящих коллективизацию,— медведь (что приводит
на память зверей, строящих прекрасный мир будущего у Заболоцкого).
Это сознание людей до предела измученных, для которых дореволюционная
жизнь — очевидный ад. Платонов, мне кажется, открывает для нас повое не толь-
ко в жизни двадцатых годов, но и в дореволюционной жизни. Он открывает ту
степень йзмученности и даже не озлобленности - это слово тут не подходит,,
а Твердого ощущения, что жизнь - ад, которую, пожалуй, дореволюционная лите-
ратура с такой остротой не зафиксировала. И насколько эти люди ощущали, что
прошлая жизнь — ад, настолько они верят, что сейчас в их руках — ключи от рая.
Ибо коммунизм для них — это именно рай, это спустившийся на землю «Небесный
Иерусалим», где люди перестанут умирать, это мир всеобщей любви, новая земля
и новое небо, путь к которым указал Ленин. Девочка Настя в «Котловане» говорит;
«Главный - Ленин, а второй - Буденный. Когда их не было, а жили одни буржуи,
то я и не рождалась, потому что не хотела. А как сказал Ленин, так я стала! -
Ну, девка,— смог проговорить Сафронов,— Сознательная женщина — твоя мать!
И глубока наша советская власть, раз даже дети, не помня матери, уже чуют то-
варища Ленина». Близость этого нового мира полностью обесценивает сегодняшний
день. Во имя рая на земле можно терпеть немыслимые мучения, работать, как
никогда не работали никакие рабы, умирать и убивать - в «Чевенгуре» есть опи-
сание Массового убийства буржуев и затем «полубуржуев», совершенно аналогич-
ное тому, что мы знаем о «Бабьем Яре». Рай очень близок и в какой-то мере он
уже начался - Люди выдумывают себе новые имена, ибо начинается новая жизнь,
они уже сейчас при всем их презрении к жизни и смерти трогательно заботят-
ся друг о друге, Преобразуя будущий коммунистический мир всеобщей любви. И
уже сейчас, движимые верой, совершают гудеса, выводя на землю «ювенильное
море».
Так что же это за сознанпе? Это — народное полусектаптское сознание, ана-
логии которому надо искать у .хлыстов, раскольников или на Западе — у мюнстер-
ских анабаптистов. Революционный марксизм разбудил, актуализировал древние
35
народные мечты о конце света, гибели угнетателей и рае на земле. Он поднял
громадную задавленную массу, те 80% дореволюционных неграмотных, которые на
многие столетия отстояли от мира русской дореволюционной культуры - той куль-
туры, которую они, поднявшись, смяли. Марксизм стал для этих людей новой ве-
рой, со своими пророками, святыми, вроде Розы Люксембург, которой так предан
рыцарь революции Копснкин в «Чевенгуре». И как любое сектантское движение,
это движение быстро принимает «церковные» формы - горячечный энтузиазм пере-
ходит в строгую иерархическую дисциплину и жесткую догматику.
Прочтение Платонова, на наш взгляд, может внести важные коррективы в
возникающие ныне исторические построения. Сейчас многие склонны видеть в ста-
линском уничтожении пэпа, коллективизации и терроре чуть ли не досадную слу-
чайность, связанную с приходом к власти злого гения. Но из платоновского созна-
ния медленное, спокойное и разумное экономическое и политическое развитие
«не выводится». Из книг Платонова видно, какая мощная психологическая сила —
народные эсхатологические ожидания - мешала нэпу и толкала в сторону стали-
низма. Не для пэпа умирали и убивали герои Платонова, а для рая па земле.
Нэп они могли воспринять лишь как временное отступление, и очень важно, что
для Платонова коллективизация, описанная в «Котловане»,— прямое продолжение
революции, она вершится с той же ненавистью к врагам и с теми же эсхатоло-
гическими ожиданиями. И эти же ожидания толкали в сторону сталинского культа
и террора. Ленин для этих людей — пророк Моисей, ведущий их из египетского
рабства в землю обетованную. И когда он умер, им был нужен новый пророк.
И так же им были нужны враги — ибо если господствует вера в то, что рай на
земле близок, то любая отсрочка его наступления объясняется лишь кознями дья-
вольских сил. Террор НКВД - такое же прямое продолжение того террора, кото-
рый устраивает в «Ювенильном море» бабка Федератовна, как догматика сталин-
ской эпохи — это окостеневший, застывший горячечный бред платоновских
героев.
Громадное место в платоновском сознании занимает наука. Но это совершенно
особая наука. Это наука, призванная создать рай на земле, прекрасный сад. Ее
прожекты грандиозны и фантастичны — здесь и преобразование солнечного света
в электричество, и «социалистические гиганты» - коровы вроде бронтозавров, и но-
вые моря, и новые реки, вообще «новая земля и новое небо». И как любые чудеса,
эти чудеса делает вера, ибо открытия эти совершаются у Платонова людьми про-
стыми и неучеными, не столько на основе знаний, сколько на основе энтузиазма.
И опять-таки, как террор энтузиастки Федератовны предвосхищает террор НКВД,
так преобразование природы героями Платонова предвосхищает деяния «народного
академика» Лысенко, великие стройки коммунизма с их искусственными морями
и, как далекий бюрократический отголосок народной мечты, пресловутый «поворот»
сибирских рек.
Мир Платонова - мир недавний, мир отцов и дедов многих современных совет-
ских интеллигентов. Но как это ни парадоксально, этот мир дальше от нас, чем
мир Толстого или Пушкина. Дело в том, что дети или внуки платоновских героев
(тех из них;, кто не погиб в терроре) «подключились» к тому потоку русской
культуры, который был прерван «вторжением» их отцов и дедов, рванувшихся к
культуре, обеднивших ее, но одновременно — ценой, о которой говорить не прихо-
дится,— поставивших ее на неизмеримо более прочные основания. Очень легко
увидеть в платоновском мире господство безумия и жестокости, «провал» во време-
ни, в «нормальном» течении истории культуры. Но как без варваров не было бы
Возрождения и современного мира, так без платоновских героев, чей мир «клином»
врезается в историю русской культуры, невозможен новый виток в нашем культур-
ном развитии. В XVIII и XIX вв. люди стали умнее и научились ценить одновремен-
но и античную поэзию, и варварские песни, и греческие, и готические статуи и зда-
ния, видеть и величие античности, и величие мира ее разрушителей. И нам пред-
стоит научиться одновременно ценить и даже любить и русские церкви, и таллин-
скую башню III Интернационала, и горячечные видения прекрасного грядущего пла-
тоновских героев,
НАУКА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ
Великая Французская революция
и наука
А. П. ОГУРЦОВ
Французское Просвещение идеологически подготовило буржуазную революцию.
Ядром просветительской идеологии был культ Разума, который стал одним из ло-
зунгов радикальных социальных слоев, сломавших старую государственную маши-
ну и создавших республику. Совершенствование и прогресс человеческого разума
достигаются, согласно просветителям, благодаря развитию различных наук, с од-
ной стороны, и распространению просвещения — с другой. Развитие разума
(и прежде всего прогресс наук) оказывает, по их мнению, решающее воздействие
на все стороны общественной и культурной жизни - и на прогресс техники, и на
создание разумного политического устройства, и на совершенствование морали и
нравственности, рационализируя их и избавляя от предрассудков, предубеждений
и религиозных мифов. Завышение роли науки в социальной и культурной жизни,
превращение научного разума в решающую силу социального, культурного и нрав-
ственного прогресса, в единственный путь достижения «золотого века» - таково
существо этой линии в идеологии Французского Просвещения от Фонтенеля до
Вольтера *.
Вместе с тем в идеологической подготовке Французской буржуазной революции
сложилась и противоположная линия — линия критики науки. Она представлена
прежде всего Руссо. Он - критик современной ему цивилизации. Все формы обще-
жития — церковь, государство, нравы, искусство - Руссо считает отчужденными
проявлениями человеческих сил: они образуют самостоятельный, живущий своей
жизнью «мир видимости», который противоречит подлинной сущности человека.
Руссоистская критика цивилизации включала в себя и критику науки как силы,
увеличивающей отчуждение и несущей на себе печать отчуждения. Наряду с
этим руссоистская критика основывалась на неисторическом противопоставлении
неких прозрачных, естественных отношений между людьми тем извращенным со-
циальным отношениям, которые господствовали тогда в обществе. Идеал непосред-
ственности межчеловеческих отношений связан, конечно, с моралистической и
романтической критикой культуры и контрнаучным движением, существовавшим
уже в то время среди плебейских слоев французского общества. Критика науки
развертывалась Руссо по разным направлениям: генезис наук он связывал с чело-
веческими пороками, полагал, что влияние наук разрушительно для нравственно-
сти и для художественного вкуса, а развитие наук ведет лишь к увеличению не-
равенства. По его словам, науки «бессильны решить те задачи, которые они перед
собой ставят», «они еще более опасны по тем результатам, к которым они приво-
1 По словам Вольтера, разум уже начал осуществляться в человеческой истории:
«Разум у нас стал одерживать великие победы» (Вольтер. Бог и люди, т. II.
М., 1961, с. 304). В одном из писем 1770 г. он с оптимизмом писал: «Вот мы и достигли
века разума — от Петербурга до Кадикса» (там же, с. 346).
37
дят»2. Успехи наук ничего не прибавили к человеческому счастью, а наоборот,
разрушили нравственность - таково существо руссоистской критики науки, раз-
вернутой в «Рассуждениях о влиянии искусств и наук...». Контрнаучная ориента-
ция руссоизма встретила оживленную полемику, в которой приняли участие исто-
рики, философы, художники. Двумя изданиями вышел сборник статей 19 авторов,
полемизировавших с Руссо. Этот сборник носил примечательное название «Польза
п ущерб, нанесенный науками и искусствами» 3. Одним из наиболее язвительных
критиков руссоистского антисциентпзма был Вольтер, который в одпом из своих
писем Руссо (от 30 августа 1755 г.) заметил: «Никогда столько остроумия не пу-
скалось в ход, чтобы вернуть нас к животному состоянию. Когда читаешь ваше
произведение, так и разбирает охота поползать на четвереньках. Однако я уже
60 лет отвык от этой привычки и не чувствую, к сожалению, возможности к ней
вернуться, оставляя этот естественный способ передвижения тем, кто ее более
достоин, чем вы и я»4. Очевидно, под влиянием этой полемики Руссо во многом
смягчает свою критику науки. В ответном письме польскому королю Станиславу II
он уже пишет: «Мы не станем утверждать, что теперь надо сжечь все библиоте-
ки, уничтожить все академии и университеты. Эта мера повергла бы Европу снова
в варварство, а нравы нисколько не выиграли бы от этого» 5. Государи, по его сло-
вам, должны поощрять развитие наук и искусств. В диалоге «Руссо осуждает Жан-
Жака», где он говорит о себе в третьем лице, Руссо явно полемизирует с Вольте-
ром: «Его (Руссо.— Авт.) упрямо обвиняли в желании уничтожить науки, искус-
ства, театры, академии и погрузить мир в первобытное состояние варварства, а он
постоянно, наоборот, настаивал на сохранении существующих учреждений,
утверждая, что их разрушение приведет лишь к тому, что исчезнут средства
против пороков, а сами пороки останутся, и что испорченность заменится раз-
боем» 6 *.
Противоборство двух линий отношения к науке в идеологии Просвещения про-
низывает все предреволюционные и революционные годы. Защита науки нашла
свое наиболее яркое воплощение в деятельности энциклопедистов, в подготовке и
в издании 35-томной «Энциклопедии, или толкового словаря наук, искусств и ре-
месел...», которая начала выходить в 1751 г. и была закончена в 1780 г., в раз-
вертывании научных исследований в различных областях теоретического и приклад-
ного знания. Контрнаучная линия представлена в руссоистской критике науки,
в различного рода мистических сектах и движениях (например, иллюминатов) и,
конечно же, в плебейской ярости против существовавших к началу революции
научных организаций. Для всех идеологов эгалитаризма ученые были привилеги-
рованным сословием, а существовавшие в дореволюционной Франции научные
учреждения - Академия наук, королевский колледж, школа военных инженеров в
Мезьере, Парижская обсерватория и Королевский ботанический сад - защитника-
ми деспотии и социального неравенства. Само собой разумеется, среди почетных
членов Академии в дореволюционной Франции было немало приближенных коро-
ля, его министров и государственных советников. Однако следует помнить, что
число академиков, получающих жалованье, было невелико (в 1699 г,-20), а их
жалованье небольшим: в 1785 г. все академики (они назывались тогда «пенсионе-
ры») получали 54 тыс. ливров ’. Из 48 членов Академии в начале XVIII в. поло-
вина их вынуждена была искать приработок в других местах. Так, химик Д. дю
Монсо, математики Ж. Ж. Лаланд, О. Ф. Боссю были консультантами металлурги-
ческих заводов, морских судоходств и др. В то же время члены Академии, не вклю-
2 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969, с. 28.
3 «Les avantages et les desavantages des sciences et des arts», t. 1—2. L., 1756.
4 Цит. no kh. Розанов M. H. Ж.-Ж. Руссо и литературное движение конца
XVIII и начала XIX вв., т. I. М., 1910^ с. 145.
5 Rousseau J.-J. Oeuvres completes, t. 1. Paris, 1961, p. 45.
» Op. cit., t. IX, p. 287.
’ Hahn R. The Anatomy of a Scientific Institution. The Paris Academic of Scien-
ces, 1688-1803. Berkeley, Los Angeles, London, 1971, p. 115-116. Ливр - около f/t рус-
ского серебряного рубля. Цена сетье (240 фуптов) пшеницы перед революцией была
около 20 ливров, 1 фунта (489 г.) сахара — 17 су, тысячи яиц - 46 ливров. Во время
революции цены на продукты поднялись в 2-3 раза.
38
ченпые в штат («ассосье»), подолгу ждали возможности перехода в ранг «пенсио-
неров» и не очень стремились занять место, которое не могло обеспечить их
семью. Иными словами, плебейское отождествление ученых с привилегированным
сословием, послужившее мощным импульсом для контрнаучного движения в пред-
революционной Франции, во многом основывалось на предрассудках и предубежде-
нии и было далеко от реального положения дел.
Кроме того, контрнаучное движение имело своим истоком и характер научных
исследований в предреволюционной Франции. Наряду с развертыванием приклад-
ных исследований в механике, химии, физике, географии и т. д. многие разработки
во Французской Академии были чужды какой-либо связи с социальными потреб-
ностями, с задачами развития промышленности, торговли, техники. Многие темы
разрабатывались годами и десятилетиями и пе давали положительных результа-
тов. Для малообразованных сословий большинство научных исследований казались
бесполезными причудами изощренного ума интеллектуалов 8.
Во франкоязычной литературе происходят семантические сдвиги, свидетельст-
вующие о крупных социокультурных процессах. Если еще в XVI в. духовенство
считалось наиболее типичным слоем образованных людей (clerc), то уже к
XVIII в. слово «клирик» употребляется с ироническим оттенком и обозначает
скорее педанта, схоласта, чем образованного и ученого. Слово же «ученый»
(sfavant) обозначает скорее образованного человека, эрудита, а не человека, по-
святившего свою жизнь самостоятельным научным исследованиям и живущего на
средства, получаемые за них 9.
Все эти семантические изменения в значениях слов, характеризующих слой
интеллектуалов, показывают, что в предреволюционной Франции лишь начинает
складываться особый статус ученого как человека, занимающегося научной дея-
тельностью и состоящего на оплачиваемой государственной службе, что нередко
здесь подобный образ ученого замещается иным образом, отождествляющий! уче-
ного просто с человеком образованным, обладающим знанием в ряде областей, или
эрудированного в областях, далеких от реальной жизни.
Крупнейшим шагом на пути профессионализации науки, институциализации
научных исканий и обретения учеными особого статуса было создание в 1666 г.
Парижской Академии наук, выросшей из кружка исследователей, собиравшихся
вокруг Мерсенна. В предреволюционной Франции постепенно начинают формиро-
ваться научные учреждения и общества, слой ученых-исследователей, разрабаты-
вающих специфические нормы взаимной критики, проверки и опровержения ис-
следовательских результатов и формирующих «научный этос». В эти же годы
интенсивно развертывается система научных публикаций - выпускаются научные
труды, журналы, ученые записки, налаживается обмен результатами, полученными
в ходе исследований, создаются особые механизмы социальной поддержки науч-
ных исследований, в частности система конкурсов на определенную тему, выдви-
нутую тем или иным научным обществом или академией.
В предреволюционной Франции наряду с университетами во многих провин-
циях возникли свои академии. Само собой разумеется, многие ученые совмещали
исследования с преподаванием в университетах, а исследование было эпифеноме-
ном преподавания. Однако рост академий в провинциях Франции (к 1750 г. их
насчитывалось 24) существенно изменял положение и статус ученого. Наиболее из-
вестными были академии в Лионе, Бордо, Дижоне, Монпелье, Марселе. Они прово-
8 Английский агроном и путешественник Артур Юнг (1741—1820), посетив агро-
номическое общество в Лиможе, заметил: «Это общество действует подобно осталь-
ным: его члены собираются, обсуждают различные вопросы, устанавливают премии,
печатают всякие глупости; все это не имеет значения: ибо народ не только не читает
их статей, но и вообще не умеет читать; однако население обладает способностью
видеть, и если б какую-нибудь ферму обработали так, чтобы она послужила образ-
цом для населения, то это было бы поучительно» (Цит. по кн.: «Эпоха промышлен-
ного капитализма в документах и материалах». М., 1933, с. 108). Вообще описания
путешественниками различных научных обществ, музеев и частных собраний пред-
ставляют большой историко-научный интерес.
° Ricken U. Ge.lehrter end Wissenscbaft ini Franzosischen. Berlin, 1961; Roas S.
Sciential. The Story of a World.— «Annales of Science», 1962, v. XVIII, p. 65 -85.
39
дили конкурсы, в том числе и международные, по определенным научным пробле-
мам. Например, академия в Бордо за 1715-1791 гг. объявила 149 конкурсных
задач, преимущественно по физике и медицине. С 1702 г. «Газета ученых» («Jou-
rnal des S?avants») становится государственным журналом и фактически органом
Академии наук.
Рост научных исследований в предреволюционной Франции, изменение отно-
шения к ним можно продемонстрировать на данных сравнительной статистики о
числе статей в различных журналах. В 1722 и 1723 гг. в «Mercure de France»
были помещены: а) одна статья по экономическим и социальным вопросам,
б) 4 статьи, касающиеся различных естественных наук, в) 3 — по проблемам филосо-
фии, г) 150 поэм, театральных рецензий, около 50 статей на исторические темы.
В 1750 и 1751 гг. пропорции различных по тематике статей изменились: а) 11 ста-
тей по экономическим и социальным вопросам, б) 26 статей по естественным нау-
кам, в) 1 статья по философским проблемам, г) 10 поэм, театральных рецензий
и пр. В «Journal des Scavants» в 1720 и 1721 гг. было опубликовано: а) 32 статьи
по теологии и религии, б) 6 по философии, в) 7 по естественным наукам, г) 7 -
о политике. В 1750 и 1751 гг. пропорции уже иные: а) 47, б) 0, в) 70, г) 15.
В 1780 и 1781 гг. в этом же журнале было опубликовано: а) 37 статей по теологии
и религии, б) 135 — по философии и естествознанию, в) 25 - о политике. Следует
обратить внимание на рост статей по естественным наукам с 1720 по 1781 г.
1:26:39 в «Mercure de France» и 7:70:135 в «Journal des Sjavants», т. e. более
чем в 35 раз за полстолетие 10 11.
В провинциях Франции наряду с университетами (их было перед революцией
21) и академиями создаются научные общества, объединяющие любителей естест-
венных наук, краеведов, ученых. Возрастают число и активность членов научных
обществ, которые обсуждают новинки философской литературы, результаты экспе-
риментов, теоретические проблемы естествознания. Так, в 1742 г. в Дижоне обсуж-
дается проблематика естественного закона, в 1770 г. в Безансоне - влияние фило-
софии на науки и др.“.
Возникают новые журналы, как собственно научные, так и научно-популярные.
В 1758 г. «Journal encyclopedique» писал, что «ныне не то время, когда журналы
издаются лишь для ученых. Сегодня весь мир читает и хочет читать все» 12. Од-
нако королевская власть не давала «читать все». За каждой отраслью печати был
установлен надзор, строго контролировалось каждое печатное слово. В 1789 г. за
юридическими науками следили 33 цензора, за медициной - 21, за анатомией - 5,
за математикой и физикой — 9, за художественной литературой — 24. Книги, кото-
рые они посчитали крамольными, запрещались и сжигались 13.
И все же рост знаний во всех областях, популяризация достижений науки
являются фактом духовной культуры предреволюционной Франции. Но столь же
несомненно и то, что перед революцией нарастали контрнаучные настроения среди
различных слоев французского общества, а духовная культура представляла собой
причудливую амальгаму сциентистско-просветительского мировоззрения с оккуль-
тистскими, мистическими, астрологическими и открыто антинаучными воззрениями.
Наряду с энциклопедистами с их культом Разума и Просвещения, с их крити-
кой церковной веры и агрессивным скептицизмом существовала вера в розенкрей-
церов, алхимиков, астрологов, в чудеса и знамения, в каббалу и дьявола. «Никогда
не был Париж столь жаден до новшеств и суеверий, как в ту начальную пору
века Просвещения. Перестав верить в легенды о библейских святых, стали искать
для себя новых старинных святых и обрели их в шарлатанах — розенкрейцерах,
алхимиках и филалетах, толпами притекавших туда; все неправдоподобное, все
идущее наперекор ограниченной школьной науке встречает в скучающем и приче-
санном по философской моде парижском обществе восторженный прием. Страсть
10 М о г n е t D. Les origines intellectuelles de la Revolution franfaise, 1715-1787.
Paris, 1933, p. 61.
11 Cm. ibidem, p. 149, 305—307.
12 Ibidem, p. 160. О том, что читал ученый этого времени, см. Рош Д. Уче-
ный и его библиотека в XVIII в. Век Просвещения. Москва — Париж, 1970, с. 113—149.
12 См.: Манфред А. 3. Великая Французская революция. М., 1983, с. 23.
40
к тайным наукам, к белой и черной магии проникает повсюду, вплоть до высших
сфер... Придворные дамы и девицы голубой крови, княгини и баронессы заводят у
себя в замках и городских особняках алхимические лаборатории, и вскоре эпиде-
мия мистического помешательства охватывает и простой народ... Ничто необычное
не кажется в ту пору слишком нелепым, и никогда не было мошенникам столь
удобно, как в ту, одновременно и рассудочную и падкую до щекочущих нервы
сенсаций эпоху, увлекающуюся всяким дурачеством, верующую при всем неверии
во всякое волшебство»14. Фр. А. Месмер (1734-1815), представивший в 1766 г.
диссертацию «О влиянии планет», где астрологическое учение о воздействии созвез-
дий на человека было соединено с допущением некоего изначального флюида —
силы общего тяготения, пронизывающего вселенную, позднее выдвигает теорию
«животного магнетизма», проводит магнетические сеансы, во время которых он не
только излечивает душевнобольных, но и пытается с помощью медиумов прори-
цать и предсказывать будущее, передавать мысли на расстояние, заглядывать
внутрь тела другого человека и таким способом определять болезни. И хотя Фран-
цузская Академия выносит вердикт о «недействительности магнетизма», вокруг
Месмера возникает невероятный ажиотаж — его ученики объединяются в ряде го-
родов в «Гармоническое общество», выступающее как активнейший пропагандист
идей магнетизма и оккультизма; в защиту месмеризма выпускаются сотни статей
и брошюр; вокруг личности Месмера создается атмосфера религиозного помеша-
тельства и истерии. Немалую лепту в месмероманию внес не только высший свет,
среди которого было много фанатиков месмеризма, но и представители различных
идейных течений — от масонства до католицизма.
Большой популярностью в предреволюционной Франции пользовалось мистиче-
ское учение Л. К. Сен-Мартена (1743—1803), пытавшегося соединить гностицизм с
каббалой и с учением Сведенборга и Я. Беме и открыто выступавшего против
сенсуализма и скептицизма просветителей, против науки, подчеркивая ее недосто-
верность, безосновность и чуждость проблемам личностного бытия.
С иных позиций критикуют науку и Разум идеологи «Социального кружка» —
аббат К. Фоше (1744-1793) и журналист Н. де Бонвилль (1760-1828), тесно свя-
занные с масонскими ложами и с орденом иллюминатов. Выступая против иму-
щественного неравенства и пытаясь возродить раннее христианство, они отстаивали
эгалитаристско-плебейскую программу, в которой наука оценивалась как сила,
поддерживающая и во многом ответственная за неравенство между людьми. Раз-
витие искусств и наук влечет за собой увеличение роскоши и привилегий, предо-
ставляемых людям умственного труда. Поэтому ликвидация неравенства, в том
числе имущественного, предполагает не только устранение различного рода приви-
легий, которыми пользуются представители «аристократии духа» - ученые, свя-
щенники, художники, но и уничтожение цивилизованного состояния, обусловлен-
ного, в частности, дифференциацией и ростом искусств и наук. Это означало одно-
временно и противостояние тем социальным институтам, которые обеспечивали
культурную жизнь в предреволюционной Франции, прежде всего Академии наук
и Академии художеств. Именно в них усматривается основной источник бед и
пороков культуры этого периода. Эгалитаристская линия в контрнаучном движении
особой силы достигла в движении голодающих низов плебейства — в движении «бе-
шеных», идеологом которых был Ж. Ру (1752-1794).
В учение Г. Бабефа наряду с коммунистическими мотивами также проникли
эгалитаристские, аграрно-ремесленные упования. Поэтому для Бабефа и бабувист-
ского движения будущая республика равных оказывается аграрным государством,
а его население — крестьянством и ремесленниками. Утопическое устремление
упрочить I элкокрестьянское и мелкоремесленное производство, перестроить всю
социальную жизнь Франции на основе крестьянско-кооперативных проектов обна-
руживается в предложенном бабувистами декрете об управлении. В нем перечис-
ляются те занятия, которые считаются полезными в будущем обществе «равных».
На первом месте среди них — земледелие, на последнем — преподавательская и
научная деятельность, которая допускается лишь в тех пределах, которые необхо-
14 Ц в е й г С. Очерки. М., 1985, с. 96—98.
димы для обеспечения крестьянского и ремесленного труда. Лишь физический
труд является для бабувистов бесспорным основанием для приобретения прав
граждан в будущем обществе. Ф. Буонарроти, излагая учение Г. Бабефа, отметил,
что «основными и наиболее важными занятиями граждан должны быть те, кото-
рые обеспечивают им пропитание, одежду, жилище и предметом которых являют-
ся сельское хозяйство н ремесла, служащие для эксплуатации земли, постройки
зданий, производства мебели и выделки тканей» 15. Выступая против «фальшивой
науки», бабувисты проводили мысль о том, что следует ограничить весь массив
знаний лишь непосредственно полезными знаниями, которые «должны побуждать
их (людей,— Авт.) любить равенство, свободу и отечество и сделать их способ-
ными служить ему и оборонять его» f<i. Поэтому в их воспитательной программе
обучение наукам преследует сугубо утилитарные цели и весьма узко по своему
объему45 * 47 48 49.
В эгалитаристско-коммунистической программе Бабефа обращалось внимание
на то, что с развитием искусств и наук связаны определенные социальные бед-
ствия - «утонченность искусств порождала вкус к излишествам, отвращение к
простоте нравов, пристрастие к изнеженности и легкомыслию», рост наук послужил
«основанием для отличий, превосходства и освобождения от общественного тру-
да» ls. Иными словами, бабувисты связывали с развитием искусств и наук появле-
ние социального неравенства и различного рода привилегий, прежде всего в
распределении благ, в имуществе, в занятиях общественнонолезным трудом. Од-
нако в отличие от радикально-эгалитаристской программы «бешеных» и уравни-
тельно-крестьянской утопии они допускали в определенных рамках рост науки:
«следовало бы призвать науки к облегчению человеческого труда путем изобрете-
ния новых машин и усовершенствования старых»19. В другом месте Ф. Буонар-
роти замечает: «При помощи наук порой исцеляются либо предупреждаются бо-
лезни; они научают человека познать самого себя; они предохраняют его от
религиозного фанатизма, настораживают его против деспотизма, делают приятным
его досуг и возвышают его душу до самых высоких добродетелей»20. Допуская
развитие наук в довольно жестких пределах натурально-ремесленного хозяйства,
бабувисты проповедовали всеобщий аскетизм и грубую уравнительность: община
обеспечивает гражданам равный и умеренный достаток, жилье, одинаковую одеж-
ду, предметы питания, чтобы не было даже признаков кажущегося превосходства
одного человека над другим. Само собой разумеется, в рамках такого «казарменно-
го коммунизма» место искусств и наук весьма сомнительно - ведь они просто не
нужны для такой аскетической жизни; еще более сомнительно, что община будет
заинтересована в развитии искусств и наук.
Именно эти контрнаучные настроения и движения были той почвой, на кото-
рой выросла политика в области науки в первые годы Французской революции.
Контрнаучные установки и настроения не могли не найти своего выражения в
Национальной Ассамблее и Конвенте, на страницах многочисленных газет, журна-
лов, брошюр, в диспутах, развернувшихся в различных политических клубах Па-
рижа. Отношение к науке и к ее организациям, конечно, было неоднородным.
Одни стремились сохранить в неприкосновенности безнадежно устаревшие формы
организации наук и искусств, другие же вообще отрицали ценность не только
прежних форм организации, но и самой науки. Эгалитарный радикализм якобин-
цев, усматривавших в прежних формах организации, прежде всего в Королевской
Академии наук и в Королевской Академии живописи и скульптуры, нечто совер-
шенно устаревшее и отжившее, неразрывно связанное с королевским режимом,
с привилегиями, предоставляемыми королевской властью и системой патронажа,
не просто питался плебейскими контрнаучными настроениями и установками го-
родского люмпен-пролетариата и мелкой буржуазии, но и, в свою очередь, форми-
45 Б у о н а р р о т и Ф. Заговор во имя
48 Т а м ж е, с. 382.
47 Т а м ж е, с. 383.
48 Там же, с. 389.
49 Т а м ж е, с. 295.
29 Там ж е, с. 389,
равенства, т. I. М,— Л., 1948, с. 292.
42
ровал эти установки. Вполне оправданная критика способов организации наук и
искусств в королевской Франции нередко обретала форму критики самой науки.
Критика прежних, архаических форм организации искусств и наук, системы иерар-
хии рангов и классов, недемократических механизмов выбора своих членов и
социальной поддержки, зависящей от личных предпочтений, связей и благораспо-
ложения короля, его фаворитов и фавориток, двора и министров, нередко превра-
щалась в критику науки как таковой, в неприятие ученых и того дела, которым
они занимаются.
Нападки на Королевскую Академию наук начались уже в 1790 г. при подго-
товке и обсуждении проекта ее реорганизации. 16 и 20 августа 1790 г. Лебрюн-
будущий министр иностранных дел, выступая в Национальной Ассамблее об
уставе организации Академии наук, произнес похвальное слово Академии, кото-
рая, по его словам, является полезным учреждением для развития искусств и
наук. Но уже тогда -17 августа 1790 г. в газете «Друг народа» Марат начинает
публиковать памфлет «Современные шарлатаны» (11 писем), где проводит мысль
о бесполезности академических ассоциаций, о том, что все открытия были сделаны
людьми, не входившими в Академию, и что для блага наук и искусств необходимо
ликвидировать во Франции академический корпус. По его мнению, академики всег-
да выступали против подлинных открытий и вели настоящую войну с теми людь-
ми, которые их делали. Марат не стеснялся в выражениях, называя то одного,
то другого ученого «шарлатаном», «болваном», «выскочкой», «конформистом», «без-
душным автоматом» и т. д. Большая часть его 11-го письма посвящена Лавуазье,
над которым нависла угроза смерти. В той же самой газете от 27 января 1791 г.
Марат называет Лавуазье, который был гильотинирован 8 мая 1794 г., корифеем
среди шарлатанов, самым большим интриганом века, паразитом и т. п. Дело не
ограничилось 11 письмами Марата, изданными вместе в 1791 г. в сорокастранич-
ной брошюре под общим названием «Современные шарлатаны, или Письма об
академическом шарлатанстве»21. Еще в октябре 1790 г. выходит анонимная про-
кламация, где плебейская ярость против Академии наук выразилась в уподобле-
нии академического корпуса священникам, а поскольку Национальная Ассамблея
декретировала упразднение сословия священников как инструмент королевской
тирании, постольку необходимо ликвидировать и Академию наук, названную в
этой прокламации башенкой на тюрьме тиранов. В этом же месяце газета «Мер-
кюр де Франс» выступила за упразднение Академии. Если для ученых, стремив-
шихся сохранить Академию наук в реформированном виде, недопустима сама
мысль о ликвидации этой формы организации науки, то для якобинцев Акаде-
мия - это привилегированный институт, где собрана аристократия таланта и зна-
ния. Эти слова якобинца Тюрио произнесены, правда, позднее -17 мая 1793 г. в
Конвенте, но в них выражена суть эгалитаристской позиции наиболее радикаль-
ных в своем отрицании прежней культуры слоев. И надо сказать, что неприязнь
к Академии наук и академическому корпусу, выплеснувшаяся на газетные стра-
ницы и в многочисленные прокламации, привела к эмиграции многих ученых из
Франции, к бегству из Парижа в провинцию. Контрнаучные установки, утвердив-
шись на определенное время в политике революционных кругов, создали атмосфе-
ру отвержения «аристократии ученых», «привилегированной касты образованных»
и в конечном счете привели к ликвидации Академии наук, к репрессиям ученых.
Наука Франции потерпела значительный урон. 10 членов упраздненной Академии
21 Марат Ж.-П. Памфлеты. М., 1934, с. 503- 532. Марат писал о Парижской ака-
демии наук: «Взятая как коллектив, академия должна быть рассматриваема как об-
щество людей суетных, гордых тем, что собираются два раза в неделю... Она делит-
ся на несколько групп, из которых каждая бесцеремонно ставит себя выше других
и отделяется от них. На своих публичных и частных заседаниях эти группы никогда
не упускают случая обнаружить признаки скуки и взаимного презрения. Весело
смотреть, как геометры зевают, кашляют, отхаркиваются, когда зачитывается какой-
нибудь мемуар по химии, как химики ухмыляются, харкают, кашляют, зевают, когда
зачитывается мемуар по геометрии. Если каждая группа действует таким образом,
то отдельные лица обращаются друг с другом не лучше, и собратья расточают друг
другу сотни любезных эпитетов. Кондорсэ у них — литературный проходимец; Ротон —
зазнавшийся мужлан; Лаланд — мартовский кот, завсегдатай веселых домов; Каде -
«подтирка для вдовиц» (Там ж;е, с. 529).
4.3
наук эмигрировали. Многие ученые вынуждены были бежать из столицы. Среди
них анатом и зоолог В. И. Ласепед (1756-1825), математик и физик П. С. Лаплас
(1749—1827), химик А. Боме (1728-1804), математик и астроном Д. де Сежур
(1734-1794). Многие ученые были арестованы. Некоторые из них, например, астро-
номы Ж. А. Кузен (1739-1800) и Ж. Д. Кассини (1748-1845), минералоги Н. Де-
маре (1725-1815) и Р. Ж. Гаюи (1743-1822) дожили до освобождения, другие
были казнены, например, математик и астроном Ж. Б. Бошар де Capo (1730—
1794), астроном Ж. Байи (1736—1793), минералог Ф. Ф. Дитрих (1748-1793), по-
четный академик Л. А. Ларошфуко (1743-1792), третьи, как математик и философ
Кондорсе (1743-1794), покончили с собой.
В связи с обсуждением деятельности Академии наук, ее отчетов по тем зада-
ниям, которые были поставлены перед ней Конституционной и Национальной Ас-
самблеями, а затем Конвентом, в связи с обсуждением ее бюджета и размера го-
нораров как ученым, так и художникам среди членов правительственных органи-
заций и особенно Комитета народного образования возникает острая борьба
между сторонниками сохранения Академии наук и противниками каких-либо кор-
пораций. Получив в мае 1790 г. заказ на реформу мер и весов, Академия наук в
марте 1791 г. представила проект единицы мер, подготовленный Комиссией, куда
входили Лавуазье, Монж, Лаплас. Лишь в августе 1793 г. Конвент выпускает дек-
рет о введении единой системы мер и весов, хотя потребовалось еще немалое
время для окончательного утверждения единой метрической системы во всей Фран-
ции. Все выдающиеся ученые Франции — Лаплас, Даламбер, Лагранж высоко оце-
нивали это первое научное предприятие революции, которое, как отмечалось в
Декрете Конвента 18 жерминаля III года, есть «творение республики, триумф
французского народа и успех в области культуры»гг. Однако, несмотря на то,
что Академия наук успешно работала над заданиями революционного правитель-
ства, контрнаучные настроения и установки приобретали все больший размах,
выражались все с большей силой и все в более яростных нападках. Своего на-
кала эта борьба достигла при обсуждении бюджета Академии наук в августе
1793 г., подготовленного Комитетом народного образования. Члены этого Комитета,
в частности химик А. Ф. Фуркруа (1755-1809), предлагали исключить из состава
Академии всех лиц, эмигрировавших из Франции, но все же сохранить Академию
как научную организацию. Фуркруа неоднократно выступал с разоблачением си-
стемы клеветы на Академию и академический корпус, отмечал, что в период ре-
волюции варварски разрушаются памятники культуры и искусства, закрываются
школы и библиотеки. Обсуждение статуса Академии наук и ее бюджета в рамках
Комитета народного образования закончилось подготовкой проекта декрета, согласно
которому все привилегированные и содержащиеся на средства нации Академии и
литературные общества упраздняются, однако для Академии наук временно делает-
ся исключение, поскольку Конвент поручил ей важные исследования. 8 августа в
Конвенте развернулись дебаты относительно этого проекта. Один из членов Коми-
тета народного образования и авторов этого проекта Грегуар выступает с речью,
где доказывает бесполезность Академии наук, подчеркивая, что Королевская Ака-
демия была инструментом деспотизма и не приняла в свои члены наиболее вид-
ных ученых и мыслителей Франции — Мольера, Паскаля, Гельвеция, Дидро, Мабли.
Выдвинув предложение запретить все Академии без исключения, он предложил
создать новую научную организацию во Франции.
Большую роль в вотировании первого пункта декрета, упраздняющего все Ака-
демии, сыграло выступление художника Жака Луи Давида (1748-1825), направ-
ленное против Академии живописи и скульптуры. Давид на протяжении несколь-
ких лет, начиная с мемуара представителям Коммуны Парижа от 25 февраля
1790 г., выступал против прежних Академий и отстаивал идею их полного запрета.
Так, в этом мемуаре он писал: «Режим Королевской Академии живописи и скульп-
туры деспотичен, унизителен, губителен для талантов и почти во всем противоре-
чит декретам о равенстве и свободе, которые Национальная Ассамблея и королев- *
22 Старосельская-Никитина О. Очерки по истории науки и техники пе-
риода Французской буржуазной революции 1789 - 1794. М. - Л,. 1946, с. 149.
44
ское правосудие только что изложили во Французской конституции»23 24. Давид
полагал, что в дни, когда уничтожаются все узурпированные и противоречащие
общественному порядку привилегии, необходимо ликвидировать унизительное ярмо
и корыстный гнет, полноту власти и привилегии первого класса академического
корпуса, наиболее бездарного и паразитирующего на трудах художников осталь-
ных двух классов.
Требование Грегуара об уничтожении всех академий как вредных для искусств
и наук и «несовместимых со свободным режимом» было поддержано не только
Конвентом, но и радикальными художниками Парижа. Конвент принял декрет,
согласно которому все академии упразднялись. Вместо Академии живописи и
скульптуры создавалась Коммуна искусств, впоследствии преобразованная в
«Народное и республиканское общество искусств». Делегация этого общества посе-
тила Конвент и подготовила проект программы художественных работ.
И среди ученых — членов Академии также были сторонники ликвидации этого
учреждения. Н. С. Шамфор называл Академию надписей п изящной литературы
школой лести и рабства, в которой не только не было духа свободы, но царил
дух сервилизма. С критикой Академии наук выступил и химик Фуркруа, подчер-
кивавший бесполезность прежней Академии, архаичность ее организации.
За сохранение Академии наук выступил прежде всего ее казначей Лавуазье,
который оценивал декрет Конвента от 8 августа 1793 г. как гибельный для разви-
тия наук во Франции, для запланированных научных предприятий, в частности
для финансирования работ по химии, для подготовки метрической системы. Он
рассылает письма Лаканалю и Арбогасту, где отмечает, что решение Конвента за-
трудняет работу Комиссии мер и весов. После дебатов в Конвенте был принят
декрет от 14 августа 1793 г., разрешающий членам Академии наук собираться в
обычном месте для занятий, т. е. в Лувре. Однако Директория Парижского депар-
тамента проигнорировала его. В результате сторонники ликвидации всех академий
победили. Академия наук была уничтожена. Началось время преследований уче-
ных. И в этом преследовании науки и ученых оказались единодушными католики
и защитники нового культа Верховного существа. Так, депутат Конвента католик
Дюран-Майян, выступая в декабре 1792 г. против засилья науки, отверг саму
идею создания каких-либо научных корпораций. Его поддержали при обсуждении
проекта реформы высшего образования, предложенного Кондорсе, председатель
якобинского клуба Э. Ж. Сийес и Дону - депутат от жирондистской партии. Они
считали неприемлемым существование Академии наук. В ней они видели государ-
ственную монополию в области прогресса человеческого разума. После декрета
Конвента от 14 августа 1793 г., проведенного по настоянию Лаканаля, борьба между
сторонниками сохранения Академии и сторонниками ее ликвидации приобрела наи-
более острые формы. Попытки сохранения Академии наук расценивались наиболее
радикальными слоями населения Парижа как стремление утвердить новую аристо-
кратию ученых, упрочить новую касту богачей. Выразителем этих эгалитаристских
настроений стала Парижская коммуна, которая направила депутатов в Конвент
15 сентября 1793 г. с тем, чтобы они выступили с твердыми возражениями против
сохранения Академии наук и создания новых государственных учреждений в об-
ласти науки. Ее поддержали депутаты Конвента Камбон и Фабр д’Эглантин, вы-
ступившие против восстановления академий под другим названием.
Этим контрнаучным настроениям и установкам, этой разрушительной для
науки политике всегда противостоял Лавуазье, который в письме Лаканалю от
28 августа 1793 г. назвал переживаемое французской наукой время — временем
преследований и эмиграции ученых из Парижа. Он особенно подчеркивал, что
«если наукам не оказывать помощь, они приходят в упадок в государстве и трудно
восстановить даже их прежний уровень»2i. Лавуазье стоял во главе Управления
производством пороха и селитры, перестроил военную промышленность Франции,
поднял производство пороха, что было весьма важным не только для развития
химической промышленности, но и для обороны Франции. Немалую роль в разви-
23 «Мастера искусства об искусстве», т. IV. Первая половина XIX в. М., 1967, с. 30.
24 Berthelot М. Revolution chimique. Lavoisier. Paris, 1890, p. 196.
45
тип химической промышленности Франции и ее оборонной технологии сыграли
такие химики, как Бертолле, Шанталь, Фуркруа.
Однако в Конвенте все более и более утверждается контрнаучная линия. Зи-
мой 1793 г. она возобладала и победила. 24 ноября 1793 г. арестован Лавуазье. Рис-
куя жизнью, химики Л. К. Каде де Гассикур (1731-1799) и А. Боме (1728—
1804) обратились в Комитет общественного спасения, требуя освобождения Ла-
вуазье. Но большинство ученых, причем тех, кто активно участвовал в политиче-
ской жизни Франции и кто мог бы помочь Лавуазье, молчали. Молчали Л. Карно
Гитон де Морво, Монж, Фуркруа. Фуркруа — один из сотрудников и пропагандис-
тов антифлогистонной химической теории Лавуазье, один из создателей химиче-
ской промышленности революционной Франции, столь необходимой для ее оборо-
ны, был не просто членом Конвента. Он был наиболее радикальным членом Кон-
вента, выступавшим за упразднение Академии наук, а в декабре 1793 г, ставшим
председателем якобинского клуба. После государственного переворота 9 термидора
и казни Робеспьера Фуркруа предал своих бывших приверженцев, выступив
3 января 1794 г. в Конвенте с докладом о том, что якобинцы являются и тирана-
ми, и обскурантами, что они устроили заговор против прогресса человеческого ра-
зума и развития искусств и наук. Он не только примкнул к термидорианцам,
но и вошел в состав Комитета общественного спасения, созданного после перево-
рота. Более того, он принял самое активное участие в обвинении Лавуазье, кото-
рого 8 мая 1794 г. казнили. Именно на процессе Лавуазье и были сказаны слова:
«Республика не нуждается в ученых!» Они приписываются то Кофмньялю - чело-
веку, арестовавшему Робеспьера, то Дюма. Некоторые ученые вообще сомневаются
в том, что они были произнесены, считая их роялистским анекдотом, пущенным
для дискредитации революционной эпохи в глазах интеллигентов. Так, историк
французской революции Ж. Гильом категорически отвергает всякую вероятность
произнесения этих слов на трибунале, судившем Лавуазье25. Однако исследова-
ния последних лет показали, что эта реплика, а точнее приговор не только Ла-
вуазье, но ученым и науке в целом, широко встречались на страницах газет,
в дискуссиях в Конвенте, в посланиях разных лиц различным государственным
организациям. Иными словами, этот контрнаучный афоризм, выражавший негатив-
ное отношение к ученым и науке, был широко распространен и до трибунала, су-
дившего Лавуазье; он лишь выразил в отчеканенной форме те установки, которые
были присущи массовому сознанию революционной Франции. Так, выступая в
Конвенте 12 декабря 1792 г., П. Т. Дюран-Майан (1729-1814) проводил мысль о
том, что французский народ для своего счастья не нуждается в науках. В июле
1793 г. депутат Конвента Генц отстаивает мысль, что республика нуждается не в
ученых, а в свободных людях и достойных уважения существах. По его словам,
нельзя полагать, что завоевание свободы является результатом развития искусств
и паук. Среди ученых нет патриотов, а академики, по его мнению,- люди фразы,
а не республиканцы. 18 сентября 1793 г. в газете «Монитер» печатается статья,
где «доказывается», что республика нуждается не в ученых, а в прокурорах и ад-
вокатах. Атака на пауку как прибежище «аристократии ученых» сопровождалась
одновременно критикой теоретического научного знания как оторванных от жизни
спекуляций. В этой практической направленности «менталитета» следует видеть
не только дальнейшее углубление общепротестантского умонастроения, но и форму
25 Guillame J. Un mot legendaire: Le Republique n’a pas besoin de savants. La
Revolution fran^aise. Paris, XXXVII, 1897, p. 385. Советский историк M. Э. Подгорный,
считая, что эти слова являются фальшивкой, на основе которых создается писаная
история, четко проводил тезис: «Великая французская революция не могла вставать
в оппозицию к науке» (Подгорный М. Э. Лазарь Карно, организатор военных по-
бед революции. В ки.: Карно Л. Размышления о метафизике исчисления бесконеч-
но малых. М.— Л., 1933, с. 263). Вскрывая «классовую подоплеку» этих фальшивок,
он не преминул сказать: «История повторяется... Как полтора века назад враждебный
новому режиму мир изображал взявших в свои руки власть санкюлотов каким-то
сборищем каннибалов, поставивших себе целью разрушение культуры и низведение
человека до уровня первобытного дикаря, так и теперь советская власть... чуть ли не
ежедневно обвиняется организаторами обезьяньих процессов в вандализме, террори-
стическом угнетении ученых, разрушении цивилизации и т. а.». (Там же, с. 262-
263).
46
критики науки. В противовес академической науке на первый план все более и
более выдвигались идеалы утилитарной и конформистской науки, ориентирующей-
ся на непосредственное применение ее достижений в промышленности и на идео-
логическую лояльность. Само собой разумеется, в этих лозунгах о создании «новой
науки», связанной с жизнью и промышленностью, выразились реальные потребно-
сти революционной Франции, остро нуждавшейся для своей обороны в развитии
ряда отраслей промышленности и создании новых ремесел. Цо необходимо видеть
И другую сторону этой критики науки - скрытые и явные контрнаучные настрое-
ния и установки. Борьба за повую, свободную науку, в корне отличавшуюся от
прежней, архаической, спекулятивной науки, была одновременно и способом пере-
ориентации французской науки на развитие прикладных и важных с государствен-
ной точки зрения задач, и формой критики научного знания, его отвержения во
имя революционных задач и идеалов. Так, Ж. Букье писал Конвенту, что свобод-
ные науки не нуждаются в касте спекулятивных ученых, ум которых постоянно
пребывает в царстве грез и химер. Спекулятивные науки, оторванные от жизни
людей, он уподобляет яду, который подтачивает силы, истощает их и разрушает
республики. И Ж. Букье был не одинок в своем отрицании наук 26.
Противоборство двух линий отношения к пауке в общественном сознании
Франции в революционные годы своим итогом имело прежде всего формирование
государственной поддержки научных исследований, реорганизацию прежней Ака-
демии, создание новых, субсидируемых государством институтов, профессиональ-
ного слоя ученых и нового образа науки, на знамени которой начертаны слова:
«Прогресс и польза». Сложившаяся в эти годы система социальной поддержки
науки привела к тому, что на первое место все чаще выдвигаются прикладные
разработки, важные для развития промышленности, ремесел, торговли, техники ре-
волюционной Франции. Ученые все больше оказываются вовлеченными в создание
новых видов оружия, в модернизацию текстильных, кожевенных и металлургиче-
ских мануфактур, выпускавших необходимые для армии предметы, в прикладные
разработки, сыгравшие громадную роль в укреплении боеспособности Французской
республики. Уже к 1795 г. сложилась такая объективная ситуация, когда стало
ясно, что республика нуждается прежде всего в ученых, способных осуществлять
прикладные исследования, важные для военной промышленности Франции.
Для подготовки такого рода ученых необходимо было перестроить и систему
образования. Поэтому в период якобинской диктатуры возникла Центральная шко-
ла общественных работ, позднее названная Политехнической школой. К преподава-
нию в ней были привлечены лучшие научные силы Франции - Лагранж, Лаплас,
Монж, Бертолле, Шапталь и др. Ее основная задача заключалась в подготовке ин-
женеров разных специальностей - от артиллеристов до топографов. Ее руководи-
телем более 20 лет был Г. Монж. В предисловии к курсу начертательной геомет-
рии, созданной Г. Монжем для решения проблем инженерной строительной тех-
ники, он не только излагает программу реформы системы образования тогдашней
Франции, но и формулирует новый образ науки, которая направлена на исследо-
вание прикладных задач: «Чтобы освободить французский народ от иностранной
зависимости, в которой он до сих пор находился, надо прежде всего направить
народное образование к познанию объектов, требующих точности, что было в пол-
ном пренебрежении до нашего времени, и приучить наших специалистов к поль-
зованию всевозможными инструментами, предназначенными для того, чтобы вно-
сить точность в работу и измерять ее степень... Во-вторых, надо расширить знание
многих явлений природы, необходимое для прогресса промышленности, и восполь-
зоваться для развития общего образования народа тем счастливым обстоятельством,
что она имеет в своем распоряжении главнейшие ресурсы, которые ей требуются.
Наконец, надо распространить среди наших специалистов знание способов,
применяемых в искусствах, и знание машпн, предназначенных для того, чтобы
либо сократить ручную работу, либо внести в результаты работы больше одно-
родности и точности...» 2’. В этих словах, которыми открывались лекции Г. Монжа
26 См.: Fayet J. La Revolution francaise et le science. 1789-1795. Paris, 1960,
p. 198-199.
21 Монж Г. Начертательная геометрия. M., 1947, с. 9.
47
по начертательной геометрпп, выражены новые представления о науке, ее смысле
и задачах. Многие выступления выдающихся математиков, физиков, химиков рево-
люционной Франции пронизаны чувством необходимости переориентации науки,
формирования нового образа науки в общественном сознании Франции и выдвиже-
ния перед учеными принципиально новых приоритетов и социально значимых
целей.
Отношение к знанию со стороны различных слоев французского общества и об-
раз науки — важнейшие характеристики как социальной психологии, так и идео-
логических течений, существовавших во Франции перед революцией и во время
нее. Однако до последнего времени эти аспекты духовной и идеологической жизни
пред- и революционной Франции не были предметом ни исторического, ни фило-
софского исследований. Лишь в последние годы благодаря усилиям представителей
так называемой исторической школы «Анналов» начинают выявляться особенности
революционного сознания, раскрываться бессознательные установки, ценностные
ориентации и приоритеты, выражавшиеся различными слоями французского обще-
ства. Революционное сознание, а точнее революционная ментальность, как предпо-
читают говорить историки этой школы, перестает быть чем-то монолитным, в нем
обнаруживаются различные уровни и слои, а духовная жизнь Франции этого пе-
риода выглядит гораздо более рельефной. Так, в книге М. Вовеля «Революционная
ментальность. Общество и ментальность во Французской революции» выделены не-
сколько слоев социальной психологии и революционного сознания, со своей симво-
ликой, со своими представлениями о пространстве и времени, со своим отноше-
нием к жизни и смерти. Исходным для революционной ментальности, по мнению
М. Вовеля, является чувство страха, которое приводит к тому, что в революцион-
ном движении преобладают «карательные импульсы»2S. Страх перед заговорами
как вне, так и внутри революционных групп выражается в терроре, представляю-
щем собой страх контролируемый и управляемый, сознательно внушаемый врагам
свободы. Революционная ментальность этого времени находит свое выражение и в
установке на разрушение или на тотальное уничтожение прошлого, причем под-
черкивается «поворотность», «судьбоносность» переживаемого момента, радикаль-
ность и мгновенность разрушения, непобедимость и необратимость революционных
сдвигов.
Эти установки пронизывают и сознание ученых, принявших революцию и непо-
средственно участвовавших в ее осуществлении, и социальную психологию тех
слоев французского общества, которые осуществляли Великую французскую рево-
люцию. Само собой разумеется, они выражаются и в отношении к науке, в проти-
воречивом взаимодействии двух типов отношения к науке, одно из которых можно
назвать сциентистским, а другое — контрнаучным. Эти установки, их диалог-кон-
фликт, их отталкивание и притяжение, вся сложная амальгама ценностных
ориентаций и предпочтений, которые лишь в последние годы начинают исследо-
ваться во всех деталях, находят свою реализацию и воплощение как в политиза-
ции сознания самих ученых, в частности в возникновении идеи научной револю-
ции, так и в тех приоритетах, которые принимаются различными слоями фран-
цузского общества и выдвигаются перед наукой в качестве ее неотложных,
актуальных задач, например, в переориентации научных исследований на приклад-
ные разработки военно-оборонного характера.
28 V о v е 11 е М. La mentalite revolutionnaire, Societe et mentalite sous la Revolu-
tion francaise. Paris. 1985.
Социальный эксперимент Петра I
и формирование науки в России
Н. И. КУЗНЕЦОВА
Достаточно ли мы сознаем, что наука базируется и может существовать только
в определенном «аксиологическом пространстве»? Иными словами,- в культуре, где
знание признано ценностью (благом), где культивируются определенные занятия,
образ жизни (познание), где в явной форме манифестируются ценностные ориента-
ции на поиск истины и социум задает возможность реализации этой ориен-
тации, где профессиональная научная деятельность становится объектом положи-
тельной общественной оценки, которую разделяют и власти, где, наконец, люди в
процессе непосредственной жизнедеятельности способны проникнуться теми на-
строениями, представлениями, мотивами, которые определяют для некоторой части
населения выбор и освоение соответствующей профессии. Попытаемся реконструи-
ровать то аксиологическое пространство XVIII столетия, в котором происходило
формирование и становление естествознания в России.
Социальные новации и традиции культуры
В России конца XVII — начала XVIII в. Петр I выступил в роли своеобразного
«сталкера» - человека, завезшего ряд инородных, чужеродных социальных орга-
низмов, которые — не без долгих усилий со стороны энтузиастов — стали жить соб-
ственной жизнью и постепенно преобразовали традиционную русскую культуру.
В. О. Ключевский пишет о XVIII столетии: «Что же так осложнило русскую
жизнь этого века? Реформы, начатые предшественниками Петра и им продолжен-
ные. Эти реформы были предприняты частию под влиянием Западной Европы и
исполнены при содействии людей той же Европы. До той поры русское общество
жило влиянием туземного происхождения, условиями своей собственной жизни и
указаниями природы своей страны. С XVII в. на это общество стала действовать
иноземная культура, богатая опытами и знаниями. Это пришлое влияние встре-
тилось с доморощенными порядками и вступило с ними в борьбу, волнуя русских
людей, путая их понятия и привычки, осложняя их жизнь, сообщая ей усиленное
и неровное движение» *.
В частности, нам важно отметить появление на арене российской истории
в 1711 г. Сената как правительственного учреждения, созданного для контроля и
управления государством. Конечно, время Петра I — это прежде всего утверждение
империи. Сенат был хорошо контролируем «сверху». И тем не менее здесь был
возможен существенный шаг в развитии. Петр копировал административный ап-
парат Западной Европы, прежде всего Швеции. Американский историк М. Раев
подчеркивал, что в процессе модернизации административного аппарата форма
чрезвычайно сильно влияла на содержание, что, в частности, новый «институци-
’ Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983, с. 13.
3 Вопросы, философии, Л? 3
49
онньш стиль» имел большое значение для духовного развития российского дворян-
ства XVIII в.2. Действительно, появление такого института, как Сенат, косвенно
отделяет в сознании людей власть царя (хозяина) от власти государства (учреж-
дения для «блага подданных»), и это для начала XVIII столетия было весьма ак-
туальной и значимой культурной задачей. Школы, Университет, Академия естест-
венно функционируют только в рамках государственного, а не «вотчинного» устрой-
ства социума. Властителю-тирану нужны в лучшем случае жрецы, хранители
сакрального знания, а не ученые-исследователи, культивирующие свободное по-
знание, не признающие другого авторитета, кроме истины.
Как давно замечено, «свободные искусства» и науки исторически не появляются
в сельских местностях, не получают стимулов для развития иначе, чем в город-
ских условиях. Петр I дал образцы строительства новых для Руси городов, с иной
планировкой, другими смысловыми акцентами - Петербург, Таганрог, перестройка
Москвы... Городская среда создает необходимую для развития индивидуальной ду-
ховной жизни семиотическую избыточность. Смысл городского центра подчеркнуто
новый: в центре - не традиционный Кремль, город-крепость, символизирующий и
оборону от врагов, и твердость веры, а информационная открытость и деловитость:
Адмиралтейство, Фондовая биржа, царский дворец, отнюдь не за высокими стена-
ми, Академия с ее музеями и залами для собраний и занятий, Университет.
(Конечно, этот городской пейзаж, полный вызывающей новизны, был только заду-
ман Петром, а воплощен уже после его смерти.)
Развитие наук невозможно без светского, секуляризованного книгопечатания,
без издательского дела. Петр покупает и перевозит хорошую типографию, выпуска-
ет первую газету, налаживает переводы нужных книг.
Разрыв с традициями здесь был очень болезненным, стоившим Петру огром-
ных усилий. Как показывают историки, отношение к книге еще в XVII в. было
своеобразным. Грамотность мужского населения Москвы, например, была довольно
высокой. Но при этом, согласно традиции, не столько человек владел книгой,
сколько книга призвана была владеть человеком, врачевать его. Книга была подоб-
на иконе: это духовный авторитет и духовный руководитель, вместилище вечных
идей. «Само собой разумеется, что вечные идеи не могут заполнять сотни и тыся-
чи томов, ибо вечных идей немного. Следовательно, нужно не вообще читать кни-
ги и читать не всякие книги, а «пользовать себя» строго определенным кругом
избранных текстов» 3.
Дело, таким образом, не в том, что не было книгопечатания, нужного количе-
ства книг, грамотных людей, а в содержании той грамотности, в традициях пользо-
вания книгами. На традиционной грамотности нельзя было привить и развить
европейское просвещение, ознакомить людей с кругом естественнонаучных пред-
ставлений, основами математических и технических знаний4. Грамотных в том
плане, как это нужно было для участия в преобразовательной деятельности Петра,
практически не было. О допетровском времени выразительно сказал Феофан Про-
копович: «Не ведаю, во всем государстве был ли хотя один цирклик, а прочего
орудия и имен не слыхано: а есть ли бы где некое явилося арифметическое и
геометрическое действие, то тогда волшебством нарицано» («Слово на похвалу
Петра»)5.
По указу Петра были созданы особые учреждения, формальной задачей кото-
рых стало культивирование научных знаний и приумножение их. Это — Академия,
Университет, Кунсткамера, т. е. первый научный русский музей, Библиотека при
Академии, различные кабинеты для научных занятий.
2 См.: Баггер X. Реформы Петра Великого (обзор исследований). М., 1985,
с. 53.
3 Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984,
с. 168.
4 Это отношение к книге, как нам кажется, характеризует термин «священно-
кннжпе». См.: Рашковский Е. Б. Зарождение науковедческой мысли в странах
Азии и Африки: 1960-1970-е гг. М., 1985, с. 45—47.
5 Цит. по: Кутина Л. Л, Формирование языка русской науки. М,- Л., 1964,
с . 11.
50
И здесь Петр выступал нарушителем спокойствия, смелым экспериментатором
и новатором. Указом императора от 13 февраля 1718 г. населению России предпи-
сывалось собирать различные «куриозы», «раритеты» и т. п. для Кунсткамеры.
Что же из этого вышло? A. AL Панченко пишет: «Петр начал собирать редкости
еще в первое свое путешествие но Европе, и государево к ним пристрастие сдела-
лось широко известным. Традиционалисты его не одобряли.
Дело в том, что монстров но старинной привычке (и православной, и католиче-
ской) считали сатанинским отродьем. Указ учитывает эту традицию и стремится ее
опровергнуть, приводя аргументы богословского и медицинского свойства и просто
взывая к здравому смыслу: только невежды могут полагать, что «уроды родятся от
действа дьявольского»; творец всей твари - бог, а не дьявол; уродство - это физио-
логическая аномалия.
Эти рассуждения для многих были гласом вопиющего в пустыне, и на первых
порах Кунсткамера была «пустынным» музеем, в котором монстров было больше,
чем «нормальных» посетителей. Людям древнерусского воспитания уроды казались
«страшилищами». Поэтому Петр отверг предложение генерал-прокурора Сената
С. П. Ягужинского, который советовал назначить плату за посещение Кунсткамеры.
Петр не только сделал свой музей бесплатным, но и выделил деньги для угощения
тех, кто сумеет преодолеть страх перед «страшилищами». Шумахеру отпускалось на
это четыреста рублей в год» “.
Своеобразным было и развитие библиотечного дела в России. Традиции допет-
ровской русской культуры были и здесь весьма далеки от того, чтобы имеющиеся
собрания книжных сокровищ могли бы использоваться для нужд научно-исследо-
вательской работы. В XVII в. хранение производилось в низких, полутемных, жела-
тельно каменных (во избежание пожаров) комнатах, уставленных массивными
сундуками («коробьями»), в которых иод печатями покоились книги. Шкафы с
полками появились, вероятно, к концу XVII столетия вследствие желания вла-
дельцев продемонстрировать богатство и красоту переплетов. Воистину то были
книжные сокровища: переплеты часто украшены драгоценными камнями, кожей,
так что пользоваться ими соответственно было страшновато... Сохранившиеся от
того времени описи книг, как правило, подробно сообщают о переплете, но часто
забывают сообщить название книги и ее автора. Расстановка книг производилась
по формату и красоте переплета, что, кстати, делалось поначалу и в Библиотеке
Академии’.
Первая публичная библиотека - Академии наук - была открыта 25 ноября
1728 г. на Васильевском острове. Но заманивать в нее публику приходилось почти
так же, как в Кунсткамеру: читателей было мало. По записям 1732-1735 гг.,
литературу на дом получали 85 человек, из них 44 - члены Академии 6 7 8 *.
Наладить библиотечное дело - даже по имеющимся западным образцам - ока-
залось совсем не просто. «Настройка» подсобного информационного аппарата требо-
вала еще долгих усилий. Уже в 1835 г. Карл Бэр, приглашенный работать в Петер-
бургскую Академию, застал организацию библиотеки Иностранного отдела (до
70 тыс. томов) в крайне плачевном состоянии. «...Книги не имели исправного катало-
га и стояли без всякой системы в шкафах, в несколько рядов. В них кое-как
разбирался, по памяти, старик-библиотекарь, прослуживший много лет, но пользо-
ваться библиотекой фактически было невозможно. Притом в помещении отсутство-
вали печи, и х'олод был такой, что чернила замерзали и работать зимой приходи-
лось в шубах и шапках» ’.
Особенность петровского периода состояла в том, что царь-реформатор вводил
новшества решительно и бесповоротно. Законом от 20 января 1714 г. Петр уста-
новил обязательное обучение для дворян: дворянин-подросток не мог жениться,
пока не получал свидетельства об окончании курса в элементарной школе. «Разно-
образные стимулы были приведены в действие, чтобы двинуть все сословие на слу-
6 Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ, с. 190-
191.
7 См.: Жданова Л. В. Пчедиосылки становления наука в России. Доклад на
конференции м. и. с. и аспирантов II НЕТ, 1985 г.
8 См. «История Академии наук СССР; , т. 1. М.- Л., 1958, с. 60.
’Райков Б. Е. Карл Бэр. Его жизнь и труды. М.-Л., 1961, с, 177.
3*
51
женпе государству,- пишет В. О. Ключевский,— школьная палка, виселица, ин-
стинкт, привязанность к соседке-невесте, честолюбие, патриотизм, сословная честь.
Нам... трудно представить себе суматоху, вызванную в родовитом дворянстве эти-
ми энергическими мерами Петра. Люди, привыкшие двигаться не торопясь, по
однообразным утоптанным тропинкам, теперь вытолкнуты были на непривычные
поприща деятельности. Куда только не посылали, чего не заставляли изучать рус-
ского дворянина при Петре! Командированные толпами пребывали в Лондоне,
Париже, Амстердаме, Венеции, учились мореходству, философии, математике,
дохтурскому искусству» 10.
Однако просвещение - только фон для подлинного развития научных и техни-
ческих знаний. К 1721 г. была не только сформулирована идея будущей русской
академии, но даже предприняты некоторые практические шаги к ее созданию.
В частности, повелением императора был отправлен в заграничную командировку
И. Д. Шумахер, который ознакомился с научной жизнью Лондонского Королевского
общества, Парижской Академии, рассмотрел библиотеки и музеи, привез некоторые
карты, чертежи, приборы, завязал знакомства и т. п. В 1723 г., вернувшись из
Персидского похода, Петр выслушал доклад Шумахера, осмотрел привезенное и
тут же повелел лейб-медику Блюментросту представить соображения о том, сколь-
ко людей и каких специальностей нужно для Академии. Блюментрост назвал пять
человек: одного для астрономии, одного для географии, одного для анатомии, одного
для ботаники и истории натуральной и одного для химии. Об этом пишет Шумахер
в своем «Житии». На вопрос Петра, сколько еще надо людей, Блюментрост предло-
жил прибавить еще четыре или пять человек...11
Решившись «завести» у себя в империи Академию, Петр, вероятно, не думал,
сколь это сложно, и не сомневался в пользе, которую государство сможет извлечь
из этого предприятия. Со слов Шумахера мы знаем, как он разъяснял свою идею:
приглашенные ученые люди напишут учебники, обучат избранных молодых людей,
которые затем сами будут учить следующих учеников. «Другими же сочинениями
о своих науках и новых открытиях, которые будут они издавать на латинском
языке, принесут они нам честь и уважение в Европе. Иностранцы узнают, что и
у нас есть науки, и перестанут почитать нас презрителями наук и варварами.
Сверх того, присутствующие в коллегиях, канцеляриях, конторах и других судеб-
ных местах должны будут требовать от Академии советов в таких делах, в кото-
рых науки потребны» 12. В системе государственных учреждений Петр отвел Ака-
демии особое место, не подчинив ее даже Сенату. Она должна находиться «под
ведением императора, яко протектора своего» и при этом сама «себя править».
Последнее исполнено не было, а «протекторат» императора сказывался на работе
Академии весьма сильно... Внешне усвоенный образец Лондонского Королевского
общества дал на российской почве совсем другие плоды, но об этом позже.
Итак, в течение 1725 г. в Санкт-Петербург прибыли первые приглашенные лица,
первые члены Академии наук. Их было 16 человек: 1 француз, 3 швейцарца,
остальные - немцы. Среди них два адъюнкта — Иосия Вейтбрехт и Герард Миллер.
Математик Христиан Гольдбах прибыл в столицу России без приглашения, но
понравился и был зачислен в качестве конференц-секретаря-историографа. Стоит
воспроизвести эти первые имена: Якоб Герман - математик, Жозеф Делиль -
астроном; Георг Бюльфингер - физик; Христиан Мартини - логик; Даниил и Нико-
лай Бернулли — математики; Николай был приглашен как специалист в области
механики, Даниил — физиологии; Фридрих Майер - математик; Иоганн Дювер-
нуа — анатом, зоолог; Иоганн Коль — специалист по элоквенции и церковной исто-
рии; Мишель Бюргер - химик, медик; Готлиб Байер - специалист по греческий и
римской истории; Иоганн Бекенштейн - юрист; Христофор Гросс - специалист по
моральной философии. Первый официальный контракт был заключен еще 1 сен-
тября 1724 г. с ботаником И. X. Буксбаумом, который служил в Медицинской кан-
целярии и в 1725 г. как официальное лицо был направлен в пос цку в Констан-
*’ Ключевский В. О. Неопубликованные произведения, с. 23—24.
11 См.: Копелевич Ю. X, Возникновение научных академий, Л., 1974, с. 184.
1! Там же, с. 185.
52.
тинополь с русским посольством ,3. Петр привез в Россию науку, как он привозил
другие новшества - смело, решительно и не задумываясь о дальних последствиях.
Ему казалось, он знает, что делает. Но последствия «культурной прививки»
не замедлили сказаться неожиданным образом. Наука, будучи «пересажена», тре-
бовала разворачивания того социального и культурного контекста, в котором только
она и может жить. Уже в 1766 г. князь Дмитрий Голицын пишет из Парижа род-
ственнику с явным расчетом, что письмо его будет прочтено императрицей Екате-
риной II: «Мне кажется, что ее Величество избрала наилучшие меры относительно
развития у нас наук и художеств; ничто, конечно, не представляет лучших залогов
для их преуспеяния, как основание академий и правильное устройство сих учреж-
дений. Но, опираясь на пример истории, боюсь, что средства эти окажутся слабы,
если одновременно не будет у нас поднята внутренняя торговля. А она, в свою
очередь, не может процвести, если не будет мало-помалу введено у нас право соб-
ственности крестьян на их движимое имущество» 13 14.
Иначе говоря, «приращение» наук, т. е. их развитие, требует ни больше ни
меньше, как постепенной отмены крепостного права!.. Именно в этом смысл «права
собственности крестьян на их движимое имущество». И это не случайная мысль.
Князь Голицын продолжает свое рассуждение — наставление императрице - сле-
дующим образом: ‘Мм подтверждает мое мнение. «Если государь,- говорит он,—
не воспитает у себя фабриканта, способного выткать сукно столь тонкое, чтобы
оно достигло цены две гинеи за аршин, то тем менее воспитается в его государстве
астроном». Не принимая этих выражений в буквальном смысле, должно, однако же
согласиться, что все предметы производства имеют между собою до того тесную
связь и зависимость, что, желая утвердить в стране науки и искусства не на осно-
вании предварительно созданных внутренней торговли и ремесел, непременно
встретишься на пути к своей этой цели с величайшими препятствиями» 15.
Просвещение, введенное по декрету императора, долго не входило в быт мо-
дернизируемой русской культуры.
С одной стороны, активно действующая Академия наук произвела удивитель-
ный «скачок» в развитии естествознания на русской почве: от элементарных мате-
матических знаний, распространяемых учебниками Магницкого и Фарварсона, сра-
зу — к исследованиям в области математического анализа, теории гравитации и т. п.
Высокий авторитет Санкт-Петербургской Академии XVIII в. в западном ученом
мире не подлежит сомнению. Ничего удивительного, ибо персональные «вклады»
Л. Эйлера, Хр. Гольдбаха, Д. Бернулли и других первоклассных исследователей
входили теперь в фонд русской науки.
С другой стороны, академикам-иностранцам, как это было обусловлено Указом
Петра, вменялось в обязанность не только вести самостоятельные научные иссле-
дования (содействовать приращению наук), но и воспитывать смену из русских
людей ,6. И вот здесь стали происходить неожиданные сбои.
Казалось бы, государственный, императорский план предусматривал стройную
систему подготовки и воспроизводства научных кадров. При Академии был учреж-
ден Университет, при Университете - Гимназия. Однако, если в 1726 г., когда была
открыта гимназия, в ней насчитывалось 112 учащихся (правда, преимущественно
детей иностранцев, живущих в России), то через три года число их упало до 74,
а в 1737 г,- до 19.
Академический Университет был в еще более тяжелом положении: в течение
первых 6 лет училось 8 студентов, прибывших из Германии (ни одного русского!),
в 1731 г,— ни одного. В 1735 г. по распоряжению Сената было направлено на обуче-
13 Имена даны в современной транскрипции. См.: «История Академии наук
СССР», т. 1, с. 453-454, а также: «Материалы для истории Императорской Академии
наук», т. 1. СПб., 1885, с. 169-171. 4
14 Цит. по: «Избранные произведения русских мыслителей второй половины
XVIII века», т. 2. М„ 1952, с. 37.
15 Там же, с. 37—38.
*• Первым русским адъюнктом Академии стал Василий Евдокимович Ададуров
(Адодуров) в 1733 г. Михаил Васильевич Ломоносов - адъюнктом по физике в 1742 г.
и профессором химии в 1745 г,
03
ние 12 человек из Московской Славяно-Греко-Латинской Академии. В 1783 г. княги-
ня Дашкова, приступив к обязанностям Президента Академии, обнаружила в Уни-
верситете двух студентов...” Система академического воспроизводства кадров
срабатывала пока скандально вхолостую. И не но вине академиков и профессоров.
Не в лучшем положении был и Московский Университет, созданный по проек-
ту Шувалова и Ломоносова и открывшийся в 1755 г. В 1758 г. студентов (преиму-
щественно детей дворян) было около 100. Но вскоре и здесь мода на образован-
ность и надежды на получение хорошей должности по окончании курса пошли да
убыль. Иногда приходилось по одному студенту на факультет, а всего факультетов
было три. Лекции не посещались, и порой в течение года занятия происходили не
более 30 дней* 18 19,
Трудности освоения новой профессии
Исторически получилось так, что на арене российской истории наука сразу
появилась как профессия, в известном смысле - как «ремесло», хотя и новое,
сложное. Но ремеслу можно научиться. Сколь же глубоко уходит естественнонауч-
ная традиция корнями в почву культуры, ее породившей или только желающей ее
«взрастить», открывается со временем.
Как известно, Р. Мертон показал, что не только социально-экономические усло-
вия влияют на динамику науки, но и определенные мировоззренческие, религиоз-
ные течения могут «пришпоривать» развитие естествознания. В частности, велика
роль Реформации, особенно пуританского мировоззрения, как культурного фактора,
сыгравшего большую роль в том, что Англия в XVII в. глубоко восприняла естест-
веннонаучную традицию и успешно ее развивала ”.
Надо сказать, что русская православная церковь, русская христианская жизнь
в широком смысле слова были очень серьезным тормозом для формирования и под-
держания! эстафеты естественнонаучной традиции. До Петра даже греческая уче-
ность представлялась русскому христианину крайне опасной. В рукописной пропи-
си 1643 щ читаем следующее поучение: «братие, не высокоумствуйте, учили в те
времена, но во смирении пребывайте, по сему же и прочая разумевайте. Аще кто
ти речетъг. веси ли всю философию? И ты ему рцы: еллинских борзостей не текох,
ни риторских астроном не читах, ни с мудрыми философы не бывах — учуся кни-
гами благодатного закона, аще бы мощно моя грешная душа очистити от грех»20.
Автор поучения, как указывает Г. Г. Шпет,- старец Елизарова монастыря: «это -
просвещенный представитель века, в нем уничижение паче гордости» 21.
Естественно, правда, возникает вопрос о «киевской учености», о монахах, обу-
чающих и обучающихся в Киевской Академии. Казалось бы, эта традиция учено-
сти и должна была послужить опорой в деле русского просвещения и дать нацио-
нальные кадры для работы в первом научном учреждении страны. Но эти ожида-
ния не могли быть оправданы.
П. П. Пекарский пишет: «Царю, желавшему во что бы то ни стало видеть в
России и школы, и ученых, иметь и переводы известных сочинений и первоначаль-
ные учебники, нужны были помощники, а ими могли быть, на первый раз, только
те из русских, которые чему-нибудь учились и что-нибудь знали. Должно заметить
при этом, что направление и образ мыслей киевских ученых не согласовались с
направлением и образом мыслей Петра: его намерения и цель состояли в практи-
ческом применении на русской почве начал, выработанных современною наукой в
государствах, преимущественно протестантских, к чему, разумеется, киевские уче-
” См.: Толстой Д. А. Академическая гимназия в XVIII столетии (по руко-
писным документам Архива Академии наук). СПб,, 1885, с. 2, 5, 10; его же. Взгляд
на учебную часть в России в XVII столетии до 1782 г. «Записки Императорской Ака-
демии наук», т. 47, приложение № 2. СПб., 1883, с. 8—9, 12.
18 См.: Шпет Г. Очерк развития русской философии. Пг., 1922, с. 54.
19 См.: Merton R. Science, Technology and Society in the 17th Century England.
N. Y., 1970.
20 Цит. по: Пекарский П. П. Введение в историю ппосвещения в России,
СПб., 1862, с. 3. ”
21 Шпет Г. Очерк развития русской философии, с. 13,
54
ные были мало способны по самому свойству и складу своего образования. (Меж-
ду ними, в этом отношении, Феофан Прокопович был единственным, но тем не
менее блестящим исключением)» 22.
В Западной Европе благодаря Реформации, научным занятиям была как бы
выдана религиозная «санкция». Исторически велика в том заслуга Р. Бойля, опре-
делившего познание природы как богоугодное дело. Бойль подчеркивает, что его
интересует не столько само по себе умножение знаний о физической реальности,
сколько именно воспитательная роль Книги Природы 23.
Такова важная идея пропедевтической функции изучения природы, научения
у природы, которая была важным катализатором в развитии естественнонаучной
традиции в Западной Европе. Православной церкви России это было глубоко чуждо.
Фактически, по указу Петра, вводившего занятия наукой в ранг важного государст-
венного мероприятия, а также требующего обязательного обучения дворян, начался
«импорт» в русскую культуру ш соответствующих идей и мыслей. Один из афориз-
мов диссертации Д. С. Аничкова, профессора Московского университета, звучит
так: «При возвышающемся познании человеческом о вещах возвышается купно и
человеческое понятие о Боге»24. По распоряжению Синода диссертация Аничкова
была сожжена на Лобном месте на Красной площади в Москве. Аналогичная мысль
у Татищева: «Так что, когда человек познает, из чего он состоит и что оных ча-
стей свойства и силы, то он несомненно познает и того, от кого урок, для чего
создан, оное же познав и видя свое из того добро, будет о том прилежать, чтобы
оное от Творца определенное приобрести, прилежанием же разумным в надежде
не обманется, и тако я тебе тоже сказал, что закоп или церковь учит»25.
«Санкцию» от религии необходимо было получить, и подобные высказывания
постепенно подготовляли ее. Свидетельствуют ли, впрочем, эти высказывания о со-
знательном заимствовании протестантских взглядов или они просто отвечали тре-
бованиям здравого смысла? Не всегда можно ясно ответить на этот вопрос. Офици-
альные обвинения в протестантизме, т. е. в «ереси» («иноверии») угрожали бук-
вально всем, кто пытался мыслить и действовать в соответствии-с_ духом-петров-
ских новаций.
На территории России те. области, где влияние Реформации сказывалось в наи-
большей степени, уровень просвещения народа был значительно выше, а традиции
естественнонаучного образования и исследований прививались легче 26.
Многие замечательные представители российской науки либо уроженцы При-
балтики, либо воспитанники этих мест: Ревеля, Миттавы, Пернова, Дерпта с его
славным университетом (ныне - Таллинн, Елгава, Пярну, Тарту). Достаточно вспом-
нить такие имена, как Карл Бэр, Георг Рихман, Адольф Купфер, воспитанник
Дерпта Николай Иванович Пирогов. Окончив в 1828 г. медицинский факультет Мо-
сковского университета, Пирогов стал врачом и ученым, по сути дела, только в
Дерпте. За время обучения на факультете он видел только три операции на живом
человеке, а сам не сделал ни одной. В Московском университете даже преподава-
ние анатомии велось с помощью «учебных пособий» - например, функции мышц
изображались подергиванием за края платков. «Приехав в Дерпт, я бросился, очер-
тя голову, экспериментировать» 27 *,— писал Пирогов.
В Казани в 20-е годы XIX в. дело дошло до «предания земле» всего универси-
тетского анатомического кабинета: все препараты, сухие и в спирте, были помеще-
ны в гробы и после панихиды с процессией отнесены на кладбище 23.
Таким образом, не только сами научные достижения, навыки и умения Запада
были «ввезены» в Россию, но и комплекс соответствующих, «окружающих» науку
общественных идей и настроений. Иначе и быть не могло.
22 П е к а р с к и й П, П. Введение в историю просвещения в России, с. 4.
23 См, «История становления науки (Реферативный сборник)». М., 1981, с. 234,
24 Цит. по: «Избранные произведения русских мыслителей...», т. 1, с. 133,
25 Татищев В. Н. Разговор о пользе наук и училищ. М., 1887, с. 5.
26 О том, как «высоко держалось знамя науки иа балтийском побережье», пи-
сал К. А. Тимирязев (см.: Тимирязев К. А. Исторический метод в биологии
Соч. т. VI. М., 1939, с. 32).
27 Цит. по: «Люди русской науки», кн. 3-я. М., 1963,с. 496.
23 Там. ж е, с, 496,
55
Бурно развивался русский язык - обогащался лексикой, изменял свои устные
и письменные формы, используя для калькирования и звуковые ряды европейских
языков, и новую научно-техническую терминологию. Что касается терминологии,
то заимствования шли прежде всего с латыни, бывшей международным языком
научных сообществ, но и не только - многое шло из немецкого, французского.
Многие первые русские термины - калька: арифметика с греческого арс6[лг^т
IZ7J, с латинского arithmetica. В начале XVIII в. это слово еще нуждалось в пере--
воде: «числительница» у Магницкого, «считальная наука» в учебнике артиллерии
Бринка, «счисление» у Татищева. В XVIII в. употребляется слово «цифирь», его ис-
точник — немецкое Ziffer, в рукописях XVII в. еще указывается иногда: «цифирь -
немецкое число». Это слово - бытовое и поначалу обозначало даже саму арифмети-
ку («цифирные школы»). В специальном математическом смысле — как знак числа —
«цифирь» появляется у Курганова в «Универсальной арифметике» 1757 г.29.
Мы приводим здесь только некоторые примеры, но уже на них можно проде-
монстрировать интересную закономерность культурологического свойства: когда
язык менее развитого народа обогащается новой лексикой, то в семантическом
смысле можно наблюдать в принимающем языке какое-то «падение» значения об-
ретаемых слов до архаичного или бытового уровня. Для того, чтобы новый термин
ассимилировался, он должен, с одной стороны, получить некое хотя бы квазирус-
ское звучание, иначе он просто не войдет в устную речь, не будет жить; с дру-
гой стороны, термин должен быть переведен так, чтобы в нем были указаны соот-
ветствующие реалии, но вот этих-то реалий в культурном опыте обучаемого народа
зачастую не оказывается. И тогда-то в принимающем языке происходит «падение»
семантики на более низкий уровень.
«На первых порах,— пишет Л. Л. Кутина,— очень распространенным способом
передачи иноязычных терминов был их буквальный перевод. Соответствия, полу-
ченные таким образом, жизнестойкостью не отличались и большей частью не усваи-
вались языком (ср. лоно - синус, лядвия — катет, шишка - конус, луч — радиус
костка- куб и т. п.)»30. Добавим, слово «рефлексия» в XVIII в. переводится как
«восклонение»! 31 Очевидно, что с таким калькированным словом нельзя построить
на русском языке высказывание о рефлексии с правильной референцией. Иными
словами, заговорить правильно на научные темы на таком славянском языке было
попросту невозможно32.
Приведем пример типичного падения семантики в системе принимающего рус-
ского языка: в 1708 г. выходит «Геометрия славенски землемерие». Это перевод
Я. Брюса с немецкого, автор учебника - австрийский математик XVII в. Пюркен-
штейн. Не правда ли, в XVIII в. понимание геометрии как славянского землемерия
выглядит милым архаизмом, воспоминанием о древнегреческой юности этой абст-
рактной математической науки?.. Во втором издании название «геометрия» уточ-
няется для русских читателей следующим образом: «Приемы циркуля и линейки»
(1709). Переводчик, видимо, полагал, что, взяв у Запада «полезное», т. е. в данном
случае - умение вычислять площади, он может не рассматривать теоретических
аспектов этой науки.
Здесь мы имеем косвенное свидетельство о том, что одним из наиболее трудных
для усвоения представлений было представление о научной теории. «Феоретик мо-
жет пременен быти ремесленнику, художествие разумеющу, а не действующу.
Инженеру же, добывающу крепости на бумаге, корабелщику же, в дому своем на
морской маппе с компасом щастливо в Америку ездящу»,— читаем в предисловии
Я. Брюса к «Приемам циркуля и линейки» 33. Сподвижники Петра торопятся, они
29 См.: Кутина Л. Л. Формирование языка русской науки. М.- Л., 1964; е-е
ж е. Формирование терминологии физики в России. М,— Л., 1966.
30 Кутина Л. Л. Формирование языка русской науки, с. 80.
31 См.; Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка
XVII-XIX веков. М., 1982, с. 168. Указанием на этот факт я обязана Н. Г. Алексееву.
32 Вероятно, этой основной и объективной причиной можно объяснить и полный
провал попытки двух преподавателей математики 80-х гг. XVIII в. избавиться от
латинизмов математического языка и заменить их словами славянскими или гре-
ческими.
33 Цит, по: Кутина Л. Л. Формирование языка русской наука, с. 11,
56
хотят брать на наук только нужное и полезное. Чистая теория — «основание, на
немже никогда строится. Яко великия медныя пушки и мартиры, который токмо в
цейхгаузе держатся, а в поле никогда возятся, и корабли, который в гавене гни-
ют» 34. Как говорится, «основания» пусть остаются на Западе, а если что не так,
то можно и в заграничную командировку съездить.
По сути дела, за этим взглядом открывается то, что наука воспринимается толь-
ко в совокупности внешних проявлений: «феория» в лучшем случае нужна как
основа для решения практических задач. Дм. Кантемир предостерегает: «Оскуде-
вающей феории, зело убогая бывает практика»35 *. Однако то обстоятельство, что
теория и есть суть науки и подлинная основа исследовательских традиций, было,
как видим, закрыто для понимания. Ее, как не очень нужную вещь (пока?), спод-
вижники Петра оставляли на Западе. России требовались: карты, описания земель,
сведения о флоре и фауне, различного рода математические измерения и вычисле-
ния, физические и химические опыты, которые можно употреблять «во благо» —
для дворцовых иллюминаций и фейерверков, например. Нужна была медицина и
исторические обзоры — прежде всего, чтобы иноземцам себя показать и славные
деяния русских царей запечатлеть. Сколько людей потребуется для этого? Мы
помним ответ Блюментроста: человек пять-шесть... десять! Нужны, правда, еще и
помощники. Кстати, поставленные практические задачи хороши еще и тем, что
можно хорошо контролировать их исполнение, не вникая в то, на чем базируется
возможность их решения.
Часто говорится об утилитарном понимании науки в летровское время. Верна
ли эта оценка?
Согласно Татищеву, науки делятся на: нужные, полезные, щегольские или уве-
селящие, любопытные или тщетные, вредительные. Примеры первых: речение,
экономика, медицина; вторых — письмо, красноречие, инородные языки, счисле-
ние - арифметика и геометрия (землемерие), механика (хитродвижность), геогра-
фия и история, анатомия, ботаника, физика и химия и т. п.; к щегольским наукам
относятся поэзия, музыка (скоморошество), танцевание, вольтижировка и т. д.;
науки любопытные и тщетные - астрология, физиогномия, алхимия, хиромантия.
Все виды волхвования относятся к вредным наукам. Можно ли всерьез назвать
подобные представления о науке утилитарными? Скорее это модернистская оценка.
Вообще вряд ли можно говорить об утилитаризме в обществе, где нет еще под-
линных предпринимателей — в начале петровской эпохи появились скорее ловка-
чи, а не предпринимателизв. Речь идет скорее о заимствовании внешне ярких
черт традиции, подлинная основа которой трудно эксплицируется и транслируется.
Каким же образом произошло так, что некоторые русские люди (вернее, люди
России) сравнительно быстро овладели основными разделами современного им есте-
ствознания и начали не только преподавать, но и вести самостоятельные исследо-
вания, развивать науки? Путь в естествознание лежал через овладение европей-
скими языками. Большинство выдающихся русских ученых XVIII в. были, по
сути дела, двуязычными. Обучение иностранным языкам проводилось, можно ска-
зать, жестоко. Вот как обстояло дело, например, в Горном корпусе. «Даже в дор-
туары воспитанников разных классов помещали с таким лишь расчетом, чтобы в
одной спальне жили учащиеся, хорошо знающие иностранные языки - прибалтий-
ские немцы, французы — или обучавшиеся языкам еще до поступления в учили-
ще. Воспитанники должны были разговаривать между собой один день по-немецки,
другой день по-французски. За нарушение этого правила и разговор только на рус-
ском языке полагался штраф. При этом в корпусе, как и в других закрытых учеб-
ных заведениях, была тщательно разработана система штрафов и слежки. Это
была своего рода языковая мучительная муштра. Вместе с тем окончившие корпус
горные инженеры прекрасно владели многими языками»37. Именно это, подчерки-
34 Там ж е, с. 11-12.
35 Там же, с. 12.
38 Так, например, невероятное для современников богатство А. Д. Меншикова
было плодом стяжательства, а не деловитости. И это характеризует эпоху больше,
чем личность. См.: Павленко Н. И. Александр Данилович Меншиков. М., 1984.
37 Р а д к е в и ч Е. А. Дмитрий Иванович Соколов. М., 1969, с. 15.
57
зает автор научной биографии выдающегося русского геолога Д. И. Соколова, позво-
лило сыну простого слесаря стать одним из эрудированнейших педагогов и теорети-
ков геологической науки своего времени.
Оценка социальной роли «ученого человека»
Итак, указ Петра I был выполнен: наука «привезена», ученые приглашены,
Академия создана. И все же сформировать себя в качестве естествоиспытателя
для русского человека, живущего в традиционной культурной среде, оставалось
задачей чрезвычайной сложности. Уже Герцен указывает на отсутствпе нормаль-
ной преемственности в развитии личности, па отсутствие образцов для подража-
ния. Сравнивая траекторию своего личного развития с траекторией известного
естествоиспытателя Карла Фогта, он пишет: «Воспитание его шло так же правиль-
но, как мое - бессистемно: ни семейная связь, ни теоретический рост никогда не
обрывались у него, он продолжал традицию семьи. Отец стоял возле примером и
помощником; глядя на него, он стал заниматься естественными науками. У нас
обыкновенно поколение с поколением расчленено; общей, нравственной связи у
нас нет. Я с ранних лет должен был бороться с воззрением всего окружавшего
меня, я делал оппозицию в детской, потому что старшие наши, наши деды были
не Фоллены, а помещики и сенаторы...» 38.
А какова была российская судьба зрелых мужей науки - академиков-ино-
странцев, специально приглашенных на службу в Санкт-Петербург? Бросается в
глаза, что государственная администрация XVIII в. постоянно обнаруживала глу-
бочайшее непонимание смысла и назначения Академии, этого западноевропейского
института, созданного по желанию императора-самодержца. Так, например,
правительственный документ 1747 г. «Регламент и штаты Академии паук и худо-
жеств» указывает, что рабочие часы академиков должны быть строго учтены,
а нарушители регламента - наказаны Канцелярией. В дальнейшем было предпи-
сано посещать заседания Академии трижды в неделю, что тщательно регистриро-
валось, за нарушение - штраф в размере месячного оклада. Во время заседаний
академикам запрещалось читать научные журпалы, поскольку в это время пола-
галось слушать произносимые доклады. «Ибо примечено,- говорилось в по-
становлении Канцелярии 1749 г.,— что вместо того, чтоб они слушали читаемую
диссертацию, забавлялись чтением ведомостей»39 *. Регламент 1747 г. указывает и
на то, чтобы ученые люди «не разбрасывались» в своих занятиях (что им, конеч-
но, свойственно) - так, пупкт 16 гласит: «Академик всякой должен в том только
трудиться для общества, что к его науке принадлежит, так как, например, бота-
ник не должен вступаться в математические дела, анатомик в астрономические
и прочая» 4°.
Часто научная информация объявлялась секретной. Так почти постоянно про-
исходило с материалами географических экспедиций. Привезенные материалы от-
бирались, причем, как правило, в оскорбительной для героя-путешественника
форме.
В 1720 г. Петром была отправлена экспедиция в Сибпрь под руководством
Д. Мессершмидта. Как пишет П. Пекарский, удивительно не то, что царь мог дать
столько заданий одному человеку, сколько то, что нашелся человек, который со-
гласился все это исполнить. Царь повелел привезти новые географические карты
и исправить прежние, указать известные маршруты и разведать новые, собрать
гербарий и коллекцию чучел животных, провести этнографические наблюдения
и т. п. Мессершмидт исполнил все возложенное на него контрактом, и притом
с самою мелочною точностью. Весной 1727 г. путешественник вернулся в столицу.
Привезенные материалы были отобраны, и создана комиссия для их осмотра. По-
скольку академики высказались весьма положительно о привезенном, то было
принято решение засекретить всю поступившую информацию. От путешествепни-
38 Г е р ц е н А. И. Собр. соч. в 30 тп томах, т. X. М., 1956, с. 170.
39 Цит. по: Пекарский П. П. История императорской Академии наук в Петер-
бурге, т. 2. СПб., 1873, с. XLIV--XLV.
'-° Цит. по: «История Академии паук СССР», т. 1. с. 440.
58
ка потребовали клятву с присягою, чтобы он не публиковал ничего пз собранных
сведений Аналогичная история произошла с русским путешественником В. Зуе-
вым в 1783 г. По повелению княгини Е. Р. Дашковой он должен был сдать в
Академию собранные коллекции, географические карты, рисунки, свои личные
дневники и другие бумаги, относящиеся к экспедиции. Его биограф пишет: «Путе-
шественник проделал тысячеверстный путь на лошадях, не имея достаточно
средств, чтобы оплачивать дорогу. Занимаясь научной работой, он должен был
тратить время и энергию, чтобы достать денег для экспедиции. Ценою больших
усилий и, вероятно, немалой доли унижения ему удалось раздобыть на дорожные
расходы свыше 1300 руб., в то время как Академия отпустила на этот предмет
всего 300 руб, и т. д. Ему надо было сохранить мужество и волю к труду, в то
время как Академия фактически бросила экспедицию на произвол судьбы. Он по-
тратил на путешествие все свои личные деньги для того, чтобы по возвращении
получить... вычет из жалования»41 42.
Уже в XIX в. Карл Риттер откровенно негодует по поводу неукоснительно вы-
полняемого в России правила засекречивать географическую информацию: «В то
время как в других странах и при морских путешествиях каждая малейшая ска-
ла как новое открытие определяется астрономически и вносится в сокровищницу
науки как приобретение для будущих веков, здесь, посреди азиатского материка,
в странах, превосходящих величайшие европейские королевства, погибают важней-
шие открытия, увеличивая тем самым неведение о прошедшем и умножая труд-
ности и заблуждения в будущем» 43.
Политическая ситуация в России XVIII в. была неровной, и это сильно ска-
залось на самочувствии академиков-иностранцев. Общественное мнение колебалось
и не оказывало ровной, постоянной поддержки ученым. В 1740 г. атмосфера вокруг
Академии сложилась столь тяжелая, что Леонард Эйлер счел за благо покинуть
Россию. В своей автобиографии он пишет скупо: «После смерти Великой Императ-
рицы Анны, в течение последующего за этим регентства, условия для работы на-
чали портиться». А. Вусинич, ссылаясь на письма Эйлера, говорит о причинах
отъезда следующее: «Возможно, более важную причину он имплицитно высказал
в краткой беседе с королевой-матерью Пруссии. Вскоре после прибытия в Бер-
лин, Эйлер был приглашен к этой царской особе, которая приняла его так, будто
он был принц, и обратилась к нему с расспросами в самой дружеской манере.
Эйлер, проявив исключительную сдержанность и осторожность, отвечал на все ее
вопросы как можно более кратко и больше молчал. Пораженная королева спроси-
ла, чем объяснить его неожиданную робость. «Мадам,-- ответил оп,- я только что
прибыл из страны, где людей вешают, если они разговаривают»44.
В таких условиях ученые стремились внушить правительственной администра-
ции некоторые особо важные для них представления: так, Хр. Гольдбах, вероятно,
серьезно трудился над проектом печати Академии — гравюра изображала богиню
мудрости Минерву на щите, наложенном на двуглавого орла. Над щитом надпись:
«Hie tuta perennat» (здесь опа в безопасности на долгие годы).
Впрочем, правители России часто находили ученым занятия более важные,
чем «приращение знаний». Конференц-секретарь Академии, видный математик
XVIII в. стал наставником будущего императора Петра II. Так пожелали императ-
рица Екатерина I и А. Д. Меншиков. Впрочем, занятия науками быстро надоели
молодому царю: сначала юношу отвлекали развлечения и охота, а после падения
Меншикова занятия были прекращены. Теперь Гольдбах в основном сопровождал
Петра II на охоте.
В 1741 г., когда Эйлер покинул Россию, Гольдбах принял предложение перейти
на работу в коллегию Иностранных дел. Сходна в этом отношении и судьба вы-
дающегося физика Эпинуса. В историю естествознания он вошел как крупнейший
в XVIII в. исследователь электричества и магнетизма. Императрица Российская
41 «Материалы для истории Императорской Академии паук», т. 1, с. 296, с. 348.
179 Т80ЙКОВ Б Е Академик Василий Зуев. Его жизнь и труды. М.~ Л., 1955
43 Риттер Карл. Землеведение. СПб., 1860, с. 432.
44 V и с i n i с h A. Science in Russian culture. 1963, К. Y., p. 96.
59
Екатерина II «рассудила за благо употреблять его при учении наследника престола
Павла». В 1771 г. Эпинус буквально принял эстафету из рук Гольдбаха - сменил
его в коллегии Иностранных дел. Эпинус стал тайным советником, начальником
шифровального отдела, вплоть до выхода в отставку незадолго до кончины.
По сути дела, социальная роль ученого-естествопспытателя в России XVIII в.
была гораздо менее существенной по сравнению с другими возможными социаль-
ными ролями, которые и предлагалось исполнять людям с выдающимися интел-
лектуальными способностями. «Конкурентом» чисто научно-исследовательской дея-
тельности была прежде всего преподавательская. Преподавательские нагрузки рос-
сийских академиков всегда были велики. Это соответствовало исходным идеям
Петра, но на самом деле здесь был скрыт и «подводный камень», тормозящий
концентрацию сил, необходимых для интенсификации собственно научных занятий.
Хотя наука была привезена по императорскому указу и носители профессио-
нальных научных умений приглашены на государственную службу, но русское об-
щество и его правительство как бы постоянно «упраздняли» эти занятия - за не-
надобностью, не находили им устойчивого применения, постоянно сомневались в
пользе такого учреждения, как Академия, и в целесообразности затрачиваемых
государственной казной средств. Будучи Президентом Академии, граф К. Г. Разу-
мовский писал в своем заключении Сенату, что он «убедился в нерадении неко-
торых академиков в науке и в преследовании ими только своекорыстных интере-
сов». Что яге касается заявления некоторых академиков, что «науки не терпят
принуждения, но любят свободу», то, по мнению Разумовского, под этими словами
скрывается не что другое, как «желание получать побольше денег, но поменьше ра-
ботать» 45. Личная инициатива ученых и многих любителей, их предприимчивость
не находили общественной поддержки. Весьма безрадостной стороной русских
обычаев была невозможность сохранить достигнутое, поддержать традицию, после
того как ее зачинатель покидал земной мир. Так, бесследно исчез уникальный
Ботанический сад П. П. Демидова в Москве (им восхищался Паллас); бесследно,
будто не было, исчезла домашняя химическая лаборатория М. В. Ломоносова.
«Очень печально, что потомки не сумели сохранить до нашего времени ни хими-
ческой лаборатории, ни дома на Мойке, ни завода в Усть-Рудицах, ни многочис-
ленных приборов, изготовленных собственноручно М. В. Ломоносовым или его по-
мощниками и мастерами»46,— писал академик С. И. Вавилов. «К несчастью,
на родине физико-химическое наследие М. В. Ломоносова было погребено в не-
читавшихся книгах, в ненапечатанных рукописях, в оставленных и разобранных
лабораториях. Многочисленные остроумные приборы М. В. Ломоносова не только
не производились, их не потрудились даже сохранить» 47.
Аксиологические факторы формирования
национального научного сообщества
Вероятно, самое главное при перенесении научной традиции на конкретную
национальную, почву — это создание научного сообщества. Естественно, что там,
где наука возникала имманентно, появление научного сообщества также основной
момент, конституирующий рождение нового культурного феномена. В ситуациях
«импорта» научное сообщество приходится формировать целенаправленно.
Однако это не просто. Внешне дело выглядит так, что собирается группа лю-
дей, объединенных профессиональными умениями, и коллегиально обсуждает раз-
личные вопросы, представляющие, как говорится, взаимный научный интерес.
Вероятно, именно такое впечатление вынес Шумахер из своей заграничной коман-
дировки, наблюдая за работой Лондонского Королевского общества и Парижской
Академии. Что стоит за этой внешней формой, раскрывалось лишь постепенно.
Согласно Положению 1724 г., «Академия ничто иное есть, токмо социетет (со-
брание) персон, которые для произведения наук друг друга вспомогать имеют...» 48.
45 Цит. по: «История Академии наук СССР», т. 1, с. 157.
46 См. «Люди русской науки», кн. 1-я. М., 1961, с. 16.
47 Т а м ж е, с. 24.
48 «История Академии наук СССР», т. 1, с. 431.
60
Суть, правда, в том, что «вспоможение» друг другу росчерком императорского пера
превратилось в обязанность членов Академии («Должность академиков, § 3»).
Вообще при сравнительном анализе бросается в глаза следующее: Устав Лон-
донского Королевского общества, подготовленный Гуком (1663 г.),— это манифест
свободно собравшихся и естественно объединивших свои усилия исследователей
природы. Это экспликация, формулирование, осознание специфического научного
метода, задач, целей научного сообщества, это волеизъявление реально действую-
щих лиц. Так, функции собраний в Уставе Общества определены следующим об-
разом: «Дело Общества иа его ординарных собраниях — намечать, разбирать, рас-
сматривать и обсуждать философские опыты и наблюдения, читать, заслушивать и
обсуждать письма, сообщения и другие документы, содержащие философские мате-
рии; рассматривать и обсуждать редкости природы и искусства, размышлять о том,
что можно из всего этого вывести и дальше развивать для пользы или открытий».
Об экспериментах, проводимых Обществом, сказано так: опыты служат «для откры-
тия какой-нибудь истины или аксиомы природы или для пользы и благоденствия
человечества» 49. В Санкт-Петербургской Академии мы видим «Положение» в качест-
ве декрета или указа императора. «Регламент», предписывающий академикам, что
делать должно, указание на их обязанности. Но предписать «объединиться» и «по-
могать друг другу» нельзя, как, впрочем, и многое другое.
В середине XVIII столетия естественные, доброжелательные отношения уче-
ных - членов Академии между собой испортились предельно. Это была эпоха скан-
далов, жалоб, обид.
Даже научные споры тех времен скорее походили на распри. М. В. Ломоносов
находится в борьбе с Г. Миллером. С. Я. Румовский отвергает проект географиче-
ской экспедиции, предложенной Ломоносовым (1760), резко протестует против Юж-
ной экспедиции под руководством В. Зуева (1781).
Престиж Санкт-Петербургской Академии к 60-м годам XVIII в. сильно упал.
В 1760 г. Ломоносов указывает, что иностранцы отныне не хотят поступать в ака-
демическую службу, в то время как раньше делали это охотнее50 51.
Вполне справедлива характеристика Санкт-Петербургской Академии второй по-
ловины XVIII в., данная А. Вусиничем. «По сути дела,—пишет он,—Академия
может быть отождествлена с рядом независимых, отдельных ученых» 5*.
Конечно, были исключения. Ученики Эйлера — это первая научная школа на
русской почве, давшая свои лучшие плоды уже в XIX в., когда появилась целая
плеяда очень талантливых, оригинально мыслящих математиков. Другая группа
людей, волей или неволей объединенных чувством взаимопомощи и взаимовыруч-
ки,— это участники сибирских и других экспедиций. Совместно перенесенные тя-
готы и лишения в этих трудных предприятиях сплачивали людей, и среди жалоб-
щиков и конфликтующих было меньше всего натуралистов, которые в то же вре-
мя обеспечили наибольший поток научных публикаций.
Казалось бы, совместные заседания были той организационной формой, кото-
рая давала возможность знать друг друга, сплачиваться, что-то обсуждать, прово-
дить эксперименты, заниматься критикой и т. п. Однако сам по себе ритуал про-
ведения коллегиальных заседаний Академии скрывал в себе «подводные камни».
Как мы помним, Шумахер, да и другие руководители Академии, исходили преж-
де всего из наблюдений за работой Лондонского общества. О том, в какой обста-
новке проходили собрания Лондонского общества, сохранилось воспоминание Сорбье-
ра, историографа Людовика XIV и секретаря кружка Монмора, опубликованное им
после его поездки в Лондон в 1663 г. Сорбьер описывает большую комнату с длин-
ным столом перед камином. За столом сидят президент и секретарь и еще стоит
несколько незанятых стульев, «очевидно, для высокопоставленных посетителей или
для тех, кому надо по какому-нибудь поводу подойти ближе к президенту. Все
остальные академики занимают любые места без различий и без церемоний, и, если
кто-нибудь пришел, когда собрание уже началось, никто пе подвигается. Президент
мельком приветствует пришедшего, и он быстро занимает место, где может, чтобы
49 Цит. по: Копелевич Ю. X. Возникновение научных академий, с. 52.
59 См. «История Академии наук СССР», т. 1, с. 176.
51 V и с i n i с h A. Science in Russian culture, p. 156.
51
не метать тому, кто говорит». Все говорят открыто, кратко, никого не прерывают,
разногласия не переходят в пререкания. Бывает, что когда один говорит, другие
высказывают какие-то суждения друг другу на ухо, но они тотчас умолкают по
малейшему знаку президента. Можно привести свидетельство еще одного француза,
Монкони, который побывал в Англии в том же 1663 г. и несколько раз посетил
собрания Общества. Там, ^ишет он, «собираются по средам, чтобы делать беско-
нечное количество опытов, о которых еще не углубляются в рассуждения, а только
докладывают о них, что знают, и секретарь записывает... Секретарь записывает
результаты, независимо от того, удался ли опыт, или пет, ибо это тоже ценно —
освободиться от заблуждений, исходящих из ошибочных предпосылок, это так же
ценно, как извлечь пользу из правильных» 5Z.
Как видим, обстановка деловая, все по возможности просто, экономно, демо-
кратично. Регламент Сапкт-Петербургской Академии, напротив, указывает: «Во вся-
кое заседание президент имеет свое заседание в первом месте стола, а прочие
академики по сторонам по старшинству их вступления на службу» (пункт 30) 52 53.
«Никто не может быть введен в обыкновенное академическое Собрание из посто-
ронних людей, разве через самого президента или по его приказу через секретаря;
следовательно, и тот, кто бы имел какую вещь, рассуждения академического до-
стойную, представить» (пункт 28)54.
Могли ли, действительно, российские академики подражать западным образцам?
Общество в Лондоне имело в качестве покровителя короля, почему и назы-
валось «королевским». «Протектором» Санкт-Петербургской Академии выступал лич-
но Петр I, явно копируя здесь лондонские стандарты. Екатерина I приняла эста-
фету «покровительства» пауке: принимала академиков во дворце, выслушивала их
речи. 1 августа 1726 г. сама с дочерьми присутствовала в публичном собрании
Академии. Эти публичные мероприятия, ставшие в дальнейшем регулярными, долж-
ны были способствовать росту престижа научной деятельности, продемонстриро-
вать явное благоволение царской семьи к этим занятиям и т. п. Но сколь хло-
потны они оказались на самом деле для их устроителей!.. Архив Академической
канцелярии сохранил следы этих хлопот: рапорты о приобретении под расписку,
в долг балдахина, кресел, занавесей.
В присутствии членов императорской семьи, восседающих под балдахином,
в бархатных креслах и т. и., в присутствии членов Синода и генералитета, вероят-
но, не до тонкостей эмпирического анализа явлений природы — как бы лишнего не
сказать! В публичных докладах академиков явно усиливается риторическая часть,
растут напыщенность и цветистость речи.
Что могут дать сведения об этих земных, житейских аспектах академических
собраний? В своих социологических исследованиях Р. Мертон показал, что стрем-
ление к признанию именно компетентными коллегами — главный и важнейший сти-
мул личных усилий настоящего ученого. Эта мотивация — один из важнейших
показателей «научного этоса»; она. объединяет усилия интеллектуалов, естествен-
но, без внешнего принуждения поддерживает единство научного сообщества. Ничего
подобного не видим мы на первых порах в Санкт-Петербургской Академии XVIII в.
Кстати, «Положение» Петра I и «Регламент» 1747 г. предписывают иметь не
более 10 академиков, и все фактически по разным специальностям. С формаль-
ной стороны, появление коллег «по цеху» даже не предусматривалось. В таких
условиях компетентные оценки деятельности друг друга почти не могут появиться.
В известном смысле именно это обстоятельство делало объективно возможной
беспрецедентно склочную атмосферу Академии середины XVIII столетия. Не толь-
ко администрация — академиков, но и академики с жаром обвиняли друг друга в
«нерадении», «невежестве» и т. п.
По ходу дела обратим внимание на количественный состав Лондонского Ко-
ролевского общества- в момент его создания среди основателей -12 человек
(1660 г.). В 1663 г. число членов Общества -115, в 70-е г,-225, а затем падает
52 К о п е л е в и ч Ю. X. Возникновение научных академий, с. 58—59.
53 Цит. но: «История Академии наук СССР», т. 1, с. 442.
54 Т а м ж е, с. 442.
62
вновь до 115—116 чел. Количество участников решено было не ограничивать, хотя
поначалу такая идея была ”.
Хотелось бы подчеркнуть, что трудности формирования научного сообщества,
усвоение подлинных ценностей научного познания и системы ориентаций, без ко-
торых невозможна научно-исследовательская традиция, отнюдь не вызваны только
косностью, невежеством правящей верхушки Росспп. Все гораздо сложнее.
«Побороть невежество» - красная нить многих публичных речей, од и науч-
ных публикаций того времени. Но идеалы Просвещения п идеалы поиска Исти-
ны - это разные идеалы. В сознании человека пауки того времени в России они
оказались опасно сближены.
И даже более того. Можно сказать, что идеалы Просвещения для интеллиген-
ции с естественнонаучным образованием долгое время ставились намного выше
идеалов «чистого познания». И это пе исходило «сверху», а было глубоко укоре-
нившимся убеждением, почти на уровне предрассудка. Об этом свидетельствует,
например, яркая, произнесенная с неподдельным пафосом и по всем правилам
риторического искусства публичная речь М. А. Максимовича на собрании по слу-
чаю юбилея Московского университета (1830 г.). «Академия, состоявшая наиболее
пз ученых иностранцев,- говорит М. А. Максимович,— могла содействовать одной
цели и была действительно полезна для наук: она в состоянии была образовать
несколько ученых людей; но не могла действовать непосредственно на распростра-
нение просвещения в России. Призванные чужеземцы более любили науки свои,
чем Россию; более лестно было для них обогатить свою науку сведениями о ве-
ликой и неизвестной еще стране, чем распространять науку в сей невозделанной
и для них чуждой земле; притом онп пе знали языка нашего и наших потреб-
ностей» ”.
Есть какая-то внутренняя аналогия между остроумно пренебрежительным от-
ношением Я. Брюса к «феории» начала XVIII в. и этим пренебрежительным за-
мечанием Максимовича: «призванные чужеземцы более любили науки свои, чем
Россию». Якоб Брюс, как мы говорили, уподоблял «феоретика» инженеру, добываю-
щему крепости на бумаге, или капитану, который в доме своем благополучно со-
вершает путешествие в Америку. Чистая теория - как корабль, который в гавани
гниет... Подобно тому, как сподвижники Петра в начале XVIII в. торопятся дей-
ствовать, теорию оставляют «на потом», так и Максимович уверен: для России
идеалы просвещения выше и важнее идеалов чистого познания, стремление к ис-
тине можно оставить «на потом». Эта ориентация и эта оценка представляли внут-
ренний регулятив научного сообщества того времени.
Уже в 50-60-е гг. XIX в. на страницах газет и журналов прошла активная
«аптиакадемическая кампания». Дискуссии шли о проекте нового Устава Акаде-
мии. В фокусе общественной критики, точнее, под обстрелом демократически на-
строенных публицистов было прежде всего развитие науки в отрыве от практики
и жизни. Вновь поднимался вопрос (как у Максимовича) о приоритетной роли
университетов в деле просвещения. Весной 1865 г. атака журналистов была осо-
бенно сильной. «В апрельском номере «Современника» указывалось, что в настоя-
щий момент главным недостатком Академии являются занятия ее ученых преиму-
щественно «наукой для науки». Только тогда Академия принесет пользу Отечеству,
когда, прекратив издавать трактаты о различных научных мелочах, она начнет
знакомить Россию с новейшим состоянием наук, имея в виду потребности общества.
В газете «Русский инвалид» обращалось особое внимание на проведенную через
весь проект устава мысль о превосходстве Академии над университетами. В связи
с этим высказывалось предложение пересмотреть проект с целью придать Акаде-
мии новое направление, «болеа близкое к интересам русского просвещения»55 56 57.
Кант в своей известной статье определял состояние просвещения как умение
пользоваться своим собственным умом, без опоры на авторитеты и мнения. Но не
55 См.: Копелевпч Ю. X. Возникновение научных академий, с. 44, 50, 59.
56 М а к с и м о в и ч М. А. Об участии Московского университета в Просвещении
России. М.. 1830, с. 5—6.
57 Соболева Е. В. Организация науки в пореформенной России. Л., 1983,
с. 86.
63
с этим мы сталкиваемся в России того времени. «Просвещенный» в вышеуказан-
ном российском смысле слова герой рассказа Чехова («В усадьбе») гордо заявляет:
«Я — неисправимый дарвинист!» Перед нами — последователь идей, адепт, прозе-
лит... Как не вспомнить здесь горький афоризм П. Я. Чаадаева: «Вы претендуете
на звание представителей идей; постарайтесь иметь идеи, это будет лучше!»58.
* *
*
Подведем итоги. Понимание науки как своеобразной социокультурной тради-
ции позволяет с самого начала учесть ту роль, которую сложившиеся аксиологи-
ческие условия играют для самой возможности существования феномена науки в
той или иной культуре.
Князь Д. Голицын, который в середине XVIII в. объяснял императрице, что
развитие наук невозможно в условиях крепостничества, был пророчески прав: быст-
рых темпов развития и подлинно триумфальных успехов русская наука достигла
только после Реформы 1861 г. Русская наука вступила тогда в период количест-
венного и качественного роста. Медленно, но менялись и ценностные установки
научного сообщества, отношение к «чистой науке», к истине, к теории. Когда в
1880 г. скончался один из замечательных химиков, основатель научной школы в
Казани, Н. Н. Зинин, над его могилой студент-естественник произнес такую речь:
«Как он посвятил себя, свою жизнь, отысканию истины, посвятил ей и идеалам
чистой науки, посвятим ей нашу жизнь, веруя, что раз мы проникаемся духом и
идеалами чистой науки, для нас сделаются ясными и достижимыми и другие выс-
шие жизненные идеалы...»59. «Пусть же навсегда, постоянно разрастаясь, сохра-
нится между русскими учеными тот дух бескорыстной и глубокой любви к зна-
нию, который был его характерной чертой»в0,- писали в память о своем учителе
А. М. Бутлеров и А. П. Бородин.
Аксиологическое пространство российской культуры XVIII в. было не готово
принять и «укоренить» традиции профессионального естественнонаучного исследо-
вания природы. Происходили постоянные «сдвиги» целеполагания и исходных цен-
ностных ориентаций формирующегося научного сообщества. Однако наука сама по
себе обладает огромным импульсом культурного творчества. Будучи «пересажена»
в Россию, наука потребовала расширения культурного контекста для своего разви-
тия, от чего в конечном счете выиграла вся общественная жизнь, как бы мало ни
задумывались люди о причинах ее обновления.
Необходимо осознать эту взаимную связь науки и национальной культуры,
выработать представления о необходимом и должном фоне гражданских свобод,
духовных горизонтов, уважения к профессии ученого, которые в истоке питают
самые дерзкие усилия познающего мышления.
58 Ч а а д а е в П. Я. Статьи и письма. М., 1987, с. 199.
59 Глинка С. Ф. Личные воспоминания о Н. Н. Зинине. В кн.: Фигуров-
ский Н. А., Соловьев Ю. И., Н. Н. Зинин. Биографический очерк. М., 1957,
80 Цит. по: Б у т л е р о в А. М. Соч., т. 3. М., 1958, с. 115.
ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ
О социально-классовой природе
сталинской власти
А. П. БУТЕНКО
Сегодня вряд ли кто будет отрицать, что критика культа И. Сталина, анализ
ошибок и преступлений того времени ведется после XXVII съезда КПСС гораздо
более решительно и последовательно, чем во время XX и XXII съездов партии.
И это качественное отличие заключается не только в том, что содеянное во вре-
мена культа личности связывается теперь с ответственностью не одного Сталина,
но и его окружения. Особенно знаменательно то, что теперь во весь рост постав-
лен весьма важный принципиальный вопрос об оценке режима личной власти,
при которой стали возможными преступления, совершенные Сталиным и тогдашним
руководством *.
Само наличие в той или иной стране режима личной власти — свидетельство
того, что политическая власть, чьи бы интересы она ни выражала, осуществляет
эти интересы посредством власти одного человека, присваивающего, узурпирующего
властные функции представляемых им социально-классовых сил. Как же такое
могло случиться в стране, совершившей в Октябре 1917 г. социалистическую рево-
люцию и утвердившей диктатуру пролетариата, власть трудящихся в форме Со-
ветов?
Конечно, сам автор не тешит себя иллюзией, будто ему в одиночку удастся
не только поставить, но и до конца решить эти сложные вопросы. Главная задача
статьи в том, чтобы поразмышлять над проблемой, усилить к ней общественный
интерес, уяснить себе и другим, почему сегодня нельзя считать, как это делалось
еще недавно, будто Советы, утвердившиеся при В. И. Ленине в Октябре 1917 г.
в качестве государственной формы диктатуры пролетариата, и под катком сталин-
ского деспотизма остались неизменными по своей социально-классовой природе.
Чтобы лучше разобраться во всем этом и учесть уже имеющиеся трактовки
вопросов, есть смысл сосредоточить внимание на трех проблемах: 1) узурпация
власти и ее развитие в советском обществе; 2) социально-классовая природа деспо-
тической власти И. Сталина; 3) некоторые последствия сталинского господства.
1. Узурпация власти и ее развитие в советском обществе
Обыденное сознание, чуждое теоретическому осмыслению происходящего, легко
повторяет, не задумываясь, фразы и призывы, действительный смысл которых да-
леко не прост. Уже обращалось внимание на то, что лозунг «Больше социализма!»
свидетельствует по крайней мере о его дефиците в обществе. Не менее емок также
широко применяемый в последнее время призыв перестройки — «Устранить отчуж-
дение трудящегося человека от собственности и власти!»1 2
1 См. «Истина против клеветы».-- «Правда», 19.08.1988.
2 См. «Правда», 26.07.1988.
65
Что же произошло с социально-классовой природой Советской власти после
смерти В. И. Ленина, кто и как осуществил здесь «отчуждение трудящегося чело-
века от собственности и власти»?
По моему мнению, можно утверждать, а главное - доказать, что в Советском
Союзе к середине 30-х годов И. Сталин и его окружение завершили узурпацию
власти рабочего класса, утвердили безраздельное господство партийно-государствен-
ной бюрократии, в результате чего и стало реальностью экономическое и полити-
ческое отчуждение трудящихся. Это произошло не в один день и не без борьбы.
Но прежде чем перейти к историческим событиям, выясним, что такое узурпация
классового господства, где она встречается и в чем состоит.
В отличие от многих современных политологов и историков, готовых биться об
заклад, что такое осуществление политической власти — редкое историческое явле-
ние, К. Маркс считал узурпацию классового господства в известной мере естест-
венным спутником разделения труда в осуществлении общественных функций, по-
рождением государственно-политических форм общественной жизни. Он утверждал,
что только с уничтожением постоянной армии, ликвидацией органов насилия, даю-
щих дополнительные средства в руки власть имущих, можно будет устранить
«постоянную опасность правительственной узурпации классового господства -
в форме обыкновенного классового господства или же в форме господства какого-
нибудь авантюриста, выдающего себя за спасителя всех классов» 3.
Для наших современников, всегда мало интересовавшихся механизмом осу-
ществления политической власти,- и в этом нет ничего удивительного, поскольку
данная тема долгие годы была запретной,- не очень понятно Марксово разграниче-
ние форм правительственной узурпации классового господства на две - форму
«обыкновенного классового господства» и «форму господства какого-нибудь авантю-
риста, выдающего себя за спасителя всех классов».
На самом же деле здесь нет ничего странного: говоря о классовом господстве,
еще М. Бакунин писал о том, что «весь класс не может усесться в правительст-
венное кресло», а следовательно, всегда, где есть политическая власть с органами
насилия и принуждения, где от имени господствующего класса и не вполне адек-
ватно его интересам вершится правительственная власть,— это всегда есть власть,
взятая у всего класса и осуществляемая только частью класса, в этом смысле
узурпированная, даже если речь идет об осуществлении основных интересов дан-
ного класса. Именно в таком своем виде она и представляет собой форму «обык-
новенного классового господства». Многообразием таких форм сегодня, как и
раньше, полна общественная жизнь. Скажем, когда правительство того или иного
современного буржуазного государства осуществляет антитрестовские меры, ущем-
ляющие интересы части господствующего класса во имя его общих интересов, то,
конечно же, для ущемленных фракций правящего класса такое правительство вы-
ступает не иначе, как узурпатор классового господства, и в этом есть доля исти-
ны, ибо при «узурпации власти» важно не только то, что властные функции дан-
ной фракции правящего класса отторгнуты, отчуждены от нее, но и то, что эти
функции осуществляются вразрез с ее непосредственными интересами.
Гораздо сложнее, когда появляется какой-нибудь «авантюрист, выдающий себя
за спасителя всех классов». Здесь речь идет уже не о «форме обыкновенного клас-
сового господства». В этом случае классовое господство, отнятое уже у всего класса
и сосредоточенное в руках такого авантюриста, выступает чаще всего как бона-
партизм с его игрой на классовых противоречиях и способностью становиться не
только над отдельными фракциями класса, но и над самими классами.
Такова суть трактовки этой проблемы К. Марксом. Возникает вопрос: можно
ли применить рассуждения К. Маркса о «постоянной опасности правительственной
узурпации классового господства» к советскому обществу для разъяснения возник-
новения и характера деспотической власти И. Сталина? Я считал и считаю, что
не только можно, но и нужно, ибо такой подход позволяет с марксистских пози-
ций анализиров ть сложные процессы социалистического строительства, уяснить
3 М а р к с К. и Энгель с Ф. Соч., т. 17, с. 548—54Э.
66
то, что происходило в политической системе советского общества в 20-30-е годы
и позже.
Процесс формирования сталинской политической системы с ее режимом лич-
ной власти представляется следующим. Уже в самом пачале своей деятельности в
качестве генерального секретаря, т. о. еще при жизни В. И. Ленина, Сталин, стре-
мясь к своему господству путем изменения должностных функций и расстановки
лично преданных ему кадров, стал сосредоточивать в своих руках все большую
власть, что было замечено уже Лениным, который 24 декабря 1922 г. записал:
«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть,
и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой
властью» 4.
Смерть В. И. Ленина и ХШ съезд партии, оставивший И. Сталина на посту
генсека вопреки совету Ленина, создавали исключительные возможности для осу-
ществления им узурпаторских целей. Главпым препятствием на пути реализации
честолюбивых замыслов И. Сталина была ленинская партия, против которой он
и направил свои усилия в первую очередь, ревизуя ленинизм и переделывая ле-
нинскую партию в сталинскую. Под видом выполнения ленинского завета об ук-
реплении единства партии, а на самом деле подрывая демократические основы
внутрипартийной жизни, И. Сталин перенес па ленинскую партию, на внутрипар-
тийные отношения, на идейно-теоретические споры о путях социалистического
строительства принципы и нормы классовой борьбы; тем самым он превратил дис-
куссии вчерашних единомышленников в расхождения возглавляемой им партии с
политической оппозицией со всеми последствиями такой квалификации, если
учитывать запрещение в партии фракционной борьбы. Такой подход, весьма важ-
ный для И. Сталина, для его личных амбиций и политической расправы с несо-
гласными с ним, не имел ничего общего с ленинским подходом: ведь В. И. Ленин
не только спорил со своими теоретическими оппонентами, но и сотрудничал с ними
в практическом строительстве нового общества, не только не подвергал их полити-
ческому остракизму, но и заботился об отражении всего многообразия подходов и
мнений в руководящих органах партии. Более того, В. И. Ленин писал, что нельзя
допускать каких-либо репрессий против товарищей за то, что они являются инако-
мыслящими 5. И. Сталин же, действуя антиленивскими методами, обеспечивал та-
ким путем господство себе и лично преданному ему окружению в ядре политиче-
ской системы общества — в правящей партии.
Утверждая свою единоличную власть, он подверг антидемократической, а поз-
же и антисоциалистической перестройке всю политическую систему страны.
Сначала вопреки лининским идеям произошло пе размежевание партии и го-
сударства в целях ограничения бюрократизации, а слияние их основных функций
при постоянной подмене одних другими; сами партийно-государственные кадры
подбирались уже не по деловым и политическим качествам, а но принципу лич-
ной преданности И. Сталину. Шаг за шагом формировалась основывающаяся на
принципе номенклатуры административно-командная система управления экономи-
кой и всем обществом.
Номенклатурный принцип (метод или система), т. е. назначение и перемеще-
ние руководящих кадров по воле «верхов» партийно-государственной иерархии,
а то и прямо по воле «вождя» (основное средство отчуждения власти) — главный
антидемократический, а значит, и антисоциалистический стержень административ-
но-командной системы управления, ибо именно он обеспечивает личную зависи-
мость назначаемых кадров от верхней части управленческой пирамиды и их пол-
ную неподотчетность трудящимся. Из самой сути такой модели управления с не-
избежностью вытекает суеверное преклонение перед «гением» вождя или руково-
дителя, занимающего высшую ступень или вершину иерархии: ведь преклонение
перед ним, культ его — закономерное следствие прямой личной зависимости ниже-
стоящих не от результатов собственной работы, а от благосклонности вождя,
ио своей воле карающего или милующего своих назначенцев, самоуправно опреде-
4 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 45. с. 345.
5 См. «КПСС в резолюциях п решениях съездов, конференций», т. 2. М„ 1983,
с. 300.
67
ляющего их судьбы, их служебные взлеты и падения. При существовании и функ-
ционировании такой системы все призывы «ие культивировать» руководителя так
же бесплодны, как и призывы не злоупотреблять властью при отсутствии контро-
ля над «власть имущими». Реальная история мирового социализма давала и дает
этому неопровержимые свидетельства. Не в доброй или злой воле самого руково-
дителя корень зла, он объективно присущ самой природе рассматриваемой системы.
Только сломав антидемократическую, антисоциалистическую административно-ко-
мандную, номенклатурную систему, разрушив ее до основания, можно рассчиты-
вать и на преодоление такого явления, как суеверное поклонение личности руко-
водителя, вождя, как культ личности.
Именно в рамках этой противоречащей принципам социализма и социалисти-
ческой демократии системы власти и управления, создаваемой И. Сталиным и его
окружением, вопреки послеоктябрьскому опыту развития советской демократии
стала формироваться и укореняться в обществе не имеющая ничего общего с ле-
нинским гуманизмом и сутью социализма система взглядов, установок и отношений,
превращающая рядового человека из главной ценности и истинной самоцели нового
строя в малозначащий винтик огромной бюрократической машины. Эта система не
только постепенно лишала граждан всякой правовой защиты, но и под прикрыти-
ем классового подхода и политической принципиальности воспитывала бесчеловеч-
ность и формализм в отношениях, неуважение к человеку и пренебрежение к его
чувствам.
Позже был сделан еще один весьма существенный шаг. Как известно, К. Маркс,
Ф. Энгельс и В. И. Ленин многократно подчеркивали, что новая система государст-
венной власти и управления будет направлена своими карающими органами толь-
ко против эксплуататоров, будет «в борьбе против них применять общие средства
принуждения»в, что пролетарское государство «должно быть государством по-но-
вому демократическим (для пролетариев и неимущих вообще) и по-новому дикта-
торским (против буржуазии)»’. Порывая с их учением, И. Сталин чем дальше,
тем больше превращал Советскую власть в собственное самоуправство, по-новому
диктаторское, но не против эксплуататоров, а против трудящихся, их лучших пред-
ставителей. Это был полный разрыв не только с ленинизмом, но и с социализмом,
означавший утрату социалистической природы политической власти.
Использование аппарата Советской власти в антинародных целях, для репрес-
сий против представителей трудящихся, против партийных, государственных, хо-
зяйственных и военных кадров, а вместе с тем и для того, чтобы сами трудящие-
ся безропотно переносили подобные действия — а для этого необходимо было
держать в страхе народные массы - требовало нехарактерного для социализма
усиления государственной машины, расширения ее репрессивного аппарата. И дей-
ствительно, знаменуя это перерождение, начался быстрый рост административно-
командной системы управления общественными делами, и в первую очередь —
чиновничества, милиции, органов государственной безопасности, которые выводились
из-под общественного контроля и все больше становились орудием самого И. Ста-
лина, свидетельствуя о том, что политическая власть, все более утрачивая демо-
кратические и социалистические черты, превращается в узурпированную И. Ста-
линым личную деспотическую власть.
2. Социально-классовая природа деспотической власти И. Сталина
Всем нам хорошо известно, что и сегодня есть еще много авторов и читателей,
считающих, что с классовой природой Советской власти в условиях культа И. Ста-
лина ничего не произошло, что утвердившаяся в СССР в Октябре 1917 г. власть
рабочего класса (диктатура пролетариата) так и сохранялась в 30-е годы и позже,
только лишь была несколько извращена, искажена И. Сталиным, но никак не по-
колеблена в своей исходной социально-классовой сущности. * *
6 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 615.
7 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 35.
68
Думаю, что как раз по отношению к таким людям и таким мыслям примени-
мы слова М. С. Горбачева: «...И сейчас еще встречаемся с попытками отвернуться
от больных вопросов нашей истории, замолчать их, сделать вид, будто ничего осо-
бенного не произошло. С этим мы не можем согласиться» В самом деле: как
согласиться, когда разрушались классовые союзы и изменялась социальная опора
власти, когда в деятельности Советов перевертывалось должное соотношение клас-
сового принуждения и политической демократии, когда от лица Советской власти
совершались преступления? Причем речь идет совсем не об одном И. Сталине.
«Вина лично Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за
допущенные массовые репрессии и беззакония поистине чудовищна. Но вина
«вождей» не снимает... ответственности с добровольных доносчиков, с послушных
исполнителей, непосредственных нарушителей социалистической законности, с тех,
кто поддерживал и слепо выполнял бесчеловечные распоряжения, творил про-
извол» ’.
Все это и требует непредвзятого, независимого от прошлых привычных сужде-
ний анализа социально-классовой природы сталинской деспотической власти.
Чем определяется социально-классовый характер существующей власти?
Маркс и Ленин неоднократно подчеркивали, что здесь первостепенное значе-
ние имеет, во-первых, чьи интересы, какого класса, группы, слоя осуществляет дан-
ная власть, и, во-вторых, по чьей воле реализуются эти интересы. Суть социали-
стической власти рабочего класса в том и должна состоять, чтобы ею реализовы-
вались коренные классовые интересы рабочего класса и его союзников по созданию
и развитию социализма, чтобы эти интересы реализовались по воле самих рабочих,
трудящихся. Отсюда ленинское разграничение «власти для трудящихся» и «власти
через трудящихся». Первая — это такая форма власти, которая создана трудящи-
мися и для трудящихся, для реализации интересов рабочего класса, трудящихся
(причем как тех, кто грамотен и сам способен участвовать в политической жизни,
так и тех, кто неграмотен, а потому находится сам вне политики, но чьи интере-
сы представляет и выражает политический авангард рабочего класса). По мнению
В. И. Ленина, по мере продвижения к социализму, роста грамотности трудящихся
Советы из «власти для трудящихся» должны превращаться во «власть через самих
трудящихся», то есть такую власть, когда не только интересы трудящихся реали-
зуются, но и делается это не по воле их представителей или административного
аппарата, а по воле самих трудящихся, через них самих, в чем и заключается
суть самоуправления трудящихся.
При жизни Ленина Советы могли (из-за неграмотности и неподготовленности
к функциям управления населения) быть только властью «для трудящихся» —
через их авангард, через их представителей 8 9 10. Однако В. И. Ленин, прекрасно по-
нимавший суть дела, намечал целую систему мер, которые обезопасили бы рабо-
чий класс, трудящихся от дальнейшего отрыва, «отчуждения» трудящихся от вла-
сти (развитие системы самоуправления и рабочего контроля, включение в ЦК
рабочих, создание ЦКК и др.).
Сознательно или бессознательно И. Сталин ловко воспользовался этой сла-
бостью представительной демократии, все больше и больше отрывая представи-
тельные органы власти от самих трудящихся и все настойчивее передавая реаль-
ную власть из рук представителей трудового народа в руки исполнительного
аппарата. И. Сталин и его окружение получали все расширявшуюся возможность
для того, чтобы, оторвав власть от своей социальной базы, подчинить ее функцио-
нирование уже своим интересам, интересам представляемой властью социально-
классовой силы.
Какой же была эта сила? Какова была социально-классовая природа сталин-
ской власти или власти Советов времен расцвета культа личности?
Стремясь облегчить решение вопроса, часть авторов рассматривает сталинскую
власть как выражавшую интересы мелкой буржуазии. Однако с этим трудно со-
8 Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. М., 1987,
с. 22.
9 «Истина против клеветы».— «Правда», 19.08.1988.
10 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 170.
69
гласпться, и не только потому, что все слов мелкой буржуазии были ликвидиро-
ваны сталинской властью, но и потому, что этой последней не были присущи не-
последовательность, колебания, двойственность, столь характерные для мелкой
буржуазии. Вряд ли кто будет утверждать, что сталинская власть была крестьян-
ской: ведь крестьянство понесло, пожалуй, наибольшие потери в условиях стали-
низма.
Представляется наиболее правильным признать то, что сталинская власть по
своей социально-классовой природе была властью партийно-государственной бюро-
кратии.
Когда речь идет о том, что И. Сталин п его окружение, опираясь на админи-
стративно-управленческий аппарат, шаг за шагом, оттеснив рабочий класс, узур-
пировали политическую власть в стране, то это, разумеется, означает, что с опре-
деленного рубежа (его еще следует определить) уже пе коренные интересы рабо-
чего класса, а прежде всего интересы партийно государственной бюрократии, суть
которых выражали И. Сталин и его окружение, оказались в центре внимания су-
ществовавшей в советском обществе политической власти.
Рассматривая этот регресс, нужно учитывать, во-первых, его ‘постепенность и
незаметность, его прикрытие сталинскими клятвами верности ленинизму и рабоче-
му классу. Он осуществлялся не в один присест, а по мере того, как всевозрастаю-
щая отчужденность государственных функций от интересов рабочего класса, тру-
дящихся придавала им характер относительно самостоятельных, чтобы затем
наполнить их иным содержанием. Каким? Государственные органы но все большей
мере поддавались давлению партийно-государственной бюрократии и ее сталин-
ской верхушки, которые все настойчивее осуществляли с помощью «Советской вла-
сти, ее государственных органов свои собственные интересы.
Поэтому утверждавшаяся в рамках Советов политическая власть Сталина и его
ближайшего окружения представляла собой вовсе не режим личной власти как
иногда встречающуюся форму реализации власти революционного класса, а высту-
пала как чуть прикрытый демократическими декорациями реакционный режим
личной власти И. Сталина, его деспотическую власть, выражавшую и осуществ-
лявшую коренные интересы не рабочего класса, трудящихся, а прежде всего пар-
тийно-государственной бюрократии. Утвердившаяся сталинская общественно-поли-
тическая система была воплощением того самого «бездушия государства», о котором
писал молодой К. Маркс. Вместе с тем сама она стала своего рода инкубатором,
воспроизводителем советских бюрократов - чванливых и безграмотных, напыщен-
ных и от поколения к поколению все более некомпетентных, не желающих счи-
таться с народом, не имеющих за душой часто ничего, кроме холуйского угодни-
чества перед авторитетом «вождя». В свою очередь, сам И. Сталин был идеальным
лидером и выразителем интересов бюрократии: упрощая теорию социализма, при-
способляя ее к своему уровню и уровню своих холуев и холопов, он «очищал»
управление общественными делами от всяких форм вмешательства масс, создавал
исключительные условия для своих верных подручных, для их «дирижирования»
общественными делами и курения фимиама ему ,!.
Во-вторых, когда процесс узурпации классового господства достиг своего апогея,
когда И. Сталин и его окружение окончательно оттеснили рабочий класс, трудя-
щихся от политической власти, сталинисты продолжали выступать от имени на- *
Поэтому никак нельзя согласиться с попыткой С. Андреева отделить И. Ста-
лина и его правительственное окружение от бюрократии, объясняя сталинские ре-
прессии как борьбу правительства с бюрократизмом управленческого аппарата (см.:
Андреев С. Причины и следствия,-«Урал», 1988, № 1). Критикуя это «почти ко-
щунственное» объяснение, один из участников дискуссии справедливо писал: «...Разве
бюрократы пострадали от репрессий? Эта трагедия, как и война, задела почти каж-
дую советскую семью. Спросите любого, любой расскажет о ближнем или дальнем
родственнике или хотя бы знакомом, пострадавшем от репрессий, спросите, кто пер-
вым попадал под этот пресс. Да как раз те, кто «высовывался», смел мыслить и ре-
шать самостоятельно, смел выказывать вольно или невольно недовольство Лдмипи-
стративной Системой; то есть те, кто не вписывался в бюрократическую (админи-
стративную) систему. Во вторую очередь под пресс попадали те, чьими руками со-
вершалось беззаконие и, наконец, просто свидетели этого беззакония» («Упал». 1988
№10, с. 137). ’
70
рода, твердить о верности ленинизму, хотя на деле превратились в прямых вы-
разителей и защитников интересов именно этой социально-классовой группировки.
Во избежание недоразумений необходимо раз и навсегда договориться о том,
что и кто имеется в виду, когда речь идет о партийно-государственной бюрократии.
Этим термином обозначается вовсе не все партийно-государственное руководство,
как это утверждают недруги социализма. Это определенный корпоративный слой
партийных, государственных и хозяйственных функционеров, оторвавшихся от
трудящихся. Это те, кто вопреки социальному призванию,- руководя и управляя,
ускорять общественный прогресс,— использует свое положение, власть в корыстных
интересах и тем самым тормозит общественный прогресс, препятствует ему.
Конечно же, вся партийно-государственная бюрократия относится к аппарату.
Однако в партийно-государственном аппарате отнюдь не все служащие — партийно-
государственные бюрократы, ибо принадлежность к бюрократии, как не раз под-
черкивал В. И. Ленин, определяется не столько выполняемыми функциями, сколько
отношением к массам и реальным положением в обществе. Он видел опасность
превращения должностных лиц «в бюрократов, т. е. в оторванных от масс, стоя-
щих' над массами, привилегированных лиц. В этом суть бюрократизма» ,а. Вчераш-
ний добропорядочный служащий или партийный работник, оторвавшись от масс,
перестав служить общему делу и поставив во главу угла привилегии, личные цели,
интересы карьеры или просто обуреваемый ленью, превращается в бюрократа, под-
час > даже не осознавая этой метаморфозы. Подобно тому, как пьющий рабочий,
приходя каждый день на завод, но производя при этом брак, не понимает того,
что он перестал быть рабочим, превратился в опасный деклассированный элемент,
так и функционер, перестав служить реальному делу, пе сразу и не вдруг пре-
вращается в социально опасного бюрократа и зачастую до конца жизни так и не
осознает происшедшего перерождения.
Партийно-государственная бюрократия - это социальная группа, исторический
рост и возвышение которой в современном мире не в последнюю очередь связаны
с усилением роли сознательности в общественном развитии, а вместе с тем и ро-
стом значения управленческих функций, с чем в силу разделения труда и. связана
данная социальная группа.
В классическом марксизме этот принципиально важный для социализма во-
прос не был разработан. Ни К. Маркс, ни Ф. Энгельс, ни В. И. Ленин не писали
о том, что особенно велико значение этой управляющей социальной группы будет
в социалистическом обществе — исторически первом обществе, становление и раз-
витие которого осуществляется сознательно. Что же касается собственно бюрокра-
тии, то за ней вообще отрицалась самостоятельная роль, считалось, что бюрокра-
тия «при всем своем стремлении к самовластью» остается орудием господствующего
класса12 13. Остается ли это справедливым и в обществе, которое создается и разви-
вается сознательно? Во всяком случае, очевидно, что здесь крайне велика опас-
ность не только бурного и необоснованного роста этой управляющей социальной
группы, роста, не сопоставимого ни с каким другим обществом, но и опасности
узурпации этой социальной группой классового господства, оттеснения рабочего
класса, трудящихся от политической власти.
Не случайно именно в социалистическом мире продолжается обсуждение вопро-
са: не является ли бюрократия новым классом?
Как известно, эта проблема активно обсуждается и в Советском Союзе. Мне
представляются наиболее интересными те суждения, которые были высказаны на
страницах журнала «Урал». Еще в начале 1988 г. в статье С. Андреева «Причины
и следствия» bi читалась гипотеза о возникновении при социализме нового экс-
плуататорского класса - бюрократии14. Журнал на этом не остановился и в по-
рядке обсуждения проблемы дал целую серию статей-откликов: Л. Бредневой «Так
пойдем дальше!», Б. Урванцева «Как выйти из тупика?», Ю. Зыкова и А. Кашина
12 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 33, с. 115.
13 См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 206. Хотя Ф. Энгельс отмечал и си-
туации, когда «управление передается третьему классу — бюрократии» (Маркс К.
п Э и г с л ь с Ф. Соч.. т. 4, с. 47).
14 Андреев С. Причины п следствия.- «Урал», 1988, № 1.
71
«Шаг к социализму», В. Молчанова «Классовый подход - не навешивание ярлы-
ков!», С. Гончарова «Есть за что бороться» *5.
Особенно убедительные аргументы в обоснование признания бюрократии в ка-
честве класса социалистического общества приведены в умной, взвешенной статье
Л. Бредневой, которая, опираясь на марксистско-ленинскую методологию, справед-
ливо критикует С. Андреева за утверждение, будто отношение к средствам произ-
водства перестало быть классообразующим признаком. Отстаивая свою позицию,
Л. Бреднева пишет, что в СССР, в социалистических странах «государственный ап-
парат управления превратился в единственного полновластного распорядителя,
а следовательно, в фактического владельца государственной собственности. Аппарат
даже юридически закрепил свое право собственности в своих инструкциях, прика-
зах, правилах, то есть в «малом законодательстве», которое и является для пред-
приятий единственным руководством к действию (а отнюдь не Конституция). И,
таким образом, бюрократия, т. е. служащие государственного аппарата управления,
превратилась в класс, реально владеющий средствами производства, а все непо-
средственные производители материальных и духовных благ в городе и деревне пре-
вратились в класс, реально отчужденный от собственности»15 16 *.
Здесь нет возможности да и надобпости рассматривать все стороны этой содер-
жательной дискуссии, ни к чему высказывать и свои суждения по тем или другим
конкретным вопросам. Но что касается дискуссии в целом, то обсуждение пробле-
мы: «Является ли в социалистических странах партийно-государственная бюрокра-
тия классом или не является таковым?» — не противоречит марксизму. Для того
чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, как Ф. Энгельс, говоря о двух пу-
тях возникновения классов, один из них связывал именно с осуществлением общих
функций, которое, сосредоточиваясь в руках отдельных лиц, обособляясь от обще-
ства, превращало эти функции в наследственные и таким путем приводило к про-
тивопоставлению господствующих групп и подчиненных им масс народа. «Нам нет
надобности,— писал Ф. Энгельс,— выяснять здесь, каким образом эта все возрастав-
шая самостоятельность общественных функций по отношению к обществу могла
со временем вырасти в господство над обществом; каким образом первоначальный
слуга общества, при благоприятных условиях, постепенно превращался в господина
над ним; каким образом господин этот выступал, смотря по обстоятельствам, то как
восточный деспот или сатрап, то как греческий родовой вождь, то как кельтский
глава клана и т. д.; в какой мере он при этом превращении применял в конце
концов также и насилие и каким образом, наконец, отдельные господствующие
лица сплотились в господствующий класс» ‘7.
Это общее пояснение очень важно: оно предупреждает против ошибочного мне-
ния, согласно которому описанный Ф. Энгельсом процесс имеет отношение только
к далекому прошлому, а не к сегодняшним дням. Хочется думать, что широкая
дискуссия по этой проблеме, дискуссия, не боящаяся собственных выводов, су-
щественно облегчила бы и решение вопроса о социально-классовой природе сталин-
ской власти. Но как бы ни протекала эта дискуссия и чем бы она ни заверши-
лась, уже сегодня очевидна справедливость марксистского вывода о том, что обще-
ственный слой или группа, если они приобретают силу класса, обретают и клас-
совые функции, причем даже в том случае, если данная группа не получает
места и положения класса в системе общественного производства.
Возвращаясь к нашей проблематике, можно утверждать, что в советском об-
ществе (но не только в нем) партийно-государственная бюрократия, господствовав-
шая и властвовавшая в стране, была не только социальной опорой, фундаментом
деспотической сталинской власти, но, разрастаясь и усиливаясь, обретая очертания
класса, становилась также и носителем особых социально-классовых интересов и
определенных классовых функций, реализовывавшихся с помощью деспотической
власти И. Сталина и его окружения. Именно И. Сталин формулировал ее социаль-
15 См. Обсуждаем статью Сергея Андреева «Причины и следствия» («Урал», 1988,
№ 1) - «Урал», 1988, № 10, с. 135-154.
16 Бреднева Л. Так пойдем дальше! - «Урал», 1988, № 10, с. 139.
‘’Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 184.
72
ный идеал и реализовывал его вместе со своим окружением. В чем суть этого
идеала?
Накопленный уже исторический опыт бюрократизации реального социализма
в разных странах позволяет сделать следующий вывод: у «социалистической» бю-
рократии пока нет и, видимо, не может быть какого-то другого социального идеала,
кроме «казарменного социализма» с командно-административной системой управ-
ления и политическим режимом личной власти, с культом высшего Администрато-
ра, Вождя. Разумеется, ни свой социально-экономический, ни политический идеа-
лы бюрократия сама так не называет и не афиширует, и это понятно: ведь бюро-
кратия в социалистических странах всегда маскируется под попечительницу
интересов рабочего класса, трудящихся, реализующую его, рабочего класса, социаль-
ный идеал - научный социализм.
Но все это вынужденная маскировка, необходимый камуфляж. Действительный
идеал партийно-государственной бюрократии, полностью отвечающий ее интересам,
иной, ибо только при жизни всех граждан общества в условиях «казарменного со-
циализма» с его системой ценностей (с отчужденной от трудящихся государствен-
ной собственностью, а также административно-командной системой управления с
ее номенклатурным принципом и при режиме личной власти, стягивающей и кон-
71ентрирующеп мысль и волю бюрократии в одном пункте — на вершине управлен-
ческой пирамиды, в одном человеке-вожде и т. д.) партийно-государственная бюро-
кратия обеспечивает свое максимальное процветание, максимальное политическое
и экономическое, а также идеологическое господство — свое реальное полновластие.
Поэтому режим личной власти, сталинский деспотизм не случайное, а естественное
порождение и условие функционирования «казарменного социализма». Господство
партийно-государственной бюрократии и сталинский деспотизм не противополож-
ности, а содержание и форма одного и того же политического строя, социально-
классового господства бюрократии.
И. Сталин сам пестовал свой бюрократический аппарат, опирался на него и
был им в принципе доволен, ибо как раз в нем был фундамент его личного дес-
потизма.
«Сталину ли быть недовольным бюрократическим аппаратом! — замечает
Л. Бреднева.— Он-то получил как раз то, что хотел: бюрократическая иерархиче-
ская система управления — идеальная почва для режима личной власти, все нити
управления всеми сторонами общественной жизни стягиваются в итоге в одну точ-
ку: к вершине бюрократической пирамиды, к Вождю. А то, что бюрократизм по-
влек за собой расцвет формализма, волокиты, бумаготворчества, канцелярской
неразберихи,— это, конечно, неприятно, но закономерно: ведь это атрибутивные
черты бюрократической системы. Невозможен режим личной власти без развитой
бюрократической системы, а она, в свою очередь, немыслима без формализма, во-
локиты и тому подобных прелестей. Если Сталин понимал эту диалектику, думаю,
он не очень серчал на бюрократов. Им, конечно, тоже время от времени трепка
доставалась, даже самым послушным и преданным: чтобы боялись и вернее слу-
жили. Но все же не они были главным объектом репрессивных мер. Итог сталин-
ских реформ и репрессий - это как раз полная победа бюрократии над демокра-
тией, аппарата над народом» 18.
Именно в этой победе бюрократии над народом - истоки нашей казарменно-
сти. Именно потому так живуч сталинизм — эта важнейшая (наряду с маоизмом)
теоретическая и практическая форма «казарменного социализма», выработанная
в Советском Союзе и успешно для бюрократии апробированная во многих стра-
нах. Она вполне пережила своего творца — И. Сталина, ибо жива нуждающаяся в
ее теории и практике социально-классовая сила — партийно-государственная бюро-
кратия.
В свете сказанного двусмыг ленио выглядит попытка А. Ципко19 искать
истоки «пашей казарменности» у ... Карла Маркса, в его доктрине. Двусмыслен-
ность заключается в том, что таким образом, во-первых, скрываются действитель-
18 Бреднева Л. Так пойдем дальше!, с. 137.
19 См.: Ципко А. Истоки сталинизма,-«Наука и жизнь», 1988, №№ 11, 12;
1989, № 1.
73
яые первопричины нашей казарменпостп, состоящие в засилье партийно-государст-
венной бюрократии, а во-вторых, проводится недостаточно обоснованная критика
К. Маркса, основоположника той теории, которая, озлобляя бюрократию, дала наибо-
лее глубокую и содержательную критику «казарменного социализма».
И все же в сталинской деспотической власти воплощался не только политиче-
ский идеал «казарменного социализма», но и реальный бонапартизм. Сохраняя
определенные черты бонапартистской власти, выдавая себя за «спасительницу
всех классов», деспотическая сталинская власть весьма ловко манипулировала дей-
ствительными внешними и внутренними трудностями советского развития и, при-
крываясь ими, все время служа бюрократии, играла на противоречии между нуж-
дами быстрого развития индустрии и проблемами модернизации сельского хозяйства,
между интересами растущего рабочего класса и самого многочисленного класса —
крестьянства. Однако сталинская власть так и не отдала пальмы первенства ни
рабочему классу, ни крестьянству, на противоречиях между которыми она так
долго паразитировала. И это симптоматично: бывает и такая бонапартистская
власть, которая, спекулируя на противоречиях самых различных социальных групп,
в конце концов не приносит пользы никому или для всех становится нетерпимой.
Так было и со сталинской властью, демагогически заявлявшей о своем рабоче-
крестьянском характере, клявшейся в своем служении и тем, и другим, ио дейст-
вительно ублажавшей только партийно-государственную бюрократию, чьи интересы
для этой власти всегда стояли на первом месте.
И все же, когда мы говорим о сталинской узурпации классового господства,
об «отчуждении власти от трудящегося человека», то это вовсе не означает, что
на разных этапах становления и развития сталинского деспотизма не было таких
фракций трудящихся классов, которые в сталинском деспотизме не находили бы
удовлетворения и своих интересов, а потому не становились бы социальной опорой
этой власти (достаточно указать на самые низы командно-административной систе-
мы, куда необходимые кадры рекрутировались из самых различных социальных
групп: не только из люмпенов, по также и из деклассированных крестьян и рабо-
чих) . Достаточно указать хотя бы на то, что отсутствие паспортов у крестьян
буквально приковывало их к своей деревне, к колхозу и т. д. Учитывая условия
жизни в деревне тех лет, можно попять, каким «благом» для многих ^оборачивался
«набор рабочей силы» в деревне.
Нельзя, рассматривая те годы, не учитывать и того, что в начале 20-х годов
фабрично-заводского рабочего класса в собственном смысле слова в Советской Рос-
сии почти не было, да и в начале 30-х годов в городах наряду с рабочими сущест-
вовали пролетарии-люмпены — голодная наемная рабочая сила, а такой рабочий,
по мнению К. Маркса, работает лишь для своего потребления и поэтому по своему
определению является паупером. Такие фракции рабочего класса, если они не ор-
ганизуются в борьбе за лучшее будущее, продаются любому, кто обеспечит мини-
мум условий существования. Нельзя забывать и того, что бонапартизм, режим
личной власти, как отмечали основоположники научного социализма, способен соз-
давать себе социальную опору не только в чиновничестве, но и в рабочем классе,
подкармливая и насаждая так называемый «искусственный пролетариат». Под этим
Ф. Энгельс понимал пролетариат, зависимый от правительства по причине своей
низкой квалификации и потому могущий быть использованным лишь по воле
государства на назначаемых им работах.
Но особенно отрицательные последствия имело то, что в сталинской концеп-
ции социализма вообще не было места рабочему как реальному хозяину своего
производства и своей страны: рабочий фактически был освобожден от действи-
тельных функций гражданина, был отчужден на деле от роли хозяина, хотя имен-
но в этом качестве — хозяина своей страны — он официально прославлялся в пес-
нях сталинского времени. А это имело весьма пагубные последствия для сознания
рабочих, всего рабочего класса. Ибо, как считал К. Маркс, рабочие сами по себе
не в состоянии — если они как класс не будут воздействовать на государство и
через государство на капитал - вырвать из хищных когтей капитала даже то сво-
бодное время, которое необходимо им для их физического существования. Но имен-
но эта способность рабочих разрушалась сталинской властью «от имени трудящих-
ся», поскольку sa государственные подачки налагался запрет на экономическую,
а значит, и любую другую борьбу рабочего. Поскольку разного рода господачки все
же давали возможность не умереть с голоду в самые голодные годы, то определен-
ные фракции рабочего класса в этом тоже находили удовлетворение. Так, шаг за
шагом, разлагался рабочий класс: сам он как социальная сила оказывался бро-
шенным на произвол администрации, партийно-государственной бюрократии, что
оиять-таки задерживало его превращение в «класс-для-себя» уже в новом обществе.
Таково противоречивое отношение сталинской деспотической власти к трудящим-
ся, в том числе к рабочему классу.
Однако при этих противоречиях и попытках сталинского деспотизма и словес-
но, и фактически опереться на рабочий класс, в сущности, рассматриваемая
власть не только не была властью рабочего класса, трудящихся, но была глубоко
чужда их интересам и устремлениям. Поэтому не случайно И. Сталин и его ок-
ружение все больше должны были опираться на партийно-государственную бюро-
кратию, придавая ей роль если пе класса, то социальной группы, служащей со-
циально-классовой опорой сталинского деспотизма, который все шире использовал
для упрочения и сохранения своих позиций командно-административные методы
управления, массовые репрессии, беззаконие и демагогию, позволявшие сохранять
и поддерживать с помощью страха и обмана политическую стабильность в общест-
ве. Причем все эти аспекты сталинского деспотизма не случайные, а закономерные
черты власти, заявляющей о строительстве социализма, но не имеющей необходи-
мой сознательной поддержки рабочего класса, трудящихся.
Те, кто не понимает механизмов сталинской деспотической власти, кто все
еще хочет верить, что Советская власть оставалась социалистической властью ра-
бочего класса, всех трудящихся и при единовластии И. Сталина, продолжают за-
являть, что И. Сталин будто бы не знал о творимых беззакониях и репрессиях.
Они не хотят верить в то, что именно сама высшая власть организовывала и тво-
рила беззакония, сознательно душила народ, репрессировала миллионы невинных
граждан. Однако все обстояло именно так. В отчете комиссии Политбюро по
дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, в свое время
отмечалось: «Качественное отличие работы нынешней комиссии следует, видимо, ус-
матривать и в уточнении оценок роли Сталина как главного виновника организа-
ции репрессий, других негативных явлений. При всей значимости решений
XX съезда партии нужно сказать, что в них оценка культа личности сводилась
в основном к деятельности одного человека. На него возлагалась и вся ответствен-
ность за нарушения социалистической законности.
В докладе М. С. Горбачева 2 ноября 1987 г. впервые был поставлен вопрос об
ответственности не только Сталина, но и его окружения, об оценке режима лич-
ной власти, при котором стали возможными преступления, совершенные Сталиным
и членами тогдашнего руководства» 20.
Теперь мы уже хорошо знаем, что не какие-то исполнители, стрелочники,
а именно сам И. Сталин, утверждая свою безраздельную деспотическую личную
власть как раз для поддержания своего господства, устранения действительных и
мнимых конкурентов, чинил все те беззакония и массовые репрессии, которыми
так обильно уснащены трагические страницы советской истории. Лишенный не
только чести и совести, но и крайне жестокий, напрочь лишенный чувства со-
переживания, И. Сталин выступает не только как кровавый преступник, организо-
вавший истребление цвета советского общества, но и как фальсификатор марксиз-
ма, стремящийся дать «теоретическое» обоснование организуемым им гнусностям
и жестокос тям.
В этой связи хочу привести два свидетельства.
Первое касается сталинского понимания роли последовательности в репрессиях.
Обсуждая с С. Эйзенштейном и Н. Черкасовым вторую серию фильма «Иван
Грозным», И. Сталин сказал: «Показывать, что он был жестоким, можно. Но нуж-
на показывать, почему нужно быть жестоким. Одна из ошибок Ивана Грозного в
том, что он недорезал пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять се-
20 См. «Правда», 19.08.1988.
75
мейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени. А Иван Грозный
кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал.
Нужно было быть еще решительнее»21. Здесь важна не безграмотность Сталина,
выдумавшего пять «недорезанных» семейств, а общий ход его рассуждений, внут-
ренняя убежденность в необходимости крайне жестоких, прямо-таки свирепых мер
в борьбе за власть.
Второе свидетельство показывает И. Сталина как главного вдохновителя безза-
коний в нашей стране. В конце 20-х годов возникли трудности с хлебозаготовка-
ми, ибо крестьяне, не получая в обмен за хлеб необходимые промышленные това-
ры, стали придерживать хлеб. В поисках путей изъятия необходимого крестьянского
хлеба (еще до сплошной коллективизации) И. Сталин делает два «разъяснения»:
во-первых, вопреки сути статьи 107 Уголовного кодекса РСФСР требует ее приме-
нения к крестьянам, не сдающим хлеб, и, во-вторых, поскольку работники право-
охранительных органов, суда и следствия, придерживаясь духа и буквы закона,
не шли на подобные правонарушения, пе применяли эту статью (о спекуляции
зерном) к укрывателям хлеба, И. Сталин требует привлекать к ответственности,
«гнать с работы» подобных стражей закона. Вот как описывает эти действия
Г. И. Шмелев: «В январе 1928 года в Сибири, говоря о хлебозаготовках, он
(И. Сталин.- А. Б.) предложил потребовать у кулаков немедленной сдачи всех
излишков хлеба по государственным ценам, а в случае отказа привлекать их к
судебной ответственности по статье 107 Уголовного кодекса РСФСР (предусматри-
вающей наказание за спекуляцию) с конфискацией хлебных излишков в пользу
государства. Если же прокурорские и судебные власти не выполнят этого приказа,
их можно изгопять с занимаемых постов: «Непонятно... почему эти господа до сих
пор не вычищены и не заменены другими, честными работниками»22. Сталин по-
учал партийно-хозяйственный актив Сибири: «Вы говорите, что применение к
кулакам статьи 107 есть чрезвычайная мера, что оно ухудшит положение в дерев-
не... Почему применение 107 статьи в других краях и областях дало великолепные
результаты.., а у вас, в Сибири, оно должно дать якобы плохие результаты и ухуд-
шить положение?» 23. Иначе говоря, И. Сталии ставил работников правоохранитель-
ных органов перед дилеммой: или вы допускаете правонарушение — репрессируете
тех, кто придерживает хлеб, репрессируете их по статье о спекуляции, и тогда
вас самих не трогают, или вы сохраняете чистой свою юридическую репутацию,
и тогда вас самих за это наказывают. Можно представить, к какому общегосудар-
ственному бедламу это вело! Начавшаяся «охота» за «законниками» обернулась
всесоюзным разгулом беззакония.
Организованные таким путем беззакония и массовые репрессии имели для
И. Сталина и его деспотической власти вполне определенный смысл. Во-первых,
они представляли собой отнюдь не результат просчета или роковой ошибки,
а следствие сознательной политики Сталина, направленной на истребление ленин-
ской гвардии, всех тех, кто по своим убеждениям никак не мог принять сталин-
ский деспотизм. Во-вторых, массовые репрессии были не случайным, а существен-
ным элементом не только сталинской политической системы, но и всего сталин-
ского социализма: в обществе, где подорваны стимулы к труду, именно страх
наказания, поддерживаемый массовыми репрессиями, наряду с еще не исчезнув-
шим энтузиазмом масс, веривших в жертвы во имя социализма, были важнейши-
ми условиями успешного функционирования политической системы.
3. Некоторые последствия сталинского господства
Тема последствий сталинского господства охватывает огромную сумму вопро-
сов: от материальных основ общественной жизни до сознания людей, ибо отрица-
тельное воздействие деспотической власти И. Сталина было разнокачественным и
многоплановым.
21 «Московские новости», 7.08.1988.
22 ш м е л е в Г. И. Не сметь командовать! — .«Октябрь», 1988, № 2, с. 14.
23 Там же,
Конечно, можно возразить: а разве сталинская власть не осуществила коллек-
тивизацию сельского хозяйства и ликвидацию кулачества как класса, разве не ей
принадлежит заслуга индустриализации страны и создания материально-техниче-
ской базы нового строя, разве не она провела культурную революцию и создала
советскую интеллигенцию? Да, все это так. Но разве все это не в интересах рабо-
чего класса, всех трудящихся, разве не все это составляло суть ленинского заве-
щания по строительству социализма в нашей стране?
Нет, далеко не все это соответствовало коренным интересам рабочего класса
и совсем не то, что было сделано, составляло суть ленинского завещания. Дело в
том, что сталинская коллективизация так же отличается от ленинского коопера-
тивного плана, как огородное чучело от человека. Сталинское раскулачивание,
т. е. поголовная экспроприация кулачества (и части середняка), а тем более
разрушение его индивидуального хозяйства никогда не входили в ленинское заве-
щание. Не говоря уже о середняке, В. И. Ленин отвергал экспроприацию кулаче-
ства как социалистическую политику, а тем более никогда не согласился бы с его
физическим истреблением. Действительно выступая за индустриализацию страны,
В. И. Ленин с самого начала был против того, чтобы она осуществлялась за счет
интересов крестьян, а тем более чтобы ее средствами было такое изъятие хлеба
у сельских тружеников, которое унесет миллионы крестьянских жизней.
Не соглашаясь с такой итоговой оценкой сталинской политики, опять-таки
можно сказать так: да, все это было, но в конечном счете, пусть неимоверно тя-
желой ценой, ценой неслыханных жертв, трагедий и крови народа, все-таки в Со-
ветском Союзе было создано социалистическое общество.
Однако нет ничего более ошибочного, как думать, будто социализм можно по-
строить любой ценой, что для хорошей цели все средства хороши, что нет орга-
нической связи между целью и средствами ее достижения. Здесь следует иметь
в виду два общеметодологических соображения.
Первое касается цены того или иного достигаемого в ходе истории результата. Обы-
денное сознание, не задумывающееся над сложным взаимодействием цели и средств,
легко бросается фразами: «Добиться любыми средствами!», «Достичь любой ценой!»
Однако в реальной жизни, взятой во всем комплексе присущих ей взаимодей-
ствий, есть реальный предел, реальная мера, нарушение которой меняет само су-
щество исторического процесса. Например, в современных условиях добиться победы
над капитализмом любой ценой и любыми средствами — в том числе и посредством
термоядерного мирового конфликта — означает изменение самого существа истори-
ческого процесса: противоборство социализма против капитализма в этом случае
превращается в уничтожение цивилизации, в гибель человечества. Очевидно, что
такая цена результата, такая цена победы совершенно неприемлема: в ней исче-
зает прежний процесс с его противоположностями, и ему на смену приходит со-
всем другой, со своими, уже совершенно иными проблемами.
Равным образом, нельзя построить социализм любой ценой, любыми средства-
ми, в том числе и такими, при которых исчезают сами принципы социализма, его
человеческий облик, имманентный ему гуманизм. Если необходимые для выжи-
вания советского общества стопроцентная коллективизация (с раскулачиванием и
насилием над крестьянством) и быстрая индустриализация (за счет сельского хо-
зяйства и с применением репрессий, насилия и страха) не имели альтернативы,
при которой сохранялись бы принципы социализма, то следует так и говорить;
хотя и сама выживаемость советского общества при таких мерах сильно умень-
шилась. Другими словами, очевидно, что такая цена ожидаемого результата, цена
построения социализма совершенно неприемлема: в ней исчезает прежний про-
цесс - строительство социализма с его противоположностями (кто - кого?) -
и ему на смену приходит совсем другой процесс - выживание советского общества
в его тогдашнем виде. А это не одно и то же.
Второй методологический вопрос касается характера задач, решаемых в ходе
исторического развития. Из сказанного выше следует, что было бы неверно счи-
тать, будто вопрос о характере протекающего процесса, зависящий в общем и це-
лом от объективных условий его развития, не может измениться под влиянием
избранных средств для решения этих задач.
77
Более того, такая трансформация характера развития из-за избранных средств
его осуществления вполне реальна. Особенно часто это случается там и тогда, где
и когда само общество находится на историческом переломе - еще не завершился
один качественный этап его развития, ио уже начался новый. Иначе говоря, там,
где возможны не только варианты развития в пределах данного социально-эконо-
мического типа развития (например, прусский или американский путь развития
капитализма в деревне), возможны также альтернативы самих социально-экономи-
ческих типов развития (возможно дальнейшее капиталистическое развитие или
начало перехода к социализму, как это было в России в 1917 г.) и т. д.
Как раз в таких случаях часто возникает смешение разных по типу задач,
а выбранные неадекватные средства их решения могут изменить сам характер об-
щественного развития.
Если с этих позиций оценить происшедшее в Советском Союзе в 30-е годы,
то придется сказать следующее. И. Сталин, вопреки разъяснениям В. И. Ленина24,
смешал непосредственные задачи по экономическому развитию Советской России,
созданию предпосылок для будущего «введения социализма» (на что и был наце-
лен нэп) с самим переходом к социализму. Оказавшись перед неразрешимым
комплексом разнородных проблем, И. Сталин стал применять крайне жестокие,
порой свирепые меры для достижения амбициозных целей, меры и способы, совер-
шенно несовместимые с принципами социализма, а потому и неспособные приве-
сти к действительному социализму.
Результатом такого развития было то, что к концу 30-х годов в Советском Сою-
зе в основном был построен сталинский государственно-административный социа-
лизм с господством партийно-государственной бюрократии, с отсутствием гласности,
с массовыми репрессиями и человеческим страхом, социализм, соответствующий
каноническим представлениям марксизма о «казарменном социализме».
24 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 37S -382.
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ мысли
От редакции. Мы продолжаем рубрику «Из истории отечественной философской
мысли» подборкой, посвященной творчеству известного историка и философа
Л. II. Карсавина. К сожалению, имя этого мыслителя почти забыто, его идеи, тесно
связанные с религиозно-философской традицией обсуждения важнейших проблем че-
ловеческой свободы, пониманием личности и истории, сути общественных преобразо-
ваний, практически не анализировались в нашей литературе. Рукописи Карсавина
«Жозеф де Местр», публикуемой впервые, до сих пор лежавшей в архиве, предпосла-
на статья С. С. Хоружега «Карсавин и де Местр». Разумеется, это лишь первая по-
пытка разобраться в сложном сплетении идей и судеб русского мыслителя и фран-
цузского общественного деятеля, публициста, выразителя умонастроений пострево-
люционного периода европейской истории. Не со всеми оценками автора статьи мож-
но согласиться, отдельные положения и позиции требуют уточнения, однако, видимо,
атмосфера спора, возможность открыто высказать собственную, иногда не всеми раз-
деляемую точку зрения,— характерная примета и существенное достижение нашего
времени.
Публикуя статью о Карсавине, рукопись мыслителя, редакция надеется, что эти
материалы получат читательский отклик.
Карсавин и де Местр
С. С. ХОРУЖЙЙ
Путь, пройденный русской религиозной философией, недолог, но до
предела насыщен. Весь зрелый ее период, начавшийся с В. С. Соловьева
(1853—1900), длился лишь около полувека; последние крупные .мысли-
тели в ее главном русле (коим была метафизика всеединства), Флорен-
ский и Карсавин, родились оба в 1882 г. и могли бы быть младшими
современниками Соловьева. Однако философская традиция развивалась
настолько быстро, что оба они уже несут в своем творчестве заметные
типологические черты «поздних представителей»: сложность, амбивалент-
ность отношений с самою традицией и ее старшими участниками; появ-
ление новых и неожиданных мотивов, на первый взгляд совершенно
чуждых традиции; а также и некоторую «барочность» — налет вычурной
изощренности мысли, повышенную заботу о стиле и формальный блеск,
необычные для философских трудов. Творчество Карсавина — сложное,
утонченное явление, плоть от плоти рафинированной духовной культуры
Серебряного Века. В нем отразились многие культурные слои, многие
идейные русла, часто далекие друг от друга: Россия и Запад, православ-
ная догматика и католическая антропология, гностицизм и средневековые
ереси, Николай Кузанский и Федор Достоевский. Но действием его,
несомненно, незаурядного таланта вся эта прихотливая мозаика претво-
рена в цельное философское миросозерцание, в одну из наиболее глубо-
ких и стройных систем русской религиозной метафизики.
Лев Платонович Карсавин (1882—1952) был коренным петербурж-
цем. Родился он в семье известного танцовщика Мариинского театра.
79
ученика знаменитого Петипа; по отцу у него имелись греческие предки,
мать же была родною племянницей А. С. Хомякова. Все эти обстоятель-
ства так или иначе отразились не только в его жизни, но и на его твор-
честве: и личный, и творческий его стиль имеют отчетливый петербург-
ский налет, тонкие, удлиненные черты внешности и усложненная,
хитроумная вязь богословских и философских рассуждений, «спирали
мысли», как он выражался сам, напоминают о Византии, и, наконец,
с Хомяковым на протяжении всей жизни он ощущал словно бы некую
глубинную связь.
В первый период своего творчества, охватывающий предреволю-
ционные годы, Карсавин — историк-медиевист, исследователь религиоз-
ной жизни Западной Европы в эпоху позднего средневековья. Его учите-
лем в Петербургском университете был И. М. Греве, позднее называвший
его самым блестящим из всей плеяды своих многочисленных учеников.
Несколько лет Карсавин посвящает исследованиям монашеских и ерети-
ческих движений в Италии и на юге Франции, проводя разыскания
в тамошних архивах и собирая плоды своих штудий в два капитальных
сочинения: «Очерки религиозной жизни в Италии XII—XIII веков»
(СПб., 1912) и «Основы средневековой религиозности в XII—XIII веках,
преимущественно в Италии» (СПб., 1915). Однако уже и в этот период
явственно пробивается его стремление к более общей постановке про-
блем, тяга от истории событий к истории идей, к истории духовной
жизни и тому, что мы сегодня называем культурологией. Его дальней-
шие работы показывают постоянную эволюцию в этом направлении:
в 1918 г. выходят в свет «Католичество» и «Культура Средних Веков»,
в 1919 — уже чисто богословская «Saligia», а с появлением в 1920 г.
«Введения в историю» и в 1922 г. двух больших философских статей,
«О свободе» и «О добре и зле»,— можно уже считать совершившимся
переход творчества Карсавина в область религиозной философии и фило-
софии истории. На этой стадии и застигает его высылка за пределы
России в ноябре 1922 г., явившаяся для него всецело нежеланным собы-
тием, ибо Карсавин был принципиальным противником акта эмиграции
и, не будучи сторонником большевизма, в то же время твердо верил
в глубокий творческий смысл Русской революции. Размышления о рево-
люции надолго стали важной темой в его работе, и ниже мы к ним еще
вернемся.
Потянулись годы изгнания, с типичною географией: Берлин, потом
Париж, с типичными quasi-мытарствами профессора-эмигранта. Великие
знатоки судеб человеческих, полицейские власти всех стран, не зря пола-
гают равносильными два приговора человеку — заключение и изгнание:
и тем, и другим жребием правит заповедь несвободных: «терпение
и случай — вот что спасает нас» *. В конце 1926 г. в лимитрофной Литве
становится премьер-министром А. Вольдемарас, бывший приват-доцент
Бестужевских курсов. Это политическое событие отразилось на обстоя-
тельствах некоторых прежних коллег премьера по петербургскому уче-
ному миру. В 1928 г. Лев Платонович Карсавин занимает кафедру все-
общей истории в Каунасском университете. Литва, вначале буржуазная,
затем советская, становится домом его надолго, до самого конца его сво-
бодных дней — до ареста и заключения в лагерь в 1949 г. Здесь
уже была прочная связь, не просто очередной кров изгнанника. Необык-
новенно быстро Карсавин выучивается по-литовски и начинает читать
лекции и писать просветительские труды на этом родственном и древнем
наречии. Молодая культура, рождавшаяся на древнем наречии, отвечала
взаимностью: Карсавин был признан здесь как мыслитель, почитаем как
духовный наставник. Поздней, в лагере, литовцы, елико возможно, опе-
кают и оберегают его; и по сей день, вопреки официальному замалчи-
1 Ш а л а м о в В. Поезд. - «Новый мир», 1988, № 6, с. 142.
80
ванью, длившемуся до последнего времени, имя его остается известным
и чтимым в том краю.
Отношения с родным домом были много трудней. Новая Россия, пра-
воту появления которой он признавал и в будущее которой он верил,
изгнала его. Россия же зарубежная... тут к месту будет английское:
there was no love lost between them 2. Карсавин существовал в ней особ-
няком. Уже и личные свойства влекли к тому. Он был безмерно далек
от классического типа русского интеллигента-общественника, которому
как воздух потребны идейные споры, философические дискуссии и испо-
веднические излияния. Узость и догматизм мысли, присущие нередко
этому типу и всегда процветающие в эмигрантской атмосфере, претили
ему. Средой, отвечавшей его натуре, вместе академичной и артистичной,
петербургской, византийской, барочной, были академические и отчасти
художественные круги в их светской и интеллектуальной верхушке;
а наиболее созвучною ролью была, пожалуй, слегка экстравагантная
в наше время роль учителя мудрости и одновременно светского чело-
века. И это значило, что своим миром мог быть для него Петербург
Серебряного Века — и едва ли что-нибудь еще на земле. Он не отождеств-
лял себя ни с какою эмигрантской средой, не примыкал ни к каким
кругам или группировкам.
Казалось бы, иначе должны были сложиться его отношения с кругом
русских религиозных философов, всех тех, с кем он ныне volens nolens
стоит в одном ряду в истории философии. Однако же и они не сложи-
лись иначе. В творчестве у него, несомненно, имелись реальные и суще-
ственные сближения со многими из этого круга. Тяга к спекулятивной
мистике, особое внимание к философии истории, понимание истории как
творческого процесса сближают его с Бердяевым; в теории познания он
интуитивист, как Лосский и Франк; сильное и многостороннее влияние
Николая Кузанского создает между ним и Франком еще более значитель-
ную общность. Однако все эти сближения только заостряли его вызываю-
щее стремление утвердить инаковость и отдельность своей мысли. «Слы-
хали? Находят у меня общее с Франком! Каково?» — случалось, вопро-
шал он с неизмеримым сарказмом — хотя «общее с Франком», за
очевидностью, не очень и требовалось искать. Впрочем, не следует цели-
ком относить эту ситуацию за счет свойств вызывающей натуры Карса-
вина. Здесь также действуют некие объективные законы этологии твор-
ческих существ; и, повинуясь этим законам, Семен Людвигович Франк,
человек натуры корректнейшей и скромнейшей, составляя антологию
русской религиозной философии, в свою очередь, не включает туда
Карсавина и ни слова не говорит о нем...
* *
*
Исключением, подтверждающим правило карсавинской обособленно-
сти, является его участие в евразийском движении. Это движение, ныне
почти неведомое у нас, было первым опытом так называемой «пореволю-
ционной идеологии». Под таким именем в эмиграции стали известны
попытки своего рода третьего пути в интерпретации новейшей русской
истории: концепции, утверждавшие (вопреки монархистам и другим пра-
вым) историческую закономерность и оправданность русской революции,
однако отвергавшие (вопреки большевикам и другим левым) марксистское
убеждение в том, что смысл этой революции — в грядущем построении
социализма и коммунизма. Здесь отбрасывался, таким образом, весь
прежний политический спектр и провозглашалось некое новое историче-
ское и политическое мышление, рожденное революцией и из нее исходя- * 4
2 Они не потратили лишней любви друг на друга.
4 Вопросы философии, X: 3
81
щее: откуда и имя. Разумеется, провозгласить новое мышление еще
вовсе не значит его создать, и неудивительным образом ни одна из
«пореволюционных идеологий» не справилась с дерзкою задачей предста-
вить принципиально новую модель русской истории, еще вдобавок даю-
щую и новую политическую стратегию. И все же в эфемерной среде
«пореволюционных» групп и течений рождалось и дебатировалось немало
новых идей — социально-политических, исторических, даже и философ-
ских,— которые порой, через многие годы по смерти самих течений ока-
зывались выжившими «путем зерна», неожиданно прорастая то в пост-
буржуазной идеологии новых левых, то в техноутопиях овладения кос-
мосом... 3 4. Отнюдь не тайна, что такого рода идеи имеют некое хождение
и у нас, как раз сейчас выходя из-под спуда — и России еще не мино-
вать разбираться с ними. Ибо поиски третьего пути, при всей проблема-
тичности такового, были рождены жизнью, в них отразилось отношение
к действительности самого разнообразного слоя русских людей — всех
тех, кто, видя и отвергая пороки старой России, ее социальные неправды,
религиозную казенщину, «олимпийство тунеядцев», отвергая и ее старый
строй, в то же время не мог отвергнуть нравственный и религиозный
подход к реальности, не мог убедить себя в правоте и реалистичности
марксистского идеала.
Евразийство (взявшее себе имя от материка Евразии как великого
единства, объемлющего и Восток, и Запад) было не только первой,
но и самой теоретически разработанной из «пореволюционных» идеоло-
гий русской эмиграции. С самого начала оно собрало серьезные интел-
лектуальные силы: в числе его зачинателей были Н. С. Трубецкой
(впоследствии выдающийся лингвист) и Г В. Флоровский (ставший
потом крупнейшим теологом), поздней к нему примыкали Г. В. Вернад-
ский, Д. П. Святополк-Мирский, А. В. Кожевников (Кожев), государство-
вед Н. Н. Алексеев, религиозный писатель В. Н. Ильин и целый ряд дру-
гих талантливых авторов. Тем более поучительна его судьба. На пер-
вом своем этапе в сборниках 1921—1924 гг. евразийство не столько
единое учение, сколько некоторый набор мыслей, религиозных и историо-
софских у Флоровского, этнографических и религиозных у Трубецкого,
географических у Савицкого, пробующих решать современную тему
«Россия и революция», отправляясь от вечной темы «Россия между
Востоком и Западом». (Откуда явствует, что прологом к евразийству
были еще «Скифы» Блока.) Помимо данного подхода, размышления раз-
ных участников имели между собой мало общего и даже отдаленно не
складывались в какую-либо цельную историософскую модель, тем паче
политическую стратегию. Затем, однако, характер движения меняется.
Оно все же приобретает отчетливую теоретическую платформу и полити-
ческую ориентацию и, более того, превращается в довольно жесткую
идеологию. Решающим элементом в этой трансформации была деятель-
ность Карсавина. Выступавший прежде с критикой евразийства, он с
1925—1926 гг. сближается с движением, чтобы сразу стать его идейным
руководителем.
«Славянофилы эпохи футуризма» 4,— назвал как-то евразийцев Федор
Степун, тем самым сближая Карсавина с его пращуром Хомяковым.
Это сравнение проницательно и плодотворно. В самом деле, «пореволю-
ционное» евразийское утверждение творческого смысла русской револю-
ции, а стало быть, и русской истории на ее новейшем этапе вполне
3 Наряду с Вл. Соловьевым и А. С. Хомяковым «пореволюционная» мысль отно-
сила к своим учителям и Н. Ф. Федорова, зорко усмотрев в нем точку сближения всех
главных слагаемых чаемого нового миросозерцания: аутентичной народной духовно-
сти. русской религиозной философии и революционной идеологии с ее пафосом ма-
териального преобразования мира.
4 Степун Ф. Л. Об общественно-политических путях «Пути». «Современные
записки», Париж, 1926, № 29, с. 445.
32
законно рассматривать как новое и дерзкое утверждение — malgre tout,
на резком, быть может, роковом повороте судеб страны! — славянофиль-
ского постулата о самобытности духовного уклада^ России и ее историче-
ского пути. Притом исток и основу этого уклада и этого пути как сла-
вянофилы, так и евразийцы твердо видели в православии. Параллель
наглядна, почти бесспорна, и мы совершенно вправе усматривать в евра-
зийстве очередное историческое воплощение славянофильства (понимае-
мого обобщенно), как определенной трактовки «русской идеи». Но, быть
может, еще важней вглядеться в специфические отличия этого воплоще-
ния, в его, говоря со Степуном, «футуристические» черты. В отличие от
славянофилов евразийство стремилось найти религиозное оправдание и
утвердить творческий, плодотворный характер не русской истории вооб-
ще, но революционной России и социальной практики большевизма:
дьявольская разница, как говаривал Пушкин. Многие из первых евразий-
цев (в том числе Флоровский и Трубецкой) отказались от такой задачи
и, ограничив свое принятие российской реальности общею верой в неис-
сякающие родники русского духа, вскоре отошли от движения. Именно
такое ограниченное, относительное принятие было характерно для отно-
шения к революции в религиозно-философских кругах (и выражено ими
еще в 1918 г. в известном сборнике «Из глубины»). Сжато и упрощенно
резюмируя эту позицию, можно сказать, что феномен большевизма здесь
виделся в масштабе этапных, кардинальных явлений русской истории
и признавался органичным как для народа, так и для интеллигенции,
имеющим прочные корни и глубокий духовный смысл; но при всем том
явлением негативным, быть может, болезненным (типична, например,
формула А. В. Карташева: «большевизм — показатель мучительных
исканий народной души»5), и потому в исторической перспективе не-
плодотворным, подлежащим изживанию и преодолению — которые, одна-
ко, мыслимы лишь на путях внутренней духовной работы, покаяния и
трезвения, а никак не насильственной реставрации. Позиция эта, наи-
более основательно развитая Бердяевым и Федотовым, выходила за рам-
ки догм право-левого политического мышления, однако оставалась на
почве широко понимаемого христианского гуманизма, в отличие от евра-
зийцев, которые с их вызывающей «футуристичностью» и тягой к ради-
кализму охотно готовы были и к разрыву с этою почвой.
* *
*
Свою трактовку революции Карсавин бегло наметил уже в «Филосо-
фии истории», написанной им еще в России и опубликованной в Берлине
в 1923 г. Эта трактовка — непосредственный плод его теории историче-
ского процесса, которая, в свою очередь, является одним из приложений
его философского учения. В основе же этого учения (как и большинства
русских религиозно-философских систем) находится онтологический
принцип всеединства, введенный в русскую философию неявно уже
славянофилами, а явно — Владимиром Соловьевым. Это принцип внут-
ренней формы или же тип устроения бытия, обозначающий единство, ко-
торое структурировано неким особым образом, не допускающим фор-
мально непротиворечивого описания: в частности, предполагающим тож-
дество любой из своих частей целому. Трансрациональный, передаваемый
лишь символически, внутренний механизм всеединства Карсавин раскры-
вает, используя учение Николая Кузанского о составных частях (все)
единства как его «моментах» или «качествованиях», в которых все един-
ство присутствует «стяженно» (умаленно, имплицитно, потенциально).
На базе такой трактовки всеединства возникает иерархическая картина
5 См. «Воля России». Прага, 1923, № 15, с. 93.
83
строения бытия, в которой каждый цельный элемент, каждое единство
является моментом некоторого высшего единства, стяженно содержащим
его в себе и, в свою очередь, стяженно присутствующим в бесконечном
множестве собственных моментов, представляющим собою их всеединство.
Эта конструкция всеединства как бесконечной иерархии всеединств —
универсальная парадигма метафизики Карсавина, методологическая осно-
ва любого из ее разделов. Важнейшим дополнением к ней является ее
связь с принципом триединства, который, пожалуй, еще более всеедин-
ства может претендовать на роль верховного принципа карсавинской
философии. Триединство есть, по Карсавину, триада необходимых стадий
всякого процесса становления и развития, всякого бытийного превраще-
ния: первоединство — саморазъединение — самовоссоединение. (Здесь
снова Карсавин существенно опирается на Кузанского, находя ближай-
ший прообраз своего триединства в его концепции бытия — возможности,
possest.) Тем самым триединство есть принцип бытийной динамики, все-
единство же как принцип устройства, структуры бытия, т. е. бытийной
статики, подчиняется ему и включается в него, оказывается его «момен-
тальным срезом»: Карсавин его характеризует как «покой и остановку»
триединства. С главенствующей ролью триединства картина бытия при-
обретает динамический характер, и метафизика Карсавина самоопреде-
ляется как существенно динамическое учение, теория становления и раз-
вития, описывающая не просто бытие, но «все, происходящее с бытием»:
развертывающуюся историю, драму бытия, взаимопревращения бытия и
небытия (каковым является, очевидно, разъединение бытия). В этом ска-
зывается ее происхождение из исторической рефлексии, и этим обеспе-
чивается ее высокая приспособленность для анализа исторического про-
цесса. Необходимо лишь одно уточнение: вся описанная онтологическая
картина непосредственно относится к истинному (совершенному, божест-
венному) бытию; однако она переносится и на бытие здешнее, эмпири-
ческое, поскольку, по Карсавину, оба рода бытия соотносятся между
собой как совершенство и несовершенство: здешнее бытие есть несовер-
шенное подобие бытия истинного. И следует, наконец, добавить, что в со-
ответствии с религиозной интуицией и христианской догматикой (Бог
есть личность) Карсавин утверждает личностный характер бытия как
такового, отождествляет бытие с бытием личности. Наряду с триединст-
вом личность выступает как фундаментальный и верховный принцип
онтологии Карсавина и совершается отождествление трех верховных
начал: Бог — Триединство — Личность. Соответственно здешнее (сотво-
ренное, тварное) бытие утверждается как несовершенно личное. Это
означает, что здешнее бытие, тварный мир признается личным, наделен-
ным (хотя и несовершенно) формою личности все и повсюду, в каждом
своем элементе. Картина здешнего бытия как иерархии (несовершенных)
всеединств, в силу связи каждого всеединства с триединством, представ-
ляется как иерархия (несовершенных) триединств, а стало быть, и иерар-
хия (несовершенных) личностей. Иными словами, всевозможные сово-
купности людей рассматриваются как новые самостоятельные личности,
именуемые «симфоническими» или «соборными». Они выступают как
«высшие личности» по отношению к своим подсовокупностям и отдель-
ным членам, имеют их своими «моментами» и стяженно присутствуют
в них.
Нетрудно уже понять, как строятся в рамках подобной метафизики
социальная философия и философия истории, и предчувствуется заранее
их «коммунальный», антиперсоналистский характер. Желая исследовать
любой исторический или социальный процесс, мы в первую очередь вы-
деляем участвующие в нем коллективные образования, начиная сверху,
от самых крупных. Эти образования трактуются как симфонические
личности, и анализ процесса состоит в выяснении того, как и в каких
моментах эти личности «качествуют» (актуализируют себя). При этом,
84
очевидно, отдельная личность, человек, оказывается самою низшей из
личностей, подножием всей их пирамиды; и роль его в процессе видится
только в том, чтобы наилучшим, паиполнейшим образом выразить,
актуализировать в себе все высшие личности, моментом которых он слу-
жит. И видно уже отсюда, из этих немногих слов, что возникающей исто-
рической концепции присущ жесткий примат коллективного над индиви-
дуальным, что в ней сводятся до минимума свобода и вариантность в
истории, умаляются самостоятельность и самоценность человеческой лич-
ности, низводимой до статуса момента высших личностей. Как писал еще
в тридцатые годы Бердяев, «учение о симфонической личности означает
метафизическое обоснование рабства человека» 6. Картина исторической
и социальной реальности являет собой почти безраздельное господство
необходимости.
Из сказанного уже определяется в общих чертах и карсавинская
трактовка революционных процессов. Заметим прежде всего, что для
Карсавина не существует вопроса о причинах революции: он принци-
пиально отвергает саму возможность причинного объяснения в истории,
утверждая неприменимость категории причинности к любому непрерыв-
ному процессу («для применения понятия причинности необходима пре-
рывность» 7 8). Революция — тоже определенное качествование нации-лич-
ности, причем качествование творческое: в нем возникает нечто новое,
творится будущее нации, не повторяющее ее прошлого. Революция есть
явление народное и явление творческое: таково первое положение Кар-
савина. Следующее главное положение — о том, что же творится в рево-
люции. Оно формулируется «от противного»: творится заведомо не то,
чего желают и что, возможно, даже и считают творящимся революцион-
ные вожди. Уже и в ранней, публикуемой ниже статье читатель найдет
эту постоянную мысль Карсавина: противопоставление внешнего и внут-
реннего слоя событий, словесной оболочки лозунгов и программ —
и истинного смысла и содержания революции. Да и сами ее вожди —
только кажущиеся вожди, на деле же — орудия, органы народной и ре-
волюционной стихии. «Большевики лишь приклеивали коммунистические
ярлычки стихийному, увлекавшему их, говорившему и в них течению» “.
К идеологии большевиков, их лозунгам Карсавин относился свысока, по
их практическая деятельность как качествование нации-личности была
для него голосом самой истории: «Большевизм... индивидуация некото-
рых стихийных стремлений русского народа»9 10 11. Отличие от формулы
Карташева очевидно. Отсюда заключалось, что «они (большевики.—
С. X.) власть наилучшая из всех ныне в России возможных» *°.
В евразийский период, когда политические и историософские взгляды
Карсавина стали платформой движения, ситуация неизбежно толкала
к их полемическому заострению. Самой, пожалуй, заметной чертой этого
периода карсавинской социальной мысли является резкий антидемокра-
тизм — такой, для которого «марксизм слишком демократичен и буржуа-
зен» “. В многочисленных статьях, опубликованных им в газете «Евра-
зия», что выходила по субботам в Париже в 1928—1929 гг., демократия
третируется как «распыляющая народ на периодически голосующих ин-
дивидуумов» 12, решительно отбрасывается и заменяется новым принци-
пом «идеократии»: «Так же как и коммунизм, евразийство подчиняет
всю социально-политическую жизнь идее, выдвигая не демократию, но
идеократию» 13. Равным образом текущая активность движения постоян-
6 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. 2-е изд. Париж, 1972, с._30.
7 К а р с а в и п Л. П. Философия истории. Берлин, 1923, с. 11.
8 Т а м ж е, с. 327.
9 Там ж е, с. 329.
10 Там же. с. 325.
11 Он же. Евразийство и проблема класса. «Евразия», Париж. № 9 (12.1.1929)
12 Он же. О смысле революции. «Евразия». Париж, № 1 (24.XI.1928).
13 О в же. Оц-чка и задание. «Евразия», Париж, № 3 (8.ХП.1928).
S3
но вынуждала к политической определенности, требовала политического
отклика — в первую очередь на то, что происходило в России, на все
повороты советской политики, которая между тем все более делалась
сталинской политикой. И на этом пути движение неизбежно оказывалось
в безвыходном положении. Его главным жизненным принципом, самим
импульсом, его породившим, был, как мы говорили, полный разрыв со
всей идеологией и политикой старой России, и уж тем паче с «царством
теней», как часто называли круги, продолжавшие эту идеологию и поли-
тику в эмиграции. В новой же России что ни день множились репрессии
и гонения — на церковь, на крестьянство, на мысль и творчество.
«В Москве черемуха да телефоны, / И казнями там имениты дни»,—
писал в ту пору поэт, который сумел обрести настоящую, пушкинско-
блоковскую, тайную свободу. Но он был на родине, и он не был полити-
ком. А евразийцам в Париже казалось утратой независимости и изменой
будущему страны оказаться в одном лагере с тенями «русской демокра-
тической общественности»; и чтобы этого избежать, лучше было обойти
молчанием очередные казни в России, продолжая в то же время громко
восхвалять преимущества «нового общественного строя». Однако и это,
разумеется, было утратой независимости. Движение деградировало, шли
отпадения и расколы, и становилось фатально ясно, что третьего пути
найти не удалось. «Православная идеократия» с Марксом и Федоровым
(и Карсавиным) в качестве учителей, с народом, образующим нацию-
личность, которая достигает обожения и становится Церковью через по-
средство индустриализации, не распыляясь на периодически голосующих
индивидуумов, оставалась мертворожденной. Сегодня вновь обсуждаются
некоторые из ее идей, и я не хочу брать на себя суда, утверждая, что
никакие из них не способны принести плод добрый. Однако тогда судьба
оборачивалась только тупиком и трагедией. Левая ветвь движения, при-
нимавшая лозунги идеократии, шла неотвратимо ко все более тесной свя-
зи со сталинской политикой. Всех, у кого эта связь достигала и практи-
ческой плоскости, ждала гибель. «Он вошел в контакт с адской машиной,
и она испепелила его» 14 15,— весьма точно выражен этот жребий в одних
записках о том периоде. Среди немногих, чья судьба сегодня известна
и не забыта,— князь Д. П. Святополк-Мирский и С. Я. Эфрон, председа-
тель «парижской группы евразийцев» ‘5. Карсавин же с 1929 г. снова
отошел от движения и надолго оставил не только политическую, но и
философскую деятельность. Только в лагере, перед смертью, он вновь
вернулся к философскому и богословскому творчеству.
* *
*
У философа неизбежен вопрос: каким же образом описанные воззре-
ния Карсавина оказываются возможны в рамках христианской метафи-
зики всеединства? Ведь, казалось бы, весь ее общий дух, да и вообще
дух православного умозрения, как небо от Земли, далеки от евразийского
«футуризма» с его тоталитарными симпатиями. Выше мы бегло просле-
дили связь социальных взглядов Карсавина с его общею метафизикой,
указав, что ключевое звено, связующее эти два раздела его системы,—
концепция симфонической личности. Но этот ответ еще не дает удовле-
творения. Ибо чем же эта концепция дурна? Разве она не является
вполне естественным построением в рамках метафизики всеединства,
прямою философской транскрипцией хомяковского принципа соборности?
Казалось бы, у пращура и потомка одна онтология (всеединства), одна
историософия (православная и славянофильская) — и при всем том со-
14 Гнедин Е. Себя не потерять...— «Новый мир», 1988, № 7, с. 186.
15 См. Берберова Н. Н. Курсив мой. Мюнхен, 1983, с. 693.
86
циальная мысль Хомякова — великолепное свободолюбие, социальная
мысль Карсавина — блестящие парадоксы, служащие «обоснованию раб-
ства». Где же тут скрыты расхождение и подмена? Вопрос этот связан
с самою сутью учений о всеединстве и соборности и представляет не-
малый интерес в разговоре о путях русской мысли. Сейчас, однако, мы
можем дать лишь самый краткий ответ. Именно: концепции всеединства
и соборности не грозят увлечь к тупикам, к метафизическому и рели-
гиозному произволу лишь до тех пор, покуда они развиваются примени-
тельно к совершенному бытию: к умному миру и его аналогам в плато-
низирующей метафизике, к Церкви Небесной в христианском умозрении.
Низведение этих понятий-символов в горизонт здешнего бытия — тонкая,
даже проблематичная операция, относительно которой религиозная фи-
лософия в России не успела выработать единых позиций. Поэтому трак-
товка тварного мира в философии всеединства крайне разноречива,
и у разных авторов этого направления тут едва ли отыщешь какую-то
общую основу. А между тем в православном вероучении, которое все они
признавали для себя духовным ориентирам, есть твердые положения,
говорящие как раз о способе, роде связи совершенного и здешнего бытия.
Это знаменитый паламитский догмат о божественных энергиях, утверж-
дающий, что здешнее бытие причаствует божественному «не по сущно-
сти, а по энергии» — иначе говоря, путем свободного соединения своих
энергий (устремлений, интенций, воли) с божественными энергиями, бла-
годатью: что именуется на Руси издревле «стяжанием благодати». Уче-
ние о стяжании благодати, или «православный энергетизм», искони со-
ставляло глубинную основу православной духовности и в Византии,
и на Руси. Выражающая его исихастская традиция определяет духовный
строй Сергия Радонежского и Андрея Рублева: уже отсюда видны мас-
штабы его значения. Вместе с тем оно необычайно медленно достигало
теоретической кристаллизации, получив закрепление в догмате только
в XIV веке. Богословское осмысление затянулось еще на несколько сто-
летий, а ясного и адекватного философского выражения стихия право-
славного энергетизма не получила и до сих пор. Русская философская
мысль должна была неминуемо подойти к этой кардинальной задаче, од-
нако же не успела этого сделать, ибо ее путь был оборван.
Надо здесь подчеркнуть: постановка этой задачи никак не значит,
что философия, переставая быть философией, уходит в экзотические сфе-
ры мистики и аскетики. Опыт, добываемый в этих сферах, имеет фило-
софские импликации и, может быть, наиболее прямые — в социальной
философии и этике. Наука стяжания благодати стоит на глубоко диалек-
тическом утверждении пути личного богообщения и одновременно — пу-
стоты и ненужности этого пути в отрыве от соборного человеческого един-
ства: «творить внутри себя собор со всеми»; «монах, тот, кто, пребывая в
отдельности, живет в единстве со всеми людьми»; «подвижнический труд,
чуждый любви, неугоден Богу»,— гласят девизы подвижничества. Аске-
тический идеал суверенной личности, следующей своим уникальным пу-
тем подвига, но при этом сущей в соборе со всеми,— этот идеал явно чре-
ват какой-то новой социальной идеей, новой моделью общественных отно-
шений. Острее всех это сознавал Достоевский. Именно сюда ведут идей-
ные поиски его поздних лет, в центре, или, верней, в глубине которых —
тема «русского инока» — суверенной личности, в скиту выкованной и в
мир идущей. Эта последняя тема Достоевского не что иное, как тема о
раскрытии социальных потенций православного энергетизма.
Нетрудно увидеть, однако, что построения Карсавина в социаль-
ной философии и антропологии с позициями православного энергетизма
несовместимы. Ибо благодать — хотя и не сущностная, а энергийная, но,
что первостепенно важно, прямая связь Бога и человека, их общение без
посредников. Меж ^зм в учении Карсавина человек^— «момент» мыслит-
ся осознающим в себе в первую очередь «высшц* всеединые субъекты»,
87
а не прямой зов Божий; и эта его установка заведомо не совпадает с
установкою стяжания благодати. Человек как низший момент иерархии
симфонических личностей бессилен стяжать благодать. Но сами симфо-
нические личности тем паче бессильны это сделать, ибо стяжание благо-
дати отнюдь не деятельность коллективных образований (какими бы они
ни были), а таинственная динамика внутренней жизни человека. В итоге
же иерархические конструкции Карсавина обречены быть принципиально
безблагодатными. И с этим — религиозно несостоятельными. Стоит лишь
уточнить, что все-таки не само понятие симфонической личности — источ-
ник безблагодатности, а только тезис о первенстве, примате личности сим-
фонической над индивидуальной. Но очищение учения о симфонической
личности от этого тезиса потребовало бы радикальных перемен в филосо-
фии Карсавина, которая вся построена на резко несимметричном, не-
равноправном «кузанском» отношении между всеединством и его момен-
том. И надо также сказать, что в полученном итоге повинны не одни
индивидуальные особенности карсавинской мысли, но равно и некие под-
спудные тенденции всей метафизики всеединства и соборной идеологии
славянофилов: известное тяготение и того, и другого к «социоцентризму»,
подавлению единичного всеобщим, индивидуального — коллективным.
Противодействием таким тенденциям и служит стяжание благодати, как
учение и как духовный труд, способ жизни. Для старших славянофилов
этот способ был внятен и близок. Однако поздней происходит отрыв идеи
соборности от идеала стяжания благодати. Противодействие слабеет,
и русская мысль все больше поддается соблазну безблагодатной псевдо-
соборности: если Леонтьев, тоже sui generis футурист, идеализирует само-
державный деспотизм, то евразийцы — уже тоталитарную диктатуру...
Кроме скупых внешних фактов, мы почти не располагаем сведениями
о следующем этапе жизни Карсавина — долгом периоде его работы
в Литве в тридцатые и сороковые годы. Кажется невероятным, чтобы
трагический опыт евразийства не оставил бы на его будущем никакого
следа. Не помышляя навязывать своего ощущения, я все же скажу, что
последовавшее молчание философа, его воздержание от творчества в
моих глазах знаменательно; мне видится в этом род покаяния, по край-
ней мере интеллектуального. Только арест и лагерь освободили его: еще
один парадокс его биографии, в которой, как это подобает истинному фи-
лософу, жизнь следует учению 16, и внешний рисунок послушно повто-
ряет внутренние черты. В бараках инвалидного лагеря у полярного кру-
га, медленно умирающий от туберкулеза, он вновь погружается в рели-
гиозно-философское творчество. Он пишет с поражающей интенсив-
ностью: не менее десяти сочинений создано им за два года каторжной
жизни, прошедших до его кончины в июле 1952 г. Разумеется, эти сочи-
нения невелики по объему, но глубина и блеск мысли в них по-прежнему
не изменяют ему.
* *
*
Вернемся с архипелага ГУЛАГ в революционный Петроград 1920 года.
В этом году, исподволь уже подступая к фундаментам своей будущей
философии, напряженно размышляя над событиями в стране, над смыс-
лом и судьбами развивающейся революции, Карсавин пишет также
статью о Жозефе де Местре. Чем мог быть вызван такой выбор темы?
Период деятельности де Местра никак не входил в орбиту исторических
занятий Карсавина; темы и направление де-местровой ультракатопиче-
ской философии были весьма далеки от нарождавшейся у него право-
славной метафизики всеединства. Тогда случайная просветительская
16 Сравним: «Тогда мысль и развивается, тогда и становится свободною, когда
ее всемерно угнетают и преследуют» (Карсавин Л. П. Философия и ВКП. «Евра-
зия», Париж, № 20, 6.IV.1929).
88
статья? Нет, ни в какой мере: но перед нами очередной карсавинский
парадокс, родство и близость там, где их не заподозрит ленивый ум.
«Бывают странные сближенья...». И, чтоб увидеть это сближенье фигур,
восстановим перед глазами вторую из них, фигуру некогда знаменитого
сардинского посланника при санкт-петербургском дворе.
Граф Жозеф де Местр, старший из десяти детей Франсуа Ксавье
Местра, члена Савойского сената королевства Савойи и Сардинии, полу-
чившего в 1770 г. графский титул и должность второго президента сена-
та, родился в старинном савойском городе Шамбери 1 апреля 1753 г.
Окончив Туринский университет по отделению права, в 1774 г. он начи-
нает службу по судейскому ведомству в Шамбери. Вплоть до Великой
Французской революции течение его жизни мирно и почти заурядно;
он не помышлял быть ни писателем, ни философом, и несколько речей
на случай — единственные его сочинения вплоть до сорокалетнего воз-
раста. При всем том это время не было праздным для его ума: он при-
обретает обширные, энциклопедические познания, испытывает ряд идей-
ных влияний (о чем см. у Карсавина), которые, однако, даже кратко-
временно не колеблют незыблемые устои его убеждений: на протяжении
всей своей жизни граф де Местр — истовый католик, папист и роялист,
«человек старого режима». В 1792 г. войска революционной Франции
занимают Савойю. При революционном порядке, быстро оказавшись
в разряде подозрительных лиц, подвергшись обыску, граф вскоре вынуж-
дается к поспешному бегству. Следующее десятилетие его жизни, 1793—
1803 гг.,— период эмигрантских скитаний: Лозанна, Турин, Венеция,
снова Турин. Именно в этот период он начинает писать: крушение по-
рядка вещей, который он полагал установленным прямою волею Божией,
толкало к усиленной и срочной работе ума. «Размышления о Франции»
(1796) сразу приносят ему славу писателя и мыслителя, отчасти даже
пророка: он никогда не избегал смелых предсказаний в своих писаниях.
В 1803 г. король Виктор-Эммануил I направляет его своим посланником
в Петербург, где ему и предстояло пробыть долгие четырнадцать лет.
Годы в России — значительнейший период в жизни де Местра. В петер-
бургском обществе он приобретает известность, вес, сочувственных слу-
шателей, некое время находится в большой близости к императору, имеет
влияние на него (весьма дурное, по нашим понятиям; «Четыре главы
о России», небольшая работа 1811 г., возможно, внесли свой вклад
в опалу Сперанского). Здесь у него сложились, в главном, и его цент-
ральные сочинения: трактат «О папе» (выпущенный в Лионе в 1819 г.)
и «Санкт-петербургские вечера», знаменитейшая из его книг, вышедшая
уже посмертно. В 1817 г. он возвращается в Турин, столицу сардинского
королевства. Но при дворе он не ко двору своей прямотой, незави-
симостью суждений и явно излишней глубиной мысли. Резиньяция,
мрачные предчувствия окрашивают его последние годы перед смертью,
внезапно наступившею от удара в феврале 1821 г.
Теории де Местра, развитые в его главных трудах, описываются ниже
Карсавиным. Предмет же нашего интереса — сопоставить два творче-
ских мира и творческих облика, увидеть их общее и розное. Немало
взаимных соответствий Карсавин указывает и сам. Нетрудно заметить,
что и вступительная характеристика де Местра, и многое в дальнейшем
анализе неявно строится у него по принципу сходства: в герое отмечает-
ся в первую очередь свое, то, что родственно и близко автору. Так,
целиком относимы к самому автору его строки о саркастичности и пара-
доксализме де Местра, о сочетании личного, эмоционального характера
его писаний с неусыпной заботой об изяществе стиля. Эти свойственные
обоим черты — часть более общего сходства: в де Местре великолепно
воплотился тот тип «философа и светского человека», к которому всегда
тяготел Карсавин и который для галльского духа глубоко органичен
(оттенок некоей светскости присущ, пожалуй, уже самому понятию
89
esprit, что далеко не во всем соответствует нашему «духу»). Но и это
не все. Будущее отбрасывает тень: эту старую максиму трудно не вспом-
нить, думая о Карсавине и де Местре. Знаменательным образом их са-
мые существенные сближения видны, лишь когда перед нами две завер-
шенные судьбы; и Карсавин, когда писал о де Местре, не ведал, что его
ожидает впереди много общего с судьбою его героя. Через два года
после своей «этюды», в 1922 г., он выпускает книгу философских раз-
мышлений «Noctes Petropolitanae», «Петербургские ночи», и тут, конеч-
но, перекличка с де Местром и его «Вечерами» совершенно умышленна.
Но в том же году, осенью, он высылается из России и, повторяя
де Местра уже не по своей воле, как и тот, в сорок лет делается
изгнанником Великой Революции. И, занимаясь впоследствии размыш-
лениями о революции, поисками ее смысла, он, подобно де Местру,
являет собою традиционную со времен Данта фигуру историософа-
изгианника.
Революция — главная общая тема Карсавина и де Местра. Немало
общего у них и в раскрытии этой темы. Добрая доля карсавинского из-
ложения взглядов де Местра на Французскую революцию, как скажет
математик, инвариантна относительно замены Франции на Россию: одно-
временно это суть взгляды Карсавина на Русскую революцию. Общим
прежде всего является сам религиозный подход, поиск религиозного
смысла революции. Разумеется, это сближало с де Местром не только
Карсавина, но и весь круг современных ему русских религиозных фило-
софов; и некоторые из них также обращались к де Местру — прежде
всего Бердяев в своих известных работах «Философия неравенства»
(1918) и «Новое Средневековье» (1921). В глазах левой критики весь
этот подход, от де Местра до евразийцев — выражение клерикальной
реакции на революцию. Эсеровская «Воля России» в статье, воспеваю-
щей «светлое человекобожие республики, демократии, социализма»,
писала в 1923 г.: «Хотя все евразийские приват-доценты и христианст-
вующие профессора очень хорошо знают историю, они не хотят... опоз-
нать в апологете палача де Местре своего предтечу» ". Как мы видим,
в отношении Карсавина обвинение явно несправедливо... Далее, вполне
четко и ясно проведена у де Местра одна из главных идей карсавинской
концепции революции: о расхождении между провозглашаемым и истин-
ным содержанием революции и об иллюзорности всякого руководства
ею. «Этюда» Карсавина дает убедительное свидетельство того, что раз-
дел о революции в его вскоре последовавшей «Философии истории» на-
писан не без сильного влияния мыслей де Местра. Но еще более глубо-
кий и важный факт — совпадение тех, уже не политических, а философ-
ских посылок, на которых базируется указанная идея. У Карсавина,
как мы видели, она вытекает из его концепции симфонической лично-
сти, согласно которой самостоятельными деятелями в исторических и
социальных процессах выступают не индивидуальные, а коллективные,
«высшие» личности. У де Местра же за нею стоят его мысли о един-
стве человеческого рода и еще более тесном единстве нации, в силу
которых каждый индивид — соучастник, общник первородного греха и
всех национальных грехов, и его судьба, суд Божий над ним, опреде-
ляется не столько его личными винами и заслугами, сколько этою
соучастностью. Но отсюда ведь всего шаг до представления о «высших
всеединых субъектах»: субъектом Божественного права, о котором вы-
носит приговор Провидение, является именно некое человеческое сооб-
щество, исторический организм, и судьба индивидуальной личности —
лишь отражение и следствие этого общего приговора. Как выше уже го-
ворилось, стоящая за всем этим онтология решительно расходится
с православной онтологией благодати. Так что в итоге не будет ли пра-
"Мирский Б. Трон и алтарь. «Воля России». Прага, 1923, № 14, с. 40.
90
вильнее считать, что концепция симфонической личности, как раз и
складывавшаяся около 1920 года, больше, чем Хомякову, обязана ультра-
католику де Местру? Взгляд «под де-местровым углом» позволяет уви-
деть новые грани и в ряде других моментов учения Карсавина. Не бу-
дем здесь заниматься этим, отметим только одно: сам конечный исто-
риософский идеал «становления мира Церковью» у Карсавина, хотя
как будто бы и включает сверхэмпирический аспект, однако при отсут-
ствии идеи благодатного преображения человеческой природы рисуется
на поверку не таким уж отличным от историософского идеала де Мест-
ра — глобального подчинения мира (католической) церкви. Наконец,
и сам Карсавин отмечает еще несколько своих философских сближений
с де Местром, усматривая у него зачатки интуитивистской концепции
цельного знания, находя близкие себе мысли об онтологизации смерти.
... Так, в беглой статье Карсавина, не стремящейся к тщательному
анализу, нам обнаруживается важное «недостающее звено», помогающее
восстановить довольно внушительную картину де-местровских, и шире —
католических, отзвуков и влияний в творчестве «славянофила-футуриста».
(Не правда ли, какая причудливая, барочная смесь мотивов?) Этой кар-
тины вполне достаточно, чтобы без колебаний присоединить его имя
к немалому списку русских мыслителей и деятелей, испытавших на
себе влияние автора «Петербургских вечеров». Небезынтересно свести
здесь воедино хотя бы основные имена из этого списка: Александр I —
М. С. Лунин — М. Ф. Орлов — П. Я. Чаадаев — В. С. Печерин —
Ф. И. Тютчев — Л. Н. Толстой — Л. П. Карсавин. Весомость списка
вместе с решительной несводимостью его членов ни к какому общему
знаменателю, наводят на мысль о том, что в фигуре де Местра — мягко
говоря, очень далекого от русофильства! — ощущалось нечто притягатель-
ное для русского восприятия. В начале своей статьи Карсавин при-
водит фразу Сент-Бёва: де Местр «просыпается утром с обнаженной
шпагой и уже готов рубить направо и налево». Но у русского читателя
эта фраза немедленно вызывает в памяти знаменитый отзыв о Хомяко-
ве: по словам Герцена, основатель славянофильства, «как средневековые
рыцари, караулившие богородицу, спал вооруженным» ”. В этой неожи-
данной перекличке образов нам и приоткрывается сродство. Де Местр
действительно очень близок некоторому духовному типу, характерному,
как ни странно, скорее для русской, чем западной культуры и ярко во-
плотившемуся в ранних славянофилах: типу «светского богослова», бес-
корыстного рыцаря веры — но и мысли, Церкви — но и «самобытности»,
органических народных начал. В пределах этого типа, привлекательного
и «своего» в истории русской культуры, он являл, однако, четкую аль-
тернативу славянофильству, которое, разумеется, многих могло и
не удовлетворять. Такова, пожалуй, в беглых словах формула его воз-
действия...
Возвращаясь же в заключение к Карсавину, признаем, что мы опять
были гиперкритичны к нему. Тема влияний не должна заслонять верный
взгляд на него как на оригинального и самостоятельного философа.
Его «этюда» достаточно критична к де Местру и, что еще гораздо важ-
ней, в ней непрерывно ощутим ток противоречия, рождаемый одним
главным расхождением: расхождением между футуризмом Карсавина и
пассеизмом де Местра. В прямую противоположность своему герою
автор «этюды» обращен к будущему, которое для него означает рожде-
ние нового, творчество как «усовершение», преодоление несовершенств
сущего. Эта коренная противоположность не может не сказываться на
всем, создавая решительное несходство их исторического чувства,
философского темперамента, религиозного типа. И потому в их связи
18 Г е р ц е н А. И. Былое и думы. Сочинения в 9-ти тт., т. 5. М., 1956, с. 157.
91
не столько зависимость, сколько притяжение разных полюсов, еще одна
из тех острых антиномий и неожиданных сочетаний, которыми всюду
пронизано творчество Карсавина. Славянофил — историк католичества,
явно не чуждый его влияний. Футурист-медиевист. Создатель учения
о личности, возможно, самого основательного в русской философии,
учащий, что «все сущее лично» 19, и сводящий едва не к ничтожеству
личность отдельного человека... Перед нами поистине doctor subtilis рус-
ской религиозной мысли, и, конечно, мы здесь могли разве что в малой
мере осветить выстроенные им спирали и лабиринты.
Обсуждение и анализ мысли Карсавина будут, надеемся, продолжены:
они имеют сегодня отнюдь не только академический интерес. Из сказан-
ного выше уже видна была явная неустарелость этой мысли, ее тем и апо-
рий, в сфере социальной философии. Но это еще не самое важное. Карса-
вин принадлежит к традиции — и судьба его философского дела неотде-
лима от судеб этой традиции в целом. В центральном, соловьевском русле
русской религиозной философии, творчество его на сегодня — заключи-
тельный пункт, последняя страница развития. И значит: возможно ли воз-
родить это русло, найдутся ли для этого неисчерпанные внутренние ресур-
сы — на все такие вопросы нельзя ответить, не вглядываясь в философию
Карсавина. Как мы уже говорили, насущные задачи самобытного русско-
го философствования связаны ныне с обдумыванием, философскою про-
работкой энергийно-экзистенциальных, благодатных аспектов духовного
опыта православия. И, может быть, именно в метафизике Карсавина всего
отчетливее и резче выявилась та дистанция, которая отделяла еще мысль
Серебряного Века от овладения подобною проблематикой. С другой сторо-
ны, наиболее глубокого продвиженья в ней русская мысль достигла поку-
да в трудах парижского богослова В. Н. Лосского (1903—1958), который
вместе со своим отцом, Н. О. Лосским, покинул Россию, как и Карсавин,
в группе изгнанников 1922 года. Но В. Лосский — ученик Карсавина, он
воспринял многие его важные идеи — в учении о личности, в трактовке
догматов... Что же в итоге? Ситуация Карсавина, его роль в проложении
будущих путей русской мысли снова антиномичны, парадоксальны. И вер-
нее всего выражает их древняя формула, которая всегда сопровождала его
как лейтмотив мысли и души его: Жизнь чрез смерть,— Аще зерно пше-
нично пад на земли не умрет, то едино пребывает: аще же умрет, мног
плод сотворит. (Ин. 12:24.)
19 Карсавин Л. П. О личности. Каунас, 1929, с. 165.
Жозеф де Местр
Л. П. КАРСАВИН
1
Почему именно Жозеф де Местр, этот, по словам Балланша, «пророк
прошлого, почивший среди своих воспоминаний, принятых им за прозре-
ния будущего» *, является предметом этой этюды? Разумеется, не пото-
му, что ее автор далек от переживаемого и продолжает себе занимать-
ся своими прежними работами. И не потому равным образом, что в
настоящий момент [перед концом революции] автор счел уместным обра-
тить внимание на идеолога реакции. Не в реакционности настроений и
мыслей и не во взятых особняком высоких литературных достоинствах не-
преходящая ценность де Местра, литературный успех которого покоится
именно на том, что он не литератор. «Раге il nostro Etna: ha neve in testa ed
il fuoco in Ьосса» *2,— сказал о нем один повстречавшийся с ним в Петер-
бурге сицилианец. Де Местр, остро характеризует его Сент-Бёв, «просыпа-
ется утром с обнаженною шпагой и уже готов рубить направо и налево» 3.
Напряженною страстностью пронизано все написанное этим «Вольтером
навыворот»: и его трактаты, и «Петербургские вечера», и дипломатиче-
ские донесения, раздражавшие чопорный Сардинский кабинет своею
«парижскою иронией», и частная переписка. Его любимое оружие —
насмешка, сарказм; его мысль лучше и ярче всего выражается в блес-
тящем парадоксе, будет ли то глумление над Локком и наукою или
мелодраматическая апофеоза палача4. Де Местр весь, целиком живет
в своих произведениях, всегда неукротимый и напряженный, хотя и ред-
ко теряющий власть над собою или забывающий об остроумной изыскан-
ности салонного causeur’a ** и стилиста. Таков он и в самой жизни,
в успешной своей дипломатической деятельности и столь же неудачной
дипломатической карьере. Верный себе, он не затуманивает порывами
темперамента несколько суровой и даже чопорной своей натуры. Отпрыск
патриархально-феодальной семьи, он проникнут чувством долга, неумо-
лимого и непреклонного, политическими, социальными, религиозными
традициями бурно сметаемого Революцией прошлого. Он честен и верен
своему Богу, своему королю, своему народу. Он честен перед самим со-
бою, сознательно опираясь на создавшее его прошлое, «историчен» и
потому реален. Странное на первый взгляд сочетание французской
живости и восприимчивости ума, остроумия и почти скептической лег-
кости с жестокостью и солидною рассудительностью провинциала, родив-
шегося в медвежьем углу Франции, на окраине Пьемонта — в Шамбе-
ри! 5. «Иногда в моих мечтах,— писал он,— я воображаю, что Природа
несла меня в своем переднике из Ниццы во Францию, но, переходя че-
рез Альпы, оступилась (это, впрочем, вполне простительно для женщи-
ны преклонного возраста), и я растянулся в Шамбери. Ей нужно бы
* «Он похож на нашу Этну: на голове его снег, а на устах огонь» (итал.).
** Говоруна (франц.).
было дойти до Парижа или, по крайней мере, остановиться в Турине»
Как бы то ни было, граф де Местр родился в Шамбери, здесь же же-
нился, сделался сенатором, и только Революция избавила его от «страш-
ной тяжести ничтожества» и не позволила «жить и умереть там, как
устрица на своей скале».
Видимая противоречивость натуры де Местра сразу же останавливает
на себе внимание. «Салонный оратор», как в сердцах отозвался о нем
обиженный его лояльностью к своему маленькому Сардинскому королю
Александр 17, на самом деле один из образованнейших людей своего
времени, вечно с пером в руке читающий древних, средневековых и но-
вых философов, книги по геологии, языкознанию, политике, по всем
отраслям человеческого знания. Бесчеловечный апологет «кары», славо-
словивший палача,— нежный отец и друг, с умиленною грустью зову-
щий к себе своих далеких и близких, мечтатель. Однако еще в 1786 г.,
тридцати трех лет от роду, этот мечтатель, вступая в брак, обнаружи-
вает умилительное благоразумие. «Вы,— пишет он в это время своему
другу,— без труда согласитесь, что мало-мальски разумный человек
вступает в брак со страхом и трепетом... План моего нового жизненно-
го пути короток и прост — воспользоваться теми преимуществами, кото-
рые даровало мне небо. Я — первый и единственный избранник той,
на которой женюсь. Это большое благо, и его не следует упускать...» 8.
Стоит ли выписывать далее? Судьба вознаградила благоразумного жени-
ха по заслугам, и сам он не без иронии называет жену свою «madame
Prudence» * ®.
Жозеф де Местр — ученик французской философии XVII в. Он вос-
питан на «неподражаемом Расине», на «триумвирах великого века»
Ле Брёне, Ле Сюере, Пуссене, на Боссюэ10. Он впитал в себя идеи
«просветителей» и усвоил их метод мышления, радуясь в юные годы
свои уничтожению «феодальных» обычаев, не желая, несмотря на свою
религиозность, господства духовенства, веруя не только в «добродетель»,
айв «общественный договор», впоследствии жестоко им высмеянный.
Де Местр типичный рационалист, даже потом, даже когда он готов пре-
зирать разум, до конца дней своих. Но он любит парадоксы и по свой-
ству своей натуры не относится к ним как к шутке, а принимает их
всерьез. В парадоксе же всегда есть нечто иррациональное, выводящее
за границы разума и разумного постижения. Парадоксальность, если
она не простая форма, сродни мистицизму, она открывает высшее, поту-
стороннее для трезвого рассудка. И действительно, рационалист
де Местр уже рано сделал главным предметом своих занятий богосло-
вие. Он сблизился с кружком лионских иллюминатов, во главе которо-
го стоял Сен-Мартен, внимательно изучал сочинения этого «неизвестно-
го философа», был даже «великим оратором» масонской ложи «Pavfaite
Union» ** 11 и до конца своей жизни не избавился от тяготения к тайнам
природы и христианства.
В чем же принцип объяснения и единства этой видимо противоре-
чивой. но живой и в жизненности своей цельной личности? Глубокая,
органическая религиозность, воспринятая вместе с кровью от скорбевшей
об изгнании иезуитов матери12, развитая под руководством тех же
иезуитов и ими же экзальтированная,— пятнадцати лет де Местр всту-
пил в конгрегацию «Penitents noirs» ***, сопровождавших осужденных на
эшафот, заботившихся о их погребении и душе,— основная черта его
душевности,3. Это религиозность строго ортодоксальная, сурово берегу-
щая традиционные формы, смиренно подчиняющаяся им и проникнутая
уважением к дисциплине; но вместе с тем это религиозность мистиче-
ская, сопровождаемая ощущением таинственной Божьей силы, которая
* Госпожа Осторожность (франц.).
** «Совершенный союз» (франц.).
*** «Кающихся черных» (франц.).
94
живет в традиции, и стремящаяся вступить в общение с таинственным,
разгадать его. Мистический порыв увлекает за грани ортодоксии, но, на-
толкнувшись на них, скользит по периферии и углубляется назад, в тра-
дицию, здоровую и крепкую, как патриархальная семья сурового Фран-
суа Ксавье де Местра, при появлении которого в дверях маленький
Жозеф бросает свои игры и бежит учиться.
Но как разгадать религиозную тайну? Восемнадцатый век знал лишь
рационалистические методы. И де Местр, в молодости руссоист и марти-
нист, умеет выражать и понимать свой опыт только рационалистически.
Этим он убледняет и обедняет его, но сам не беднеет, не теряя его,
живя им. В нем своеобразно и органически сливаются две стихии века —
рационалистическая и мистическая, и область их слияния не отвлечен-
ная сфера рассуждений, а целостность и органичность его личности и
живущего в ней мира. Такова энтелехия его личности, и понятно, что
проблема его в конкретно-данном, в «историческом», оправдываемом
в глубинах мистическом восприятии, рационализируемом и упрощаемом
в понимании. Де Местру родственна революционная стихия в ее твор-
ческом порыве к запредельному, еще не изведанному и манящему,
и чужда в своей рационалистической односторонности. Но ему не менее
родственна и стихия традиционной жизни, корни которой в далеком
прошлом, в историческом материке. Однако рационализм не дает ему
постичь природу этой стихии, как мистицизм не позволяет на ней
успокоиться, и католическое смирение подзаконного христианина вынуж-
дает к подмене проблемы: вместо синтеза традиции с революцией полу-
чается рационалистическое оправдание прошлого.
Не те же ли противоречия неудачника в сочетании серьезного отно-
шения к парадоксу с низведением его на роль апологетического средст-
ва, разлагающего скептицизма со слепою верою, сарказма с пафосом,
рассудительности с мечтательностью? Разумеется, они в соединении
внутреннего напора личности с ее стойкостью и верностью себе, разре-
шаемом в основе самой личности. Вне всякого сомнения, они же в спле-
тении удивительного исторического чутья и исторической прозорливости
с наивною склонностью видеть идеал в прошлом, что так метко отмече-
но приведенным отзывом Балланша.
Но понятая таким образом проблема личности обращается в пробле-
му эпохи, энтелехия де Местра становится энтелехией перерождающе-
гося в глубочайших своих слоях организма народной жизни. И Жозеф
де Местр действительно выразитель дум и стремлений своего времени,
хотя и не совсем в том смысле, в каком это обычно понимается. Нель-
зя забывать, что он — неудачник, и что неудачник — все его время,
не сумевшее высказаться до конца и ясно ни в революции, ни в реак-
ции.
2
В 1796 г. после аналогичных трудов Малле дю Пана (1793) и Сен-
Мартена (1795) и под их влиянием14 появились в свет, без имени
автора, «Considerations sur la France», сочинение примечательное и как
первое выражение идей де Местра, и по существу — как рельефный от-
печаток мыслей эпохи, во многом сродной с той, какую переживаем мы.
«Чем больше присматриваешься к самым по-видимому деятельным
личностям революции, тем более находишь в них что-то Пассивное
и механическое» 15. [При ближайшем рассмотрении они оказываются
ничтожествами.] Более, чем кто-либо, содействовал народному движе-
нию Мирабо, содействовал своими книгами и своими преступлениями.
Когда движение началось, он стал в хвосте уже пришедшей в движе-
ние массы и толкал ее в определившемся уже направлении. Дальше
этого влияние его не распространялось. Он мог волновать толпу, он
95
не мог над нею господствовать. Он думал и говорил, что может спасти
монархию, и не мог... сделаться министром. Деятели революции все
оказываются пешками в руках увлекающей их стихии. Ни Робеспьер,
ни Колло д’Эрбуа, ни Барер не думали о том, чтобы образовать рево-
люционное правительство и ввести террор: они действовали, плывя по
течению. «В руках этих людей, исключительно посредственных, оказа-
лась самая ужасная, какую только знает история, деспотическая власть
над виновным народом. И, конечно, во всем королевстве они более, чем
кто-либо, были удивлены своим могуществом» 16.
«Революционный поток несся по разным направлениям; и наиболее
заметные деятели революции достигали некоторого могущества и извест-
ности, только следуя его течению в данный момент. Лишь только они
пытались ему воспротивиться или хотя бы просто отойти и стать в сто-
роне, позаботиться о себе, как они сейчас же исчезали со сцены».
Не люди руководят революцией, а революция пользуется людьми в своих
собственных целях. Она «совершается сама собой» 17. И, конечно,
не формулы «пешек» выражают ее смысл и цель.
Таким образом, в революции проявляется таинственная стихия жиз-
ни, живо ощущаемая де Местром. Но в этой сатанинской стихии он
усматривает нечто большее. Ничтожество «вождей», которыми она
играет, как пешками, использование ею для своих целей самых, каза-
лось бы, не подходящих для использования элементов общества, ясно
говорит ему о том, что «никогда ни в одном событии человеческой жиз-
ни Божество еще не обнаруживало себя с такою очевидностью», как в
революции18. Так совершенно неожиданно выученик рационалистов
оказывается историком, а пророк реакции и заклятый враг якобинства
постигает и положительно оценивает пафос революционной бури.
Революция — дело Божественного Провидения. Она совершается во
Франции. И это не случайно. «У всякого народа, как и у всякой лич-
ности, есть своя миссия, которую он должен выполнить» 1э. Франция,
духовным сыном которой чувствует себя верноподданный сардинского
короля, первая страна в Европе. «В ней грация сочетается с величием.
Ее разум никогда не бывает печальным, ее сила жестокой, и розы
Анакреона у нее переплетаются с пышными перьями на шлеме Дю-Ге-
склена» 20. Де Местра восхищают даже победы революционных войск.
«Наши потомки, которых мало будут смущать наши страдания и кото-
рые будут плясать на наших могилах, посмеются над нашею тепереш-
ней недальновидностью. Они легко утешатся в тех эксцессах, какие мы
наблюдаем: эти эксцессы сохранят целость королевства, наиболее
прекрасного после королевства небесного» 21. «Да здравствует Франция,
даже республиканская!» «Помимо французов, в нашей Европе не совер-
шается ничего великого. Прозелитизм — их основная черта, их талант,
даже их миссия, и всегда в добре, так же как во зле, будут они вол-
новать Европу» 22. Искони Франция была «старшею дочерью Церкви»;
в этом и заключается ее миссия. Она должна стоять во главе христиан-
ского мира Европы, вести его по пути Божьему. Но путь этот ведет не
к новому христианству, как думает Сен-Мартен, а к истинному и веч-
ному христианству, такому, каким оно было всегда. Франция забыла
свой долг и во зло употребила ниспосланные ей дары. Устами своих
философов она распространила среди европейских народов нечестие;
в галликанстве, отрицая верховенство папы, в XVIII в. она устремилась
к установлению своей независимости от Бога. За это она должна была
понести возмездие, и в очищающем страдании кары заключен смысл
революции. Такое понимание де Местром революции, усматривающее
наибольшее приближение к идеалу в дореволюционном прошлом и сво-
дящее значение всего революционного периода к значению искупитель-
ного страдания, в значительной степени обеспложивает улавливаемую
де Местром творческую стихию жизни. Оно ограничивает цели револю-
96
цпп сравнительно узкими пределами частичных исправлений прошлого
и очищения-искупления. Творчество стихии перестает быть творчеством,
а идеал кажется уже данным в далеком прошлом. На мгновение глубо-
ко постигнув суть революционной эпохи, де Местр сам закрывает себе
путь к дальнейшему ее постижению, начиная подменять надежды вос-
поминаниями.
Однако прошлое живет в будущем и его предвосхищает. Противо-
естественный, казалось бы, синтез рационалистических и Боссюэтовских
идей развертывается у де Местра в ряде глубоких и метких построений.
— Можно ли видеть в революции кару, раз, очевидно, пострадали и не-
винные? «Невинных жертв,— отвечает на это де Местр,— меньше, чем
нам кажется. Нельзя считать невинными тех, кто разрушал религиозную
веру народа, кто с помощью метафизических софизмов посягал на осно-
вы государственного строя. И разве не заслуженно гибли на эшафоте
ученые, сеятели революционных и безбожных идей? Странно ожидать
от Провидения снисхождения к преступнику только потому, что он зна-
тен, знаменит или учен, когда именно в силу учености своей он наибо-
лее и виновен. К тому же наши, человеческие, оценки вовсе не абсо-
лютны. Мы плохо разбираемся в вопросах о благе и зле, подавляемые
тысячью условностей и предрассудков. Мы осуждаем дерущихся на но-
жах и признаем почетною и благородной дуэль на шпагах. Разумеется,
у Провидения иная мерка для человеческих действий» гз.
[Мы скользим в наших оценках по поверхности явлений и не усмат-
риваем за прекрасными словами о благе народа, свободе и т. д. тайных,
иногда очень низменных мотивов, ведомых Божеству. Наконец, нельзя
ограничивать круг виновных только проявившими себя. Не желавшие
революции, все поддерживавшие ее своей пассивностью тоже виновны,
тоже заслужили кару.
Виновен весь французский народ и виновен в тягчайшем преступле-
нии. Весь он посягнул на суверенную власть и на невинного ее носи-
теля, убитого «во имя парода» среди 60 000 вооруженных людей,
из которых ни у одного не нашлось пули для Сантерра. Париж и про-
винции молчали. Скажут, что они были к тому вынуждены. «Францу-
зы! если вы находите этот довод убедительным, не говорите так много
о вашем мужестве или согласитесь, что вы плохо пользуетесь им»24.
Попытка оправдаться лишь лицемерие, которым не отвратить неизбеж-
ной кары,— «Каждая капля крови Людовика XVI будет стоить Фран-
ции целых потоков крови; может быть, четыре миллиона французов
заплатят своею головой за страшное народное преступление — за проти-
ворелигиозный и противообщественный мятеж, увенчанный цареубийст-
вом» 25. И кара уже наступила: убийцы обратились к взаимоистребле-
нию, выполняя этим неведомую им волю Провидения. Действительно,
представим себе, что карать принуждена будет восстановленная королев-
ская власть. Не будет ли тогда она поставлена в совершенно невозмож-
ное положение? Ведь не может человек сам судить убийцу своего отца.
Кара неизбежна и необходима, но, если ее будет осуществлять королев-
ская власть, она покроет себя кровью. Тогда повторится террор. Неуже-
ли же нужно поставить новую, королевскую гильотину, собрать палачей
со всего королевства, топить и расстреливать артиллерией виновных?
Если же ограничиться только казнями вожаков, справедливость удовлет-
ворена не будет. «И тут мы снова можем дивиться порядку, господст-
вующему в беспорядке. Для всякого, кто хоть немного поразмыслит,
очевидно, что главные виновники революции могли пасть только под
ударами своих же сообщников» 2в.]
Не следует ли отсюда, что для Жозефа де Местра правы эмигранты
эпохи Революции? — Нп в коем случае. Успех эмигрантов обозначал бы
собою гибель Франции. А она должна была быть спасена, и спасти ее
могли только якобинцы27. Завоевание Франции означало бы ее расчле-
97
пение, и хуже этого —оно бы привело «к трехсотлетней резне как не-
избежному последствию нарушения равновесия». Перед французами,
переживавшими страшную деспотию кровавых тиранов, стояла роковая
дилемма: или бороться вместе с этими тиранами и защищать отечество
от гибели, погибая, может быть, под их ударами, или же — бороться с
ними, но вместе с тем и с Францией, стоявшей на краю гибели. В этом
мрачный трагизм революционной эпохи, находящий себе, как и всё,
последнее объяснение в плане Божества. «На самом деле,— говорит
де Местр от имени «избранника», воображаемого им француза-патрио-
та,— мы сражаемся не за правительство, а за Францию... [ и за буду-
щего короля]. Наш долг — победить в себе заставляющее нас колебать-
ся отвращение. Современники, может быть, оклевещут паше поведение;
потомство — оценит его справедливо» 28.
Итак, в 1796 г., утверждает автор «Considerations», якобипизм спас
Францию, но спас не для себя, а для пришедшей затем власти [и для
законной династии Бурбонов]. Таинственная сила пролитой невинно
крови омыла Францию, оплодотворила ее почву, «могущую взрастить
гения». Якобинское правительство сковало единство страны, собрало ее
силы и этим выполнило свою задачу. Более оно не нужно и более су-
ществовать не может. Действительно, что значит установить конститу-
цию? Это значит, повторяет де Местр мысль Монтескье, «найти соответ-
ствующие данному народу законы, приняв во внимание население, его
нравы, религию, географическое положение, политические отношения,
богатства, его хорошие и дурные качества» 29. Народ представляет со-
бой живой организм, и у каждой нации есть свои основные черты, свой
характер, властно определяющий ее конституцию. «Какие мы слепцы!
Как можем мы думать, что у политического организма нет своего зако-
на, своей души, своей зиждительной силы и что все течет по произво-
лу блуждающего человеческого невежества?»30. Происхождение любой
конституции столь же теряется во мраке времен, как и происхождение
старых династий. Конституции зарождаются и растут в таинственной
глубине жизни. В конце концов их создает само Провидение; а уж, ко-
нечно, конституции Конвента или Директории не имеют к нему ника-
кого отношения. Эти конституции годятся для всех народов и госу-
дарств, «от Китая до Женевы», т. е. не годятся пи для кого3*.
Они составлены для «человека», а не для француза. «Выдуманного вами
человека вообще нигде на свете не увидишь, потому что его нет в при-
роде. Я встречал на своем веку французов, итальянцев, русских и т. д.,
благодаря Монтескье я знаю, что можно быть даже персом, но я реши-
тельно заявляю, что выдуманного вами «человека» я не встречал ни разу
в моей жизни». Писаная конституция — «клочок бумаги». Она хорошо
известна. «На ней нет таинственной печати помазания» 32. Она «бездуш-
на, а между тем вся суть дела в народном духе, которым стоит госу-
дарство». Нигде и никогда разум не создавал государства посредством
какого-то контракта: везде, начиная с глубокой древности, оно само вы-
растало из религии, или, точнее,— его растил Бог.
Республиканская форма правления, с точки зрения де Местра, явля-
ется, по крайней мере для Франции, чем-то внешним; она не коренит-
ся в природе французского народа. Созданная во время войн, она погиб-
нет как только наступит мир.
[Отсюда с необходимостью вытекает, что «все порожденные револю-
цией чудовища ... трудились лишь для королевской власти. Чрез их по-
средство блестящие победы вызвали удивление вселенной ... Чрез пх
посредство король вновь взойдет на трон во всем блеске своей власти
и своего могущества, может быть — даже более могучим, чем преж-
де» 33.]
Таковы пути Провидения, «таинственной силы, играющей человече-
скими решениями». И народ, и те, кого называют его вождями, лишь
03
слепые орудия в руках Божества. «Эти люди, взятые вместе, кажутся
тиранами толпы. На самом доле над ними стоят два или три тирана,
а над двумя или тремя — один. И если бы этот один человек захотел
или смог раскрыть свою тайну, все увидели бы, что он и сам не знает,
как захватил власть, что его влияние для пего самого более непостижи-
мая тайна, чем для других, и что обстоятельства, которых он не мог
ни предвидеть, ни создать, сделали все за него или без него» ”.
[Якобинская диктатура необходима была для реставрации Бурбонов,
и эта реставрация неизбежна. Произойдет же она самым простым и
естественным образом. «Может быть, четыре-пять человек дадут Фран-
ции короля. Париж оповестит провинции о том, что во Франции есть ко-
роль, а провинции воскликнут: «Да здравствует король!» В самом Па-
риже, за исключением кучки человек в двадцать, все, проснувшись,
узнают новость, что у них есть король. «Возможно ли зто? — восклик-
нут они.— Вот странная история! В какие ворота он въедет? Хорошо бы
заранее нанять окна, а то, пожалуй, задохнешься в толпе» ”.
В «Considerations», быстро разошедшихся в нескольких изданиях и до-
ставивших автору как широкую известность, так позже и внимание Напо-
леона, в основных своих чертах дана вся развитая им впоследствии религи-
озно-философская система. Ясно острое и отчетливое сознание психических
свойств народа как чего-то данного, понимание нации как живого орга-
низма. Народная жизнь воспринимается как мощная стихия, исключаю-
щая возможность рационалистических построек и перестроек общества и
государства. И эту таинственную и темную стихию де Местр ощущает в
ее иррациональности, являющейся для него указанием на проявление в
ней Божественной воли. В живом ощущении силы традиции де Местр
как бы сливает наблюдаемые и анализируемые им факты со своими соб-
ственными чувствами, с живущим в нем духом его среды и семьи.]
Революция разбила привычный уклад жизни и заставила де Местра
оставить и родное Шамбери, и семью. Тем полнее и острее осознал он в
себе то, чем жил и что по-прежнему жило в нем. Рационалистическая
односторонняя попытка перестроить общество отрезвила рационалиста,
и он понял тщету наивных усилий человеческого разума и мощную
силу органической исторической жизни. Народ — «политический орга-
низм», живущий по своим внутренним законам, не имеющим ничего об-
щего с отвлеченными теориями. Эти теории плавают на поверхности,
а те, кто их высказывает, пытаются осуществить вовсе не их — они
слепые орудия народного духа. Тайна истории почуяна. Надо ее разга-
дать. Если в основе всего «народный дух», должен быть смысл и в его
волнении, как-то отражаемый самими отвлеченными теориями. Ведь «на-
родный дух» устраивает революцию и в ней стремится к чему-то новому,
как-то уже оправданному”. Это «новое» — будущее французского наро-
да, растущее из его прошлого п настоящего, а в будущем Франции —
будущее Европы и человечества. Мистически улавливая его, де Местр
улавливает и его религиозный, вселенский смысл. Но как определить,
познать цель темной стихии? Цель не в отвлеченно-рационалистических
формулах вожаков, но в высокомерном отрицании прошлого: она связана
с прошлым, хотя и лежит в будущем. Чтобы определить ее, надо выйти
за пределы прошлого и настоящего, выйти за грани традиции; для этого
необходимо увидеть новые категории жизни, выработать новые понятия.
Подобная задача де Местру не по силам. Он слишком живет прошлым ”,
слишком само прошлое: пророк повернулся спиной к будущему. Он слиш-
ком насыщен настоящим и умеет бороться с рационализмом только его
же оружием. И вот он ищет разгадки будущего в том, что прошло, сми-
ряясь перед непостижимостью; начинает рационализировать минувшее. Со-
вершается религиозное событие. Но все религиозное уже формулировано
католическою церковью, и ничего нового в христианстве быть не может.
Прошлое неблагополучно, греховно. Значит, смысл в освобождении его от
99
греха, в очищении его, а вовсе не в чем-то новом. Забыв, что народ —
организм, что народ растет, развивается, де Местр вопреки себе самому
уже отрицает творческий момент народной жизни: все дело в очищении
от греха карою. Но очевидно, что кара есть нечто внешнее караемому:
она ниспослана как своего рода безумие Провидением. Идеальный чело-
веческий порядок, воплощенный, хотя и греховно, в прошлом,— божест-
венный порядок: в нем выражается цель Божества. Но цель эта в рацио-
налистическом толковании необходимо понимается антропоморфически,
а потому у де Местра идеальный монархический строй оказывается отра-
жением Божественной монархии. Проблема человеческой жизни воспри-
нята религиозно и сведена на проблему религиозную, но сама религиоз-
ная проблема в антропоморфическом рационалистическом истолковании
оказывается проблемою суверенитета. Этим дана основная идея всей фи-
лософской теории; этим же она обречена на односторонность, прирав-
нивающую ее к теориям революционным. Правда, у нее есть одно важ-
ное преимущество.— Поскольку прошлое переживает себя в будущем,
оно позволяет кое-что видеть из этого будущего, наметить кое-какие мо-
менты, чего не может сделать теория, отрицающая настоящее и стремя-
щаяся формулировать еще неведомое.
3
В политике Жозеф де Местр — монархист, в философском своем учении
прежде всего верующий католик и ученик иезуитов. Его не смущают
«выводы науки».— «Науки подобны солдатам, которые, как швейцарцы,
продают себя всякой партии»38. Как для средневековых схоластиков,
науки для де Местра — «служанки богословия» 39. Выше всего он ставит
то, что называют истиной. Однако де Местр вовсе не отрицает науки.
По его мнению, нет принципиальной противоположности между знанием
и верой. И задача будущего совсем не в отказе от науки, но в новом
синтезе ее с философией и религией, в котором должно быть соблюдено
правильное иерархическое соотношение этих трех элементов. В том и
ошибка философии Бэкона, роковая для всей европейской мысли, что
Бэкон извратил порядок сфер знания и отвел стоящим на последнем
месте естественным наукам первое. Но на первом месте должна стоять
религия 4°, на втором философия, на третьем наука. Никаких вопросов
и сомнений не вызывает подчинение науки философии, которая одна
только и может дать первое основание всякой науке. Иначе обстоит
вопрос с отношением философии, а следовательно и науки к религии.
Между наукой и философией принципиального различия нет, и приори-
тет второй нисколько не грозит самостоятельности первой. Не может в
самом деле постигаемый и обосновываемый разумом частный факт, отно-
сящийся к области той или иной научной дисциплины, противоречить
основоположениям разумного знания, формулируемым философией. Что-
либо из двух: или частный факт постигнут нами неверно, и тогда фило-
софия укажет путь к правильному его постижению, или неверно общее
философское положение, и тогда под влиянием факта оно должно быть
выражено иначе. Но есть ли подобное же взаимодействие между религи-
ей, с одной стороны, и философией (и наукою), с другой? Оно возмож-
но лишь в том случае, если существует особое религиозное (мистическое)
познание, которое не исключает, но содержит в себе и обосновывает раз-
умное, в нем проявляясь41. Я уже указывал, что такое познание фак-
тически де Местру свойственно, позволяя ему постигать «народный дух»,
божественную стихию жизни и ч<елове>ка. Однако теоретически он не
допускает наличность этого познания в сфере философского мышления и
возможность человеческих открытий в области религии, где все раз на-
всегда установлено и ясно. Да и сама религиозная вера представляется
ему не познанием, а простым смиренным принятием того, что дано в от-
100
кровении и формулировано церковью и что поэтому человеком может
лишь постигаться. А так как философское постижение в этом случае яв-
ляется только рациональным, и постижение религиозного неизбежно
должно стать его рационализированном.
«Сущность всякого духа заключается в познании и любви. Пределы
его познания — пределы его природы. Бессмертное существо не воспри-
нимает ничего: по сущности своей оно знает все, что должно знать» 42.
Таким образом человеку самою природою его поставлены границы воз-
можного для него познания, как, впрочем, поставлены подобные же гра-
ницы и всякому иному творению, и животному. Эти границы природы и
познания определяются тем местом, которое данное существо занимает во
вселенной. Так, собака, видя то же самое, что и мы, познает меньше —
только то, что она должна познать, как собака. Она воспринимает тре-
угольник, второй, третий, тысячный, но никогда не воспринимает тре-
угольное™, как не воспринимает единства, двоичности и т. д.43. Все эти
и им подобные идеи (треугольность, единство и пр.) со всех сторон осаж-
дают ее, касаются ее, но она познавать их не может, потому что в ней
нет «врожденных идей» всего этого, а без них нельзя воспринимать вы-
ражающие их явления, символы или знаки как таковые. Идея необхо-
димо предшествует своему воплощению, предшествует онтологически,
объективно. Она объективно же воплощается или выражается: иначе мы
бы не воспринимали ее в этих выражениях. А так как собака выражений
идеи треугольности в воспринимаемых ею треугольниках не воспринимает,
необходимо предположить, что идея предшествует акту познания и
субъективно, т. е. что она врожденна. Всякое существо воспринимает
лишь те идеи, которые ему врожденны. И человек тоже познает лишь
стоящее в соотношении с его врожденными идеями, которые и составля-
ют его как человека — «son etat d’homme» *. Однако важное преимуще-
ство принципиально отличает человека от животного: животное, ограни-
ченное своими врожденными идеями, не знает того, что оно ничего не
знает за их пределами, тогда как человек сознает и знает это 44.
Таким образом, идеи являются основанием, причиною и двигателем
познания. Они обнаруживаются в действии как инстинкт, руководящий
одинаково и животным, бегущим от дикого зверя, и человеком. Но что
такое эти идеи сами по себе? Для де Местра они отождествляются с по-
нятиями (notions), с мыслящей сущностью. Однако, будучи понятиями,
идеи могут сглаживаться из познания. Надо, говорит де Местр, отличать
идею от ее утверждения (affirmation) 45. Разумеется, у ребенка во чре-
ве матери нет ясной идеи гипотенузы, нет утверждения этой идеи46.
Разумеется, можно ошибаться, и ошибается язычник, веруюпцш во мно-
гих богов. Но это ошибки в утверждении, в рассуждении, подобные
ошибкам в счете и нисколько не указывающие на ложность идеи. Идея
всегда истинна. Она существует и обусловливает самое возможность
ошибки язычника, так как без идеи Бога он не мог бы говорить о богах.
Врожденные в нас идеи — сама наша созданная Богом сущность. Де
Местр не склонен думать, что «мы видим идеи в Боге», иначе говоря —
он не допускает единства познающего ума с Богом. Он принимает дан-
ное Фомою Аквинским определение истины как «равенства (equation)
между утверждением и его объектом» 47. И. выдвигая учение о прирож-
денное™ или созданное™ в уме человека идей, де Местр тем самым дво-
ит мир, обособляет объективные идеи от субъективных (хотя сам он это-
го различения и не проводит) и, вопреки мистическим своим устремлени-
ям, вырывает непереходимую бездну между человеком и Богом. Последним
критерием истины для него не может быть непосредственное восприятие
Абсолюта или идеи как мысли Абсолюта. Последнее основание истины
для человека — сама его идея, но она не может вывести за пределы че-
• «Статус человека» (франц).
101
ловеческого сознания. В конце концов все познание покоится на том, что
Бог вложил в человека идеи или создал его сущность как систему идей.
А так как идея не всегда ясна и не обладает самоочевидностью истины,
обосновать ее можно только окольным путем, т. е. верою, ссылкою на
авторитет и эмпирическую всеобщность, в конце концов — традиционным
религиозным утверждением.
В «утверждении» идей, в формулировке их человек может ошибаться.
С другой стороны, совокупность идей для де Местра не укладывается во
внутренне обоснованную систему. Поэтому вероятность ошибки кажется
ему очень большой, а недоверие его к разуму очень велико. Индиви-
дуальный разум подвержен всякого рода заблуждениям. И чтобы обос-
новать возможность знания, де Местр принужден прибегнуть к учению
об «общем разуме», «1а raison generale». Идея, присущая всем людям,
тем самым уже и истинна. Правда, врожденные идеи в человеческом уме
потемнены и искажены. Но во всяком народе, во всяком индивидууме
сохраняются, по крайней мере, их следы. И в согласованности этих
следов, в «общем мнении», вскрываемом путем внимательного анализа,
гарантия истины. Такими гарантированными общим мнением истинами
являются основные догмы христианства, в частности догма Троичности.
Ясно далее, что необходимым руководителем познания должен быть
авторитет. Его следует предпосылать всякому рассуждению,— «Челове-
ческий разум, очевидно, бессилен руководить людьми, так как мало кто
в состоянии хорошо рассуждать и никто не может хорошо рассуждать
обо всем. Таким образом, что бы там ни говорили, всегда хорошо начи-
нать с авторитета» 48. Это и делает де Местра «апологетом», заставляя
его во всех своих рассуждениях исходить из несомненных положений
католической догмы и признавать единственною задачею разума оправ-
дание или обоснование веры. Если бы де Местр сам думал и писал по
своему рецепту, его произведения, вероятно, были бы очень бледными и
скучными. К счастью, им руководила не замечаемая им самим и неоце-
ниваемая интуиция, позволяющая во внешней и данной догме улавли-
вать новое, непосредственно и мистически ощущаемое. Для апологета он
слишком своеобразен. Он думает, что отстаивает предание и только пре-
дание, но во многом он понимает это предание по-своему и способен за-
щищать его лишь постольку, поскольку оно раскрывается ему как исти-
на. Борьба за предание с наукой на самом деле — искание в нем и в
этой науке еще неясной истины. Отсюда вытекает странное па первый
взгляд явление. Думая, будто он излагает давно известную истину, де
Местр строит новую, погружаясь в прошлое — открывает будущее.
И глубоким смыслом полна судьба де Местра-писателя, столь подобная
судьбе де Местра-католика. Оба не ко времени: их время или отрицает
прошлое, или не хочет будущего 49.
Внимательный читатель, наверно, уже усмотрел, что в системе де
Местра, в исходных ее положениях, раскрываются те же противоречия,
которые мы отметили в его личности и судьбе. Он глубоко ощущает цен-
ность данного — ценность мира и познавания его, увлеченный исканиями
человеческого ума, пламенно живя ими. Но ему не менее присуще со-
знание целостности, единства мира и единства знания, позволяющее ему
видеть односторонность узконаучных, рационалистических построений,
то, что можно и следует назвать корнем всякого релативи-зма. Однако,
понимая системность знания и абсолютные основания его, он смиренно
склоняется пред этими основаниями и невольно переходя на почву про-
тивников, становится апологетом традиционной веры, принципиально от-
казывается от искания и всю свою энергию направляет на бесполезную
в конце концов борьбу в пределах релативизма.
Просветительская философия пыталась понять мир как стройное це-
лое, созданное Богом и развивающееся по неизменным и рациональным
законам, которые Он установил и в действие которых с момента творения
102
Он не вмешивается. С этой точки зрения, во вселенной не должно быть
места случаю, как не должно быть ему места и в жизни человечества,
в которой все можно предусмотреть и предвидеть. Но, как указывает де
Местр, «прекрасная теория системы неизменных законов прямо привела
бы нас к фатализму и превратила бы человека в статую» 5°. Только це-
ною вопиющей непоследовательности философы-деисты могли говорить о
том, что общество и государство должны быть построены на основаниях
разума. Из затруднения возможен лишь один выход: необходимо допу-
стить (как об этом свидетельствует всеобщность идеи молитвы), что че-
ловеческая свобода совместима с Богом, не только создателем, но и миро-
правителем. Вне всякого сомнения, Бог движет всем, но каждое творение
движимо Им по законам своей природы, созданной тем же Богом. А если
так, то нет места безраздельному господству законов и находится место
для чего-то не поддающегося рационализации. Де Местру очевидна фа-
тальная неудача всех попыток рационализировать жизнь, не подчиняю-
щуюся воле человека. Он живо ощущает иррациональную стихию, рас-
страивающую все планы людей. Правда, он, ученик просветителей, не-
обходимых законов не отвергает, но он видит, что всего с помощью их
не объяснить. С другой стороны, ему ясна свобода человеческой воли,
мыслимая только в том случае, если есть сфера, изъятая из-под действия
законов. Наконец, если допустить безусловное господство законосообразно-
сти и принять точку зрения деистов, т. е. точку зрения полного безбо-
жия и нечестия, придется отрицать воздействие Божества на созданный
мир и отвергнуть идею Божественного Провидения, о которой де Местру
с непререкаемой убедительностью говорят и его внутреннее мистическое
чувство, и всеобщность идеи Провидения, и церковный авторитет. Для
него вполне возможно построение, примиряющее необходимость и свобо-
ду. Именно — можно представить себе Бога не только «первым двигате-
лем», Творцом и Законодателем, опочившим от дел своих, но Творцом и
Законодателем, действующим в самих своих законах, и только в них.
Тогда Бог действует и в человеке, действующем законосообразно и при-
чинно-обусловленно, а человеческая свобода лежит в иной сфере, в более
глубоком слое бытия, содержащем в себе бытие эмпирическое. Такое бы-
тие нуждается и в преобразовании понятия времени, и в установлении
правильного соотношения между временем, вечностью и сверхвремен-
ностью или сверхвечностью. «Человек,— говорит де Местр,— подчинен
времени, тем не менее по природе своей он времени чужд, чужд настоль-
ко, что сама идея вечного блаженства в соединении с идеей времени его
тяготит и пугает» 5*. Однако автор, выставляя приведенное положение
только для того, чтобы объяснить пророчества, не делает из него всех
необходимых выводов, как не доводит он до конца своей идеи об особой
законосообразности каждого свободного существа. Он ищет примирения
необходимости и свободы по другому пути, облегченному для него недо-
верием к разуму и высокомерным пренебрежением к позитивной науке.
Создавая мир, Бог установил его на основе вечных и неизменных за-
конов, которых обычно не нарушает. Однако в Его власти отменять и
изменять эти законы, действовать вне их и вопреки им. Нарушение Бо-
гом законов и является чудом, предполагающим существование законосооб-
разности. Этого для обоснования человеческой свободы и постоянной
деятельности Провидения еще мало. И де Местр предполагает, что у
всякого закона есть своя, подверженная без нарушения его изменениям
«гибкая часть» («1а partie flexible de la loi») S2. «Неизменные законы»
не охватывают всей сферы бытия, оставляя простор случаю, т. е. свобод-
ной, внезаконной воле Провидения и человека. Законы предоставляют
человеку известную свободу действия, пределы которой, правда, ему не-
известны или известны очень несовершенно. Человек живет и действует
«в сфере, вечно изменяющейся по воле Предвечного Геометра, который
расширяет, суживает, останавливает или движет свою волю, не изменяя
103
ее природы» ”. Поэтому-то и нужно молиться, прося о возможном, т. е.
не выходя за пределы подвижной части закона. Так, мы не станем мо-
литься о том, чтобы в Сибири росли оливки, а в Провансе — клюква. Но
мы можем молиться о том, чтобы мороз пощадил провансальские оливки,
а зной не испортил клюквы 54. И то, и другое случается, но лежит вне
сферы неизменности. На данную местность приходится определенное за-
коном количество гроз, но закон не предусматривает, чей именно дом
должен быть поражен молнией. Известное количество людей в данном
году должно умереть, но этим еще не предрешается род их смерти и т. д.
Таким образом, законы предоставляют довольно широкий простор дея-
тельности Провидения и человеческой свободе (уже свободе, а не осо-
бой законосообразности человеческой природы, о чем де Местр забыл).
И только свободою человека можно, по мнению де Местра, объяснить
происхождение зла.— Бог зла не создавал: Он лишь допустил существо-
вание зла, созданного свободною волей человека.
Нет надобности указывать на несостоятельность найденного де Мест-
ром остроумного, но наивного компромисса. Гораздо интереснее роль,
которую он играет во всей системе автора. Благодаря ему де Местру
удалось развить теорию Божественной монархии, чрезвычайно напоми-
нающей монархии земные, что еще более подчеркивается сравнением
Божьего мироправления с царствованием какого-нибудь Людовика XIV,
который тоже сообразовывался с обычаями и нравами своего народа,
хотя и обладал неограниченною властью. Такое антропоморфическое
представление о Боге смущать нас не должно. Ведь Бог создал человека
по образу и подобию Своему. Поэтому естественно, что земная монархия
подобна небесной, и о первой позволительно заключать по второй. Без
всякого колебания де Местр может переносить на Божью власть то по-
нятие суверенитета, которое он развил еще в 1796 г. в применении к
человеческому обществу и государству. Можно даже сказать, что рели-
гиозно-философская система де Местра не что иное, как расширенная на
все бытие теория суверенной власти, коренившаяся в традициях и воз-
зрениях той среды, которая его взрастила и образовала.
Итак, Бог — государь, управляющий миром так же, как папа управ-
ляет церковью, а Людовик XIV управлял Францией. Но в рассмотрении
Божьего мироправления главное внимание де Местра устремлено не на
конечные его цели и задачи, а на частности, связанные с земною
жизнью человечества. В лучшем и современнейшем своем произведении,
в «Петербургских вечерах», де Местр занят исследованием «путей Про-
видения в управлении Его моральным миром», «тайною Божественной
метафизики», и старается объяснить видимость благополучия злых и не-
счастья добрых.
Зло создается человеком. Бог допускает его как наказание и искуп-
ление, восстанавливая тем попираемую человеком справедливость. «Без
сомнения, телесное зло не могло проникнуть в мир иначе, как в силу
греха свободных творений; оно не может находиться в нем иначе, как
средство исцеления или искупления, а следовательно, Бог не может
быть его непосредственным виновником» ”. Как заслуженная кара зло
осуществляется в действиях человеческого правосудия, в болезнях и
страданиях, которыми Бог наказывает за пороки и грехи. «Всякое зло,
или, выражаясь точнее, всякое страдание, является карою, налагаемою
за какое-либо совершенное или унаследованное преступление» 56. И так
как цель Провидения заключается в моральном воспитании людей, нака-
зание оказывается самым лучшим средством для достижения этой цели.
Кара — необходимый атрибут верховной власти, т. е. и власти Бога, и от-
ражающей ее власти государя. Право карать обладает Божественным
происхождением и Божественно как выражение Божьей воли. Ведь Бог
передал государям эту прерогативу потому, что хотел, чтобы люди управ-
лялись людьми же; и в осуществлении своей карающей власти государи
104
по преимуществу являются представителями Божества. Но отсюда выте-
кает и необходимость существования человека, предназначенного для
осуществления кары, т. е. палача. Палач — одно из лучших доказательств
того, что Бог действительно управляет миром.— Невозможно указать мо-
тив, который бы побуждал человека казнить и мучить себе подобных:
палач — «существо необъяснимое», загадочное тем более, что церковь до-
пускает его в свои храмы и вне выполнения своих ужасных обязанно-
стей он пьет, ест и живет, как и все прочие, сторонящиеся от него люди.
Для существования палача необходимо было особое волеизъявление, осо-
бое «fiat» * Божественной мощи. Бог — творец суверенной власти. Вме-
сте с тем Он и творец кары как единственной основы человеческого об-
щества, создатель палача 57.
Обычно сомневаются в справедливости распределения между людьми
страдания, и этого сомнения не устранить предположением, что справед-
ливость будет восстановлена на небесах. Указывают далее на судебные
ошибки, на благоденствие злых, на несчастья праведных. Прежде всего
не следует преувеличивать и довольствоваться внешним объяснением
случаев такого рода. Допустим, что человек невинно осужден. Возможно,
что в данном преступлении он не виноват, но это не исключает вероятия,
что ранее он совершил какое-нибудь другое, оставшееся нераскрытым.
Если же так, то в конце концов он наказан все-таки справедливо. Мы
считаем человека страдающим невинно. Но мы ведь не знаем его прош-
лого, не знаем душевного и морального его состояния и не можем поэто-
му правильно судить о справедливости или несправедливости ниспослан-
ного ему всеведущим Богом страдания. К тому же вопрос ставится не-
правильно. Ведь о несправедливости можно говорить только в том случае,
если «преступление вообще счастливо, а добродетель несчастна» 58. Но
такое положение совершенно недоказуемо и произвольно, так как мы
имеем дело не с преступлением и добродетелью, а с живыми, конкретными
людьми. Вопрос надо ставить совсем иначе: «Почему в земном бытии
праведный не изъемлется из зол, поражающих виновного, и почему греш-
ник не лишен благ, которыми наслаждается праведный?» Праведный, от-
вечает автор, страдает не как таковой, а как человек. Равным образом
и грешник благоденствует не потому, что он грешен, а потому, что он че-
ловек s’. Вопрос, следовательно, сводится к проблеме существования на
земле зла, которое падает одинаково и на добрых и на злых. Это не-
оспоримый факт, и он необходим для того, чтобы мог существовать сам
миропорядок, который, несомненно, разрушился бы в том случае, если бы
действие физических законов, бесстрастно несущих зло и благо, пришлось
обусловливать нравственным состоянием людей. Вообще говоря, мы не
можем отделаться от наших человеческих представлений, которые де
Местр в данном случае считает к Божеству неприменимыми. Люди нака-
зывают индивидуумов. Бог карает все человечество в целом.
Эта падающая на все человечество кара предполагает и виновность
всего человечества. Все люди происходят от одного Адама, все представ-
ляют собою некоторое внутреннее единство, своего рода организм. Это
единство непонятно для нашего ограниченного временем ума, но оно не-
сомненно и ощутимо мистически. Оно растет и крепнет в добродетели,
разрушается в грехе и пороке, но оно существует всегда как единство
жизни и ответственность за общий грех. Согрешив, отпав от Бога, чело-
вечество как бы объявило Ему войну, и в мировой битве, как и в земном
сражении, одинаково гибнут и правые, и виноватые индивидуально,
хотя в единстве своем, как люди, равно виноваты все в°. Таков закон
земного бытия, закон взаимоистребления всех живых существ, беспощад-
ной борьбы за существование. «Где ... во всей природе можно встретить
применение либерального и гуманного закона справедливости,— я не
♦ «Да будет» (лат.).
105
знаю. В общей экономии природы одни существа неизбежно живут на
счет других и питаются другими. Основное условие всякой жизни за-
ключается в том, что высшие и более сильные организмы поглощают
низшие и слабые» 61. Борются друг с другом за существование, предвос-
хищает де Местр идею Дарвина, и растения, и животные, и люди. Глу-
пые все еще верят, что войны вызываются честолюбием государей и что
когда-то наступит всеобщее братство пародов. На самом деле войны не-
избежны как следствие богоустановленного закона разрушения. Война бо-
жественна — недаром сражающиеся, руководимые смутным инстинктом,
молятся Богу битв 62. Де Местр ощущает таинственное значение войны,
глубокую внутреннюю связь уничтожения и облагорожения. И ценность
его идеи не в том, что он предвосхищает теорию Дарвина, а в том, что,
ощущая Божественность закона взаимоуничтожения, он приближается к
одной из величайших тайн абсолютного Бытия. Только и здесь рацио-
нализация мешает ему довести свою мысль до конца, выйти за пределы
эмпирической действительности. Правда, связуя земную борьбу с грехов-
ностью человечества, он связывает ее и с идеей искупления, но само
искупление он понимает только А.его обращенности к земле, .не как факт
Божественной жизни. Точно так же невыясненною „ остается смерть как
необходимое условие воскресения сз.
Благодаря тому, что человечество едино, страдают не только злые, но
и добрые, а небо дождит на праведных и неправедных. В том же единст-
ве человеческого рода укоренена и объясняющая видимую незаслужен-
ность страданий возможность замещения мук одного муками другого.
Идея искупительной жертвы, которой посвящен трактат де Местра «О
таинствах» («Eclaircissements sur les sacrifices»), известна уже глубокой
древности: мы находим ее и в Индии, и в Карфагене, и в Дагомее,
и в Риме, и в Мексике. Это — одна из врожденных идей, в полноте сво-
ей осуществленная искупительной смертью Христовой, позволившей за-
менить человеческую жертву символической жертвой на алтаре.
«В преступлениях зачаты мы» — таково общее убеждение человече-
ского рода. Мы виноваты перед Богом и должны искупить свою вину
жертвой. Но виновность человека заключена «в его чувственном начале,
в его жизни, в душе, столь заботливо отличаемой древними от духа или
ума» S4. «Жизненное начало», чувство или жизнь, находится в человече-
ской крови. «Жизненность крови, или, лучше,—тождественность крови и
жизни является фактом, в котором нисколько не сомневалась древность
и который снова был признан в наши дни. Точно так же старо, как мир,
мнение, что разгневанное на плоть и кровь небо может быть успокоено
только кровью. Ни один народ не сомневался в том, что в пролитии кро-
ви есть искупительная сила. Конечно, ни разум, ни безумие не могли
выдумать эту идею; еще менее могли они заставить всех признать ее.
Она коренится в последних глубинах человеческой природы... Вся теория
покоилась на догме заместимости. Всегда верили и будут верить, что
невинный может искупить виновного, и отсюда заключали, что менее
ценная жизнь могла быть принесена и принята взамен другой, более
ценной. Поэтому приносили в жертву кровь животных...» Но, руководясь
тем же инстинктом, среди животных выбирали «наиболее полезных, наи-
более кротких, невинных и близких к человеку по своему инстинкту и
своему нраву», «наиболее, если можно так выразиться, человеческих» в5.
И все это освящено не только общераспространенностью, но и призна-
нием со стороны закона Моисеева.
Идея искупительного значения пролитой крови «породила страшное
суеверие человеческих жертв» 66, объясняемое недостаточным понимани-
ем самой идеи. Язычество во всех своих заблуждениях сохраняло зерно
истины, и все народы «согласно верят в чудесную действенность добро-
вольного самопожертвования со стороны невинного, который сам отда-
ется Божеству как искупительная жертва». Этому учит предание, это
106
подтверждается историей. Кровь Лукреции изгнала Тарквиниев, кровь
Виргинии — децимвировС7. Наибольшею древностью отличаются семьи,
потерявшие наибольшее количество своих членов на войне. И велико
значение искупительной жертвы Людовика XVI, кротко принявшего нис-
посланную ему смерть за его народ. Искупление — вселенская идея, лож-
ные понимания которой устранены христианством. Христос омыл своей
кровью небеса и землю, всю совокупность миров, если они существуют
и нуждались в искуплении. «Алтарь был в Иерусалиме, но кровь жертвы
омыла вселенную» 6В,— повторяет де Местр слова Оригена. А с делом
искупления Христова тесно связаны и прочие искупительные жертвы —
«частные искупления»,— принесенные мучениками и святыми. И если
кровь Христова, таинственно омывшая все человечество, до сих пор омы-
вает нас путем приобщения нашего к ней в таинстве евхаристии, кровь
мучеников сливается с нею, и, по словам Златоуста, «ангелы поспешают
всюду, где льется истинная кровь истинных жертв» в9. Но искупление
кровью лишь высшее выражение искупительного страдания вообще.
Всякое добровольное страдание, всякое воздержание, аскетизм и посты
невинных замещают собою кары виновных.
Добровольное страдание предполагает свободу. Ее обосновать де Мест-
ру нетрудно: стоит только перенести в моральную сферу те соображения,
которые им высказаны о законах вообще.— Возможны изъятия из-под
власти общего закона страдания путем чудесного воздействия на него со
стороны Божества. Но и сам закон в «подвижной» своей части предо-
ставляет человеку широкую свободу. Человек изобрел громоотвод, чтобы
предохранять себя и свои жилища от ударов молнии; он нашел лекарст-
ва против разного рода болезней. Точно так же может он бороться с по-
роками, укрепляясь в добродетели. Он может просить Бога о помощи,
уверенный в том, что Бог не только справедлив, а и милосерд, может
высылать ему свою молитву, «дыхание своей души» 7°. Нельзя сомне-
ваться в действенности молитв. Если бы они были бесполезны, не
было бы врожденной идеи молитвы, более того — не было бы и религии.
Никакими доводами разума нельзя опровергнуть силу молитв, которые
для де Местра являются видом мистического приближения к Божеству.
В стихийных бедствиях осуществляется кара, молитва может их устра-
нять. Если же молитва и не исполняется, смущаться не следует. Кто зна-
ет, насколько она была искренна, чиста и полна?
В «Петербургских вечерах» главное внимание автора сосредоточено
на нравственном мироправлении Провидения, на повторяющихся, так
сказать, формах воздействия Божества на мир. Несмотря на идею един-
ства человечества и живое ощущение органичности развития, само разви-
тие в его целом де Местра занимает мало. Впрочем, «Петербургские вече-
ра» так и остались незаконченными, что с чисто худонаественной точки
зрения, может быть, является даже их преимуществом 7Г, В других сво-
их произведениях, особенно в трактате «О папе», автор ближе подходит
к вопросу о цели развития. Он понимает ее традиционно и несколько
внешне, хотя и склонен иногда ожидать нового откровения,— Цель всего
развития человечества заключается в торжестве католической церкви. Де
Местру кажется, что исторические факты с достаточной убедительностью
свидетельствуют о жизненности и блестящем будущем папской церкви.
В Средние века страшные ереси потрясали церковь, но и альбигойцы,
и гуситы исчезли, не оставив после себя ощутительных следов,— Рим
восторжествовал. Точно так же несут в себе семена разложения и со-
временные ереси. Накануне своей гибели ненавистный де Местру янсе-
низм и галликанство, по какому-то роковому заблуждению соблазнившее
великого Боссюэ. Очевидны симптомы разложения в протестантских
церквах. Внутренне противоречиво учение англиканской схизмы, стара-
ющейся сохранить авторитет и иерархию, несмотря на отрицание того и
другой. Бесконечное дробление наблюдается в лютеранстве и особенно —
107
в наиболее характерной и опасной форме протестантизма, «современного
магометанства» 72, в кальвинизме, который представляет собой дерзкое
восстание против разума общего, гордыни против смиренного подчинения
авторитету. Остается восточная церковь.— Она достаточно уже обнару-
жила недостаток внутренней дисциплины, столь ярко сказывающийся на
положении православного духовенства, неспособность к строительству и
организации мира, неуменье сохранить догматическое единство и пред-
отвратить появление множества сект. Восточная церковь — труп, «cadav-
re gele» *,3. Она должна возвратиться в лоно апостольской римской
церкви. Симптомы этого уже появились в целом ряде индивидуальных
обращений. И те же симптомы возвращения к Риму де Местр хочет ви-
деть в церквах протестантских.
Де Местр подчеркивает единство, дисциплинированность и жизнен-
ность римской церкви. Ее не одолели ереси Средних веков. Не могла ее
сломить и буря революции, из которой она вышла обновленною, омытою
кровью павших мучеников и усилившеюся. Папа был лишен светской
власти — светская власть к нему вернулась, и на Венском конгрессе
было признано почетное первенство его среди земных государей. Фран-
ция, первая страна в Европе, боролась с церковью и мыслью и делом;
Франция же должна привести ее к окончательной победе. Франция —
старшая дочь католической церкви, обладающая неодолимой силой про-
паганды, и заразительность революционных идей лучшая гарантия успе-
ха обновленной французской монархии, когда она возьмется наконец за
выполнение своей истинной, религиозной миссии.
Одиннадцатая беседа «Петербургских вечеров», к сожалению, не до-
веденная до конца, подводит нас, но только подводит, к воззрениям де
Местра на цель и ближайший этап развития человечества. Наиболее
важные и интересные заявления этой беседы вложены в уста сенатора,
и. мнение графа должно было быть изложенным в последней, ненаписан-
ной части. Сенатор ожидает — и в этом граф ему сочувствует — перево-
рота в жизни человечества. Склоняясь к иллюминатству (как в молодо-
сти сам автор), сенатор считает нужным погрузиться в более глубокое,
возвышающее над буквою изучение Писания и за его образным, симво-
лическим языком искать указаний на «величайшее событие в установлен-
ном Божеством миропорядке, событие, к которому мы идем с ускоренной
быстротой» 74. Распространяется и становится всеобщим ожидание чего-
то чрезвычайного. Некоторым даже кажется, что переворот уже начался
и «французский народ должен быть могучим орудием величайшей из
революций» ”. Может ли быть ошибочным это почти общее мнение?
Науки становятся религиознее, и Ньютон возвращает нас к Пифагору.
Скоро, по мнению сенатора, должен появиться гений, который даст же-
ланный синтез науки и религии, разумеется,— подчиняя первую вто-
рой ”. Иначе говоря, наступает время третьего откровения ”, симптома-
ми которого являются падение религии и какой-то заговор против церк-
ви всех ее врагов. Все говорят о том, что «мы быстро идем к какому-то
великому единству» 78 и что «новое излияние Святого Духа может быть
ожидаемо на вполне разумных основаниях» ”. Так говорит сенатор, ко-
торому не хватает только русской национальной идеи, чтобы развить
теорию, подобную теориям Тютчева и Достоевского80. Может быть, он
выражает сокровенные чаяния самого де Местра. Как бы то ни было, в са-
мой неоконченной беседе граф более чем сдержанно относится к мечтам
своего друга. Он скептически смотрит на попытки учеников Сен-Мартена,
отказавшегося перед смертью от помощи служителя церкви, чтобы вплавь
перебраться через раскинувшееся перед ними море: сам он спокойно бу-
дет спать на полуторатысячелетнем корабле Св. Петра 8‘.
Обледенелый труп (франц.).
103
Де Местр чувствует, что мир чреват и готовится к рождению. «Мне
кажется,— пишет он,— что всякий истинный философ должен выбирать
одну из двух гипотез: или создается новая религия, или каким-то чрез-
вычайным образом обновится христианство» 82. Конечно, сам он склоня-
ется ко второй «гипотезе». Но в чем может заключаться это предстоящее
«обновление христианства»? — Прежде всего в восстановлении его един-
ства, «потребность в котором ощущают все религиозные люди»83.
И де Местр, резко, но ясно и точно оценивая всю нереальность идеи
Священного союза, принятого государями Европы из вежливости и из
страха84, тем не менее видит в нем одну из фаз начинающейся револю-
ции и думает, что «только русский император может объединить церк-
ви» 85. Однако это объединение должно быть восстановлением папской
власти над всеми христианами и возвращением к тому средневековому
прошлому, в котором искал своего идеала де Местр.
Уже в «Considerations» де Местру ясно, что общественность является
естественным состоянием человека, а не результатом какого-то фантасти-
ческого социального договора. Общество создано Богом так же, как и че-
ловек. Но общество не может существовать и не может быть мыслимо без
верховной власти, без суверенитета. Этот суверенитет, делающий общест-
во государством, нельзя выводить из общественного договора, как нельзя
выводить из него и само общество. Следовательно, происхождение суве-
ренитета божественно. Не случайно загадочно и таинственно начало вся-
кой династии и всякой власти. «Необходимо, чтобы происхождение суве-
ренной власти всегда казалось находящимся вне сферы человеческой
власти» 86. Формы суверенитета могут быть различными: республикан-
скою, монархически-конституционною и т. д., в зависимости от природы
данного народа, но по существу своему суверенная власть всегда абсо-
лютна. «Государство есть тело или организм, которому естественное чув-
ство самосохранения предписывает прежде и более всего блюсти свое
единство и целость, ради чего оно безусловно должно руководиться од-
ною разумною волей, одною традиционною мыслью... Вы строите ваше го-
сударство на элементах розни, разброда, которые вы стараетесь привести
к искусственному единству грубыми способами, узаконяя насилие боль-
шинства над меньшинством. Вы рассчитываете опросом стремлений и
инстинктов конечностей организма заменить регулирующую кровообра-
щение деятельность сердца. Вы тщательно собираете и считаете песчинки
и думаете из них построить дом». Революция, провозгласив право народа,
провозгласила и право индивидуума. Она освободила индивидуума от
всякой силы над ним и тем подвергла опасности раздробления и рассея-
ния само государство. Отрицание суверенитета, т. е. абсолютной, безапел-
ляционной власти, с необходимостью ведет к отпадению провинций, об-
ластей, к распаду национального единства и торжеству эгоистического
индивидуализма. Не следует обманываться внешностью.— Суверенная
власть не выливается необходимо в форму монархии: в Англии она со-
средоточена в руках короля и парламента, в Венеции — в руках аристок-
ратического совета, во Франции XVII в.— в руках короля.
Но если во всяком государстве, какова бы ни была его конституция,
есть суверенитет, если всякая конституция связана с нравами и исто-
рией данного народа, наилучшею формою суверенной власти все-таки
является абсолютная монархия. Она и древнее, и совершеннее прочих.
При аристократическом строе нация раскалывается, при демократиче-
ском она крошится до тех пор, пока от нее не останется ничего, кроме
«буйной пыли». «Монархия — воплощение отечества в одном человеке,
в излюбленном и священном носителе и представителе идеи родины».
Чувство подданного к своему монарху «сильно, потому что оно чуждо
всякого расчета, глубоко, потому что свободно от всякого анализа, и не-
поколебимо, потому что оно иррационально. Человек, говорящий: «мой
король», не мудрствует лукаво, не совещается, не заключает контрактов».
109
Монарх абсолютен и ни с кем не делится своим суверенитетом. Он не
может ошибаться и неприкосновенен. Но при всей абсолютности своей
власти монарх отличается от азиатского деспота. Он осуществляет свою
власть определенным образом, делегирует свою судебную власть, мо-
рально связан правами ремонстрации со стороны определенных собраний.
Он связан «священными законами, которые тем более истинно консти-
туционны, что начертаны в сердцах» Де Местр издевается над пи-
саными конституциями, плодом жалких человеческих измышлений, про-
тивопоставляя им истинную, определенную природою национального ор-
ганизма. Всякое нарушение такой конституции опасно, может быть даже
гибельно. Правитель государства должен сообразоваться с нею, со всем
духом и состоянием своего парода. Исходя из этой точки зрения, он в
своих письмах графу Разумовскому об организации образования в Рос-
сии указывает па то, что попытка Петра Великого преждевременно на-
садить в России образование принесла более вреда, чем пользыss. «До
тех пор, пока не обнаружится с полною очевидностью внутреннего бро-
жения, всякая попытка насадить в России науку будет для государства
не только бесполезною, но и опасною. Подобное стремление будет лишь
дущить здравый народный смысл, являющийся во всякой стране охрани-
телем всего, и исполнит Россию бесчисленным множеством полузнаек,
в тысячу раз худших, чем отъявленные невежды, множеством ложно на-
правленных и самонадеянных умов, питающих отвращение к своей стра-
не, вечных критиков правительства, идолопоклонников иностранных
вкусов, мод и языков, людей, всегда готовых разрушить то, что они
презирают, т. е. все» 89.
Разумеется, и в идеализируемой де Местром монархии возможны
злоупотребления, и в обнаружении их последствий заключается великое
значение Революции, «великой и страшной проповеди Божественного
Провидения к людям». «Революция,—говорилось в этой проповеди,—
происходит только от злоупотреблений правительства». Но проповедь
была обращена не только к государям, а и к народам: злоупотребления
все-таки несравненно лучше революций. Тем не менее де Местр ищет
гарантий против произвола монарха, видимо, не довольствуясь только
моральною его обязанностью сообразовываться с неписаной конституци-
ей. В поисках своих он прежде всего обращается к «сословиям» старого
режима — к чиновному дворянству («noblesse de robe»), к которому
принадлежал сам, и к дворянству по происхождению своему военному,
родовому («noblesse d’epee»). Но «то или другое сословие не
должно быть группою, выделяющеюся из народа и организованной ради
выполнения каких-нибудь самостоятельных функций, превращаемых в
политические права. Оно лишь исполнительный орган, служебное орудие
монархии, естественное продолжение суверенной власти (prolongement
de la souverainete). Высшее сословие в государстве предназначено быть
исполнителем и истолкователем предначертаний суверенной власти го-
сударя, передавая ее от центра на места, наблюдая за распространением
и соблюдением ее повсюду». Поэтому дворянство должно заботиться не
о правах, а об исполнении долга, умея распоряжаться, уметь повино-
ваться.
Однако недостаточно и этой гарантии. Государь обязан защищать ре-
лигию и с полным уважением относиться к церкви, что и понятно при
Божественном происхождении власти. Всякий государь, заботящийся о
распространении «законного христианства», обеспечивает себе тем самым
долгое и счастливое царствование. «Если бы я был атеистом и госуда-
рем,— заявляет де Местр,— я бы торжественным эдиктом объявил папу
непогрешимым, для того чтобы установить и сохранить мир в моих вла-
дениях» 90. Для того же, чтобы придать нужную силу религиозном идеям,
лучше всего прибегнуть к испытанному орудию. «Одни иезуиты способ-
ны успешно бороться с нечестивою сектою революционеров, провозгла-
4*0
тающих догмы, которые подрывают безопасность престолов» ”. Связь
монархии с религией одна только может предотвратить злоупотребления
властью, ио для этого необходимы самостоятельность папы и власть его
в светских делах, к чему приводит развитая де Местром теория суверенной
власти.
Церковь представляет собою общество и, как всякое общество, может
существовать только при том условии, если в ней есть суверенная
власть и суверен. Разумеется, что в ней, как в высшем типе человече-
ского общества, суверен должен быть абсолютным монархом, к чему
приводят и чисто практические соображения, вытекающие из распрост-
ранения церкви по всему миру. Таким образом, папа является самодер-
жавным монархом. Его не ограничивают ни каноны, ни соборы, как,
к великому негодованию де Местра, утверждал столь чтимый им Боссюэ.
Абсолютность папской власти как власти всякого государя и еще бо-
лее — как власти наместника Христова покоится на воле Божества;
и эта абсолютность распространяется не только на область управления
церковью, а и на все вопросы веры и морали, в которых папе принад-
лежит право окончательного и неоспоримого решения. Папа в делах ве-
ры ошибаться не может: в них он непогрешим. За полвека до Ватикан-
ского собора де Местр провозглашает учение о папской непогрешимо-
сти или безошибочности (infallibilitas), связывая его со своею теориею
суверенитета.— «Не может быть человеческого общества без правитель-
ства, правительства без суверенитета, суверенитета без непогрешимости.
И непогрешимость необходима настолько, что неизбежно надо допустить
ее далее в земном обществе (где на самом деле ее нет): иначе общество
разложится. Церковь не требует себе ничего большего, чем другие су-
веренные власти, хотя она и безмерно их превосходит, ибо предпола-
гаемая на основе человеческих доводов непогрешимость обещана ей
Богом»8г. Де Местр считает возможным обосновать папскую непогре-
шимость даже путем исторических и эмпирических соображений. Он оп-
ровергает обвинения в ереси, выставленные против некоторых пап. Пе-
реходя в наступление, он приписывает несчастия Франции отрицанию
папской непогрешимости со стороны представителей ее церкви. Со всею
своею страстностью обрушивается он на «отвратительную» янсенистскую
ересь, не щадя даже «чрезмерно восхваляемого» Паскаля93. Не менее
возмущает его и галликанство, которое под свободою французской церк-
ви разумеет свободу оскорблять папу. Он надеется, что перенесенные
французским клиром во время Революции страдания заставят его опом-
ниться и забыть о янсенизме и галликанстве.
Папа — глава церкви и как таковой он должен стоять выше всех
земных государей. Папы незаметно для себя самих стали государями в
Италии. «Невидимый закон возносил римский престол, и можно сказать,
что глава Церкви родился государем. С плахи мученика поднялся он на
трон, которого сначала не замечали, но который, как все великое, не-
ощутимо креп и с самых первых лет своих был окружен атмосферой
невыразимого величия...»94. «Невидимая рука изгнала императора из
вечного города для того, чтобы отдать его вечной церкви ... В одних и
тех же стенах не могли находиться император п первосвященник. Кон-
стантин уступил Рим папе. Непогрешимое чутье народное так это и по-
няло, и отсюда родилась басня о дарении, которая более чем истинна»
(«1а fable de la donation qui est tres vraie») ”. Однако не в этом осно-
вании папской силы дело.— Папа должен обладать властью над земны-
ми государями. Необходимо безусловное повиновение государю. Высший
интерес власти быть справедливою, и редки сравнительно случаи, когда
она об этом забывает. Тем не менее такие случаи бывают, и «характер
некоторых государей может еще увеличить указанные неудобства». Оче-
видно, необходимо допустить, что иногда подданные могут быть осво-
бождены от повиновения своему государю. Но если они сделают это
111
сами, они, как показывает история, только выкуют себе новые цепи.
Для государей нужна какая-то узда. «Горе государям, если они могут
делать все. Действительное всемогущество невозможно столько же в их
интересах, сколько и в наших» ”. И «в силу Божественного закона ря-
дом со всякою суверенною властью находится сила, служащая ей уз-
дой» ”. Это и есть папская власть, своеобразное оправдание самой
революции,— мысль, блестяще развитая Достоевским ”.
Папа может отлучить государя и освободить подданных от долга ему
повиноваться. Он может приостановить действие государевой власти или
передать престол другому. И, устраняя суверена, папа не подрывает этим
суверенитета. Напротив — он его укрепляет. «Народ, видя отлучаемого
короля, скажет: «Наверное, власть его очень велика, очень возвышенна,
выше всякого суда человеческого, потому что судить ее и наблюдать за
ней может только наместник Христов» ”. К тому же не следует при-
слушиваться к воплям философов и представлять себе дело так, будто
папы только тем и занимались, что низлагали государей. На деле все
сводилось к угрозам и давлению. Вольтер называл папу иностранцем.
Но папа не иностранец в своей церкви, не будет он иностранцем нигде,
когда установится единство церкви и охватит она весь мир. «Как вер-
ховный первосвященник папа такой же иностранец в католической церк-
ви, как французский король иностранец в Лионе или в Бордо» 10°.
Боятся злоупотреблений.— Но у всякого государя есть те или иные
опасные недостатки: то он молод, то занят интересами своих близких
или своими собственными, то находится во власти своих страстей как
человек неверующий. Папа же «всегда стар, безбрачен и носит священ-
ный сан, что исключает 99 процентов злоупотреблений и страстей, вол-
нующих государства. Он далеко, и его власть обладает природою, отлич-
ною от власти земных государей: он ничего не требует для себя само-
го» <0‘. И если мы обратимся к истории, она укажет нам на благоде-
тельную роль папства в жизни Европы.
Так теоретическая идея оказывается последним основанием всякой
общественной жизни, и ею завершается религиозно-философская система
де Местра, представляющая собою расширенную на весь мир теорию су-
веренитета.
4
Жозеф де Местр — непримиримый враг позитивистического эмпириз-
ма и рационализма. Он беспощадно разоблачает наивность и непосле-
довательность мысли Бэкона, Локка, Вольтера. Он вскрывает и отвергает
релативизм всех позитивистических и рационалистических попыток вы-
сокомерной и грешной в своем высокомерии науки. Это — разрыв с об-
наружившей свою внутреннюю противоречивость и недостаточность в
области рационалистической философии современностью; разрыв во имя
единого цельного знания. Нет отдельных, самостоятельных наук вне
философии, науки без философии — естественные не могут и не должны
считаться основою знания. Есть только венчаемая философией система
наук. Но и эта философская система не стоит особняком — область че-
ловечевкого знания шире, заключая в себе достигаемое верою; начало же
единства знания не в философии, поскольку созидающая систему науч-
ного знания философия противостоит знанию, основанному на вере. На-
чало единства превышает частичность. И подобно тому, как уничтожает
себя самое попытка подменить философию эмпирической наукой, унич-
тожает себя и попытка рационалистической философии прознать себя
полнотою знания. Так де Местр приходит к идее единого, абсолютного,
основанного на абсолютных истинах знания, не отрицающего, но заклю-
чающего в себе и науку и философию. И здесь мы без труда улавливаем
112
родство его мыслей с теософическими и мистическими устремлениями
Сен-Мартена, учителя Сен-Мартена Мартинеца Пасквалиса, с одной сто-
роны, с тем течением европейской мысли, вехи которого отмечаются тер-
минами и именами: новоплатонизм -- Августин — Эриугена — Ансельм
Кентерберийский — мистика XII века — Экхарт — Николай Кузанский —
Мальбранш, с другой. Это течение с конца XII века, взволнованного
рационалистическим блеском Абеляра, оттеснено на второй план аристо-
телизмом Фомы Аквинского, отвергнуто схоластикой и католичеством,
побеждено в рационализме культуры Возрождения, в герое и мученике
его Джордано Бруно. Оно сделалось уделом немногих, ниспало до ту-
манных мистико-теософических мечтаний, мало уже для кого убеди-
тельных. И сам де Местр — плод рационалистической культуры своего
века, ученик отвергаемых им же философов и верный питомец столь же
рационалистического католичества. Поэтому он не может опознать смысл
и значение основного своего философского мотива. Он силен в критике
и нападках, для чего достаточно и смутного чувства единства. И даже в
критике он в состоянии формулировать лишь процесс саморазложения
рационализма, умеет пользоваться только рационалистическими аргумен-
тами. Когда же ему приходится противопоставить свое положительное
учение, он обнаруживает в себе неисправимого рационалиста,— Наука и
философйя понимаются рационалистически, и тому, чего не может дока-
зать разум, противопоставляется не доказуемое иначе, а недоказуемое
вообще, смиренно принимаемое на веру.
Благодаря этому рационализм раскрывает себя уже не в апофеозе
разума, а в унижении его, в признании безнадежной недостоверности
человеческого знания, иной, чем в кантианстве, хотя и аналогичной,
в некотором смысле, кантианскому признанию. Обособленность человека
с его миром врожденных идей от истинного бытия, может быть и невер-
но выражаемого ими, репрезентационизм, ничего не гарантирующий,—
необходимое следствие основного исходного положения. И в конце кон-
цов последним «может быть» позитивистического рационализма проти-
вопоставляется «может быть» рационализма религиозного. Дело самой
разрушительной критики становится легким. Надо только указать на
«может быть». Но много ли мы выиграем, заменив немотивированную
веру позитивизма слепою верою религии? Предлагаемый де Местром вы-
ход является призывом к старому, до-рационалистическому и уже рацио-
нализированному миросозерцанию. И ценен он постольку, поскольку ра-
ционалистическое отвергает ценное в нем, т. е. отрицает ценное в вере
религиозной; но это ценное, как и прежде, остается потенциальным. Од-
нако ценное в старом религиозном миросозерцании потенциально как
опознанное, и эта потенциальность не препятствует ему быть актуаль-
ным. Оно руководит не опознающею его мыслью, позволяет ей ставить
новые проблемы и усматривать недостаточность иных миросозерцании;
оно изощряет чутье, будит предвидение, примеров чего у де Местра более
чем достаточно. Сознательно он не выше рационалиста; бессознательно
он обладает большим богатством средств познания.
Ограничение себя рационализмом, да еще с уклоном к наивному, тра-
диционно-религиозному, является антропоморфизмом,— В непереходи-
мых границах человеческого знания можно мыслить обо всем только по-
человечески. Принципиальное отличие де местровского антропоморфиз-
ма от наивно-рационалистического невелико. Не столь уже отличается
его антропоморфизм и от антропоморфизма Канта, по непонятному заб-
луждению сравнившего себя с Коперником, тогда как он должен был
себя сравнивать именно с Птоломеем. Но внешние отличия резки и ярки.
Они сказываются в том, что за основание всего берется человеческое —
человеческая психология и логика (ведь даже непостижимость путей
Провидения оказывается очень постижимой), человеческое общество, че-
ловеческое государство. И если просветительная философия антропо-
5 Вопросы философии, Ml 3
113
морфизировала с определенным стремлением исключить все религиозное,
де Местр антропоморфизирует на старый лад. Атомистически конструи-
руемому обществу он противопоставляет общество как организм, вполне
подобный человеческому; общественному договору — изначальность и
божественность суверенитета; республике — сословную монархию; свет-
скому государству и гармонии светских государств — средневековую тео-
кратию. Просветительная философия чертила идеал человеческой об-
щественности, стараясь заменить им религиозный идеал общественности,
т. е., по существу, вскрывала новый момент идеала, абсолютизируя свое
понимание. Де Местр проецирует старый общественно-религиозный иде-
ал в план Божественного бытия, объясняемого теорией суверенитета.
И опять-таки, при всей своей односторонности, при небрежении ценным
в рационалистических конструкциях, он обладает и важным перед за-
щитниками их преимуществом.— Абсолютное выражается и в человече-
ском, а потому, с известной точки зрения, допустимо антропоморфиче-
ское понимание Божества. Оно упрощает проблему, ограничивает, но
оно потенциально богаче, чем отрицание Абсолютного. В нем есть своя
правота, поскольку оно не повторяет старого, а погружает в возможно-
сти нового. Вот почему де Местр как-то двоится, сразу и пророк, часто
подлинный и вещий, будущего, и апологет прошлого. Вот почему в са-
мих заблуждениях и наивностях его чувствуется прикосновение к под-
линной стихии бытия.
Де Местр не выше своего века. Но просветители, одинаково и в тео-
риях своих и в деятельности, ниже его. Они односторонни, выражая
только одну тенденцию эпохи. Де Местр же не только выражает другую,
противостоя им, но органически связан с целым своего века, глубоко
историчен. Он являет нам век Просвещения и Революции в его исходной
целостности, потенциях, смутных вожделениях, как и в том, чем прене-
брегли господствующие поверхностные течения, но что вовсе ими не
устранено. Подлинная, целостная душа века могла сохранить себя от-
нюдь не в оторвавшемся от нее новаторском, «передовом» слое, но толь-
ко в слоях, наименее новизной затронутых. А так как именно эти слои
отвергались новыми людьми, отвергались вместе со всем старым укла-
дом жизни, душа века должна была вылиться в форму борьбы с новым,
в форму консерватизма и даже реакционности. Говоря конкретно, ее
лучшее и наиболее полное выражение следует искать в старой, органи-
чески связанной с жизнью, а потому по условиям времени — провинци-
альной аристократии, связанной с отживающим монархическим строем,
с церковью. И для того чтобы выразить ее, представитель этой среды
должен был стоять на уровне современной ему образованности, т. е.
быть и католиком, и рационалистом. Для того же, чтобы постичь целост-
ность жизни, услышать говорящую в нем душу века, он должен был
быть еще и мистиком.
Душа века противопоставляла себя ограниченности новизны, неиз-
бежно уклоняясь в ограниченность старины и все же являя свою целост-
ность. Она в де Местре постигала известную правоту самой новизны,
но формулировать свое постижение не могла. Ей предлежала высшая
задача — исходя из единства своего подняться над взаимоотрицанием
старого и нового и творить новую жизнь как развитие старой, раскры-
вать единое знание. Но для этого нужно было преодолеть свою истори-
ческую ограниченность, подняться над рационализмом и дерзать на твор-
чество. Это не мог сделать подданный католической церкви, смиренный
рационалист и ученик рационалистов-просветителей. И порыв к проро-
честву выродился в славословие прошлого; попытка самопостижения
подменилась самоизживанием в новых противоречиях старого. Де Местр
оказался пророком не царства Божьего на земле, а... папской непогре-
шимости, завершающей земное царство наследников Петра. Он показал,
что выход не в ограниченности нового; но показал также, что этот вы-
114
ход и не ограниченность старого и что его надо искать в связи со старым
и в синтезе старого и нового, достигаемом путем преодоления рациона-
лизма и католического смиренничанья.
Публикация А, Л, ОСПОВАТА
Примечания
Публикуемая работа Льва Платонови-
ча Карсавина сохранилась в архиве пет-
роградского издательства «Огни», пыие
находящемся в Рукописном отделе Ин-
ститута русской литературы (Пушкин-
ский Дом). С этим издательством, воз-
никшим на рубеже 1900-1910-х гг. и
просуществовавшим до 1922 г., Карсави-
на связывали тесные деловые контакты:
в 1918 г. здесь вышла его книга «Католи-
чество», в 1919 г,— книга «Культура
Средних веков» (обе в серии «Круг зна-
ния»). 25 июля 1919 г. издательство за-
ключило с ним договор на монографию
«История философии Средневековья»,
объемом от 20 до 30 листов, а 15 апреля
1921 г. оно приобрело право на издание
его книги «Очерки религиозной жизни
Италии» (возможно, имелось в виду пе-
реиздание его одноименной монографии
1912 г.) объемом около 20 листов (см.
РО ИРЛИ, ф. 212, № 107, л. 14, 18). Эти
задуманные предприятия не осуществи-
лись, и о судьбе указанных рукописей
мы не располагаем сведениями. В «Ог-
нях» предполагалось также издание кни-
ги Карсавина «Джиордано Бруно»: ру-
копись, переданная 7 декабря 1920 г.
(см. там ж е, № 107, л. 15), в архиве
сохранилась (см. там же, № 26); сама
же книга увидела свет в 1923 г. в берлин-
ском издательстве «Обелиск».
Очерк Карсавина о Жозефе де Местре
предназначался для серии, посвященной
выдающимся мыслителям и историче-
ским деятелям России и Западной Евро-
пы. В планах серии были следующие
книги: Д. И. Абрамовича — о митрополи-
те Евгении Болховитинове, Я. Л. Барско-
ва — о протопопе Аввакуме, А. И. Заозер-
ского — о Н. И. Новикове, А. А. Кизевет-
тера — о А. П. Ермолове, А. Ф. Кони — о
великой княгине Елене Павловне, Б. Э.
Нольде — о М. М. Сперанском, С. Ф. Пла-
тонова - о Борисе Годунове, П. А. Фло-
ренского — об архимандрите Феодоре
(А. М. Бухареве), а также ряд других.
Очерк Карсавина «Жозеф де Местр»
печатается по автографу: РО ИРЛИ,
ф. 212, № 27, л. 1—29 об. Дата в автогра-
фе не выставлена (издательская доку-
ментация, связанная с этой работой Кар-
савина, в архиве отсутствует). Условная
датировка очерка — 1918—1922 гг.
Помимо рукописного подлинника
(подписанного: «Л. Карсавин»), сохрани-
лась машинописная копия первой трети
очерка; возможно, что перепечатка и не
была доведена до конца. Автограф носит
следы правки: в тех случаях, когда купю-
ры имеют автоцензурный характер, соот-
ветствующие фрагменты текста восста-
навливаются нами в квадратных скоб-
ках. Отдельные сокращенные написания
развернуты (отсутствующая часть слова
заключена в угловые скобки). Авторские
описки устранены.
В примечаниях устанавливаются ис-
точники цитат, оговариваются некоторые
фактические ошибки, а также приводит-
ся ряд снедений историко-литературного
характера. Следует отметить, что основ-
ным источником для автора послужила
указанная ниже монография Ж. Когор-
дана.
В Примечаниях приняты следующие
условные сокращения:
.7/7 — Литературное наследство.
Cogordan.— Cogordan G. Joseph de
Maistre. P., 1894.
ОС — Maistre J. de. Oeuvres completes.
Lyon, 1884—1887, t. 1 - XIV.
Sainte-Beuve.— Sainte-Beuve Ch. Oeuv-
res. P., 1951, t. 2.
Triomphe.— Triomphe R. Joseph de Maist-
re. Etude sur la vie et sur la doctrine d’un
materialiste mystique. Geneve, 1968.
1 BallancheP. S. Essai de palingene-
sie sociale. // Oeuvres. P., 1830, t. HI, p. 264,
2 Cogordan, p. 114. Эта цитата, по-види-
мому, восходит к статье Сент-Бева «Жо-
зеф де Местр» (1843); см.: Sainte-Beuve,
р. 445. Карсавин цитирует по Когордану,
повторяя его опечатку: ha вместо 1а.
3 Sainte-Beuve, р. 428.
4 См. «Санкт-петербургские вечера»,
беседа 6 (о Локке) и беседа 1 (о палаче),
5 Строго говоря, Шамбери в пору рож-
дения де Местра принадлежало не Фран-
ции, а Савойе, и только в 1792 г. было
аннексировано Францией, что и послу-
жило одной из причин эмиграции де
Местра. Осознавая себя французским
писателем и мыслителем, де Местр всю
жизнь оставался подданным Сардинии;
с мая 1803 г. по июнь 1817 г. он был сар-
динским посланником в Петербурге.
8 ОС, XII, 243—244 (письмо к шевалье
де Росси от 1/13 октября 1812 г.).
7 Ср.: Vermale F. Joseph de Maistre
emigre. Chambery, 1927, p. 135. Ср. также
в письме Нессельроде П. Б. Козловскому
от 31 марта/12 апреля 1816 г.: «Стремясь
более ослепить, чем просветить окружаю-
щих, господин де Местр домогается вся-
ких успехов, каких только можно добить-
ся в высшем свете, и его чрезвычайное
усердие непрестанно бывать в нем, обра-
тившееся в привычку и настоятельную
потребность, предоставляет ему широкие
возможности пользоваться в избранном
нм кругу властным авторитетом» (ЛН,
т. 29/30, с. 667).
5*
115
8 Письмо к маркизу Коста де Борегару
от 8 сентября 1786 г. (ОС, IX, р. 5; про-
цитировано в: Cogordan, р. 21). Граждан-
ский брак де Местра был заключен
И сентября, церковный — 17 сентября
1786 г. (Triomphe, р. 82).
9 Cogordan. р. 21.
10 Лебрен Шарль (1619—1690), Лесюер
Эсташ (1617 — 1655), Пуссен Никола
(1594—1665) — французские художники;
Боссюэ Жак Бенинь (1627 — 1704) — тео-
лог и знаменитый проповедник.
11 Cogordan, р. 18. В действительности
«великим оратором» де Местр был в
1774—1778 гг. в ложе Trois-Mortiers в Шам-
бери, подчиненной лондонской Grand-
Orient, а в 1778 г., выйдя из нее, он соз-
дал с друзьями ложу Parfaite Sincerite,
находившуюся под юрисдикцией шот-
ландской великой ложи, резиденция ко-
торой была в Лионе; вдохновителем ее
был Ж. Б. Виллермоз, мистик, ученик
Мартинеса де Паскуали; в Parfaite Sin-
cerite де Местр состоял под именем
Josephus a Floribus и имел звание «Eques
professus, благодетельный рыцарь свя-
щенного града» (Triomphe, р. 101—102).
Сближение де Местра с лионскими ми-
стиками носило специфический харак-
тер: он засыпал Виллермоза расспроса-
ми о целях организации, а тот уклонял-
ся от ответа; честолюбивый де Местр
предложил собственную программу реор-
ганизации масонства в «Записке» 1782 г.,
адресованной герцогу Фердинанду Браун-
швейгскому. С мистиком и масоном Луи
Клодом де Сен-Мартеном (1743—1803),
избравшим себе псевдоним «Philosophe
inconnu» («Неизвестный философ»), де
Местр был знаком лично. Направляясь в
1787 г. в Италию, Сен-Мартен специаль-
но проехал через Савойю: проведя в об-
ществе де Местра целый день, оп остал-
ся о нем высокого мнения (в письме к
графу де Валлезу от 25 апреля/7 мая
1816 г. де Местр вспоминает его отзыв:
«великолепная, хотя и вовсе не распахан-
ная земля» — ОС, XIII, 331—332). В пись-
мах де Местра 1790-х гг. есть восторжен-
ные отзывы о книгах Сен-Мартена
«L’Homme de desir» и «I.'Homme nou-
veau» (Triomphe, p. 137, 155). Основные
работы, посвященные теме «де Местр п
масонство», вышли в свет, когда «этюда»
Карсавина была уже написана: см.: Ver-
male F. Notes sur Joseph de Maistre in-
connu. Chambery, 1921; Goyau G. La
pensee religieuse de Joseph de Maistre.
P., 1921; Dermenghem E. Joseph de
Maistre mystique. P., 1923; V u 1 И a u d P.
Joseph de Maistre franc-mafon. P., 1926;
Бердяев H. Жозеф де Местр и масон-
ство.— «Путь», 1926, № 4.
12 Почерпнуто из «Биографической за-
метки» Родольфа де Местра, впервые
опубликованной в кн.: М a i s t г е J. de.
Lettres et opuscules inedites. P., 1851.
13 Descottes F. Joseph de Maistre
avant la Revolution. Tours, 1895, t. I,
p. 91-94. Замечая, что де Местр «лишь в
шестьдесят пять лет решил похвалиться
этой „заслугой11 своей юности», Р. Триомф
делает следующее предположение: в мо-
лодости де Местр пережил религиозный
кризис (реакция на строго патриархаль-
ные нравы семьи), и лишь позднее, рас-
каявшись. вернулся в лопо церкви. «До-
статочно исследовать понятия безбожия,
заблуждения, раскаяния, обращения,
возрождения в творчестве Местра, чтобы
поверить в правдоподобность этой гипо-
тезы, без которой вся его доктрина ос-
тается труднообъяснимой» (Triomphe,
р. 72). Де Местр, вероятно, оттого и при-
шел в зрелые годы к восхвалению авто-
ритета, внеположенного индивидуально-
му разуму, что в юности остро ощущал
относительность всех общепринятых мне-
ний; ср., например, в его «Пяти парадок-
сах» (1795) рассуждение о том, что «пре-
красное — не что иное, как условность и
привычка»: «Повсюду я нахожу с одной
стороны следование традиции, с дру-
гой — снисходительность, усталость и без-
заботность, но нигде не нахожу твердой
основы, на которую мог бы опереться:
все сомнительно, все проблематично.
Если бы древние вернулись на землю,
они, возможно, посмеялись бы над на-
шим преклонением перед ними. Европей-
ское прекрасное ничтожно с точки зре-
ния азиата, да и мы сами не можем
прийти к общему мнению. Мы ссылаемся
на древность, но сама древность опреде-
ляется лишь ржавчиной и патиной. Пре-
красна лишь дата; стоит нам усомнить-
ся в ней, и прекрасное исчезает» (ОС,
VII, 322).
14 Жак Малле дю Пан (1749—1800),
швейцарский публицист-монархист,
в 1793 г. выпустил в Лондоне книгу «Con-
siderations sur la nature de la Revolution
de France et sur les causes qui en prolon-
gent la duree». Книга Сен-Мартена «Con-
siderations sur la Revolution Franfaise»
увидела свет в 1795 г. В основе обоих
трудов — убеждение в провиденциальной
сущности Революции как воздаяния за
грехи человечества и средства создать на
разрушенной основе новое государство
(у Сен-Мартена — теократическое). Эта
тема разрабатывалась в ту пору и в не-
которых других сочинениях, например,
в анонимной книге «Veritable politique а
1’usage des emigres franQais, ou Lettres du
marquis *** au chevalier de ***» (Lond-
res, 1794). Cm.: Baldensperger F. Le
mouvement des idees dans I’emigration
fran^aise. P., 1924, T. 2, p. 84-85. На идей-
ную преемственность между книгами
Сеп-Мартена и де Местра указал Сент-
Бев в 1843 г. (см.: Sainte-Beuve, р. 417—
418); о связи «Considerations» де Местра
с книгами Малле дю Папа и Сен-Мартена
см. в кн.: Cogordan, р. 138—139; ср. так-
же: Шебунин А. Н. Европейская
контр-революция в первой половине XIX
века. Л., 1925, с. 12—36. О некоторых дру-
гих «общих местах» эмигрантской идео-
логии, послуживших питательной средой
для первой крупной работы де Местра,
см.: Triomphe, р. 165—170.
15 ОС, I, 7.
16 ОС, I, 7, 5.
11G
17 ОС. I, 7.
18 ОС, I. 7.
19 ос, i; s.
20 Из «Похвального слова Виктору Аме-
дею III» (1775); процитировано у Сент-
Бева (Sainte-Beuve, р. 393).
21 ОС, I, 18. Последняя фраза, как ука-
зывает в примечании сам де Местр,— ци-
тата из посвящения Людовику XIII,
предпосланного «Трактату о праве вой-
ны и мира» Г. Гроция. По свидетельству
Сент-Бева, весь этот пассаж — одно из
наиболее часто цитируемых высказыва-
ний де Местра (см.: Sainte-Beuve, р. 421).
22 Из письма П. Б. Козловскому от
12/24 октября 1815 г. (ОС, XIII, 169; ср.
Русский архив, 1866, стлб. 1494; ср. так-
же о прозелитизме французов: ОС, I, 24—
25).
23 ОС, I, 8-10.
24 ОС, I, 11.
25 ОС, I, 13.
28 ОС, I, 13.
27 ОС, I, 17. Далее следует любопытное
восхваление ненавистной де Местру дик-
татуры Робеспьера: «Как же противо-
стоять коалиции? Каким сверхъестест-
венным способом побороть всю Европу,
ополчившуюся на Францию? Лишь ад-
скому гению Робеспьера было под силу
совершить это чудо. Революционное пра-
вительство закаляло душу французов,
омывая ее потоками крови. (...) Жизнь,
богатство, власть — все было в руках ре-
волюционного правительства, и это могу-
щественное чудовище, опьяненное
кровью и победами (...) было одновремен-
но и ужасным возмездием, карающим
французов, и единственным средством
спасти Францию» (ОС, I, 17—18).
28 ОС, I, 17.
29 ОС, I, 75.
30 Cogordan, р. 173.
31 ОС, I, 74.
32 ОС, I, 74-75.
33 ОС, I, 19.
34 ОС, I, 119.
35 ОС, I, ИЗ.
36 Ср. в письме де Местра к шевалье де
Росси от 27 апреля/9 мая 1812 г.: «Всеоб-
щие '"беждения (...) иногда ошибочны, но
случается им и служить выражением бо-
жественной воли, которая говорит: «Быть
по сему». Именно поэтому в начале Ре-
волюции убежденность черни, хотя и ка-
завшаяся противной здравому смыслу,
часто пугала меня. Я боялся, что эта вера
в Революцию доказывает, что Революция
ниспослана свыше, ибо без этой веры
Республика не двинулась бы с места, по-
скольку каждый из революционеров опа-
сался бы обнажить свои убеждения,—
однако сомнение ни разу не посетило их»
(ОС, XII, 131). Де Местр видел в «народ-
ном духе» не только «симптом», помогаю-
щий понять волю Провидения, но и сред-
ство подавления индивидуального разу-
ма, впадающего в заблуждения из-за
своеволия: «Все известные нам народы
были счастливы и могущественны по-
стольку, поскольку они свято придержи-
вались советов этого национального ра-
зума, который представляет собой не что
иное, как подавление индивидуальных
догм и абсолютное и всеобщее царство
догм национальных, иначе говоря, по-
лезных предрассудков» (ОС, I, 376).
37 Ср. суждение исследователя книж-
ной истории романтизма: де Местр более
романтик, чем В. Гюго, В. Скотт и другие
знаменитые писатели, так как прошлое
для него — абсолютный эталон; однако,
в отличие от романтиков, полных отчая-
ния, он оптимистичен, ибо уверен в спра-
ведливости всего происходящего (D ё-
г б m е L. Causeries (Tun ami des livres.
Les editions originales des romantiques.
P„ 1887, t. 2, p. 365-366).
38 Cogordan, p. 134.
39 Ср. беседу 5 «Сапкт-петербургских
вечеров» (ОС, IV, 268).
40 Ср. главы III и XIX «Рассмотрения
философии Бэкона» (ОС, VI, 77 и 461).
41 Ср. в беседе 10 «Санкт-петербургских
вечеров»: «Что религия, и даже благоче-
стие, являются наилучшей школой для
человеческого ума, что они приуготов-
ляют его (...) ко всякого рода познанию
(...) это бесспорная истина (...) надобно
подчинить все наши познания религии,
твердо поверить, что мы учимся, молясь,
и, главное, приступая к занятиям рацио-
нальной философией, никогда не забы-
вать, что всякое метафизическое положе-
ние, не вытекающее само собой из хри-
стианского догмата, не является и не мо-
жет являться ничем иным, кроме как
пагубной нелепостью» (ОС, V, 188).
42 ОС, IV, 66 (беседа 2).
43 ОС, IV, 248 (беседа 5).
44 ОС, IV, 250 (беседа 5).
45 ОС, IV, 120 (беседа 2).
46 ОС, IV, 120 (беседа 2).
47 ОС, IV, 115 (беседа 2).
48 ОС, IV, 108 (беседа 2).
49 Об отношении де Местра к времени
дает представление рассуждение о проро-
ках в беседе 11 «Санкт-петербургских ве-
черов», частично процитированное Кар-
савиным ниже (прим. 51): «Пророчест-
ва — в природе человека и никогда не
прекратят будоражить мир. Пытаясь во
все времена и во всех странах проник-
нуть в будущее, человек доказывает, что
не создан для времени, ибо время есть
нечто насильственное и неминуемо долж-
но прекратиться» (ОС, V, 235).
50 ОС, IV, 213 (беседа 4).
51 ОС, V, 233 (беседа И).
52 ОС, IV, 220 (беседа 4).
53 ОС, I, I; см. то же в кн.: Cogordan,
р. 149.
54 ОС, IV, 221 (беседа 4).
55 ОС, IV, 25 (беседа 1).
58 ОС, IV, 159 (беседа 3).
57 Весь пассаж о палаче — пересказ бе-
седы 1 «Санкт-петербургских вечеров».
58 ОС. IV, 14 (беседа 1).
59 ОС, IV, 65 (беседа 2).
89 См. ОС, V. 21 (беседа 7).
81 Ср.: ОС, V, 22 (беседа 7).
82 Ср.: ОС, V, 21 (беседа 7).
83 Послание к римлянам, 6, 3-4,
84 ОС, V, 285.
117
65 ОС, V, 300-302.
66 ОС, V, 305.
67 ОС, V, 346-347.
88 ОС, V, 353.
69 ОС, V, 357.
70 ОС, IV, 211 (беседа 4) со ссылкой на
Сен-Мартена. Вообще молитвам посвяще-
ны беседы 4—6 «Санкт-петербургских ве-
черов».
71 Будущий исследователь, возможно,
поставит в связь интерес Карсавина к
«Санкт-петербургским вечерам» и его
собственную художественно-философ-
скую прозу, составившую книгу с харак-
терным названием «Noctes petropolita-
нае» (Пб., 1922).
72 ОС, V, 243 (беседа И).
73 Cogordan, р. 166. О восточной церк-
ви см.: «Du Раре», ч. IV, гл. I—VI и
«Quatre chapitres sur la Russie», гл. III.
74 ОС, V, 231 (беседа И).
75 ОС, N, 231 (беседа 11).
79 ОС, V, 237 (беседа 11).
77 ОС, V, 241 (беседа 11).
78 ОС, N, 242 (беседа 11). Де Местр по-
лагал, что обновление это свершится на
догматической римско-католической осно-
ве, однако мысль его, выраженная в этом
пассаже, вызвала самые разнообразные
недогматические толкования; так, этот
фрагмент цитирует сен-симонист Э. Род-
ригес в «Письмах о религии и политике»
(1829); см.: Sainte-Beuve, р. 431—432.
79 ОС, V, 246 (беседа 11).
89 Тютчев, испытывавший значительное
воздействие де Местра, в ряде своих ра-
бот (в том числе и незаконченных),
предрекая неизбежное торжество церкви
над «миром зла», связывал его с гряду-
щей православной монархией, призван-
ной объединить западную и восточную
конфессии под эгидой русского императо-
ра (см., например, в его статье 1849 г.
«Папство и Римский вопрос»,—Т ю т-
чев Ф. И. Поли. собр. соч. СПб., 1913,
с. 323—324). Достоевский же в конце
жизни проповедовал, что «великая паша
Россия, во главе объединенных славян,
скажет всему миру, всему европейскому
человечеству и цивилизации его свое но-
вое, здоровое и еще неслыханное миром
слово» («Дневник писателя», 1877,
июль - август. Достоевский Ф. М.
Поли. собр. соч. в 30-и томах, т. XXVI.
Л., 1983, с. 195).
81 ОС, V, 249—250 (беседа И); Карса-
вин ошибся в цифре; у де Местра: «ко-
рабль, который благополучно минует
рифы и ускользает от бурь в течение
восьмисот девяти лет».
82 ОС, I, 61 (ср. то же самое: Cogordan,
р. 170).
83 ОС, XIII, 218 (письмо к генералу
иезуитского ордена в Полоцке от января
1816 г.).
84 ОС, VIII, р. 516 («Письмо к маркизу
...о состоянии христианства в Европе»,
1819).
85 Ср.: ОС, VIII, 518-519; впрочем, там
мысль выражена несколько иначе: «Вся-
кая попытка объединить христиан будет
бесполезной, смехотворной или пагубной,
если ее пе начнет и не продолжит папа»,
однако «ни один монарх в мире не мог
(и по сей день не может) оказать рели-
гии такие важные услуги», как русский
император.
86 ОС, I, 264 («Происхождение и осно-
вания человеческих конституций»). Сле-
дующие далее цитаты— парафразы из
данной работы, а также из «Этюда о су-
веренной власти» (ОС, I, 311—553).
87 Cogordan, р. 175.
88 Ср. также в недатированном донесе-
нии королю Виктору Эммануилу от
1811 г.: «Вообще, Ваше Величество, эта
страна отдана во власть иностранцев,
и только с помощью революции может
освободиться от них. Виноват в этом
Петр, которого именуют Великим, меж
тем как он — убийца своей нации; он от-
носился к ней без уважения, он оскорб-
лял ее, он научил ее презирать самое
себя (прекрасный поступок для законо-
дателя). Он лишил нацию ее одежды,
нравов, характера, государственного
устройства, религии: он отдал ее на ми-
лость чужеземных шарлатанов и беско-
нечных перемен. Одним словом, Ваше Ве-
личество, лекарство здесь возможно
одно-единственное - сильнодействую-
щее, которое излечивает, как сулема»
(ОС, XII, 31).
89 ОС, VIII, 170 (первое из «Писем гр.
Разумовскому об общественном образова-
нии в России»),
90 ОС, XIII, 185 (письмо к монсеньору
Североли, архиепископу Рагузскому,
папскому нунцию в Вене, от 1/13 декабря
1815 г.).
91 Ср. четвертое «Письмо гр. Разумов-
скому...», а также донесение королю Вик-
тору Эммануилу от 31 октября/12 ноября
1811 г. (ОС, XII, 73).
92 Cogordan, р. 178-179.
93 Паскалю посвящена глава IX первой
части книги «De 1’Eglise gallicane dans
son rapport avec le Saint-Siege» (1817—
1820). (Первоначально предполагалось,
что эта книга войдет в трактат «О цапе»
в качестве пятой части.)
94 ОС, II, 194 («О папе», II, VI).
95 ОС, II, 196 («О папе», II, VI).
98 ОС, II, 255 («О папе», II, IX).
97 ОС, II, 255 («О папе», II, IX).
98 Имеется в виду глава «Великий инк-
визитор» в романе «Братья Карамазовы»
(книга пятая).
99 ОС, II, 186 («О папе», II, IV).
199 ОС, II, 259 («О папе», II, IX).
191 ОС, II, 183 («О папе», II, IV).
Примечания В. А. МИЛЬЧИНОЙ и А. Л. ОСЦОВАТА
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
И ПУБЛИКАЦИИ
От редакции. В этом номере мы начинаем публиковать одну из наиболее значи-
тельных работ испанского философа Хосе Ортеги-и-Г ассета (1883—1955) — «Восстание
масс». Многие идеи мыслителя глубоко проникли в культуру XX в., повлияв на сам
способ видения и анализа теоретических и практических проблем. В особенности это
относится к проблемам «массового общества» и «массовой культуры», стоявшим в
центре внимания философа. Наш сегодняшний интерес к его творчеству не в послед-
нюю очередь связан с осознанием значимости и актуальности раздумий Ортеги о при-
чинах стандартизации, усреднения социальной жизни, «омассовления» и дегумани-
зации культуры, предпосылках и сущности тоталитаризма, неоднозначности послед-
ствий научно-технического прогресса.
Разумеется, не со всеми суждениями философа можно согласиться. В частности,
с его пониманием большевизма, размышления Ортеги о революции как социальном
феномене, как сможет убедиться читатель, упрощают существо дела, дают искажен-
ное представление об исторической перспективе.
Философская концепция Ортеги-и-Гассета, изложенная, в частности, в работе
«Восстание масс» (1930), будет подробно проанализирована в послесловие к перево-
ду, которое мы опубликуем в следующем номере нашего журнала.
Восстание масс
ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ
Часть I
I. Скученность *
В современной общественной жизни Европы есть — к добру ли,
к худу ли — один исключительно важный факт: вся власть в обществе
перешла к массам. Так как массы, по определению, не должны и не мо-
гут управлять даже собственной судьбой, не говоря уж о целом общест-
ве, из этого следует, что Европа переживает сейчас самый тяжелый'
кризис, какой только может постигнуть народ, нацию и культуру. Такие’
кризисы уже не раз бывали в истории; их признаки и последствия из- (
вестны. Имя их также известно — это восстание масс.
Чтобы понять это грозное явление, условпмСяГ'что' такие слова, как
«восстание», «массы», «общественная власть» и т. п., мы не будем тол
ковать в узкополитическом смысле. Общественная жизнь далеко не ис-
черпывается политикой; у нее есть, даже прежде политики, и другие
* В моей книге «Расслабленная Испания», вышедшей в 1921 г., я посвятил главу
иод названием «Массы» той самой теме, к которой я возвращаюсь в настоящей кни-
ге. Сейчас моя задача— дополнить сказанное тогда н развить в органическую доктри-
ну, охватывающую и вскрывающую самую насущную проблему нашего времени.
119
аспекты — интеллектуальный, моральный, экономический, религиозный и
др.; она охватывает все наши общие привычки, вплоть до моды на одеж-
ду и развлечения.
Быть может, мы лучше всего уясним себе это историческое явление,
если начнем с одного внешнего факта нашей эпохи, который просто
бросается в глаза. Его легко опознать, но не так-то легко в нем разоб-
раться, и я назову его «скоплением» или «скученностью». Города пере-
полнены людьми, дома — жильцами, отели — приезжими, поезда — пас-
сажирами, кафе — посетителями, улицы — прохожими, приемные знаме-
нитых врачей — пациентами, курорты — купальщиками, театры — зрите-
лями (если спектакль не слишком старомоден). То, что раньше было
так просто — найти себе место, теперь становится вечной проблемой.
Вот и все. Есть ли в нашей нынешней жизни что-нибудь более про-
стое, знакомое, обычное? Однако попробуем углубиться в этот «простой
факт», и мы будем поражены: подобно лучу света, проходящему через
призму, он даст нам целый спектр неожиданных открытий и заключений.
Что же мы видим, что нас поражает? Мы видим толпу, которая за-
владела и пользуется всеми просторами и всеми благами цивилизации.
Но рассудок немедленно нас успокаивает: что ж тут такого? Разве это
не прекрасно? Ведь театр на то и построен, чтобы места были заняты и
зал наполнен. То же самое — с домами, отелями, железной дорогой. Да,
конечно. Но раньше все они не были переполнены, а сейчас в них про-
сто не войти. Как бы это ни было логично и естественно, мы должны
признать, что раньше было иначе, и это оправдывает, по крайней мере
в первый момент, наше удивление.
Удивление, изумление — первый шаг к пониманию. Здесь сфера ин-
теллектуала, его спорт, его утеха. Ему свойственно смотреть на мир
широко раскрытыми глазами. Все в мире странно и чудесно для широко
раскрытых глаз. Способность удивляться не дана футболисту, интел-
лектуал же — всегда в экстазе и видениях, его отличительный признак —
удивленные глаза. Потому-то древние и представляли себе Минерву
совой.
Скученности, переполнения раньше почти не бывало. Почему же те-
перь оно стало обычным?
Оно возникло не случайно. Пятнадцать лет тому назад общая числен-
ность населения была почти та же, что и сейчас. После войны она,
казалось бы, должна была уменьшиться. Но здесь как раз мы приходим
к первому важному пункту. Индивиды, составляющие толпу, существо-
вали и раньше, но не в толпе. Разбросанные по свету в одиночку или
мелкими группами, они вели раздельную, уединенную жизнь. Каждый
из них занимал свое место — в деревне, в городке, в квартале большого
города.
Теперь они появились все вместе, и куда ни взглянешь, всюду видишь
толпу. Повсюду? О, нет, как раз в лучших местах, в мало-мальски изыс-
канных уголках нашей культуры, ранее доступных только избранным,
меньшинству.
Массы внезапно стали видны, они расположились в местах, излюб-
ленных «обществом». Они существовали и раньше, но оставались неза-
метными, занимая задний план социальной сцены; теперь они вышли на
авансцену, к самой рампе, на места главных действующих лиц. Герои
исчезли, остался хор.
Толпа — понятие количественное и видимое. Выражая ее в терминах
социологии, мы приходим к понятию социальной массы. Всякое общест-
во — это динамическое единство двух факторов,, меньшинств и массы.
Меньшинства — это личности или группы личностеи"бсобого,'специально^-
го достоинства. Масса — это множество людей без особых достоинств.
Это совсем не то же самое, что рабочие, пролетариат. Масса — это сред-
ний, заурядный человек. Таким образом, то, что раньше воспринималось
120
как количество, теперь предстает перед нами как качество; оно стано-
вится общим социальным признаком человека без индивидуальности, ни-
чем не отличающегося от других, безличного «общего типа».
Что мы выиграли от превращения количества в качество? Очень
просто: изучив «тип», мы сможем понять происхождение и природу
массы. Ясно, даже общеизвестно, что нормальное, естественное возник-
новение массы предполагает общность вкусов, интересов, стиля жизни
у составляющих ее индивидов. Могут возразить, что это верно в отно-
шении каждой социальной группы, какой бы элитарной она себя ни
считала. Правильно; но есть существенная разница!
В тех группах, которые нельзя назвать массой, сплоченность членов
основана на таких вкусах, идеях, идеалах, которые исключают массовое
распространение. Для образования любого меньшинства необходимо
прежде всего, чтобы члены его отталкивались от большинства по особым,
хоть относительно личным мотивам. Согласованность внутри группы —
фактор вторичный, результат общего отталкивания. Это, так сказать,
согласованность в несогласии. Иногда такой характер группы выражен
явно, пример — англичане, назвавшие себя «нонконформистами», т. е.
«несогласными», которых связывает только их несогласие с большинст-
вом. Объединение меньшинства, чтобы отделить себя от большинства,—
необходимая предпосылка его создания.
Строго говоря, принадлежность к массе — чисто психологический
признак, и вовсе не обязательно, чтобы субъект физически к ней при-
надлежал. О каждом отдельном человеке можно сказать, принадлежит он
к массе или нет. Человек массы — это тот, кто не ощущает в себе ни-
какого особщю дара йзПГ'отличия от всех, хорошего- или дурпогоГ'кто
чувствует, что он — «точь-в-точь, как все~~истальтн>1е»,—и-иритом -нясколъ-
ко этим нё~ Огорчён, наоборот, счастлив чувствбвать~себя-тажиМ"-жё7 как
все. Представим себе скромного человека, который-пытается определить
свою ценность на разных поприщах, испытывает свои способности там и
тут и, наконец, приходит к заключению, что у него нет таланта ни к
чему. Такой человек будет чувствовать себя посредственностью, но ни-
когда не почувствует себя членом «массы».
Когда заходит речь об «избранном меньшинстве», лицемеры созна-
тельно искажают смысл этого выражения, притворяясь, будто они не
знают, что «избранный» — вовсе не «важный», т. е. тот, кто считает
себя выше остальных, а человек, который к себе самому требователь-
ней, чем к другим, даже если он лйтао~~и не способен удовлетворить
этим высоким требованиям. Ннсомненнб, самым глубоким-и радикальным
делением человечества на группы было бы различение их по двум ос-
новным типам: на тех, кто строг и требователен к себе самому («по-
движники»), берет на себя труд и долг, и тех, кто снисходителен к себе,
доволен собой, кто живет без усилий, не стараясь себя исправить и
улучшить, кто плывет по течению.
Это напоминает мне правоверный буддизм, который состоит из двух
различных религий: одной — более строгой и трудной, и другой — легкой
и неглубокой. Махаяна — «великий путь», Хинаяна — «малый путь».
Решает то, на какой путь направлена наша жизнь,— с высокими требо-
ваниями или с минимальными.
Таким образом, деление общества на массы и избранное меньшинст-
во — деление не на социальные классы^а ца типы людей: это совсем не
то, что иерархическое различие «высших» и «низших». Конечно, среди
«высших» классов, если они и впрямь высшие, гораздо больше вероятия
встретить людей «великого пути», тогда как «низшие» классы обычно
состоят из индивидов без особых достоинств. Но, строго говоря, в каж-
дом классе можно найти и «массу», и настоящее «избранное меньшинст-
во». Как мы увидим далее, в наше время массовый тип, «чернь» пре-
обладает даже в традиционных избранных группах. Так, в интеллекту-
121
альную жизнь, которая по самой сути своей требует и предполагает
высокие достоинства, все больше проникают псевдоинтеллектуалы, у ко-
торых не может быть достоинств; их или просто нет, или уже нет. То
же самое — в уцелевших группах нашей «знати», как у мужчин, так и
у женщин. И наоборот, среди рабочих, которые раньше считались ти-
пичной «массой», сегодня нередко встречаются характеры исключитель-
ных качеств.
Итак, в нашем обществе есть действия, дела, профессии разного
рода, которые по самой природе своей требуют специальных качеств,
дарований, талантов. Таковы государственное управление, судопроиз-
водство, искусство, политика. Раньше каждый специальный род деятель-
ности выполнялся квалифицированным меньшинством. Масса не претен-
довала на участие; она знала, что для этого ей не хватило квалификации;
если бы опа эту квалификацию имела, она не была бы массой. Масса
знала свою роль в нормальной динамике социальных сил.
Если теперь мы обратимся к фактам, отмеченным вначале, мы несом-
ненно должны будем признать, что поведение масс совершенно измени-
лось. Факты показывают, что массы решили двинуться на авансцену
социальной жизни, занять там места, использовать достижения техники
и наслаждаться всем тем, что раньше было предоставлено лишь немно-
гим. Ясно, что сейчас все переполнено,— ведь места не предназначались
для масс; а толпы все прибывают. Все это свидетельствует наглядно и
убедительно о новом явлении: масса, не переставая быть массой, захва-
тывает место меньшинства, вытесняет его.
Никто, я уверен, не будет возражать против того, что сегодня люди
развлекаются больше, чем раньше, поскольку у них есть к тому жела-
ние и средства. Но тут есть опасность: решимость масс овладеть тем,
что раньше было достоянием меньшинства, не ограничивается областью
развлечений, это генеральная линия, знамение времени. Поэтому я по-
лагаю — предвосхищая то, что мы увидим далее,— что политические
события последних лет означают не что иное, как политическое господ-
ство масс. Старая демократия была закалена значительной дозой либера-
лизма и преклонением перед законом. Служение этим принципам обязы-
вает человека к строгой самодисциплине. Под защитой либеральных
принципов и правовых норм меньшинства могли жить и действовать.
Демократия и закон были нераздельны. Сегодня же мы присутствуем
при триумфе гипердемократии, когда массы действуют непосредственно,
помимо закона, навязывая всему обществу свою волю и свои вкусы. Не
следует объяснять новое поведение масс тем, что им надоела политика и
что они готовы предоставить ее специальным лицам. Именно так было
раньше, при либеральной демократии. Тогда массы полагали, что в кон-
це концов профессиональные политики при всех их недостатках и ошиб-
ках все же лучше разбираются в общественных проблемах, чем они,
массы. Теперь же, наоборот, массы считают, что они вправе пустить в
ход и сделать государственным законом свои беседы в кафе. Сомневаюсь,
чтобы в истории нашлась еще эпоха, когда массы господствовали так
явно и непосредственно, как сегодня. Поэтому я и говорю о «гиперде-
мократии».
То же самое происходит и в других областях жизни, особенно в ин-
теллектуальной. Быть может, я ошибаюсь, но писатель, который берет
перо, чтобы писать на тему, которую он долго и основательно изучал,
знает, что его рядовой читатель, ничего в этой теме не смыслящий, бу-
дет читать его статью не с тем, чтобы почерпнуть из нее что-нибудь,
а с тем, чтобы сурово осудить писателя, если он говорит не то, чем
набита голова читателя. Если бы люди, составляющие массу, считали
себя особо одаренными, это был бы лишь случай частного ослепления,
а не социальный сдвиг. Но для нынешних дней характерно, что вуль-
гарные, мещанские души, сознающие свою посредственность, смело за-
122
являют свое право на вульгарность, и причем повсюду. Как говорят в
Америке, «выделяться неприлично». Масса давит все непохожее, особое,
личностное, избранное.
Кто выглядит не так, «как все», кто думает не так, «как все», тот
подвергается риску стать изгоем. Конечно, эти «все» — еще далеко не
все. Все без кавычек — это сложное единство однородной массы и неод-
нородных меньшинств. Но сегодняшние «все» — это только масса.
Вот страшный факт нашего времени, и я пишу о нем, не скрывая
грубого зла, связанного с ним.
II. Подъем исторического уровня
Вот громадный сдвиг нашего времени, изображенный мною, во всей
его угрожающей неприглядности. Кроме того, это — истинное новшество.
Такого еще пе бывало в истории. Если мы хотим найти что-либо подоб-
ное, мы должны отойти от нашей эпохи, углубиться в мир, в корне
отличный от нашего, обратиться к древности, к античному миру в пе-
риод его упадка. История Римской империи есть, в сущности, история
ее гибели, история восстания и господства масс, которые поглотили и
уничтожили ведущее меньшинство, чтобы самим занять его место. В ту
эпоху наблюдалось то же скопление масс й переполнение ими всех об-
щественных мест. Этим объясняются — как правильно заметил Шпенг-
лер — и колоссальные постройки римлян, точь-в-точь как в наши дни.
Эпоха масс — эпоха массивного *.
Мы живем под грубым господством масс. Ну что ж; я дважды упо-
требил это слово — грубый; я заплатил дань вульгарности и теперь,
с билетом в руке, могу войти в мою тему и посмотреть, что делается
внутри. Иначе читатель мог бы подумать, что я намерен ограничиться
описанием, хотя и верным, но поверхностным; дать только внешние
черты, оболочку, под которой этот поразительный факт скрывается, ког-
да на него смотрят с точки зрения прошлого. Если бы мне пришлось
здесь прервать мое исследование, читатель с полным правом мог бы по-
думать, что чудесное появление масс на поверхности истории вызывает
у меня лишь раздраженные й презрительные слова, смесь ненависти и
отвращения; ведь я известный сторонник совершенно аристократического
понимания истории.
Говорю «совершенно», йбо я никогда не утверждал, что человеческое
общество должно быть аристократично, я имел в виду гораздо больше.
Я утверждал, и я все больше верю, что человеческое общество по самой
сущности своей всегда аристократично — хочет оно этого или нет; боль-
ше того: оно лишь постольку общество, поскольку аристократично, и пе-
рестает быть обществом, когда перестает быть аристократичным. Конеч-
но, я имею в вйду общество, а не государство. Не может быть и речи
о том, чтобы на бурное кипение масс аристократически ответить манер-
ной ухмылкой, как версальский придворный. Версаль — я имею в виду
Версаль ухмылок — не аристократия, он — смерть и тление аристокра-
тии, некогда великолепной. Поэтому подлинно аристократичной у этих
«аристократов» была та достойная грация, с какой они умели класть
головы под нож гильотины; они принимали его, как гнойный нарыв
принимает ланцет хирурга.
Нет, кто живо ощущает высокое призвание аристократии, того зре-
лище масс должно возбуждать и воспламенять, как девственный мра-
мор возбуждает скульптора. Социальная аристократия вовсе не похожа
на ту жалкую группу, которая присваивает себе одной право называть-
ся «обществом» и жизнь которой сводится к взаимным приглашениям и
* Трагическим в этом процессе было то, что одновременно с переполнением цент-
ра шло обезлюдение, запустение окраин, приведшее к роковому концу Империю.
123
визитам. У всего на свете есть свои достоинства и свое назначение, есть
и у этого миниатюрного «света»; но «миссия» его — очень скромная, ее
нельзя и сравнить с исполинской миссией подлинной аристократии. Я бы
не прочь обсудить значение «света», но сейчас моя тема несравненно
важнее. «Избранное общество» идет в ногу с эпохой. Одна молодая дама,
элегантная и вполне «современная», сказала мне: «Я не выношу балов,
где приглашенных меньше восьмисот!» В этой фразе я почувствовал,
что «массовый стиль» торжествует во всех сферах современной жизни и
накладывает свою печать даже на те укромные уголки, которые предна-
значены лишь для немногих «избранных».
Поэтому я одинаково отвергаю как то восприятие нашей эпохи, ко-
торое не замечает положительного смысла, скрытого в сегодняшнем гос-
подстве масс, так и то, которое радостно приветствует это господство
без всякого страха и трепета. Каждая судьба драматична и даже тра-
гична в своих глубинах. Кто никогда не ощущал тайного страха, созер-
цая опасность своей эпохи, тот так и не нашел доступа к недрам судь-
бы, он только прикасался к ее покровам. В нашу эпоху этот страх
внесен бурным, всесокрушающим переворотом в душах масс, властным,
упрямым и двусмысленным, как всякая судьба. Куда она влечет нас?
К гибели? Или, может быть, к благу? Вопросительный знак осеняет всю
нашу эпоху, гигантский по величине, двусмысленный по форме — не то
гильотина или виселица, не то триумфальная арка...
Явление, которое нам предстоит исследовать, имеет две стороны, два
аспекта:
/ массы выполняют сейчас те самые общественные функции, кото-
рые раньше были предоставлены исключительно избранным меньшин-
ствам;
2) и в то же время массы перестали быть послушными этим самым
меньшинствам: они не повинуются им, не следуют за ними, не уважают
их, а, наоборот, отстраняют и вытесняют их.
— Рассмотрим первый аспект. Я хочу сказать, что сейчас массам доступ-
ны удовольствия и предметы, созданные отборными группами (меньшин-
ствами) и ранее предоставленные только этим группам. Массы усвоили
вкусы и привычки, раньше считавшиеся изысканными, ибо они были
достоянием немногих. Вот типичный пример: в 1820 г. во всем Париже
не было и десяти ванных комнат в частных домах (см. Мемуары графи-
ни де-Буань). Теперь массы спокойно пользуются тем, что было раньше
доступно лишь богатым, и не только в области материальной, но, что
гораздо важнее, в области правовой и социальной. В XVIII веке некото-
рые группы меньшинств открыли, что каждый человек уже в силу рож-
дения обладает основными политическими правами, так называемыми
«правами человека и гражданина», и что, строго говоря, кроме этих,
общих прав, других нет. Все остальные права, основанные на особых да-
рованиях, подверглись осуждению, как привилегии. Сперва это было
лишь теорией, мнением немногих; затем «немногие» стали применять
идею на практике, внушать ее, настаивать на ней. Однако весь XIX век
массы, все больше воодушевляясь этим идеалом, не ощущали его как
права, не пользовались им и не старались его утвердить; под демократи-
ческим правлением люди по-прежнему жили как при старом режиме.
«Народ»,— как тогда говорилось,— знал, что наделен властью, но этому
не верил. Теперь эта идея превратилась в реальность — не только в зако-
нодательстве, очерчивающем извне общественную жизнь, но и в сердце
каждого человека, любого, пусть даже реакционного, т. е. даже того, кто
бранит учреждения, которые закрепили за ним его права. Мне кажется,
тот, кто не осознал этого странного нравственного положения, не может
понять ничего, что сейчас происходит в мире. Суверенитет любого инди-
вида, человека как такового, вышел из стадии отвлеченной правовой
идеи или идеала и укоренился в сознании заурядных людей. Заметьте:
124
когда то, что было идеалом, становится действительностью, оно неизбеж-
но теряет ореол. Ореол и магический блеск, манящие человека, исчезают.
Равенство прав — благородная идея демократии — выродилось на прак-
тике в удовлетворение аппетитов и подсознательных вожделений.
У равноправия был один смысл — вырвать человеческие души из
внутреннего рабства, внедрить в них собственное достоинство и незави-
симость. Разве не к тому стремились, чтобы средний человек почувство-
вал себя господином, хозяином своей жизни? И вот это исполнилось.
Почему же сейчас жалуются все те, кто тридцать лет назад был либе-
ралом, демократом, прогрессистом? Разве, подобно детям, они хотели
чего-то, не считаясь с последствиями? Если вы хотите, чтобы средний,
заурядный человек превратился в господина, нечего удивляться, что он
распоясался, что он требует развлечений, что он решительно заявляет
свою волю, что он отказывается кому-либо помогать или служить, ни-
кого не хочет слушаться, что он полон забот о себе самом, своих развле-
чениях, своей одежде — ведь все это присуще психологии господина.
Теперь мы видим все это в заурядном человеке, в массе.
Мы видим, что жизнь заурядного человека построена по той самой
программе, которая раньше была характерна лишь для господствующих
меньшинств. Сегодня заурядный человек занимает ту арену, на которой
во все эпохи разыгрывалась история человечества; человек этот для
истории — то же, что уровень моря для географии. Если средний уро-
вень нынешней жизни достиг высоты, которая ранее была доступна
только аристократии, это значит, что уровень жизни поднялся. После
долгой подземной подготовки он поднялся внезапно, одним скачком, за
одно поколение. Человеческая жизнь в целом поднялась. Сегодняшний
солдат, можно сказать,—почти офицер; наша армия сплошь состоит из
офицеров. Посмотрите, с какой энергией, решительностью, непринужден-
ностью каждый шагает по жизни, хватает все, что успеет, и добивается
своего.
И благо, и зло современности и ближайшего будущего — в этом повы-
шении исторического уровня.
Однако сделаем оговорку, о которой раньше не подумали: то, что
сегодняшний стандарт жизни соответствует былому стандарту привиле-
гированных меньшинств,— новинка для Европы; для Америки это при-
вычно, это входит в ее сущность. Возьмем для примера идею равенства
перед законом. Психологическое ощущение «господина своей судьбы»,
равного всем остальным, которое в Европе было знакомо только приви-
легированным группам, в Америке уже с XVIII века (т. е., практически
говоря, всегда) было совершенно естественным. И еще одно совпадение,
еще более разительное: когда новая психология заурядного человека за-
родилась в Европе, когда уровень жизни стал возрастать, весь стиль
европейской жизни, во всех ее проявлениях, начал меняться, и появи-
лась фраза: «Европа американизируется». Те, кто говорил это, не прида-
вали своим словам большого значения, они думали, что идет несущест-
венное изменение обычаев и манер; и, обманутые внешними признаками,
приписывали все изменения влиянию Америки на Европу. Этим они,
по моему мнению, упрощали и снижали проблему, которая несравненно
глубже, сложнее и чревата неожиданностями.
Вежливость велит мне сказать нашим заокеанским братьям, что
Европа и впрямь американизируется, п это — влияние Америки на Евро-
пу. Но я не могу так сказать. Истина вступает в спор с вежливостью
и побеждает. Европа не «американизировалась», пе испытывала боль-
шого влияния Америки. Быть может, этп процессы начинаются как раз
сейчас, но их не было в прошлом, и не они вызвали нынешнее положе-
ние. Существует масса вздорных идей, смущающих и сбивающих с толку
и американцев, и европейцев. Триумф масс и последующий блистатель-
ный подъем жизненного уровня произошли в Европе в силу внутренних
125
причин, в результате двух столетии массового просвещения, прогресса и
экономического подъема. Но вышло так, что результаты европейского
процесса совпадают с наиболее яркими чертами американской жизни;
и это сходство типичных черт заурядного человека в Европе и в Америке
привело к тому, что европеец впервые смог понять американскую жизнь,
которая до этого была для него загадкой и тайной. Таким образом,
дело не во влиянии (это было бы даже несколько странным), а в более
неожиданном явлении — нивелировке, выравнивании. Для европейцев
всегда было непонятно и неприятно, что стандарт жизни в Америке
выше, чем в Европе. Это ощущали, но не анализировали, и отсюда роди-
лась идея, охотно принимаемая на веру и никогда не оспариваемая, что
будущее принадлежит Америке. Вполне понятно, что такая идея, широко
распространенная и глубоко укорененная, не могла родиться из ничего,
без причины. Причиной же было то, что в Америке разница между уров-
нем жизни масс и уровнем жизни избранных меньшинств гораздо мень-
ше, чем в Европе. История, как п сельское хозяйство, черпает свое
богатство в долинах, а не на горных вершинах; ее питает средний слой
общества, а не выдающиеся личности.
Мы живем в эпоху всеобщей нивелировки; происходит выравнивание
богатств, прав, культуры, классов, полов. Происходит и выравнива-
ние континентов. Так как средний уровень жизни в Европе был ниже,
от этой нивелировки она может только выиграть. С этой точки зре-
ния, восстание масс означает огромный рост жизненных возможностей,
т. е. обратное тому, что мы слышим так часто о «закате Европы». Это
выражение топорно, да и вообще неясно, что, собственно, имеется в
виду — государства Европы, культура или то, что глубже и бескопечно
важнее остального,— жизненная сила? О государствах и о культуре
Европы мы скажем позже (хотя, быть может, достаточно и этого); что же
до истощения жизненной силы, нужно сразу разъяснить, что тут — гру-
бая ошибка. Быть может, если я исправлю ее сейчас же, мои утвержде-
ния покажутся более убедительными или менее неправдоподобными; так
вот: теперь средний итальянец, испанец или немец менее разнятся в
жизненной силе от янки или аргентинца, чем тридцать лет назад. Этого
американцы не должны забывать.
III. Полнота времен
Итак, господство масс имеет и положительную сторону: опо способ-
ствует подъему исторического уровня и показывает наглядно, что сред-
ний уровень жизни сегодня выше, чем был вчера. Это напоминает нам,
что жизнь может протекать на разных высотах и что выражение «уро-
вень эпохи», часто употребляемое бессознательно, полно глубокого смыс-
ла. Мы должны задержаться на этом, так как это дает нам возможность
установить одну из самых поразительных черт нашего века.
Принято говорить, например, что то или иное явление не стоит на
высоте своей эпохи. Здесь имеется в виду, конечно, не абстрактное время
хронологии, у которого нет ступеней, а время, которое каждое поколение
называет «нашим»; оно может сегодня быть на высшем уровне, чем вче-
ра, или держаться на том же самом, или снижаться. Идея падения,
заключенная в слове «упадок», вытекает именно из этого представления
о разных уровнях времени. Каждый человек ощущает более или менее
ясно соотношение между его личной жизнью и уровнем его века. Неко-
торые чувствуют себя в современных условиях как потерпевшие корабле-
крушение, которые не могут удержаться на поверхности моря. Быстрый
темп сегодняшней жизни, сила и энергия, необходимые для нее, пугают
и мучают человека старого склада, а страх и боль выражают собою раз-
ницу между биением его пульса и пульса нашего времени. С другой сто-
роны, тот, кто легко и с удовольствием воспринимает все формы сегод-
126
няшней жизни, ясно сознает соотношение между уровнем нашего века
и предшествующих эпох. Каково это соотношение?
Было бы заблуждением предполагать, что человек одной эпохи не-
пременно считает все прошлые эпохи низшими по уровню только потому,
что они прошлые. Достаточно вспомнить «.речение» Хорхе Манрике:
«Время былое лучше всегда». Но и это неверно. Не всякая эпоха чувст-
вовала себя ниже предыдущих, и не всякая считала себя выше их.
Каждый исторический период иначе, по-своему ощущает столь странное,
неуловимое явление, как «уровень». Удивительно, что мыслители и исто-
рики никогда не обращали внимания на такой очевидный и существен-
ный факт.
Мнение Хорхе Манрике, вообще говоря, распространенней. Большая
часть исторических эпох не считала свое время лучшим; наоборот, обыч-
но вспоминали «доброе старое время» — «золотой век» у нас, воспитан-
ных Грецией и Римом, и Альчеринги — у австралийских дикарей. Люди
чувствовали, что пульс их жизни неполон, и смотрели с почтением на
прошлое, на «классические» эпохи, чья жизнь им казалась полнее, бога-
че, совершеннее и напряженнее, чем их собственная. Глядя назад и видя
там эпохи более совершенные, они чувствовали не превосходство свое,
а падение, словно упала ртуть в термометре. Начиная со 150 года
по Р. X. ощущение убывающей жизни, снижения уровня, упадка, утраты
все возрастало в Римской империи. Собственно, еще Гораций сказал:
«Отцы наши хуже наших дедов, зачали нас, еще худших, мы же поро-
дили совсем плохих» («Оды», кн. III, 6). Двести лет спустя во всей Импе-
рии уже не хватало мужчин, рожденных в Италии, чтобы занять долж-
ности центуриона, и приходилось нанимать сперва далматинцев, позд-
нее — варваров с Дуная и Рейна. Тем временем и женщины стали
бесплодны, Италия обезлюдела.
Обратимся к другому типу эпох, жизненное ощущение которых прямо
обратно предыдущему. Здесь перед нами крайне интересное явление,
и для нас очень важно определить его поточней. Когда па пороге XX века
политики критиковали перед толпой ошибки и эксцессы правительства,
они обычно мотивировали это тем, что некие меры «недопустимы в наш
век прогресса». Любопытное совпадение: ту же форму мы находим в зна-
менитом письме Траяна Плинию, где император рекомендует не пресле-
довать христиан по анонимным доносам: «Nec nostri saeculi est» («Не по-
добает нашему времени»). Значит, в истории были эпохи, которые
чувствовали себя достигшими полной, окончательной высоты; были вре-
мена, когда люди верили, что они подходят к концу долгого странствия,
к достижению заветной цели, к исполнению древних чаяний. Это —
«исполнение времен», полная зрелость исторической жизни. Действи-
тельно, в начале XX века европеец верил, что человеческая жизнь нако-
нец стала тем, чем она должна быть; тем, к чему издавна стремились
все поколения, тем, чем она отныне будет навсегда. «Эпохи исполнения»
всегда ощущают себя конечным результатом многих подготовительных
этапов, предыдущих эпох, не достигших полноты, низших по развитию,
над которыми «эпоха исполнения» доминирует. Этой эпохе с ее высоты
кажется, что все подготовительные периоды были преисполнены мечта-
ний, неудовлетворенных желаний, неосуществимых иллюзий, нетерпели-
вых предтеч, конечная цель и несовершенная действительность болезнен-
но противоречили друг другу. XIX век смотрел так на средневековье.
Наконец наступает день, когда давнишняя, многовековая мечта, по-види-
мому, осуществляется; действительность принимает ее и подчиняется ей.
Мы достигли высот, маячивших перед нами, цели, к которой мы стреми-
лись, "сполнения времен! Горестное «еще нет» сменяется торжествую-
щим «наконец-то!».
Так воспринимали свою эпоху поколение наших отцов и весь XIX век.
Не забывайте, нашему времени предшествовала эпоха «исполнения вре-
Ш
мен»! Отсюда неизбежно следует, что человек, принадлежащий к этому
старому миру, глядящий на все глазами прошлого века, будет страдать
оптической иллюзией: наш век будет казаться ему упадком, декадансом.
Но тот, кто издавна любит историю, кто научился различать пульс
эпохи, не поддастся иллюзии и не поверит в мнимую «полноту времен».
Как я уже сказал, для наступления «полноты времен» необходимо,
чтобы заветная мечта, пронесенная через столетия, наполненные жадны-
ми, мучительными, страстными исканиями, в один прекрасный день
была достигнута. Тогда настает удовлетворение, эпоха «исполнения вре-
мен». И впрямь, такая эпоха очень довольна собой; иногда, как в
XIX веке, слишком самодовольна *. Но сейчас мы начинаем понимать,
что эти эпохи самоудовлетворения — снаружи такие гладкие и блестя-
щие — внутренне мертвы. Подлинная полнота жизни — не в покое удов-
летворенности, а в процессе достижения, в моменте прибытия. Как ска-
зал Сервантес, «путь всегда лучше, чем отдых». Когда эпоха удовлетво-
ряет все свои желания, свои идеалы, это значит, что желаний больше
нет, источник желаний иссяк. Значит, эпоха пресловутой удовлетворен-
ности — это начало конца. Есть эпохи, которые не умеют обновить свои
желания; они умирают, как счастливые трутни после брачного полета **.
Вот почему эпохи «исполнения чаяний» в глубине сознания всегда
ощущают странную тоску.
Цели и стремления, которые так долго вызревали и, наконец,
в XIX веке, казалось бы, осуществились, получили название «новейшей
культуры». Самое имя вызывает сомнения: эпоха называет себя новей-
шей, т. е. окончательной, заключительной, перед которой все осталь-
ное — лишь скромная подготовка, как бы стрелы, не попавшие в цель.
Не подходим ли мы к самой сущности различия между нашей эпохой
и предшествующей, только что отошедшей в прошлое? Ведь наше время
действительно не считает себя окончательным; в глубине нашего созна-
ния мы находим, хотя и смутно, интуитивное подозрение, что таких
совершенных, законченных, на веки кристаллизованных эпох вообще не
бывает, наоборот: претензия какой-то «новейшей культуры» на закончен-
ность и совершенство — заблуждение, навязчивая идея, которая свиде-
тельствует о том, что сильно сузилось поле зрения. Почувствовав так,
мы испытываем огромное облегчение, словно из замурованного склепа
мы выбрались снова на свободу, под звездное небо, в живой мир, неиз-
меримый, страшный, непредвидимый и неисчерпаемый, где возможно все,
и хорошее, и плохое.
Вера в «новейшую культуру» была унылой. Люди верили, что завтра
будет то же, что и сегодня, что прогресс состоит только в движении впе-
ред, по одной и той же дороге, такой же, как пройденная нами. Это уже
и не дорога, а растяжимая тюрьма, из которой не выйти.
Когда в начале Империи какой-нибудь образованный провинциал, на-
пример, Лукиан или Сенека, прибывал в Рим и видел величественные
здания, символ совершенного могущества, у него сжималось сердце:
ничего нового быть не может. Рим вечен. Если меланхолия исходит от
руин, как запах тления от стоячих вод, то и в Риме чуткий провинциал
ощущал меланхолию не менее острую, но обратного смысла— меланхо-
лию вечности.
По сравнению с этим не напоминает ли наша эпоха шаловливую рез-
вость детей, вырвавшихся из школы? Сегодня мы ничего уже не знаем
о том, что будет завтра, и это нас втайне радует, ибо непредвидимое,
таящее в себе все возможности,— вот настоящая жизнь, вот полнота
жизни!
* Характерны надписи на монетах императора Адриана: Счастливая Италия, Зо-
лотой век, Счастливая эра. Tellus stabilita.
** См. изумительные страницы Гегеля о периодах самоудовлетворенности в его
«Философии истории».
128
Этот диагноз, который, конечно, имеет свою обратную сторону, про-
тиворечит толкам об упадке, излюбленной теме многих современных
авторов. Толки эти основаны на оптическом обмане, имеющем много
причин. Позже мы рассмотрим некоторые из них. Сейчас я хочу остано-
виться на одной, самой очевидной. Ошибка в том, что, следуя опреде-
ленной идеологии — на мой взгляд, неверной,— из всей истории прини-
мают во внимание только политику и культуру, упуская из виду, что
это лишь поверхность. Историческая реальность коренится в более древ-
нем и глубоком пласте — в биологической витальности, в жизненной
силе, подобной силам космическим; это не сама космическая сила, не
природная, но родственная той, что колышет море, оплодотворяет зверя,
покрывает дерево цветами, зажигает и гасит звезды.
Взамен толков об упадке я предлагаю такое рассуждение.
Понятие «упадка» основано, конечно, на сравнении. Падают сверху
вниз. Хорошо; но сравнение это можно вести с самых различных точек
зрения. Для фабриканта мундштуков жизнь в упадке, когда люди курят
без мундштука. Другие подходы серьезнее, но, строго говоря, они так же
односторонни, произвольны и поверхностны в своем отношении к самой
жизни, ценность и уровень которой мы хотим определить. Есть только
один правильный, естественный подход: войти самому в нутро жизни,
наблюдать ее изнутри и следить, чувствует она сама себя в упадке,
т. е. слабеет, вянет, идет вниз или нет?
Если даже наблюдать жизнь изнутри, как узнать, что она чувствует?
Для меня решает такой симптом: эпоха, которая настоящее предпочитает
прошлому, никак не может считаться упадочной. К этому и шел весь
мой экскурс об «уровне эпохи». Он говорит нам, что наше время зани-
мает весьма странную, еще небывалую позицию.
В салонах прошлого века дамы и искусные поэты неизменно задавали
друг другу вопрос: «В какую эпоху вы хотели бы жить?» Каждый на-
чинал блуждать по путям истории в поисках эпохи, которая подходит
к его личности, ибо XIX век, хотя и считал себя самой совершенной эпо-
хой, был тесно связан с прошлым, стоял у него на плечах; он чувство-
вал себя кульминацией, завершением всего прошлого. Поэтому он еще
верил в классические периоды — век Перикла, Ренессанс,— когда были
созданы ценности, какими он сам теперь пользовался. Этого одного
было бы достаточно, чтобы внушить нам недоверие к «эпохам полноты»:
они обращены лицом назад, в прошлое, которое, по их мнению, завер-
шают.
Ну, хорошо. А каков был бы откровенный ответ представителя
нашего века? Я думаю, что тут не может быть никакого сомнения:
всякая прошлая эпоха, без исключения, показалась бы ему тесной каме-
рой, в которой он не мог бы дышать. Значит, современное человечество
чувствует, что его жизнь — в большей степени жизнь, чем любая про-
шлая; или наоборот: для современного человечества все прошлое сдела-
лось слишком малым. Это жизнеощущение современных людей своей
категорической ясностью опрокидывает все измышления об упадке, как
непродуманные и поверхностные.
В наше время жизнь имеет — и ощущает в себе — больший размах,
чем когда бы то ни было. Как же она могла бы чувствовать себя на
ущербе? Наоборот, именно потому, что она чувствует себя сильнее,
«живее» всех предыдущих эпох, она потеряла всякое уважение, всякое
внимание к прошлому. Таким образом, мы впервые встречаем в истории
эпоху, которая начисто отказывается от всякого наследства, не признает
никаких образцов и норм, оставленных нам прошлым, и, являясь преем-
ницей многовековой непрерывной эволюции, представляется нам увертю-
рой, утренней зарей, детством. Мы оглядываемся назад, и прославлен-
ный Ренессанс начинает казаться нам узким, провинциальным, напыщен-
ным и — будем откровенны — банальным.
129
Не так давно я обобщил все это в следующих словах: «Решительный
разрыв настоящего с прошлым — характеристика пашей эпохи. Он таит
в себе подозрение, более или менее смутное, которое и вызывает смуту,
столь характерную для сегодняшней жизни. Мы чувствуем, что мы как-
то внезапно остались одни на земле; что мертвые не только оставили
нас, но исчезли совсем, навсегда; что они больше не могут помогать
нам. Все остатки традиционного духа исчезли. Образцы, нормы, стандар-
ты больше нам не служат. Мы обречены разрешать наши проблемы без
содействия прошлого, будь то в искусстве, науке или политике. Европеец
одинок, рядом нет ни единой живой души, он — как Питер Шлемиль,
потерявший свою тень. Так всегда бывает в полдень» *.
Итак, каков же уровень нашей эпохи? Это не «полнота времен»;
и тем не менее наша эпоха чувствует себя выше всех предыдущих эпох,
включая и эпохи «полноты». Нелегко формулировать мнение нашей поры
о самой себе: она верит, что она больше всех других, но ощущает себя
началом; и в то же время не уверена, что это не агония. Как выразить
наше ощущение? Может быть, так: выше всех предыдущих эпох, ниже
самой себя; сильна бесспорно и неуверена в своей судьбе; горда своей
силой и сама ее боится.
IV. Рост жизни
Господство масс, повышение уровня и возвещаемая им высота эпо-
хи — лишь симптомы более общего явления. Оно почти абсурдно и не-
вероятно, несмотря на свою самоочевидность. Дело в том, что наш мир
как-то внезапно разросся, увеличился, а вместе с ним расширился и наш
жизненный кругозор. В последнее время кругозор этот охватывает весь
земной шар: каждый индивидуум, каждый средний человек принимает
участие в жизни всей планеты. Год тому назад жители Севильи могли
следить по газетам, час за часом, за тем, что происходило с группой
людей на Северном полюсе; ледяные горы как бы появились среди рас-
каленных полей Андалусии. Каждый клочок земли больше не изолирован
в своих геометрических пределах, но взаимодействует с другими частями
планеты. Согласно закону физики, гласящему, что вещи находятся там,
где они действуют, мы можем назвать вездесущей каждую точку земного
шара. Эта близость дали, это присутствие отсутствующего расширили до
фантастических размеров кругозор каждого отдельного человека.
Мир вырос и во времени. Предыстория и археология открыли нам
исторические области невероятной давности. Целые цивилизации и импе-
рии, о которых мы до сих пор и не подозревали, включены в наш духов-
ный мир как новые континенты. Иллюстрированные журналы и фильмы
немедленно демонстрируют эти вновь открытые недосягаемые миры
широкой публике.
Но этот пространственно-временной рост мира сам по себе еще ни-
чего не значит. Пространство и время в физическом смысле — абсолютно
бездушные категории космоса. Поэтому тот культ скорости, которым
охвачено наше поколение, имеет больше смысла и оснований, чем это
кажется па первый взгляд. Скорость, производное времени и пространст-
ва, ничуть не разумней своих составляющих; но она служит их преодо-
лению. Глупость можно победить только другой глупостью. Победа над
космическим временем и пространством (которые сами по себе не имеют
никакого смысла) была вопросом чести для современного человечества **;
и нет ничего странного в том, что мы испытываем детскую радость, раз-
вивая такую скорость, которая пожирает пространство и душит время.
* «Дегуманизация искусства».
** Именно потому, что жизнь человеческая ограничена во времени, человек смер-
тен, он должен преодолевать пространство и время. Для бессмертного божества авто-
мобиль не имел бы смысла.
130
Уничтожая их, мы даем им жизнь, заставляем их служить жизненному
процессу; мы можем посетить больше мест, пережить больше приездов
и отъездов, вместить больше космического времени в меньший отрезок
времени житейского.
Но в конечном счете рост мира — не в размере его, а в том, что он
вмещает больше вещей. Всякая вещь — в самом широком смысле сло-
ва — то, что мы можем желать, замыслить, сделать, уничтожить, найти, по-
терять, принять, отвергнуть,— всё слова, означающие жизненные процессы.
Возьмем любой род нашей деятельности, хотя бы покупку. Предста-
вим себе двух людей, одного — нашего современника, другого —
из XVIII века, обладающих одинаковой покупательной способностью
(учитывая разницу валют), и сравним их возможности — выбор предме-
тов. Разница колоссальная. У нашего современника практически неогра-
ниченные возможности. Трудно себе представить вещь, которой он
пе мог бы получить. И наоборот: нельзя себе представить покупателя,
способного купить все, что выставлено на продажу. Могут возразить, что
при равных средствах оба покупателя получат одно и то же. Это невер-
но. Сегодня машинное производство значительно удешевило все изделия.
Но даже если бы и так, это не опровергает, а скорее подтверждает мою
мысль.
Покупка завершается в тот момент, когда покупатель остановился на
одном предмете; до этого происходит выбор, который начинается с того,
что покупатель знакомится с возможностями, какие предлагает рынок.
Из этого следует, что наша «жизнь» при акте покупки сводится глав-
ным образом к переживанию предоставляющихся возможностей. Когда
говорят о нашей жизни, обычно забывают то, что мне кажется самым
существенным: жизнь наша в каждый момент состоит прежде всего в
сознании наших возможностей. Если бы в каждый момент перед нами
была лишь одна возможность, это была бы уже не «возможность»,
а просто необходимость. Однако вторая возможность всегда есть; как
это ни странно, но в нашей жизни всегда есть варианты, которые дают
нам возможность сделать выбор*. Жить — это значит пребывать
в кругу определенных возможностей, которые зовутся «обстоятельства-
ми». Жизнь в том и заключается, что мы — внутри «обстоятельств», или
«мира». Иначе говоря, это и есть «наш мир» в подлинном значении это-
го слова. «Мир» не что-то чуждое нам, вне нас лежащее; он неотделим
от нас самих, он — наша собственная периферия, он — совокупность
наших житейских возможностей. Мы можем реализовать, осуществить
лишь ничтожную часть этих возможностей. Вот почему мир кажется
нам столь громадным, а мы сами себе — столь ничтожными. Мир, т. е.
наша возможная жизнь, всегда больше, чем наша судьба, то есть
жизнь действительная.
Я хочу теперь показать, насколько за последнее время возросли по-
тенции жизни. Пределы возможностей расширились невероятно. В об-
ласти интеллектуальной появились новые пути мышления, новые проб-
лемы, новые данные, новые пауки, новые точки зрения. В примитивном
обществе занятия или профессии можно было пересчитать па пальцах:
пастух, охотник, воин, колдун; список сегодняшних профессий возрос
до бесконечности. То же и в области развлечений, хотя (и это важнее,
чем кажется) репертуар их не так обогатился, как другие области жиз-
ни. Тем ие менее для горожан среднего класса — а современную жизнь
представляет именпо город — возможности развлечений за последнее
столетие возросли невероятно.
Но рост потенциальной жизнп далеко нс исчерпывается всем пере-
численным. Жизнь возросла еще в одном смысле, более непосредствен-
* В худшем случае, когда миг пе предлагает кам второго выхода, он у пас все
жо остается в запасе — уйти из этого мира. Уход пг мира — часть мира, как дверь —
часть комнаты.
131
ном и таинственном. Как известно, в области физического развития и
спорта достижения нашего времени далеко оставляют за собою все ре-
корды прошлых времен. Дело не в отдельных рекордах; но их количе-
ство и постоянство, с каким они все улучшаются, вселяют в нас убеж-
дение, что в наше время сам человеческий организм стал более совер-
шенным, чем когда-либо прежде. Ведь нечто подобное наблюдается и
в области науки. За самое короткое время наука раздвинула свой кос-
мический горизонт с невероятной силой. Физика Эйнштейна открывает
такие перспективы, что рядом с ними старый мир Ньютона кажется кро-
хотной клетушкой *. Экспансия эта стала возможной благодаря уточне-
нию и совершенству научных методов. Физика Эйнштейна выросла
из анализа бесконечно малых различий, которыми раньше пренебрегали
ввиду их незначительности. Атом, еще вчера бывший мельчайшим пре-
делом мира, сегодня превращается в целую планетную систему. Во всем
этом меня сейчас занимает не совершенство нашей культуры, но рост
наших личных физических сил, в этом проявляющийся. Не то важно,
что физика Эйнштейна совершеннее, чем физика Ньютона, а то, что сам
Эйнштейн как человек оказался способным на большую точность и сво-
боду духа **, чем человек Ньютон, точно так же, как сегодняшний чем-
пион бокса превосходит всех своих предшественников.
Кино и иллюстрированные журналы показывают заурядному зрите-
лю отдаленные части планеты, только что освоенные человеком; газеты
и разговоры знакомят заурядного человека с завоеваниями человеческо-
го интеллекта, воплощенными в изобретения, в технику, в те аппараты
и чудеса, которые этот заурядный человек видит в витринах магазинов.
Все это создает в его мозгу впечатление фантастического всемогуще-
ства.
Я не хочу сказать, что сейчас человеческая жизнь лучше, чем в
прошлом. Я говорю не о качестве сегодняшней жизни, но лишь о коли-
чественном или потенциальном ее росте, стремясь поточнее описать
самосознание современного человека, тонус его жизни, характерная чер-
та которой — ощущение такой потенциальной силы, что по сравнению
с нею все прошлые века кажутся карликами.
Описание было необходимо, чтобы опровергнуть те жалобы и вздохи
по поводу упадка (в особенности — на Западе), которые наводнили
последнее десятилетие. Возвращаюсь к тому доводу, который я уже
приводил, ибо он кажется мне простым и убедительным: бесполезно
говорить об «упадке» вообще, не уточняя, что именно приходит в упа-
док. Относится ли этот мрачный приговор ко всей нашей культуре?
Что ж, европейская культура приходит в упадок? Или в упадке нацио-
нальные организации Европы? Допустим, что так. Но можно ли тогда
говорить об упадке Запада? Ни в коем случае. Ведь тогда это упадок
относительный, частичный, захватывающий лишь второстепенные эле-
менты истории, культуру и нации. Есть только один вид абсолютного
упадка — убывание жизненной силы; и существует он лишь тогда, когда
мы его ощущаем. Именно поэтому я так подробно остановился на том,
что обычно упускают из виду: как сознает или ощущает эпоха свою
жизненную силу.
Это и привело нас к разговору о «полноте», «расцвете», которые
ощущали некоторые эпохи в противоположность другим, которые, наобо-
* Мир Ньютона был бесконечен, но эта бесконечность носила не конкретный, не
материальный характер; это было просто обобщение, абстракция, бессодержательная
утопия. Мир Эйнштейна конечен, но конкретен и наполнен во всех своих частях;
следовательно, он богаче содержанием и тем самым фактически больше.
** Свобода духа, т. е. сила интеллекта, измеряется способностью расщеплять по-
нятия, традиционно неразделимые. Процесс диссоциации гораздо труднее, чем про-
цесс ассоциации, как показал Кёлер своими наблюдениями пад разумом шимпанзе.
Сегодня человеческий ум обладает такой способностью диссоциации, как никогда
раньше.
132
рот, чувствовали снижение, упадок по сравнению с прошлым «золотым
веком». В заключение я отметил очевидный факт: характерные черты
нашего времени— его странная уверенность в том, что оно выше всех
предыдущих эпох; его полное пренебрежение ко всему прошлому, не-
признание классических и нормативных эпох, ощущение начала новой
жизни, превосходящей все прежнее и независимой от прошлого.
Я сомневаюсь, чтобы можно было правильно понять наше время без
твердого усвоения этих типичных черт его, ибо именно в этом вся проб-
лема. Если бы наш век ощущал себя упадочным, он считал бы прош-
лые века выше себя, он уважал бы их, восхищался ими, почитал бы
принципы, ими исповедуемые. Он держался бы открыто и твердо ста-
рых идеалов, хотя сам и не смог бы их осуществить. На деле мы ви-
дим обратное: наш век глубоко уверен в своих творческих способностях,
но при этом не знает, что ему творить. Хозяин всего мира, он не хо-
зяин самому себе. Он растерян среди изобилия. Обладая большими
средствами, большими знаниями, большей техникой, чем все предыду-
щие эпохи, наш век ведет себя, как самый убогий из всех; плывет по
течению.
Отсюда эта странная двойственность: всемогущество и неуверен-
ность, уживающиеся в душе поколения. Поневоле вспомнишь то, что
говорили о Филиппе Орлеанском, регенте Франции в детстве Людови-
ка XV: у него есть все таланты, кроме одного — умения ими пользо-
ваться.
XIX веку, твердо верившему в прогресс, многое казалось уже невоз-
можным. Теперь все снова становится возможным, и мы готовы пред-
видеть и самое худшее — упадок, варварство, регресс *. Такое ощуще-
ние само по себе неплохой симптом: это значит, что мы вновь вступаем
в ту атмосферу неуверенности, которая присуща всякой подлинной жиз-
ни; что мы вновь узнаем тревогу неизвестности, и мучительную и
сладостную, которой насыщено каждое мгновение, если мы умеем про-
жить его сполна. Мы привыкли избегать этого жуткого трепета, мы ста-
рались успокаивать себя, всеми средствами заглушать в себе предчув-
ствие глубинной трагичности нашей судьбы. Сейчас — впервые за послед-
ние три века — мы вдруг растерянно сознаем свою полную неуверен-
ность в завтрашнем дне. И это отрезвление благотворно для нас.
Тот, кто относится к жизни серьезно и принимает всю полноту от-
ветственности, ощущает постоянную скрытую опасность и всегда насто-
роже. В римских легионах часовой должен был держать палец на губах,
чтобы не задремать. Неплохой жест, он как бы предписывает полное
молчание в тишине ночи, чтобы уловить малейший звук зарождающего-
ся будущего. Безопасность эпох расцвета, например XIX века,— опти-
ческий обман, иллюзия; она ведет к тому, что люди не заботятся
о будущем, предоставляя все «механизму вселенной». И прогрессивный
(либерализм, и социализм Маркса предполагают, что их стремления
к лучшему будущему осуществятся сами собой, неминуемо, как в астро-
номии. Защитившись этой идеей от самих себя, они выпустили из рук
управление историей, забыли о бдительности, утратили живость и
силу. И вот жизнь ускользнула из их рук, стала непокорной, своеволь-
ной и несется, никем не управляемая, неведомо куда. Прикрывшись
маской благого будущего, «прогрессист» о будущем не заботится,—
он уверен, что оно не таит ни сюрпризов, ни тайн, ни существенных
изменений, ни скачков в сторону. Убежденный, что мир пойдет по пря-
мой, без поворотов, без возврата назад, он откладывает всякое попече-
ние о будущем и целиком погружен в утвержденное настоящее. Нуж-
но ли удивляться, что сегодня в нашем мире нет ни планов, ни целей.
* Отсюда и рождаются теории упадка. Дело не в том, что мы чувствуем в себе
упадок, а в том, что все в будущем возможно, не исключая и этого.
133
ни идеалов? Никто не готовил их. Правящее меньшинство покинуло
свой пост, что всегда бывает оборотной стороной восстания масс.
Пора нам вернуться к этой теме. После того, как мы подчеркнули
благоприятную сторону господства масс, мы должны обратиться к дру-
гой стороне, более опасной.
V. Статистический факт
Это исследование — попытка поставить диагноз нашей эпохе, нашей
современной жизни. Мы изложили первую часть диагноза, которую
можно резюмировать так: как запас возможностей, наша эпоха велико-
лепна, изобильна, превосходит все известное пам в истории. Но именно
благодаря своему размаху она опрокинула все заставы — принципы,
нормы и идеалы, установленные традицией. Наша жизнь — более живая,
напряженная, насыщенная, чем все предыдущие, и тем самым более
проблематичная. Она пе может ориентироваться на прошлое, она долж-
на создать себе собственную судьбу *.
Теперь мы должны дополнить наш диагноз. Наша жизнь — это
прежде всего ^го7 чем"мы можелГ^Захь^л., е. врзможная7~йбтенциальна^~-
~жйДНЕГ~в^тб^же время она — выбор между__возмшкностями, т. е^_р£ще-
~~ние в ПСльзутого, что мы выбираем и "осуществляем на _деле. Обстоя-
тельства и фешение — вот два основных "элемента, из которых слагает-
ся жизнь. Обстоятельства, иначе говоря, возможности — это данная
нам часть нашей жизни, независимая от нас; это то, что мы называем
нашим миром. Жизнь не выбирает себе мира; она протекает в мире
уже установленном, незаменяемом. Наш мир — это элемент фатальной
необходимости в нашей жизни. Но эта фатальность не механична,
не абсолютна. Мы не выброшены в мир, как пуля из ружья, которая
летит по точно предначертанной траектории. Совсем наоборот: выбрасы-
вая нас в этот мир, судьба дает пам на выбор несколько траекторий и
тем заставляет нас выбирать одну из них. Поразительное условие нашей
жизни! Сама судьба принуждает нас к свободе, к свободному выбору и
решению, чем нам стать в этом мире. Каждую минуту она заставляет
нас принимать решения. Даже когда в полном отчаянии мы говорим:
«Будь, что будет!» — даже и тут мы принимаем решение.
Итак, неверно, будто в жизни «все решают обстоятельства». Наобо-
рот, обстоятельства — это дилемма, каждый раз новая, которую мы должны
решать. И решает ее наш характер.
Все сказанное приложимо и к общественной жизни. И там дан
прежде всего круг возможностей, а затем выбор и решение в пользу тех
или иных форм общежития. Это решение зависит от характера общест-
ва или, что то же самое, от типа людей, в нем преобладающих. В наше
время преобладает человек массы, решение выносит он. Это совсем
не то, что было в эпоху демократии и всеобщего избирательного права.
Там массы сами не решали; их роль была лишь в том. чтобы присоеди-
ниться к решению той или иной группы меньшинства. Эти группы пред-
ставляли свои «программы» общественной жизни, и массам предлагалось
лишь поддержать готовый проект.
Сейчас происходит нечто совсем иное. Наблюдая общественную
жизнь в странах, где господство масс продвинулось далее всего,—
в странах Средиземноморья,— мы с удивлением замечаем, что там
политически живут сегодняшним днем. В высшей степени странно!
Общественная власть находится в руках представителей массы, которые
настолько сильны, что подавляют всякую оппозицию. Их власть исклю-
чительна, трудно найти в истории пример такого всемогущества. И тем
* Мы, однако, увидим, как можно взять из прошлого если не позитивные указа-
ния, то хотя бы некоторые негативные советы. Прошлое не может сказать, что нам
делать. По оно может предупредить, чего нам не делать.
134
не менее правительство живет со дня на день. Оно пе говорит ясно
о будущем, и, судя но его действиям, это не начало новой эпохи, ново-
го развития и эволюции. Короче, оно живет без жизненной программы,
без плана. Оно не знает, куда идет, ибо, строго говоря, без намеченной
цели и предначертанного пути оно вообще никуда не идет. Когда это
правительство выступает с заявлениями, оно, не упоминая о будущем,
ограничивается настоящим и откровенно признается: «Мы — лишь вре-
менное, ненастоящее правительство, вызванное к жизни чрезвычайными
обстоятельствами». Иными словами — нуждой сегодняшнего дня, но не
планами будущего. Поэтому его деятельность сводится к тому, чтобы
как-то увертываться от поминутных осложнений и конфликтов; пробле-
мы не разрешаются, а лишь откладываются со дня на день любыми
средствами, даже с тем риском, что они скопятся и вызовут грозный
конфликт.
Такого всегда была власть в обществе, управляемом непосредственно
массой,— она и всемогуща, и эфемерна. Человеку массы не дано проек-
тировать и планировать, он всегда плывет по течению. Поэтому он
ничего пе создает, как бы велики ни были его возможности и его
власть.
Таков человек, который в наше время стоит у власти и решает.
Займемся поэтому анализом его характера.
Ключ к этому анализу мы найдем, если вернемся к началу исследо-
вания и поставим себе вопрос: откуда пришли те массы, которые напол-
няют и переполняют сейчас историческую сцену?
Несколько лет тому назад известный экономист Вернер Зомбарт
указал на один простой факт, который должеп был бы запомнить каж-
дый, интересующийся современными событиями. Этот простой факт сам
по себе достаточен, чтобы дать нам ясное представление о современной
Европе; а если он и не достаточен, то все же указывает путь, .который
нам все раскроет. Суть в следующем. За всю европейскую историю
с VI века вплоть до 1800 года, то есть в течение 12 столетий, населе-
ние Европы никогда не превышало 180 миллионов. Но с 1800 по 1914-й,
т. е. за одно с небольшим столетие, население Европы возросло
со 180 до 460 миллионов! Сопоставив эти цифры, мы убедимся в произ-
водительной силе прошлого столетия. В течение трех поколений оно
массами производило человеческий материал, который, как поток, обру-
шился на поле истории, затопляя его. Этого достаточно для объяснения
как триумфа масс, так и всего, что он выражает и возвещает. В то же
время это подтверждает самым наглядным образом то повышение жиз-
ненного уровня, на которое я указывал.
Но одновременно это показывает, насколько необоснованно восхище-
ние, какое вызывает в нас расцвет новых стран, вроде США. Нас пора-
жает рост их населения, которое в течение одного столетия достигло
100 миллионов, и мы не замечаем, что это лишь результат изумитель-
ной плодовитости Европы. Здесь я вижу еще один аргумент для опро-
вержения басни об американизации Европы. Рост населения Америки,
который считается наиболее характерной ее чертой, вовсе не ее особен-
ность. Европа за прошлое столетие выросла гораздо больше, Америка же
наполнилась за счет избытков населения Европы.
Хотя подсчет Зомбарта и не так известен, как он того заслуживает,
все же факт необычайного роста населения не тайна п сам по себе
не заслуживал бы упоминания. Дело, собственно, не в нем самом,
а в головокружительной быстроте этого роста п в последствиях его:
массы людей таким ускоренным темпом вливались на сцену истории,
что у них не было времени, чтобы в достаточной мере приобщиться
к традиционной культуре.
В действительности луховпая структура современного среднего евро-
пейца гораздо здоровее и сильнее, чем у человека былых столетий. Она
135
только гораздо проще, и потому такой средний европеец иногда произ-
водит впечатление примитивного человека, внезапно очутившегося среди
старой цивилизации. Школы, которыми прошлое столетие так гордилось,
успевали преподать массам лишь внешние формы, технику современной
жизни; дать им подлинное воспитание школы эти не могли. Их наспех
научили пользоваться современными аппаратами и инструментами,
но не дали им понятия о великих исторических задачах и обязанностях;
их приучили гордиться мощью современной техники, но им ничего
не говорили о духе. Поэтому о духе массы не имеют и понятия; новые
поколения берут в свои руки господство над миром так, как если бы
мир был первобытным раем без следов прошлого, без унаследованных,
сложных, традиционных проблем.
XIX веку принадлежит и слава, и ответственность за то, что он вы-
пустил широкие массы на арену истории. Это отправной пункт для
справедливого суждения о веке. Нечто необычное, исключительное,
должно быть, в нем заложено, если он смог дать такой прирост чело-
веческого материала. Было бы нелогично и произвольно отдавать предпо-
чтение принципам прошлых эпох, пока мы не уяснили этого грандиоз-
ного явления и не сделали из него выводов. Вся история в целом
представляется нам гигантской лабораторией, где производятся всевоз-
можные опыты, чтобы найти формулу общественной жизни, наиболее
благоприятную для выращивания «человека». И, опрокидывая все муд-
рые теории, перед нами встает факт: население Европы под действием
двух факторов — либеральной демократии и «техники» — за одно лишь
столетие утроилось!
Этот поразительный факт приводит нас по законам логики к следую-
щим заключениям: 1) либеральная демократия, снабженная творческой
техникой, представляет Сббою наивысшую Из ’всех известных нам форм
общбст^нной жйШгиГ'З) еслиэта форма тПпГ^гучшая иЭ~ всех воэмотк-
ных, то каЯТДаяГйузщан_-5у.дет_^1остроена на тех же принципах; 3) воз-
врат к форме низшей, чехГ~форма XIX ~вёка, был бы самоубийством.
Признав это со всей ясностью, необходимой по сути дела, мы долж-
ны теперь обратиться против XIX века. Если он в некоторых отноше-
ниях оказался исключительным и несравненным, то он столь же, оче-
видно, страдал коренными пороками, так как он создал новую породу
людей — мятежного «человека массы». Теперь эти восставшие массы
угрожают тем самым принципам, которым они обязаны жизнью. Если
эта порода людей будет хозяйничать в Европе, через каких-нибудь
30 лет Европа вернется к варварству. Наш правовой строй и вся наша
техника исчезнут с лица земли так же легко, как и многие достижения
былых веков и культур *. Вся жизнь оскудеет и увянет. Сегодняшнее
изобилие возможностей сменится всеобщим недостатком; это будет под-
линный упадок и закат. Ибо восстание масс — то самое, что Вальтер Ра-
тенау назвал «вертикальным вторжением варварства».
Поэтому необходимо основательнее познакомиться с «человеком
массы», в котором кроются в потенции как высшее благо, так и высшее
зло.
VI. Анализ человека массы
Кто же этот «человек массы», который пришел теперь к власти
в общественной жизни, и в политической, и в не-политической? Почему
он таков, каков он есть, иначе говоря, откуда он взялся?
* Герман Вейль, один из крупнейших современных физиков, сотрудник и про-
должатель дела Эйнштейна, как-то сказал, что если бы 10 или 12 из наших видных
ученых внезапно умерли, то почти наверно многие чудеса современной физики были
бы навсегда утрачены для человечества. Работа многих столетий была необходима
для того, чтобы приспособить наш мыслительный аппарат к абстрактной сложности
физики. Каждая случайность может свести на нет все чудесные возможности чело-
вечества, на которых к тому же стоит и техническая культура.
135
Попробуем дать общий ответ на оба вопроса, так как они тесно свя-
заны друг с другом. Человек, который сегодня хочет руководить
жизнью Европы, очень отличается от вождей XIX века, родившего его
самого. Прозорливые умы уже в 1820, 1850 и 1880 годах при помощи
чисто априорного мышления сумели предвидеть серьезность нынешнего
положения. «Массы двинулись вперед!» — заявил Гегель апокалиптиче-
ским тоном... «Без новой духовной силы наш век — век революций —
придет к катастрофе!» — возвестил Огюст Конт... «Я вижу растущий
прилив нигилизма»,— крикнул с Энгадинской скалы Ницше...
Неверно, будто историю нельзя предвидеть. Бессчетное число раз она
была предсказана. Если бы будущее не открывалось пророкам, его
не могли бы понять ни в момент его осуществления, ни позже, когда
оно уже стало прошлым. Мысль, что историк — не что иное, как обрат-
ная сторона пророка, пронизывает всю философию истории. Конечно,
можно предвосхитить только общую схему будущего, но ведь, по суще-
ству, мы не больше того воспринимаем и в настоящем, и в прошлом.
Чтобы видеть целую эпоху, надо смотреть издалека.
Какою представлялась жизнь тому человеку массы, которого
XIX век производил все в больших количествах? Прежде всего он ощу-
щал общее материальное улучшение. Никогда раньше средний человек
не решал своих экономических проблем с такой легкостью. Наследствен-
ные богачи относительно беднели, индустриальные рабочие обращались
в пролетариев, а люди среднего калибра с каждым днем расширяли
свой экономический горизонт. Каждый день вносил что-то новое и обо-
гащал жизненный стандарт. С каждым днем положение укреплялось,
независимость росла. То, что раньше считалось бы особой милостью
судьбы и вызывало умиленную благодарность, теперь рассматривалось
как законное благо, за которое не благодарят, которого требуют.
С 190С года и рабочие начинают жить лучше. Тем не менее им при-
ходится вести борьбу за свои права. В отличие от среднего человека они
не получают все готовым от чудесно организованных общества и госу-
дарства.
К этому облегчению жизни и к экономической обеспеченности при-
соединяются физические блага, комфорт, общественный порядок. Жизнь
катится, как по рельсам, и нет опасений, что ее нарушит насилие или
беда.
Такая свободная, нестесненная жизнь неминуемо должна была выз-
вать в «средних душах» ощущение, которое можно выразить словами
старой испанской поговорки: «Широка наша Кастилья!» «Новый чело-
век» ощущал, что жизнь его — освобождение от бремени, от всех помех
и ограничений. Значение этого факта будет нам ясно, когда мы вспом-
ним, что в прошлые времена такая свобода жизни была абсолютно не-
доступна для простых людей. Наоборот, для них жизнь была всегда
тяжелым бременем, физическим и экономическим. С самого рождения
они были окружены запретами и препятствиями, им оставалось одно —
страдать, терпеть и приспособляться.
Еще разительнее эта перемена проявилась в области правовой и мо-
ральной. Начиная со второй половины века, средний человек уже был
свободен от социальных перегородок. Никто не принуждал его сдержи-
вать, подавлять себя —«Широка наша Кастилья!» Нет больше ни каст,
ни сословий. Нет правовых привилегий. Заурядный человек узнает,
что все люди равны в своих правах.
Никогда еще за всю историю простой человек не жил в условиях,
которые хотя бы отдаленно походили на ныиешнпе условия его жизни.
Мы действительно стоим перед радикальным изменением человеческой
судьбы, произведенным XIX веком. Создан совершенно новый фон, но-
вое поприще для современного человека — и физически, и социально.
Три фактора сделали возможным создание этого нового мира: либераль-
137
ная демократия, экспериментальная паука и индустриализация. Второй
и третий можно объединить под именем «техники». Ни один из этих
факторов не был созданием века, они появились на два столетия рань-
ше. XIX век провел их в жизнь. Эго всеми признано. Но признать факт
недостаточно, нужно учесть его неизбежные последствия.
XIX век был по существу революционным, не потому, что он строил
баррикады — это деталь, а потому, что он поставил заурядного челове-
ка, т. е. огромные социальные массы, в совершенно новые жизненные
условия, радикально противоположные прежним. Он перевернул все их
бытие. Революция заключается не столько в восстании против старого
порядка, сколько в установлении нового, обратного прежнему. Поэтому
не будет преувеличением сказать, что человек, порожденный XIX веком,
по своему общественному положению — человек совершенно новый,
отличный от всех прежних. Человек XVIII века, конечно, отличался
от своего предка XVI века; но все они схожи, однотипны, даже тож-
дественны по сравнению с новым человеком. Для «простых людей» всех
этих веков «жизнь» означала прежде всего ограничения, обязанности,
зависимость, одним словом — гнет. Можно сказать и «угнетение», пони-
мая под этим не только правовое и социальное, но и «космическое».
Его всегда хватало до последнего века, когда начался безграничный
расцвет «научной техники» как в физике, так и в управлении. По срав-
нению с сегодняшним днем старый мир даже богатым и сильным пред-
лагал лишь скудость, затруднения и опасности *.
Мир, окружающий нового человека с самого рождения, ни в чем его
не стесняет, ни к чему не принуждает, не ставит никаких запретов,
никаких «вето»; наоборот, он сам будит в нем вожделения, которые,
теоретически, могут расти бесконечно. Оказывается,— это очень важ-
но,— что мир XIX — начала XX века не только располагает изобилием
и совершенством, но и внушает нам полную уверенность в том, что
завтра он будет еще богаче, еще обильнее, еще совершеннее, как
если бы он обладал неиссякаемой силой развития. Сегодня (несмотря
на некоторые трещины в оптимизме) почти никто не сомневается, что
через пять лет автомобили будут еще лучше, еще дешевле. В это верят,
как в то, что завтра снова взойдет солнце. Сравнение совершенно точ-
но: заурядный человек, видя вокруг себя технически и социально совер-
шенный мир, верит, что его произвела таким сама природа; ему никогда
не приходит в голову, что все это создано личными усилиями гениаль-
ных людей. Еще меньше он подозревает о том, что без дальнейших уси-
лий этих людей великолепное здание рассыплется в самое короткое
время.
Поэтому отметим две основные черты в психологической диаграмме
человека массы: безудержный рост жизненных вожделений, а тем самым
личности, и прмцдпиальнукт^гшблагодащюсть^ ко всему, что позволили?
так хорошб жить. Обе эти~черты харшН^рЯы-дляхор^шо нам знакомой
йсихотгбТий йзбаЗгпванных детей. Мы можем воспользоваться ею как
прицелом, чтобы рассмотреть души современных масс. Новый народ,
наследник долгого развития общества, богатого идеями и усилиями,
избалован окружающим миром. Баловать — значит исполнять все жела-
ния, приучить к мысли, что все позволено, что нет никаких запретов и
никаких обязанностей. Тот, с кем так обращались, не знает границ.
Не испытывая никакого нажима, никаких толчков и столкновений,
он привыкает ни с кем не считаться, а главное — никого не признает
старшим или высшим. Признание превосходства мот бы вызвать в нем
* Как бы ни был богат и силен отдельный человек в сравнении с окружающими,
мпр был беден и убог, богатство и сила мало использовались. Б наши дни средний
обыватель живет богаче н привольнее, чем жили владыки прошлых веков. Что за
беда, если он не богаче других. Мир стал богаче и дает ему все: великолепные до-
роги, поезда, телеграф, отели, личную безопасность и аспирин.
1S8
лишь тот, кто заставил бы его отказаться от капризов, укротил бы его,
принудил смириться. Тогда он усвоил бы основное правило дисципли-
ны: «Здесь кончается моя воля, начинается воля другого, более сильно-
го. Видимо, на свете я не один, и этот сильнее меня». В былые вре-
мена рядовому человеку приходилось ежедневно получать такие уроки
элементарной мудрости, так как мир был организован грубо и прими-
тивно, катастрофы были обычны, не было ни изобилия, ни прочности,
ни безопасности. Сегодняшние массы живут в изобилии и безопасности;
все к их услугам, никаких усилий не надо, подобно тому как солнце
само поднимается над горизонтом без нашей помощи. Не надо благода-
рить других за воздух, которым ты дышишь, воздуха никто не делал,
он просто есть. «Так положено», ведь он всегда налицо. Избалованные
массы настолько наивны, что считают всю нашу материальную и со-
циальную организацию, предоставленную в их пользование наподобие
воздуха, такой же естественной, как воздух, ведь она всегда на месте
и почти так же совершенна, как природа.
Итак, я полагаю, что XIX век создал совершенную организацию на-
шей жизни во многих ее отраслях. Совершенство это привело к тому,
что массы, пользующиеся сейчас всеми благами организации, стали
считать ее естественной, природной. Только так можно понять и объяс-
нить нелепое состояние их души: они заняты только собственным благо-
получием, но не замечают его источников. За готовыми благами циви-
лизации они не видят чудесных изобретений, созданных человеческим
гением ценою упорных усилий, и воображают, что вправе требовать все
эти блага, естественно им принадлежащие в силу их прирожденных
прав. Во время голодных бунтов толпы народа часто громят пекарни.
Это может служить прообразом обращения нынешних масс (в более
крупном масштабе и в более сложных формах) с цивилизацией, кото-
рая их питает*.
VII. Жизнь благородная и жизнь пошлая, или энергия
и косность
Мы прежд§-_шщго то,что_делает из нас окружающий нас мир; основ-
ные черты нашего характера формируются под влиянием впечатлений,
получаемых извд^. Это естественно, так как наша жизнь— не что иное,
как.наши отномения^ сТйИримгЯик мира~ обращённый к нам, формир~ует
в основных чертах нашу собственную жизнь. Вот почему я так подчер-
киваю, что мир, в котором сегодняшние массы возникли и выросли, ка-
жется совершенно новым, еще небывалым в истории. В прошлом для
среднего человека «жизнь» означала непрерывные трудности, опасности,
нужду, ограничения, подчиненность; современный мир представляется
среднему человеку как мир неограниченных возможностей, безопасности,
полной независимости. Душу современного человека формирует это впе-
чатление, основное и постоянное, тогда как прежде душу среднего чело-
века формировало впечатление обратное. Впечатление превращается во
внутренний голос, который неотступно нашептывает какие-то слова
в глубине нашего «я», настойчиво подсказывает нам определение нашей
жизни, которое становится заповедью. Если в прошлые века считалось,
что жить — это чувствовать себя ограниченным во всем и потому счи-
таться с тем, что нас ограничивает, то новый голос вещает: «жить — зна-
чит не встречать ограничений; поэтому смело делай все, что хочешь.
Нет невозможного, нет опасного, нет нп высших, ни низших».
Эта новая заповедь, основанная на ощущении, совершенно меняет
традиционную, извечную структуру человека массы. Раньше он находил
* Предоставленная собственным инстинктам, масса как таковая — плебеи или
«аристократы» — в стремлении улучшить свою жизнь сама разрушает источники
жизни.
139
естественными свои материальные ограничения и свою подчиненность
власть имущим. Такова уж была жизнь. Если ему удавалось улучшить
ее, если он подымался по социальной лестнице, он приписывал это
счастью, которое ему улыбнулось, или же это было его личной заслу-
гой, которую он хорошо сознавал. В обоих случаях дело шло об исклю-
чении из общего закона жизни и всего мира, и оно было вызвано осо-
быми причинами.
Новая масса восприняла полную свободу жизни, как естественное,
природное состояние, не вызванное никакими причинами. Ничто не на-
лагало на эту массу никаких ограничений извне, следовательно,
не было необходимости каждую минуту считаться с кем-то вокруг,
в особенности с высшими. До недавнего времени китайский крестьянин
верил, что его благополучие зависит от личных добродетелей императо-
ра. Поэтому его жизнь была в постоянном соотношении и подчинении
этой высшей инстанции. Но человек, которого мы анализируем, не хо-
чет считаться ни с какой внешней инстанцией или авторитетом. Он до-
волен собой таким, каков он есть. Совершенно искренне, без всякого
хвастовства, как нечто вполне естественное, он будет одобрять и хвалить
все, чем он сам наделен,— свои мнения, стремления, симпатии, вкусы.
А что ж? Ведь никто и ничто не заставляет его признать себя челове-
ком второго сорта, крайне ограниченным, неспособным ни к творчеству,
ни даже к поддержанию той самой организации, которая дала ему пол-
ноту жизни.
Человек массы никогда не признает над собой чужого авторитета,
пока обстоятельства его не принудят. Поскольку обстоятельства не при-
нуждают, этот упорный человек, верный своей натуре, не ищет посто-
роннего авторитета и чувствует себя полным хозяином положения.
Наоборот, человек элиты, т. е. человек выдающийся, всегда чувствует
внутреннюю потребность обращаться вверх, к авторитету или принципу,
которому он свободно и добровольно служит. Напомним, что в начале
этой книги мы так установили различие между человеком элиты и чело-
веком массы: первый предъявляет к себе строгие требования; второй —
всегда доволен собой, более того, восхищен *. Вопреки обычному
мнению, именно человек элиты, а вовсе не человек массы, проводит
жизнь в служении. Жизнь не имеет для него интереса, если он не мо-
жет посвятить ее чему-то высшему. Его служение — не внешнее принуж-
дение, не гнет, а внутренняя потребность. Когда возможность служения
исчезает, он ощущает беспокойство, ищет нового задания, более трудно-
го, более сурового и ответственного. Это жизнь, подчиненная самодис-
циплине,— достойная, благородная жизнь. Отличительная черта благо-
родства — не права, не привилегии, а обязанности, требования к самому
себе. Noblesse oblige. «Жить в свое удовольствие — удел плебея; благо-
родный стремится к порядку и закону» (Гете). Дворянские привилегии
по происхождению были не пожалованиями, не милостями, а завоева-
ниями. Их признавали, ибо данное лицо всегда могло собственной силой
отстоять их от покушений. Частные права или привилегии — не косная
собственность, но результат усилий владельца. И наоборот, общие пра-
ва, например «права человека и гражданина», бесплатны, это щедрый
дар судьбы, который каждый получает без усилий. Поэтому я сказал бы,
что личные права требуют личной поддержки, а безличные могут суще-
ствовать и без нее.
К сожалению, богатое по смыслу слово «благородство» подверглось
в обычной речи безжалостному искажению. Большинство стало понимать
его как наследственную, кровную аристократию; и оно превратилось в
♦ К массе духовно принадлежит тот, кто в каждом вопросе довольствуется го-
товой мыслью, уже сидящей в его голове. Наоборот, человек элиты не ценит гото-
вых мнений, взятых без проверки, без труда, он ценит лишь то, что до сих пор было
недоступно, что приходится добывать усилием. '
нечто пассивное, безличное, подобное «всеобщим правам», которые
не требуют личных усилий и заслуг, их получают автоматически.
Однако подлинный смысл слова «nobleza, noblesse, nobility» совсем
иной, в нем динамика. Noble, nobilis — значит знаменитый, всем извест-
ный, возвышающийся над неизвестными, безымянными массами. Здесь
подразумеваются личные усилия, заслужившие славу. Итак, «благород-
ный» — это заслуженный, выдающийся. Благородство или слава сына —
уже чистая милость. Сын известен только тем, что его отец стяжал
славу. Слава сына — лишь отражение; и действительно, наследственное
благородство — нечто отраженное, как лунный свет или память о мерт-
вых. Единственное живое и динамичное в нем — это импульс, передавае-
мый потомку и побуждающий его сравняться с предком. Таким образом,
и здесь — noblesse oblige, хотя и в несколько измененном виде: благо-
родный предок обязывал себя добровольно, благородного потомка обязы-
вала необходимость быть на высоте. В переходе благородства по наслед-
ству кроется известное противоречие. Китайцы поступают логичнее,
у них обратный порядок наследования: не отец облагораживает сына,
а сын, достигнув высоких почестей, облагораживает своих предков,
свой род. При этом государство указывает число предыдущих поколе-
ний, облагороженных заслугами потомка. Таким образом, предки ожи-
вают благодаря заслугам живого человека, чье благородство — в настоя-
щем, а не в прошлом *. Латинское понятие «nobilitas» появилось только
в эпоху Римской Империи, в противоположность старой наследственной
аристократии, в то время уже вырождавшейся.
Итак, для меня «благородная жизнь» означает жизнь напряженную,
всегда готовую к новым, высшим достижениям, переход от сущего
к должному. Благородная жизнь противопоставляется обычной, косной
жизни, которая замыкается сама в себе, осужденная на perpetuum mo-
bile — вечное движение на одном месте,— пока какая-нибудь внешняя
сила не выведет ее из этого состояния. Людей второго типа я опреде-
ляю как массу потому, что они — большинство, потому что они инерт-
ны, косны.
Чем дольше человек живет, тем яснее ему становится, что громад-
ное большинство людей способно на усилие только в том случае, когда
надо реагировать на какую-то внешнюю силу. И потому-то одиноко
стоящие исключения, которые способны на спонтанное, собственной во-
лей рожденное усилие, запечатлеваются в нашей памяти навсегда.
Это — избранники, элита, благородные люди, активные, а не только
пассивные; для них жизнь—вечное напряжение, непрерывная трени-
ровка. Тренировка— это аскеза. Они — аскеты.
Пусть читатель не удивляется этому отступлению. Чтобы дать опре-
деление нового человека массы, который, оставаясь массой, хочет занять
место элиты, необходимо было показать в чистом виде оба типа, в нем
смешанные,— нормального человека массы и подлинного человека эли-
ты, или человека энергии.
Теперь мы можем быстрее продвигаться вперед; ключ к решению —
психологическая формула господствующего в наши дни человека —
у нас в руках. Все дальнейшее логически вытекает из основного поло-
жения, которое можно резюмировать так: XIX век автоматически создал
новый вид «простого человека», в котором заложены огромные вожде-
ления и которому сейчас предоставлен богатый набор средств, чтобы
удовлетворить их во всех областях,— экономика, медицина, право, тех-
ника и т. д.— словом, огромное количество прикладных наук и всяких
возможностей, какие прежде среднему человеку не были доступны.
Снабдив человека массы всеми этими возможностями, XIX век предоста-
* Моя цель — вернуть слову «noblesse» его первоначальное значение, исключаю-
щее наследственность. Здесь не место исследовать вопрос о наследственной аристо-
кратии, «благородной крови», которая играет такую видную роль в истории. .р.
141
вил его самому себе, и он, верный своей природной косности, замкнул-
ся в себе самом. Таким образом, теперь у нас массы более сильные, чем
когда-либо прежде, но отличающиеся от обычных тем, что они гермети-
чески замкнуты в себе, самодовольны, самонадеянны, не желают никому
и ничему подчиняться, одним словом — непокорны. Если так пойдет и
дальше, то в скором времени не только в Европе, но и во всем мире
окажется, что массами больше нельзя управлять ни в одной области.
Правда, в бурные и тяжелые времена, стоящие перед нашим поколе-
нием, может случиться, что под суровыми ударами бедствий массы вне-
запно пойдут на уступки и подчинятся квалифицированной элите. Но это
будет попыткой с негодными средствами, ибо основные черты психики
масс — это инертность, замкнутость в себе и упрямая неподатливость;
массы от природы лишены способности постигать то, что находится вне
их узкого круга — и людей, и события. Они захотят иметь вождя —
и не смогут идти за ним; они захотят слушать — и убедятся, что глухи.
С другой стороны, нельзя тешить себя иллюзиями, что человек мас-
сы окажется способным — как ни поднялся его уровень в паше время —
управлять ходом всей нашей цивилизации (пе говоря уже о прогрессе
ее). Самое поддержание современной цивилизации чрезвычайно сложно,
требует бесчисленных знаний и опыта. Человек массы научился владеть
ее механизмом, но абсолютно незнаком с ее основными принципами.
Я снова подчеркиваю, что все эти факты и доводы не следует пони-
мать в узко политическом смысле. Наоборот: хотя политическая деятель-
ность — самая эффектная, показательная сторона нашей общественной
жизни, однако ее подчиняют, ею управляют другие факторы, более скры-
тые и неощутимые. Политическая тупость сама по себе не была бы
опасна, если бы она не проистекала из тупости интеллектуальной и мо-
ральной, более глубокой и решающей. Поэтому без анализа последней
наше исследование не может быть ясным и убедительным.
VIII. Почему массы во все лезут и всегда с насилием?
Итак, мы приходим к заключению, что произошло нечто крайне
парадоксальное, хотя, в сущности, вполне естественное: как только мир
и жизнь широко открылись заурядному человеку, душа его для них
закрылась. И я утверждаю, что именно в этой замкнутости души—
сущность того «восстания масс», в котором, в свою очередь,—сущность
грандиозной проблемы, стоящей сейчас перед человечеством.
Я знаю, что многие читатели думают иначе. Это тоже вполне естест-
венно и только подтверждает мою теорию. Даже если бы мнение мое ока-
залось ошибочным, все же неоспоримо, что многие из несогласных
не задумались хотя бы на пять минут над таким сложным вопросом.
Как же они могли бы думать то же, что я? Если они считают себя
вправе иметь мнение раньше, чем потрудились все продумать, они
показывают, что сами принадлежат к тому типу людей, которых я назы-
ваю «восставшей массой». Это как раз и есть замкнутые, закоснелые
души. В данном случае перед нами пример интеллектуальной косности.
Человек обзавелся запасом готовых идей. Он довольствуется ими и ре-
шает, что с умом у него все в порядке. Поскольку мир ему не нужен,
он остается при своем мнении. Вот это п есть механизм закоснелости.
Человек массы считает себя совершенным. Человек элиты ощущает
что-то подобное, только если он исключительно тщеславен, да и то вера
в свое совершенство не соприродна ему. не истинна, она порождена
суетой, и даже сам он в ней не уверен. Поэтому тщеславный нуждает-
ся в других, чтобы они подтвердили мнение, какое он хочет иметь.
Даже и в таком патологическом случае, даже ослепленный тщеславием,
человек элиты не уверен в своем совершенстве. Наоборот, современный
человек массы, этот новый Адам, никогда не сомневается в своем совер-
142
шенстве; его вера в себя поистине подобна райской вере. Замкнутость
души лишает его возможности познать свое несовершенство, так как
единственный путь к этому познанию — сравнение себя с другими;
но тогда он должен хоть на миг выйти за свои пределы, переселиться
в своего ближнего. Душа заурядного человека неспособна к таким
упражнениям.
Мы стоим здесь перед тем самым различием, которое исцокон веков
отделяет глупцов от мудрецов. Умный знает, как легко сделать глупость,
он всегда настороже, и в этом его ум. Глупый не сомневается в себе;
он считает себя хитрейшим из людей, отсюда завидное спокойствие,
с каким он пребывает в глупости. Подобно насекомым, которых никак
не выкурить из щелей, глупца нельзя освободить от глупости, вывести
хоть на минуту из ослепления, сделать так, чтобы он сравнил свои убо-
гие шаблоны со взглядами других людей. Глупость пожизненна и неиз-
лечима. Вот почему Анатоль Франс сказал, что глупец гораздо хуже
мерзавца. Мерзавец иногда отдыхает, глупец - - никогда *.
Человек массы совсем неглуп. Наоборот, сегодня он гораздо умнее,
гораздо способнее, чем все его предки. Но эти способности ему не впрок:
сознавая, что он обладает ими, он еще больше замкнулся в себе и не
пользуется ими. Он раз и навсегда усвоил набор общих мест, предрас-
судков, обрывков мыслей и пустых слов, случайно нагроможденных
в памяти, и с развязностью, которую можно оправдать только наив-
ностью, пользуется этим мусором всегда и везде. Это я и назвал в пер-
вой главе «знамением нашего времени»: не в том беда, что заурядный
человек считает себя незаурядным и даже выше других, а в том, что он
провозглашает и утверждает право на заурядность и самое заурядность
возводит в право.
Господствующее положение, которое духовный плебс занял сейчас
в общественной жизни,— совершенно новый фактор современной жизни,
не имеющий подобия в прошлом. По крайней мере в европейской исто-
рии плебс никогда не воображал себя носителем какой-нибудь «идеи».
У него были свои готовые верования, традиции, жизненный опыт, по-
говорки, ходячие мнения; но он не пускался в теоретические исследования
и обобщения, каких требует, например, политика или литература. Планы
и действия политиков могли казаться ему хорошими или плохими, он
мог поддерживать их или не поддерживать; но его реакция была пассив-
ной, она ограничивалась отзвуком на творческую деятельность других
кругов. Ему и в голову не приходило противопоставить идеям политиков
свои собственные идеи. То же и в искусстве, и в прочих областях обще-
ственной жизни. Врожденное сознание своей ограниченности, некомпе-
тентности в теоретическом мышлении удерживало его. Плебс даже и не
мечтал о том, чтобы взять на себя решающую роль в общественной дея-
тельности, так как она почти всегда основана на теории.
Сейчас у заурядного человека есть самые определенные идеи обо
всем, что в мире происходит и должно произойти. Поэтому он перестал
слушать других. К чему слушать, если он и так уже все знает? Теперь
уже нечего слушать, теперь надо самому судить, постановлять, решать.
Нет такого вопроса общественной жизни, в который он не вмешался бы,
навязывая свои мнения,— он, слепой и глухой.
«Но,— скажут мне,— что тут плохого? Разве это не свидетельствует
об огромном прогрессе? Ведь это значит, что массы стали культурными?»
Ничего подобного! Идеи заурядного человека — не настоящие идеи,
они не свидетельствуют-о. культуре, Кто хочет иметь идеи, должен прёщ-
де всего стремиться к истине и усвоить’правила игры, ёю'предписывав1
* Я часто спрашивал себя вот о чем: несомненно, многим людям труднее и гор-
ше всего общаться, сталкиваться с глупостью ближних. Как же случилось, что никто
не попытался изучить ее, написать «Опыт о глупости»? (Мне кажется, что не пыта-
лись.)
143
мые. Не может быть речи об идеях и мнениях там, где нет общепри-
знанной высшей инстанции, которая бы ими ведала, нет системы норм,
к которым можно было бы в споре апеллировать. Эти нормы — основа
нашей культуры. Речь не о том, какие они; я лишь утверждаю, что там,
где норм нет, там нет и культуры. Нет культуры там, где нет начал
гражданской законности и не к кому апеллировать. Нет культуры там,
где в решении споров игнорируются основные принципы разума *. Нет
культуры там, где экономические отношения не подчинены регулирую-
щему аппарату, к которому можно обратиться. Нет культуры там, где
в эстетических диспутах всякое оправдание для произведения искусства
объявляется излишним.
Когда все эти нормы, принципы и инстанции исчезают, исчезает и
сама культура и настает варварство в точном значении этого слова. Не
будем себя обманывать — новое варварство появляется сейчас в Европе,
и породило его растущее восстание масс. Путешественник, прибываю-
щий в варварскую страну, знает, что там уже не действуют правила и
принципы, на которые он привык полагаться дома. У варвара нет норм
в нашем понимании.
Степень культуры измеряется степенью развития норм. Где они мало
развиты, там жизнь направляется только в общих чертах, где они разви-
ты подробно, там они проникают во все детали и во все области жизни.
Каждый должен признать, что в Европе за последнее время наблю-
даются странные явления. Как на конкретный пример, укажем на такие
политические движения, как синдикализм и фашизм. Они кажутся стран-
ными не только потому, что они новы. Увлечение новинками всегда
было свойственно европейцу, недаром он создал себе самую неспокойную
историю. Нет, странность этих движений — в их стиле, в тех небывалых
формах, какие они принимают. Под маркой синдикализма и фапшзма
в Европе впервые появляется тип человека, который не считает нужным
оправдывать свои претензии и поступки ни перед другими, ни даже
перед самим собой; он просто показывает, что решил любой ценой
добиться цели. Вот это и есть то новое, небывалое: право действовать
безо всяких на то прав. Тут я вижу самое наглядное проявление нового
поведения масс, причина же в том, что они решили захватить руковод-
ство обществом в свои руки, хотя руководить им они и неспособны.
В этом политическом поведении масс раскрылась грубо и откровенно вся
структура их новой души; однако ключ ко всему был все же в духовной
замкнутости. Человек массы открыл в себе «идеи», «мысли»; однако он
неспособен к идейному творчеству, к конструктивному мышлению. Он не
имеет даже понятия о легком, чистом воздухе мира идей. Он желает
иметь собственные «мнения», но не желает принять условия и предпо-
сылки, необходимые для этого. Поэтому все его «идеи» — не что иное,
как вожделения, облеченные в словесную форму.
Чтобы иметь или создать идею, надо прежде всего верить, что
есть какие-то основания или условия ее существования, т. е. верить в
Разум, в мир идей, отвлеченных истин. Имея идеи, составляя мнения,
люди обращаются к высшей инстанции, подчиняются ей, признают ее
кодекс и ее решения; верят в то, что наивысшая форма общения —
диалог, в котором обсуждаются основы наших идей. Но для человека
массы принять дискуссию значит идти на верный провал, и он инстинк-
тивно отказывается признавать эту высшую объективную инстанцию.
Отсюда модный в Европе лозунг: «Хватит дискуссий!» — и отказ от вся-
ких форм духовного общения, предполагающих признание объективных
норм, начиная с простого разговора и кончая парламентом и научными
обществами. Это равносильно отказу от культурной общественной жиз-
* Кто в споре не старается держаться истины, не стремится быть правдивым,
тот умственный варвар. Именно таков человек массы, когда ему приходится вести
дискуссию, устную или письменную.
ни, построенной на системе норм, и возврату к варварскому образу
жизни. Это означает ликвидацию всех естественных жизненных процес-
сов и переход к принудительному введению новых, намеченных «поряд-
ков». Замкнутость массовой души, которая толкает массу на вмешатель-
ство во все общественные дела, неизбежно требует и единого метода
вмешательства: прямого действия, action directe.
Со временем, когда история зарождения нашей эпохи будет восста-
новлена, историки отметят, что первые звуки ее своеобразной мелодии
послышались около 1900 года среди групп французских синдикалистов
и реалистов, изобретших метод и выражение «прямое действие». Чело-
век во все времена прибегал к насилию; часто это бывало преступле-
нием, и нас эти случаи не интересуют. Но иногда насилие служило за-
щите правды и справедливости и прибегали к нему тогда, когда все
остальные средства были исчерпаны. Очень жаль, что человеческая нату-
ра вынуждает прибегать в таких случаях к насилию; но, с другой сто-
роны, нельзя отрицать, что это — наивысшая дань истине и справедли-
вости, ибо jaKpe насилие не что инш^гак-жеег-юэдаяния^Сода при-
меняется буквально как ultima ratio. Это выражение употребляют
почему-то большей частью в ироническом смысле, но оно хорошо выра-
жает то предпочтение, которое всегда давалось разуму перед силой.
Цивилизация не что иное, как попытка свести силу на роль ultima
ratio. Теперь это становится нам совершенно ясным, так как «прямое
действие» выворачивает этот термин наизнанку и провозглашает силу
prima ratio, первым доводом, т. е., в сущности, доводом единственным.
Это норма, которая отменяет все остальные нормы, все промежуточные
этапы между целью и ее достижением. Это — Великая Хартия вар-
варства.
Кстати будет напомнить, что во все эпохи, каждый раз, когда массы
по тому или иному поводу выступали в общественной жизни,—это всег-
да было в форме «прямого действия». Таким образом, «прямое дейст-
вие» — типичный, вернее, единственный метод действия масс. И основ-
ной тезис моей книги будет значительно подкреплен тем очевидным
фактом, что именно теперь, когда захват массами власти в общественной
жизни из случайного и спорадического факта обратился в «нормальное»
явление, «прямое действие» появляется на сцене официально, в качестве
признанной доктрины.
Вся наша общественная жизнь подпадает под этот новый режим, в ко-
тором все «не прямые» действия подавлены. В общественной жизни
упраздняется «хорошее воспитание». В литературе принцип «прямого
действия» выражается в оскорблениях и угрозах; в отношениях между
мужчиной и женщиной — в распущенности.
Нормы общежития, вежливость, взаимное уважение, справедливость,
благожелательность! Кому все это нужно, зачем так усложнять жизнь?
Все это заключается в одном слове «цивилизация», смысл которого
раскрывается в его происхождении от civis — гражданин, член общества.
Все перечисленное служит тому, чтобы сделать жизнь города, т. е. город-
ской общины — иначе говоря, общественную жизнь,— возможно более
легкой и приятной. Если мы вдумаемся в перечисленные элементы циви-
лизации, мы заметим, что у них одна и та же основа — спонтанное и
все растущее желание каждого гражданина считаться со всеми осталь-
ными. Цивилизация — прежде всего добрая воля к совместной жиз-
ни. Человек, который^пе~считается с други^и ^пГ^щвилизованный чело-
век, а варвар. Варварство направлено к разложению общества. Все вар-
варские эпохи были периодами человеческого рассеяния, распадения
общества на мелкие группы, разобщенные и взаимно враждебные.
f Политическая фор^щ, проявляющая максимум воли к совместной
жизни, к общественности, есть либеральная демократиялОна выказывает
наибольшую готовность считаться с окружающими-и может служить про-
z, Вопросы философии, 3
145
тотишэм «непрямого действия». Либерализм — тот политический право-
вой принцип, согласно которому общественная власть, несмотря на свое
\ всемогущество, сама себя ограничивает и старается, даже в ущерб своим
^интересам, предоставить в государстве, которым она управляет, место
' и тем, кто думает и чувствует иначе, чем она сама, т. е. иначе, чем боль-
шинство. Либерализм — следует напомнить сегодня — проявляет небыва-
лое великодушие: свои права, права большинства, он добровольно делит
с меньшинствами; это самый благородный жест, когда-либо виданный в
истории. Либерализм провозглашает свое решение жить одной семьей
с врагами, даже со слабыми врагами. Прямо невероятно, что человечест-
во могло создать такой чудесный аппарат, такую парадоксальную, утон-
ченную, замысловатую, неестественную систему. И нет ничего удивитель-
| кого в том, что сейчас то же самое человечество готово от нее отказать-
ся: опыт оказался слишком сложным и трудным, чтобы укорениться на
нашей земле.
Жить одной жизнью с врагами! Править совместно с оппозицией! Не
становится ли подобная мягкость непостижимой? Ничто не характе-
ризует нашу эпоху так метко, как тот факт, что число государств,
допускающих у себя оппозицию, резко уменьшается. Почти всюду одно-
родная масса оказывает давление на правительство и подавляет, уничто-
жает все оппозиционные группы. Масса — кто бы мог подумать, глядя
на ее компактность и численность? — не желает терпеть рядом с собой
тех, кто к ней не принадлежит. Она питает смертельную ненависть ко
всему иному.
IX. Примитивизм и техника
Должен напомнить, что мы заняты анализом эпохи — нашей эпохи,
которая по самой сущности своей двусмысленна. Потому я и сказал вна-
чале, что все черты нашего времени — в частности восстание масс,—
предстают перед нами в двух аспектах. Каждая черта не только до-
пускает, но и требует двойного толкования, благоприятного и неблаго-
приятного. Эта двойственность коренится не в нашей оценке, а в самой
действительности. Не в том дело, что положение может нам казаться хо-
рошим с одной точки зрения и плохим с другой, а в том, что сама жизнь
несет в себе две возможности— победы и гибели.
Я не хотел бы перегружать это исследование метафизикой истории.
Но я, конечно, строю его на основе своих философских убеждений, кото-
рые излагаю или имею в виду в других местах. Я не верю в абсолютный
исторический детерминизм. Наоборот, я верю, что всякая жизнь, тем
самым историческая, состоит из отдельных моментов, каждый из которых
относительно свободен, не предопределен предыдущим моментом; некото-
рое время он колеблется, «топчется на месте», как бы не зная, какой
из вариантов избрать. Вот это метафизическое колебание и придает все-
му живому ни с чем не сравнимый трепет, вибрацию.
Восстание масс может предвещать переход к новой, еще неведомой,
организации человечества; может и привести к катастрофе. Нельзя отри-
цать достигнутого, нельзя и считать его упроченным. Факты скорее
говорят нам, что никакой прогресс, никакая эволюция не прочны, они
всегда под угрозой регресса, отката. Все, все возможно в истории—
и триумфальный прогресс, и периоды упадка. Ибо жизнь (индивидуаль-
ная и общественная, личная и историческая) — единственное в мире
явление, сущность которого — опасность. Она состоит из «перипетий».
^Строго говоря, жизнь—это драма *.
* Я не сомневаюсь, что большинство читателей не примет этих выражений
всерьез, в буквальном смысле; даже самые благосклонные сочтут их метафораМи.
Только редкий читатель, достаточно прямой, не воображающий, будто Он насквозь
знает жизнь, позволит себе принять эти слова в прямом значении. И только он их
правильно поймет, независимо от того, верны они или нет. Среди остальных будет
146
Все это, верное вообще, получает особое значение в эпохи кризисов,
как наша. Симптомы нового поведения масс в эпоху их господства, кото-
рые мы обобщили под именем «прямого действия», могут возвещать
и будущий прогресс. Ясно, что каждая старая цивилизация постепенно
обрастает омертвевшей материей, роговой оболочкой, которая мешает
жизни, отравляет ее. Есть отмершие учреждения, изжитые ценности
и авторитеты, устаревшие нормы, которые формально еще существуют,
загромождая и усложняя живую жизнь. Весь этот репертуар «непрямого
действия» в значительной степени обветшал и требует ревизии, чистки.
Необходимо упрощение; оно несет гигиену, лучший вкус, лучшие реше-
ния, экономию — когда меньшими средствами достигается больше.
В основном нужно вернуть общественную жизнь, и прежде всего по-
литику, к подлинной действительности. Европа не сможет сделать сме-
лого прыжка, которого от нее требует вера в ее будущее, не сбросив
с себя всей истлевшей ветоши, не представ снова в своей обнаженной
сущности, не вернувшись к своему подлинному «я».
Предстоящее очищение и обнажение Европы, возвращение к подлин-
ному бытию очень радует меня. Я верю, что это необходимо для расчист-
ки пути к достойному будущему. Потому я и требую свободы мысли
в отношении прошлого. Будущее должно первенствовать над прошлым,
от него мы получаем приказы, определяющие наше отношение к про-
шлому *.
Но надо избегать тяжкого греха правителей XIX века — им недоста-
вало ответственности, а это вело к утрате бдения, бдительности. Кто от-
дается потоку событий, не обращая внимания на предостережения, полу-
ченные еще в безоблачные дни, тот забывает свой долг и утрачивает
ответственность. Сейчас надо требовать, чтобы те, кто способен на это,
ощущали ответственность чрезвычайно сильно; важнее всего — указать
и подчеркнуть явственно опасные стороны новых симптомов.
Подводя баланс нашей общественной жизни — при условии, что нас
занимает не столько настоящее, сколько будущее,— мы не можем сомне-
ваться в том, что неблагоприятных факторов значительно больше, чем
благоприятных.
Все наши материальные достижения могут исчезнуть, ибо надвигает-
ся грозная проблема, от решения которой зависит судьба Европы. Сфор-
мулирую эту проблему еще раз: господство в обществе лопало в руки
людей определенного типа, которым не дороги основы цивилизации —
не какой-нибудь определенной формы ее, но (насколько мы вправе
судить сегодня) всякой цивилизации вообще. Этих людей интересуют
наркотики, автомобили, что-то еще; но это лишь подчеркивает полное
равнодушие к цивилизации, как таковой. Ведь эти вещи — лишь продук-
ты цивилизации, и страсть, с которой новый владыка жизни им отдается,
подтверждает его полное безразличие к тем основным принципам, кото-
рые дали возможность их создать. Достаточно указать на следующее:
с тех пор, как существуют естественные науки, т. е. с эпохи Ренессанса,
значение их непрерывно росло. Точнее, число людей, занимавшихся тео-
полное единодушие, с одним лишь различием: одни будут думать, что, серьезно гово-
ря, жизнь — процесс духовный, другие — что это нечто вроде ряда химических реак-
ций. Для читателей с такой герметически замкнутой душой я попробую дать мою
мысль в иной формулировке: первичное, основное значение «жизни» раскрывается,
когда к ней подходят не биологически, а биографически. хотя бы по той простой прйх
чине, что вся .бищшгдя лишь бДна~глава “нейоторыхоВографий, доступная для био-
логов. Все остальное -'абстракция, фантазия. мнф7 ’
* Требование свободы в отношении к прошлому не придирчивая «критика»,
а ясно осознанный долг каждой критической эпохи. Если я защищаю либерализм
XIX века против масс, которые на него беспощадно нападают, это не значит, что
я отказываюсь от свободы высказывания против этого самого либерализма. И наобо-
рот: примитивизм, который в этой книге показан с самой худшей стороны, в извест-
ном смысле - необходимое условие каждого крупного исторического прогресса.
6* 147
ретическими исследованиями, росло с каждым поколением. Первый от-
носительный упадок приходится на наше время — на поколение, родив-
шееся на переломе столетия. Храмы чистой науки начинают терять
притягательную силу для студентов. И это происходит как раз тогда,
когда индустрия достигает наивысшего расцвета, а публика проявляет
все больший интерес к достижениям техники и медицины.
Если бы это не завело нас слишком далеко, мы могли бы показать
аналогичные явления в политике, искусстве, религии, да и в повседнев-
ной жизни.
п Что означает столь парадоксальное положение? Задача этой книги
именно в том и состоит, чтобы дать ответ на этот вопрос. Парадокс
в том, что нынешний «хозяин мира» — примитив, первобытный человек,
внезапно объявившийся в цивилизованном мире. Цивилизован мир, но не
его обитатель? Он^даже не замечает цивилизации, хотя и пользуется
ее плодами, как и дарами природы. Новый человек хочет иметь автомо-
биль и пользуется им, но так, словно он сам собой вырос на райском
древе. В глубине души он не подозревает об искусственном, почти
невероятном характере цивилизации; он восхищен аппаратами, машина-
ми и абсолютно безразличен к принципам и законам, на которых они
основаны. Когда я упоминал слова Ратенау о «вертикальном вторжении
варваров», можно было подумать — как многие и думают,—что это лишь
фраза. Теперь мы видим, что это выражение (независимо от того, верно
оно или нет) не пустая фраза, а точная формула, полученная в итоге
сложного анализа. Человек массы, поистине примитивный, неожиданно
вынырнул на авансцену нашей старой цивилизации.
Сейчас постоянно говорят о фантастическом прогрессе техники, но я
еще нигде не слышал — даже среди избранных,— чтобы касались ее до-
статочно печального будущего. Даже Шпенглер, тонкий и глубокий ум,
хотя и одержимый одной идеей, кажется мне беззаботным оптимистом —
ведь он считает, что за веком «культуры» следует век «цивилизации»,
под которой он разумеет прежде всего технику. Представления Шпенгле-
ра о культуре и вообще об истории настолько расходятся с предпосыл-
ками этой книги, что нелегко говорить здесь о его заключениях, хотя бы
для проверки. Только в общих чертах, пренебрегая деталями и приведя
обе точки зрения к одному знаменателю, можно установить примерно вот
что: Шпенглер думает, что техника может развиваться даже и тогда,
когда интерес к основным началам культуры угаснет. Я не решаюсь
в это поверить. Техника и наука —одной природы.. Наука угасает, когда
люди перестают интересоваться ею бескорыстно, ради нее самой, ради
основных принципов культуры. Когда этот интерес отмирает,— что по-
видимому происходит сейчас,— техника может протянуть еще короткое
время, по инерции, пока не выдохнется импульс, сообщенный ей чистой
наукой. Жизнь идет с помощью техники, но не от техники. Техника
сама по себе не может ни питаться, ни дышать, она — не causa sui,
но лишь полезный, практический осадок бесполезных и непрактич-
ных занятий *.
Таким образом, я прихожу к заключению, что интерес к технике
никоим образом не может обеспечить ее развитие или даже сохранение.
Недаром техника считается одной из отличительных черт современной
культуры, т. е. такой культуры, которая Использует практические при-
кладные науки. Потому-то из всего, что я назвал выше наиболее харак-
терными чертами новой жизни, созданной XIX веком, в конце концов
* Поэтому популярное определение Америки как «страны техники» не имеет
реального значения. Одно из наибольших заблуждений Европы — детские представ-
ления об Америке, распространенные даже среди очень образованных людей. Это
частный случай несоответствия между сложностью современных проблем и ограни-
ченностью современного духа.
143
остались лишь две: либеральная демократия и техника *. Но, повторяю,
когда говорят о технике, легко забывают, что ее животворный источ-
ник — чистая наука, и продление техники зависит в конце концов
от тех же условий, что и существование чистой науки. Кто думает сейчас
о тех нематериальных, но живых ценностях, таящихся в сердцах и умах
людей науки и необходимых миру для продления их работы? Может
быть, сейчас серьезно верят, что развитие науки можно обеспечить
одними долларами? Эта иллюзия, которая многих успокаивает,— еще
одно доказательство примитивизма наших времен.
Вспомним бесчисленное множество элементов, самых различных по
своей природе, из которых сложным путем составляются физико-химиче-
ские науки! Даже при самом поверхностном знакомстве с этой темой нам
бросается в глаза, что та всем протяжении пространства и времени
изучение физики и химии было сосредоточено на небольшом четырех-
угольнике: Лондон — Берлин— Вена — Париж, а во времени — только
в XIX веке. Это доказывает, что экспериментальная наука — одно из
самых невероятных чудес истории. Пастухов, воинов, жрецов и колдунов
было достаточно всегда и везде. Но экспериментальные науки требуют,
по-видимому, совершенно исключительной конъюнктуры. Уже один этот
простой факт должен был бы навести нас на мысль о непрочности, лету-
чести научного вдохновения **. Блажен, кто верует, что если бы Европа
исчезла, североамериканцы смогли бы продолжать науку!
Стоило бы рассмотреть этот вопрос подробнее и уточнить в деталях
исторические предпосылки, необходимые для развития эксперименталь-
ной науки и техники. Но человеку массы это не поможет — он не слу-
шает доводов разума и учится только на собственном опыте, на собст-
венной шкуре.
Вот, например, наблюдение, которое не позволяет обольщаться убеди-
тельностью доводов для человека массы: разве не глупо, что в наше
время простой, заурядный человек не преклоняется сам, без внушений
со стороны, перед физикой, химией, биологией? Посмотрите на положе-
ние науки: в то время, как прочие отрасли культуры — политика, искус-
ство, социальные нормы, даже мораль — явно стали сомнительными,
одна область все больше, все убедительней для массы проявляет изуми-
тельную, бесспорную силу — науки эмпирические. Каждый день они
дают что-то новое, и рядовой человек может этим пользоваться. Каждый
день появляются медикаменты, прививки, приборы и т. д. Каждому
ясно, что если научная энергия и вдохновение не ослабеют, если число
фабрик и лабораторий увеличится, то и жизнь автоматически улучшится,
богатство, удобства, благополучие удвоятся или утроятся. Можно ли
представить себе более могучую и убедительную пропаганду науки?
Почему же массы не выказывают никакого интереса и симпатии, не .
хотят давать деньги на поощрение и развитие наук? Наоборот, после-
военное время поставило ученого в полджение парии — не философов,
а именно физиков, химиков, биологов. Философия не нуждается в покро-
вительстве, внимании и симпатиях масс. Она свято хранит свою совер-
шенную бесполезность ***, чем и освобождает себя от необходимости счи-
таться с человеком массы. Она знает, что по своей природе проблема-
тична и весело принимает свою свободную судьбу, как птица Божия,
не требуя ни от кого заботы, не напрашиваясь и не защищаясь. Если !
кому-нибудь она случайно поможет, она радуется просто из человеко- ;
* Строго говоря, либеральная демократия и техника так неразрывно связаны
между собою, что одна немыслима без другой. Нужно было бы найти специальное
слово, более широкое понятие, обнимающее и ту, и другую. Это слово было бы под-
линной характеристикой XIX века.
** Не будем углубляться в этот вопрос. Большинство ученых сами до сих пор не
имеют ни малейшего представления о том серьезном и опасном кризисе, который
переживает сейчас их наука.
♦♦♦ См,; Аристотель. Метафизика 893а, 10.
1-19
любия. Но это не ее цель, она к этому не стремится, этого не ищет. Да и
как бы она могла претендовать, чтобы ее принимали всерьез, если она
сама начинает с сомнения в своем существовании, если она живет лишь
постольку, поскольку сама с собой борется, сама себя отрицает? Оста-
вим же философию в покое, это особая статья.
Но экспериментальные науки нуждаются в массе так же, как и масса
нуждается в них — иначе грозит гибель. Наша планета уже не может
прокормить сегодняшнее население без помощи физики и химии.
Какими доводами можно убедить людей, если их не убеждает автомо-
биль, в котором они разъезжают, или инъекции, которые утишают их
боль? Тут огромное несоответствие между очевидными благами, которые
наука каждый день дарит массам, и полным отсутствием внимания, какое
массы проявляют к науке. Больше нельзя обманывать себя надеждами:
от тех, кто так себя ведет, можно ожидать лишь одного — варварства.
В особенности, если — как мы увидим далее — невнимание к науке, как
таковой, проявляется ярче всего среди самих практиков науки — врачей,
инженеров и т. д., которые большей частью относятся к своей профес-
сии, как к автомобилю или аспирину, не ощущая никакой внутренней
связи с судьбой науки и цивилизации.
Есть и другие симптомы надвигающегося варварства — уже актив-
ные, действенные, а не только пассивные — очень явные и весьма тяже-
лые. Для меня несоответствие между благами, которые рядовой человек
получает от науки, и невниманием, которым он ей отвечает, кажется
самым грозным симптомом из всех *. Я могу понять эту неблагодарность,
лишь вспомнив, что в Центральной Африке негры тоже ездят в автомо-
билях и глотают аспирин. И я выдвигаю гипотезу: по отношению к той
сложной цивилизации, в которой он рожден, европеец, входящий сейчас
в силу,— просто дикарь, варвар, поднимающийся из недр современного
человечества. Вот оно, «вертикальное вторжение варварства»,
X. Примитивизм и история
Природа всегда при нас. Она сама себя питает и обновляет. В лесах,
среди природы, мы смело можем быть дикарями. Мы можем и навсегда
остаться дикарями без всякого риска, кроме разве прибытия других
людей, не диких. В принципе пребывание народов в вечной первобыт-
ности вполне возможно, такие народы есть. Брейсиг назвал их «народами
вечного рассвета» — они пребывают в замороженных сумерках, для них
никогда не взойдет солнце.
Это бывает в природном мире, но невозможно в мире цивилизован-
ном, вроде нашего. Цивилизация не дана нам готовой, сама себя не под-
держит. Она искусственна и требует художника, мастера.
Если вы хотите пользоваться благами цивилизации, но не позаботи-
тесь о ней, вы жестоко ошибетесь, мигом окажетесь без всякой цивили-
зации. Один промах — и все исчезнет, как дым, словно сдернули завесу,
скрывавшую нагую природу, и она появилась снова, девственная, как
лес. Лес всегда первобытен, и наоборот: все первобытное — как лес.
Романтиков всегда привлекало насилие низших существ и сил при-
роды над человеком, над белым женским телом. Они изображали Леду
С лебедем, Цасифаю с быком, Антиопу с козлом. Они находили тонкое
наслаждение в созерцании руин, где вытесанные руками человека четкие
формы томятся в объятиях диких ползучих растений. Когда истинный
романтик видит здание, он прежде всего ищет на карнизах и крышах
* Особенно поразительным представляется мне следующее: в то время как все
остальные стороны жизни — политика, закон, искусство, мораль, религия — пережи-
вают кризисы, временные банкротства, одна лишь наука не стала банкротом. Наобо-
рот, она каждый дель дает нам больше, чем мы от нее ожидали. В этом у нее нет
конкурентов. Для среднего человека непростительно этого не замечать.
150
пятна плюща и клочья мха. Они возвещают, что в конце концов —
все тлен; что над созданиями рук человеческих снова вырастет дре-
мучий лес.
Было бы неуиио смеяться над романтиком. Прав и он. За этими
образами, за их безгрешной чувственностью кроется великая и вечная
проблема отношений между цивилизацией и тем, что лежит позади
нее,— Природой, между Логосом и хаосом. Мы вернемся к этому по
другому поводу, когда я буду отстаивать романтизм.
Сейчас передо мною обратная задача. Речь идет о том, чтобы сдер-
жать напор первобытного леса. «Добрый европеец» должен делать то,
что причинило много забот Австралии,— остановить наступление дикого
кактуса, который грозил вытеснить людей в море. В сороковых годах
прошлого столетия один переселенец с берегов Средиземноморья привез
в Австралию крохотный отсадок кактуса. Теперь бюджет Австралии
обременен расходами на борьбу с кактусами, которые распространились
по всему континенту и ежегодно захватывают по километру с лишним.
Человек массы считает, что та цивилизация, которую он видит и ис-
пользует со дня рождения, так же нервозданна и самородна, как При-
рода, и тем самым становится в положение дикаря. Цивилизация для
него — вроде первобытного леса, как я уже говорил. Теперь уточним
некоторые детали.
Принципы, на которых покоится наша цивилизация, просто не суще-
ствуют для современного человека массы. Основные культурные ценно-
сти его не интересуют, он с ними не соглашается, он не намерен их за-
щищать. Почему это произошло? По многим причинам; сейчас я отмечу
одну из них.
Цивилизация по мере своего развития становится все сложнее и на-
пряженнее. Проблемы, которые она ставит перед нами, невероятно за-
путаны. Людей, способных разрешать эти проблемы, становится все
меньше. Послевоенный период — разительный тому пример. Восстано-
вить Европу нелегко, и рядовой европеец, по-видимому, не может с
этим справиться. Дело пе в недостатке средств, дело в недостатке голов.
Вернее, головы есть, хотя и немного, но европейский «человек массы»
не хочет посадить их на свои плечи.
Несоответствие между сложностью проблемы и наличными средства-
ми будет все обостряться до тех нор, цока не найдут выхода; вот основ-
ная трагедия нашей эпохи. Благодаря здоровым и плодотворным принци-
пам, на которых построена наша цивилизация, она все время повышает
свою производительность и количественно, и качественно, так что
уже превосходит потребительную способность нормального человека —
вероятно, впервые за всю историю цивилизации. Все прежние цивилиза-
ции погибали от несовершенства начал, на которых они были построены.
Теперь европейская цивилизация шатается по обратной причине. В Гре-
ции и Риме не выдержали принципы организации, но не сам человек;
Римская Империя погибла из-за недостатка техники. Когда государство
разрослось, возник целый ряд материальных проблем, которых неразви-
тая техника разрешить не могла. Античный мир начал приходить
в упадок и разлагаться.
Но в наши дни сам человек не выдерживает. Он не в состоянии идти
в ногу со своей собственной цивилизацией. Жутко становится, когда
слышишь, как сравнительно образованные люди рассуждают на повсе-
дневные темы. Словно крестьяне, которые заскорузлыми пальцами пы-
таются взять со стола иголку, они подходят к политическим и социаль-
ным вопросам сегодняшнего дня с тем самым запасом идей и методов,
какие применялись 200 лет назад для решения вопросов, в 200 раз более
простых.
Развитая цивилизация всегда полна тяжелых проблем. Чем выше
ступень прогресса, тем больше опасность крушения. Жизнь все улуч-
151
шается, но и усложняется. Конечно, по мере усложнения проблем сред-
ства к разрешению их совершенствуются. Но каждое новое поколение
должно научиться владеть этими средствами. Среди них — чтобы быть
конкретным — есть одно, особенно полезное именно для сложившейся,
зрелой цивилизации: хорошее знание прошлого, накопление опыта,
одним словом — история. Историческая наука совершенно необходима
для сохранения и продления зрелой цивилизации не потому, чтобы она
давала готовые решения для новых конфликтов,— жизнь никогда не по-
вторяется и требует всегда новых решений,— но потому, что она предо-
храняет нас от повторения ошибок прошлого. Если же человек или
страна, проделав долгий путь и очутившись в трудном положении, вдо-
бавок теряет память и не может использовать опыта прошлого, тогда
дело плохо. Мне кажется, Европа находится сейчас именно в таком по-
ложении. Самые культурные люди Европы в наши дни невероятно неве-
жественны -в истории. Я утверждаю, что современные руководители евро-
пейской политики знают историю гораздо хуже, чем их предшественники
в XVIII и даже XVII столетиях. Исторические познания правящей эли-
ты тех веков сделали возможным изумительный прогресс XIX века.
Политика XVIII века вся была продиктована стремлением избежать
ошибок прошлого и располагала огромным запасом опытных данных. Но
уже в XIX веке «историческая культура» начала убывать, хотя отдель-
ные специалисты значительно продвинули историю, как науку *. Этот
упадок исторической культуры повлек за собой ряд специфических оши-
бок, последствия которых мы сейчас испытываем. В последней трети
XIX века начался — сперва невидимый, подземный — поворот вспять,
возврат к варварству, т. е. к простоте человека, у которого прошлого нет
или он свое прошлое забыл.
/ Поэтому большевизм и фашизм — две новые политические попытки.
' возникшие в Европе и на" ее окраинах,— представляют собою два ярких
примера существенного регресса — не столько по содержанию их теорий^
. которые самй~1ГО~~себб; конечно,Додержат часть—и£тины _(где на свете
] нет крупицы истины?), сколько по антиисторизму, анахронизму, с которы-
I ми они к этой истине относятся. Эти движения, типичные для человека
' массы, управляются, как всегда, людьми посредственными, несовременны-
ми, с короткой памятью, без исторического чутья, которые с самого нача-
\ла ведут себя так, словно уже стали прошлым, влились в первобытную
фауну.
Вопрос не в том, быть или не быть коммунистом и большевиком.
Я не обсуждаю веры, я просто не понимаю, считаю анахронизмом, что
коммунист 1917 года производит революцию, тождественную тем, какие
уже бывали, ни в малой мере не улучшая их, не исправляя оши-
бок. Поэтому все происходящее в России не представляет историческо-
го интереса; что-что, но это не переход к новой жизни. Наоборот,
это монотонное повторение прошлого, трафарет, революционный шаблон,
и до такой степени, что нет ни одного шаблонного изречения о револю-
циях, которое не нашло бы печального подтверждения: «Революция
пожирает собственных детей», «Революцию начинают умеренные, про-
должают крайние, завершает реставрация» и т. д. К этим почтенным из-
речениям можно было бы присоединить еще несколько менее популяр-
ных, хотя и столь же вероятных, например: революция длится не более
15 лет — творческого периода одного поколения ♦*.
* Здесь мы имеем пример разницы между состоянием наук в известную эпоху
и общим состоянием культуры в то же время.
Г ** Поколение действует около 30 лет. Но деятельность его разделяется на два пе-
' риода, различные по форме: в первый период молодое поколение пропагандирует
свои идеи, настроения, склонности; во второй — оно приходит к власти и проводит
\ пх в жизнь. Следующее поколение в это время уже несет новые идеи и вкусы, кото-
) рые начинают проникать в общую атмосферу. Если идеи и вкусы правящего поколе-
( нин косят радикальный, революционный характер, то новое поколение - антире-
152
Кто стремится к подлинному творчеству, к созданию новых форм
социальной и политической жизни, тот должен прежде всего покончить
с убогими трафаретами исторической мудрости. Я назвал бы гениальным
того политического деятеля, который первыми же своими реформами свел
бы с ума профессоров истории, показав им на деле, как все «законы»
их науки теряют силу, рассыпаются вдребезги и обращаются в прах.
Почти то же самое, только с обратным знаком, можно сказать о фа-
шизме. Ни большевизм, ни фашизм не стоят «на высоте эпохи», не
несут в себе прошлого в сжатой форме, а это необходимо, чтобы его
улучшить. С прошлым нельзя бороться врукопашную. Прошлое побеж-
дают, поглощая. Все, что не останется вовне, погибнет. '
И большевизм, и фашизм — ложные зори; они предвещают не новый
день, а возврат к архаическому, давно пережитому, они первобытны.
И та же судьба ожидает все движения, которые простодушно вступят’
в открытый бой с той или иной частью прошлого, вместо того чтобы
переварить ее. ’ ’ ---"
Конечно, либерализм XIX века надо преодолеть. Но этого-то как раз
и не может выполнить тот, кто, подобно фашисту, объявляет себя анти-
либералом. Антилибералами или не-либералами люди были до либерализ-
ма. Либерализм оказался сильнее, он должен победить и в этот раз,
или же оба противника погибнут вместе со всей Европой. Такова неумо-
лимая хронология жизни; либерализм — позже антилиберализма, подоб-
но тому, как в ружье «больше» оружия, чем в копье.
На первый взгляд кажется, что каждое «анти», «против» может по-
явиться лишь после «чего-то». Однако в этом «анти» нет никакого поло-
жительного содержания, ничего нового; это пустое отрицание, возвраще-
ние к тому, что было до отрицаемого. Возьмем конкретный пример:
если кто-нибудь говорит, что он антипетрист, это значит только, что он
предпочитает общество (или мир) без Петра; но это и было до появления
Петра. Таким образом, антипетрист встает не после Петра, а до него;
он начинает крутить фильм от прошлого, и неизбежно наступит момент,
когда Петр появится снова. Все эти «анти» напоминают легенду о Кон-
фуции. Он родился, естественно, после своего отца, но — вот незадача!—
ему было уже 80 лет, а его отцу — только 30! Каждое «анти» — не боль-
ше, чем пустое отрицание, «нет».
Все было бы очень просто, если бы коротким «нет» мы могли похоро-
нить прошлое. Но прошлое по своей природе возвращается. Если его от-
гонят, оно вернется. Единственный способ справиться с ним — не выго-
нять его, считаться с ним, но избегать его, уклоняться от него. Иными
словами: жить на уровне эпохи, тонко ощущая историческую конъюнк-
туру.
У прошлого своя правда. Если ее не признают, оно возвращается и
требует признания, подчас даже там, где и не надо. У либерализма была
своя правда, и ее надо признать на веки вечные. Но он был прав не во
всем, и то, в чем он не был прав, надо изъять. Европа должна сохра-
нить все существенное из своего либерализма. Иначе его не преодолеешь.
Я говорю о фашизме п большевизме только вскользь, отмечая лишь
одну их черту — анахронизм. Эта черта, по моему мнению, органически
присуща всему тому, что сейчас, видимо, торжествует. Сейчас повсюду
торжествует человек массы, п только те течения могут иметь видимый
успех, которые проникнуты его духом, выдержаны в его примитивном
стиле. Я ограничиваюсь этим и не углубляюсь в исследование внутрен-
ней природы того и другого движения, как п не пытаюсь решать вечную
дилемму революции или эволюции. Самое большее, на что я претен-
волюционно, т. е. в сущности реакпионпо по духу. Конечно, эта реставрация не
простое возвращение к старому, этого никогда не бывало.
<53
дую,— чтобы й революция, и эволюция были историчны, а не анахро-
ничны.
Тема этого исследования политически нейтральна, она лежит в игтой
сфере, более глубокой, чем Политика с ее склоками. Консерваторы не
в большей и не в мепыпей степени «масса», чем радикалы; разница
между ними, которая всегда была очень поверхностной, ничуть не
мешает им быть по существу одним и тем же— восставшим «человеком
массы».
У Европы нет перспектив, если только судьба ее не попадет в руки
людей подлинно современных, проникнутых ощущением истории, созна-
нием уровня и задач нашей эпохи и отвергающих всякое подобие архаиз-
ма и примитивизма. Нам нужно знать подлинную, целостную Историю,
чтобы не провалиться в прошлое, а найти выход из него.
{Окончание следует.)
из редакционной почты
От редакции. В № 9 нашего журнала га 1988 г. под рубрикой «О новом учебнике
по философии» была опубликована статья И. Т. Фролова, В. С. Степина, В. А. Лек-
торского и В. Ж. Келле, раскрывающая замысел нового, выходящего в свет учебного
пособия, а также «Предисловие», «Оглавление» и «Заключение» из этой книги. Заду-
мывая эту публикацию, мы стремились пе только ознакомить философскую общест-
венность, всех интересующихся философией с основными идеями и структурой ново-
го учебника, но и получить читательские отклики, угнать мнение наших читателей
о готовящемся издании. И действительно, редакция получила ряд писем, содержащих
различные оценки задуманного труда. С некоторыми из них мы и знакомим чита-
телей.
Фрагменты из писем
М. С. КИСЕЛЕВА (Московский инсти-
тут инженеров транспорта).
Журнал познакомил своих читателей
с замыслом нового учебника. Понятно,
что такой учебник требует серьезно из-
мененной программы, а это повлечет за
собой и другие преобразования в прак-
тике преподавания философии в выс-
шей школе. Ну, а где реформы - там,
как показывает сегодняшний опыт, проб-
лемы... Попробуем поразмышлять над
темп возможностями и трудностями, кото-
рые неизбежно возникнут в процессе
преподавания практически нового кур-
са философии. Думаю, можно задаться
по крайней мере двумя вопросами: 1)
готовы ли мы, преподаватели, учить по
такому учебнику? 2) способны ли наши
студенты усвоить данный курс? Отве-
ты — предположительные, каждый, смо-
жет дать их, лишь опираясь на собствен-
ный педагогический опыт. Боюсь, кроме
того, что опи будут не слишком оптими-
стичными.
Мне видятся три основных момента,
кардинально перестраивающие препо-
давание курса по предложенному учеб-
нику: во-первых, курс проблематизиро-
ван, а следовательно, лишен догматично-
сти; во-вторых, в курсе дается целост-
ная, логически связная пропедевтика
философии; в-третьих, курс гуманизиро-
ван - обращен к человеку, обогащен гу-
манистической проблематикой. Все эти
моменты настойчиво и определенно тре-
буют нового типа преподавания курса,
в основе которого видится личностный
диалог педагога и студента, формы кото-
рого еще нужно найти. Означает ли это
отказ от традиционных лекций, от экза-
менационных отметок по пятибалльной
системе, появятся ли проблемные семи-
нары или обсуждение философских тек-
стов? Время покажет. Понятно, что но-
вый курс нуждается в иных, нетради-
ционных формах занятий. Это и есть
первая серьезная трудность введения но-
вого курса в существующую систему
преподавания. Большим подспорьем в
поиске новых форм преподавания долж-
ны стать хорошие библиотеки и кабине-
ты по философии, где бы можно было
проводить как групповые занятия, так и
заниматься самостоятельной подготовкой,
общаться с книгой. Пишу и понимаю
утопичность нарисованной картины. Но
до каких же пор преподаватель будет
снабжать философской литературой пз
своей домашней библиотеки 8—10 групп
студентов в семестр, не удовлетворяя тем
самым и сотой доли действительной
нужды в книге! Считаю, что учебник
станет действенным тогда, когда он смо-
жет опереться на комплекс хрестоматий
или сборников текстов по философии с
неболыпимп комментариями, выпущен-
ных специально для высшей школы
(опыт такой работы уже есть — психо.то-
гп МГУ пздалп сборники текстов по
психологии) большими тиражами, кото-
рые можно было бы распространять по
всем вузам страны, и не в одном экзем-
пляре.
Как же реально узнать, на правильном
ли мы пути в деле перестройки препода-
вания философии? Думаю, что есть до-
статочно простой и надежный способ оп-
ределить, работает или нет новая прог-
155
рамма. Если наши студенты, слушая
педагога и идя с ним от ступени к сту-
пени «Введения в философию», все ре-
же и реже будут задавать себе и ему
вопрос: «Зачем нам нужна эта ваша фи-
лософия?», и, возможно даже, приоб-
щаясь к сократовской мудрости, скажут:
«Знаю, что ничего не знаю», раскроют
книгу и начнут образовывать себя, зна-
чит, мы избрали верный путь.
В. Б. КУЧЕВСКИЙ (кафедра филосо-
фии АН СССР).
Вызывают одобрение существенное рас-
ширение историко-философской части
курса марксистско - ленинской филосо-
фии и подчеркивание мысли о необхо-
димости более широкого использования
достижений философской мысли прош-
лых эпох и современных немарксистских
философских концепций.
Оправданным представляется исключе-
ние из курса марксистско-ленинской фи-
лософии тем' о классах, социальной ре-
волюции и государстве, которые должны
изучаться в рамках научного комму-
низма.
В целях дальнейшего совершенствова-
ния учебника можно порекомендовать ав-
торскому коллективу обратить внимание
на более строгое концептуальное осмысле-
ние структуры учебного пособия. В са-
мом общем плане в марксистско-ленин-
ской философии необходимо выделять
три раздела. Первый связан с философ-
ским осмыслением природы, материи в ее
соотношении с сознанием. В этот раз-
дел войдут и темы о движении, разви-
тии материи и ее статусе субстанции.
Второй раздел связан с философским
осмыслением природы сознания как отра-
жения реальной действительности на ос-
нове практической деятельности людей.
В него должна быть включена и тема о
познании как способе существования
сознания. Третий раздел должен быть
посвящен раскрытию диалектики взаимо-
действия материального и идеального в
деятельности общества и отдельно взя-
того человека. Исходными категориями
в этом разделе должны быть «обществен-
ное бытие» и «общественное сознание»,
а также «я» и «не-я». Именно в этом раз-
деле будет находиться философская кон-
цепция человека...
Вряд ли целесообразно начинать изло-
жение содержания марксистско - ленин-
ской философии с категории бытия, как
это сделано в учебнике.
В рамках философского материализма
понятие бытия приобретает категориаль-
ное значение, когда оно берется в паре с
такими понятиями, как «сознание», «не-
бытие», «сущность». В первом случае бы-
тие осмысливается в качестве объектив-
ной реальности, во втором - служит для
выражения противоречия существования
конечных образований, т. е. качественно
определенных единичных предметов: в
третьем — для фиксации конкретных форм
осуществления внутренней природы ве-
щей. Философия начинается не с конста-
тации факта существования неизвестно
чего, а с анализа отношения бытия и
мышления. Исходной категорией диалек-
тического материализма, фиксирующей в
своем содержании это отношение, высту-
пает категория «материя», поэтому с нее
и надо начинать.
В отличие от прежних учебников в но-
вом названия почти всех глав предельно
кратки, т. е. сведены до одного слова (бы-
тие, материя, развитие, природа, человек,
прогресс и т. д.). Можно ли считать это
достоинством? Думается, что такая крат-
кость сводит на нет возможность выра-
зить проблемный характер соответствую-
щих тем, а также не позволяет выявить
своеобразие философского подхода к ним.
К. О. ОДИЛОВ (кафедра философии
Андижанского медицинского института).
Заслуживает полной поддержки то, что
авторы нового учебника отказались от
традиционной схемы и начинают изложе-
ние философии не с категории «материя»,
а с категории «бытие». Это вполне оп-
равданно не только с точки зрения демон-
страции связи нашей философии с той
огромной философской традицией, где
понятие «бытие» занимает центральное
место, но и необходимостью корректной
экспликации содержания марксистской
онтологии. Объяснить студентам единст-
во онтологического и гносеологического
аспектов, не вводя этой категории, не
представляется возможным.
В. С. КАПТАРЬ (кафедра научного
коммунизма Кишиневского государствен-
ного университета).
Следует только приветствовать тот
факт, что в новом учебнике нашлось ме-
сто для таких актуальных проблем, как
смысл жизни, жизнь и смерть в духов-
ном опыте человека. Ведь именно эти
проблемы во все времена обсуждались
философской мыслью, именно с этих воп-
росов и начинается приобщение человека
к философии, и именно сейчас — в термо-
ядерную, космическую эпоху, эпоху воз-
можных кризисов и катастроф — они вы-
ходят на передний план.
Достоинством нового учебного пособия
является и то, что авторы отказались от
набивших оскомину «развернутых» оп-
ределений названий глав, вынося всю
проблематику в параграфы и текст учеб-
ника.
Наряду с этим хотелось бы обратить
внимание на то, что во второй части
учебника (главы XV-XIX) не совсем
четко просматривается решение основно-
го философского вопроса применительно
к общественному развитию. Конечно, по
оглавлению судить трудно, но, быть мо-
жет, имеет смысл так отредактировать
название параграфов, чтобы оппозиция
«материальное - идеальное» проступала
более отчетливо?
156
В. А. СЕРГЕЕВ (кафедра философии
Московского химико-технологического ин-
ститута им. Д. И. Менделеева).
Разделяю соображения, высказанные
И. Т. Фроловым, В. С. Степиным, В. А.
Лекторским и В. Ж. Келле относительно
замысла книги. Правильно авторы назы-
вают ее «Введением в философию», по-
лагая, что она вызовет у читателя стрем-
ление к самостоятельному глубокому и
критическому овладению философскими
знаниями, к самостоятельному формиро-
ванию своих мировоззренческих убежде-
ний.
Вызывают возражения следующие мо-
менты.
Правильно отстаивая целостность фи-
лософии, авторы сетуют на то, что про-
цесс дифференциации и интеграции фи-
лософских знаний стал признаваться
вполне естественным, соответствующим
общим тенденциям развития современно-
го научного знания. Но ведь это действи-
тельно объективный процесс. Он идет и
в истории философии, и в оптологии, и в
гносеологии, и в логике, и в этике, и в
эстетике. Важно только, чтобы при на-
личии этого процесса, при множестве са-
мых различных частных исследований,
не нарушалась целостность философии.
Разделяю социально-философский и по-
литический пафос предисловия и заклю-
чения, но думаю, что они выиграют от
устранения повторений. Горячо поддер-
живаю намерение дополнить учебник по
философии «хрестоматией» по филосо-
фии.
План учебника в принципе принимаю.
Быть может, я остаюсь под влиянием ста-
рой привычной схемы, но меня не остав-
ляет вопрос: что же, философских аспек-
тов социальных и национальных отно-
шений, социальной революции, полити-
ческой системы общества совсем не ка-
саться в учебнике? А если касаться, то
где и как? В оглавлении ясности нет.
Не имею возражений по общей схеме
развития домарксистской философии. Но
как бы дело не свелось в основном к ис-
тории европейской философии. На Восто-
ке существует ведь не только древняя
философия, а и философия Китая, Индии,
Японии вплоть до XX в. А философия
США, латиноамериканских стран? В Аф-
рике есть свои мифологические и фило-
софские традиции.
В главе XVII, хотя она и называется
«Культура», речь идет не только о куль-
туре, но и об общественном сознании,
или еще шире — о духовной жизни обще-
ства. Не лучше ли начать с характери-
стики основных положений, относящих-
ся к духовной жизни общества, а затем
дать параграфы о культуре? И главу наз-
вать «Духовная жизнь общества».
Л. Г. ЧЕРНЫШКОВА (кафедра фило-
софии Магнитогорского государственного
педагогического института).
Мы обсудили на кафедре проспект но-
вого учебника. Конечно, о его содержании
можно будет судить только после выхо-
да книги в свет. Однако мы хотим выс-
казать свои замечания на основе опуб-
ликованного материала.
Прежде всего мы безоговорочно прини-
маем основные идеи авторов: утвердить
принцип единства и целостности маркси-
стско-ленинской философии и сделать
проблему человека сквозной идеей фило-
софии. Согласны с авторами, что осуще-
ствление этих принципов позволяет пре-
одолеть догматизм и увидеть мировоз-
зренческий и методологический смысл
философии.
В процессе обсуждения было отмечено
как положительное: логика изложения;
последовательность разделов (от «Бытия»
до «Перспектив человека и человечест-
ва»); обращение к проблеме человека в
каждом разделе; включение таких раз-
делов, как «Бытие», «Практика», «Куль-
тура» и др.; логика выведения сознания
и познания из практики и т. д.
Мы согласны с мнением авторов о не-
обходимости увеличения историко-фило-
софского раздела и стремлением пока-
зать генезис основных философских проб-
лем. Не вызывает возражения включение
раздела о немарксистской философии
XX в. Однако здесь следовало бы вклю-
чать во все разделы учебника критику
(или положительную оценку) конкретных
идей современной немарксистской фило-
софии.
Наши основные замечания состоят в
следующем. Из оглавления трудно понять,
как рассматривается проблема идеально-
го. Мы полагаем, что проблема идеаль-
ного, его соотношения с материальным
очень существенна и должна рассматри-
ваться специально в разделе «Сознание».
В раздел «Познание» необходимо вклю-
чить параграф о многообразии видов поз-
нания и их уровней, а также проблемы
специфики социального познания, уси-
лить момент активности субъекта позна-
ния. Во всех разделах учебника выдер-
жана в основном принципиальная проб-
лематика, а вот в разделе «Наука», на
наш взгляд, включение основных мето-
дов научного исследования излишне, ибо
это проблемы скорее специальных кур-
сов, чем «Введения в философию».
Хотим высказать еще одно пожелание:
в хрестоматии по философии, помимо
текстов, поместить портреты философов.
В. Н. УСОВ (кафедра философии Че-
лябинского политехнического института).
Предлагаемый вариант учебника, на
мой взгляд, не является удовлетворитель-
ным. Судя по «Оглавлению», здесь нет
самого главного — нет самой философии.
Преимущественно речь идет о философии.
Причем сопровождается она многочислен-
ными отступлениями явно конъюнктур-
ного характера. Поскольку предлагаемый
вариант учебника принципиально не от-
личается от имеющихся ныне, постольку
о конкретных его недостатках говорить
не имеет смысла.
157
Создание добротного учебника по фи-
лософии действительно актуальнейшая
проблема. Дело торопит перестройка пре-
подавания. Однако это и серьезнейшая
проблема, которою доперестроечными ме-
тодами не решить. Что имеется в виду?
Судя по опубликованным материалам,
данная проблема решается таким обра-
зом: собирается большой коллектив из-
вестных ученых; этот коллектив создает
исходный вариант; исходный вариант бе-
рется за основу, которая дорабатывается
с учетом критических замечаний и поже-
ланий. Товарищи! Ведь это старая, до бо-
ли знакомая схема. Сколько же можно
навязывать «истину» сверху?
И. А. СЕЛЕЗНЕВ (доктор философских
наук, Краснодар).
Замысел нового учебника по философии
во многих отношениях привлекателен.
Он выглядит нестандартно в структурном
отношении. Авторы отказались от тяже-
ловесных формулировок в названии глав
и параграфов. Они кратки и просты.
В них не содержится готового ответа, на-
вязываемого читателю, как это было в
прошлых учебниках. Чувствуется, что
учебник адресован читателю, живущему
в атмосфере плюрализма мнений.
Одобряя в принципе новый подход к
изложению учебного философского кур-
са, хочется высказать ряд замечаний и
пожеланий.
Авторы учебника выдвигают тезис о
том, что «догматическая философия зас-
тоя» была разработана по меньшей мере
за 40 лет до периода застойности, в фи-
лософском параграфе 4-й главы «Крат-
кого курса истории ВКП(б)». Оценивая
прошлое в социально-экономической и
духовной жизни нашего общества, мы не
имеем права забывать о будущем. Это в
равной мере относится и к оценке фи-
лософских работ наших недавних пред-
шественников, в том числе работы Ста-
лина «О диалектическом и историческом
материализме». Не обеляя безнравствен-
ный политический портрет ее автора,
следует все-таки напомнить современно-
му читателю, что в содержании этой ра-
боты, как это ни покажется странным,
нет ничего сталинского. В ней воспроизво-
дятся идеи Маркса, Энгельса, Ленина по
диалектике, философскому материализму,
историческому материализму, по другим
философско-мировоззренческим вопросам.
На 28 страницах брошюры воспроизво-
дятся 33 цитаты из произведений клас-
сиков марксизма-ленинизма. Подхалимы
и карьеристы возвели этот краткий спра-
вочник о философских воззрениях марк-
сизма в абсолют, в вершину философской
мысли. Не пристало нам, современным
марксистам, опускаться до уровня под-
халимов и начетчиков сталинского пе-
риода, чтобы столь же усердно и бездум-
но опровергать содержащиеся в брошюре
позитивные идеи философии марксизма.
Второе. О степени ответственности фи-
лософии за жизнь общества.
В публицистике, в философских и по-
литических выступлениях нередко про-
водится мысль, что за все беды нашей
экономики и социальной жизни застой-
ного периода ответственность несет фи-
лософия, а также политэкономия, дру-
гие общественные науки. На этой же
позиции стоят и авторы нового учебника
по философии. Правильна ли такая по-
зиция?
Представим себе обыденный случай,
каких в нашей жизни, увы, слишком
много. По проекту, составленному на ос-
нове архитектурной науки, построили
дом, и он завалился. Кто виноват? Ар-
хитектор, строители или архитектурная
наука? Аналогичным образом происходит
и с философией. Сами по себе ни архи-
тектура, ни философия ничего в реаль-
ной жизни не могут ни построить, ни
разрушить. Все делают люди на основе
пауки или вопреки ей.
Философия марксизма как теоретичес-
кая система знаний реализуется через
деятельность партии, ее руководителей
всех рангов и рядовых коммунистов.
Чтобы реализовать философские идеи,
надо, как минимум, более или менее
прочно их знать и умело применять в
практике политической, хозяйственной,
духовной деятельности.
Наше общество страдает не от недо-
статочности наличного философского зна-
ния, а от неумения применять его в ка-
честве диалектико - материалистической
методологии исследования и практической
деятельности. Конечно, философия марк-
сизма не является завершенной систе-
мой знаний. Она открыта для восприятия
новых философских идей. Но то, что нам
досталось от великих творений Маркса,
Энгельса, Ленина, вполне достаточно для
руководства к действию.
Третье. О специфике философского зна-
ния и концепции марксистско-ленинской
философии. Основной вопрос философии
авторами рассматривается как специфи-
ческая форма постановки, обсуждения и
решения вопроса о месте человека в
мире. В правомерности такого подхода
едва ли кто из нас будет сомневаться.
Но исчерпывается ли вся специфика фи-
лософского знания изучением отношения
материального и духовного? С тех пор
как человек стал философствовать, он
задумывался не только над вопросом об
отношении собственного «я» ко всей
объективной реальности, но и хотел по-
нять, как относятся явления предметно-
го мира друг к другу, в каком состоянии
они пребывают в своем бытии.
Внимательное рассмотрение «Оглавле-
ния» показывает, что в новом учебнике,
в его исходных главах совершенно от-
сутствует материал о философских ис-
каниях по вопросу об отношениях вещей
и явлений предметного мира, а термины
«диалектика» и «метафизика» даже не
упоминаются. Только в конце третьей
главы, посвященной возникновению и
историческим типам философии, мы впер-
вые встречаемся с термином «диалекти-
158
ка» в связи с рассмотрением послекан-
товского немецкого идеализма. Создается
впечатление, что диалектическая фило-
софия берет свое начало от Гегеля, а не
от Гераклита и Сократа и тем более не
от древней мифологии.
Нам представляется, что в новом учеб-
нике и в новой программе по философии
обязательно надо рассматривать истори-
ко-философские предпосылки возникнове-
ния марксистской философии как фило-
софии не только материалистической, но
и диалектической.
Четвертое. Об изложении содержа-
ния диалектики. Концептуальная непо-
следовательность при рассмотрении ис-
торико-философских начал проявилась в
восьмой главе, в которой под скромным
названием «Развитие» авторы пытаются
изложить «живую душу марксизма» —
диалектику.
Правомерно ли сводить все богатство
диалектического миропонимания только
к идее развития? Несомненно, концепция
развития доминирует в материалистиче-
ской диалектике, но не исчерпывает ее.
Оставляя в тени принцип взаимной свя-
зи, мы обедняем глубокое содержание
марксистской диалектики. В учебник
необходимо ввести новую главу «Взаим-
ная связь явлений», включив в нее рас-
смотрение всего многообразия связей и
отношений объективного мира: связь
отдельного и общего, причины и след-
ствия, необходимости и случайности, со-
держания и формы и т. д.
Пятое. Об историческом материализме.
В учебнике нет раздела под таким назва-
нием. Такова была «задумка» авторов.
В конце концов с этим можно и прими-
риться. Беда, однако, состоит в том, что
учебник не дает читателю ясного и чет-
кого представления о философии обще-
ства. Как можно судить по XV-XIX гла-
вам, основное содержание философско-
социологической теории марксизма в
учебнике не просматривается. Авторы
отказались от терминов «материальная
жизнь общества» и «духовная жизнь об-
щества», а ведь в них выражен основной
гносеологический вопрос применительно
к пониманию общества. В тени оказались
такие кардинальные вопросы материалис-
тического понимания истории, как спо-
соб производства, общественное сознание
и его формы, классы и пации, классовые
и национальные отношения, политические
системы.
Шестое. Об учете дидактических требо-
ваний к учебнику. Соглашаясь с мыслью
авторов о философии как науке особого
рода, отличной от специальных наук,
мы пе можем разделить их точку зрения
о методе изложения этой науки в учеб-
нике.
Авторы решительно и бескомпромиссно
выступают против дробления единой фи-
лософской науки на «обособленные фило-
софские дисциплины». Возможно, в этом
утверждении есть доля правды. Но нель-
зя согласиться с отрицательным отноше-
нием к выделению в единой науке соот-
ветствующих разделов и подразделов
учебной дисциплины. Философия не мо-
жет игнорировать дидактическое требо-
вание разделения единого учебного кур-
са на логически обоснованные порции
знания.
Как всем известно, в работе В. И. Ле-
нина «Карл Маркс» философия марксиз-
ма изложена по разделам: «Философский
материализм», «Диалектика», «Материа-
листическое понимание истории». Поче-
му бы нам не последовать его примеру
также и при написании учебника?
Г. Г. КИРЬЯНОВ (токарь Волгоград-
ского машиностроительного завода).
Уважаемые товарищи, в своей статье
«О новом учебнике по философии» вы по
сути дела предлагаете дискуссию о том,
каким должен быть правильный учебник
по философии — в частности и правиль-
ный взгляд на философию — вообще.
Мне понравился сам факт постановки
таких вопросов: вполне своевременное и
необходимое дело. Нравится вообще ваша
решимость иначе взглянуть на состояние
философии у нас в стране: это благород-
ное дело.
Больше философских журналов
Для успешного развития перестройки
в нашей стране необходимо общее повы-
шение культурного уровня, в том числе
философского. С этим согласны все.
Но для решения этой задачи одного жур-
нала «Вопросы философии» явно недо-
статочно. Выход видится единственный:
нужны другие философские периодиче-
ские издания. Свои журналы должны
иметь этики, эстетики, логики, историки
философии. Нужны, очень нужны попу-
лярные философские журналы.
Справочник по мировой периодической
печати сообщает, что, например, в США
выходило в 1988 году около 150 философ-
ских журналов. В том числе философ-
ские журналы для детей, популярные и
строго научные сборники переводов с
других языков (в их числе журнал пере-
водов статей советских авторов) и т. д.
159
Свои журналы имеют философские фа-
культеты. философские общества, сто-
ронники тех пли иных школ и направле-
ний. Очень много интернациональных
изданий: афро-американских, германо-
американских и т. д. Это ли не лучший
способ пропаганды собственных взглядов
и обмена идеями? В открытой атмосфе-
ре, оставляющей возможность проверки
Истинности аргументации прямым озна-
комлением, а не через пересказ или вы-
борочное цитирование, к которому мы так
привыкли.
М. С. Горбачев, выступая в ООН, ска-
зал: «Мы не отказываемся от наших
убеждений, от нашей философии, тради-
ций. не призываем пикого отказываться
от своих. Но мы и нс собираемся замы-
каться в кругу своих ценностей. Это вело
бы к духовному оскудению, ибо означа-
ло бы отказ от такого мощного источни-
ка развития, как обмен всем тем ориги-
нальным, что создается каждой нацией
самостоятельно» *. С ныне существую-
щей информационной базой нет возмож-
ности набрать нужную скорость и поки-
нуть «область духовного оскудения».
В современном мире уровень развития
страны все больше зависит от скорости
обмена информацией (научной, техниче-
ской и иной).
В. В. глинчиков
1 «Правда», 8.12.1988, с. 2.
Судьба моего отца
За последнее время очень много сде-
лано для восстановления честного имени
ученых, безвинно пострадавших в годы
сталинских репрессий. Но в печати речь
шла в основном о биологах, деятелях ра-
кетостроения, экономистах, медиках.
Меньше говорилось о философах, погиб-
ших в результате репрессий.
К числу таких философов принадле-
жал и мой отец Израиль Яковлевич
Вайнштейн. Прошло пятьдесят лет после
его расстрела в Мариинске по постанов-
лению тройки Западносибирского воен-
ного округа и свыше тридцати лет после
его посмертной реабилитации и восста-
новления в партии, но все эти годы его
имя ни разу не было упомянуто в тру-
дах по истории советской философии,
а до недавнего времени и его книги были
изъяты из библиотек.
Хочу рассказать о его трагической
судьбе, которую я знаю главным образом
по воспоминаниям моей матери Ф. И. Ко-
робовой (Литвин) и архивным материа-
лам Центрального партийного архива Ин-
ститута марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС и архива АН СССР (ф. 355, оп. 4).
Родился отец в 1895 г. в Коростышеве
на Украине в очень бедной семье. Учить-
ся средств не имел. После окончания на-
чальной школы в 11 лет начал работать
по найму. Чуть повзрослев, в трудней-
ших условиях ночами занимался само-
образованием по книгам, взятым в биб-
лиотеке соседнего города Житомира,
а путь туда и обратно — несколько десят-
ков километров — зимой и летом пеш-
ком! Изучал историю, философию, по-
литэкономию, древние и западные язы-
ки. В 17 лет вступил в революционное
движение, был арестован за пропаганду
марксизма, сидел в тюрьме в Киеве.
В 1916 г. был призван в царскую армию,
воевал. После революции, в 1918 г., доб-
ровольцем вступил в Красную Армию.
Был участником Гражданской .войны,
вначале рядовым бойцом, потом политра-
ботником в Авиационном отряде 58-й
дивизии Красной Армии, в политотделе
Западного фронта.
После демобилизации в 1922 г. при-
ехал в Москву, чтобы учиться. Решил
поступить в Институт Красной профес-
суры. Наступил день экзаменов. Комис-
сию возглавлял А. М. Деборин. Выслу-
шав ответы на многочисленные вопросы,
он заключил: «Знания товарища Вайн-
штейна, хотя он и не имеет высшего об-
разования, получены им гигантским са-
мостоятельным трудом. Они серьезные,
систематические и фундаментальные,
особенно в области марксистской филосо-
фии. Учиться ему у пас незачем — он
знает достаточно, чтобы самому готовить
красных профессоров. Я предлагаю реко-
мендовать его на преподавательскую ра-
боту». Комиссия поддержала это предло-
жение, и он был направлен в Коммуни-
стический университет имени Я. М.
Свердлова, где читал курс философии
марксизма. А еще через год его пригла-
сили старшим паучным сотрудником в
Коммунистическую академию. В 1929 г.,
после издания книги «Гегель, Маркс,
Ленин» отец был избран действитель-
ным членом Коммунистической академии.
В 1933 г. он вновь возвращается на пре-
подавательскую работу. Последняя его
работа - руководитель кафедры марксиз-
ма-ленинизма Московского авиационного
института. В 1935 г. Квалификационная
комиссия Института философии АН СССР
принимает единогласное решение о при-
суждении отцу ученой степени доктора
160
философских паук без зашиты диссерта-
ции.
В последние годы он особенно много
и напряженно работал над новой своей
большой книгой «Закономерности пере-
ходной экономики». К началу 1936 г. ру-
копись объемом около 800 машинопис-
ных страниц была закончена. Это был,
как говорил Вайпштейн, важнейший
труд его жизни, обобщающий опыт эко-
номического развития СССР. Позднее ру-
копись, к несчастью, погибла после его
ареста.
Из воспоминаний матери: «Летом
1936 г. мы в последний раз жили па даче
в Подмосковье. В конце июля он уехал
в санаторий в Крым. Я и десятилетний
сын проводили его. Муж должен был вер-
нуться 20 августа, по наступил сентябрь,
а его все пе было. Не было и вестей.
Я очень волновалась, посылала запросы
в Крым, но все напрасно. Поехала в Авиа-
ционный институт на кафедру, но и
здесь ничего не знали. Один из препода-
вателей тихо и доверительно посоветовал
мне на всякий случай справиться в при-
емной НКВД, добавив: «Идут аресты».
Пошла туда вместе с сыном и, выстояв
огромную очередь, узнала, что муж в Бу-
тырской тюрьме... Это было страшное из-
вестие, но я была твердо уверена, что
его скоро выпустят...
Шел месяц за месяцем. Я была без ра-
боты и, чтобы как-то жить, продала все,
что еще можно было продать, по носила
передачи в Бутырскую тюрьму. Потом
их перестали принимать. Я решила пой-
ти к М. Б. Митину - одному из руково-
дителей Института философии, который,
как я была убеждена, сможет чем-то по-
мочь, посоветовать, как быть. Я вошла с
надеждой в светлую комнату дирекции
Института философии и обратилась к
восседавшему там Митину. Узнав, что я
жена репрессированного Вайнштейна,
он с нескрываемо злым и холодным
выражением лица сказал: «Без несом-
ненной вины у нас никого не арестовы-
вают. Я ничем не могу помочь». И, по-
смотрев на часы, встал, давая понять,
что ему некогда. Я возразила, что он ведь
много лет знает Вайнштейна, что тот
всегда был марксистом-ленинцем. Резко
оборвав меня, Митпн буквально закри-
чал, чтобы я немедленно, сию секунду
покинула его кабинет, иначе оп вызовет
милицию и меня уведут куда следу-
ет... Не имея сил сдержать рыдания,
я вышла.
В мае 1937 г. я получила долгождан-
ное, но короткое письмо от мужа: «До-
рогая Фрида, наконец есть возможность
написать тебе. Большое спасибо за пере-
дачи в Бутырской тюрьме. Пиши немед-
ленно, как сын, как с квартирой, как мои
рукописи. Мой адрес: Марпинск...
Не знаю, за что я должен быть в разлу-
ке с вами, ведь я никогда не был троц-
кистом, не был террористом, не был
шпионом. Осудили мепя как террориста
и шпиона на восемь лет тюремного за-
ключения. Ведь меня все знают, ты меня
знаешь. Пусть Севонька знает, что его па-
па ни в чем не виноват, что всю жизпь он
отдал науке, что всегда был честен и пре-
дан партии. Обнимаю, целую. Израиль».
Затем было еще несколько коротких
писем. А в декабре 1937 г. в конверте с
адресом, написанным незнакомой рукой,
мы получили довольно подробное письмо
отца. Он писал, что был арестован в кон-
це августа 1936 г. Следователь сразу же
начал всеми дозволенными и особенно
недозволенными средствами принуждать
его к признанию в том, чего никогда не
было,— в троцкизме, терроризме, вреди-
тельстве и шпионаже. Отец писал, что
семь месяцев — до самых последних сил
своих — он отстаивал свою честь комму-
ниста, боролся за правду. Но нечелове-
ческие истязания, не прекращавшиеся
ни днем, ни ночью, сломили его. Потом
состоялся безобразно скорый и неправый
суд Военной коллегии, на котором он за-
явил о своей невиновности, но его даже
не выслушали, осудили и отправили
по этапу в Мариинск. Просил мать обра-
титься к Сталину о пересмотре его
дела, особенно просил сохранить руко-
пись его последнего, неопубликованного
труда.
Мать, слепо верившая «отцу народов»,
тут же решила послать письмо «лично
Сталину». Она говорила тогда: «Сталин
наверняка ничего не знает, что честных,
преданных партии коммунистов пытают
и осуждают по ложным чудовищным об-
винениям». Она написала письмо «доро-
гому, родному и любимому» Сталину с
рассказом об отце, его трудном пути са-
моучки, революционера, об участии в
гражданской войне, об его бескорыстной
научной работе, о вере в победу комму-
низма и очень просила о пересмотре его
дела. Вложила труды отца, в том числе
книгу «Гегель, Маркс и Ленин», в боль-
шой конверт, а самое главное и — как
теперь очевидно - ужасное - его послед-
нее письмо к нам тоже послала в том же
конверте Сталину. Помню, как мы с ма-
терью отнесли это письмо на Централь-
ный почтамт и послали: «Москва, Кремль,
лично товарищу Сталину». Было это в
самом конце декабря 1937 г., в канун но-
вого 1938 г. Маленький мальчик, я, ко-
нечно же, тоже безмерно верил Стали-
ну, а потому каждое утро забирался на
табуретку, чтобы заглянуть в почтовый
ящик, где должен был быть ответ. Но его
не было. Прошло около трех недель,
и вдруг... среди ночи проснулся от кри-
ка матери. Вся в слезах, она подбежала
ко мне со словами: «Твоего отца только
что убили. Я почувствовала страшный
удар. Пуля прошла здесь». И она свали-
лась в рыданиях. Я запомнил: это было
в ночь с 18 на 19 января 1938 г.
Больше писем от отца не было. Мы по-
шли в приемную на Кузнецком, и там
нам сказали, что он осужден уже на
10 лет без права переписки.
После XX съезда партии мы получили
извещение о посмертной реабилитации
отца.
161
Но даты смерти в извещении не было,
попытки выяснить ее — безрезультатны.
В анкетах я вое же эту дату указывал -
дату той страшной ночи, писал 18 ян-
варя 1938 г. Лишь два года назад на еще
одну просьбу матери пришел ответ: отец
умер 19 января 1938 г.
С тех давних лет мать постоянно му-
чили угрызения совести. Она часто по-
вторяла: «Письмом к Сталину я убила
твоего отца». Рукопись книги отца о за-
кономерностях развития экономики со-
циализма, которую он так просил сбе-
речь, сохранить не удалось. Она бесслед-
но пропала, когда у нас забрали квар-
тиру и мать несколько лет была бездом-
ной.
Летом 1988 г. мне пришлось быть в То-
кио, и я был рад узнать, что в библио-
теке парламента хранится перевод кни-
ги отца «Гегель, Маркс и Ленин», издан-
ный в Японии в 1931 г. в двух томах:
первый том «Диалектика Гегеля», вто-
рой — «Диалектика Маркса и Ленина».
Переводы трудов отца, его книги доступ-
ны для читателей в библиотеках других
стран. Теперь доступ к ним открыт и
у нас.
Моя мать - она недавно умерла — ра-
достно поддерживала перестройку, начав-
шуюся в нашем обществе, говорила, что
рада была дожить до времени торжест-
ва Правды, и глубоко верила, что имя
моего отца не останется навсегда забы-
тым.
С. И, ВАЙНШТЕЙН
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
В. А. Смирнов. Логические методы анализа научного знания. М., «Наука», 1987, 256 с.
Отправным пунктом исследования слу-
жит понятие теории с предполагаемыми
идеализациями и с характеристическими
логическими особенностями.
Способы рассуждения, отношения вы-
водимости и следования в книге форму-
лируются для первопорядковых теорий в
аксиоматической, натуральной и секвен-
циальной форме с надлежащими синтак-
сическими и семантическими характери-
стиками. Обращает на себя внимание не-
стандартная формулировка системы на-
турального вывода, которая, на наш
взгляд, представляет собой интересный
вариант непосредственного линейного
построения таблиц Бета.
Наряду с методами рассуждения в ло-
гике, как известно, изучаются также спо-
собы определения понятий и условия
их корректности. Основы систематическо-
го учения об определениях и определи-
мости, по строгости и разработанности
сравнимого с теорией рассуждений, были
изложены в работах А. Падоа, А. Тар-
ского и Е. Бета. В рецензируемой книге
рассматриваются основные понятия и
результаты этих разработок для перво-
порядковых теорий. К ним прежде всего
относится важное положение о совпаде-
нии понятий синтаксической и семанти-
ческой определимости, позволяющее
свести проблему определимости к пробле-
ме выводимости. В работе показывается,
что различные с гносеологической точки
зрения толкования определения как про-
цедуры, вводящей новый термин, про-
цедуры установления значения имеюще-
гося термина и процедуры перевода,
имеют единую логическую основу: сово-
купность определенных предложений мо-
жет играть в теории роль определения
некоторого термина, если (и только если)
добавление этих предложений к теории
расширяет ее нетворчески, консерватив-
но, однако дает возможность явного оп-
ределения указанного термина.
Привлекает внимание исследование во-
проса об определении диспозициоиных
предикатов. Автор обосновывает условия,
при выполнении которых редукционное
предложение или система таких предло-
жений (в смысле Карнапа) могут играть
роль определения. Специально изучены
также проблемы частичной определимо-
сти. С семантической точки зрения, это
связано с ситуацией, когда интерпрета-
ция исходных терминов языка не пол-
ностью детерминирует подлежащий опре-
делению термин, хотя накладывает опре-
деленные ограничения на его интерпре-
тацию. Автор с помощью введенного им
понятия определимости в возможной реа-
лизации характеризует и классифициру-
ет все другие способы частичной опреде-
лимости, которой редко уделяется место
в логической литературе.
В рецензируемой книге теория опреде-
лимости служит исходным материалом
для дальнейшего углубления исследова-
ния способов сравнения различных тео-
рий, сформулированных в языках с од-
ной и той же грамматикой, но разными
словарями, т. е. для теорий, отличающих-
ся друт от друга запасом дескриптивных
понятий.
В процессе познания не только откры-
ваются новые истины, но и меняются
картины, модели мира, категориальные
структуры мышления, в рамках которых
формулируются наши утверждения. По
мнению автора книги, переход от одной
модели мира к другой, от одного способа
описания к другому коррелятивен при-
нятию нового языка, хотя проследить
это на примере повседневного языка
чрезвычайно трудно. Более простое соот-
ношение между грамматикой и онтоло-
гией обнаруживается в искусственных
языках. Но в отличие от Карнапа автор
справедливо считает, что вопрос о приня-
тии языка — не просто вопрос соглаше-
ния, но также и гносеологический вопрос.
Язык, языковой каркас может быть или
не быть адекватным, хотя вопрос об
адекватности языка решается иначе, чем
вопрос об истинности утверждений и
даже теорий. В концепция Айдукевича —
Карнапа вопрос о структуре языка и
мышления, а также о соответствующей
онтологии ставился нерасчлененно, тогда
как В. А. Смирнов исходит из предполо-
жения, что принимаемый язык, исполь-
зуемые познавательные процедуры не-
безразличны к познаваемому (эту связь,
как известно, впервые выявил Кант).
Принятие того пли иного языка, той или
иной логики вынуждает к определенным
допущениям относптельпо познаваемых
объектов. Ведь одна из задач философии
логики состоит в том, чтобы установить
связь между достоверными средствами
163
рассуждения, и допущениями об объек-
тах рассуждений.
Онтологические предпосылки принятия
языка получают в книге дальнейшую спе-
цификацию применительно к языкам
фреге-расселовского типа. На вопрос, ка-
кие объекты нами допускаются, ответ
дает известный критерий Куайна: язык
вынуждает принять те объекты, которые
сопоставляются квантифицируемым пе-
ременным. Но как решаются эти вопро-
сы для языков других типов? В связи с
этим автор рассматривает языки силло-
гистики и исчисления имен или онтоло-
гии Ст. Лесневского. Они имеют иную
основу, чем стандартная логика предика-
тов. Тем не менее эти языки сравнимы
со стандартной логикой предикатов, и в
этом ключ к решению онтологических
вопросов о принимаемых в них объектах
и допущениях. Если с помощью средств
стандартного исчисления предикатов мы
умеем «понимать» язык силлогистики
или онтологии Лесневского, то сможем
выявить также типы принимаемых в них
объектов и допущений.
Анализ концептуальной системы мето-
дологии эмпирических наук в определен-
ной степени стимулировал изучение ин-
тенсиональных логик, которые в настоя-
щее время разрабатываются довольно ус-
пешно. И если даже ни одна из ныне
описанных систем непосредственно по
может быть использована в качестве ос-
новы методологии эмпирических наук,
это вовсе не означает, что поиски в ука-
занном направлении малоперспективны.
Тем более недопустимо на этой основе
оспаривать логическую ценность таких
исследований.
В рецензируемой книге специально
рассматриваются мотивы исследования
интенсиональных логик и вопросы, от-
носящиеся к временным и паранепроти-
воречивым логикам.
Если в стандартных логических систе-
мах, например, в классической логике
предикатов в связи с анализом рассужде-
ния рассматривается фактор времени, то
наряду с индивидными параметрами в
язык вводится дополнительный времен-
ной параметр (т. е. моменты времени
«превращаются» в своеобразные инди-
видные предметы). Это позволяет при-
сущность свойства предмету в определен-
ном моменте времени понимать как су-
ществование некоторого отношения меж-
ду предметом и моментом времени. Одна-
ко существует альтернативный подход,
при котором высказывания рассматри-
ваются как овремененные, т. е. относи-
тельно времени релятивизируется сама
предикация или понятие истинности. Мо-
тивировка, по нашему мнению, выгляде-
ла бы предпочтительней, если наряду с
разбором исторического материала были
бы указаны факторы, определяющие вы-
бор нестандартного подхода к изучению
временных понятий.
М. Н. БЕЖАНИП1ВИЛИ,
Л. И. МЧЕДЛИШВИЛИ (Тбилиси)
Г. Башляр, Новый рационализм. Пер. с франц. М., «Прогресс», 1987, 376 с.
Теперь уже трудно найти конкретных
виновников того весьма печального об-
стоятельства, что с такой величественной
философской фигурой, как Гастон Баш-
ляр (1884—1962), советскому читателю
приходится знакомиться с опозданием на
целых полвека. Книга «Новый рациона-
лизм» — сборник работ французского фи-
лософа, принадлежащих к разным пе-
риодам его творчества. Составитель сбор-
ника приложил немало усилий, чтобы в
рамках двадцати с небольшим печатных
листов охватить разнообразные стороны
деятельности Башляра, которому на рус-
ской почве, быть может, более всего не
повезло. Первые отатьи о нем стали по-
являться у нас фактически лишь в 60-е
годы. Вместе с тем у мыслителя такого
масштаба еще и сейчас есть чему по-
учиться. Вот почему появление у нас
работ Башляра - важный симптом на-
ступления новой стадии нашего собствен-
ного философского развития.
Гастоп Башляр не просто мыслитель
в ряду других мыслителей. Это целая
эпоха в развитии современной западной
философии: радикальность переосмысле-
ния классических идеалов и схем и пол-
ное неприятие им столь распространенно-
го — и в первые десятилетия нашего века,
и ныне — культа мистицизма и иррацио-
нализма приводят в итоге к такого рода
рационалистической ориентации, при ко-
торой даже столкновение с «иррациональ-
ными» ситуациями позволяет обогатить
систему рационализма, открывает новые
возможности рационалистического подхо-
да. С момента потери новейшим позити-
визмом кредита у серьезных мыслителей
очень многие фигуры, связанные с этим
этапом философского развития на Западе,
для нас потускнели. Лишь те из них, кто
сумел преодолеть узкие рамки неопози-
тивистской познавательной программы,
сохранили свою концептуальную притя-
гательность — это Рассел, Витгенштейн,
Карнап, Поппер и др. К этому ряду
мыслителей должен быть причислен и
Башляр, поскольку его позиция вовсе не
исчерпывается опорой на новейшее ес-
тествознание и его позитивные результа-
ты: во главу угла Башляр ставит высо-
кую культуру философского мышления,
164
заовенкэ которой было столь характерно
для апостолов раннего позитивизма.
Меньше всего нам хотелось бы рисо-
вать сусальный образ патриарха неора-
ционализма. Особенным обаянием дышит
этот образ именно потому, что истинно
французской натуре Башляра свойствен-
ны и колебания, и противоречивость,
и готовность поддаваться увлечению, со-
хранить «красивую фразу». Ведя посто-
янную полемику с современниками, Баш-
ляр подчас не особенно задумывался над
логической последовательностью своих
высказываний, что иногда приводило, ка-
залось бы, к нагромождению противоре-
чий. Между тем чаще всего это был ре-
зультат «борьбы на два фронта». Такая
ситуация в истории философии, особен-
но новейшей, не редкость. Отсюда - не-
обходимость полемического заострения
выдвигаемых положений и вместе с тем,
как правило, невозможность «соблюсти
меру», сделав все нужные оговорки. В ин-
тересах ясности Башляр склонен скорее
несколько огрублять картину, однако
наблюдать такие огрубления у Башля-
ра - одно удовольствие: уж слишком мы
привыкли к схоластическому философст-
вованию, в котором дистиллированные
обесцвеченные фразы отображают един-
ственно безликость философской физио-
номии автора. Знакомство с творчеством
Башляра вводит нас в сферу иной мыс-
лительной стилистики, более всего отве-
чающей потребности в открытии новых
философских полей.
Самые важные моменты концептуаль-
ного наследия Башляра - это, пожалуй,
попытки пройти между Сциллой позити-
визма и Харибдой априоризма. Глубокие
разветвления и следствия этой полемики
с догматическими версиями рационализ-
ма и эмпиризма, стремление построить
новую эпистемологию на основе диалога
разума и опыта пронизывают все здание
башляровской концепции. Отрицание по-
зитивистской познавательной установки
проявляется у Башляра прежде всего в
оспаривании роли непосредственного вос-
приятия и обыденного опыта в науке.
Если классическая наука еще могла до-
верять принципу «наглядности», то со-
временная наука, с точки зрения Башля-
ра, не может не видеть в непосредствен-
ном восприятии нечто застойное, упро-
щенное, стереотипизированное, скудно
структурированное, лишенное воображе-
ния, отмеченное односторонностью в
оценке информации и пр. Этот тезис
Башляра может показаться многим со-
временным философам и методологам
1 Представители современных школ в
методологии наукп зачастую склонны не
помнить о своих истоках. До сих пор со-
храняющий свою актуальность постпо-
зитивистский спор о творческой роли
метафоры в научном познании уходит
корнями во времена Башляра, который
осмеливался защищать право ученого
на метафору, усматривая в ней «все те
свойства, которые обычно связаны со
науки, склонным к апологии обыденного
сознания и его роли в генезисе и функ-
ционировании науки, ретроградным. Од-
нако, по сути, Башляр предстает здесь
как мыслитель более современный, неже-
ли многие наши современники: в послед-
ние десятилетия экспансия обыденного
сознания достигла такого размаха, что
перед очевидностью ее иррационалисти-
ческих и релятивистских последствий по-
зитивные аспекты обыденного сознания
и обыденного опыта явно отступают на
задний план. Оспаривание априоризма
предстает у Башляра как выход за рамки
узко понимаемой «логичности» и акцент
на проблему открытия в широком конст-
руктивном горизонте.
Все эти критические снятия проклады-
вают путь новой концептуальной ориен-
тации, дающей более широкие возмож-
ности восприятия, суждения, причем,
полагает Башляр, переворот в видении
объектов свидетельствует и о новизне са-
мого мира - антиреалистического, но не
иррационального. (Башляр неустанно
подчеркивает, что, выступая против реа-
лизма и материализма за «нереализм» и
«нематериализм», он стремится прежде
всего к углублению того и другого.) Этим
движением обозначается прорыв к дина-
мике духа, способного делать открытия *.
Диалектический разум, характеризую-
щийся полемичностью и конструктив-
ностью, отказывается от постулата о
субстанциальности мира и подвергает
«объективному психоанализу» вещист-
ские установки: в изменчивости при этом
усматривается основа любой устойчиво-
сти, а статичной дихотомии рационально-
го и иррационального противополагается
само движение рационализации. Все это
означает, с точки зрения Башляра, что
закон предшествует факту, а репрезен-
тация реальности предшествует самой
реальности, выступающей как сфера со-
упорядочения различных масштабов, пла-
нов, проекций, в рамках которых перво-
начально предстают вещи, объекты, их
различные по степени зрелости срезы
и пр.
Этот новый рационализм отображен
прежде всего в сфере научного познания,
где действует новый научный дух, сомне-
вающийся не временно, как у Декарта,
но постоянно. Потому-то, считает Баш-
ляр, научная практика и смогла открыть
столь многие явления, подтверждающие
конструктивистский характер нового ра-
ционализма. Вследствие этой своей дина-
мичности и способности улавливать
сверхтонкие взаимодействия именно нау-
смыслом термина «реальное» (с. 219 рец.
изд). Мир воображения, реальность гре-
зы, где еще до всяких объективных обо-
значений парит субъектная метафорика,
столь же важен для Башляра, как и мир
наблюдения; математика и поэзия в рав-
ной мере свидетельствуют о сложности
человеческого фактора, о неэффективнос-
ти традиционных метафизических расчле-
нений на внутреннее и внешнее и пр.
165
кп - современная наука - становится ос-
новой для философского прогресса разу-
ма, а не наоборот: разум же, в свою оче-
редь, должен подчиниться развитой и
развивающейся науке. В башляровской
концепции науки и научной рационально-
сти, заметим, совмещаются более узкое
и более широкое значения, а это послед-
нее очень созвучно современным трак-
товкам разума и разумной деятельности:
оно не исключает из сферы научной ра-
циональности мечту, риск, динамику
творческой интуиции, воображение и
другие «гуманитарные» факторы, тради-
ционно не относимые к логике научного
развития. Ведь наука у Башляра — это
не просто наука, но «новый научный
ДУ*»-
Какой же, по Башляру, должна быть
философия, соответствующая научному
опыту? Ответ Башляра как нельзя более
современен. Это должна быть открытая
философия формирующегося духа, спо-
собная работать с неизвестным, отыски-
вать прежде всего именно то, что противо-
речит общераспространенным понятиям,
отрицая старый опыт и обеспечивая тем
самым возрастание качества рациональ-
ности в процессе рационализации (см.
с. 165). Реально существующая филосо-
фия вряд ли на это способна. Скорее при-
ходится признать, замечает Башляр, что
дифференцированным усилиям ученых
противостоит «интегрированная филосо-
фия философов». Он призывает филосо-
фию отказаться от одной-единственной
точки зрения, стать подлинной филосо-
фией плюрализма, превратиться в «фило-
софию детали».
Призывая философию быть вниматель-
ной к частностям и интересоваться де-
талями, Башляр четко фиксирует тот
предел, до которого простирается этот
призыв. Дисперсность нужна современ-
ной философии науки не сама по себе,
как таковая, а для того, чтобы уловить
и зафиксировать различные, не совпадаю-
щие по степени развитости и зрелости
уровни мысли, знания, чтобы четче пред-
ставить иерархию познавательных
форм — неравноправных, но равносвязан-
ных друг с другом цепью эволюционно-
го развития. Как известно, с философией
Башляра связано одно из главных поня-
тий современной французской эпистемо-
логии науки - понятие «эпистемологи-
ческого разрыва» (Башляр видит такие
разрывы, например, между старой мета-
физикой и современной эпистемологией,
соответствующей новому научному духу,
между обыденным сознанием и понятия-
ми развитых наук и др.). Оно нашло
интересное развитие в работах Л. Аль-
тюссера, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Кан-
гильема, Д. Лекура и других исследова-
телей. Однако качественные скачки и
эволюционные непрерывности не отме-
няют друг друга. Более того, Башляр
подчас допускает и более «холистские»
тезисы. Например, он видит смысл не-
картезианской эпистемологии в том, что-
бы выявить более общую организацию
166
мысли, стремящейся ко всеобщности
(см. с. 130), а главную задачу филосо-
фии формулирует как объединение с та-
ким опытом мышления, который спосо-
бен «восстановить целостность, органи-
ческий характер явления» (с. 147).
Башляр признает, что проблемы созна-
ния, духа, их эволюции плохо поставле-
ны как в науке, так и в философии.
И философы, и ученые либо отбрасы-
вают в сторону все отклонения и вариа-
ции, толком их не анализируя, либо
старательно копят их как доказатель-
ство иррациональности всего того, что
дано человеку в опыте. Неверны, однако,
оба пути. И выход из этого концептуаль-
ного тупика Башляр видит в обращенип
к истории развивающегося духа,
и прежде всего к истории науки. (Эти
призывы были услышаны спустя не-
сколько десятилетий и претворены в ре-
альный поиск на обломках неоэмпирист-
ской доктрины.) Лишь на основе этой
истории можно подвергать очищению,
расширению, дополнению, исправлению
наш прежний познавательный опыт. По-
тому-то Башляр и считает задачей под-
линно рациональной философии повыше-
ние чувствительности наших средств от-
крытия нового в контакте с историей и
современностью научного разума.
Башляр искал подтверждений нового
рационализма диалектическими средства-
ми своего времени. Однако жизнь созна-
ния, исследуемого диалектическими
средствами, сложна и при ее исследова-
нии почти неизбежно возрождаются
вновь многие кантовские антиномии: как
только удаляется «мистическая» сторона
диалектики, сразу возникают все дилем-
мы рационализма, а единственным отве-
том на это оказывается, в свою очередь,
усиление моментов скептицизма. Одним
из характерных примеров этого служит
для нас проблема активности сознания
применительно к современной матема-
тике и математической физике. Позицию
Башляра по этому вопросу можно обо-
значить как гиперконструктивизм, или
иначе преувеличение творчески-кон-
структивной функции сознания за счет
его отображательных моментов. Источ-
ник таких преувеличений, конечно, су-
ществует - это, в частности, все то, что
связано с так называемыми «механизма-
ми перехода» - от практики и наших
более пли менее произвольных допуще-
ний по ее поводу к тому, что постули-
руется как логический познавательный
закон. Что же получается - к одним
произвольным конструкциям лишь до-
бавляются другие произвольные кон-
струкции, которым ничто «в действи-
тельности» не соответствует? По-види-
мому, у нас все же есть основание счи-
тать, что предел произвольности наших
допущений есть величина, определяемая
возможностями самой практики и ее
развития в данный момент, а вовсе не
исключительно структурами сознания,
его произвольными допущениями. Ко-
нечно, противоречие между трансценден-
тальным и трансцендентным тем самым
не снимается; однако оно фиксирует
прежде всего степень соотнесенности
«априорно-произвольного» момента и мо-
мента «действительного схватывания»
объекта. И это противоречие должно
ввести в сознание и осмыслить как тако-
вое, различая при этом, насколько воз-
можно, тот момент противоречия, кото-
рый связан с несовершенством знания,
и тот его момент, который определяется
реальной противоречивостью самого
предмета.
Наиболее важно, по-видимому, выявле-
ние фундаментальных противоречий,
окончательно не разрешимых и требую-
щих всякий раз все большего углубле-
ния и уточнения понятий. Это и проис-
ходит при включении в наше понимание
и разумение момента творчества, воз-
можного лишь на почве реальных прак-
тических отображений. Именно в этом
контексте для нас значим интерес Баш-
ляра к эстетическим и этическим пробле-
мам, как бы открывающим научный ра-
зум вовне — к измерениям внерацпональ-
ного обусловливания духовной деятель-
ности человека.
Яркий пример такого интереса завер-
шает рецензируемую книгу — это фило-
софско-искусствоведческое эссе «Введе-
ние в Библию Шагала». Строгий рацио-
налист Башляр предстает здесь как пут-
ник, уверенно двигающийся по тропам
традиционной и художественно пере-
осмысленной экзегетики. Он оказывается
необыкновенно чутким к восприятию
иных миров, или, точнее, инаковых кар-
тин мира, подтверждая тем самым, что
подлинно научный рационализм отнюдь
не чужд поэзии, в чем бы она нп нахо-
дила проявление, что рациональное
осмысление, например, мифологического
материала не исключает сбережения са-
мой поэтической ткани творимого и ото-
бражаемого мифа.
Конечно, ныне мы делаем лишь пер-
вые шаги к осмыслению всего много-
образного наследия Башляра. Невелик и
небогат опыт перевода довольно слож-
ного башляровского языка, в силу чего
и к данной книге можно отпести ряд пре-
тензий. Однако заслуги переводчиков
(Ю. П. Сенокосова и Г. Я. Туровера) в
подыскании эквивалентов для всех сти-
листических роскошеств башляровской
прозы очень велики. Переводчики обра-
тили внимание на необходимость того
концептуального своеобразия, которое,
быть может, составляет самое большое
очарование башляровского философство-
вания: оно заключается в безусловной
доступности верхнего слоя мысли Баш-
ляра и редкой глубине подспудных смыс-
лов. Наиболее устойчивая переводческая
традиция всегда считала недоработкой
переводчиков прямое включение в текст
иностранных терминов. Существовала,
однако, и другая традиция, допускающая
такое включение: целесообразно было
бы, по-видимому, возобновить ее в тех
случаях, подобных данному, когда
подыскать однозначный русский эквива-
лент для передачи смысла практически
не представляется возможным. На серь-
езное прочтение Башляра настраивает
вступительная статья А. Ф. Зотова: не
пытаясь дать немедленное истолкование
каждому повороту мысли Башляра, она
настраивает читателя на самостоятель-
ную работу. Пожалуй, единственное, что
не может нас удовлетворить в данном
издании, это его объем: за пределамп
читательского внимания неизбежно оста-
лось огромное количество башляровских
работ, в высшей степени существенных
для понимания его творчества.
Хочется думать, что рецензируемая
книга откроет серию новых изданий,
которые позволят хотя бы отчасти лик-
видировать наш научный долг перед па-
мятью Башляра.
II. С. АВТОНОМОВА
А. Н. Кочергин, Ю. Г. Марков, Н. Г. Васильев. Экологическое знание и сознание:
особенности формирования. Новосибирск, «Наука», 1987, 221 с.
В-книге предпринята попытка осмыс-
лить сложное взаимодействие социаль-
но-исторических п естественно-природ-
ных процессов, состояние целостного со-
циоприродного мира и выражающую это
состояние комплексную экологическую
проблему.
Решение задачи связывает.ся авторами
с «овладением» тремя видами природы:
внешней природой, социальной природой
и внутренней природой человека. Этому
призван способствовать такой целеобра-
зующий принцип, как социально-эколо-
гический идеал, в обосновании которого,
как подчеркивается в книге, большую
роль играет учение о ноосфере (точнее —
о переходе биосферы в ноосферу), соз-
данное В. И. Вернадским. Совершенство-
вание социальной организации в качест-
ве доминирующего компонента развития
человечества в земных и внеземных
условиях, как справедливо отмечается в
монографии, требует оптимизации си-
стемы «природа — общество», установле-
ния состояния гармонии между этими
компонентами системы (см. с. 200).
В связи с разработкой постулата о
гармонизации авторы книги возлагают
большие надежды на возможности управ-
ления природной средой, биосферными
процессами, которые связаны с исполь-
зованием функционального моделирова-
167
вия и моделей оптимизации, аналогич-
ных тем, что созданы при разработке
экономико-математических моделей (см.
с. 10). В принципе этот подход сомнений
не вызывает. Необходимо, однако, отме-
тить, что модели такого рода следует
строго «поверять» и соотносить с реаль-
ными биосферно-ноосферными процесса-
ми, особенно теми, которые чреваты эко-
логическими опасностями. Если этот кри-
терий выдерживается недостаточно стро-
го, то возможны перекосы в сторону тех-
нократического подхода в сочетании с
чрезмерным абстрагированием от реаль-
ных процессов, от реальностей нашего
бытия. Именно такие прецеденты неодно-
кратно возникали в предшествующие
десятилетия. К реальным процессам
авторы книги обращаются в связи с за-
дачами природоведческого, экологическо-
го мониторинга (см. с. 19 и сл.; с. 57 и
сл.), изучением качества окружающей
среды и т. д.
В целом формирование интегрального
экологического знания есть процесс не-
традиционный, требующий междисци-
плинарного взаимодействия обществен-
ных, естественных, технических наук.
Эта интегральность демонстрируется
всем содержанием книги. Здесь осуще-
ствляются переходы от анализа космо-
планетарных, биосферных, экосистем-
ных процессов на основе функциональ-
ного подхода и конструирования соот-
ветствующих формализованных моделей
к исследованию социально-природных
процессов, выражающих становление
человека, его деятельности по мере
глобального развертывания его всемирно-
исторического, родового бытия, а да-
лее - к социально-целевым, аксиологиче-
ским, гуманистическим аспектам выра-
ботки экологического сознания, обеспече-
ния его преемственности в ряду поколе-
ний. Последняя часть развертываемой
интегральной системы экологического
знания, вероятно, в высокой степени со-
ответствует задачам создания экологии
культуры. Таким образом, налицо тен-
денции формирования социально-эколо-
гического знания не только как новой
области познания природной среды, об-
щества, самого человека, но и как важ-
нейшего инструмента для изменения ми-
ровоззренческих установок, развития но-
вого измерения общественного сознания.
Экологическое сознание в целом и со-
циально-экологический идеал являются
важнейшими инструментами в борьбе за
выживание человеческой цивилизации
на планете Земля. Последнее очевидно в
силу данных, полученных при машинном
моделировании природно-климатических,
биосферных изменений в случае широко-
масштабного военного конфликта и при-
менения ядерного оружия. Борьба с
военной опасностью как опасностью эко-
логической выступает важнейшим мо-
ментом в становлении экологического
знания, на что обращают внимание авто-
ры книги. Вместе с тем мы считаем не-
обходимым подчеркнуть следующее.
Борьба за мир и борьба за чистоту окру-
жающей среды - это фактически и борь-
ба за здоровье человека и человечества
в целом. Это необходимый момент совре-
менного социально-экологического созна-
ния и социально-экологического идеала
как квинтэссенции такого сознания.
Предложенная авторами книги систе-
ма интегрального экологического знания
обладает значительным спектром воз-
можностей дальнейшего развертывания
и обогащения как фундаментальных, так
и научно-практических аспектов. Пер-
спективно, например, наряду с достиже-
ниями, относимыми к социальной эко-
логии, использовать результаты эколо-
гии человека, космической антропоэко-
логии и т. д. Здесь появляются возмож-
ности творческого использования не толь-
ко биосферно-ноосферного учения В. И.
Вернадского, но и таких представителей
отечественного научно-культурного энци-
клопедизма, как К. Э. Циолковский,
А. Л. Чижевский и многие другие. Все
это позволит глубже осознать целост-
ность и взаимозависимость социоприрод-
ного мира на планете Земля.
Система экологического знания и со-
знания требует дальнейшего развития
как в теоретическом, так и в практи-
чески-организационном плане. Это отве-
чает глубинным потребностям перестрой-
ки и нового мышления.
В. П. КАЗНАЧЕЕВ.
Е. А. СПИРИН (Новосибирск)
Коротко о книгах
А. В. Гулыга. Принципы эстетики. М., Политиздат. 1987, 286 с. («Над чем работают,
о чем спорят философы»).
Сама серия, в которой вышла книга,
предполагает полемику. И в этом, навер-
ное, одно из достоинств книги. Ведь
спорит автор не с личностями, а имен-
но с идеями, защищая свои четко очер-
ченные позиции.
168
Позиция первая: «Эстетика — это нау-
ка о красоте» (с. 5). В ходе анализа А. В.
Гулыга, в частности, использует мате-
риал современной западной эстетики,
в которой весьма распространено сужде-
ние о безнадежной устарелости прекрас-
ного как основы искусства, о «послеэсте-
тическом» и даже «антиэстетическом»
периоде его существования. Искусство и
красота — две вещи самостоятельные, по-
лагают сторонники такого взгляда, они
могут взаимодействовать, «пересекать-
ся», но в принципе это явления разных
миров.
Вопреки подобным мнениям, автор
подчеркивает, что «вне красоты нет ни
эстетических отношений, ни искусства;
все, чем занимается эстетика, представ-
ляет собой модификацию прекрасного»
(с. 6). Прекрасное же есть ценность ду-
ховно-практического порядка, и, значит,
эстетика есть часть аксиологии, т. е. фи-
лософской наукп о ценностях жизни и
культуры. Прекрасное — это ценность,
идеал, и искусство стремится к своему
идеалу - в противном случае оно прос-
то перестает им быть.
В нынешней эстетической литературе
мы найдем множество рассуждений о
всеобщей относительности художествен-
ных вкусов и оценок, о сугубо историче-
ском (культурологическом) своеобразии
искусства, о том. что искусство — это
язык (вторичная моделирующая систе-
ма) и т. и. А вот А. В. Гулыга сосредо-
точил свои усилия на разъяснении того
фундаментального, но как-то позабытого
в последние годы положения, что «на-
шим понятиям о совершенстве алмаз
ближе червя» (с. 27). Отвергая крайно-
сти «природнической» и «общественниче-
ской» точек зрения на красоту, автор
указывает на источник человеческого
чувства красоты - на соизмеримость
мира и человека, завершение в челове-
ке гармонии самой природы. «Красота —
это встреча двух миров (природы и че-
ловека), совпадение двух мер» (с. 30).
Искусство, забывшее о красоте,— такая
же нелепость, как наука, отказавшаяся
от истины, или нравственность, равно-
душная к добру.
Позиция вторая. Исходя из сказанного
выше, автор строит систему категорий
эстетики, используя разработанный Ге-
гелем принцип восхождения от абстракт-
ного к конкретному. Не вдаваясь здесь в
обсуждение этого принципа (имеющего
свои положительные и отрицательные
моменты), отметим, что система эстети-
ческих категорий, предложенная в кни-
ге, весьма подвижна, динамична, хотя
сама их последовательность, вероятно,
может быть и иной. Исходя из идеи пре-
красного (эстетического) как «совершен-
но простой» категории, А. В. Гулыга вы-
страивает ряд узловых понятий эстети-
ки: прекрасное - возвышенное - траги-
ческое — комическое — фантастическое —
эстетический идеал. При этом завершаю-
щая категория - эстетический идеал -
выступает наиболее конкретным, содер-
жательным определением прекрасно-
го, соответствующим запросам и уровню
духовного развития той или иной
эпохи.
Позиция третья. Она состоит в выдви-
жении двух основных видов художест-
венной образности — типического и типо-
логического. Опираясь, как и в предыду-
щих случаях, на солидную историко-фи-
лософскую традицию (прежде всего на
шиллеровское разделение наивной и сен-
тиментальной поэзии), А. В. Гулыга на-
ряду с типическим образом в искусстве
выделяет еще типологические структур-
но-смысловые образования, сближающие
искусство с наукой (и одновременно с
игрой), обостряя его амбивалентность
(двойственность). При этом до предела
доводятся две диаметрально противопо-
ложные, хотя и взаимосвязанные ситуа-
ции,- максимальное приближение к
реальности (документализм) и макси-
мальное усиление условности (остране-
ние, отчуждение). Искусство в век нау-
ки - в XX веке — дает множество образ-
цов того и другого.
Данное рассуждение представляется,
однако, весьма спорным. Разумеется, со-
временное искусство — особенно в модер-
нистских его вариантах — может предо-
ставить почву для таких теоретических
выкладок, но только остается ли оно
при этом искусством — вот вопрос. Добро
остается добром, даже если никто не
добр, а красота остается красотой, даже
если большинство слушателей найдет
ее норму в «тяжелом роке». Наука и игра
(развлечение) исполняют присущие им в
цивилизации функции, во множестве по-
граничных областей соединяясь с худо-
жественным и эстетическим, но их функ-
циональное сближение еще не дает ос-
нований для их сущностного отождеств-
ления. Применительно собственно к ис-
кусству это означает, что, как ни разветв-
лены и тонки формулы остранения в со-
временном искусстве, истоком и тай-
ной его остается все же типизация как
наиболее органичный и в то же время
непритязательный, скромный способ об-
работки поэтического материала.
Наконец, четвертая позиция. Она свя-
зана с утверждением принципов народ-
ности, историзма и партийности художе-
ственного творчества.
Разумеется, мы не исчерпали здесь
всего содержания книги, как спорных,
так и представляющихся нам верными
суждений автора. Несомненно, однако,
что это нужная, злободневная книга.
А. Л. КАЗНИ
(Ленинград)
.69
В. С. Егоров, Диалектика общественных отношений. Киев, «Ввща школа», 1987, 207 с.
Автор последовательно применяет дея-
тельностный подход к вычленению при-
знаков, позволяющих определить ступе-
ни общественного развития. Он оспари-
вает представление об универсальной
применимости формационного подхода к
анализу истории человеческого общества,
с помощью которого, по его мнению, не
может быть описано прогрессивное раз-
витие человечества на самых ранних эта-
пах истории, а также будущее коммуни-
стическое развитие. Автор отмечает, что
«полученные в последнее время научные
данные позволили отодвинуть период воз-
никновения человека и человеческого
общества с 40 тыс. до 3 млн. лет. И это
не просто количественная характеристи-
ка: за этими цифрами нельзя не увидеть
или хотя бы предположить иного качест-
ва человека и его деятельной сущности
на начальных ступенях становления по
сравнению с тем состоянием, которое вы-
ражается категориями, используемыми
при характеристике современного обще-
ства: способ производства, производи-
тельные силы, производственные и над-
строечные отношения и т. д.» (с. 23).
Предложенный автором подход позво-
ляет смотреть на всю историю рода че-
ловеческого с одной точки зрения - точ-
ки зрения развития исходных и превра-
щенных форм отношения субъект — объ-
ект, а не с точки зрения смены общест-
венно-экономических формаций, охваты-
вающих далеко не всю историю. Указан-
ный подход предполагает также взгляд
на историю как на процесс развития че-
ловеческой деятельности и ее форм, т. е.
подразумевает включенность (и постоян-
ный анализ этой включенности) субъек-
тивного (человеческого) фактора в исто-
рию, не выносит человека за скобки ис-
тории, как это нередко фактически по-
лучается в концепциях некоторых обще-
ствоведов.
Далее автор рассматривает диалектику
производительных сил и производствен-
ных отношений, отношений собствен-
ности как в условиях развивающегося
социалистического общества, так и (в бо-
лее сжатой форме) в условиях предше-
ствовавшей формации.
В. С. Егоров видит специфику социа-
лизма по сравнению с капитализмом в
том, что при социализме возникает «не-
посредственно-трудовая общественная
связь, являющаяся ступенью в движе-
нии к непосредственно-общественной свя-
зи» (с. 71). Непосредственно-обществен-
ная связь — это характеристика уже бу-
дущего коммунистического общества, ког-
да труд опять превратится в деятель-
ность, социальность в общность, а при-
своение и собственность будут преодо-
лены.
Автор придерживается следующей точ-
ки зрения на перспективу эволюции со-
циалистической собственности: «Разви-
тие собственности в условиях социализ-
ма предполагает два этапа: сближение
двух форм собственности, что совпадает
с интенсивным стиранием классовых
различий, которые тем не менее остают-
ся еще существенными, и этап, когда
государственная форма социалистиче-
ской собственности становится фактиче-
ски всеохватывающей, а общество бес-
классовым, что, однако, не означает его
окончательного превращения в социаль-
но однородное» (с. 95).
При чтении этой части книги возника-
ет ощущение недоумения. Автор «не за-
мечает», что практически все публика-
ции, анализирующие экономическую сто-
рону механизма торможения, в качестве
одного из главных недостатков прежней
системы хозяйствования указывают
именно монопольность государственного
производителя, модель «монопольно-го-
сударственной экономики» социализма.
Проводимые сейчас в стране экономи-
ческие реформы по духу своему нацеле-
ны на более полный учет групповых и
индивидуальных интересов, их диалекти-
ческую связь с интересами общенарод-
ными. В книге же говорится, что «со-
циалистическая собственность реализу-
ется лишь при строго определенных ус-
ловиях, соответствующих приоритету об-
щенародного перед коллективным и ин-
дивидуальным» (с. 102), что «в услови-
ях государственной и кооперативной
форм внутренне преодолеваются группо-
вые отношения, коллективная и индиви-
дуальная обособленность» (с. 165). Как
можно заключить из приведенных цитат,
магистральный путь развития социализ-
ма видится автору не в широком разви-
тии плюрализма интересов и хозяйствен-
ных форм, а в развитии процессов уни-
фикации.
Рассмотрение реальных жизненных
проблем современного социализма скон-
центрировано в параграфе «Методологи-
ческие вопросы экономической реформы»,
где анализируются публикации послед-
них двух лет по указанной проблеме.
Критическому разбору автор подверга-
ет статьи Н. Шмелева и Г. Шмелева,
В. Селюнина и Г. Ханина, П. Бунича и
Г. Лисичкина, вступает с ними в полеми-
ку, отстаивает ту точку зрения, что то-
варное производство «преодолевается со-
циализмом, т. е. планомерным... распре-
делением масс труда и материальных
условий производства в соответствии с
общественными потребностями», что
«планомерное ведение хозяйства предпо-
лагает внутреннее преодоление товарно-
го характера производства» (с. 159). Ду-
мается, что идущая в стране перестрой-
ка экономики даст автору немало пово-
дов для раздумий, для уточнения, а весь-
ма возможно и для пересмотра своей
позиции.
Многие идеи книги требуют критиче-
ского отношения. Может быть, следовало
бы попробовать по-другому «преломить»
170
методологические принципы автора на
конкретный материал сегодняшней жиз-
ни социалистического общества? Дать им
другую, конкретно-социальную интерпре-
тацию? Вместе с тем следует отметить в
качестве позитивного момента тот факт,
что автор высказывается и по основным
проблемам нашего сегодняшнего бытия.
Д. М. НОСОВ
А. Н. Ерыгин. История и диалектика (Диалектика и историческое знание в России
XiX века). Изд-во Ростовского ун-та, 1987, 222 с.
Книга посвящена исследованию фило-
софско исторических концепций К. Д. Ка-
велина, С. М. Соловьева и В. Н. Чичери-
на. Эти концепции рассматриваются не
столько как ступени развития историче-
ского знания в России, ведущие к фор-
мированию единой научной школы,
сколько как разные подходы, значимые
сами по себе и в то же время единые в
своем устремлении к теоретическому
развитию науки истории.
Говоря о влиянии философско-истори-
ческих идей Гегеля на Кавелина, Со-
ловьева, Чичерина, автор замечает, что
«только чичеринская методология исто-
рии является строго монистической,
и только она может быть всерьез сопо-
ставлена с философией истории Гегеля»
(с. 180). Отмечая определенное воздей-
ствие гегелевских идей на исторические
построения Кавелина и Соловьева,
А. Н. Ерыгин указывает на очень огра-
ниченный характер этого влияния, на
принципиальную несовместимость мето-
дологических подходов русских мысли-
телей и немецкого философа.
Правда, анализируя историческую кон-
цепцию Кавелина, автор, на наш взгляд,
допускает некоторые неточности. Так,
он полагает, что «исходная гносеологи-
ческая установка обоих мыслителей
(Кавелина и Гегеля,- Рец.) и их основ-
ное методологическое требование по от-
ношению к историческому познанию в
общем и целом совпадают» (с. 57), что
Кавелину свойственна «ориентация на
диалектику» (с. 65). На этой основе в
книге говорится о сопоставимости «ран-
ней формы буржуазного диалектическо-
го историзма» Кавелина и такой же «ран-
ней формы буржуазно-исторического
мировоззрения» Гегеля. Специфику диа-
лектической тенденции у Кавелина ав-
тор находит «в его представлении об ор-
ганическом характере развития... родо-
вых отношений» (с. 83). Но последнее
положение отнюдь не свидетельствует о
диалектических исканиях Кавелина, а,
наоборот, является одним из тех при-
знаков, которые указывают на предрас-
положенность его идей к эволюциониз-
му. На наш взгляд, недостаточно обос-
новано и объяснение «специфики мате-
риалистической тенденции» у Кавелина,
которая «состоит в выделении сферы ро-
довых отношений, имеющей естествен-
но-природный, необходимый и объектив-
ный характер» (с. 83).
Автор также выдвигает тезис о том,
что Кавелин «стоит именно на точке
зрения «единства», в рамках которого он
и пытается осмыслить реальные, дей-
ствительные различия и даже противо-
положности исторических судеб различ-
ных народов: восточных и западных,
древних и новых, германцев и славян»
(с. 74). В конечном счете А. Н. Ерыгин
считает, что «Кавелин сознательно
стремится к монистическому пониманию
истории» (с. 179).
Основной вывод исследования
А. Н. Ерыгина состоит в том, что пра-
вомерно говорить о направлении, тече-
нии в русской историографии (имея в
виду Кавелина, Соловьева и Чичерина),
а не о школе.
М. Ф. БЫКОВА, В. И. ПРИЛЕНСКИЙ
Б. А. Куркин. Политическая философия в ФРГ. Изд-во Ростовского университета,
1987, 124 с. "
В нашей научной литературе полити-
ческая философия ФРГ известна лишь
фрагментарно. Но потребность в ее це-
лостном анализе велика. Бесспорно влия-
ние традиционно сильном немецкой по-
литической мысли на обществоведение
Запада. Выяснению научного и идеоло-
гического содержания западногерманско-
го варианта этой ныне столь важной
сферы социального знания и посвяще-
на эта книга.
В ней дана общая картина положения
дел и представлены ведущие в ФРГ по-
литики философские концепции. Совре-
менная западногерманская политическая
философия, показывает Б. А. Куркин,
ориентирована сегодня на анализ со-
держания и специфики политических
171
проблем и политических процессов, на
вопросы взаимосвязи политики и техни-
ки, демократии, прав человека, места и
роли различных социальных групп в по-
литическом процессе, международной
безопасности и т. п. Значение философии
здесь не только в том, что она разраба-
тывает методологию познания политиче-
ских феноменов и политических процес-
сов на базе определенной философской
концепции, но и пронизывает всю трак-
товку политических реалий.
На богатом и актуальном материале
автор выдвигает типологическую схему
политической философии Западной Гер-
мании. Ее вполне можно принять, что,
впрочем, не исключает и другие возмож-
ные варианты. Типология, предложен-
ная Б. А. Куркиным, определила и
структуру книги: «Концепция неокон-
серватизма» (гл. 1), «Социально-полити-
ческий критицизм» (гл. II), «Активное
общество» и «Активная демократия»
(гл. III).
Специальным предметом анализа в
книге стали философские истоки полити-
ческих теорий. Здесь речь идет прежде
всего о философской антропологии. Имен-
но она пользуется наибольшим влияни-
ем среди теоретиков правой ориентации,
и причину влияния автор усматривает
«в заметно усилившейся «антропологи-
зации» мышления, обусловливающего
основные парадигмы социально-полити-
ческих теорий, методологию и методики
социальных исследований... С этой точки
зрения философско-антропологические
концепции представляют собой новый
способ концептуализации человеческой
природы, новое философское понимание
сущности человека, который сводится к
определению сферы «собственно челове-
ческого» бытия, человеческой индивиду-
альности и попытке через человека объ-
яснить как его самого, так и смысл и
значение социума, важнейшими элемен-
тами которого являются духовная куль-
тура и политика» (с. 18). Многие веду-
щие политологи ФРГ включают фило-
софскую антропологию в структуру по-
литической науки (например, К. Вайц-
зеккер), а сами представители философ-
ской антропологии активно разрабаты-
вают проблемы политической теории.
Большое место в книге отведено ана-
лизу «гуманистической утопии» Э. Фром-
ма и политической философии Ю. Ха-
бермаса.
Р. П. ШПАКОВА (Ленинград)
К сведению авторов
Редакция принимает к рассмотрению материалы, напечатанные на
машинке в двух экземплярах на одной стороне стандартного листа пис-
чей бумаги белого цвета. Машинописная страница должна иметь не
более 30 строк (через 2 интервала) и не более 60 знаков в строке, вклю-
чая интервалы и знаки препинания. Название статьи печатается на рас-
стоянии 10 см от верхнего среза листа. Фамилия и инициалы автора
даются под названием. Подзаголовки печатаются без подчеркиваний
с пропуском двух строк сверху и снизу.
Автор должен точно указать источники приводимых в рукописи
цитат, цифровых и фактических данных. Цитаты из произведений
К. Маркса и Ф. Энгельса даются по второму, а В. И. Ленина —
по пятому изданию собрания сочинений. Нумерация сносок сплошная.
Сноски печатаются с абзаца, через 2 интервала.
Иностранный текст должен быть напечатан. Формулы и условные
обозначения вписываются черной ручкой с увеличенным просветом меж-
ду строками сверху и снизу.
В тексте рукописи допускаются лишь стандартные, общепринятые
сокращения.
Высылая рукопись в редакцию, автор указывает на последней стра-
нице фамилию, имя. отчество (полностью), место работы, должность,
ученую степень и звание, точный домашний адрес и телефоны — домаш-
ний и служебный.
Материалы, не отвечающие указанным требованиям, к рассмотрению
не принимаются.
Если материал не требует специальной консультации, редакция дает
ответ автору в течение месяца.
Если рукопись возвращается редакцией на доработку, то датой по-
ступления ее в редакцию считается время представления нового
варнанта.
Редакция оставляет за собой право сокращения рукописи.
Полученные редакцией материалы не рецензируются и не возвра-
щаются.
О проведении VIII Всесоюзного конкурса
работ молодых ученых
Совет молодых философов при Президиуме Философского общества СССР объяв-
ляет о проведении в 1989 году VIII Всесоюзного конкурса работ молодых ученых.
Цель конкурса - привлечь внимание молодых философов к исследованию наиболее
актуальных проблем современности, способствовать росту их творческого потенциа-
ла, профессиональной квалификации.
К участию в конкурсе, проводимом в два тура, допускаются члены Философско-
го общества СССР и ученые-обществоведы социалистических стран не старше 35 лет.
На конкурс представляются как опубликованные, так и неопубликованные работы
(монографии, статьи, рефераты и т. д.) объемом не менее I авторского листа,
в 2-х экземплярах. Каждый автор имеет право представить только одну работу.
Не рассматриваются работы, не отвечающие условиям конкурса, а также копии
диссертационных исследований.
I тур конкурса проводится оргкомитетами отделений, организаций Общества до
1 ноября 1989 г. Иностранные участники конкурса I тур проходят в национальных
философских союзах, обществах, ассоциациях, а обучающиеся в СССР - на общих
основаниях.
Работы, рекомендованные ко II туру конкурса, отправляются до 30 ноября
1989 года в адрес Всесоюзного оргкомитета VIII Всесоюзного конкурса молодых уче-
ных только заказными бандеролями.
К работам, представленным на конкурс, прилагается:
1. Отзыв-рекомендация оргкомитета отделения (организации) Общества, заве-
ренная в установленном порядке.
2. Аннотация (до 2-х страниц машинописного текста), раскрывающая научную
новизну, основное содержание и выводы исследования.
3. Краткая характеристика научной и общественной деятельности автора, заве-
ренная руководителем учреждения, где работает (учится) автор, секретарем партий-
ной или комсомольской организации и скрепленная печатью.
Работы, соответствующие условиям конкурса и поступившие во Всесоюзный орг-
комитет в установленные сроки, рецензируются в ведущих научных учреждениях
г. Москвы.
После подведения итогов конкурса работы хранятся в орготделе Философского
общества СССР, где авторы могут получить их в течение 3-х месяцев.
Лауреаты конкурса награждаются Почетными дипломами и грамотами Фило
софского общества СССР. Им предоставляется преимущественное право публикации
в Ежегоднике Философского общества СССР. Из лучших работ будет составлен сбор-
ник статей ФО СССР.
Лучшие работы, отличающиеся научной новизной и творческой разработкой про-
блемы, рекомендуются к публикации в научно-теоретических и молодежных журна-
лах. Авторы наиболее актуальных и интересных исследований приглашаются на
всесоюзные научные конференции, семинары и школы молодых ученых и специа-
листов, проводимые ФО СССР и ЦК ВЛКСМ, для выступления с научн'тм докладом
или сообщением.
Адрес Всесоюзного оргкомитета:
121002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 20, ФО СССР
Ученому секретарю оргкомитета М. Д. Гуськову
телефон для справок: 201-24-02
Совет молодых философов при Президиуме
Философского общества СССР
CONTENTS
S. S. AVERINTSEV. Two Births of the European Rationalism. ANDREI PLATONOV,
A WRITER AND A PHILOSOPHER. (Materials of a Round-Table Discussion).
A. P. OGURTSOV. The Great French Revolution and the Sciences. N. I. KUZNETSOVA.
The Social Experiment of Peter the Great and the Forming of Science in Russia.
A. P. BUTENKO. On the Social and Class Nature of Stalin’s Supremacy. S. S. KHO-
RLZHli. Karsavin and J. de Maistre. L. P. KARSAVIN. Joseph de Maistre. Jose ORTE-
GA-Y-GASSET. The Revolt of the Masses. LETTERS TO THE EDITORS; BOOK RE-
VIEWS; ENGLISH SUMMARIES.
SOMMAIRE
S. S. AVERINTSEV. Deux naissances du rationalisme europeen. ANDREI PLATO-
NOV. COMME ECRIVAIN ET PHILOSOPHE (Materiaux d’une «Table ronde»).
A. P. OGOURTSOV. La Grande Revolution Franchise et la science. N. I. KOUZNETSOVA.
L experiment social de Pierre le Grand et la formation de la science en Russie.
A. P. BOLTENKO. De la nature sociale de I’autorite de Staline. S. S. KHOROUJI. Car-
savine et J- de Maistre. L. P. CARSAVINE. Joseph de Maistre. Jose ORTEGA-Y-GASSET.
La rebellion des masses. LETTRES A LA REDACTION; NOTES CRITIQUES; RESUME
EN .ANGLAIS.
INHALT
S. S. AWERINZEW. Zwei Geburten des europaischen Rationalismus. ANDREJ PLA-
TONOW: SCHRIFTSTELLER UND PHILOSOPH. A. P. OGURZOW. Die groBe franzosische
йеч\.1а’.;лп und die Wissenschaften. N. I. KUSNEZOWA. Das soziale Experiment Peters
des C--.—en und die Gestaltung der Wissenschaft in RuBland. A. L. BUTENKO. Von der
Gess.i schafts- und Klassennatur der Herrschaft Stalins. S. S. CHORUSHIJ. Karsawin
und J. d? Maistre L. P. KARSAWIN. Joseph de Maistre. Jose ORTEGA-Y-GASSET. Auf-
staad d.r Massen. BRIEFE AN DIE REDAKTION; REZENSIONEN; ENGLISCHE KURZ-
FAc-o L N GEN.
SUMARIO
S. S. AVERINTSEV. Dos nacimientos del racionalismo europeo. ANDREI PLATONOV
CGMO F.SCR11OR Y FILOSOFO. A. P. OGURTSOV. La Gran Revolution de Francia у la
cicutia. N. I. KUZNETSOVA. El experimento social de Pedro el Grande у la formation
de la tiencia Rusia. A. P. BUTENKO. La natura social de la supremacia de Slalin.
S. S. JORUZHII. Carsavin у J. de Maistre. L. P. CARSAVIN. Joseph de Maistre. Jose OR-
TEGA-T -GASSET. La rebelion de las masas. CARTAS RECIBIDAS; CRITICA Y BIBLIO-
GRAF1A: RESUMEN EN INGLES.
Наши авторы
АВЕРИНЦЕВ Сергей Сергеевич - член-корреспондент АН СССР, главный научный со- трудник Института мировой литературы им. А. М. Горь- кого АН СССР
КАНТОР Карл Моисеевич — кандидат философских наук, ведущий научный сотруд- ник Института международного рабочего движения АН СССР
ПОДОРОГА Валерий Александрович СЕМЕНОВА Светлана Григорьевна ПИСКУНОВА Светлана Ильинична — кандидат философских наук, старший научный сотруд- ник Института философии АН СССР — кандидат филологических наук, член Союза писателей СССР - кандидат филологических наук, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова
ФУРМАН Дмитрий Ефимович ОГУРЦОВ Александр Павлович БУТЕНКО Анатолий Павлович — доктор исторических наук, ведущий научный сотруд- ник Института США и Канады АН СССР — кандидат философских наук, старший научный сотруд- ник Института философии АН СССР — доктор философских наук, главный исследователь Ин- ститута экономики мировой системы социализма АН СССР
ХОРУЖИЙ Сергей Сергеевич — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Математического института им. В. А. Стекло- ва АН СССР
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В. А. Лекторский (главный редактор), Г. С. Арефьева, А. И. Володин, П. П. Гайденко,
В. Т. Григорьян, В. П. Зинченко, А. Ф. Зотов, В. Ж. Келле, Л. Н. Митрохин, Н. Н. Мо-
исеев, Н. В. Мотрошилова, В. И. Мудрагей (заместитель главного редактора),
Т. И. Ойзерман, В. А. Смирнов, В. С. Степин, В. С. Швырев, А. А. Яковлев (ответствен-
ный секретарь).
Технический редактор Е. А. Колесникова
Сдано в набор 01.02.89 Подписано к печати 06.03.89 Формат 70х108>/„
Высокая печать Усл. печ. л. 15,40 Усл. кр.-отт. 15,75 Уч.-изд. л. 17,31
Тираж 52000 экз. Заказ № 2551 Цена 80 коп.
Адрес редакции: 121002, Москва, Г-2, Смоленский бульвар, 20. Телефон 201-56-86.
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6
80 коп.
Индекс 70156
НОВЫЕ КНИГИ
Историко-философский ежегодник — 88. М., «На-
ука», 1988, 383 с. 2 р. 90 к.
Визгни В. П. Идея множественности миррр#?^’'
очерки истории. М., «Наука», 1988, 294 с. 2 р. 50 к.
Соловьев В. С. Сочинения в 2-х т.— Т. 2, М.,
«Мысль», 1988, 824 с. Юр. («Философское наследие»,
т. 105).
Бромлей Ю. В. Национальные процессы в
СССР: в поисках новых подходов. М., «Наука»,
1988, 208 с. 45 к.
Гал кт ионов А. А., Никандров П. П.
Русская философия IX—XIX вв. 2-е изд., испр., доп.
Л., изд-во ЛГУ, 1989, 744 с. 3 р. 50 к.
Егоров Б. Ф. Петрашевцы. Л., «Наука»,
1988, 236 с. 70 к.
Чаянов А. Краткий курс кооперации. Томск,
кн. изд-во, 1988, 71 с. 50 к.
Общественно-политическая мысль в Китае (конец
XIX — начало XX в.). М., «Наука», 1988, 244 с.
1 р. 90 к.
ISSN 0042-8744 Вопросы философии, 1989, № 3,