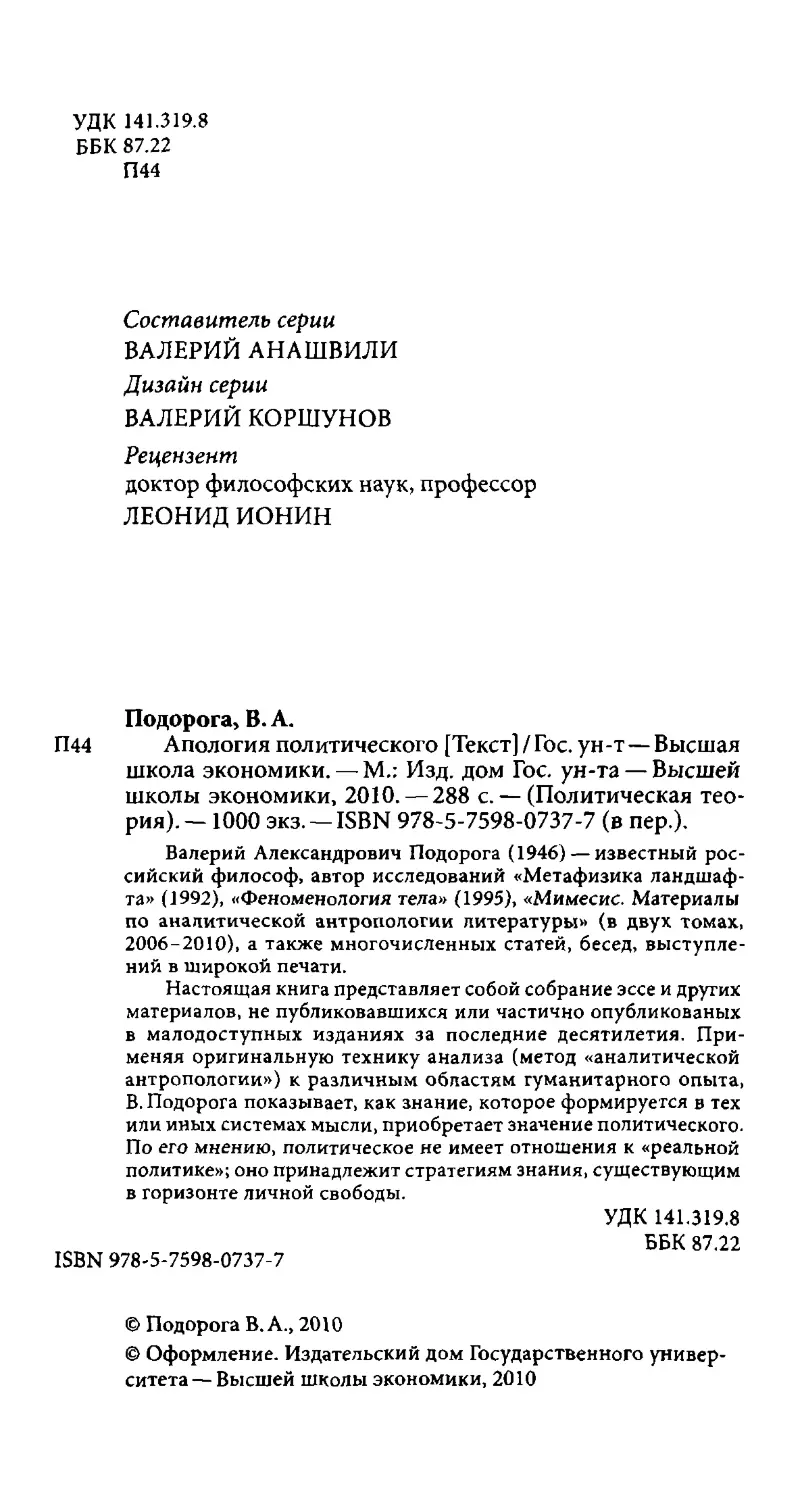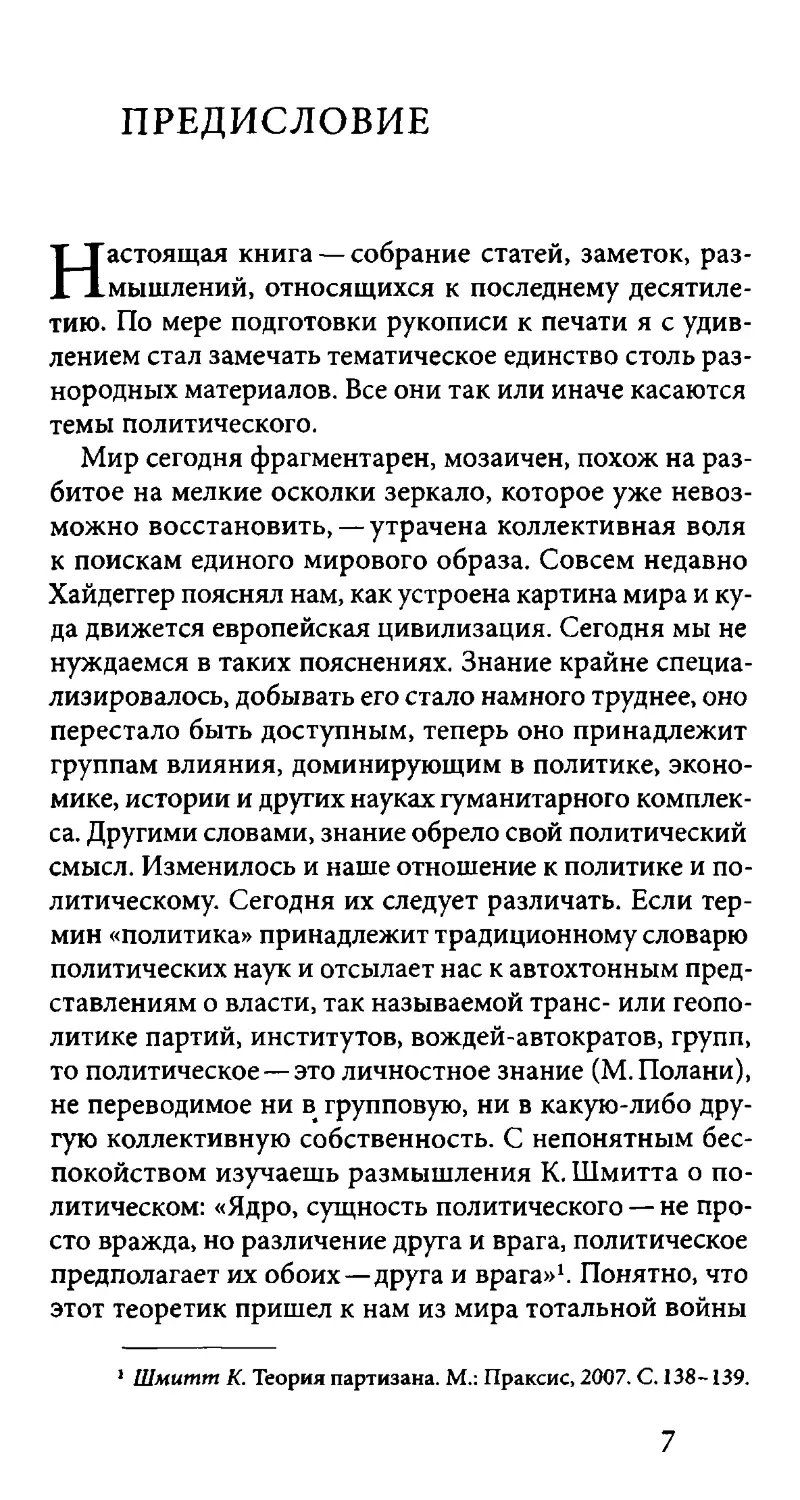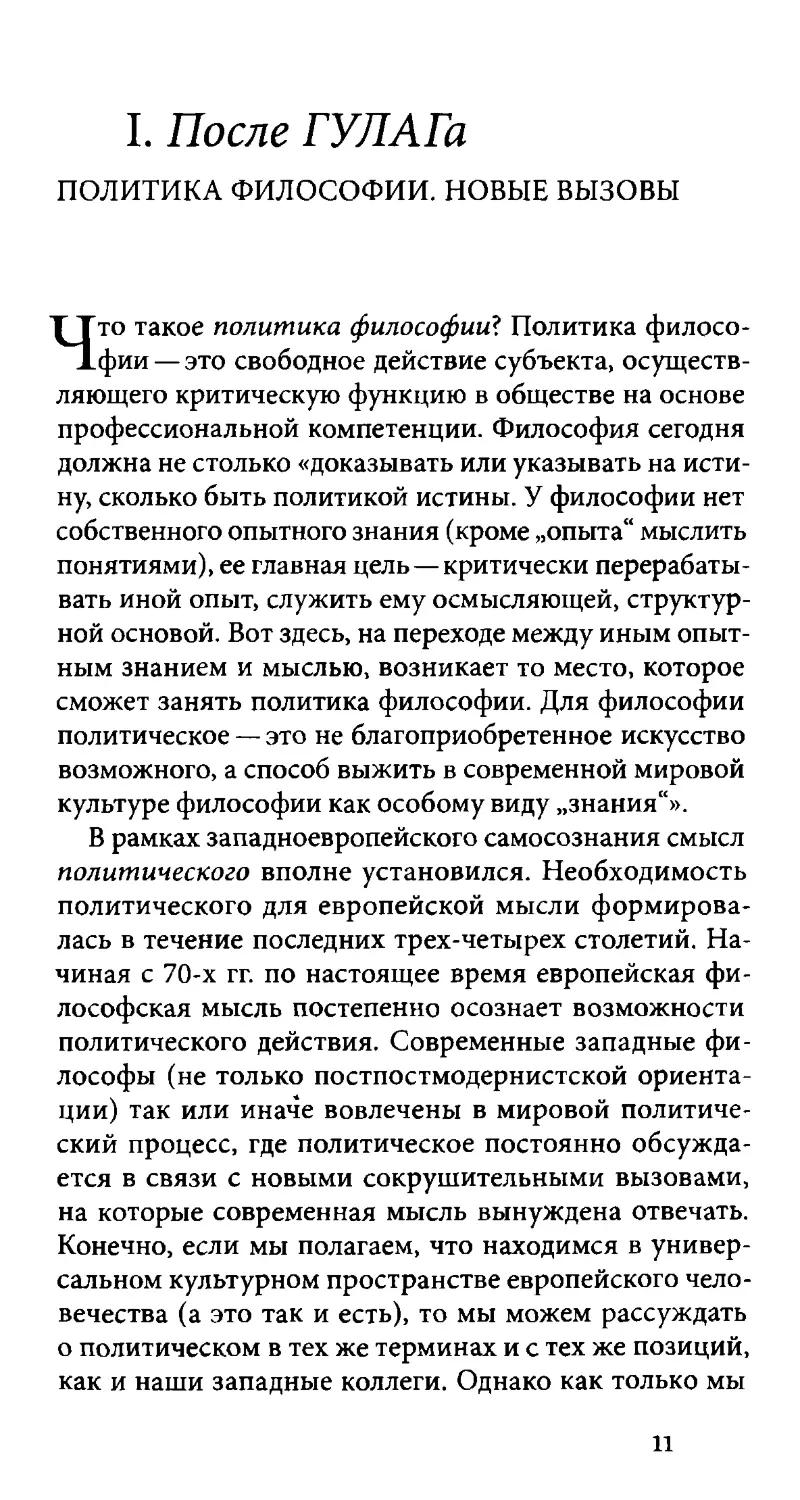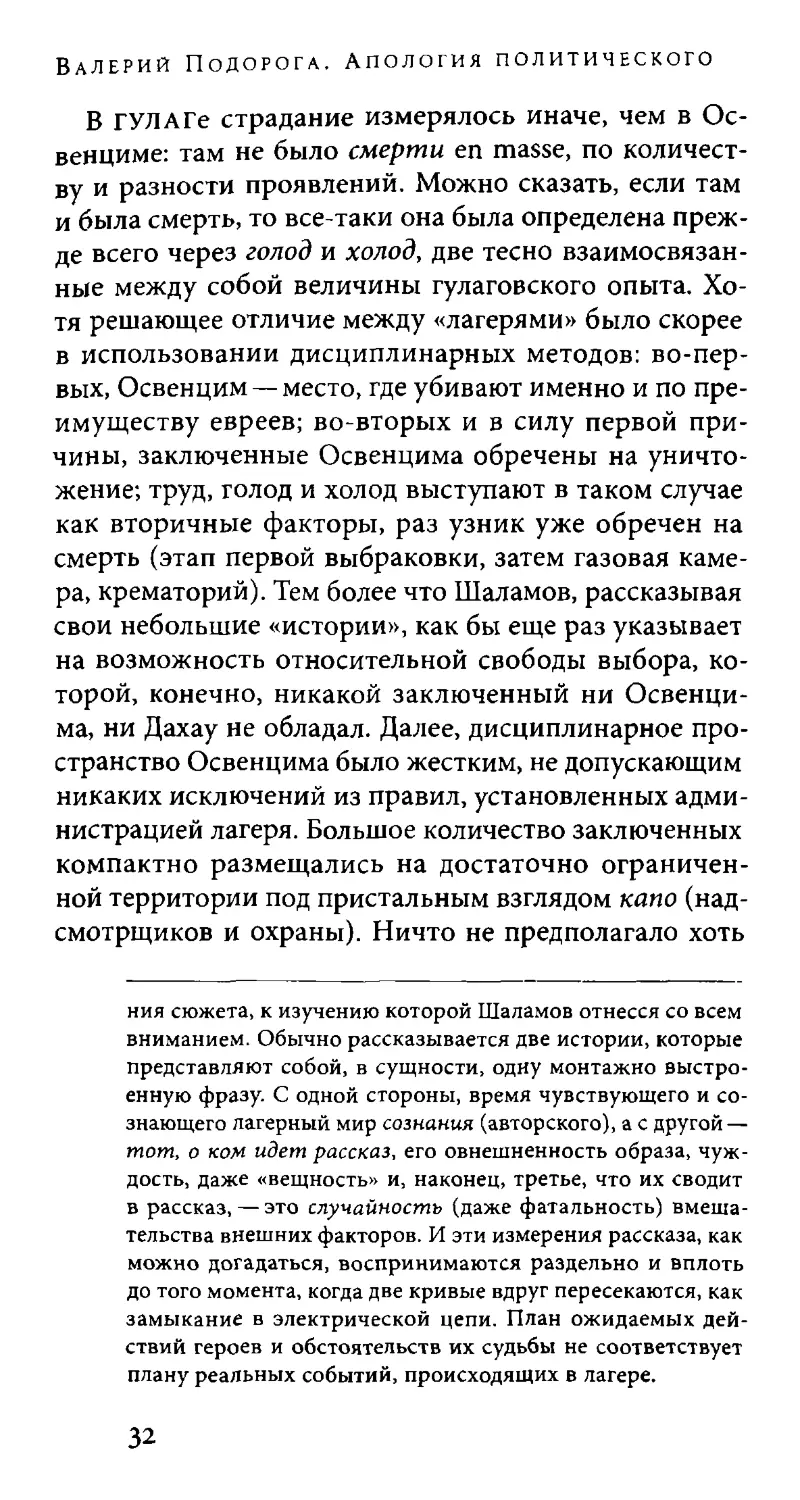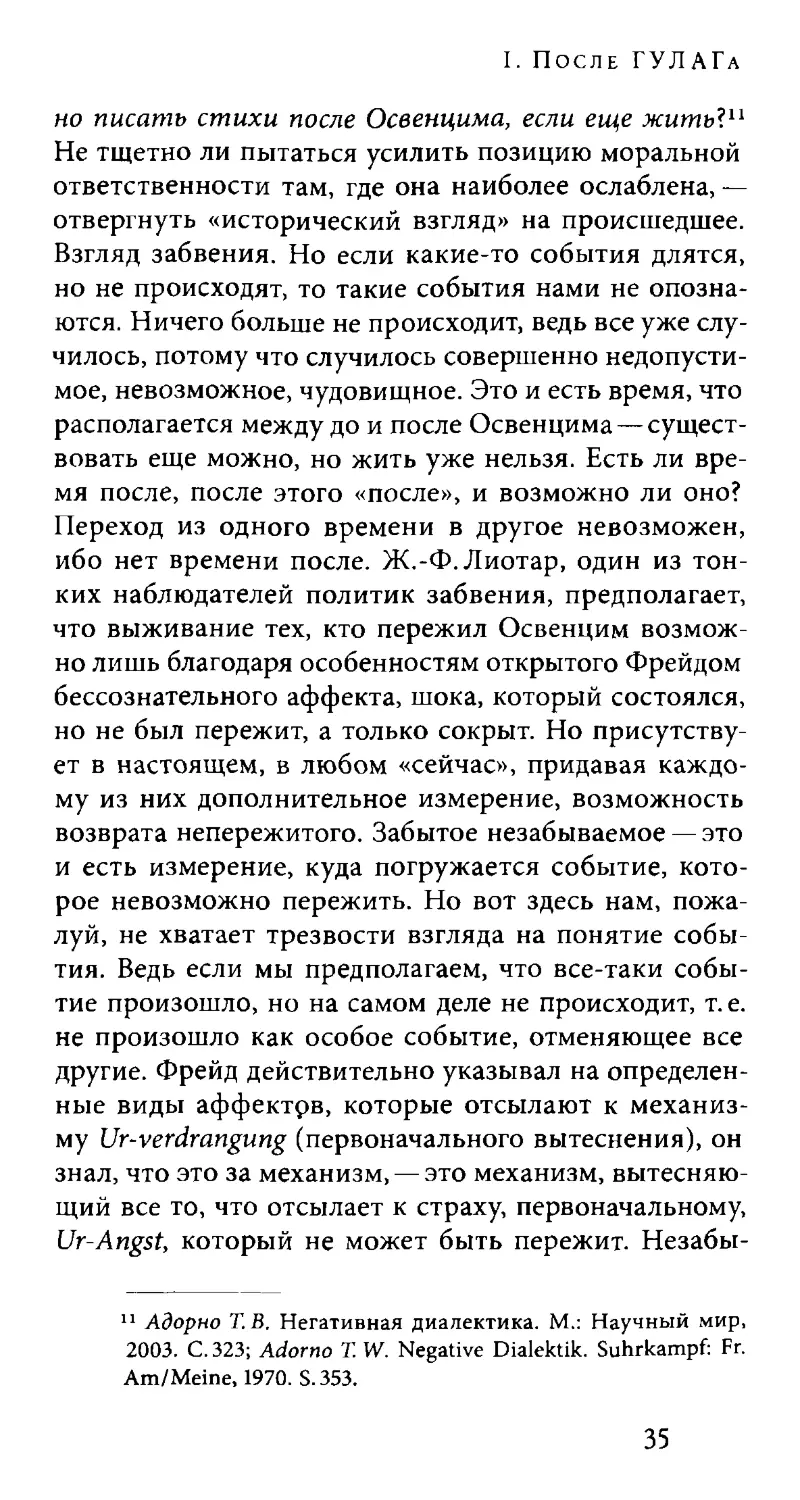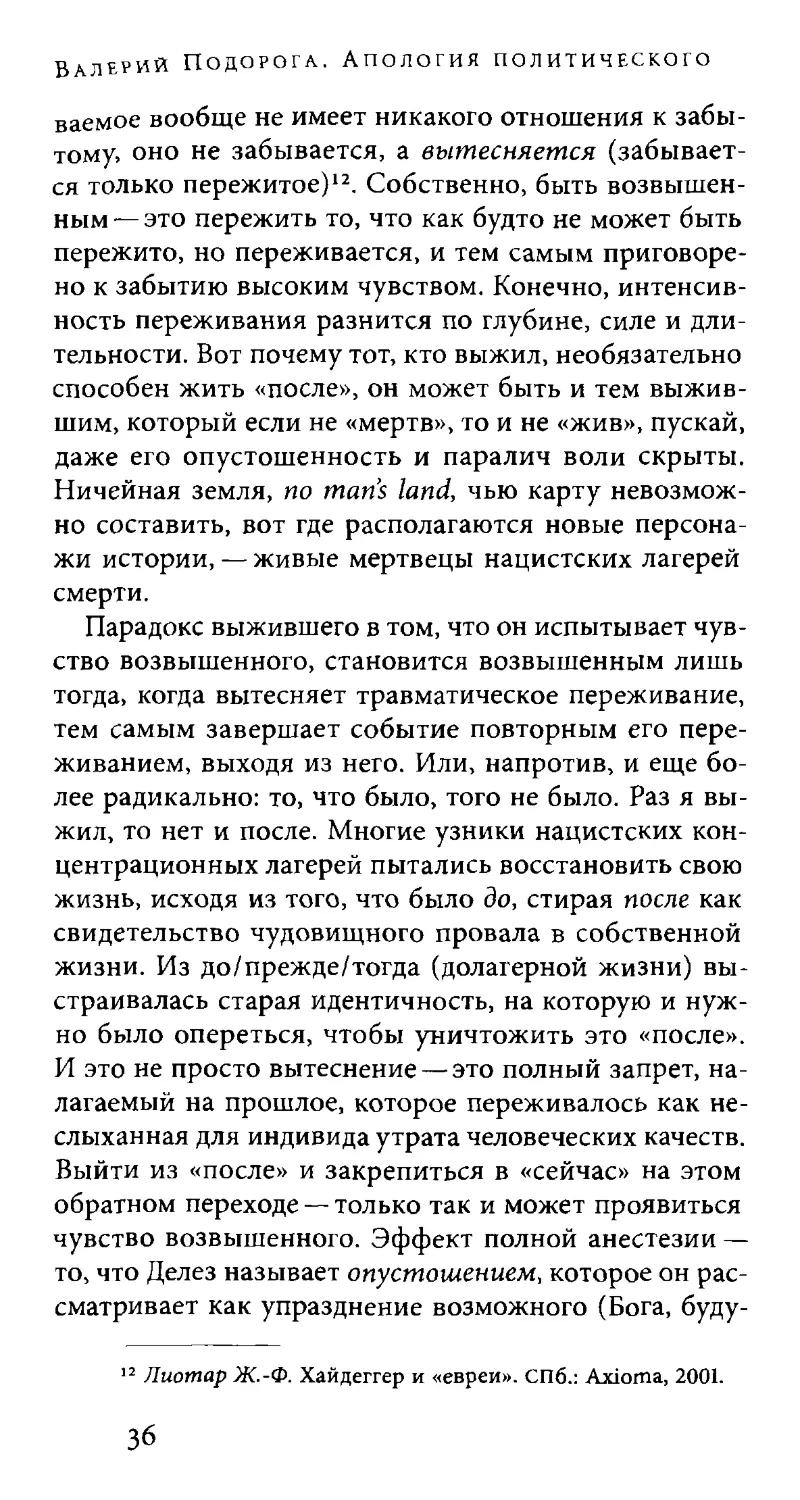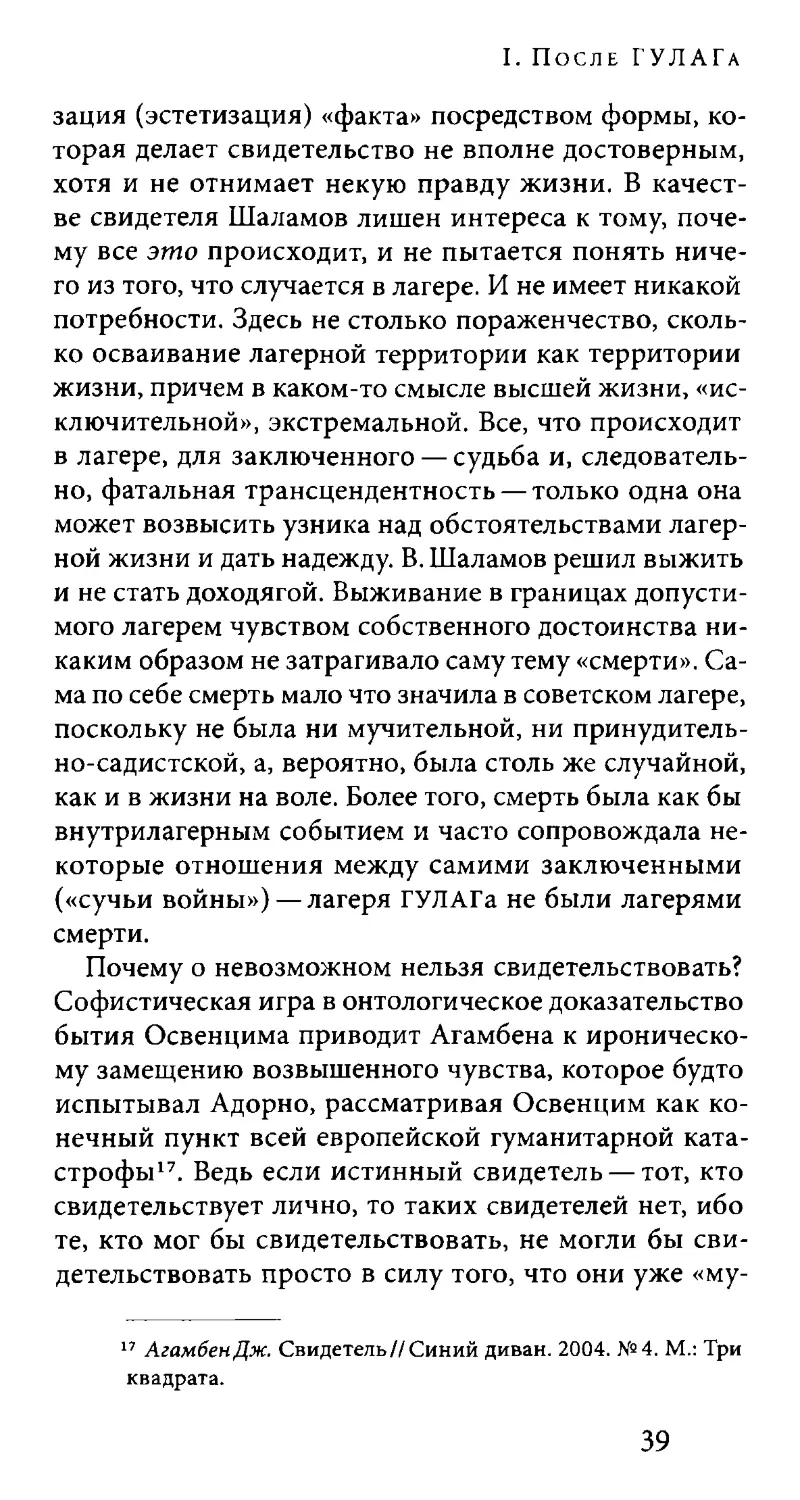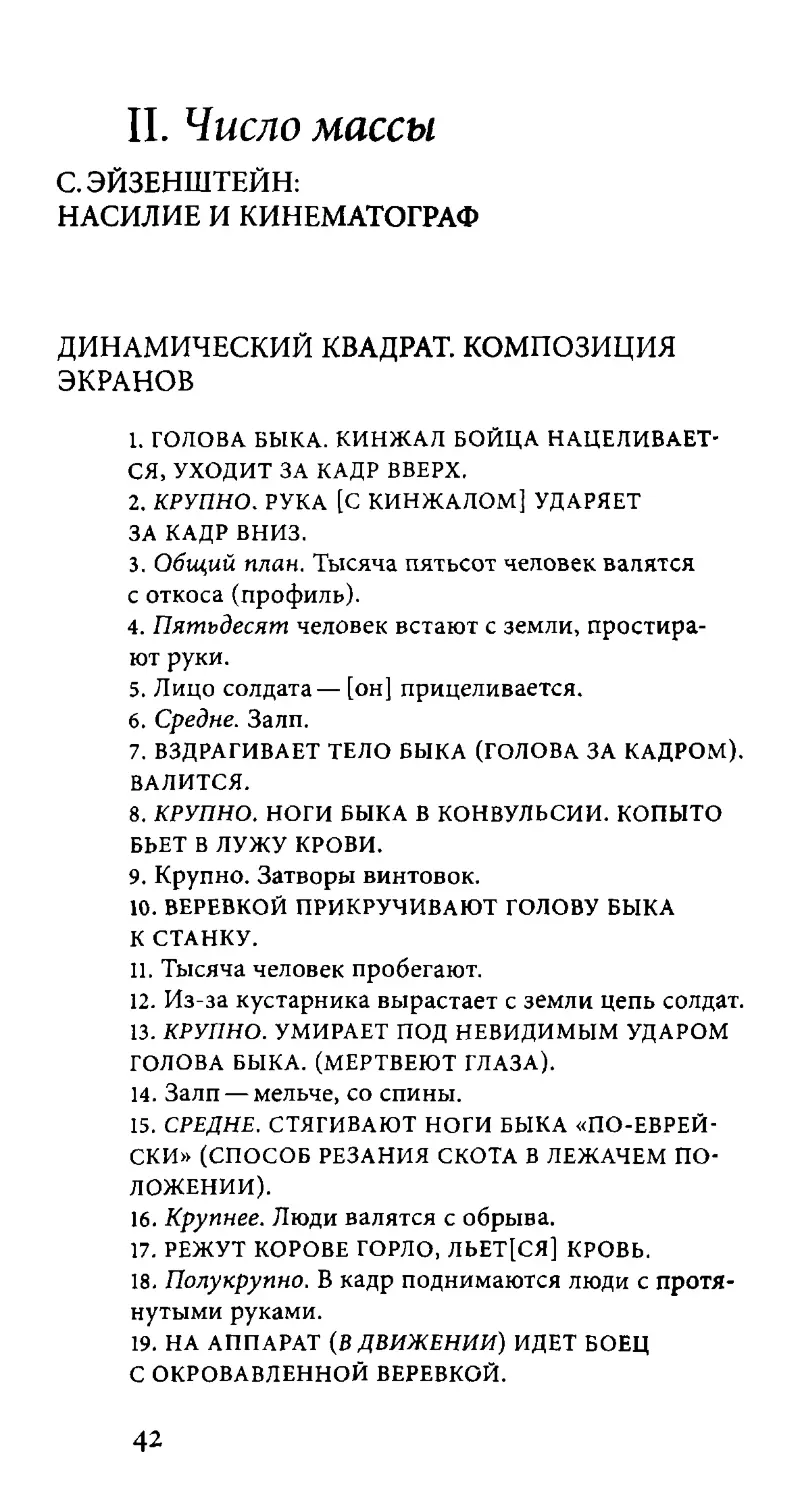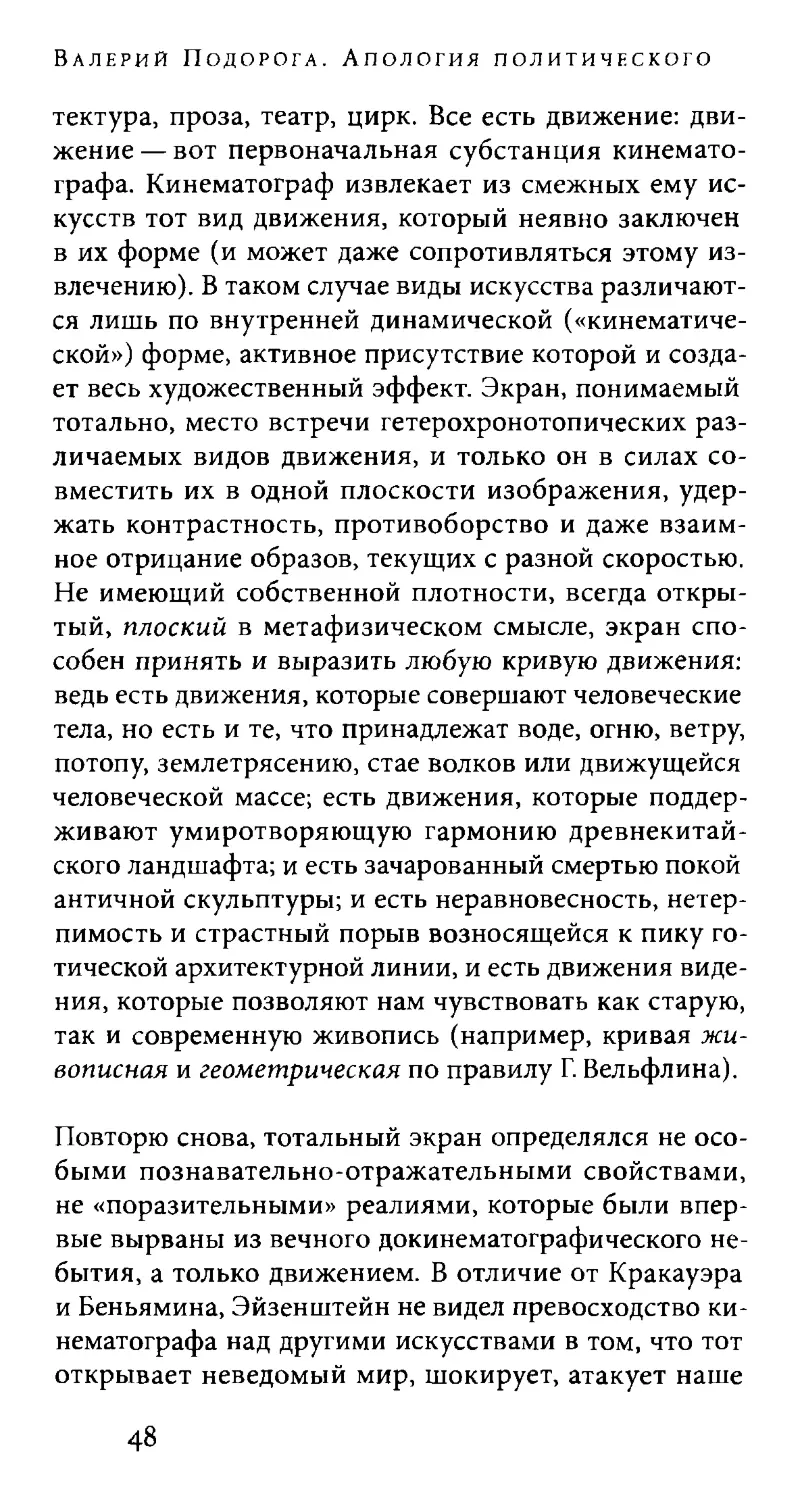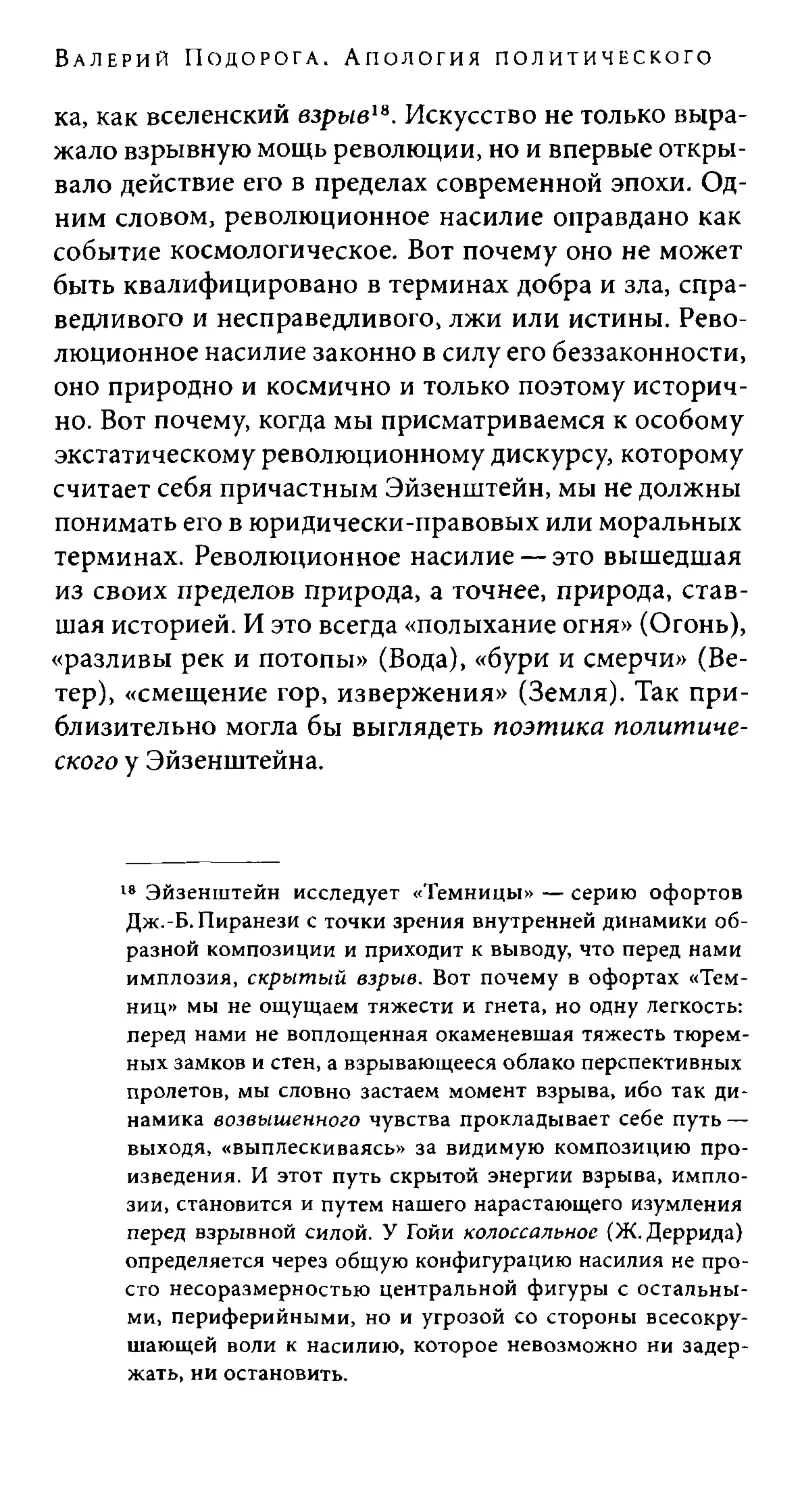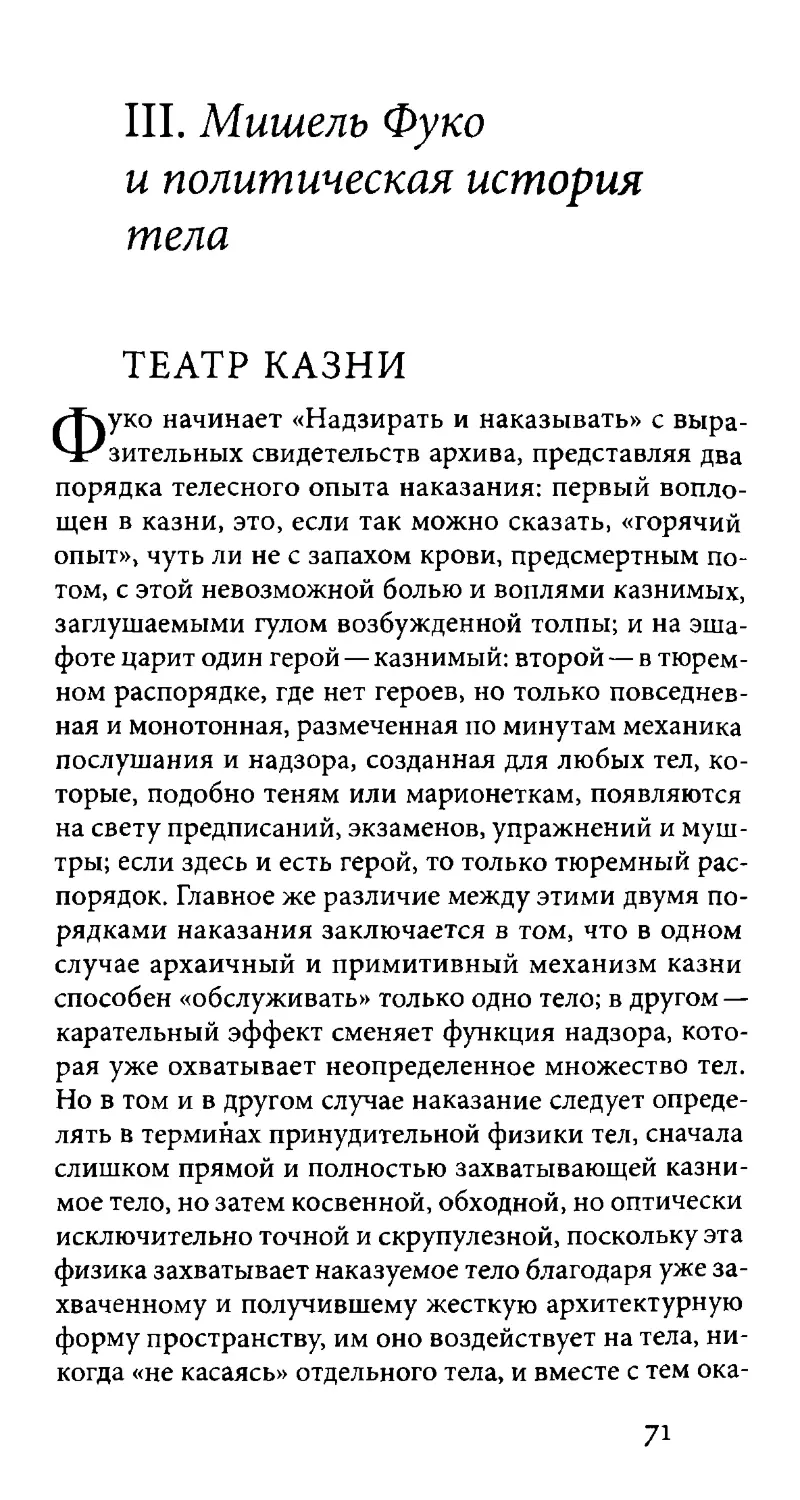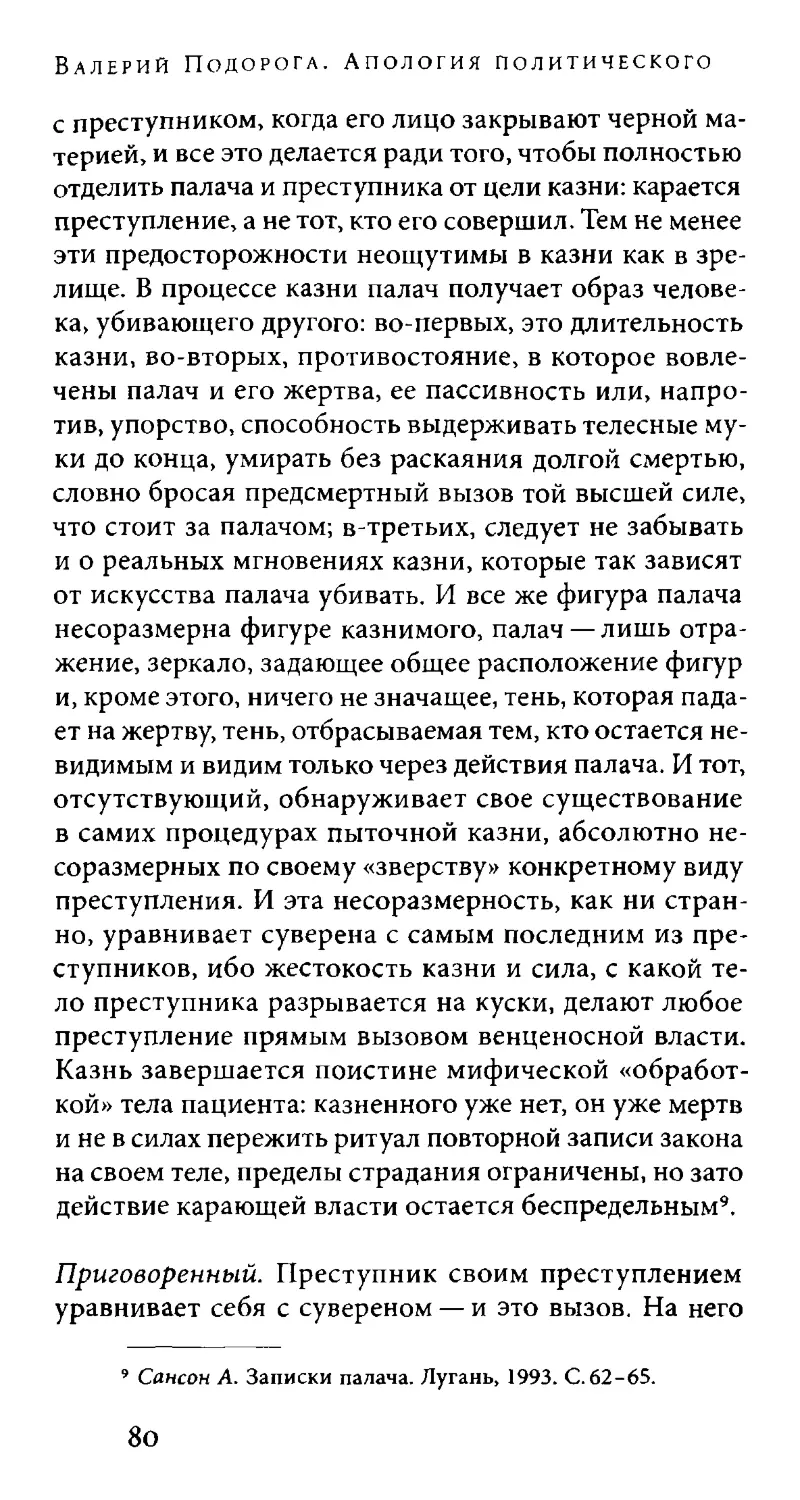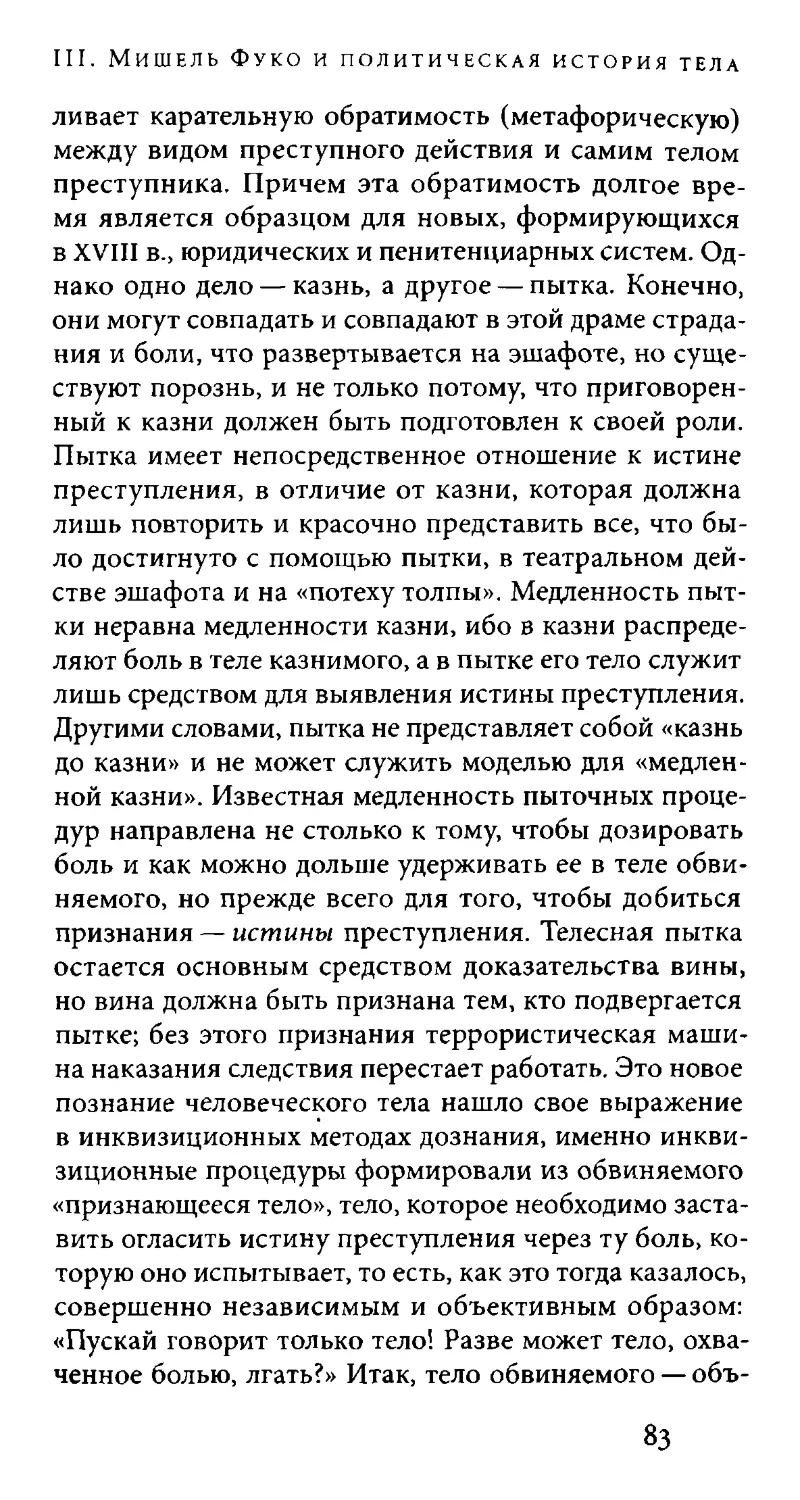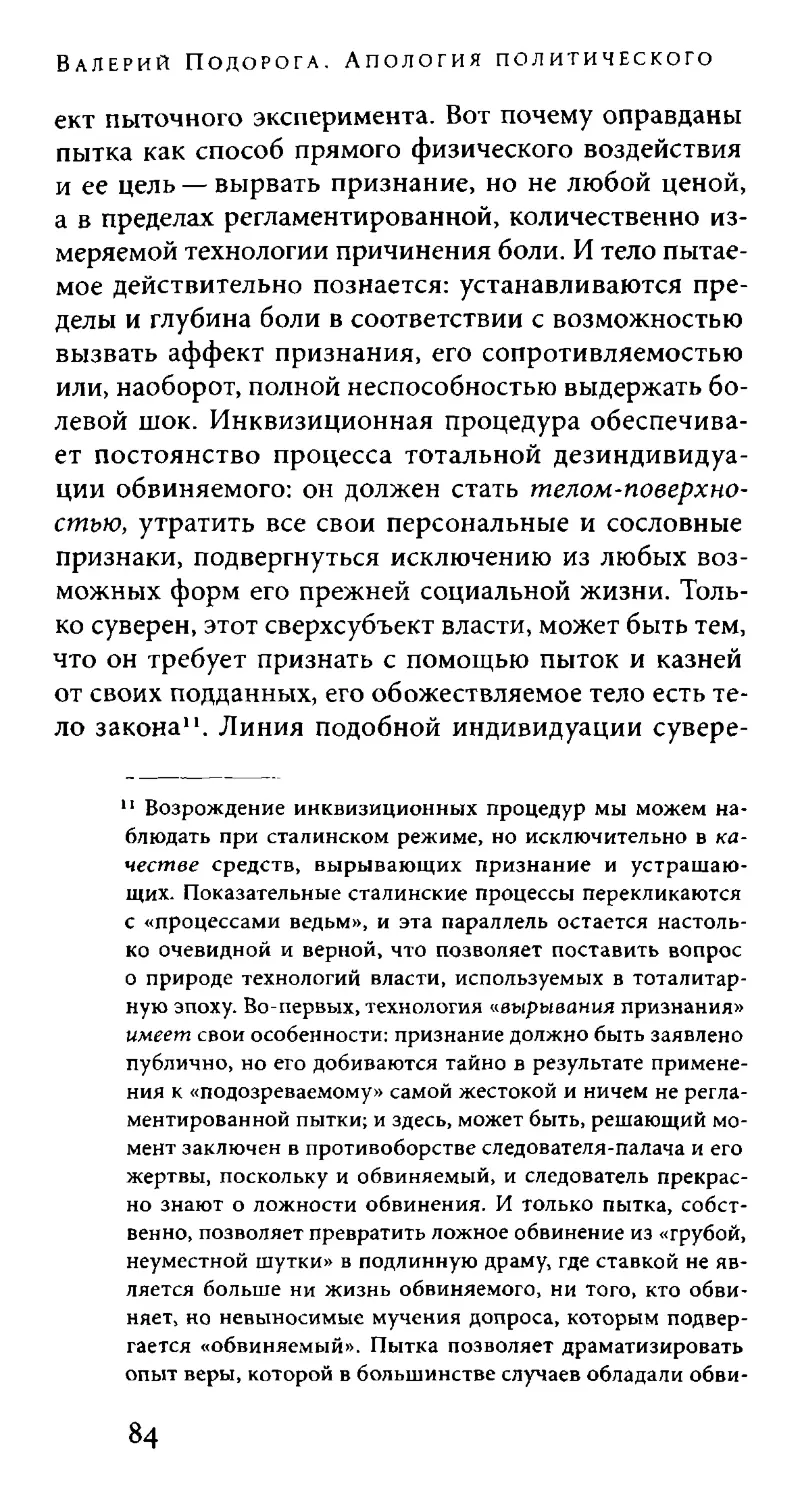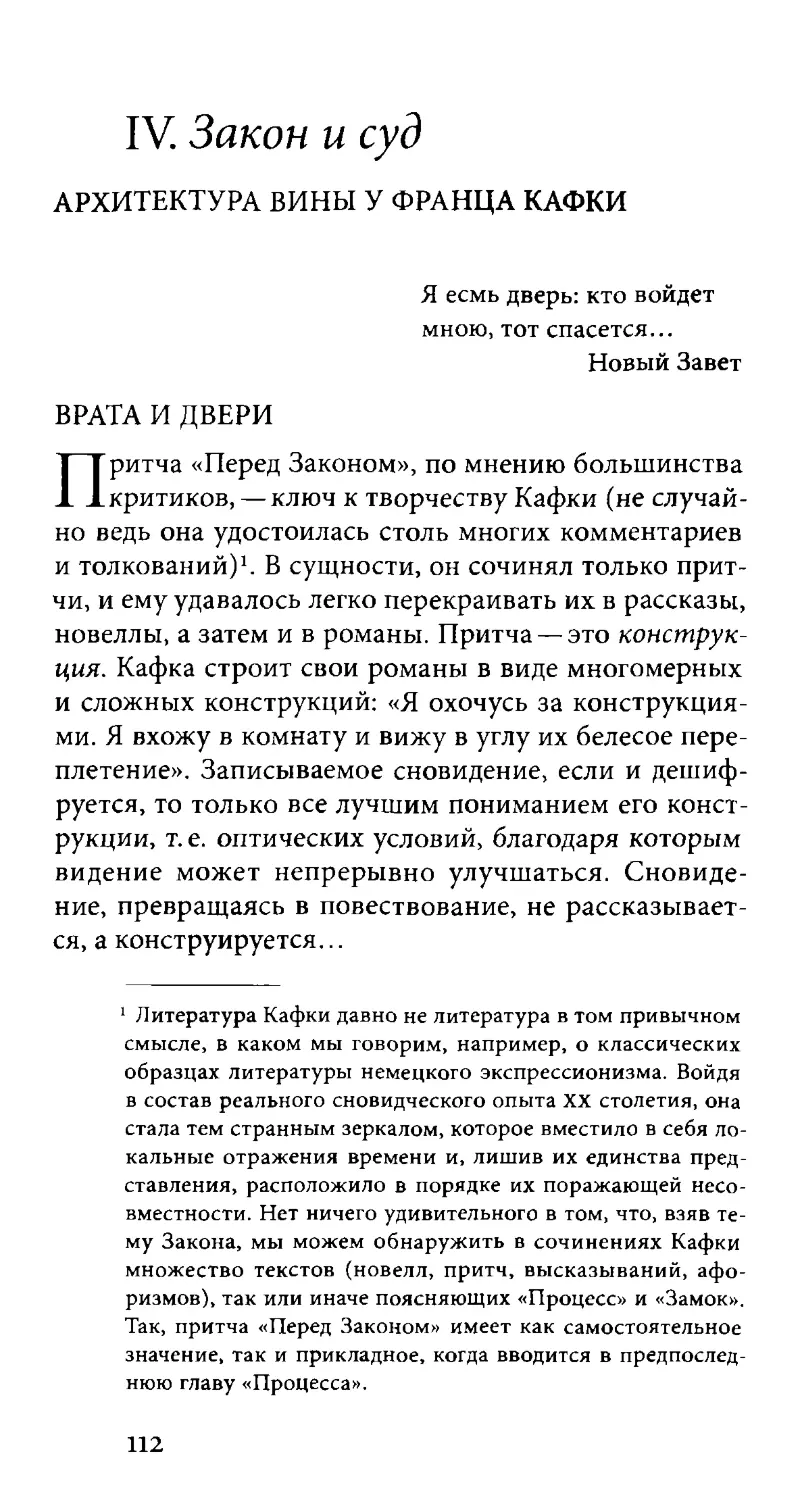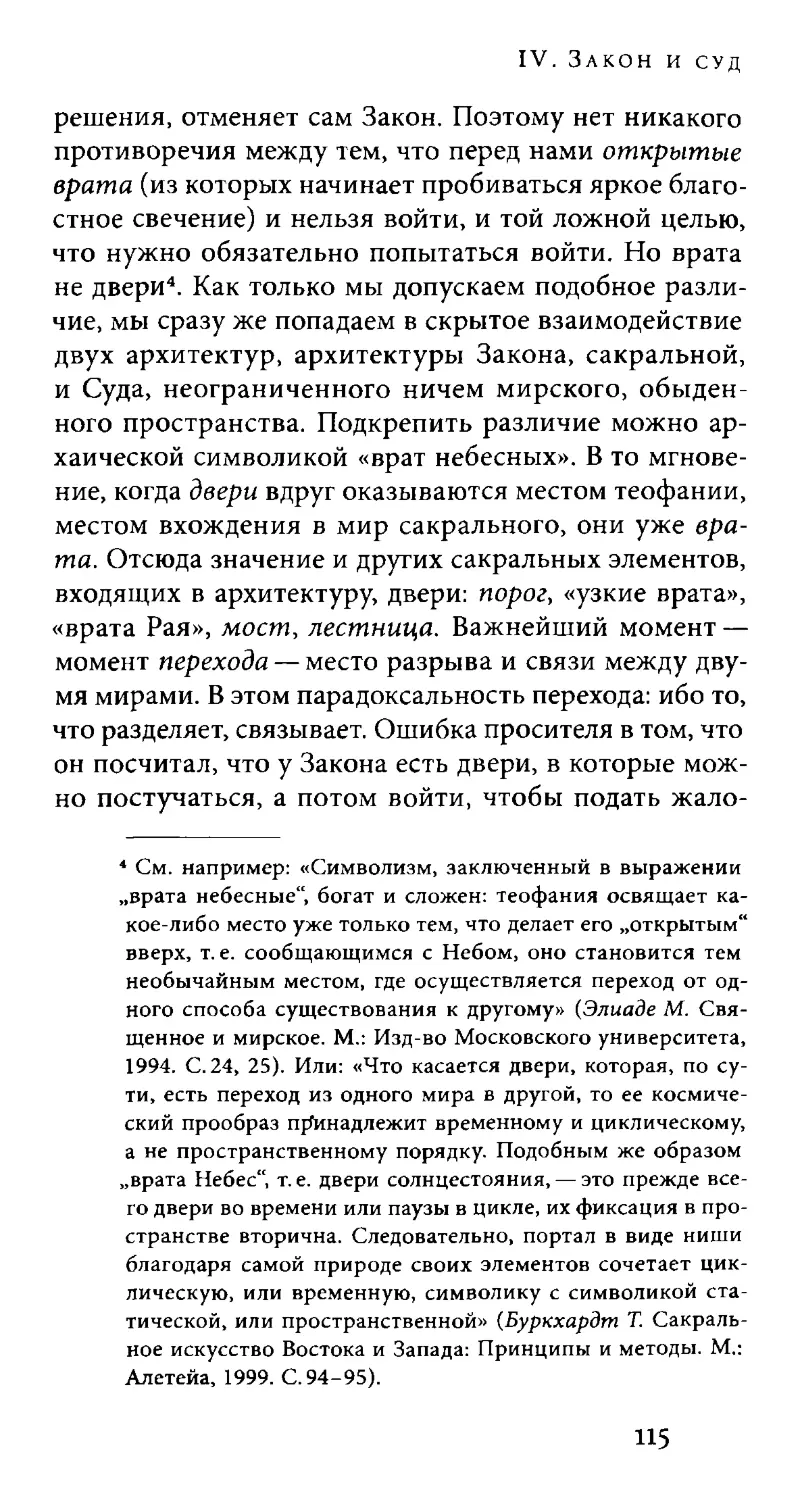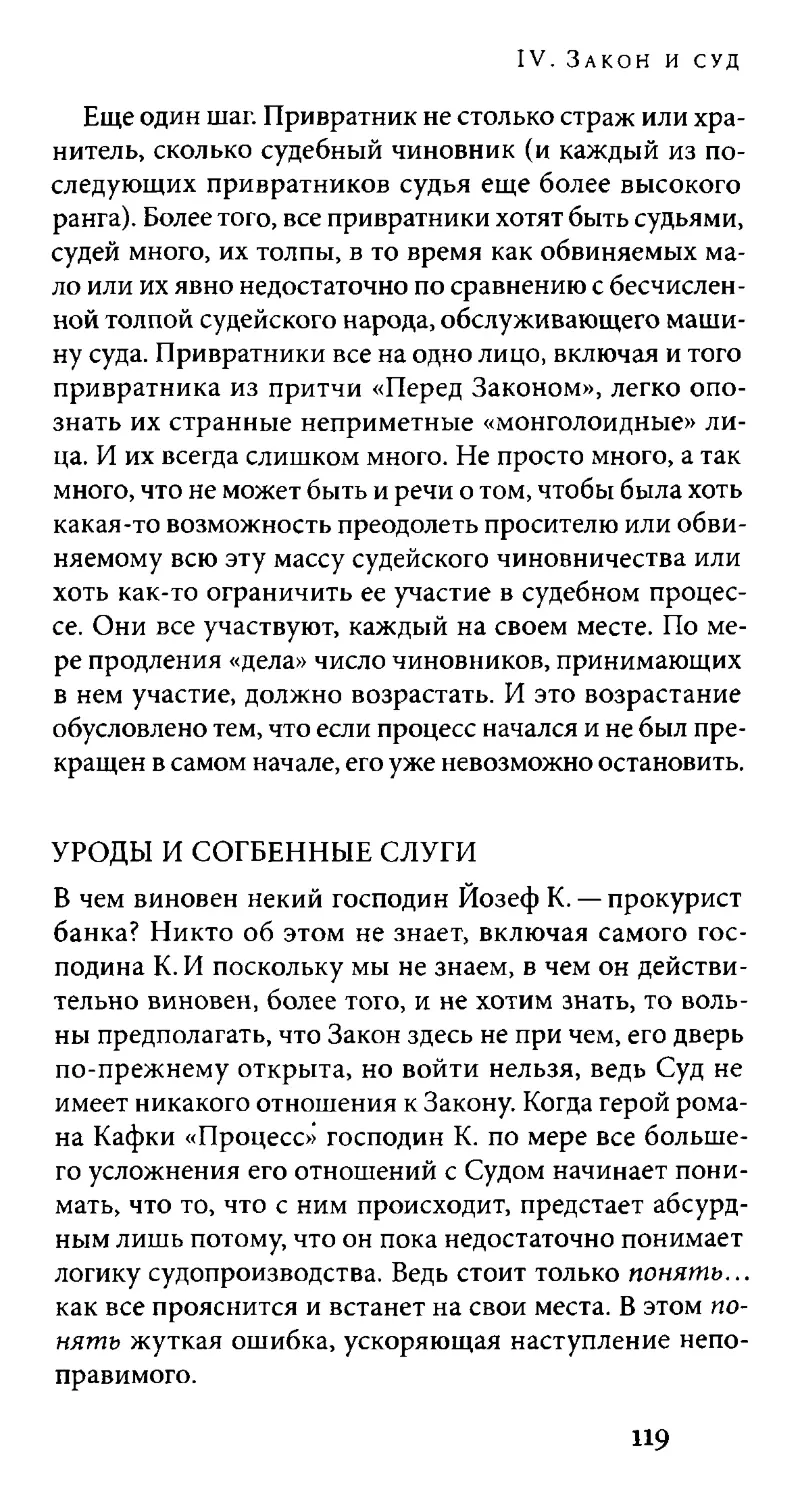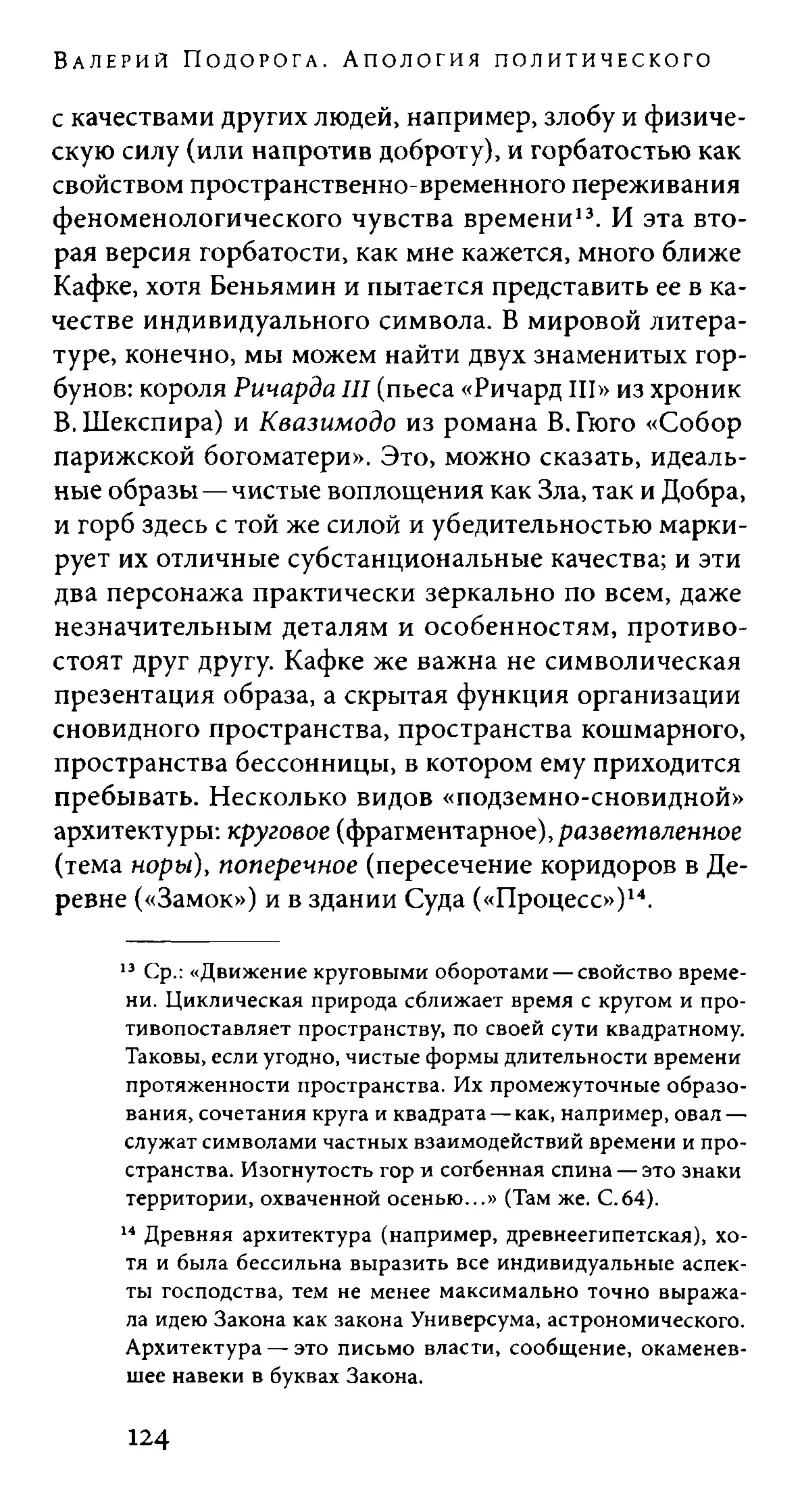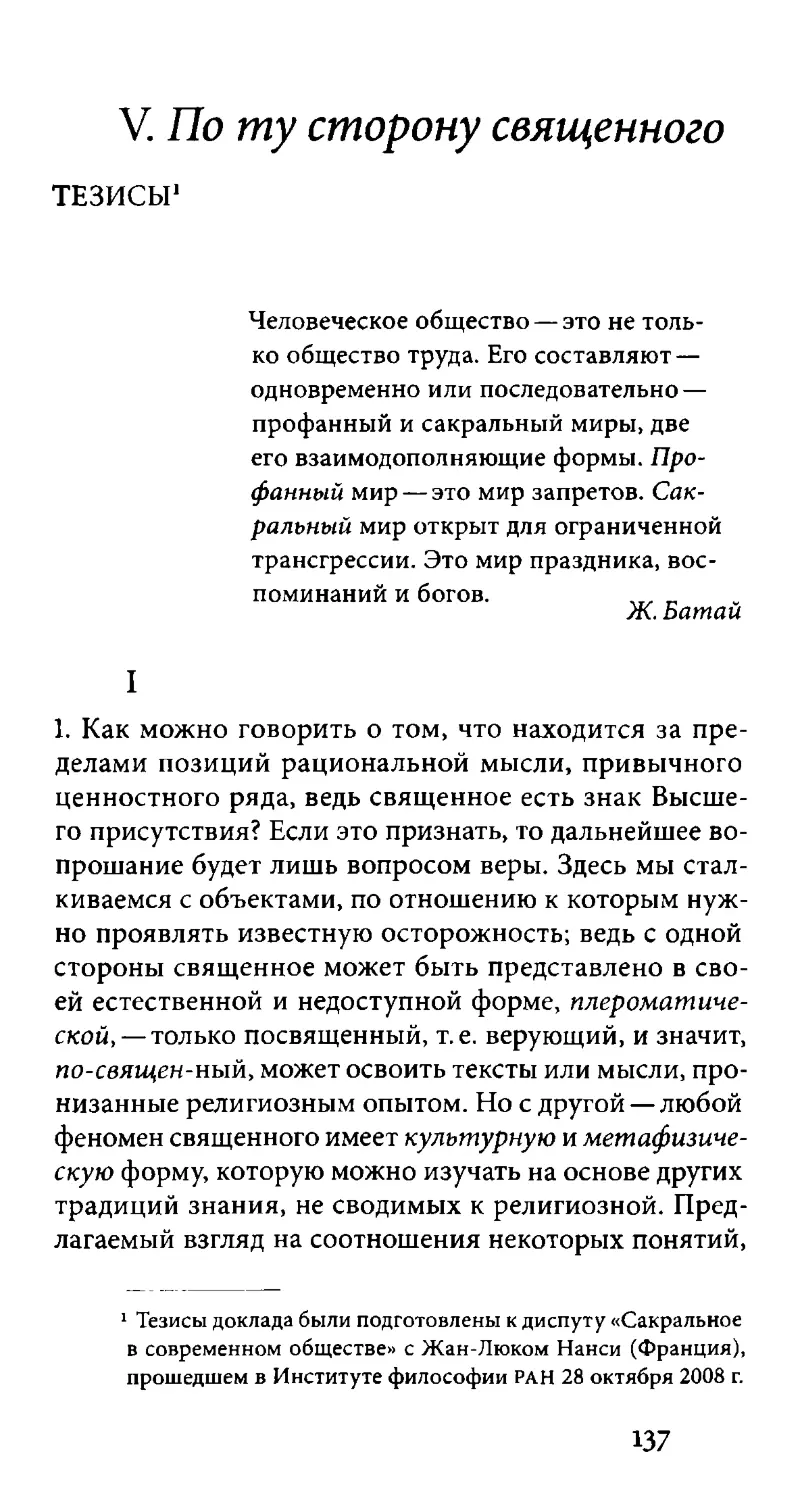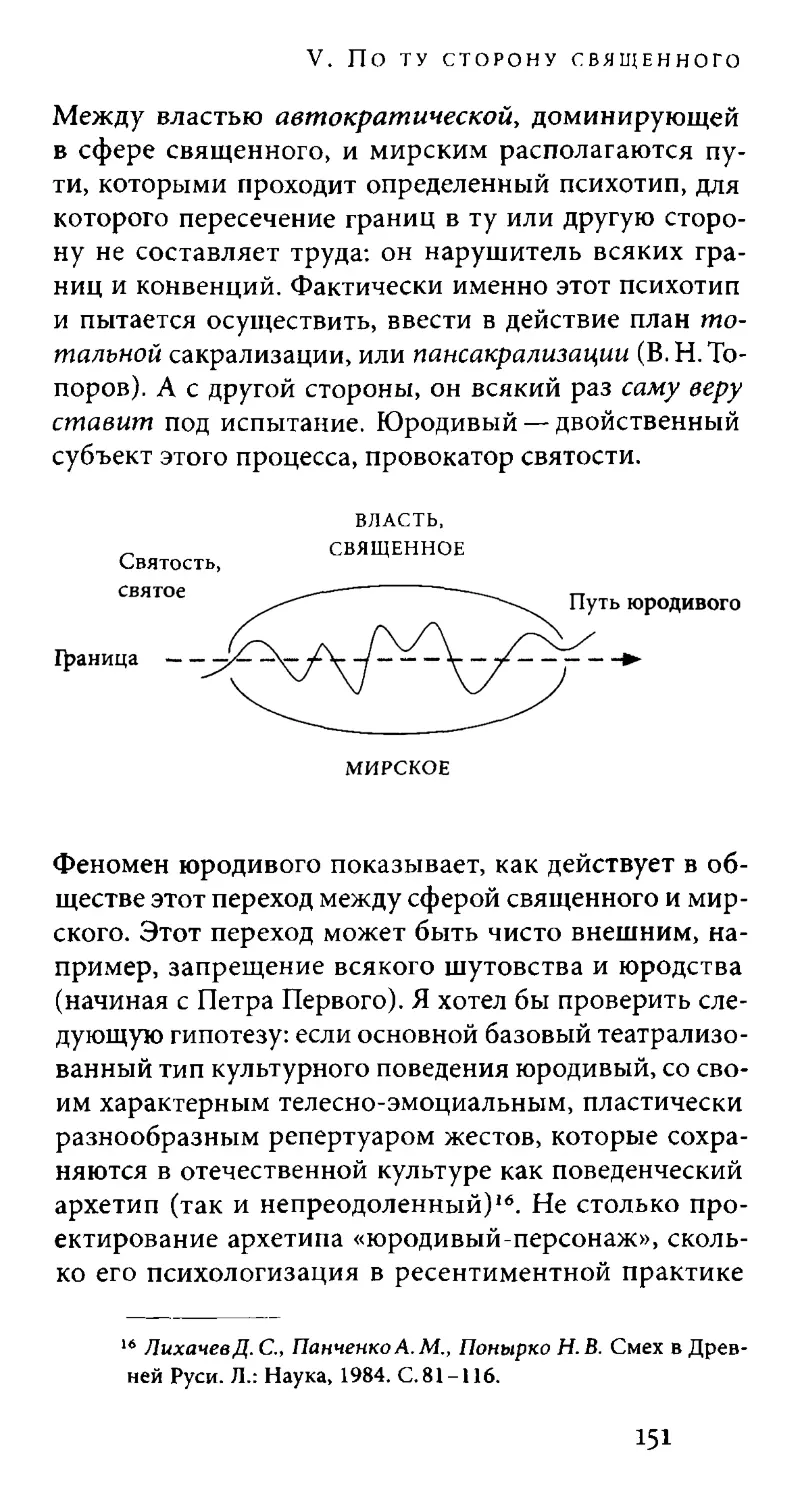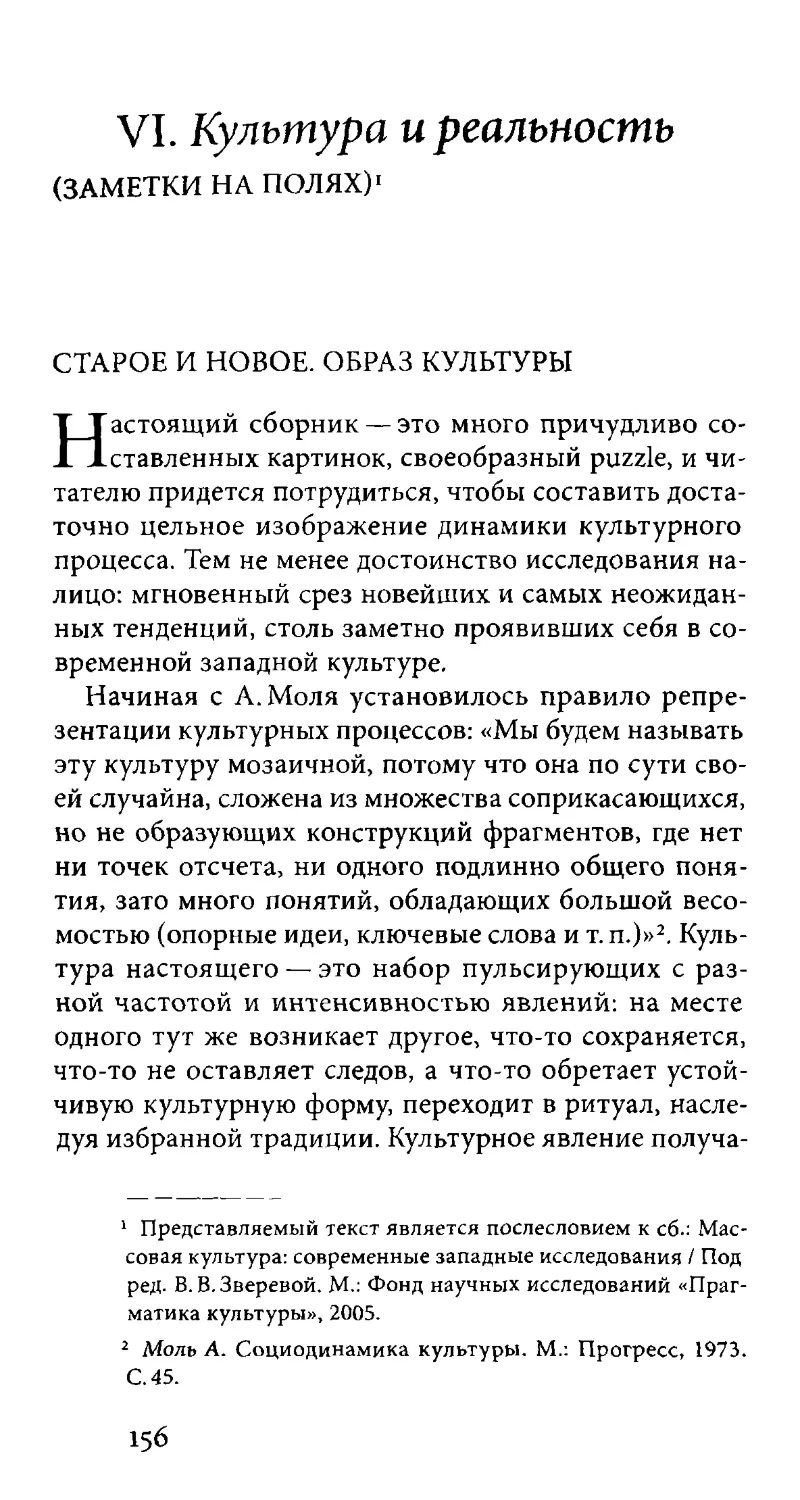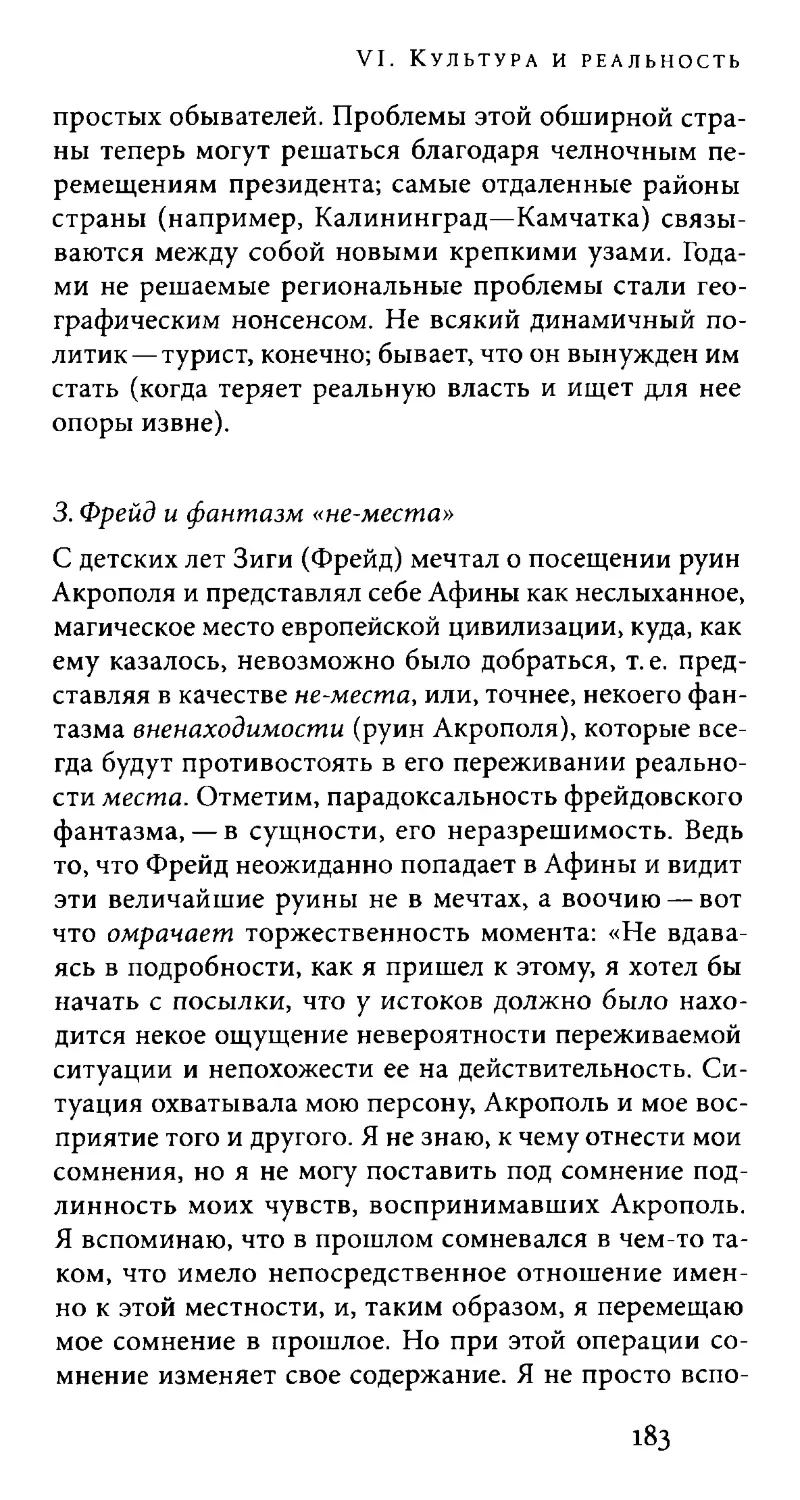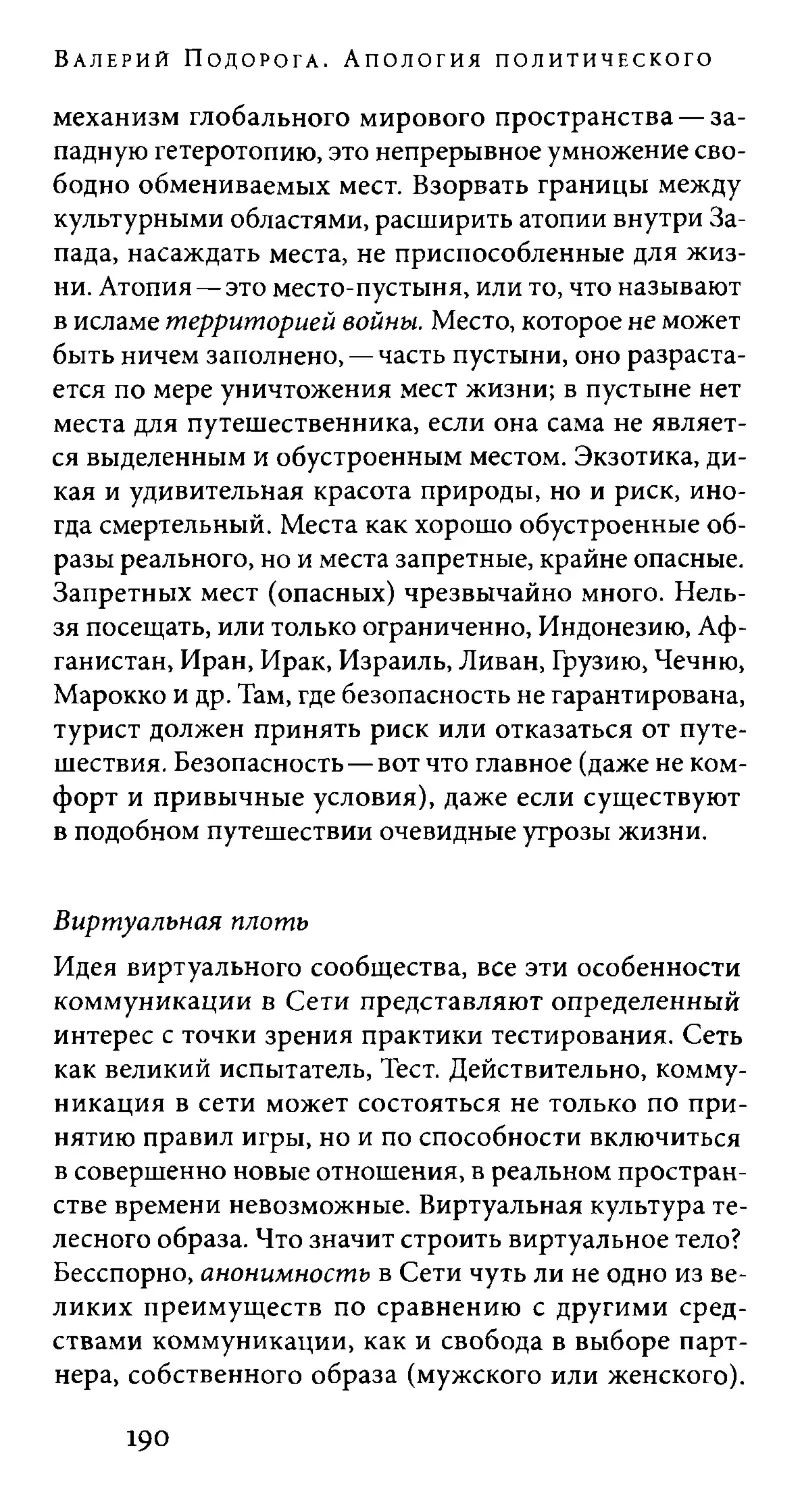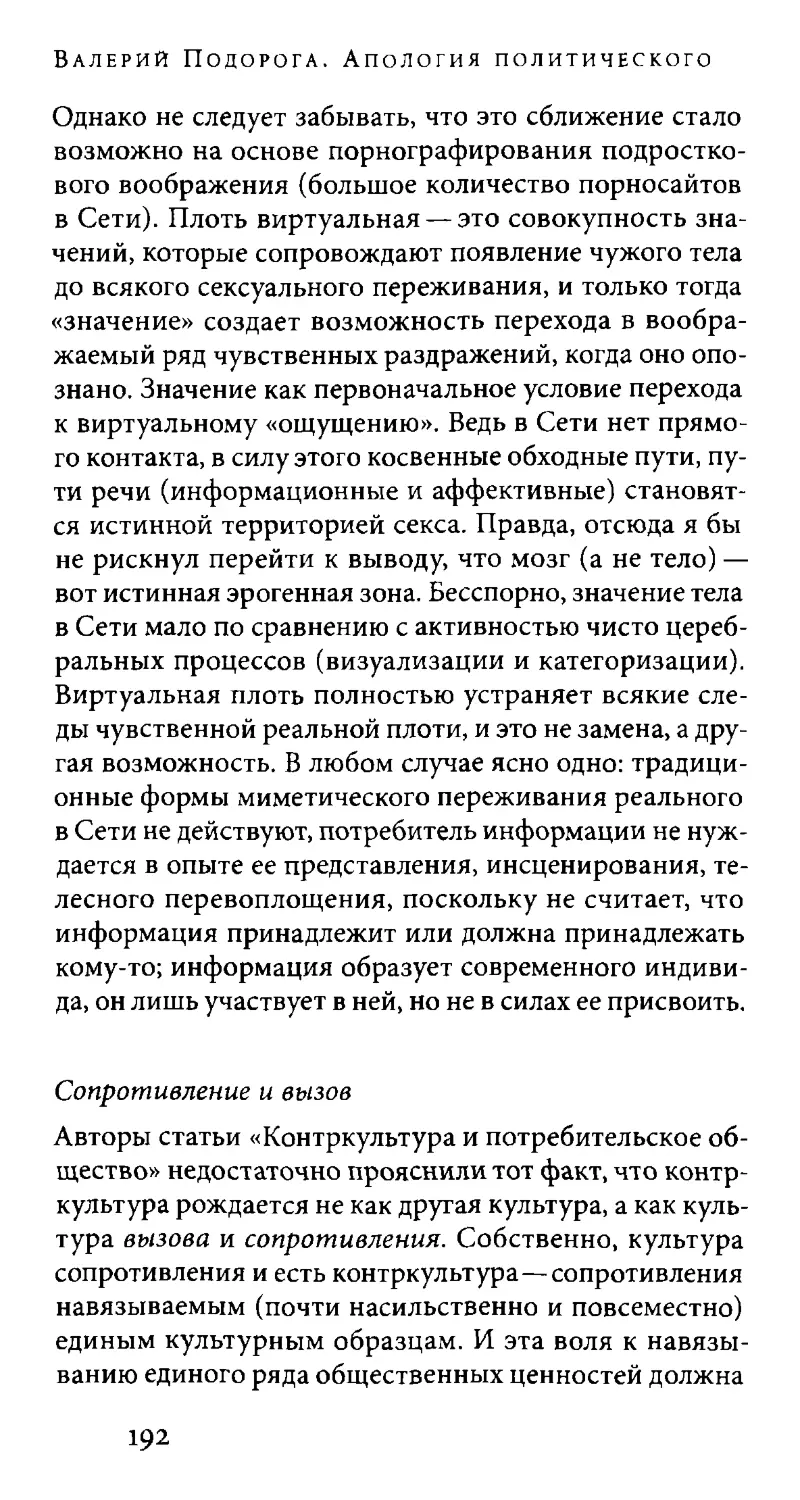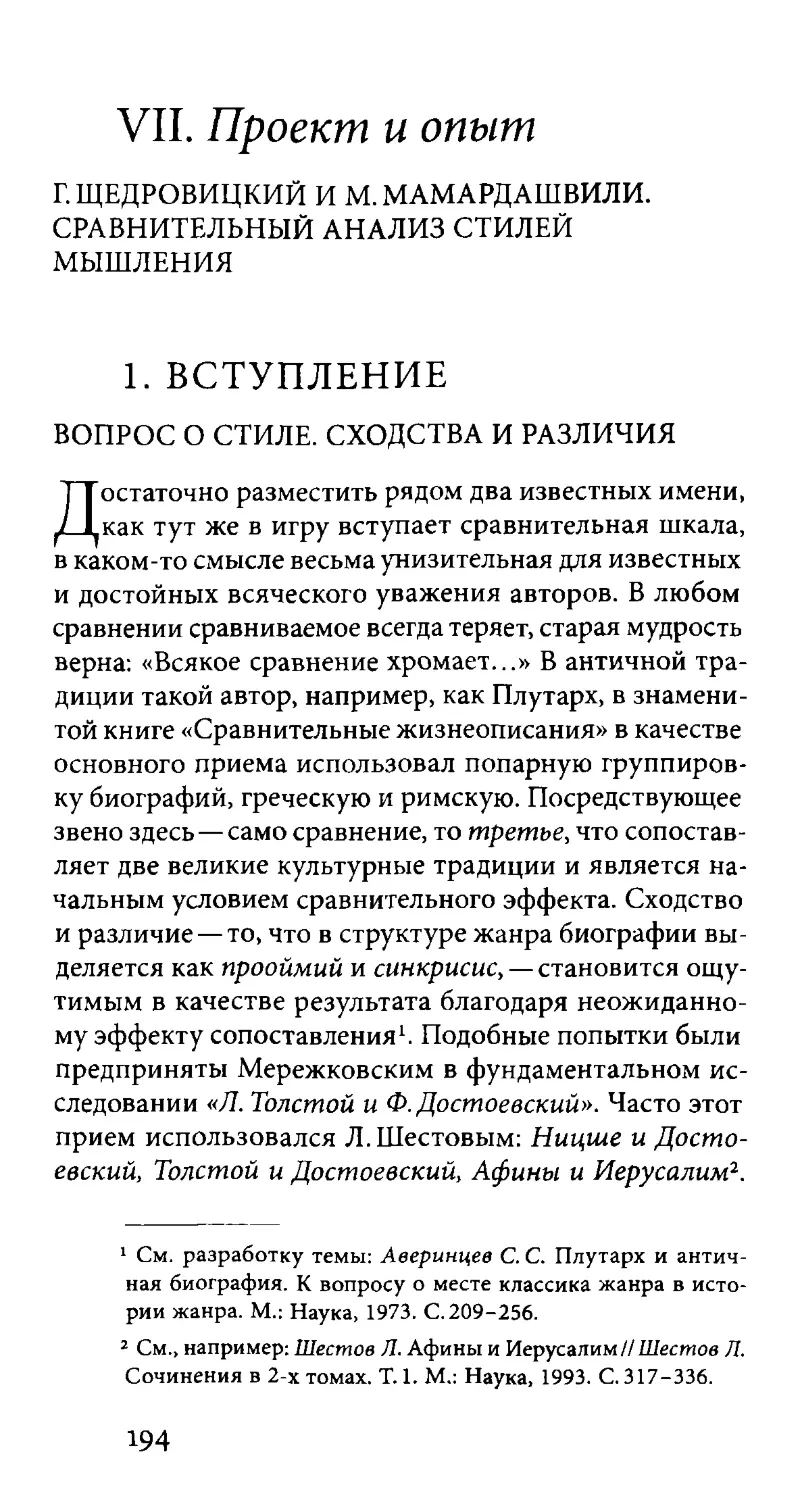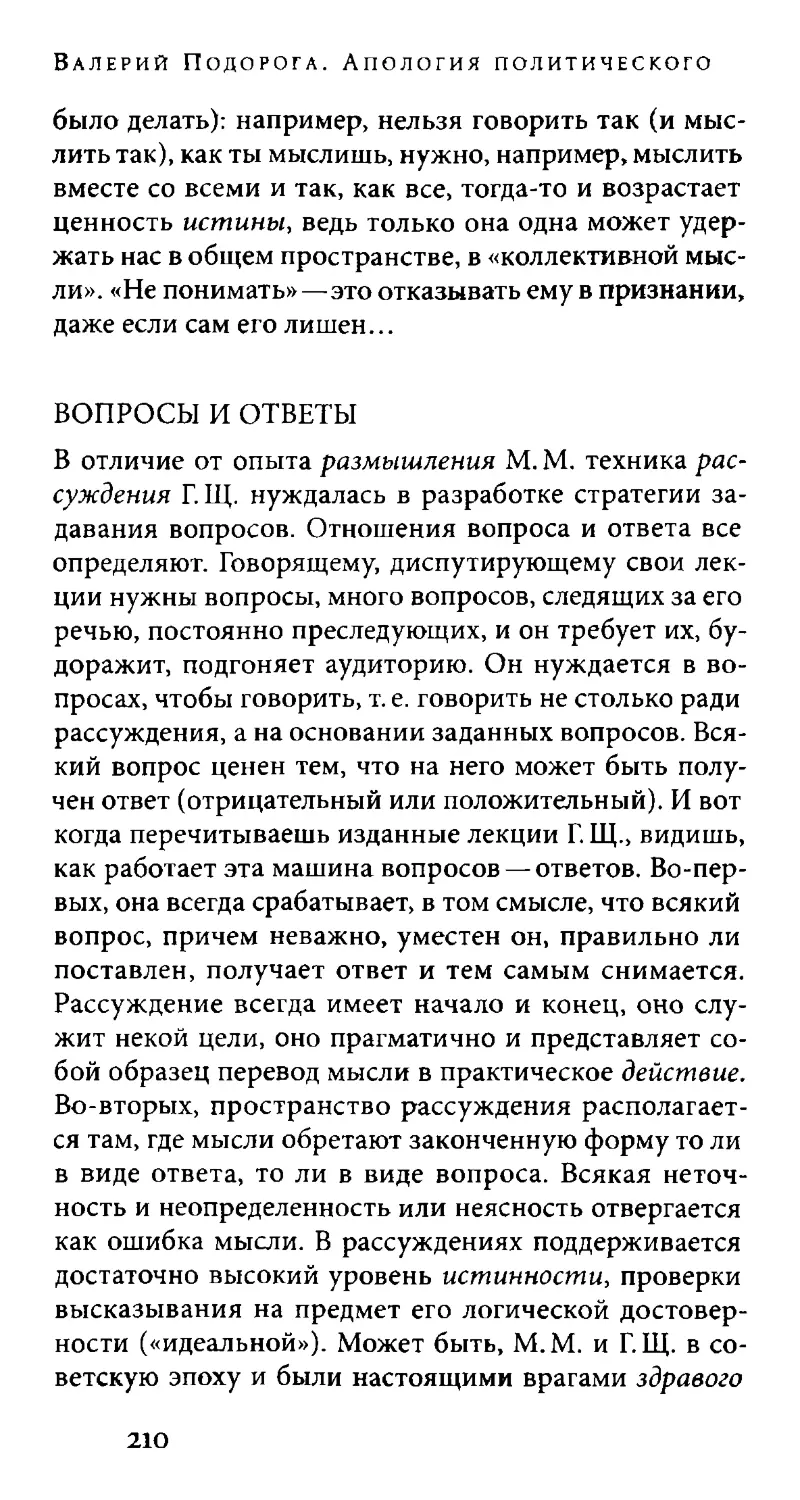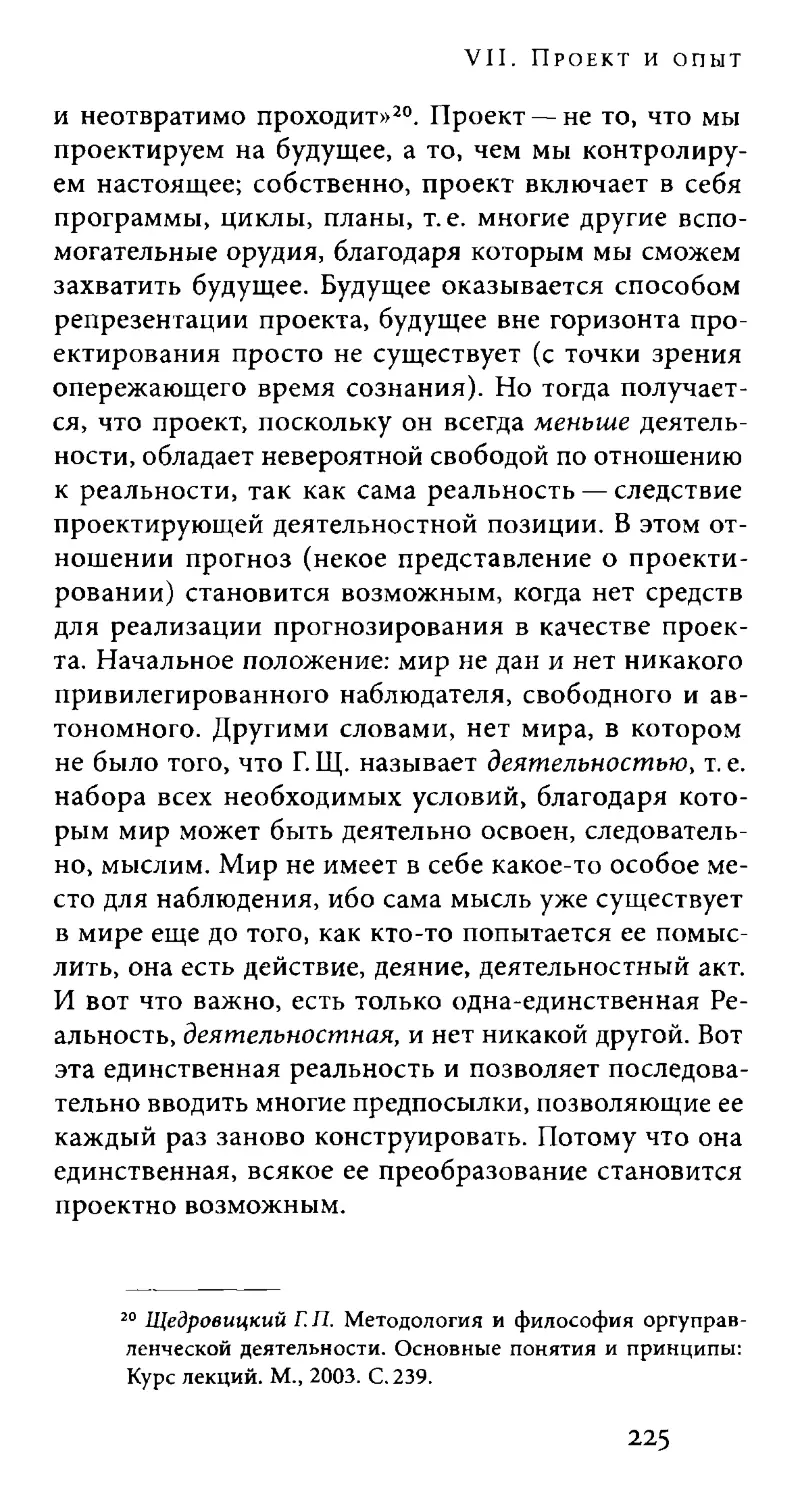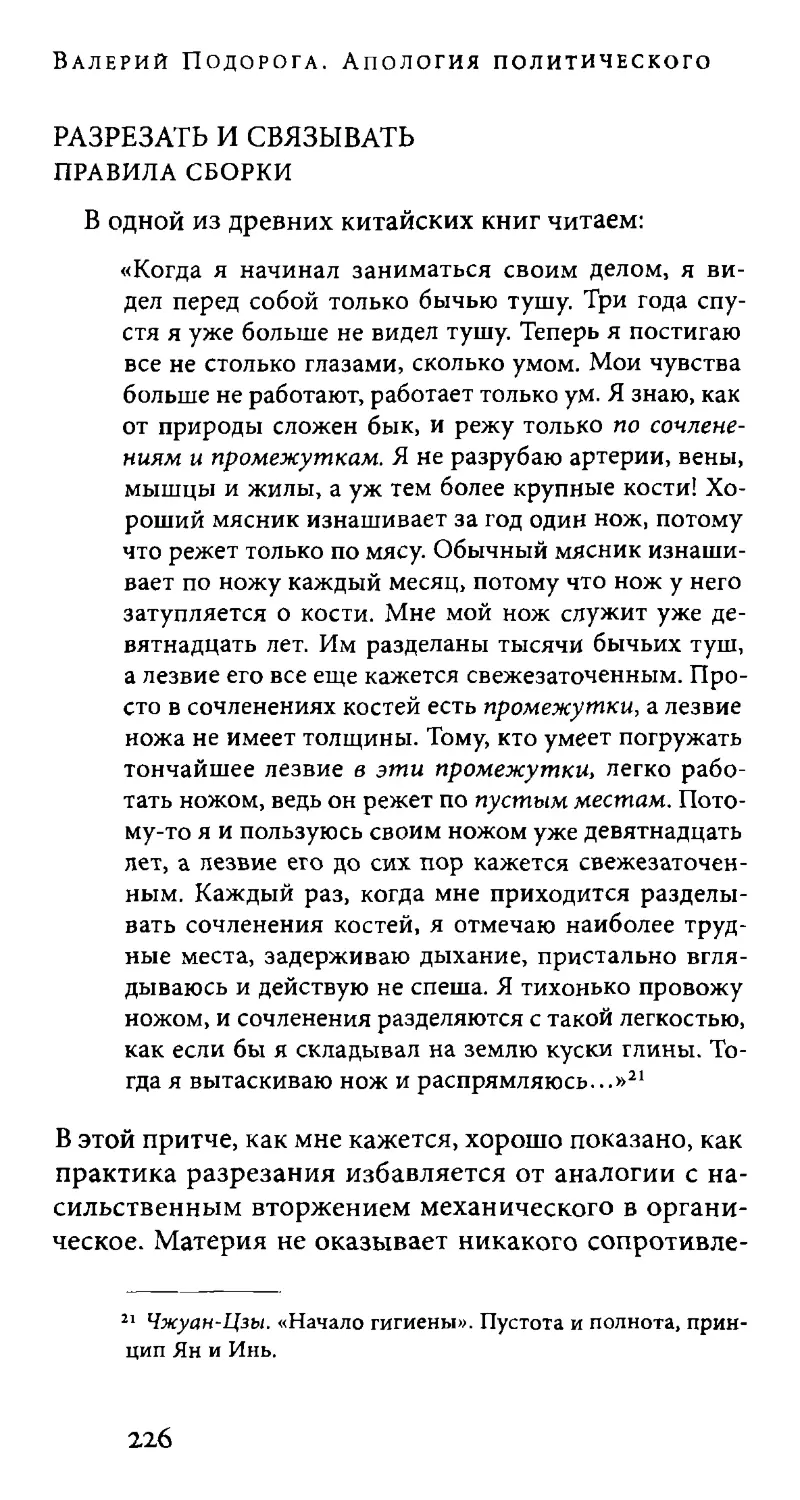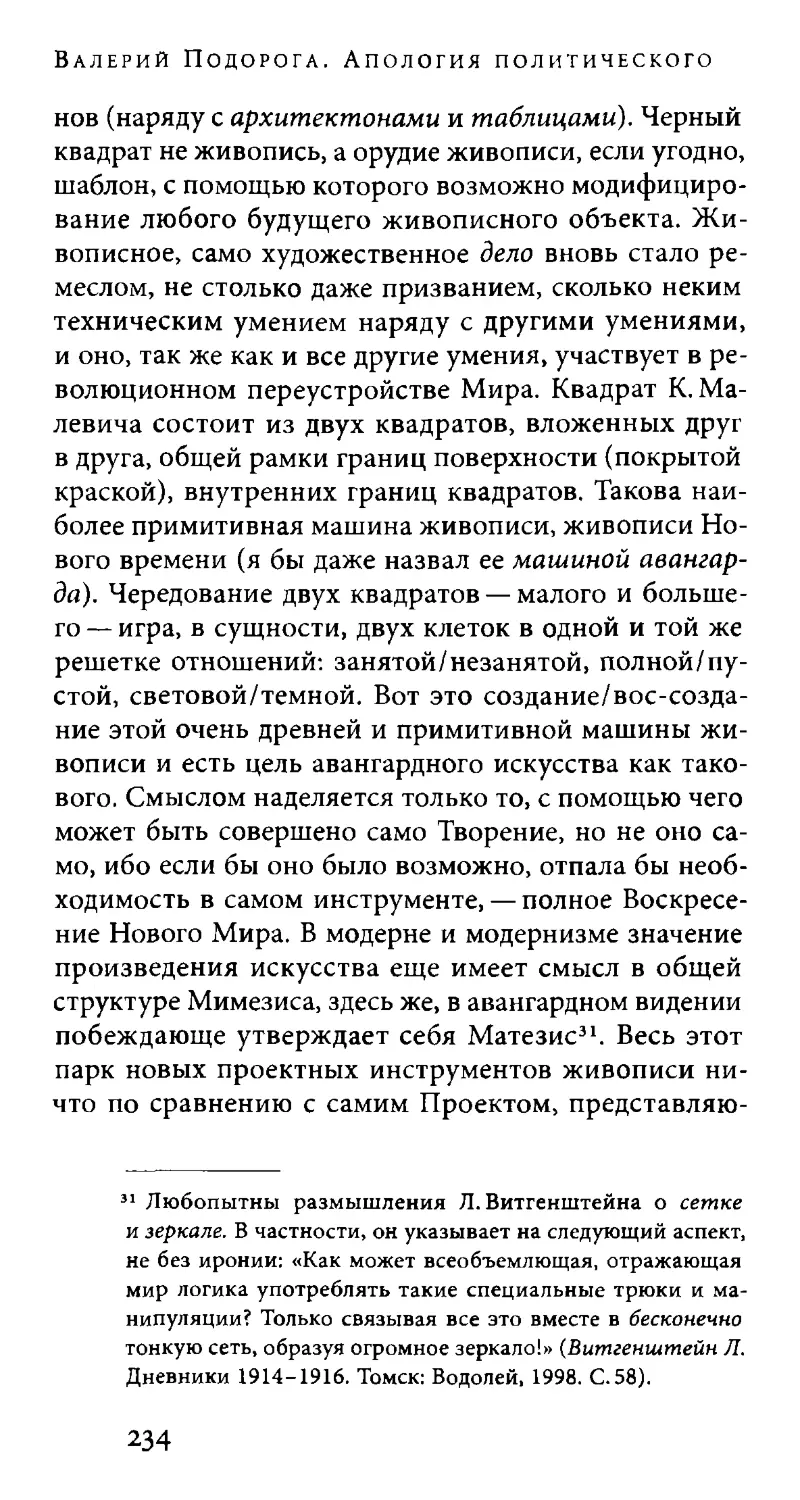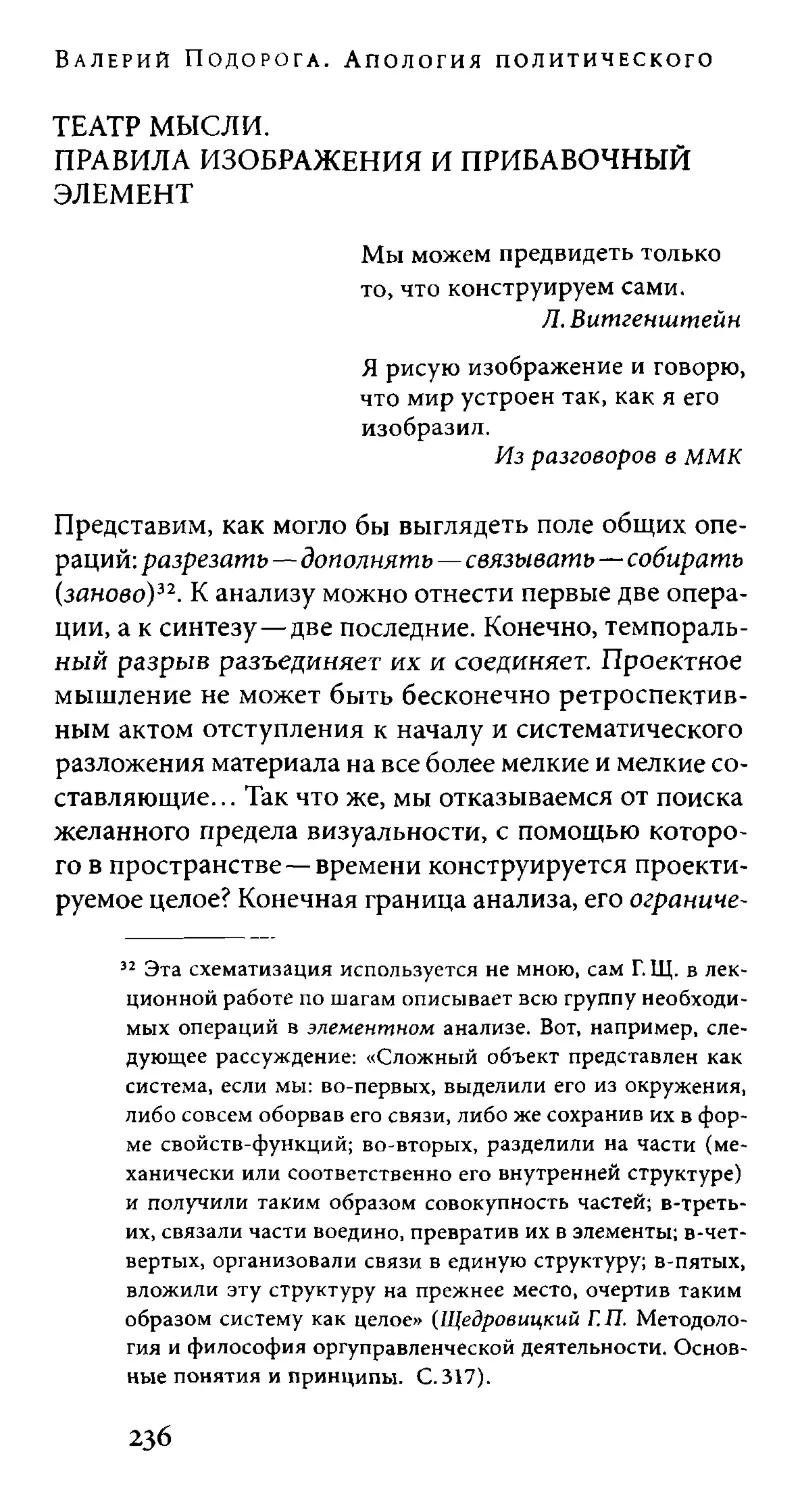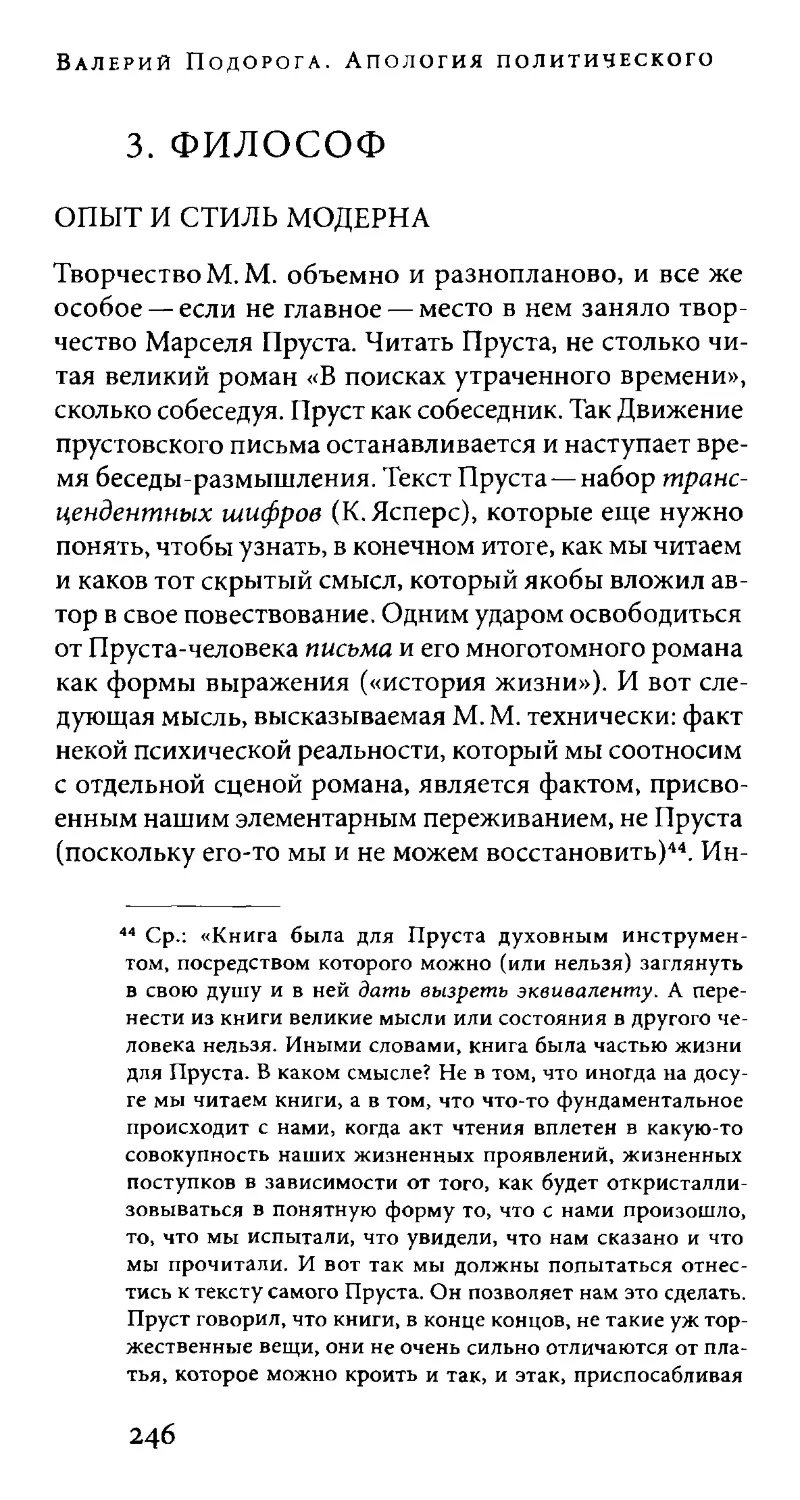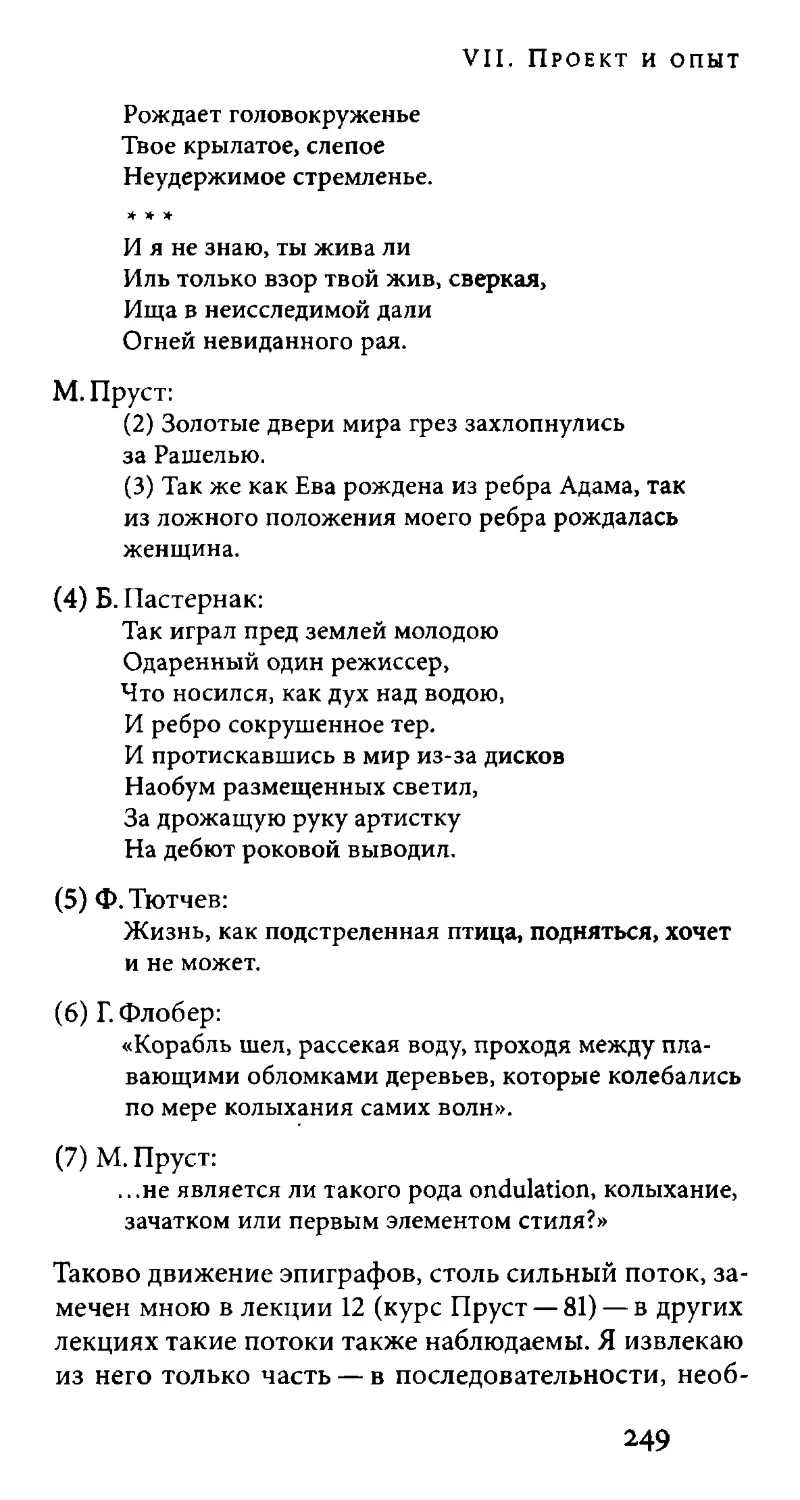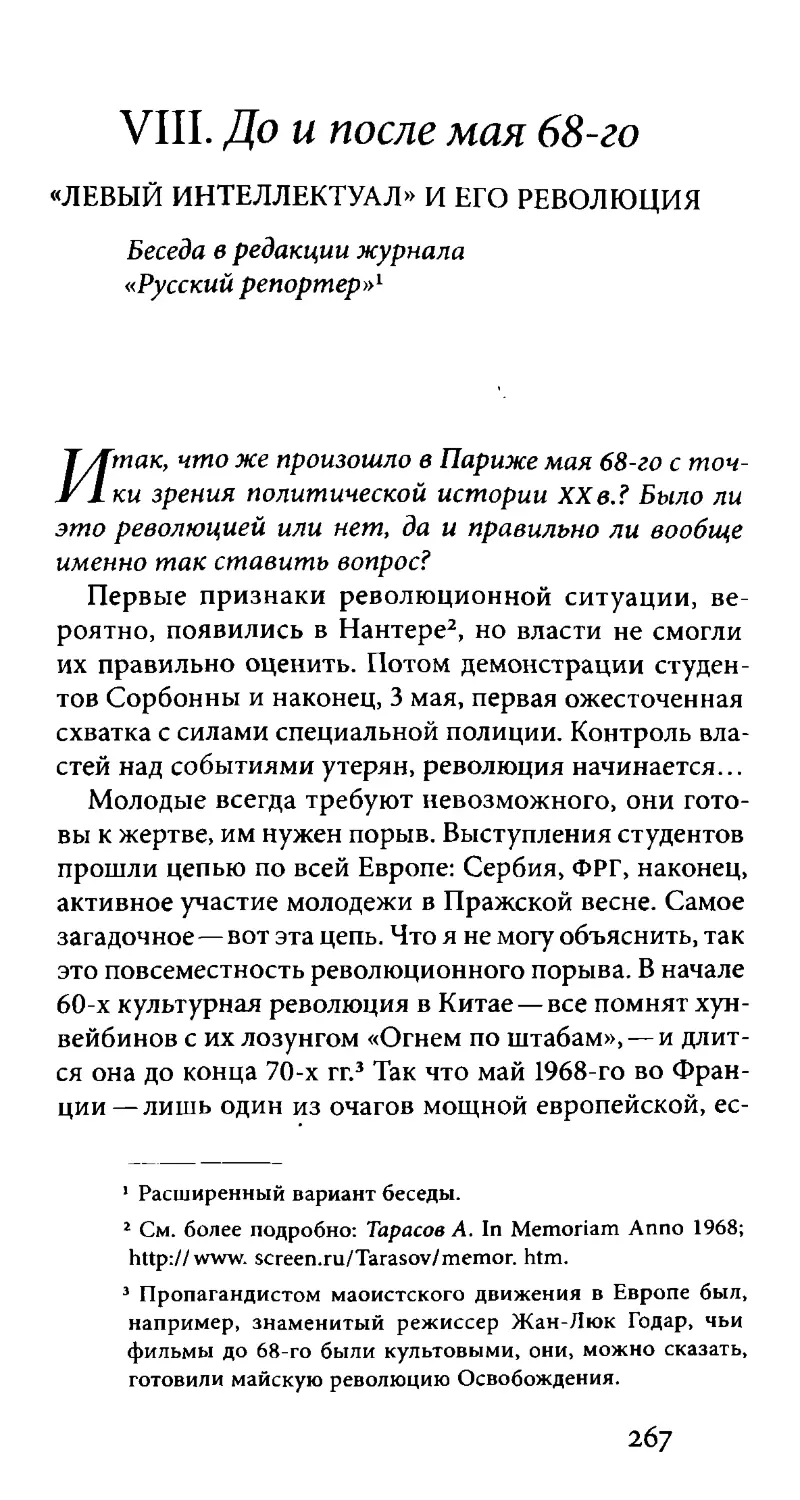Автор: Подогора В.
Теги: философские системы и концепции гносеология (теория познания) философия высшая школа экономики серия политическая теория стратегия знаний личная свобода
ISBN: 978-5-7598-0737-7
Год: 2010
Текст
С Е Р И Я
П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Т Е О Р И Я
АПОЛОГИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ВАЛЕРИЙ ПОДОРОГА
Издательский дом
Государственного университета — Высшей школы экономики
МОСКВА, 2010
УДК 141.319.8
ББК 87.22
П44
Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШ ВИЛИ
Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШ УНОВ
Рецензент
доктор ф илософ ских наук, проф ессор
ЛЕОН И Д И О Н И Н
П одор ога, В. А.
А пология политического [Текст] / Гос. ун -т — Высшая
школа экономики. — М.: И зд. дом Гос. ун-та — Высшей
школы экономики, 2010. — 288 с. — (П олитическая т ео
р и я ).— 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-0737-7 (в пер.),
Валерий Александрович Подорога (1946) — известный рос
сийский философ, автор исследований «Метафизика ландшаф
та» (1992), «Феноменология тела» (1995), «Мимесис. Материалы
по аналитической антропологии литературы» (в двух томах,
2006-2010), а также многочисленных статей, бесед, выступле
ний в широкой печати.
Настоящая книга представляет собой собрание эссе и других
материалов, не публиковавшихся или частично опубликованых
в малодоступных изданиях за последние десятилетия. При
меняя оригинальную технику анализа (метод «аналитической
антропологии») к различным областям гуманитарного опыта,
В. Подорога показывает, как знание, которое формируется в тех
или иных системах мысли, приобретает значение политического.
По его мнению, политическое не имеет отношения к «реальной
политике»; оно принадлежит стратегиям знания, существующим
в горизонте личной свободы.
УДК 141.319.8
ББК 87.22
ISBN 978-5-7598-0737-7
П44
© Подорога В. А., 2010
© Оформление. Издательский дом Государственного универ
ситета— Высшей школы экономики, 2010
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИ СЛОВИЕ................................................ 7
I. ПОСЛЕ ГУЛАГа. ПОЛИТИКА
ФИЛОСОФИИ. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ........................ 11
II. ЧИСЛО МАССЫ. С. ЭЙЗЕНШ ТЕЙН:
НАСИЛИЕ И КИНЕМ АТОГРАФ........................... 42
III. МИШЕЛЬ ФУКО И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЯ ТЕЛ А ..........................................................71
IV. ЗАКОН И СУД. АРХИТЕКТУРА
ВИНЫ У ФРАНЦА К А Ф К И ...................................112
V. ПО ТУ СТО РО Н У С В Я Щ Е Н Н О Г О ........... 137
VI. КУЛЬТУРА И РЕА ЛЬН ОСТЬ
(ЗАМ ЕТКИ НА П О Л Я Х )........................................156
VII. ПРОЕКТ И ОПЫТ.
Г. Щ ЕДРОВИЦКИЙ И М. МАМАРДАШВИЛИ.
СРАВНИТЕЛЬНЫ Й АНАЛИЗ СТИЛЕЙ
М Ы Ш ЛЕНИ Я...............................................................194V
I.
VIII. ДО И ПОСЛЕ МАЯ 68-го. «ЛЕВЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» И ЕГО РЕВОЛЮ ЦИЯ____ 267
ПРЕДИСЛОВИЕ
астоящая книга — собрание статей, заметок, раз
мышлений, относящихся к последнему десятиле
тию. По мере подготовки рукописи к печати я с удив
лением стал замечать тематическое единство столь раз
нородных материалов. Все они так или иначе касаются
темы политического.
Мир сегодня фрагментарен, мозаичен, похож на раз
битое на мелкие осколки зеркало, которое уже невоз
можно восстановить, — утрачена коллективная воля
к поискам единого мирового образа. Совсем недавно
Хайдеггер пояснял нам, как устроена картина мира и ку
да движется европейская цивилизация. Сегодня мы не
нуждаемся в таких пояснениях. Знание крайне специа
лизировалось, добывать его стало намного труднее, оно
перестало быть доступным, теперь оно принадлежит
группам влияния, доминирующим в политике, эконо
мике, истории и других науках гуманитарного комплек
са. Другими словами, знание обрело свой политический
смысл. Изменилось и наше отношение к политике и по
литическому. Сегодня их следует различать. Если тер
мин «политика» принадлежит традиционному словарю
политических наук и отсылает нас к автохтонным пред
ставлениям о власти, так называемой транс- или геопо
литике партий, институтов, вождей-автократов, групп,
то политическое — это личностное знание (М.Полани),
не переводимое ни в групповую, ни в какую-либо дру
гую коллективную собственность. С непонятным бес
покойством изучаешь размышления К. Шмитта о по
литическом: «Ядро, сущность политического — не про
сто вражда, но различение друга и врага, политическое
предполагает их обоих—друга и врага»1. Понятно, что
этот теоретик пришел к нам из мира тотальной войны
Н
* Шмитт К. Теория партизана. М.: Праксис, 2007. С. 138-139.
7
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
всех против всех, из мира Холокоста и ГУЛАГа, из ми
ра первой волны денацификации Германии. Непонятно
восхищение примитивной геологикой сочинений
Шмитта, неизвестно откуда взявшееся у нашей обра
зованной публики. Пускай это будет на совести право
консервативной установки. Замечу, правда, что там, где
политическое огосударствляется и прекращается по
ступление критически осмысленного знания в общест
во, начинается быстрая моральная и интеллектуальная
деградация его институтов. Достаточно долго я изу
чаю то, что можно назвать системами личностного зна
ния (С. Эйзенштейна и М.Фуко, М. Пруста и Ф. Кафки,
Г. Щедровицкого и М. Мамардашвили, А. Солженицына
и В. Шаламова). И все больше убеждаюсь, насколько
знание, которое в них реализовалось, не было востре
бовано геополитическими идеологиями, оказалось ис
торически избыточным, политически маргинальным.
Однако по мере осваивания свободы (обретенной рос
сийским обществом по случаю в начале 90-х гг.) воз
растает ценность политического. Политическое — это
сингулярное, не регулярное, индивидуальное, не кол
лективное, избыточное, не достаточное; оно принадле
жит свободно изменяющемуся сообществу, отдельным
его акторам, не связанным между собой едиными целя
ми, идеологией, волей к власти. Такое мерцающее сооб
щество «вовлеченных» нельзя уподобить ни анархист
ским «группам-в-слиянии» (Ж.-П. Сартра), ни «шизо
субъектам» (Ж. Делеза и Ф. Гваттари), намеревающимся
вступить в борьбу за власть. Это сообщество не суще
ствует компактно в реальном пространственно-вре
менном и культурном локусе, оно виртуально, по
стоянно меняется, скапливается вокруг возникаю
щего очага личностного знания. Отсюда и стратегия
политического как особенной, возможно, даже уни
кальной, т. е. личностной, формы знания2. Философии
нет как единого поля сил, как общей мастерской, есть
2 Политика ныне понимается как «множество», а не как
«многое и единое». См., например, энергично обсуждаемые
8
П редисловие
лишь философия «великих голов». Другими слова
ми, она рождается скорее через глубоко личностную
доксу, мнение; философия — это здравый смысл, вы
вернутый наизнанку. В самом начале творческого пу
ти С. Эйзенштейн видит свою политическую позицию
в согласии с революционной идеологией русского аван
гарда. Все меняется, когда в самые мрачные годы ста
линского правления он, по заказу правительства, пы
тается создать фильм, прославляющий средневековую
диктатуру («Иван Грозный»). Первая серия принима
ется Сталиным. Однако затем его подводит собствен
ное политическое, которое он пытался отстоять в по
следующих сериях фильма (2-3). Нечто схожее мож
но найти в судьбе двух наиболее влиятельных русских
философов 70-80 гг.: Щедровицкого и Мамардашвили.
Один — представитель политики «русского авангарда»,
другой — «модерна»; один готов передать свое поли
тическое на службу государственной идеологии и по
литики; другой уходит в отказ и с годами лишь усили
вает экзистенциальный аспект своего философство
вания. Ни тот ни другой не рассматривали советскую
политическую систему как необходимое условие своих
философских установок: они никогда не были слугами
режима. Не менее яркий пример — творчество Фуко,
который дал развернутый анализ позиции интеллектуала-специалиста, понимая под ней прежде всего по
литику знания. Исследуя феномен власти предельно
широко, он ввел понятие «властных технологий», или
«микрофизики власти», поставив под сомнение рацио
нальность политических институтов западного обще
ства. Чтобы сделать аргументацию более убедительной,
ему понадобилась систематически разработать целую
концепцию истории: археологию знания. То лучшее,
что могла сделать власть и сделала, не было ею осозна
но. Фуко полагает, что власть, которую он исследует,
темы политики мысли в работах П. Бурдье, А. Бадью, Ф. Ла
ку-Лабарта и др.
9
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
не подавляла или разделяла знание, а производила его
и распределяла в инфраструктурах западного общест
ва на протяжении почти трех веков. Так «большая» по
литическая власть у него превратилась из демиурга ре
ального в пациента психоанализа.
В других материалах сборника исследуется то же от
ношение: политическое или установка на личностное
знание противопоставляется разным видам политиче
ского господства, правда, это не значит, что «противо
поставление» всегда было успешным, важно, что оно
было (например, тема «Суда» и «Закона» у Ф. Кафки).
Хочу выразить мою искреннюю благодарность Ва
лерию Анашвили за предложение реализовать настоя
щий проект, а также Людмиле Кульчицкой, оказавшей
помощь в подготовке рукописи к печати.
Москва, декабрь 2009 г.
I. После ГУЛАГа
ПОЛИТИКА ФИЛОСОФИИ. НОВЫЕ вызовы
Ч
то такое политика философии? Политика филосо
ф ии— это свободное действие субъекта, осуществ
ляющего критическую функцию в обществе на основе
профессиональной компетенции. Философия сегодня
должна не столько «доказывать или указывать на исти
ну, сколько быть политикой истины. У философии нет
собственного опытного знания (кроме „опыта“ мыслить
понятиями), ее главная цель — критически перерабаты
вать иной опыт, служить ему осмысляющей, структур
ной основой. Вот здесь, на переходе между иным опыт
ным знанием и мыслью, возникает то место, которое
сможет занять политика философии. Для философии
политическое — это не благоприобретенное искусство
возможного, а способ выжить в современной мировой
культуре философии как особому виду „знания“».
В рамках западноевропейского самосознания смысл
политического вполне установился. Необходимость
политического для европейской мысли формирова
лась в течение последних трех-четырех столетий. На
чиная с 70-х гг. по настоящее время европейская фи
лософская мысль постепенно осознает возможности
политического действия. Современные западные фи
лософы (не только постпостмодернистской ориента
ции) так или иначе вовлечены в мировой политиче
ский процесс, где политическое постоянно обсужда
ется в связи с новыми сокрушительными вызовами,
на которые современная мысль вынуждена отвечать.
Конечно, если мы полагаем, что находимся в универ
сальном культурном пространстве европейского чело
вечества (а это так и есть), то мы можем рассуждать
о политическом в тех же терминах и с тех же позиций,
как и наши западные коллеги. Однако как только мы
И
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
становимся внимательны к тому месту, которое зани
мает отечественная культура в новейшей истории, мы
сразу же замечаем особенности нашего националь
ного пути. И это сильно озадачивает. Западная Евро
па и Россия: две истории и одно пространство духов
ной работы. В прошедшее десятилетие резко меняются
общие контексты мысли и основания, исчезает шкала
сравнения, отчасти и взаимопонимание, возникает пу
таница в понятиях и представлениях. Некое отчужде
ние и утрата взаимного интереса, хотя момент истины
для новых отношений к Западу приходится уже на ко
нец 1980-х — начало 1990-х гг., время постперестроеч
ной ясности в наших отношениях с левыми кругами
западной интеллигенции (кстати, остающейся наибо
лее близкой по идеалам и исследовательским задачам).
Расскажу следующий эпизод. Весной 1990 г. состоя
лась международная конференция в Дубровнике (пря
мо перед самым началом войны в Югославии)1. Мной
упомянутый момент истины наступил в первый же
день. Доклад М. Мамардашвили и его обсуждение за
вершились скандальным конфликтом. Не спором,
не дискуссией, не тем более диалогом, а именно кон
фликтом. Что же произошло? Я не буду останавливать
ся на случайных причинах, подтолкнувших выступив
ших к непримиримому противоборству (может быть,
сыграли свою роль «сексизм» и несколько поучающая
манера М. М. дискутировать). В сущности, это был
конфликт между западным и восточным марксизмом
по идейно-политическим соображениям. Естественно,1
1 Я был тогда сокоординатором конференции, организо
ванной С. Бак-Морс, известным исследователем Франк
фуртской школы, энергичным и целеустремленным пр о
фессором политических наук Корнельского университета
(СШ А). Прекрасно проведенные две недели в предвоен
ном старом Дубровнике. Представительная конференция:
С. Бак-Морс, Ф. Джеймисон, С.Ж ижек, Б. Гройс, И.Дичев,
В.Тодоров, М .Рыклин, Е. Петровская (я упоминаю здесь
только наиболее активных участников конференции).
12
I. П о с л е Г У Л А Г а
не между марксистом-ленинцем М. М. (кем он никогда
не был, а, где возможно, всегда противостоял идеологии
советского режима) и «левым» постмарксизмом С. БакМорс и Ф. Джеймисона. Напротив, М. М. рассматривал
себя не как марксиста или постмарксиста, а скорее как
гражданина мира (его можно было назвать марксист
ски образованным, но уж никак не марксистом). Он
был «правым» для его «левых» западных оппонентов.
И вероятно, хотел бы, чтобы коллеги на Западе вос
принимали его именно так. То, чего он не учел, да и как,
собственно, можно было учесть все те изменения в ин
теллектуальной и политической атмосфере, которые
произошли в 70-80-х гг. на Западе (если ты «невы
ездной»). Революционное «левое» движение потерпе
ло поражение («красные бригады», акционизм, тер
рор, заложничество и пр.). Переход от догматической
марксистско-ленинской модели к постмарксистской
критике современного капитализма и далее к «революционно-акционистской». Новая стадия в развитии «ле
вого западного марксизма» отличается умеренностью
и согласием с правилами игры постиндустриального
общества (теоретическая поддержка политик этниче
ских и сексуальных меньшинств, гендерная критика,
political correctness, афроамериканские исследования,
«ориентализм» и мультикультурализм и т.п.). К сере
дине 80-х гг. левая критика в Америке стала полностью
имманентна системе, своему собственному объекту
критики. Левый американский интеллектуал 80-х гг. —
это успешно делающий буржуазную карьеру профессор
престижного университета. Совершенно поменялись
и персонажно-идеологические маски, тенденции, на
правления исследований, тон, акценты, преференции
и объекты... Но что мы знали об этом в начале 90-х...
Да и что знал об этом М. М., если он даже Фуко или Делеза оценивал лишь с точки зрения начала 60-х гг., из
меряя их вклад в философию работами того времени.
Поль Валери и Ж.-П. Сартр были М.М. намного бли
же, чем его французские одногодки, влиятельные левые
13
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
французские интеллектуалы «постструктуралистского»
направления. Перестройка — время начала распада со
ветской империи — принесла «восточному» марксисту
много новых иллюзий и надежд. Одна из иллюзий —
вера в то, что нормальное, рождающееся на основе за
падных ценностей и морали гражданское общество
не только возможно, но и неизбежно. (Правда, в со
ветской культуре ни тогда, ни позднее таких ценно
стей не оказалось.) Если и возможна критика власти,
«догматической» философии и тоталитаризма, то она
должна вестись с позиций этого будущего нормаль
ного гражданского общества. Под таким «натураль
ным» по полноте гражданских прав обществом имелась
в виду современная капиталистическая система. В от
вет М. М. его оппоненты указывали на то, что совре
менное западное общество не только не совершенно,
но и не может служить моделью «естественно-гумани
стического» развития современного общества. С точки
зрения М.М., «левая» мысль всегда страдала из-за не
определенности объекта критики, в сущности, он отри
цал политический смысл имманентной критики капи
тализма и тем самым радикальность «негативной» уто
пии (на что опирались Бак-Морс и Джеймисон).
Укажу на некоторые пункты недоверия восточного
марксиста к западному:1
1) моральное недоверие к «западному» марксисту:
мы боролись, страдали, гибли за идею, в то вре
мя как вы уже тогда принадлежали к буржуаз
ному истеблишменту, владели собственностью,
имели признание, аудиторию, учеников, и не от
казывали себе ни в чем. Ваш потребительский
марксизм — лишь способ более эффективного
продвижения по карьерной лестнице. Для вас
это игра в марксизм, для нас же недогматиче
ский марксизм — «марксизм как наука» А. А. Зи
новьев, Э. В. Ильенков, Г. П.Щ едровицкий, «гу
манный марксизм» Г. Батищев, «гегелевско-эк14
I. П о с л е Г У Л А Г а
зистенциальный марксизм» М. Мамардашвили
всегда был решающим жизненным выбором,
а не игрой;
2) интеллектуальное недоверие: вы превращаете
философский опыт черт знает во что; вы поли
тизируете истину, преподносите ее как общест
венно доступную, и даже ваша критика совре
менного капитализма не служит ни чему иному,
как только превращению философского знания
в товар, в разменную монету популярных «идей»
массмедийного комплекса. Ведь все наиболее ус
пешные карьеры в области философии послед
них десятилетий (имелись в виду карьеры наи
более модных философских фигур от Ж. Деррида
и М.Фуко к Ж. Делезу, Ж. Лакану и др.) — не ре
зультат обращенности к истине, не особый та
лант, а скорее удачное вложение символического
капитала («знания») в проект, получивший зара
нее гарантии общественного признания;
3) эстетическое {эротическое) недоверие к Западу—
это прежде всего отвергнутая любовь. Мы столь
ко сделали для того, чтобы европейские ценно
сти были инкорпорированы в интеллектуаль
ную среду советского режима. И вот теперь вы
не признаете ни нас, ни наши идеи. Да что там го
ворить: разве отечественная философская куль
тура, хотя бы то видимое богатство традиции,
в чем-то повлияла на Европу или была освое
на западными мыслителями. Конечно нет, ведь
слишком «особая», слишком «оригинальная»
(читай, слишком иррациональная) русско-совет
ская философия никак не могла заинтересовать
европейского интеллектуала (да к тому же рус
ский язык кажется чуть ли не китайским). Запад
пренебрег своими приемными детьми... и глубо
ко разочаровал «восточных» марксистов. И бы
ло за что. Однако есть и плюсы. Разочарование
сменилось более ясным пониманием противо
15
В алерий П одор ог а . А пология
политического
борства и равенства культур мысли в границах
современной Европы. Не следует умалять значе
ния того негативного опыта мысли, той страш
ной силы отрицания, которой наделила отечест
венную традицию мысли наша собственная Ис
тория. Но также не следует забывать, что всякий
отказ от объективного и внимательного анализа
старой духовной «травмы» не приведет ни к че
му хорошему. Не избавит от стыда и боли. Не на
берет ли снова силу то фатальное отрицание на
стоящего, тот старый нигилизм, колеблющийся
на грани самоуничижения, юродивости и жутко
го раболепия? Именно он превращает «надмен
ный и сытый» Запад в вечного врага.
Если окинуть быстрым взглядом время отечественной
истории с конца XIX с переходом в XX I в., то мы смо
жем выделить по крайней мере три периода: первый —
это начало институционализации и культурного при
знания в России философии (1890-1923), его отражение
в поэзии, литературе и искусстве, русском религиозно
философском ренессансе; второй — уже после 1917 г.—
первые итоги в формировании основ «диамата» и за
вершение цикла с конца 1920-х до середины 1980-х гг.
Время становления марксистско-ленинской идеологии
до ее постепенного разложения еще до распада тота
литарного государства (1924-1985); и, наконец, третий
период — переходно-восстановительно-завершающий.
Начало радикального пересмотра философско-куль
турного и идейного наследия пред-и-постреволюционной эпохи (1986-1993,1994-2000 и по настоящее вре
мя)2. Третий период—это поиски выхода из сложного,
2 Конечно, мы устанавливаем границы в последнем перио
де только с точки зрения тех возможностей, какими мы
располагаем, когда пытаемся критически осмыслить Ис
торию. Осмыслить через то молчание, которое, например,
долгое время окружало ГУЛАГ: свидетели, «будто лишив-
i6
I. П о с л е Г У Л А Г а
драматического (но часто трагикомического) событий
ного пространства, каким являлось посттоталитарное
советское общество. Можно разбить последний пери
од на три временных отрезка: первый, 1986-1993 г„ за
вершается грубейшим нарушением основного закона
(Конституции) — «расстрелом» Белого дома... Конец
либерально-романтических ожиданий, за ним следу
ет резкое, и даже слишком быстрое впадение общест
ва в апатию, неверие, нарастают ощущение бессилия
и униженности, утрата надежд на быстрое и качест
венное улучшение жизни. Самый депрессивный пери
од—1994-2000 гг. И только следующий за ним отрезок
времени (от 2000 г. по настоящее время) приносит дол
гожданную, хотя и относительную стабилизацию. «Бу
дущего» по-прежнему нет, но появляются некоторые
признаки улучшения жизни (власть тут же и бесстыд
но переносит это на свой счет). За эту стабилизацию
общество продолжает платить высокую цену расслое
нием и неравенством. Продолжается захват важных
позиций в массмедиа, усиление «вертикали власти»,
намечается путь к политической автократии — все это
сопровождается невероятным размахом «системной
коррупции» (на самом деле нет никакой коррупции,
а это всего лишь принятие решений в псевдокапиталистическом стиле, через систему сделок («откатов»).
Как только власть перестала быть идейным и поли
тическим оппонентом, система прежних ценностей
и профессиональных установок распалась с порази
тельной быстротой. И вместе с ней вся многоступен
чатая советская филЪсофско-идеологическая культура.
Теперь каждый гуманитарий предоставлен самому сешись речи на островах Архипелага... хранили молчание»
(Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Опыт худож ествен
ного исследования. Т.1-2. М.: Книга, 1990. С. 8 -9 ). Истин
ный смысл паузы — не столько прерываниеу сколько невоз
можность действия, невозможность чему-либо в этот па
узный промежуток произойти.
17
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
6е, он стал свободен настолько, что ему даже решили
не платить за труд (ведь это тоже ограничивает свобо
ду). Философия получает свободу, к которой оказалась
не готова, и она защищается от этой свободы уходом
в специализацию. Потребность в философском зна
нии, если и возрастает, то только в «ангажированной»
форме. Гуманитарное знание еще не способно осознать
свою политическую миссию, я бы даже сказал, что оно
лишено «воли к власти». И до тех пор, пока прислужи
вает новой чиновничьей бизнес-корпорации, поли
тикам и отдельным «властным» группировкам, ждет
от них признания и подаяний, оно будет ограничено
все той же вспомогательной функцией.
Если в двух первых периодах мы способны зафикси
ровать границы философской работы, то в последнем
уже с трудом. Несомненна лишь одна задача: филосо
фия должна послужить методологической основой для
глобальной «переоценки всех ценностей». Это пере
оценка касается как новых, так и традиционно приня
тых культурных комплексов идей, «традиций», линий
«преемственности», эффективности «новых» и «ста
рых» методов, методик и техник аналитической ра
боты. Но как эта «переоценка» возможна, если до сих
пор не сделано даже попытки исследовать «советский
период» в отечественной истории культуры? Мы при
знаем наличие культурного разрыва, почти 70-летне
го выпадения из мировой истории, но не анализиру
ем все его последствия. И виной тому наше беспамят
ство, ставшее дурной привычкой, как известно, всегда
бывшее благом для рабского сознания. Это чудовищ
ный временной лаг, этот «разрыв», я бы назвал тотали
тарной паузой3. Пауза —термин, имеющий определен
3 Словечко тоталитарное нуж но понимать как смысло
вое содержание самой паузы: если эта пауза тоталитар
ная, то именно с ее помощью удерживается нужный р е
жим умолчания о том, что происходит, и ему не стать со
бытием политическим.
18
I. П о с л е Г У Л А Г а
ное значение в поэзии и музыке, выбран не случайно.
Под паузой понимается именно прерывание того, что
имеет непрерывный характер (время, ритмы и разно
го рода длительности и повторы, из которых и скла
дывается любое живое движение и развитие). Пауза —
это не интервал и не пропуск, а полное отсутствие че
го бы то ни было: не просто ничего не происходит,
а ничего нет (из того, что могло бы происходить). Ис
тинный смысл паузы —не столько прерывание, сколь
ко невозможность действия, невозможность чему-ли
бо в этот паузный промежуток случиться. Пауза —это
обрыв речи, обещающий возобновление (хотя это не
обязательно), но который ничего не значит сам по се
бе. Паузой руководят и составляют «паузники», позво
ляющие придавать письменному тексту те или иные
телесно-речевые очертания. Другое дело, когда мы го
ворим о «затянувшейся паузе» и переходим к обсуж
дению вдруг наступившей, «пронзительной тишины».
Но пауза все-таки не элемент тишины (как субстан
ции), это значит в нашем случае, что в тоталитарной
паузе не было того времени, которое мы назвали еди
ным, или мировым, и по отношению к нему мы и го
ворим о «т.п.», по отношению же к собственной исто
рии как включенной в мировую, — здесь тоже нечего
добавить. Однако в границах отмеченного нами отрез
ка времени (1917-1985), куда мы и помещаем «паузу»,
складывается своя революционная идеология мирово
го времени, постепенно обрастающая всеми признака
ми тоталитарного мифа. Конечно, она успешно устра
няется внутренней гармонией мыслящего, его личным
усилием, кстати, хорошо понимающего, что и родная,
и общеевропейская культура содополнительны. Од
нако содополнительны через разрыв, или, если ска
зать несколько иначе: взаимное непонимание культур
часто стимулирует мысль, обращает ее на поиски но
вых условий понимания. Этот разрыв между событий
ным временем европейского человечества и временем
отечественной культуры неустраним даже тогда, когда
19
В алерий П о до р о г а . А пология
политического
он, казалось, сглаживается и более не ощущается столь
трагически4. Часто этот разрыв осознается как запаз
дывание и даже как отставание отечественной куль
туры почти во всех областях гуманитарного знания.
На самом деле это лишь то время, которым распола
гает культура, пытающаяся осмыслить свои цели в ис
тории. Другого времени нет.
Пожалуй, тут надо дать необходимые пояснения.
Набросаем схему двух времен.
Время М (Мировое) +
1890
1924 *
I
+*I4
I 1985
I
2007
-------------------------►- у «Тоталитарная 4 —*------------------------пауза»
Время Л (Локальное)
На схеме единое время обозначено как время М (ми
ровое), оно обладает полнотой событийности просто
потому, что никто не в силах его остановить, оно де
лится на эпохи, периоды, продолжает все изменять.
Время Л (локальное) следует понимать как время на
циональной истории, включенной в единое, мировое,
время, но для нас предстающее как исключенное или
всякий раз исключаемое, как только мы пытаемся его
понять из «тоталитарной паузы». Но как, собственно,
разместить эту паузу, если она открывает другое время
истории, пускай неполной, догматически извращен
ной, но представленной так, чтобы противостоять «ис
тине» любой другой истории, если она, конечно, не яв4 Мы должны попытаться понять И сторию не с точки
зрения ре-спекции , респективного взгляда, который в оз
можен на основе следования за логикой исторических
фактов , убеж даю щ их и оправдывающ их, а с про-спективной точки зрения: оцениваем, судим прошлое, отка
зываемся от него, вытесняем и стараемся забыть, стира
ем ради будущ его — оно, прошлое, не долж но повторить
ся. Выдержать шок Прошлого, не давая ему вторгнуться
в Будущее.
20
I. П о с л е Г У Л А Г а
ляется частью ее собственного повествования. Полу
чается, что «тоталитарная пауза» представляет собой
нечто вроде воронки времени, это время не застыло,
оно колеблется, движется вокруг своей оси, то убыст
ряясь, то замедляясь и все время опускаясь в глубь то
го ничто, что так манит, соблазняет, в конечном сче
те втягивает в себя любое другое историческое время.
Поэтому время, что «течет» внутри «тоталитарной
паузы», не сможет войти в состав времени М, ибо оно
больше, чем то, мировое, ибо претендует на целую веч
ность; оно созидает миф, т.е. мифогенно (коммуни
стический миф или нацистский, например, «тысяче
летний Рейх»). В «тоталитарной паузе» время опре
деляется на основе тоталитарного господства (это
как бы Птолемеева система абсолютной власти): ни
чего не происходит, ибо все уже произошло. Тут кон
троль над временем мыслится событийно. Кто контро
лирует события, тот контролирует время! Собственно,
полный контроль и есть акт тоталитарной воли, управ
ляющей движением событий. Мне представляется, что
таким остовом для внутреннего времени тоталитарной
системы был ГУЛАГ (в нем выражена идея полностью
управляемого времени, из которого исключено вре
мя экзистенциальное, «жизненное»; можно лишь вы
живать)... Такое время всегда против единого време
ни, мирового, оно ему поперечно и разрывает его так,
чтобы то не смогло хоть как-то влиять на его осевую
«вечную» динамику. Хотя Освенцим и ГУЛАГ стали ми
ровыми символами страдания и боли, непостижимой
силы Зла, они все же резко расходятся по основным
характеристикам. Тем не менее оба они, как ни стран
но, привержены слепой, почти варварской вере в тех
нический прогресс.
Отечественная философия в том виде, в каком она
сформировалась в советское время, была протестна
и аполитична; политика представлялась ей как лож
ная практика, от нее нужно всеми силами уклоняться,
чтобы сохранить верность знанию и надежду на иные
21
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
возможности. Другими словами, философия на выхо
де из «тоталитарной паузы» (а это последние 20 лет)
никогда не сталкивалась с первичностью опыта. Это
и есть самый решительный вызов, какой время бро
сает догматическому миросозерцанию и привычке
к «уклонению», культу «чистого знания», в чем дол
гое время пряталась живая мысль, не смея высунуть
ся. Привычка — вторая натура. Философия оказалась
не готовой взять на себя ответственность за «знание»,
полученное в радикально новой ситуации. Более того,
попыталась отказаться от «нового опыта», не заметить
его. Философствование стало практикой мысли, цир
кулирующей в достаточно узком слое интеллигенции,
чьи лидеры высокомерно сторонились всего полити
ческого, находясь в глубокой зависимости от травми
рующих догм марксизма-ленинизма.
Философский опыт, тот специализированный, рас
щепленный, хаотичный, фрагментированный опыт,
с которым мы сегодня имеем дело, не связывается
в единство или систему идей, его не удается ни завер
шить, ни наделить логически выверенным понятий
ным строем. В отечественной культуре, как, впрочем,
и в европейской, не найти сегодня проектов интег
ративных метафизик (разве только по безрассудству
и некой странной прихоти ума). Если, например, в пе
риод формирования феноменологической или пси
хоаналитических школ, когда еще действовали шко
лообразующие факторы, вопрос о выборе политики
мысли не стоял, важно было только принадлежать
и следовать; выбор свершался за нас, самим методом,
который вел к общей картине мира и, следовательно,
к метафизическим основаниям бытия. Ныне, с ухо
дом последних великих, ослабло влияние постструк
туралистской парадигмы, складывается другой взгляд
на политическое, теперь именно благодаря ему мысль
наделяется значением и общественной ценностью.
Не то чтобы философия закончила «земное» сущест
вование, завершилась, «пришла к концу», нет конеч
22
I. П о с л е Г У Л А Г а
но! Однако стало трудно установить отношение меж
ду актом мысли, самым элементарным и достаточно
спонтанным, философским инструментарием, кото
рым можно или необходимо воспользоваться (а может
быть, и отбросить в сторону), и тем политическим вы
бором:, который нужно совершить, чтобы укрепить эту
свободу мыслить. Свобода выбора дает возможность
стать (сформироваться) политике мысли, осуществ
ляющей на прагматических основаниях критику «ра
циональной» или «логоцентристской» философской
традиции (мысль освобождается от философии, ведь
она находит свое выражение не в одной лишь фило
софии, скорее она являет собою активную ткань жиз
ни в целом, благодаря которой становятся возмож
ными передача, усвоение и распространение образ
цов человеческого опыта). Мыслить сегодня — значит
мыслить не за, а против философии (если определять
всякий наличный «язык» философии как ограничи
вающий и затрудняющий политику мысли). Понят
но, что философия в том виде, в каком она до сих пор
существует, как пропедевтика и назидание, как ар
хив и собрание образцов, как академическая чиновная
иерархия или университетский административный
механизм, вовсе не способствует появлению мысли,
которая могла бы принудить философию к активной
реакции на изменяющуюся современную ситуацию.
Всякая новая ситуация все дальше разводит мысль
и философию, чтобы позднее, как мне представляет
ся, столкнуть их снова и, может быть, спасти. Новое
качество свободы мысли: философия (как специаль
ный лингвистический ярлык) отменяется или уже от
менена, т. е. не сама философия и философствование,
а способы доведения философией собственного со
держания до понимания других — до общества, кото
рое требует от философии подсказки в выборе поли
тической стратегии, предсказаний и других магиче
ских действий. Политическое оказалось ближе мысли,
чем философии. Политика философии как знак свобо
23
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
ды выбора, которой добилась мысль для себя (причем,
повторяю, свободы от философии).
Перечислим некоторые из аргументов в защиту по
литики мысли. Во-первых, я свободен в выборе фи
лософского метода и тем самым свободен от покор
ного следования какому-либо навязываемому методу
(из тех, кто претендует на универсальную значимость
производимого знания). Естественно, это предпола
гает наличие ряда конкурирующих между собой ме
тодов, что и позволяет совершить выбор; отдельный
метод хотя и продолжает претендовать на создание
«истинной» картины мира, остается дополнительным
по отношению к конкуренту. В образцах классической
философской традиции (например, Р. Декарт) форми
рование метода и методических условий мысли было
первоначальным философским актом, позволявшим
затем перейти к представлению картины мира в це
лом, а «вторым шагом» опять вернуться к субъекту,
его помыслившему. Каждая новая философская систе
ма ориентировалась на предшествующую и выступала
не как ее разрушение, а как уточняющее продолжение
(см., например, высказывания Б. Спинозы и Г. Лейбни
ца о системе Декарта). Видны границы, очерчивающие
поля применимости отдельных методов, возможности
их экспансии в «борьбе за истину» (феноменологиче
ский, экзистенциально-феноменологический, герме
невтический, аналитико-лингвистический, семиоти
ческий, психоаналитический и др.). Причем их «спор»,
как мне кажется, сходит на нет, поскольку объявлено
право на свободное использование любых методов.
Все их «истины» открыты. Можно сказать, что, напри
мер, мысли М.Фуко, Ж. Деррида, Ж.Делеза и Ф.Гваттари принадлежат одной традиции, которую можно
определить как «онтологию различия», хотя их ме
тоды — «археология знания», «деконструкция», «ши
зоанализ» — резко отличаются друг от друга по обла
стям приложения. Да и сами имена их говорят о той
политике, которую избрали, отказавшись от «точного»
24
I. П о с л е Г У Л А Г а
следования догме старого метода. Такая политика фи
лософии и есть политика свободы выбора.
Во-вторых, традиционная «догматическая» филосо
фия завершила свое существование, новая философия
не служит ни «методу», ни «онтологии»; она исходит
из превосходства объекта и осуществляет политику
понимания на свой страх и риск, справедливо пола
гая, что никакого метода не будет достаточно, чтобы
решительным образом овладеть объектом и снова вер
нуть субъекту право на абсолютное господство. Если
концепция Делеза и Гваттари возвращает нас чуть ли
не к схоластическим, виртуальным онтологиям под
видом авангардных, «продвинутых» опытов мысли,
то «деконструкция» Деррида продолжает традиции
разоблачения языка западноевропейского Просвеще
ния, истинный смысл которого надо восстановить,
чтобы понять, как возможна политика мысли сего
дня, в эпоху постмодернизма. Как научиться не поль
зоваться наличным философским языком, постоянно
воссоздающим миф о собственной нерукотворности,
«первичности» и «избранности». Нет больше идей, ка
сающихся разработки «единственно верного» метода,
а сегодняшний интерес к онтологической проблема
тике вырождается в фэнтези, конспирэси и виртуалы
(К. Кастанеда, Ж. Делез, Ф. Гваттари). А ведь еще недав
но подобные провокации блокировались принципом
«негативной утопии» (Э. Блох, В. Беньямин, Т. В. Адор
но). Онтологическая рамка мира сегодня — исключи
тельно игра виртуальных стихий. Политика каждой
такой специальной’философии подчиняется собствен
ным возможностям систематизации опыта.
И в-третьих, полным ходом идет приспособление
изобретаемого «метода» к политике мысли. Если ра
нее философия казалась самой медленной из гумани
тарных наук (необходимость достаточного времени
для мысли), то сегодня философское высказывание
обладает исключительной, почти мгновенной реак
тивностью и, следовательно, быстротой высказыва
25
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
ния, которой она никогда не знала. Философия те
перь нечто вроде «скорой помощи». Философ — тот,
кто способен быстрее, чем другие члены интеллекту
ального сообщества, среагировать на изменяющую
ся ситуацию (но не потому, что имеет право говорить
«первым»... Философ более не назначает время и ме
сто встречи миру, это мир делает сам. Глобальные со
бытия касаются разом всех и каждого, возрастающая
плотность и сложность мировых связей настолько ве
лики, что мысль более не в силах создавать единые
картины мира на основе единственно верного выбора
инструмента познания (языка, специальных терминов
и категорий) — «совершенного» философского метода.
Поэтому задача философа, достаточно оснащенного
и готового изучать текущий ход событий, заключается
в быстроте передачи своей мысли интеллектуальному
сообществу, и его высказывание — не обязательно дол
гая речь, оно может быть свернуто в несколько фраз
или единственный жест и произнесено мгновенно. Фи
лософ бросает вызов самым быстрым...5
5 Часть философского ресурса современный «мыслительспринтер» размещает в массмедийном пространстве (И н
тернет, ТВ, журналы, газеты и др.). Его активность в ка
честве философствующего журналиста или массмедийного проповедника стала особенно заметна к концу 90-х гг.
Тот, кто мыслит сразу же и по любому запросу, кто поддер
живает уровень избранных, условия для «здравого смыс
ла». Но только массмедиа способны создать условия для
тотального обмена позициями, речами, «местами», роле
выми функциями, «индивидуальными» образами, авто
ритетом, известностью, славой и т. д. Различаться там, где
нет различий, говорить иное там, где говорят одно и то же
о разном, по сути, стать маргиналом. Вот почему быть бы
стрым— это не значит быть чемпионом по массмедиа, ско
рее благодаря превосходству «метода» быть быстрее собы
тий, заставить их, если, конечно, философская мысль сего
дня способна на это, повторяться. Превосходство метода
над просто мыслью в силе именования. Понятно, в массме
дийном пространстве другие законы, и тем не менее имен
но та мысль быстра, которая сопротивляется его диктату.
26
I. П о с л е Г У Л А Г а
В русско-советской культуре X I X -X X вв., когда фи
лософствование стало бессильным аполитичным на
выком, игрой ума, была еще традиция, упорствующая
в противостоянии господству высшей власти. Там пер
воначальный опыт, несмотря на всю его невероят
ную жестокость, глупость и бессмысленность, нахо
дил наиболее полное выражение в художественных
образах — это традиции литературы, причем не толь
ко самиздатской, но и всей запрещенной или забы
той литературой. Русская и советская литература бы
ла и осталась хранителем уникального первоначально
го опыта, который в границах различных нарративных
программ передавался от одного литературного исто
рического блока к другому. Причем опыт этот остает
ся равно полезен, даже когда кажется полностью не
гативным и «ненужным» (например, идеологическое
принуждение, террор, «трудовое рабство» в лагерях
Г У Л А Г а). Опыт, который сохраняла русская литера
тура X I X - X X вв., не мог быть эксплицирован в фи
лософских терминах, поскольку философия не была
удобным критическим инструментом, именно поэто
му на литературу возлагалась обязанность представ
лять целостную картину общества (или миросозерца
ние) и прежде всего критическую функцию. Да и сама
философия была частью «великой русской литерату
ры». Литературоцентристское общество, в котором
мы до сих пор еще пребываем, не знает философии,
не ищет ее, обходясь ценностями «прямой» переда
чи опыта, распределяя по беспрецедентному числу
больших и малых «нарративов. Представляя демонст
ративно народные «боль и страдание», на самом деле
заставляет служить их удовольствиям рынка. Я имею
в виду массмедийную пропаганду насилия, которая
освобождает от старой боли и позволяет незаметно
привыкнуть к новой, а потом и сдохнуть на глазах политтехнологов, агитаторов/пропагандистов ТВ. Тезис:
философия имеет доступ к опыту свидетельств боль
ше через литературу и искусство, чем через архив или
27
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
документы истории. Или благодаря собственному вопрошанию. Вопрос о достоверности опыта и доступа
к нему затрагивает меня, ищущего философский ответ
на вызов, который бросает непроясненность вопроса
о «мировом» значении ГУЛАГа. Литература постгулаговская несет в себе отрицательный опыт, который она
не столько усваивает и «понимает», сколько предъ
являет, передает и рассказывает, т. е. функциониру
ет как вид памяти, которая исторически востребова
на, но чья природа так до конца и не объяснена. По
чему эта память с максимальной точностью пытается
воспроизвести прошлое, но не в силах его объяснить,
и сколько бы ни повторялось прошлое, оно все равно
оттесняется в глубь бессознательного, как дурной сон,
сон-кошмар. И более того, его никто уже и не помнит.
Как пример: «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына
и «Колымские рассказы» В. Шаламова, — завершение
классической гуманистической ветви русской литера
туры. Много чего написано о том и другом писателе,
опубликована переписка Шаламова с Солженицыным,
есть много других материалов. При чтении «Колым
ских рассказов» (кстати, в отличие от «Архипелага
ГУЛАГа») вы сталкиваетесь с чудовищным и невозмож
ным по простоте описанием обыденной лагерной жиз
ни. Как жертва ГУЛАГа (Шаламов просидел в сталин
ских лагерях около 20 лет или больше, точно уже не
помню), он признавал в литературе высшую ценность
свидетельства. Стать свидетелем — вот путь бывше
го узника. Поэтому следует рассматривать литератур
ный опыт с точки зрения документа и абсолютного
свидетельства. Он даже предполагал, что никакой до
кумент, никакой архив, никакие материалы не могли
сравниться с тем, что мог бы сделать писатель в каче
стве свидетеля «истины». Писатель — тот, кто явля
ется, может быть, «наилучшим» свидетелем. Внутри
литературы складывались особые требования, на ос
новании которых стало возможно усвоение «негатив
ного» (лагерного) опыта. Литература готова передать
28
I. П о с л е Г У Л А Г а
обществу «свидетельское знание» об этом опыте, не
вообразимом по бесчеловечности и варварству, ко
торый все-таки должен быть как-то культурно осво
ен. В рабочих записях, комментариях к собственному
стилю и размышлениях о литературе «после ГУЛАГа»
Шаламов дает точные и меткие определения литерату
ры как документа и свидетельства. «Когда меня спра
шивают, что я пишу, я отвечаю: я не пишу воспоми
наний. Никаких воспоминаний в „Колымских расска
зах“ нет. Я не пишу и рассказов — вернее, стараюсь
написать не рассказ, а то, что было бы нелитературой. Не проза документа, а проза, выстраданная как
документ»6. Или еще в другом месте: «Каждый мой
рассказ — это абсолютная достоверность. Это досто
верность документа»7. Действительно, в «Колымских
рассказах» нет ничего собственно литературного, там
как будто нет ничего, кроме фатального стечения об
стоятельств. Нет ни политики, ни эстетики. В то вре
мя как «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына явно включен
в «большую политику». Политическое кредо — пред
ставить ГУЛАГ как исторический образ мирового Зла
(«коммунизма»), мало обнаружить, обличить, про
клясть, надо открыть возможность стать на путь Доб
ра. Создать горизонт для другой Великой политики.
У Шаламова же — только констатация некоего лагер
ного бытия, я бы сказал, обытовление ужаса существо
вания. Это совершенно аполитичный писатель. И свои
свидетельства он строил вне политического отноше
ния к лагерю. Мы можем как угодно это обсуждать,
но с точки зрения рсвоения опыта у нас есть, возмож
но, всего две определенные перспективы: одна пока
зывает нам, как литература становится некой отри
цательной реальностью, идиосинкразией террора, т. е.
первичной совершенно судорожной реакцией на бес
6 Шаламов В. Собрание сочинений. Т. 4. М.: Художествен
ная литература; Вагриус, 1998. С. 370.
7 Там же. С. 373.
29
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
прецедентное насилие, которое творилось в лагерях
ГУЛАГа. И снять старый ужас перед сталинским тер
рором можно лишь выдвижением новых позиций ли
тературы, способных выразить новое политическое
кредо (в 1990 г. Солженицын публикует «Как нам обу
строить Россию?»)8. А прямо напротив — Шаламов:
фатальный и отчужденный, объективированный в документе/свидетельстве опыт, который никак не связан
с политической стратегией. Более того, политическое
рассматривается им в качестве отрицания или иска
жения первоначального свидетельства9. Вот где лите
ратуры ГУЛАГа расходятся. Важно лишь указать, на
сколько далеко и как радикально? Ведь Шаламов все
гда внутри, он имманентен собственному лагерному
опыту, в то время как Солженицын пытается стать по
верх и над, чтобы включить ГУЛАГ в «огненное колесо»
российской истории и тем самым осмыслить его в тер
минах политического от литературы.
8 Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию? Посиль
ные соображ ения // Литературная газета. 1990. 18 сентяб
ря. №38.
9 Например, А. Бадью отличает литературу Шаламова и
Солженицына по критерию их приверженности и неприверженности «русскому национализму». Думаю, что можно
согласиться со следующим высказыванием: «Солженицын
явно не печется о правах человека и насмехается над парла
ментами. В средоточии его суждений располагается духов
ная Россия, страдания которой равнозначны искуплению
грехов всего человечества. Что движет его прозу и одушев
ляет ее эзотеризмом и масштабностью, так это христологическое призвание русского народа. Потребовалось рас
пятие Сталиным, чтобы именно Россия смогла возвестить
миру Зло материалистической идеологии. Тем самым Сол
женицын безусловно отвергает демократическое бессилие.
Борясь с богохульной тотальностью красного деспота, он
взывает к тотальности души Господа, к тотальности того
истинного, трансцендентность коего избрала Россию ра
ди скорбного наставления веку сему» (Бадью А. Можно ли
мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике. М.:
Логос, 2005. С. 26).
30
I. П о с л е Г У Л А Г а
Все творческое усилие Шаламова как раз распола
галось на уровне метафизической меры лагерного бы
тия. Никакое из лагерных событий не было незначи
тельным, ни одно из них не могло быть оспорено или
отвергнуто, пересмотрено, да и вообще устранено или
забыто. В лагере нет происшествий, поскольку всюду
хрупка жизнь перед смертью, все там последнее, все
там Ничто (его можно интерпретировать и как смерть,
и как событие). ГУЛАГ не устраним, его позитивность,
если о таковой можно вообще говорить, в том, что он —
та единственно возможная форма жизни для миллио
нов лагерников, и нет иной. Шаламов сосредотачива
ется или, лучше сказать, фиксируется на литературном
минимализме свидетельства. Причем минимализм сам
по себе и есть идеальное свидетельство, каковым мо
жет являться опыт негативный, если он точно пере
дан такими литературными средствами. Итак, лите
ратура используется в качестве средства (даже скорее
формы) для того опыта, о котором рассказывает свиде
тель. Поэтому литература как раз и есть наиболее эф
фективное средство достижения достоверности, при
сущей только документу (да и то не всякому, а «безуп
речному» по явленной истине). И это не просто опыт
пережитый, а опыт, приведенный к некоему идеально
му этическому состоянию жизни. Лагерный минима
лизм жизни позволяет видеть ближайшее, незаметное,
пустяшное с невероятной, почти гравюрной резкостью
деталей. Другими словами, Шаламов пытается понять
лагерь с точки зрения его метафизической трансцен
дентности, не как вероятное и случайное, а как необхо
димое и даже вечное бытие. Литература нужна для то
го, чтобы служить свидетельством пограничного опы
та (т. е. опыта, который нельзя пережить посредством
программ вытеснения в глубины исторической памяти
и превращения «события» в набор датировок)10.
10 Явное пересечение минимализма формы с эстетизмом.
Это касается прямо-таки бирсовской техники развертыва-
31
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
В ГУ Л А Ге страдание измерялось иначе, чем в Ос
венциме: там не было смерти en masse, по количест
ву и разности проявлений. Можно сказать, если там
и была смерть, то все-таки она была определена преж
де всего через голод и холод, две тесно взаимосвязан
ные между собой величины гулаговского опыта. Хо
тя решающее отличие между «лагерями» было скорее
в использовании дисциплинарных методов: во-пер
вых, Освенцим — место, где убивают именно и по пре
имуществу евреев; во-вторых и в силу первой при
чины, заключенные Освенцима обречены на уничто
жение; труд, голод и холод выступают в таком случае
как вторичные факторы, раз узник уже обречен на
смерть (этап первой выбраковки, затем газовая каме
ра, крематорий). Тем более что Шаламов, рассказывая
свои небольшие «истории», как бы еще раз указывает
на возможность относительной свободы выбора, ко
торой, конечно, никакой заключенный ни Освенци
ма, ни Дахау не обладал. Далее, дисциплинарное про
странство Освенцима было жестким, не допускающим
никаких исключений из правил, установленных адми
нистрацией лагеря. Большое количество заключенных
компактно размещались на достаточно ограничен
ной территории под пристальным взглядом капо (над
смотрщиков и охраны). Ничто не предполагало хоть
ния сюжета, к изучению которой Шаламов отнесся со всем
вниманием. Обычно рассказывается две истории, которые
представляют собой, в сущности, одну монтажно выстро
енную фразу. С одной стороны, время чувствующего и со
знающего лагерный мир сознания (авторского), а с другой —
тот , о ком идет рассказ, его овнешненность образа, чуж
дость, даже «вещность» и, наконец, третье, что их сводит
в рассказ, — это случайность (даже фатальность) вмеша
тельства внешних факторов. И эти измерения рассказа, как
можно догадаться, воспринимаются раздельно и вплоть
до того момента, когда две кривые вдруг пересекаются, как
замыкание в электрической цепи. План ожидаемых дей
ствий героев и обстоятельств их судьбы не соответствует
плану реальных событий, происходящих в лагере.
32
I. П о с л е Г У Л А Г а
какое-то отклонение от «законов», правил, лагеря (все
«отклонения» карались смертью), и ничто не предпо
лагало хоть что-нибудь близкое «человеческому со
участию». Более того, механизм тотальной дисципли
ны указывает на то, что лагерь в идеале должен был
быть истинной машиной уничтожения (если угодно,
фабрикой смерти, где бы новые идеи впервые прохо
дили проверку на «материале» в лабораторных экспе
риментах, а потом внедрялись в смертоносную прак
тику каждого дня). Об этой смертоносности лагерно
го пространства знал каждый заключенный. Там нет
и не может быть никакой свободной речи, нет ника
ких субъектов, которые бы заявляли о себе, говорили
от своего имени, имели бы имя. Безымянность и есть
глубокое молчание и немота, к которым приговоре
ны узники.
Свидетельство свидетельству рознь. Стоит обра
тить внимание на задачи, которые ставил А. И. Сол
женицын перед «Архипелагом ГУЛАГом». Во-первых,
был объявлен жанр: художественное расследование
(так он сам его определяет). Автор «Архипелага» ока
зывается не только следователем, ведущим расследо
вание, пытающимся собрать как можно более полное
досье на преступления сталинского режима, в конце
концов, установить истину, но еще и автором «анга
жированным», «крайне заинтересованным», посколь
ку сам «пострадавший». Что же это за преступления,
которая совершила группировка, пришедшая к власти
в 1917 г.? Как их квалифицировать: «преступления про
тив собственного народа», «государственные преступ
ления», «уголовные» или «политические»? А являют
ся ли они вообще преступлениями? Возможен ли суд
над палачами и насильниками, убийцами, если этими
палачами являются те, кто сам стал жертвой. Где, соб
ственно, палач, а где жертва? Почему их не удается от
делить друг от друга? А ведь эта смена жертвы на па
лача, а палача на жертву по продолжительности и силе
действия упразднила проблему «человеческого досто
33
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
инства», «стыда и позора», «ответственности и вины»
(возможно, навсегда). Важно различать ГУЛАГ и ста
линскую машину террора: первое — результат второ
го. Другими словами, машина террора со всеми ее пра
вилами, механизмами и «недостатками» действовала в
определенном направлении: перекодировала, замеща
ла и исключала. Индивид (личность), попадая в поле
ее действия, претерпевал ряд существенных измене
ний своего социального и человеческого статуса. Пе
рекодирование значит, что ты опознаешься по опре
деленной выборке оппозиций, например, свой — чу
жой, друг — враг и т. п. Получая отрицательный код,
ты уже замещен другим индивидом, который получа
ет положительный, для которого еще не пришло вре
мя новой перекодировки. Жертвы перекодирования —
все. Машина террора циркулярна, она функционирует
по принципу устранения «постоянных мест»; это по
хоже на игру в пятнашки: чтобы добиться результата,
нужно постоянно смещать фишки со своих мест преж
де, чем мы их правильно разместим. Так и в машине
террора — никто не должен чувствовать себя в без
опасности, и ни за кем не закреплено постоянное ме
сто. Вот почему палач, как и жертва, — это роли всех,
вовлеченных в действие машины террора. Нет непри
косновенной группы населения, ибо террор — это ма
шина расширяющегося насилия, а не избирательного.
И последний акт драмы — исключение. Перекодиро
ванный, уже замещенный, ты исключаешься из своих
гражданских и человеческих прав, ты как бы человекниктОу или, проще выражаясь, нелюдь. Только на этой
стадии процесс действия террористической машины
можно считать завершенным. Другой вопрос — како
во наказание: смерть или длительный срок в лагерях?
Собственно, все это относится к формально-юридиче
ской процедуре исключения, однако сам процесс де
персонализации окончен.
В последней части «Негативной диалектики» (1966)
Т. В. Адорно запрашивает современность: как мож34
I. П о с л е Г У Л А Г а
но писать стихи после Освенцима, если еще жить7.11
Не тщетно ли пытаться усилить позицию моральной
ответственности там, где она наиболее ослаблена, —
отвергнуть «исторический взгляд» на происшедшее.
Взгляд забвения. Но если какие-то события длятся,
но не происходят, то такие события нами не опозна
ются. Ничего больше не происходит, ведь все уже слу
чилось, потому что случилось совершенно недопусти
мое, невозможное, чудовищное. Это и есть время, что
располагается между до и после Освенцима — сущест
вовать еще можно, но жить уже нельзя. Есть ли вре
мя после, после этого «после», и возможно ли оно?
Переход из одного времени в другое невозможен,
ибо нет времени после. Ж.-Ф. Лиотар, один из тон
ких наблюдателей политик забвения, предполагает,
что выживание тех, кто пережил Освенцим возмож
но лишь благодаря особенностям открытого Фрейдом
бессознательного аффекта, шока, который состоялся,
но не был пережит, а только сокрыт. Но присутству
ет в настоящем, в любом «сейчас», придавая каждо
му из них дополнительное измерение, возможность
возврата непережитого. Забытое незабываемое — это
и есть измерение, куда погружается событие, кото
рое невозможно пережить. Но вот здесь нам, пожа
луй, не хватает трезвости взгляда на понятие собы
тия. Ведь если мы предполагаем, что все-таки собы
тие произошло, но на самом деле не происходит, т. е.
не произошло как особое событие, отменяющее все
другие. Фрейд действительно указывал на определен
ные виды аффектрв, которые отсылают к механиз
му Ur-verdrangung (первоначального вытеснения), он
знал, что это за механизм, —это механизм, вытесняю
щий все то, что отсылает к страху, первоначальному,
Ur-Angst, который не может быть пережит. Незабы-1
11 Адорно Т.В. Негативная диалектика. М.: Научный мир,
2003. С. 323; Adorno Т. W. Negative Dialektik. Suhrkampf: Fr.
Am /M eine, 1970. S.353.
35
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
ваемое вообще не имеет никакого отношения к забы
тому, оно не забывается, а вытесняется (забывает
ся только пережитое)12. Собственно, быть возвышен
ным — это пережить то, что как будто не может быть
пережито, но переживается, и тем самым приговоре
но к забытою высоким чувством. Конечно, интенсив
ность переживания разнится по глубине, силе и дли
тельности. Вот почему тот, кто выжил, необязательно
способен жить «после», он может быть и тем выжив
шим, который если не «мертв», то и не «жив», пускай,
даже его опустошенность и паралич воли скрыты.
Ничейная земля, по mans land, чью карту невозмож
но составить, вот где располагаются новые персона
жи истории, — живые мертвецы нацистских лагерей
смерти.
Парадокс выжившего в том, что он испытывает чув
ство возвышенного, становится возвышенным лишь
тогда, когда вытесняет травматическое переживание,
тем самым завершает событие повторным его пере
живанием, выходя из него. Или, напротив, и еще бо
лее радикально: то, что было, того не было. Раз я вы
жил, то нет и после. Многие узники нацистских кон
центрационных лагерей пытались восстановить свою
жизнь, исходя из того, что было до, стирая после как
свидетельство чудовищного провала в собственной
жизни. Из до/прежде/тогда (долагерной жизни) вы
страивалась старая идентичность, на которую и нуж
но было опереться, чтобы уничтожить это «после».
И это не просто вытеснение — это полный запрет, на
лагаемый на прошлое, которое переживалось как не
слыханная для индивида утрата человеческих качеств.
Выйти из «после» и закрепиться в «сейчас» на этом
обратном переходе — только так и может проявиться
чувство возвышенного. Эффект полной анестезии —
то, что Делез называет опустошением, которое он рас
сматривает как упразднение возможного (Бога, буду
12 Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб.: Axioma, 2001.
36
I. П о с л е Г У Л А Г а
щего, личного единства, Смысла и пр.)13. Канетти ви
дит тему выжившего в границах общих принципов
выживания в лагере14. Выживающий — человек власти,
можно сказать, что он тоже принадлежит миру возвы
шенного: его возвышает смерть врага. Выживающий —
тот, кто оказался на плечах мертвых. И не только из
бежал смерти, но и обрел дополнительное могущест
во. Но в любом случае выживающий — не выживший,
выживающий — это воля к власти, присущая челове
ческому вообще, выживший — это персонаж локаль
ного опыта катастрофы.
Не получается ли так, что поиски истинного свиде
теля — лишь повторение того, что представляется не
выразимым? Что весь гуманитарный пафос возвышен
ного: «Это непредставимо!» отдается эхом: «Поэтому
теперь все возможно!» Все может случиться, все еще
может произойти, ведь часть из того, чего не долж
но было произойти, уже произошло. Фигура залож
ника, мне кажется, в чем-то повторяет мусульманина
нацистских лагерей (Освенцима) и доходяг ГУ Л А Га15.
И тот, и другой должны стать вещью, «зомби», «ра
бами», знать, что их уже нет, что они после и никогда
в этих медленных, протекающих «сейчас» и «здесь»,
нельзя найти выход ни к тому, что прошло, ни к тому,
что произойдет. Заложники (как и все «исключенные»,
которых можно убивать) и есть мусульмане, всем чу
жие или исключенные, те, которых Дж. Агамбен на
звал homo sacer. Ведь все «безразличные» и «истощен
ные»— даже не зомби, они зоо, их существование све
дено или должно быть сведено постепенно к этому
13 Deleuze G. L’Epuise. S. Beckett. Quad et autres pieces pour la
television. R, 1992.
14 Канетти Э. Массы и власть / Пер. Л. Г. Нонина. М., 1997.
С. 245.
15 Франкпь В. Доктор и душа. СПб.: Ювента, 1997. С. 172-173;
Беттелъхейм Б. Пустая крепость. Детский аутизм и рож де
ние Я. М.: Академический проект — Традиция, 2004. С. 109.
37
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
состоянию через депривацию, непосильный труд, го
лод, холод и болезни. Такое же и не менее сильное дей
ствие может оказать страх пытки, побои, унижения,
постоянная угроза смертью. Неужели есть что-то ху
же, «сильнее», чем такая смерть? Выживание (в конц
лагере) есть худшее, время проявления высшего Зла.
И это выживание, если кто и выжил, не предполагает,
что тот, кто выжил, будет жить; есть что-то, после чего
нельзя выжить (а может быть, нельзя выживать), если
это допущено в качестве происшедшего, то как можно
после еще жить. Персонаж современности, имеющей
устойчивое место в драматургии сегодняшнего мгно
вения,— это всегда тот живой мертвый, тот заложник
или тот разорванный на части после террористиче
ской атаки. Тот, к кому мы не испытываем чувств, он
нам безразличен16.
Свидетельство состоит, по Шаламову, из «факта»
и «формы» (художественной), в которую ее необхо
димо облечь. Казалось бы, понятно, что форма и да
ет правду свидетельству, а именно факт должен соот
ветствовать той форме, в какой может быть достигнут
соответствующий эффект истины — достоверности
рассказанного. Но есть и другая проблема: драмати
16 Т. В. Адорно полагает, что две литературы в равной сте
пени пытались понять состояние мира перед и после Освен
цима: это литература Кафки и Беккета. Персонажи Беккета влачат «жалкое существование», они не живут, да они
и не персонажи, собственно (сначала воспринимаемые на
ми как литературные). Заунывные картины «серого, ней
трального» бытия, беспросветная и немая жизнь неких су
ществ, чьи неполноценность и ущербность (включая ф и
зическую) являются абсолютной нормой. Все это картины
выживших, «доходяги» XX в., не странники, не путеш е
ственники, поскольку не могут путешествовать, и не ка
кие-нибудь опытные мастера аскезы, их способность про
должать жить может даже восхищать. Правда, и у Беккета
есть некая литературность, закрытая отчаянием абсурда.
То, что не может быть, совершенно невероятное и непо
стижимое, непредставимое и потому только абсурдное за
нимает место реального «после Освенцима».
38
I. П о с л е Г У Л А Г а
зация (эстетизация) «факта» посредством формы, ко
торая делает свидетельство не вполне достоверным,
хотя и не отнимает некую правду жизни. В качест
ве свидетеля Шаламов лишен интереса к тому, поче
му все это происходит, и не пытается понять ниче
го из того, что случается в лагере. И не имеет никакой
потребности. Здесь не столько пораженчество, сколь
ко осваивание лагерной территории как территории
жизни, причем в каком-то смысле высшей жизни, «ис
ключительной», экстремальной. Все, что происходит
в лагере, для заключенного — судьба и, следователь
но, фатальная трансцендентность — только одна она
может возвысить узника над обстоятельствами лагер
ной жизни и дать надежду. В. Шаламов решил выжить
и не стать доходягой. Выживание в границах допусти
мого лагерем чувством собственного достоинства ни
каким образом не затрагивало саму тему «смерти». Са
ма по себе смерть мало что значила в советском лагере,
поскольку не была ни мучительной, ни принудитель
но-садистской, а, вероятно, была столь же случайной,
как и в жизни на воле. Более того, смерть была как бы
внутрилагерным событием и часто сопровождала не
которые отношения между самими заключенными
(«сучьи войны») — лагеря ГУ ЛА Га не были лагерями
смерти.
Почему о невозможном нельзя свидетельствовать?
Софистическая игра в онтологическое доказательство
бытия Освенцима приводит Агамбена к ироническо
му замещению возвышенного чувства, которое будто
испытывал Адорно, рассматривая Освенцим как ко
нечный пункт всей европейской гуманитарной ката
строфы17. Ведь если истинный свидетель — тот, кто
свидетельствует лично, то таких свидетелей нет, ибо
те, кто мог бы свидетельствовать, не могли бы сви
детельствовать просто в силу того, что они уже «му
17 АгамбенДж. Свидетель //С иний диван. 2004. №4. М.: Три
квадрата.
39
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
сульмане», живые мертвецы. Свидетельствовать мо
гут лишь те, кто оказал сопротивление, кто выжил, не
смотря ни на что, не «мертвые», хотя они сами и есть
свидетельства того, что было и что невозможно себе
представить без них. Освенцим как событие не толь
ко было, но и есть как реальное присутствие18. Неза
бываемое, которое «сейчас и здесь». Но нет ли рядом
с этим после Освенцима и другой памяти: после ГУЛАГа.
Что значит после ГУЛАГа?19 Никто и никогда не ставил
так вопрос, я имею в виду это после. Вероятно, в том,
что он не ставился именно так, есть свое оправдание.
Ведь одно дело, когда один народ убивает другой (на
цистский режим), а другое дело, когда народ убивает
себя (сталинский режим). Не могут ли все эти чередой
идущие после быть истолкованы в духе первоначаль
ного вытеснения, как если бы одна часть населения
под страхом и угрозами (и выражением верноподдан
нических чувств) отказала другой в праве на сущест
вование лишь на том основании, что та противилась
страху, которым жила первая. В сущности, из всей ли
тературы, которую мы можем привлечь к осмыслению
того, что это было — тема «после ГУЛАГа» — вся в це
лом, включая «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына
и «Колымские рассказы» В. Шаламова, — литература
свидетельствующая. Но к кому обращено свидетель
18 Agamben G. Hom o sacer. Sovereign Power and Bare Life.
P.184-185.
19 Ведь ГУ ЛАГ — в целом лагерь трудовой, в отличие от на
цистских лагерей смерти, которые были эксперименталь
ными , лабораторией невиданного евгенического экспе
римента. Освенцим — фабрика технологий смерти (точ
нее — умерщвления) и, конечно, не имеет ничего общего
ни с обычными лагерями для перемещенных или подозри
тельных лиц, содержащихся в заключении на время воен
ных действий. Освенцим — биотехнологический образец
массового уничтожения населения. Но что говорить о Ша
ламове, который показывает нам настоящую гражданскую
войну, которая велась до полной победы над врагом, хотя
этот враг был ты сам и твой народ.
40
I. П о с л е Г У Л А Г а
ство, кто признает его, кто на его основании вынесет
приговор, если в фильме «Шоа» Ланцмана мы видим,
что вокруг того, что было, выстраиваются не связан
ные между собой серии свидетельств (они и не мо
гут сообщаться, они не оспаривают друг друга, а лишь
очерчивают то, что было, что случилось как Невозмож
ное, даже не ужасное или чудовищное, а то, что вообще
не могло произойти). Свидетельства ГУЛАГа — вовсе
не свидетельства. О чем свидетельствовать — об убий
ствах и страданиях, о страхе и боли, терроре или борь
бе. Где мы найдем высший суд? Вопросы — кто судим
и кто судит — вступают в жесточайшее противоречие,
отбрасывая свидетельство, для которого не осталось
никакой высшей справедливости20.
20 Эсхатология истории в «Архипелаге ГУЛАГе» Солжени
цына и апокалиптическая образность времени в новеллах
Шаламова. Эта новая литература, литература последних
времен распоряжается как раз временем истории только
с точки зрения ее конца: в одном случае — конец звериного
царства, царства Зверя, в другом случае — приход ангель
ского войска и высший последний Суд. В «Апокалипсисе
от Иоанна» мы сталкиваемся с фигурой, возможно, многое
поясняющей, явно выходящей за границы литературного
опыта, фигурой тайнозрителя — некая модальность осви
детельствования самого свидетеля. Собственно, Шаламов
и есть такой свидетель, побывавшей в аду (такого свидете
ля нацистский лагерь смерти не допускает вовсе), но вер
нувшийся, выдержав все испытания, муки ради истинного
свидетельства. Но это не нисхождение в ад «Божественной
комедии» Данте, не восхождение, не приход из ада... а сам
ад. Подобными свидетелями остаются бывшие узники на
цистских концлагерей — Прима Бери, Франкль, Беттельхейм и др., оставившие бесценные свидетельства.
II. Число массы
С.ЭЙЗЕНШТЕЙН:
НАСИЛИЕ И КИНЕМАТОГРАФ
ДИНАМИЧЕСКИЙ КВАДРАТ. КОМПОЗИЦИЯ
ЭКРАНОВ
1. ГОЛОВА БЫКА. КИНЖАЛ БОЙЦА НАЦЕЛИВАЕТ
СЯ, УХОДИТ ЗА КАДР ВВЕРХ.
2. КРУПНО. РУКА [С КИНЖАЛОМ] УДАРЯЕТ
ЗА КАДР ВНИЗ.
3. Общий план. Тысяча пятьсот человек валятся
с откоса (профиль).
4. Пятьдесят человек встают с земли, простира
ют руки.
5. Лицо солдата — [он] прицеливается.
6. Средне. Залп.
7. ВЗДРАГИВАЕТ ТЕЛО БЫКА (ГОЛОВА ЗА КАДРОМ).
ВАЛИТСЯ.
8. КРУПНО. НОГИ БЫКА В КОНВУЛЬСИИ. КОПЫТО
БЬЕТ В ЛУЖУ КРОВИ.
9. Крупно. Затворы винтовок.
10. ВЕРЕВКОЙ ПРИКРУЧИВАЮТ ГОЛОВУ БЫКА
К СТАНКУ.
11. Тысяча человек пробегают.
12. Из-за кустарника вырастает с земли цепь солдат.
13. КРУПНО. УМИРАЕТ ПОД НЕВИДИМЫМ УДАРОМ
ГОЛОВА БЫКА. (МЕРТВЕЮТ ГЛАЗА).
14. Залп — мельче, со спины.
15. СРЕДНЕ. СТЯГИВАЮТ НОГИ БЫКА «ПО-ЕВРЕЙ
СКИ» (СПОСОБ РЕЗАНИЯ СКОТА В ЛЕЖАЧЕМ ПО
ЛОЖЕНИИ).
16. Крупнее. Люди валятся с обрыва.
17. РЕЖУТ КОРОВЕ ГОРЛО, ЛЬЕТ[СЯ] КРОВЬ.
18. Полукрупно. В кадр поднимаются люди с протя
нутыми руками.
19. НА АППАРАТ (В ДВИЖЕНИИ) ИДЕТ БОЕЦ
С ОКРОВАВЛЕННОЙ ВЕРЕВКОЙ.
42
II. Ч и с л о МАССЫ
20. Толпа б е ж и т к за б о р у , лом ает. За з а б о р о м засад а
(в два-три кадра).
21. В кадр п ад аю т руки.
22. ОТДЕЛЯЮТ ГОЛОВУ КОРОВЫ ОТ ТУЛОВИЩА.
23. Залп .
24. Толпа вкаты вается с о т к о с а в воду.
25. Залп .
26. Крупно. В ы стр ел ом вы би в аю т зубы .
27. Н оги п ехоты уходят.
28. В ВОДУ ВТЕКАЕТ, ОКРАШИВАЯ ЕЕ, КРОВЬ.
29. КРУПНО. ИЗ ГОРЛА БЫКА ХЛЕЩЕТ КРОВЬ.
30. ИЗ ТАЗИКА РУКИ ВЫЛИВАЮТ КРОВЬ В ВЕДРО.
31. НАПЛЫВОМ — ПЛАТФОРМА С ВЕДРАМИ КРОВИ
В ДВИЖЕНИИ К УТИЛИЗАЦИОННОМУ ЗАВОДУ.
32. У МЕРТВОЙ ГОЛОВЫ ПРОТАСКИВАЮТ ЯЗЫК
СКВОЗЬ ВЗРЕЗАННОЕ ГОРЛО (ОДИН ИЗ ПРИЕМОВ
БОЙНИ, ВЕРОЯТНО, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ В КОНВУЛЬ
СИЯХ НЕ ПОВРЕДИТЬ ЕГО ЗУБАМИ).
33. У ходят н о ги п ехот ы (мельче).
34. СДИРАЮТ КОЖУ С ГОЛОВЫ.
35. Ты сяча п я ть сот у б и т ы х у п о д н о ж и я обр ы в а.
36. ДВЕ МЕРТВЫЕ ОБОДРАННЫЕ ГОЛОВЫ БЫКОВ.
37. Ч ел ов еч еск и е рук и в л у ж е кр ови.
38. КРУПНО. ВО ВЕСЬ ЭКРАН. МЕРТВЫЙ БЫЧИЙ
ГЛАЗ1.
Один экран, но в движении раздвоя. Вместо едино
го экрана — два параллельно текущих потока образов,
чьи изобразительные ряды хотя и пересекают друг
друга, но между собой не сообщаются. Несовмести
мость их трудно объяснить тем, что один из них явля
ется «игровым», а другой — «документальным». Мон
тажная идея финала «Стачки» как раз и заключалась
в преодолении их несовместимости, столкновением
двух различных планов на одном визуальном поле.
Совместить и тем самым усилить один за счет друго
го, найти их «общее место» и добиться результата, «ле-1
1 Эйзенштейн С. Избранные произведения в шести томах.
Т.6. М.: Искусство, 1971. С .423-424.
43
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
ценящего своим ужасом». Но именно этого и не уда
лось достичь. Метафора «людей убивают, как скотов»,
потерпела неудачу. Почему? Один из ответов дает сам
Эйзенштейн:
«В п е р в о м с в о ем ф и л ь м е „Стачка“ м н е х о т ел о с ь д о в е
сти у ж а с ф и н ал а д о вы сш ей точк и. С ам ое с т р а ш н о е
в и з о б р а ж е н и и к р ови — сам а кровь. В и з о б р а ж е н и и
см ер т и — сам а см ер ть . Э то , п р ав д а, у ж е н ек о т о р ы й
вы скок за пр еделы ср ед ст в и ск усства. Н о мы им ели
случай п атети ч еск и й — р а зд ав л ен н ую стач ку и м а с с о
вы й р асстр ел . И я ввел м о н т а ж н о й п е р е р е зк о й в и г
р о в о й р а с с т р е л к у ск и п о д л и н н о й к р о в и и см ер т и .
Б ой ня. „О бр ащ ен и е с л ю дьм и , как со ск о т а м и “. К ровь
и ж е с т о к о с т ь б о й н и в п о л н е т ем а т и ч еск и в ы р ази л и
к он ец ф ильм а. В печ атлени е п ол уч и л ось д е й с т в и
тел ь н о ж у т к о е. М н оги е б е з с у д о р о г и н е м огли с м о т
р ет ь на эк р а н . Э ф ф е к т к о н ц а ф и л ь м а на п р е м ь е р е
(1924) бы л оч ен ь си л ьн ы й . Н о в от мы п о в е зл и „С тач
к у “ в С и м о н о в с к и й р а й о н , где мы ее ч а ст и ч н о с н и
мали . Все ш ло п р ек р асн о. К ар ти н у п р и н я л и отл и ч н о,
за и ск л ю ч ен и ем о д н о г о — ф ин ала. Как р аз у ж а со м л е
д ен я щ его кровь ф ин ала. Я был о ш ел ом л ен эт и м п р о
валом , п ок а не с о о б р а зи л , что „ б о й н я “ м о ж е т в о с п р и
ни м аться [ ...] и как м е ст о , где за гот ав л и в аю т п р о д о
вольстви е, м ясо. „ С и м он ов к а“, хотя и р а б о ч и й рай о н ,
в о м н о г о м сохр ан я л а в те годы ещ е хар ак т ер п р и г о
р о д н о -х о зя й с т в е н н ы й . [ ...] П р е ж д е в сего п р и с о з е р
ц ан и и эт и х кусков встав ал о п р ед ст ав л ен и е н е о с м е р
ти и к р ов и , а о го в я д и н е и котлетах»2.
Конечно, неудача финала «Стачки» объясняется не
только тем, что были не учтены очевидные разли
чия (может быть, даже классовые) в зрительской ком
петенции. Да и можно ли говорить о неудаче? То
гда и все последующие фильмы Эйзенштейна мо
гут оказаться в той или иной степени «неудачными»,
ибо в них по-прежнему неустраним разрыв между
2 Эйзенштейн С. Избранные произведения в шести томах.
Т.4. М., 1966. С .452-453.
44
II. Ч и с л о МАССЫ
все теми же двумя экранами: экраном 1, на котором
должна крепиться композиционно-монтажная фор
ма произведения, идея (например, революционная),
и другим — экраном 77, чья роль вспомогательная: по
ставлять чувственный материал для образов, долж
ных иллюстрировать развитие идеи. Революционная
идея должна быть пережита зрителем, чуть ли не его
собственной кожей, если угодно, «вколочена в его го
лову». На самом же деле, как можно видеть, и не толь
ко по «Стачке», экран II оказывает сильнейшее сопро
тивление экрану 7: изображение идеи противостоит
самой идее. Можно попытаться диалектически упо
рядочить экран II в экране I (если под диалектическим
упорядочиванием мы будем понимать подчинение
чувственного, экспрессивного материала второго эк
рана композиционной идее первого). Но ничего не по
лучается. Экран II оказывается автономным, образует
собственное кинематографическое пространство, вре
мя и условия его восприятия. Смею утверждать, что
первый экран, экран-идея (или «диалектический» эк
ран), не в силах примирить в себе внутреннее напря
жение и разлад, существующие в экране 77. Перед нами
две серии образов: одна показывает расстрел, другая —
бойню. Вторая серия относительно медленно движет
ся по сравнению с первой: неспешно предъявляемые
фотографии — они-то и вызывают отвращение, шок,
они «неуместны» (так может быть предъявлена фо
тография садистского убийства, сделанная судебным
экспертом, или порнооткрытка). На переднем плане
шокирующая физиология: текущая кровь, взмахи но
жа, сдирание кожи, предсмертные судороги животно
го, и всему этому подводится итог в последнем кадре —
мертвый глаз быка на весь экран. Здесь все «интерес
но» и прежде всего технология бойни, поэтому нельзя
упустить ни одной детали (например, как режут ско
тину по-еврейски). Образы разделки скота медленно
пульсируют в крупных планах, перебивая сцены рас
стрела. Вопрос все тот же: как изобразить человече
45
В алерий П одор ог а . А пология
политического
скую смерть? Ответ: «Самой смертью!» Но что такое
сама смерть? Смерть неизобразима, но изобразимо на
силие, ведущее к смерти. Так все внимание переносит
ся к пластическим возможностям насильственного ак
та. Различие серий, дающих внутреннее движение эк
рана //, — в быстроте или медленности предъявляемых
сцен. Внешнее отличие также очевидно: одна серия об
разов являет собой локализацию индивидуальной фор
мы насилия, в то время как другая —массовой. Техника
изображения гибели массы иная, чем та, что необхо
дима для создания образов индивидуального насилия.
В первом случае — быстрота, ускорения темпа, смеще
ние пространственных границ, во втором — полные
паузы, замедления, физиологическая близость само
го действия насилия, «подробности»: то, что ты не хо
чешь разглядывать, но тебя заставляют. Избиратель
ное чередование кадров-серий должно было бы ввести
зрителя в непрерывность единого, почти синхронного
воздействия актов насилия: чтобы узнать, как гибнет
человеческая масса, он должен прочувствовать на се
бе, как может гибнуть единица, составляющая челове
ческую массу. Однако эта стратегия оказалась ошибоч
ной (именно для финала «Стачки»), поскольку образец
мучительной и «скотской» смерти отыскивался на бой
не («забой скота» и «расстрел восставших масс» еще
возможны как образы, могут быть совмещены в ре
чевом обороте, но не в монтажном стыке). Забивае
мое животное не стало символом жертвоприношения.
Ошибка Эйзенштейна тем более удивляет, что в том же
фильме мы находим много достаточно удачно выпол
ненных сцен «гибели массы»: например, разгон демон
страции с помощью брандспойтов (или сцена «казаки,
атакующие рабочих»), где струи воды не локализова
ны внутри фильмического пространства, они словно
вне} поэтому человеческие тела, бегущие и прячущиеся,
не могут укрыться от них; те же настигают их повсю
ду и даже тогда, когда пространство, в котором ищут
спасения, усложняется, становится лабиринтным, эти
46
II. Ч и с л о МАССЫ
струи всегда оказываются вне его законов и поэтому
способны выслеживать, преследовать, загонять в ло
вушку, обрушиваться на тела в любом их укрытии; они
не имеют, повторяю, никакой локализации в фильме
и представляют собой не символ и не знак, а прямой
жест насилия, его ударную, безусловно, рефлексную
физиологию. И вот струи, монотонно бьющие в тела,
постепенно, в силу монтажной развертки и ритмиче
ского повтора одного и того же действия для разных
кадров, настигают и зрителя. Во всяком случае, удар
струи, пробивающий одежду жертвы, начинает опо
знаваться и нашим телом.
ЭКРАН КАК СВЕРХРЕАЛЬНОСТЬ
В 1905 г. (в возрасте, еще далеком от режиссерского)
Эйзенштейн видит «живые картинки» братьев Люмь
ер — вот следы «первовосприятия», первой встречи
с магическим экраном. Однако, по его собственному
признанию, он не обрел на всю последующую жизнь
того шокирующего откровения, которое испытали
«первые зрители». Почему? Потому, что он уже знал
и любил театр, школьную гимнастику и цирк, знал, что
такое постановка мизансцены, по своим детским иг
рам и занятиям рисованием. Экран был для него ско
рее универсальным орудием в искусстве сопоставле
ния образов. Рождение экрана не влечет за собой ав
томатически новый взгляд на мир, но зато открывает
новое, потенциально беспредельно пластично емкое
пространство образов, прежде невозможное. Экран
экспрессивный, выражающий, производящий, сопо
ставляющий (не отражающий и не экран познания):
«Вы говорите, кинематограф, но что же, прекрасно!
Посмотрим, что с его помощью можно сделать!»
В своих теоретических штудиях Эйзенштейн не пе
рестает выявлять кинематографичность букваль
но любых жанров искусства: все есть кинематограф,
все кине-мато-графично: поэзия, живопись, архи
47
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
тектура, проза, театр, цирк. Все есть движение: дви
ж ение— вот первоначальная субстанция кинемато
графа. Кинематограф извлекает из смежных ему ис
кусств тот вид движения, который неявно заключен
в их форме (и может даже сопротивляться этому из
влечению). В таком случае виды искусства различают
ся лишь по внутренней динамической («кинематиче
ской») форме, активное присутствие которой и созда
ет весь художественный эффект. Экран, понимаемый
тотально, место встречи гетерохронотопических раз
личаемых видов движения, и только он в силах со
вместить их в одной плоскости изображения, удер
жать контрастность, противоборство и даже взаим
ное отрицание образов, текущих с разной скоростью.
Не имеющий собственной плотности, всегда откры
тый, плоский в метафизическом смысле, экран спо
собен принять и выразить любую кривую движения:
ведь есть движения, которые совершают человеческие
тела, но есть и те, что принадлежат воде, огню, ветру,
потопу, землетрясению, стае волков или движущейся
человеческой массе; есть движения, которые поддер
живают умиротворяющую гармонию древнекитай
ского ландшафта; и есть зачарованный смертью покой
античной скульптуры; и есть неравновесность, нетер
пимость и страстный порыв возносящейся к пику го
тической архитектурной линии, и есть движения виде
ния, которые позволяют нам чувствовать как старую,
так и современную живопись (например, кривая жи
вописная и геометрическая по правилу Г. Вельфлина).
Повторю снова, тотальный экран определялся не осо
быми познавательно-отражательными свойствами,
не «поразительными» реалиями, которые были впер
вые вырваны из вечного докинематографического не
бытия, а только движением. В отличие от Кракауэра
и Беньямина, Эйзенштейн не видел превосходство ки
нематографа над другими искусствами в том, что тот
открывает неведомый мир, шокирует, атакует наше
48
II. Ч и с л о МАССЫ
восприятие возможностью вырывать из старого мира
его визуальную новизну. Шок от новизны не катарсичен. Очарованность этими фигурками-тенями, их игрой-движением-пластикой и еще больше тем, что мож
но достичь беспредельного господства над всем ми
ром образов, если научишься ими хорошо управлять.
Поэтому все, что попадает в сферу действия экрана,
должно пройти монтажную обработку —а это значит,
что каждая деталь должна быть предельно выраже
на, и нет никакой случайности, никакой «жизни врас
плох», ибо мы должны извлекать чистые тона движе
ния и, следовательно, тела, их производящие, из хаоса
повседневного бытования, из Ничто. Речь идет о пре
одолении экрана или его превращении в особую ре
альность —реалъностъ-между, соединяющую реаль
ное событие со зрителем, который его воспринимает
именно благодаря необычным отражательным воз
можностям экрана: все включать, соединять, отра
жать... Так создается экранный эффект реальности,
но сам экран преодолевается, поскольку лишь служит
местом соединения реальности и зрителя. В другом
случае экран осознается как техническое устройство,
от которого зависит наиболее полная и совершенная
передача образа реальности. В силу ограниченности
технических и пространственно-геометрических па
раметров экран обладает силой сопротивления и мо
жет препятствовать полному развитию чувства реаль
ности у зрителя. Как добиться наиболее сильного пере
живания реальности экранной в качестве реальности?
В исследованиях «О стереокино» и «Динамический
квадрат» Эйзенштейн обсуждает физический и вооб
ражаемый статус экрана. Можно ли развить и углу
бить качество отображения реальности с помощью
улучшения технических характеристик экрана? Эк
ран как кусок белого полотна, квадратный или прямо
угольный, двухмерный и плоский. Возможности экра
на кажутся Эйзенштейну неисчерпаемыми — нет ни
каких ограничений материального и фигуративного
49
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
характера или ограничений по глубине. Если все же
мы находим некоторые из них, то экран можно со
вершенствовать, изменяя его геометрическую форму
и размеры (полиэкран, стереоэкран и т.п.) Может быть,
стоит изменить размер и величину экрана — не только
панорамный, овальный, но и растянутый по горизон
тали («лежачий»), по вертикали («стоячий») или да
же меняющий свои физические размеры по ходу де
монстрации изображений, т. е. экран, представленный
в виде динамического квадрата. Однако последую
щее развитие технических возможностей кино еще
раз подтвердило, что проблема материальной реаль
ности самого экрана не столь существенна, посколь
ку экран — это, в сущности, лишь некоторая поверх
ность, способная к отражению проецируемых на ней
образов-теней и не более того. Экран вторичен, и в си
лу этого значение приобретают сами образы. То, что
мы называем экраном, и есть этот экран-образ или он
должен воображаться, т. е. наделяться образами, что
бы существовать в качестве экрана. Вот почему эк
ран — это всегда динамический квадрат, где верти
кальный поток образов пересекается и дополняется
горизонтальным движением и всякий образ выходит
за собственные границы во внеэкранное простран
ство, которое-то и является истинно экранным про
странством.
Таков эйзенштейновский экран Р.3
3 Ср.: «Так что ни горизонтальная, ни вертикальная про
порция экрана сама по себе не является идеальной.
Как мы видим, действительность — в формах приро
ды, как и в формах промышленности, и в соединении этих
форм — порож дает борьбу, конфликт обеих тенденций.
И экран как верное зеркало не только эмоциональных и
трагических конфликтов, но также и конфликтов психо
логических и оптически-пространственных должен быть
полем битвы обеих этих — оптических внешне, но глубоко
психологических по смыслу — пространственных тенден
ций зрителя» (Эйзенштейн С. М. Избранные произведения
в шести томах. Т.2. М.: Искусство, 1964. С. 319).
50
II. ЧИСЛО МАССЫ
Таким образом, экран — не средство познания или
отражения реальности а, скорее, род реальности выс
шего порядка — сверхреальность. А это значит, что
экран не столько отражает и познает, сколько созда
ет саму реальность, являясь по отношению к ней бо
лее высшей реальностью, не порожденной а порож
дающей — вспомним отличие natura naturata от natura
naturans (Б. Спиноза).
Изучая строй высказываний, вот уже полвека обсуж
дающих феномен кино, можно выделить, по край
ней мере, три стратегических интерпретации: к пер
вой следует отнести познавательно-отражательную,
ко второй — синтетически-диалектическую (конст
руктивную) или идеологическую и к третьей — нарра
тивную, повествовательную. Отсюда и идея экрана
как Великой Визуальной Машины. Что такое кинема
тограф? «Бегущие картинки», чей «бег» мы не видим.
И его назначение — не только в том, чтобы познать
(отразить ранее неведомое человеческому взгляду),
но и в том, чтобы выразить в единстве образов все,
что есть реальность, а это значит, не просто быть од
ним из новых искусств, а стать самым высшим Обра
зом (реальности) из всех доступных образов, синтези
ровать в себе кинематические возможности традици
онных жанров. Кинообраз отличает от других образов
особое качество: не быть собой, быть образом для дру
гих образов. Или несколько иначе, кинообраз как пу
стая, нейтральная абстрактная форма движения для
выражения любых других возможных движений. Сре
ди миллиарда других образов его позиция напоми
нает позицию соединительной связки «и» в возмож
ном перечислении (бесконечном): все соединяет, так
как представляет открытую форму, готовую к любой
трансформации ради охвата любого порядка образов
движения. Разъединяет то, что готово слиться, и со
единяет то, что находится в неснимаемом конфлик
те и противостоянии. И это и то, и то против это
51
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
го, и это вместо того и т.д. Грамматическая роль «и»
в том и состоит, что, всегда оставаясь тем же самым
знаком, это «и» вместе с тем функционально опреде
ляется интенсивностью («против», «вместо», «рядом»
и т.п.). Кинообраз, хотя и имеет свои специфические
черты, не претендует на отличное от других образов
положение, скорее, он нейтрален и выражает доступ
ными средствами отношение между образами. Уто
пия тотального экрана — это экран как вместилище
любых образов, как если бы не было никаких ограни
чений для перевода всего не-визуального (невидимо
го) в визуальное (видимое)4.
Постепенно познавательная ценность киноэкрана
стала вторичной, подчиненной функцией, на первое
место стала выходить его синтезирующая, нарратив
ная функция, а затем функция диалектическая, спо
собная выразить Идею (в вариациях). Сегодня сущест
вует множество конкурирующих экранов, и более не
возможен один-единственный экран, синтезирующий
в себе все другие. Однако в те революционные време
на казалось, что все может быть отражено и отражает
ся в тотальном экране рождающегося кинематографа
(все служило ему материалом выражения/отражения,
проекции, регрессии и прогрессии, но не имело соб
ственной бытийной плотности).
4 Стоит вспомнить о той непримиримости, с какой Эйзен
штейн отвергал опыт «Кинооков» <Киноков? — ИК> (идеи
Дзиги Вертова). «Жизнь врасплох», т. е. дзигавертовский
кинематограф (фильм «Человек с кинокамерой»), получал
чисто отражательную функцию, возобновляя широкое по
знание мира, но не перестраивая или созидая его. Модаль
ность должного должна уступить свое место модальности
существования. Вот именно эта связанность и н есвобо
да камеры осуждались Эйзенш тейном прежде всего. Им
осуждался непредвзятый и совершенно «рассеянный» глаз,
блуждающий без плана и цели по жизненному простран
ству, как если бы и сама жизнь была не готова к такого ро
да наблюдению, поэтому ее можно было застать врасплох...
52
II. Ч и с л о МАССЫ
Движение восприятия у Эйзенштейна всегда нахо
дится в стадии ре-грессивной, и никогда не прогрессив
ной, ибо он усваивает и открывает для себя реальность
текущего времени с помощью предшествующего опы
та детства, где подобному переживанию уже найдено
место в картотеке травматической памяти.
МЕГАЛОМАНИЯ
Прежде чем сталинская машина террора приступила к
«работе», мифология восставшей массы, массы «горя
чей», переживала свой триумф. Великим триумфато
ром массы был Эйзенштейн. Как известно, Сталин не
любил революционной массы: террор как ортопедия
массы и должен был воспрепятствовать ее самопро
извольному зарождению и непредсказуемым порывам.
Это, конечно, не значит, что Сталин не хотел, подобно
Гитлеру, иметь «свою» массу, но эта масса должна бы
ла быть иной, уже не революционной, а лишь откры
той террористическому перекодированию в любой мо
мент времени и любой точке социального простран
ства, застывшей, «холодной», легко проницаемой для
страха, казни, перемещения и исчезновения, для рас
траты энергии в рабском труде. Средства террористи
ческой перекодировки — парады, демонстрации, суды,
лагеря, стройки и т. п. Все это — компактно организо
ванные пространства насилия, подчиненные специфи
ческой нумерации. Архитектурная мегаломания Гит
лера— Шпеера перекликается с кинематографической
мегаломанией создателя «Октября».
Однако при их очевидной близости в идеях Эйзен
штейна и Канетти — современников нацизма и ста
линизма — проглядывают существенные различия.
Собственно, Канетти пытается создать антропологию
массы или, другими словами, пытается увидеть в ней
особое социальное образование, которое им описыва
ется так, как если бы масса представляла собой единый
целостный образ, некий политический гештальт, скон
53
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
струированный по модели человеческого тела (но с не
сколько иными анатомическими и «чувственными»
характеристиками). Каким «внутренним чувством»
прежде всего руководствуется масса? Чувством ро
ста! Массе нужно расти, оставаясь равной себе, уве
личивать плотность своих «рядов», стремиться к боль
шей плотности, иметь направление, скорость и цель.
Короче, нужно быть телом, пускай особым, но все же
именно телом, пускай сверхбыстрым, но все же телом.
Плотность — интенсивность — быстрота. Однако мас
са уязвима в своем могуществе над толпой и лично
стью. Если толпа может «собираться» и «глазеть», не
ожиданно нарушать общепринятый порядок, чтобы
тут же исчезнуть, следовательно, ее существование
в социальном времени ограничено. Иное дело масса —
она не может существовать достаточно долго в соци
альном времени, если ее существование не будет под
держано специальными машинами (милитаристскими,
террористическими или патетически-революционными), поддерживающими режим ее роста, распростра
нения, управляющими быстротой. Подобные социаль
ные машины всегда пытаются снять зазор между бу
дущей целью массы и возможностями ее роста. Этот
пространственный зазор во времени и есть быстро
та, одно из фундаментальных качеств массы-в-движении. Ж.-П. Сартр, ссылаясь на свидетельства очевид
цев захвата Бастилии революционными массами, об
ратил внимание на то, что восставшая масса двигалась
с иной быстротой, которую внешнему наблюдателю не
возможно было ни представить, ни предсказать5. Даль
5 Многие наблюдатели исторических событий более ран
них эпох не переставали удивляться тому, что массовые
движения или движения людских масс (например, эпиде
мии, войны и миграции в средневековой Европе) непред
сказуемы. Их социографические и временные параметры
становятся шифрами иной быстроты. Европейское сред
невековое сознание одно время было просто парализовано
страхом перед монгольским нашествием. Монголы появля
54
II. Ч и с л о МАССЫ
няя цель замедляет движение массы, ее рост, ближай
ш а я — ускоряет, поэтому необходимо дробить даль
нюю цель достижимостью цели ближайшей, чтобы
мощь массы, ее быстрота и распространение не пере
ставали нарастать. Число тем самым становится сим
волом роста массы. Канетти в своем знаменитом очер
ке «Гитлер по Шпееру» вводит понятие скачущего чис
ла, leaping numbers:
«С и л ьн ей ш ее ср едств о для того, чтобы в озбуди ть
м а с с у — п о к а за т ь ей ее р о с т . П ок а м а с с а ч у в с т в у
ет, ч т о о н а у в е л и ч и в а е т с я , ей н е за ч ем р а с п а д а т ь с я .
Чем вы ш е ч и сло, к о т о р о го , как ей говор ят, он а м о ж е т
д о ст и ч ь , т ем си л ь н ее ее в п еч атл ен и е о т са м о й себ я .
Н о ей н а д о дать ж и в о е о щ у щ ен и е того, как он а д о с т и
гает так ого числа. Все в н ар астаю щ ем в о зб у ж д е н и и
к ар абкаю тся вверх 6 0 , 6 5 ,6 8 , 8 0 м и л л и о н о в н е м ц е в !...
М асса, п о р а ж ен н а я э т и м и ц и ф р а м и , в о с п р и н и м а е т
и х как с в о е м г н о в е н н о е п р и р а щ е н и е. Ее н а п р я ж е н
лись под стенами европейского города совершенно неожи
данно и также внезапно исчезали. Почему миф об их дья
вольской вездесущ ности был так устойчив? М ассовое
движение воинских формирований монголов было стра
тегической загадкой, ибо они двигались путями, о сущест
вовании которых невозможно было изначально предполо
жить сознанию, для которого поле сражения представля
ло собой что-то, подобное рыцарскому поединку. Известно,
что движение монгольских войск определялось естествен
ными путями — монгол — лошадь (человек — зверь) — тра
вяная тропа, — это было движением лошадиных масс (т.е.
движением вдали от населенных пунктов и в ночное вре
мя). И, конечно, это движение невозможно было предуга
дать ни по скорости, ни по направлению с точки зрения
геометрии маршрутов и дорог средневековой Европы, оно
определялось совершенно иной картографией. Своим дви
жением монголы нарушали общие представления европей
цев о правилах и условиях перемещения воинских масс,
воображ аемую и традиционно принятую картографию
милитарного движения. Это «нарушение» и создало пси
хологический аффект быстроты движения монголов. Н е
постижимая быстрота монголов была только этой психо
логической ошибкой восприятия времени и пространства.
55
В алерий П о дорог а. А пология
политического
н о ст ь , таки м о б р а з о м , д о ст и г а ет п р ед ел ь н о в о з м о ж
н ой меры . Ч еловек , за р я д и в ш и й ся эт о й н а п р я ж е н н о
стью , не м о ж е т в н у т р ен н е от н ее о с в о б о д и т ь с я . У н е
го в озн и к ает н ео д о л и м о е стр ем л ен и е опять оказаться
в эт о м с о с т о я н и и т ак ж е и в н е ш н е » 6.
Для Эйзенштейна масса, в отличие от Канетти, не бы
ла антропологическим объектом. Масса недоступна
как объект повседневного наблюдения, она — скорее
образ массы, а не сама масса, как реально существую
щая в социуме. Другими словами, масса не имеет ни
чего общего с упорядоченной массой митингов, пара
дов и толп, характерных для городской культуры XIX —
X X вв. Масса — это такой объект, который становится
социально наблюдаемым и исследуемым только по
сле рождения кинематографического экрана. Не рань
ше и не позже. Только экран способен вместить в се
бя бесконечный рост массы, ее быстроту и движение,
и только экран есть то место в социальном простран
стве, где масса становится возможной и существующе
действующей, продолжающей свое движение. Вот по
чему тайна массы заключается в бесконечном, экста
тически нарастающем числе, но представимом.
В одной из последних своих бесед Эйзенштейн по
дробно поясняет, как сделать фильм «Иван Грозный»
понятным миллионам:
« — И н т ер есн о , как п р им ут, — б есп р ер ы в н о п овтор ял
он . — Н а д о сдел ать м н о г о п р о с м о т р о в — и с т о р и к и ,
п и са т ел и , х у д о ж н и к и и м а ссо в ы е п р о см о т р ы . М а с
сов ы е, ч то б ы ты сячи и ты сячи о д н о в р е м е н н о с м о т
рели , лучш е б у д у т восп р и н и м ать, в ты сячу и в десять
ты сяч р аз лучш е: если я о д и н и з ста ты сяч — я лучш е
в о с п р и н и м а ю , ч ем о д и н и з д ес я т и ты сяч. [ ...]
— Значит, если я о д и н стоты сяч н ы й , я б о л ь ш е п о й
му, ч ем о д и н и з д еся т и ты сяч?
— О бя зател ьн о! Такой расч ет.
6 Канетти Э. Человек нашего столетия. Художественная
публицистика. М., 1990. С. 78.
56
II. ЧИСЛО МАССЫ
— И точка зрения?
— Вероятно, я так воспринимаю — с точки зре
ния миллионов, которые говорят через меня одно
го, и раз уж так, то и доверяются мне, если я позво
лю себе то, что не входило в расчет этих миллионов.
Это я вам говорю не для интервью, я в самом деле
спокойно себя чувствую, когда управляю крупны
ми и объемными величинами. Конечно, может быть
и так, что весь миллион будет чувствовать себя как
один-единственный робкий, несчастный и нахаль
ный —но это уже не моя сфера. Словом, я не люблю
так называемого психологического искусства — ду
шевный микрокосм не привлекает меня, я больше
хотел бы исследовать тайны космоса... Есть психо
логия масс и народов, стран и государств, морей, пу
стынь и гор, и эта среда весьма мало исследована»7.
7 Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М., 1974.
С 406.
Ср. «...душ евное состояние, испытываемое оратором, м о
ж ет быть выражено числом 10, и что при первых сло
вах, при первых перлах своего красноречия он передает,
по меньшей мере, половину своего чувства каждому их слу
шателей, которых, положим, 300 человек. Каждый из них
будет реагировать на его слова или аплодисментами, или
удвоенным вниманием, и все это поведет за собой то, что
всевозможные отчеты о таких заседаниях называются дей
ствием, сенсацией. Это „действие“ будут испытывать все
в одно и то же время, и так как слушатель занят аудиторией
не менее, чем оратором, то его воображение будет внезап
но охвачено зрелищем этих 300 лиц, испытывающих извест
ное душевное состояние; это зрелище не применет, благода
ря выше отмеченному закону, произвести реальное ощуще
ние данного чувства. Допустим, что он испытывает только
половину этого чувства, и посмотрим на результат. Потря
сение, им испытанное, будет выражаться уже не 5, но п о
ловиной 5, умноженной на 300, т.е. 750. Если тот же закон
применить к тому, кто находится перед собранием и гово
рит среди этой толпы, то число, выражающее его внутрен
нее возбуждение, будет уже не 750, но 750/2 х 300, так как
он является центром, куда все эти глубоко тронутые инди
виды отражают передаваемые им впечатления» (Сегепе С.
57
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
Отсюда все ошибки и недоумения критиков, подозре
ния в искажении «реальных фактов» истории, пре
увеличениях, а также разного рода образная избыточ
ность, которая должна быть осуждена с точки зрения
экрана-отражения/познания, экрана-повествования.
Экран тотальный первичен и не может быть порож
ден. Это объясняет, почему Эйзенштейн искал столь
сильное средство прямого действия на сознание зри
теля, чтобы не могло возникнуть сомнения в том, что
создаваемый на экране образ был воспринят, усвоен,
стал элементом воспринимающего сознания. Другими
словами, сознание экрана и экран сознания неразли
чимы в процессе восприятия, поскольку само созна
ние — продукт разгула экранных образов. Кинемато
графический экран — больше не кусок полотна, на ко
торое проецируется изображение, а нечто неизмеримо
большее. С помощью экрана изобретается новый спо
соб социального производства, производятся тела
массы. Экранизировать массу — вовсе не значит отра
жать или копировать реальные, эмпирически наблю
даемые скопления людей, это значит впервые ее соз
давать. Экран — это сверхреальность и поэтому есть
нечто неизмеримо большее, чем «реальность». Лишь
он один в силах управлять полным временем Исто
рии, всякий раз возобновлять революционное дей
ствие в границах той мифической логики, что опро
вергает наличный статус реальности. Лишь он один
способен выдержать любое возрастание массы, как бы
ни был быстр и сокрушителен ее рост, ибо она растет
не сама по себе, а исключительно благодаря экранным
возможностям своего воспроизведения. Масса, смот
рящая на себя, нарастает в чудовищной прогрессии
1:100, 1:1000,1:100000, 1:1000 000. Один как тысяча, де
сять тысяч, сто тысяч, миллион... Один как все и все
как один —смысл известной формулы революционно
преступная толпа. Опыт коллективной психологии. М.: Ин
ститут психологии РАН, 1998. С. 59-60).
58
II. Ч и с л о МАССЫ
го братства в том, что масса и не предполагает выделе
ния индивидуальной единицы в акте самого револю
ционного действия8. Полнота воздействия на зрителя
достигается провоцированием цепной реакции мас
сового восприятия. Масса должна видеть себя, видеть,
как она растет здесь и сейчас. В «Стачке», «Броненосце
Потемкине», «Октябре», «Старом и новом» (да и в бо
лее поздних фильмах «Александр Невский», «Иван
Грозный») можно видеть, как формируется экранная
масса, как она растет, движется, побеждает и гибнет.
И как любит повелевать ею сам Эйзенштейн.
Рост и подвижность революционной массы подчи
няется ритму некоего возрастающего числа. В сцена
рии финала «Стачки» бросается в глаза числовой рас
чет движений массы-толпы: 50-100-1500 человек бе
гут, падают, остаются лежать, вздымаются частоколом
рук; движение кадров расстрела убыстряется в пря
мой зависимости от того, как часто человеческий по
ток рассекается залпами выстрелов. Ритмическое чис
л о — одно из условий существования экранной массы.
Экран, и только он, позволяет нам видеть массу и уча
ствовать в ее творении, обеспечивает ее рост, плот
8 Ж.-П. Сартр разработал стратегию революционных групп,
или групп истории, group-en-fusion («groupuscule», группав-скольжении), попытавшись заменить ими гегелевский
Субъект. Группа определяется как множ ественность ин
дивидуализированная; субъект группы является м нож е
ством всех других субъектов, составляющих группу. Чис
ло 10 есть минимальная единица меры человеческой актив
ности в Истории*. Иными словами, отсчет революционного
действия начинается с числа 10. Не цифра здесь значима,
а граница числа. Число 10 — не простая сумма членов груп
пы, а интериоризованное число, и оно представляет собой,
по заключению Сартра, единство, лишенное частей, или то,
что можно назвать интенсивностью единого действия. От
ношение между десятым и десятью определяется степеня
ми мощи и силы, которыми обладает каждый из десяти чле
нов группы (См.: SartreJ.-P. Critique de la raison dialectique.
Paris: Gallimard, 1960. C.419, 420, 422).
59
В алерий П одор ог а . А пология
политического
ность, быстроту, границы рассеивания. И в сказан
ном нет ничего парадоксального. Действительно, эк
ран разнообразием дальних (панорамных) и близких
планов умножает число смотрящих. Но это умноже
ние нельзя понимать как простой подсчет зрительских
посещений или комбинации проекций, ибо те, кто на
ходятся перед экраном, не просто смотрят, а «выходят
из себя», находятся «в экстазе», и только в силу подоб
ных переживаний они и становятся той подлинной
массой, которую рождает кинематограф. Мы чувству
ем массу тогда, когда нам подсказывают пути к «омассовлению» собственного индивидуального опыта пе
реживания, одинокое и автономное зрительское «я»
должно быть утрачено в потоке коллективного транса.
Омассовить смотрящую единицу, единиц больше нет!
Масса должна увидеть себя в качестве массы, и масса,
видящая себя, и есть та масса, которая не имеет вне
киноэкрана иного способа представления. В таком
случае экран выступает в качестве некоего перцеп
тивного протеза, с помощью которого масса смотря
щая отождествляет себя с массой показываемой. Вза
имное отражение. Эти две массы обязательно должны
совпасть, в едином поле восприятия отразиться друг
в друге. Именно поэтому отдельная смотрящая еди
ница благодаря посредничеству экрана умножается
до тысячи, десятка, сотни тысяч, смешивается со все
ми другими единицами в единой ритмической кри
вой, которая действительно может вовлечь в револю
ционное действие миллионы. С той интенсивностью,
с какой экран осуществляет свое действие, и в том же
порядке нарастаний числа зрителей и движется само
экранное изображение, которое теперь становится ме
стом действия цифр, надписей и символов, отмечаю
щих пути роста человеческих масс9. Вероятно, масса
9 См. схему ритмической структуры числа массы: Эйзен
штейн С. М. Избранные произведения в шести томах. Т. 5.
М.: Искусство, 1963. С. 93.
6о
II. Ч и с л о МАССЫ
или массовидные тела — предельный случай наруше
ния устойчивых, повторяемых и институционально
закрепленных, социально и жизненно значимых свя
зей людей. Зарождение массы невозможно в хорошо
стратифицированном социуме, где множественные
отношения между индивидами регулируются с помо
щью различных дистанций, рангов, иерархий, обес
печивающих национально-территориальную, антро
пологическую или личностную идентичность. Масса
образуется на периферии социума, она экстеррито
риальна и не допускает внутри себя стратификаций
и дистанций, в противном случае она распадается.
Можно сказать, что для образования массы необхо
димо чистое социальное пространство. Или, точнее,
образуясь, масса сама и создает его, ибо нет границ,
препятствующих ее бесконечному росту. Чистое про
странство, пожалуй, следует понимать в том физиче
ском смысле, в каком для нас чистой является гладкая
поверхность стола, по которой свободно растекается
маслянистое пятно. Подобным же образом растекает
ся и массовидное тело, стремясь заполнить все поры
социального пространства. Образ массы рождается
экраном, им поддерживается утопия существования
такого социального пространства, где масса может
свободно нарастать, не встречая препятствий. Но мас
сы и все, что массовидно, — не просто кинематогра
фический фантазм. Я даже не знаю, о чем, собственно,
говорят те случайные отображения революционной
массы — о революции или, быть может, о возможно
стях экрана эти революции создавать?10 Число массы
10 Здесь стоит привести мнение известного исследовате
ля истории русского кинематографа Ю.Г. Цивьяна: «Сто
ронники „литературы факта“ полагали, что Эйзенш тейн
ставил своей целью подменить историю мифологистикой.
Нельзя сказать, что такие опасения были безосновательны,
но дело обстояло весьма непросто. Отклонения от истори
ческой достоверности имели своим источником не столько
позднейший вымысел, сколько широкую сеть слухов и мол-
61
В алерий П одор ог а . А пология
политического
должно расти, расти скачками, быть в непрерывности
этого скачкообразного движения. Ритмически поня
тое число всегда больше самого себя и не может ни
когда совпасть с нейтральной единицей, не им управ
ляют, а оно управляет... «Сколько их? Десять, сотни,
тысячи, сотни тысяч? Их тьма!» Число — душа массы.
Именно ритмическая волна, захватывающая собой те
кущие множества, дезинтегрирует наши телесные схе
мы и образы, упраздняет «чувство дистанции» и без
опасности, реактивирует психомиметическое чувство.
ЦИФРЫ И ЧИСЛО
Число предъявляет себя в эпизоде из «Старого и но
вого» ритмически: «белые зигзаги на черном фоне»,
и эти зигзаги — физические следы события: «рост чис
ла колхозной артели»11. Нет ритма без скачущего числа,*
вы, распространившихся тотчас же после Октябрьской ре
волюции. Ткань сценария «Октября» буквально пропитана
этим «веществом». Дело не в нехватке информации — как
известно, в распоряжении режиссера были воспоминания
очевидцев и участников восстания, в том числе и написан
ные специально для фильма. Вместе с тем можно заметить,
что во многих случаях Эйзенштейн отдавал предпочтение
не фактам и не историческим мифам, а мифологистике —
устной, газетной, стихийной, подгонявшей факты не под ге
роическую схему, а под схему живого событийного архети
па» {Цивъян Ю. Г Историческая рецепция кино. Кинемато
граф в России 1896-1930. Рига, 1991. С. 350). Все сказанное
можно отнести к пояснению парадоксалистской стратегии
Эйзенштейна: непременное желание ставить исторические
фильмы, но ориентируясь на внеисторическую цель и даже
растворяя историческую фактичность в сценарно-сюжет
ном вымысле, и решая совершенно иные проблемы, нежели
открытие исторической истины (или хотя бы верность ей).
11 Ср. «Белые зигзаги эти были возрастающими не толь
ко по размеру, но и по внутреннему значению количества
арабскими цифрами: 5 -1 0 -1 7 -2 0 -3 5 , — цифрами, которые,
вырастая в количественном своем значении одновременно
с увеличением пластического размера начертаний, отстуки-
62
II. Ч и с л о
МАССЫ
именно оно и должно управлять состояниями экстаза,
превращать толпу зрителей в реально растущую мас
су. Число массы выступает в двух основных измерени
ях: образном (цифра) и понятийном (число), причем
последнее не растворяется в первом, а как бы выплес
кивается за экран, сливаясь с логическими условиями
патетического дискурса. Поэтому число действует, ибо
исчисляется в каждом измерении и, конечно, не я в
ляется чисто количественной мерой, объединяющей
пассивное множество дискретных единиц, тем более
не является калькуляцией или подсчетом. Число массы
качественно и выражает собой ритмическое соотноше
ние групп единиц. Число есть ритм, преодолевающий
всякую навязываемую гармонию или то движение, ко
торое позволяет «скакать» цифрам (изобразительному
ряду). Вот как, к примеру, комментирует Эйзенштейн
цифровые кадры «Старого и нового»:
«Л циф ры ?? — Ц и ф р ы р о с т а к о л и ч ес т в а ч л ен о в а р
тели ? П о с л е т о г о как о т ы гр а л и ф о н т а н ы — з а и г р а
ли ци ф ры . Как ж е э т о м о ж н о не зап ом ни ть? П равда,
ц и ф ры тогда, в 1928-1929 гг., м ен ее в н едрял и сь в в о с
п р и я т и е как с р е д с т в о н о в о й с о ц и а л и с т и ч е с к о й вы
р а зи т ел ь н о с т и . Э т о п я ти л етк а п р и уч и л а нас в и д ет ь
п а ф о с в в ы р астаю щ и х ц и ф р а х , как в огн е бар р и к ад .
[ . . . ] Ц и ф р ы в „Г ен ер ал ьн ой л и н и и “ р а б о т а ю т у ж е
не п о л и н и и о б р а зн о й , а сл ед ую щ и м р а зр я д о м — п о
н я ти й н ы м . С м ена ц и ф р д ает п он я т и е о р о с т е артели.
П он я т и й н ы й эл ем ен т в овлечен в игру как п о с л ед н и й
скачок вы р ази тельн ы х ср едст в — у ж е за п р еделы о б
раза. [... ] С каж ем — голая надп ись. Дать ц и ф ры — „ко
вали победоносную дробь возрастающего количества лиц,
вступающих в молочную артель» (Эйзенштейн С. М. И з
бранные произведения в шести томах. Т. 3. С. 86.) Понятно,
что ритмическое число — это то отношение, которое может
повториться и повторяется, сохраняя перебивку цифр не
изменным... Но даже если и меняются ритмические каче
ства, все равно число остается не данным в цифровом о б
лике: вся сумма цифр образует ритмическую кривую, ко
торая удерживается единым отношением числа.
бз
В алерий П одор ог а . А пология
политического
л и ч ест в о член ов т а к о е-т о “. А п он яти й н ы м эл ем ен том ,
п р и б л и ж ен н ы м к о б р а з н о м у р еш ен и ю , и б у д у т ц и ф
ры, см он т и р ов ан н ы е как элем ен ты д ей ст в и я . Ц иф ро
вой рост есть , по существу, чистое понятие. (К урсив
м ой . — В. 77.) Как р о с т н аш ей п р ом ы ш л ен н ост и . Р ост
пок азател ей усп ев аем ост и . И эт о т ч и сто п он я т и й н ы й
эл ем ен т в озв р ащ ен о б р а т н о в свой о б р а зн ы й смы сл.
Ц иф ры р а с т у т и д ей с т в и т е л ь н о ... вы растаю т. Ц иф ры
стан ов я тся к р уп н ее не тольк о св ои м с о д е р ж а н и е м —
1 5 ,2 7 ,3 4 , н о и . .. ф ор м ой , то есть размером п о к адр у»12.
Цифра не число. Более того, они находятся, так ска
зать, в противодвижении. Цифры образуют порядок
случайных прерываний, прерывистостей, поскольку
взятая отдельно цифра обозначает число единиц, со
ставляющих неразличимое единство. Цифра — лишь
иконический образ числового единства или целого,
в котором все составляющие его единицы даны од
новременно. Цифра — чистый знак количества. Циф
ра сама себя обозначает, иначе говоря, в цифре пол
ностью выражено числовое содержание. Цифра —это
корпускула, всегда множество исчислимого, но лишен
ного символического представительства в образе чис
ла. Цифра инертна и статична, неподвижна. Как толь
ко появляется число, то сразу же включается порядок
исчисления —принцип взаимодействия между цифра
ми. Цифра подобна алфавитной букве, число — цело
му слову. Цифра — это номер (номер дома, например),
бирка, афиша, надпись, но именно всем этим она мо
жет быть, только если интерпретируется в качестве
наделенного смыслом знака. Цифра — то, что лежит
на поверхности, что сразу же дано взгляду, что не тре
бует никакой интерпретации. Число, чтобы стать чис
лом, должно быть организовано, «исчислено» по со
ставляющим его единицам (исчисление может быть
арифметическим, геометрическим или экстатическим,
12 Эйзенштейн С. М. Избранные произведения в шести то
мах. Т. 4. М„ 1966. С. 245-246.
64
II. Ч и с л о МАССЫ
уже выходящим за границы какого-либо исчисляюще
го порядка). Цифры статистичны, сами по себе ничего
не выражая, они лишь представительствуют.
« В о зв р а щ а я сь , о д н а к о , к п о к и н у т о м у н ам и с е п а р а
тору, н у ж н о ещ е сказать, ч то эта завер ш аю щ ая с ц е
на „кавал ькады “ в о зр а ст а ю щ и х ц и ф р , п о сущ ест в у,
б е р е т ещ е о д и н д о б а в о ч н ы й „ б а р ь ер “, о с у щ е с т в л я
ет ещ е о д и н скачок в о б л а с т и м е т о д о в и с р ед ст в и з
л о ж ен и я сю ж ета.
П ер вы м бы л скачок и з п р е д м е т н о г о
показа в об
разное изложение.
Н о „кавалькада ц и ф р “ и д е т дальш е, и, п о х о д я , с о
вер ш и в в т о р о й скачок и з о б л а ст и изобразительной
в обл асть неизобразительную, она дел ает р еш аю щ и й ,
т р е т и й скачок из о бл асти о б р а з н о г о и зл о ж ен и я в о б
ласть и зл о ж ен и я понятийного.
И б о идея количества зд е с ь в ы р аж ен а н е
ным
п о к а з о м „ м а с с о в к и “, н е
образной
предмет
м етаф орой
л ю д ск и х „ п о т о к о в “, р ек о й „стек а ю щ и х ся “ в к ол хоз,
н о ч и сты м п о н я т и е м , н ач ер тан н ы м
числом»13.
Ведь когда мы говорим об оптическом эффекте подра
жания и напоминаем себе, что кинематограф на сво
их ранних этапах и создавался как искусство для масс
(массовое) и что Эйзенштейн прекрасно показал раз
ницу, которую зритель ухватывает сразу же между об
разным и понятийным представлением числа. Чис
ло массы предстает в образах некой непрерывности,
длительности переживания самого числа. Число мас
сы — это пункт пересечения всех сил, поддерживаю
щих ее существование. И вот тогда зритель, нарастая
массой просмотров й умножаясь в экранных образах,
переживает себя уже не просто как зрителя-наблюдателя, а в качестве числового субъекта массы. Число
скачет, прыгает, но и срывается, оно все время созда
ет некий временной интервал перед следующим брос
13 Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в шести то
мах. Т. 3. С. 88.
65
В алерий П о до р о г а . А пология
политического
к о м , который можно предугадать, только пережив се
бя в качестве единицы массы — или в качестве побе
дителя, причастного к триумфу всех, или как жертвы,
удел которой падение и ничтожество. Один и тот же
график может отображать как рост и бесконечную си
лу возвышения, так и в обратном направлении — ин
фляцию всех ценностей, тотальное обесценивание че
ловеческого усилия, утрату всяких надежд. Возможно,
что это один и тот же процесс, только со скрытыми
фазами успеха и поражения, возвышения и падения.
Границы, в которых массовое сознание себя ритми
чески воспроизводит, — гигантские качели скачущих
чисел, то взбирающихся вверх, то падающих в бездну.
Очередное «случайное» выпадение числа невозмож
но предугадать14.
14 Инфляционный порядок числа, который можно сегодня
наблюдать воочию, даже в качестве жертв располагается в
определенной метрике — точнее, имеет обычный каскадный
график, который, как известно, выстраивается по вертика
ли, поскольку сама горизонталь выступает в качестве некой
недостижимой и идеальной нормы. Кривая падения курса
рубля по отношению к доллару колеблется — это обычный
вариант колебания курсов валют, который не нарушает
ожидания. И вот 17 августа 1998 г. следует взрыв, который
отражается мощным инфляционным импульсом и общим
коллапсом финансово-банковской системы. Доллар взлета
ет, теперь все цифры, которые выпадают на экран, наделе
ны магическими свойствами: 10, 16, 20... 50 рублей за дол
лар. Паника. Число, ритмизированное финансовой катаст
рофой, оказывается «душой» некоей растущей, анонимной
и совершенно «советской» массы (массовая скупка това
ров первой необходимости как перед войной или голодом).
Эта негативная масса растет в падении и пока еще не име
ет условий для позитивного роста, целиком зависит от на
стоящего курса рубля — доллара. Но если бы мы сказали,
что инфляционный удар был тотальным, мы бы ошиблись.
Он затронул лишь так называемый средний класс и, в сущ
ности, им ограничился. Основная часть общества не толь
ко не пострадала, но и выиграла от обесценивания руб
ля. Обесценивание рубля стало новой ценностью, которую
массовое сознание восприняло положительно и с некото-
66
I I . Ч И С Л О МАССЫ
ПРИРОДА И ИСТОРИЯ
Попробуем пояснить различие между экстазом и па
фосом на материале концепции возвышенного, разра
ботанной Эйзенштейном в исследовании «Неравно
душная природа». Отношения между органическим
и патетическим, ростом и развитием представляют ос
новную оппозицию бурной и трагической эпохи, оп
позицию природы и истории. Эйзенштейн пытается
распространить законы пафоса (патетической формы)
на органические явления и объекты, а то, что он на
зывает законами развития, — на законы роста: «Скач
кообразный ход из качества в качество есть не толь
ко формула роста, но уже формула развития — раз
вития, вовлекающего нас своей закономерностью уже
не только как единичные „вегетативные“ единицы,
подчиненные эволюционным законам природы, но уже
как единицы коллективные и социальные, сознательно
участвующие в ее развитии...»15 И далее в пояснение
«скачка» из качества в качество: «Момент свершения
мы понимаем здесь в смысле тех точек процесса, че
рез которые проходит вода в мгновение становления
паром, лед — водой, чугун — сталью. Это тот же вы
ход из себя, выход из состояния, переход из качест
ва в качество, экстаз. И если бы вода, пар, лед и сталь
могли психологически регистрировать свои ощуще
ния в эти критические моменты — моменты сверше
ния скачка, они сказали бы, что они говорят [с] пафо
рыми надеждами,на улучшение жизни. Заметно, что дей
ствие инфляционной кривой локально и не может (за ред
кими исключениями) привести к общей панике и экономи
ческой катастрофе. Однако очевидно, что инфляционная
депрессивность общества (начиная с реформ Гайдара) бы
ла и остается главным источником социальной апатии, ни
гилизма и как острой нехватки прежних ценностей, так
и обесценивания будущих.
15 Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в шести то
мах. Т. 3. С. 69.
67
В алерий П о дор ог а . А пология
политического
сом, что они в экстазе»16. Природа историзуется через
«скачок» —от единицы к массе (коллективам), —и вот
что важно: природа и история совмещаются в самом
«скачке», но на микроскопическом уровне, в движе
нии материи. Тем самым термины оппозиции нейтра
лизуются, их дуализм «снимается» благодаря «треть
ему», который не может быть включен в очерченную
культурой оппозицию истории-природы; и этот «тре
тий» — сверхорганичность. История должна вернуть
ся в материю: конечно, материя понимается не как чи
сто физический, косный и инертный субстрат живого
и мертвого, материя — это энергия, движение и борь
ба сил, хаос ритмов, вибраций, пульсаций; все, что су
ществует,— лишь частичные манифестации материи,
и мы, как пишет Эйзенштейн, «приобщаемся к ощуще
нию закономерностей бытия, материи как непрерыв
ного становления» (Курсив мой. — В.П.)17.
Таким образом, культура и история оказываются
терминами сверхприроды, некой аббревиатурой опы
та сверхорганического становления. В эпохальном по
ле вражды и притяжения органического и историче
ского перевес получает идея становления. Иными сло
вами, историческое значимо лишь в той мере, в какой
оно является способом, с чьей помощью силы мате
рии ускоряют органический рост до предела, «приво
дят в экстаз». Вместо локального, «вегетативного», ин
дивидуально природного тела рождаются иные типы
телесной практики, тела массы, коллективные тела>
находящиеся в непрерывном социальном становле
нии, организованные по законам патетического бытия.
И эти «тела» столь же историчны, сколь и сверхприродны. Органичность ландшафтного образа устраи
вает Эйзенштейна лишь до того момента, пока он раз
рабатывает основные принципы гармонического, «му
зыкального» переживания пейзажа («сюита туманов»
16 Эйзенштейн С.М. Указ. соч. Т. 3. С. 70.
17 Там же. С. 208.
68
II. Ч и с л о МАССЫ
в «Потемкине»), которые все же остаются для него пе
реходными и дополнительными образцами. Не они ля
гут в основание новой «революционной» экстатиче
ской метафизики чувственности, откуда, собственно,
и начинается кинематограф Эйзенштейна. Спирале
видная кривая, кривая органического роста уступает
место экстатической («диалектической» или «патети
ческой») кривой социального развития. Органические
закономерности недостаточно выразительны, и преж
де всего потому, что они не в силах передать мощь
пластических образов, нарушающих общепринятые
изобразительные конвенции. Речь идет здесь, конеч
но, о природе экстатического переживания и его пла
стических возможностях. Действительно, разве можно
отвернуться от этого громадного психического опы
та, что был накоплен в западноевропейской культу
ре за последние два тысячелетия — экстатика святых
и революционеров, визионеров, мистиков и сновид
цев? Экстатические образы мира отрицают равновес
ные и в себе успокоенные образы. Если быть последо
вательным, то придется признать, что радикальный
«революционный» кинематограф можно представить
в виде оптико-экстатической машины, которая работа
ет на последних глубинах «неживой материи», ее мик
роскопических сил и вибраций, производя массовые
и коллективные тела. И развитие такого рода экстати
ческой телесности неизбежно приводит нас к высшей
стадии развития органического — сверхорганическому,
а с его установлением утверждается конец Истории.
Эйзенштейновский революционный пафос всегда
опирался на неизбежность революционного насилия,
которое он понимал достаточно широко, и не только
в социальном контексте эпохи, но гораздо шире: кине
матограф как космотеллурическая наука. Революцион
ное насилие — ответ природе как материи косной, тем
ной, тормозящей, подавляющей историческое измере
ние— Историю. И в этом смысле революция предстает
как некий исторический катаклизм природного поряд
69
В алерий П о до р о г а . А пология
политического
ка, как вселенский взрыв18. Искусство не только выра
жало взрывную мощь революции, но и впервые откры
вало действие его в пределах современной эпохи. Од
ним словом, революционное насилие оправдано как
событие космологическое. Вот почему оно не может
быть квалифицировано в терминах добра и зла, спра
ведливого и несправедливого, лжи или истины. Рево
люционное насилие законно в силу его беззаконности,
оно природно и космично и только поэтому историч
но. Вот почему, когда мы присматриваемся к особому
экстатическому революционному дискурсу, которому
считает себя причастным Эйзенштейн, мы не должны
понимать его в юридически-правовых или моральных
терминах. Революционное насилие — это вышедшая
из своих пределов природа, а точнее, природа, став
шая историей. И это всегда «полыхание огня» (Огонь),
«разливы рек и потопы» (Вода), «бури и смерчи» (Ве
тер), «смещение гор, извержения» (Земля). Так при
близительно могла бы выглядеть поэтика политиче
ского у Эйзенштейна.
18 Эйзенш тейн исследует «Темницы» — серию оф ортов
Дж.-Б. Пиранези с точки зрения внутренней динамики об
разной композиции и приходит к выводу, что перед нами
имплозия, скрытый взрыв. Вот почему в офортах «Тем
ниц» мы не ощущаем тяжести и гнета, но одну легкость:
перед нами не воплощенная окаменевшая тяжесть тюрем
ных замков и стен, а взрывающееся облако перспективных
пролетов, мы словно застаем момент взрыва, ибо так ди
намика возвышенного чувства прокладывает себе путь —
выходя, «выплескиваясь» за видимую композицию п р о
изведения. И этот путь скрытой энергии взрыва, импло
зии, становится и путем нашего нарастающего изумления
перед взрывной силой. У Гойи колоссальное (Ж. Деррида)
определяется через общую конфигурацию насилия не про
сто несоразмерностью центральной фигуры с остальны
ми, периферийными, но и угрозой со стороны всесокру
шающей воли к насилию, которое невозможно ни задер
жать, ни остановить.
III. Мишель Фуко
и политическая история
тела
ТЕАТР КАЗНИ
Ф
уко начинает «Надзирать и наказывать» с выра
зительных свидетельств архива, представляя два
порядка телесного опыта наказания: первый вопло
щен в казни, это, если так можно сказать, «горячий
опыт», чуть ли не с запахом крови, предсмертным по
том, с этой невозможной болью и воплями казнимых,
заглушаемыми гулом возбужденной толпы; и на эша
фоте царит один герой — казнимый: второй — в тюрем
ном распорядке, где нет героев, но только повседнев
ная и монотонная, размеченная по минутам механика
послушания и надзора, созданная для любых тел, ко
торые, подобно теням или марионеткам, появляются
на свету предписаний, экзаменов, упражнений и муш
тры; если здесь и есть герой, то только тюремный рас
порядок. Главное же различие между этими двумя по
рядками наказания заключается в том, что в одном
случае архаичный и примитивный механизм казни
способен «обслуживать» только одно тело; в другом —
карательный эффект сменяет функция надзора, кото
рая уже охватывает неопределенное множество тел.
Но в том и в другом случае наказание следует опреде
лять в терминах принудительной физики тел, сначала
слишком прямой и полностью захватывающей казни
мое тело, но затем косвенной, обходной, но оптически
исключительно точной и скрупулезной, поскольку эта
физика захватывает наказуемое тело благодаря уже за
хваченному и получившему жесткую архитектурную
форму пространству, им оно воздействует на тела, ни
когда «не касаясь» отдельного тела, и вместе с тем ока
71
В алерий П одорог а. А пология
политического
зывается в не меньшей степени физичной, чем старая
казнь. Два тела и только две физики власти наказы
вать, которые совершенно по-разному распределяют
боль. Но, в сущности, еще пока одна, единая полити
ческая анатомия.
ECHAFAUD. ТЕЛО ПЫТАЕМОЕ И КАЗНЕННОЕ
Напомним о замысле Фуко. Инициаторы юридическиправовых реформ XVIII в. (как, впрочем, и обществен
ное мнение, которое они представляли в эпоху про
свещенных монархий) были потрясены не только чу
довищной жестокостью казни, но и тем, что судебная
практика определялась столь иррациональными и до
рогостоящими методами, эффективность которых ста
новилась все сомнительнее. Отсюда девиз судебных ре
форм этого века: не меньше, а лучше, рациональнее на
казывать. Действительно, преступник и преступление
связывались между собой произволом короны, и не
удивительно, что процедуры наказания еще не были
подкреплены юридически, оставаясь во многом доправовыми и «случайными». Задача, которую ставит пе
ред собой Фуко, состоит в том, чтобы показать разрыв,
существующий между «законом и правом суверена»
и «справедливостью» наказания в эпоху, предшествую
щую судебным реформам. Но не только: показать, как
утверждается это несоответствие между преступлени
ем и видом наказания, как оно эволюционирует на про
тяжении ряда исторического времени. Не следует ли
понимать наказание как такой социальный феномен,
который всегда проявляется отделенным от юридиче
ского содержания? Другими словами, необходимо ис
следовать «конкретные карательные системы» как со
циальные феномены, которым, как полагает Фуко вслед
за Г. Руше и О.Кирхеймером1, не в силах «дать объяс-1
1 Rusche G.у Kircheimer О. Punishment and social structure. NY,
1968.
72
III. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я и с т о р и я т е ла
нение ни наличная юридическая структура общества,
ни фундаментальный этический выбор»2. Это можно
пояснить следующим образом: если вы намереваетесь
представить историю наказания, то вы будет вынуж
дены искать ее выражения не столько в сфере «духа»
или «закона» (истории юридически-правового созна
ния, которое всегда апеллирует к идеальной норме),
а в сфере «тела» (социальная и политическая история
технологий тела). Почему это столь необходимо? Хо
тя бы потому, что степень жестокости наказания рез
ко колеблется от эпохи к эпохе и не имеет равнознач
ного юридического смысла и социального содержания.
Должно существовать еще нечто промежуточное, что
связывает институт наказания с самими процедурами
наказания, что устраняет и заполняет этот очевидный
разрыв и дает возможность функционировать систе
мам уголовной юстиции. Для Фуко это «промежуточ
ное» и определяется как властное отношение. Разнооб
разные технологии наказания не зависят от характера
совершенного преступления, связь между тем и дру
гим юридически случайна и целиком определяется ис
торическими потребностями поддержания необходи
мого режима властных отношений. Поэтому мыслить
власть в горизонте карательных технологий — это зна
чит стремиться понять, как устроено политическое те
ло индивида в отдельную историческую эпоху, какова,
например, его «карательная анатомия» и каковы техно
логические процедуры наказания, которые обеспечи
вают его функционирование, воспроизводство, необ
ходимую свободу или зависимость, возможность его
устранения или подавления и как качества этого тела
меняются в силу изменения тех или иных социальных,
экономических или политических условий, т. е. в силу
того, какое именно тело необходимо для поддержания
определенного режима властвования: тело раба, тело
2 Foucault М. Surveiller et punir. Naissance de la prison. R,
1975. P.29.
73
В алерий П о л о р о г а . А пология
политического
производящее, тело послушное, тело эротизованное
или аскетическое. Власть (понятая как технологическая
процедура) выслеживает и организует форму тел, стиг
матизирует их, как говорят юристы, помечает положе
ние индивидуального тела в социуме отрицательными
знаками: «Теперь твое тело вне закона, а ты — тот, кто
приговаривается, устраняется, подвергается обследо
ванию, исправлению или пытке». Стигма — своего ро
да телесная печать Власти, а не Закона, так как процесс
стигматизации всегда располагается на микрологических уровнях социальности, там, где минуя сознание,
возможно чистое проявление отношений между вла
стью и необходимым ей видом телесного опыта (бо
ли). Сущность абсолютистско-деспотической модели
власти Фуко определяет краткой формулой — право
над жизнью и смертью: «Право, которое определяется
как право „над жизнью и смертью“, фактически явля
ется правом предавать смерти или оставлять в живых,
le droit de faire mourir ou de laisser vivre»3. Механизм аб
солютистской власти, как бы заклинившийся на одной
операции, — превращать в смерть все то, что препят
ствует, ограничивает, восстает, преступает, — сводим
к решающей стратегеме этого типа власти: взиманиЮу
prelevement4. Фуко еще называет его «механизмом вы
читания»5. Взимать богатства, продукты труда и объ
екты природы, время и пространство, кровь — значит
давать смерти самые широкие полномочия. Угроза
со стороны смерти имеет в эти эпохи громадное соци
альное значение: во-первых, смерть открывает симво
лическую функцию крови, благодаря которой проис
ходит распределение человеческих множеств по лини
ям кровного родства, благородного и неблагородного
происхождения; именно кровь указывает на разделы,
проходящие между военным поражением и победой,
3 Foucault М. La volonte du savoir. P. 178.
4 Ibid. P.53.
5 Ibid. P .220-221.
74
III. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я ис т о р и я тела
доблестью рода и низостью черни; во-вторых, смерть
дифференцирует массы населения эпидемиями, голо
дом, стихийными бедствиями, сокрушая государства
и самого суверена; наконец, с ее помощью абсолютист
ская власть пытается утвердить во всем блеске древ
нюю мнемотехнику наказания и прежде всего ритуал
казни. Другими словами, трудно не согласится с тем,
что в эти эпохи власть смерти над жизнью является
безусловной. И эта власть не имеет другого выбора, как
только пытаться отождествить свою мощь со смертью,
столь же необходимо природной, сколь и случайной.
Вот почему линию бесконечно осуществляемого на
силия нельзя отвести от этого типа властвования. По
литические требования коронованного субъекта, как,
впрочем, его каприз, случайность принятого решения,
безумие или чувство мести соединяются в одно: испол
нение закона как проявление крови в качестве символа
финального аккорда смерти — все это составило «поле
суверенности», в котором еще нет места для жизни, ку
да еще не проникли, да и не могли проникнуть потреб
ность в поддержании жизни, экономия сил и ресурсов,
увеличение производительности труда, так как власть
суверена не стремилась охранять жизнь, но скорее ис
пользовать ужас смерти против жизни. Закон сувере
на действовал как род возмездия, как возобновление
памяти о боли, и его единственным референтом оста
вался меч палача.
Рассмотрим сцену казни.
Суверен
75
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
Разберем наш сложный треугольник на составляющие
его элементы отношений
Суверен
Палач
Казнимый
Пытаемый
Приговоренный
Суверен
Палач
(Толпа)
Запишем:
Суверен — палач — приговоренный
Палач — казнимый — пытаемый
Суверен — народ — приговоренный
Палач — народ — приговоренный
Грань каждого треугольника указывает на ближайшее
и все определяющее отношение. Все эти внутренние
отношения динамизируют геометрию, поскольку каж
дое из этих отношений сохраняет свое место среди
других и воздействует на них, как они на него.
76
III. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я и с т о р и я т е ла
Одна фигура— это тело, казнимое и пытаемое, тело
признающееся дано в своей почти легендарной завер
шенности, и оно почти равно в дискурсе эшафота то
му, от чьего имени оно подвергается казни и пыткам, —
скрытой фигуре. Что же это за фигура? Она очевидна
своим отсутствием. Воспроизводимый во всех крова
вых подробностях этот дискурс выстраивается в сце
ну в силу непрерываемого действия этого физического
террора, этой боли, безмерной и невыносимой. Распо
ложение фигур на этой сцене имеет свои особенности:
тот, кого казнят, тот, кто казнит, а также тот, кто реаль
но не присутствует на эшафоте, но управляет всем хо
дом казни благодаря своей устрашающей воле и выс
шему праву карать любое преступление,—это Суверен.
Итак, четыре ФИГУРЫ: суверену народ, палач и при
говоренный (пытаемый-казнимый).
Суверен. Его присутствие-неприсутствие на эшафоте
определяет диспозицию всех других фигур, которые,
в сущности, являются лишь отраженными фигурами
суверена, чье «блистающее тело» и обладает этими ка
чествами присутствия-неприсутствия. Суверен обла
датель двойного тела, «король о двух телах», kings two
bodies, как определил Е. Канторович6. Эта разновид
ность властного тела имеет долгую политико-теологи
ческую традицию исследований. Но что же это за те
ло? Сконструированное по христологической модели,
оно образуется в результате наложения друг на друга
двух ипостасей: одна, будучи наделена знаками боже
ственной власти («власти от Бога»), блистающе зри
ма, неприкосновенна и пребывает вне человеческого
времени (tempus), то есть находится во времени самой
деспотической власти (время aevu m ), которое являет
ся бесконечным, но отнюдь не вечным, не временем
aeternitaSy другая ипостась, посредством которой толь
6 Kantorowicz Е. И. The K ing’s two Bodies. A Study in
Mediaeval Political Theologie. Princeton, 1957. P.84.
77
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
ко и может быть представлена сверхчеловеческая сущ
ность деспотической власти, — это страдающее, вре
менное, «смертное» тело короля как человека, плоть
«божьей твари». Но поскольку деспот-король двуедин
в ипостасях, то он не может распасться в «мертвой сво
ей плоти», просто исчезнуть в человеческом време
ни, так же, как он не может перейти и во время Бо
га, не знающего ни прошлого, ни будущего, а только
вечно настоящее: он обладает своим временем, про
текающим в бесконечность между временем вечно
сти и временем сиюминутным и тленным. Это и есть
время испил. «Короли умирают, но Король — никогда».
Идея деспотической власти заключается в постоян
ном преобразовании смертной ипостаси. Чем более
могущественна деспотическая воля, тем более смерт
ная плоть становится «ясным сиянием», «блеском ве
ликолепия», тем более для всех подданных «видимым»,
скрывая свою бренность сиянием первой ипостаси:
«...сияние (нимб) смещает его носителя, смещает, если
говорить схоластически, от tempus к aevum, от конеч
ного времени к времени вечности, в каком-то смыс
ле в некоторый континуум времени без конца; осенен
ная нимбом персона короля, или скорее персона qua
halo, ее ordo „никогда не умирает“»7. У Монтеня мы на
ходим сходные наблюдения: «Верховная власть — ка
чество, которое подавляет все прочие существенные
и подлинные качества. Они в ней растворяются и са
ми должны проявляться лишь в действиях, с ней не
посредственно связанных и ей служащих в делах цар
ствования и правления. Так велико королевское досто
инство, что облечен им только государь. Окружающее
его изумление, идущее сиянием, скрывает от нас че
ловека. Взор наш ничего не различает. Наполненный
и отягощенный слишком ярким светом, он оказыва
ется как бы отброшенным назад»8. Тем важен в дан
7 Kantorowicz Е. Н. Ibid. Р. 84.
8 Монтень М. Опыты. Кн.З. М.; Л.: Наука, I960. С. 176-177.
78
III. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я и с т о р и я тела
ном случае анализ Фуко картины «Менины» Веласке
са, что о н позволяет нам установить этот скользящий
момент перехода от одного типа властвования к дру
гому. И первое, на что хотелось бы обратить внимание
в полотне Веласкеса, — это прямо-таки насыщенное
взглядами персонажей глубокое пространство. Эмо
циональная потрясенность их, доходящая до изумле
ния. Все пространство пронизано линиями взглядов,
словно «подвешено» на них. Можно сказать, что это ак
тивное зрительное пространство, опережающее наш
взгляд и рассматривающее нас, случайных во времени
зрителей, с неподобающим интересом и восхищением.
Это собрание взглядов, «отброшенных назад». Почему
так строг запрет на изображение королевского места?
Именно потому, что художник попытался изобразить
этот акт созерцания двойного тела короля, эту неданность обожествленной ипостаси и фактически триумф
присутствия неприсутствующего, и не может быть, ви
димо, ибо всякий раз прямой взгляд оказывается от
брошенным назад (так, напротив, всякий, кто пыта
ется занять это место, оказывается «отброшенным»).
Палач. На первый взгляд неясна роль палача. Каза
лось бы, он только приводит приговор в исполнение
и должен быть зеркальным отблеском высшей власти,
ее орудием, ведь казнит не он. В то же время казнит
все же палач, и это даже человек, имеющий имя, ко
торый, как и все другие смертные, не имеет никаких
прав от Бога на убийство другого человека. Вот поче
му на эшафоте свершается новое преступление, вновь,
но уже по «закону»* и «праву» один человек убивает
другого. Однако такое толкование казни допустимо
лишь с точки зрения новых стратегий власти наказы
вать. Палач — лишь орудие, отражение высшей воли,
его одевают в особые одежды, скрывают лицо за мас
кой, вводят церемониал «обратного жеста», как ес
ли бы палач был лишь обратным отражением чело
веческого, и разве не то же самое пытаются сделать
79
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
с преступником, когда его лицо закрывают черной ма
терией, и все это делается ради того, чтобы полностью
отделить палача и преступника от цели казни: карается
преступление, а не тот, кто его совершил. Тем не менее
эти предосторожности неощутимы в казни как в зре
лище. В процессе казни палач получает образ челове
ка, убивающего другого: во-первых, это длительность
казни, во-вторых, противостояние, в которое вовле
чены палач и его жертва, ее пассивность или, напро
тив, упорство, способность выдерживать телесные му
ки до конца, умирать без раскаяния долгой смертью,
словно бросая предсмертный вызов той высшей силе,
что стоит за палачом; в-третьих, следует не забывать
и о реальных мгновениях казни, которые так зависят
от искусства палача убивать. И все же фигура палача
несоразмерна фигуре казнимого, палач — лишь отра
жение, зеркало, задающее общее расположение фигур
и, кроме этого, ничего не значащее, тень, которая пада
ет на жертву, тень, отбрасываемая тем, кто остается не
видимым и видим только через действия палача. И тот,
отсутствующий, обнаруживает свое существование
в самих процедурах пыточной казни, абсолютно не
соразмерных по своему «зверству» конкретному виду
преступления. И эта несоразмерность, как ни стран
но, уравнивает суверена с самым последним из пре
ступников, ибо жестокость казни и сила, с какой те
ло преступника разрывается на куски, делают любое
преступление прямым вызовом венценосной власти.
Казнь завершается поистине мифической «обработ
кой» тела пациента: казненного уже нет, он уже мертв
и не в силах пережить ритуал повторной записи закона
на своем теле, пределы страдания ограничены, но зато
действие карающей власти остается беспредельным9.
Приговоренный. Преступник своим преступлением
уравнивает себя с сувереном — и это вызов. На него
9 Сансон А. Записки палача. Лугань, 1993. С. 62-65.
8о
III. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я ист ор ия тела
должен быть получен ответ, и как можно скорее. Пре
ступление и наказание в неком идеальном временном
пределе должны совпасть в одном мгновении. Уто
пия мгновенного действия возмездия лежит в осно
ве божественной ипостаси суверенной власти10. Па10 У античного историка и философа Плутарха мы найдем
весьма поучительное эссе, которое называется «Почему б о
жество медлит с воздаянием?». Этот вопрос, возможно, сле
дует понять так: почему боги не карают нарушителя их во
ли и закона сразу же, как только происходит нарушение?
«Из того, что казнь настигает злодеев медлительно и непо
спешно, не следует, будто божество боится в спешке оши
биться и потом раскаяться. Божество хочет своим приме
ром избавить нас от жестокости и упорства в нашей жажде
наказания: оно учит нас не гневу, от которого возгорается
страсть, взлетевши высоко над разумом», когда мы, точ
но терзаемые голодом и жаждой, кидаемся на тех, кто нас
обидел, — оно учит нас, приступая к наказанию, подражать
божественной мягкости и неспешности, порядку и забот
ливости, памятуя, что представленного преступнику вре
мени может быть недостаточно для раскаяния» (Плутарх .
Исида и Осирис. Киев, 1996. С. 134). Теперь мы прекрас
но понимаем, что древнее правосудие все-таки ориенти
ровалось на справедливость наказания и тем самым на ис
правление преступника. Преступление ожидало своего ча
са не как отмщения, а как нравственного перерождения
преступника. И только в крайних случаях, когда преступ
нику стало недоступным раскаяние, он подвергался уни
чтожению (именно в силу своей монструозности). И эта
задержка с воздаянием важна, поскольку она позволяет
состояться тому, что греками зовется судьбой, дать сбыть
ся случаю, который не замедляет судьбу, но исполняет. Ис
полняющееся свойство судьбы устраняет случайность на
казания/ ненаказан^я. Никто не сможет избежать наказа
ния. Другими словами, закон действует только тогда, когда
он един и неделим как для смертного, так и для богов. Ес
ли все же бессмертные избавлены от судьбы, то в относи
тельном смысле они бессмертны, так как остаются теми же
и не могут быть другими. Достаточно вспомнить нашу рессентиментную классическую литературу. Л. Толстой в «Вос
кресении» показывает, как совершается преступление и как
приносится в жертву невинный человек (хотя и его неви
новность весьма относительна, ведь героиня является жен-
8i
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
лач закрывает собой смертный облик венценосца, ведь
последнего никто не должен видеть вне его божест
венных знаков и реалий власти. Преступник же «ви
дит» своим преступлением в венценосце обычного
смертного. И еще: казнь — это и политический ритуал,
и празднество, «солнечное» представление суверена.
И как всякое театральное действие, оно обращается
к зрителю, его эмоциям и страстям, к его естественной
склонности отождествлять себя то с героем-преступником, то со святым мучеником, то с инстанцией аб
солютного террора — палачом. Подобная театрализа
ция казни не всегда эффективно способствовала вос
становлению памяти закона. Более того, техническая
изощренность и нормативность широко используе
мой в эту эпоху телесной пытки (до последующих су
дебных реформ X V III в.) вполне могут служить сви
детельством рождения нового знания о теле и его по
литической анатомии. Но как обретают это знание,
из чего складываются его технические возможности
приобретения? Это прежде всего познание пассив
ного, скованного и подавленного пространством за
точения тела. Судебное разбирательство проводится
в тайне, господствует презумпция виновности. Нака
зания, несмотря на их видимое разнообразие и от
носительную регламентированность, остаются «слу
чайными» и подчиняются или повторяют древние
процедуры наказания. Например, фактически, уни
версальным принципом технологий казни становит
ся мифологема разъятого телаУmembra dizjecta. Ка
рательная техника здесь еще исполнена «поэтическо
го чувства» и соответствует тому, что О. Фрейденберг
называла семантикой метафор наказания, присущих
мифическому освоению мира, именно она устанавщиной). Так и Достоевский не справляется с Раскольниковым-убийцей, который хотел бы раскаяться, да не может,
гордость мешает. Нераскаявшийся преступник, готовый
на новое преступление, и есть монстр.
82
III. М и ше л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я и с т о р и я тела
ливает карательную обратимость (метафорическую)
между видом преступного действия и самим телом
преступника. Причем эта обратимость долгое вре
мя является образцом для новых, формирующихся
в X V III в., юридических и пенитенциарных систем. Од
нако одно дело — казнь, а другое — пытка. Конечно,
они могут совпадать и совпадают в этой драме страда
ния и боли, что развертывается на эшафоте, но суще
ствуют порознь, и не только потому, что приговорен
ный к казни должен быть подготовлен к своей роли.
Пытка имеет непосредственное отношение к истине
преступления, в отличие от казни, которая должна
лишь повторить и красочно представить все, что бы
ло достигнуто с помощью пытки, в театральном дей
стве эшафота и на «потеху толпы». Медленность пыт
ки неравна медленности казни, ибо в казни распреде
ляют боль в теле казнимого, а в пытке его тело служит
лишь средством для выявления истины преступления.
Другими словами, пытка не представляет собой «казнь
до казни» и не может служить моделью для «медлен
ной казни». Известная медленность пыточных проце
дур направлена не столько к тому, чтобы дозировать
боль и как можно дольше удерживать ее в теле обви
няемого, но прежде всего для того, чтобы добиться
признания — истины преступления. Телесная пытка
остается основным средством доказательства вины,
но вина должна быть признана тем, кто подвергается
пытке; без этого признания террористическая маши
на наказания следствия перестает работать. Это новое
познание человеческого тела нашло свое выражение
в инквизиционных методах дознания, именно инкви
зиционные процедуры формировали из обвиняемого
«признающееся тело», тело, которое необходимо заста
вить огласить истину преступления через ту боль, ко
торую оно испытывает, то есть, как это тогда казалось,
совершенно независимым и объективным образом:
«Пускай говорит только тело! Разве может тело, охва
ченное болью, лгать?» Итак, тело обвиняемого — объ
83
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
ект пыточного эксперимента. Вот почему оправданы
пытка как способ прямого физического воздействия
и ее цель — вырвать признание, но не любой ценой,
а в пределах регламентированной, количественно из
меряемой технологии причинения боли. И тело пытае
мое действительно познается: устанавливаются пре
делы и глубина боли в соответствии с возможностью
вызвать аффект признания, его сопротивляемостью
или, наоборот, полной неспособностью выдержать бо
левой шок. Инквизиционная процедура обеспечива
ет постоянство процесса тотальной дезиндивидуации обвиняемого: он должен стать телом-поверхностъЮу утратить все свои персональные и сословные
признаки, подвергнуться исключению из любых воз
можных форм его прежней социальной жизни. Толь
ко суверен, этот сверхсубъект власти, может быть тем,
что он требует признать с помощью пыток и казней
от своих подданных, его обожествляемое тело есть те
ло закона11. Линия подобной индивидуации сувере-1
11 Возрождение инквизиционных процедур мы можем на
блюдать при сталинском режиме, но исключительно в ка
честве средств, вырывающих признание и устраш аю
щих. Показательные сталинские процессы перекликаются
с «процессами ведьм», и эта параллель остается настоль
ко очевидной и верной, что позволяет поставить вопрос
о природе технологий власти, используемых в тоталитар
ную эпоху. Во-первых, технология «вырывания признания»
имеет свои особенности: признание должно быть заявлено
публично, но его добиваются тайно в результате примене
ния к «подозреваемому» самой жестокой и ничем не регла
ментированной пытки; и здесь, может быть, решающий мо
мент заключен в противоборстве следователя-палача и его
жертвы, поскольку и обвиняемый, и следователь прекрас
но знают о ложности обвинения. И только пытка, собст
венно, позволяет превратить ложное обвинение из «грубой,
неуместной шутки» в подлинную драму, где ставкой не яв
ляется больше ни жизнь обвиняемого, ни того, кто обви
няет, но невыносимые мучения допроса, которым подвер
гается «обвиняемый». Пытка позволяет драматизировать
опыт веры, которой в большинстве случаев обладали обви-
84
III. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я и с т о р и я тела
на устремляется вверх от тела, которое испытывается
в дознании вплоть до его полного уничтожения в каз
ни, к сверхтелу, чья мощь нарастает пропорционально
каждому вырванному под пыткой признанию.
В глубине этой восходящей индивидуации про
исходит важное событие: перевод всех технических
средств и методов, накопленных в процедурах инкви
зиционного дознания, в план «испытания» природ
ных объектов; только это событие — в этом заключа
ется одна из гипотез Фуко — способно связать исти
ну познания с отношениями власти. Только благодаря
этому событию возможно появление фундаменталь
ных предпосылок «эмпирических наук»; методы и тех
нология инквизиционного дознания, подкрепленные
уникальными правами суверенной власти (право над
жизнью и смертью), образуют то, что Фуко и называ
ет «юридически-политической матрицей эксперимен
тального познания»12. Что такое исповедальный (или
признавательный) режим истины? Отвечая на этот
вопрос, было бы полезно обратиться к теории инди
видуации М. Вебера, близкой Фуко по конечным це
лям и вместе с тем противоположной по своим из
начальным установкам и историческому материалу.
Новый опыт индивидуации был бы невозможен без
этического и профессионального выбора, без этики
«призвания» (Beruf): методическим, целиком прони
зывающим повседневность существования, испол
нением профессионального долга «во славу Божию».
няемые, поскольку она подвергалась опровержению в каж
дом допросе. Признание вырывалось... но так, чтобы тот,
кто высказывал его, попытался играть свою роль до кон
ца, причем с должным вдохновением. Вероятно, призна
ние было необходимо для того, чтобы преодолеть недове
рие людей к процедуре дознания. Это вообще удивитель
но, что достоверной уликой преступления было признание
(Szasz Th. S. Manufacture of Madness. A Comparative Study of
the Inquisition and the Mental Health Movement. NY, 1970).
12 Foucault M. La volonte du savoir. P.226.
85
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
И этот выбор — внутренний, никому извне не под
отчетный, выбор такого жизненного поведения, ко
торый и может быть совершен человеком, социаль
но одиноким, намеренно отвергающим всякое уча
стие или суд со стороны другого (судьи, исповедника,
учителя, властителя и т.д.). Пуританин, не без восхи
щения обрисованный Вебером, — подлинный профес
сионал веры: его призванность, а если более точно сле
довать веберовской терминологии, его избранность
предопределена и не нуждается в опеке, коммента
рии или помощи со стороны института традицион
ной церкви и вообще любого другого социального ин
ститута. Но, конечно, это не значит, что потребность
во внешнем признании и руководстве исчезает, ско
рее исчезает традиционный механизм религиозной
практики, который опирался исключительно на да
рование «институциональной благодати». Другими
словами, не авторитетный посредник, регулирующий
возможности доступа к институту благодати, но толь
ко призванность к Божьему делу на земле, обретаю
щая смысл исключительно во внутреннем становле
нии самой личности. Негативные следствия испове
дальной практики (католической) Вебер видит в том,
что значение авторитетного посредника растет по ме
ре возрастания интенсивности исповедального спо
соба достижения благодати; посредник — а это по
средник по сану, не по личной харизме, своего ро
да чиновник при институте благодати — оказывается
простым функционером дисциплинарной структу
ры; он требует, и это Вебер особенно подчеркивает,
не свидетельств веры (личного религиозного подви
га, аскетической виртуозности или чего-то подобно
го), а безусловного послушания. Только безусловное
послушание гарантирует верующему доступ к благо
дати, «высшей религиозной ценностью считается под
чинением институту как таковому»13, причем благода
13 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 138-142.
86
III. М ишель Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я ис т о р и я тела
ти может удостоиться любой верующий. Другой сла
бостью институциональной практики традиционной
церкви было нарушение психологических основ ре
лигиозного таинства. Если институт благодати требу
ет от верующего безусловного подчинения, не разо
вого, а непрерывного, то, напротив, тот же институт
вовсе не озабочен тем, чтобы поддерживать в верую
щем постоянное напряжение веры, что характеризо
вало протестантские секты. Здесь план психологии ве
ры дискретен, а план подчинения непрерывен; с помо
щью второго плана верующий может легко переходить
в первый. Основным средством перехода является (на
ряду с церковной дисциплиной) исповедь, или ритуал
признания, регулируемый институциональными по
средниками. Что же достигает верующий в исповедипризнания? Прежде всего, как отмечает Вебер, «пси
хологический эффект исповеди повсеместно сводился
к освобождению индивида от ответственности за свое
поведение (этим и определялась приверженность к ис
поведи)»14. Во-вторых, исповедь все больше начина
ет играть роль «периодической разрядки»15, которая
снимает внутреннее напряжение, столь свойственное,
14 Там же. С 240.
Ср.: «Эмоциональность, в целом чуждая кальвинистскому
благочестию, но внутренне родственная известным формам
средневековой религиозности, направляла религиозную
практику в русло посюстороннего ощущения блаженства,
отвлекая верующих от аскетической борьбы за спасение
в будущем, потустороннем мире. При этом эмоциональ
ность иногда могла достигать такой степени, при которой
религиозная вера принимала откровенно истерический ха
рактер; тогда возникало то известное по многочисленным
примерам чередование неврастенических состояний, когда
едва ли не чувственный религиозный экстаз сменялся при
ступами нервной пассивности, ощущаемой как „богооставленность“, — результат прямо противоположный трезвой
и строгой дисциплине, подчинявшей себе всю свою систе
матизированную, святую жизнь пуританина» (С. 164-165).
15 Там же. С. 144.
87
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
например, адептам протестантской аскезы, а с другой
стороны, создает иллюзию достижения верующим со
стояния «естественного человека», человека вне греха
и вины, пускай, этой состояние «мгновенно», посюсторонне и полностью определяется условиями выполне
ния институциональной дисциплины, но тем не менее
оно в силах сблокировать глубокие невротические пе
реживания; наконец, исповедальная практика дела
ет случайной взаимосвязь плана веры и плана подчи
нения. Всякая же попытка стабилизировать эту связь
приводит к тому, что адепт может впасть в мистиче
ское переживание веры и тем самым вообще устра
ниться из второго плана.
Совершенно иным путем развиваются (становят
ся) протестантская аскеза и ее главная форма — «эти
ка призвания». Два плана — план веры и план подчи
нения — меняются местами: «индивидуальность» по
является для Вебера в том процессе, где происходит
смещение подобных планов, при котором план подчи
нения становится дискретным, а план веры непрерыв
ным, и подобное «смещение» в протестантской аске
зе достигается не в последнюю очередь за счет отмены
исповедальной практики: точное, постоянно рефлектируемое, исполненное рациональности поведение ве
рующего, обретшего «призвание», не требует ника
ких посредников — по отношению к властям пурита
нин довольствуется случайными отношениями, если
не сказать большего: протестантский аскетизм — «это
монашество в мире» — стремится устранить влияние
на акт веры любых, не говоря уже о государстве, соци
альных и политических институтов; правда, если это
влияние могло укрепить авторитет религиозной об
щины, придать ей больший вес в глазах других верую
щих, оно не отвергалось, тем не менее теоретически
никоим образом не могло занять место посредника».
Именно здесь, в этой «одинокости», социальной и ду
ховной предоставленности личности самой себе Вебер
и усматривает основы всей западной европейской ин88
III. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я и с т о р и я т е ла
дивидуации: вера, утверждаемая неустанным исполне
нием профессионального долга, успех которого зави
сит от рациональности поведения, и, с другой стороны,
контакт с чистой религиозностью вообще снят и пере
несен в измерение абсолютной трансценденции. За счет
того, что устраняется разрыв между планом веры и пла
ном подчинения (и тот, и другой план, насколько они
реализуются в практике католической церкви, исче
зают в одном-единственном плане), образуется то, что
Фуко называет линией «нисходящей индивидуации»:
повседневное поведение предельно рационализуется
и тем самым больше не нуждается в эмоционально те
рапевтическом воздействии ритуала исповеди-призна
ния. Сфера внешне принудительного поведения сужи
вается до исполнения устава религиозной общины,
да и то не получает авторитарной окраски. Не случай
на здесь апелляция Вебера к «я мыслю» Декарта. «Лишь
пронизанная постоянной рефлексией жизнь рассмат
ривалась как путь к преодолению status naturalis. Таким
образом, cogito Декарта было воспринято современ
ными ему пуританами в своего рода этическом преоб
разовании16. «Я» буржуазного индивида оказывает
ся продуктом процессов рационализации внутреннего
строения протестантского аскетического опыта. Таким
образом, вместо двух планов—плана веры и плана подчинения, чью асимметрию поддерживает ритуал испо
веди— появляется единый план «я», который поглоща
ет в себе, рационализует все возможные и разнородные
планы жизненного поведения. План веры утрачива
ет свойства мистического единства с Богом, секуляри
зуется, но вовсе не покидает сферу внутренней жизни.
План принудительного поведения становится случай
ным, когда речь идет о внешних, формальных контак
тах с институтами религиозной или светской власти,
но и необходимым, когда трансформируется в план «я»
для рациональной организации жизненного поведения
16 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 154.
89
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
пуританина (понятие «внутренней дисциплины»). Эмо
циональные, или, можно сказать, иррациональные, ис
точники внутренней религиозной жизни (все так на
зываемые исповедальные знаки: беседа с самим собой,
покаяние, ощущение греховности, вина, страх и т.п.)
смещаются в совершенно уже недоступный для пере
живания трансцендентный опыт, опыт за пределами
возможной власти рационального «я». Но именно это
«я» — вечный должник этого опыта.
Народ. Между двумя пытками, предварительной и той,
которая и есть сама казнь, и располагается тело каз
нимого; оно предварительно обрабатывается не толь
ко ради признания, но и ради боли. Чудовищный из
быток боли. Мне кажется, что этот момент распреде
ления боли Фуко не принимает во внимание. А ведь
парадокс многих известных казней X V II-X V III вв. как
раз и заключался в том, что необходимо уравновесить
ущерб, наносимый преступником короне, таким на
казанием, которое было бы всегда больше любой ожи
даемой пыточной боли. Во всяком случае, сделать эту
боль настолько сокрушающей и неимоверной, чтобы
память о ней надолго сохранилась, отложилась в сле
дах и шрамах, не только у совершившего преступления,
но и у смотрящей на казнь публики, у «народа». В «Ге
неалогии морали» Ф. Ницше (книга, которая оказала
глубокое влияние на становление концепции Фуко) ра
дикальным образом разводится институт наказания
и само наказание (наказание как процедура): наказа
ние как институт права не предшествует процедурам, используемым в качестве карательных. Словно
две истории: одна история «процедур», а другая исто
рия «права наказывать», что наказывают не совпада
ет с тем, как наказывают, по своему происхождению
ни во времени, ни в пространстве. «Право возника
ет из неправа»17. Институт права для Ницше возни
17 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978.
90
III. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я и с т о р и я тела
кает на основе неправовых отношений, но в дальней
шем закрепляет их в юридическом и моральном созна
нии именно как правовые, и не просто как правовые,
но первоначальные. Как если бы следующий шаг неиз
менно вел бы к изобретению соответствующих проце
дур наказания. Но дело как раз обстоит прямо наобо
рот. Ницше в своей генеалогической реконструкции
морали отвергает «наивную», по его мнению, телео
логию права и наказания и прибегает к демонстрации
архаических опытов стигматизации, которые, остава
ясь доправовыми, гарантировали рождение института
права и закона. Моральная или правовая форма не есть
нечто данное, договорно признанное (и в силу этого
регулятивное), но скорее форма, которая узаконива
ет определенный тип властных отношений. Итак, сна
чала процедура наказания, а только потом наказание
в качестве закона. Ницше пытается опереться на древ
нюю «кровавую мнемотехнику наказания», которая
обеспечивает воспроизводство особой социальной па
мяти и, следовательно, уважение к закону, поскольку
сам закон прямо записывается на человеческом теле.
Боль и закон совпадают в одном телесном ощущении.
Власть и строит свои отношения вокруг человеческого
тела, чтобы все глубже и эффективнее воздействовать
на него. Ницше анализирует один род стигмы, стигму
затронутого тела, или тела-памяти.
Собственно, тело-память для Ницше и фабрикует
ся с помощью инструментов власти. Ведь тело, лока
лизовав на своей поверхности фрагменты памяти ар
хаического коллектива, несет на себе знаки того, что
нельзя забыть под страхом смерти или жестокой пыт
ки: память о боли («только то, что не перестает соз
давать боль, остается в памяти»). На противополож
ном полюсе естественным образом можно обнаружить
другую силу, не менее значимую, активную силу за
бывания, которая нарастает по мере того, как архаи
ческий закон перестает действовать столь же точно
иррегулярно, как он действовал ранее. А действовать
91
В алерий П одо р о г а . А пология
политического
регулярно он может лишь тогда, когда он целиком за
хватывает тело и делает его вместилищем социальной
или политической памяти. Итак, одна сила учрежда
ет мнемонические знаки, другая их стирает. Если од
на целиком и полностью определяется переживанием
боли или возвращением каждого переживания к боли,
регенерации первоначального чувства боли, то вто
рая сила движется в обратном направлении, к некоему
роду очищения и освобождения памяти от «ужасов»
и «страданий» прошлого. Фиктивность забывания, ибо
забывание для Ницше есть лишь условие выделения,
точнее, огораживание поля знаков, которые надо не
пременно помнить. Причем помнить всегда, как ес
ли бы эти знаки были нестираемыми и скапливались
вокруг точек, «шрамов» или зон прошлой боли. Се
миология тела и должна пониматься как нисхождения
субъекта к коллективной или индивидуальной памяти.
Чтобы подчеркнуть наше отношение к проекту Фуко
(который иногда выглядит просто репликой или про
странным комментарием к нескольким мыслям Ниц
ше), выделим одну исключительно важную для обоих
мыслителей семиотическую пару: глаз— боль. Боль для
Ницше, как и для Фуко, — это всегда зрелище, празд
ник, но это всегда чужая боль. Однако, с иной стороны,
мы должны понять боль, страдание или жестокость
наказания в экономических терминах: боль как экви
валент между должником и заимодавцем — вид коли
чественной меры, позволяющий точно измерять раз
личие между «хорошим» и «плохим человеком», «со
вестливым» и «бессовестным» и т.п. «Купля и продажа
со всем их психологическим инвентарем превосходят
по возрасту даже зачатки каких-либо общественных
форм организации и связей: из наиболее рудиментар
ной формы личного права зачаточное чувство обме
на, договора, долга, права, обязанности, уплаты было
перенесено впервые на самые грубые и изначальные
комплексы общины (в их отношении к схожим ком
плексам) одновременно с привычкой сравнивать, из
92
III. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я и с т о р и я тела
мерять, исчислять властью власть. Глаз так и приспо
собился к этой перспективе...»18 (Курсив мой. — В. П.)
Причем боль испытывает именно тот, кто оказался не
способным утвердиться в позиции созерцающего или
вызывающего чужую боль; он обречен на боль, стра
дание, физические муки, но вместе с тем, испытывая
боль, он возвращает долг. И это возвращение долга —
почти всегда месть. Долг не просто вполне материаль
ное и конкретно переживаемое должником событие
возврата одолженного, но возврат может состояться
и через пермутацию самого долга, который может быть
и удовольствием от созерцания чужой боли. Именно
элемент созерцания со стороны, созерцания пристра
стного и пытливого, вводимый в саму боль в качестве
не просто дополнительного измерения, но дающий су
ществование ей как боли, и превращает само лицезре
ние чужой боли в жестокость, ибо это не просто лице
зрение, но момент возвращения долга: глаз — чужая
боль — жестокость (удовольствие от мести). Такова
первая аффективная формула. В сущности, и для Фуко
момент созерцания сцен невыносимой боли на празд
нествах пыточной казни представляет собой такое зре
лище жестокости, посредством которого учатся по
слушанию, страху перед законом, ни тем более разви
тию чувства справедливости, сколько удовольствию
от созерцания чужой боли. Боль должна быть видима,
в противном случае долг не будет возвращен. «Толь
ко месть, чувство мести сладостно!..», «Празднества
боли, где наслаждения смешиваются с кровью и сто
нами жертв...» — подобные поэтические высказыва
ния относятся к разряду «жестокостей»19. Фактиче
18 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. С. 450.
19 Вот казнь того же Дамьена: «Тогда зрители увидели сце
ну, которую невозможно описать словами и представление
о которой вряд ли создаст воображение. Разве в аду мож
но найти что-нибудь подобное. Дамьен с глазами навыка
те, дыбом вставшими волосами, скривившимся ртом, под
93
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
ски, вскрывая аффективную структуру момента нака
зания, Ницше как бы указывает на то, что карательная
функция (месть) формируется как особая процедура
вне какого-либо закона или вне какого-либо института
наказания, который помог бы снять ее «праздничный
взгляд» на чужое страдание. Если присмотреться вни
мательно к структуре книги Фуко, то сразу же заме
тим, что он движется по канве размышлений Ницше.
Действительно, сначала он исследует «празднества бо
ли», где оптическое — внешний глаз — является опре
деляющим для существования зрелища казни. Но за
тем, подобно Ницше (или вслед за ним), он уже видит,
как этот особый глаз, наблюдающий боль, изымает
ся из употребления, и в тот же самый момент, когда
наказание теряет свою непосредственную каратель
ную функцию мести. Боль уже некому созерцать, для
нее нет ни богов, ни безумных тиранов, но нет и «на
рода», что толпится у эшафота. Появляется нейтраль
ный и безучастный глаз закона. Я бы сказал, что из
меняется мизансцена, точнее диоптрика мизасцены.
Заинтересованный мстящий глаз сменяется глазом
нейтральным и безучастным; и если в первом случае
мы еще находились перед барочной сценой и облада
ли в силу этого взглядом, слишком наделенным реак
тивными чувствами, то далее постепенно диоптрия
изменяется — появляется перспектива почти в единой
геометрии единого, нейтрального взора, почти карте
зианская, настолько она строгая, точная и настолько
количественно выверенная: на сцену приходит взор
закона. Вторая формула такова: глаз — нейтральность
стрекал мучителей, насмехался над мучениями и требовал
новых страданий. Когда раздавался треск его тела при при
косновении с воспламеняющимися жидкостями, его крик
сливался с этим звуком, и страдалец произносил уже нече
ловеческим голосом:
— Еще! Еще! Еще!
А между тем это были лишь приготовления к казни» ( Сансон А . Записки палача. Т. 1. С. 315).
94
III. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я и с т о р и я тела
(справедливость) — закон. Однако эти две оптиче
ские формы между тем все же остаются реактивными
и принадлежат человеку определенного культуроло
гического толка, человеку ressentiment, пользующему
ся исключительно (такова его природа) реактивными
чувствами и переживаниями и не признающему игру
сил власти или уникальную множественную перспек
тивность бытия, которая не может быть сведена к ка
кому-либо уникальному оптическому центру, выра
жающему высшую справедливость.
ВЛАСТЬ И СЕКСУАЛЬНОСТЬ
(ТЕМА ДИСПОЗИТИВА)
ЧТО ТАКОЕ ДИСПОЗИТИВ, DISPOSITIVE?
Понятие диспозитива не отличается простотой и на
глядностью. Оно многие годы обсуждается Фуко в ре
жиме уточняющих определений. Прежде всего это
устройство (dispositive), но и дис-позиция (dis-position,
dis-positio), рас-положение, «занять диспозицию», это
также и аппарат20, определенного вида машина или
даже «машинерия» (близкая «зеркальному лабирин
ту», описание которого можно найти в ранней книге
Фуко «Реймон Руссель»)21. В разное время с различ
ным успехом Фуко использовал все эти перечисленные
понятия. Диспозитив — это не только что, но и как,
не только то, что есть, что «прямо перед нами», что
мы наблюдаем, но и то, с помощью чего мы мыслим,
если угодно, это метод. Диспозитив — идеальная точ
20 Понятие «аппаратов государства », введенное некогда
Л. Альтюссером, учителем М.Фуко.
21 Ср. «.. .машины Русселя отождествляются с методом...»
(Foucault М. R. Roussel. R: Editions Gallimard, 1963 (1992),
р. 75.) См. русское издание: Руссель Р. Locus Solus. НикаЦентр, 2000 (пер. Е. Маричева).
95
В алерий П о до р о г а . А пология
политического
ка мысли, орудие, оно позволяет исследовать не толь
ко «безумие», «заключение» или «сексуальность»,
но и всякую неупорядоченную (сингулярную) мно
жественность социальных объектов, процессов, тел
и сил. У фукианского диспозитива много общего с по
нятиями, которые уже долгое время обращаются в ми
ровой литературе (принцип «индивидуации» А. Шо
пенгауэра, «архетип» К. Юнга, «гештальт» Э. Юнгера,
«бриколаж» Леви-Строса, «коллаж» А. Бретона и т.д.).
В 70-х гг. Фуко выделяет в толковании диспозитива
одно из его решающих качеств: отношение власти!гос
подства. Диспозитив, если сказать несколько иначе,—
это властъ-в-действШу или всякая власть в момент
действия диспозитивна. Вот что пишет Фуко: «Диспо
зитив власти как инстанция-продуциент дискурсив
ной практики». И чуть далее следует проблематизация: «.. .не являются, по сути дела, именно устройства,
диспозитивы власти — с учетом того таинственно
го и еще не исследованного, что содержится в слове
„власть“, — той самой точкой, к которой нужно возво
дить формирование дискурсивных практик?»22 На пе
реднем плане модель видимости — функция наблюде
ния и надзора: реализация властного отношения по
крывалась отношениями между статусом наблюдения
и наблюдаемым. Высшая власть переходила из сфе
ры демонстрации видимых знаков мощи, ненависти
и мести в неясную сферу тотального дисциплинарного
контроля; она перестала быть «на свету дня». Начиная
с «Воли к знанию» (1976) стратегия исследования Фу
ко отчасти меняется. В качестве объекта исследования
появляется иное отношение, власть— сексуальность.
Каким образом власть могла проникнуть и закрепить
ся в человеческих телах, создать плацдарм для управ
ления сексуальностью — одним из самых интимных
фуК0 м . Психиатрическая власть. Курс лекций, прочи
танных в Коллеж де Франс в 1973/1974 учебном году. СПб.:
Наука, 2007. С. 27 (пер. А. В. Шестакова).
22
96
III. М и ше л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я и с т о р и я т е ла
явлений человеческой жизни. Дистанция, что до сере
дины XIX в. позволяла управлять дисциплинарными
пространствами (конечно, не потерявшая своего зна
чения и сегодня), перестала быть столь эффективной,
как прежде, ибо интерес к управлению человеческим
телом неизмеримо вырос и не может быть ограничен
практикой исключения, запрета, «неусыпного контро
ля». Потребовалось допустить много большую свобо
ду для человеческого тела, но одновременно не поте
рять над ним контроль. И контроль посредством сек
суальности оказался одним из наиболее действенных
из тех средств, которыми стала располагать власть.
Ж. Делез дает следующее описание диспозитива:«.. .пе
реплетение нитей (клубок, echevequ), мультилинеарный ансамбль, он образуется из линий различной при
роды. И эти линии в диспозитиве не обрисовывают
ся или подчиняются системам, каждая из которых бы
ла бы гомогенна со своей стороны объекту, субъекту,
языку и т. п., но следует направлениям, оставляет по
сле себя следы процесса всегда неравновесного, и ли
нии эти настолько сближаются, насколько удаляются
друг от друга. Каждая линия прерывиста, подчинена
вариациям направления, расщепляющимся и разветв
ленным, зависимым от дериваций. Объекты видимые,
высказывания сформулированные, силы в действии,
субъекты в позиции...»23 На первый план выходит
линейность, множественная линеарность, то, что Де
лез (вместе) с Гваттари разрабатывал как ризоматинеский принцип организации гетерогенного (множест
ва)24. В таком случае диспозитив оказывается устрой
23 Michel Foucault Philosophe. Rencontre Internationale. Paris
9 -1 1 janvier 1988, 1989. p. 185.
24 Своеобразие позиции Делеза заключается в том, что он
пытается представить метод диспозитива власти ретро
спективно и применить его ко всем этапам становления
мысли Фуко. Так, диспозитив оказывается почти ни в чем
не отличим от ризомы-карты. Вместо фигур, дистанций,
границ, разрывов, «пустот» и т.д. (чисто пространствен
97
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
ством, производящим линии, т. е. высвобождающим
линию. Диспозитив в качестве карты. Все линии в ризоме «спутываются», разветвляются, обмениваются
энергиями и импульсами, которые движимы; убыст
ряются, возмущаются, останавливаются, перескаки
вают с одного уровня на другой и т. п. Однако боль
ший интерес вызывает не Фуко-картограф, а Фукоархитектор, художник, писатель: как он обустраивает
свои «пространства», рисует «картины», как пользу
ется «языком», чтобы удержать то и другое, — все, что
ускользает — в едином ходе повествования. И эти ис
кусства, на основе которых Фуко рассказывает исто
рию, служат одной цели: обнаружить фигуру невиди
мого в ее невидимости. Ответить на вопрос: почему
она невидима? Диспозитив, конечно, линеарен, но иде
альная точка всякой линии подтверждается наличием
фигуративного пространства (или риторикой невиди
мого). Линия не обрывается в точке, не перепрыгива
ет в другую линию, чтобы избежать остановки, скорее
замыкается на себя, чтобы образовать фигуру. Не игной терминологии, использовавшейся Фуко) Делез вводит
игру линий, ничем не ограниченную, имеющую мало от
ношения к фукианским темам «истины». Применявшиеся
Фуко диспозитивы весьма условны: например, технологии
«изоляции» (1962), «технологии пыточной казни» (1973),
«паноптическое видение» дисциплинарного пространства
(1975) или же археология «медицинского взгляда» (1967),
включая диспозитив сексуальности (1976) — и тем не ме
нее все они определялись стратегиями видимого/невиди
мого и значительно меньше отношением высказанного/невысказанного. Ср. например, «Ризома — это антигенеало
гия. Ризома — это краткосрочная память, или антипамять.
Ризома действует вариацией, экспансией, завоеванием, за
хватом, прокалыванием. < ...> Против систем центрирован
ных (даже полицентрированных), иерархической комму
никации и предустановленных связей, ризома — это ацентрированная система, не иерархическая и без означающего,
без Генерала, без организующей памяти или центрального
автомата, определяемая только циркуляцией состояний»
{DeleuzeG., Guattari F. МШе plateau. Р.: Minuit, 1981. P.32).
98
III. М и ш е л ь Ф уко
и и о л и т и ч е с к а я и с т о р и я тела
ра «освобожденных линий», а кон-фигурация, не воз
врат к грамматике и логике старых риторических пра
вил, но обновленная риторика дискурса «истины». Делез, размышляя о «диспозитиве», ничего не говорит
об этом особом свойстве линии: вызывать фигурацию
пространства, — ведь линия затем и нужна, чтобы от
крыть в видимом невидимое, замкнуть его на себя, соз
дать театр фигур, наделяемых значением (профили, от
ражения, цепочки следования).
Дистанция
В каждом диспозитиве заключена доминантная дис
танция, с помощью которой разделяют, присваивают,
сближают тела. Появляются новые возможности кон
троля: обновленные инструменты власти, будто слег
ка касающиеся тела, скользящие размеренно и непре
рывно, запутывают его в паутину оптических лову
шек, манипулирующих им и надзирающих. Всюду игра
дистанций, малых и дальних, сближающих или зама
нивающих. Дистанция — это сила взгляда. Глобальная
смена дистанций исторична; она говорит нам о смене
позиций власти по отношению к человеческому телу
и его окружению. На основе дистанцирования фор
мируются технологии «захвата» тела. Дистанция — это
именно тот «жест изоляции», к которому прибегает
Разум, как к последней мере в борьбе с безумием. Чуть
ранее этот жест называли «жестом изгнания»25. Это
жесты настолько навязчивые, насколько вера в них
безмерна, и никогда не ставится под сомнение. Разум
25 Ср. «...установление этой дистанции вовсе не означа
ет свободы для знания, для его света и не является просто
способом расчистить пути познанию. Дистанция создает
ся вследствие проскрипционного процесса, который напо
минает и даже частично повторяет процесс изгнания про
каженных из средневекового сообщества» (Фуко М. Исто
рия безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская
книга, 1997. С. 118 (пер. И. К.Стаф)).
99
В алерий П о до р о г а . А пология
политического
«изнутри» себя находит возможности объективиро
вать часть самого себя как помеху, ошибку, недоста
точную разумность, а то и просто как неразумие — это
и есть практика дистанцирования. Превращение в не
что объектное того, что недавно было частью природ
ного процесса. Дистанция теперь — это приговор.
Фигуры
По мере чтения «Истории безумия в классический
век», или «Надзирать и наказывать» можно заметить,
как растет, словно снежный ком, коллекция типов, со
бираемых Фуко: «развратник», «расточитель», «гомо
сексуалист» «колдун», «самоубийца» «либертен»; а вот
типы морального плана: «чревоугодник», «нечести
вец», «гордец», «сластолюбец», «венерик», «мнимая
ведьма», «алхимик». Одни из них, не покидая сцену,
уходят в тень, а другие, напротив, становятся не про
сто видимыми, но объектами внимательнейшего из
учения — пребывают «на полном свету». Череда про
ходящих фигур преступления и казни, дисциплинар
ных, эротических, фигур удовольствия, перверсии,
тайного порока и составляет театр-паноптикум Фу
ко. Диспозитив организует пространство/время для
любого из тел, чью чувственность необходимо преоб
разовать в зависимости от общей властной стратегии
данного общества. Диспозитив — это вид зеркально
го устройства, т.е. определенное со-распопожение зер
кал, позволяющее захватить то, что остается невиди
мым для нас, — наши тела. Создать фигуру. Именно
поэтому мы можем видеть невидимое, но не потому,
что оно действительно становится видимым; мы ви
дим невидимое — образы телесности — вопреки их из
начальной невидимости. Диспозитив дает нам не ре
альный образ тела, а фигуру или кон-фигурацию тел,
но фигура не имеет ничего общего с телом, которое
мы называем «своим» или «чужим», приписывая ему
«реальное» существование наряду с другими телами.
100
III. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я ис т о р ия тела
Тело в качестве достоверного постоянно ускользает,
однако с помощью диспозитивных «захватов» мы мо
жем проследить его путь. Фигурация тела в диспозитиве — это видимое проявление невидимого в его не
видимости. Видеть невидимое (в качестве невидимо
го) — это и значит размещать между тем, что видимо,
и тем, что невидимо, фигуру, которая и делает возмож
ным их временный союз26.
Фигура безумия (как, впрочем, и любая фигура) —
не перестает напоминать Фуко — прежде открывает
ся посредством ее возможной социальной видимости.
«Безумие существует столько, сколько оно остается
видимым»27. Однако фигуру нельзя свести к опреде
ленному социальному типу, отторгнутому от общест
ва, исключенному из человеческих связей, подавлен
ному и репрессированному. Это лишь то, что видимо.
Есть и другая сторона, принадлежащая любой фигу
ре, погруженная в неясность и молчание, та часть, ко
торая «не говорит», но без которой мы не сможем по
нять видимое в его невидимых основаниях. Фигуры
безумия могут быть поняты лишь в двойственности
своего присутствия/отсутствия, видимости/невидимости. Действительно, почему именем одного заболе
вания становится ипохондрия, другого — меланхолия,
а третьего — истерия? То, что мы видим, и есть толь
ко то, что было высказано, но не увидено. Собственно,
26 Понятия (термины) «взгляда» и «видимого/невидим ого», которыми оперирует Фуко при анализе историческо
го опыта взаимодействия меж ду властью и сексуально
стью, он перенимает у М.Мерло-Понти. Вот, например, од
но определений последнего: «Смысл является невидимым,
но невидимое не вступает в противоречие с видимым: ви
димое само имеет каркас невидимого, а не-видимое явля
ется тайным дубликатом видимого, оно являет себя только
в нем...» (Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Включая
Рабочие записи (Пер. О. Н. Шпараги под ред. Т. В. Щитцовой). Минск: И. Логвинов, 2006. С. 293).
27 Foucault М. Histoire de la folie a Tage classique. P., 1972.
P. 507.
101
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
генеалогический проект Фуко движется к тому, чтобы
понять, почему психическая болезнь обрела имя и тем
самым получила власть над самим заболеванием.
Фигуры получают движение, как будто они реальны;
на самом деле они остаются лишь не всегда удачными
именами болезни, которая существует в ином изме
рении, неименуемом. Психическое заболевание неви
димо, но имеет имя, видимую и слышимую, высказы
ваемую часть (клиническое описание). Образ айсберга.
То, что не поддается именованию, составляет социаль
ную сущность болезни.
«Долой диктатуру пола!»
Нужно представить себе пол ($ехе) в качестве сконст
руированного понятия и «идеологии», используемых
для контроля над сексуальностью, ограничения и ка
нализации всего спектра чувственных удовольствий.
Нужно отвергнуть тысячелетнее господство идеи по
ла над сексуальностью. Следовательно, не сводить ис
торию сексуальности к высшей инстанции пола, но по
казать, что понятие «пола» находится под исторической
зависимостью от сексуальности. Не размещать пол на
стороне реального («естественного чувства») и сексу
альность на стороне неясных идей и иллюзий; сексуаль
ность как историческая фигура очень реальна, и это она
с необходимостью побуждает понятие пола к его функ
ционированию в качестве спекулятивного элемента.
Не стоит верить тем, кто говорит «да» полу и «нет» вла
сти: следует, напротив, двигаться к полному описанию
диспозитива сексуальности. Извлечь выгоду из проти
востояния захватам власти тел, удовольствий, знаний
в их множественности и возможном сопротивлении.
Опорой в этой контратаке должен быть не принцип пола-и-желаниЯу но принцип тела-и-удовольствий2*.28
28 Foucault М. Histoire de la folie a Tage classique. P.207-208.
102
III. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я и с т о р и я тела
Контратака Фуко носит характер продуманной стра
тегии, он атакует формы представления, определяю
щие отношение к сексуальности. Учреждение зако
на «пола» есть историческое событие, — не данность
и не факт, с которым нам надо смириться и который
бессмысленно обсуждать. Что может быть радикаль
нее, чем гипотеза, отвергающая могущество пола как
закона29. Иными словами, существует нечто, что дела
ет понятие «пол» понятием, но само остается в тени его
и как бы его следствием — это диспозитив сексуально
сти. Последовательность взаимодействия власти, по
ла и сексуальности такова: власть действует в преде
лах диспозитива сексуальности, точнее, она его созда
ет и оформляет в целую систему сложных и обратимых
отношений, которые преобразуют всякий отклоняю
щийся или «одинокий» опыт сексуальности во всеоб
щий принцип сексуального поведения, который пред
стает в виде закона «пола»30.
29 Ср.: «Не следует воображать себе автономную инстан
цию пола, вторично производящ ую множащ иеся эф ф ек
ты сексуальности на долгом протяжении ее поверхност
ного контакта с властью. Пол, напротив, — элемент более
идеальный, спекулятивный, более внутренний также по от
ношению к диспозитиву сексуальности, который власть
организует в этих действиях над телами, их материально
стью, силами, энергиями, опущ ениями, наслаждениями»
(Foucault М. La volonte du savoir. P .204-205).
30 Ведь мы не должны забывать, что термин «сексуальность»
(чуть ли не приравнен сегодня к гомосексуальности) озна
чает вы свобождение определенной практики наслаж де
ния (сравни с садовской). Другими словами, нет никакой
внешней принуждающей и насильственной силы, которая
его бы ограничивала (предрассудками рода, страхами се
мьи, публичностью, законами и, наконец, смертью). Сек
суальность — это победа, причем безоговорочная, над по
лом. Поэтому под удовольствиями мы и должны понимать
нечто, выходящее за границы традиционных, «наследуе
мых» ценностей общества. Эксперимент и вся практика со
временной сексуальности устремляются к поиску (во вся
ком случае, это касается развитых западных обществ) осо
103
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
видим ое
ФИГУР
управляемые
нормой)
Отдельное тело, послушное диспозитиву власти, те
ряет свои физиологические, пространственно-времен
ные и анатомические функции; теперь его индивидуация будет зависеть от тонкого, обширного и разветв
ленного перемещения сил власти по всей поверхности
тела. Микрофизика власти в своем действии иногда ка
жется чем-то вроде «животного духа»: все эти мельчайбых удовольствий от жизни. Благодаря более эффективным
средствам контрацепции женщина освободилась от гнета
«смерти», обрела сексуальность как особое качество ж из
н и — новую степень личной свободы. «Для женщин — и от
части для мужчин, хотя и в ином смысле — сексуальность
стала потенциальной собственностью индивида, поддаю
щейся обработке и открытой для формирования различ
ными способами» (Гидденс А. Трансформации интимности.
Сексуальность, любовь и эротизм в современных общ ест
вах. СПб.: Питер, 2004. С. 54). Естественно, что семья, «орга
ничность и необходимость» репродуктивной функции, по
томство, разделение полов, семейно-родовые связи, насле
дования — все это отступает на задний план по сравнению
с тем могуществом, которое женщина обретает.
104
I II. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я ист ор ия тела
шие корпускулы, вирусы, частицы, атомы образующих
необозримые сети отношений между телами и их удо
вольствиями, подвешенные, быстрые, скользящие и не
уловимые, в нескончаемом роении вокруг определен
ных трансгрессивных зон социального тела, которые
они же сами возбуждают, заражают своей случайно
стью и неупорядоченностью. Запрет всегда сопровож
дает нарушение его неизменным двойником: одно пре
следует другое, укрепляя или ослабляя силу того и дру
гого. Запрет обрастает возможностями его нарушения,
в свою очередь нарушения разнообразят технику и ис
кусство запрета. Нескончаемый процесс совершен
ствования. И, конечно, социально признанные инсти
туты распределения боли (психолечебница, клиника,
тюрьма) явно неэффективны в том, чтобы контролиро
вать сексуальные удовольствия и устанавливать необ
ходимый порядок запретов с точки зрения допустимой
нормы. Великая синергетика греха, поскольку удоволь
ствие больше не может быть «остановлено» распреде
лением боли, ибо сама боль включена в практику по
лучения удовольствий. И если традиционные дисцип
линарные институты еще пытаются распределять боль
от имени закона, боль, которую, как они полагают, не
возможно эротизировать, боль нейтральную и безраз
личную. Боль, которая якобы причиняется без удоволь
ствия от боли, — это боль, исходящая от закона.
Комментарий 1
Вот так могла бы быть составлена карта31 диспозитива сексуальности; на ней отмечаются преде
лы, которые вспыхивают и постоянно смещаются,
31 Наша карта похожа на войсковую диспозицию и как
будто отступает от паноптического видения Фуко. Но это
не так. Изменяется лишь масштаб применимости страте
гий видимого/невидим ого. Теперь за ними нет архитек
турного или клинического локуса. Это карта-диаграмма
демонстрирует диспозицию основных сил в единстве взаи
модействий. Не следует забывать, что диспозитив — это
все же метод понимания, а не метод репрезентации, допу
Ю5
В алерий П одор ог а . А пология
политического
оставляя после себя следы смещений. Эти необыч
ные спиралевидные кривые, которыми и движется
трансгрессивная волна сил. Трансгрессия постоян
но утверждает предел, отрицая его; этим позитив
ным, утверждающим отрицанием она прокладыва
ет себе путь. Линия предела распадается на пульси
рующие, то там, то здесь вспыхивающие пунктиры ее
разрывов, и как только трансгрессивное состояние
теряет свою мощь и начинает остывать, на ее месте
утверждается предел, быть может, еще более устой
чивый и непроницаемый, чем прежде. Европейская
культура в течение последних трех столетий достиг
ла высокого искусства создавать все более гибкие
и точные системы пределов-запретов, действующих
превентивно, с учетом будущего возможного эксцес
са и его интенсивности. Я бы сказал, что она боль
ше не отторгает от себя трансгрессивные состояния,
но впитывает их как губка, «размягчая», перенаправ
ляя их разрушительную, опасную энергию в уже го
товые полифункциональные (капиллярные) систе
мы запретов. В сущности, сегодня трансгрессивному
состоянию противопоставляется не запрет, а другое
трансгрессивное состояние. Запрет, чтобы быть эф
фективным, должен опережать трансгрессивное со
стояние и, следовательно, быть «мягким» запретом.
Технологии и орудии «захвата» трансгрессивных со
стояний постоянно нуждаются в трансгрессивной
энергии, чтобы не дать ослабнуть, «остыть» чрезвы
чайно усложненным системам запретов-пределов.
Если я правильно понимаю ход мысли Батая — Фу
ко, то трансгрессия — ничто без предела. В сущно
сти, она его и устанавливает. Черта-граница и сила,
ее нарушающая, —первое зависит от второго, второе
от первого. Дальше нельзя, здесь граница, предел,
«последняя черта», если нарушишь, то пеняй на се
бя... Может быть, все дело в том, что действующая
сила всегда несоизмерима со своим пределом, и что
бы проявиться, она должна превзойти границы, ей
стим, архитектурного целого или конкретного механизма
контроля и надзора.
10б
III. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я и с т о р ия тела
полагаемые. Прошлый трансгрессивный след стал
ее новым пределом. Трансгрессивное состояние —
это экстатическое состояние, «выход-из-себя», вре
менная отмена всяких границ и пределов. Но оно
становится возможно, вновь следует заметить, ко
гда устанавливается предел, который ему надо будет
превзойти. В бес-предельном пространстве действие
силы никак не могло бы себя проявить, и трансгрес
сия была бы невозможна. Далее, если мы будем по
нимать под трансгрессией только переход из одного
состояния в другое, то это объясняет ценность пре
дела, который контролирует равновесие между фор
мой и той энергией (силой), которая необходима для
ее воспроизведения и устойчивости во времени.
Комментарий 2
В замечательной книге «Безумие и неразумие. Исто
рия безумия в классический век» (1962) Фуко дает
анализ запрета-предела, направленного против но
сителей безумия или против тех, кто мог подпасть
под эту «клиническую норму» в эпоху Ренессанса
(не только «истинные» сумасшедшие и больные, но
и дебоширы, пьяницы, бродяги, нищие, преступни
ки и т. п.). Stultifera Navis — «корабль дураков», на ко
тором отправлялись в свое бессрочное морское путе
шествие все те, кто был признан безумным магистра
турой или «населением» отдельного города, селения,
религиозной общины. Не буду вдаваться здесь во все
детали психологического или мифологического тол
ка этого удивительного события (да и существова
ло ли оно как исторический факт так, как его описы
вает Фуко), остановлюсь на самом важном, с моей
точки зрения: как действует предел, исключающий
безумие как вид опасной трансгрессии. Тот, кого на
звали безумным и заточили в корабль, как в тюрь
му, получает свободу для проявления собственно
го безумия: «его исключение должно включить его,
и он не должен и не может иметь иной тюрьмы, кро
ме этого самого порога, он удерживается в точке пе
рехода», он — «заключенный перехода», ибо никогда
не достигнет берегов Разума и не вернется к тем бе
107
В алерий П одор ог а . А пология
политического
регам, где он был осужден на безумие другими людь
ми. Он — всегда между, в самом переходе и на преде
ле существования всех тех свобод, которыми может
располагать только безумие, чтобы выразить себя
и быть самим собой, а это значит, в свою очередь,
что он располагается внутри предела, внутри само
го акта его опознания в качестве безумного, ведь его
свобода жить так, как он хочет, сведена к бессроч
ной навигации кораблем, в который он помещен, бес
конечностью всех тех дорог, что пересекают океан
во всех направлениях32. Хочешь быть безумным, хо
чешь упорствовать в своем грехе и слабости, будь им,
но никогда не покидая пределы собственного без
умия. Этот жест изгнания лишь подчеркивает непо
стижимость безумия и страх перед ним.
Комментарий 3
Принято считать, что нарушение запрета есть акт
удовольствия. Ведь элементарная функция запрета
всегда была трансгрессивна: запрет всегда опережает,
его мы находим даже в том, что называем свободным
пространством жизни (конечно, не запрет как тако
вой, а его след, след борьбы сил, высвободивших это
пространство). Его застают, на него наталкиваются,
и он, в силу того, что постоянно опережает желание
его нарушить, оказывается непостижимым в своем
первоначальном утверждении. Но это не значит, что
его первоначальная непостижимость может препят
ствовать его нарушению, как раз напротив, непости
жимость влечет к себе, она сохраняет в себе тайну
его изначального нарушения, благодаря которому за
прет и стал запретом, тайну удовольствия от его на
рушения. Но мы никогда не встречаемся с запретом
один на один: чтобы действовал хотя бы один запрет,
должно быть уже многое запрещено, запрет поддер
живается запретом, от одного к другому по всей не
прерывной цепи разветвляющихся, дублирующих
и отменяющих друг друга запретов, приводящей
32 Foucault М . Histoire de la folie a 1 age classique. R, 1972.
P.22.
108
II I . М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я ис т о р и я тела
в конечном итоге к запрету всех запретов, великому
Запрету, что имеет имя Бога. В постоянстве наруше
ния запретов мы можем наблюдать, как функциони
рует желание ребенка, устремленного к получению
удовольствия от любого своего действия; он как бы
пребывает в силу своего «неразумия» где-то на грани
безумия, в бытии-без-Бога и закона. Запрет оказыва
ется в центре детской игры, именно он питает транс
грессивную активность ребенка, цель которой не
изменна — получение удовольствия. Запрет — лишь
трамплин для возбуждения сил желания. Можно за
фиксировать «точку начала» в этом взаимодействии
запрета и его нарушения, тот неуловимый и усколь
зающий момент, где запрет еще не стал запретом,
не занял «свое» место и не выстроил все удоволь
ствия от нарушения по рангу. Еще нет возможностей
для преследования тех, кто нарушает запреты и пре
восходит пределы, кто ценит трансгрессию, сам акт
нарушения выше, чем то, что им нарушается. Пара
доксальная ситуация: с одной стороны, тело должно
постепенно исчезать в стратегической игре удоволь
ствий как ограниченный по своим психофизиоло
гическим и физическим функциям объект, которо
му мы принадлежим, но которым не владеем. Мы
должны всегда пересекать границу своего «объект
ного» тела, чтобы получить удовольствие. Мысль Фу
ко: нельзя ли поставить вопрос о самом теле, кото
рым мы владеем и которому принадлежим, не явля
ется ли оно «изобретенным», придуманным, как бы
спроектированным на нас из определенного социаль
ного и культурного опыта, из той системы запретов,
которые его организуют? И если это так, то не сле
дует ли анализировать систему запретов-пределов,
присущих определенной эпохе с точки зрения транс
грессии? В таком случае нам может открыться дру
гая история тела, погруженная в молчание еще и се
годня, которая, может быть, объяснит нам, как наше
тело стало объектом политической стратегии, поче
му оно каждый раз заново изобретается, прежде чем
мы могли его присвоить.
109
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
Решающее изменение: «вторжение» диспозитива сек
суальности в традиционную семью, приведшее к изме
нению столь радикальному, что семья, в которой фак
тически была сосредоточена вся совокупность сексу
альных норм (допустимых), утрачивает регулятивные
функции в деле репродукции. Пространство семьи от
крывается для контроля власти над сексуальным пове
дением. Опыта, которым владела семья как атомарная
структура социальности (муж — жена, родители —де
ти), теперь недостаточно, чтобы управлять различны
ми видами «сексуальностей». Диспозитив сексуаль
ности устраняет систему кровнородственных отно
шений, фиксируясь исключительно на сексуальности
отдельного индивида, исключающего себя и собствен
ные пристрастия из семейных отношений. И если се
мья, по выражению Фуко, — это «кристалл в д е п о з и
тиве сексуальности»33, то действие диспозитива может
и должно объясняться явлением дифракции сексуаль
ных функций. В диспозитиве функции отражаются,
как грани кристалла. Каждая из отраженных граней
может соответствовать фигуре-персонажу, наделять
ся определенной сексуальной ценностью. Вместо ста
рой семейной сцены, где сексуальные отношения ре
гулировались внутренним законом, появляется иная
сцена с новыми персонажами: неврастеничка, фригид
ная жена, мать, лишенная материнских чувств, мужимпотент с садистскими наклонностями, дочь-исте
ричка, юный гомосексуал, отказывающийся от брака
и т. п.34 И все эти фигуры сексуальности, уже осужден
ные на аномальность, разом возникающие из недавне
го небытия в семье. Тогда повсеместно утверждаются
четыре фундаментальных стратегических ансамбля со
временной сексуальности: истеризация женского тела, половое воспитание ребенка, социализация функ
ций продолжения рода и психиатризация перверсивно33 Foucault М. Volonte de savoir. Р.: Gallimard, 1976. Р. 146.
34 Ibid. Р. 146.
110
III. М и ш е л ь Ф уко
и п о л и т и ч е с к а я ис т ор ия тела
го удовольствия35. И эта новая сцена, на которой себя
представляют новые фигуры сексуальности (полную
номенклатуру этих отклонений можно найти толь
ко у Крафта-Эбинга да у Сада), находится внутри но
вой машинерии сексуальности, которая функциони
рует, опираясь на систематическое исследование сек
суальных аномалий, причем настолько детальное, что
понятие сексуальной нормы оказывается под угрозой
исчезновения, и единственное, что не дает ему полно
стью исчезнуть, — это закон пола. Именно этот закон,
как полагает Фуко, и изобретает власть, чтобы создать
мир новых сексуальных поведений.
" Ibid. Р. 137-138.
IV. Закон и суд
АРХИТЕКТУРА ВИНЫ У ФРАНЦА КАФКИ
Я есмь дверь: кто войдет
мною, тот спасется...
Новый Завет
ВРАТА И ДВЕРИ
П
ритча «Перед Законом», по мнению большинства
критиков, — ключ к творчеству Кафки (не случай
но ведь она удостоилась столь многих комментариев
и толкований)1. В сущности, он сочинял только прит
чи, и ему удавалось легко перекраивать их в рассказы,
новеллы, а затем и в романы. Притча — это конструк
ция. Кафка строит свои романы в виде многомерных
и сложных конструкций: «Я охочусь за конструкция
ми. Я вхожу в комнату и вижу в углу их белесое пере
плетение». Записываемое сновидение, если и дешиф
руется, то только все лучшим пониманием его конст
рукции, т. е. оптических условий, благодаря которым
видение может непрерывно улучшаться. Сновиде
ние, превращаясь в повествование, не рассказывает
ся, а конструируется...1
1 Литература Кафки давно не литература в том привычном
смысле, в каком мы говорим, например, о классических
образцах литературы немецкого экспрессионизма. Войдя
в состав реального сновидческого опыта XX столетия, она
стала тем странным зеркалом, которое вместило в себя ло
кальные отражения времени и, лишив их единства пред
ставления, расположило в порядке их поражающей несо
вместности. Нет ничего удивительного в том, что, взяв те
му Закона, мы можем обнаружить в сочинениях Кафки
множество текстов (новелл, притч, высказываний, аф о
ризмов), так или иначе поясняющих «Процесс» и «Замок».
Так, притча «Перед Законом» имеет как самостоятельное
значение, так и прикладное, когда вводится в предпослед
нюю главу «Процесса».
112
IV. З а к о н
и с уд
Перед законом
У врат Закона стоит привратник. И приходит к при
вратнику поселянин и просит пропустить его к Зако
ну. Но привратник говорит, что в настоящую мину
ту он пропустить его не может. И подумал проситель
и вновь спрашивает, может ли он войти туда впослед
ствии? «Возможно, —отвечает привратник, — но сей
час войти нельзя». Однако врата Закона, как всегда,
открыты, а привратник стоит в стороне, и проситель,
наклонившись, старается заглянуть в недра Закона.
Увидев это, привратник смеется и говорит: «Если тебе
так не терпится, — попытайся войти, не слушай мое
го запрета. Но знай, могущество мое велико. А ведь
я только самый ничтожный из стражей. Там от покоя
к покою стоят привратники, один могущественней
другого. Уже третий из них внушал мне невыноси
мый страх». Не ожидал таких препон поселянин, ведь
доступ к Закону должен быть открыт для всех в лю
бой час, подумал он, но тут же пристальнее взглянул
на привратника, на его тяжелую шубу, на острый гор
батый нос, на длинную жидкую черную монгольскую
бороду и решил, что лучше подождать, пока не раз
решат войти. Привратник подал ему скамеечку и по
зволил присесть в стороне, у входа. И сидит он там
день за днем и год за годом. Непрестанно добивает
ся он, чтобы его впустили, и докучает привратнику
этими просьбами. Иногда привратник допрашива
ет его, выпытывает, откуда он родом и многое дру
гое, и под конец непрестанно повторяет, что пропу
стить его он еще не может. Много добра взял с собой
в дорогу поселянин, и все, даже самое ценное, он от
дает, чтобы подкупить привратника. А тот все прини
мает, но при этом говорит: «Беру, чтобы ты не думал,
будто ты что-то упустил». Идут года, внимание про
сителя неотступно приковано к привратнику. Он за
был, что есть еще другие стражи, и ему кажется, что
только этот, первый, преграждает ему доступ к За
кону. В первые годы он громко клянет эту свою не
удачу, а потом приходит старость и он только вор
чит про себя. Наконец, он впадает в детство, и от
того, что он столько лет изучал привратника и знает
ИЗ
В алерий П о до р о г а . А пология
политического
каждую блоху в его меховом воротнике, он молит даже этих блох помочь ему уговорить привратника. Уже
меркнет свет в его глазах, и он не понимает, потемне
ло ли все вокруг или его обманывает зрение. Но те
перь, во тьме, он видит, что неугасимый свет струит
ся из врат Закона. И вот жизнь его подходит к кон
цу. Перед смертью все, что он испытал за долгие годы,
сводится в его мыслях к одному вопросу — этот во
прос он еще ни разу не задавал привратнику. Он под
зывает его кивком — окоченевшее тело уже не пови
нуется ему, подняться он не может. И привратнику
приходится низко наклониться — теперь по сравне
нию с ним проситель стал совсем ничтожного ро
ста. «Что тебе еще нужно узнать? —спрашивает при
вратник. —Ненасытный ты человек! —Ведь все люди
стремятся к Закону, — говорит тот, — как же случи
лось, что за все эти долгие годы никто, кроме меня,
не требовал, чтобы его пропустили?» И привратник,
видя, что поселянин уже совсем отходит, кричит изо
всех сил, чтобы тот еще успел услышать ответ: «Ни
кому сюда входа нет, эти врата были предназначены
для тебя одного. Теперь пойду и запру их»2.
Закон — это врата, которые всегда открыты, мы мо
жем войти, но почему-то не входим, хотя и предпо
лагаем, что Закон настолько универсален и открыт,
что «войти» может каждый3. То, что врата открыты,
но в них нельзя войти, говорит лишь о том, что Закон
нельзя изменить толкованием. Все толкования ни в ко
ей мере не опровергают Закон, скорее, напротив. Ко
нечно, слово «войти» имеет совершенно иной смысл,
чем толкование буквы Закона. Ведь войти — это отме
нить Закон. Тот же, кто входит, не одинокий проси
тель и не народ, а Мессия —тот, кому дозволено войти,
никогда не войдет, но тот, кто входит, не ожидая раз
2 Кафка Ф. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4.
СПб.: Северо-Запад, 1995. С. 15-17.
3 Ср. размышления М. Бубера о «метафизике двери» у Каф
ки (Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 1995. С. 335).
114
IV. З а к о н
и суд
решения, отменяет сам Закон. Поэтому нет никакого
противоречия между тем, что перед нами открытые
врата (из которых начинает пробиваться яркое благо
стное свечение) и нельзя войти, и той ложной целью,
что нужно обязательно попытаться войти. Но врата
не двери4. Как только мы допускаем подобное разли
чие, мы сразу же попадаем в скрытое взаимодействие
двух архитектур, архитектуры Закона, сакральной,
и Суда, неограниченного ничем мирского, обыден
ного пространства. Подкрепить различие можно ар
хаической символикой «врат небесных». В то мгнове
ние, когда двери вдруг оказываются местом теофании,
местом вхождения в мир сакрального, они уже вра
та. Отсюда значение и других сакральных элементов,
входящих в архитектуру, двери: порог, «узкие врата»,
«врата Рая», мост, лестница. Важнейший момент —
момент перехода — место разрыва и связи между дву
мя мирами. В этом парадоксальность перехода: ибо то,
что разделяет, связывает. Ошибка просителя в том, что
он посчитал, что у Закона есть двери, в которые мож
но постучаться, а потом войти, чтобы подать жало4 См. например: «Символизм, заключенный в выражении
„врата небесные“, богат и сложен: теофания освящает ка
кое-либо место уже только тем, что делает его „открытым“
вверх, т. е. сообщающимся с Н ебом, оно становится тем
необычайным местом, где осуществляется переход от од
ного способа существования к другому» (Элиаде М. Свя
щенное и мирское. М.: Изд-во Московского университета,
1994. С. 24, 25). Или: «Что касается двери, которая, по су
ти, есть переход из одного мира в другой, то ее космиче
ский прообраз п]Лшадлежит временному и циклическому,
а не пространственному порядку. Подобным же образом
„врата Небес“, т. е. двери солнцестояния, — это прежде все
го двери во времени или паузы в цикле, их фиксация в про
странстве вторична. Следовательно, портал в виде ниши
благодаря самой природе своих элементов сочетает цик
лическую, или временную, символику с символикой ста
тической, или пространственной» (Буркхардт Т. Сакраль
ное искусство Востока и Запада: Принципы и методы. М.:
Алетейа, 1999. С. 94-95).
115
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
бу или ходатайство. На самом деле архитектура За
кона допускает только врата, то, что всегда открыто
и поэтому не может ни открываться, ни закрывать
ся, но в которые нельзя войти. В то время как архи
тектура Суда не внешняя, парадная, несущая на се
бе образ Закона (лик Мессии или деспота), а внутрен
няя, жилая, где двери закрываются и открываются
и вносят неожиданные изменения в маршрут Йозе
фа К. Стук в дверь — специальный символ у Кафки,
означающий «закрытую дверь» (а ее не должно быть),
стук указывает на то, что двери открываются/закрываются, но нет ни одной двери, которая была бы от
крыта, а войти было бы нельзя. Просители или случай
ные прохожие стучат в двери (ворота), требуя объяс
нений и справедливого приговора, другие, как герой
рассказа «Блюмфельд, пожилой холостяк»5, страда
ют от стука. Чрезвычайно показателен рассказ «Стук
в ворота», где случайный стук в закрытые чужие воро
та приводит к началу следствия и возможному осуж
дению стучавшего. Нельзя стучать в ту дверь, которая
не может быть открыта для тебя, но не следует стучать
и в те двери, которые все время открыты, причем от
крыты не только для тебя, но для всех. Йозеф К. все же
пытается стучать в двери, не переставая удивляться
тому, что стучать не нужно, а следует просто войти.
Архитектуру той же деревни из романа «Замок» или
здания суда из «Процесса» нельзя даже назвать архи
тектурой. Как можно назвать архитектурой ряд черда
ков, лестницу, комнату, разделенную барьером, дыру
в потолке или в полу, которая слывет люком, а точнее—
лазом, которым пробираются судьи всех рангов. «Осве
щается помещение только через небольшой люк, рас5 Мотив «стука» вообще и «стука в дверь» повторяется в
различных сюжетах, перекликаясь с темой «шума», беспокоящего нарушением всех связей К. с миром, ближними и
с собой. Хотя стук нечто иное, — скорее прошение и что-то
непрошенное, просьба и проклятие.
Иб
I V . З акон
и суд
положенный на такой высоте, что если хочешь выгля
нуть, то тебе в нос не только ударяет дым, но и прямо
летит сажа из камина, расположенного тут же; нет, еще
надо найти кого-нибудь из коллег, кто подставит тебе
спину. А в полу этой комнаты — и это еще один пример
того, в каком виде она содержится, — в полу уже боль
ше года как появилась дыра, не такая большая, чтобы
туда мог провалиться человек, но достаточно ш иро
кая, чтобы туда попасть всей ногой. Эта адвокатская
комната расположена на втором чердаке; значит, если
чья-нибудь нога попадает в эту дыру, она свисает вниз
и болтается над первым чердаком, над тем самым про
ходом, где сидят в ожидании клиенты»6. Внутреннего
пространства суда, по сути дела, нет. Внутри обычного
жилого дома есть дополнительное пространство, будто
налипшее на него, вот оно и занято Судом; это странно
сжатое, сплошь дырчатое, почти сквозное ступенчатое
пространство, где путь зависит от переходного смеще
ния, lime — от одной двери через другую. Оно состоит
из кусков жилого, но соединены они иначе, все смежН0у нет ни одного места в нем, которое не было бы за
нято, — такова его необычайная плотность. Двигаться
в нем можно только по линиям смежного, между, и как
можно быстрее, чем «дольше ты медлишь перед дверью,
тем более чужим ты становишься». Тогда вы не встре
чаете препятствий, хотя путь становится бесконечным,
возможно, это путь отчаяния7.
Порой кажется, что все различия стираются и все
обвиняемые — то же судьи, все судьи — то же обвиняе
мые. Ближе к народу, чем суд Кафки, невозможно себе
6 Кафка Ф. Т.2 («Процесс»). С. 91-92.
7 Ср. «...если ты никого не находишь в коридорах, открой
двери, не находишь за дверьми, есть и другие этажи, и да
же если там ничего не найдешь, не отчаивайся, поднимай
ся выше по новым лестницам. И пока ты поднимаешься,
не кончаются ступени, они вырастают под твоим ногами»
(Кафка Ф. Т. 4 («Защитники»). С. 203).
117
В алерий П о до р о г а . А пология
политического
представить, т. е. суда как места Высшего присутствия
справедливости нет.
Могут ли врата Закона обойтись без привратника —
вопрос, который тюремный священник из «Процес
са» в поучительном истолковании притчи для при
говоренного Йозефа К. так и не поставил. Если есть
привратник, то не всякий может войти, только тот,
для кого эти врата открыты, кого можно впустить.
И привратник строго следит за этим. Однако тут на
чинаются недоразумения. Не спровоцировано ли на
ше желание войти привратником, этим хитрым стра
жем, доводящим до ужаса наш трепет перед Законом,
именно он поддерживает желание войти, усиливая
влечение к тому, что лежит за границами обыденно
го разумения. Если привратник может открыть вра
та и закрыть, то в таком случае он равен по могуще
ству Закону. Что тогда сам Закон, раз у его открытых
дверей вечно маячит привратник, и так ли уж он все
силен? Причем, как оказывается, привратник не один,
их много, может, слишком много, как и много дру
гих врат, скрытых в глубинах Закона. «Но знай, — го
ворит привратник, — могущество мое велико. А ведь
я только самый ничтожный из стражей. Там, от по
коя к покою, стоят привратники, один могуществен
ней другого. Уже третий из них внушал мне невыно
симый страх». Если же роль привратника определена
и он не отделим от Закона, — ведь не найти «откры
тых» врат Закона без привратника, — в таком случае
он столь же необходим Закону, как и тот просительпоселянин, чьей жизнью он управляет. Привратник —
посланец Закона, он обожествлен. Но тогда приврат
ник никакой не привратник, а хранитель скрижалей
Закона, его первосвященник. Привратник не Закон,
но имя Закона (представлять, ограничивать доступ,
отменять одни толкования и возобновлять другие).
Никто не в силах привести-в-действие Закон, даже
привратник. Закон не обнаруживается и тогда, когда
нарушается, но в чем же тогда смысл Закона?
118
I V . З акон
и суд
Еще один шаг. Привратник не столько страж или хра
нитель, сколько судебный чиновник (и каждый из по
следующих привратников судья еще более высокого
ранга). Более того, все привратники хотят быть судьями,
судей много, их толпы, в то время как обвиняемых ма
ло или их явно недостаточно по сравнению с бесчислен
ной толпой судейского народа, обслуживающего маши
ну суда. Привратники все на одно лицо, включая и того
привратника из притчи «Перед Законом», легко опо
знать их странные неприметные «монголоидные» ли
ца. И их всегда слишком много. Не просто много, а так
много, что не может быть и речи о том, чтобы была хоть
какая-то возможность преодолеть просителю или обви
няемому всю эту массу судейского чиновничества или
хоть как-то ограничить ее участие в судебном процес
се. Они все участвуют, каждый на своем месте. По ме
ре продления «дела» число чиновников, принимающих
в нем участие, должно возрастать. И это возрастание
обусловлено тем, что если процесс начался и не был пре
кращен в самом начале, его уже невозможно остановить.
УРОДЫ И СОГБЕННЫЕ СЛУГИ
В чем виновен некий господин Йозеф К. — прокурист
банка? Никто об этом не знает, включая самого гос
подина К. И поскольку мы не знаем, в чем он действи
тельно виновен, более того, и не хотим знать, то воль
ны предполагать, что Закон здесь не при чем, его дверь
по-прежнему открыта, но войти нельзя, ведь Суд не
имеет никакого отношения к Закону. Когда герой рома
на Кафки «Процесс» господин К. по мере все больше
го усложнения его отношений с Судом начинает пони
мать, что то, что с ним происходит, предстает абсурд
ным лишь потому, что он пока недостаточно понимает
логику судопроизводства. Ведь стоит только понять...
как все прояснится и встанет на свои места. В этом по
нять жуткая ошибка, ускоряющая наступление непо
правимого.
119
В алерий П одо р о г а . А пология
политического
«Наше ведомство — насколько оно мне знакомо, хо
тя мне знакомы только низшие чины, — никогда,
по моим сведениям, само среди населения винов
ных не ищет; вина, как сказано в законе, сама при
тягивает к себе правосудие, и тогда властям прихо
дится посылать нас, то есть стражу. Таков закон. Где
тут могут быть ошибки?
— Не знаю я такого закона, — сказал К.
— Тем хуже для вас, —сказал высокий.
— Да он и существует только у вас в голове, сказал
К. Ему очень хотелось как-нибудь проникнуть в мыс
ли стражей, изменить их в свою пользу или самому
проникнуться этими мыслями. Но высокий только
отрывисто сказал:
— Вы его почувствуете на себе.
Тут вмешался Франц:
— Вот видишь, Виллем, он признался, что не зна
ет закона, а сам при этом утверждает, что невиновен.
— Ты совершенно прав, но ему ничего не объяс
нишь, — сказал тот»8.
Однако Суд не судит, он вообще не производит ника
ких судебно-правовых действий в привычном смыс
ле. Существование Закона предполагает виновность
как фундаментальное измерение человеческого бы
тия. А что предполагает существование Суда? Кафка
отвечает: да, ничто! Суд же действует исходя из иных
оснований, не из оснований доказанной виновности,
потому что есть вина всех, но раз есть вина, значит,
есть и виновный. Движение к приговору начинает
ся не от Суда (как можно было бы предположить),
а от невиновного, который последовательно укрепля
ется в чувстве собственной вины, и как только он на
чинает догадываться, что от него требуется, сама ви
на переходит в приговор. Суд не существует до вины,
вина же — до страха, наказание — вид экстатическо
го освобождения от самой вины и та желаемая сво* Кафка Ф. Т. 2. С. 11.
120
I V . З акон
и суд
бода искупления, которая достижима только для ви
новного9.
Чтобы вступить в кафкианское пространство, мало
пригнуть голову, хотя и об этом нужно знать. Приги
бание головы — ведущий мотив этики Кафки — поми
мо аспектов архитектурных, чисто пластических (кото
рые мы еще будем обсуждать) содержит в себе и указа
ние на универсальность вины. Если можно так сказать,
пространство Кафки поражено виной, виновностью
каждого, не зависимо от того, кто и как ощущает соб
ственную вину и насколько кто себя считает винов
ным. Непризнание вины — самое тяжкое из преступ
лений, ведь оно ставит под сомнение действие Зако
на. Никто не виновен, ибо виновны все. Именно в силу
этого не нужна открытость судебного разбирательства,
ведь сами обвиняемые заинтересованы в неразглаше
нии того, что с ним произошло. Суд как публичное
разбирательство заменяет приговор, в который неот
вратимо переходит «расследование». Закон учреждает
вину, а разбирательство, не доходя до суда, становит
ся приговором, который, как показывает путь Йозе
фа К. (и других героев новелл Кафки), себе назначает
обвиняемый, и даже приговор приводится в исполне
ние самим обвиняемым (новеллы «Приговор», «В ис
правительной колонии» или «Превращение»). Романы
«Процесс» и «Замок» полны разбросанными там и сям
знаками вины. Устойчивый и самый главный мотив,
который В. Беньямин, тонкий исследователь скрытых
мотивов в литературе Кафки, определил как согбен-
9 Приложим сюда еще ряд притч, например, «Отклонен
ное ходатайство», «К вопросу о законах»: « ...и б о тех за
конов, которые мы стараемся отгадать, быть может, и во
все не существует. Есть маленькая партия, которая д ей
ствительно так думает и пытается доказать, что если закон
и существует, то он может гласит лишь одно: все, что дела
ет аристократия, — закон» (Кафка Ф. Т. 4 («К вопросу о за
конах»). С. 194).
121
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
ностъ101. Все виды наказаний встраиваются в этот мо
тив. Вспомним о «яблоке», застрявшем в спине Замзыжука и ставшем причиной его смерти, а также о нака
зании, которому подвергают обвиняемого в новелле
«В исправительной колонии», когда ужасная машина
«старого Закона» пишет на спине приговоренного свои
странные письмена, прочитать которые может только
он сам. А галереи странных портретов, девочка-гор
бунья, церковная кафедра из «Процесса», которая на
столько мала, что священнику, если бы он захотел об
рат иться с проповедью, пришлось бы или согнуться,
или перевеситься через перила; хромой служитель су
да, служка, засыпающий сгорбившись, не говоря уже
о многочисленных позах «вины» Йозефа К. («потупить
ся», «опустить голову», «смутиться» и т.д.)11. Наконец,
укажем на то, как устроено внутреннее пространство
Кафки — превосходство над всеми архитектурным
элементами одного — двери, закрываемой/открываемой, чье расположение и размер настолько не соот
ветствуют позе и размерам героя, что он вынужден
пользоваться ею только в согбенном положении. Так,
судейский народ приносит в зал заседания «подстил
ки», закрепляя их «между головой и потолком комнаты,
чтобы не натереть кожу до крови». Итак, голова опуще
на долу. Сговор с силами дьявольскими. Черти и их за
местители. Отсюда целый ряд признаков: горбатость,
спинау навьюченностъ, наказание (место спины), урод
ство (девочка-горбунья), послушание, — который мож
но продолжить дальше. «Горбатый человечек» как ми
стический символ менее эффективен, нежели реаль
ный элемент конструкции. Горбатость и сгорбленность
означают практически все точки скрепления конструк
ции. Но что такое сгорбленность—это универсальный
миметический жест, но уже словно окаменевший, жест,
10 В исследованиях В. Беньямина широко развернута те
ма «горбатого человечка» (См. БенъяминВ. Франц Кафка.).
11 Ф. Кафка. Т. 2 («Процесс»). С. 162.
122
IV. З а к о н
и суд
ставший позой. Конструкция суда вся выстраивается
через узость, сгорбленность, несоразмерность мнимого
пространства с положением отдельного человеческого
тела. Каждая романная конструкция в этом смысле мо
жет рассматриваться как очередная конструкция стра
ха. Конструкция — явно пространственное сооруже
ние: здание суда с его бесчисленными переходами, чер
дачными, лестничными, коридорными пересечениями.
Или в новелле «Нора» мы находим сам процесс письма,
а точнее — выстраивание сложной конструкции норы
по всем направлениям и смещения, страх в виде навяз
чивого звука, позволяет развивать идею защиты или
обнаружения противника. Возможно, Кафка знал не
которые китайские притчи, литературу (а может быть,
и нет или не настолько хорошо). Однако можно ука
зать на одну замечательную древнекитайскую парал
лель к образу «горбатого человечка»: «На Западе же
изобилуют горбуны и там много гор. Кроме того, За
пад олицетворяет осень с ее снопами скошенных хле
бов. А что такое горб? Это нарост на теле; тело зависит
от легких, а легкие — от осени, которую символизирует
белый цвет. Тот же, кто говорит о теле, упоминает о ко
же, а значит, о доспехах, которые на нее изготовляют
ся, а это подразумевает войну и наказания. Вот поче
му варварам Запада приписывают воинственный нрав,
а казни, будь то гражданские или военные, откладыва
ют до осени. На Западе обитает и дух наказаний, раз
личимый по своим белым волоскам. Волоски же выра
стают из кожи, белый цвет характерен для осени, а так
же для эпохи династии Инь. Начало ей было положено
Таном Победоносным, героем, известным теми наказа
ниями, которым он подвергал провинившихся, и сво
ей согбенной походкой горбуна»12. Здесь есть тонкая
грань между принадлежностью горбатости телу инди
видуальному, символизирующему его особые качества,
и не просто особые, а исключительные по сравнению
12 Гране М. Китайская мысль. М.: Республика, 2004. С. 62.
123
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
с качествами других людей, например, злобу и физиче
скую силу (или напротив доброту), и горбатостью как
свойством пространственно-временного переживания
феноменологического чувства времени13. И эта вто
рая версия горбатости, как мне кажется, много ближе
Кафке, хотя Беньямин и пытается представить ее в ка
честве индивидуального символа. В мировой литера
туре, конечно, мы можем найти двух знаменитых гор
бунов: короля Ричарда III (пьеса «Ричард III» из хроник
В. Шекспира) и Квазимодо из романа В. Гюго «Собор
парижской богоматери». Это, можно сказать, идеаль
ные образы — чистые воплощения как Зла, так и Добра,
и горб здесь с той же силой и убедительностью марки
рует их отличные субстанциональные качества; и эти
два персонажа практически зеркально по всем, даже
незначительным деталям и особенностям, противо
стоят друг другу. Кафке же важна не символическая
презентация образа, а скрытая функция организации
сновидного пространства, пространства кошмарного,
пространства бессонницы, в котором ему приходится
пребывать. Несколько видов «подземно-сновидной»
архитектуры: круговое (фрагментарное), разветвленное
(тема норы), поперечное (пересечение коридоров в Де
ревне («Замок») и в здании Суда («Процесс»)14.
13 Ср.: «Движение круговыми оборотами — свойство време
ни. Циклическая природа сближает время с кругом и про
тивопоставляет пространству, по своей сути квадратному.
Таковы, если угодно, чистые формы длительности времени
протяженности пространства. Их промежуточные образо
вания, сочетания круга и квадрата — как, например, овал —
служат символами частных взаимодействий времени и про
странства. Изогнутость гор и согбенная спина — это знаки
территории, охваченной осенью ...» (Там же. С .64).
14 Древняя архитектура (например, древнеегипетская), хо
тя и была бессильна выразить все индивидуальные аспек
ты господства, тем не менее максимально точно выража
ла идею Закона как закона Универсума, астрономического.
Архитектура — это письмо власти, сообщ ение, окаменев
шее навеки в буквах Закона.
124
I V . З акон
и суд
«МНЕ СНИТСЯ КОШМАР...»
Другой важный аспект мотива согбенности мы нахо
дим в странных портретах, которые настолько точ
но и тщательно прописаны Кафкой, что не приходит
ся говорить о случайности их роли в развитии сим
волической структуры повествования. Это все те же
позы вины, но более сложно развернутые, по сути де
ла, это пластические притчи. Галерея подобных порт
ретов проходит через все произведения Кафки, вклю
чая отдельные новеллы, романы, замечания в «Днев
нике», рисунки. Три портрета. Первый:
«...поясной портрет мужчины лет пятидесяти. Его
голова была опущена так низко, что глаз почти
не было видно, и четко выделялся только высокий
выпуклый лоб да крупный крючковатый нос. Широ
кая борода, прижатая наклоном головы, резко выда
валась вперед. Левая рука была запущена в густые
волосы, но поднять голову кверху никак не могла»15.
Второй — человек, сидящий на высоком, как трон,
кресле (со старой позолотой):
«...поза судьи не выражала ни покоя, ни достоинства,
напротив, левой рукой он схватился за подлокотник
у самой спинки кресла, а правую вытянул вперед, вце
пившись пальцами в поручни, будто в следующую се
кунду он с силой, может быть, даже с гневом, вско
чит с места, чтобы сказать решительные слова, а воз
можно, и объявить приговор. Обвиняемый, очевидно,
стоял внизу на лестнице — на картине видны только
верхние ступени, покрытые желтым ковром»16.
Третий:
«...тут был изображен совершенно другой судья —
чернобородый толстяк с пышной окладистой боро
15 Кафка Ф. Собрание сочинений в четырех томах. СПб.:
Северо-Запад, 1995. С. 11.
16 Там же. Т. 2. С. 85-86.
125
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
дой, закрывавшей щеки», он, «словно в угрозе, при
поднимался на своем троне, сжимая боковые ручки»17.
Одной позе, позе вины, противостоит другая, закреп
ленная в образе судей («Процесс») и высшего чинов
ника («младший кастелян» из «Замка»), — поза гне
ва. Надо сказать, что поза вины выражает себя через
страх стыда, голова опущена вниз, вдруг остановить
ся и покорно опустить голову, сигналом оказывается
неожиданный испуг, кстати, не переходящий в страх,
а только в стыд. И этот стыд является, собственно,
не знаком вины, а знаком отказа от нее, испуг перед
тем, что ты станешь виновным в глазах других, хо
тя ты невиновен. Йозеф К. отстаивает свою невинов
ность, даже когда наступает его последний час, и тем
не менее он покорно признает приговор, другую вину,
которую можно осознать лишь в момент исполнения
приговора. Да и это сомнительно. Другая поза — поза
гнева. Закон скор и справедлив, его действие сопро
вождает гнев судьи. На портретах изображены лю
ди власти, судьи мира сего, и все они, выражая гнев,
как будто даже силу и власть Закона, совершают дву
смысленные движения. С одной стороны, мы действи
тельно видим движение, направленное и целостное
(выражающее гнев), но с другой — именно это дви
жение и тормозится, останавливается другим допол
нительным движением, пластически ясно подчеркну
тым. В первом портрете намечено выдвижение голо
вы вперед, даже не видно лица, но мало того, что лицо
закрыто, еще и рука почему-то «запущена в густые
волосы» — последнее и нейтрализует порыв; во вто
ром — нечто аналогичное: судья, вцепившись в под
локотник левой рукой, а правой, вытянутой вперед,
за поручень, намеревается вскочить с места в сильном
гневе, но это только видимость, так как Кафка не объ
ясняет, в каком отношении находятся эти два движе
17 Кафка Ф. Г. 2. С. 113.
126
I V . З акон
и суд
ния, завершающие позу («схватиться за подлокотник»
и за «поручень») — поза гнева, но и бессилия. В треть
ем портрете движение судейского гнева сводится к ко
мической пластике дополнительных реквизитов: фи
гура Правосудия за троном судьи, которую художник
еще не доработал: «К. увидел, как под мелькающими
остриями вокруг головы судьи возник красноватый
ореол, расходящийся лучами к краям картины. По
степенно игра теней образовала вокруг головы судьи
что-то вроде украшения или даже короны. Но вокруг
фигуры Правосудия ореол оставался светлым, чуть
оттененным, и в этой игре света фигура выступала
еще резче, теперь она уже не напоминала ни богиню
правосудия, ни богиню победы; скорее всего, она по
ходила на богиню охоты»18. Итак, все три портрета —
это своего рода угрожающие гримасы Закона, но су
дьи тоже виновны, а не только те, кого они обвиня
ют, судейский гнев опровергается бессилием. Нет ли
в этих странных позах судей отнесения к известной
сцене пророка Моисея, в гневе разбивающего скрижа
ли19. Правда, эта сцена обыгрывается Кафкой комич
н о— нет более комичного, чем жест судейского чинов
ника, примеряющего на себя роль Мессии20.
18 Там же. С. 114.
19 В дневниковых записях Кафки не раз упоминается имя
Моисея. В одном из них явно просматривается близость
темы к притче «Перед законом»: «Всю жизнь ему чудится
близость Ханаана; мысль о том, что землю эту он увидит
лишь перед самой смертью, для него невероятна. Эта по
следняя надежда может иметь один только смысл: показать,
сколь несовершенным мгновением является человеческая
жизнь — несовершенным потому, что, длись она и беско
нечно, она все равно всего лишь мгновение. Моисей не д о
шел до Ханаана не потому, что его жизнь была слишком ко
ротка, а потому, что она человеческая» (Кафка Ф. Дневни
ки и письма. М.: Ди Дик, 1995. С. 165).
20 Фрейд предположил, что Микеланджело, создавая свою
скульптуру «Моисей со скрижалями», внес весьма сущест
венные поправки в библейскую легенду. В отличие от по-
127
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
Удивляет, надо признаться, близость Кафки не
к Кьеркегору, которого, как известно, он усердно шту
дировал, а к Канту. Если обратиться к кантовским
формулировкам идеи нравственного закона, то мы
сможем, вероятно, более точно определить пробле
му, даже в том случае, если все-таки отличие Кафки
от Канта будет существенным21. Действительно, в по
ведении господина К. много странностей, он ведет се
бя так, будто ему мало дела до собственной судьбы,
он не страшится и больше всего его занимает стыд,
а не та реальная опасность, которая ему грозит. У него
нет страха перед тем непоправимым, что может про
изойти каждое мгновение. Как личность он проявляет
все признаки отчужденного, я бы даже сказал, исклю
ченного из целого человеческого существа: он не мо
жет смириться с тем, что он изгой, изгнанный, или то,
что Дж. Агамбен назвал homo sacer22. Однако в нем нет
ни раскаяния, ни смирения, он весь обращен к поис
давляющего числа искусствоведов, комментировавш их
«Моисея» М икеланджело, почти единодуш но признавав
ших, что Микеланджело пытался передать гнев пророка,
направленный против евреев, вновь вернувшихся к культу
золотого тельца: Моисей пытается встать в гневе или гото
вится, придерживая скрижали. Фрейд же увидел по распо
ложению его пальцев, придерживающих скрижали и запу
тавшихся в бороде, совсем иное движение. Сначала, под
давшись гневу, он действительно пытается встать, но затем,
почувствовав, что скрижали могут выскользнуть и раз
биться, он мгновенно передумал и прекратил движение,
сдержал гнев и сел, не дав скрижалям разбиться. У Кафки
часто повторяется мотив руки , запущенной в бороду или
густые волосы. Смею предположить, что «Моисей» беспо
коил Кафку настолько, что он попытался дать максималь
но полную интерпретацию его жеста, склоняясь к версии
Микеланджело (Фрейд 3. Моисей Микеланджело И Фрейд 3.
Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. С. 229).
21 Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 4 (Ч. 1). М.: Инсти
тут философии АН СССР, Мысль, 1965.
22 См.: Agamben G. H om o sacer. Sovereign Power and Bare
Life. — Stanford University Press, 1998.
128
I V . З акон
и суд
ку внешних, «истинных» причин, ответственных за то,
что с ним происходит. Он не может объяснить проис
ходящее потому, что обращен к внешнему, ценность
внешнего для него несравнима с ценностью внутрен
него. Он высказывает свой протест из целостности
своего внутреннего обесценивания поиском внеш
них причин. Вот откуда отказ от признания собствен
ной вины. Кант мог бы заметить, глядя на эти стран
ные и поспешные размышления господина Йозефа К.,
что в нем нет благодати нравственного Закона: вме
сто того, чтобы двигаться от внешнего к внутреннему,
к обнаружению нравственного Закона, т. е. такого За
кона, который удовлетворяет максиме человеческой
свободы, автономии воли, он, понуждаемый ложны
ми представлениями рассудка, движется в противопо
ложном направлении, он требует Суда и сам приводит
в действие это странное судопроизводство, становясь
его первой жертвой. Страх перед силой Закона намно
го сильнее, чем страх перед Судом. Поэтому именно
Суд выбирается в качестве альтернативы Закону. Если
нет того, что должно быть, то это должное («форма за
кона») бездействует. Суд, в сущности, сравним по мо
гуществу с Законом, на самом деле Суд обладает ре
альным могуществом, а Закон лишь потенциальным.
Интересное пояснение делает Г. Шолем в одном
из писем к Беньямину: «Ты спрашиваешь, что я пони
маю под ничтожеством откровения? Я понимаю под
этим состояние, при котором откровение предстает
как нечто лишенное значения, то есть состояние, в ко
тором оно еще утверждает себя как откровение, еще
считается откровением, но уже не значимо. Когда
богатство значения отпадает и являемое, как бы све
дясь до нулевой отметки собственной смысловой на
полненности, тем не менее не исчезает (а откровение
именно и есть нечто являемое) — вот тогда и просту
пает его ничтожество»23. Пустая форма откровения
23 Беньямин В. Франц Кафка. М., 2000. С. 169.
129
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
еще присутствует, но она пуста. Тот, кто испытыва
ет чувство вины, должен ощутить прикосновение от
кровения (Закона), наполнить форму, являемую содер
жанием. Но если оно оказывается незначимым, то лю
бое из значений обречено на стирание в тот же самый
миг, как только оно становится возможным. Может
быть, кто-то и осознает в нахлынувшем чувстве вины
открывающуюся перспективу новой жизни, но среди
персонажей Кафки таких просто нет. Узловой пункт
всякой интерпретации сочинений Кафки: виновен или
невиновен? Невиновен, мог бы ответить он, потому
что виновен. Можно, конечно, это теологическое опре
деление закона приспособить под кантовское и допу
стить, что Кантом именно так и понимался закон, как
чистая форма, лишенная содержания, если, правда,
снять всякий эсхатологический оттенок «ничтожно
сти». Но достаточно ли этого? Может быть, прав Беньямин, когда он, отвечая Г.Шолему, пишет: «... ты ис
ходишь из „ничтожества откровения“, из мессианской
перспективы предопределенного хода вещей. Я исхо
жу из мельчайшей вздорной надежды, а также из тва
рей, которым, с одной стороны, эта надежда адресу
ется и в которых, с другой стороны, эта вздорность
надежды отражена»24. И далее, комментируя вопрос
о Писании (Законе) — зашифровано оно или нет, уте
ряно ли? — Беньямин указывает на недейственность
Закона, решительно отказываясь принять позицию
Шолема: «зашифрованное писание без приданного ему
ключа уже не писание вовсе, а просто жизнь». Здесь
можно попасть в ловушку истолкования: если принять
одну позицию, то невольно освободишься от проти
воположной. Поиск третьей позиции возможен лишь
за счет отказа от двух предшествующих как крайних.
Но это было бы неверно, скорее нужно иметь в виду,
толкуя притчи Закона у Кафки, апоретику его литера
турного высказывания: считать вполне совместимым
24 Беньямин В. Франц Кафка. М., 2000. С. 163.
130
IV. З а к о н
и суд
то, что с точки зрения логики отдельной интерпрета
ции кажется несовместимым.
Если признать разрыв, существующий между Зако
ном и Судом (следствие — защита — приговор), непре
одолимым, то для вынесения приговора не требуется
публичного разбирательства. Все происходит в тай
не, и это понятно. Все, что касается Закона, и должно
быть окружено тайной, иначе, какой это Закон, если
каждый начнет его по-своему толковать. Закон скры
вает свое содержание даже в тот момент, когда испол
няется. Вот почему нам не услышать хотя бы слово
о том, в чем же состоит вина обвиняемого? И здесь —
сомнение, а не делаем ли мы тайной то, что не явля
ется «тайной», ведь любой вопрос о конкретном со
держании приговора (за что, по каким основаниям
и свидетельствам) выглядит совершенно бессмыслен
ным, раз приговор никак не связан с Законом. Следо
вательно, приговор может быть вынесен когда угодно,
по любому поводу, и справедливость наказания бу
дет столь же случайна, как и сам приговор. Но скры
тая парабола Закона остается неизменной, ведь имен
но она связывает приговор и вину, и там, где есть За
кон, всегда есть и вина.
ПРОТИВ ЗАКОНА
Предложено заново и радикально осмыслить вопрос,
поставленный в речах апостола Павла: что значит от
мена Закона в мессианском контексте свершения со
бытия, единственного и завершающего все мировые
события, — воскресения Христа? Ведь ниспосылае
мой благодати не нужны не предписания, ни понятия,
ни ритуалы, она есть или ее нет, ей не нужен Закон, как
он понимался в древнеиудейской традиции, как нет
необходимости в привлечении греческой софистики
(«мудрости»). Событие (пришествие Христа) отменяет
Закон. Важное замечание: «...Иисус не является ни гос
подином, ни образцом. Он есть лишь имя того, что уни
131
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
версально случилось с нами»25. Отмена Закона обос
новывается апостолом Павлом как решающий момент
аргументации в пользу «новой жизни» против смерти:
Глава 7. (7-25).
«Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак;
но я не иначе узнал грех, как посредством закона,
ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон
не говорил: не пожелай.
8. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел
во мне всякое пожелание: ибо без закона грех мертв.
9. Я жил некогда без закона; но когда пришла за
поведь, то грех ожил,
10. а я умер; и таким образом заповедь, данная для
жизни, послужила мне к смерти,
11. потому что грех, взяв повод от заповеди, обо
льстил меня и умертвил ею.
12. Посему закон свят, и заповедь свята и правед
на, и добра.
13. Итак, неужели доброе сделалось мне смерто
носным? Никак, но грех, оказывающийся грехом
потому, что посредством доброго причиняет мне
смерть, так —что грех становится крайне грешен по
средством заповеди.
14. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен,
продан греху.
15. Ибо не понимаю, что делаю; потому что не де
лаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю.
16. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь
с законом, что он добр,
17. а потому уже не я делаю то, но живущий во мне
грех.
18. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти
моей, доброе; потому что желание добра есть во мне,
но чтобы сделать оное, того не нахожу.
19. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, кото
рого не хочу, делаю.
20. Если же делаю то, чего не хочу, уже не делаю
то, но живущий во мне грех.
25 Бадью А. Апостол Павел. О боснование универсализма.
С. 53.
132
IV. З а к о н
и суд
21. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать
доброе, прилежит мне злое.
22. Ибо по внутреннему человеку нахожу удоволь
ствие в законе Божием;
23. но в членах моих вижу иной закон, противо
борствующий закону ума моего и делающий меня
пленником закона греховного, находящегося в чле
нах моих.
24. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего
тела смерти?
25. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Гос
подом нашим. Итак, тот же самый я умом моим слу
жу закону Божию, а плотию закону греха»26.
Нужно откомментировать послания Павла на языке
Ж. Лакана и Ж.Батая, чтобы понять насколько глубо
ко тот уяснил себе зависимость человеческого вожде
ления (желания) от Закона. Ведь именно Закон, утвер
ждая силу желания, вводит автоматизм желания, когда
привязывает его к одному и тому же объекту. Закон
тем самым координирует порядок желаний, прекра
щает их действие с помощью объектов желания, т. е.
ведет к смерти. Закон перед лицом живой жизни все
гда мертвый Закон27, он отменяет, отрицает, ставит
препятствия, побуждая желание к трансгрессии, т. е.
к утрате цели и смысла, готовя неизбежную кару. «Ибо
до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда
нет закона». Событие — «воскресение Христа» — каса
ется не только Христа, но и всех оправданных верой,
а не «делами Закона». Высвобождение из-под Закона
приобретает значение для каждого, кто уверовал. За
кон не нужен тем, кто спасен вместе с Христом.
В отличие от Закона-трансценденции, который чист,
пуст и безлюден, пространство Суда — процесс иска
26 Ж изнь и труды святого Апостола Павла. СПб., 1912.
С. 68-69.
27 Вероятно, это высказывание следует понимать в том
смысле, в каком его некогда пояснял Фрейд: есть только
один отец, мертвый Отец.
133
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
ния истины — всегда нечто заполненное, скопление
бесчисленных толп. Закон — идеальная архитектура, та,
которую нельзя населять, она должна остаться только
в виде Писания (общей инструкции). Идеальная ар
хитектура и Писание совпадают по функции отобра
жения Закона. В этом смысле Закон — действительно,
Буква, а не Дух. Ценна не сама запись — ведь ее невоз
можно разглядеть, или в тот момент, когда ее все же
пытаются прочесть, она стирается (словно все про
исходит во сне); или в тот момент, когда смысл ее на
конец постигается, тот, кто постиг его, уже мертв, как
тот доблестный офицер-экзекутор из новеллы «В ис
правительной колонии», принесший себя в жертву
во имя старого Закона, как тот же «селянин-проситель»
да как господин К. Никто не может знать Закон, быть
ему причастным (вероятно, кроме Мессии и деспота —
другой фигуры, учреждающей Закон), он непостижимо
присутствует и он настолько близок, насколько далек
и недоступен. Многие из притч Кафки посвящены сце
нам записи Закона: «Императорское послание», «Ста
ринная запись», «Сон», «В исправительной колонии».
Причем вид записи маскируется, изменяется, шифру
ется в самых разных образах, «сюжетах», измерениях,
материале — и нигде нет даже намека на то, что запи
сывается, а что за свод законов должен якобы развер
нуться из этих записей, неизвестно. Тело человече
ское— лучшая поверхность для записи Закона.
В «Генеалогии морали» Ф. Ницше разводит институт
наказания и само наказание (наказание как процеду
ра): наказание как институт права не предшествует
процедурам, используемым в качестве карательных.
Две истории: одна история процедур, а другая — права
наказывать, что наказывают не совпадает ни во вре
мени, ни в пространстве с тем как наказывают. «Пра
во возникает из неправа»28. Моральная или правовая
28 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978.
С. 42.
134
IV. З а к о н
и суд
форма не есть нечто данное, договорно признанное
(и в силу этого регулятивное), но скорее форма, кото
рая узаконивает определенный тип властных отноше
ний, воли-к-власти. Древняя мнемотехника наказания
обеспечивает воспроизводство особой социальной па
мяти, телесной памяти Закона. Стигма боли, письмен
ные знаки того, что нельзя забыть под страхом смер
ти или жестокой пытки («только то, что не перестает
создавать боль, остается в памяти»). На противопо
ложном полюсе — другая сила, не менее значимая, сила
забывания, чье влияние возрастает по мере того, как
Закон перестает действовать столь же точно регуляр
но, как он действовал ранее. Итак, одна сила учреж
дает мнемонические знаки (боли), другая их стирает.
Если одна восстанавливает первоначальное чувство
боли, то вторая освобождает от нее, вытесняя сцены
прошлых «ужасов» и «страданий». Мнемоническая па
ра: глаз — боль. Боль — всегда зрелище, праздник, и это
всегда боль чужая. Боль как эквивалент между долж
ником и заимодавцем, мера, позволяющая точно из
мерять различие между «хорошим» и «плохим челове
ком», «совестливым» и «бессовестным» и т. п. «Купля
и продажа, со всем их психологическим инвентарем,
превосходят по возрасту даже зачатки каких-либо об
щественных форм организации и связей: из наибо
лее рудиментарной формы личного права зачаточ
ное чувство обмена, договора, долга, права, обязанно
сти, уплаты было перенесено впервые на самые грубые
и изначальные комплексы общины (в их отношении
к схожим комплексам) одновременно с привычкой
сравнивать, измерять, исчислять властью власть. Глаз
так и приспособился к этой перспективе...»29 (Курсив
мой. — В.П.) Боль испытывает тот, кто оказался не
способным утвердиться в позиции созерцающего или
вызывающего чужую боль; он обречен на боль, стра
дание, физические муки — он должник. Но, испыты
29 Ницше Ф. Сочинения. С. 450.
135
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
вая боль, он как бы возвращает долг. Требование воз
вратить долг — почти всегда месть. Возврат может со
стояться и преобразованием самого долга, например,
удовольствием от созерцания чужой боли. Удоволь
ствие от лицезрения чужой боли переходит в садисти
ческую жестокость, это и есть момент возвращения
долга. Так казнь и пытки приучают не к страху перед
Законом и послушанию, ни к развитию чувства спра
ведливости, а к привычности наслаждения от созер
цания чужой боли. Боль должна быть видима, в про
тивном случае долг не будет возвращен. Карательная
функция (месть) формируется как особая процедура
вне какого-либо Закона или вне какого-либо институ
та наказания, который помог бы снять ее «празднич
ный взгляд» на чужое страдание.
V. По т у сторону священного
ТЕЗИСЫ1
Человеческое общество —это не толь
ко общество труда. Его составляют —
одновременно или последовательно —
профанный и сакральный миры, две
его взаимодополняющие формы. Про
фанный мир — это мир запретов. Сак
ральный мир открыт для ограниченной
трансгрессии. Это мир праздника, вос
поминаний и богов.
>т, ^
Ж. Батаи
I
1. Как можно говорить о том, что находится за пре
делами позиций рациональной мысли, привычного
ценностного ряда, ведь священное есть знак Высше
го присутствия? Если это признать, то дальнейшее вопрошание будет лишь вопросом веры. Здесь мы стал
киваемся с объектами, по отношению к которым нуж
но проявлять известную осторожность; ведь с одной
стороны священное может быть представлено в сво
ей естественной и недоступной форме, плероматическойу — только посвященный, т.е. верующий, и значит,
по-священ-нъту может освоить тексты или мысли, про
низанные религиозным опытом. Но с другой — любой
феномен священного имеет культурную и метафизиче
скую форму, которую можно изучать на основе других
традиций знания, не сводимых к религиозной. Пред
лагаемый взгляд на соотношения некоторых понятий,
1 Тезисы доклада были подготовлены к диспуту «Сакральное
в современном обществе» с Жан-Люком Нанси (Франция),
прошедшем в Институте философии РАН 28 октября 2008 г.
137
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
входящих в круг священного, может и не соответство
вать конфессиональным правилам и установкам — это
всего лишь взгляд антрополога. Но его будет достаточ
но, чтобы поставить один из вопросов: каким образом
в современном обществе проводятся границы между
тем, что нужно считать священным, и тем, что остает
ся мирским? Для этого надо хотя бы знать, насколько
эффективны прежние оппозиции, так или иначе обслу
живающие богатый лексикон сакрального/профанного, священного/мирского, а знаем ли мы эти границы?
Почему все-таки вопрос о священном имеет смысл? От
вет предполагает подтверждение следующих позиций.
Во-первых, разве не видно, что множественные процес
сы секулярных политик в западном христианстве при
вели к очевидному результату — процесс десакрализа
ции стал универсальным процессом. Если священное
и существует сегодня, то в других формах, скорее праг
матических, конвенционально принятых сообществом;
плотная сеть «мягких» запретов (новых правил, инст
рукций, пожеланий), вводимых на основе универсали
зации множеств различного (этнических, политических,
конвенциональных и т. п.) стирает противоположность
между священным и мирским. За этой универсализа
цией стоят не столько изменения в нравственных пред
почтения или позициях, сколько развитие новых ми
ровых технологий (доступ к универсальным инфор
мационным потокам прежде всего). В то же время
исчезновение сакрального (в его прежней оппозици
онной мощи) открывает простор для самых разных ма
гических практик, которые сопровождают почти каж
дый шаг hi-tech революции (клонирование, стволовые
клетки, нанотехнологии, виртуальная реальность, кос
мическая техника и развитие средств связи, новые ма
териалы и т. п.). Магия, собственно, открывается по
средством рождения множества малых богов. Вместо
одного Бога появляются сотни тысячи разных божков,
претендующих стать душой каждой человеческой стра
сти. Современная техника возвращает миру новую за138
V. П о ТУ СТОРОНУ СВЯЩЕННОГО
чарованность, массмедийное соблазнение, развлечение
и комфорт. Это один вариант, который, возможно, при
ведет нас к новому единобожию — вот только в какой
форме, политической или конфессиональной, оно про
явится, остается под вопросом. Отношение священно
го и мирского изменяется в исторической динамике
их границ. По мере формирования общества сфера свя
щенного уступает место мирскому («смерть Бога» Ниц
ше, «отчуждение» К. Маркса, «расколдование» М. Вебе
ра «обезвоживание» М. Хайдеггера). Все эти процессы
указывают на историческую первоначальность опы
та священного. Стоит обсудить и другой вариант, ко
торый отсылает к некой архетипической изначальной
структуре, которую можно определить как пансакра
лизацию, возвращение к конфессиональным истокам
(новый фундаментализм, находящийся в резкой оп
позиции с любыми формами универсализма)2. В этом,
кстати, нет ничего необычного, если немного знать ис
2 Термин, предложенный В. Н. Топоровым: «Говоря в о б
щем, сакральность (или даж е гиперсакральностъ ) древ
нерусской традиции проявляется прежде всего в том, что
1) все в принципе должно быть сакрализовано, освящено
и тем самым вырвано из-под власти злого начала [...] и —
примириться с меньшим нельзя, — возращено к исходному
состоянию целостности и нетронутости; 2) существует еди
ная и универсальная цель („сверхцель“)» самое заветное же
лание и самая глубокая мечта и надежда — святое царство
(святость, святое состояние, святая жизнь) на земле и для
человека; сильно и актуально упование на то, что это святое
состояние может быть предельно приближено (или даже са
мо открыться, наступить) в пространстве и времени (ли
тургия уже есть образ этого состояния; отсюда стремление
расширить литургическое время и известное невнимание
к сфере профанического»). И на той же странице в приме
чаниях: «Не всегда обращают внимание на то, что эта уупансакральность\ „всесвятость“, по сути дела, ограничивает
(или даже снимает) оппозиции Неба и Земли, божественно
го и человеческого, святого и профанического. Небо как бы
сходит на землю, и человек становится уже не просто о б
разом, подобием и творением Бога, но как бы его воплоще
нием, носителем божественных энергий (хотя бы в потен-
139
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
торию нашей страны. Поиск новых форм нравственной
идентичности только начат и будет продолжен даже
в том случае, если возврат к прежним фундаменталь
ным ценностям общество сочтет невозможным. Ранее,
в эпохи архаических сообществ, этика, этические нор
мы выстраивались эксплицитным образом, «нагляд
но»; сегодня ее корни («логика» и «причины») невиди
мы и необъяснимы. Вот эту наглядность и изучают раз
личные ведущие западные антропологи, полагая, что
имплицитно эти процессы, хотя и в значительно изме
ненном виде, идут в современном обществе.
II
Термины «святое»> «святость» явно отличаются от
терминов, которые используются при толковании сак
рального в древних языках*3. Прежде всего русское
слово «святость» имеет несколько иной смысл, неже
ли, например, латинское sanctus (ему эквивалентное),
поскольку речь идет скорее не о «святости», а о не
которых санкциях, применяемых к человеку со сто
роны богов (в основном к героям, поэтам, аскетам
и др.), имеющим позитивное значение (и соотноси
мых, вероятно, с тем, что в отечественном словаре
определяется как «благодать»). Так проходит раздел
между тем, что становится священным в качестве за
претного и опасного и священным, получающим ста
тус «святости», т. е. как абсолютной позитивности че
ловеческого бытия4. Новые значения, которыми об
ции, в идеале); ср. известные соблазны этого рода в исто
рии христианства на Руси („человекобожие“)».
3 Епископ Варнава (Беляев). Основы искусства святости.
В 4-х томах. Нижний Новгород: Издание братства во имя
святого князя Александра Невского. 1995-1998.
4 Ср.: «И это уже не определение отрицательного свойства
(„ни божье, ни человеческое“), но вполне положительное
значение: тот становится sanctusy кто обнаруживает себя
облеченным милостью богов и получает благодаря этому
140
V. П о ТУ СТОРОНУ СВЯЩЕННОГО
растают эти термины в ходе исторической эволюции,
вытесняют из сознания некие первичные пережива
ния слова, а к таким переживаниям, конечно, следует
отнести священное, которое так или иначе пересекает
ся со смыслом (svet) светового, оптически-чувственного определения (также и цветового)5. Но этого яв
но мало. Ведь с другой стороны, священное или сак
ральное в западных языках (лат.) не только указывает
на жертвоприношение, но и на саму жертву — homo
sacer? В то время как священное на о-священиеУсвя
щеннодействиеу но не на принесенную жертву. Другое
дело, что за ним стоит именно ритуал жертвоприно
шения. А если жертво-приношение6, то значит и наси
лие, возможно, учредительное насилие7, которое необ
ходимо, чтобы прекратить насилие. Открывается путь
к запрету: мы приближаемся к границам сакрального.
В отечественной этимологии, хорошо исследованной
качество, подымающее его над людьми; в его власти стать
посредником между человеком и божеством. Sanctus при
лагается к умершим (героям), поэтам (vates), жрецам, а так
же к местам, которые они населяют, а затем уже начинают
прилагать этот эпитет и к самому божеству — deus~sanctus,
оракулам, людям обладающим властью, — так происходит
мало-помалу сдвиг значения, превращающий sanctus в про
стой полный эквивалент лат. venerandus» (Бенвенист Э.
Словарь индоевропейских социальных терминов. С. 349).
5 Ср.: «...балт. svent обозначает блестящую, сияющую вод
ную поверхность. Это соображ ение подтверждается б ес
спорной связью „святости“ с „блеском“, „сиянием, в их пре
дельном проявлении — с золотым и пурпурным цветом“.
Более того, эти последние свойства и есть форма выраже
ния „святости“ в оптически-визуальной сфере (коде)» ( То
поров В. Н. Об одном архаичном индоевропейском элементе
в древнерусской духовной культуре — SVET. — Языки куль
туры и проблемы переводимости. М.: Наука, 1987. С. 215).
6 Мосс М. Социальные функции священного. СПб.: Евра
зия, 2000. С. 16-19.
7 См.: «Подлинное сердце и тайную душ у священного со
ставляет насилие» (Ж ирар Р. Насилие и священное. М.:
НЛО, 2000. С. 42 (пер. Г. Дашевского)).
141
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
сегодня, слово священное никоим образом не связано
с жертвоприношением, первоначальным ужасом, не
вероятной силы актом жестокости8.
Святость — это вид благодати, нисходящей на бу
дущего святого (в основном после смерти)9. Свя
тость — это топика в сакральном, и ей неведома ни
какая реальная оппозиция (только святотатство,
святохулъствОу святоборство, святоотступнинество и т.п.). Как категория религиозного опыта она име
ет безусловное преимущество над любой другой. Все
решает акт веры в Иисуса Христа. Здесь тот вид ин
тимной связи с божественным, который снимает вся
кое внешнее отношение (какое возникает на границах
сакрального/профанного). Когда же мы приближаем
ся к пониманию принципа пансакральностиу кото
рый стоит за фигурой святого и святости, то мы на
чинаем понимать, что этот принцип снимает всяко
го рода напряженные отношения между профанным
и сакральным, просто упраздняет их. Святость, напро
тив,— это то, что всегда вне мирау отношение, не сни
маемое ни в какой оппозиции; там, где святостъутам
нет ничего, что могло бы вступить с ней в равное от
ношение или отменить ее10. Святость — то, что вос
производится и имеет смысл только внутри сакраль
ной сферы, и субъект святости не может диктовать
условия отношениям между священным и мирским,
это исключительно прерогатива общества. Святость —
это существование сакрального во времени. Но сак
8 Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее бож е
ственного и его соотношения с рациональным. СПб., 2007.
С .23 -3 2 (пер. А.М.Руткевич).
9 См., например: «Его (понятия святости) основной смысл
состоит в причастности человека Богу, его обож енности,
в его преображении под действием благодати Божией (Жи
вов В. М. Святость. Краткий словарь агиографических тер
минов. М.: Гнозис, 1994. С. 90).
10 Топоров В. Н. Об одном архаичном индоевропейском эле
менте в древнерусской духовной культуре — SVET. С. 221.
142
V. П о ТУ СТОРОНУ СВЯЩЕННОГО
ральное существует и в пространстве: есть «сакраль
ные места» и т. п. Что значит во времени? А это зна
чит, что святость не данность, она достигается, и это
время длительности, святость длится, а не пульсиру
ет, то пропадая, то появляясь. Вот почему речь идет
об аскезисе (упражнение в святости) или об аскети
ческих практиках. В конечном итоге, они ведут к ис
кусству духовной жизни. Но аскетическая практика
выстраивается против человечности, т. е. часто ста
вит под сомнение результат, например, телесных го
нений, т. е. преследует цели радикального преображе
ния человеческого естества (антропология «обожения»). Как идеалы святости соотносятся с идеалами
человечности? Не противостоит ли одно другому: вочеловечивание Бога и обожествление человеческого? 11
III
А мы знаем, что священное определяется границами,
отделяющими его от мирского. Граница проходит там,
где утверждаются запреты. Но сами запреты могут
эволюционировать в историческом контексте, то осла
бевать, то, напротив, восстанавливать свою силу. Мир
ское расширяется благодаря исторической динами
ке запретов (охраняющих от профанации священное,
но и профанирующих его). Одно отношение вне об
щества (идеология «святости» как идея истинной ве
ры), другое — только внутри. А это значит, что обще-1
11 Ср.: «Святость часто отождествлялась с аскетизмом
и всегда ставилась от него в частичную зависимость. П о
мимо аскетизма именно прозрачность бож ественного ос
нования бытия личности делает ее святой. Однако эта про
зрачность (которая, согласно учению римско-католической
церкви, выражает себя в способности творить чудеса) за
висит от отрицания многих человеческих возмож ностей
и, следовательно, находится в напряженных отношениях
с идеалом человечности» {Тиллих П. Систематическая тео
логия. Том 3. М.,* СПб.: Университетская книга, 2000. С. 188).
143
В алерий П о до р о г а . А пология
политического
ство и государство находятся в отношениях, чем-то
сходных с отношениями между священным и мирским.
Государство постоянно устанавливает систему запре
тов (предписания, приказы, инструкции, экзамены),—
разнообразные многочисленные фильтры, которые по
зволяют расширять сферу контроля над обществом.
Добивается уважения к Закону, вводя нормы общего
законопослушания. Функция запрета — это установле
ние границ священного внутри мирского. Государство
часто с помощью насилия утверждает контроль над об
ществом, систематически организуя порядок запретов.
Юридически-правовые и экзистенциальные условия
запрета. Отсюда и логики запрета, которые опираются
на общую схему сакрализации (пансакрализация/ де
сакрализация). В одном случае (пансакрализация) за
прет является основным идейно-идеологическим и по
литическим средством выстраивания теократическо
го государства; в другом — мы имеем логику запрета,
не ориентированную на какие-либо внечеловеческие,
потусторонние ценности, а скорее ситуативную так
тику снятия напряжений между священным и мир
ским (политкорректность). То, что можно нарушать,
а то, что нельзя. Неупорядоченное применение законо
дательных инициатив в истории приводит к тому, что
нарушается порядок применения насилия в обществе.
ТЕХНОЛОГИИ «ПЛОТИ»
1. Достаточно вспомнить, какое отношение имели
к практике аскетизма христианского П. Флоренский
и В. Розанов, местами явно противоположное: первый
полагал, что современное так называемое интелли
гентское сознание является сознанием истерии и рас
сматривал его только так, т. е. как несобранное, «необоженное», лишенное благодати и поэтому отрицаемое;
другой, напротив, саму практику аскетизма изучал как
следствие отклонения от родовой нормы (сексуаль
ной), ни больше, ни меньше, но как болезнь, которую
144
V. П о ТУ СТОРОНУ СВЯЩЕННОГО
надо лечить* Но здесь важно их единство, а не разли
чие. Мы должны сочетать и не просто должны, а это
необходимо, современные аналитические подходы
с теми технологиями и аналитическими возможно
стями, которые дают нам подвижнические тексты12.
Одухотворение плоти, или ее обожение, постепен
ный вывод ее из материально-психического «низа»
к «горнему миру». Становление «святой плоти», т. е.
12 Исследуя, как складывался феномен плоти (точнее — как
конструировался) на протяжении многовековой христиа
низации Европы, Фуко показывает, как и в чем, в каких те
лесных проявлениях закреплялись тогдашние страхи пе
ред ведьмами и демонами. В одном случае колдовство, что
преследуется со всей возможной жестокостью инквизиции,
получает статус фигуры в колдовском теле, оно кажется не
уловимым и скрытым, ведь оно принадлежит колдунье. Это
тело подвижное, способное исчезать и появляться вновь,
и чтобы его захватить, нужны специальные средства и уси
лия. «Тело колдуньи было способно переноситься из одно
го места в другое или поддаваться перенесению; оно было
способно появляться и исчезать; оно становилось невиди
мым...» Тело колдовское автономно, но маркировано осо
быми родимыми пятнами, крестами, символами и другими
видимыми «дьявольскими» отметинами, хотя сама ведьма
видна не сразу, и она скорее пребывает в человеческом о б
лике, под защитой невидимого поля колдовства и бесовщ и
ны, ее еще надо обнаружить, «опознать», отличить, выде
лить из других тел. В то время как тело, на которое посягает
дьявольская сила — тело одержимое, и не просто тело, и это
даже не одно тело, это тело множественное, оно видимо,
и не через собственное единство, а посредством проявляю
щей себя в конвульсиях плоти. «Конвульсивная плоть — это
и крайнее следствие, и точка трансформации механизмов
телесной нагрузки, созданных новой волной христианиза
ции в XVI в. Конвульсивная плоть — это следствие сопро
тивления этой христианизации на уровне индивидуальных
тел». Плоть конвульсивна, или точнее — плоть и есть то, что
можно назвать вот таким состоянием битвы здорового, не
винного и необремененного грехом духа с массивным втор
жение дьявольских сил, а тело лишь место этой нескончае
мой и жестокой битвы, следы которой бурно проявляют
ся в конвульсиях {Фуко Ы. Ненормальные. С. 255, 257-258).
145
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
одухотворенной, обоженной, чистой плоти, в сущно
сти, уже не плоти и чего-то плотского, как это слово
принято толковать, а чего-то иного, внетелесного и не
материального, что проявилось в результате этой ас
кетической переработки непосредственного телесного
опыта13. Плоть, как она понимается в святоотеческой
литературе и поздней русской религиозной и бого
словской традиции, а также прежде всего у Достоев
ского— это средоточие страстей, аффектов, всякого
рода «плотских помышлений», которые не поддаются
никакому модифицированию, исправлению и очище
нию без определенной аскетической техники. Без по
нимания технологий плоти трудно говорить о собст
венном живом телесном опыте, и, насколько я пони
маю, только посредством нее мы сможем приблизиться
и к собственному телу, и к собственной самости. Други
ми словами, понять, что такое плоть, можно только че
рез неустанную борьбу с ней. Но главный нерв проблематизации, конечно, не здесь. Ведь в любом случае эти
технологии плоти я буду рассматривать только с точ
ки зрения моего вынужденного положения в качестве
исследователя и читателя этих удивительных текстов,
располагающего к тому же знанием о том, что есть тело
в его феноменально ограниченной данности и вне по
ка его экстремальных характеристик, к которым мы от
носим понятия духа и плоти. Иначе говоря, попытать
ся увидеть, как осуществляется утрата среднего зве
н а -т е л а феноменального, солипсистского, которое-то
прежде всего и преодолевается в этой напряженной
и трагической дуальности духа и плоти. Чередой тек
13 Достаточно упомянуть здесь о предостереж ениях Флоровского, Ильина или Флоренского, когда они пытаются
оградить тексты русской религиозной мысли от «грехов
ного взгляда», т. е. от рационально отчужденного, научного
отношения к религиозным текстам (почитаемым священ
ными). Например, понятие так называемого плероматического чтения у Ильина как единственно возможного по от
ношению к религиозно-философскому тексту.
I46
V. П о ТУ СТОРОНУ СВЯЩЕННОГО
стовых анализов попытаться реконструировать этот
крайне неустойчивый фон преобразованной чувствен
ности феноменального тела не духовного, но и не плот
ского, которое нельзя рассматривать или только в по
ложительных, или только в отрицательных знаках. За
бегая несколько вперед, можно сказать, что русская
религиозная философия конца и начала века всегда
находилась в поиске особого духовно-соматического
единства, которое не могло никаким образом быть све
дено к феноменальным представлениям об индивиду
альном теле, она вырабатывала некие представления
о «святой плоти» как новом соборном теле. Я буду ана
лизировать эту асимметричную связку в ее не столько
понятийном, сколько в технологическом режиме:
ЧИСТОЕ
«Святая плоть»
I
Дух
-
Аскетика:
технологии ---------- Тело
«святости»
(феноменальное)
Плоть
(«плотские помышления
и соблазны»)
НЕЧИСТОЕ,
низменное,
женское
Эти три элемента составляют эту асимметрическую
связку, с которой нам придется работать и научиться ее
понимать как технологию «святой плоти». И с самого
начала я хотел бы указать на саму область применения
самой технологии: она работает, если хотите, в этом
промежутке между двумя вполне устойчивыми пред
ставлениями в христианской антропологической лите
ратуре, какими являются дух и плоть. Неустойчивый
и исчезающий термин «тело» является в данном слу
чае переходным и в общем-то случайным, но его пре
имущество использования и упоминания (не онтоло
гическое, а познавательное) заключается в том, что он
147
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
относится к самой практике становления христианскоподвижнического телесного канона. Другими слова
ми, технологии плоти размещаются между двумя эти
ми экстремальными границами представлений о суще
ствовании человеческого тела: «в духе» и «во плоти».
В одном случае, это будет, бесспорно, дух как некое
подлинное и наиболее аутентичное восприятие и пе
реживание мира с помощью внетелесных образов, как
представление о внетелесной ипостаси Божества, ко
торое может быть «светом божественным», даруемой
«благодатью», но и естеством человеческого преобра
зованного опыта, обожения или одухотворения, может
быть и действием, и особой, безвидной энергией, пре
образующей телесную ипостась в целом, а не только
ее крайнюю отрицательную форму, уходящей в тьму,
чем и является плоть в своем греховном измерении.
В другом случае это плоть как повсеместно признан
ный очаг греховности помыслов и поступков. Естест
венно, чтобы человеческое было воспринято Богом,
необходимо освобождение от подобной низшей фор
мы существования человеческого, от плотского начала.
Однако это «избавление» не является простой и легко
делаемой работой. Напротив, это, в сущности, невоз
можная работа или подвижническая, иначе говоря, из
бранная и для избранных. Естественно, что это и самая
непосредственная работа с человеческим телом, не
ким предданньш, но совершенно не ощущаемым в по
рядке представления. Я хочу здесь повторить, что нам
следует отличать друг от друга порядок представле
ния телесной жизни от самой этой жизни. В порядке
представления мы имеем дело с некими внетелесными
пределами, абсолютно отчужденными от реальной те
лесной жизни и ставшими одновременно и критерия
ми этой жизни, и ее символами. Вот почему стоит го
ворить о богословском дискурсе как дискурсе, связы
вающем определенные представления, и отличать его
от технологий телесной практики, которые действи
тельно могут рассматриваться как некая работа с че
148
V. П о ТУ СТОРОНУ СВЯЩЕННОГО
ловеческим телом. Другими словами, в этом проме
жутке задается порядок состояний-событий, т. е. не
ких психосоматических процессов в последовательном
их истечении и взаимосвязи. Я что-то должен сделать
со своим телом, чтобы оно обрело качества такой те
лесной ипостаси, которая в свою очередь должна быть
полностью «открыта Богу»: между Высшим сущест
вом и мною, как бы, по выражению Ницше, «спорт
сменом святости», не должно быть никакой границы
и никакого препятствия. В раннем христианстве и осо
бенно в аскетике великих подвижников и учениях от
цов Церкви мы находим хранилище этого удивитель
ного опыта подвижнической жизни, который и будет
иметь для нас определяющее значение в ходе анализа.
Что же следует понимать в данном случае под техноло
гией «святой плоти»? Это такого рода технология, ко
торую я мог бы определить как «мягкую», а это значит,
что она складывалась в ходе преодоления плотско-гре
ховного начала имманентным, если точнее — накопи
тельным, образом, но не в результате извне заданной
схемы представлений или канонов. Опыт подвиж
ничества накапливался веками и тем самым расши
рялись и делались все более разветвленными новые
аскетические экономии плоти, обретали последова
тельность и строгость, неотъемлемость от подвижни
ческой практики, которая может быть определена: это
есть выработка отношения к собственному телу (обра
зу) и его возможностям чувствовать, говорить, думать,
причем вся эта работа основывается на предданной
психосоматической основе «религиозного чувства»,
особой анатомии и сообразуется с христоморфным
телесным каноном. В нашу задачу входит исследова
ние подобных телесных практик, точнее — не столько
конкретно их самих, сколько тех попыток, благодаря
которым создается на протяжении веков упорядочен
ный дискурс подвижнической жизни. Подвижниче
ские технологии являются динамическими и облада
ют циклическим действием, так, например, переход
149
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
от плоти к духу строится всегда в вертикальном сече
нии, но плоть возносится или обновляется не для то
го, чтобы раствориться в духе, а чтобы с помощью это
го непрерывного обмена очистительными энергиями
могла восстановиться утраченная истинная антропо
логия, где бы душа и тело предстали в единстве цело
стного человеко-божественного образа.
IV
Вот эта фигура юродивого и может быть предметом
антропологического анализа (тем более что сегодняш
няя литература по «юродству» весьма значительна).
Святость — итог признания за сакральным/священным первоначального условия оправдания человече
ской жизни, ее смысл и цель, предназначение.
«Тот, кто назван sacer, несет на себе настоящее пят
но, ставящее его вне человеческого общества: его
обязаны избегать, но если его убьют, то не становят
ся убийцами. Homo sacer является для людей тем же,
что и животное sacer для богов: ни тот, ни другое ни
чего общего не имеют с миром людей»14.
«Собственно sancta мы называем то, что не является
ни sacra, ни profana, но то, что подкреплено какой-то
санкцией; так, sanctae являются законы; то, что как-то
санкционировано, является sanctum, хотя и не по
священо богам. Эти определения образуют пороч
ный круг: sanctum —это то, что основано на sanctio,
абстрактном существительном от того же sanctum.
Во всяком случае, очевидно, что sanctus не тот, кто
посвящен богам (что передает sacer), и не профан
ный» (что противостоит sacer), а тот, кто, не будучи
ни тем, ни другим, установлен и утвержден при по
мощи sanctio, тот, кто защищен наказанием против
любого поползновения, как leges sanctae»15.
14 Бенвенист 3 . Словарь индоевропейских социальных тер
минов. М.: Прогресс; Универе, 1995. С. 348.
15 Там же. С. 348-349.
150
V. П о ТУ СТОРОНУ СВЯЩЕННОГО
Между властью автократической, доминирующей
в сфере священного, и мирским располагаются пу
ти, которыми проходит определенный психотип, для
которого пересечение границ в ту или другую сторо
ну не составляет труда: он нарушитель всяких гра
ниц и конвенций. Фактически именно этот психотип
и пытается осуществить, ввести в действие план то
тальной сакрализации, или пансакрализации (В. Н. То
поров). А с другой стороны, он всякий раз саму веру
ставит под испытание. Юродивый — двойственный
субъект этого процесса, провокатор святости.
Святость,
ВЛАСТЬ,
СВЯЩЕННОЕ
Феномен юродивого показывает, как действует в об
ществе этот переход между сферой священного и мир
ского. Этот переход может быть чисто внешним, на
пример, запрещение всякого шутовства и юродства
(начиная с Петра Первого). Я хотел бы проверить сле
дующую гипотезу: если основной базовый театрализо
ванный тип культурного поведения юродивый, со сво
им характерным телесно-эмоциальным, пластически
разнообразным репертуаром жестов, которые сохра
няются в отечественной культуре как поведенческий
архетип (так и непреодоленный)16. Не столько про
ектирование архетипа «юродивый-персонаж», сколь
ко его психологизация в ресентиментной практике
16 Лихачев Д. С., Панченко А. М„ Понырко Н.В. Смех в Древ
ней Руси. Л.: Наука, 1984. С. 81-116.
151
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
(Ф. Ницше). Современная литература (начиная, допу
стим, с XIX в. по наши дни) поддерживает этот устой
чивый тип и пытается даже воспроизвести его в каче
стве нравственного идеала (Ф. Достоевский, А. Белый,
А. Платонов и др.). Но это происходит не в навязчивой
манере повторения архаического легендарного образ
ца, а иначе. Архетип юродивого раскрывается в но
вейших интерпретациях, не теряя ничего из того, что
было ранее. Амбивалентность делает юродивый тип
личности идеальным случаем отношений между свя
щенным и мирским (чистым/нечистым). Ведь он (как
колдуны и шаманы) имеет возможность сообщать
ся как с высшими, так и с низшими силами. Он цир
кулирует в этом промежутке за счет перескока из од
ной сферы в другую: он — святой и оскверненный17
17 Ср.: «Отсюда следует, что скверна и святость, даже буду
чи правильно опознаны, в равной мере требуют известной
осторожности и по сравнению с миром повседневного оби
хода выступают как два полюса опасной области. Поэтому
их так часто, даже в самых высокоразвитых цивилизациях,
обозначают одним термином. Греческое слово ccyoq, „сквер
на“, значит также „жертвоприношение, которым смывается
скверна“ Термин ауюс, „святое“, в старину также обозначал
(если верить лексикографам) „оскверненное“ Различие бы
ло проведено лишь позднее с помощью двух симметричных
слов dy/yc» „чистое“, и evccyijq, „проклятое“, прозрачная кон
струкция которых ярко показывает двузначность исходно
го слова. Греческое d öoivv и латинское expiare („искупить“)
этимологически истолковываются как „извлечь (из себя
сакральную частицу (öoioc;, pius)y которая была внесена при
осквернении“. Искупление — это акт, позволяющий пре
ступнику вернуться к нормальной жизни, на свое обычное
место в профанном сообщ естве, избавиться от своей сакральности, десакрализоватъся, как замечал еще Ж. де Местр.
В Риме, как известно из дефиниции в словаре ЭрнуМейе, слово sacer означало «тот или то, до кого или чего
нельзя дотронуться, не осквернившись или не осквернив».
Если кто-то виновен в преступлении против религии или
государства, то народное собрание исключает его из свое
го состава, объявляя sacer. С этого момента, хотя его убий
ство по-прежнему сопряжено с мистическим риском (nefas
152
V. П о ТУ СТОРОНУ СВЯЩЕННОГО
(прибавить оппозиции: чистое/нечистое, левое/правое, высшее/низшее и т. п.). Вот та временность, по
жалуй, точнее — длительность, в которой осуществля
ются стратегии святости (опыты в искусстве и литера
туре: Ф. Достоевский А. Белый, А. Платонов, Ф. Ницше
(М.Шелер), С. Эйзенштейн, М. Бахтин и др.). Как же
могут пересечься в одной точке ресентиментный тип,
несущий месть, и тип юродивого, — бунтарь, «дитя»
и смиренный, абсолютно нравственный тип? Да и мо
гут ли? Внешне юродивый — и бунтарь/смиренный,
как ребенок. Внутренний аспект — смешение и того,
и другого, ибо во внутреннем нет смены внешнего,
их раздельности; они там сливаются, становятся иг
рой амбивалентных сил, контуров, отклонений, они
пребывают в борьбе и во временной длительности.
Человек все менее понимает, что происходит вокруг,
что из чего сделано и как работает. Мир заново стано
вится магичным, таинственной конструкцией демони
ческих сил. Юродивый не имеет ничего для себя пси
хологически достоверного и остается чисто внешней
депсихологизированной конструкцией личности в ис
тории культуры. И изучается именно как внешнее без
внутреннего. Отсюда и возможность семиотической
стратегии; нет нужды в означаемом, остается только
наблюдать за взаимодействием означающих («цепочка»
Ж. Лакана). Достоевский делает другой шаг: он, по су
ти дела, интериоризует внешний, поведенческий план,
переводит его во внутренний, над которым персонаж
рефлексирует, психологизирует, вместо того, чтобы вы
теснять его. Как только перевод состоялся, в действие
вступает напряженное самоосознание своей «вины»,
est)y но во всяком случае с точки зрения человеческого пра
ва (jus) убийца будет невиновен и его не осудят за лишение
ж изни человека (parricidi non damnatur )» (Кайуа Р. Миф
и человек. Человеки сакральное. М.: ОГИ, 2003. С. 164-165).
Итак, идет речь о действии сверхъестественных сил, кото
рые равно опасны, как и благотворны (но лучше от них дер
жаться подальше).
153
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
причем настолько интенсивное и навязчивое, что ви
ной становится уже само это «осознание», что, естест
венно, приводит к утрате благодати и устранению усло
вий святости. Если этот персонаж и может быть назван
юродивым, то только в переносном смысле. Другими
словами, общая идея психотипа юродивого распадается
у Достоевского на отдельные характерные черты, кото
рые приписываются разным персонажам и их опреде
ляют. Надежда одна —будущая «империя детей».
V
Святость в лице юродивого не признает границ меж
ду священным и мирским, чистым и нечистым, поэто
му их свободно нарушает (лучше сказать, не ощущая
их вообще); нарушает по «неведению», а не с умыс
лом, спонтанно в зависимости от возникающей ситуа
ции. Жесты юродивого трансгрессивны, всегда и вез
де должны нарушать ближайший запрет. Психотип
юродивого — это способ противостоять власти с по
зиций святости.
Психотип
юродивый
Психотип
ресентиментный
Дитя
Протест
Смирение
Протест
Смирение
\
Отказ
Принятие
У
Бегство
/
Отказ <4 — Д и тя—►Принятие
/
Месть
\
Агрессия
Судилище «Осторожно религия!» Современный при
м ер -п о п ы тк а осудить А. Ерофеева, куратора выстав
ки (после безобразного судилища). Замкнутое и недо
ступное пространство выставки некоторых работ ху
154
V. П о ТУ СТОРОНУ СВЯЩЕННОГО
дожников, так или иначе пытающихся выразить свое
отношение к религии, не помешало их клерикальным
противникам выдвинуть обвинение против организа
торов (с помощью некоторых «авторитетных» искус
ствоведов). Судебное разбирательство. (Салман Рушди и «Сатанинские стихи», приговорен имамом Хомейни к смерти; убийство Тео Ван-Гога.)
Судебная система действует так, как если бы в ее
распоряжении было лишь одно авторитетное мнение.
Распространение правил святости теми самозванца
ми, которые претендует на высшее предназначение
их роли в культуре, приблизительно такую же роль
пытались играть инквизиторы и судить шутов за то,
что они шутят (осудить за святотатство и кощунство
мирское). Разве можно не заметить присутствие это
го архаизма в авторском кинематографе А. Германа
и А. Сокурова или, например, в писательских практи
ках Дм. А. Пригова, В. Сорокина или В. Пелевина. Тя
готение к святости, уход или бегство —это отнесение
к образцам архаизма. Святость — демиург националь
ной отечественной культуры, которая отменяет все
ограничения, возможные десакрализации, все уступки
обществу, ибо это именно та утопия бытия, что выво
дит нас за пределы посюстороннего. Святость — един
ственный священный объект, который не поддается
разложению или десакрализации. Это сердце веровательной практики. Вопрос: как входит в мир отноше
ние священное/мирское: через внутреннее или через
внешнее, — давно разрешен. Между священным и мир
ским возможно только внешнее отношение. Отноше
ние же мирского/священного к святости (не только
как к «личному подвигу») получает характер внешнего
в случае персонификации образцов святости на куль
турно-политической сцене. Десакрализация только
помогает укрепить институт веровательной практи
ки и по-настоящему отделить его от общественных
структур.
VI. Культура и реальность
(ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ)1
СТАРОЕ И НОВОЕ. ОБРАЗ КУЛЬТУРЫ
астоящий сборник — это много причудливо со
ставленных картинок, своеобразный puzzle, и чи
тателю придется потрудиться, чтобы составить доста
точно цельное изображение динамики культурного
процесса. Тем не менее достоинство исследования на
лицо: мгновенный срез новейших и самых неожидан
ных тенденций, столь заметно проявивших себя в со
временной западной культуре.
Начиная с А. Моля установилось правило репре
зентации культурных процессов: «Мы будем называть
эту культуру мозаичной, потому что она по сути сво
ей случайна, сложена из множества соприкасающихся,
но не образующих конструкций фрагментов, где нет
ни точек отсчета, ни одного подлинно общего поня
тия, зато много понятий, обладающих большой весо
мостью (опорные идеи, ключевые слова и т. п.)»12. Куль
тура настоящего — это набор пульсирующих с раз
ной частотой и интенсивностью явлений: на месте
одного тут же возникает другое, что-то сохраняется,
что-то не оставляет следов, а что-то обретает устой
чивую культурную форму, переходит в ритуал, насле
дуя избранной традиции. Культурное явление получа
1 Представляемый текст является послесловием к сб.: Мас
совая культура: современные западные исследования / Под
ред. В. В. Зверевой. М.: Фонд научных исследований «Праг
матика культуры», 2005.
2 Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973.
С. 45.
156
VI. К у л ь т у р а
и реальность
ет статус образца, на время становясь подлинно куль
товым. В культурном поле идет непрерывная работа
по переработке фрагментов — образцов; на это всякий
раз указывает то, как составляется в ту или иную эпо
ху общая картинка. Принцип распадения и повторно
го собирания — основное правило описания кризис
ных стадий (апокалиптических) западной культуры,
идея, которой придерживался В. Беньямин3. Позднее
К.Леви-Строс предложил модель калейдоскопа, бо
лее нейтральную4. Исследователь вынужден принять
к исполнению определенную теорию, иначе он про3 В романтической теории фрагмента (Ф. Шлегель, Нова
лис, Жан-Поль Рихтер) культура рассматривалась с пози
ции незаверш енного абсолютного П роизведения. Руина
как модель культуры. Эстетизация античных и римских
руин, характерная для позднего Возрождения и наследуе
мая немецкими романтиками. В эпоху барокко аллегориче
ское видение и меланхолия объявляются концептуальны
ми, «духовными» и языковыми (троповыми) эквивалента
ми феномена руин . В. Беньямин в «Первоистоке немецкой
драмы» рассматривал барочное творение с точки зрения
фрагмента: поэт должен был собирать «образцы» предше
ствующей поэтической культуры без цели и программы,
заполняя время собирания ожиданием чуда. Два мотива,
передающие действие культурной динамики распада: раз
рушать/собирать. Причем под собиранием и разрушени
ем следует понимать одно и то же действие. Собирают, что
бы разрушить, и разрушают, чтобы собрать. То, что утра
чено, что подверглось разрушительному действию времени,
оказывается высшим образцом, наличным здесь и сейчас;
руины как раз и указывают на то, что высшее совершен
ство, каким они наделяются в сознании новой эпохи, при
надлежит отсутствующему целому; вот что делает фраг
мент столь значимым и эстетически возвышенным о б ъ
ектом искусства (Беньямин В. П роисхож дение немецкой
барочной драмы. М.: Аграф, 2002. С. 185-188).
4 Ср.: «Эта логика действует как калейдоскоп — инстру
мент, содержащий осколки, обломки... но они «появились
в результате процесса слома и разрушения, самого по себе
случайного...» (Яеви-Строс К. Первобытное мышление. М:
Республика, 1994. С. 141).
157
В алерий П одор ог а . А пология
политического
сто будет не в силах выделить из богатого материала
поле исследуемых объектов. Правда, эти теории сами
подвержены разрушению временем (в связи с распа
дом научных групп, которые их поддерживали). Орга
ническая теория культуры Гете — Шпенглера мало что
значит сегодня, когда в основном господствуют тео
рии семиотического плана (механические, не органи
ческие). Да, культура мозаична, но каждая часть пан
но образуется иначе, чем только произвольным под
бором фрагментов.
Но тут же возникает проблема: что мы, собствен
но, имеем в виду, когда говорим культура? Ведь есть,
по крайней мере, три типа культур: первый — культу
ра, в которой мы живем, второй — культура, в кото
рой живут другие, и третий — мертвая культура, в ко
торой не живем ни мы, ни другие (мы пытаемся ее
реконструировать, чтобы приблизить эпохи древних
цивилизаций). Естественно, изучают эти культуры
совершенно разными методами. В настоящем сбор
нике представлена живаяу «здесь-и-сейчас» культу
ра — культура дня, месяца, года, ну двух-трех лет, даже
не десятилетия. Другими словами, для этого новейше
го типа культуры определяющим фактором остается
скорость изменений, введение инноваций и их уста
ревание. Чем более она высока, тем более динамич
но развивается культура. В любом случае эта культу
ра определяется иными ритмами, чем другие, локаль
ные и закрытые, удаленные во времени, «мертвые»,
или те, традиционные, что сопротивляются всяким
изменениям, рассматривая их как угрозу националь
ной и этнической идентичности. Неустойчивость об
раза современной культуры очевидна. Время ничего
не значит, сегодняшняя культура оказалась вне време
ни, мы не можем схватить ее временной гештальт5. Ав
5 М ножество явлений и, казалось бы, установившихся при
вычек исчезло из массмедийной культуры. Где прежние раз
вернутые культы, например, культ Walkman а или jogging,
158
VI. К у л ь т у р а
и реальность
торы сборника в полной мере осознают эту проблему,
указывая на возможность применения разнообразных
приемов наблюдения, описания, освидетельствования
новейших сверхдинамичных культурных процессов.
ПОРЯДОК ИЗ ХАОСА
Новая геометрия подобна зеркалу, отражающему
вовсе не плавные и мягкие очертания, а неровный
и шершавый контур иного мира. Зарождающую
ся науку можно назвать геометрией ям и впадин,
фрагментов разбитого единства, изгибов, узлов,
переплетений.
Дж. Глейк. Хаос. Создание новой науки.
Собственно, все статьи настоящего сборника, если вни
мательно присмотреться, пронизывает одна тема: рост
реального. Вот что удивляет: не исчезновение и стира
ние, а нарастающее умножение образов реального, все
более усиливающих блокаду реальности. Рост реаль
ного... он особенно заметен на фоне рождения новой
чувственности, устраняющей боль, способной к про
тезированию всего спектра повседневных ощущений;
shopping? На смену им пришли Интернет-магазины с совер
шенно иным принципом организации покупки и фитнесцентры, обеспечивающие полный набор оздоровительных
процедур и других услуг. Происходит довольно-таки стран
ное явление, если, конечно, понимать под культурой наи
более устойчивые, избранные, постоянно, почти с прежней
эффективностью воспроизводящиеся процессы. Если куль
тура и есть то, что не изменяется в текущей потоке жизни,
дает нам опору и силу ему противостоять, то, что тогда по
нимать под современной культурой (или актуальной )? Не
которые исследователи (В. Беньямин, Т. Адорно, а сегодня
Р. Барт и Ж. Бодрийяр) видят в моде новейший культурный
механизм, создающий разнообразные ритмы и скорости из
менений. Новейшее время как раз и характеризуется утра
той культурой прежнего социального статуса.
159
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
не восполняющей нехватку реальности, а примеряю
щей с избытком реального. Нужно ли так беспокоит
ся о реальности, если все желают пользоваться заново
творимыми образами реального. Ведь этого вполне до
статочно. Да и существует ли Реальность (с большой
буквы) вне процессуальных (динамических) характе
ристик реального? Реального слишком много, а реаль
ности недостает — вот что приводит в отчаяние, ведь
требование референции к одной единой Реальности еще
в силе. Нет ли в этом многообразии новых реальностей
скрытой монотонности повтора того же самого или дей
ствие такого аттрактора, который подчиняет своей мо
гущественной орбите все другие, создавая иллюзию не
доступной Реальности? Не будет ли тогда Реальность
тем «странным аттрактором», удерживающим реаль
ное в системе повторов, циркуляции свойств и рит
ме, остающихся непостижимыми? Но тогда реально
сти просто нет, раз она недоступна... и так было всегда.
В одной из самых теоретичных статей сборника
(УиллокД. Реальность как предмет переговоров: Хао
тические аттракторы нашего понимания. С. 21-41),—
используются новейшие эпистемологические моде
ли (теория хаоса), чтобы определить отношение к Ре
альности. Что соответствует истине (как реальности)
тому, что действительно произошло, а могло не про
изойти? Можно, конечно, обсуждать правомерность
введения физического термина «странный аттрак
тор» в изучение динамики культурных процессов
(так и не прояснена связь его с понятием симулякра)6.
И все же, если такой аттрактор существует и в куль
туре, то мы все более удаляемся от той реальности,
в которую вовлечены как смертные существа. Аргу
мент старый: нельзя же отрицать реальность смерти,
6 О «странных» и «периодических» аттракторах: Приго
жим И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению пара
докса времени. М.: Прогресс, 1994. С. 74-95; Глейк Дж. Ха
ос. Создание новой науки. СПб.: Амфора, 200. С. 177-206.
1бО
VI. К у л ь т у р а
и реальность
или «смерть как реальность»? Оказывается не только
можно, но и нужно. Тогда остается одно: дать имя это
му «странному аттрактору», — имя Бога. Неужели не
понятно, что реальность невыносима, человек не в си
лах выдержать ее взгляд; она величайшая опасность,
прямая угроза существованию. Разве не от нее мы за
щищаемся, когда пытаемся перевести событие (то, что
случилось) в порядок реального (в то, что может быть
представлено, «пережито», наделено дистанцией...).
Воспринимать угрозу — значит защищаться. Когда ав
тор статьи объясняет нам на примерах некоторых лент
Оливера Стоуна («Никсон», «Ж Ф К » и др.), как исто
рическая истина упраздняется под действием допол
нительных, воображаемых логик факта, то так и хо
чется задать вопрос, а разве может быть иначе? Ответ
ясен: нет, не может. И вывод предрешен: «Реальность —
не то, что на самом деле случилось, но то, что воспри
нимается как случившееся». Выражение «на самом де
ле» и есть симулякр того, что иначе, как только этим
двусмысленным жестом не может быть представле
но. Как будто мы уже знаем, что такое реальное, и нам
есть с чем сравнить то, что нам кажется нереальным,
чистым симулякром. Постановка реального известна
со времен опытов русского киноавангарда — визуаль
ные стратегии «идейно-партийного» обращения с ре
альностью. Ведь реальность — это хаос, где царствуют
странные аттракторы, они не столько вносят порядок
в хаос, сколько хаотируют любые формы упорядочен
ности. Порядок, имманентный реальности, залегает
на такой глубине явлений, которая может оказать
ся недоступной герменевтическим средствам, обычно
практикуемым в культуре. Предположить, что за ре
альным скрывается истина, — это утвердить порядок
вместо хаоса, сделать порядок изначальным услови
ем, —схемой реального. На самом же деле, истина так
же относится к порядку реального. Всякие же попыт
ки выдать реальное за реальность — это скрыть тот
древний ужас перед вечным Хаосом и Небытием, пе1б1
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
ред тем, что единственным средством выражения Ре
альности, был первоначальный Страх.
В сущности, современный агент культуры уже при
нял за естественный процесс фрактализации куль
турного опыта. Фрагмент теперь получает значение
и смысл фрактала — геометрической единицы, указы
вающей на бесконечную делимость образа реального,
распадение его на мельчайшие составляющие. Так, бе
реговую линию невозможно измерить, если пытать
ся сохранить особенности ее ландшафтного рельефа
с эмпирической дотошностью. Математическая тео
рия фрактала, вероятно, неуместна при интерпрета
ции культуры, но идея фрактала — бесконечно дели
мой единицы — как аналогия, образ или модель мо
жет быть использована. Дело не в точности измерения,
объект культуры не измеряется, а описывается, объяс
няется и понимается, т.е. он не может быть упрощен7.
Та или иная культура может казаться непроницаемой
(традиционные культуры, религиозные секты, тайные
общества и пр.), но если мы имеем в виду все-таки со
временную «западную» культуру, то мы должны пред
ставить ее как нечто единое, куда должны быть вклю
чены все способы интерпретации, которые использу
ются «западными» исследователями-антропологами
при понимании других культур8.
РЕАЛЬНОСТЬ И РЕАЛЬНОЕ.
ПОИСК КРИТЕРИЕВ
Следует учиться не смешивать Реальность (с большой
буквы) с реальным, последнее лишь одна из модаль7 Mandelbrot В. Les objects fractals. Survol du langage fractal.
Paris, 1989. P .5-6.
8 См. подборку важных статей, обсуж даю щ их правомер
ность применения некоторых антропологических методов
в понимании культуры (и культур): Антология исследо
ваний культуры. Т. 1. СПб.: Университетская книга, 1997.
1б2
VI . К у л ь т у р а
и реальность
ностей Реальности (наравне с возможным, актуаль
ным, виртуальным, фантастическим, симулятивныму
символическим и пр.). Как только чему-то приписыва
ется статус реального, тут же возникает вопрос о Ре
альности. Мы самонадеянно полагаем, что на всем,
что существует, Реальность должна оставить свои сле
ды, и беремся их расшифровать, но это следы реаль
ного... Освобождение или защита от Реальности? Все,
что не есть культура, есть Реальность. Но как узнать,
что не является культурой? Может ли здесь чем-то
помочь старая оппозиция между Природой и Куль
турой? Культура как «вторая Природа», «рукотвор
ная», сделанная. Если же мы говорим о Реальности,
то имеем в виду не то реальное, что производит куль
тура, а Реальность, или то, что не может быть сделано
культурой, не сделанное, «нерукотворное» или то, что
проявляет себя в качестве отрицания культуры. Ре
альность там, где она имеет возможность проявить
ся, не позволяет наделить себя значением и уж тем
более смыслом.
Тезисы:
- реальное не Реальность, а только другое реаль
ное, принцип фрактализации;
- культура не целое, а часть от целого, которое от
сутствует, принцип децентрации;
- расширенное воспроизводство и потребление
образов; между реальностью и культурой скла
дывается система образов, которая и формиру
ет всю сеть новых отношений, в которых Реаль
ность и культура получают смысл и назначение
как понятия;
- доминирующее положение обратной, опосредо
ванной связи по отношению к неопосредованной
(важно не что, а как); что или переживаемый
образ предуготовлен для восприятия именно
в тех чувственных и идеологических масштабах,
какие требуются для того, чтобы он мог заме
стить реальное;
В алерий П о до р о г а . А пология
политического
- реальное как наиболее подвижный образ из всех,
что замещают Реальность;
- Реальность безобразна> потому что мгновений.
Чаще Реальность — это шок, нечто внезапное, не
счастный случай, природная катастрофа, «кри
зис средних лет», сердечный припадок или об
морок, т.е. прямое действие, не опосредован
ное ни ожиданием, ни культурной подготовкой,
ни коллективной или индивидуальной памя
тью, — опережающая перцептивная блокировка
здесь невозможна.
РЕКУРСИВНАЯ ПЕТЛЯ.
ПРИНЦИП ИНТЕРАКТИВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Наблюдатель (будь то культуролог, антрополог или эт
нолог) включен в то, что наблюдает. Цель объектив
ного описания — освободиться от влияния наблюдае
мого на наблюдателя, достичь максимальной чистоты
наблюдения, объективности. Но что значит включен?
Это значит не только то, что наблюдение воздейству
ет на наблюдаемое и изменяется вместе с ним; наблю
даемое имманентно средствам наблюдения: то, как мы
видим, и есть то, что мы видим. Главное не видение
и не описание, а понимание: наблюдается лишь то, что
может быть понято, на что можно дать ответ и тем са
мым подготовить соответствующую форму, с помощью
которой сообщение о событии может быть принято
за реальное событие. Если физическая реальность тре
бует чистого наблюдения (объективного), в то время
как наблюдение за культурой (отдельными культура
ми) невозможно без установки обратной связи. В. Изер
использует понятие (метафору) рекурсивной петли:
«...система обратной связи развивается как взаимоза
мена между входом и выходом (input, output), в процес
се которого корректируется план, ибо он не смог реа
лизовать поставленную цель. Следовательно, происхо
дит двойная коррекция: бросок вперед (feed forward)
164
VI. К у л ь т у р а
и реальность
возвращается назад в качестве превращенной обрат
ной петли, которая, в свою очередь, питается повтор
ным выходом. Таким образом, рекурсивное петляние
приноравливает будущие явления к прошлым дости
жениям»9. Рекурсивная петля — основной интерпрета
тивный прием, используемый в понимании объектов
культуры многими исследователями101. И возможно то,
о чем нужно было бы сразу же сказать: рекурсивность,
или обращенность направления познавательного уси
лия к герменевтическому объекту, полагает культуру
как живую систему отношений. Фр. Варела и У. Р. Матурана обосновали понятие аутопоэзиса: автономию
в организации живых существ, само воспроизводство,
которое зависит от их организации, а не от физиче
ской природы элементов, их составляющих. И основ
ной вывод: «...познание — это эффективное действие,
и по мере узнавания того, как мы познаем, мы порож
даем самих себя»11. Никакая культура не имеет внут
ри себя некой привилегированной точки зрения, ко
торая была бы трансцендентна тому, что наблюдается.
Рекурсия акта познания — естественная форма позна
вательного цикла, где скрыто начало начал, ибо нача
ло смещается в акт познания как творения.
КУЛЬТУРА КАК ВЫМЫСЕЛ
Культурный опыт выстраивается на основе первона
чального конфликта как необходимая форма прими
рения, снятия или временного «выглаживания» кон
9 Изер В. Что такое литературная антропология? Различие
между объяснительным и исследующим видами вымысла//
Логос. 1999. №2. С. 195.
10 ГирцК. «Насыщенное описание»: в поисках интерпрета
тивной теории культуры// Антология исследований куль
туры. Т.1. С. 171-200.
11 МатуранаУ.Р., Варела Фр. Древо познания. Биологиче
ские корни человеческого понимания. М.: Прогресс-тра
диция, 2001. С. 215.
165
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
фликтующих желаний. Желание антикультурно, оно
не может быть удовлетворено наличными культурным
опытом (конвенционально принятым) и всегда угро
жает нарушить равновесие сил, перейти положенную
границу, возобновить конфликт, угрожающий приме
нением насилия. Желание атакует пред-стоящий ему
запрет. Естественно, что запрет на желание (на при
своение объекта) приводит к замещению объекта об
разом желаемого — к вымыслу (для чего и требует
ся развитие техник репрезентации). Запрет в данном
случае играет роль закона, который нельзя нарушить,
не сместив область действия предшествующего кон
фликта. Но он нарушается, чтобы тут же быть восста
новленным. Это не значит, что какое-то желание удо
влетворяется, это значит, напротив, что оно не столько
удовлетворяется, сколько ему предлагается фиктив
ное удовлетворение в качестве fictio (подделки или об
манки) — то, что и называют современные антрополо
ги литературы вымыслом: «...существуют разные ви
ды вымысла; вымысла, в том смысле, в котором он есть
„нечто сделанное“, „нечто смоделированное“ — именно
таково изначальное значение слова fictio, а не то, что
он (вымысел) фальшив, не фактичен или является пло
дом „воображения“, экспериментом условной („as if“)
мысли»12. Но запрет не может вступить в действие, ес
ли не таит в себе угрозу наказания, кары за его нару
шение. Следовательно, запрет —проводник угрозы на
казания, и поэтому он неизбежно должен порождать
страх. Не сам запрет действует, а страх наказания, без
которого он, собственно, и не существует. Вымысел
как история запрета, но и как история страха. Другими
словами, мы истолковываем действие запрета как эле
мент первоначальной репрезентации, а это и есть отсыл к первоначальной сцене страха. Более того, любой
запрет должен быть воспринят, не обязательно понят,
а именно воспринят, т. е. должен обладать достаточ
12 Изер В. Указ. соч. С. 189.
166
VI. К у л ь т у р а
и реальность
ной миметической силой, чтобы представить угрозу
настолько реально, насколько она может быть отра
жена в активности телесных жестов и поз. Мы чита
ем запрет собственным телом, как несчастный из но
веллы Кафки «В колонии» читал то, что пишет на его
спине острыми зубьями чудовищная машина старого
коменданта. Угроза настолько реальна, насколько мы
ее воспринимаем в качестве реальности. С ней — ре
альностью — мы сообщаемся посредством этой угро
зы и не иначе. Следовательно, страх приводит в дей
ствие воображаемое, снять, отвести, избежать угрозы
и тем самым снять страх — вот что требует отсрочки
(я бы сказал, требует очень много реального). Страх
действует как аффективная (миметическая) подосно
ва любого запрета. И это понятно. Но поскольку сам
страх не сводится к прямому действию запрета (нака
зание), да и не должен сводиться (зачем же тогда нуж
на культурная форма, если она не может скрыть страх
и «первую угрозу»), а выявляет себя только в косвен
ных свидетельствах возможного нарушения запрета.
Страх исчезает в фикциях воображаемого. Если угод
но, исчезает в момент присвоения желаемого объек
та, который на самом деле невозможно присвоить. Об
ход запрета, нет, скорее его своеобразное преодоление.
Присвоение свершается, и его бывает вполне достаточ
но, чтобы не возобновлять повторно желание, направ
ленное к нарушению запрета. Объект присваивается
воображаемым. Объект выбран, но присваивается че
рез систему образов (культурных форм), составляю
щих историю объекта. Вымысел или образ, замещаю
щий желаемый объект, является пустым, т. е. имеет
готовность к мимезису. Страх есть начальное условие
присвоения объекта, сигнал к вариативному повторе
нию (любым наличным образом) объекта, находяще
гося под запретом. Аффективное (страх прежде всего)
встраивается в игру воображаемого в виде точно на
правленных миметических импульсов, предшествую
щих овладению объектом.
167
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
Никакая история не может быть рассказана, ес
ли в основе ее не лежит страх наказания за преступ
ное желание обладать объектом, которым обладать
не может никто. Избежать угрозы (наказания) мож
но лишь ее отсрочив. Прекрасный пример: «Сказки
тысяча и одной ночи». Под угрозой казни строится
эта бесконечная вереница сказок: нельзя прерывать
ся, нельзя молчать, нужно рассказывать и рассказы
вать, в противном случае... реальность возьмет свое.
Фактически рассказ отсрочивает исполнение приго
вора, саму смерть, но тем самым останавливает вре
мя, переводя его в состояние длительности («не за
мечать часов»). Это не значит, что время остановлено,
это значит, что оно теперь стало временем повество
вания — рассказом.
Ж. БОДРИЙЯР И СИМУЛЯКРЫ
Изобретатель расхожего ныне понятия симулякра
Ж. Бодрийяр продолжает активно влиять на совре
менное понимание массовой культуры — настоящий
сборник не избежал этого влияния. Идея симуляк
ра проста: все, что мы пытаемся понять как проявле
ние реальности, есть только ее образ, реальное скры
вает от нас Реальность. Как будто мы знаем, как най
ти доступ к реальности, но С М И и все, что относится
к массовым культурным идеологиям позднекапита
листического общества, препятствует этому. Но мо
жет ли современное общество иметь иную оснаст
ку для реальности, чем оно имеет. Миф о Реальности
(новая а-топия) становится условием демонстрации
действия негативной практики симулякров. Симулякр отрицает реальность, прячет ее, «скрадывает»
(в обманке), замещает подделкой и ложными образ
цами. Средства воспроизведения реального становят
ся все более необходимыми условиями поддержания
мифа о Реальности. Но тогда что такое Реальность?
Пожалуй, если читать далее Бодрийяра, то придешь
168
VI. К у л ь т у р а
и реальность
к грустному выводу: реальность — это единственное,
чего не существует. Реальность теперь больше, чем ее
любая репрезентация, она — гиперреальность, то, че
му можно найти только сверхчувственный (вирту
альный) эквивалент. «Средства информации созда
ют „гиперреальное“ (симулякр) ...»13—формулируют
авторы настоящего сборника. По Бодрийяру, реаль
ность— то, что «можно эквивалентно воспроизвести»,
далее уточняется: «...реальность — не просто то, что
можно воспроизвести, а т о , что всегда уже воспро
изведено»14. Другими словами, чем больше реального,
тем меньше реальности; реальность перекрыта многи
ми слоями реального, именно они создают эффект ин
терференции, смешения световых бликов; наши пер
цептивные возможности совершенствуются: мы все
лучше и лучше видим то, что не существует (во вся
ком случае т ак...), тогда реальное (то, что мы якобы
видим) и получает качества гиперреальности. Мож
но, конечно, видеть в симулякре орудие тестирова
ния реальности: насколько глубоко искажается, на
пример, реальность отдельного события в практике
современных С М И . Действительно, когда говорят, что
вся поверхность мира покрыта симулякрами, что они
повсюду, то понимаешь, что это отчаяние агностика,
который готов вновь поставить вопрос об истинной
Реальности и даже указать на пути к ней. Бесспорно,
это романтическое отрицание институтов позднего
капитализма, иногда достаточно удачное, но явно ли
шенное той метафизической веры, на которую опира
лась критика Франкфуртского института социальных
исследований (М. Хоркхаймер, В.Беньямин, Т. В. Адор
но, Г. Маркузе).
Культура никогда не была Реальностью (Приро
дой), а всегда была чем-то сделанным, «второй приро
13 Массовая культура. С. 35-36.
14 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. С. 151.
169
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
дой», которая определяла наши отношения с «первой».
Но сделанным еще надо овладеть, сделанным вме
сто того, что желают присвоить (потребить, исполь
зовать, инструментализовать). Делать (производить)
противостоит при-своению (потреблению); делать —
это что-то изменять. Культура как способ присвоения
уже-сделанного. Иногда думаешь, а не является ли со
временная культура простой инструкцией, прилагае
мой к товару. Вот почему речь могла бы идти не о том,
что эквивалентно, а о том, что неэквивалентно Реаль
ности. Чем больше внезапности и шокирующей мо
щи в явлениях реальности, тем менее мы способны
противопоставить ей созданный эквивалент (но это
не значит, что мы не фабрикуем их). Можно поверить,
что как только человек овладеет механизмом форми
рования смерчей и ураганов, то тут же использует это
знание, преобразует явление урагана во «вторую при
роду», и когда одно из разрушительных явлений при
роды, постоянно угрожающих восточному побережью
США, будет сделано ут.е. присвоено, его неуправляемая
энергия будет поставлена под контроль. Однако об
разы, с помощью которых мы моделируем природные
процессы, неустойчивы, и нам встречаются разрывы,
нарушения, или дыры в образной ткани реального, все
эти метки или следы реальности, которую не удается
перевести в необходимый режим присвоения. Неподлинность реального тогда особенно заметна.
КУЛЬТУРА «ЧЕГО-ТО И ВСЕГО»
Привычно говорят культура чего-то: «культура про
изводства», «культура вина», «культура общения»
и т.д. Все, чтобы быть культурой, должно быть вклю
чено в тотальный ритуал присвоения. Культура есть
способ существования живых существ, развивших
в себе способность к присвоению сделанного. При
своение и делание — два важнейших фактора культу
ры как тотального социального феномена. Что-то де
170
VI . К у л ь т у р а
и реальность
лается, но в качестве сделанного оно предстает только
в момент присвоения. Присвоение дает место сде
ланному, по сути, наделяет его качествами культур
ного образца. Там, где этого процесса нет, там нет
и культуры в том узком понимании, которое я пыта
юсь описать. Культура присваивает, но ничего не соз
дает. Следовательно, фундаментальный тезис мог бы
гласить: культура ничего не производит, не делает,
не творит, но все присваивает, делает годным к по
треблению. Культура — не Знание, Страсть, или Воляк-власти. Присвоение отчасти совпадает с репрезен
тацией, но присвоение без обладания. Обладать — это
иметь в распоряжении, владеть (и повелевать), «об
ладать знанием», вообще чем-то обладать. Я бы да
же сказал, что обладание трансцендентно и внекуль
турно, даже антикультурно, ибо в культуре можно
всем пользоваться, но ничем нельзя обладать. При
своение— временный акт, и в то же время непрерыв
ный: культура существует только за счет непрерыв
ной регулярности различных стратегий присвоения.
Или: культура не может быть собственностью или
«вещью», она только способ... Есть ли культура все
го? Не в том смысле, что культура чего-то и есть то,
что говорит нам: все должно иметь культурное из
мерение. Нет, я имею в виду культуру культуры, —
не представляет ли моя мысль именно такое измере
ние культуры, которое позволяет мыслить самое себя?
Нет, ничего не получится, поскольку искусство пра
вильно мыслить, тоже есть культура, культура мыш
ления. Мы не в силах субстантивировать акт культу
ры — присвоение сделанного — культура не субъект,
а предикат, «качество», модус существования, сде
ланного в режиме присвоения. Приведу пример: если
я намереваюсь в курении перейти на трубку, я должен
спросить у сведущих людей, какая трубка мне подой
дет больше, будет к лицу (легкая или массивная). Речь
идет не только об эстетике, но и об антропометрике
прикуса. Далее мне объяснят, что если в моем харак
171
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
тере нет систематичности и аккуратности, то не стоит
и начинать, так как трубка (особенно если она доро
гая) требует неустанной заботы. Потом, одной труб
ки недостаточно, нужно иметь, по крайней мере, тру
бок 15-20, чтобы в полной мере прочувствовать весь
ритуал курения и овладеть искусством курения как
своеобразным техне. Не говоря уже о подборе табака,
качества материала, из которого изготовлены трубки.
Обладание трубкой (или трубками) не ведет неизбеж
но к культуре трубкокурения. Такие примеры можно
привести в отношении разработки темы вкуса (гаст
рономия), восприятияу слуха — иначе, всей культур
ной технологии потребления, где значение филосо
фии вкуса необычайно велико. Или другой пример:
мировая Сеть. Развитие Интернет-практики приве
ло к тому, что некоторые из его технические парамет
ров (быстрота связи, длительность пребывания в сети,
анонимность пользователя и т. п.) начинают использо
вать с самыми разнообразными целями и задачами,
которые, кстати, могут влиять на культурные возмож
ности коммуникации (понуждать к их изменению).
Иначе говоря, культура пользованием Интернетом ра
стет и бурно развивается, создавая новые возможно
сти для потребителя, и по мере развития технические
параметры связи улучшаются в зависимости от куль
турных требований.
ВЫСОКОЕ И НИЗКОЕ
Культура, как известно, является институтом социаль
ной памяти, включающим в себя множество инстру
ментов воспроизведения образцов поведения на ос
нове различного рода стратегий (и тактик), обеспечи
вающих в данный момент (времени) их координацию.
Культура — это своеобразная упаковка содержаний
предшествующего опыта, причем этот опыт не все
гда «удачный», но именно тот, что оставляет после се
бя устойчивые следы, т, е. закрепился в поведенческой
172
VI. К у л ь т у р а
и реальность
памяти сообщества (как обычай, тема, привычка, от
дельная стратегия или норма).
В постсовременной культуре я бы выделил три
страта:
1) культура труда: культура, отчасти совпадаю
щая с идеей «трудовой этики» М. Вебера; она
не в меньшей мере присутствует в современ
ной жизни, чем в X IX в., хотя не отличается та
ким же аскетизмом и напряжением, какое име
ло тогда. Сегодня тип трудоголика достаточно
распространен, но это, скорее, все же отклоне
ние от трудовой нормы. Не трудиться, а рабо
тать, а работать для того, чтобы иметь доход, или
тот ресурс для обеспечения полноценного отды
ха и комфорта жизни. Не работать, а жить — вот
что главное (в этом «жить» снимаются всякие
классовые противоречия — оказалось, что сред
нестатистическому гражданину развитой капи
талистической страны достаточно малого, что
бы он прекратил мечтать). Не работа, чтобы ра
ботать, а работа, чтобы жить... Сюда относится
все, что определяется задачами экономии чело
веческих усилий во времени —пространстве;
2) культура памяти (все помнить), культура, ко
торая возобновляет, производит, воспитывает,
обучает, формирует и готовит, развивает спо
собности, учит правилам следования законам,
образцам и т. п. Можно сказать, что культура
составляется из подобных институтов памяти;
имеется в виду использование в обществе памя
ти индивидуальной в отличие, скажем, от коллек
тивной, или институциональной. Так индивиду
альная память («личная») вместе с ускорением
ритма жизни становится все более инструмен
тальной, «не глубокой», слишком быстро сти
рающейся: человек теперь помнит лишь то, что
ему нужно помнить в данный момент времени,
173
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
чтобы прожить день или два, не год, не десять
лет. Основные и наиболее обширные резервы
памяти (в том числе и индивидуальной) перепо
ручаются кибер-памяти, и эта память как буд
то в состоянии хранить буквально все, но она
уже никому не принадлежит. Мнезический па
радокс современного общества: оно помнит все,
но никто из его членов не помнит ничего, даже
себя — во всяком случае, к этому все идет — все
общая потеря памяти, культурное одичание на
родных масс;
3) и наконец, важнейший страт: культура свобод
ного времениу культура развлечений в массмедийной среде. Более точное название для нее —
культура забытиЯу забыться на время, чтобы не
помнить даже то, что необходимо для сущест
вования. На современном молодежном жарго
не «отключиться»у «оттянуться», «получить
кайф» и т .п .— это и значит «хорошо отдох
нуть» и т. д.
Наше деление вполне условно, поскольку в чистом
виде такие страты не могут существовать. Допустим
(опять-таки вполне условно), что два первых стра
та образуют то, что можно называть высокой куль
турой (культурой высших или эталонных образцов),
а третий — низкой культурой, или культурой ценно
стей массового потребления, которая не подчиняет
ся принципу реальности, но только принципу удоволь
ствия (оппозиция, введенная впервые Фрейдом). За
мечу, что все статьи настоящего сборника посвящены
исследованию разнообразных феноменов так называе
мой низкой культуры.
Сегодня культура развлечения, или, точнее, куль
тура, эксплуатирующая свободное время, постепенно
подчиняет себе страт высокой культуры, фактически
встраивает ее в те потребности, которые рождаются
в массмедийной индустрии образов. «Высокая куль
174
VI. К у л ь т у р а
и реальность
тура» разрушается, перестает существовать как влия
тельный страт, маргинализуется, оказывается в веде
нии узкого круга знатоков. Носители высокого знания
(и технологически бесполезного) ныне люди секты.
По сути дела, в такой культуре современное общест
во больше не нуждается, и не потому, что не пользу
ется ее плодами, а потому, что оценивает их по цене,
которую они могут иметь как товары рынков развле
чения, а эта цена крайне низка. Если в предшествую
щие эпохи высокая культура атаковала как впасть,
так и здравый смысл, расширяя возможности вооб
ражения, «видения мира», даже претендовала на ис
тину, то сегодня она, уступая требованиям полез
ности, комфорта и наслаждения, больше не в силах
делать что-либо подобное. Например, попытаться от
стоять свою автономию, ее «сопротивление», кажет
ся, изначально подавлено, критическая воля отсут
ствует и т. п. Главное — владеть техне, неким умени
ем доставлять миллионам потребителей истинное
удовольствие от жизни. А разве этого мало? Здесь
в культуре свободного времени (т. е. всегда «под ру
кой») как будто все те же эстетические и моральные
ценности, но если они не отменены, то выхолоще
ны, так сказать, санированы, — прошли рыночную
(маркетинговую доводку) и теперь участвуют в вос
производстве необходимых и направленно диффе
ренцированных потребительских эмоций. Чувства —
результат виртуальных подмен, они теряют катар
тическую неопределенность, которой так гордилось
искусство прошлого. В этом смысле массовая куль
тура все больше совпадает с народной или «популяр
ной», а та — с ней. И, согласно статье Лоренс Гроссберг (Grossberg L. Re-placing Popular Culture), трудно
установить их отличия (кроме формальных) — отли
чия одной культуры от другой.
«Высокая» культура, или культура памяти, разру
шается и не выдерживает прессинга со стороны «низ
кой», более того, «низкая» культура нанимает высоко
175
В алерий П о л о р о г а . А полог ия
политического
классных исполнителей для того, чтобы реализовать
свои цели. На первом месте, конечно, несопостави
мость затрат и доходов и — главное — нацеленность
низкой культуры на то, чтобы принести своим кли
ентам безусловный доход в виде ожидаемого удо
вольствия, а автору игры — нежданное благополучие.
Но не происходит ли здесь утрата главного — интел
лектуального ресурса, ведь перекачивая знание и уме
ние из одной области культуры в другую — массмедиа и бизнес, мы не в состоянии восполнить наноси
мый ущерб. «Высокая культура» — культура памяти,
упражнения и труда все более сжимается, наподобие
бальзаковской шагреневой кожи, и она, в чем надо
признаться, имеет невосполнимый ресурс. Приведу
один, как мне кажется, весьма поучительный пример.
Я не знаю всю историю «раскрутки» имени писателя
N. Поэтому ограничусь лишь рядом замечаний. Этот
писатель использует псевдоним (пока один). Допу
стим, его имя начинается на В, а псевдоним — на А.
Конечно, многие писатели использовали псевдони
мы, но не так и не с той целью, как В. Это раздвое
ние скрипто-субъекта весьма симптоматично. С од
ной стороны, усердный, но немного голодающий уче
ный, пишущий скучную работу о «Мировом суициде»,
с другой — модный писатель, чье имя у всех на слу
ху; достойный и скромный образ автора начинает
настойчиво и всюду утверждать себя в массмедийном пространстве конца 90-х гг. Говорят, что А. сво
им главным, «народом любимым» героям изменил —
«легкую» литературу наделил стилем, интеллектуаль
ной привлекательностью и пр. И что важно, дал свою
«историю» среднеобразованному и глубоко разочаро
ванному интеллигентскому сословию, больше всего
желавшему когда-то перемен и оказавшемуся в силу
этих перемен полным банкротом. Деньги опять, и как
всегда, были сделаны на «страдании и муках» других.
Если эта литература не имеет никакой оценки, кроме
той, какую она получает в массмедиа, то это и будет ее
176
VI . К у л ь т у р а
и реальность
истинная цена. Теперь мы знаем, как надо писать и —
главное — что писать. Многие зашевелились, броси
лись писать в стиле А. (заметим, не в стиле Пелевина
или Сорокина). Нужно относиться к письму как к удо
вольствию, а не как к тягостной и нелепой обязанно
сти. Читатель должен знать, что ты готов радовать
ся всему, что не придет тебе/ему в голову. Игровая
стратегия нового литературного маркетинга очевид
на. И все это как нельзя точно отражает прагматиче
скую направленность письма, которая развертывает
ся буквально с первых строчек в духе массмедийных
обязательств. Итак, олицетворенная в двух своих ипо
стасях культура движется там, где может, а не там,
где должна. Псевдоним замещает имя, и автором ста
новится тот, кто им быть не может. Ценность произ
ведения относительна (это чисто временной фактор),
но чрезмерная и настойчивая предпродажная подго
товка приводит к прогрессирующему завышению ре
альной культурной цены. Нарастающий объем продаж
и умелое распространение образов в массмедиа созда
ют дополнительные рынки сопутствующих товаров.
Большой бизнес «низкой» культуры. Может быть, ус
пех А. и есть настоящий успех — что толку скрывать?
Хотя как-то горько в этом признаться. Но это не тот
успех, которого добиваются многие из людей «вы
сокой» культуры, для них он заказан — это не ожи
дание признания. Приходящее обычно post mortem,
да и то по случаю. Что же получается? Чтобы А. стал
А. понадобился В. (пришелец из «высокой» культуры).
Можно изучать, как разворачивается литературный
маркетинг и как автор уже заранее старается услу
жить вкусам толпы, желающей всегда только одного —
удовольствия. Но и сам он желает этого. Ведь не сле
дует забывать и об авторском волчьем чутье. Умбер
то Эко — возможно, еще более замечательный пример,
чем приведенный выше. Постструктуралистское со
чинение «Открытое произведение», давшее ему из
вестность в научных кругах, и его роман «Имя розы»
177
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
(с последующей экранизацией), принесший ему широ
кую известность, образуют полюсы тех возможностей,
которыми сегодня располагает автор, и, надо сказать,
они весьма велики.
Среда
Для большой наглядности воспроизвожу известную
со времен Средневековья дихотомию между vita activa
(жизнью активной) и vita contemplativa (жизнью со
зерцательной)15. И обе они зависят от массмедийной
и, шире, информационной среды, с которой активно
взаимодействуют. Культура погружена в среду (сле
дует отличать среду от самой культуры, которая опе
рирует внутри данной ресурсной области с неопреде
ленными границами в пространстве и времени). Сре
да— не культура, но культура ничто без среды. Только
последняя и обеспечивает достаточными ресурсами ту
культуру, которая стремится к забвению, и ту культу
ру, которая заставляет или принуждает к тому, что
бы все помнить и действовать на основании предше
ствующего опыта. Культура функционирует как бы
между своими полюсами, то замедляя или совсем
останавливая социальное время, то убыстряя его, ин
тенсифицируя, распространяя за собственные преде
лы. Среда представляет собой материал или «вещест
во» ресурсного обеспечения, где складывается техно
логия информационной стратегии общества, но это
не чистое содержание, конечно, а форма содержания16.
15 Хотя понятно, что vita activa включает в себя подчас vita
contemplativa, приспосабливает под себя в виде культуры
удовольствия или, напротив, исключает в виде культуры
чистого созерцания (религиозной). С обственно культу
ра удовольствия или «празднества» всегда противостояла
в каком-то средневековом «площадном» смысле и культу
ре труда, и культуре покаяния.
16 М ежду культурой и средой возникают отношения, напо
добие лингвистических: отношения пресуппозиции, одно
178
VI. К у л ь т у р а
и реальность
Среда постоянно изменяется, ведь и там действует
различные экономии сбережения и траты ресурсов.
Можно сказать, что цивилизует среда (технико-ору
дийная), а воспитывает культура. Но, повторяю, куль
тура не вне среды, а внутри, можно сказать, она эле
мент среды и претерпевает изменения вместе с ней.
Вот этот средовой фактор и создает основной ресурс
низкойу или массмедийной, культуры. То, что мы на
зываем массовой культурой, — не культура, а среда,
в которой одни культуры гибнут, другие трансформи
руются, третьи начинают быстро развиваться... По
лучает так, что мировая культура скоро может быть
представлена в качестве глобальной массовой и ни
какой иной.
Хлам
«Трэш-телевидение» отлично моделирует истину. По
скольку отвратительное и безобразное изначально не
допустимы, и все стараются избегать чего-то подобно
го (хотя само отношение к ним может отличаться), оно
часто выступает как спонтанное, неконтролируемое
явление реальности в том именно виде, которым это
реальное будто бы обладает. На самом деле отврати
тельное, мерзкое и безобразное столь же симулятивны,
сколь хорошее, красивое, пристойное или чудесное.
Часто именно отвратительное в массмедийной культу
ре как визуально невыносимое и претендует на исти
ну. Раз это неприятно и даже невыносимо («видеть»),
то не реальность ли это, вдруг открывшаяся нам пря
мо, вне искажений и толкований-пересудов, так как
она есть? Разве можно поставить под сомнение отвра
тительное, когда оно вдруг проявляет себя в отврати
тельном, ужасном или невозможном; то, что не хочетпредполагает существование другого: форма содержания
предполагает форму выражения (в культуре все расчлене
но, дифференцировано, различимо).
179
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
ся видеть, то, о чем не хочется слышать, и есть реаль
ное, и не просто его случайное и неполное проявления,
а истина. Действие конвенции должно быть оговоре
но, не просто замещение реальности или ее конст
руирование анонимное, а первоначально обсуждение
условий самого сериала («мыльных опер»). Ни «се
риалы», ни «трэш-телевидение», ни «мыльные опе
ры» не могут быть восприняты без принятой всеми
конвенции или соглашения по поводу правдоподобия
предлагаемого зрелища. Мне даже кажется, что реаль
ность здесь — я имею в виду работу Grindstaff L. Trashy
of Transgressive? «Reality TV» and the Politics of Social
Control — приобретает черты пошлости, этакой судь
бы «пошлой жизни в Америке». Пошлое — это то ре
альное, которое мы допускаем, но за ним нет реально
сти, или точнее, у нее нет своей реальности.
Культурные явления или те события, которым при
писывают значение культурных, иногда не имеют ни
какого отношения к реальности, даже своей собствен
ной,— они парят над нами, невесть откуда взявшиеся,
без видимых причин и цели.
ГЛОБАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ — ПОПЫТКА
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
Мир охвачен процессом «произ
водства» и «потребления» мест,
consuming places.
Дж Урри
Из второй группы статей (блок 2) можно выделить два
связанных между собой текста: «Взгляд туриста и гло
бализация», «Зоопарки, искусственные влажные леса
и имитация: миры в бутылке» (Sanes К. Zoosy Artificiel
Rain Forests and Simulation: Wordls in a Bottle).
Что такое глобальный туризм? Как можно истолко
вать предикат глобальный: то ли с точки зрения того,
что современный турист имеет почти ничем не огра
18о
VI. К у л ь т у р а
и реальность
ниченные возможности посещать места везде-в-мире и получать самые изысканные и необычные услу
ги. И это, конечно, западный турист? Или под гло
бальным туризмом следует понимать не путешествие
западного туриста на Восток, а восточного на Запад,
а нечто вообще иное: путешествие без границ? Не ло
кальный ли это глобализм, этноцентричный и нарциссичный, каким он был и каким остается в представле
нии многих? Если западный турист ожидает, что даже
в самом экзотичном путешествии он не будет лишен
привычного европейского комфорта, то восточный
турист заранее согласен с отказом от всего, что при
суще его культуре и привычкам. Собственно, путеше
ствовать может лишь цивилизованный турист, кото
рый ожидает найти в местах своего пребывания все
то, о чем он уже заранее знал, когда выбирал марш
рут, т. е. свое собственное переведенное в материал
воображаемое. Глобальный туризм, по идее, должен
создавать все новые и новые места, без непрерывно
го умножения он не мог бы остаться действительно
глобальным. Более того, можно дать и правило: каж
дое место (цель путешествия) обмениваемо на лю
бое другое. Старые и заново обретенные места отли
чаются друг от друга, но едины по общекультурному
семиозису.
ИЛ-96} президентский.
К проблеме политического туризма
В некоторых отношениях политик-путешественник
являет собой идеальный образец глобального туриз
ма. Почему? Ответ очевиден. Ни один из путешествен
ников не обладает такими возможностями: нет мест,
которые бы политик не смог бы посетить (по важ
ным политическим соображениям), все расходы опла
чиваются государством, полная безопасность, отсут
ствие или слабо развитое чувства пути (во всяком слу
чае, намного меньше ощущает трудности путешествия,
181
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
чем обычный турист), обязательный комфорт и т.п.17
Известно, сколь благотворно на психологическое со
стояние политиков влияют частая смена обстановки,
новые страны и города, новые необычные ландшаф
ты, незнакомые народы и их языки, особенно когда
это сочетается с важным государственным делом (об
мен визитами, дипломатическая миссия, важные пе
реговоры и пр.). Демонстрация престижа страны и все
другие представительские функции, конечно, имеют
громадное значение, особенно для первых лиц госу
дарства. Почему бы не допустить существование по
литики, исповедующей принципы туризма. Возмож
но, сегодня президент России — один из наиболее ди
намичных лидеров современного мира. Может быть,
я ошибаюсь, но мне кажется, что такого столь быстро
и во всех направлениях перемещающегося по террито
рии Земли политика история еще не знала. За пару лет
президент совершил, наверное, свыше сотни поездок:
то он оказывается в Лондоне, Берлине, то на Сардинии,
то на Дальнем Востоке, то в Тамбове, то в Малайзии,
то в Ростове, то в Японии, то опять в Риме, то опять
в Париже, то в Америке, то в Ростове, — и везде (или
почти везде) его ожидает небольшой, хорошо подго
товленный туристический сюрприз. Ведь он не про
сто посетитель: он еще спускается в шахту, погружа
ется на дно морское (в подлодке), плывет на военном
корабле, яхте, катере, летит на боевом сверхзвуковом
самолете, катается на лыжах, плавает, занимается дзю
до, изучает языки — ему все интересно. И каждый раз
он испытывает истинное удовольствие, как настоя
щий фан клуба путешественников. Политик-непосе
да достаточно молод, здоров, хорошо тренирован: весь
в движении, цель которого непостижима для массы
17 Газетное сообщ ение о серьезном перерасходе сенаторами-депутатами Государственной думы бюджетных средств
за 2002-2003 гг. на всякого рода командировки в «заморские страны» (политики-путешественники).
182
VI. К у л ь т у р а
и реальность
простых обывателей. Проблемы этой обширной стра
ны теперь могут решаться благодаря челночным пе
ремещениям президента; самые отдаленные районы
страны (например, Калининград—Камчатка) связы
ваются между собой новыми крепкими узами. Года
ми не решаемые региональные проблемы стали гео
графическим нонсенсом. Не всякий динамичный по
литик— турист, конечно; бывает, что он вынужден им
стать (когда теряет реальную власть и ищет для нее
опоры извне).
3. Фрейд и фантазм «не-места»
С детских лет Зиги (Фрейд) мечтал о посещении руин
Акрополя и представлял себе Афины как неслыханное,
магическое место европейской цивилизации, куда, как
ему казалось, невозможно было добраться, т. е. пред
ставляя в качестве не-места, или, точнее, некоего фантазма вненаходимости (руин Акрополя), которые все
гда будут противостоять в его переживании реально
сти места. Отметим, парадоксальность фрейдовского
фантазма, — в сущности, его неразрешимость. Ведь
то, что Фрейд неожиданно попадает в Афины и видит
эти величайшие руины не в мечтах, а воочию — вот
что омрачает торжественность момента: «Не вдава
ясь в подробности, как я пришел к этому, я хотел бы
начать с посылки, что у истоков должно было нахо
дится некое ощущение невероятности переживаемой
ситуации и непохожести ее на действительность. Си
туация охватывала мою персону, Акрополь и мое вос
приятие того и другого. Я не знаю, к чему отнести мои
сомнения, но я не могу поставить под сомнение под
линность моих чувств, воспринимавших Акрополь.
Я вспоминаю, что в прошлом сомневался в чем-то та
ком, что имело непосредственное отношение имен
но к этой местности, и, таким образом, я перемещаю
мое сомнение в прошлое. Но при этой операции со
мнение изменяет свое содержание. Я не просто вспо
1»3
В алерий П о дор ог а . А пология
политического
минаю о том, что когда-то в детстве сомневался, дове
дется ли мне самому когда-нибудь увидеть Акрополь,
но я утверждаю, что я тогда вообще не верил в реаль
ность Акрополя. Как раз из этого момента искажения
я делаю вывод, что возникшая впоследствии ситуа
ция на Акрополе заключала в себе элемент сомнения
в реальности. Мне все еще пока не удалось прояснить
этот процесс до конца, а потому в заключение я хо
чу вкратце сказать, что вся эта на первый взгляд за
путанная, с трудом поддающаяся изображению, пси
хическая ситуация легко разрешима, если предполо
жить, что тогда на Акрополе у меня на какую-то долю
секунды возникло или могло возникнуть чувство: то,
что я вижу, есть нечто нереальное»18. Сбывшееся огор
чает тем, что оно сбылось. Это и понятно: то, что бы
ло фантазмом не-местау вдруг и случайно стало реаль
ностью вполне конкретного исторического места. Бо
лее того, что еще недавно было бесконечно удаленным,
с магической аурой не-места> теперь здесь и сейчас,
а сам ты, грезящий с детства об этом не-месте, вдруг
оказываешься в его центре. Разрушение детского фантазма ведет к исчезновению не-места. Приобретенная
реальность места угрожает отменить границу между
фантазмом не-места и реальностью места. Ведь ре
альность и не может проявить себя сразу и полностью,
одним ударом, как в событии, но всегда колеблясь,
неустойчиво, то появляясь, то вновь исчезая. Фантазмирование — процесс игры, в котором мы задер
живаем наступление событий (тема случая)19. «Омраченность» Фрейда и есть реакция на упразднение фан18 Фрейд 3. Омраченное воспоминание на Акрополе. Пись
мо Ромену Роллану (январь 1936) И Фрейд 3. По ту сторону
принципа удовольствия. М., 1992. С. 342-343.
19 Ф рейд пытается объяснить эту омраченность долго
ож идаемого счастья путешествия разочарованием в не
жданном успехе, что часто называют «потерпеть круше
ние от успеха».
184
VI. К у л ь т у р а
и реальность
тазма, и то скрытое отрицание реальности места, что
питало сам фантазм, бессознательно им поддержива
лось даже в момент созерцания руин Акрополя. Цен
ность фантазма не-места в том, что он сохраняет фор
му события, не давая ему свершиться, чуда не проис
ходит, событие не наступает и не приобретает черты
индивидуальной Реальности. И тем не менее все долж
но происходить так, как если бы это было возможно:
напитать полую форму фантазма бесконечной реаль
ностью не-места20.
Всюду проникающий взгляд
Понятие туристического взгляда почти все определя
ет в эстетике и антропологии глобального туризма.
20 Помню, когда я впервые попал в Париж, все казалось чу
дом и все было ожидаемо, словно уже-виденное. Фантазм
не-места действовал даже в реальности видимого, телесно
ощущаемого места. Я хочу сказать, что этот фантазм так
и не был разрушен. Мне показалось, и в этом я убежден
и сейчас, что реальный Париж не существует, есть лишь
Париж не-места, Париж-фантазм, Париж — все эти величе
ственные неизменные декорации. Париж может быть везде,
не в одном определенном месте, где сейчас стоят его деко
рации. Я не признал за этим великим городом имя Париж,
ибо то, что было во мне воспоминанием, а точнее, фантазмом всего западноевропейского материала образов, накоп
ленных с детства, восстало против подобного упрощения
и тем более против сведения к тому событию, которое я пе
реживал как реальное... Фантазм не был устранен, его ма
гическое очарование продолжало действовать, нисколько
не слабея... Не зйаю, может быть, мои наблюдения не со
всем точны, но мне кажется «омраченное воспоминание»
Фрейда относится скорее не к переживанию не-места ме
ста, а к тому, что стали называть комплексом разочаро
вания в достигнутом успехе: как только достигают цели,
иногда переживают разочарование из-за того, что она д о
стигнута слишком быстро, это победа того, кто желал себе
поражения, ибо поражение может помогать в достижении
бесконечной цели; вот ее-то и недостает, чтобы полностью
насладиться мгновением победы.
185
В алерий П о до р о г а . А пология
политического
Взгляд туриста обрисовывает его неутолимое желание
обмена собственного места на другое. Глобальный ту
ризм — это всюду проникающий взгляд. Бесконечной
силы этого взгляда бывает достаточно, чтобы овла
деть неисчислимым множеством мест. Удовольствие
от знакомства с туристическим путеводителем или
географическим справочником иногда сравнимо с удо
вольствием, испытываемым от физического переме
щения в мировом пространстве. Новые туристы за по
следние годы сделали околоземную невесомость ме
стом, куда можно путешествовать, и затем проникли
в космос. Но вот что интересно, этот всюду проникаю
щий взгляд и есть та оптимальная проекция желания
(видеть невидимое) направляемого с большой точно
стью на некие мировые места. Вся индустрия культу
ры путешествий опирается на ненасытную динамику
этого взгляда, порождая мировые маршруты и новые
места. Этот взгляд не может быть отброшен или бло
кирован— за ним эпохи великих эстетик путешествия.
Естественно, что современная культурная индустрия
использует этот взгляд; система ее образов разверты
вается на кинестетическом потенциале зрительной
чувственности. Взгляд технологически обрабатывает
ся, фрагментируется, вытягивается: есть старые «пре
красные виды», есть взгляд неподвижный, есть взгля
ды скользящие, беглые, которые определяются скоро
стью и позицией в ландшафте, т. е. взгляды мобильные
(современный турист прекрасно технически оснащен),
которые выхватывают большие фрагменты реальных
мест, откладывают в память, хотя сами эти места ими
не выбраны, а являются культурными артефактами,
«сделаны для взгляда». Вот это продолжение линии
подвижного взгляда от места к не-месту и захватыва
ется культур-индустрией. Техническое оснащение со
временного туриста позволяет ему, в сущности, учить
ся совмещать взгляд с тем местом, куда он намеревает
ся отправиться: делать его достижимым, прежде чем
достигнуть (т.е. устанавливать feed back). Природные
186
VI. К у л ь т у р а
и реальность
ландшафты подбираются, как аттракционы (тот же
Диснейленд), они открываются взгляду, пробуждая
желание новых путешествий. Именно эта ненасыт
ность взгляда требует невиртуального, подстроенного
под реальность реального, которым можно воспользо
ваться как исполнившимся желанием.
Места встреч: атопии, утопии и гетеротопии
Можно различать u-topie (место-нигде), a-topie (не-место)у hetero-topie (место-везде): первое представля
ет собой ирреальное место, место, которое нигде; вто
рое — место, которое не может быть занято, оно пу
стое, но не занимаемое, место, откуда ушла жизнь, все
величественные руины представляют собой такие ме
ста, которые, казалась бы, занимают место, в кото
ром нет места для жизни, и наконец, третье — реаль
ное, жизненное пространство, но совмещающее в себе
различные места с их разнообразными измерениями
и временными длительностями. «Гетеротопии спо
собны совмещать в одном реальном месте многочис
ленные пространства, разнообразные месторасполо
жения, которые по отношению друг к другу являются
несовместимыми»21. Собственно, гетеротопия — это
базовая функция любого жизненного пространства,
и естественно, что оно может изменяться и преобразо
вываться во времени. Человеческая жизнь определяет
ся движением по пути от рождения до смерти внутри
подобных гетеротопических пространств. Другое де
ло, когда гетеротопический принцип не принимается
во внимание или подвергается вытеснению, именно
тогда оказывается возможной встреча с собственным
«вытесненным» двойником, именно тогда мы испы
тываем шок неузнавания. Двойник вне места, изгнан
из собственного места из-за нашей ошибки. Гетерото
21 Foucault М. Des espaces autres // Foucault M. Dits et ecrits.
IV. 1980-1988. P.758.
187
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
пические пространства способны со-в-местить, в-местить в себя, «дать место» тому, что не может, казалось,
иметь места. Если жизненное пространство устойчиво,
то это значит, что его гетеротопическая структура эф
фективна, способна к расширению и умножению мест.
Флеш-мобы. Место для «умной толпы»
Идея так называемой умной толпы, флеш-моб, — акция
перформативная, получившая распространение в на
ши дни. На ТВ буквально «вчера» показывали ( 6 - 7 сен
тября в День города), как действует такая «умная толпа»
в Нью-Йорке: образуется очередь за билетами на мни
мый концерт известной рок-группы из 200-300-500
человек (сколько придет). Через некоторое время, ко
гда очередь оказывается достаточно большой (очередь
движется вокруг церкви, «будущий концерт» должен
был пройти в ней?!), она вдруг распадается, и участни
ки перформанса быстро расходятся, не говоря ни сло
ва. Конечно, это может произвести некий эффект. Тол
па перестает быть случайной силой города, не обра
зуется когда, где угодно и в каком угодно количестве.
Здесь мы имеем дело с игрой в толпу, или в толпу вир
туальную, интернет-толпу. Толпа — одна из естествен
ных форм человеческого городского габитуса. Веро
ятно, этот миф о толпе и пытаются дискредитировать
участники флеш-моб акций, это своего рода заговор
«умных» против реальной и «глупой» толпы. Конечно,
игра в толпу, как наиболее доступная форма актуаль
ного искусства, недолговечна, как все модное22.
22 Это, конечно, преж де всего «мгновенная толпа», чем,
собственно, и была всегда обычная толпа. Моби-флеш тол
па скорее умная, а потом мгновенная. Катя Метелица, на
блюдающая современные изыски культурного глобализма,
справедливо замечает: «В настоящий флеш будут играть,
по меньшей мере, год. Пока сценарии не начнут повторять
ся (они уже повторяются). Потом молодежные журналы за
несут ее в графу „немодно“. Возникнет новый социальный
188
VI. К у л ь т у р а
и реальность
Пустыня. Уничтожение мест
(с помощью взрывчатки)
По крайней мере, два требования, ускоряющих и за
медляющих развитие глобального туризма: с одной
стороны, необходимо закрыть границы для крими
нальных вторжений, незаконной миграции и террора,
с другой —необходимо открыть, держать открытыми
ради свободного перетока капиталов, товаров, «мест»
рабочей силы и распространения идеи глобального ту
ризма. Alter ego путешественника отмечен маргиналь
ными масками: изгнанник, мигрант и террорист. Куда
отнести миграционные процессы? Не противостоят ли
они принципу глобального путешествия? Часть миро
вого населения бежит из «экзотических» мест, кото
рые посещают западные туристы. Это места, в которых
нельзя жить, но куда можно путешествовать, и чем ме
нее приспособлены для цивилизованного выживания
эти места, тем больший интерес они вызывают у опре
деленной группы туристов, экстрим-туристов. Конеч
но, миграция — не туризм, но нельзя сказать, что миг
рация не влияет на туризм или что мигрант — лишь
экономическая категория. Конечно, миграция не мо
жет рассматриваться как разновидность политическо
го или экономического туризма. Путешествие, весь
ма опасное, иногда с билетом в один конец; не испол
нение желания — обретение лучшей, более достойной
жизни, —а самое простое: выживание.
Террор пытается захватить те места, куда направле
но туристическое желание, желание экзотики, обрете
ния свидетельств большего могущества и богатств: раз
рушение башен Всемирного торгового центра в НьюЙорке или террористический акт в Бали (Индонезия).
Террорист — ведь тоже путешественник, но его цель
расстроить, а если удастся, то и полностью разрушить
тип — „старый моббер“, до гробовой доск и ...» (Метели
ца К. Поход выходного дня // НГ. 2003. 18 сентября).
189
В алерий П одо р о г а . А пология
политического
механизм глобального мирового пространства — за
падную гетеротопию, это непрерывное умножение сво
бодно обмениваемых мест. Взорвать границы между
культурными областями, расширить атопии внутри За
пада, насаждать места, не приспособленные для жиз
ни. Атопия —это место-пустыня, или то, что называют
в исламе территорией войны. Место, которое не может
быть ничем заполнено, — часть пустыни, оно разраста
ется по мере уничтожения мест жизни; в пустыне нет
места для путешественника, если она сама не являет
ся выделенным и обустроенным местом. Экзотика, ди
кая и удивительная красота природы, но и риск, ино
гда смертельный. Места как хорошо обустроенные об
разы реального, но и места запретные, крайне опасные.
Запретных мест (опасных) чрезвычайно много. Нель
зя посещать, или только ограниченно, Индонезию, Аф
ганистан, Иран, Ирак, Израиль, Ливан, Грузию, Чечню,
Марокко и др. Там, где безопасность не гарантирована,
турист должен принять риск или отказаться от путе
шествия. Безопасность — вот что главное (даже не ком
форт и привычные условия), даже если существуют
в подобном путешествии очевидные угрозы жизни.
Виртуальная плоть
Идея виртуального сообщества, все эти особенности
коммуникации в Сети представляют определенный
интерес с точки зрения практики тестирования. Сеть
как великий испытатель, Тест. Действительно, комму
никация в сети может состояться не только по при
нятию правил игры, но и по способности включиться
в совершенно новые отношения, в реальном простран
стве времени невозможные. Виртуальная культура те
лесного образа. Что значит строить виртуальное тело?
Бесспорно, анонимность в Сети чуть ли не одно из ве
ликих преимуществ по сравнению с другими сред
ствами коммуникации, как и свобода в выборе парт
нера, собственного образа (мужского или женского).
190
VI. К у л ь т у р а
и реальность
Но эта виртуальная идентификация ничем не отли
чается от любой другой; единственно, что ее ограни
чивает, это правила игры, вводимые для такого типа
идентификации. Поэтому удивляешься пафосу иссле
дователей, которые видят в новой кибер-возможности
состоявшийся культурный факт, даже рост степеней
свободы. Так, на полном серьезе принимается прак
тика виртуальной хирургии тела (мнимые формы от
каза от пола, расы, от всей гендерной проблематики).
Если Сеть — всемирная паутина — это страна, кто
живет в ней? Если ее основное население составля
ют в основном подростки и молодые люди (12-20 лет),
то телесная хирургия здесь и не нужна, поскольку при
своение собственного образа длительный процесс, он
не может быть закончен к 20 годам (только в зрелом
возрасте познания собственного тела достаточны, что
бы им пользоваться). Игроки M U D не могут играть без
обманов и смены пола, сексуальной ориентации, лич
ного облика и т. п. И это игра, а не смена того, чем ты
еще не обладаешь. Теряешь свой облик (пол, классо
вую принадлежность и пр.)? Это ужасно! Но в Сети ты
и не должен его иметь. Гораздо важнее, что реальное
никуда не пропадает, теперь оно совпадает с виртуаль
ным, но это совпадение открывает новые перспективы
тестирования Реальности. Все эти тщательные наблю
дения за процессами, происходящими в Сети, пред
ставленные в настоящем сборнике, еще раз демонстри
руют зависимость сетевых образов от образов реально
го, которыми не перестают пользоваться потребители.
Освобождение от тела — тест, в котором проверяется
наша способность изменять позицию «я» по отноше
нию к образу собственного тела, где «я» получает знаки
реального, а «собственное тело» — знаки виртуального.
Можно как угодно представлять чувствительную по
верхность коммуникации (секс-послания, например) —
особую виртуальную плоть, которая оказывается той
эротизованной тканью, благодаря которой экспери
ментирующие подростки узнают «запретный» опыт.
191
В алерий П одор ог а. А пология
политического
Однако не следует забывать, что это сближение стало
возможно на основе порнографирования подростко
вого воображения (большое количество порносайтов
в Сети). Плоть виртуальная — это совокупность зна
чений, которые сопровождают появление чужого тела
до всякого сексуального переживания, и только тогда
«значение» создает возможность перехода в вообра
жаемый ряд чувственных раздражений, когда оно опо
знано. Значение как первоначальное условие перехода
к виртуальному «ощущению». Ведь в Сети нет прямо
го контакта, в силу этого косвенные обходные пути, пу
ти речи (информационные и аффективные) становят
ся истинной территорией секса. Правда, отсюда я бы
не рискнул перейти к выводу, что мозг (а не тело) —
вот истинная эрогенная зона. Бесспорно, значение тела
в Сети мало по сравнению с активностью чисто цереб
ральных процессов (визуализации и категоризации).
Виртуальная плоть полностью устраняет всякие сле
ды чувственной реальной плоти, и это не замена, а дру
гая возможность. В любом случае ясно одно: традици
онные формы миметического переживания реального
в Сети не действуют, потребитель информации не нуж
дается в опыте ее представления, инсценирования, те
лесного перевоплощения, поскольку не считает, что
информация принадлежит или должна принадлежать
кому-то; информация образует современного индиви
да, он лишь участвует в ней, но не в силах ее присвоить.
Сопротивление и вызов
Авторы статьи «Контркультура и потребительское об
щество» недостаточно прояснили тот факт, что контр
культура рождается не как другая культура, а как куль
тура вызова и сопротивления. Собственно, культура
сопротивления и есть контркультура—сопротивления
навязываемым (почти насильственно и повсеместно)
единым культурным образцам. И эта воля к навязы
ванию единого ряда общественных ценностей должна
192
VI. К у л ь т у р а
и реальность
быть настолько постоянной и упорной, что позволяет
реактивно воссоздать устойчивые формы контркуль
турного поведения. Культура, а потом контркультура,
ибо контркультура не только реактивна, но и имма
нентна культуре мейнстрима. Более того, контркуль
туры — это целая система развивающихся разли
чий (фрагментация, плюрализация, автономизация).
С их помощью доминирующая культура становится
все более терпимой к контркультурным инновациям.
О настоящем, полным драматизма напряжением меж
ду способом жить и сопротивлением ему можно толь
ко вспоминать, ностальгия по прежним десятилетиям
(более революционным или более эстетически полно
ценным) чрезвычайно характерна для многих запад
ных исследователей. Сопротивлением можно назвать
практически любую форму активности маргинальных
или субкультурных групп, но сопротивление ли это?
Легче определить контркультуру, чем доминирую
щую культуру? Критика, не провоцирующая дей
ствия, имманентна системе ценностей. Сопротив
ление пассивное и активное: переход или непереход
в действие? Стратегические действия, если следовать
логике сопротивления, невозможны, но тактические
обязательны. Действие или серия действий сопротив
ления создают реальные затруднения для воспроиз
водства определенных социальных пространств и вре
мени. Сопротивление — это остановка всего того, что
нельзя останавливать, это препятствие, блокада, за
слон, разрыв, купюра, т.е. действие против действия,
не лоб в лоб, а сбоку и поперек, тактическая атака как
раз и состоит в том, что за кратчайшее время должно
быть найдено ответное действие, которое заблокиру
ет негативные следствия первого действия. Действия
сопротивления ограничены, они не могут быть эф
фективными всегда и везде, сопротивление локально:
оно то нарастает в одной точке, то ослабевает в другой.
VII. П р оек т и о п ы т
Г. ЩЕДРОВИЦКИЙ И М. МАМАРДАШВИЛИ.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИЛЕЙ
МЫШЛЕНИЯ
1. ВСТУПЛЕНИЕ
ВОПРОС О СТИЛЕ. СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
остаточно разместить рядом два известных имени,
как тут же в игру вступает сравнительная шкала,
в каком-то смысле весьма унизительная для известных
и достойных всяческого уважения авторов. В любом
сравнении сравниваемое всегда теряет, старая мудрость
верна: «Всякое сравнение хромает...» В античной тра
диции такой автор, например, как Плутарх, в знамени
той книге «Сравнительные жизнеописания» в качестве
основного приема использовал попарную группиров
ку биографий, греческую и римскую. Посредствующее
звено здесь—само сравнение, то третье, что сопостав
ляет две великие культурные традиции и является на
чальным условием сравнительного эффекта. Сходство
и различие — то, что в структуре жанра биографии вы
деляется как прооймий и синкрисис,— становится ощу
тимым в качестве результата благодаря неожиданно
му эффекту сопоставления1. Подобные попытки были
предприняты Мережковским в фундаментальном ис
следовании «Л. Толстой и Ф. Достоевский». Часто этот
прием использовался Л. Шестовым: Ницше и Досто
евский, Толстой и Достоевский, Афины и Иерусалим12.
Д
1 См. разработку темы: Аверинцев С. С. Плутарх и антич
ная биография. К вопросу о месте классика жанра в исто
рии жанра. М.: Наука, 1973. С. 209-256.
2 См., например: Шестов Л. Афины и Иерусалим ИШестов Л.
Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М.: Наука, 1993. С. 317-336.
194
VI I . П р о е к т
и опыт
Конечно, многие оппозиции можно навязать, однако
их принудительность скрыть крайне трудно. Достаточ
но указать на массу сравнительных исследований, кото
рые традиционно ведутся в историко-филологическом
или литературоведческом анализе: авторы сравнивают
ся произвольно, вне каких-либо оснований, какой-либо
предварительной оценки эффективности возможных
сопоставлений (порядка сходств/различий). Особен
но слабо выглядят идеи подражательности и влияния,
заимствования и филиации, которые и должны стать
результатом сравнительного анализа. Лингвистически
выстроенные оппозиции оказываются принудительны
ми схемами отношений, ничего, собственно, не дающи
ми исследованию, так как лишены должной интерпре
тативной силы.
Итак, объединение столь значимых авторов, как
Г. Щ. и М. М., в концептуальную диаду может быть ре
зультативным лишь на основе третьего, сравнитель
ной шкалы, без нее техника сопоставления была бы
невозможна. Это третье — схема различия для сход
ного и единства для различенного. В третьем все ин
дивидуальные особенности обретают смысл из обще
го, «корневого» единства и уже не кажутся навязанны
ми. Таким третьим для творческого становления Г. Щ.
и М. М. была идея Проекта.
К началу 50-х гг. вокруг идеи обновленного марк
систско-гегелевского Проекта начинает формировать
ся группа философов, историков и психологов, соста
вивших так называемую Московскую марксистскую
школу (сюда можно отнести, учитывая, конечно, раз
ную степень влияния и вклад в общее дело: Э. Иль
енкова, Г. Батищева, А. Зиновьева, Г. Щедровицкого,
М. Мамардашвили, Б. Грушина, В. Давыдова, В. П. Зин
ченко и многих др.). Собственно, их профессиональ
ное становление как исследователей проходит во вре
менных границах (этот промежуток можно датировать
от смерти Сталина и речи Хрущева на XX съезде К П С С
до 1968 г., «вторжения в Чехословакию» и начала пер
195
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
вых диссидентских процессов). Если в краткое время
хрущевской «оттепели» сохраняется возможность раз
вивать идеи Проекта, совершенствовать методы и ме
тодики, то начиная с конца 1960-х гг. общая полити
ческая ситуация в стране меняется (к этому времени
завершается переход от тотальной, «сталинской», к из
бирательной репрессии). Ранние работы М.М. и Г.Щ.
близки друг другу по идеям, стилю рассуждения, ис
пользуемому языку, отличия незначительны по срав
нению с единством аргументации и «работе в режиме
рефлексии»3. Можно сказать, что они концептуально
рефлексивные близнецы4. Вероятно, расхождения на3 Может быть, даже нельзя говорить о неком «раннем пе
риоде» развития техники аргументации М .М .Скорее, раз
сложившись в набор устойчиво повторяющихся рефлек
сивных операций, она фактически осталась неизменной.
Да и М.М . сам не пытался критически проанализировать
предпосылки собственного стиля мыслить. Во всяком слу
чае следы подобных попыток редки. И это неудивительно,
ведь он рассматривал способ мыслить не как благоприоб
ретенное орудие труда и ориентации в мире, а как дар — то,
что не обсуждается, что не может быть подвергнуто сомне
нию. Начиная с первых текстов и завершая такими работа
ми, как «Символ и сознание» (1973, в соавт. с А. Пятигор
ским), «Стрела времени» (середина 70-х гг.), стилевые чер
ты мысли сохраняются и для поздних этапов творчества.
4 Желаемый результат может быть достигнут, если в основе
сравнительной шкалы лежит эффект, подобный близнецово
му. Но как же организовать поле различий, которые позво
лили бы нам говорить о М. М и Г. Щ., например, как об идей
ных близнецах-соперниках? Ближайшая близость — скры
тые двойники, партнеры или друзья-враги? Конечно, это
не подходит! В любом случае эти парные связки могут нас
подтолкнуть к определению начальных условий стратегии
различия, которых необходимо придерживаться в анали
зе. Принцип близнеца в сравнительной аналитике строится
на основе пределов сближения различного, в то время как
принцип стиля устанавливает возможные условия разли
чия. Особенно остро вопрос о близнечестве/двойничестве
поставлен Р. Жираром в книге «Священное и насилие». Ведь
наряду с двойниками-монстрами («братья-соперники») есть
196
VI I . П р о е к т
и опыт
чинаются тогда, когда М.М. обращается к системати
ческому изучению истории европейской философской
мысли. Г. Щ. же остается верен первоначальным иде
ям Проекта (а свидетельством тому, конечно, являет
ся учреждение Московского методологического круж
ка — М М К ) и в о о б щ е перестает мыслить вне актуаль
ной практики Проекта.
Под ст и л е м же я буду понимать э с т е т и ч е с к у ю ф о р
м у м ы сли . Стиль — это дополнительное измерение (эс
тетическое), которое придает мысли индивидуальную
форму, что отличает ее от всякой другой, делает не
повторимой и единственной. Собственно, стиль —
это в о л я -к -в ы р а ж е н и ю или то, что Г. Щ. называл в о
лей к с а м о р е а л и за ц и и , а М.М. — а к т о м сво б о д ы . Итак,
стиль — чувственно в о - п л о щ е н н а я , телесная, эстети
чески переживаемая форма мысли. Стиль предвосхи
щает мысль, дает ей состояться, побуждает развивать
ся в сторону все большей и н д и в и д у а л и з а ц и и , причем
до тех пор, пока материал жизни не будет полностью
освоен. Остается верной старая формула: «Стиль — это
человек», —граница индивидуальности отмечается по
нятием стиля. Сказать, что стиль воплощен в линии
(а та может быть любой по конфигурации, «геометрии»
и топике)5. Стиль обладает резко выраженной под
еще и позитивные двойники, удваивающие наше присут
ствие в мире, — та идейная и чувственная сила ушедших
авторов, которой мы пытаемся овладеть при размышлении
над их мыслями. Так и М.М . явно удваивает себя в автор
ской мощи М. Пруста, И. Канта, того же Декарта. Другими
словами, принцип близнеца как принцип сравнения име
ет негативную и позитивную модальность, и тем не менее
всегда сохраняет свою эффективность (конечно, если име
ются достаточные условия для его применения). (См. также
более широкий культурный горизонт темы: Ницше Ф. Рож
дение трагедии из духа музыки; К. Юнг; К. Ясперс; Ван-Гог
и Стринберг, В. В. Иванов. Близнечные мифы //М иф ы наро
дов мира: Энциклопедия. Т. 1. А-К, 1980. С. 175.)
5 Конечно, не всегда может быть удачен выбор концепту
альной сетки терминов для сравнительной шкалы. Одна-
197
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
черкнутой линейностью, а та описывает территорию
мысли и ее инфраструктуру. Будучи вн е ш н ей вырази
тельной линией, она является различительной и для
всех в н у т р е н н и х отношений. Другими словами, линей
ность стиля, проявления в о л и -к позволяет переходить
от движения в о в н е к движению в н у т р ь , линия стиля
о б р а т и м а и н еп р ер ы вн а . Сходства ге о м е т р и н н ы и яв
ляются внешними, различия т о п о л о ги ч н ы и являют
ся внутренними. Каждая стилевая форма многосостав
на, отмечена, по крайней мере, сочетанием двух мо
ментов: индивидуального и общего, «коллективного».
И здесь важно отметить, что в некотором времени —
во времени посмертного признания — М. М. и Г. Щ. бы
ли выделены как наиболее значимые фигуры советско
го периода, обладающие сильной индивидуальностью
и явно выпадающие из общего строя мысли. Однако,
несмотря на всю оригинальность, их стили мысли бы
ли включены в другие, общие или, если угодно, к о л л ек
т и в н ы е (стиль эпохи, например, или дух времени). Ес
ли полагать, что стиль по определению индивидуален,
то его индивидуальность проявляется внутри общей
стилевой нормы и всегда ей противостоит, даже если,
на первый взгляд, р а б с к и ей следует или тонко обыг
рывает ее противоречия. Стиль не относится к манере
п и с ь м а , точнее, не может определяться ею полностью6.
ко в нашем случае, как мне представляется, вполне мож
но прибегнуть к установлению различия на основании
живописного и линейного стиля, базовой оппозиции ху
дожественного опыта, вероятно, впервые разработанной
Г. Вельфлиным (Вельфлин Г. Основные понятия истории ис
кусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. М.;
Л.: Academia, 1930, С. 2 4 -2 5 ). См. также: Гиро 77. Разделы
и направления стилистики и их проблематика. — Новое
в зарубеж ной лингвистике. Выпуск «Лингвостилистика».
М.: Прогресс, 1980; Riegl А. Stilfragen. Grundlegenden zu ei
ner Geschichte der Ornamentik. München, 1985. S .2-5; Gran
ger G.-G. Essai d’une philosophie du stile. P., 1988. P. 206-216.
6 P. Барт отличает стиль от письма. Так, например, есть по
литическое письмо (оно может быть классическим, револю-
198
VI I . П р о е к т
и опыт
Из моих предварительных изысканий смею сделать
вывод, что г.щ . принадлежит определенному эстети
ческому стилю—этот стиль близок русскому авангарду
начала середины и конца века. Авангард в данном слу
чае рассматривается не столько как канон определен
ного письма (художественного), сколько как особый
стиль проектной мысли. Г. Щ., как, впрочем, и пред
шественники: К. Малевич, П. Филонов, С. Эйзенштейн
и Дз. Вертов, В. Мейерхольд и А. Платонов, — относятся
к одному эпохальному стилю; это революционная эс
тетика авангарда. Как это ни странно, но и А. Зиновьев
(и в научно-философских трудах, и в известных и мно
гочисленных сатирико-социологических романах по
стоянно отражает крах величайшего «юношеского»
мирового Проекта). Стиль же философствования М. М.
можно отнести к модерну, во всяком случае философ
явно тяготеет к нему в последние годы жизни. Модер
нистские формы литературы и искусства многочислен
ны и широко известны, укажу лишь на те, к которым
постоянно обращался М.М.: прежде всего М. Пруст,
факультативно П. Сезанн, Ф. Кафка, А. Арто, симво
листская литература и поэзия начала века (А. Блок,
Н. Гумилев, О. Мандельштам). Говоря, что М. М. — мыс
литель стиля модерн, а Г. Щ. — стиля авангард, с одной
ционным или марксистским)у но есть и стиль того или ино
го мыслителя, тот способ, каким он овладевает языком, на
сколько он послушен собственной выразительной силе, вне
каких-либо ограничений. «Так, под именем „стиль“ возни
кает автономное слово, погруженное исключительно в лич
ную, интимную мифологию автора, в сферу его речево
го организма, где рождается самый первоначальный союз
слов и вещей, где однажды и навсегда складываются основ
ные вербальные темы его существования. Как бы ни был
изыскан стиль, в нем всегда есть нечто от сырья: стиль —
это форма без назначения; его толкает некая сила снизу,
а не влечет к себе известный замысел свыше; стиль — это
человеческая мысль в ее вертикальном и обособленном из
мерении» (Барт Р. Нулевая степень письма. — Семиотика
языка и литературы. М.: Радуга, 1983. С. 310).
199
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
стороны, я несколько упрощаю сравнительную базу, но
с другой — усложняю решение задачи. Все же это име
на общих стилевых форм, по которым нельзя опреде
лить горизонты развития индивидуальной мысли. Не
обходимо уточнение: что, собственно, понимать под
авангардом и модерном как стилями мышления. Если
под авангардным видением понимать реализацию идеи
глобального Проекта, то под модернистским — только
вопрос: как может человек бытъ-в-мире (где вопрос
о самом мире не имеет смысла); обычно под челове
ком понимается не человек вообще, а последний че
ловек. Проектный субъект, авангардный, — всегда вне
мира, модерный субъект — всегда в мире7.
ПАРАЛОГИЯ
Один рассуждает, другой размышляет... один мыс
лит, чтобы получить результат, другой мыслит, что
бы продолжить размышление, овладеть искусством
медитации. Можно сказать и иначе: один — инст
рукт ор, он мыслит, инструктируя, т. е. его мысле7 К определяющим признакам авангардного проекта мож
но отнести следующие установки: история вместо приро
ды (рассматриваемой как инертно-практический матери
ал); активистская позиция Субъекта (преодоление сопро
тивления со стороны социальной и природной материи);
пантехническая утопия (западная цивилизация как парк
орудий); опора на труду бесконечное волевое усилие, на
пряжение в преодолении любого препятствия — всякое со
противление со стороны Природы (любые препятствия
или помехи) выносится при проектировании за скобки как
мнимая угроза, исходящая из прошлого, но не существен
ная для будущего; отказ от субъекта конечного в пользу
Субъекта проективного (бесконечного), который реализует
себя в Проекте (Проект и есть Субъект, а Субъект — Проект,
их нельзя разделить); проекция на настоящее со стороны
будущего, т. е. абсолютная, в себе завершенная Проекция,
отбрасывающая всякую связь с прошлым; формирование
революционного сообществау способного к радикальному
действию в горизонте глобального Проекта.
200
VI I . П р о е к т
и опыт
действование и следует понимать именно так (мыс
лить не годовой, а руками, мысль не как действие, а са
мо действие, — вот главный принцип). Но что такое
инструктировать? Собственно, я полагаю, что Г. Щ.
не столько что-то конструирует, сколько ин-структируегПу как «правильно» и «точно» пользовать
ся тем, что можно назвать мыслью. In-structio отли
чается от con-sructio (re-consructio), но и de-structio
(М. Хайдеггер), de-construction (Ж. Деррида), от тема
тики конструкции в эстетике Шеллинга и психоана
лизе 3. Фрейда. Делать мыслимое — нечто иное, чем
показывать, как это делать, не делая что; поэтому ин
структировать — это развертывать некоторые из воз
можностей мысле-действия по определенным прави
лам изображения. В инструктаже заложена идея ме
тодологии. Ведь понятно, что инструктировать — это
«вводить в курс (в дело)», «предупреждать», «оговари
вать условия», «отрабатывать», «показывать» — обу
чать первоначальным навыкам работы (поэтому в ин
структаж входит тренировка, необходимые упражне
ния и специальные орудия, переподготовка и многое
другое). Тем и отличается инструктирование от кон
струирования, например, что второе есть прямое мысле-действие, в отличие от инструктирования как опо
средованного, предваряющего или дополнительного
действия. Однако если мы придаем инструктирова
нию столь исключительное значение, то в таком слу
чае оно должно предопределять и всю технологию про
ектирования — Проект как таковой8. Инструктирова
ние невозможно без со-общения с Другим, в то время
как конструирование не просто возможно, оно должно
быть таковым по замыслу. Иначе, инструктирование —
8 Здесь есть противоречие меж ду in-structio и con-sructio.
Методолог, по определению, и не должен конструировать,
а только учить других, как это делать. Нелепо говорить ме
тодологу: «Не учи, покажи, сделай сначала сам». Неясность
этих двух друг друга теснящих позиций: методолога-инструктора и методолога-конструктора.
201
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
это вырабатываемая форма коммуникации по поводу
типа знания, которое будет конструироваться в каче
стве сообщаемого (понимаемого).
Ход методологическо-инструктирующей мысли сле
дующий: если вам необходимо осуществить проект
(любой, поскольку все проекты по технике проекти
рования ничем не отличаются), то вы должны следо
вать неким весьма пространным и подробным пред
писаниям. А эти предписания касаются прежде всего
тех инструментов (вербальных, визуальных, менталь
ных), которыми вы собираетесь воспользоваться, что
бы осуществить проект, и без которых он был бы не
возможен. Наиболее совершенный по искусству про
ект был бы проектом, использующим только «свои»
собственные инструменты. Приведу пример: я поку
паю молоток. Правда, одно дело, когда я его покупаю
в американском супермаркете, а другое—в российском.
К молотку, купленному в американском магазине, при
лагается подробная инструкция. С точки зрения здра
вого смысла эта инструкция не нужна, смешно читать
инструкцию по использованию молотка. Но с точки
зрения некоторых особенностей американской право
вой культуры инструкция должна прилагаться к любо
му орудию труда (а молоток такое же орудие труда, как
и любое другое, пускай, наиболее примитивное). Что
бы за нарушение правил безопасности отвечал толь
ко потребитель, а не продавец, для этого прежде всего
и необходима инструкция (в ней все, что необходимо,
было изложено). В сущности, методолог готов инст
руктировать вас по правилам использования молотка,
как, впрочем, и любого объекта человеческой деятель
ности, но так как если бы при этом инструктировании
вы смогли бы овладеть совершенно новыми свойства
ми этого орудия, где, например, молотковость была бы
стерта («первоначальное назначение») и заменена. То
тальный характер проектирования заключается в том,
что даже то, что мыслится, мыслит себя не как мысль,
а как проект мысли.
202
VI I . П р о е к т
и опыт
Итак, один — инженер-инструктор, технарь, — лег
ко освобождается от пут нашей сравнительной шкалы
и не может быть оценен в-сравнении-с-другим... Дей
ствительно, сравнивать инженера, логика или физикаэкспериментатора, дизайнера и оргуправленца с философом-мудрецом не имеет смысла. Но Г. Щ., конечно,
не был просто инженером и ставил перед мысле-деятельностью самые широкие преобразовательные цели.
В сущности, он разрабатывал методологию не частно
го, а глобального мирового Проекта9. М. М. ощущал
мысль как дело философии. Однако мыслить — это за
нятие сугубо частное (здесь, по глубокому убеждению
М. Хайдеггера, отличие философии от науки, которая
«не мыслит»). Конечно, на фоне философствующего
М. М. Г. Щ. может показаться универсальным техно
логом, экспериментатором, выдающимся и сокруши
тельным мастером инструктажа. Видно, насколько
старательно он избегал встречи с философией как ав
тономным и герметичным опытом мысли. Для него
классическая философская традиция была не опытом,
а результатом, который следует учесть и использовать
по возможности с наибольшей эффективностью. Сама
по себе мысль не интересна, если перед ней не постав
лена задача, ему, вероятно, показалось бы странным
такое вот буддистское бездеятельное состояние мысли,
столь высоко ценимое М. М. на поздних этапах свое
го творчества. М.М. читал курсы по Канту и Декар
ту и видел в работе по истолкованию великих фило
софских систем истинное предназначение философии.
Трудности еще и в том, что ни М. М., ни Г. Щ. не име
ли литературного вкуса к письму и писательству, они
были теми, кто мыслил, говоря, — говорящими мыс
9 Отсылаю к рискованным, но исполненным, как мне ка
жется, искреннего пафоса высказываниям Г. Щ. о «превос
ходстве методологии над наукой и философией» (см., на
пример: Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. М етодоло
гия. М., 1997. С .550-552).
203
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
лителями. Вот почему их наследие, большая часть ко
торого сохранилась в магнитофонных записях, по
сле того как было расшифровано и переведено в план
письменного текста (отдельных книг, лекционных
курсов, автобиографий, воспоминаний современни
ков и пр.),— это не то наследие, которое сохранилось
в памяти первых учеников, а то, что передается сти
хийно в молве. Сегодня, когда изданы основные корпу
са лекционных курсов, каждый из них наделен книж
ной легендой, хотя никто из них не писал книг (т. е.
не понимал книгу как форму и задание мысли). Мне
представляется, что для различных групп философ
ско-методологической интеллигенции 50-70-х гг. кни
га не имела значения сообщения, не была message, сле
довательно, не могла обрести статус общественного
события. Ведь тогдашняя «книга» в силу крайних цен
зурных ограничении находилась в двусмысленном по
ложении. Выпустить книгу, да и просто опубликовать
ся, означало «негромко и с достоинством» заявить о со
противлении власти, и власть в свою очередь должна
или не заметить его, или «дать ход делу». Вот почему
подавляющая часть мыслительной работы ушла в не
официальные пространства. Кружки, семинары, шко
лы, не организуемые официально на университетской
или партийной основе, стали своего рода обязатель
ным поведением для тех, кто действительно интере
совался подлинным философствованием. Естествен
но, одни кружки были более терпимы властью, дру
гие нет. Глобальный советский запрет на суверенную
речь (мысль) хорошо осознавался этой репрессиро
ванной бездомной суверенностью. Она заявляла про
тест своим ускользанием из-под непосредственного
контроля. М. М. никогда не был (разве только на на
чальном этапе своей карьеры) членом кружка, в отли
чие от Г. Щ. — создателя целой школы (то, что сегодня
называется Московским методологическим кружком).
Одни кружки стремились к корпоративной замкнуто
сти, вербовке новых членов, пренебрегая той откры
204
VI I . П р о е к т
и опыт
тостью, которая на данный момент была возможна
(школа, или кружок диалектиков-марксистов Ильейкова — Батищева, группа «диалога культур» В. Я. Библера, кружок самого Г. П. Щедровицкого). И это понят
но, ведь разработка проблем в каждом из кружков тре
бовала от их членов непрерывной совместной работы,
и естественно, что каждый новый член кружка дол
жен давать негласную присягу на верность тем ценно
стям и идеалам, которые исповедовали члены кружка
и их лидер. Однако легитимация кружкового принци
па была прерогативой власти. Легитимация научного
статуса часто подтверждалась запретом и прямой ре
прессией со стороны властей. Другими словами, чем
более опасным казалось власти чье-то творческое уси
лие, тем большее признание и легитимацию оно полу
чало в научном сообществе. Одним из таких кружков,
кот оры й сф о р м и р о в а л с я на а в а н га р д н ы х , « п р о гр е с-
систских» принципах и благодаря этой двойственной
легитимации и был ММК.
Ч то касается легитим ации, которы й подтверж дала
творчество М. М„ то она была соверш енно иной, сн а
чала вполне академ ической. С обств ен н о, М. М. имел
обы ч н ую о ф и ц и о зн у ю карьеру, однако с н ек оторого
в р ем ен и он стал «н еоф и ц и ал ь н о» м ы слящ им ф и л о
со ф о м (если не ди сси ден том , то невы ездны м уж точ
но). О тличие его творческой активности от коллектив
ной деятельности членов ММК оч евидно. Во-первы х,
он стрем ился, или, во всяком случае, так получалось,
что он читал публичны е лекции (И н сти тут п си хол о
гии АН СССР, факультеты психологии и ф и л ософ и и
МГУ, реж и ссерск ий ВГИКа, И н сти тут ф и л ософ и и АН
Грузии и др.), не вел никакого закры того кружка, чет
ко отделяя « р аботу мы сли» от общ ен и я . В о-вторы х,
х а р и зм а ти ч еск и й сти л ь ф и л о с о ф с т в о в а н и я — м ы с
лить не в м е с т е -с -д р у ги м и , а о д н о м у -д л я -в с е х . М астер
р азм ы ш л ен и й (м е д и т а ц и й ), м он ол оги ст ч и ст ой в о
ды, прен ебрегаю щ ий н епосредственны м аудиторны м
к онтактом (в оп р осы во врем я л екции н ев о зм о ж н ы
205
В алерий П о до р о г а . А пология
политического
и не задаются). К порядку медленно развертывающих
ся размышлений, которыми М.М. оснащает рассказы
ваемую им «историю», добавляется аура посвященно
сти и запрета, которая окутывает и чарует зритель
скую аудиторию (слушать «запрещенную» властями
речь — в этом что-то есть...), — не отсюда ли вся не
обычность мыслительного ритуала, в котором сме
шиваются храмовое действо, публичная проповедь,
театральное представление. М.М. объяснял свое от
ношение к философским кружкам (не личным отно
шением, например, к А. Зиновьеву или Г. Щедровицкому) как сопротивление возможному ограничению
свободы со стороны коллег по цеху, он не хотел нести
ответственность за коллективные действия и проек
ты; по его собственному признанию, «коллективист
ский дух» ему был чужд, и он сторонился его, насколь
ко мог. Как только мы возвращаемся к стилю Г. Щ., мы
сразу отмечаем, насколько он несовместим со стилем
М. М. Эгалитарный, разговорно-дискуссионный, науч
но-технический стиль Г. Щ.; он даже и не мыслит, он
рассуждает и, если рассуждает, стремится всегда от
ветить на поставленный вопрос и вместе-с (аудито
рией); он коллективист, мастер общения, спора, дис
куссии и полемики. Дуэлист, мастер принимать и бро
сать вызов. В сущности, все те лекции, которые мы
можем найти в издаваемых сегодня томах наследия
Г. Щ., делимы на два основных жанра: лекцию-диспут
и лекцию-обучение. Я бы не назвал его манеру диа
логической, или более открытой для слушателя, чем
у М.М.Его стиль также монологичен (даже моноцентричен), просто используются иные средства воздей
ствия на слушателя. Воздействие в основном поле
мическое, истина — скорее победа в споре (т. е. она
достается более дорогой ценой, чем можно себе пред
ставить, занимаясь чистым исследованием или меди
тациями). В ходе постоянной защиты собственной по
зиции развивается и сама позиция, точнее, средства
защиты, а не та истина, которая могла быть приемле
20б
VI I . П р о е к т
и опыт
ма без обсуждения. Другими словами, средства про
ектирования— весь этот теоретико-методологический
парк орудий — намного ценнее, чем достигнутая исти
на (которая, надо признать, рассматривается как род
победы в споре). Что такое собственно проект? До
пустим, что это будущее, которое должно состояться
сегодня, а как это возможно? Здесь все дело, как мне
представляется, в способности проектировщика убе
дить общество в необходимости предложенного про
екта (поэтому-то он не может быть ни истинен, ни ло
жен). Без убеждения в ценности проекта нет самого
проекта. Идеализм Г. Щ. в этой проектируемой защи
те. Я думаю, что с какого-то времени этот аспект за
щиты был переработан в тему игры, тренировки, по
стоянного тренинга, т. е. технологизм приобрел черты
профессионального навыка, чуть ли не вида спорта.
Собственно, это не подпольная философия, это ско
рее неофициальная, а сегодня — неакадемическая фи
лософия, т. е. философия, противостоящая основным
направлениям советского идеологического мейнстри
ма (а такими направлениями были н а у ч н ы й к о м м у
н и зм , а позднее ф и л о со ф и я е с т е с т в о з н а н и я ). Как это
ни удивительно, но по дискуссиям Г. Щ. с академиче
скими и университетскими философами заметно, на
сколько он тогда и всегда был за границами привыч
ного для тех лет уровня «здравого смысла». В этом
смысле философствование М. М. самим фактом суще
ствования было направлено против существующего
режима, в то время как методологическое конструи
рование— вся, годами разрабатываемая, технология
изготовления идеальных объектов-проектов, в сущ
ности, была п о л и т и ч еск и н е й т р а л ь н а , не была д р у го й
и чуж дой , она была вполне п о н я т н о й власти. И, скорее,
находилась в оппозиции к советскому академическо
му истеблишменту, нежели к существующему режиму10.
10 Хотя, например, такие фигуры приблизительно одного
поколения с М.М . и Г.Щ., как Вяч. Иванов, С. Аверинцев,
207
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
Следует заметить, что раздражение, которое вызыва
ло творчество одного у партийных идеологов (и дру
гие, куда более глубокие отрицательные чувства), бы
ло совсем иное, чем то, что вызывалось дискуссион
ным стилем рассуждений другого. Снобизм и мнимая
европейскость М. М. были более опасны. В то время
как Г, Щ. рассматривался академическими авторите
тами как менее компетентный и потому менее опас
ный. Победа Г. Щ. в споре ничего не предрешала, на
против, делала его слабее в академическом отношении.
Ведь после наступления более благоприятных времен
и отмены цензуры снова возросла ценность академи
ческой книги, подводящей итог многолетним трудам.
Но ни один, ни другой так и не получили академиче
ского признания, они не имели книги. И вот что инте
ресно, критика в адрес М.М., насколько я помню, за
ключалось в основной претензии: все, что он пишет
и говорит непонятно*11. Протесты подобного рода Beeв. Топоров, полумили академические почести и были при
знаны новым «перестроечным» официозом науки.
11 Вот, например, наиболее типичное высказывание: «Я по
нимаю, когда мне объясняют, что Мераб Констатинович
Мамардашвили — большой философ. И когда он опублико
вал свою статью в журнале „Юность“ и прописал, что та
кое философия и что такое философствование, это очень
здорово, но я ведь всего этого не понимаю. И хотя мы с ним
большие друзья и двигались вместе с начала 50-х гг., и я его
очень люблю и уважаю — я при этом говорю: я его не по
нимаю. Пускай он рассуждает про ф илософ ствование
и строит свои невероятно сложные смысловые структу
ры, но я ведь опишу на основе моделей — детальнее, лучше,
понятнее и много практичнее. И когда Виталий Яковле
вич Дубровский прочитал после моих настояний эту рабо
т у — Мамардашвили — Пятигорского (1971), он мне сказал:
«Знаковую форму не уважают, идею знаковости не призна
ют, невероятно сложно пишут о том, о чем мы пишем ко
ротко на основе наших схем. Чего вы мне морочите голо
ву, Георгий Петрович?!» — «Да не морочу, знать надо». А он
мне говорит: «Мало чего знать надо». Я его понимаю, по
скольку внутренне и сам так думаю. Я понятно отвечаю?
208
VI I . П р о е к т
и опыт
гда исходили от той части гуманитарной интеллиген
ции, более что ли техницистски ориентированной
по образованию и воспитанию. Отчасти критика спра
ведлива, но только в том случае, если мы будем пола
гать, что, например, М.М. нарушил какой-то чрезвы
чайный запрет, причем всеми давно принятый и до сих
пор не отмененный, он как бы пре-ступип (чего нельзя
И работаем мы в научной модальности, на основе модели
рования. Схемы мысле-деятельности строим. Схемы ис
кусственного и естественного строим. Мераб Константи
нович работает на высоком понятийном, спекулятивном
уровне. Я его понимаю, я сам так учился и знаю мощь спе
кулятивного философского подхода. Даже призы получал
за это» (Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. М етодоло
гия. М., 1997. С. 593-594).
М ожно найти еще ряд замечаний Г. Щ. в адрес М. М.,
в которых есть, бесспорно, и напряжение, вызванное с о
перничеством, и принципиальные расхож дения, кото
рые, хотя и не приводят к отказу признать дело Другого,
но все-таки ставят под сомнение форму. Узловой момент
и первейшее требование, которое всегда вменялось М.М.
как «философская вина», — неумение в простой и доступ
ной форме излагать свои мысли. А что же имеется в виду?
Нет простоты, наглядности, ответственности за передачу
мысли Другому, другими словами, отсутствуют проектные
качества мысли. Но М .М . мыслил экзистенциально, избе
гая, и вполне осознанно, правил проектного мышления.
Усложнение простого равносильно усилению моментов не
понимания в той среде (лекционной аудитории), которая
требовала, я бы даже сказал, остро нуждалась, в непонима
нии (незнании, недеянии и т.п.). Ведь внешнее повседнев
ное давление ясных и законченных форм идеологическо
го насилия (как бы не сопротивляться ему) было настоль
ко сильно и всепроникающе, что всякий акт непонимания
казался наделен новизной. Чуть не вестник недоступного
и свободного мира мысли (в основном западного). Не по
нимаю это не потому, что непонятно, а потому, что оно
никоим образом не соотносимо с доминирующей формой
идеологии, отсюда гипнотизирующая сила другого слова,
продуктивность непонимания. Возможно, это и не глав
ное условие объяснение стиля М .М ., но весьма существен
ная черта того сопротивления, которое постоянно оказы
валось коммунистическому режиму.
209
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
было делать): например, нельзя говорить так (и мыс
лить так), как ты мыслишь, нужно, например, мыслить
вместе со всеми и так, как все, тогда-то и возрастает
ценность истины, ведь только она одна может удер
жать нас в общем пространстве, в «коллективной мыс
ли». «Не понимать»—это отказывать ему в признании,
даже если сам его лишен...
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В отличие от опыта размышления М. М. техника рас
суждения Г. Щ. нуждалась в разработке стратегии за
давания вопросов. Отношения вопроса и ответа все
определяют. Говорящему, диспутирующему свои лек
ции нужны вопросы, много вопросов, следящих за его
речью, постоянно преследующих, и он требует их, бу
доражит, подгоняет аудиторию. Он нуждается в во
просах, чтобы говорить, т. е. говорить не столько ради
рассуждения, а на основании заданных вопросов. Вся
кий вопрос ценен тем, что на него может быть полу
чен ответ (отрицательный или положительный). И вот
когда перечитываешь изданные лекции Г. Щ., видишь,
как работает эта машина вопросов — ответов. Во-пер
вых, она всегда срабатывает, в том смысле, что всякий
вопрос, причем неважно, уместен он, правильно ли
поставлен, получает ответ и тем самым снимается.
Рассуждение всегда имеет начало и конец, оно слу
жит некой цели, оно прагматично и представляет со
бой образец перевод мысли в практическое действие.
Во-вторых, пространство рассуждения располагает
ся там, где мысли обретают законченную форму то ли
в виде ответа, то ли в виде вопроса. Всякая неточ
ность и неопределенность или неясность отвергается
как ошибка мысли. В рассуждениях поддерживается
достаточно высокий уровень истинности, проверки
высказывания на предмет его логической достовер
ности («идеальной»). Может быть, М.М. и Г. Щ. в со
ветскую эпоху и были настоящими врагами здравого
210
VI I . П р о е к т
и опыт
смысла, common sense, как известно, опирающегося
на веру в превосходство ответа над вопросом. Здра
вый смысл полон предрассудков, «мифологии», тради
ционно-консервативных убеждений и полон страхов
перед неизвестностью жизни, перед событиями, кото
рые являются неповторимыми, новыми, шокирующи
ми. Все, что неповторимо, все, на что не найдено от
вета или на что нет и не может быть ответа, скрыва
ет в себе угрозу нарушения жизненных циклов, смену
образцов и норм. Опровержение прошлого опыта не
допустимо, и на всякий вопрос должен быть найден
ответ. Ответов же всегда больше, чем вопросов. Воз
можно, М.М. двигался по пути развития идеи лично
стного опыта, «экзистенциального развития», и ско
рее ставил вопросы, объясняя причины, по которым
они были поставлены, но те, в свою очередь, оказыва
лись новыми вопросами. Размышление, вопрошаю
щее об истине, а не демонстрирующее ее, не имеет за
вершающего итога, оно должно продолжаться... Вопрошание делало двусмысленным любой ответ, если
он не проходил головокружительное вращение в эк
зистенциальной аргументации М. М.
Отношение между вопросом и ответом в мысли
Г. Щ., радикально иное. В области научного познания
все вопросы получают ответ. Я хочу сказать, что нау
ка придерживается стратегии превосходства вопроса
над ответом, и эта власть, по сути дела, ничем не огра
ничена, беспредельна, как и само стремление позна
вать. Наука познает, задавая вопросы. Природа тре
бует от нее ответа и всегда получает необходимый от
вет, который переходит в ранг истины. Даже самый
плохой вопрос — тоже ответ. Ответом на вопрос и бу
дет истина. О чем это говорит? О том, что наука задает
свои вопросы так, как если бы она в то же самое вре
мя что-то делала с тем, у кого она спрашивает ответа.
И это не просто вопрос, это вопрос, который вопло
щается в определенный порядок действий вопрошания, которое преследует определенную цель — экспе
211
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
римент. Превращая природный процесс, факт, со
бытие в объект, наука заставляет (принуждает) дать
требуемый ответ. В данном случае неважно, что отве
ты и вопросы все время уточняются и снимают друг
друга в пределах экспериментального времени. Экс
перимент (проверка идеи) в качестве подтверждения
правомочности задавания вопросов является необ
ходимым посредствующим звеном между вопросом
и ответом. Ответ может быть получен только в том
случае, если мы уже имеем ответ. Вопрос и есть от
вет. Поэтому вопрос приобретает сверхценное значе
ние, ведь всякий вопрос при свободной обратимости
в ответ и есть то, что называют научным открытием.
Здравый смысл был атакован именно теми вопросами,
на которые не мог найти ответа.
ДВОЙСТВЕННОСТЬ ЖЕСТА
М. М. и Г. Щ. обращались к одной и той же аудитории,
ядро которой составляли в основном слушатели мое
го поколения, чуть старше или чуть младше, — коро
че, те, чей профессиональный интерес к занятиям нау
кой (психологией) и философией формировался как
раз в это время (в 60-70-х гг.). Однако М. М., в отличие
от Г. Щ., не имел учеников, его аудитория, в отличие
от аудитории Г.Щ., была менее специализированная
и значительно более смешанная, я бы сказал, не ото
бранная через кружок: от почитателей таланта, или,
как говорят сегодня, фанов, которых, конечно, нель
зя отнести к ученикам, до просто любопытствующих
и интересующихся и —далее — к профессионально ра
ботающих в гуманитарной области, признающих ис
следовательский энтузиазм М. М. Не следует забывать
и то, что и М. М., и Г. Щ. оказывали значительное влия
ние на окружающих своей личностью, манерой гово
рить, привычками и т. п. В границах стилевого поведе
ния можно засечь единый жест, особенности которо
го различаются на уровне его направленности. Такого
212
VI I . П р о е к т
и опыт
рода жест в каком-то смысле метафизичен, его не сто
ит путать с жестом, который направляется против
«расхожего мнения толпы» и «непонимания» в ста
рой, но неизменно повторяемой формуле: «...тому,
кто откуда-либо приближается к крепости, в кото
рой мы нашли убежище, которую намереваемся за
щищать и удерживать, мы повторяем с жестом, от
вергающим всякую профанацию: „Noli me tangere“»,—
так пытается «освободить» себя М. Фуко12. Подобный
жест часто использовал М. М., когда он, пытаясь со
хранить логику трансцендентального аргумента, опе
режал всякий вопрос, идущий от «здравого смысла»,
сокрушающим ответом: «Я (говорю) не о том...» Ко
нечно, это жест защиты, описывающий сферу суще
ствования мысли, которая не может быть оспорена
или отменена, подвергнута сомнению, осуждена как
ложная или снобистская. Человек, который мыслит,
оказывается один (без Другого) в собственной мыс
ли, и никакое внешнее соучастие в его мысли, «спор»
с ней или присваивание другими не может отменить
единственность мыслящего. Непосильная задача по
давляет: попытаться высказать то, что уже было ска
зано, перехватить речь Другого, присвоить... и про
должить. Итак, жест имеет лицо и изнанку. С лице
вой стороны это жест, физически наблюдаемый, как
отмашка и знак разочарования, чуть ли не судорога:
«Я ведь не том...» Вы так ничего и не поняли и не хо
тите понимать, а почему? Да потому, что не хотите
вместе со мной думать и думать так, как получается,
а не так, как вы полагаете, следует думать. От слушате
ля требуется позитивное молчание, увлеченность «ис
торией», совместное открытие возможного горизон
та мысли. Однако М. М. не призывал думать вместе:
он демонстрировал, как он пытается это делать один>
тем самым вольно или невольно отвергая всякую по
пытку слушателя вмешаться в его речь. Поэтому зада
12 Foucault М. Larcheologie du savoir. R, 1969. P.264.
213
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
вать вопросы ему было столь же нелепо, как и спраши
вать: «Скажите, а чем все-таки должна кончиться эта
история?», — вместо того, чтобы выслушать рассказ
до конца. С другой стороны, «я не о том...», потому
что вы —о том, что не относится к мысли. Жест отка
за предстает как форма защиты мысли и даже не мыс
ли, а просто голоса, который вдруг осмеливается гово
рить о своем и от себя13. С точки зрения самого мыс
лящего, ему не знакома победа над мыслью, он —лишь
инструмент, нечто из рода орудий: мысль или образ —
то, что в нем говорит, но чего он не является авто
ром. У мысли нет автора. Если мысль высказана, то ее
высказывание вне пределов авторского влияния, она
есть просто возможность быть в качестве мыслящего.
Как если бы мысль была случайным результатом это
го усилия преодолеть себя как живого, экзистенци
ального персонажа, физиогномически видимого знака
мысли. Мысль есть бытие, мыслить — это быть, здесь,
собственно, открывается картина экзистенциальной
онтологии, объясняющей свою первоначальную сво
13 Некогда проф . Ю .Замош кин в одной из своих доп е
рестроечны х статей призывал перестать бояться гово
рить «я», что пришло время думать от имени собствен
ного «я», а не от безличного «мы». Легко сказать, одно
дело использовать личное местоим ения, а другое д ей
ствительно смочь мыслить от собственного «я» (если ты
раньше этого не делал). Оказалось, что лингвистического
переворота недостаточно, что нуж но научиться чему-то
другому, чему научиться уж е нельзя... В этом отнош е
нии то, что М. М. и Г. Щ. говорили от имени собственно
го «я», индивидуальности, казалось неслыханным кощун
ством в темные совковые времена, — как это можно гово
рить так, как если бы ты был сам тем, кто мыслит, творит
мысль, как если бы ты был Кантом или Марксом. Ведь
право мыслить могли иметь только они, великие покой
ники, но не те смертные, которые были рядом, к тому же
слишком поглощенные борьбой с реальностью. Привыч
ка принижать личное, индивидуальное, устранять его при
первых же признаках навязчивого проявления была ис
ключительно сильна.
214
V I L П роект
и опыт
боду. И тем не менее оба этих жеста сопровождают
друг друга и поддерживают, составляют единое по
ле трансцендентального мимесиса мысли, ибо пер
вый жест создает беспрецедентную ситуацию, так как
пытается утвердить в качестве нормы мысли то, что
не может стать ею в момент утверждения; второй же
жест проявляет себя с не меньшей силой и страстью,
с какой мысль, себя утверждающая, пытается добить
ся свободы и автономии от господствующего «здра
вого смысла»: он прерывает возможную коммуника
цию высказываемой мысли с теми, кто находится вне
ее логики и принятого порядка размышлений, нако
нец, стиля и живой манеры речи. Другими словами,
второй жест, лицевой, антикоммуникативен, экзистен
циален, театрален и поэтому уклончив, легко манипу
лирует различного рода дистанциями (является сви
детельством как защиты, так и атаки). И он скрывает
от нас собственную изнанку. Другой, более глубин
ный, жест может быть назван стилевым. Не всякий
слушатель готов признать превосходство мыслимо
го над мыслящим, утратить контроль над движени
ем в мысли. М. М. идет на это лишь бы развернуть все
это общее движение порядка мыслей приблизительно
в одном направлении. И это движение не диалектиче
ское, что, вероятно, самое быстрое философское дви
жение вообще, а крайне медленное, круговое, скорее
герменевтическое, требующее богатой созерцательной
практики, вкуса к ней. Другими словами, стиль мысли
М.М. опытный, не проективный.
Что касается г.щ ., то он имел другой жест, жест
оспаривания. Читая тексты, особенно стенограммы
дискуссий, можно найти одну его присказку: «Готов
стреляться!» — что приблизительно означает: «Я утвер
ждаю следующее... и если вы сомневаетесь, я готов до
казать свою правоту, более того, вступить вами в спор
и все доказать, если и этого будет недостаточно, готов
вызвать вас на дуэль, готов драться с вами...» Идея
спора и соперничества, идея общего завершающего
215
В алерий П о л о р о г а . А полог ия
политического
диспута с жертвами и последующим общим признани
ем истины за победившей стороной. Как если бы во
прос об истине решался ее защитой, как если бы сама
истина мало что значит и если ее объявляют, то гото
вы не только объявлять, но и драться за нее. Вот отку
да эта постоянная переброска черно-белыми шарами
спора, вопросы подменяют ответы, а ответы вопросы.
Принцип дуэли как основа мышления. Г.Щ. — неуто
мимый спорщик: только единая жестикуляция мысли,
«духа» и тела (физиогномическая) может выразить се
бя через другую, но это не значит, что они заместимы.
Готовность доказать свою правоту мы уже не можем
рассматривать как чисто полемический прием, здесь
несколько иной горизонт: исторический14.
ОТКАЗ ОТ ОПЫТА
Затем идет достаточно тонкая и ясная рефлексия
своего логического идеализма: отказ от опыта.
14 Н аступательно-револю ционны й, «передовой» образ
мысли Г. Щ. В своих воспоминаниях он как раз настаива
ет на авангардном, бросающем вперед образе мысли своей
юности: «Именно поэтому современные поколения явля
ются принципиально аисторическими. Для них не сущест
вует ни исторической действительности, ни их собствен
ного действия в истории. Про себя я могу сказать очень
твердо: для меня — это можно рассматривать как уродство
моего воспитания — определяющей и единственной ре
альностью всегда была действительность исторического
существования человечества. И вот для себя в своих соб
ственных проектах, устремлениях, ориентациях я сущ е
ствовал только там, и только тот мир, мир человеческой
истории, был для меня не просто действительным, а ре
альным миром — точнее, миром, в котором надо реализо
ваться» ( ЩедровицкийГ. П. Я всегда был идеалистом... М.,
2001. С. 148.) И далее: «Я по происхож дению принадле
жал к тем, кто делал историю. Все мое семейное воспита
ние, образование фактически наталкивало на это» (Там же.
С. 149).
216
VI I . П р о е к т
и опыт
Опыт определяется из ситуативности происходящего.
«И вот это, как я уже сказал, объясняет, почему у ме
ня складывалось то или иное соотношение между тем,
что я извлекал из ситуаций, и тем, что формировалось
при чтении книг, через чистое мышление, а не через
опыт жизни. По отношению к опыту жизни я тогда
был и потом, кстати, оставался непроницаемым или
избирательно проницаемым. Во всех этих ситуациях
меня всегда интересовало только то, что было значи
мо для достижения моих конечных целей»15. Каждая
новая ситуация создает препятствия, которые каждый
раз нужно преодолевать, изыскивая новые возможно
сти и средства. Ситуация как основная характеристи
ка опытного знания и есть препятствие, как бы по
сылаемый нам жизнью сигнал, указывающий на гра
ницы действующих образцов опыта: «После такого...
уже больше нельзя жить-действовать, как прежде»,
Мыслить в понимании Г. Щ. — это избегать ситуаций
(опыта), заставляющих действовать в ущерб тому, что
проектировалось. Другими словами, проектирование
и есть вводимый нами контроль мысле-действия над
случайностью ситуаций (опыта), и мы контролируем
их лишь в той степени, в какой способны воспроизве
сти их вновь, повторить, подготовить образцы (при
чем так, чтобы не утратить контроль). В этом, мне
представляется, сила логического идеализма и конст
рукторской мощи Г. Щ., которая так смущала его кол
лег по цеху16. Преодоление ситуаций, развитие ситуа
тивного искусства мысли — вот что становится гаран
тией удачного проекта.
15 Там же. С. 152.
16 Вероятно, здесь коллеги интуитивно чувствовали некую
тоталитарную (технократическую) модель сообщества, схо
жую с теми, какие можно найти в утопиях Жюля Верна или
Фурье, антиутопиях А. Платонова и Замятина.
217
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
2. МЕТОДОЛОГ
ПРОЕКТ И СТИЛЬ АВАНГАРДА
.ч ел ов ек р е а л и зу е т и м ат ер и а л и зу ет св ою
м ы сль ч ер ез п р о ек т .
.л ю д и есть сл у ч а й н ы е н о с и т е л и м ы ш л ен и я ,
.к о н с т р у и р у ю и в э т о м п л ан е я в ы ступ аю
как Г осподь Бог.
И з разговоров в М М К
Что значит просто мыслить?
Метафизика знака
Метод Г. Щ. технически-инженерный, или логика его
действует в сфере объектов, поддающихся членению,
разрезанию и упрощению. Принцип идеальной про
стоты выглядит в качестве прагмемы — универсаль
ного стратегического задания. Стремление к выде
лению все более и более простых объектов приводит
к тому, что множество других, более сложных объ
ектов начинает исчезать или просто отбрасываться.
Я не знаю еще, как это сформулировать, но проблема
заключается не в том, что рассуждения логико-мето
дологического порядка Г. Щ. не верны и требуют кор
рекции, скорее область их применимости ограниче
на выборкой самих объектов. Если они применяются
и должны применяться только в области исследова
ния систем управления (организации и конструиро
вания), это говорит лишь о том, что в той области,
где их намеревались применить, не должно сущест
вовать объектов, сопротивляющихся вводимой про
стоте образца или примера, логической задаче. Коро
че, я полагаю, что современная мысль сталкивается
с все более усложняемыми и несводимыми объекта
ми (герменевтическими), которые существуют, по
ка идет работа по их толкованию (строения элемен
тов, т.е. самой сложности). Естественно, если я про
218
VI I . П р о е к т
и опыт
тивопоставляю сложный объект простому, то говорю
о том, что и сложный объект является простым с точ
ки зрения принципа простого объекта: он далее неде
лим без потери своих качеств, без того, чтобы не быть
разрушен. Такими сложными объектами (т.е. объек
тами, которые не могут быть простыми) являются все
так называемые ге р м е н е в т и ч е с к и е о б ъ е к т ы (требую
щие толкования, учета контекста, несводимые к дру
гим (подобным и неподобным)). Например, как мож
но исследовать вину или совесть, красоту, стиль или
истину? Все эти герменевтические объекты тем и ха
рактерны, что не могут быть упрощены и что в них
всегда есть некий остаток, который требует герменев
тического понимания. А, как мы знаем, понимать —
это изменяться (в то время как познавать — это из
менять). Это довольно обширное поле герменевти
ческих объектов не может быть разложено на более
простые составные части. Герменевтические объек
ты сложны, а аналитически-проективные, идеальные
просты. Помимо литературы, искусства, истории, есть
и другие области существования герменевтических
объектов, не редуцируемых к более простым, напри
мер, феноменологии повседневного опыта. Не только
язык, текст, субъект, но и все то, что составляет об
ласть Dasein-анализа, и есть область существования
герменевтических объектов, чья базовая онтологиче
ская функция заключается в п он и м а н и и : они сущест
вуют только, если понимаемы. Собственно, такого ро
да сложные объекты подчиняются правилу ге р м е н е в
т и ч еск о го круж ения: часть получает толкование через
целое, как целое через часть. Часть как д и н а м и ч е с к о е
целое. Сложные объекты изменяются в результате на
шего толкования, сохраняя свою первоначальную це
лостность, и не поддаются расчленению. Операции
разложения/сборки недопустимы. Простые же объ
екты, сколько бы мы не представляли их себе слож
ными, изменяются в результате познания их состав
ных частей, элементов или единиц.
219
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
Возьмем в качестве примера одну из статей Г. Щ., об
ращенную к проектированию антропологически ши
роко освоенной темы: ч т о т а к о е Ч е л о век ? Ясно, что
человек — сложный объект, чье упрощение (проек
тирование) невозможно. Тем не менее Г. Щ. начина
ет с того, что рассматривает человека с точки зрения
ч е л о в еч еск о го , т. е. возможного знания о человеке. По
нятие «человек» нуждается в логической, идеальной
сборке, чтобы установить основные направления из
учения. Однако тот человек, который всегда имеет
ся в виду, уже существует, дан, это невозможно отри
цать; по мнению Г. Щ., он и должен быть представлен
в качестве антропологического материала (некоторого
рода о р га н и зо в а н н о с т е й ) уиначе проектирование тако
го объекта, как человек, было бы невозможно. «Сей
час время больших деятельностных организаций, ко
торые используют человека как ресурс»17. Человек есть
и объект проектируемый, и то, что уже есть, сущест
вует в качестве эмпирически данной, наглядной фор
мы: б и о и д (биологическое существо), индивид и лич
ность. И вот здесь методолог совершает довольно-таки
странную ошибку (по крайне мере, для нас): он полага
ет, что слова «личность», «индивид» и «биоид» (в том
аспекте выделения, который он им придает, ч т о -т о
зн а ч а т сам и по себе или что их значение общеприня
то и понятно). Более того, они обозначают в человеке
нечто разное—-отдельные слои человеческого, причем
совершенно автономные и независимые (!?). Но как
это возможно, чтобы личность, индивид или биоид
были чем-то еще, помимо слов-имен, обладающих не
определенным, расплывчатым значением. Следова
тельно, уже первые интуиции методолога выстраива
ются не на опытных данных (понятиях), а на конвен
ционально предлагаемых значениях человеческого,
которые принимаются как логически очевидные. Нет
ни малейшего сомнения в том, что человек существу
17 ЩедровицкийГ.П. Указ. соч. С. 284.
220
VII. П роект
и опыт
ет и всегда существовал и что человеческое свидетель
ствует Человека как идеальную сущность существова
ния всего человеческого. Но насколько можно вообще
ставить вопрос о сб о р к е всего человеческого в единую
высшую форму Человека? Человек как совершенно
идеальное существование (годное к подобной сбор
ке) прежде всего и должно быть проблематизировано. Удивительно то, что человек — не столько объект
(объектом ему еще нужно стать), сколько материал,
м а т е р и я человеческого. Некая субстанция совершен
но неопределенная, «темная», беспорядочно флуктуи
рующая в социетальном пространстве — времени, без
м е с т а , ф у н к ц и и и ц ел ей , — вот что такое человек как
некая еще неосвоенная методологией территория че
ловеческого. А это значит, что методолог, описывая
идеальные условия изучения человека, начинает с чи
стого листа (правда, он всегда старается так начинать).
Ему и в голову не придет поставить под сомнение тот
факт, что человек проблематизируется не с точки зре
ния синтезированных знаний о человеке (которых все
гда недостаточно), а с точки зрения того, что мы назы
ваем ч ел о веч еск и м и даем ему имя — Ч еловек .
Ошибкой (методической) следует назвать отказ Г. Щ.
от анализа предыдущих способов конструирования
темы Человека, от анализа условий задавания вопро
са о том, что такое (есть) человек? Вопрос — это уже
представление метода, то есть определенной манеры
задаваться вопросом. Но что значит спрашивать, что
такое человек (не предполагать ли, что он уже есть?).
Ведь ест ь это б ы т ъ ,ьа быть это что-то и м ет ь, что и по
зволяет быть. Человек — это существование на гра
ни риска, «бытие риска» (А. Гелен), «бытие-к-смерти»
(М. Хайдеггер), «не-специализированное» (К. Лоренц),
т. е. это вид ничем вне себя необусловленного суще
ствования ни природно-органическими факторами
(Природой), ни мегаявлениями (Космосом), ни тем бо
лее локальным «место-положением-в» — ч е л о веч еск о е
с у щ е с т в о в а н и е ест ь б ы т и е д у х а , он вне места и про
221
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
странства — времени (М. Шелер). Скрытая и откры
тая deitas, приписываемая человеческому в подобно
го рода вопросах. Спрашивая о человеке, спрашивают
о Боге, тем самым устанавливают порядок вопросов
с ориентировкой на эту скрытую подмену. Человек
не может вынести прямого взгляда со стороны Ничто,
в нем самом — Ничто, картина ничтожения того, кто
всматривается в это, как будто совсем черное зерка
ло. И главное, что вообще не учитывается Г. Щ., фигу
ра «Человек» и с т о р и ч н а , она появляется из обратной
п р о е к ц и и -с н и з у -в в е р х -о б р а т н о -в н и з (по вертикально
му сечению) фигуры Бога (Бога-геометра, Бога-часовщика, Бога-природы (пантеизм Спинозы)). Антро
пологическое рождение имени «Человек» — в ответе,
не ожидающем повторного вопроса, вызывает потреб
ность в дублере, как точка требует для своего разви
тия постоянной устойчивости сферы и отказывается
от причуд и случайности линии или кривой, и таким
дублером-гарантом выступает Бог. Другими словами,
методолог н е и с п ы т ы в а е т н и к а к о го сопротивления
со стороны объекта, который, собственно, им-то и по
рождается или, точнее, потенцируется как возмож
ный конструируемый объект. Пребывание в безвоз
душном, совершенно идеализированном пространстве
мысли, где ей мыслить нечего, кроме себя самой. Итак,
по мере развития методологических идей о Человеке
тема человеческого переходит в автоматический ре
жим инструктажа: как и что надо делать, с помощью
каких инструментов, как долго, где, если вы действи
тельно хотите п р а в и л ь н о помыслить, что такое чело
век, не прибегая ни к какому предшествующему зна
нию, событию, историческому движению, сопутство
вавших рождению вопроса: что такое человек?18
18 Здесь есть удивляющая несколько, но вполне закономер
ная связь по родству с проектом великой социалистическоавангардной темы советский человек (книга акад. Смирно
ва так и называлась — «Советский человек»). Именно такая
форма знания о человеке отличалась чистотой и ясностью
222
V I I . П р оект и опыт
Топы врем ен и
Насколько возможно расширение или даже экспан
сия технического объекта на среду в целом? И нет ли
здесь изначальной погрешности, которая обусловле
на слишком узким пониманием качеств а в а н г а р д н о
го Проекта (выдвижение на первый план идеологии
технического прогресса). Я думаю, как это не обсуж
дать, но наш интерес к доктрине проекта Г.Щ. опи
рается на принципиальные идеи. Одна из них — пре
дельно расширительное толкование методологической
установки—м е т о д о л о ги я к а к у н и в е р с а л ь н о е п р о е к т и
р о в а н и е Р еа л ьн о ст и , вместо того чтобы т о л ь к о мыс
лить, необходимо изменять, делать и переделывать
действительность, т.е. п р о е к т и р о в а т ь ее как Р е а л ь
н о с т ь (только в проекте м ы сл ь становится д е й с т в и е м ,
м ы с л е -д е й с т в и е м ). Только в том случае можно что-то
обсуждать, если Проект является одним-единственным и универсальным инструментом описания/конструирования мира*19. Проект, или проектирование,
пребывает в центре методологической вселенной. Ме
тодолог и есть тот, кто проектирует события так, что
они не могут не свершиться. Метод исходит из само
го себя, а не из опыта, как раз потому, что он прила
гается к опыту, он не изменяется. Проект — универ
сальная матрица Мира. Почему, да потому, что метод
там, где он достигает высоты и силы, есть управление
высшего уровня абстрактности, противостоящей эмпири
чески недостоверной реальности, «искаженной» общ ест
вом развитого социализма.
19 Ср. «Программы и проекты тоже нуждаются в обоснова
нии, но не путем отнесения их к некоему эмпирическому
материалу и выяснения соответствий между ними и этим
эмпирическим материалом, а путем выяснения реализуемо
сти проектов и программ, что достигается путем отнесе
ния их к существующим или возможным структурам дея
тельности» (Щедровицкий Г. Я . Ф илософия. Наука. М ето
дология. С. 358-359).
223
В алерий П о до р о г а . А пология
политического
временем, не временем настоящего, а только, в сущ
ности, двумя временами — прошлым и будущим. Дей
ствительно, метод и есть условие преодоления вре
менной случайности, но как бы мост между временем
завершившимся и временем, которое еще не начало
свершаться. Метод с самого начала проективен, по
скольку отрабатывается на состоявшихся фактах, за
вершившихся процессах, представленных событиях,
т. е. на всем бесконечном круге рефлексивных актов.
Это не значит, правда, что Г. Щ. пытается опереться
на прошлое в догматически-абсолютном смысле, в ка
ком историк-архивист или библиотекарь видят в нем
свершившееся время как таковое, которое уже невоз
можно повторить. Нет, он выдвигается из прошлого
как из лаборатории (кузницы), где он создавал метод.
Но прошлое — время вечное, в нем отсутствует изме
нение. Поэтому следует учесть невольную аберрацию
времени; метод возможен лишь в том случае, когда,
опираясь на всю совокупность фактичности прошло
го, он придает значение отдельным фактам, научным,
неизменно воспроизводящим условия истины. Время
научного открытия — чистое время (время вне време
ни). Вот это наложение времени истины на время про
шлого и позволяет устранить прошлое как завершив
шее себя время.
Проект не смог бы состояться, если бы не был за
брошен в будущее. С самого начала проект развер
тывается в странной ретроспекции: он преобразует
прошлое из будущего, будущее и есть истинное вре
мя проекта. Почему темпоральная сущность проек
та столь уникальна? Да потому, что строится (дела
ется) в том времени, которое отсутствует, есть од
но время — идеальное время самого проекта. Вот что,
и не раз, подчеркивает Г. Щ.: «С точки зрения оргуправленца, то, что есть сейчас, есть прошлое. Ведь
управлять настоящим невозможно, управлять мож
но только по отношению к будущему. А то, что реа
лизуется „здесь и теперь“, уже неуправляемо. Оно есть
224
VI I . П р о е к т
и опыт
и неотвратимо проходит»20. Проект — не то, что мы
проектируем на будущее, а то, чем мы контролиру
ем настоящее; собственно, проект включает в себя
программы, циклы, планы, т.е. многие другие вспо
могательные орудия, благодаря которым мы сможем
захватить будущее. Будущее оказывается способом
репрезентации проекта, будущее вне горизонта про
ектирования просто не существует (с точки зрения
опережающего время сознания). Но тогда получает
ся, что проект, поскольку он всегда меньше деятель
ности, обладает невероятной свободой по отношению
к реальности, так как сама реальность — следствие
проектирующей деятельностной позиции. В этом от
ношении прогноз (некое представление о проекти
ровании) становится возможным, когда нет средств
для реализации прогнозирования в качестве проек
та. Начальное положение: мир не дан и нет никакого
привилегированного наблюдателя, свободного и ав
тономного. Другими словами, нет мира, в котором
не было того, что Г. Щ. называет деятельностью, т. е.
набора всех необходимых условий, благодаря кото
рым мир может быть деятельно освоен, следователь
но, мыслим. Мир не имеет в себе какое-то особое ме
сто для наблюдения, ибо сама мысль уже существует
в мире еще до того, как кто-то попытается ее помыс
лить, она есть действие, деяние, деятельностный акт.
И вот что важно, есть только одна-единственная Ре
альность, деятельностная, и нет никакой другой. Вот
эта единственная реальность и позволяет последова
тельно вводить многие предпосылки, позволяющие ее
каждый раз заново конструировать. Потому что она
единственная, всякое ее преобразование становится
проектно возможным.
20 Щедровицкий Г. П. Методология и философия оргуправленческой деятельности. Основные понятия и принципы:
Курс лекций. М., 2003. С. 239.
225
В алерий П одо р о г а . А пология
политического
РАЗРЕЗАТЬ И СВЯЗЫВАТЬ
ПРАВИЛА СБОРКИ
В одной из древних китайских книг читаем:
«Когда я начинал заниматься своим делом, я ви
дел перед собой только бычью тушу. Три года спу
стя я уже больше не видел тушу. Теперь я постигаю
все не столько глазами, сколько умом. Мои чувства
больше не работают, работает только ум. Я знаю, как
от природы сложен бык, и режу только по сочлене
ниям и промеж уткам. Я не разрубаю артерии, вены,
мышцы и жилы, а уж тем более крупные кости! Хо
роший мясник изнашивает за год один нож, потому
что режет только по мясу. Обычный мясник изнаши
вает по ножу каждый месяц, потому что нож у него
затупляется о кости. Мне мой нож служит уже де
вятнадцать лет. Им разделаны тысячи бычьих туш,
а лезвие его все еще кажется свежезаточенным. П ро
сто в сочленениях костей есть промеж утки , а лезвие
ножа не имеет толщины. Тому, кто умеет погружать
тончайшее лезвие в эт и п р о м еж ут ка легко рабо
тать ножом, ведь он режет по пуст ы м мест ам. Пото
му-то я и пользуюсь своим ножом уже девятнадцать
лет, а лезвие его до сих пор кажется свежезаточен
ным. Каждый раз, когда мне приходится разделы
вать сочленения костей, я отмечаю наиболее труд
ные места, задерживаю дыхание, пристально вгля
дываюсь и действую не спеша. Я тихонько провожу
ножом, и сочленения разделяются с такой легкостью,
как если бы я складывал на землю куски глины. То
гда я вытаскиваю нож и распрямляюсь...»21
В этой притче, как мне кажется, хорошо показано, как
практика разрезания избавляется от аналогии с на
сильственным вторжением механического в органи
ческое. Материя не оказывает никакого сопротивле21 Чжуан-Цзы. «Начало гигиены». Пустота и полнота, прин
цип Ян и Инь.
226
VI I . П р о е к т
и опыт
ни я, оно преодолено... Почему? Ответ очевиден: рез
ка проходит по линии пустых мест, проемов, жизнен
но важных условий сцепления всех частей. Можно ска
зать, что искусство подобной разделки переводит це
лое в некое состояние и, будучи расчлененным, оно
остается себе тожественным и восстанавливаемым
по линии разреза. То, что разрезает, само есть условие
соединения, восстановления частей в целое. Пустота,
пустотное истолковывается как фундаментальное бы
тийно-онтологическое условие всеобщей связи живо
го и мертвого (во всяком случае, это верно для древне
китайской пантеистической системы мысли)22. Немно
го подумаем о том, что Гегель называл несобственным
значением слов. Когда Г. Щ. говорит, что необходимо
сначала разрезать на части («расчленить», «разло
жить», «разобрать» и пр.), то глагол резать являет
ся образом, который должен представить физичность
действия, преодолевающего сопротивление со сто
роны материи. Мало этого, это первоначальная опе
рация, предшествующая акту деяния, «разрушить...
и потом» («...каждый объект „вырезаетсях из фона.
Неважно, социальный это объект или природный, он
вырезается за счет наших действий»23; «.. .объект зада
22 Не удивляешься упоминанию Г.Щ. о так называемом
о ритуальном действе в древнерусской фольклорной магии,
о живой и мертвой воде>мертвая вода «связывает» разроз
ненные части, а живая вода «оживляет», делает целое ак
тивным, действующим. «Если я нечто разделил, разрезал,
то теперь должен ввести связи. И в этом смысле сказки бы
ли куда мудрее нас. По сказкам, если человека убили и раз
резали, его надо сначала облить мертвой водой, а потом —
живой. Так и тут: мне нужны обе эти процедуры. Я раз
делил, а теперь мне надо собрать разделенное. Но я ведь
имею труп (в терминологии Гегеля). И только введя свя
зи, т. е. нечто вроде мертвой воды и живой, я могу теперь
получить это как целое» (Щедровицкий Г. П. Методология
и философия оргуправленческой деятельности. Основные
понятия и принципы: Курс лекций. М., 2003. С. 190-191).
23 Там же. С. 268.
227
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
ется предметно, через схему, которая вырезает из мира
как из целого объект с определенными границами»24).
Из того, что мы расчленили на части некое целое, во
все не следует появление элементов; они появляют
ся лишь тогда, когда необходимо восстановить целое.
Но понятно, что это целое другое, не то, которое было,
а новое целое, которое должно быть, и его восстанов
ление строится на иных принципах, чем процесс рас
членения. И две эти процедуры — разрезание (разло
жение, расчленения и пр.) и связывание — выглядят
довольно-таки отчужденными: на мой взгляд, они не
обратимы. Следовательно, эти две операции противо
положно направленные. Отрицают ли они друг дру
га или нет? Ведь если мы разрезаем выделенный пред
мет или вещь на части, от этого он еще не становится
объектом; предмет или вещь тогда следует понимать
в качестве природного объекта — не искусственного,
а естественного происхождения. Итак, объект не дан.,
так как еще не имеет собственного представления, он
не представлен, его еще не выделили из окружающей
среды (фона), не разбили на части, не перевели эти ча
сти в новые, умопостигаемые взаимосвязи и отноше
ния, создав элементы. Но вот что интересно, это перво
начальное расчленение, «резка целого на части», долж
на выстраивается не так, как у хирурга, с последующим
восстановлением жизненных функций организма (хо
тя бы в ограниченном объеме), а, напротив, как новый
проект другой, неорганической жизни. Проектирова
ние— игра механических сил. Кстати, эта игра особен
но хорошо была представлена фурьеристской утопией.
Ведь хирург действует, исходя из целостного пред
ставления, а не из разрезания, искусность хирурга
состоит именно в том, чтобы удалить или обновить
функцию действующего целого25. В любом случае, хи
24 Щедровицкий Г.П. Методология и философия... С .277.
25 Ср., например: «Это напоминает то, как если бы врач
пытался резать человека, как мясник, разделывающий ту-
228
VI I . П р о е к т
и опыт
рург изначально полагает существование сложного
объекта, не сводимого к своим частям, но действует
так, как если бы был способен преодолеть эту слож
ность. Когда хирург «режет», он, конечно, не расчле
няет («расчленяют... трупы» только патологоанато,мы — это другая хирургия), он режет, чтобы упростить
живое целое ради его усиления. Можно говорить, сле
довательно, с все большей уверенностью, что сущест
вует некий разрыв, порог несводимости результатов
анализа (разрезания) и синтеза (связывания). Если
из проекта исключена экзистенциально-герменевти
ческая функция (мера темпоральная), мы имеем де
ло исключительно с техническим проектом, который
и становится возможен благодаря этому исключению.
Проект, не ориентированный на поведение людей, ко
торые выполняют его, а исключительно на условия,
которые позволят ему состояться (даже вопреки че
ловеческому фактору). Если мы оставляем за операци
ей разрезания («разделки туши») столь важную функ
цию, без которой вторая — связывание — невозмож
на, то остается лишь спросить, что же разделывается,
что подлежит разделке? Ответ известен: «В этом ми
р е — социальном, природном, комплексном, как го
ворил Маркс, нет объектов. Там есть материя, кото
рая не разрезана на части, не очерчена, не представ
лена как объект»26. Разделывается материя с целью ее
шу. Разломы никак не соответствуют внутреннему устрой
ству, это нечто, накладываемое на объект извне». Или:
«Но ведь членения эти могут быть механическими, если
режет уумясник\ А хороший хирург работает иначе: он зна
ет, как устроен объект. Он режет, хотя и целевым образом,
но учитывая все эти тонкости внутреннего устройства. П о
этому есть еще проблема такого резания, чтобы это реза
ние соответствовало самому объекту» (Щедровицкий Г. П.
Оргуправленческое мышление. Идеология, методология,
технология: Курс лекций (1). С. 302, 325).
26 Щедровицкий Г. П. Организация. Руководство. Управле
ние. С. 267.
229
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
преодоления — косное, массивное природное веще
ство, оказывающее сопротивление. Преодоление как
цель и реальный процесс образования вместо старо
го целого нового — Проекта27. Деятельность (как вырезание-связывание-конструирование) описывается,
как преодоление сопротивления со стороны мате
рии естественных, природных сред и фонов, вещест
ва. И это со времен гегелевской феноменологии труда
стало общепризнанным. Человек — тот, кто трудится,
кто деятельно активен, кто пользуется орудиями и т. п.
В этом есть что-то божественное: методолог словно
знает, что такое первые мгновения Творения, он тво
рит мир из Ничто, можно сказать, сам-то мир и ста
новится возможным лишь благодаря деятельностно
му акту.
Сетка и зеркало
Но вот что интересно: как только мы касаемся неко
торых метафор, образов и, прежде всего, аналогий
опыта (И. Кант), то целостный взгляд, в котором мы
так нуждаемся для разрешения проблемы, обретает
смысл. Г. Щ. часто использует метафору зеркала (в не
которых лекционных курсах она присутствует в ка
честве основного примера), которая становится дей
ствительно развернутой аналогией опытной ситуа
ции. Приведем ее:
«П р ед ст ав ь т е с е б е зер к ал о. Н ел о в к о е д в и ж е н и е , о н о
п а д а е т и р а з б и в а е т с я . А м н е н у ж н о зе р к а л о . Я н а
ч и н аю с о б и р а т ь эт и оск ол к и и склеивать их. Теперь
я р а б о т а ю т ех н и ч ес к и — я в в о ж у св я зи , к о и х н е б ы
ло, пок а зер к а л о не р а з б и л о с ь . К о н еч н о , ф и зи к ск а
ж ет , ч то э т и св я зи бы л и м и к р о с в я зя м и , э н е р г е т и ч е
27 Ср.: «Проект есть, но что там произойдет в натуре по
этому проекту, получится или не получится — никто ответ
ственно сказать не может» (Щедровицкий Г. П. Оргуправленческое мышление. С. 339).
230
VI I . П р о е к т
и опыт
скими связями. Но с точки зрения обыденной, прак
тической жизни связей не было <...> Значит, когда
я положу эту самую структуру назад, положу в ра
мочку целого, я туда погружу гораздо больше, чем
там было до того, как у меня разбилось зеркало»28.
Можно, конечно, рассуждать, насколько этот пример
удачен или неудачен (но главное —что он повторяет
ся). Зеркало разбито и совершенно ясно, что нет та
ких средств, чтобы его полностью восстановить да
же при самой точной склейке. Но отбросим в сто
рону реализм деталей в примере. Зеркало отражает
или должно отражать, т. е. оно имеет отражательное
свойство в качестве естественной онтологии собст
венного бытия. Следовательно, если мы разобьем
зеркало, мы уже не в силах восстановить его в каче
стве прежнего. Зеркальная поверхность чрезвычай
но однородна, по сути дела, это идеальная поверх
ность, все связи которой находятся в микроскопи
ческих измерениях, и они недосягаемы даже в том
случае, если вся поверхность рассыпается от удара
на мельчайшие фрагменты. Зеркало можно варить,
как варят лед. Зеркало можно сделать (в определен
ном производственном процессе), но нельзя восста
новить. Г. Щ. не перестает настаивать, что в природе
нет тех необходимых связей, в которых мы нужда
емся, чтобы создавать себе второй мир (мир арте
фактов). В таком случае восстановление зеркальной
поверхности будет новой задачей, изменяющей на
ше представление о зеркальности как таковой. Дей
ствительно, мы можем (аналогично пазлам или ре
бусу) собирать осколки, насаживая их на единую
основу (вполне сгодился бы лист плотной бумаги).
Но если бы задача заключалась только в этом. За
дача — в другом, и уж во всяком случае не в вос
становлении идеального состояния зеркальности.
Что же должно восстановить? Нельзя восстановить
ни прежний взгляд, ни идеальный порог визуализа
28 Ср. например, другие варианты: Щедровицкий Г П. Ме
тодология и философия оргуправленческой деятельности.
Основные понятия и принципы. С. 191.
231
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
ции, существовавший до совершенных актов мысле-действия. В ходе восстановления прежнего мы
обретаем, новый, только на данный момент доступ
ный нам порог визуализация, не идеальный, каким,
возможно, повторяю, обладает зеркальное отраже
ние (отражающее все: и то, что мы видим, и что мы
не видим). Восстановленная поверхность будет дру
гой, фрагментированной, рассеченной, со следами
прошлых разрушений. Главным же здесь оказыва
ется не столько достижение идеальной чистоты по
верхности, сколько обретение некоего уровня визуа
лизации, который становится возможен благодаря
использованию именно такой структурной основы
видимого, если угодно, решеток, таблиц, схем, «сет
ки сеток» и др.29 Зеркало отражает все, а надо, чтобы
оно отражало что-то (не все). Две поверхности —
та, которая была, и та, которая должна быть, а меж
ду ними разрыв, бесконечный темпоральный про
вал, никаким иным временем не заполняемый. Вот
почему операции анализа у Г. Щ. никогда не приво
дят к синтезу, который в силах вернуть нам прежнее
состояние или организма, или системы. Анализ ос
тается в прошлом, в то время как синтез — это уже
проектная актуализация будущего. Вот почему свя
зующим третьим выступает структура или некая
регулярная упорядоченность, поперечная времен
ному потоку следования событий. Ведь структура,
или решетка, или таблица с разнесением по клет
кам позволяет открыть единый срез событийности,
разом остановить все процессы, заместить времен
ные характеристики пространственными образова
ниями. Это своего рода ретроспекция, это движе
29 Например, тема калейдоскопа здесь была бы вполне
уместна. Проект имеет отражательные устройства не зер
кального, а калейдоскопического типа, т. е. ограниченного
порога визуализации. Действительно, если мы не можем
устранить тотальную зрительность нашего мира, его зер
кальность, то кусочки и фрагменты прежде распавшегося
целого, организованные посредством динамической сим
метрии, могут образовать удивительные миры.
232
VI I . П р о е к т
и опыт
н и е в р е м е н и н а за д (а в а н а л и зе так и п р о и с х о д и т ),
и эт о д в и ж е н и е р а зр у ш и т ел ь н о для п р е ж н е г о ц е л о
го (в едь о н о н е м о ж е т бы ть в о с с т а н о в л е н о ). П р и м ер
с зе р к а л о м , в е р о я т н о , п о э т о м у бы л так в а ж е н д л я
Г.Щ ., ч то в н ем он н а х о д и л уд ач н ую и л л ю ст р а ц и ю
д о п у с т и м о г о п о р о г а в и з у а л и з а ц и и (с х е м ы м ы с л е д ей ст в и я ). В едь П р оек т и ест ь с п о с о б в и зу а л и за ц и и
в ер б а л ь н о го поток а м ы сли, б е з ч его м ы сль не м о ж ет
п ер ей т и в д ей ст в и е. Д е й с т в и е — э т о п р о ек ц и я на с а
м ой д о ск е, ч и с т о й п о в е р х н о с т и tabula rasa (ч и ст о й
д о ск и ), с о б ы т и я , н и к огда не п р о и с х о д и в ш е г о . Если
в качестве п р и м ер а за в е р ш ен н о го оп ы та авангардност и мы в о зь м ем т от ж е квадр ат К. М алеви ча, о н -т о
и есть tabula rasa .
R Краусе в ряде статей («Решетки», «Подлинность
авангарда») пытается доказать нечто совершенно
странное, даже удивительное — модерное/авангардное — то, что в художественном опыте стремится вы
ступать от имени нового, оригинального и подлин
ного (важнейшие характеристики произведения ис
кусства), опирается на дух и материю изначальной
решетки («конструкции М ира»)30. Вся оригиналь
ность и новизна художественного жеста исчерпыва
ются тем, насколько он способен обратиться к самим
глубинным слоям опыта чувственного. Однако сле
довать принципу решетки это значит стереть все, что
могло быть нанесено на мировой поверхности и что
затрудняло бы распознание решетчатой основы. Нет
поверхности уже не разграфленной, не разнесенной
на клетки... Но что такое квадрат? Не «нулевое ли это
означающее», или «изначально идеальное», или «первокопия»? Вот почему Малевич трактует свои супре
матические квадраты прежде всего в качестве шабло
30 Краусе Р. П одлинность авангарда и другие модернист
ские мифы. М.: Художественный журнал, 2003. С. 19-31,
133-173, 247-258; См. также: Krauss К The Optical Uncon
scious. London: The MIT Press, 1973. P. 1-30.
233
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
нов (наряду с архитектонами и таблицами). Черный
квадрат не живопись, а орудие живописи, если угодно,
шаблон, с помощью которого возможно модифициро
вание любого будущего живописного объекта. Ж и
вописное, само художественное дело вновь стало ре
меслом, не столько даже призванием, сколько неким
техническим умением наряду с другими умениями,
и оно, так же как и все другие умения, участвует в ре
волюционном переустройстве Мира. Квадрат К. Ма
левича состоит из двух квадратов, вложенных друг
в друга, общей рамки границ поверхности (покрытой
краской), внутренних границ квадратов. Такова наи
более примитивная машина живописи, живописи Но
вого времени (я бы даже назвал ее машиной аватарда). Чередование двух квадратов — малого и больше
го — игра, в сущности, двух клеток в одной и той же
решетке отношений: занятой/незанятой, полной/пустой, световой/темной. Вот это создание/вос-создание этой очень древней и примитивной машины жи
вописи и есть цель авангардного искусства как тако
вого. Смыслом наделяется только то, с помощью чего
может быть совершено само Творение, но не оно са
мо, ибо если бы оно было возможно, отпала бы необ
ходимость в самом инструменте, — полное Воскресе
ние Нового Мира. В модерне и модернизме значение
произведения искусства еще имеет смысл в общей
структуре Мимезиса, здесь же, в авангардном видении
побеждающе утверждает себя Матезис31. Весь этот
парк новых проектных инструментов живописи ни
что по сравнению с самим Проектом, представляю
31 Любопытны размышления Л. Витгенштейна о сетке
и зеркале. В частности, он указывает на следующий аспект,
не без иронии: «Как может всеобъемлющая, отражающая
мир логика употреблять такие специальные трюки и ма
нипуляции? Только связывая все это вместе в бесконечно
тонкую сеть, образуя огромное зеркало!» (Витгенштейн Л.
Дневники 1914-1916. Томск: Водолей, 1998. С 58).
234
VI I . П р о е к т
и опыт
щим Творение (Произведение). Возможно признание
за авангардом какой-то особенной событийности, ко
торая соответствовала бы модерну (модернистской).
Ведь в нашем определении авангардистское сознание,
или левое искусство (Б. Брехт, Дз. Вертов, А. Платонов,
П. Филонов или В. Хлебников и др.), есть сознание ре
волюционное, то есть там, где оно осуществляется,
оно открывает такую сторону мира, которая определя
ется не постепенным характером изменений, а взрыв
ным, Авангардное сознание балансирует между разру
шением и возобновлением, «новым началом». Но это
начало есть некая цель самого разрушения. Разруше
ние определяет возможность начала, и чем оно ради
кальнее, тем более сокрушительна сама новизна. «По
кажи мне, как ты способен разрушать, и я скажу тебе,
какой ты авангардист!» Итак, мы приходим к выво
ду, что авангардистский жест, в целом, это есть жест
полного и завершенного в себе отрицания (т. е. тако
го, которое лишено всяких черт утверждения). Пол
ное нет противопоставляется бесконечному набору
частичных утверждений да. В этом полном нет заклю
чена остановка всех возможных времен повседневно
сти. Ошибка Р. Краусе, как мне кажется, в том, что она
приписывает авангарду некую позитивную задачу вы
ражения («репрезентации») подлинности. И все пото
му, что, рассматривая авангардного художника в тер
минах новизны, передового, обновляющего действия,
в круг авангардистов зачисляются все и всяческие ху
дожники, авангард путается с авангардистским созна
нием... а можно ли допускать такую путаницу? Ведь
на самом деле авангард и авангардное сознание край
не поздние явления в художественном переживании
мира. Не только поздние, но кратковременные (пора
зительно неустойчивые, хотя богатые по следствиям).
Не всякий художник является авангардистом, а толь
ко тот, кто решается все предшествующее искусство
поставить под вопрос.
235
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
ТЕАТР МЫСЛИ.
ПРАВИЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ И ПРИБАВОЧНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
М ы м о ж е м п р ед в и д ет ь тол ьк о
т о , ч то к о н ст р у и р у е м сам и .
Л. В ит генш т ейн
Я р и су ю и з о б р а ж е н и е и го в о р ю ,
ч то м и р у с т р о е н так, как я его
и з о б р а зи л .
Из разго во р о в в ММК
Представим, как могло бы выглядеть поле общих опе
раций: разрезать —дополнять — связывать— собирать
(заново)32. К анализу можно отнести первые две опера
ции, а к синтезу—две последние. Конечно, темпораль
ный разрыв разъединяет их и соединяет. Проектное
мышление не может быть бесконечно ретроспектив
ным актом отступления к началу и систематического
разложения материала на все более мелкие и мелкие со
ставляющие. .. Так что же, мы отказываемся от поиска
желанного предела визуальности, с помощью которо
го в пространстве —времени конструируется проекти
руемое целое? Конечная граница анализа, его ограничен
32 Эта схематизация используется не мною, сам Г.Щ. в лек
ционной работе по шагам описывает всю группу необходи
мых операций в элементном анализе. Вот, например, сле
дующее рассуждение: «Сложный объект представлен как
система, если мы: во-первых, выделили его из окружения,
либо совсем оборвав его связи, либо же сохранив их в ф ор
ме свойств-функций; во-вторых, разделили на части (ме
ханически или соответственно его внутренней структуре)
и получили таким образом совокупность частей; в-треть
их, связали части воедино, превратив их в элементы; в-чет
вертых, организовали связи в единую структуру; в-пятых,
вложили эту структуру на прежнее место, очертив таким
образом систему как целое» (Щедровицкий Г.П. М етодоло
гия и философия оргуправленческой деятельности. Основ
ные понятия и принципы. С. 317).
236
VI I . П р о е к т
и опыт
ние— в находимом пределе визуализации, обладающем,
на взгляд методолога, конструктивной мощью.
Некое качество появляется тогда в серии перечис
ляемых фрагментов, когда подтверждается в качест
ве возможного типа связи, как добавочный или приба
вочный элемент33. Почему так велико значение подоб
ного элемента в конструировании проекта? Да потому,
что он преобразует один вид операции в другой. Раз
резать, но потом связывать, а связать можно лишь
те части, которые составлены с помощью прибавоч
ных элементов, т. е. приемов, видов и типов связыва
ния, привносимых в структуру целого и преобразую
щих его в совершенно новое целое. Рисование оказы
вается тем действием (операцией), которое соединяет
расчленение со связыванием, поскольку отобража
ет на единой картине и то и другое, является, по су
ти дела, дополняющим34. Следовательно, у Г. Щ., а ши
ре — в авангардном искусстве проектирования мы
сталкиваемся с переносом идеи целого к его несуще
му элементу — прибавочному или дополнительному.
Прибавочный элемент дает целое, изменяет предыду
щую форму, преобразует ее в новую. Именно приба
вочный элемент проективен, он и есть несущая и од33 Ср.: «Утверждая, что мышление может рассматривать
ся как процесс, что существуют определенные процессы
мысли, мы тем самым обрекли себя на то, чтобы рассмат
ривать мышление именно таким образом, т. е. задавать ка
кие-то параметры и раскладывать мышление на последо
вательность кусочков (элементов-единиц ), из аддитив
ной суммы которых складывается все мыслительное целое.
Точно так же, утверждать, что данный текст или рассуж
дение есть некоторый процесс, означало утверждать, что
существует лишь одно-единственное направление его ана
лиза: разложение на части , из последовательной цепи ко
торых и долж но затем складываться целое» ( Щедровицкий Г. П . Процессы и структуры в мышлении: Курс лек
ций. М., 2003. С.91).
34 Менделеев Д. Элементы (химические) // Энциклопедиче
ский словарь. СПб., 1904. С .632-636.
237
В алерий П одо р о г а . А пология
политического
повременно работающая часть Проекта. Прибавочный
элемент и есть деяние, деятельностное, активное дви
жение, направленное против инертной материи; пре
дыдущая форма не в силах более удерживать ее, она
распалась; а еще недавно она перерабатывала ее в со
держание и технико-пластически подчиняла себе35.
Для чего нужно рисовать? Зачем эти человечки-мор
ковки? Можно сказать, что мысль, которая не изобра
жает себя в качестве мысли, не есть мысле-действие.
Чтобы увидеть, надо устранить невидимое36. Вот че
го, как мне кажется, добивается Г. Щ. Ведь его попыт
ки визуализировать, превратить процесс мысли в на
глядную схему, позволяет с помощью этой схемы уже
управлять процессом, а не только его описывать. Важ
но все-таки задать вопрос: как невидимое приобрета
ет зримость в процессе его конструирования в качест
ве объекта мысли, постигаемого уже в качестве схемы?
35 Конечно, напрашивается внутреннее сродство меж ду
теорией прибавочного элемента К. Малевича и теорией
прибавочной стоимости К. Маркса. Но если мы захотим
расширить список сходных тем и понятий в новейшей фи
лософии, то мы легко выйдем на работы М. М., посвящен
ные анализу «превращенной формы» в «Капитале». Термин
«превращенная форма» может быть использован по отно
шению к явлениям, которые явлются формами других яв
лений, но собственной формой не обладают. Дополнитель
ность подобных превращенных форм очевидна, поскольку
они могут быть и являются объяснительно-понимательными моделями сложных процессов (См.: Анализ созна
ния в работах Маркса //Вопросы философии. 1970. №6 или
его же Превращенная форма //Философская энциклопедия.
М.: Советская энциклопедия, 1970. Т. 5. С. 387).
36 Ср.: «И все, что я обсуждаю, переводя смыслы в конст
рукции значений и вытягивая затем из конструкций зна
чения знания, и есть описание и объяснение того, каким
образом особая работа Духа превращает неизобразитель
ные, несущие перпендикулярные к миру объектов смыс
лы, тексты в изобразительные, изображаю щ ие объект
ный мир» (Щедровицкий Г.П. Знаки и деятельность. Лек
ции за 1971-1972. Т. 1. С. 148-149 (рук. вариант, в печати)).
238
VI I . П р о е к т
и опыт
Что это за схема, схема (структура) проекта? Схема то
го, что мыслится, или того, что рисуется? Если, напри
мер, мы рисуем этих маленьких человечков, которые
появляются перед нами как изображение того, что от
сутствует, или напротив, что только так и может су
ществовать в рефлексивной обращенности операций
мысли. Позиционный человечек — знак не ситуации
(которая может остаться неизменной), а рефлексии,
которая контролирует углы зрения на тот же самый
объект («конфигурацию свойств объекта», по Г.Щ.).
«Поскольку должно и нужно работать в схеме бес субъект н ост и : у вас есть мышление, которое живет
по своим законам и разворачивается в своих особых
механизмах. И когда на схему, рядом, скажем, со зна
ками коммуникации, или в схеме коммуникации,
ставятся эти самые знаки, „м орковки“, то этим самым
я проделываю очень важную процедуру — я выно
шу индивида на доксу и произвожу его отчуж дение.
Он теперь есть момент объект и вн ост и , и я рассмат
риваю, как он там живет, вне меня. С этим связаны
очень сложные проблемы, поскольку есть я, который
здесь рассказывает и рисует, но я с собою должен ра
ботать совершенно особым способом. И в особом
м одальном от н ош ени и , при котором никакого вы
хода на знания, на законы, на объективность быть
не может. Чтобы работать с индивидом в мышлении
и деятельности, надо этого индивида вынести на схе
му и быть ему противопоставленным. И он должен
стать тем, что немцы называют G egenstand —„проти
востоящий мне”. И если эта процедура не стала ва
шей основной процедурой, считайте, что вы вообщ е
ж ивете без смысла»37.
Важнее всего здесь противопоставление, и оно весьма
значимо: отчуждение индивида (в виде значка). Но это
позволяет противопоставить проектируемое той самой
реальной среде, в которой строится проект. Противо
37 Щедровицкий Г. П. Ф илософ ия. Наука. М етодология.
С .570-571.
239
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
стоящий — вот принцип отчуждения субъективности
самого методолога: перенесение во внутрь логической
схемы возможно, но в результате отказа от какой-либо
позиции, объясняющей статус самого методолога в его
собственной культуре. Создается, как мне кажется, лож
ная иллюзия высвобождения субъекта из плена текуще
го времени и его молниеносного перевода в трансцен
дентальное время, бессубъектное38. На самом деле субъ
ект противо-стоящий, хотя и в тени, но в тени потому,
что получает позицию «абсолютного наблюдателя», тем
самым устраняет себя в качестве равноположенного то
му, кому противостоит. С другой стороны, проектная
интерпретация поведения субъектов настолько их обед
няет, что последующее намерение обогатить их новыми,
все более усложняющимися связями, не спасает поло
жения. Когда же Г. Щ. утверждает идею бессубъектностиу то он имеет в виду, конечно, ограничения, кото
рые налагаются самим проектом, т. е. степенью идеали
зации или материализации проектируемых объектов.
Проект не вторичен по отношению к субъекту его мыс
лящему (или субъектам, сообществу), а первиченуимен
но он определяет условия, при которых субъективность
может воздействовать на формирование проекта.
Проектная картина радикально, с невероятным оп
тимизмом отрицает опыт «нечистой доски», утвер
ждая великую утопию зеркальности.
38 При формулировке стратегии культурного фона или ес
тественной среды обитания методолога Г. Щ. выстраива
ет несколько наивную идеальную типику персонажей со
временного ему советского философского театра. Из пове
денческих стратегий рождаются позиционные фигуранты
мысли: те, кто является носителем здравого смысла^ те, кто
склонны к подражательству и имитации , те, кто выше
всего ценят самовыражение (отказ от истины), те, кто, по
хожи на схимника, и те, кто предстают субъектами истори
ческого действия, — он, естественно, выбирает последнюю.
Наивность же в том, что подобная типика мировоззренче
ских установок определяет проектные горизонты для каж
дого поведенческого типа.
240
VI I . П р о е к т
и опыт
Позиционные человечки постоянно смещаются.
Они прибавляются-к, ибо представляют собой пози
цию прежде всего, а только потом — место и наполне
ние, след, смещение позиции есть признак прибавочного
элемента, обнаружение все новых и новых элементов —
связей в организации целого Проекта. Прибавочный
элемент есть признак дополнительности как системно
структурный принцип. Стоит напомнить о мысли Ма
левича: раз прибавочный элемент действует и вносит
решающие изменения в человеческое ощущение в за
висимости от среды, в какой он оказывается, то живо
пись должна создавать эти истинные образы реально
го. «Под знаком прибавочного элемента кроется целая
культура действия, которую можно определить типич
ным или характерным состоянием прямых или кривых.
От введения прибавочного элемента (новых норм) или
кривой волокнисто-образной Сезанна поведение жи
вописца будет другое, чем от серповидной кубизма или
прямой супрематизма»39. Так образ человека, захвачен
ный деревенским ландшафтом, выстраивается на со
вершенно ином типе чувственности, не на том, кото
рый копирует жесткие угловые прямые, а на железных
и полых фигурах городского пространства. Хорошо, но
что значит мыслить? Возникает и такой вопрос. Мыс
лят не головой, а руками, мыслят тем, что уже нас мыс
лит, или то, что мыслит само по себе, мыслится. «Чело
век мыслит не головой, а вещами и знаками, действуя
с теми и другими и соотнося то, что получается с эта
лонами, фиксированными в культуре»40. Если мы рас
39 Малевич К. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. Ста
тьи и теоретические сочинения, опубликованные в Герма
нии, Польше и на Украине. 1924-1930. М„ Гилея, 1998. С. 66.
40 Щедровицкий Г. П. Ф илософ ия. М етодология. Наука.
С. 343. Ср. также: «— И „головка“ к мышлению не имеет
никакого отношения, она вторична, факультативна по от
ношению к мышлению. Мышление происходит с помощью
рук и находится вне человека. А голова за счет анализато
ров, памяти отражает и сохраняет продукты мыслитель
241
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
сматриваем идеальную схему, на которых человечки
указывают начальные и конечные точки движения ли
ний — прямых, то рисовать вот таких позиционных че
ловечков в разных проективных измерениях и есть мыс
лить. В каком-то смысле Г. Щ. действительно прибли
жается к авангардистскому художнику (типа Малевича
или Татлина) — он создает маленькие театры мыследействия, используя минималистские средства изоб
ражения. Авангардистская модель минимализма— Че
ловек позиционный.
Визуальный образ позволяет осуществлять репре
зентацию действия. Вот на что надо обратить внима
ние. Проектируется действие. Человечки-морковки по
зволяют развертывать рефлексивные процедуры так,
как если бы они были контролируемы первоначаль
ным движением-действием. Проект мыследействия =
схеме контроля. Презентация действия должна совпа
дать с реальным действием. В этом вся суть проекти
рования, планировать порядок действий, как если бы
эти действия выполнялись в реальном времени — про
странстве, не проективном. Но что такое этот «чело
вечек»? Он означает пустое место, постоянно запол
няемое, т. е. всегда готовое к заполнению.
Видеть — это не говорить, а мыслить... Но что зна
чит видеть? Это не просто видеть а видеть сквозь то,
что кажется видимым, но им не является... Ведь ме
ной деятельности. Ибо, говорю я, мышление есть вариация
от деятельности, не от работы сознания и головы...
— Отражение вам тоже в знаковых формах дается?
— Да. Я же работаю руками. Вы все норовите «головкой»
сообразить, а вам ничего не удается. Это понятно: голов
ка есть орган отражения, поэтому в ней ничего креатив
ного, творческого появиться не может. Творческое рожда
ется за счет работы в знаковых формах < ...> Вы считаете,
что человек работает головой. А человек руками работает.
— А думает человек чем?
— Руками.
— А фантазирует чем?
— Тем более только руками» (Там же. С. 527-528).
242
VI I . П р о е к т
и опыт
тодолог видит все-таки не данное непосредственно,
а идеальное. Видеть здесь подобно рентгеноскопии,
видеть сквозь или нечто другое. Но так ли это? Вер
немся к метафоре зеркала. Если я рисую на доске ка
кую-то схему (карту, план или схему), то я пресле
дую ряд целей. Например, читая лекцию, я исполь
зую рисунок в качестве схемы-поддержки, т. е. как
чисто вероятностный образ, который позволит слу
шающим закрепить материал в доступной для повто
рения схематизации. Но это один и вполне наивный
аспект рисования-на-доске. Рисунок как поддержка
мысли, «упор мысли», но и как мнемоническая струк
тура. Не относится ли он скорее к памяти, нежели
к воображению? Но если мы рисуем все же для того,
чтобы создать структуру внутри неясного и колеб
лющегося образа, объективировать ее, удержать пе
ред собой и поставить под полный контроль. Рису
ем, чтобы контролировать то, что норовит ускольз
нуть из-под контроля: само мышление. Рисуем не для
того, чтобы мыслить, а для того, чтобы контролиро
вать мыслимое (посредством его зеркального отоб
ражения). Действительно, зеркало может понимать
ся и как «живая», и как «застывшая» вода, и как окно
(проем), и как стена-доска: через что видят и на что
проектируют. В одном случае мы оцениваем собст
венный взгляд в терминах прозрачного/непрозрачно
го, в другом — нам необходима точность отражения
при перехода из внутреннего во внешнее, качество
наглядности (а это значит, логической убедительно
сти и достоверности); мы мыслим в терминах истины
(мышления). Г. Щ. говорит о «табло сознания», «отра
жаемости», «наглядности»41. В таком случае рисунок
41 Ср.: «Кроме того, человек имеет так называемое табло
сознания. Здесь у нас возникают образы. Я рисую табло вот
с такими стрелочками. Что я этим хочу подчеркнуть? То,
что у нас всегда имеются не отношения восприятия, а интенциональные отношения. Что это значит? Вот вы види
243
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
уже толкуется как схема, которая позволяет осуще
ствлять полный контроль над мыслимым. Г. Щ. не пе
рестает замечать слушателям: «...я двигаюсь в изоб
раженной мною плоскости, в действительности, где
объективно существующее и изображение совпадают.
Для меня объект таков, каким я его изобразил»42. Этот
момент изображения, представления, отображения
и предполагает эффект зеркальности, но, что самое
удивительное, он не связан с возможностями некое
го зрительного акта, который мы наделяем понима
нием. Не я мыслю, не моя голова, не мой взгляд мыс
лит то, что я объективировал в виде рисунка, теперь
рисунок мыслит самого мыслящего, ибо потенциро
ван дополнительными конструктивными (изобрази
тельными) силами, прежде невидимыми43. Действи
тельно, эти «позиционные человечки» — не драмати
ческие персонажи, они, похожие на микрокентавров,
картезианских монстров, являются чистыми фикция
ми, «пустыми местами», требующими постоянного за
те меня. Но где вы меня видите: у себя в глазу или стоящим
вот здесь? Сознание всегда работает на „выносящих“ отно
шениях, мир организуется нами за счет работы сознания
как вне нас положенный. Сознание все время выносит во
вне. Сознание всегда активно, а не пассивно» ( Щедровицкий Г.П. Организация, руководство, управление. С .44, 45).
42 Щедровицкий Г.П. Знаки и деятельность. Т. 1. 21-я лек
ция. 1971-1972. С. 92.
43 Мыслить — это рисовать, создавать условия для проек
тирования ситуаций прямым актом мысли: тыканиеу «ты
кать указательным пальцем в доску». Ср.: «Вот я указываю
пальцем на стоящий рядом стул и говорю „стол“. Движе
ние пальца производит отнесение или устанавливает связь.
Такое отношение именования есть для меня конструкция
значения. В нее войдет реальный стол, слово «стол» и дей
ствие, указание пальцем, устанавливающее связь. Конст
рукцией значений будет для меня также список разноязыч
ных терминов: «стол — a table». Конструкцией значения бу
дет «3=3=6». Все такого рода отношения суть конструкции
значений» (Там же. С. 86).
24 4
VI I . П р о е к т
и опыт
полнение/дополнения. Было бы неверно упрекать Г. Щ.
в том, что он лишил своих «человечков» души и во
ли, «истории жизни», — таково условие задачи. Во
прос — в другом: раз я мыслю-рисую, то мое мышле
ние относится не к тому, как я рисую, — хорошо или
нет, а к тому, что я рисую, а рисую я лишь то, что мо
гу мыслить, т. е. воспроизводить в адекватных пони
манию логических взаимосвязях. Итак, я мыслю, сле
довательно, (в данный момент) я рисую, схематизи
рую, конструирую, само-отчуждаюсь, отстраняюсь,
ведь каждый тип связи должен соответствовать той
идеальной ситуации, в которую «заброшен» объект.
Но что я рисую? И тогда оказывается, что я рисую не
который порядок объектов (элементов) — типы свя
зи, все возможные процедуры связывания, —который
является реальностью идеального. То, что я рисую
(по замыслу), и должно меня вытеснить как рисую
щего, десубъективировать рисуемое и перевернуть
всю ситуацию. Поскольку я как рисующий в данном
сокращенном логическом варианте и есть этот стран
ный «позиционный человечек», некий гомункулус по
знания, с помощью которого развертываются опреде
ленные логические операции. Но тогда встает вопрос
о применимости естественно-научных формальных
логик (не «физик») к той области, которая, по опреде
лению, не может подчиняться и не подчиняется зако
ну предельной простоты, эта область сложных объек
тов, требующих иных методов понимания — не про
ектно-схематических или чисто логических.
Рисование якобы должно прекратить удвоение ми
ра (собственно, в этом цель проектного переустрой
ства Мира), как если бы этот идеальный мир сам был
необыкновенной машиной, точнее мегамашиной (ко
торой незнакомо трение, любое сопротивление со сто
роны материи), той предельно организованной во всех
направлениях решеткой отношений, и потому она
управляла бы собой как Реальностью, лишенной вся
кой глубины.
245
В алерий П о дор ог а. А пология
политического
3. ФИЛОСОФ
ОПЫТ И СТИЛЬ МОДЕРНА
Творчеством.М . объемно и разнопланово, и все же
особое — если не главное — место в нем заняло твор
чество Марселя Пруста. Читать Пруста, не столько чи
тая великий роман «В поисках утраченного времени»,
сколько собеседуя. Пруст как собеседник. Так Движение
прустовского письма останавливается и наступает вре
мя беседы-размышления. Текст Пруста — набор транс
цендентных шифров (К. Ясперс), которые еще нужно
понять, чтобы узнать, в конечном итоге, как мы читаем
и каков тот скрытый смысл, который якобы вложил ав
тор в свое повествование. Одним ударом освободиться
от Пруста-человека письма и его многотомного романа
как формы выражения («история жизни»). И вот сле
дующая мысль, высказываемая М.М. технически: факт
некой психической реальности, который мы соотносим
с отдельной сценой романа, является фактом, присво
енным нашим элементарным переживанием, не Пруста
(поскольку его-то мы и не можем восстановить)44. Ин
44 Ср.: «Книга была для П руста духовным инструм ен
том, посредством которого можно (или нельзя) заглянуть
в свою душу и в ней дать вызреть эквиваленту . А пере
нести из книги великие мысли или состояния в другого че
ловека нельзя. Иными словами, книга была частью жизни
для Пруста. В каком смысле? Не в том, что иногда на досу
ге мы читаем книги, а в том, что что-то фундаментальное
происходит с нами, когда акт чтения вплетен в какую-то
совокупность наших жизненных проявлений, жизненных
поступков в зависимости от того, как будет откристаллизовываться в понятную форму то, что с нами произошло,
то, что мы испытали, что увидели, что нам сказано и что
мы прочитали. И вот так мы должны попытаться отнес
тись к тексту самого Пруста. Он позволяет нам это сделать.
Пруст говорил, что книги, в конце концов, не такие уж тор
жественные вещи, они не очень сильно отличаются от пла
тья, которое можно кроить и так, и этак, приспосабливая
246
VI I . П р о е к т
и опыт
дивидуальная стратегия Пруста, его особенный и уни
кальный опыт жизни оказывается вне игры. Ведь суще
ствует не только точка начала мысли, из которой раз
вертывается речь М. М., существует еще и точка начала
письма/чтения Пруста, которая принадлежит самому
произведению45. Текст пишется как бы наоборот: сна
чала отыскивается эпиграф, а потом к нему делается
комментарий, который затем и станет текстом. Но для
того чтобы эта цепь событий замкнулась на себя, нуж
но использовать роман Пруста в качестве сокровищ
ницы жизненной мудрости. А мудрость оказывается
сплавлением мистического чувства со здравым смыс
лом (мистический смысл и есть здравый смысл возве
денный в степень). И вот откуда М. М. извлекает свои
вокабулы, эквиваленты, дубли для выражения на язы
ке мудрости того состояния, которое им в данный мо
мент владеет. Вот о чем не следует забывать: отноше
ние к Прусту выстраивается даже не как к собеседнику,
а просто как к материалу, лексикону страстей, некоему
странному словарю, порядку иероглифических записей,
набору эпиграфов и афоризмов. Тема встречи с Пру
стом — еще под вопросом. М. М. читает Пруста с оста
новками, готовясь осмыслить отобранное, читает стра
ницу за страницей, не отступая в сторону от замысла
ни на шаг: ни дня без откомментированной страницы.
ИСКУССТВО ЭПИГРАФИКИ
Используемая М. М. техника толкования эпиграфоло
гическая46. Это значит, что текст М. Пруста («В поисках
к своей фигуре. П оэтому не надо стоять по стойке смир
но перед книгами. Такова мысль Пруста» (Пруст — 84. С 9).
45 М .М . вполне осознает этот момент: «...наш и рассужде
ния не строятся на эстетических качествах литературного
текста. Мы именно рассуждаем» (Мамардашвили М. Лек
ции о Прусте. Психологическая топология пути. С. 165).
46 Не совсем удавшаяся попытка осмыслить литературное
значение эпиграфа все же была предпринята: Кржижанов
247
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
утраченного времени») не столько интерпретируется,
сколько дешифруется, причем отличие дешифровки
от интерпретации заключается в бесконечном и дис
кретном опыте истолкования: дешифровать — это раскрыть истинный смысл, в то время как интерпретиро
вать— это всего лишь перевести на другой язык (как
один из возможных переводов, не единственный). Зна
чение эпиграфа невероятно увеличивается. Практиче
ски каждая лекция М. М. посвящена поиску истинного
смысла того или иного эпиграфически представленно
го фрагмента мысли. М. М. систематически использу
ет определенные приемы извлечения эпиграфических
высказываний из общего потока прустовского пись
ма. Мы встречаем множество самых разных в чрезвы
чайной массе представленных эпиграфов (отдельные
фразы, афоризмы, слова П. Валери, М. Монтеня, Данте,
Ф. Достоевского, В. Набокова, У. Фолкнера, Вяч. Ива
нова, А. Введенского, Гераклита, Ф. Ницше, Л. Толсто
го, У. Блейка, А. Арто, Н. Гумилева, Г. Флобера, Э. Па
унда, Т. С. Элиота, Н. Федорова, Ш. Фурье, Р. Музиля,
М. Лютера, Дж. Джойса, И. Ньютона, Л. Витгенштейна,
И. Канта, Р. Декарта, Б. Спинозы, А. Блока, Н. Бердяева,
Л.Х. Борхеса, Малларме, Стендаля и др.).
Так объявляется одна из значительных прустовских
тем: расколдование чувства любви. И вот следует целая
серия фраз, дублируемых эпиграфами:
(1) Н. Гумилев:
В час м о е го н о ч н о г о бр ед а
Ты в о зн и к а еш ь
П р ед глазам и —
С а м оф р ак и й ск ая П о б ед а
С п р о ст е р т ы м и в п ер ед рук ам и .
С п угн ув б е зм о л в и е н о ч н о е ,
ский С. Страны, которых нет... Статьи о литературе и те
атре. Записные тетради. М.: Радикс, 1994. С. 40-61; им же
предполагается и новая теоретическая дисциплина эпи
графология.
248
VI I . П р о е к т
и опыт
Р о ж д а е т г о л о в о к р у ж ен ь е
Т вое кр ы латое, с л еп о е
Н е у д е р ж и м о е стр ем л ен ь е.
*
*
*
И я н е зн аю , ты ж и в а ли
И ль тол ьк о в зо р т в о й ж и в , свер к ая,
И щ а в н е и с с л ед и м о й д ал и
О гн ей н е в и д а н н о го рая.
М. Пруст:
(2) З о л о т ы е д в ер и м и р а гр ез захл о п н у л и сь
за Раш елью .
(3) Так ж е как Ева р о ж д е н а и з р е б р а А д ам а, так
и з л о ж н о г о п о л о ж е н и я м о е го р е б р а р о ж д а л а с ь
ж ен щ и н а .
(4) Б. Пастернак:
Так и грал п р ед зе м л е й м о л о д о ю
О д а р ен н ы й о д и н р е ж и с с е р ,
Ч то н о с и л ся , как д у х н а д в о д о ю ,
И р е б р о с о к р у ш е н н о е тер.
И п р о т и ск а в ш и сь в м и р и з -з а д и ск ов
Н а о б у м р а зм ещ е н н ы х св ет и л ,
За д р о ж а щ у ю р у к у а р т и ст к у
Н а д е б ю т р о к о в о й вы води л .
(5) Ф. Тютчев:
Ж и зн ь , как п о д с т р е л ен н а я п ти ц а, п о д н я т ь ся , х о ч е т
и н е м ож ет.
(6) Г. Флобер:
«К орабл ь ш ел, р ассек ая в од у, п р о х о д я м е ж д у п л а
в аю щ и м и о б л о м к а м и д ер ев ь ев , к отор ы е к ол еб а л и сь
п о м ер е кол ы хан и я сам и х волн ».
(7) М. Пруст:
...н е яв л я ется ли так ого р о д а o n d u la tio n , к ол ы хан и е,
зач атк ом и л и п ервы м эл е м ен т о м стиля?»
Таково движение эпиграфов, столь сильный поток, за
мечен мною в лекции 12 (курс Пруст — 81) — в других
лекциях такие потоки также наблюдаемы. Я извлекаю
из него только часть — в последовательности, необ
249
В алерий П о до р о г а . А пология
политического
для организации всей цепочки, поддержи
вающей смысловую форму. Однако я опускаю ком
ментарии М.М., которые так же подвижны и уклон
чивы, как и те эпиграфы, которые он комментирует.
Каждая фраза Пруста и каждое эпиграфическое вы
сказывание, коим он ее интерпретирует, не в силах
удержать смысл и завершить его. Всегда остается не
кий избыток смысла, который надо обязательно ком
пенсировать, а точнее — упразднить, сведя к тому, что
в эпиграфе как будто законченно выражено. Но этого
опять не происходит. Следовательно, важен не ком
ментарий, а замещение одного эпиграфа другим. Ком
ментируемое не столько зависит от авторского голо
са, сколько от участия в беседе других великих авто
ров. Замещая отдельную фразу или даже целый абзац,
а иногда и несколько десятков страниц прустовского
текста, эпиграф оказывается предельно лаконичным
комментарием чужого опыта. Можно сказать, эпиграф
извлекает фрагмент опыта из повествования, позволя
ет комментатору его присвоить в качестве собствен
ного. Это и есть мудрость. Пытаться извлечь понима
ние собственного опыта из чужого, из того именно,
что уже состоялся, — труднейшая задача.
Некоторое время, до приобретения им литературно
го жанрового знака, эпиграф, как и эпиграмма, эпита
фия означал краткое изречение на тему смерти. Эпи
граф— буквально надпись на камне — есть компактное
высказывание, которое вырезается, даже высекается,
на твердой поверхности камня (обычно погребально
го), изречение, которое одной строкой подытоживает
путь человека. На первый взгляд, цитата или фраза от
личаются от эпиграфа по местоположению, они ведь
находятся внутри текста. Но мы совершим ошибку,
если решим, что эпиграф определяется только по ме
сту (а он располагается в промежуточном, свобод
ном пространстве между заглавием и текстом). Эпи
граф, краткое и точное высказывание, повисает в этом
чистом белом пространстве, указывая на загадочный
ходимой
250
VI I . П р о е к т
и опыт
смысл того, что сказано, но будет высказано не так, как
сказано, а иначе и намного пространнее. Получается,
что эпиграф — не только проводник, уже имеющий соб
ственный смысл, но шифр, который обязательно дол
жен быть дешифрован. В отличие от фразы и цитаты
(независимо от ее размеров и места, которое она долж
на занять в тексте) эпиграф имеет значение высказы
вания, относящегося к постоянству восприятия (текст
может быть разрушен временем, но не эпиграф, кото
рый из него изъят). Вот почему эпиграф часто воспри
нимается как то, что усиливает сообщаемость куль
турных традиций, непрерывность авторитета, пере
ходность тем и смысловых заданий в литературном
опыте. Но это качество вечного, более изначального,
несомненно. Это своего рода руины, руинозный оста
ток прежнего текста, который не принадлежит ни од
ному автору, но великому Анониму. Эпиграф свое
го рода послание, свидетельство того, что осталось
в памяти, что не может быть стерто, ведь оно выби
то в каменной тверди той силой, которая и сделала
его незабываемым. Эпиграф — важнейшая форма па
мяти, он напоминает о том, что должно сделать, че
му уже предначертан путь. М. М. активно внедряет
ся в текст Пруста с помощью подобной эпиграфоло
гической техники толкования, и она исходит из некой
метафизической конструкции книги (как «порожден
ной природы»): это не эта книга и не другая, а книга
вообще (не роман, не повесть, не научный или фило
софский трактат). Что же это за речения (высказыва
ния), почему они не могут быть стерты? Да потому, что
в них описана и разрешена отдельная ситуация опы
та как общая. Дешифруя эпиграфическое значение, мы
присваиваем себе собственный опыт как опыт друго
го. Как же это получается, а получается именно потому,
что мысле-речение лишено первоначального контек
ста и ситуативного фона (т. е. может быть использо
вано во многих ситуациях, а не только в той, из кото
рой оно будто бы и произошло).
251
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
Одна сторона — сторона письма, эпиграфическая,
или книга надписей, другая сторона — погребальный
камень, сторона упования, спасения и смерти, третья —
читающих. Эту книгу, «В поисках утраченного време
ни», и нужно воспринимать эпиграфически как Кни
гу памяти. Надписи, нанесенные на камень резцом,
оставляющим после себя двойную борозду, или не
кие таинственные, если не мистические, знаки, иеро
глифы— вот это и есть свидетельства опыта — то, что
отложилось в виде опытного знания и что не стер
то временем (во всяком случае, для М.М. — читате
ля Пруста). Отложиться может только то, что не име
ет прямого внятного смысла, что является посланием
«всем и никому». И то, что мы расколдовали какое-то
звено из цепи высказываний, ничего не изменило, мы
раскрыли смысл лишь для себя, но мы не овладели
универсальным смыслом. Эпиграф — предельно сжа
тая форма сообщения о ценности отсутствующего тек
ста (Смысла), который, кстати, может быть и не на
писан, поскольку ценность передаваемого нам опыта
соответствует лишь тому опыту, которым мы уже об
ладаем. Ни больше того, что имеем, ни меньше. А этот
опыт всегда один, это опыт смертный, опыт-предел.
Надо признать с самого начала, что самое трудное
в мысли не сама мысль, а ее выражение в языке. Ста
новление мысли М. М. проходит под знаком антилингвистической утопии мысли, он, по его собственно
му выражению, так и остался «нелюбимцем языка».
Можно предположить, что М. М. утратил чувство род
ного языка, или, точнее, обретя относительное зна
ние многих языков и невольно попытавшись урав
нять их между собой, он пошел на риск относительной
утраты чувства родного языка. Действительно, какой
язык для М.М. родной — грузинский, русский, фран
цузский, итальянский или какой-нибудь еще?47 Мож
47 М. М. больше 30 лет прожил в Москве, там получил обра
зование, сформировался как философ. Последние 10 лет —
252
VI I . П р о е к т
и опыт
но пользоваться языком достаточно умело, но не чув
ствовать его внутренней формы, не обладать язы
ковой интуицией. И дело не только в том, что М.М.
«не умел писать» или «ему было чуждо письмо» (как
судили некоторые коллеги с оттенком легкого пре
восходства), он выстроил, на мой взгляд, совершен
но иное отношение к языку. Читая Пруста, а это зна
чит для М. М. — переводя, переводя его с французского
языка на русский. Он не пользуется уже известны
ми и доброкачественными переводами. Почему? Ес
ли бы они учитывались, мы смогли установить более
точно цель этих странных «цитат-дословников», ко
торыми пользовался автор? Правда, в одной из лек
ций, пытаясь объяснить переводческую технику, ко
торой придерживается, М.М. замечает: «Я прибегну
к прозаическому переводу, так как перевод Лозинско
го, безусловно, блестящий, и именно в силу этого он
иногда скрывает смыслы, просто потому, что смыслы
в действительности в нашем сознании выстраивают
ся тогда, когда мы останавливаемся, то есть из-за за
труднения. Легкость же перевода, наоборот, заставля
ет нас проскакивать многие места, а вот если бы пере
вод был более неуклюжим, мы остановились бы на том,
что какие-то слова не случайны. И поэтому моей без
дарной прозой я попытаюсь передать сцену, сохраняя
в Тбилиси, где лекциями по Прусту он начинает возвра
щаться в Грузию как «грузин», уже не как «русский» или
«европеец». Естественно, что языки, которыми он владел,
отражали это его вечно переходное состояние, несмотря
на то, что он был уже в Грузии, он был и в Москве, и в мире
(перед самой смертью буквально молниеносное посещение
престижной конференции в США, которое, конечно, сказа
лось на его здоровье). Все-таки он был и русским, и евро
пейцем (больше французом), и грузином, не имея власти
ни над одним из языков. Или, лучше сказать, им не владел
ни один язык, но зато он использовал разные языки, сре
ди которых, как мне кажется, не было родного. В этом его
преимущество как мыслителя: быть свободным от языка,
объявляющего ему войну.
253
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
слова, которые у Данте фигурируют в рассказе»48. Но,
что значит переводить и читать, — разве чтение и пере
вод равны, разве одно и есть другое? Можно, конечно,
сказать, что их стоит уравнять, ведь всякий уровень
чтения требует переводческой активности (даже са
мый примитивный, полностью автоматизированный
ход чтения все же перевод). И все-таки переводить —
не читать: ведь при переводе сказывается сопротив
ление текста — главное препятствие для его понима
ния — в то время как для обычного чтения это сопро
тивление должно быть устранено.
Вот эта не-встреча с собственным родным языком
и есть высвобождение от языка. Именно лингвисти
ческая свобода позволила ему относиться к языку как
к орудию мысли, но не как к единственной и автоном
ной реальности, а как к препятствию для мысли. Борь
ба с языком это и есть та «борьба с сознанием», кото
рую Мамардашвили и Пятигорский объявили в своей
книге «Символ и сознание». Теперь представим себе,
что мы действительно не владеем отдельным языком
как родным, что у нас нет или не сложилась лингви
стическая матрица, мы лишились интуиции материн
ского языка. Следовательно, любой язык (который мы
изучили или изучаем) может предстать как родной,
мы впервые учимся говорить и познавать окружаю
щий нас мир, называть его первыми именами. Именно
отсутствие первоначальной интуиции языковой фор
мы позволяет говорить на всяком языке как на перво
начальном, словно это язык священных имен — гово
рить, называя все своими именами.
Характерным примером является как раз акцент
на эпиграфике как малой жанровой форме, кото
рая и должна разрушить поле идиоматики. Эпигра
фика против идиоматики. Понятно, что, читая/толкуя текст, мы не можем пользоваться набором сло
варных значений, или их явно недостаточно, чтобы
48 Мамардашвили М. Лекции о Прусте. Курс 1981 г. С. 85.
254
VI I . П р о е к т
и опыт
определить оттенок слова, появившийся в новом кон
тексте. Переводчик, естественно, пытается установить
смысл налагаемых контекстов, чтобы потом попытать
ся перевести этот словесный оттенок из одного языка
в другой, т. е. спасти его и тем самым обогатить язык
новым лингвистическим переживанием. М. М. же
предлагает внеконтекстное толкование — то, что ино
гда называется подстрочником (для поэзии), открыть
искомый смысл слова в нем самом, в его первоначаль
ном корневом смысле. Это начинание близко тому, что
мы встречаем у П. Флоренского и прежде всего в эти
мологиях М. Хайдеггера, но беднее по замыслу. Ведь
главное здесь все-таки не толкование отдельного сло
ва, но смысл отдельной фразы (впрочем, так же вы
рванной из контекста). И фраза или эпиграф (т.е. фра
за, наделенная значением завершенного смысла, «веч
ностью», фактически эпиграфическая, не может быть
стерта временем) должен нести в себе завершенный
смысл, но не определенный в однозначной формуле
(т. е. каждая фраза должна допускать бесконечное тол
кование). Естественно, что предполагать у слова един
ственного значения было бы абсурдно, каждое слово —
пучок дифференциальных признаков, ни одно из его
словарных значений не перекрывает другое и не отме
няет. Есть и правила лингвистического использования
слова, которые могут меняться во времени. Под идио
матикой я понимаю сложившиеся формы грамма
тических образцов и правила пользования ими; если
их нарушают, значит, с какой-то целью — пытаются от
менить прежний контекст и принцип грамматическо
го управления, возобновить прежний или вернуться
к собственному значению слова. М. М., как мне кажет
ся, ставит под сомнение именно грамматическую фор
му, и здесь — в этом разрушении грамматики нерод
ного языка — следует искать следы его борьбы с язы
ком, основания той языковой свободы, которой он
пользуется. И эта свободная речь все время будет вы
краивать из прустовского текста отдельные атомар
255
В алерий П о л о р о г а . А полог ия
политического
ные высказывания, этические максимы, которые са
ми нуждаются в толковании. Все переворачивается:
мысль Пруста вплавлена в цепь текстуальных событий
и им имманентна, и — здесь большой риск, — как из
влечь ее из них, не повредив; но М. М. решается на это.
Что такое устная речь и что такое мерабовское «мыс
лить вслух»? Это, конечно, не значит разрушать язык,
тем не менее тот, кто мыслит спонтанно, мыслит в ка
кой-то мере всегда один раз (даже, если он снова воз
вращается к тому моменту, с какого начал). Вот, на
пример, как М.М. объясняет, что значит «мыслить
вслух»: «...мысль (то, что я назвал cosa mentale, „ум
ственная вещь“) не создана для того, чтобы быть за
писанной в произведении, под которым стоит автор
ская подпись, потому что мысль — нечто такое, во что
мы можем впадать только во время говорения, в част
ном случае, во время диалога. То есть то, что во вре
мя говорения происходит, — внутри этого индуциру
ется мысль»49. Реальный ход мысли открывается через
полное телесное присутствие мыслящего в собствен
ном языке, мысль рождается каждый раз, когда он на
чинает говорить. Но риск неудачи велик.
ЧТО ЗНАЧИТ ТОЧНО МЫСЛИТЬ?
МЕТАФИЗИКА СИМВОЛА
М. М. говорил: «Если мы не мыслим точно, то нами
играет дьявол»50. Термин «точность» здесь имеет
двоякий смысл, причем первый смысл — точность как
строгость, последовательность, законченность мысли,
короче, логика ее развития в ряде положений уступает
49 Мамардашвили М. Лекции о Прусте. Курс 1981 г. С. 472.
50 См. например: «Героическое сознание знает, что дьявол
играет нами, когда мы не мыслим точно. Изволь мыслить
точно. Значит, ты просто не мыслил. Не потому, что это
го не хотел, — в тот момент, когда был последний час, ты
не мыслил» (Пруст — 81. С. 95).
256
VI I . П р о е к т
и опыт
второму, что низводит значение точности к нахожде
нию и удержанию мысли в избранной точке (месте).
Стиль философствования М.М., оставаясь точным,
сбором всех точностей, может ли быть описан в оп
позиции к тем неточностям, которые касаются опы
та достоверности или истины в мышлении М.М.? Ведь
быть точным в мысли — значит найти некий порядок
точек и установить последовательность или их выра
жение в себе подобных, или возможность сведения
от одной к другим. Найти и занять точку, увидеть не
кую точность в неточном. Но что тогда будет неточ
ным, неточностью. Ведь мыслить точно (и строго) —
это одно, а вот мыслить точно, точками, точностью
(скоплением точек) — другое. М. М. мыслит не мет
рически точно и не логически, а топологически (или
во всяком случае пытается это сделать), используя ма
териал книги Пруста. В таком случае, можно ли так
мыслить и чем тогда мыслят — образами, понятиями
или символами? Как мыслить точкой, точками или
точечно?51 Послушаем, как поясняет М.М. практи
51 Точное и неточное вступают в самую настоящую конку
ренцию и борьбу за право представлять себя в мысли. По
этому мы не должны рассматривать «несуразицы», «ошиб
ки», «редакции» текста в качестве основной причины не
точного. Легко можно задать ряд вопросов, какие обычно
задаются такого рода исследованиям (вопросы, определяю
щие жанр и цель переводческой работы). Например, сле
дующие:
- почему не учтены переводы М. Пруста на русский язык
и почему нужно было делать «свой» перевод (я имею в ви
ду переводы А. Франковского (известный малодоступный
четырехтомник вышел еще в 30-х гг.), но вот переводы
Н. Любимова были частично опубликованы в 70 -8 0 -е гг.?
- почему так мало ссылок на отдельные важнейшие лите
ратуроведческие работы, объясняющ ие структуру, цели
и технику письма в прустовском произведении (Ж. Пуле,
Ж. Женетт)? Разве не от этого зависит наше понимание то
го, что «делает» М. М. читателем?
- в чем смысл отказа изучать произведение прежде, чем
объяснять что и как оно говорит?
257
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
чески в каждой лекции (в курсе Пруст — 81 и Пруст —
84) топологию тонки и точности. Начнем с неболь
шой подборки примеров, количество которых мож
но умножить:
«...есть некоторая точка, которую мы выделяем, ко
торая выделена и самим построением нашей созна
тельной жизни. Точка (здесь и сейчас) —главная дей
ствующая точка нашей сознательной жизни, в ко
торой нет ни прошлого, ни будущего и в которой
прежде всего запрещено удвоение мира и времен».
«Я говорил вам о том, что древняя метафора Бога фор
мулируется так: Бог есть бесконечная сфера, центр ко
торой везде, а окружность или периферия нигде <.. .>
Так вот, я обращаюсь снова к вашему воображению:
на этой некой поверхности, которой нет — нигде, —
мы должны представить точку. Мы в этой точке. Она
нулевая (я говорил вам, что там —редуцированные
предметные качества мира и психические свойства
человека и т.д.). Я требую, казалось бы, от вас невоз
можного: вообразить себя точкой на окружности, ко
торой нет. Лишь центр, который есть везде (и к то
му же в странном смысле). А окружности нет; я же
говорю вам —вообразите себя точкой на этой окруж
ности. Реалии нашей психологической жизни, в об
щем, легко подставить под эту нулевую точку. Напри
мер, я говорил вам: если я, кто-то, воображаю себя
кем-то, то я уже выпал из центра. То есть я —не в этой
точке, которая на равном расстоянии от центра, пото
му что что такое центр? Это такая точка, в отношении
которой все точки периферии, окружности, находят
ся на равном расстоянии <.. .> если я кто-то, то я уже
не в этой точке».
«Условно назовем нашу нулевую точку предельной или
пограничной ситуацией, где мы один на один с ми
ром в том смысле, что из мира вынуты все привычные
- почему Пруст говорит столько раз, сколько необходимо,
чтобы то, что он говорит, было расшифровано в качестве
невысказанного?
258
VI I . П р о е к т
и опыт
связи и привычные способы получения информации.
И в (этом смысле) том числе из мира выброшен я сам.
То есть меня с моим „я“ нет в этом мире».
«В каком-то смысле наша точка обладает таким свой
ством, что в ней мы представляем себе мир как тво
римый заново в каждой точке, что нет некоторо
го готового, заданного мира, а он воспроизводится
и длится именно потому, что воссоздается каждый
раз — в точке. В том виде, в каком мир длится, он
длится только потому, что заново воссоздается».
Точно мыслить — это удерживать всякий раз мысль
в точке начала. С точкой что-то начинается и что-то
в ней же заканчивается. Выразить что-либо со всей
точностью — это указать на точку начала мысли, опе
реться на точку. Конечно, точка не должна пониматься
в чисто логическом или математическом смысле. Точ
но мыслить — значит иметь отправную точку мысли,
в которую мыслящий должен все время — пока мыс
лит—возвращаться, как в свое единственное убежище.
Мысль отходит от начала, чтобы в него возвращать
ся. Для мысли нет никакой роковой «точки возврата».
Ибо немыслим не мыслимый предмет, а само начало
мысли, непредметное (бес-предметное). Вот почему
мы должны считаться с тем, что точка здесь — объем
ное и сложное понятие трансцендентального свойства.
Точка — не мельчайшее геометрическое единство, ко
торое начинает линию, не царапина на стене, не место
географического пункта. Точка—это место, где пересе
кается ряд мыслительных операций. Удержать мысль —
это значит помочь ей вернуться туда, откуда она нача
лась (к тому, что ее’вызвало, породило, «толкнуло»),
вернуться и повторить свое начало, ибо мыслитель
ные содержания, которыми обогащается мысль, вы
ходя за свои пределы, нуждаются в собственном под
тверждении через точку начала. Трансцендентальные
операции сводимы к удержанию начала, что сам М. М.
называл этикой усилия — к изобретению различных
способов возврата мысли к собственной точке нача259
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
да. Поэтому мысль всегда есть себе иная и та же самая
(«иная» — поскольку выходит за свои пределы к обра
зам предметов, и «та же самая» — поскольку вся эта
мыслимая предметность должна быть развернута че
рез точку начала)52. Точка отсчета и есть, собственно,
52 Помню, как на семинаре, посвященном творчеству и з
вестного в то время французского философа Л. Альтюссе
ра, М. М. говорил о нем так, как можно говорить о челове
ке, которой помимо философии имеет еще и особое хоб
б и — политику, причем политику марксистско-ленинского
чекана. Но вот вы знаете, и такое бывает, — говорил при
близительно так М. М., — это великий человек, но есть у не
го одно довольно странное увлечение, так сказать, хобби,
он считает себя марксистом-ленинцем и многое готов от
дать за диктатуру пролетариата. И вот когда я, но уже се
годня, слушаю по «Голосу свободы» передачу о М.М . (за
читываются отрывки из книги «Грузия вблизи и издале
ка» — собрание его интервью, заметок и статей, изданных
в Грузии в последнее десятилетие его жизни, когда он был
втянут в политическую борьбу между различными груп
пировками). Сегодня по прошествии стольких лет все эти
политические высказывания, окрашенные пафосом «на
ционального мифа», выглядят как бессильные моральные
увещевания, переходящие в сетования, экзистенциальную
риторику и дидактику; в том, что говорит М. М„ обраща
ясь к «грузинскому народу», нет каких-то элементов стро
го осмысленной этической позиции, о которой когда-то
сам М. М. говорил на лекциях в Москве. Так и хочется ска
зать: есть европейский философ Мамардашвилиу русский
диссидент, и есть грузинский политик, и эти ипостаси, как
можно убедиться по текстам М .М ., несоединимы. Послед
ние годы у него проявилась одна слабость, впрочем, совер
шенно простительная, с какого-то времени он стал счи
тать себя грузином. Не могу себе представить, чтобы мне
был интересен Ж. Деррида как сефард (алжирский еврей),
француз или кто-то ещ е... Остаться грузином — значит
не потерять свою национальную и культурную идентич
ность, вот что, весьма вероятно, стало почти единствен
ным, о чем только и могла думать тбилисская интелли
генция в Грузии конца 80-х — начала 90-х гг. И это нацио
нальная драма кризиса идентичности происходит на фоне
грандиозной катастрофы — распада СССР — собственно
и есть следствие ее: быть больше, чем грузин, и быть толь2бО
VI I . П р о е к т
и опыт
точка зрения, отграниченная самим отсчетом, в то вре
мя как точка, топологически понимаемая, не имеет ни
какого присущего ей качества проективности (точ
кой зрения не является). Вот почему она называется
точкой рассеяния, равноденствия, нулевой и прочее.
Напротив, все точки, которые мы можем назвать про
ективными, являются точками зрения. Другими сло
вами, нет одной, «только вот этой точки», есть мно
жество точек, и самое главное: у каждой точки есть
свой двойник, указывающий на границы самой точ
ности, так сказать, бордюрная линия, отделяющая эту
точку от другой, внутри единой области их точечности. В сущности, вся интерпретация М.М. текста Пру
ста и заключается в нахождении этой точки начала, ее
удержании и непрерывном повторении в интерпре
тационном движении собственной речи. Что же это
за точка, раз она не дана, а должна быть найдена? Об
рести место. Как найти место, чтобы идентифициро
вать себя с тем, кто в силах занять эту точку. У Каста
неды как раз и есть этот поиск места (общее сравнение).
Представим то поле, что размещается перед нами
на бескрайней поверхности опыта жизни, все те син
гулярные точки, что скапливаются на границах преж
них переходов и границ, они — знаки памяти и зна
ки забвения, ибо мы можем находиться лишь в одной
из точек, все другие мы можем лишь иметь в качестве
запасных, будущих, отринутых, проклятых, истинных
и т. п. Откуда эти точки и почему, что значат эти точки?
М. М. говорит нам, что надо занять точку, все, что есть
в мире, есть благодаря тому, что имеется место для
каждого из нас на мировой поверхности. Точка и рав
на и не равна месту, которое мы занимаем, посколь
ку точка не круг, предельно сжимающий пространства
вокруг нас, а отверстие, некая сжатая пустота с прави
лами свободного падения и подъема. Удержать точку—
ко грузином, — вот где сохранилось еще драматическое на
пряжение национального.
2б1
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
все равно, что удержаться в ней. Но что такое миро
вая поверхность и как ее интерпретировать? Эта по
верхность есть сфера. Отношение сферы и точки М. М.
объявляет основным инструментом аналогий опыта
(метафор, образов или понятий). Но что такое сфера,
когда нас интересует характер трансформаций, кото
рые допускает М. М. в качестве аналогий опыта (пси
хологического, эстетического, ментального или эти
ческого). И здесь нам помогут все те же и постоянно
используемые образы внутреннего/внешнего: символ
туннеля, символ (пространственный) двух сближае
мых дисков с пробитыми в них точками-отверстия
ми, символ весов (испытываемой принудительной тя
жести и освобождения от нее), символ двух воронок
(одна из них втягивает другая выталкивает, поднимает
над собой) или символ конусов (чьи вершины то рас
ширяются, то сужаются)53.
Все это оставляет нам единственную возможность
понимания: точка действует как орудие пробивания
и вскрытия сферы, поверхность испещрена дырами,
оставленными этими опытными ситуациями. Точка
как центр и точка как периферия, крайняя, марги
нальная. Если центральная точка все в себя втягива
ет, то точка периферийная действует на поверхности
и соотносит себя не с глубинной центральной точкой,
а с соседней, смежной, близкой или далекой. Мы заме
чаем, что точка, как она здесь описывается (все замет
ные повторы не привносят ничего нового), пассивна,
т. е. в нее возвращаются не для того, чтобы выйти, од
ним порывом в творение (создать, вновь и вновь соз
давать мир), а остаться там, ибо там открывается мир
как он есть. Мир как представление рождается с каж
дым актом мысли, но эта мысль связана объектом как
смысловой структурой, она не свободна, т. е. не абсо
лютно свободна (каковой ей надо быть, по определе
нию). И чем больше вы изучаете эту точную страте55 Пруст — 81. С. 105.
2б2
VI I . П р о е к т
и опыт
гию М.М., тем больше вы чувствуете, что речь идет
о пассивной точке, вбирающей в себя мир, а не проек
тирующей его, не активной точке, как у Г. Щ., в кото
рой все исчезает, чтобы тут же так же самопроизволь
но родиться. М.М. как философа-мудреца притягива
ет к себе как раз это исчезновение, возможное в акте
буддистской медитации. Хотя он и говорит об учреж
дении в центре своей системы взглядов позиции эти
ки усилия (трудового, еще как ее интерпретировать, —
вот в чем вопрос).
Топологический анализ начинает с обсуждения те
лесной ценности точки, чтобы затем перейти к линии
и поверхности. В сущности, как мы далее убедимся,
представление о точке или образе точки — это то, что
необходимо преодолеть, чтобы открыть топологиче
скую размерность телесного образа. Но что такое точ
ка или образ точки? Обычно принято понимать точку
как некое далее неразложимое единство, некий атом
или монаду, т. е. как наиболее простую дискретную
форму, не обладающую никакими частями, в конеч
ном счете, как некий образ предельной и мельчайшей
единицы, покоящейся в одном и том же месте и не мо
гущей занимать другое, вопреки меняющемуся миру.
Ставить точку, завершать, останавливать, обрывать —
все эти и еще многие другие глаголы обслуживают
физику (точнее, физическую геометрию) точек. Уста
новленная где-то в мире точка удваивает мир: точка —
против и отделъно-от мира как некоего целостного
образа бытия. Совершенно ясно, что в подобных опре
делениях точки мы не можем использовать математи
ческий аппарат — ведь мы знаем, что в геометрии точ
ка берется как начало и ограничение прямой, и даже
если точка получает движение в функциях математи
ческих кривых или поверхностей, она все равно оста
ется минимальной единицей, неким абстрактом ма
тематического исчисления. Естественно, что нас бу
дут интересовать качественные интерпретации точки.
Когда я говорю тонкауто полагаю с самого начала, что
263
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
точки в ее эмпирической данности мы не имеем: она
всегда или математический абстракт* значок* черниль
ное пятно, царапина, место пересечения — т. е. все
гда то, что противостоит линии, непрерывно делимое
и себе не равное, нет такой эмпирически достоверной
точки, которая бы совпала с математической фигурой
точки. Точка — лишь то, что появляется в нашем чув
ственном и мыслительном опыте, когда мы — в каче
стве субъектов — испытываем потребность выделить
самих себя из своих отношений с миром. Другими сло
вами, точка обладает топологической размерностью,
как бы составляется из тех образов-интерпретаций,
которые нам необходимы (и всегда у нас под рукой),
чтобы указать на начало и конец мысли (события пе
реживания или чувства). Говоря «точка», я имею в ви
ду лишь то, что принято за точку — всегда есть место
активно действующей силы (восприятия, познания,
чувствования и т. п.). Мы не можем сказать, что точ
ка есть точка, что точка тождественна себе или равна;
мы не можем утверждать ее в некой зоне субъектной
пассивности, поскольку для того, чтобы ее выделить
из других точек, необходимы те же силы, что делают
ее точкой. Точка слишком часто наделяется психиче
скими, сознательно-рефлексивными качествами, фак
тически фиксируя точку (явно или неявно), мы соот
носим ее с «живым» субъектом или с трансценден
тальным, сама она, сама по себе не есть, т. е. не может
заместить бытие или его представлять.
Герой. К понятию опыта
Однако без этой парадоксальной соотнесенности с фи
гурой тонки невозможно было бы повторное, «новое
рождение мира». И вот целая серия подстановок, ко
торые ухитряются самым невинным образом произво
дить мысль М.М.Мы как будто пребываем, даже по
гружаемся в план онтологических размышлений, «глу
бинных проработок смысла бытия» (см. работы М.М.
264
VI I . П р о е к т
и опыт
«Стрела познания» или его совместные размышления
о природе сознания с А. Пятигорским в книге «Сим
вол и сознание»), хотя на самом деле нам нужно знать
совсем иное —тот первоначальный экзистенциальный
посыл, ту выбранную схему этического, которая пред
послана последующей логике размышлений. Об этом,
кстати, сам М.М. часто и прямо высказывается. Вы
только представьте себе сам акт, который одновре
менно отбрасывает вас в полное ничто, но позволяет
как будто начать все сначала. Вот эта драматизация за
кладывается М. М. повсюду, где возможно. Точка экзи
стенциального пафоса, упоения в бою и богоборчест
ве, точка конверсии или замещения: «Там, где был Бог,
там должен встать Я». Не «я» обожествленное, а Я ге
роическое, «я», преодолевшее свою человеческую при
роду, отринувшее ее. Когда М.М. говорит, даже требу
ет представить себя в той точке пробуждения прустовского «я», которая оказывается нейтральной, нулевой,
совершенно ничтожаемой, и вот в ней, чтобы стать,
я должен собраться, воплотиться в то, что на самом
деле не собрано, разбросано, рассеяно, как будто даже
и воскреснуть в нем, осветиться «пятном сознания»,
разом и вдруг, здесь и сейчас... Но что это значит и что
это за требование — здесь и сейчас? Да и как сегодня
была бы возможна философия, может ли она быть
возвращена так называемым «классическим душам»?
Да и сам М.М. — действительно ли ему свойствен
но это переживание, которое он сам определяет как
«классическую душу»? Его ошибка — которая и есть
его полнота опыта, который мы наблюдаем — как раз
и заключается в том, что он считает Декарта образ
цом классической души, хотя приписывает ему идеи
абсолютно радикальные и анархичные (словно не зна
ет ничего о работах Э. Жильсона и Г. Берже, указав
ших на связь теории ego cogito со схоластикой (теория
субъективности св. Августина)), причем настолько,
что они должны быть истолкованы крайне негативно.
Герой — тот, кто имеет силу собранности и удержания
265
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
себя в это собранности. Собранность — этическая ка
тегория, относимая к достоинствам Героя (его мудро
сти, доброжелательности, смелости и отваге).
Чем больше вчитываешься в лекционные кур
сы М.М., посвященные Прусту, тем в большей сте
пени осознаешь задачу, которую он ставил перед со
бой в своих медитациях: создать физическую экономию
этического. Не просто свести все этическое, этос мыс
ли к набору прозрачных максим в стиле Монтеня или
Ларошфуко, а показать, если это действительно эти
ческие максимы, на какие физические, чувственно-те
лесные, пространственно-временные, топологические
принципы они опираются. И эта этика усилия, я бы
прибавил, героического усилия. Все эти разобранные
выше медитации вокруг точки начала говорят толь
ко о том, что она существует, пока в ней нуждаются,
пока ее переживают как начало и конец, не дают заме
стить, удвоить, рассеять, закрыть символом. Эту точ
ку держат открытой, как рану и как место упора, отку
да героическое усилие становится возможно. Держать
собственную мысль так, как держал древний титан не
бесный свод... Образ действительно замечательный.
Во всяком случае эта точка остается открытой, неза
полненной, готовой принять любое содержание, ее
удерживают в открытости. Вот почему требуется на
пряжение всех сил. И удержать ее может только этиче
ский Герой, не герой мысли, а именно этический, ибо
эта точка, имея много измерений, выражает одновре
менно Закон топологический (так устроен человече
ский мир, надо иметь место, точнее места, надо иметь
путь) и Закон этический (и поскольку мир так устро
ен, следует вести себя именно так, а не иначе, если хо
чешь остаться человеком).
VIII. До и после м ая 68-го
«ЛЕВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» И ЕГО РЕВОЛЮЦИЯ
Беседа в редакции журнала
«Русский репортер »1
Т/Гтак, что же произошло в Париже мая 68-го с точки зрения политической истории XXв.? Было ли
это революцией или нету да и правильно ли вообще
именно так ставить вопрос?
Первые признаки революционной ситуации, ве
роятно, появились в Нантере12, но власти не смогли
их правильно оценить. Потом демонстрации студен
тов Сорбонны и наконец, 3 мая, первая ожесточенная
схватка с силами специальной полиции. Контроль вла
стей над событиями утерян, революция начинается...
Молодые всегда требуют невозможного, они гото
вы к жертве, им нужен порыв. Выступления студентов
прошли цепью по всей Европе: Сербия, ФРГ, наконец,
активное участие молодежи в Пражской весне. Самое
загадочное—вот эта цепь. Что я не могу объяснить, так
это повсеместность революционного порыва. В начале
60-х культурная революция в Китае — все помнят хун
вейбинов с их лозунгом «Огнем по штабам», — и длит
ся она до конца 70-х гг.3 Так что май 1968-го во Фран
ц и и — лишь один из очагов мощной европейской, ес
VI
1 Расширенный вариант беседы.
2 См. более подробно: Тарасов A. In Memoriam Anno 1968;
http ://w w w .screen.ru/Tarasov/memor. htm.
3 П ропагандистом маоистского движения в Европе был,
например, знаменитый реж иссер Жан-Люк Годар, чьи
фильмы до 68-го были культовыми, они, мож но сказать,
готовили майскую революцию Освобождения.
267
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
ли не мировой, энергии протеста4. В Париже волнения
молодежи сопровождались выступлениями рабочих,
всеобщей забастовкой (одна из крупнейших забасто
вок в истории рабочего движения —10 млн чел.). С од
ной стороны, они создали большую проблему для вла
сти — президент де Голль все-таки ушел...
Волнения мая 1968 г. в Париже породили много тол
кований. Я придерживаюсь следующей позиции— это
была попытка революции Освобождения. А точнее, да
же не революция, а настоящий бунт, бунт молодых ин
теллектуалов5. Взрыв недовольства, экстаз обновления,
4 См. материалы, подготовленные А. Тарасовым.
5 В тот год, сразу же после майских событий, я случайно
оказался в Париже (в то время я — студент философского
факультета МГУ). Мои родители работали в советском по
сольстве, и я приехал летом к ним в гости. Конец июня, «ре
волюция» закончилась. Помню ночную прогулку по Пари
ж у — сгоревшие машины, вывороченная брусчатка, остат
ки арматуры, разбитые витрины, короче, следы боев и т. п.
На перекрестках посты полиции. Глубокая ночь. П орази
ли большие толпы молодых людей в Латинском квартале —
по две-три тысячи. Они просто стояли и молчали. Н еве
роятное зрелище. Почти нет разговоров — многие курят.
Шокирующее впечатление от тишины («после битвы») за
помнилось больше всего. В последующие дни «революция»
стала как-то слишком быстро забываться. И гуляя в после
дующие дни по центру Парижа, я уже больше не замечал
следов майских боев. Эйфория сменилась чувством пора
жения от неудавшейся «революции».
Много лет спустя я побывал в Страсбурге. Там я почти
целую ночь беседовал с супружеской парой — активными
участниками боев за Сорбонну. Он был комендантом од
ного из университетских корпусов, она — его помощницей.
Вот эти два бывших маоистских радикала рассказывали,
как они делали «коктейли Молотова», как их атаковала по
лиция, как они от нее отбивались (в течение суток). Судя
по их словам, насколько помню, для них это была настоя
щая война. Было много раненых, но вот погибш их поч
ти не было. Есть даже такой анекдот. Популярный сего
дня в России философ русского происхождения Александр
Кожев спрашивал одного из великих, кажется, Ж.-П. Сарт-
268
VI I I . До И ПОСЛЕ МАЯ 68- ГО
что-то вроде эпидемии, внезапно охватившей мно
гих и многих гуманитарных людей, впрочем, и другие
«угнетенные» слои французского общества (прежде
всего «пролетариат»). Иногда термин «освобождение»
путают со «свободой», но это разные понятия. Осво
бождение для всех, свобода для одного; освобождает
ся «человек», свободу обретает гражданин. Револю
ция 1968-го была освобождением от того, от чего осво
бодиться было невозможно — ближайшего прошлого.
Часто революции кажутся бессмысленными и неудач
ными именно поэтому. Мы даже не можем установить
«законы», по которым они совершаются. Слишком
много случайного. Мы называем какие-то исключи
тельные события «революцией», хотя и не знаем, со
хранится ли это убеждение в будущем. Очевидно, что
в движении революционных событий есть нечто быст
рое, мгновенное, разрушительное и нечто замедленное,
замедляющееся, остывающее. Что-то, похожее на нака
зание за прежнюю быстроту и внезапность. Отступле
ние, апатия, неверие. Я имею в виду контрреволюции,
которые по длительности и циничной практичности
всегда превосходят революции. Постепенно они уни
чтожают все, что казалось революционным, прежнее
возвышение чувств снижают до посмешища. Други
ми словами, контрреволюция — часть революционно
го процесса. Европейские интеллектуалы долгое время
обменивались идеями «коммунизма» и были увлече
ны этой игрой. Не замечая или не желая замечать ста
линской контрреволюции, которая с невероятной же
стокостью давила все живое, танком выжигала рево
люционные ценности. Долгое время СССР был чуть ли
не образцом реального социализма. Многие западные
ра: «Ну что же у вас там случилось?» — «Как что? Револю
ция!» — «А жертвы были?» — «Нет, не было» — «Ну, так ка
кая же это революция?!» Действительно, много раненых,
причем полицейские пострадали не меньше, чем бунтари.
Многих студентов посадили, причем некоторые получили
весьма серьезные сроки (до 14 лет), а вот жертв не было.
2 69
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
левые интеллектуалы верили в это до конца 50-х гг.,
до хрущевского разоблачения культа Сталина.
Если подвести некоторый итог> то} по вашему мнениЮу именно контрреволюция становится истинной
матрицей истории? Не могли бы вы уточнить отно
шение «революции» к «контрреволюции»...
Часто революция — это провокация, проект Невоз
можного, набросок пути к недостижимому Идеалу. Ре
волюция как видение, чудо, праздник. Но и как конкурс
самых неожиданных идей. Это, бесспорно, экстатиче
ское действие, охватывающее относительно небольшое
количество людей, ожидающих изменений в общест
ве и желающих их. Революционная вспышка готовит
ся долго. Слишком много факторов должно сложить
с я — экономических, политических, образовательных,
университетских, — чтобы дать на выходе взрыв такой
общественной и политической силы. Например, эко
номическая сторона мая 1968 г. состоит в том, что к это
му времени сложились политические предпосылки для
рождения среднего класса, а это основной класс в «бес
классовом» постиндустриальном обществе. Можно
сказать, что французское общество переживало пери
од начала второй волны модернизации. В послевоен
ное время завершается восстановление хозяйства Ев
ропы, экономический подъем 1950-1960-х гг. приносит
относительное «благоденствие», заметно повышается
уровень жизни. Все оказывается вдруг «хорошо», по
является жирок. Однако никаких структурных пре
образований общественной системы не происходит —
по-прежнему X IX в. Европейское общество вернулось к
более или менее «комфортной» жизни, но власть бюро
кратии, экономическая жизнь, политические движения
и партии — все было завязано на старых институциях.
И главное — на идейных и идеологических предрассуд
ках. Назревает общество потребления, требующее дру
гих институтов, другого управления, другого желания.
Больше нет доминирующего классового противостоя
270
VI I I . Д о И ПОСЛЕ МАЯ 68- ГО
ния (буржуазия/пролетариат) — о себе заявило новое
социальное большинство, будущее silent majority.
Парадокс революции мая 1968 г. заключается в том,
что на ее волне родился средний класс, другое фран
цузское общество. Хитрость Истории — удар направ
лен на одно, а рождается совсем другое.
Не случайно, что многие из активистов 1968-го ста
ли выдающимися менеджерами, заняли ключевые по
зиции в обществе. Даниэль Кон-Бендит, один из глав
ных активистов, сегодня депутат Европарламента,
вождь умеренного крыла партии «зеленых». Марк Кра
вец— шеф заграничной службы крупнейшей француз
ской газеты «Либерасьон». И так далее — профессора,
менеджеры, политики — все успешные люди6. Разве
изучая этот список успешных «революционеров», мы
не приходим к выводу: революция-то удалась... Дру
гие активисты ушли в право, стали «новыми филосо
фами»: Б.-А.Леви, А.Глюксман, Ж.-П.Лардро, П.Жамбе. Их еще называли «детьми Солженицына», в основ
ном это бывшие маоисты, троцкисты, когда-то «левые»
интеллектуалы. Солженицын начинает публиковаться
на Западе, выходит «Архипелаг ГУЛАГ» (1973). Полная
переоценка реального социализма, пишутся разобла
чающие тексты против коммунистической идеологии,
против ФКП и господства коммунистических отцов.
Атакуется, в целом, вся идеология тоталитарного марк
сизма-ленинизма в самых различных ее проявлениях.
Массовую основу мая 1968 г. составили студенты Фран
ции, а точнее— молодежные группировки самых разных
политических направлений,— но разве они определяли
важнейшие черты и «идеологию» майской революции?
Есть ли основополагающие причины этого «взрыва»?
Или, несколько другими словами, все-таки, по вашему
мнению, из чего сложилась «революционная ситуация»?
6 Тарасов A. In Memoriam Anno 1968; http://www.screen.ru/
Tarasov/memor. htm.
271
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
Одну из причин можно назвать: изменения в соци
альном составе студенчества. Впервые рабочий заво
да «Рено» мог послать своего сына или дочь учиться
в Сорбонну. До этого выпуск студентов по гуманитар
ным специализациям был крайне ограничен (как во
обще получение высшего образования). Так, в 1851 г.
во Франции высшей школой было подготовлено 3 тыс.
специалистов по гуманитарным дисциплинам. В 1900 г.
цифра остается той же самой. В 1920-м — 7 тыс. вы
пускников. В 1930-м —12 тыс. Образование оставалось
элитарным, а количественный рост обусловлен демо
графически. Образование получают только состоя
тельные слои общества. В 1965 г. — уже 40 тыс. студен
тов. В 1968-м 81 тыс. студентов обучается в гумани
тарных заведениях. Эта молодежь и стала основным
героем праздника Освобождения. Нет никакой еди
ной стратегии, никто ни за кого не решает, нет «пар
тийного авангарда», нет единого центра руководства.
Слишком много разных «заинтересованных» участни
ков. У каждой группы — «маоистской», «марксистсколенинской» или «троцкистской» — своя программа.
После мая 1968 г. размежевание культурного про
странства нарастает, начиная влиять на систему выс
шей школы, массовые коммуникации и стратегии об
разования. С одной стороны, омассовление гуманитар
ного знания и, следовательно, устранение его элитного
характера. С другой — резкое изменение политическо
го статуса гуманитарных дисциплин, чем воспользо
вались правящая элита и родовая французская ари
стократия. Теперь не традиционное университетское
образование открывает доступ в высшие эшелоны вла
сти, а то, что получено в «больших школах» (Высшая
административная школа (ЭНА) и Высшая политех
ническая школа)7. Эти школы дают не столько знания,
7 ЭНА выпустила в 1947 г. — 37 человек, в 1970 г. — 90; Выс
шая политехническая школа в 1900 г. — 250, в 1967 г. — 304.
Ср., например: «О механизме отбора в „большие школы“ из
272
VI I I . Д о И ПОСЛЕ МАЯ 6 8 - ГО
сколько умение властвовать; они готовят чистых функ
ционеров политической и промышленной бюрократии.
Правящая власть не только быстро восстановила утра
ченные позиции, но и намного улучшила их.
И т ак май 1968-го — одно из решающих событий вто
рой половины X X б. для современной европейской ис
тории. И это событие, как вы утверждаетеу имеет
две истории, две «правды»: одна «история» говорит,
что революция была подготовлена или даже «готови
лась», а другая, что она была лишь стечением обстоя
тельств? И эти две «истории» не противоречат друг
другу. Как это понять?
Здесь действительно нет противоречия, револю
ция как бы «между»: теоретически она готовилась,
но оказалась итогом действия многих «случайных»
факторов. Действительно май 1968-го — время неве
роятного стечения обстоятельств, судеб, теорий, идей,
личностей. Думаю, это было прощание с революци
онным X IX и взгляд в XXI в. Еще Жорес видел в Вели
кой французской революции (1789-1795) «начало всех
начало»: нет конца революции, она не заканчивается,
а только всякий раз начинается8. В мае 1968-го отыс
кивают продолжение той же революционной линии,
вестно немало. Известно также, что их двери открыты лишь
для выходцев из привилегированных классов общества. И з
лишне напоминать о том, что важнейшее значение в них
придается манере речи и поведения, символизирующей
принадлежность к высшим классам и остающейся за семью
печатями для учеников из неимущ их... В сущности, в эти
школы «наследники» правящего класса приходят, чтобы по
лучить знание в широком смысле слова, а заодно и диплом,
который призван легитимировать их власть» (Бирнбаум П.
и др. Французский правящий класс. М., 1981. С. 158).
8 Ср.: «Мы считаем Французскую революцию фактом ог
ромного значения, величайшим событием с поразитель
но плодотворным содержанием; но, на наш взгляд, она
не представляет собой чего-то законченного, когда исто
рии остается лишь развивать без конца ее последствия»
273
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
характерной для развития французского общества
прошлого столетия? Часто встречаются комментарии,
в которых доказывается, что революция мая 1968-го
подражает революции 1848 г. (кстати, которую иссле
довал Маркс) — последней из буржуазных революций,
и что, собственно, «взрыв» мая 1968 г. — явно мелко
буржуазная революция, не «пролетарская». Даже в вы
боре главных идей можно провести водораздел по маю
1968 г. Одна часть тогдашних теоретиков еще остается
в X IX в. и ставит вопрос об Освобождении, а не об ин
дивидуальной свободе. Чтобы вернуть человека к его
изначальной природе, данной Богом, нужно пройти
этапы высвобождения его истинных влечений. Надо
быть правдивым, честным, бороться против предрас
судков, быть «естественным человеком» (это очень по
хоже на руссоизм). Но это только одна сторона.
В 1960-м выходит в свет книга Сартра «Крити
ка диалектического разума», в которой он излагает
свою теорию революции. Невероятно, но факт: то, что
Сартр пытается «обосновать», становится «револю
ционной» реальностью в 1968 г.9 Чуть позднее — пер
вые тиражи книги-меморандума Ги Дебора «Общество
спектакля», самая значительная по влиянию книга по
коления (много переизданий, переводы). Настольная
книга всех юных бунтарей10. Ранние, 30-х гг., фрейдомарксистские публикации, особенно работы В. Райха
и Э. Фромма, посвященные «сексуальной революции»,
также играют немалую роль в воспитании левых тео
ретиков. Главными же остаются идеи Освобождения.
Продвинутое студенчество и анархистски настроен
ные теоретики находили прежде всего у Г. Маркузе,
в трудах раннего К. Маркса и председателя Мао (по
(Жорес Ж. Социалистическая история Французской рево
люции. В шести томах. М.: Прогресс, 1977. С. 33).
9 Sartre J.-P. Critique de la Reason dialectique. P.: Gallimard,
1960. P.434-435.
10 Ги Дебор. Общество спектакля. М.: Логос (Радек), 2000.
274
VI I I . До И ПОСЛЕ МАЯ 68- ГО
пулярная картинка: хунвейбин, погруженный в чте
ние «красного цитатника»). Три М как идейная ос
нова «революции»: Маркс/Мао/Маркузе. Значитель
но влияние «критической теории» Франкфуртской
школы, она формируется в 30-х гг., отцы-основатели:
М. Хоркхаймер, Т. В. Адорно, Ф. Поллок (в разное вре
мя к ней были близки Г. Маркузе, Э. Фромм, В. Райх,
В. Беньямин). С приходом нацистов к власти в Гер
мании многие эмигрируют в США. Идеи критической
теории, впервые изложенные Хоркхаймером и Адор
но в «Диалектике просвещения» (1949), также относят
ся к этому пласту «освобожденческой» литературы11.
Нет ли здесь еще и поколенческого разрыва: сыновья
бунтуют против отцов? И, в таком случае, не была ли
эта революция еще и ответом на устарелые традици
онные «эдиповские» ценности буржуазной семьи?
Действительно, сколько времени в своих «Семина
рах» посвятил Ж. Лакан исследованию эдипизации за
падной культуры. Потом приходит черед книги Ж. Делеза и Ф. Гваттари «Антиэдип. Капитализм и шизо
френия. Том 1» (1972)1
112, имевшей скандальный успех.
11 Marcuse Н. O ne-dim ensional Man. Sphere books LTD.
London, 1968; «Кстати, Маркузе полагал, что „новая чув
ственность“, открытая маем 1968-го, способна разру
шить язык «тотальной администрации», господствующий
в позднекапиталистическом обществе {Marcuse Н. Versuch
über die Befreiung. Suhrkamp: Fr. am Meine, 1969).
12 Например, Адорно в отличие от Маркузе, инспектиро
вавшего «коммуны свободной любви», принципиально
не участвовал в студенческом движении и политических
демонстрациях. Франкфуртские студенты посчитали, что
он отступил от тех идеалов «борьбы», которые сам провоз
глашал. В одном из интервью он попытался оправдаться:
«Я только создал теоретическую модель мышления. Разве
я мог предполагать, что люди захотят осуществить ее с по
мощью «коктейля Молотова». Теоретический Эдип должен
быть низвергнут восставшими детьми. Так, Адорно стал
объектом студенческих провокаций. Одну из его лекций по
275
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
И в этом нет ничего удивительного, если учесть воз
действие идей психоанализа на практику психиат
рической и психотерапевтической помощи в Евро
пе и С Ш А , успешную институализацию и достаточно
быстрое освоение теоретического наследия психоана
лиза. Понадобилось всего полвека. Если объявляет
ся, что пациент традиционного психоанализа «мертв»
(а это всегда «маленький Эдип»), то тогда как, да и ко
го психоанализировать? Психоанализ поддерживает
институт господства традиционной семьи. Разве для
психоанализа годен шизофреник (да и все глубокие
психотики). Но именно этот новый пациент объяв
ляется величайшим героем будущего освобождения13.
Здесь не место подробно разбирать этот значительный,
крайне авантюрный текст, текст-приключение. Цита
тами из «Антиэдипа» можно было расписать улицы
майского Парижа. Это текст антикапиталистический,
более того, асоциальный, экспериментальный, текстпровокация, текст-граффити. Как перевести весь опыт
психоанализа с его чудовищной эдиповской догмати
кой на язык открытого опыта желания? Общая идео
логия Освобождения сближает позиции совершенно
разных мыслителей: Сартра и Делеза/Гваттари, Райха
и Лакана. Поражение майской революции закодирова
пытались сорвать студенческие радикалы. Подобная трав
ля, вероятно, способствовала развитию сердечной болезни
Адорно. В августе 69-го он умирает в швейцарской клинике.
13 Надо учитывать, что сильнейш ее влияние на концеп
цию Делеза/Гваттари оказал постфрейдистский психо
анализ, так называемый фрейдомарксизм (В. Райх, Т. Рейк,
Э. Фромм, М. Клейн). Особенно Райх: как создатель совре
менной телесно-ориентированной психотерапии, он видел
в сексуальном освобождении («революции») основной им
пульс к мировому «здоровью» европейских народов. Неда
ром же проницательные марксистские критики сразу узна
ли в «Антиэдипе» развернутую и более продвинутую мо
дель фрейдомарксизма. Например, заимствование понятий
энергии, потока, купирования, использование юнгианского
термина «либидо» и т. п.
276
VI I I . До И ПОСЛЕ МАЯ 68- ГО
но в опыте делезовского желания, образами и концеп
тами которого, к сожалению, нельзя разрушить даже
столь эдипизированный современный капитализм...
Майская революция, словно в кино, прокручива
ется назад, чтобы вновь совершиться, но уже по воле
большой теории: набросок плана тотальной деэдипизации общества.
Хотелось бы, чтобы вы пояснили, что следует пони
мать под Освобождением. И следом же: то, что вы
описываете как сближение противоположных позиций
Сартра и Делеза/Гваттари, понятно; но есть ли ме
сто, где эти позиции все же совмещаются, а не толь
ко противостоят друг другу> все же это позиции, от
стаивающие единую доктрину Освобождения?
Я уже говорил о том, насколько различны были
идеологические и политико-метафизические позиции
групп и сообществ, наиболее проявивших себя в май
ской революции 68-го. У каждой группы свои вожди
и интеллектуальные лидеры, своя эмблематика вели
ких предков. И вот парадокс: в наблюдениях и анали
тике революция мая 1968-го предстает как игра стихий
ных сил бессознательного, в то время как каждый, при
нимавший участие в майских акциях, борется за новую
свободу, высвобождение индивидуальных сил, либе
рального субъекта. Правда, одно дело, что действи
тельно происходит, а другое — что думают о том, что
действительно происходит. Модные тогда теоретиче
ские модели, хотя и воспитывали будущих «комбатан
тов», не могли заменить практическое умение вести
уличную войну, пропаганду, готовить «коктейль Моло
това»... В данном случае Сартр не противоречит Делезу и Гваттари, а его экзистенциальный гуманизм пост
структуралистскому антигуманизму, они сосущест
вует, но в разных измерениях революционного опыта.
Категориальный порядок машинного бессознательного
Делеза/Гваттари совмещается с субъективистской тотализацией Сартра? Враждебность Сартра к новым па
277
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
рижским гуру—Фуко и Делезу—была общеизвестной.
Но эта враждебность системная, не личная.
Не могли бы вы сказать об этом подробнее?
Несколько уровней: на первом мы находим фило
софию в качестве акта высвобождающей себя мысли
(кантовское определение просвещения отчасти совпа
дает с освобождением); на втором освобождение пони
мается тематически, как освобождение от всего того,
что делает человека менее свободным, непосредствен
ным, что отчуждает его от Другого, от мира и природы
(руссоистский «поворот» к «доброму дикарю»); и, на
конец, на третьем освобождение берется с точки зре
ния определенных социальных систем, нуждающихся
в глубокой модернизации (не всякая мысль способна
выстроить «мировую онтологию свободы»). Мыслить
освобождение — это осуществлять политику. Сартр пы
тается исследовать «интенциональное бытие» свобо
ды, и это вполне доступная политтехнология освобож
дения. Все, что кажется несвободным, —сложившиеся
привычки, обычаи, догматизм, идеологические нормы,
подавление чужого мнения, наличие репрессивного
госаппарата и прочее — должно быть выявлено, «опи
сано» и затем отвергнуто.
Однако освобождение возможно в том случае, ес
ли человек уже обладает свободой (проектностъю или,
в другом языке, суверенностью). О чем, кстати, не пе
реставая, говорит Сартр: освобождение возможно
только на основе онтологии бытия свободы. Сам же
вопрос об Освобождении вторичен. Ведь освобож
дение есть некий горизонт, в котором располагают
ся практики свободы. Можно согласиться с тем, что
опора на «марксизм» как на традиционную теорию
освобождения вполне допустима, но лишь на осно
ве, я бы сказал, радикальной деконструкции марк
систской доктрины. Сартрианский активизм близок
постмарксистским теориям и остается волюнтарист
ским, не признающим хоть какое-то сомнение в уни
278
VI I I . Д о И ПОСЛЕ МАЯ 6 8- ГО
версальном статусе субъекта. И он не одинок. Доста
точно вспомнить философии освобождения, пред
ставленные «критической теорией» Франкфуртской
школы, фрейдомарксизмом, сюрреалистическим дви
жением в искусстве и литературе и др.
Делез/Гваттари идут навстречу Сартру с другой
стороны. Они делают ставку на идеи Освобождения,
а не индивидуальную практику свободы; они не гегель
янцы, их не волнует «дух», а скорее «тело», понимае
мое в терминологии машин желающих, бессубъектная,
телесно-ориентированная революционная практика.
(Можно сказать, что они против Сартра времени «Бы
тия и ничто» (1943).) Для Сартра важно понять, кто яв
ляется субъектом истории. Ставка делается не на «ма
териальную инертность» практики рабочего класса,
а на активных одиночек, объединенных в группы. Речь
идет о «группах-в-слиянии», group еп fusion14, кото
рые постепенно начинают завоевывать и определять
весь курс революционной истории. И что удивитель
но, Делез/Гваттари берут на вооружение теорию групп
истории Сартра, изложенную им в «Критике диалек
тического разума», и вводят понятие «субъект-груп
пы» (groups-sujets), отличая ее от «группы подчинения»
(groups assujettis), но это два состояния, первое из кото
рых и есть революционная практика желания15.
Здесь нет возможностей продолжать анализ. Скажу
только: май 68-го остается для Делеза/Гваттари опы
том, уже состоявшимся, пережитым и наследуемым,
образцом, от которого можно оттолкнуться, в то вре
мя как для Сартра май 68-го так и остался в будущем,
которое не случилось, во всяком случае в то время, ко
гда он продумывал свою теорию. Делез/Гваттари не
ожиданно предстают верными учениками Сартра.
14 Sartre J.-P. Critique de la Reason dialectique. Например,
p.415-430.
15 Deleuze G.} Guattari R L’A nti-OEdipe. Capitalisme et schisofrenie. Editions de Minuit. 1972. P.417-419.
2 79
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
Можно ли сказать, что революция 68-го была изна
чально обречена на поражение, и это закладывалось
в базовые модели практически всех наиболее влиятель
ных тогда теорий «освобождения»? Никакой полити
к у никакого расчета или никакой установки на конеч
ную цель — так можно понять основную идею теории
Освобождения? Только сам бунт ... взрыв ради взрыва,
некий выброс неуправляемой социальной энергии?
Мне кажется, «красный май» — это последняя ре
волюция в современной европейской истории. Есть
два вида взрыва, и они различаются как «explosion»
и «implosion»: первый — взрыв открытый, когда все
вокруг рушится и сметается с пути; второй — взрыв
скрытый, похож на взрыв в рукавах угольной шахты —
на поверхности ничего не видно, а под землей дви
жется мощная взрывная волна, но поскольку препят
ствия на ее пути значительны, то она не производит
заметных разрушений, зато все шахтовые крепления
проверяются на прочность. Другое дело — большие
землетрясения. Скрытый взрыв мы иногда называ
ем реформами. Все острее чувство угрозы, и если ни
чего не делать, то что-то да произойдет... Поэтому
процесс реформирования общества постоянен: сни
мать напряжение, которое может привести к массо
вому недовольству, «революционному взрыву». Взрыв
открытый — демонстрация разрешения острой про
блемы прямыми действиями. Так вот, революция мая
1968-го — такой взрыв, — разом были поставлены под
сомнение многие «завоевания» X IX в. Однако сами
революционеры действовали по кальке предыдущего
столетия — сначала сделаем, а потом посмотрим. Бунт
ради бунта. Главное — нанести удар — в этом видна
стихийная логика интересов в «революциях» X IX сто
летия, которые оканчивались поражением, принося
щим новую победу. Такие революции давали что-то
новое, но не побеждали. Идеал революционного вос
стания недостижим; в конце пути, как всегда, — раз
очарование. Те же стадии проходит и «революция»
280
VI I I . Д о И ПОСЛЕ МАЯ 68- ГО
мая 1968: надежда, гнев, решимость не отступать, за
тем спад, отчаяние и, наконец, восстановление властя
ми порядка. Контрреволюция лишь подтверждает же
лание революции завершиться.
Нельзя ли уточнить позицию французского интеллек
туала после мая 1968 г.у насколько она изменилась? Вот
вы указали на одну группу мыслителей, которые зало
жили саму идею этого сартровского требования Невоз
можного, т. е. идею Освобождения. Но есть же и дру
гая группа, и она явно придерживалась иных позиций...
Вы правы. Время после мая 1968-го — иное время.
На первый план вышло поколение французских ин
теллектуалов, ориентированных на постструктура
листскую парадигму: Ж. Лакан, М.Бланшо, М.Фуко,
П. Бурдье, Ж. Деррида, Ф. Лиотар, Ж.Делез, Ф. Гваттари, А. Бадью, Ж. Бодрийяр и многие другие. Целая
плеяда влиятельных мыслителей, которые постави
ли своей целью извлечь теоретические уроки из опы
та поражения революции мая 1968-го (многими из них,
кстати, лично пережитого).
Первый урок: обществом ни выучено никакого уро
ка. Это событие остается в памяти левого сознания как
поражение; но поражение, открывшее пути к новому,
более тщательному и всестороннему, исследованию
общества. Не «почему не удалось победить?», а «как
вообще революция смогла состояться»?—вот что надо
понять. Отказ от «революционной политики» в пользу
радикализации мысли. После мая 1968-го началась дру
гая революция — теоретическая. Если кто-то желает
победы и готов к бунту, что за желание движет им (от
веты Ж. Лакана), если кто-то отказывается от всякой
революционной романтики в пользу комфорта и нор
мы, что такое потребитель — новый субъект постка
питалистического общества (ответы Ж. Бодрийяра).
И потом, как это получилось, что власть так быст
ро консолидировалась, провела перегруппировку сил,
и вот порядок восстановлен? Тема власти — особая:
281
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
ее неуязвимость, неистощимость в домогательствах
и уловках, способность возрождаться там, где, казалось,
она более не в силах себя проявить. Прямо-таки соци
альный фантом. Несомненно, отсюда страх перед вла
стью. Как следствие, вопрос, а что если власть «столь же
многочисленна как демоны» (Р.Барт). Настоящая кратофобия. Так власть лишается конкретных полити
ко-классовых характеристик, и это уже не отдельная
власть (партии, группы, института или класса). Власть
предстает могущественной инстанцией социального
опыта, своего рода «паразитом транссоциального ор
ганизма». Что же позволяет власти «паразитировать»
на свободной энергии общества? Власть не впереди, не
перед нами, а за спиной. Власть транзитивна, она по
всюду— вот почему мы бессильны. Ведь сколько раз ее
ни свергали, она остается на месте, все та же тень вели
кого Господина? Это вопрос, а ответы М. Фуко. В 1975 г.
он выпускает книгу «Надзирать и наказывать. Рожде
ние тюрьмы», в 1976-м — «Воля к знанию. История сек
суальности. Том 1». Фуко предлагает «свои» методы со
противления власти, учитывая опыт, который ему был
открыт майскими событиями 68-го. И этот опыт под
сказывает, что нужно занять радикально нейтральную
позицию, отказываясь от участия в дискредитировав
шей себя игре классовых и партийных интересов. Избе
гать вовлеченности в спор по поводу традиционных по
литических лозунгов: «свобода или господство», «либе
рализм или тоталитаризм», «право или закон» или еще
более глобальных «социализм или капитализм»? Мыс
лить власть нужно не там, где она скрыта идеологиче
скими, экономическими или юридическими масками,
а там, где она исполняется: на заводе, в конторе, психи
атрической клинике или тюрьме, в школе или полицей
ском участке. Вот что называется микрофизикой власти.
Второй урок : позиции интеллектуала в обществе
должны быть пересмотрены. Традиционный интел
лектуал — универсальный homme de lettres. Только
к началу XX в. он расстается с иллюзией принадлеж
282
VI I I . До И ПОСЛЕ МАЯ 68-ГО
ности к «свободно парящему слою», freischwebende
Schicht (К.Маннгейма). Позиция Сартра, в частности,
вполне соответствует такой установке: быть созна
нием для других. За отставкой традиционного интел
лектуала следует узкая специализация, охватываю
щая науки, в том числе гуманитарные. Появление же
интеллектуала, «узкого специалиста», отмеченного
еще Грамши в противостоянии «органическому ин
теллектуалу», традиционному, знаменует конец уни
версального гегелевского сознания. По мнению Фу
ко, интеллектуал сегодня больше не «рапсод вечно
го», а «стратег жизни и смерти»16. Политизировалось
знание, которым он обладает. Старое право на мани
пуляцию частными истинами ради «единой» постав
лено под сомнение: теперь тот, кто производит знание
(«истину»), в силах осуществлять политику этого зна
ния (физик-ядерщик, программист, социолог, биолог
или историк). Так, каждый ученый-специалист может
осуществлять новую политику знания, не перепору
чая ее институту, партии или отдельным политикам.
Не кажется ли вам, что на интерпретацию событий
мая 1968 г. оказали и продолжают оказывать силь
ное влияние возможности, открывшиеся с развити
ем массмедийного пространства в западном общест
ве 1980-1990-х гг. Современное общество чрезмерно со
бытийно, переполнено «случившимся» и «ожидаемым»,
но и чрезмерно раздроблено, фрагментировано, хао
тично. Утратив единый центр и общее идейное насле
дие, группы интеллектуалов сами разделились на фрон
ты, лагеря, направления, группы влияния и «группки».
Вопрос такой: не возникла ли как раз в эти годы, по
сле мая 1968 г., особая власть французской авангардной
философии (кстати, не она ли принесла мировую сла
ву французской культуре в 1980-1990-х гг.)?
16 Entretien avec Michel Foucault // Foucault M. Dits et ecrits.
III. 1976-1979. R, 1994. P. 157.
283
В алерий П о д о р о г а . А пология
политического
Ваш вопрос можно отнести к третьему уроку. Дей
ствительно, в течение десятка лет университетская
номенклатура утрачивает культурный и социальный
престиж. В центре массмедийного интереса не фигура
профессора (даже «воинствующего»), а некий триеди
ный образ: издатель —журналист — редактор (менед
жер, продюсер и др.). Передача функций завершается,
появляется специализированный посредник по довод
ке факта культуры до уровня события, фигура «хода
тая потребления» (выражение Р. Дебре). Формируется
образ философа-авангардиста. В многочисленных ин
тервью, беседах на радио и телевидении, дискуссиях,
высказываниях и комментариях, публикациях в прес
се принимают активное участие многие известные ин
теллектуалы (чаще других М.Фуко, П. Бурдье, Ж. Дер
рида, Ж. Бодрийяр, Р. Барт и др.). Мэтры становят
ся профессионалами массмедиа. Портреты духовных
гуру чуть ли не ежедневно появляются на страницах
популярных изданий. Появляется фигура публичного
философа, участника дебатов на телевидение, участ
ника всех «мировых событий», создателя лекционных
курсов, с которыми он колесит по миру. И не только.
А интенсивность письма — нельзя забывать и о таком
факторе. Создавать книги на одном дыхании, форми
ровать идеи и издательские позиции. Подпись автора
сразу же получает прибавочную стоимость. Все пишут
обо всем, все можно говорить, и говорят: слово обес
ценивается в борьбе за признание. Не писать, писать —
это слишком обязывает, слишком замедляет, слишком
напоминает авторское усилие, веру в знание. Лучше
говорить, или точнее — писать, как говоришь. И вот
публикации движутся все более ускоренным пото
ком. Живопись, кинематограф, фотография, мода, ар
хеология культуры, психоанализ, литература и фило
софия, лингвистика и семиотика—больше нет границ.
Дисциплины и жанры теперь не замкнутые и охраняе
мые территории, они смешались. Гениальность диле
танта приветствуется. Великая битва за прижизнен
284
VI I I . До И ПОСЛЕ МАЯ 68- ГО
ное признание, нельзя стать забытым сегодня, нужно
досаждать, атаковать, оказываться рядом с событием,
по возможности создавать его. Развивается чувство
успеха на интеллектуальном рынке, разрыв с универ
ситетскими традициями знания все более углубляет
ся. Другими словами, мыслить сегодня — это так или
иначе участвовать в массмедийной культуре событий
каждого дня.
Насколько актуальна сегодня революционность идей
68-го? Можно ли ожидать в X XI в. чего-то подобного,
если не повторения, то во всяком случае предстающе
го в качестве реальной угрозы мирового порядка?
Не думаю. Слишком много иных угроз...
Когда перечитываешь сводки «военных» действий
далекого от нас мая 68-го, удивляешься поразительной
активности студенческой массы. Практически на каж
дое действие властей тут же находится ответ. Как буд
то отдельный этап схватки имеет бесконечный ресурс.
И все же только часть революционной энергии бы
ла освоена обществом. Другая, не менее важная, ра
бота—это переосмысление того, что случилось. Такая
работа была проделана европейскими интеллектуа
лами именно в 1970-1990-х гг. Возникли концепции,
которые, в конце концов, обслуживали потребности
и институты среднего класса. А средний класс ценит
не практику освобождения, не революционные дей
ствия, а собственные права: право на свободу выбора,
право на труд, право на то, что называется «достойной
жизнью». Ему не нужно освобождение. Он ни от чего
не хочет освобождаться, он хочет зарабатывать, по
треблять, ездить на курорты, жить комфортно, полу
чать удовольствие. Вот эту большую массу людей, по
лучивших достаток и желающих покоя, не имеющих
«убеждений», и ненавидят люди XIX в.: революционе
ры, создатели новых миров («ситуационисты», «троц
кисты», «анархосиндикалисты», «маоисты», «маркси
сты-ленинцы» и пр.). Они атакуют. «Мировая левая
285
В алерий П о д о р о г а . А полог ия
политического
лига» отчаянно нападает на позиции среднего класса,
ставшего центром стабилизации западного общества.
Средний класс планирует будущее, его идеология под
тверждает ценности прошлого (традиции, привычки,
наследия), настоящее для него — не все время, а по
средник, темпоральный центр переходов. Для акционистских группировок, напротив, только настоящее
имеет ценность, причем ценность будущего. Управ
лять будущим легко, надо взорвать настоящее.
Некогда один из интеллектуальных лидеров «Крас
ных бригад», А. Негри, публикует с М. Хартом, учени
ком Фр. Джеймисона, книгу «Империя» (политический
бестселлер, имевший шумный успех). Попытка разыг
рать карту мая 68-го, вернуться к идеологии Освобож
дения в связи с новым этапом кризиса капитализма.
Распад Советского Союза, новая ситуация в мировой
геополитике: вместо противостояния двух сверхдер
ж ав-С Ш А и С С С Р —осталась одна, американская. На
дежда на революцию времени X возвращается вместе
с идеей империи. Империя и революция оказывают
ся неразделимы. Те же антиглобалисты действуют как
новые революционеры, они что-то демонстрируют, че
му-то сопротивляются, что-то провоцируют, «взры
вают» ситуацию, ставят проблему, атакуют полицию
и «новый капитализм»... Но если вы спросите, а что
за этим — они ничего вам не ответят. Они просто уве
рены в том, что общество, которое они атакуют, на
столько крепко и настолько готово все выдержать, что
эти демонстрации — вовсе не какие-то тяжелые уда
ры, а своего рода пощечины. Слегка встряхнуть, ниче
го не разрушая. Это способ взбодрить общество, чтобы
оно решилось что-то подправить. Антиглобалисты ста
ли частью процесса реформирования капитализма —
кому-то из «нетерпеливых» это покажется поражением.
Но, вероятно, есть и противники мая 1968 г., не все же
посчитали столь серьезное потрясение устоев государ
ства всеобщим благом?
286
VI I I . До и ПОСЛЕ МАЯ 6 8 - г о
Конечно. Надо признать, что «левая» мысль в лице
великих мэтров постепенно теряет свое «революци
онное» влияние, особенно, в конце 1990-х гг. Но уже
много ранее, в постреволюционное время, сформиро
вался антидискурс мая 68-го, который в лице Р. Деб
ре и прежде всего Р. Арона активно заявил свои по
зиции17. Я бы назвал его контрреволюционным, хотя
это и не точно. Ожидаемая точка зрения была вы
сказана Дебре в одном из его политических памфле
тов: он увидел в революции мая 68-го начало амери
канизации французского общества. Довод его весьма
простой и совпадает во многом с исследовательской
программой Ж.Бодрийяра18. Майская революция бы
ла частью мирового американского экспорта рынка
контркультуры: длинные волосы, унисекс, sensitivity
training, признание прав гомосексуалов, непрямые ме
тоды обучения, антипсихиатрия, сексуальное воспи
тание, легализация порнографии и т.д. Итог — утрата
важнейших ценностей: идеи нации (в конечном ито
г е — независимости) и идеи пролетариата (упразд
нение революционного горизонта французского об
щества)19. Неоконсервативные тенденции в мировой
политике 1970-1980-х гг. постепенно вытеснили рево
люционность 1960-х. А та философская критика, ко
торая еще была в деле, потеряла ясно определенный
адрес, обратная связь с обществом нарушилась и так
и не восстановилась, я имею в виду, конечно, ушедшую
на покой идею «революционности масс»...
17 Audier S. La pensee anti-68. Essai sur une restauration
intellectuelle. Editions La Decouverte. Paris, 2008.
18 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и струк
туры. «Республика», «Культурная революция». М., 2006
(пер. Е. А. Самарской).
19 Audier S. La pensee anti-68. Op. cite. P. 100.
Научное издание
Серия «Политическая теория)
ВАЛЕРИЙ ПОДОРОГА
АПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО
Главный редактор
ВАЛЕРИЙ АН АШ ВИ Л И
Заведующая книжной редакцией
ЕЛЕНА БЕРЕЖ НОВА
Редактор
ЕЛЕНА М АКЕЕВА
Художник
ВАЛЕРИЙ КОРШ УНОВ
Верстка
СЕРГЕЙ ЗИН ОВЬЕВ
Корректор
НАТАЛИЯ СЕЛИ НА
ГО СУДАРСТВЕН НЫ Й УН ИВЕРСИ ТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКО Н О М И К И
125319, М осква, Кочновский проезд, д .З
Тел./факс: (495) 772-95-71
П одписано в печать 15.09.2010. Формат 84x108/32
Гарнитура M inion Pro. Усл.печ.л. 15,1. У ч.-изд.л. 12,7
Печать оф сетная. Доп. тираж 600 экз.
И зд. № 1090. Заказ № 1538
О тпечатано в ГУП ППП
«Типография „Наука“»
121099, М осква,
Ш убинский пер., 6
ISBN 978-5759807377