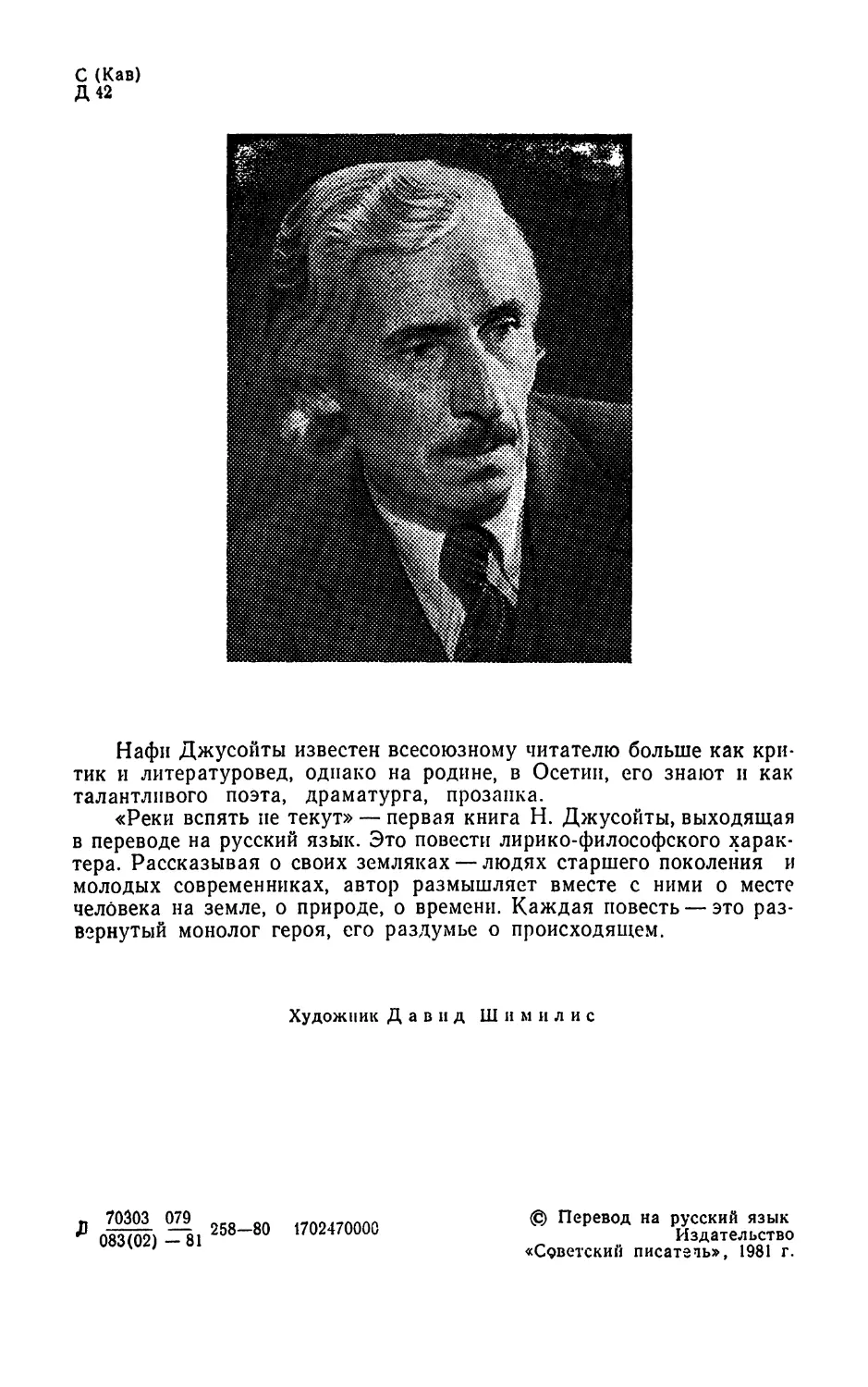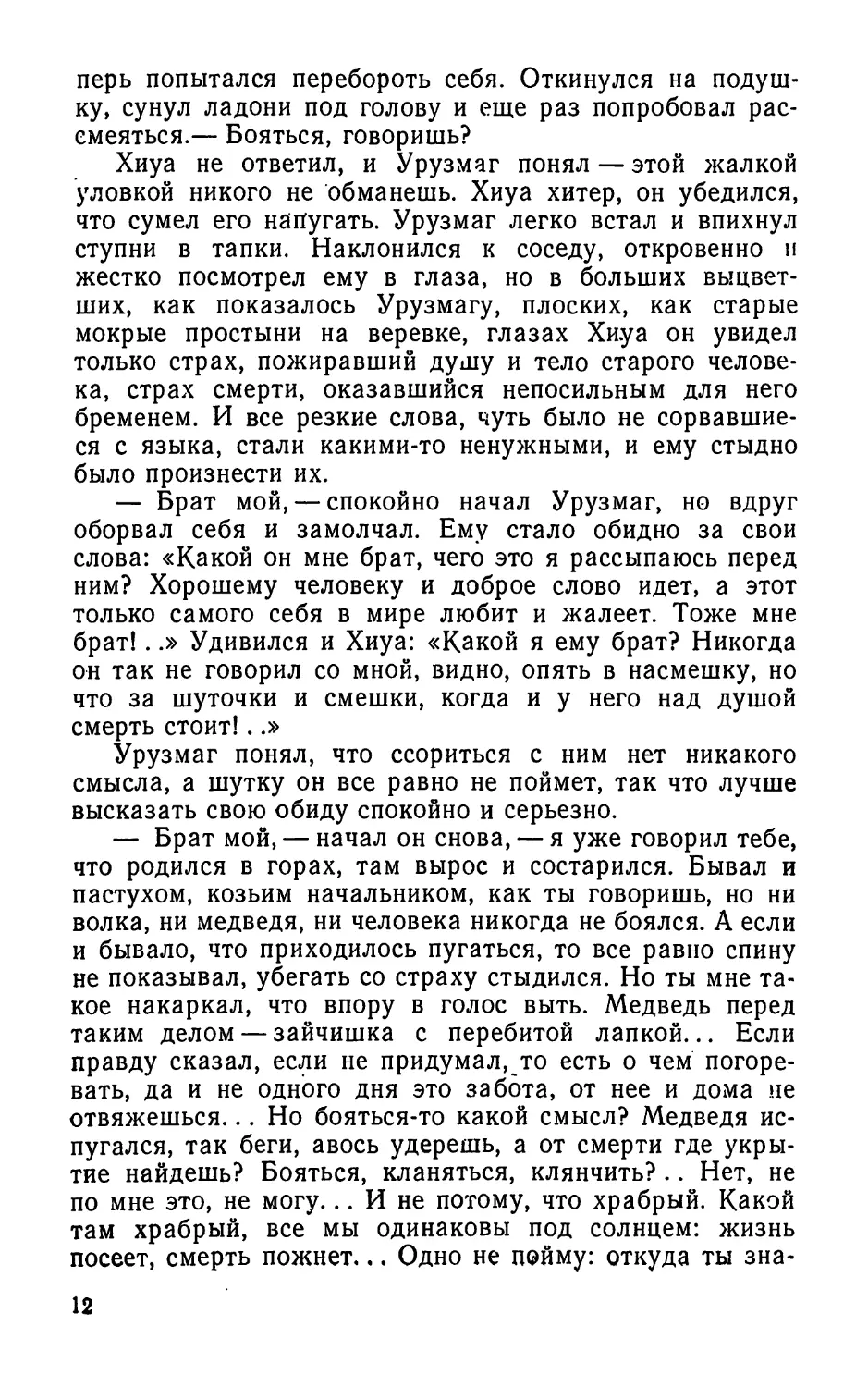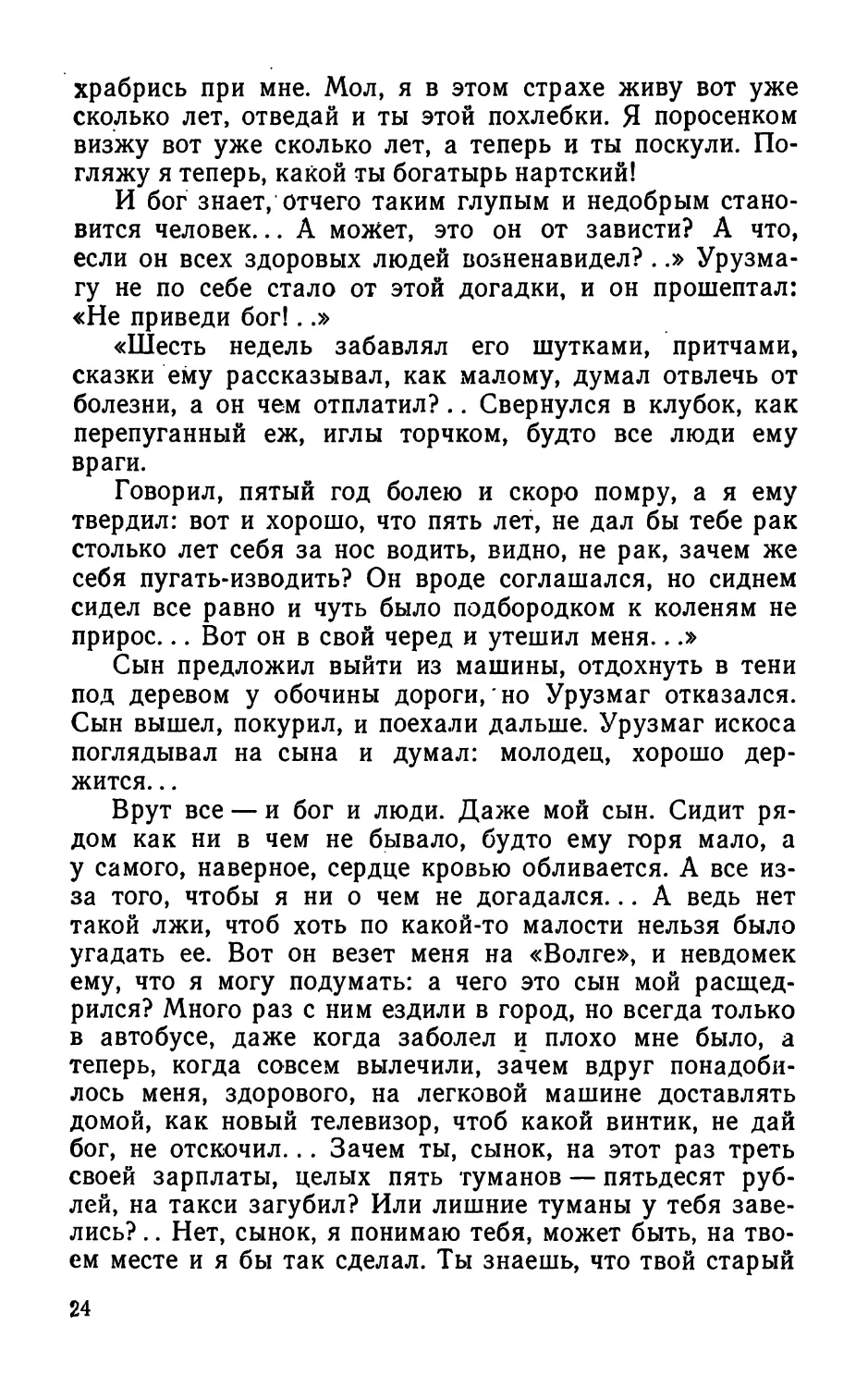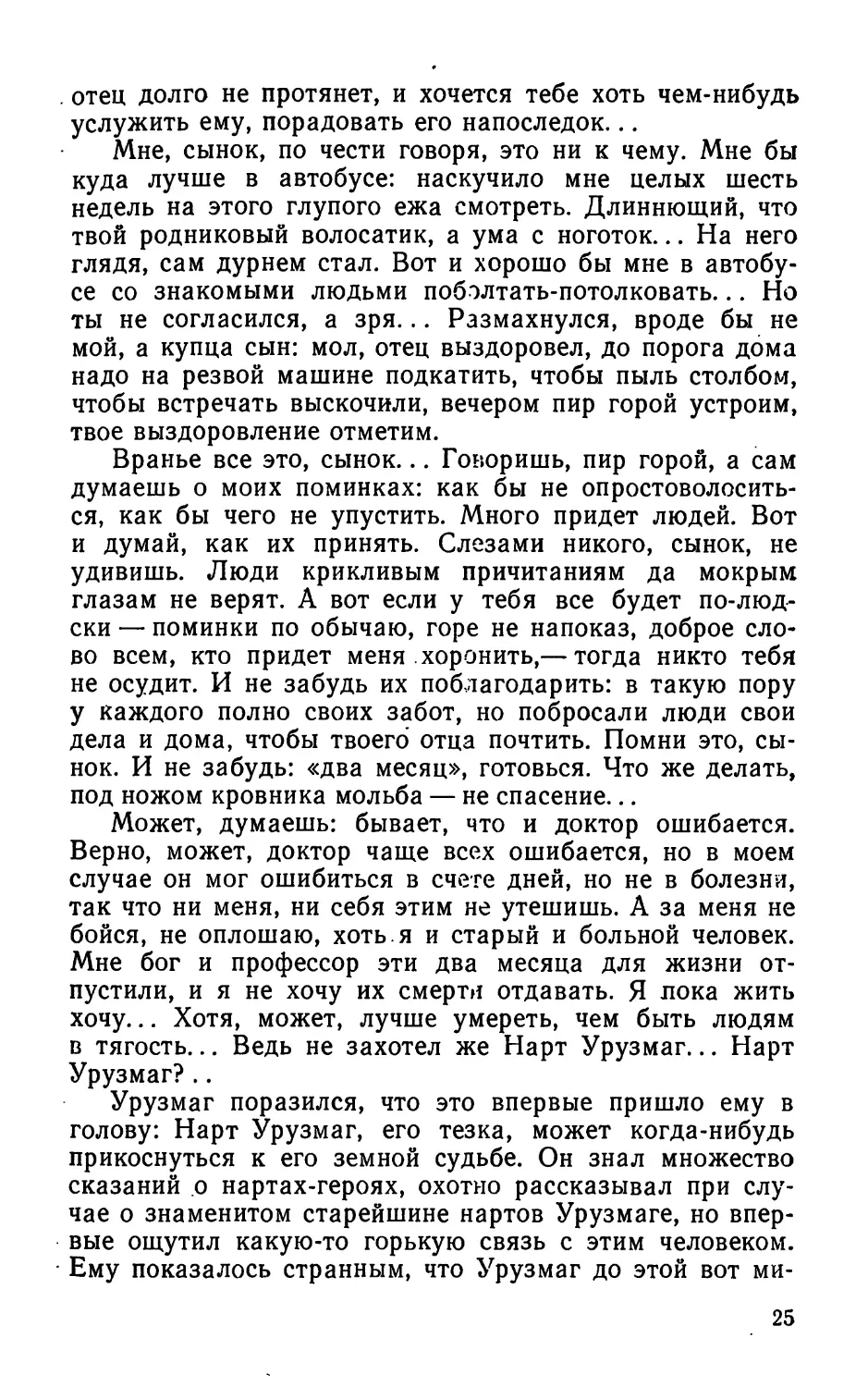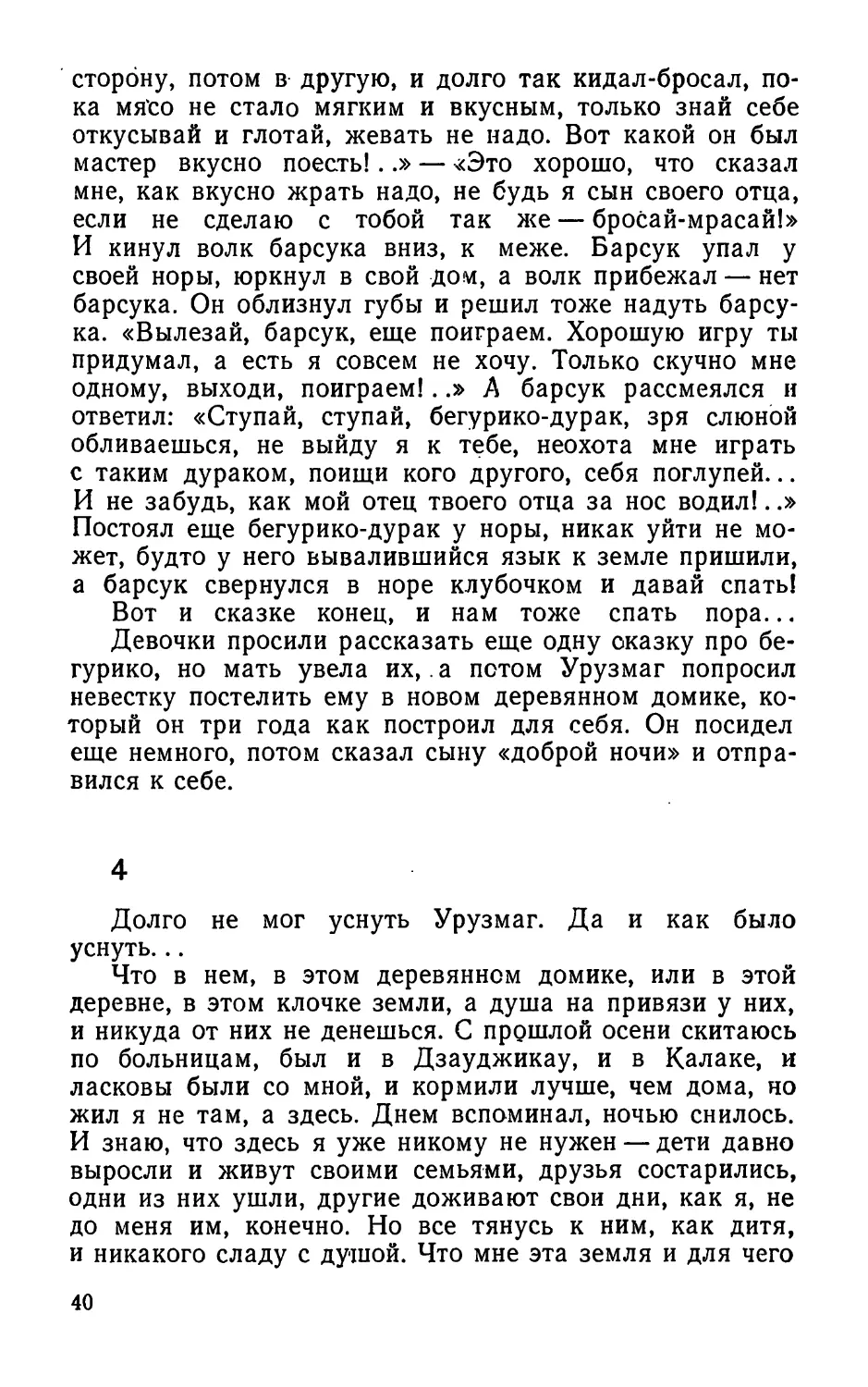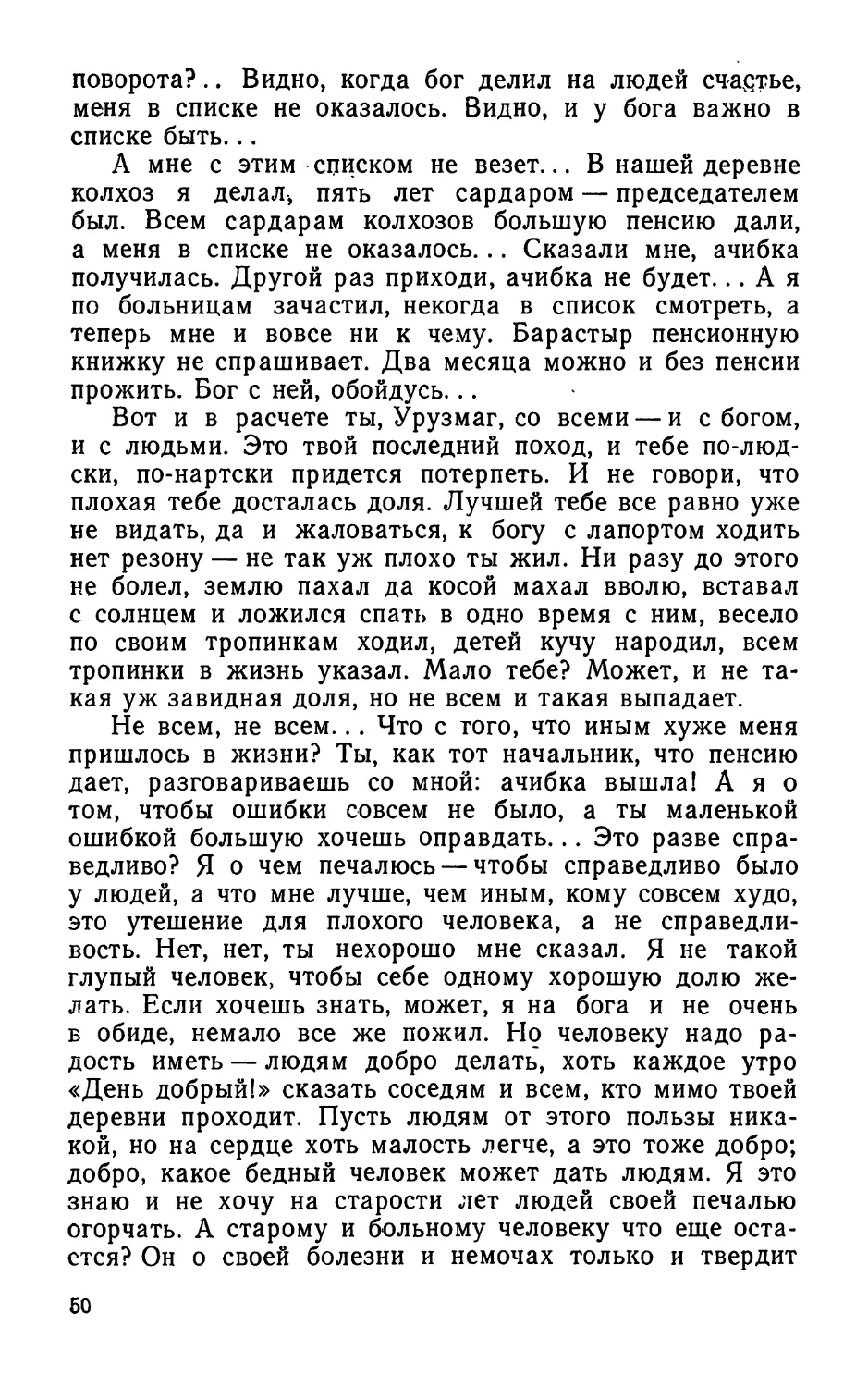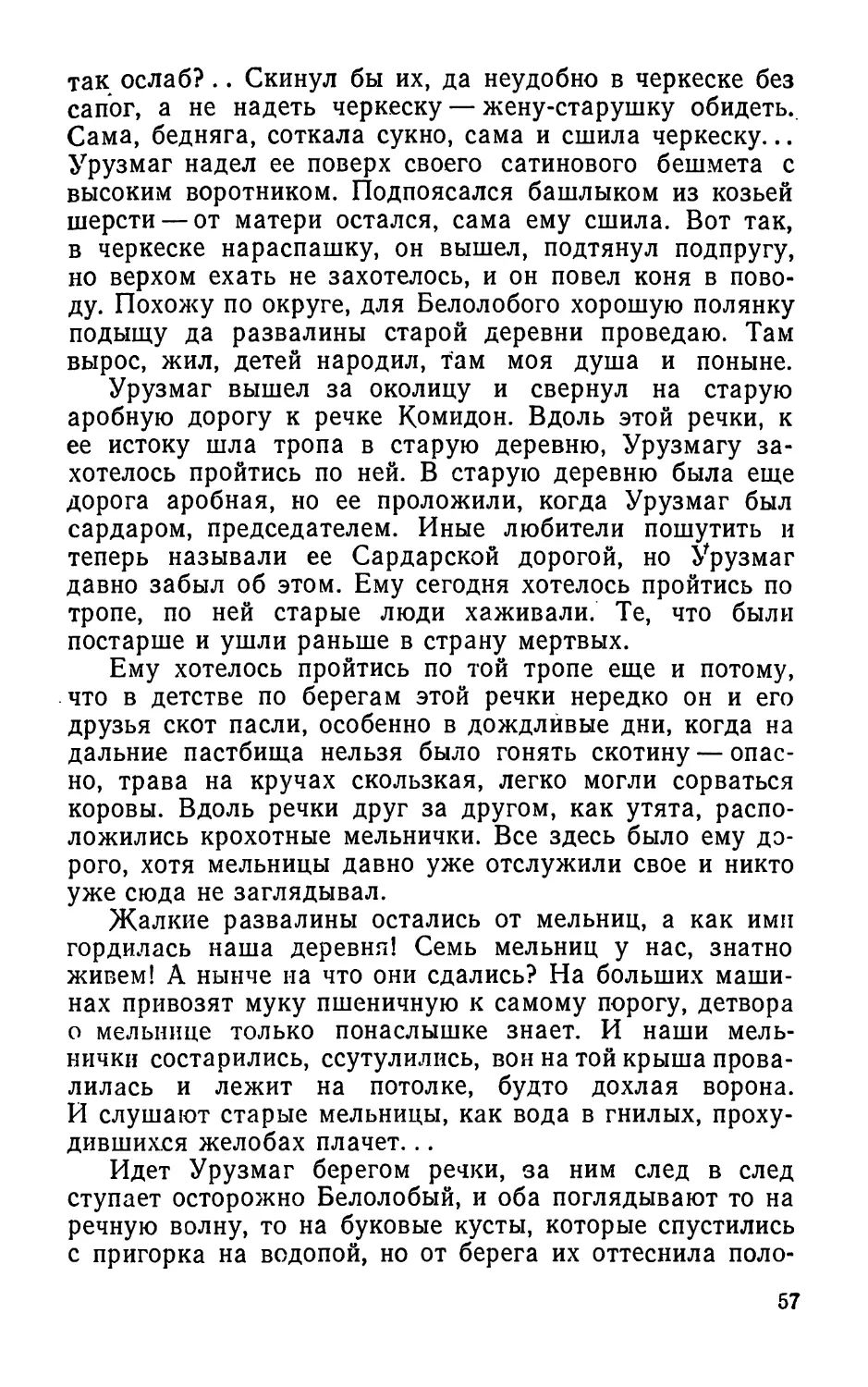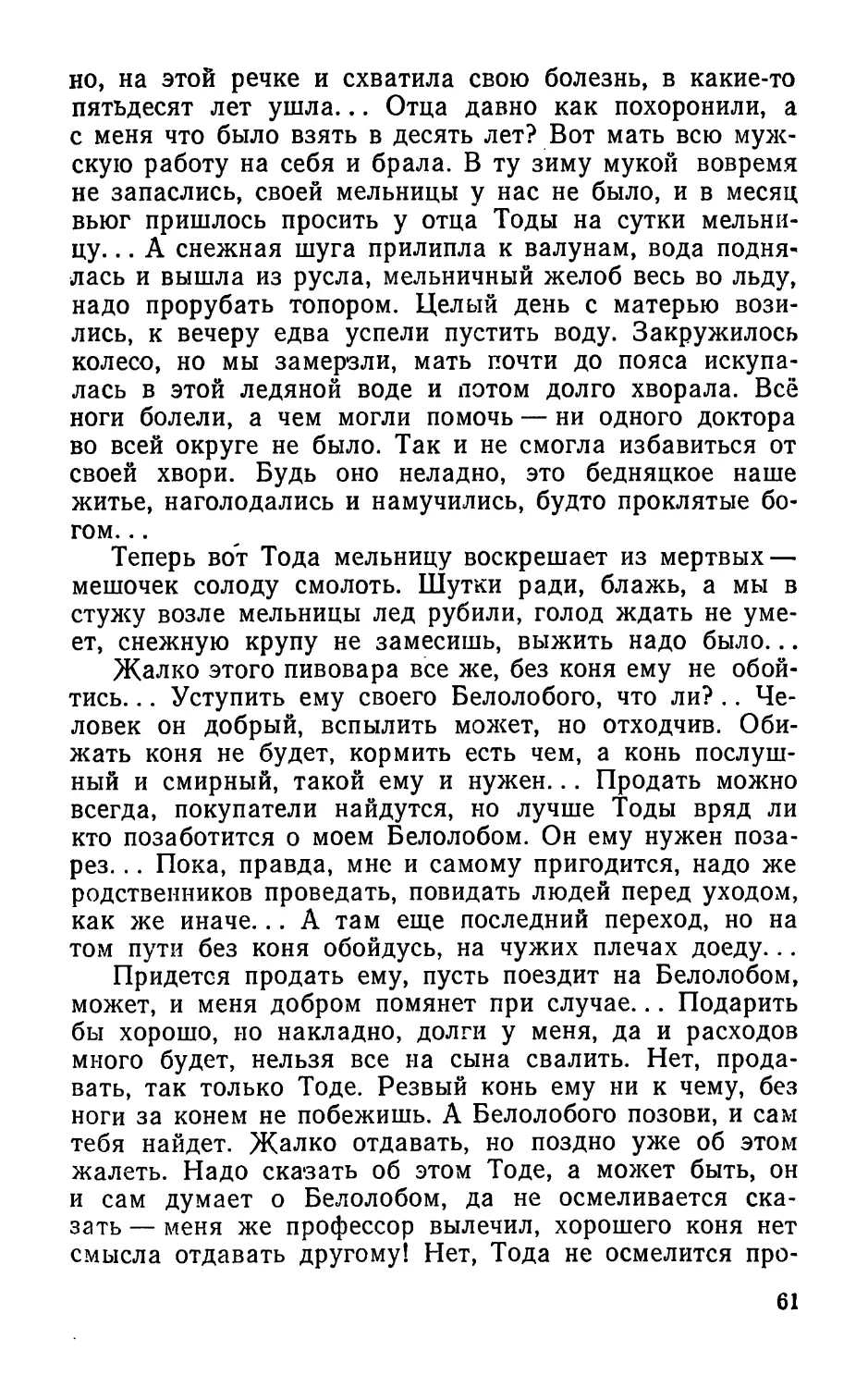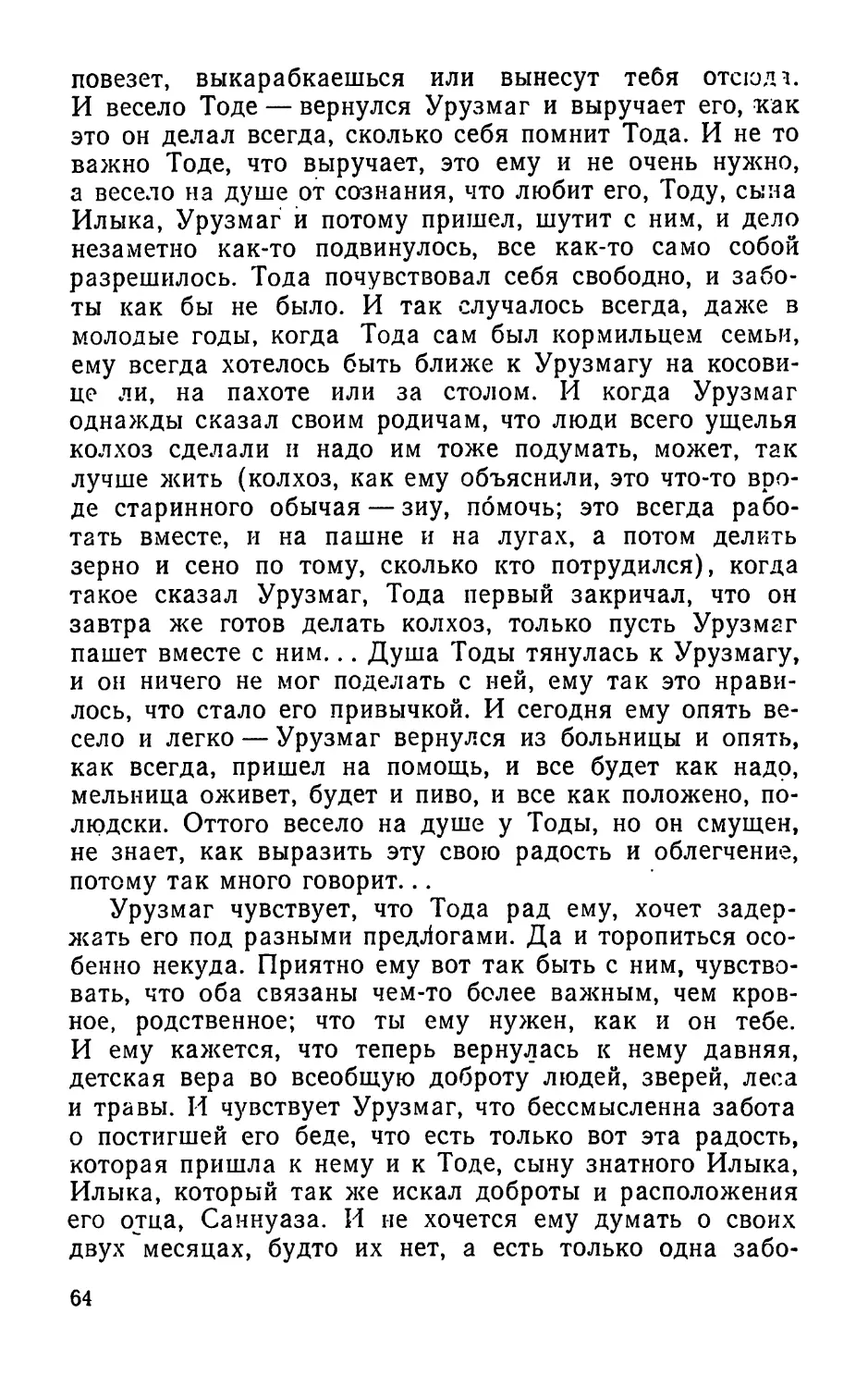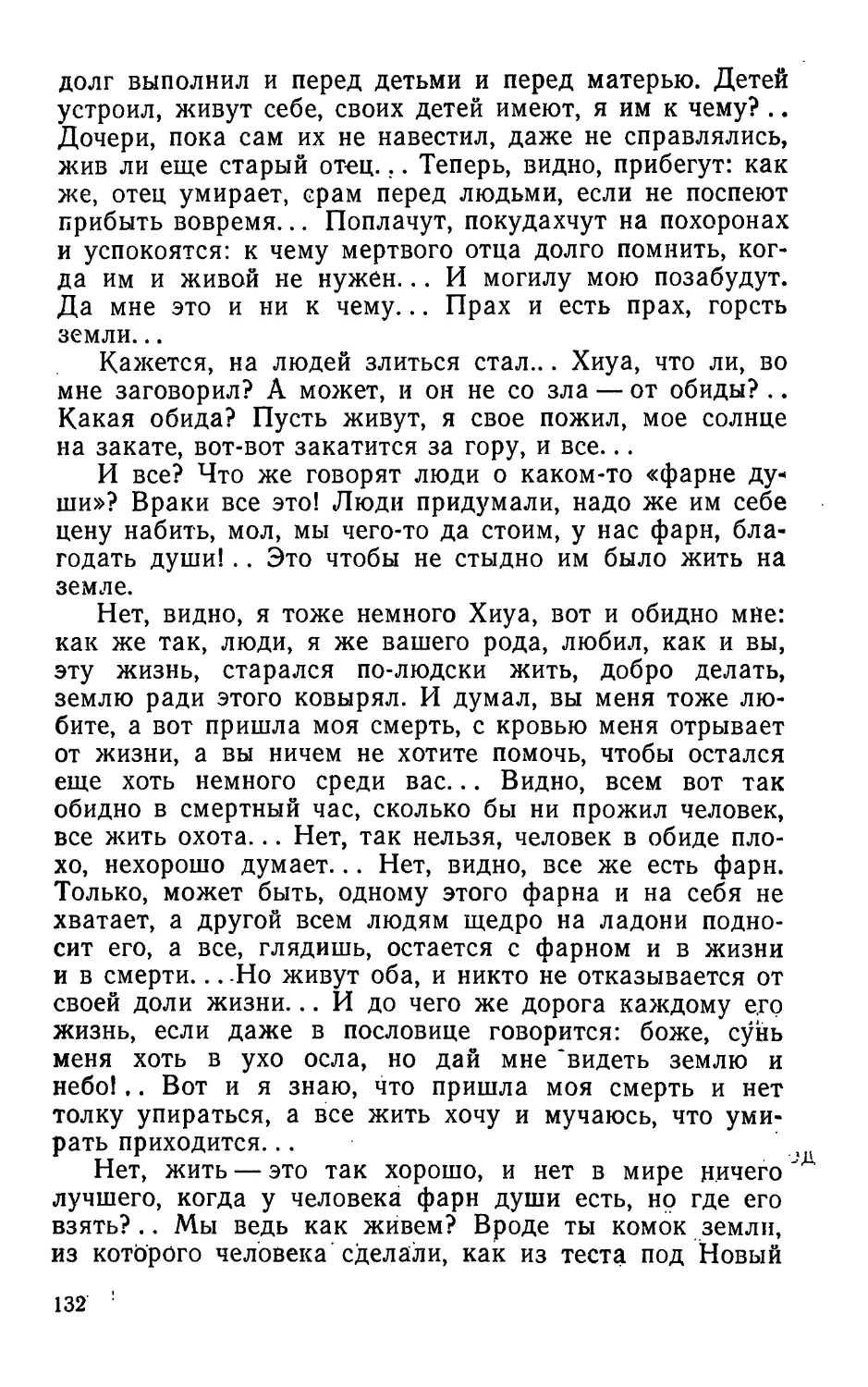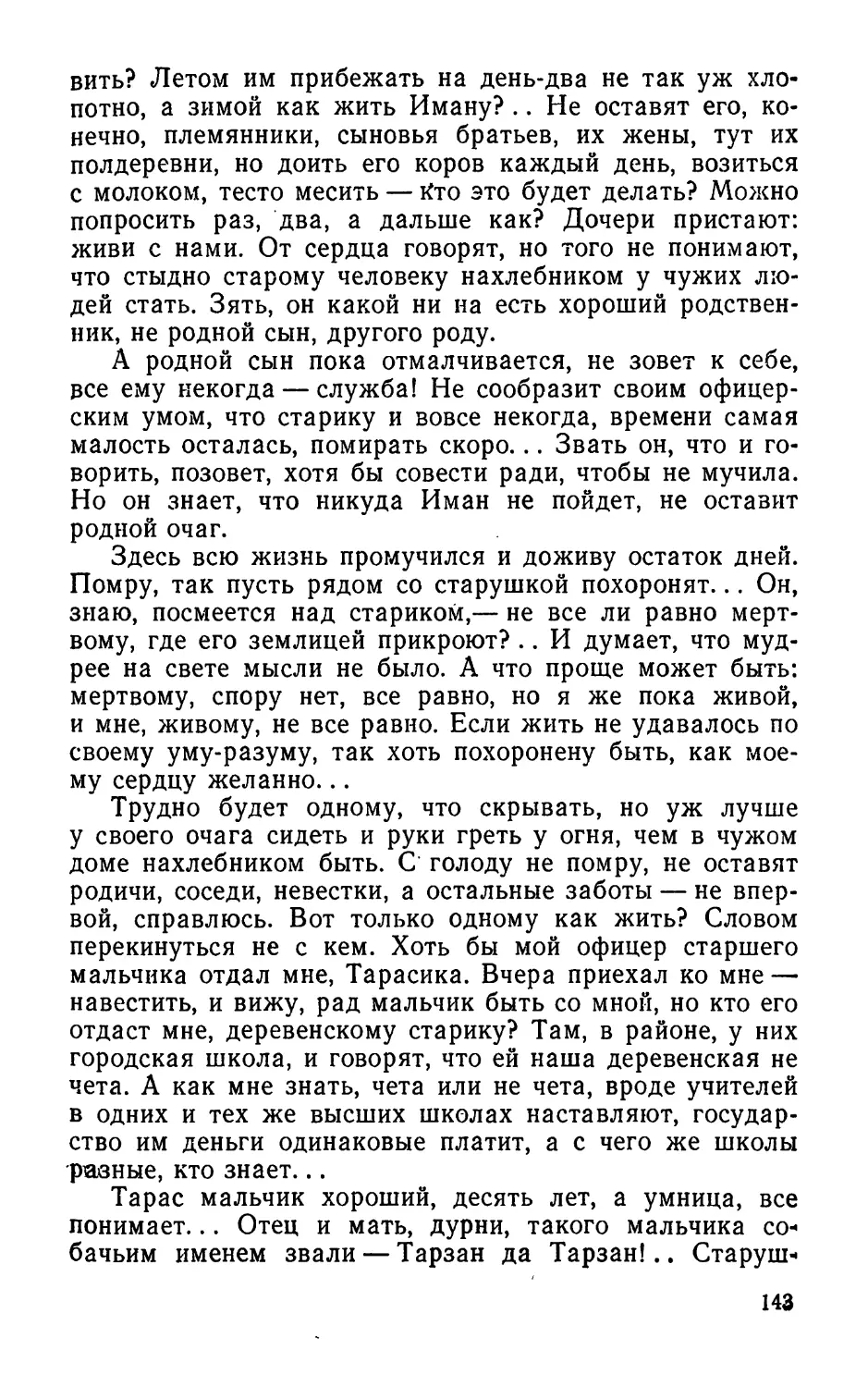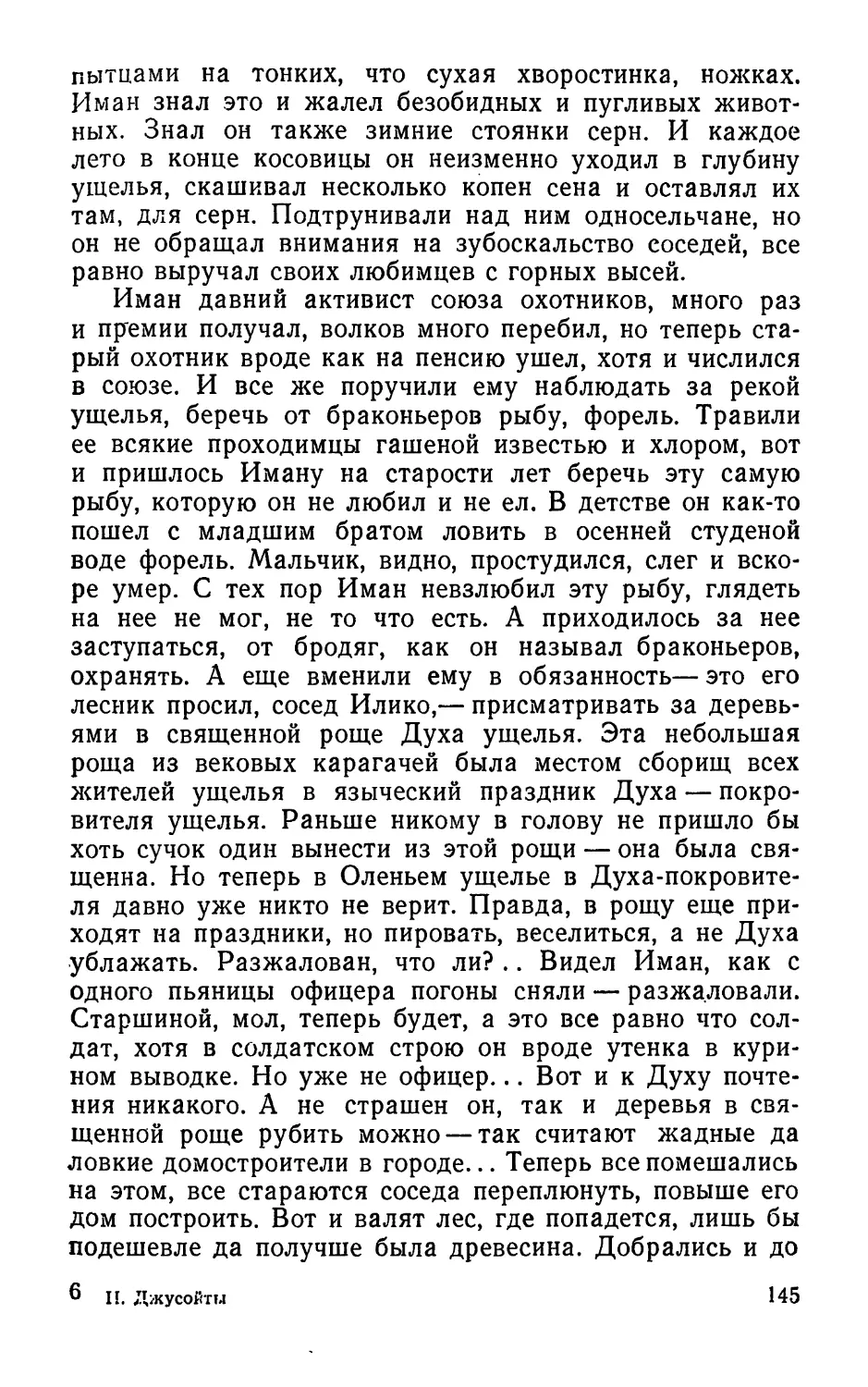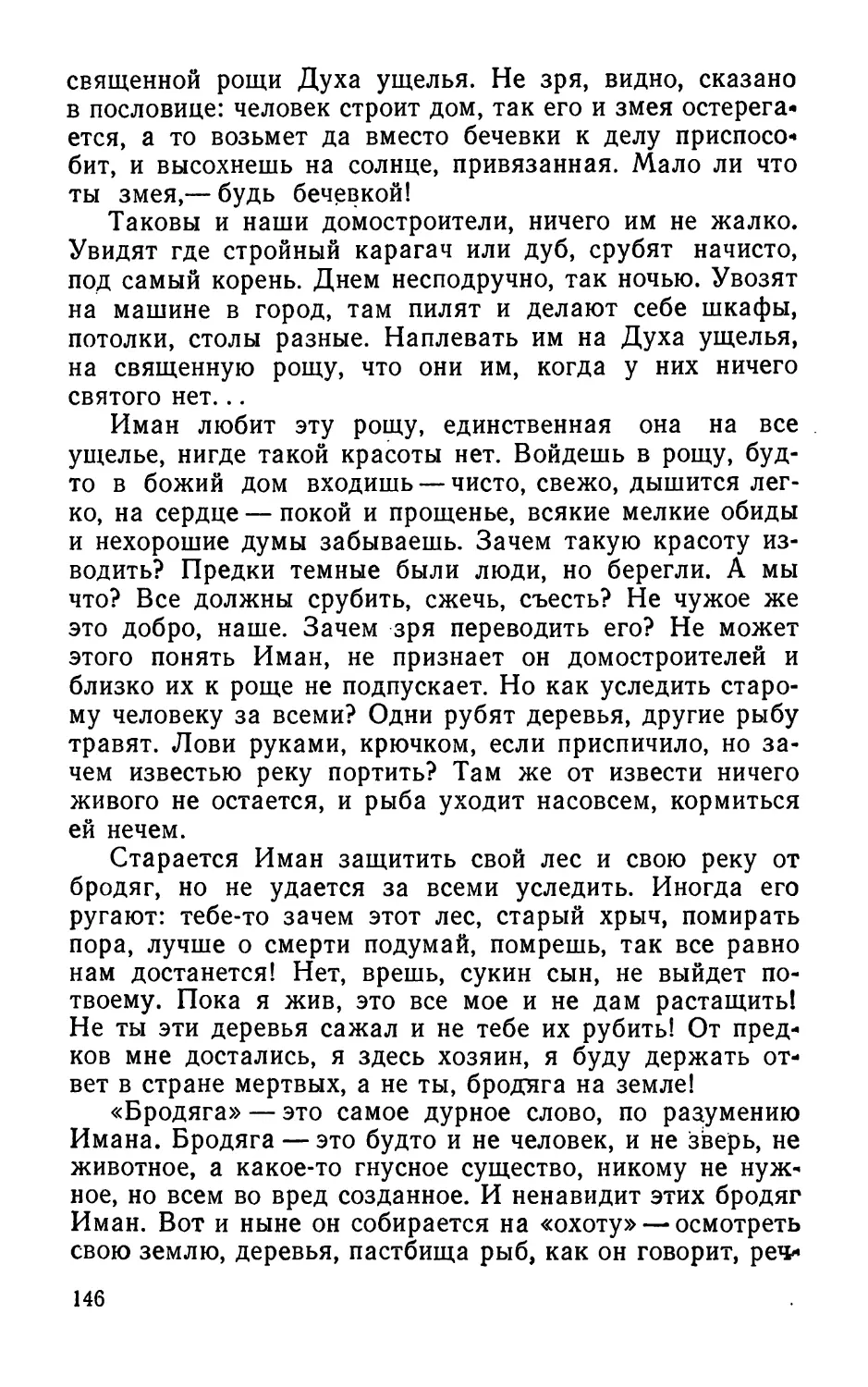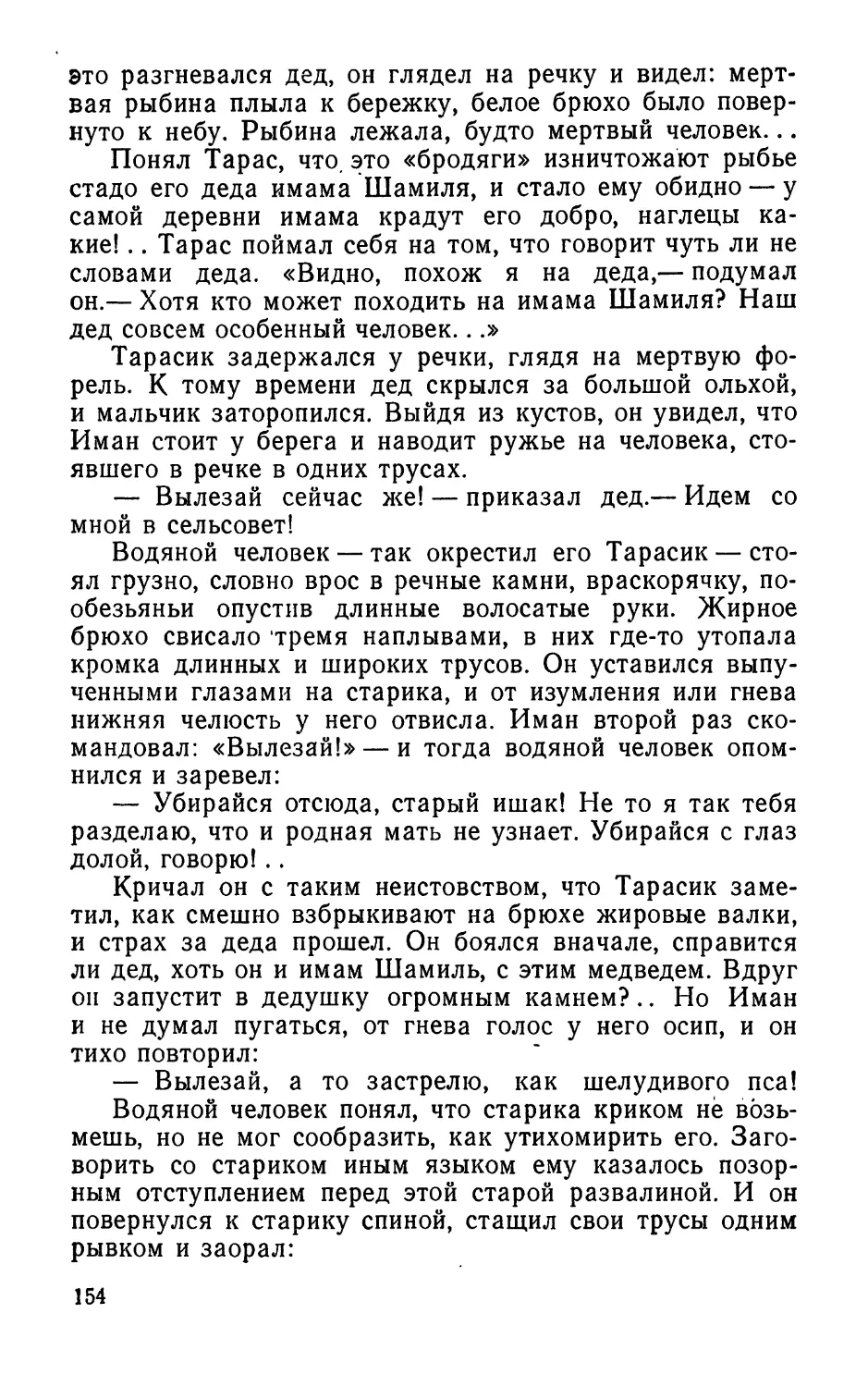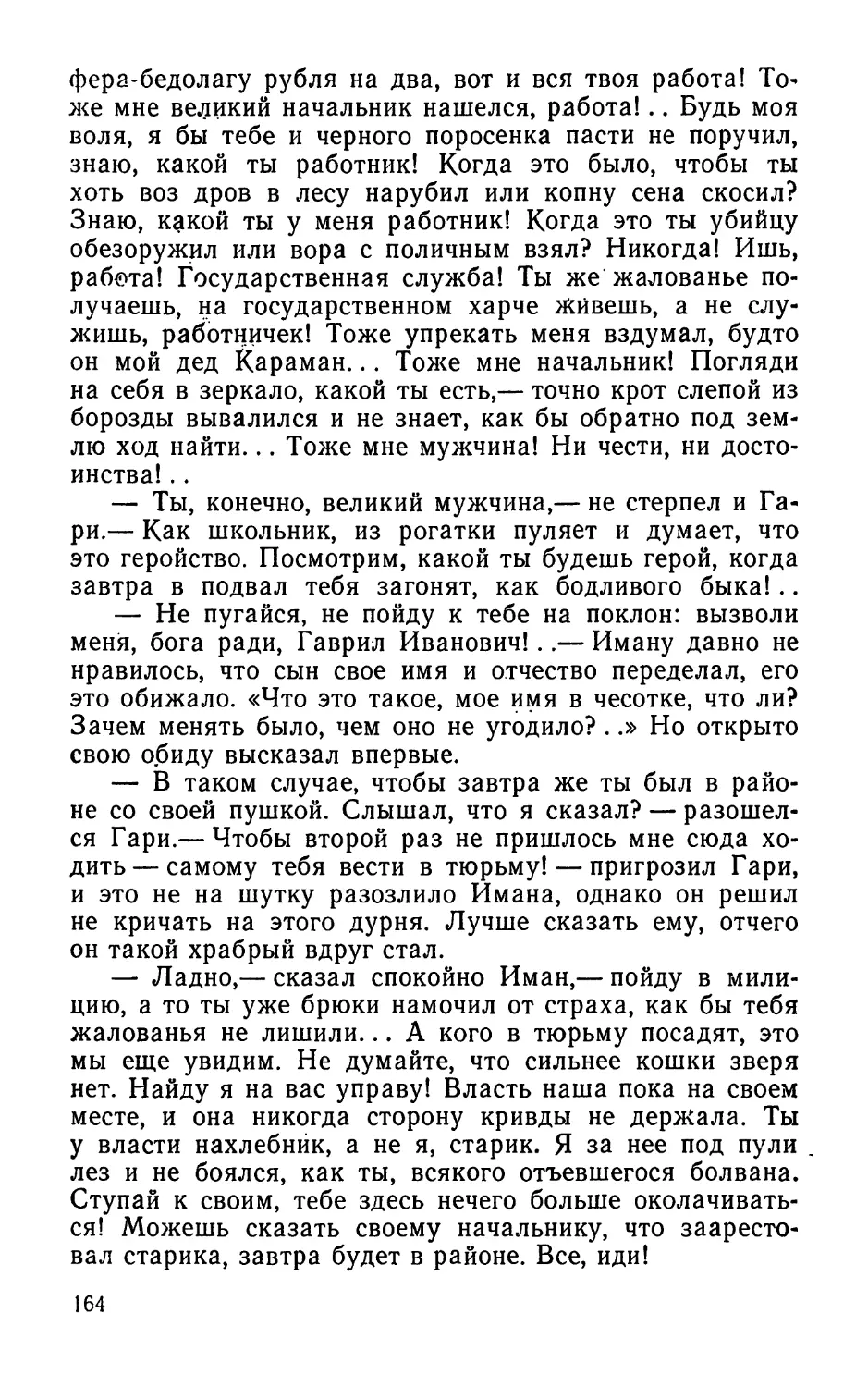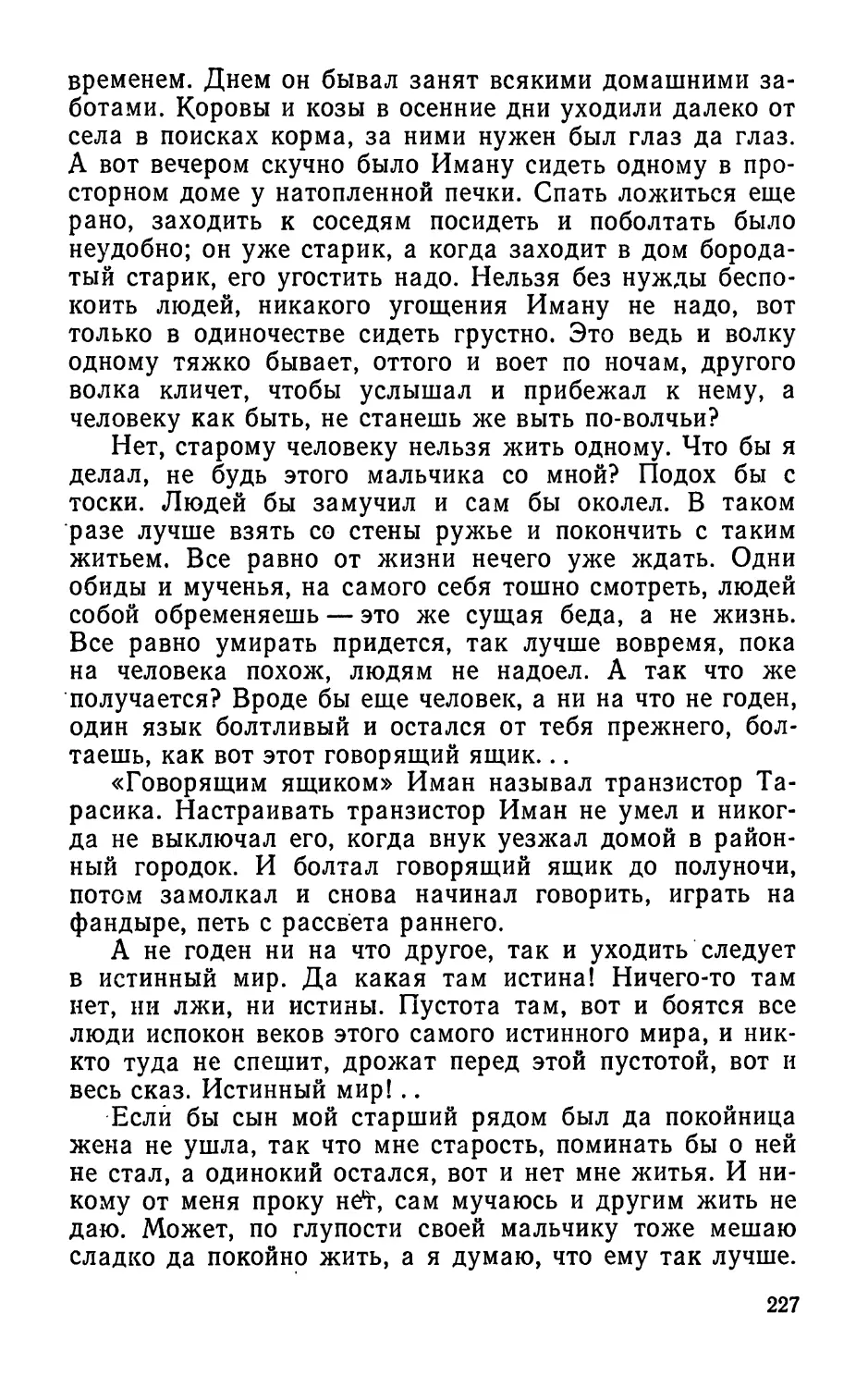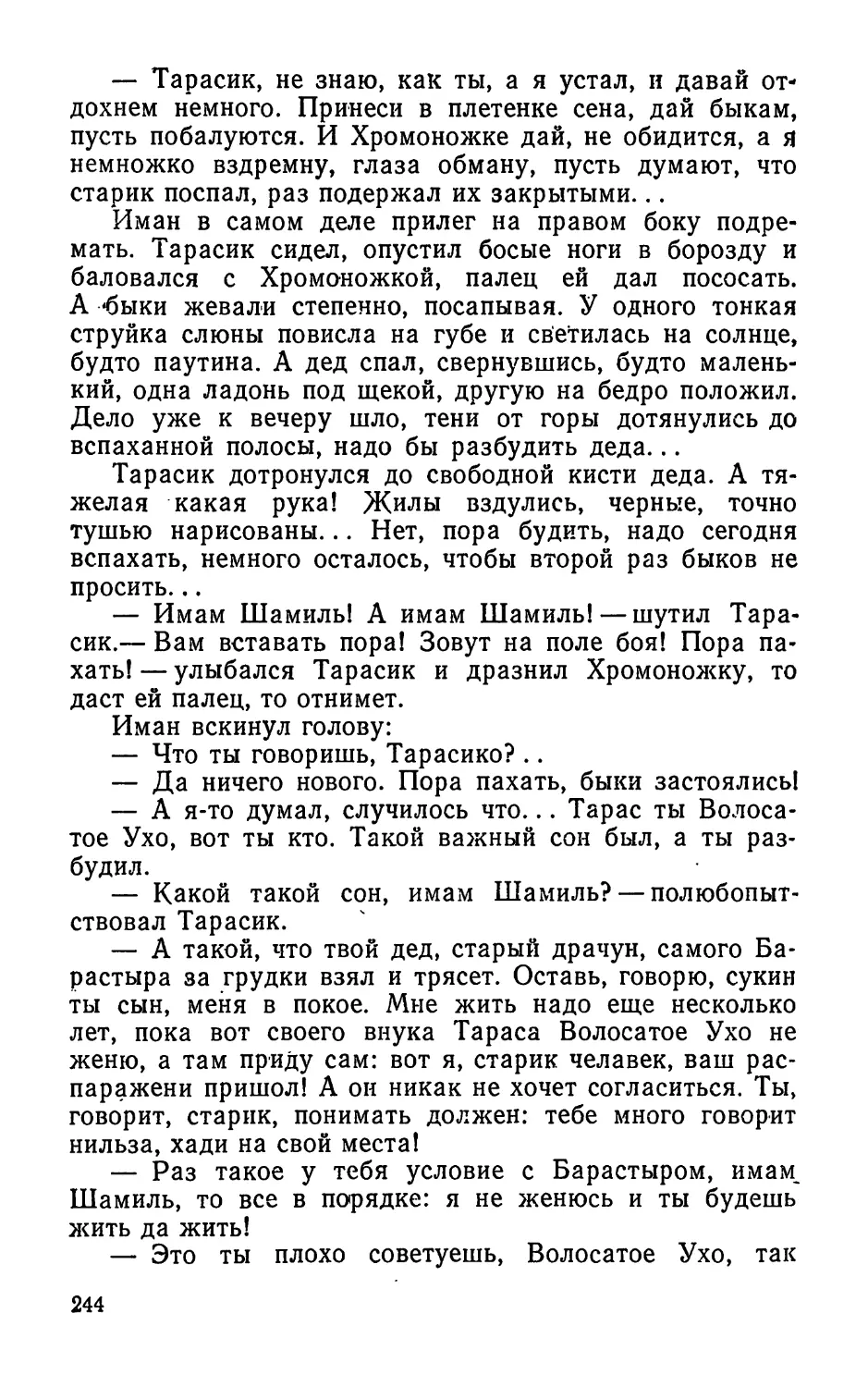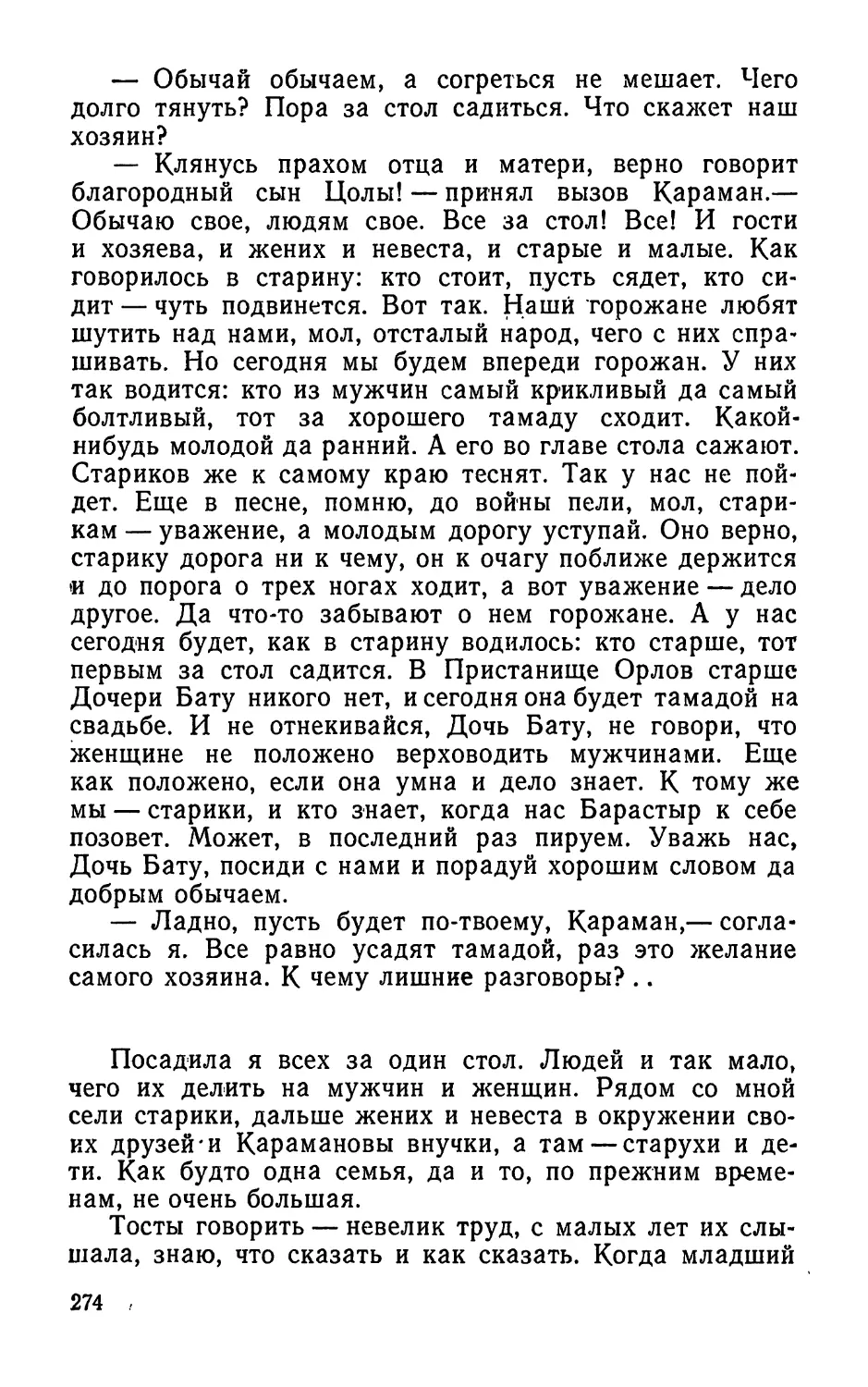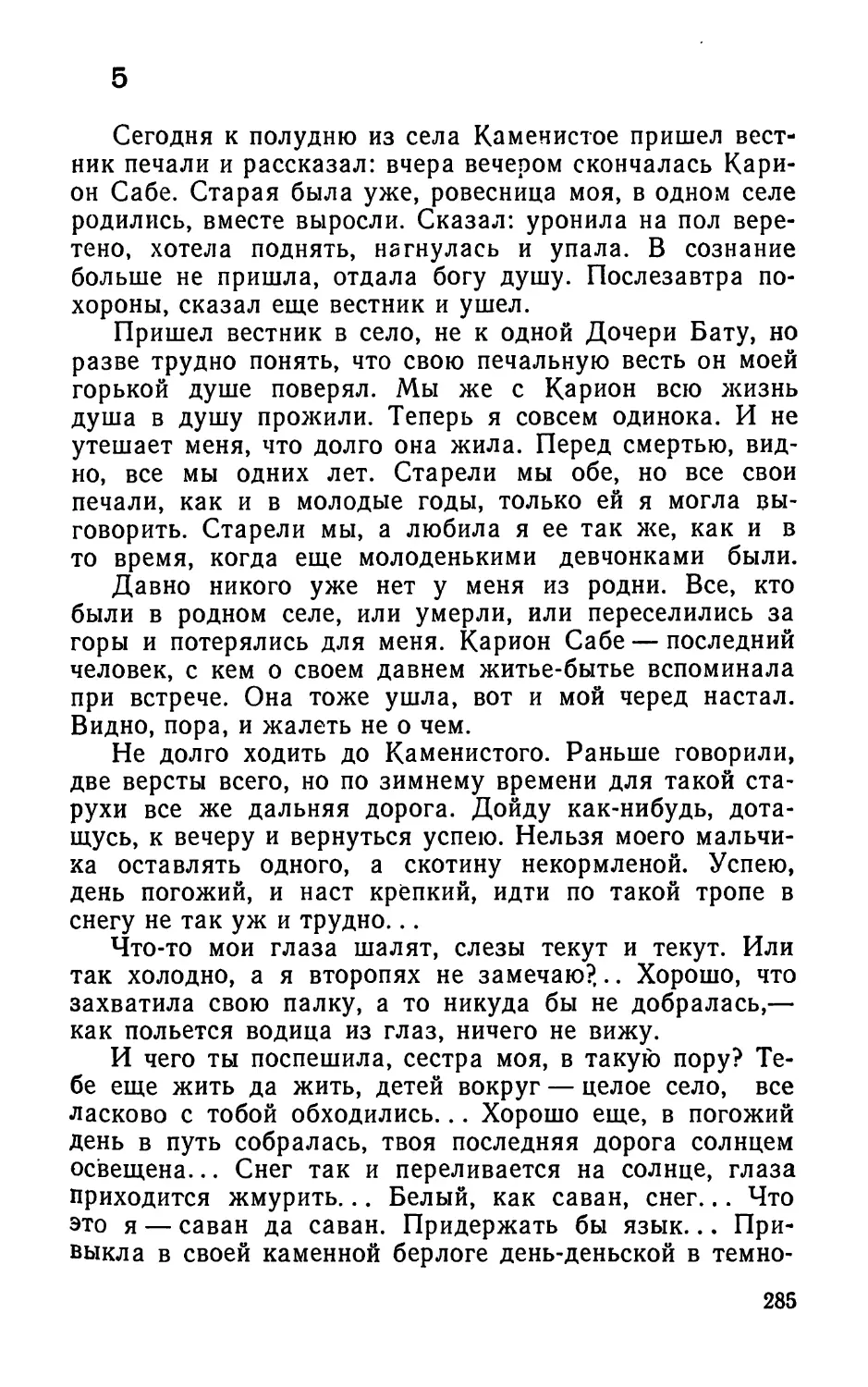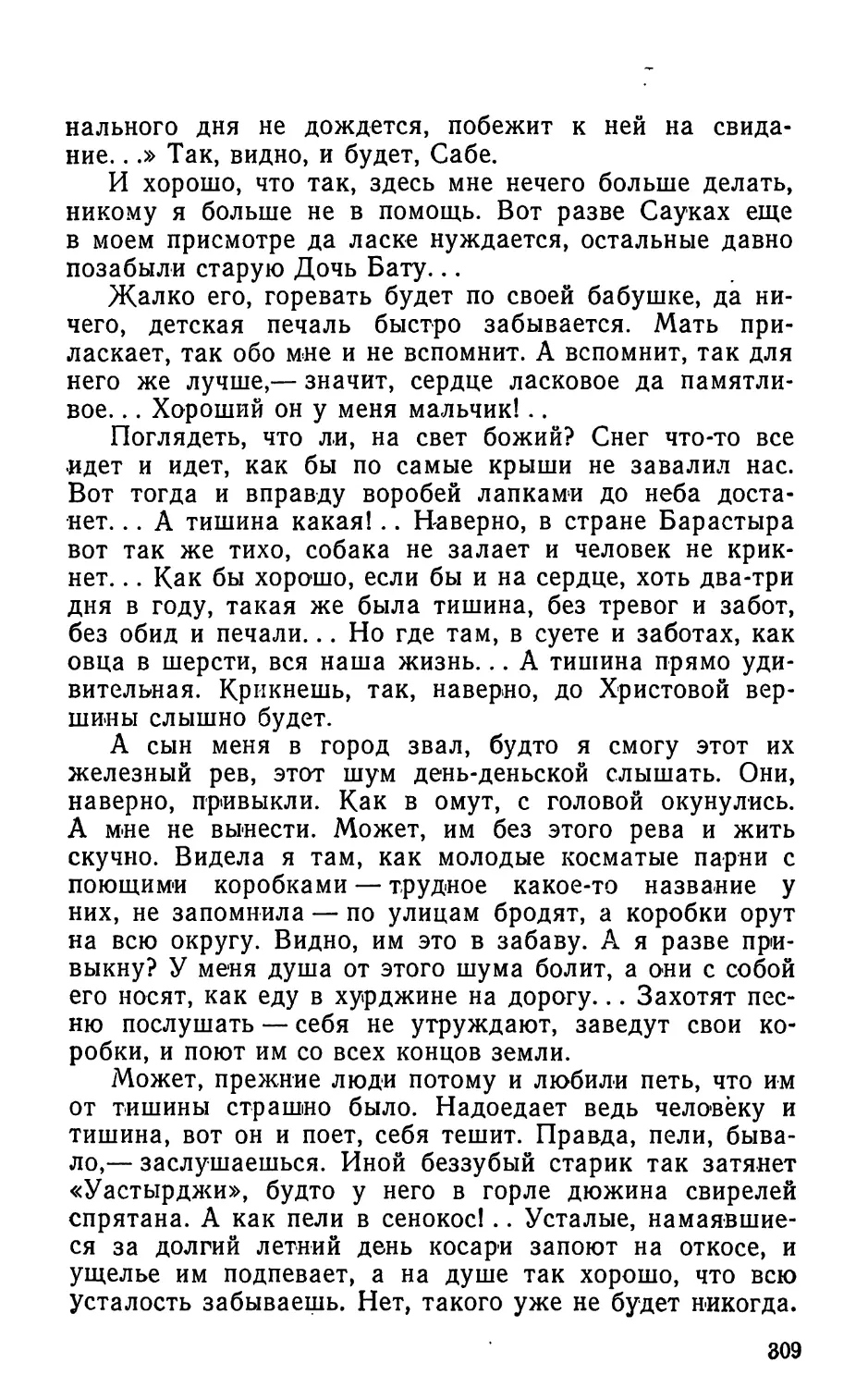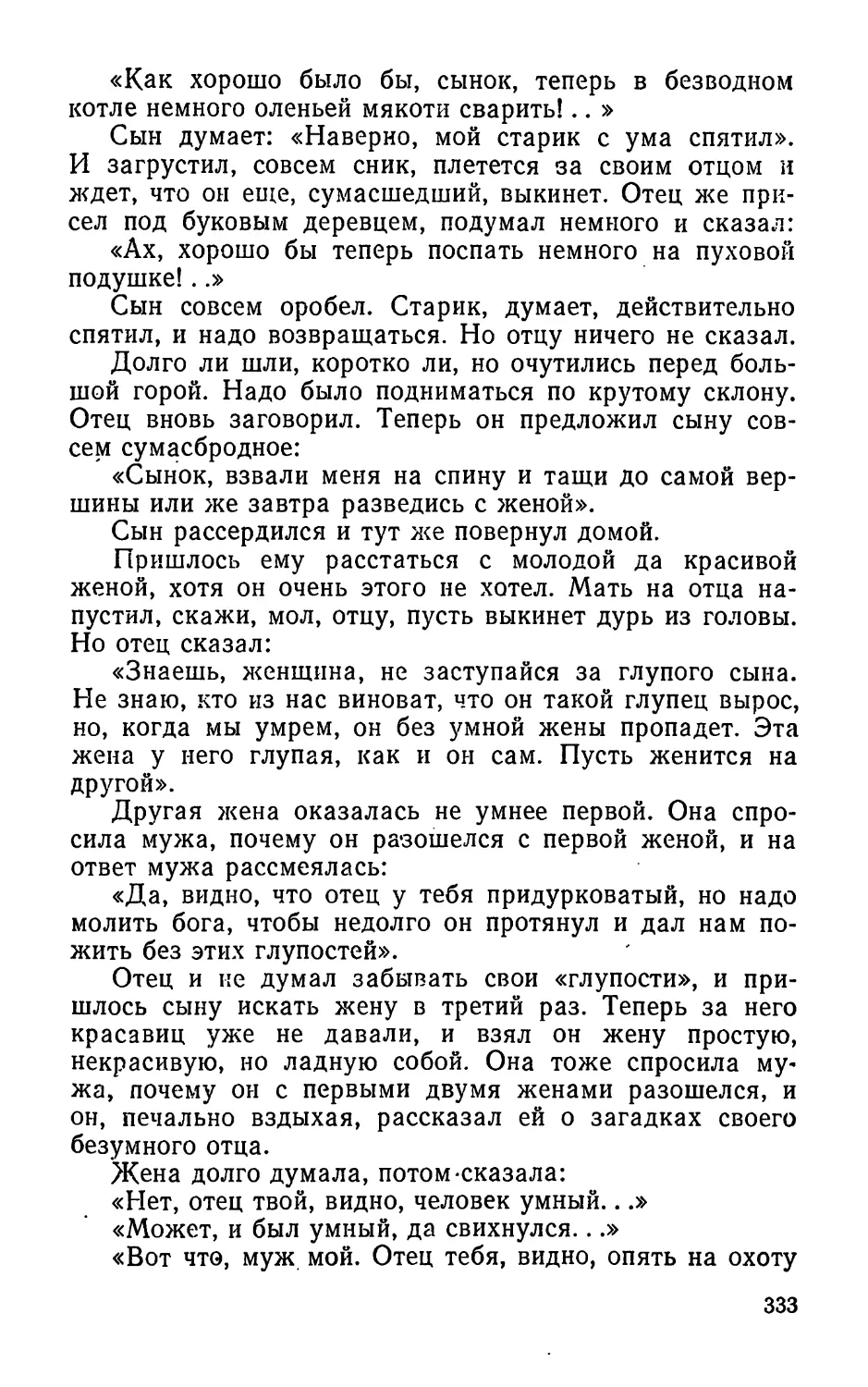Текст
НАТИ
ДЖНСОЙТЫ
ЛОВЕСТИ
С осетинского перевел автор
МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1981
С (Кав)
Д42
Нафи Джусойты известен всесоюзному читателю больше как
критик и литературовед, однако на родине, в Осетии, его знают и как
талантливого поэта, драматурга, прозаика.
«Реки вспять не текут» — первая книга Н. Джусойты, выходящая
в переводе на русский язык. Это повести лирико-философского
характера. Рассказывая о своих земляках — людях старшего поколения и
молодых современниках, автор размышляет вместе с ними о месте
человека^ на земле, о природе, о времени. Каждая повесть — это
развернутый монолог героя, его раздумье о происходящем.
Художник Давид Ш и м и л и с
Л *~, —л. 258-80 1702470000 ® ПеРевод на Р>'сский язы*
083@2) — 81 Издательство
«Советский писатэчь», 1981 г.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
УРУЗМАГА
1
Небо высоко-высоко. Синее-
синее и округлое.
Выгнулось, что днище
опрокинутого пивного котла. А под
ним горы. Ма-аленькие,
словно черно-белые
камушки. А до дна неба и глазу
не достать и орлу не
взлететь. А ниже плывут
облака — белые, будто из
козьего пуха. И плывут тихо, с ленцой, как мальки форели в
речной заводи. Еле плавничками шевелят...
А солнце выше неба! И катится аробное колесо по
крыше неба. Мохнатые лучи козьим молоком пахнут.
Льются на землю, что тугие струи из козьего вымени.
И больно лупят по земле, по траве, по зеленым ладоням
листвы, по жесткой шкуре камней... Правда, по лицу
елозят мягко и ласково, по рассыпчатой дорожной пыли
словно босые ходят, но дай им забраться под старую
шерстяную рубаху, и начнут щекотать вспотевшую
спину, не отстанут, пока в тень не \ бежишь...
Высоко небо, но солнце выше. А над солнцем никого
нет. Правда, мать говорит — еще выше сидит бог Хуцау,
но, сколько ни гляжу, никого не видать... Нет, солнце
выше всех! А под ним синее-синее небо, и все горы и
всю землю обняло. За горами тоже небо, я видел,
когда прошлым летом на перевале чернику собирали.
Всюду небо, и нет ему конца и краю. А под ним облака
и орлы. А под облаками горы и люди. И земля, а на
земле мы все — деревья, трава, речка, я и мои козы.
А самое большое дерево на земле — Пастушья чинара...
На небе —солнце, на земле — Пастушья чинара! А под
ней в тени — я и мои козы и козлята...
Глянь, куда забрался этот чертов козий вожак, Тедо
Скрещенные Рога!.. Вскинулся, чертово семя, на задние
ноги и тянется к листве Пастушьей чинары. А того не
сообразит, подлюка, что нельзя — священное дерево,
'м
3
горный дух в дупле. «Эй, волк тебя задери! ..» И ухом
не ведет. Видит, волчий шашлык, что не злится, не
обижается на него горный дух, протянул ему свои
тонюсенькие зеленые пальцы, и он жует-сосет... Нет чтобы
совесть поиметь, отступиться, он еще и хитрющие глаза
на него пялит. А дух, видно, прячется в листве Пастушьей
чинары, на самой верхушке, и глядит оттуда, лукаво
подмигивает козьему вожаку. А Тедо Скрещенные Рога
того и дожидается — хлоп-хлоп нахальными глазами
навыкате и давай жевать листву. И хоть бы голодный был,
а так, из озорства, — мол, я вожак и никого не боюсь:
ни горного духа, ни пастуха, что на траве разлегся и орет
почем зря...
А козы залегли себе меж камнями и толстыми
корневищами Пастушьей чинары и, водя слева направо
куцыми бородками, перемалывают свое добро, что с утра
напихали в желудок. А этот старый вожак — такой
нахал, никак не угомонится... Да еще вон комолый
козлик стоя дремлет. Прилепился боком к выступу скалы
и дремлет себе. Только порой быстро-быстро замотает
хвостом-коротышкой, а потом вновь закроет глаза и
сладко так спит...
О-о-ой! Быстроногому молодцу
Еду-пироги припасли, ой!
О-о-ой! Лежебоке-сосунку
Беду-тумаки припасли, ой!..
Это Басил поет, опять свою дразнилку завел... А мне
и отвечать неохота. Мои козы все при мне, под
Пастушьей чинарой. А у него вон коровы разбрелись,
как блохи по войлоку. А я лежу на траве — ладони под
голову и считай себе облака на небе, пока за горы не
уплывут. А там намается солнце, жара на убыль пойдет,
и погоню своих коз до самого склона Черной горы.
Наедятся досыта, и вечером что ни коза, то тугое вымя,
молока бурдюк. Посмотрим еще, кому пироги
достанутся. ..
Пусть поет, дразнится, а я лежу себе на траве, и
спину так ласково холодит, до самого вечера бы не
вставал, но нельзя, и спать невозможно, этот старый хитрец
Тедо мигом удерет и всех коз за собой уведет в заросли,
к Глухой балке. А я и не сплю, плохо, что ли, на траве
лежать? Правда, затылок мне щекочет какая-то злая
4
травинка, но это даже к лучшему, сон не сморит. А над
головой тень от Пастушьей чинары. И крона как
великанская шляпа. И густая листва бог весть о чем
шепчет __ Не разобрать, не понять. Может, притомилась в
жару, как мои козы? И горный дух где-то там на
верхушке сидит и думу думает. О чем? Кто знает, но на
меня он не может обиду держать, я и сучка завалящего
никогда не унес из-под Пастушьей чинары и никогда
костра вблизи не развел, даже в самые дождливые дни.
Нельзя же, чтобы и у горного духа, как у подпаска-
увальня, от дыма глаза слезились... *
Нет, не в обиде на меня горный дух, и Пастушья
чинара в дождь и в вёдро держит надо мной свою
ладонь и в обиду не дает. Правда, порой лежишь вот так
навзничь, а над кудрявой головой чинары быстро бегут
куда-то облака, и тебе кажется, что чинара клонится
и валится на тебя, но это пустые страхи. Пастушья
чинара еще до рождения дедушки стояла на этой скале,
и ни летние грозы, ни зимние вьюги не могли одолеть
ее. Не зря в ней горный дух живет. И корни пустила во
все стороны, всю скалу охватила, как орлица козленка
крючками когтей. И что ей ветры и бури! Пусть себе
бесятся, она зашумит грозно, замотает верхушкой, как
буйвол головой, когда из омута вылезает, и опять стоит,
по днищу неба зеленой метелкой водит. Нет, Пастушья
чинара век будет стоять и никогда не повалится,
никогда!..
— Эй! Чтобы на поминки всех вас закололи! Куда
вас несет, окаянные, или волки на вас напали!..—
крикнул Урузмаг во все горло и проснулся.
Он открыл глаза, но все еще не мог даже пальцем
пошевелить, наваждение сна не отпускало: вдруг
вскочили все козы и бросились к нему, навалились на него,
он, и встать не может, а Тедо Скрещенные Рога яростно
колошматит его копытами. По-старушечьи согнулась
вдруг Пастушья чинара, словно хочет его приподнять и
бранит за то, что он такой беспомощный...
Растолкал Урузмаг коз, вскочил на ноги и глядит
вокруг: что же стряслось? .. Какой это зверь осмелился
напасть в ясный полдень?.. И видит, из-за скалы
смотрит на него какое-то чудище. Большое, черное,
безобразное, как раздувшаяся буйволиная туша. И видна
пасть. Не голова, а только пасть — красные десны, а
5
между ними широкая, мутно-белая полоса зубов
полукругом-подковой. ..
Урузмагу вдруг стало отчаянно холодно, словно
ужак прополз по ложбинке меж лопатками от затылка
до копчика... Закричал что было сил «О-о-ой!», чтобы
и зверя напугать и себя подбодрить, но из горла шло
какое-то жалкое гусиное шипение... Вот беда, и Сарат,
его лохматая овчарка, сегодня удрала домой сыворотки
полакать, и Басил куда-то запропастился, давно не
слышно его...
Проснулся Урузмаг, сновидение исчезло, уплыло,
как облака за горы, и он стал соображать, что бы это
значило. Во сне он был в родной деревне, на пастбище,
в тени Пастушьей чинары, в краю детства. Давно ему не
снилось детство, и вдруг здесь, в чужом городе, в
больничной палате? .. Что бы это значило? ..
Урузмаг пошевелился, и жалобно заскрипели под
ним старые прогнувшиеся пружины. Повернул голову к
окну и видит, солнечное око глядит на него и
успокаивает. Вылинявший лоскут занавески оттеснен к краю
шнурка и не мешает видеть за окном луковицы
одинаково подстриженных и причесанных лип. Все на одно
лицо. Будто вовсе и не деревья, а простые колышки и на
головы им нахлобучили имеретинские кургузые шляпы.
И чего их стригут? Не бараны же, деревья...
Заскрипело-закряхтело рядом. Это сосед по палате.
Такой же старик, как Урузмаг. Три месяца уже здесь,
еще до прихода Урузмага тут лежал. Хиуа зовут его,
сам сказал, но доктор почему-то Харитоном его
величает. Видно, так на бумаге имя написано. Встает,
наверно. .. Урузмаг повернулся лицом к соседу и ждет, когда
же он поздоровается с ним.
Хиуа привстал, опустил было ноги на пол, но потом
подобрал их и обнял колени страшными худыми
руками. Они из-под коротких рукавов больничной рубахи
вылезли — что куриные лапки в дождливый день...
Сидит Хиуа неподвижно и смотрит то ли на спинку
кровати, то ли на стенку, но смотрит упрямо, словно ему
лень опустить веки или повернуть голову. Обычно он
сидит, выпятив тонкие, как луковичные лепестки, губы,
но сейчас губы ввалились... Видно, протезы забыл
сунуть в рот. Обычно держит их на ладони и
разглядывает, словно какую-то невидаль, но я пошутил как-то: что
6
эт0 __ подковки для ослика? И с тех пор обиделся на
меня, как проснется, спешит в рот их отправить...
Сегодня забыл, видно расстроился не на шутку...
Подковы для ослика... Вот что мне приснилось, а я думал,
бог весть что — чудище, черный буйвол, страшная
пасть... А это, оказывается, Хиуа зубы мне показывал.. ¦
Ну и напугал же меня!..
Странный человек, и чего обижается, и чего так
изводит себя? Не раз ему говорил, что толку горевать, ты
же мужчина, держись. Если пришел твой смертный час,
так смерть все равно не сжалится. Сказано же в
сказке: царя можно обмануть, бога можно надуть, но
смерть не проведешь... А если не настал еще твой
черед, так тем более нечего трястись, как остриженная
коза в осенний дождь... Я утешить его хотел, а он,
видно, напугался смерти и злой стал, себя жалеет, а до
других ему дела нет, будто в его беде кто виноват.
И вот сидит опять, как еж на бугорке, душу себе томит,
слова от него не дождешься.
— Доброго утра тебе, славный Хиуа! —
приветствовал соседа Урузмаг.
— Дай бог ттоему врагу такого добра... —
прошипел Хиуа. Он будто и рта не раскрыл, губы еще глубже
запали. Пожалел Урузмаг Хиуа и решил шуткой
вызвать его на разговор.
— Что так горестно молчишь, славный Хиуа? Или
Что-нибудь случилось в царстве профессора Херхеулид-
зе? А может, сон дурной привиделся, мой добрый сосед?
— Сны по твоей части— еще солнце не взошло, а ты
орешь: эй да эй!.. Видно, за козами в горах всю жизнь
промотался и сыворотки не одну Ьочку вылакал...
— Твоя правда, Хиуа. И сыворотки вдосталь попил,
и сны хорошие послал мне бог. Как будто снова козьим
начальником стал, в горах под Пастушьей чинарой ва*
лялся на траве, а надо мной чистое небо, солнце, тень
от большой чинары... Видел бы, Хиуа, когда-нибудь
Пастушью чинару, только крыльев ей не хватает. Она
же как орлица перед тем, как кинуться со скалы!..
Увидел бы, так променял бы ьсе свои вина на глоток
сыворотки... Там же — как в раю, и горный дух под
боком в дупле живет...
— По твоему разумению, так и должно быть: и
бог — в гнилом дупле, и вино — прокисшая сыворотка,
7
а козьи катышки — золотые бусы... Что ты в жизни
смыслишь? Настоящего вина ты и не пробовал, оттого
тебе и умирать легче, но я не чета тебе. „
Урузмаг внимательно смотрел на Хиуа, на еле
уловимое движение губ, втянутых в беззубый рот, и жалел
этого человека, но «умирать легче» насторожило его.
— И что тебе приспичило о смерти сказывать,
добрый человек? Разве не знаешь, когда хиуа-— есть
такая птица в горах, на дикого голубя походит,— так вот,
когда хиуа кричит справа, как ты у меня, то это
путнику счастливую дорогу сулит?
Хиуа промолчал, и Урузмаг досказал свою мысль:
— И что бы ты ни говорил, я еще пойду к
Пастушьей чинаре и спою на весь мир: «О-о-ой!
Доброму молодцу еду-пироги припасли, ой!..» И для этого
мне твое вино ни к чему, держи его до другого дня, мне
и сыворотки хватит... А ты как над мертвым
причитаешь.
— Мне-то что причитать, а вот твои родичи и
вправду заплачут по тебе, и попомни, недалек тот день,—
испытующе посмотрел на Урузмага Хиуа.
— Э, Хиуа, ты, видно, или профессором стал, или
решил с левой стороны закаркать, беду накликать,—
пошутил опять Урузмаг, но про себя подумал: «С чего бы
так пугал меня этот пустой бурдюк?..»
— Не профессор я, конечно, но то, что говорит
профессор, понять могу, я же не козий начальник, как
некоторые. .. — бубнил, будто про себя, Хиуа; он так поник
головой, что подбородком до колен доставал.
— Ну, если уж с профессором в друзьях ходишь,
так и понять не долго,— сник голос Урузмага. Он
опустил ноги на пол и стал их разглядывать, но думал
уже о словах соседа: правду ли говорит или пугает
со зла?
— Ты все шутки шутишь, а мне, сам видишь, не до
шуток,— отпихнул ногой легкое одеяльце Хиуа и тоже
опустил ноги на прохладный крашеный пол. Вцепился
в край кровати руками, вытянул в сторону Урузмага
истончившуюся, как старая веревка, шею. — И скажу
тебе прямо, вчера сидел за кустом сирени и подслушал
разговор профессора с твоим сыном...
— Вот это новости!.. Никак, наш профессор
по-осетински стал говорить или ты сам — русский профессор?
8
Мой сын на грузинском не говорит, профессор Херхеу-
лидзе осетинского не знает, значит, они говорили на
русском, а ты такой же русский профессор, как и я...
А ты — «подслушал»!.. Эх ты, Хиуа, недобрый ты
человек. ..— все еще пытался шутить Урузмаг, но про себя
решил: разозлить надо Хиуа, тогда, может быть, скажет
правду в отместку, порода у него такая. А Хиуа и не
думал злиться. Он прежним упавшим голосом
продолжал:
— Он-то не научился нашему языку, но я-то
понимаю, когда о смерти говорят...
— Как не понимать, ты же все время о смерти и
думаешь, все глаза проглядел, не идет ли по твою
душу,— сказал Урузмаг, но он уже верил, что этот Хиуа
что-то прослышал. Надо заставить его выложить все
как есть.
— Я думаю, конечно, но и тебе не мешало бы
подумать. А то иные люди всю жизнь только и знают, что
дурака валять...
— Зачем дурака валять, за этим в больницу не
ходят,— произнес Урузмаг и чуть подвинулся к Хиуа, мол,
я готов слушать, валяй.
— И на том спасибо, хоть раз не шутовским языком
заговорил,— прошипел Хиуа и всем своим тощим телом
повернулся к Урузмагу. — Но я скажу тебе, зря ты ва-
ляеш1^н в этой проклятой дыре. Я знаю, у меня рак,
спасения уже нет, вот меня и выписали, иди, мол,
старик, домой и там подыхай. А то как же иначе? .. У них
ведь, у докторов, как принято считать, знаешь? Откуда
тебе знать, темный ты человек, но я знаю. Это как у
пастухов: подохнет коза средь бела дня на пастбище,
и пастуху тумаки достаются; а та же коза подохнет
в хлеву у хозяина, и пастуху ничего... Так вот и здесь,
не нравится им, когда человек в палате подыхает, вроде
виноваты, что не вылечили... Вот и посылают нас
помирать по домам, мо.д, вам все равно, где подохнуть, а нам
это ни к чему — своей рукой писать в бумагах, мол,
такого-то несчастного отправили к Барастыру1 на вечное
жительство и оттуда ему возвращения нет. Вот я й
отправлюсь сегодня домой, сегодня же отправлюсь...
И не надо мне больше никаких лекарств и утешений,
1 В осетинской мифологии привратник царства мертвых.
9
сам знаю, что мне делать... Раз ничем помочь не могут,
зачем мне добрые слова?
И тебе должен сказать, только не обижайся на меня
за мою прямоту, не люблю я в прятки играть, зубы
заговаривать, словами утешать... Профессор сказал,
что и тебе не долго жить, рак, говорит... Может, он
и не прав, профессор не бог, не все знает, но все же
лучше быть у себя дома, не здесь помирать. Как
безродный бродяга...
Урузмаг сначала был удивлен такой длинной речью
всегда молчаливого Хиуа, потом удивление перешло в
испуг, а испуг — в какой-то странный озноб. Сначала он
почувствовал резкий холодок во впадине затылка,
потом мороз пополз к ключицам, разлился по груди,
словно льдом прихватило подмышки, и вот уже на спину
перешло. Было такое ощущение, будто ему голому
обмотали шею ледяным башлыком, концы крест-накрест
захлестнули на груди и завязали на спине тугим узлом.
И он сидел, не в силах двинуть рукой, словно в самом
деле замерз где-то на перевале, задыхаясь в метельной
мгле, прислонившись к занесенному снегом валуну, как
к стогу сена. И казалось, он уже никогда не встанет, не
вернется домой, вот так и будет сидеть до весны, пока
случайно не найдут его прохожие...
А потом у него другая мысль мелькнула: «А вдруг
разыгрывает меня эта заячья душа? Что он может
знать о моей болезни? Скорей всего, хочет напугать,
чтобы не приставал к нему со своими утешениями.
Хочет, чтобы я подпевал ему, живым покойником ходил
среди людей: у меня рак, я умираю, спасите, люди!.. Не
выйдет, Хиуа, рано облизываешь свои шакальи губы, я
тебе не падаль! .. А все же напугал меня, это правда.
Наверно, заметил.,.»
Урузмагу стало жарко, он опустил голову, заглянул
под кровать, будто тапочки свои ищет, хотя он стоял на
них босыми ногами. Это его еще больше смутило. «Ведь
не слепой же, догадается Хиуа с моей глупой хитрости,
к тому же он понял, как я растерялся, потому как ни
слова поперек не сказал. Напугал меня, что и
говорить. .. И вправду мне страшно. Храбриться глупо в
таком разе, но неужели вот так и надо ходить пугалом
между людьми, пока в самом деле не помрешь? ..
Одолел меня все-таки этот ворон, что ли?.. Да ну его ко
Ю
всем чертям!.. До меня, что ли, никто не умирал или
другого такого, как я, не найдется в стране мертвых?
А не отыщется, так еще лучше: авось скажут, не ко
двору пришелся старик, поворачивай оглобли!.. Нет,
так легко не возьмешь меня, черный ворон, зря
ухмыляешься».
— Э, Хиуа, славный ты муж и совет мудрый
подарил мне: иди, мол, старик, домой, пока Варастыр не
записал тебя к себе в колхоз. Пей, ешь, гуляй и других
стариков не забывай к столу приглашать, не скупись!..
Хорош совет, что и говорить, но слишком аракой пахнет,
видно, ты и в самом деле выпить был не дурак и
закусить любил, пока голову себе не задурил этим
страхом. ..
Он хотел сказать «страхом смерти», но как-то язык
не повернулся помянуть этого страшного духа. Урузмаг
насмешливо глянул на Хиуа маленькими карими
глазами, но этим обмануть Хиуа было нельзя. Хиуа уже
заметил, что на лице соседа нет прежней улыбки, нет и
мальчишеского озорства во взгляде; что притаились там
скрытая боль и тоскливое ожидание от него, от Хиуа,
какого-то откровения. И стало ему не по себе от этой
странной улыбки и мучительно вопрошающего взгляда.
Ему стало жаль Урузмага, хотя вначале ему было
приятно видеть страх в глазах этого, как ему казалось,
бесшабашного и бездумного человека. Но потом пришло
ему в голову, что он поступил спрометчиво, что не надо
было говорить, как он подслушал профессора, что зря
лишнее сболтнул. Но уже было поздно, сказанное
слово — что лавина в горах, не было смысла корить себя.
Так подумал Хиуа и стал сразу же искать себе
оправдание: не такой уж он простофиля, чтоб не понимать, что
в большом городе в такую больницу зря не укладывают
на целых шесть недель... Правда, человек он темный,
неграмотный, состарился в деревне о семи дворах, но не
последний же он дурак!..
— Ты, козий начальник,— заговорил Хиуа в
шутливом тоне,— как вижу, обиделся на мои слова, но, видит
бог, я лишь добра тебе хочу... Все же лучше знать, чем
ничего не подозревать... Все же плохо, когда беда
врасплох захватит... А бояться не грех, все боятся...
— Бояться? — грустно улыбнулся Урузмаг и сам
себя не узнал, он всегда смеялся весело и в охотку. И те-
и
перь попытался перебороть себя. Откинулся на
подушку, сунул ладони под голову и еще раз попробовал
рассмеяться.— Бояться, говоришь?
Хиуа не ответил, и Урузмаг понял — этой жалкой
уловкой никого не обманешь. Хиуа хитер, он убедился,
что сумел его напугать. Урузмаг легко встал и впихнул
ступни в тапки. Наклонился к соседу, откровенно и
жестко посмотрел ему в глаза, но в больших
выцветших, как показалось Урузмагу, плоских, как старые
мокрые простыни на веревке, глазах Хиуа он увидел
только страх, пожиравший душу и тело старого
человека, страх смерти, оказавшийся непосильным для него
бременем. И все резкие слова, чуть было не
сорвавшиеся с языка, стали какими-то ненужными, и ему стыдно
было произнести их.
— Брат мой, — спокойно начал Урузмаг, но вдруг
оборвал себя и замолчал. Ему стало обидно за свои
слова: «Какой он мне брат, чего это я рассыпаюсь перед
ним? Хорошему человеку и доброе слово идет, а этот
только самого себя в мире любит и жалеет. Тоже мне
брат!..» Удивился и Хиуа: «Какой я ему брат? Никогда
он так не говорил со мной, видно, опять в насмешку, но
что за шуточки и смешки, когда и у него над душой
смерть стоит!..»
Урузмаг понял, что ссориться с ним нет никакого
смысла, а шутку он все равно не поймет, так что лучше
высказать свою обиду спокойно и серьезно.
— Брат мой, — начал он снова, — я уже говорил тебе,
что родился в горах, там вырос и состарился. Бывал и
пастухом, козьим начальником, как ты говоришь, но ни
волка, ни медведя, ни человека никогда не боялся. А если
и бывало, что приходилось пугаться, то все равно спину
не показывал, убегать со страху стыдился. Но ты мне
такое накаркал, что впору в голос выть. Медведь перед
таким делом — зайчишка с перебитой лапкой... Если
правду сказал, если не придумал, то есть о чем
погоревать, да и не одного дня это забота, от нее и дома не
отвяжешься... Но бояться-то какой смысл? Медведя
испугался, так беги, авось удерешь, а от смерти где
укрытие найдешь? Бояться, кланяться, клянчить? .. Нет, не
по мне это, не могу... И не потому, что храбрый. Какой
там храбрый, все мы одинаковы под солнцем: жизнь
посеет, смерть пожнет... Одно не пойму: откуда ты зна-
12
ешь что и мне скоро помирать? Или приснилось тебе,
как мне Пастушья чинара, а может, со смертью по
телефону разговоры говорил? ..
Хиуа вначале слушал его внимательно, пока тот
шагал от кровати до двери и обратно, но конец Урузмаго-
вой речи ему показался совсем уж обидным: что за
шуточки опять!.. Не сумел повалить Урузмага сразу,
теперь ни за что не поверит. Хиуа поерзал на кровати,
уселся поудобнее и заговорил с необычной для него
силой:
— Не пугать тебя хочу, пойми, и не до шуток мне,
одной ногой в могиле стою. Но слышал я от профессора.
Вот и весь мой сон. И если утаю, что знаю, беда
врасплох тебя может застать. Никто тебе не станет говорить,
ни профессор, ни сын, мол, пора тебе, старик, покинуть
этот неверный мир... Но профессор говорил твоему
сыну, а я сидел за кустом на скамье, и они меня не
видели. ..'
— И что же он сказал, хвалил меня, что ли? . .—
пытался еще шутить Урузмаг, но недоброе предчувствие
томило его: лучше бы уж не рассказывал, он и так
уверен уже в правде его вороньего карканья. Но что там,
пусть говорит — свалился в речку, так поздно уже
бояться штаны намочить...
— Верно, хвалил тебя профессор, хороший старик,
сказал, и вылечил бы его, как родного отца, но не могу
и никто не может, ни один доктор в мире. Сказал еще:
что было можно, я сделал и дал твоему отцу два месяца
без боли жить. А там пройдут эти месяцы, и не жди
ничего хорошего... Говорили они, конечно, на русском
языке, но я кое-что понял и запомнил, а на русском он
гак сказал: «Два месяц будитт харашо житт, патом па-
мирайтт будитт...» Вот так и сказал: два месяц...
Хиуа замолчал и равнодушно глядел угасшими
глазами на Урузмага, Урузмаг тоже смотрел на него и
пытался угадать: рад Хиуа, что не он один обречен, или
сочувствует его беде? Нет, подумал Урузмаг, ни на
радость, ни на горе он, видать, уже не способен. Хиуа сам
объяснил ему:
— Ты не думай, ради бога, что я назло тебе
рассказал слова профессора. И не думай, что о твоей судьбе
печалюсь, нет, я о себе плачу... Ты посчитай: я на две
недели раньше тебя попал к профессору нашему. Лечил
13
он меня такими же лекарствами. Вот и прикинь, одна
у нас болезнь, одна... И теперь он дает тебе два
месяца, а сколько же мне осталось? .. Вот в чем мое горе,
хотя тебя тоже жалко, хоть ты и непутевый, и
насмешник, а все человек... К тебе завтра приедет сын на
легковой машине и повезет тебя домой, а я?.. У меня одна
старушка дома, она и дорогу сюда не найдет. Соберу
свои вещи и сам уйду отсюда, чего тут мне, дома хоть
старушка воды подаст... Профессор давно уже сказал,
домой ходи, отдохнуть надо, а там еще раз подлечим, но
это для утешения говорится, я-то знаю, где теперь моя
больница.
Урузмаг замер и уставился на Хиуа. Тот давно
замолк, но Урузмагу казалось, что вместо языка в его
устах шевелится, все еще шевелится гадкая склизкая
змея, и бьется головой в беззубой пасти, и гнусно
шипит: «Два месяц житт, патом памирайтт, житт, пами-
райтт! ..»
И последнее, что еще сообщил Хиуа Урузмагу, было:
— А не веришь моим словам, спроси другого, и
переведет тебе мои слова так же... А я сегодня ухожу, но
и ты зря не задерживайся... И прощай...
Видно было, Хиуа больше не намерен попусту
болтать. Поднял ноги на кровать, скрестил их и опять
обнял худющие колени руками, оперся подбородком о
колени и уставился на свои черные нестриженые ногти.
Урузмаг встрепенулся — разговоры кончились, пора
и о себе подумать. И посоветует же — переводчика
искать, как будто эти два слова так трудно понять, я и
сам разумею, что два месяца — всего девять недель...
И ни дня больше.
А кто знает, может, к тому времени и лекарство
какое придумают? Да и профессор — не бог, болезнь
вылечить не может, а как же мой смертный час точно
угадал? Ну, может, ошибся в счете дней, но болезнь
мою он знает. Что неизлечима, тоже знает, а днем
раньше или позже, не все ли равно? Прав, видно, этот
покойник, надо мне домой спешить, дом — не больничная
койка, так его не бросишь, встал и ушел...
Болей никаких, хожу легко, так чего же еще? А дела
надо привести в порядок... Все же два месяца... Да,
Урузмаг, вот и пришла пора твоего последнего похо-
14
да... Держись, старик, еще два месяца держись, а
там... Нет, так тебя не оставлю, ворон...
— Птица-вещунья, Хиуа, муж славный и мудрый,—
начал Урузмаг, поправляя полы халата,— верный твой
совет. Уберусь и я домой, а если одному скучно и
боязно тебе идти в страну мертвых, то, так и быть, навяжусь
тебе в товарищи... Только вот ежели Барастыр по
старой дружбе — я с ним с малых лет в друзьях хожу — не
примет, отпустит меня на этот свет погулять еще вволю,
то прошу не обижаться на меня: ни словечка о тебе не
замолвлю. Ни на смертном пути, ни на дороге жизни не
годен ты, ни для дружества, пи для вражды, и жить
с тобой не приведи бог. Жаль, что по смертной дороге
не по доброй воле ходят, с тобой и по ней не сделал бы
и шагу... И прощай на этом, я выйду в сад подышать
воздухом, а когда вернусь, чтоб духу твоего здесь не
было!..
Урузмаг торопливо натянул свои шерстяные носки —
жена связала их, и он не расставался с ними,— надел
туфли, бодро встал назло Хиуа, туже затянул пояс
халата, пошел было, но Хиуа в долгу не остался.
— Знаешь что, ты мне здесь не начальник и прика-
зы-бриказы давать не смей! Я не чета тебе, не козий
вожак, я среди людей жил, а не в обезьяньей пещере!..
Я людям головы стриг, лица брил, красивыми их делал,
а ты разве что баранов стриг и заколотых свиней
брил... Тоже мне, приказы дает! — бросал злые
взгляды из-под насупленных бровей Хиуа и не мог
остановиться.— Обиделся, понимаешь, как будто моя в том
вина, что у него в желудке рак сидит, жрет его... Как
будто я его заразил... И я дурак, что таких дураков
жалею... Пусть бы подох, даже не узнав отчего,— Хиуа
тут подскочил, откуда только силы взялись, и стал
облачаться в халат.— Я добра ему хотел, чтобы семью
предупредил, к поминкам приготовились, я своих давно
уже предостерег, а он мне упреки заладил, но ты мне не
дедушка, а я не мальчик... Оставайся с богом, мне-то
что, хоть подыхай здесь, чтобы родных не привелось
тебе больше увидеть! Вот тебе и мое благословение...
Хиуа бранился и одевался второпях, не давал Уруз-
магу и слово вставить, но Урузмаг уже и не думал ему
отвечать;, высказав ему все, что о нем думал, он
успокоился и теперь произнес примирительно:
15
— Ладно, хватит тебе браниться, как сварливая
свекровь, большего зла, большей беды ты уже не
накличешь на мою голову... Спасибо за добро... Одним
словом, ты молодец, воистину молодец! С твоей и божьей
помощью знаю, теперь, что есть у меня два месяца и
успею все добрые дела на земле совершить... А тебе
желаю доброго пути, лучший в мире брадобрей! Видно
по тебе, что всю жизнь бороды брил...
Хиуа не обратил никакого внимания на слова Уруз-
мага, натянул халат и вышел из палаты, изо всех сил
хлопнув дверью. «Иди, иди, брадобрей!..» — подумал
про себя Урузмаг и тоже, поостыв, побрел к двери.
Долго бродил Урузмаг во дворе больницы,
сгорбившись, низко опустив голову, глядя на пыльный
ноздреватый асфальт, кружил по пустым в такую рань
дорожкам, иногда присаживался на мокрую с ночи скамью
и, сцепив пальцы, будто разглядывал свои большие
крестьянские руки. Но это так казалось, ему и в голову
никогда не приходило смотреть на собственные руки,
если только они были целы или не нужно было их
отмывать после грязной работы. Нет, он не видел своих рук,
хотя и упорно разглядывал их. Он вообще ничего не
замечал, не мог сосредоточиться на чем-нибудь одном.
Он чувствовал глухое, но частое биение сердца; что-то
ныло в груди, мешало свободно дышать, и веки
обжигала горячая волна слез. Урузмаг заметил это и
устыдился собственной слабости.
Вот и начал жалеть себя, как Хиуа, одолел он меня
все же, не выходит из головы «два месяц»... Тьфу!..
А может быть, он и в самом деле правду говорил
и осталось мне всего два месяца, тогда надо думать, как
дальше жить, а не с Хиуа браниться... Может быть,
доктор ошибается? Или я себя утешаю? ..
Что же делать, если завтра старший сын в самом
деле заявится и повезет меня домой, тогда все ясно:
правду сказал Хиуа, и надо будет дом привести в
божеский вид, неудобно, люди соберутся из разных сел.
Да и долги кое-какие есть у меня, расплатиться надо.
И хлев не пустой у меня, и все оставить на съеденье
волкам стыдно. И все остальное надо поделить между
детьми, чтобы после меня нелады не пошли, не то люди
осудят меня, а их засмеют.. .О родичах тоже надо
поразмыслить, может, кому-нибудь еще нужен, может, не
16
советом, так словом услугу окажу... И к поминкам
надо заранее готовиться, сын мой не маленький, но мало
что смыслит в старом нашем обычае, а сторонний глаз
все видит, не простят люди ни одного промаха; оплошал
Урузмага сын, так все заметят.
Домой, домой пора, Урузмаг, здесь уже толку нет
валяться на казенной постели. И нечего нос вешать, дал
тебе профессор еще два месяца, и радуйся, не будешь
же кулаками богу грозить, трусливым псом на облака
лаять?.. Два месяца — тоже срок, и прожить их надо
по-людски... Седьмой десяток доживаешь, но сраму не
имел, так и эти два месяца по-людски износить надо,
стыдно же с вола шкуру содрать, а как хвост обрубать,
так нож сломать... Жизни срок, говорят, по жеребьевке
достается. Получил свою долю и смирись, живи
по-людски. .. Так-то, старик, и хватит, и нечего себя жалеть,
домой ступай!..
2
Вернулся Урузмаг в свою палату, но Хиуа уже не
было, ушел. Теперь и поругаться не с кем, и словом
переброситься, и утешить некого. Урузмагу стало жаль
своего насмерть перепуганного соседа.
Ушел, бедняга. Пора и мне уходить, чего я еще
жду? .. Если не соврал Хиуа, сын должен приехать
завтра, тогда и поеду. Хоть раз еще Пастушью чинару
увижу...
Вспомнив Пастушью чинару, Урузмаг бросился было
к воспоминаниям детства, чтобы отвлечь себя от
тоскливых размышлений, от страха смерти, но мысль упрямо
возвращалась к словам Хиуа. Пастушья чинара вновь
уплывала гонимой ветром тучкой за пределы памяти и
ничем не могла помочь. Лишь к утру забылся он
тревожным сном и как будто вернулся даже к прежнему
сну, но это был и тот и совсем иной сон. Не было уже
солнца, которое выше всех, выше неба и катится по
небесной крыше, не было солнечных лучей, белых и
мохнатых, пахнущих парным козьим молоком, не слышно
было песни-дразнилки Басила... Но была Пастушья
чинара, по-матерински скорбно склонившаяся над ним, и
невозможно было разобрать, оплакивает его, как мерт-
2 И. Джусойты
17
вого, или хочет ему помочь встать на ноги... Были
козы, его козы, но перепуганные и яростно колотившие его
копытами. И был зверь, тьма и красная пасть... Быстро
просыпался Урузмаг, мотал головой, но вновь впадал
в забытье, и опять, виделся ему тот же сон.
Так мучился Урузмаг до самого рассвета, и не было
ему утешения ни во сне, ни в яви. Сердце глухо ныло.
Урузмаг потирал грубой ладонью свою*грудь, и вроде
легче ему становилось, и тогда он пытался урезонить-
унять свою тоску старинной мудростью. «Что я, в самом
деле, ною, я, что ли, один такой? Умерли же до меня
отец мой и мать, и много других людей из нашего рода.
Все люди смертны, и не все доживают даже до моих
лет, что же я набиваю себя смертным страхом, как
свиную колбасу кусочками мяса и сгустками крови?..
Бессмертны только бог и Уастырджи!, а мы, люди,
смертны, и мне, как и всем другим, умирать положено.
Так-то оно так,— спорил он сам с собой,— но почему же
мне выпала такая 'доля? Я же еще как следует и не
пожил, и грехов больших за мной не водится. Зла
никому, сколько помню, не причинил — не убивал, на чужое
добро не зарился, к чужим женам не ходил,— перед
людьми и богом вроде не виноват... За что же? Разве
же так справедливо? ..» Упрямо отводил Урузмаг
ручейки своих мыслей от этого русла, но они вновь
устремлялись туда, к узкому желобу в конце, а там была одна
смертная тоска.
Урузмаг вспомнил притчу о смертном часе, о том,
как однажды люди попросили Уастырджи, чтобы он дал
им знание смертного часа. Он не хотел открывать им
эту тайну, но люди в своем безумии настаивали на
своем, и тогда Уастырджи решил их проучить: дал им
знание смертного часа и покинул их на срок жизни одного
поколения.
Когда же вернулся Уастырджи в урочный час к
людям, то увидел на земле страшное разорение и
опустившихся вконец людей. И не было среди них ни мудрых,
ни сильных. Страх смерти отнял у них силы и разум.
Никто не хотел пахать и сеять, любить женщин, качать
в колыбели детей, строить дома, слагать песни... Эго
было в месяц засыхания рек, в летнюю жару, и видит
Языческое божество, покровитель мужчин, воинов, путников.
18
Уастырджи, один косарь махнул несколько раз косой
и стал складывать из травы шалаш о трех кольях.
Спросил его. Уастырджи, зачем, мол, тебе такой шалаш, к
вечеру трава высохнет и осыпется. А он ответил, мол,
мне и хватит, ночью помирать буду, а там хоть трава не
расти...
Вышли люди к Уастырджи и стали умолять его:
отними у нас это проклятое знание, верни нам радость
жизни., •
Уастырджи не стал им напоминать их прежнюю
глупость, лежачего не бьют, но отнял у них знание
смертного часа и мудро поступил... Ни к чему это человеку,
от этого только сердечная боль и полночная тьма на
душе. Довольно ему и того нерадостного знания, что он
смертен. Не ведает человек своего часа, и ему легко
и детей растить, и дом строить, и песню петь... Но мне-
то каково, я ведь знаю, сколько мне осталось...
Урузмагу опять жалко стало себя, но проглотил
слезы и принялся себя утешать, но ничего из этого не
получилось. Только дневной свет как-то успокоил его. Он
умылся наспех и вышел в коридор. Было еще тихо и
сонно в этот рассветный час, и старый сторож устало
дремал, сидя на стуле. Урузмаг не стал его будить;
осторожно шагая, проскользнул мимо старика,
отодвинул засов и вышел на крыльцо, глубоко вдохнул
прохладный, чуть влажный воздух, словно после тяжкой
работы, и зашагал к подстриженным липам.
Сорок долгих дней провел он здесь, выходил во двор
каждый день, но все ему казалось чужим и
недостойным дружеского внимания. Теперь же, словно прозрев,
вдруг обнаружил, что все здесь, как и всюду, имеет свое
лицо. Деревья стоят недвижно и безмолвно, словно спят
стоя. Листья на нижних ветвях обвисли, что
натруженные руки, а вон там, на верхушке, стоят торчком, как
уши насторожившейся лошади. А цветы на клумбах как
овцы в жару, когда им некуда приткнуть головы и они
находят тень под брюхом друг у друга. Люди спят пока,
только изредка послышится урчание одинокой
автомашины, но тотчас отдаляется, стихает, замолкает, и снова
все тихо и сонно. А вот и солнце карабкается на
вершину, цепляясь за каменные отроги горы. Оно еще не
выкатилось на гребень, но высветило широкую полосу неба
на востоке, позолотило кромку облачной гряды и броси-
*
19
ло в просвет между облаками тяжелый сноп лучей...
Хорошо в такую рань выйти на покос, широкими
взмахами косы ровно и чисто обривать луговую шерсть...
А Хиуа хвастался, что бороды сбривал...
Нет, надо спешить домой. Зря здесь дни
просиживаю, там, может, хоть несколько копешек скошу. Что бы
ни случилось, зимой скотине нужен корм. Не идти же
попрошайничать к соседям, если вдруг да жить останусь?
Нет, надо сегодня же уехать. Не явится сын, скажу
доктору, пусть позвонит сыну и скажет ему, чтобы забрал
меня... Доктор, он, конечно, профессор, и некогда ему
по моим делам ходить, но, может быть, уважит
старика. ..
В тот день Урузмаг не притронулся к пище. Он не
только не хотел есть, но у него было такое чувство,
будто есть вообще стыдно и не надо тратить на это время.
Он ничего не сказал сестре, принесшей на подносе
завтрак, приветливо поздоровался с ней, как обычно, но
удивил сестру своей необычной молчаливостью. Сестра
задала ему несколько привычных вопросов о
самочувствии, но Урузмаг отвечал односложно, нехотя, и его
оставили в покое. Урузмаг никак не чувствовал себя — ни
плохо, ни хорошо, он томился ожиданием. Он хотел,
чтобы сын приехал и забрал его домой, чтобы войти
в круг привычных деревенских забот и забыть о
больнице и о своей болезни. Ему казалось, что это излечит
его душу лучше всех докторских лекарств. Но ему очень
хотелось также обмануться в своем ожидании, и тогда
мир вновь заполнится обычным, дневным, теплым и
ласковым светом, хлеб опять будет вкусным и
желанным, а самым лучшим делом в мире — махать вот в
такое светлое летнее утро звонкой косой на склоне горы.
Ему очень хотелось обмануться, это бы значило, что
Хиуа наплел чепуху, наврал со зла и думы о смертном
часе — дурной сон, который забудется, как только он
ласково проведет своей широкой ладонью по крылу
косы, ждущей его под стрехой.
Но сын вошел в палату и излишне радостно
приветствовал его. Урузмаг боялся, что не сумеет ответить
ему, по своему обыкновению, степенно и шутливо, чтобы
скрыть, что он рад видеть своего сына, первенца,
которым он в душе всегда гордился. Но, к своему
удивлению, он держался даже очень хорошо, хотя внутри за-
20
ныло, когда он увидел сына в проеме двери. «Правду
сказал этот сопливый пес, не соврал, верно слова
доктора передал...»
Когда сын сообщил, что профессор предлагает
отдохнуть два месяца дома, а там вернуться на повторный
курс лечения, Урузмаг неожиданно сказал как бы
самому себе:
— Так... Значит, два месяц...
Сын не понял, почему отец произнес эти слова
по-русски. Он это принял за шутку, мол, отец хочет показать,
что уже знает русские слова.
— Ну да, два месяца, а потом вернешься еще раз,—
повторил сын. — Доктор говорит, что это к лучшему,
чтобы организм не привык к лекарствам.
«Хорошо ты врешь, сынок,— думал Урузмаг,— но я
знаю, лекарства мне уже ни к чему, а что домой надо
ехать, это верно, и зря мы здесь лясы точим, надо ехать.
Ты думаешь, я ничего не знаю, думаешь, надул старого
отца, но как бы не так. Ладно, буду тебе подыгрывать,
если в прятки решил играть, но если ты лиса, то я твой
хвост».
Урузмаг не только согласился ехать домой, но еще
и поторапливал сына. Не захотелось ему даже
попрощаться с профессором, и этим сн немало удивил сына,
ведь отец всегда был вежлив и приветлив, как же он не
желает сказать слово благодарности лечившему его
профессору, к тому же осенью надо возвращаться в его
же руки. Урузмаг ссылался на занятость профессора,
зачем, мол, его отвлекать от больных и показывать ему
старого и вот уже три дня не бритого старика, такого
и в деревне стыдно показывать, но сын настаивал на
своем, и Урузмаг сдался. Однако профессора в тот час
не оказалось в больнице, к радости Урузмага. Ему было
бы неловко выслушивать заведомую ложь. Зачем
заставлять профессора Херхеулидзе врать, а самому
думать: «Хорошо поешь, профессор, складно у тебя это
получается, но мне, старому Урузмагу, ни к чему твои
утешения. Зря думаешь, что я такой уж слабый старик.
И вовсе я не старик, и вовсе пе слабый человек, и не
надо мне ваших утешений, раз не можете мне вправду
помочь... Красивых утешений я сам могу наговорить
сколько хочешь. Хотите, я скажу вам притчу, пословицу
впритык к делу, спою песню, в которой храбрецы ни
21
бога, ни смерти не боятся? Хотите, я буду так
красноречив, что примирю вас даже со смертью? Я ведь кровных
врагов примирял и несговорчивых и прижимистых отцов
уговаривал выдать дочь за бедного жениха, за скудный
калым... Зачем же мне слушать утешения? Нет,
оставьте их при себе, такие сласти для детей хороши, а я
старик!..»
Урузмаг так бы и сказал доктору, но профессор не
знал осетинского языка, а посвящать в свои обиды сына
не хотелось. А если бы Урузмаг встретился с
профессором и сын стал бы ему переводить докторские утешения,
то Урузмаг не был уверен, что не выложит все это
профессору хотя бы через переводчика. И рад был
Урузмаг, что не пришлось говорить с профессором...
Ехал домой Урузмаг, рядом сидел его старший сын.
Ехали молча — Урузмаг расспросил его обо всем, и
оказалось, что не о чем тревожиться, в деревне все в
добром здравии, скотина в теле, правда, скоро начнется
страда, сенокос, но пока люди сидят дома, заняты
обычными в такую пору крестьянскими заботами.
«Волга» не спеша катилась по ровному асфальту,
мягко шурша колесами. Урузмаг почти не ощущал
скорости, на дороге было мало встречных машин, никто не
сигналил. Он вначале с любопытством глядел на
зеленые села в стороне от дороги, на пышные сады, на
дальние горы за мягкими округлыми взгорьями, покрытыми
светло-зеленым лесом. Но это любопытство быстро
иссякло. В деревнях Урузмаг никого не знал, и не трогала
его эта пышная, яркая, но сторонняя красота.
Сторонняя потому, что красоту вне человеческих связей
Урузмаг не понимал, вернее, не принимал. Он мог на такую
красоту глядеть с любопытством, даже восхищаться, но
с тем, чтобы тотчас же забыть. Он мог ее видеть, но не
мог любить. Он не был с ней связан по-людски, как он
говаривал.
Урузмаг равнодушно глядел перед собой, ничего не
замечал, все эти приметы чужой жизни и красоты не
воскрешали в душе никаких воспоминаний. Он сидел
как бы с закрытыми глазами и весь ушел в себя, в свою
горестную думу. В своей беде, вернее, в том, что он
узнал о ней, Урузмаг винил Хиуа и в своих мыслях
неизменно в конце концов возвращался к нему, к злу,
22
которое тот причинил ему невзначай или по неизвестной
Урузмагу причине.
Сын почувствовал, что отец о чем-то неотвязно
думает, и спросил, не беспокоит ли его боль, но Урузмаг
ответил, что давно у него никаких болей уже нет, что он
не спал ночью, надоело лежать на больничной койке,
все время снился ему родной дом, и беспокоился, не
случилась ли беда какая, вот и устал, нет охоты
разговором забавляться. Уснул бы, да жалко проспать такую
красоту, может, доктор совсем Еылечил его, тогда уже
не доведется ему быть здесь в другой раз. С этим он
снова ушел в себя, глядя на яростную в эту пору зелень
предгорной равнины.
«Эх, отец,— думал сын.— Не знаешь ты, что тебя
ждет через два месяца, а то не глядел бы так
невозмутимо на этот мир... И хорошо, что не знаешь, не вынес
бы эту страшную правду... И ничем тебе, отец, не могу
помочь. Профессор бессилен, медицина бессильна, что
же я могу сделать? Два месяца проживет без болей
и мучений, потом уйдет, сказал профессор. И потом я
останусь один, без твоей ласки и совета. Не будет у
меня никого, кто бы тебя заменил, но что я могу
сделать, что?
Сиротливо будет и в нашей деревне, весь наш род
считал, что за всех ты думаешь, болеешь, на всех тебя
хватало, на все руки был мастер, а теперь будет пусто
даже на пирах и свадьбах... Жил ты, отец, у всех на
виду, все шли к тебе со своими заботами, и вот... Если
не ошибся профессор, то твой день падает на самую
страду. Как я буду тебя хоронить? Всем надо запастись
на зиму сеном, и не до похорон им будет, что же мне
тогда делать, чем отплачу за все твое добро? ..»
Старший сын Урузмага знал, что после смерти отца
бремя забот о семье всей своей тяжестью ляжет на его
плечи. Но сейчас он думал только об отце, жалел его,
страдал в душе искренне и глубоко. И вдвойне было
тяжко ему оттого, что вынужден был скрывать свое
горе, никому о нем не говорить, чтобы кто ненароком не
открыл всю правду Урузмагу.
А Урузмаг думал о Хиуа. «Ну за что же он меня
так? Столкнул в омут смертного страха, а сам со
стороны смотрит, злорадствует. За что? .. Мол, я умираю, но
и тебе недолго тянуть лямку на этом свете, вот и не
23
храбрись при мне. Мол, я в этом страхе живу вот уже
сколько лет, отведай и ты этой похлебки. Я поросенком
визжу вот уже сколько лет, а теперь и ты поскули.
Погляжу я теперь, какой ты богатырь нартский!
И бог знает, отчего таким глупым и недобрым
становится человек... А может, это он от зависти? А что,
если он всех здоровых людей возненавидел? ..» Урузма-
гу не по себе стало от этой догадки, и он прошептал:
«Не приведи бог!..»
«Шесть недель забавлял его шутками, притчами,
сказки ему рассказывал, как малому, думал отвлечь от
болезни, а он чем отплатил?.. Свернулся в клубок, как
перепуганный еж, иглы торчком, будто все люди ему
враги.
Говорил, пятый год болею и скоро помру, а я ему
твердил: вот и хорошо, что пять лет, не дал бы тебе рак
столько лет себя за нос водить, видно, не рак, зачем же
себя пугать-изводить? Он вроде соглашался, но сиднем
сидел все равно и чуть было подбородком к коленям не
прирос... Вот он в свой черед и утешил меня...»
Сын предложил выйти из машины, отдохнуть в тени
под деревом у обочины дороги, но Урузмаг отказался.
Сын вышел, покурил, и поехали дальше. Урузмаг искоса
поглядывал на сына и думал: молодец, хорошо
держится. ..
Врут все — и бог и люди. Даже мой сын. Сидит
рядом как ни в чем не бывало, будто ему горя мало, а
у самого, наверное, сердце кровью обливается. А все из-
за того, чтобы я ни о чем не догадался... А ведь нет
такой лжи, чтоб хоть по какой-то малости нельзя было
угадать ее. Вот он везет меня на «Волге», и невдомек
ему, что я могу подумать: а чего это сын мой
расщедрился? Много раз с ним ездили в город, но всегда только
в автобусе, даже когда заболел и плохо мне было, а
теперь, когда совсем вылечили, зачем вдруг
понадобилось меня, здорового, на легковой машине доставлять
домой, как новый телевизор, чтоб какой винтик, не дай
бог, не отскочил... Зачем ты, сынок, на этот раз треть
своей зарплаты, целых пять туманов — пятьдесят
рублей, на такси загубил? Или лишние туманы у тебя
завелись? .. Нет, сынок, я понимаю тебя, может быть, на
твоем месте и я бы так сделал. Ты знаешь, что твой старый
24
. отец долго не протянет, и хочется тебе хоть чем-нибудь
услужить ему, порадовать его напоследок...
Мне, сынок, по чести говоря, это ни к чему. Мне бы
куда лучше в автобусе: наскучило мне целых шесть
недель на этого глупого ежа смотреть. Длиннющий, что
твой родниковый волосатик, а ума с ноготок... На него
глядя, сам дурнем стал. Вот и хорошо бы мне в
автобусе со знакомыми людьми поболтать-потолковать... Но
ты не согласился, а зря... Размахнулся, вроде бы не
мой, а купца сын: мол, отец выздоровел, до порога дома
надо на резвой машине подкатить, чтобы пыль столбом,
чтобы встречать выскочили, вечером пир горой устроим,
твое выздоровление отметим.
Вранье все это, сынок... Говоришь, пир горой, а сам
думаешь о моих поминках: как бы не
опростоволоситься, как бы чего не упустить. Много придет людей. Вот
и думай, как их принять. Слезами никого, сынок, не
удивишь. Люди крикливым причитаниям да мокрым
глазам не верят. А вот если у тебя все будет
по-людски — поминки по обычаю, горе не напоказ, доброе
слово всем, кто придет меня хоронить,— тогда никто тебя
не осудит. И не забудь их поблагодарить: в такую пору
у каждого полно своих забот, но побросали люди свои
дела и дома, чтобы твоего* отца почтить. Помни это,
сынок. И не забудь: «два месяц», готовься. Что же делать,
под ножом кровника мольба — не спасение...
Может, думаешь: бывает, что и доктор ошибается.
Верно, может, доктор чаще всех ошибается, но в моем
случае он мог ошибиться в счете дней, но не в болезни,
так что ни меня, ни себя этим не утешишь. А за меня не
бойся, не оплошаю, хоть.я и старый и больной человек.
Мне бог и профессор эти два месяца для жизни
отпустили, и я не хочу их смерти отдавать. Я лока жить
хочу... Хотя, может, лучше умереть, чем быть людям
в тягость... Ведь не захотел же Нарт Урузмаг... Нарт
Урузмаг? ..
Урузмаг поразился, что это впервые пришло ему в
голову: Нарт Урузмаг, его тезка, может когда-нибудь
прикоснуться к его земной судьбе. Он знал множество
сказаний о нартах-героях, охотно рассказывал при
случае о знаменитом старейшине нартов Урузмаге, но
впервые ощутил какую-то горькую связь с этим человеком.
Ему показалось странным, что Урузмаг до этой вот ми-
25
нуты представлялся ему хотя и старым, седобородым,
но великаном, а не человеком, горе которого может
тронуть сердце, удаче которого можно обрадоваться
поземному, по-людски. Но сегодня что-то случилось,
нечаянно всплыло в памяти его имя и вспомнилось, что он
был старым и седым, как Урузмаг, едущий из больницы
домой доживать свои дни. И ничего от богатыря будто
не осталось в нем. Показалось Урузмагу странным и то,
что он вроде бы забыл все смешные и озорные истории
с тем Урузмагом, а помнил только, что Урузмаг
состарился, ослаб, в походы уже не мог ходить с молодыми
нартами, трудно ему стало добираться даже до ниха-
са — обычного вечернего сборища мужчин в каждой
горской деревушке. И вот богатырь стал посмешищем
для молодых нартов. Открыто стали ему выказывать
свое непочтение. И горько стало на душе у старого,
некогда могучего нарта. И решил он уйти из этого мира,
уплыть по реке в наглухо закрытом гробу... Что же ему
осталось делать: пеший он не ушел бы и за околицу
своей деревни, а на лошади, даже смирной и старой,
как он сам, не мог усидеть...
И попросил сделать гроб из самого крепкого дерева,
сам лег в гроб. И заколотили крышку гроба и бросили
Урузмага в реку. И так плыл он, лежа в тесном гробу,
один на один со своим горем. Плыл, покачиваясь на
хребтине бог весть куда струящейся реки. И, может быть,
по ночам, глядя в дыру-отдушину, видел одинокие звезды
в далеком недоступном небе... Плыл много дней и
ночей, пока не прибило его лодку смерти к берегу...
Как же он вынес эту муку? Как же не разорвалось
сердце, не помутился разум? .. Видно, он был не чета
мне. Я вот и тому рад, что у меня шестьдесят дней, ни дня
меньше...
Где же ты, Нарт Урузмаг, выручи меня, старика!..
Согласись, мне трудней, чем тебе. Ты плыл один, и
никто не мог видеть ни твоих слез, ни твоих мучений. Ты
сам был себе и судья, и палач, а мне придется плыть
среди людей, в открытом гробу, и каждый мой вздох,
каждая моя слеза будет на виду... Пособи же мне,
Урузмаг, не дай старику опозориться в его последнем
походе, не оставь меня одного в конце пути!..
За десять месяцев пребывания в разных больницах,
среди чужих, незнакомых людей Урузмагу часто прихо-
26
дилось коротать одинокие дни в разговоре с самим
собой. И он стал привыкать вот так отделять себя
больного, нынешнего, от самого же себя прежнего, здорового.
В нем уживались как бы два человека, которые то
беседовали мирно, то неуступчиво спорили — каждый
считал, что его сомнения и заботы важнее всего. Эту
перемену в себе Урузмаг не замечал, но почти привык
к ней. Вот и сейчас, сидя в машине, он прислушивался
к этому спору двух голосов...
Смешной ты человек, хозяин двух месяцев. Ждешь
помощи от какого-то старика, будто не знаешь, что на
земле мало охотников делить с человеком его беду, что
люди всегда себе на уме... Да будь твой Нарт Урузмаг
жив, с чего бы прибежал на помощь к тебе, к больному
старику? .. Да и что приспичило тебе звать людей на
подмогу, так ли уж тебе плохо?.. Он плыл по реке в
гробу и не жаловался, а ты вот несешься по гладкой
дороге на быстрой машине, как князь какой, и справа от
тебя твой ученый сын сидит.. Такой дороги Нарт и во
сне не видел. Нескладно у тебя получается, Урузмаг!..
Верно, дорога хорошая, но тебе ли говорить мне об
этом? Я же сам здесь каждое лето по две недели землю
киркой ворочал!.. Ездить по ней, правда, редко мне
приходилось. Без хвастовства сказать, так я первый раз
без всяких забот еду... Без всяких забот? Вот как! Всю
жизнь по уши в заботах был, а два месяца осталось,
так и забот никаких?
Видно, за старого вола меня стали принимать —
сняли с шеи ярмо и гуляй как хочешь, сам себе хозяин!
А на что мне такая жизнь? Скоро же косовица
начнется, так ты дай мне в руки косу, отцепи эту собачью
болезнь, и я пойду на луг Дзедза и покажу всем, как
старый Урузмаг косой махать умеет.
Подняться бы до самого гребешка горы и по густой
траве пройти вниз по склону широким прокосом длиной
с полверсты и без единого перекура! Вот это дело, это
уметь надо! А то завели моду — перекур! Раз-другой
махнул косой, и уже перекур надо! Стоят здоровые
бугаи, небо дымом коптят. А по мне, косой дотемна
помахать — это и сердцу в радость, и рукам не в тягость...
Жизни я слаще не знаю, если она и есть где, так я ее на
вкус, на язык не пробовал...
А кататься на машинах туда-сюда — это и вовсе не
27
жизнь, а так, баловство и безделье... Сижу тут на
мягкой подушке, покачиваюсь, как бурдюк вина на арбе
в базарный день, и устал, хоть еще и часа не прошло.
И душа устала, а все от безделья...
Дорога, что и. говорить, хорошая. Но я бы по ней
своими ногами ходил, а не на колесах катался, как
мальчишка на самокате... Раззе я так ходил по своим
дорогам? Какие там дороги —узкие тропинки, два
всадника еле могли разминуться, но я по ним ходил весело
и шибко. Прыгал с валуна на валун, как Тедо
Скрещенные Рога, и орал песни. Тропинка бурьяном зарастет,
так я шел наугад и стучал палкой по жирным спинам
разомлевших лопухов. И шел дальше легко и весело и
не знал, что такое усталость.
Да что об этом долго говорить, нынче у меня другая
забота. Мне самое время подумать о другом — о дороге
жизни... Она ведь, дорога жизни, у каждого своя.
И идти по ней — одному, один-единственный раз...
Она и по смерти твоей другому не достанется. И
отвечать за нее тебе одному, даже там, в стране мертвых...
Вот и думаю, хорошо, конечно, оставить после себя
дорогу как звездный след. А что как лопухом
зарастет? .. Земля ведь не любит, когда каждый ее зазря
топчет, траве расти не дает. И зарастают обычные
человеческие пути...
Слишком хорошо о себе думаешь, старик! Дорога
жизни, звездный след!.. Твоя дорога — от колыбели до
порога, от порога до пашни, спину за плугом гнуть.
Твоя дорога дальше соседней деревни не идет. Дальше
тебе дороги не было. И ходил ты по ней пешечком.
Правда, иной раз ездил, но на старой кляче. И так до
самой могилы. И все!..
А ты меня не стыди!.. Что пеший ходил всю жизнь,
наездником не был — это еще не позор... Оно, конечно,
верно, нынче всем машины подавай, на лошадях теперь
разве что старики пастухи плетутся*за стадом. Вот и
мой сын машину задумал купить. Это, говорит, получше
коня — есть не просит и за потраву платить не придется.
А что ездить не умеет, да и некогда ему разъезжать, это
не в счет. Я, говорит, купил бы и самолет, да в продаже
нет...
Сверху, из-под высоких, слоистых облаков,
послышался урчащий вой реактивной машины, и Урузмаг
28
усмехнулся: не зря, видно, говорят — помянул собаку,
возьми палку в руку... Урузмаг поискал глазами
самолет в просвете облаков, но не нашел его и вернулся
к своей прежней мысли.
Ты мог бы мне и вот это припомнить — мол, погляди,
как высоко забрался человек, а ты, старик, всю жизнь
чуть не на четвереньках ползал по земле. Но ты меня
этим не кори, сам вижу, не слепой, и вправду высоко
поднялся человек. А ты мне лучше вот что объясни:
другая ли судьба его ждет, счастливей ли он?
Я вот думаю, как она может измениться, судьба
человека, когда дорога жизни так коротка? Всего в один
локоть, и никто не может к ней ни вершка прибавить —
ни бог, ни профессор. Верно, в мире всего много стало,
и каждый может идти куда сердцу приглянется, а
дорога жизни все так же коротка. И все ездят, летают,
торопятся куда-то, суетятся, но что с того, в том ли счастье?
Этак ведь жизнь пройдет, а перед смертью родной
матери лицо не вспомнишь — некогда было в лицо людям
смотреть, торопился! А разве это по-людски? ..
Вот, скажем, мой сын. Видный на шахте человек,
инженер, а смотрю на него и не могу понять — счастливей
он меня? Все у него как у людей — жена, дети, работа,
и получает немало, а мне жалко его, как усталого быка
в упряжке. И так ли весело и в охотку ему ходить по
своей дороге, как, бывало, мне, не могу сказать. Хогя
может статься, что сужу по пословице: и ворона свое
гнездо за царский дом принимает...
Знаешь что, старик, вижу, перепугался ты, вот и не
дает тебе страх верно думать. Ты вот говоришь —
дорога жизни, она у каждого своя! Верно, но зачем людей
по одному считать? Есть же у всех одна общая, людская
дорога, а ей, пойми ты, конца нет!
Неправильно споришь, вот что тебе скажу. И мою
беду зря ты сюда приплел... По-твоему судить, так я
еще и радоваться должен, мол, людской дороге конца
нет!.. Но ты пойми, моя дорога всего-то в два вершка,
и она у меня одна! И у всех так, вот какая беда, а ты за
мои два месяца уцепился...
По-твоему, раз у меня беда, так мне и думать
нельзя, и на все глаза должен закрыть? Но так только
глупый осел думал шкуру спасти: встретил в лесу волка
29
и глаза закрыл — авось и волк меня не увидит, раз я
его не вижу...
Нет уж, своей беде я в глаза хочу смотреть. И не
моя вина, что вижу, на дорогу жизни судьба нас
бросает нагишом как муравья на ладонь. Даст тебе побегать,
посуетиться малость, а потом сдунет с ладони, и все! ..
И чему мне радоваться? Что таких, как я, муравьев на
земле не перечесть?.. Нет, брат, пусть земля наша
круглая — внук говорит, что на бычий надутый пузырь
похожа,— но она все же не муравьиная кочка и я не
муравей... Вот в чем моя обида, а ты говоришь,
страх!.. Правда, напугаться в таком разе тоже не
грех — разве легко видеть, как твоя дорога в черную яму
обрывается, а тебе до той ямы всего-то шаг шагнуть...
Глянь, и в самом деле до нашего жилья два шага
осталось, прервал себя Урузмаг. Вот и родник Хату, а
отсюда до нашей деревни и пяти верст не будет.
Урузмаг попросил остановить машину, мол, воды
надо выпить, и вылез наружу. Потянулся, помахал
руками, подражая сыну, мол, гляди, сынок, я здоровый
человек. И подошел к роднику. Из-под кустов орешника по
деревянному желобу струилась прозрачная холодная
водица и бежала вниз по мелкому щебню к речке. Над
желобом навес из дранки, рядом скамья — струганая
доска, прибитая гвоздями к толстым чуркам. Тут же на
каменной плите алюминиевая кружка и пустая
литровая бутылка.
Это родник Хату. Он был дальним родственником
Урузмага, хорошим, добрым человеком. Урузмаг любил
его за справедливость и готовность услужить человеку,
когда в этом бывала нужда. Умер он внезапно, от
удара, от «лишней крови», как говорят в горах. И Урузмаг
посвятил ему этот родник. Этот навес, желоб, скамья —
все сделано его руками, трудился он целый день вместе
с сыновьями Хату. Бутылку с аракой.они в тот день
оставили там, но, видно, кто-то выпил за упокой души
Хату — для того, собственно, и оставили. И Урузмаг
просто захотел посмотреть свой навес, помянуть вслух
своего друга Хату, хотя бы и без араки. Он походил вокруг
навеса, поправил с краю лист дранки, потом погладил
рукой лохматую голову самой низкорослой орешины —
здорово ты вымахала за два года!
Урузмаг подставил руку под холодную струю, падав-
80
шую с желоба, потом набрал горсть воды, вслух
произнес:
— Да струится перед тобой эта родниковая влага во
веки вечные! — и развел ладони. Вода стекла, и он
набрал новую горсть, попить самому. Немного посидел
Урузмаг и на скамье Хату, как бы с ним рядом,
посмотрел на тот берег речки, на лес, по крутому склону
спустившийся к самому берегу. Кусты ольхи вцепились
корнями в берег и полоскали повисшие веточки в воде;
листья, напоенные досыта водой, стояли торчком,
навытяжку. Речка была небольшой, русло узкое, и
Урузмаг различал на ореховых кустах множество зеленых
гроздьев. Это обрадовало его: детишки полакомятся
всласть...
До сих пор Урузмагу казалось, что машина еле
ползет, но теперь он попросил шофера: «Попридержи
свою арбу», — и тот не стал огорчать его. И Урузмаг
чуть не вслух здоровался с каждым кустом и
пригорком. Здесь он в лицо знал каждое придорожное
деревцо, каждую речку, мостик, большие межевые камни,
каждый родничок. И ему было радостно вновь видеть
их. Он бы стал говорить им вслух шутливо-ласковые
слова, но стеснялся. Поэтому окликал их про себя,
спрашивал о житье-бытье, благословлял, потом махал им
рукой: до следующей встречи!
И забыл Урузмаг о своей болезни и о том, что,
может быть, этой следующей встречи и не будет. Только
вблизи родной деревни он вдруг вспомнил, что никуда
больше не уедет, в город, в больницу ему нет уже пути,
и загрустил, будто ему жалко было уходить из
больницы.
Вот и прощай, большой город, не увидимся больше,
тебе уже не до меня — полечили, мол, тебя, старик, как
могли, а теперь езжай к себе в горы и мыкай там свое
горе. Что ж, я так и сделаю — останусь тут, в своих
горах, со своей печалью, а ты прощай! ..
Здравствуй, мой очаг! Здравствуй и ныне, и после
меня! Сам тебя выстроил, своими руками, и не такой я
больной, чтобы уйти к Барастыру, не повидавшись с
тобой. Нет, вернулся к тебе, два месяца буду жив-здоров,
а потом не ручаюсь. Но ты не огорчайся, будет за нас
Уастырджи, так и больше продержимся! Под твоей
крышей меня не скоро одолеет эта собачья болезнь! Мы
31
еще повоюем с ней! Старик я, правда, но все же Уруз-
маг, а если прихвастнуть, то Урузмаг из рода Бораевых,
иартский муж! Так-то!
Здравствуй, дом, вот и я!
3 ¦
В небольшой горской деревушке в шестнадцать
дворов жили однофамильцы, родичи Урузмага. Вся
деревня — одна большая семья, все из одного корня. И хотя
давно развела их жизнь под разные крыши и у каждой
семьи были свои заботы и желания, все же их
сближало не только кровное родство, но и чувство простой
человеческой привязанности, которое невольно возникает,
когда люди из поколения в поколение живут на одном
клочке земли. Жители одной деревушки в горах — это
как бы островитяне. По этой причине здесь один
человек для другого не только сосед или родственник, но
какая ни есть опора и надежда в беде.
Как всюду в человеческом общежитии, и здесь
людей разъединяют порой зависть и недоброжелательство,
корысть и глупость, но, как бы ни развела их неприязни
она не в силах разорвать те последние нити
человеческого родства, которые и берегут душу от горького
чувства одиночества и неприкаянности в мире.
Урузмаг никогда об этом не думал, и, если бы
сказали ему об этом, он удивился бы, может быть, и не понял
бы, а может, подтвердил бы это, по своему
обыкновению, притчей или преданием. Но как бы то ни было, он
особенно почувствовал это за время своей долгой
разлуки. В больницах он понял, как ему одиноко и неприютно
быть без родной деревни, как ему дороги и нужны его
родичи со всеми ссорами и мелкими обидами, простой
и не знающей себе цены добротой. Встреча с родным
домом была для него самой большой радостью. И он
знал, что так же рады его возвращению все соседи, что
они заждались его. И большего счастья он и не
представлял и не желал себе, только бы всегда было
вот так.
Раньше всех к Урузмагу пришли дети и женщины —
кто меньше других умел скрывать свою радость и
любопытство. Потом стали поодиночке приходить мужчины.
32
Все. уже знали от сына Урузмага, что его вылечил про-
фессор, что кончилось его долгое хождение по
больницам.
Здоровались с Урузмагом все, и стар и мал. Дети
подавали правую руку, левую стеснительно пряча за
спину. Мужчины и пожилые женщины обнимали его и
прикладывались к его жесткой небритой щеке губами.
А когда пошло на убыль первое волнение, выплеснулось
чувство любви и радости, люди стали шутить, осмелез-
шие старушки, ровесницы Урузмага, наперебой
предлагали женить его: «Женить, женить Урузмага! Хватит,
два года, как вдовствует!..» И ушла куда-то его скорбь.
Было такое ощущение, словно он после долгого летнего
дня на косовице встал нагишом под теплую струю из
желоба в укромном месте, смыл с себя пыль и пот,
тяжкую усталость и, надев свежую сатиновую рубашку,
прилег в тени на сухой земле. И земля впитывает жар,
излучаемый натруженным телом, и оно мало-помалу
остывает, уходит усталость, а на душе становится
легколегко. Он шутливо отвечал на озорные реплики, обещал
привести в деревню жену, вот только дали бы
побриться, управиться с сенокосом да всех ребят в деревне
поженить, чтобы обиды не было—старики женятся, а
молодых оттесняют, в черном теле держат.
— С вас причитается, Цамеловы наследники! —
шумел Басил. Он вошел во двор, где было полно людей,
пробился к Урузмагу, не потревожив только тех, кто
сидел на скамье или на бревне.
Басил был самым близким другом детства Урузмага.
И в подпасках и в пастухах ходили вместе. Не
разлучила их даже женитьба, вместе пахали и косили, пополам
делили свои нескончаемые семейные заботы, а на
праздничных пирах и свадьбах были запевалами.
Троюродные братья, наследники деда Цамела. Потому и кричал
Басил:
— С вас причитается, Цамеловы дети!
Это значило, что причитается не только с сыновей
Урузмага, но и он, Басил, обязан позвать на пир всю
деревню, ведь и он брат Урузмагу.
— Не пугай меня, мудрейший из Цамеловых
сыновей. Пировать, так по-нартски, с понедельника до
понедельника! — ответил Урузмаг и поднялся навстречу
другу.
33
Обнялись Басил и Урузмаг. Долго терлись щекой о
щеку, ровно телята весной, и никто не заметил, что
Басил своей мосластой пятерней, как скребницей, почесал
за ухом Урузмага. Урузмаг и Басил, рано женатые,
были обременены большими семьями. Порой Басил
горевал: «Прилепил ко мне бог детей больше, чем репья
к хвосту осла!..» И вечно они были в заботах как
в мякине — сколько ни выбивай, все остается. Тем не
менее не могли обойтись друг без друга ни одного дня,
хотя на людях никогда этого не показывали. Это было
бы недостойно взрослых мужчин, неприлично, стыдно,
не по-людски, как сказал бы Урузмаг. Но почти
годичная разлука извела Басила. Его не оставляла мысль,
что нынче и молодые люди падают, как птицы на лету,
а тут, что ни говори, старики. И теперь, когда все
тревоги остались позади, когда профессор вылечил Урузмага
и друг предстал перед ним, Басил не выдержал, глаза
невольно налились слезами, а рука повторила давний,
в детстве усвоенный жест.
Басил был тихий и ласковый мальчик. На обиды
отвечать не умел, и Урузмагу пришлось взять его под
свою защиту. И так привык к своей роли заступника,
что в годы пастушества, когда они, бывало,
перекусывали где-нибудь под деревом, он отдавал ему лучшие
кусочки сыра и хлеба. Как-то на это обратили внимание
другие мальчишки, и Урузмаг в свое оправдание
невозмутимо сказал: «Да он же мой ягненок, и надо с руки
его кормить, иначе отощает!..» Басил смирился с этой
кличкой, но однажды в отместку стал чесать пятерней
за ухом Урузмага. «Что ты делаешь, ласковый ты мой
барашек?» — удивился Урузмаг. «Как что? Ты же мой
щенок белолобый, а щенята любят, когда чешут у них
за ухом». С тех пор так и повелось: щенок да ягненок.
Потом за множеством забот и лет забылось это
смешное, щенячье проявление любви. Но когда тревога за
жизнь больного Урузмага не давала по ночам уснуть Ба-
силу, он неизменно вспоминал это давнее, детское.
В тех счастливых случаях, когда у всех людей на
душе одна общая радость, когда человеческая круго-
связь так естественна, что ничем, кроме добра, не
вызывается, в горской деревне недолги сборы к застолью.
Да и много ли надо для непритязательного пиршества
родичей? Если есть арака, пиво, мясо, пироги, то считай,
34
что всего вдоволь за столом. А в доме Урузмага арака
водилась всегда. Свежий сыр для пирогов в летнее
время у всех водится, а пиво невестка Урузмага быстро
приготовила по городской моде — из сахара и жженого
хлеба. На шашлыки сгодился баран по имени
Опущенный рог. Второй год, как он не ходил на пастбище со
стадом, кормился хлебом, да и то только с рук хозяйки
дома, невестки Урузмага. Есть простую полевую траву
считал ниже своего бараньего достоинства, но в этот
вечер люди, по своей всегдашней беспечности, в
суматохе забыли о привилегиях Опущенного рога и отправили
его в котел.
И начался в сумерках во дворе Урузмага,
освещенном электричеством, обещанный пир горой. Старейшина
рода сидит во главе стола и, как водится исстари,
провозглашает тост по обычаю. Особый тост за
выздоровление Урузмага, за вылечившего его доктора Херхеу-
лидзе. Урузмаг позволил себе, вопреки советам
профессора, даже выпить немного, да и от еды не отказывался.
И какой вкусной она показалась ему после набившей
оскомину больничной кухни. Правда, соседи знали, что
он бывал за столом более озорным и веселым, но,
видно, устал с дороги, думали они, не в ударе он, да и
неловко ему расходиться на пиру по поводу
собственного выздоровления, не мальчишка же он, в самом деле...
— Прими от меня, Басил, кусочек мяса, а то, вижу,
косишь одним глазом в мою сторону, боюсь, косоглазым
останешься на всю жизнь.
. — Что греха таить, Урузмаг, отощал я, как медведь
под кизиловым деревом, все ждал твоих подачек,—
скромно согласился Басил. — Давно баранины не едал.
— На моего валуха, что ли, зуб точил?
— А ты разве пахать на нем собирался?
— Что ты, Басил, на шашлык для тебя откармливал!
— Я так и думал. Хороший ты все-таки сын у Цаме-
ла, бог*тебя сподобил уразуметь, что мне, Басилу, без
баранины жить никак нельзя.
— Как же не уразуметь, ты же в нашем роду один
такой уродился — муж богоравный, княжеской крови!
— Слышите, мужи нартские? Это наш Урузмаг,
золотые уста, правду говорит: Басил — муж богоравный!
Услышь каждый, кто не глух, и запомни! А еще скажу
вам, поскольку я богоравный, то не к лицу мне скупить-
35
ся, и приглашаю всех на завтра! Приходите все, кто
может, а кто не может ходить, тех на руках приносите,
так приглашали нарты, а я, сами знаете, из нартского
рода. Да и бараны у меня тоже водятся,— расщедрился
подвыпивший Басил.
— Ребята, запомните, Басил не всегда такой
щедрый,— обратился Урузмаг к молодежи,— не давайте
ему одуматься, завтра же до захода солнца'не забудьте
насадить на вертел самого жирного из баранов нашего
богоравного Басила!
— Аммен, аммен! — весело вскричали в конце
стола.— Вертел готов, ножи наточены! Сказано — сделано!
— Клянусь кривым глазом моего покойного деда
Цамела,— Басил и не думал отступать от своих слов,—
сказал правду, и только правду! Завтра вечером все в
мой дом! А в неделю Уастырджи и на свадьбе
погуляем,—похвастался Басил.
— Это о какой свадьбе речь? — спросил Урузмаг.
— Э, брат ты мой, значит, не слыхал в городе о
свадьбе моего наследника? Сына женить собрался.
Сговор был, только свадьбу на осень, на неделю
Уастырджи перенесли. А главой свадебного поезда быть тебе,
слышишь, старик?
— Да благословит Уастырджи молодых, но я
слишком стар, мой брат, для такого молодого дела, —
спокойно возразил Урузмаг, но глаза наполнились печалью.
«Не дотянуть мне до недели Уастырджи, брат мой...»
— Это не помеха, Урузмаг, старый волк в одной
пасти двух овец тащит! — отвел Басил ссылку на
старость.
— Послушайте, старые волки, до недели Уастырджи
еще четыре месяца. Когда еще будет эта свадьба! К
тому времени мы без зубов можем остаться. Лучше
подумаем, как бы повеселей за этим столом посидеть. Спойте-
ка одну старую песню, из моих любимых. Знаете же,
что меня хлебом не корми, дай только песню послушать.
А как же без песни? Не зря же говорят: застолье без
песни что коровье стадо без бугая. Спойте же, ради
бога!— это попросил тщедушный старик, повернув к
Урузмагу маленькое, с кулачок, дудое морщинистое
лицо, перечеркнутое пополам плотной крученой линией
усов. Темные большие глаза сузились и умоляюще
уставились на Урузмага.
36
Урузмаг знал, что Зура любкт слушать старинные
осетинские песни, но сам не умеет петь, потому с малых
лет привык просить его и Басила, просить всегда и
всюду — на пирах, свадьбах, на пастбище, пока коровы,
лежа на пригорке, жуют свою жвачку. И не прошла
у него эта блажь даже на старости лет. Вот и сейчас он
просил, как мальчишка-подпасок, и сузившиеся
блестящие добрые глаза просили, умоляли — спойте! Урузмаг
не мог понять, что ему, старому и усталому человеку, до
этих немудреных песен, но чувствовал, что это самая
большая отрада для его души, что к песне он
испытывает такую же нежность, как маленькие дети к щенкам,
что, если бы это было возможно, Зура носил бы песню
за пазухой, как кутенка в зимнюю пору.
— Сын кривого деда, спой! Зура шутить не любит,
до утра будет сидеть, но без песни не уйдет, так что
выполним его лапорт...
Старики заулыбались. Слозо «лапорт» пристало к
Зуре как репей еще в те годы, когда стариков грамоте
начали учить. Зура научился тогда с грехом пополам
читать и писать, выводить довольно ловко свое имя и
фамилию. И однажды на радостях запел:
Научился писать лапорт,
Длинный лапорт напишу!..
«Теперь не отвертеться Кандуа от ответа! Напишу
в район лапорт длиною в десять локтей, и взыщут с него
за мою козу тройную плату! * — грозил Зура своему
обидчику Кандуа, что купил у него козу, да не заплатил
по уговору. И с тех пор Зуру так и дразнили —
«Лапорт».
— Что ж, лапорта даже Кандуа, бычья голова,
испугался, так что придется петь,— с притворным
смирением произнес Басил и тихо начал выводить:
Уо-ой, за Холыстом-селом крыжовник Габановых...
Уо-ой, шел бы своей дорогой, да на пути спесивые Габановы...
Урузмаг подхватил песню, и в его чистом голосе
трогательно зазвучала тревога невинного человека перед
выбором: принять позор или пролить кровь.
Уо-ой, шел бы вперед, да на пути свора Габановых!..
Уо-ой, назад повернуть, да как старой матери на глаза покажусь?..
37
Басил задорно поспешил принять вызов Урузмага,
повысил голос и затейливо вывел:
Уо-ой, с одного корня два дубовых ствола срубили...
Уо-ой, из рода Габановых-двоих убитых на одной арбе провезли...
«Двоих убитых? ..»— печально повторил про себя
Урузмаг. Двоих не будет, но одного из своих старых
братьев скоро придется повезти тебе на арбе к могиле
на дедовском кладбище. И, может, потом никогда не
будешь вот так петь и ублажать доброе сердце Зуры.
Урузмаг замолчал, как бы уступая первенство Баси-
лу, и тому неудобно было продолжать, как бы настаивая
на своей победе. Зура слушал зачарованно. Ожидая
продолжения песни, он помолчал, потом произнес,
покачав головой:
— Будь моя воля, я бы оставил вас жить всегда,
людям душу веселить... Моя душа словно босыми
ногами по теплому песку погуляла!
Старейшина поднял в руке рог на уровень бороды,
а это значило, что пора и тост провозгласить: песня —
украшение застолья, тост — его основа. И начался
новый тост, а Урузмаг отвечал про себя на пожелание
Зуры: «Согласен петь для тебя всю жизнь, старый усач,
да бог не велит — пой, мол, коли охота, но два месяца!
А там айда на свое место...»
Старейшина вспомнил всех, ни живых, ни мертвых
не обидел, помянул добрым словом. Помянул также
убиенных на большой войне, пожелал грядущим
поколениям быть мудрее и счастливее отцов, чтобы им на
войну уходить никогда не пришлось. Сказал тост и за
изобилие на земле и в доме хозяина. Все сказал, что
велел обычай, и заспешил: «Позднее время, выпьем за
Уастырджи, благословляющего порог, и спасибо этому
щедрому дому, хорошей ночи и добрых снов!»
За старейшиной ушли все, обычай не велит после
ухода старших оставаться. Пир — это не дружеская
попойка, а праздник всей деревни, напиться на пиру
позорно. Об этом никто никогда не говорил, но знали
все — от старейшины до мальчугана. И ни у кого не
было ни нужды, ни охоты преступать обычай.
Урузмаг остался один в кругу своей семьи, и внуки,
при людях стеснявшиеся приставать к деду,
прилепились к нему. Каждый по-своему ласкался к деду и хотел
38
получить свою долю ласки и любви. Урузмаг еще в
больнице, до прихода сына, обдумал, что купить детям,
чем их обрадовать. Конфеты, игрушки — младшим,
внучкам, а старшему внуку он купил рубашку из
шерсти, как он называл свитер. Нравилось Урузмагу, что
спереди на рубахе оленьи рога нарисованы. Это хорошо,
ведь в деревне получить кличку Олень было мечтой всех
мальчишек. Это значило, ты быстроногий, стройный и
красивый, как олень.
Дети рады были подаркам, но им больше нужен был
сам дедушка. Мальчик просто прислонился к плечу
деда, а девочки залезли на колени и просили «покатать их
на иноходцах». И дед, конечно, не отказался, и младшая
внучка тотчас приказала:
— Но, иноходец! Вперед, давно я не каталась, и ты
разленился, лентяй!
Второй девочке быстро наскучила езда на иноходце,
и она попросила рассказать сказку, мол, ночью не
время кататься на лошади.
— Твоя правда, дочка, будет и сказка,— принял
предложение Урузмаг и начал рассказывать о том, как
барсук обдурил глупого волка.
Урузмаг сам услышал эту сказку от матери и охотно
рассказывал ее; это было воспоминание о матери,
которую он особенно любил, так как почти не знал рано
умершего отца и мать была единственным человеком,
кого он слушался охотно, угадывал ее желания еще до
того, как она собиралась их высказать, и бросался их
выполнять...
— Давно, очень давно жил себе в норе у межи один
бедный барсук. Как-то вышел он из норы и стал
собирать под старой грушей падалицу. Вкусные были груши,
увлекся барсук и не заметил, как подкрался к нему
волк и давай теребить: «Сейчас я тебя съем, старый
проказник». Барсук, что и говорить, напугался до
смерти, но все же сказал волку: «Ладно, бегурико-господин,
вот только надо со вкусом меня съесть...» — «Как это
со вкусом?» — закричал глупый волк, а барсуку этого
и надо было. «А так, бегурико-господин, как твой отец
моего отца скушал»,— сказал барсук, и волк еще
больше удивился. «А как мой отец твоего сожрал,
расскажи. ..»— «Твой отец, бегурико-господин, любил вкусно
покушать. Он схватил моего отца и кинул его в одну
39
сторону, потом в другую, и долго так кидал-бросал,
пока мясо не стало мягким и вкусным, только знай себе
откусывай и глотай, жевать не надо. Вот какой он был
мастер вкусно поесть!..»— «Это хорошо, что сказал
мне, как вкусно жрать надо, не будь я сын своего отца,
если не сделаю с тобой так же — бросай-мрасай!»
И кинул волк барсука вниз, к меже. Барсук упал у
своей норы, юркнул в свой дом, а волк прибежал — нет
барсука. Он облизнул губы и решил тоже надуть
барсука. «Вылезай, барсук, еще поиграем. Хорошую игру ты
придумал, а есть я совсем не хочу. Только скучно мне
одному, выходи, поиграем!..» А барсук рассмеялся и
ответил: «Ступай, ступай, бегурико-дурак, зря слюной
обливаешься, не выйду я к тебе, неохота мне играть
с таким дураком, поищи кого другого, себя поглупей...
И не забудь, как мой отец твоего отца за нос водил!..»
Постоял еще бегурико-дурак у норы, никак уйти не
может, будто у него вывалившийся язык к земле пришили,
а барсук свернулся в норе клубочком и давай спать!
Вот и сказке конец, и нам тоже спать пора...
Девочки просили рассказать еще одну сказку про бе-
гурико, но мать увела их, а потом Урузмаг попросил
невестку постелить ему в новом деревянном домике,
который он три года как построил для себя. Он посидел
еще немного, потом сказал сыну «доброй ночи» и
отправился к себе.
4
Долго не мог уснуть Урузмаг. Да и как было
уснуть...
Что в нем, в этом деревянном домике, или в этой
деревне, в этом клочке земли, а душа на привязи у них,
и никуда от них не денешься. С прошлой осени скитаюсь
по больницам, был и в Дзауджикау, и в Калаке, и
ласковы были со мной, и кормили лучше, чем дома, но
жил я не там, а здесь. Днем вспоминал, ночью снилось.
И знаю, что здесь я уже никому не нужен — дети давно
выросли и живут своими семьями, друзья состарились,
одни из них ушли, другие доживают свои дни, как я, не
до меня им, конечно. Но все тянусь к ним, как дитя,
и никакого сладу с душой. Что мне эта земля и для чего
40
я ей нужен? .. Пахать, косить я уже не могу, старого
человека и в пастухи никто не возьмет, одно осталось —
лечь и уйти в эту землю, а все не могу без нее, не могу
жить ни в городе, ни в другой деревне. Как будто
другой такой земли нет на свете. Но видел же, знаю, что
есть такие земли, наша по сравнению с ними как бедняк
рядом с князем. Но разве променял бы ее на другие
края? Никогда. Пусть другие живут на лучших землях
и благоденствуют. Меня бог сподобил родиться и жить
на этом клочке, и не ищу другого.
И никуда больше я не поеду и не пойду. Кончился
последний поход Урузмага. Хорошо еще, что вернулся.
Вылечил меня профессор, сын закатил пир горой, и
родичи повеселились. А всего-то вернулся старик
доживать свое... Хорошие люди, вот и радуются чужой
удаче. .. Удаче!.. Обласкали меня, и на душе хорошо
стало. Ушли, оставили одного, но сердце спокойно, и лежу
себе в своем домике... С женой, мир праху ее, думали
здесь прожить остаток дней, но не повезло ни ей, ни
мне... Видать, не судьба...
Хорошо все-таки лежать вот так в своей каморке и
перебирать свои мысли. Один, никому не в тягость.
И сыну так лучше, пусть думает, что верю его сказке.
А раз здоров, то и живу один, не' беспомощный же
старик, вон старухи женить меня собрались, а я им
поддакивал. .. И пусть верит, что я ничего не знаю. И ему
легче, и мне спокойнее. Когда женил его, то оставил ему
наш дом, а сам перебрался во времянку, а потом
построил вот этот домик, на двух стариков хватит, а вместе
жить не было смысла, хотя сын обиделся: делиться, что
ли, собрался, отец? Нет, делить нам нечего, сынок, но
две женщины у одного корыта не уживутся, каждой
нужно, чтобы сама была хозяйкой у своего очага; вот
и лучше жить под разными крышами, но одной семьей,
чем под одной крышей, но двумя семьями, в ссорах да
неладах. И понял, согласился с моей правдой. И
шашлык не обуглился, и вертел не сгорел, как же иначе? ..
Младший сын, правда, жил с нами, с отцом и
матерью, но он в большом городе учится, в год на один
месяц прибежит домой, да и то часу не может усидеть,
словно соседи его сито просить прислали... Теперь,
кажется, время ему вернуться. Побудет месяц со мной и
удерет обратно в свой город...
41
Должно быть, хороший из него получится человек,
кажется, умней старшего брата, книгу любит, до
глупостей не охотник. За него моя душа спокойна. Я ему
уже не нужен, еще год, и пойдет работать; живи я
дольше, может, пришлось бы мне помогать, обузой стал бы
для него, а зачем это? Может, он и вернуться не захочет
сюда, а издали думать о старом отце — лишняя
забота. .. Пусть живет в свое удовольствие, а вспомнит о
родной деревушке, так на постой к соседям не пойдет,
оставлю ему дом, все же своя крыша над головой..,
Вот так, мой домик, неказистый ты, а я-то думал:
хоромы княжеские выстроил; лее своими руками, до
последнего листа дранки, за одно лето, после сева до
косовицы; все уже было готово, но осенью она ушла. Шесть
недель только пожила в этом доме и ушла... А мы-то
думали век здесь вековать по-стариковски. Богу не
угодно было дать пожить нам по-людски, а за что?..
Она ушла, а вслед за этим и мне плохо стало, и вот
маюсь два года, от доктора к доктору хожу, как
разборчивый жених... Но теперь кончилось мое хождение...
Свободный стал — ни заботы, ни работы, и доктор не
щупает, как старушка курицу...
Лежу себе на деревянной кровати, сам делал; и,
может, жестка, но не визжит как резаная, а в больнице
ногу почешешь ногой, а кровать уже скрипит на все
лады, перед соседом стыдно, спать не даешь. Здесь я
лежу на балконе, на луну гляжу, и никому до меня нет
дела, «подвинься» никто не скажет., ¦
Луна — что круг сыра в чистом рассоле.
Удивительное дело, всегда здесь спал, но в голову никогда не
приходило на луну глядеть. Не до того было, намаешься
за день, спину разогнуть больно, жена, бедняга,
угощает, а я с ложкой во рту засыпаю. Ладно, бог силой че
обидел ее, дотащит меня до кровати, до рассвета лежу
как мертвец какой... Курица воду- пьет, так голову
вверх дерет, на бога охота поглядеть, а я всю жизнь на
землю смотрел, выпрямиться было некогда. Всю жизнь
торопился. Как загнанный конь на скаку травинки
хватает, так и я жил, а куда мчался, спроси, не ответил бы.
И чего я добился? Ничего. Как конь на привязи,
бегал вокруг своей деревни, пока не запутался вконец.
А люди, говорят, по луне ходят; как собственный двор,
прибирают ее. А может, и врут, кто их знает, поди
42
проверь. Но и то сказать, одного человека обманешь, мо
целый мир не проведешь. Видно, правду говорят, но что
там ищут? Спроста нынче никто и «День добрый!» не
желает сказать, а в такую даль кинуться без всякой
корысти дураков не сыскать. Важное, видно, дело, раз
не ленятся и страх не может их остановить. Только я не
могу понять, что к чему. Темный человек, в ликбезах
научился свое имя писать, а нынче ученый народ
пошел. ..
С виду так кажется, что ничего в мире не
переменилось: каждый по-прежнему под своим котлом огонь
разводит, о себе печется, получше устроиться в жизни
норовит. Но приглядись, так от прежнего ничего и не
осталось. Луна, что и говорить, на своем месте и по небу
катится по-прежнему. Состарится, так похожа на ароб-
ное колесо, а народится сызноза — что божий
серебряный серпик. И горы по-прежнему покрыты лунным
светом, как свадебный пирог яичным желтком, но что с
того? Вижу, наш Северный лес стоит и спит, это и в мои
детские годы всегда так было. И птицы спят в ветвях
по-прежнему. Вон и речушка в балке блестит, что
девичий серебряный поясок, только молчит как неживая.
И все как неживое... Иной при жизни бывает
невзрачный, морщинистый, глядеть не на что, а покойник что
надо — морщины расправляются, литю хорошеет и все
как у людей, только мертвое, души нет...
Слава богу, залаял пес во дворе у Кайтуко, и весь
мир словно ожил...
А здорово лает пес Кайтуко, басовито, протяжно!
Сам Кайтуко вот так же подпевает на пиру песне
Уастырджи. Голос низкий, густой, подминает под себя
все остальные, как ползучая лавина мокрого снега
весной. .. Нет, на земле людям нужен и собачий лай. Что
за деревня, если в ней псы не лают по ночам? Будто
в ней людей нету, неживая...
Да, в мире все переменилось, это лунный свет все
делает похожим на старое, а взойдет солнце, и сразу
видно будет, что все переменилось — и дома, и люди...
И работают, и едят, и друзей заводят по-другому...
А может, это к лучшему? Скучно же все одно и то же —
дома, и на работе, и на пиру, и на поминках. Попробуй
три дня подряд мед есть — солому жевать согласишься,
43
только бы от него избавиться. Нет, пусть живут
по-своему, им виднее.
Правда, мне по душе, что в нашей деревне собаки
лают, дети шумят, кричат, ссорятся и мирятся, плачут
и поют, как в нашем детстве. Это все по-прежнему.
А может быть, это и не надо менять? Если .с утра во
дворе не шумят дети, над трубой, как мышиный хвостик,
не колышется дымок, не блеют ягнята, так это разве
дом? Разве это деревня?
А сколько было детей в нашем селе, мал мала
меньше, да и жили мы впроголодь, но шумели, пели,
горланили. У моего внука теперь больше одежки, чем тогда
у них у всех было. Нынче молодые отцы и матери детей
стали бояться — трудно воспитывать! А что трудного-
то? Хлеба хоть завались, да и одеть их — не велика
плата. А воспитывать к чему — они же люди, только
маленькие, и сами себя воспитают. Нас, что ли,
воспитывали? Жили и росли, но ни воров, ни убийц, ни ябедников
в нашей деревне не выросло. Эх, дали бы мне смолоду
пожить вот так, целую бы деревню детей вырастил! Но
жизнь переменилась, а я старик стариком. Не долго
осталось, а там езжай, если коня посвятить не забудут,
или пеший ступай к Барастыру...
Сыну бы не забыть сказать, чтобы там, на старом
кладбище, похоронили, рядом с отцом и матерью, со
старушкой женой. Здесь, на новом кладбище, молодые
все, мне, старику, с ними не с руки. И кладбище там
лучше... Раньше, когда своим хлебом кормились,
землю пуще глаза берегли, для живых берегли, мертвым
место на пригорках нарезали, где пахать было нельзя.
Теперь привозного хлеба вволю, наши бедные полосочки
заброшены, и никому уже и в голову не придет
распахивать их. Самые лучшие пашни отвели под кладбище,
говорят: на старое кладбище далеко ходить, покойников
ка волах, что ли, возить? Мы носили своих покойников
и не жаловались. Я свою старуху тоже не отвозил, а
меня им придется на арбу положить. Надо будет
сказать Басилу, пусть повезет на арбе, молодые скажут, не
к лицу людям нового времени по старым законам жить,
своих покойников на руках таскать за тридевять земель.
А какой тут старый закон, если я хочу лежать рядом
с отцом и матерью? Живых не сторонился, вместе жили,
хочу и мертвый лежать неподалеку. Да к тому же ста-
44
рое кладбище мне по душе: чисто там, высоко, тихо,
надгробья в тени деревьев. Старые буки о чем-то
шумят; люди редко приходят, но птицы с весны до поздней
осени в ветвях над могилами... Понимаю, что мертвому
все равно, где лежать под землей, но я попрошу своих
друзей стариков там меня закопать...
Понимаю, не велика потеря — все рано или поздно
умирают, о чем же горевать сторонним людям? — но,
видно, настоящими слезами оплачут меня наши
старики. Они со мной состарились, каждый будет о себе
думать: скоро, мол, и мне туда дорога, как же не
печалиться? Да, уж радоваться никому не придется.
Сколько себя помню, по умыслу никого не обидел. Правда,
добра от меня тоже было мало. Что я мог сделать? Сам
еле концы с концами сводил, какой прок от меня? Ну,
помогу скосить полоску луга, дровишек привезу из лесу,
день-другой за плугом похожу для вдовы или старика,
которому некому пособить, мальчишку-пастуха обидеть
не дам никакому наглецу. Вот и все добро. Упомянуть
и то стыдно, но что я мог сделать? Отец был бедняк,
наследства не оставил, даже в лицо плохо помню его,
встречу его в стране мертвых и, пожалуй, не угадаю.
Вот будет потеха: отец и сын не узнали друг друга! Но
как узнать, он умер тридцати лет, а мне восьмой
десяток пошел. Не стареют люди в стране мертвых, и при
встрече придется ему прислуживать мне, своему сыну:
за столом я тамада, он виночерпий! Вот так, отец, и не
обижайся при случае — не моя вина, что ты так
поспешил в страну, откуда нет возврата...
Неужели в той стране ничего нет, все это выдумали
люди для утешения? Неужели вот так и кончается все,
нет человека, и ничего от него не осталось? Все
кончается с ним вместе — и все, что он узнал за долгие годы
мучений, и все, что он любил, и все его труды и заботы?
И никакого смысла не имеют перед смертью ни твоя
мудрость, ни твоя доброта, ни твоя справедливость и
честный труд? И наравне с дураком и злодеем, кутилой
и пронырой станешь щепоткой праха? И все? И это вся
справедливость бога и людей?.. Но тогда дурак, кто им
верит.
Глупости я говорю, стариковские глупости!.. Это
давно было известно умным людям, не зря же
говорили: если бы в стране мертвых был рай, то падишахи
45
и князья первыми поспешили бы туда. Все это выдумки:
райская страна Дженет, Барастыр-привратник,
Амнион — царь мертвых... Глупые сказки для дурней.
Видел я однажды, в большом городе, как могилу рыли и
кости другого покойника выкидывали. Кости, прах,
истлевшие доски гроба — и ничего другого там не было...
И разворошат их когда-нибудь и втиснут на твое место
другого мертвеца... Может, надгробный камень будет
помнить о твоем имени, но и камень поглотит земля...
Поплачут обо мне, не без того, по обычаю
полагается, потом отвезет меня бедняга Басил на арбе с тремя
парнями — он меня не бросит, знаю, не доверит
мальчишкам— и опустят в могилу, забросают землицей и
сядут за поминальный стол. Скажут: «Да пребудет в
светлом раю!»—и разойдутся по домам. Урузмаг, мол,
довольно пожил, побегал по .этой земле, порезвился на
свадьбах и пирах и ушел восвояси! И все. Радуйся или
горюй, никто ничего изменить не может, ни бог, ни
человек. ..
Да и то правда, ни радоваться, ни горевать особого
смысла нет — жил, как все, и ушел, как все. Как ольха
на берегу ручья, ни добра, ни вреда от меня не было
никому. Пока был мал, сирота, обижали, кое-кто
пытался обкорнать мои полоски земли, но подрос, присмирели,
а мне было не до мщения — свои люди, родичи... А там
пошли дети, одиннадцать ртов, хотя бы по кусочку
хлеба надо им, вот и трудился, как муравей, засыпал, где
ночь заставала, а начинало светать — я на ногах. Ни
богу помолиться, ни людям услужить было некогда,
разве по праздничным дням, да и то второпях...
Одно спасало — намаешься за день, так спишь
беспробудно. Это мне сейчас не спится, когда негож
стал для работы, а раньше жил по старому
благословению: избави бог от праздных дней и бессонных ночей!..
Доброе пожелание. А теперь вот ни" трудов, ни сна.
Покинула сила, ушел и сон...
А люди спят, и земля спит. Люди в ночную тьму
зарылись, как воробьи в мякину. Пусть поспят,
притомились, видно; им же некогда по больницам бродить,
жить надо. И я так жил. И все мог. Ни у одного косаря
не было прокоса такого размаха, никто глубже меня не
пахал. И спалось мне всюду хорошо. Однажды в лесу
под снегом заночевал, ветви подстелил, ветвями при-
46
крылся, и ничего, вылез из-под снега что твой медведь,
встряхнулся и пошел своей дорогой, даже насморка не
схватил. Все мог, а вот эта собачья болезнь скрутила
меня, как ивовый прутик. Грызет меня, что голодный
пес старую кость. А то оставит в покое, отпустит и
молчит, так и собака бросает грызть, оглядывается, нет ли
поблизости другого пса, не норовит ли схватить ее кость
и улизнуть. А не видно никого, так опять вгрызается.
Собачья болезнь и есть. А был я в силе, так никакая
напасть не смела близко подойти.
Однажды кутаисского силача на лопатки положил
не умением, а силой. Бороться совсем не умел, а сила
была. Шел по селу Большая Поляна, там наши родичи
живут, однофамильцы, и старый Дзадже окликнул меня:
«Подойди-ка, сын Уаза Урузмаг, на тебя последняя
надежда, тут наш племянник из Кутаиса всех наших
богатырей о землю вымазал. Стыд и срам всему нашему
роду. Правда, и он нашей телушки приплод, но все же
рубаха к телу ближе, чем шуба, и обидно сносить такое
даже от племянника. Попугай его хоть малость,
Урузмаг. ..» Думал, шутит, но вижу, стоят все силачи наши,
головы повесили... Не до шуток им, видно; вот и решил
я поддержать честь рода, Я и говорю Дзадже: «Пугать
людей не люблю, но положить на лопатки такого
племянника— это можно». Мужчины наши рассмеялись, а
меня зло взяло: хохочут мои осрамившиеся родичи,
думают, где уж Урузмагу с силачами возиться — и ростом
не вышел, и статью неказист. Рановато смеетесь,
родичи! Не видели вы меня за работой, вот и заморышем
привыкли считать, но мы еще потягаемся с
племянничком. «Выводите своего обидчика, где он?» — и стал с
себя черкеску стягивать.
Поняли, что не шучу, притихли, один только
посочувствовал: «Зря связываешься с палауаном — силачом,
браток мой, исковеркает тебя ненароком, а тебе
послезавтра на косовицу выходить. Кто за тебя косить будет,
ты же у матери один!»
А я уже скинул черкеску, подпоясал свой старый
бешмет и в это время слышу, кто-то за спиной
жеребцом заржал. Оглянулся и вижу, стоит мой племяш,
чуть постарше меня и буйвол буйволом. Честно сказать,
перетрусил я малость, а он говорит: «Хороший вы
народ, мои дядья, но зачем выставили против меня этого
47
малыша, молоко еще на губах не обсохло, жалко его
все-таки» — и показывает, как он из меня веревки вить
будет. Поглядел я па него снизу вверх и сказал:
«Парень, видно, ты по нашей пословице собрался жить:
племяннику не зазорно* у дяди и во дворе помочиться?»
«Дзадже,—обратился борец к старшим мужчинам,
сидевшим вдоль стены мякинника на обструганном
бревне,— если этот малыш хоть одну минуту устоит
против меня, покупаю девять молочных поросят и угощаю
весь род моей матери, а пироги и арака —ваша
забота.— На этом он замолчал, резко повернулся ко мне: —
Руку!»
Схватил я его за обе руки и с силой рванул к себе.
Кажется, растерялся мой племянничек, и моя голова
уперлась в его рыхлое брюхо. Не успел он вырвать
руки, как уже болтался в воздухе над моей головой. Так я
обегал с ним весь круг, а потом бросил на землю. Знал,
что его надо еще перевернуть и прижать лопатками к
земле, но Дзадже крикнул мне: «Не трогай!» Я
догадался, не хотелось Дзадже уж совсем осрамить нашего
племянника. Родичи добродушно рассмеялись: «Наш
малыш здоровенного буйвола на рога подцепил! Ха-ха-
ха!» Обидно было, что, падая, он схватился за мой
старый застиранный бешмет и разодрал его, как тряпицу.
Он тяжело встал, отряхнулся. «Молодец, говорит, малыш!
Одолеть меня—ты, конечно, мало еще молока попил, но
проиграл я, девять поросят покупаю!» — и полез в свой
карман за деньгами.
«Ты тоже молодец, дорогой мой племянник,—
ответил за меня Дзадже.— Нашего малыша оценил. А
попировать не грех — день воскресный. Ты, Урузмаг, не
тужи. Старший сын мне недавно сатина штуку купил,
отрежь себе на бешмет. Порадовал ты меня, старика,
спасибо тебе. Вижу, в отца — да будет он в пресветлом
раю — пошел, весь в него, и силой и характером;
правда, ростом ты не взял малость, ко не твоя вина, рано
теленка в ярмо впрягли, что делать...»
Да было и такое... А теперь вот собачья болезнь
одолела, силы не стало, того гляди, буду на старости
лет людям в тягость, сыновьям обузой. Мне бы
подмогой им быть... Хотя какой толк от старика, разве что
младший сын погорюет, если отцовская ласка
что-нибудь еще значит.., Мать, бедняга, все о нем да о нем,
48
мол, дожить бы до его свадьбы, а там и умирать не
страшно. Не дожила... И мне, видно, не судьба... Мне
бы на его месте было трудно — отца и мать друг за
другом похоронить. Но кто их знает, они другие люди...
Попусту мы в своих молитвах бога поминали, нет>у него
справедливости. Если по труду, как сын мой говорит,
людям почет и блага разные, то и срок жизни надо
отпускать по труду, а по такому закону мне целых сто
лет полагается. Я сына должен бы дождаться с учебы
и женить, по-людски свадьбу сыграть. А бог мне
отпустил два месяца, вот и вся его справедливость.
Верю, придет время, эту собачью болезнь вчистую
изведут, но мне разве не обидно, что не в наше время
это случится? А сколько людей, и не стариков вовсе,
еще уйдут... Это ведь не рогом араки обнести
человека — срок жизни обкорнать, как уши у щенка.
А спроси меня, я бы так не позволил. Пусть бы
людей спрашивал бог: охота вам еще с этим человеком дни
коротать? И если людям по сердцу человек, пусть бы
смерть подождала, чтоб не сослепу всех хватала. Думать
же надо, смерти тоже, а так хватает то ребенка, то не
повинного ни в чем человека. А надо бы считать, в обузу
человек людям, кроме беды, от него добра не
дождешься,— его и надо призвать к смирению: ступай к Ба-
растыру, зря землю топчешь да людям жить не даешь.
И люди добрее бы стали, да и смерти, глядишь, делать
нечего, хоть на пенсию иди...
Что-то мой пес присмирел совсем, вот уж десять
дней, как молчит, объелся, что ли? .. А может... Да
нет! А что нет? Почему нет? А если профессор с божьей
помощью да вылечил в самом деле, а? Не веришь,
старик? И я не верю, Урузмаг, чтобы нам, старым и
бедным людям, такое счастье привалило, но бывает же, что
и бедному воробью ветер с мякиной и зернышко
бросает.
Я же не воробей, мне профессор говорил, что эта
собачья болезнь к пьяницам и табакурам, к
бездельникам и малокровным охотница приставать. Кто же
больше меня на своем веку земли перелопатил, деревьев
срубил на дрова да косой помахал? Табаку в рот
никогда не брал. Пить, правда, не дурак был, но и то по
праздникам, когда и сам Уастырджи не отказывается от
араки и пива. Так почему же не может быть такого
И. Джусойты
49
поворота?.. Видно, когда бог делил на людей счастье,
меня в списке не оказалось. Видно, и у бога важно в
списке быть...
А мне с этим списком не везет... В нашей деревне
колхоз я делал, пять лет сардаром — председателем
был. Всем сардарам колхозов большую пенсию дали,
а меня в списке не оказалось... Сказали мне, ачибка
получилась. Другой раз приходи, ачибка не будет... А я
по больницам зачастил, некогда в список смотреть, а
теперь мне и вовсе ни к чему. Барастыр пенсионную
книжку не спрашивает. Два месяца можно и без пенсии
прожить. Бог с ней, обойдусь...
Вот и в расчете ты, Урузмаг, со всеми — и с богом,
и с людьми. Это твой последний поход, и тебе
по-людски, по-нартски придется потерпеть. И не говори, что
плохая тебе досталась доля. Лучшей тебе все равно уже
не видать, да и жаловаться, к богу с лапортом ходить
нет резону — не так уж плохо ты жил. Ни разу до этого
не болел, землю пахал да косой махал вволю, вставал
с солнцем и ложился спать в одно время с ним, весело
по своим тропинкам ходил, детей кучу народил, всем
тропинки в жизнь указал. Мало тебе? Может, и не
такая уж завидная доля, но не всем и такая выпадает.
Не всем, не всем... Что с того, что иным хуже меня
пришлось в жизни? Ты, как тот начальник, что пенсию
дает, разговариваешь со мной: ачибка вышла! А я о
том, чтобы ошибки совсем не было, а ты маленькой
ошибкой большую хочешь оправдать... Это разве
справедливо? Я о чем печалюсь — чтобы справедливо было
у людей, а что мне лучше, чем иным, кому совсем худо,
это утешение для плохого человека, а не
справедливость. Нет, нет, ты нехорошо мне сказал. Я не такой
глупый человек, чтобы себе одному хорошую долю
желать. Если хочешь знать, может, я на бога и не очень
в обиде, немало все же пожил. Но человеку надо
радость иметь — людям добро делать, хоть каждое утро
«День добрый!» сказать соседям и всем, кто мимо твоей
деревни проходит. Пусть людям от этого пользы
никакой, но на сердце хоть малость легче, а это тоже добро;
добро, какое бедный человек может дать людям. Я это
знаю и не хочу на старости лет людей своей печалью
огорчать. А старому и больному человеку что еще
остается? Он о своей болезни и немочах только и твердит
60
людом, как лягушка в сказке — встретилась ей божья
матерь, так и ей не могла нахвалиться своим
лягушонком, пучеглазым да длинноногим!.. А я так не хочу
жить, и бог это, должно быть, знает и, может, потому
оставил мне только два месяца...
Да, я старый и больной, но я был здоровый и
работящий, и всю жизнь людям от души «День добрый!»
говорил, и не переменюсь из-за этой собачьей болезни...
Э, пора мне спать. Вон и луна на вершину горы
присела и скоро покатится в ущелье за горой...
Урузмаг украдкой от самого себя смахнул росу с
ресниц сгибом пальца и возразил себе в последний раз
перед сном: «Только ты не говори, что я хвастаюсь. Мне
просто спать пора, я еще жив, и завтра мне жить, как
всем людям, два месяца жить! Вот и выспаться надо, и
я сейчас усну, а утром встану, как старый петух, на заре,
людей будить...»
Наутро Урузмаг проснулся поздно. Разбудил его
солнечный зайчик, отскочивший от стеклышка на
подоконнике и дерзко перебиравший его ресницы. Он повернул
голову на подушке, чтобы смахнуть с лица зайчика, и
увидел знакомые домики своей деревни, за селом
буковый лесок, за рощей зеленые угодья, а там скалистый
гребень и одинокую вершину, к острию которой
привязалась белая прястень облачка. Солнце уже выкатилось
из-за гор, и Урузмаг усмехнулся. «Опередило меня на
этот раз, но это не в счет, вчерашний день — это еще
курорт у меня был, а вот сегодня — другое дело, я уже
деревенский, и завтра потягаемся, кто первый
встанет. ..» Прислушался Урузмаг, не в деревне покой и
тишина. Ребятишки ушли за село к речке, подумал
Урузмаг, женщины заняты своими чашками-ложками,
мужчины давно уже на работе... А ты дрыхнешь, сказал
ему голос другого Урузмага, голос, который спорил с
его досужими мыслями; видно, приглянулась тебе, брат
Урузмаг, городская жизнь, без обычных твоих забот,
и надоела тебе домашняя докука. Забыл, что ли, свою
старую песню: «Вставай, старик, вставай пораньше. Кто
с зарей встает, того удача ждет!..»
Урузмаг не удостоил вниманием этого несерьезного
насмешника. Он приподнялся было на кровати, но снова
опустил голову на подушку, чтобы лежа помахать
руками — так в больничной палате заставляли. Поднял руки,
51
рукава сползли почти до подмышек, и он огорчился:
еще недавно руки были туго перевиты здоровенными
вздутыми жилами, оплетены корневищами
натруженных вен, а теперь остались только тонкие кости и
впалые углубления — там, где раньше текла горячая кровь,
остались обмелевшие русла с жижей на самом донце...
Неужто всю жизнь вот эти убогие костяшки меня
кормили? Да... Теперь верю, что и кремень крошится со
временем и нет ничего вечного на земле... А, что там
говорить, вставать пора.
Встал Урузмаг, умылся, как кот лапой моется —
плеснул пригоршню воды в лицо, похлопал по щекам
мокрыми руками, и делу конец. Вошел во двор к сыну,
но никого не застал. Повернул было обратно, но на
пороге показалась сноха. Она, по обычаю, не могла гово-.
рить со свекром, но руками показала ему, что надо
позавтракать. И Урузмаг покорно вошел в дом, сел ча
накрытый стол и поел немного вчерашнего пирога,
запил его чашкой свежей сыворотки и потом спросил у
снохи:
— Где моя лошадь пасется, невестка?
Невестка молча показала рукой в сторону леса, мол,
привязана к колышку и пасется...
Урузмаг понял, что лошадь без присмотра, сыну
некогда возиться с ней, а снохе тем более, детишки же
в такое время заняты своими играми, барахтаются .в
речке, им не до лошади. Он вышел, снял седло с полки
на балконе, вынес его во двор и набросил на плетень,
как на спину лошади. Притенил рукой глаза и оглядел
дальний выгон. Его конь, немало поживший на свете
Белолобый, прятался в тени старой груши, и Урузмаг
долго не мог его заметить, но, разглядев, он понял, что
коня давно не поили, поэтому он не может есть и
прячется в тени, голодный.
Бедный ты мой коняга, отлучился ненадолго твой
хозяин, и никому до тебя дела нет, а уйду я, и никто на
белом свете не вспомнит о тебе. Нет, вспомнят и
продадут тебя кому попало, только бы избавиться от тебя,
а там будешь тянуть свою лямку, пока совсем не
состаришься, а потом и пеший станет над тобой издеваться:
догони, если можешь! .. Вот тогда-то узнаешь всю
горечь старости: никому не нужный, прогонят тебя за
околицу, и если осенью тебя волки не загрызут, так зимой
52
с голоду подохнешь где-нибудь за чужим хлевом на
навозной куче... Так-то, мой Белолобый, старый, он
никому не нужен, ни конь, ни человек...
Урузмаг оставил седло на плетне, вынес уздечку с
серебряными бляшками, хотел было взять и плетку, но
повесил ее на прежнее место — не нужна Белолобому
плетка, человеческого слова больше слушается. Еще он
хотел спросить сноху, где его овцы, но раздумал: толком
все равно ничего не скажет, туда-сюда помашет
руками, и понимай как хочешь... Ребятишек, может,
встречу, так они лучше объяснят...
Неспешно шагал Урузмаг к старой груше, к
Белолобому. И прислушивался к себе. Он уже хорошо знал
приметы своей болезни, угадывал начало приступа. Но
не было никаких болей, помог все-таки профессор,
спасибо ему, хоть на два месяца избавил от этой проклятой
собаки. А что слабость во всем теле, так это, видно, от
долгого лежания по больницам, может, и пройдет.
Воздух не тот, что в городе, дышать приятно...
А Белолобого мне все-таки жалко. На моих руках
вырос, десятый год ему пошел. По лошадиному счету, он
и не моложе меня, но здоров пока, садись и езжай,
вскачь не бросится, галопом не поскачет, но подвести не
подведет, до дому доставит и ни разу не споткнется.
А старому человеку больше и не надо... При случае
и покупатель на него еще найдется, да жалко
продавать: много на нем поездил, и ни разу не обидел меня.
Ты только скажи ему: «Стой, Белолобый, вот здесь».—
так он три дня простоит, все ждать будет...
А однажды от беды меня спас, как верный друг.
Я подвыпивши был, возвращался домой и свернул с
дороги, по жнивью решил проскакать, а впереди куча
камней оказалась. С пьяных глаз не заметил вовремя, а
пЪтом испугался — конь ногу может повредить — и
отвернул в сторону. Белолобый послушался и проскочил
мимо камней, а я в седле не удержался. Хорошо, что
мягкая попалась земля, шею себе не свернул и руку не
сломал. Не знаю, сколько пролежал без памяти, но
пришел в себя, вижу, Белолобый надо мной губами
шевелит: вставай, мол, хозяин, домой пора, вечер уже...
Схватился одной рукой за поводья, поднялся, обнял
коня за шею. А когда полегчало, сел в седло и к ужину
домой поспел... Уйди Белолобый от меня, и остался бы
53
там ночевать, и бог знает, какая хворь пристала бы от
сырости... Но он не оставил человека в беде, не таков
Белолобый!.. Конь что надо, а присмотреть за ним
некому. Придумать бы выход какой, не то, как умру,
пропадет совсем.....
Но ты не тужи, Белолобый, да и людей не вини.
Люди — неплохой народ, но так случилось, что ты им не
очень нужен стал. Теперь машины всякие, они быстрей
тебя бегают. Нужен ты им, тебя и ценят люди, такие уж
они. А ты им, Белолобый, ни к чему. Вот и я такой же,
старый да ненужный. Вот какая штука, Белолобый.
У людей так исстари водится, и ничего тут не
поделаешь. Что им нужно, то у них и в чести, а до твоей беды
им дела нет, и не навязывайся им со своим горем.
Урузмаг издали позвал коня. Белолобый вскинулся,
повел ушами, повернул к Урузмагу свою точеную
голову, печально так поглядел и заржал тихо. Урузмаг
обрадовался: узнал, глазастый!.. Да, брат, плохи твои
дела без меня... А ты что думал, люди все так и будут
тебя холить? Как бы не так. Это Урузмаг мог зимой
оставить свою теплую постель, встать, чтобы тебе сенца
получше подложить. Да еще посмотреть, не гуляет ли
ласка по твоей холке, не вяжет ли веревочки из твоей
гривы... Она ведь хитрющий зверек, бегает по конской
спине лапками, щекочет тебя, а ты, дурень, пугаешься,
от страха весь в поту, а ей это к выгоде, она страсть как
любит слизывать лошадиный пот. К примеру, вот как ты
к сахару принюхиваешься... Хитер зверек, что и
говорить, но я тебя в обиду не давал. Не так, что ли,
Белолобый? Говори, если чем обидел, не молчи, а то, брат ты
мой, я могу и удрать куда-нибудь, и некому будет тебя
слушать... Это не я пугаю, так профессор один сказал,
а он ученый человек, слов на ветер не бросает, так-то,
брат...
А ну прими ногу, на твою обувку посмотрю!
Урузмаг осмотрел копыта коня: босой ходит, копыта
расплющились, щиколотки бородой обросли... Эх ты,
сын мой, инженер ты, говорят, хороший, а хозяин
плохой, как же ты коня в таком виде из дому выпускать не
стыдишься? Это ведь как ребенка в школу послать
босого да непричесанного. Трудно, что ли, четыре подковки
купить, копыта подрезать по краешкам? ..
И все же, брат ты мой, если прикинуть, повезло тебе,
54
машин много развелось и охотников до лошадей мало,
а "то заездили бы тебя, холку бы натер, мухи бы заели.
Вот и радуйся, брат, что такая беда миновала. И еще
радуйся, что профессор мне два месяца дал, успею тебя
пристроить. Это уж понадейся на меня, не обманывал
же тебя никогда, а теперь и вовсе стыдно было бы.,.
Урузмаг обошел коня, осмотрел, огладил, потом снял
недоуздок и натянул ему на морду уздечку, как на
мальчонку штаны. И повел за собой к роднику Дзацци:
напоить надо, а то травинки в рот не возьмет.
Ведет за собой Урузмаг Белолобого и вспоминает
свои с ним хабары — случаи.
А помнишь, как мы в районе до самого вечера
задержались, а потом домой заторопились? Нагоняет
машина, вся обшарпанная, облезлая; помнишь, мы еще
смеялись— на общипанную гусыню похожа? А шофер нам
кричит: «Эй, старик, на старом мерине! Ночевать тебе
под деревом!» Это мы еще посмотрим, подумали мы и
пустились во всю прыть, и пришлось ему в нашей пыли
копошиться! Пусть знает, как над стариками шутки
шутить. Правда, тебе тогда пятый год пошел, старым
мерином из-за меня обозвали, но ты уж простишь меня...
Теперь мы вправду состарились, но с одним волком
еще справимся, если не оплошаем. Вот воды напьемся,
травку посочней пощиплем, а там побродим по нашим
старым тропинкам, подумаем, как нам дальше жить.
Сейчас нам с тобой в самый раз думать, старикам сам
бог велел думать — мало работать, много думать. А как
же ты хотел, чтобы и руки без дела и голове —
праздник? Так, брат, не получится...
Из родника Дзацци пили только люди. Давно когда-
то старик Дзацци облюбовал этот родник, закопал
здесь трехаршинный обрубок дуплистого ствола, и с тех
пор горловина дупла полна холодной, вкусной и
прозрачной воды. Кто-то продырявил стенку дупла, вложил
туда наглухо трубку из ветки бузины, и льется из
дудочки вечная струя. Никто из живых не помнит уже
Дзацци в лицо, но родник так и зовется — родник Дзацци.
И Урузмаг пожелал напоить Белолобого водой из
этого родника.
Больше нечем тебя попотчевать, брат. Ты ведь араки
в рот не берешь, баранину терпеть не можешь, петь
совсем не умеешь, как Зура, так чем же велишь отметить
55
нашу встречу? А не отметить грех. Может, ты больше
всех рад, что я вернулся, и вдруг да не отметить.
Нельзя... Вот и пей на радостях...
Урузмаг ковшиком свернул свою войлочную шляпу,
набрал в такой ковшик воды я поднес к губам
Белолобого. Конь в один глоток вытянул всю воду и смирно
ждал, когда хозяин предложит еще. И Урузмаг
потчевал своего коня, пока тот не стал воротить морду от
воды. Урузмаг полный ковш опрокинул на голову коню,
как бы умыл его. Старый мерин, Белолобый, а того
не понять тебе, что старому.коню, как и старому
человеку, нельзя ходить неумытому. Старый, он ведь и так на
черта похож.
Ладно, не смущайся, мы же свои люди, поведу тебя
к ручью и отмою до самых копыт, только погоди, тебе
одеться надо. Помнишь старую песню: «Чем красен
наездник? Ливор за поясом, сабля на боку! Что красит
коня? Седло в серебре, золотая уздечка!» Твой наездник
состарился, сабля давно на стене висит, но тебе
приодеться не помешает. Или седла стал чураться? ..
Урузмаг устал и остановился, но Белолобый
потянулся губами к карману хозяина. Урузмаг расстроился.
Ты прости меня, Белолобый, забыл утром в карман
сахар положить. Я каждый день, брат, в большой
больнице чаи вприкуску пил и один кусочек сахару тебе
откладывал. Правда, хитрил я малость, по кусочкам
сахара свои дни считал в больнице. Было это, но больше
о тебе заботился. Вспомню твою морду, и на душе вроде
легче. А как приехал домой, люди меня заговорили, и
забыл о сахаре. Ладно, идем, полакомишься, потерпи
малость, негоже старику по сластям плакать. Если бы
по обувке горевал, то и слова не сказал бы. Нельзя
старику голыми пятками сверкать. Ну да ладно, кого
винить? Есть у меня еще четыре подковки, и не в
простые — в офицерские сапоги тебя обую...
Подковать коня Урузмагу одному было трудно, и он
отложил это до вечера, люди вернутся с работы и
помогут. Но срезал садовым ножом наросты на копытах
Белолобого и подкоротил «бороду» на щиколотках. Под
седлом конь приободрился, вскинул голову, глядеть стал
веселее. Урузмаг и сам переоделся. Сбросил пиджак и
туфли, надел свои поношенные кирзовые сапоги и
подумал: отвык, что ли, от сапог, тяжелы слишком или уж
56
так ослаб?.. Скинул бы их, да неудобно в черкеске без
сапог, а не надеть черкеску — жену-старушку обидеть.
Сама, бедняга, соткала сукно, сама и сшила черкеску...
Урузмаг надел ее поверх своего сатинового бешмета с
высоким воротником. Подпоясался башлыком из козьей
шерсти — от матери остался, сама ему сшила. Вот так,
в черкеске нараспашку, он вышел, подтянул подпругу,
но верхом ехать не захотелось, и он повел коня в
поводу. Похожу по округе, для Белолобого хорошую полянку
подыщу да развалины старой деревни проведаю. Там
вырос, жил, детей народил, там моя душа и поныне.
Урузмаг вышел за околицу и свернул на старую
аробную дорогу к речке Комидон. Вдоль этой речки, к
ее истоку шла тропа в старую деревню, Урузмагу
захотелось пройтись по ней. В старую деревню была еще
дорога аробная, но ее проложили, когда Урузмаг был
сардаром, председателем. Иные любители пошутить и
теперь называли ее Сардарской дорогой, но Урузмаг
давно забыл об этом. Ему сегодня хотелось пройтись по
тропе, по ней старые люди хаживали. Те, что были
постарше и ушли раньше в страну мертвых.
Ему хотелось пройтись по той тропе еще и потому,
что в детстве по берегам этой речки нередко он и его
друзья скот пасли, особенно в дождливые дни, когда на
дальние пастбища нельзя было гонять скотину —
опасно, трава на кручах скользкая, легко могли сорваться
коровы. Вдоль речки друг за другом, как утята,
расположились крохотные мельнички. Все здесь было ему
дорого, хотя мельницы давно уже отслужили свое и никто
уже сюда не заглядывал.
Жалкие развалины остались от мельниц, а как ими
гордилась наша деревня! Семь мельниц у нас, знатно
живем! А нынче на что они сдались? На больших
машинах привозят муку пшеничную к самому порогу, детвора
о мельнице только понаслышке знает. И наши
мельнички состарились, ссутулились, вон на той крыша
провалилась и лежит на потолке, будто дохлая ворона.
И слушают старые мельницы, как вода в гнилых,
прохудившихся желобах плачет...
Идет Урузмаг берегом речки, за ним след в след
ступает осторожно Белолобый, и оба поглядывают то на
речную волну, то на буковые кусты, которые спустились
с пригорка на водопой, но от берега их оттеснила поло-
57
сочка мелкого ольховника. Речка обмелела, прозрачная
теплая вода еле прикрывает валуны на дне. Урузмаг
ткнул пальцем в речку, чуть холодит, а еще далеко до
полудня, к вечеру совсем разогреется. Валуны у
бережка покрылись тиной — зеленой накидкой. Торопливые
волны потрутся о пузатый валун, словно кот пушистым
хвостом погладит, и бегут себе дальше. Кусты ольхи
выстроились вдоль бережка, на нижних ветвях
поблескивают капельки воды, цветные, словно осколочки от
радуги—большого лука нарта Сослана, как старики
говорят. Вон, бог весть откуда взялась, стоит у самого
берега одна-единственная плакучая ива, шелковые рукава
свадебного платья в воде мокнут. Стоит среди ольховой
поросли, неутешно горюет о чем-то.
Но кто это стучит на мельнице? Кому это
приглянулись полусгнившие стены, они и на дрова не сгодятся!
Урузмаг подошел поближе — кто-то внутри стучал
зубилом по мельничному жернову. Он выпростал изо
рта коня удила, привязал поводья к стремени и
отпустил Белолобого пастись. Заглянул Урузмаг в
приоткрытую дверцу мельницы и увидел: сидит его сосед Тода,
с войны вернулся на одной ноге, другую заменил
деревянный протез с железной подковкой на конце. Сидит,
деревяшку свою, как пушечное дуло, наставил на дверь
и стучит зубилом по нижнему жернову.
— Удачи тебе, добрый человек! — поздоровался
Урузмаг, понравилось ему, что сосед не рушить-валить
пришел на мельницу отцов.
— Здравствуй, старейшина нартов Урузмаг,—
отозвался Тода.— Ты прости меня, не смог вчера к тебе
приковылять, возился вот с этой мельницей, будь она
неладна, так намаялся — домой еле дотащился. Боялся,
приду на пир, усну за столом — стыда не оберешься.. *
— Это поправимо, наверстаем, но вот ума не
приложу, чего ради с этой старой мельницей возишься,
магазинная мука тебе не по вкусу, что ли?
— Какое там не по вкусу, не в том дело. Но глупая
голова и себе и другим покоя не дает.
— А может, глупая голова, хитришь?
— Не без того, конечно,— весело блеснули из-под
белых от мучной пыли бровей влажно-черные глаза.—
Задумал я, брат ты мой Урузмаг, на пиво солоду
намолоть. Все же я горец, к хорошему пиву привычный, от
58
отца такую скверную привычку перенял. Сам знаешь,
мой знатный отец без черного пива даже своей прислуге
ужинать не позволял,— улыбнулся Тода и показал из-
под ладных усов плотный ряд мелких зубов.
— Это ты хорошо придумал. Но вспомни и другую
привычку своего знатного отца: он без родичей пива в
рот не брал.
— Как же мог я такое забыть! Мой знатный отец
все свои привычки на одного меня оставил. И не дай бог
отказаться даже от самой последней из них. Да
вздумай я выпить без тебя хоть одну чашу пива, разве зла-
токлювый орел нашего Уастырджи не смахнет ее своим
крылом и не пристыдит меня? — плел свои словеса Тода
и улыбался.
— И то верно, брат мой, но сдается мне, что за
верность наказу отца должен тебя Уастырджи
отблагодарить. Если только меня почаще будешь звать на пиво
отца знатного поминать. Он в таком случае может тебя
жеребенком от златокрылой кобылы наделить, а с этим
шутить в твоей нужде никак нельзя...
— Еще бы,— заметно погрустнел Тода.— Моего
иноходца волки в пропасть столкнули...
— Как это столкнули? — серьезно спросил Урузмаг.
— Неделя, как отпустил его на волю, и забрел он
к перевалу Большие оползни. Там, видно, волки
прижали его к краю пропасти, а он гордый у меня был, весь
в хозяина, и в пропасть махнул. Вот и остался я один со
своей деревяшкой...
— Да, сын благородного Илыка, стало быть, плохи
твои дела. К тому же без пива тебе не жить, а такому
человеку хороший конь позарез нужен, чтобы с пути не
сбиться. Помнишь, твой покойный отец любил петь:
Путь из Калака ведет к моему порогу,
Это злюка арака путает дорогу!..
— Верно сказал мой отец, да пребудет он в светлом
раю!.. Куда мне теперь, ни от порога, ни к порогу шагу
ступить не могу.
— А ты не горюй, был бы человек, а добрый конь
найдётся.
— В том и беда, что от меня половинка осталась,
другую фашист на войне откусил. А будь я полный
человек, так мне и конь ни к чему.
59
— Спасибо скажи, что полголовы не откусил, тогда
бы твои половинные мозги разве до такой мысли
додумались — мельницу запустить и пиво варить, себе и
людям сердце веселить? — Урузмаг пытался заговорить
печаль Тоды.— И. то хорошо, что хоть одна мельница на
ходу будет. Ты подумай, а вдруг у государства не
случится на всех этой муки и скажет оно: вот вам зерно,
а молоть сами не ленитесь. Что делать тогда? Наши
молодые люди, они же ни селть, ни молоть не умеют,
а Тода тут как тут и людей из беды выручает! Умен сын
моего знатного брата Илыка! А ну посторонись, дай
взглянуть на жернова и дук — зубило мне подай, я
такую насечку насеку на жернов, век будет молоть, не
сточится. Если только не разучился старый мастер или
рука не подведет...
Тода встал с трудом и уступил свое место Урузмагу.
Урузмаг снял черкеску, бережно сложил и пристроил на
верхнем торце раскрытой двери. Потом посмотрел на
острие дука и стал осторожно постукивать по полю
жернова.
Стучит Урузмаг железом по камню молча и
серьезно, Тода оставил его и поплелся к водоотводу от речки.
Стучит Урузмаг, глаз внимательно осматривает малое
круглое поле и направляет удары дука на самые
сточившиеся, сгладившиеся плешины. Стучит Урузмаг
привычно и уверенно, запястье заныло, но он не обращает
внимания на такую малость, ему приятно, что снова взялся
за привычное с детства дело. ЛАногое в этом, казалось
бы, неизменном и вечном круге деревенских забот
позабылось так быстро, что старожилы гор не успели
опомниться. Бьет Урузмаг дуком по камню, изредка щупает
левой рукой замысловатую сеть углублений от ударов
дука, но все это он делает по давней привычке, мысль его
свободна и кружится над тропинками давнего
детства. ..
И что в нем, в старом горском житье-бытье, мне
приглянулось, ума не приложу. Одни мучения на памяти:
по горло в бесконечных заботах, ни дня передыха,
ждешь, как избавления, редких праздничных дней —
отоспаться, отдохнуть... А зимой совсем худо... Стужа,
снегу, бывало, навалит по самые крыши, месяцами за
околицу деревни не выбирались... А кончилась мука,
так в снегу к мельнице не продерешься. Мать моя, вид-
60
но, на этой речке и схватила свою болезнь, в какие-то
пятьдесят лет ушла... Отца давно как похоронили, а
с меня что было взять в десять лет? Вот мать всю
мужскую работу на себя и брала. В ту зиму мукой вовремя
не запаслись, своей мельницы у нас не было, и в месяц
вьюг пришлось просить у отца Тоды на сутки
мельницу. .. А снежная шуга прилипла к валунам, вода
поднялась и вышла из русла, мельничный желоб весь во льду,
надо прорубать топором. Целый день с матерью
возились, к вечеру едва успели пустить воду. Закружилось
колесо, но мы замерзли, мать почти до пояса
искупалась в этой ледяной воде и потом долго хворала. Всё
ноги болели, а чем могли помочь — ни одного доктора
во всей округе не было. Так и не смогла избавиться от
своей хвори. Будь оно неладно, это бедняцкое наше
житье, наголодались и намучились, будто проклятые
богом. ..
Теперь вот Тода мельницу воскрешает из мертвых —
мешочек солоду смолоть. Шутки ради, блажь, а мы в
стужу возле мельницы лед рубили, голод ждать не
умеет, снежную крупу не замесишь, выжить надо было...
Жалко этого пивовара все же, без коня ему не
обойтись. .. Уступить ему своего Белолобого, что ли? ..
Человек он добрый, вспылить может, но отходчив.
Обижать коня не будет, кормить есть чем, а конь
послушный и смирный, такой ему и нужен... Продать можно
всегда, покупатели найдутся, но лучше Тоды вряд ли
кто позаботится о моем Белолобом. Он ему нужен
позарез. .. Пока, правда, мне и самому пригодится, надо же
родственников проведать, повидать людей перед уходом,
как же иначе... А там еще последний переход, но на
том пути без коня обойдусь, на чужих плечах доеду...
Придется продать ему, пусть поездит на Белолобом,
может, и меня добром помянет при случае... Подарить
бы хорошо, но накладно, долги у меня, да и расходов
много будет, нельзя все на сына свалить. Нет,
продавать, так только Тоде. Резвый конь ему ни к чему, без
ноги за конем не побежишь. А Белолобого позови, и сам
тебя найдет. Жалко отдавать, но поздно уже об этом
жалеть. Надо сказать об этом Тоде, а может быть, он
и сам думает о Белолобом, да не осмеливается
сказать — меня же профессор вылечил, хорошего коня нет
смысла отдавать другому! Нет, Тода не осмелится про-
61
сить у меня Белолобого, надо будет самому сказать...
Куда он ускакал на своей деревяшке? .. Работа
сделана, а за труды получить не с кого.. ¦
Урузмаг обошел вокруг мельницы. Стены
продержатся еще годиков десять... А крышу надо сменить,
вся дранка погнила. Но Тода со своей ногой туда не
поднимется, кому-то придется помочь. Может, Зуру
уговорить, он всегда любил возиться с деревом, и мы с ним
друзья, мне не откажет, куда он денется, душу ему
ублажу: один ты у нас мастер на такое дело!..
Взглянул Урузмаг и на мельничное колесо — одно
огорчение: все лопасти сгнили, а то и вовсе выпали из
лазух, ступица пока пригодна, но желоб придется
латать. Тода не сумеет,— видно, эту заботу придется взять
на себя. ¦,
Как все же мир устроен: одно к другому пригнано,
как листы дранки на крыше, все к человеку ластится.
И толку от него как от яловой коровы молока, но
тянутся к нему бог знает за какой малостью... Когда мы,
бывало, пасли здесь своих коз, лазили под эту
мельницу — форели тут было невпроворот, с локоть каждая.
А погляди, что осталось, головастики в теплой воде
резвятся. ,,
Видно, без человека, даже самого никудышного,
скучно жить и зверю, и рыбе. И где человеку невмоготу
жить, там зверю тоже не хочется век -вековать. Вот и
ушли наши форели... Это когда человек сам хуже
зверя, его боятся, встречи избегают, а так зверь без
человека не может жить... И не кормилец он зверю и птице,
а все же льнут к нему; может, им тоже ласки и доброты
от человека хочется, а мы их бьем и пугаем, будто
земли нам мало.
А речка без форели, она вроде дома без детей, и
глядеть не на что. А бывало, идешь по берегу, и у
камней хвостами шевелят, в желтых и красных крапинках,
и все воду пьют не напьются. Из-под камня вытащишь
маленького малька, жалко такого домой нести, и
бросишь в воду, плеснет хвостом и скорее в омут, на
радостях и спасибо сказать забудет. Э, что об этом
вспоминать. ..
Вон и Тода спешит к своему работнику, видно, как я
стучать перестал, так и вспомнил обо мне. Пора мне
62
идти, сегодня ничем помочь не смогу, а завтра видно
будет. Не хватится моя собака, не станет опять грызть,
так приду пособлю. Мельницу стоит воскресить —
станет Тода пиво потягивать, может, и меня добром
помянет. ..
— Илыка добрый наследник, твоя мельница —
старая развалюха, чинить да латать придется, крышу
менять, лопасти на колесе обновить, желоб сменить или
как следует залатать. Работы на целую неделю, а ты
для забавы вроде повадился сюда, а?
— Забавляться вроде некогда, сын Саннуаза, мне
мельница в самом деле нужна, пива сварить,— ответил
Тода.— Однако малость надо мельницу
подремонтировать, а я хром и в этом деле мало что смыслю. Вот если
бы ты мне оказал честь, Мартов Урузмаг, а? Тебя же
профессор вылечил, и, стало быть, нам вместе придется
пить это самое пиво. Здоровый Урузмаг любил пиво,
как мне помнится,— хотел Тода задобрить Урузмага и
лукаво улыбнулся. Но Урузмаг не шел на эту
простецкую хитрость.
— Нет, Илыка сын, в друзья тебе я не гожусь, какой
из меня работник! Но ты скажи Зуре, и он сменит
крышу, а нет дранки, на худой конец, толя сверток у меня
найдется. Возьми его, разорюсь по такому случаю.
Давно пива не варили в нашей деревне...
— Да сподобит тебя бог, Урузмаг, на такое дело! —
обрадовался Тода.
— В таком деле бог плохой помощник, ты лучше вот
что сделай: позови на помощь Зуру и Басила, они
дельные работники, а еще скажи им, что Урузмаг тоже за
мельницу и сам починит колесо, вправит новые лопасти
и желоб латать пособит... К субботе мельница будет
у тебя, неудачный сын знатного отца, только запомни:
даровых работничков кормить все же придется...
— Оно мельницу, конечно, приятно иметь,—
притворно вздохнул Тода и почесал загривок,— но кормить
вас — это же разорение. К чему мне тогда и мельница,
нищему не до пива.
Весело у Тоды на душе — Урузмаг, которого с
малых лет привык считать своим, не братом, нет, и не
другом, а чем-то большим, чему и названия нет, этот
самый Урузмаг вернулся из большой больницы, а Тода
знает, что это такое лежать в больнице и ждать-гадать,
63
повезет, выкарабкаешься или вынесут тебя отсюда.
И весело Тоде — вернулся Урузмаг и выручает его, как
это он делал всегда, сколько себя помнит Тода. И не то
важно Тоде, что выручает, это ему и не очень нужно,
а весело на душе от сознания, что любит его, Тоду, сына
Илыка, Урузмаг и потому пришел, шутит с ним, и дело
незаметно как-то подвинулось, все как-то само собой
разрешилось. Тода почувствовал себя свободно, и
заботы как бы не было. И так случалось всегда, даже в
молодые годы, когда Тода сам был кормильцем семьи,
ему всегда хотелось быть ближе к Урузмагу на
косовице ли, на пахоте или за столом. И когда Урузмаг
однажды сказал своим родичам, что люди всего ущелья
колхоз сделали и надо им тоже подумать, может, так
лучше жить (колхоз, как ему объяснили, это что-то
вроде старинного обычая — зиу, помочь; это всегда
работать вместе, и на пашне и на лугах, а потом делить
зерно и сено по тому, сколько кто потрудился), когда
такое сказал Урузмаг, Тода первый закричал, что он
завтра же готов делать колхоз, только пусть Урузмаг
пашет вместе с ним... Душа Тоды тянулась к Урузмагу,
и он ничего не мог поделать с ней, ему так это
нравилось, что стало его привычкой. И сегодня ему опять
весело и легко — Урузмаг вернулся из больницы и опять,
как всегда, пришел на помощь, и все будет как надо,
мельница оживет, будет и пиво, и все как положено, по-
людски. Оттого весело на душе у Тоды, но он смущен,
не знает, как выразить эту свою радость и облегчение,
потому так много говорит...
Урузмаг чувствует, что Тода рад ему, хочет
задержать его под разными предлогами. Да и торопиться
особенно некуда. Приятно ему вот так быть с ним,
чувствовать, что оба связаны чем-то более важным, чем
кровное, родственное; что ты ему нужен, как и он тебе.
И ему кажется, что теперь вернулась к нему давняя,
детская вера во всеобщую доброту людей, зверей, леса
и травы. И чувствует Урузмаг, что бессмысленна забота
о постигшей его беде, что есть только вот эта радость,
которая пришла к нему и к Тоде, сыну знатного Илыка,
Илыка, который так же искал доброты и расположения
его отца, Саннуаза. И не хочется ему думать о своих
двух месяцах, будто их нет, а есть только одна забо-
64
та — мельница Тоды и зиу — помочь, на которую
придут, ¦• он это знает, Зура, Басил и он, Урузмаг, и будут
латать мельницу, шутить, возиться с этой завалящей,
никому из них не нужной мельницей. И не она им важна,
а то, что опять будут вместе и жить как всегда.
И Урузмагу хочется подольше побыть с Тодой.
— Я вижу, что ты никакой не Тода, сын знатного
Илыка. Ты какой-то подкидыш, затесался в наш слав-
ный, знатный род, а не сын Илыка... И солдат ты
никакой, видно, что не фашист откусил тебе ногу, а где-то
кобылица тебя лягнула, но прикинулся инвалидом.
Возьму да поеду в район и скажу начальству, чтобы зря
тебе пенсию не выдавали, раз троих беззубых стариков
три дня не можешь прокормить... Тоже мне, сын
Илыка! Позор какой! .. Нет, не будет у тебя мельницы, и
никто на твой зиу не придет, не дураки мы, старейшины
рода, тебе помогать...
Урузмаг замолчал и сделал вид, что задумался, а
потом вдруг повернул круто:
— Нет, придем! Не будем из-за скряги мужа оби-
жать нашу добрую невестку. Она сама накормит и
напоит нас, но ты не радуйся, делиться с тобой аракой не
собираемся. Знаем твою хитрость; жена, добрая душа,
не дает пить хромому мужу, как бы где не свалился
в канаву ее храбрый муж об одной ноге, вот и
рассчитываешь на этой помочи вместе с нами хорошо выпить
и подзакусить, но не выйдет. Хромому пить нельзя, так
мне сам большой профессор з больнице сказал. И ты
это знаешь, это говорит доктор всем больным, хотя
откуда тебе знать, тебя не доктор, а коновал лечил...
— В том вся моя беда, сын Саннуаза, что, как
чучело на огороде, на одной ноге стою. Ни ходить, ни пить
не дает проклятая деревяшка... А как пропал мой
коняга, так жена за порог не выпускает. Говорю, зря обо
мне беспокоишься, солдату такое не помеха, но разве
поверит? Хромого и жена не слушается,— загрустил
Тода.
— Это жена правильно делает, отпусти тебя, так
потом не сыщешь, а вот коня тебе придется достать..,
Знаю, у одного хозяина добрый конь, да ты скуп, как
старая свекровь, торговаться будешь неделю.
— Если речь о Белолобом,— смекнул Тода, куда
гнет Урузмаг,— то назови цену, и я согласен на все.
65
— Белолобый—добрый конь и для тебя в самый раз,
да жалко отдавать его в такие руки, хотя мне он уже ни
к чему,— проговорился Урузмаг и тотчас поправился: —
Не могу же я оставить без коня моего доблестного брата,
маршала нашей деревни!.. Придется уступить, вот
только за какие деньги? Думаешь, за три овечьих курдюка
отдам тебе такого коня?
— Это как сказать, сын Саннуаза, найдется и у
меня кое-что,— Тода не заметил набежавшего на лицо
Урузмага облачка и продолжал в прежнем тоне: — Во-
первых, пенсию получаю восемь туманов, а это уже кое-
что. Добавь к этому моих трех овец да двух телят. Вот
и выбирай, что тебе приглянется, я на все согласен.
— В таком случае я тоже согласен... поторговаться.
Так что мне предлагаешь за Белолобого, сын щедрого
Илыка? — Урузмаг провел ладонью по округлой спине
валуна и присел, приготовился серьезно поговорить о
Белолобом.
— Видишь ли, Урузмаг,— сказал Тода,— трудную
задачу ты мне задал. Белолобый — хороший конь.
Назвать большую цену не могу — платить нечем, назвать
малую — стыдно, знаю же, хорош конь. Но и то надо
посчитать, нынче коню, даже дареному, в зубы смотрят,
машины развелись, и цена на коня упала. Если кому
еще и нужен, так вот таким, как я, инвалидам
деревенским. Да и они на машины стали зариться, получил бы
и я машину, да водить не умею, а передавать в чужие
руки, что-то выгадывать — не по моей совести. Солдат
я, нашей деревни маршал, как ты говоришь, а не
спекулянт. .. Вот и не знаю, что тебе предложить... Дам тебе
трех овец и двух свиней, телят жалко отдавать, знаешь
ведь, одна у меня корова, а они через два года отелятся,
как-никак коровы, молочишко детям...
Все верно, подумал Урузмаг. Женился Тода
довольно поздно, и дети еще в школу бегают, от одной коровы
какой толк, наши горские коровы что телята, две козы
больше одной коровы молока дают. Но не дарить же
Белолобого...
— Знаешь, что тебе скажу. Первое — за конем
должен быть уход.
— Это само собой, но ты мне цену назови,—
согласился Тода и присел на камень перед Урузмагом.
—• Какую цену могу я назвать, брат ты мой Тода,
66
такому коню цены нет, но уступаю тебе, ты в нем боль-»
ше нуждаешься. Если бы не твоя нужда, я и не подумал
бы продавать Белолобого...
Тода почувствовал в этих словах какую-то горечь.
Понимал, что это не из-за коня, но в чем тогда дело,
недоумевал он, прислушиваясь к голосу друга.
— Думал я,— продолжал Урузмаг,— не буду
отдавать Белолобого в чужие руки. Пускай живет у меня.
Состарится, отпущу на волю, пускай пасется... Но
вышло так, что мне по больницам приходится скитаться,
а за ним и присмотреть некому, и жалко его. Вот
почему уступаю тебе Белолобого, только поклянись мне
именем покойного отца, не продашь его никому и не будешь
его обижать. Ласковый он, обидчивый, не выносит ни
грубого окрика, ни плети. Дрожать начинает, что малый
ребенок... А цена,— Урузмаг провел рукой по лицу,
словно хотел смахнуть свою невысказанную печаль,—
по твоим достаткам... Но я бы хотел получить одну
овцу и двух свиней. В прошлом году у зятя увел барана,
на поминки дяди по матери мне нужен был, и надо
вернуть ему долг. Дай мне еще десять туманов — долги
кое-какие есть у меня, да и парню на дорогу надо будет
отложить, скоро приедет, и с пустыми руками нехорошо
отпускать его в далекий город на целый год. Сам
понимаешь, его мать баловала, скажет, матери не стало, так
и отец забыл меня... А у меня за душой ни копейки не
осталось... Вот так, брат мой...
Тода молчал и думал, соглашаться или нет. Он
понимал, что недорого запросил Урузмаг, но нельзя же
сразу согласиться, надо немного поторговаться, и, глядишь,
Урузмаг пойдет на уступку. Урузмаг видел Тоду
насквозь, да и хитрости у Тоды никакой не было, все
торгуются, и продавцы и покупатели, но Урузмагу не
хотелось торговаться, а вернее, не хотелось продавать
Белолобого. Он колебался, а может, не стоит, может,
неправду сказал профессор, ошибся? Но конь пропадет,
если уйдешь, не пристроив его у хорошего хозяина...
Да и парню на дорогу деньги нужны, не просить же
у старшего. Нет, придется уступить...
— Что молчишь, Тода, или большую цену заломил?
Давай считать: по нынешним временам конь не в цене,
это правда, но в любом случае Белолобый стоит
тридцати туманов. Верно? Спору нет. Овца, даже самая круп-
67
ная, больше семи туманов не стоит, а твоим двум свинь*
ям восемь туманов — красная цена. Вот и выходит,{что
уступаю тебе пять туманов а ты еще ждешь, будто
купец, не скину ли я хоть туман, хоть рубль, а купец ты
никакой и торговаться тоже не умеешь... Вот так...
Урузмаг знал, что недорого запросил, что, будь у
него время, он бы не был таким уступчивым. И не
осуждал Тоду, в былое время и сам за каждый рубль
торговался: для бедняка каждая копейка в хозяйстве что
малый камушек в стенной кладке. Но теперь другое дело.
«Старший сын ни в чем не нуждается, а младший
учится, сам наживет добро. Оставлю ему дом, и, может
быть, пригодится для летнего жилья, а не захочет сюда
возвращаться, продаст... Так стоит ли торговаться с
Тодой? Пусть на здоровье поездит на Белолобом да не
оставит без корма и ласки...»
— Подумай, Тода, с женой тоже посоветуйся и, если
устраивает тебя моя цена, получай коня. Но уговор
дороже денег: не дашь пропасть коню. Как наша кобыла
ожеребилась, так я целую версту на руках его нес
домой, и с тех пор неразлучны с ним. И нет у меня
надежды на своих сыновей, не приласкают они его, и пропадет
зря... Потому и уступаю, Тода, учти...
— Ладно, пусть по-твоему, согласен, только просьба
у меня, Урузмаг. Отдай мне седло и уздечку, очень уж
они к лицу Белолобому, и получи еще одну овцу, а?
— Хитер ты, Илыка умный сын, за овцу — седло и
уздечку! Они же хорошего коня стоят. Но уж раз ты
так хочешь красоваться на моем Белолобом, то дай мне
еще десять туманов, и конь — твой со всей сбруей.
А теперь торговле конец, все!.,
Урузмаг позвал Белолобого, и тот подошел к
хозяину, нижнюю губу вытянул. Урузмаг отвел от себя морду
коня.
— Получил утром кусочек, и довольно. В большом
городе и то чай два раза на дню" пьют, вечером еще
получишь, а теперь зря протянул мне свою губу, как
совок.
— Хороший человек твой конь, Урузмаг,— пошутил
Тода,— только дорого слишком стоит.
— Ие хитри, брат мой, поди деньги приготовь,
нужны они мне. А еще должен тебя огорчить: раньше двух
68
недель отдать Белолобого не смогу, самому надо
поездить по родственникам...
— Это само собой, не об этом речь,— ласкался Тода
к коню, а Белолобый стоял смирно, привычно ему было
ласковое прикосновение человеческой руки.— Немного
бы поубавил, что ли, цену-то,— все еще торговался
Тода.
— Ладно, так и быть, двадцать туманов, овца и одна
свинья на развод, породистые они у тебя... И получай
коня за полцены...
— Добро! — воскликнул Тода на радостях, боясь,
как бы не передумал Урузмаг.— Я и раньше был
согласен, но испытать тебя хотел, уступишь ли. А так не
думай, что за свою свинью обеими руками уцепился.
Завтра же прирежу ее, и пировать будем, только помоги
мне со своей командой эту мельницу оживить, мертвая
она, а из меня какой доктор, сам знаешь.
Урузмаг тяжело влез в седло и, уже поправив
седельную подушку, спросил:
— О какой это команде речь ведешь?
— О какой — ты, Зура да Басил! Сын придет, и,
может, впятером одолеем всю работу за один день, а? —
весело посмотрел Тода на Урузмага снизу вверх,
положив руку на шею коня.
— Одолеть-то недолго, да сначала все надо
приготовить. Подвези-ка ты доски, дранки две вязанки, гвозди
да скажи Зуре и Басилу, что на воскресенье зовешь их
на зиу. А еще скажи, что меня ты уже уговорил.
Правда, работник я никакой, но посижу с вами, скучать не
дам...
— Так на этом все? — еще раз спросил Тода,
смущенно добавив по-русски: — Кончай базар?
— Все, Тода, все. Считай, что своего коня-топтуна на
иноходца поменял. И радуйся, только деньги мне нужны
на днях.
— Во вторник еду в район, получу свою пенсию, да
и сейчас у меня не пуст карман, так что рассчитаюсь.
— Вот и хорошо, что не пуст карман, а ты
плакался. .. Иди работай, я с Белолобым проведаю наше
старое селение. Мне после больницы много гулять надо.
Профессор так сказал...
— Это верно он сказал, гуляй, да не забудь, после-
69
завтра у меня зиу, помочь,— рад был Тода, что все у
него так ловко получилось. =т-
Медленно, с ленцой шагает Белолобый по тропинке
вдоль речки в гору.. Урузмаг его не торопит, ему уже
недалеко до старого селища. Восемь лет, как оттуда вся
деревня переселилась на новое место, ближе к людям,
к почтовой дороге, как называли здесь шоссе.
Переселился и Урузмаг, но по-прежнему своей родиной
считает старое селение. Здесь он родился в одну зимнюю
ночь, здесь прошло его детство, сюда привез из
далекого села себе жену, здесь родились все его дети — все
одиннадцать. Здесь прошла его жизнь, и все познал
здесь — добро и зло, радость и муку. И Белолобый
здесь родился. «Так ведь, Белолобый? — спросил
Урузмаг коня и пощекотал его, сунув левую свободную руку
под гриву.— Помнишь, дурень, ст Корчевки Сабана до
нашего двора на руках тебя тащил?»
Молчит Белолобый, отгоняет мух жесткой метлой
хвоста. Урузмаг сорвал веточку ольхи и размахивает ею
над головой коня.
Хорошее место для жилья выбрали наши предки,
зря мы переселились. Что еще было нужно? Дров
полно, лес под боком, родники вокруг деревни, от околицы
начинаются пастбища: выпустишь корову из хлева, и
она тут же на пастбище бежит. И пашни вблизи.
А пчелам житье райское. И сколько их у нас было!
У меня самого не меньше сотни ульев, никто их не
считал. Меду цены никто не знал. Теперь бы на одном меде
можно целую деревню содержать, но разучились наши
дети крестьянствовать, ничем их не заманить в горы.
Всем охота в городе жить, все в кучу собираются, а по
мне, так зря. Землю любить надо, она, как женщина,
любви и заботы ждет, а издали, из города какая
любовь? .. Пусть живут по своему разумению, может, они
правы, кто знает. Но я здесь вырос, и это моя земля.
Отец и мать похоронены тут, и мать~моих детей
покоится здесь, и я должен лежать рядом с ними. Уж недолго
ждать...
Сошел Урузмаг с коня у прежнего своего порога и
оглядывается вокруг. Все ему знакомо до последнего
камня-плиты, на которой он давал соли овцам.
Вон туда выгребали навоз, в человеческий рост
вымахнули там лопухи. Да, одни лопухи остались от ста-
70
рой деревни. И ничего-то здесь уже нет, а я люблю
и эти развороченные камни брошенных домов, и эти
лопухи, и густой запах бурьяна в этот жаркий день...
Расстелил бы здесь свою черкеску и спал бы до
рассвета, и душа была бы спокойна, и на сердце хорошо,
будто добро и честь нашего рода сторожу...
Какое там добро, нет уже ничего, а все же родное
и близкое; привык я к своей земле, вот и радостно моим
глазам и сердцу видеть ее, ходить по ней босиком, как
в детстве...
Урузмаг заметил, что он стоит на своей земле в
кирзовых тяжелых сапогах, и спохватился. Присел на
камень, стянул сапоги, сдернул носки и стал босыми
ступнями на теплую землю.
Нет, босой уже не смогу ходить по земле, отвык, но
до чего же она на ощупь ласковая, сильная, дышит
горячо...
Она, земля, может, и одинаковая всюду, но для меня
нет. Для меня вот эта моя земля единственная, нет
другой такой на свете. Это даже лошади понимают, птицы
понимают, а я что же, не человек?.. Однажды грузину
на Риони кобылу продал, так она через два года с
жеребенком вернулась, заржала во дворе в полночь.
Вышел к ней, узнала по голосу меня и ржала-рыдала,
будто просила не гнать ее со двора... Два раза возвращал
ее хозяину — не смирилась. Пришлось ее выкупать
обратно. .. Вот и понимай как хочешь. Нет слаще родной
земли, и все тут... И больно мне видеть вот этот разор,
но что я могу сделать, не одному же тут оставаться,
старому да больному?.. А детям что, они как все — в
город да в город, где легче да светлей. Что ж, пусть
уходят, ищут, находят... Но мне поздно меняться и от
добра добро искать. Моя душа, видно, приросла к этой
своей земле, и ее уж не оторвать. Да и зачем? Куда мне
идти и что искать? Ни времени, ни сил у меня. Ладно,
найду другую землю, богатое да удобное место, но
сладко ли мне там будет? Да разве я удержусь где, я же как
та пичужка из сказки...
Надоело горцу жить в снегу по горло, в маленькой
деревушке, вся родня ему надоела, вот и пустился он
искать счастья на равнине. Вышел во двор и видит: у
мякинника на кустике алычи пичужка нахохлилась,
дрожит на веточке, вот-вот сорвется. Пожалел ее чело-
71
век, подумал, возьму с собой, отогрею и отпущу на волю
в теплом краю. Пришел горец в равнинное село. Людей
много, земли много, тепло уже, весна, а у них в горах
зиме самое время лютовать. Отогрелась птичка, что и
говорить, да за пазухой у горца трепыхается: отпусти,
мол, добрый человек,- на волю. Тут только горец и
вспомнил о ней, и жалко стало с ней расставаться, все
же из одной деревни, всю дорогу вместе шли. Выдрал
он одну ниточку из ноговицы да привязал ее к лапке
пичужки, думает, может, встретимся опять, так
признать будет нетрудно. Отпустил ее на волю, а сам
жилье подыскал да обратно в горы, семью забрать в
чужие края. Вернулся в горы, а там по-прежнему зима
лютует да у мякинника его знакомая пичужка с
ниточкой на лапке дрожит на той же ветке алычи. Устыдился
малодушный и остался жить в своих вьюжных горах...
Меня вон у той канавки отец Зуры каменную стенку
класть учил; сухая кладка, она искусные руки любит.
Старался я, видно, и похвалил меня: не знаю, хороший
ли из тебя вырастет человек, но стены класть из
булыжника будешь уметь... Так и получилось, камни ворочать
научился, а расписаться на бумаге не умел, крестики
ставил...
А вон у той каменной ограды коня ему посвящал...
Тихий он был человек. И жил незаметно, и умер тихо.
Поболел, понедужил с неделю и ушел... И это была
одна только неделя в его жизни, когда он не работал.
И меня к этому приучил-приохотил. Старик он был, а я
молод и силен, но угнаться за ним было нельзя.
Сдавался я, но он не слушал моих жалоб — потерпи еще
малость, и силы опять придут. И приходили! И смеялся я
потом над собой...
Да, трудна ты, моя земля, тяжела, но мне нигде не
жилось лучше и слаще, вот и вернулся к тебе, чтобы
никогда уже не разлучаться. Знаю, в стороне ты от
больших дорог и больших городов, оттого тебя не любят
мои дети, но что делать? Может статься, вспомнят еще
о тебе, придут к тебе искать тишины и покоя. И, может,
тогда и нас, своих предков, тех, кто жил здесь от
рождения до смерти, зимой и летом, в дождь и в вёдро,
помянут добрым словом. А может быть, что и недобрым
словом обмолвятся — не оставили им ни дворцов, ни
золотых башен. Одни развалины... Ни мудрости, ни пра-
•72
вды в таком слове не будет. Разве корысти ради любят
предков? Мы оставили только свою землю и свою
любовь к ней. Ничего другого не было у нас, и нет в том
нашей вины.
Вижу и верю, вы будете богаче нас, о бедности вы
будете вспоминать как о чем-то давнем и непонятном,
но это разве только ваша заслуга? Мы были бедны, но
мудрости не одалживали ни у кого и чести своей ни
перед кем не роняли... И если вы будете несправедливы
к нам и нашей жизни, то кто поверит вашей мудрости
и достоинству? ..
Я лучше вас знаю, как нам трудно и бедно жилось.
Но это моя жизнь, моя судьба, к я не проклинаю ее.
Жаловаться на мать и отца дядькам из соседней
деревни у нас мудростью не считали. Да, я жил бедно и
трудно. Но я жил, жил по-людски, и в моей жизни, как
и во всякой жизни, были не только беды и несчастья.
Да, я работал так, что кости трещали, но я был сильный
человек, и мне было в охотку махать косой и всей
тяжестью налегать на ручки плуга. Трудные у меня были
дни, но ведь были и праздники. И как мне ни было
трудно, я редко плакал, чаще пел. И пел от души, во
весь свой голос... Садились мы с Басилом вон на той
скале и пели-горланили весь праздничный день. Мы
пели для себя, для кашей деревни, для нашей земли, для
всего мира вокруг. И нас слушали, и нам было хорошо.
Пели не только в детстве, состарились мы, но не наши
песни и души, и будем петь и плакать, пока не сойдем
в свою землю...
И когда будете, потомки, судить меня и мою жизнь,
не поминайте только мои беды и не считайте также,
будто я жил под золотым крылом Уастырджи. Не
оскорбляйте меня, мою судьбу и.мою землю ни вашей
запоздалой жалостью, ни вашим бездумным
восхищением. В конце концов проходят и забываются и беды и
счастье, а жизнь остается. И она не горское полотно,
чтобы и уток и основа были из одной шерстяной нити.
Я жил долго и жил вот на этой скудной земле,
прекрасной для меня земле, и вернулся к ней, чтобы
похоронили меня здесь.. И я знаю теперь, когда мне осталось
всего несколько шагов до той межи, где начинается
неведомая страна мертвых, что нет глупой жизни и
глупых людей, а есть глупо живущие люди. И в конце кои-
73
цов, жизнь, как бы ни была трудна и скудна, так
хороша, что нет ничего лучше на свете. И все может осилить
человек, кроме одной, самой горькой беды — разлуки с
жизнью. Так думали и мой дед и мой отец, и так говорю
я, Урузмаг, поживший немало...
Урузмаг все это время то вставал с камня и делал
несколько осторожных шагов по горячей и твердой для
чувствительных старческих ступней земле, то вновь
садился. А Белолобый терпеливо ждал, когда же
вспомнит о нем хозяин и они пойдут дальше своей дорогой;
мухи обнаглели и лезли в ноздри, прилипали к влажным
векам. Надо было идти, а не стоять на одном месте, на
самом солнцепеке. Белолобый не выдержал и осмелился
прикоснуться своей горячей губой к щеке хозяина.
Урузмаг повернулся к нему и понял, что пора уходить
отсюда и дать Белолобому постоять где-нибудь в тени.
Урузмаг ничего не сказал, не стал оправдываться перед
Белолобым, но торопливо натянул на ноги носки и сапоги,
развязал башлык и кинул на седло, куда он положил
свою черкеску еще раньше, когда слез с коня у своего
старого двора.
Я готов, Белолобый, идем домой, по старому селищу
бродить одно мучение; что толку плакаться, все равно
никому в голову не придет сюда возвращаться... А нам
надо идти, что-то делать — жизнь, она не любит стоячих
да сидячих. Да и времени у нас осталось на один чих.
Идет Урузмаг спокойно и размеренно, ноги
отдохнули, но будто телята весной — выпустишь на волю,
побегают, взбрыкивая, и не хотят в огорожу, тесно там, и
ногам вроде тесно стало в сапогах. Ничего, привыкнут,
дорога пыльная и мягкая, ходить приятно...
Шагает Урузмаг ссутулясь; полы войлочной шляпы
опустились и притенили лицо. Он не замечает этого
неудобства, оно не мешает думать. Скрестил руки на
спине, в левой держит поводья. Белолобый не
натягивает их, потому Урузмаг знает, что конь шагает за ним не
торопясь и не отставая. А это хороший конь только
может. Идет Урузмаг и думает, что ему делать. Со своим
прошлым он как бы попрощался у развалин старого
дома, да и куда прошлое убежит, оно всегда при тебе,
и можешь его перебирать да перелопачивать, как
ячмень в амбаре.., Какой там амбар, и ячменя ни у кого
74
не увидишь, готовую муку привозят... И Тода бог знает
где достанет его...
А мельницу оживить придется ему все же помочь.
Чудно он сказал: оживить. Человек все может, только
себя оживить не может, не умеет, не родился еще такой
доктор... Тода один не сумеет, а вовремя пособить
никому в голову не придет, пусть, мол, помучается, у него
время есть, пенсию получает, а нам некогда. Если
получится, спасибо скажем и при нужде попользуемся —
хочется же иной раз кукурузных лепешек отведать, а
кукурузу только в зерне можно купить, помол — твоя
забота. Вот и сгодится им мельничка Тоды. Не-ет!
Мельницу надо оживить!..
Да, у Гассион хлев совсем обветшал; того и гляди,
зимой снегу навалит, крышу продавит, и потолок
обвалится, скотину покалечит. А стены пока крепкие, надо
бы только крышу сменить да балки основы обновить.
Две балки у меня есть, в прошлом году приволок на
волах из Букового ущелья, распилить хотел, доски
нужны, но мне они уже не понадобятся, доски на домовину
найдутся у других... У Басила во дворе штук восемь
таких же балок видел, он не поскупится, если скажу; от
нас не убудет, а Гассион обрадуется, что пособили, сами
додумались... А муж у нее хороший был человек. Хари-
то, бывало, свои дела бросит и на помочь спешит. Но
его нет, да пребудет он в раю, на шахте беда случилась,
и погиб. Гассион с тремя малышами осталась...
Другим, может, в суете да заботах в голову не
приходит, что у нашей вдовы хлев разваливается, но мне-то
как быть? .. А что я скажу Харито, если там встречу
его? Мол, мне не до твоих детей и коров было? А много
ли нужно для доброго дела? Всего-то — сказать людям,
надоумить. Басил и Зура ни в чем не откажут, еще
затылки почешут, что сами до сих пор не додумались и
вдову без внимания оставили, молодым людям, мол,
оно, может, и простится, но мы же старики и с Харито
хлеб-соль делили... Тода тоже придет, стыдно же ему
будет, мельницу для него оживили...
Вот нас и четверо мужиков, команда, как Тода
говорит. А начнем, так и молодые к нам сами прибегут,
зачем, мол, старики, срамите нас... А мы никого и не
виним, свою работу делаем, а помощники явились, мы
и рады, каждому найдется к чему руки приложить...
75
Вот и не будет у Гассион этой заботы. И ничего
трудного нет, только бы взяться.
Вот мы и дошли до родника Бораевых, Белолобый.
Пора и отдохнуть. Какой-то человек воронку расширил,
и воды набралось с бедро, хватит на нас двоих. Дать
тебе, что ли, первому попить, оно так и полагается, ты
моложе меня, твое право. Это мы, старики, араку
должны первые пить, в пословице так сказано: старый вол
воды попьет, а бычок лед полижет. Это наше
стариковское дело. А воды и для молодых не жалко, только у
тебя губа что совок, замутишь воду, а как мне тогда
быть? Ждать, пока муть осядет? Нет, брат, ты погоди, я
всего-то несколько глотков...
Урузмаг опустился на колени, стал пить малыми
глотками, растягивая удовольствие. Но заломило зубы,
и он крякнул:
— Дай бог тебе течь по моей груди в стране
мертвых! — Смахнул капельки с бритого подбородка и
обратился к коню: — А теперь пей, брат, сколько влезет,
только не мути. Чистая вода, она, брат, и коню впрок.
Пьет Белолобый, тянет воду не спеша, как бы
собирает во рту, а потом большими глотками проталкивает
в длинную кольчатую трубу горла. Урузмаг
внимательно смотрит на Белолобого, и приятно ему наблюдать,
как проходит вода по горлу коня.
Не зря предки говорили: конь ищет воды почище,
травы повкусней. И умно делает: в наших горах этого
добра хватит всем, зачем же по глупой лени своей
всякую дрянь есть да грязную воду лакать? Пей, пей,
Белолобый, я подожду, не спеши, не то воду замутишь,
грязную придется пить.
Пьет Белолобый, не отнимает морды от воды, чтобы
не замутить, словно через соломинку тянет, и Урузмагу
приятно, что его Белолобый такая умница. Может быть,
коню просто не хотелось холодную воду большими
глотками пить, но Урузмаг приписывал это его мудрости.
Конь напился, спокойно отвел голову от воды, только
несколько капель уронил с губы в воронку и отступил
на шаг. Урузмаг засокрушался: ну как продать такого
коня? ..
Что скажешь, Белолобый? Напился вдоволь, так
идем дальше, обедать пора. Ты попасешься, и я
покормлюсь. Хорошее для тебя облюбовал место, да и обо мне
76
не печалься — гость я, а гостя положено хорошо
кормить, к тому же после больницы старику поблажка
полагается.
И пошли снова шаг за шагом старый человек и
старый конь. Идет Урузмаг по тропинкам детства молча,
понуро. Сапоги мягко утопают в слое пыли и оставляют
глубокие, в ромбиках, следы. Одинокие следы, давно
никто не ходил по этой тропе. В прежние времена
Урузмаг ходил здесь в коходзи — лаптях и следов не
оставлял, даже легкое крыло ветра заравнивало их. Пройдет
дождь, смоет и эти следы, а проложить новые у него
нет времени. Он это знает, но идет своей дорогой —
люди, пока живы, идти должны... И он идет спокойно, не
спеша — некуда уже спешить.
5
Воскресное утро. Урузмаг вспомнил уговор с Тодой
и заторопился. Завтракать некогда, успеется. Сунул
свой плотничий топор за пояс и отправился на
мельницу. Дорога шла мимо Басилова двора, и он кликнул его
идти вместе. Басила ждать долго не пришлось. Вышел
он также с топориком и ручной пилой и пошутил, мол,
вижу, старый вол совсем поправился, опять в ярмо влез
и другим покоя не дает. Урузмаг не обиделся, но шутить
не хотелось ему, и предложил:
— Ладно, идем, прихватим с собой Зуру, а там
видно будет, кто из нас старый да охотник обходить ярмо
за версту.
Зура уже поджидал их, сидя на скамье у своего
плетня. Ласково пожурил их за такой поздний, как он
считал, для старых волов выход на работу, и
отправились они на помочь. Шли рядком, и словоохотливый в
кругу своих ровесников-стариков Зура пустился
вспоминать:
— А все же помочь — зиу — хороший обычай, верно
придумали прадеды, как ты думаешь, Басил, а? Не
забыл еще, как однажды чуть ногу мне не оттяпал косой
на помочи Дзацци?
— А мне к чему помнить такое пустое дело,—
ответил Басил,— ты же косить никогда не умел, что мне
стоило тебе ногу отхватить? Вот если бы Урузмаг попал-
77
ся с косой да впереди меня, вот было бы дело, заставил
бы его прокричать: «Обожди, пятку отхватишь!» — он
хотел втянуть Урузмага в разговор.
— Это известно,, как же! Басил завсегда на помочах
первым косарем бывал; только после работы, когда
доходило до еды и питья,— сказал Урузмаг, а Басил этого
и добивался.— Но это и беда, косовица на носу, и если
раньше времени доктор не позовет меня в город, то мы
с Зурой поведем тебя на склон Дзацци, потягаемся там
по-стариковски,— пообещал Урузмаг, и Зура,
довольный, улыбнулся.
— Не-ет, Басил, косой махать ты слабак против
меня. Вот какое дело, брат ты мой хороший. Но и то
сказать, петь ты мастер, тут я против тебя что курица
против соловья. Один, правда, у тебя изъян: на покосе
тоже только песни распеваешь да иной раз воды косарям
приносишь, вот и все твое геройство, брат мой. Тебе на
лугу надо с Тодой хромым тягаться. Вот его ты можешь
обогнать, даже ногу можешь оттяпать — не страшно,
деревянная у него нога,— обрадовался своей
находчивости Зура.
— А что, это верно ты меня надоумил, теперь я
только с Тодой и буду на пару косить. Вы еще в друзья
будете к нам набиваться, смекнете, что мы заместо воды
пивцо ведрами хлещем, но мы и близко вас не
подпустим, клянусь прахом своего мудрого отца!
Зура-был озадачен и ждал, что на это скажет
Урузмаг. А Урузмаг серьезно возразил:
— Верно старики сказывали: нашел один бедняк
подкову и радуется — вот бы еще три подковы найти,
а потом коня к ним прикупить! Рано тебе, Басил, пивом
похваляться, надо пока мельницу обновить.
—' И обновим, не дворец же строить, старую
мельницу подлатать,— беспечно отмахнулся Басил.— К тому
же Тода вчера отвез туда арбу дранки, арбу досок и все
прочее.
— Ну, в таком разе в эту косовицу будет вам
пиво,— пришлось согласиться Урузмагу.
— Так и быть, попотчуем и вас, первым делом тебя,
Урузмаг. Мне же без тебя петь с кем? Тода одну только
песню знает: «Пирод, пирод!» Не знаю, как мне быть,—
сокрушался, улыбаясь, Басил.
78
три Хочешь пива, так научись петь «Пирод!»,—
посоветовал Урузмаг, но Зура перебил его:
— Они сойдутся на чем-нибудь, Урузмаг., но как
нам-то быть?
— А что нам? Будем пировать, и все.
— Это как же будем пировать-то?
— Трудно ли догадаться, брат мой? Считай, сегодня
Тода нас угощает, это ясно. Басил — работничек
неважный, мы тоже надрываться не собираемся, а значит, я
завтра будем пировать. А там, глядишь, и другая
помочь нас ждет. Я так думаю, что хлев у Гассион тоже
надо подлатать. Стыдно же — целая деревня родичей,
а хлев у вдовы завалился. Пойдем хлев латать. Гассион,
думаешь, пироги разучилась печь или кувшин араки не
найдется у нее?
— Хлев у Гассион, говоришь? ..— смутился Зура.
— Верно, и мне уже стыдно, что не додумался,—
признался Басил.
— Мало сказать, стыдно...— укорил себя Зура.—
Как будто самим трудно было догадаться. Ты, Басил,
прихвастнуть любишь, а думать будто времени нет. Вот
и получается, что без Урузмага мы как щепки в болоте,
ни взад, ни вперед.
«Это так только говорится, брат мой Зура,—
подумал Урузмаг,— а в жизни нет человека, без которого
бы люди не обходились... И не вечно буду с вами, но
тебе зачем об этом знать? Верно прежние
люди.говорили: жаль уходящего, а живые, они погорюют и
обойдутся. .. Жизнь, она с мертвыми не считается, живуе у
покойников уже не спрашивают... Так-то Зура-
джан...»
Урузмаг заметил, что молчание затянулось,
и,сказал: (
— Что, в молчанку будем играть, старики? А по мне,
лора о деле договориться. Я прикинул, работы там
много, досок, балок, дранки придется достать, а где их
взять? У меня есть две балки, пойдут на основу. Самому
нужны, да, видно, обойдусь до будущего лета. Басил,
у тебя я во дворе видел такие же балки, придется и тебе
раскошелиться. Вот и основа готова. А ты чем можешь
похвалиться, великий косарь? — подбивал Урузмаг Зу-
ру на трудную для него щедрость.
— Найдется и у меня кое-что,— не очень охотно ска-
79
зал Зура.— Задумал в прошлом году новую хибару
поставить, да в карманах ветер гуляет, придется
повременить. Правда, балок я срубил в лесу немало и
лесничего не спрашивал. Билет не на что было купить... Так
вот, балки на крышу я достану, только скажите
молодцам вашим, чтобы помогли с волами управиться —
волочь бревна издалека надо...
— У меня найдется еще немного старых досок,
думаю, пригодятся. А балки из лесу приволочь помогут
тебе мои молодцы, сегодня же скажу им, если, конечно,
ты не раздумаешь к вечеру,— Басил хотел подстегнуть
Зуру, чтобы он окончательно расстался со своими
балками. Он знал, что Зуре трудно их отдать, что у него
и вправду ветер в карманах гуляет, но без этих балок
Зуры хлев не залатать, а оставить это дело до другого
раза — так ничего уже не получится. Косовица
начнется, потом картошку надо убирать, к зиме каждый
запасаться будет всяким добром, не до Гассион будет.
— Оно конечно, балки мне и самому нужны...
Ладно, я срублю еще, а у Гассион кто в лес пойдет? Хари-
то, да пребудет он в раю, нет, а ребятишки еще малы
топором стучать. Как же мне отказать? — выкладывал
Зура свои заботы.— Жалко отдавать, но и не отдать
совестно.— И- грустный стал Зура, тихий, усы обвисли,
лицо вытянулось. Урузмагу подумалось, что надо,
помочь ему свыкнуться с мыслью, что балки его отданы,
чужие уже, не его добро.
— Ну, спасибо, Зура, выручил ты нас. И все,
решено, подлатаем сегодня-завтра мельницу Тоды и сразу
же возьмемся за хлев Гассион. Мы с Басилом завтра
вечером подвезем балки; поискать, так найдется, думаю,
и у других кое-что — доски, дранка... Главное —
начать. А ты, Зура, не тужи, заживем мы с тобой, в своей,
же деревне гостями будем. У меня на примете не такая
еще помочь! Пир горой, нартский, на целую неделю! Ты
только будь со мной, не оставляй меня одного с этими
неразумными стариками, а пиров да песен — конца им
не будет...
— Ну, если уж и на песни не поскупитесь с Басилом,
то что мне какие-то безбилетные бревна? —
расщедрился Зура.
— Песни будут, а насчет бревен ты дома
помалкивай, жене ни слова. Спросит, говори: это Урузмаг на
80
радостях щедрый стал, мол, доктор вылечил, ни копейки
не взял, а что стоит две хворостинки вдове из лесу
привезти. Так и скажи своей Абиан и не проговорись, так
лучше: и голова твоя цела будет, и хлев Гассион
починим, на пиру посидим...
Вот и все решено, говорить вроде не о чем,
замолчали. И слышно было, как стучат по твердому грунту
накатанной здесь, у деревни, дороги тяжёлые кирзовые
сапоги. Солнце уже разъярилось, но старики только
рады теплу. Зура даже снял поношенную овчинную
папаху и подставил утренним лучам свою круглую плешину,
время от времени потирая ее, словно хотел разровнять
тепло на макушке, как смазку. Урузмаг тоже заломил
поля своей войлочной шляпы, и ему приятно под
солнцем после больницы. Притихшие старики только
теперь заметили, какая вокруг тишина, слева от дороги
приземистые буковые кусты, как овцы в жару, плотно
прижались друг к дружке, справа речка с ольховой
каймой по обоим берегам. Во всей округе тишина и покой,
и старикам легко идти по проселку, кажется, что и жить
легко и вольно, домашние заботы остались у очагов за
невысокими порогами, отстали от души, словно
деревенские псы от путника у околицы. И вольно на сердце
и отрадно — день воскресный и они идут делать доброе
дело. С детских лет живут вместе, да вот теперь мало
их стало, ровесников. Одни умерли давно, другие
переселились на равнину и редко когда появляются в
родном краю, третьи далеко пошли, и им не до стариков из
дальней деревни. И это — не беда, но и не счастье —
невольно заставляет их держаться поближе друг к
другу. Так старые волы, оставшись ночью в лесу,
становятся в круг и выставляют рога навстречу ночным страхам.
Старикам хорошо оттого, что они вместе, они думают
о важном и нужном для других, хотят и могут делать
добро. Быть может, вечером у своего очага, лицом к
лицу со своими обычными заботами, им будет опять
трудно и муторно, но в это ясное утро им легко идти по
тесной аробной дороге.
Тода ждал их давно, томился у своей старой
мельницы. Но увидел их, идущих в ряд и почти в ногу, и сердце
его по-телячьи взбрыкнуло от радости.
- — Молодцы ребята, мои верные слуги! —- и добавил
4 Н. Джусойты
31
с доброй укоризной: — Только не больно ли долго спите
для слуг?
— По тебе сразу видно, что отец твой был князь
и много слуг держал, .а лежебока сын даже мельницу
латать не научился,— улыбнулся Зура. Теперь он
совсем забыл о своих балках, ему весело, и поникшие было
усы вновь вытянулись, как тетива, в одну линию и
рассекли лицо Зуры на два маленьких полумесяца.
— Э, парень, говорунов дело не любит,— строго
сказал Урузмаг, скинул черкеску и повесил ее на развилок
ольхи.— Басил, ты ступай внутрь, там есть что
починить. Зура, ты займись желобом. Тода, тебе придется
балки потесать и перекладины для крыши смастерить,
а поднять их на чердак вместе возьмемся. Это, конечно,
не стариковское дело, тащить бревна на крышу, но
молодых разве докличешься... Хорошо, что лестницу
прихватил. .. Басил, ты помоги мне колесо вытащить из-под
мельницы, лопасти надо сменить, погнили да повыпали;
колесо — что общипанный хвост старого петуха. Не
велика забота, к обеду лопасти будут, дайте мне только
ручную пилу, топорик да зубило...
Каждый взялся за свое. Балагурить за работой у
них не принято. Занимайся своим делом, да так, чтобы
видна была твоя рука, твое умение.
Урузмаг сидит на камне, перед ним мельничное
колесо. Он его поворачивает и выбивает корни сломавшихся
лопастей из пазов, расширяет старые пазы, чтобы новые
лопасти сидели плотно и надежно, правда, в воде они
разбухнут и намертво вцепятся в ступицу, но и сухая
насадка должна быть прочной — это дело чести
мастера, на воду рассчитывать не годится.
Урузмаг позвал Тоду помочь поднять и поставить
колесо на бревно. Так удобнее вколачивать лопасти, и
Тода охотно приковылял. Его угнетало вынужденное
молчание, и он присел перед Урузмагрм, может, удастся
переброситься с ним словом-другим, да и рука устала
с непривычки клевать топором крепкое тело балки.
— Отдохну чуточку, попугаю вон тот ворох облаков
своей деревянной пушкой, пусть за гору уходить-
оправдывался Тода.— Ты знаешь, Урузмаг, в Кахетии,
где винограду что у нас листьев на деревьях, пушками
разгоняют облака. Вот бы меня туда с моей пушкой!..
— Ты мне своей пушкой зубы не заговаривай,— не*
82
ожиданно серьезно сказал Урузмаг и, положив топор на
землю, сел поудобнее на вязанку дранки. Быстро же
стал уставать,— видно, эта болезнь, собака, всю силу
сожрала, подумал он.
Тода не понял, куда клонит Урузмаг, и ждал, что он
еще скажет.
— Пушкой можешь хоть ворон пугать, это подходит
старому солдату, а размахивать палкой старому
человеку, сдается мне, стыдно, да и не к лицу,— проговорил
Урузмаг.
До Тоды дошло, о чем речь, и он сразу покраснел.
— Это ты о парне Гуларовых или что другое
прослышал? — спросил Тода осторожно, чтобы не обидеть
Урузмага.— Это все, в чем могу себя винить, другой
вины за мной нет.
— А это мало, что ли? Хватить человека палкой по
башке, да так, что он кровью залился, это что,
по-твоему? — тихо, но твердо сказал Урузмаг.
— По правде сказать, виноват я, конечно, но не вся
вина на моей стороне,— пытался Тода смягчить жесткий
взгляд Урузмага.— Можешь спросить Зуру и Басила.
— Что спрашивать, разбил голову человеку, а из-за
чего? Соседский паренек посмел без спроса на его
иноходце покататься! Велика беда! Будто ты сам
мальчишкой не был или на соседских конях не гарцевал!
— Это верно, но я оставил коня на привязи, а когда
не нашел на месте, разозлился страшно, позарез нужно
было ехать в район... Погорячился, конечно, не
сдержался. .. А так разве дрался когда?
— Ссориться не в новинку в деревне, но ты с
мужчиной поругайся, с ровней, что с мальчишками
связываться! Он еще в школу бегает, ветер в голове, как ты мог
руку на него поднять? Хорошо, что мальчик не злой,
старость твою уважил и не стал с тобой связываться,
а если бы толкнул тебя, долго ли одноногого
повалить? — выговаривал Тоде Урузмаг.
— В гневе разве человек помнит, что к чему? Видно,
нервы у меня ослабли, вот и выдержки не стало, ногу
оттяпали — это же даром не проходит... Раньше
терпенье было, а теперь состарился,— печально судил о
себе Тода, и Урузмагу жалко стало его. До войны он
веселый ходил по земле, а вернулся калекой, что-то
сломалось в душе, да и резок стал на язык. Когда женил-
83
ся, дети пошли, вроде помягчел, опять охотник стал до
шуток, но надолго его не хватает. Вот и срывается
иногда. .. Урузмаг хотел понять его верно, но не оправдать,
простить такое Тоде в его лета было нельзя. Ведь и
Тода был старик, всего лет на десять хмоложе Урузмага.
— Ладно, согласен, не очень ты был виноват, но он
мальчик, а ты старик, прощать должен уметь, своя же
кровь, не враг же тебе. Ты посчитай, сколько времени
прошло — четыре недели! А ты — старый да бывалый
человек — до сих пор не догадался, что для ссоры
хватит одной недели, помириться пора. Или, может, ждешь,
что он придет, поклонится тебе: спасибо тебе, что
поколотил? ..
— Какое там, я в самом деле виноват, Урузмаг, но
не пойду же я к нему на одной ноге прощения просить.
— Брось ты прибедняться, брат. Лупить человека
нога не мешала, а помириться мешает, так, что ли? Ты
лучше вот что сделай: прирежь-ка одного козленка в то
воскресенье. Мальчика с его отцом я приведу в твой
дом, подадите друг другу руки, и ссоре конец... Пойми
же, старый ты человек, нельзя нам, людям одного рода,
одного корня, друг на друга в прицел ружья смотреть...
Это наши старики говорили, и ты это знаешь: род
согласием да миром красен. Ссора ума не требует, не по
судам же таскать друг друга из-за всякой глупости...
— Думал и сам помириться, да не знал как. Он же
парень хороший, попросишь, так готов из речки камни
таскать. Помиришь с ним, век тебе буду благодарен...
— Вот и договорились, приведу отца, кого-нибудь
еще третьего прихватим и будей твоими гостями...
И все. Но я о том, что не с руки нам ссориться с ними..
Они кормить, может, и не будут нас, теперь у всех
стариков пенсия, но хоронить-то нас они будут? Как же
обижать их в наши годы, когда нам иной раз и о
смерти не грех вспомнить?..— Урузмаг-уже не обращался
к Тоде, он думал о себе, и ему было жалко и себя,
и Тоду, и всех стариков: у всех, он думал, одна судьба.
Тода понял, что Урузмаг ничего ему больше не
скажет. Он оперся о валун, налег на свою палку, поднялся
и отошел к балкам. Урузмаг тоже встал и сердито
принялся за работу.
Обед команде Урузмага принесли поздно. Мельницу
накрыло тенью от горы, и дышать стало легче, воздух
84
посвежел, и старики удивились, что осталось сделать не
так уж много, чтобы оживить мельницу, а они даже не
очень устали. Один Тода еще возился с подпорками для
прбдольной балки крыши, но и он вскоре заявил:
«Солдат свое сделал!» Урузмаг нарочно долго возился с
последней лопастью, чтобы Тода сказал свое «Солдат
сделал!». Услышав доклад Тоды, он тоже последний раз
мягко ударил деревянным молотком по гребешку
лопасти, вогнал ее в паз и распрямился.
— Кажется, Тода, я тоже сделал. Мы тоже, брат, не
лыком шиты, и матери нас не под лопухом нашли!
Тода понял, что Урузмаг на него больше не сердится,
и засуетился от радости, больше обычного припадая на
свою деревянную ногу. Не найдя вокруг ничего такого,
чем бы он мог занять свои руки, объявил:
— Ну, ребята, перекур! Так командиры говорят в
армии, когда разрешают солдатам отдыхать. А я
разрешаю вам, поскольку я в нашей деревне маршал, самый
большой командир. И разрешаю сесть на травку,
можете прислониться своими стариковскими спинами к
вязанке дранки. И будете отдыхать, как на курорте. Все,
перекур! — и тут же сам опустился на траву, выбросив
вперед свою «пушку».
Однако сидеть долго ему не пришлось, из-за кустов
ольхи вышли к мельнице жена Тоды, его сын и дочка,
девочка лет десяти. Они принесли пироги, вареную
курицу, бульон, араку и пиво в небольшом деревянном
ведерке с металлической дужкой. Тода тотчас вскочил,
вернее, встал с быстротой, на какую только способен
пожилой одноногий человек. Жена еще только
подходила к своим работникам, а Тода уже мастерил стол, из
двух досок на каменных упорах сделал скамейки, 'а на
стол пошли чистые листы дранки. Стол был готов,
жена Тоды успела поздороваться с гостями, и хозяин
позвал своих друзей:
— Садитесь, садитесь, ради бога! Пирод, ребята! —
сам примостился рядом с Басилом и ждал — дело было
теперь за тостом старшего, Урузмага.
Поели, попили работники Тоды и особенно
похвалили пиво его жены. На это Тода ответил, будто
недовольный:
— Разве это пиво? Это чай с хлебом, правда, немно-
85
го хмеля примешали. Вот завертится моя мельница, тог*
да попотчую вас настоящим маршальским пивом.
— Скажи, заклинаю тебя именем твоего покойного
отца,— лукаво прищурился Зура,— а песню не споешь
нам?..
— Ты мою песню не трогай, в русской песне ты все
равно ничего не поймешь, а вот к осетинской араке надо
бы больше уважения иметь. Не откажись, прими мой
бокал!
Зура отказывался, но подвыпивший Тода был
неумолим и заставил-таки беднягу выпить.
— Спасибо нашей щедрой хозяйке! Дай бог тебе
столько добра, чтоб сверху брали, а снизу
прибавлялось! Спасибо и тебе, Урузмаг, давно мы вот так не
были вместе,— заключил Зура.
— Обещал же тебе, Зура, что у нас не лето будет,
а сплошной праздник. В воскресенье Тода нас
козлятиной угостит,— ответил Урузмаг.
— А что с Тодой? Прокурор его наказал? Или
вырезать свою скотину хочет, чтобы зимой, значит, не кор«
мить? За ним это водится...
— Он сам знает, прокурор тут ни при чем. А любит
он палкой махать, вот потому и приходится... Так
испокон века было, брат мой Зура.
— Оно конечно, нехорошо палкой махать,—
сообразил Зура,— да и мириться давно время... Вот я внучку
отругаю, не без этого же, так она дуется на меня, а
самой-то без году неделя, пятый год пошел, а у меня на
душе нехорошо. Ну, где-нибудь конфету раздобуду или
ягод из лесу принесу, и помиримся, и на душе
полегчает. Так вот...
— Стоит ли замухрышка-козленок таких
разговоров? Прирежу его, и все тут,— согласился старый
солдат.— А теперь прошу, ешьте, пока не поздно, до
ужина не ждите никаких угощений, а работать нам дотемна.
Однако есть им уже не хотелось. Все встали, выпили,
по кружке родниковой воды чз глиняного кувшина, и
Зура взялся было за топор, но Басил опередил его:
— Старики, давайте сделаем настоящий перекур.
Полежим немного на этой траве, под голову пусть
каждый положит свое барахло: я сапоги, Зура и Урузмаг —*
залатанные черкески, а Тода может отстегнуть свою де«
ревянную ногу. # л
'86
Тода поддержал его, боялся, что друзья смутятся,
неловко, мол, после такого угощения храпака задавать,
хозяин обидится. И сам первый лег, положив под голову
булыжник, а на булыжник шляпу. За ним вслед
повалился Басил, а потом степенно прилегли Урузмаг и
Зура.
Лежат рядком четверо стариков, Тода ведь тоже
старик, шестой десяток отсчитал. Устали, сытно поели,
да и выпили не так уж мало, и хочется им вздремнуть,
но Тоде охота поговорить, отвести душу. Работает ведь
он все больше в одиночку — инвалид, в напарники не
годится. Но сегодня ему повезло, и надо же
выговориться.
— Скажу вам, братцы, неправильно мы лежим...
— Живому человеку, Тода, так и полагается,
правильно да прямо только покойники лежат,— не смолчал
Зура.
— Не в том дело, Зура, вот если бы я был
настоящий маршал, я бы так не разрешил, должен быть
порядок — лежать все должны по росту. Я хамый длинный
из вас, поэтому мне лежать с краю. Рядом со мною
Басил, он тоже правильно лежит, а ты, Зура, самый
маленький, должен с другого края, там, где Урузмаг
лежит. Вот так! — пояснил Тода и повернул голову к
Зуре проверить, понял ли он его маршальскую речь
или нет.
Урузмагу хотелось спокойно полежать, и он
остановил словоохотливого Тоду:
— Скажи, ради бога, нет ли в армии, скажем, такой
команды, мол, ребята, помолчите немного!
— Как же нет! — ответил Тода.— В армии, правду
сказать, всякие команды есть. Насчет тишины тоже
есть, «отбой» называется. После такой команды
разговаривать нельзя. У нас был старшина, так он как
закричит: «Отбой! Не разговариват, молчат, не дышат!..
Вашу мад!» — попробуй после этого поговори, на «губу»
отправит — так маленькую тюрьму называют в армии.
— Хороший закон в армии, Тода,— заметил
Урузмаг.— Давай-ка мы тоже по этому закону полежим.
— Правильно, я согласен,— не смутился Тода.—
Отбой! Не дышать, старики!
И наступило молчание. И, как ни странно, первым
всхрапнул сам «маршал» Тода. Лежали с закрытыми
87
Глазами Зура и Басил, но Урузмагу казалось, что они
не спят. Он водил глазами по левому берегу реки, по
склону ущелья, покрытому зеленой накидкой букового
леса. Кудрявая листва ласкала глаз, и на душе Урузма-
га стало тихо и грустно.
Хорошо все-таки жить на этом свете... Может,
правду говорят, что матери дороже всех тот ребенок, с
которым больше всех мучилась и нянчилась? Может, вот
эти дебри потому и любим, что мучились в них из
поколения в поколение — и дед, и отец, и я? .. В этом лесу
много орехов, и в детстве каждую осень пропадал там,
поздней осенью под буковыми деревьями орехов слоем
в два пальца... Теперь черед других малышей, они
тоже там бродят босиком, аукаются. Неужели они тоже
будут в конце своих дней тосковать по этому лесу, по
этим горным склонам, или они другой народ и другое
у них сердце? Кто знает? В человеческой душе много
полок и ниш, поди угадай, на какой полке и в какой
нише какое добро или зло упрятано...
Над этим лесом на уступе скалы моя Пастушья
чинара. Как ей там живется-можется? Может, и она
состарилась и готовится на покой, первой бури ждет? Лет
двадцать не сидел под ней, надо бы повидать. И чего
она мне снилась? Давно о ней позабыл, и вдруг
приснилась, с чего? Надо пойти к ней и поклониться, чтобы не
снилась. Так ведь покойников поминают, чтоб не
снились. С утра как раз свободен, наши парни будут
подвозить к хлеву Гассион балки, доски, листы дранки, я
там не нужен, смогу походить с Белолобым по нашим
пастбищам. Раньше там полно ребятни было, из
каждого двора несколько пастушков выходили, весь день
окрест горланили. Теперь никого там не будет, скотину
пустили без присмотра, и она пасется на бывших
пашнях. И в пастухах никто не ходит — утром выгонят
скотину за околицу деревни и вечером загоняют во двор...
Попрощаться надо со своей землей, пока молчит мой
кровожадный пес, а то схватит ненароком мертвой
хваткой и не отпустит...
Знали бы мои старики об этих двух месяцах, так
разве до сна им было бы, как над покойником, сидели
бы да ревели. Особенно Басил и Зура. А так —
профессор вылечил, о чем печалиться.
Нет, так нельзя, надо сказать Басилу: свадьбу сына
88
справляй сейчас же, а то помру и свадьба в панихиду
обратится. Жалко молодых, самый праздничный день в
их жизни, а ни песни, ни танцев не будет. Какая это
свадьба? Одно расстройство. А за чем дело-то стало —
закатить поскорей свадьбу и счастья да ладу молодым
пожелать! Сам бы еще спел со стариками. Записать бы,
что ли, наши с Басилом песни на машине, забыл, как
она называется? После моей смерти мой голос бы мог
слушать этот лопоухий... Нет, не надо, каждый раз
будет плакать, знаю я его. Разбудить его, что ли? Он,
кажется, и не спит...
— Басил, а Басил, спишь, Цамела недреманное око?
— Сплю, а что, нельзя?
— Нет, почему же, спи, пожалуйста, только
спросить я хотел.
— Спрашивай, на твои немудреные вопросы я и во
сне отвечу.
— Так ты же меня старшим гостем на свадьбе сына
хотел видеть?
— Верно, хотел и хочу. На свадьбе веселей будет,
а так выпивохи и без тебя наберутся.
— А хочешь, чтобы веселье на свадьбе было, так
слушай. У меня мало времени, через шесть недель
должен снова в больницу вернуться, придется там еще
полгода пролежать. Когда же мне на свадьбу-то?
— Это как же, значит, ты не совсем выздоровел? —
вдруг проснулся Зура, приподнялся на одной руке и
уставился на Урузмага.
— Совсем здоровым, Зура, я уже никогда не буду,
прошло то время, но хотелось бы на свадьбе погулять.
Может, думаю, споем еще с Басилом, а? Как думаешь,
лопоухий?
— Нехороший ты человек,— расстроился Басил. Он
чувствовал, за словами Урузмага что-то таится,
скрывает он что-то, но что? — Я думал, ты никуда больше не
поедешь. Как же теперь быть, а? Что мне сам-то
посоветуешь?
;>( — А что мне посоветовать? — Урузмаг задумался.
«Сказать ему:, готовь свадьбу через две недели —
неудобно. А вдруг не устраивает этот срок ни его, ни
семью невесты?» — Ты скажи, все ли у тебя готово, нет
ли какой помехи?
89
— Не так чтобы совсем, но вроде готов — есть и что
выпить и чем закусить...
— Так за какой малостью дело стало? Невеста, я
слышал, учительница; осенью в неделю Уастырджи в
школе много работы, не до свадьбы ей будет, а теперь
она свободна. Сын твой пусть возьмет отпуск, и сыграем
свадьбу, чтобы и мне кое-что перепало,— сказал Уруз-
маг спокойно, словно о том только и думал, как бы за
свадебный стол попасть.
— Все же с отцом невесты надо поговорить,
жениха тоже спросить, а за мной дело не станет. Без тебя
какая же свадьба? — озабоченно и сердито ответил
Басил.
Зура внимательно слушал их и незаметно наблюдал
за выражением лица Урузмага — он хотел понять,
правду ли говорит этот человек, что желает погулять на
свадьбе. Но если это правда, то, верно, врет, что надо
ему вернуться в больницу на полгода. А если вправду
нужно ему в больницу, так это же большое несчастье.
Зачем о свадьбе заводить речь, до того ли?
— Чем недоволен, брат мой Зура? — Урузмаг
заметил, как за ним наблюдает Зура, и решил его
успокоить.— Или плохо я говорю? Надо же нам мозгами
пошевелить, а то стариков угощать охотников мало. Если
этот добрый муж, сам прикинь, согласится со мной, так
это разве плохо? Тоду мы уже ободрали как липку, Гас-
сион уже тесто на пироги замесила, а за ними Басил.
А там на подходе Габила. Ты как думаешь, Тода не
скупится на угощение, Габилу с сыном потчует, а
Габила, мужчина о двух ногах, в долгу останется? Как бы
не так! Вот и сбудется мое обещание, вместе с тобой,
Зура-джан, все лето на пирах да свадьбах проведем.
Плохо, что ли?
— Не об этом моя забота,— признался Зура,— а вот
уедешь опять на целых шесть месяцев, а мы как лее?
Что муравьи в разоренном гнезде. Когда там еще
вернешься. . ¦
— Да, теперь вернусь не скоро,— согласился
Урузмаг, а про себя сказал: «Брат ты мой хороший, Зура-
джан, придется тебе смириться, кончатся мои два
месяца— и айда».— Вот и думаю, что Басил недели через
-три-четыре позовет нас всех на свадьбу..*
ео
— Никто меня, конечно, не спрашивает, — обиделся
То да. За разговором старики не заметили, что он давно
проснулся, и не обращают на него внимания, вроде его
и нет здесь.— Но я думаю, что Урузмаг прав, зачем
свадьбу на осень откладывать? Пирод! И все.
— Все вы будто сговорились, свадьба да свадьба!
Сыграем, если вам не терпится, разве я против? За
мной дело не станет, а вот отец невесты может
заартачиться. ..— решился Басил наконец.
— Это я беру на себя,— уверил Урузмаг своего
друга.
— Да поможет тебе бог!—приободрился Басил.
«Бог мне уже не поможет»,— сказал Урузмаг
самому себе, а вслух произнес:
— А теперь, рибят,— Урузмаг скосил глаза на То-
ду,— возьмемся за дело, а то скажет Тода, наелись,
напились старики и опять спать разлеглись. Да и на ужин
не позовет.— Урузмаг встал и взялся за топор.
Басил влез по лестнице на крышу и начал разбирать
старое, обвалившееся покрытие. Срывал дранку и
сбрасывал ее на землю. Все сгнило, даже на растопку не
годится, злился Басил и трепал, разламывал, скидывал
все, что осталось от крыши.
Поднять балки на чердак было им не под силу, и
Урузмаг посоветовал оставить это дело на завтра, мол,
утром с парнями придем, поднимем балки, а там
пришить гвоздями дранку — недолгое дело. Самому Уруз-
магу оставалось обтесать с обеих сторон небольшое
бревно, что ляжет под пятку колеса и должно
выдерживать тяжесть колеса и верхнего жернова, когда
придется переводить жернов на крупный помол. Урузмаг
наносил несколько редких засечек по всей длине бревна и
потом точными частыми ударами топора снимал ровный
слой древесины по одной, ему только видной линии.
Басил, прежде чем сойти с крыши, решил прибить
гвоздями два упора для центральной балки, и постукивание
обухом топора по шляпкам гвоздей больно отозвалось
ВсДуше Урузмага.
Бедный ты мой брат, $асилико, жаль мне тебя:
скоро тебе придется вот так вбивать гвозди в крышку
моего гроба... И все — был человек, и не стало его...
Так водится в мире, брат мой, и зря ты будешь изво-
9Г
дить себя, ни скорбью, ни слезами мне уже не помочь.
Так и в песне поется:
Держит солнце к закату свой путь,
Что ушло, то ушло — не вернуть...
6
На второе утро старикам оставалось сделать не так
уж много: поставить колесо и накрыть крышу дранкой.
Тода успел к приходу своих друзей позвать троих
взрослых парней и поднять на крышу балки, пришить к ним
рейки.
Урузмаг пришел к мельнице с оседланным
Белолобым. Он решил после работы добраться верхом до
Пастушьей чинары. Белолобого Урузмаг отпустил тут
же пастись, а сам занялся колесом. Сначала помог,
правда, поднять на чердак дранку, чтобы Басилу и Зуре не
надо было спускаться с крыши за каждой охапкой.
И когда они принялись стучать молотками, набрав
гвоздей в карманы кожаных передников, Урузмаг и Тода
забрались под мельницу и расчистили место для колеса,
расставили каменные плиты-опоры под пяту колеса.
Басил и Зура, втайне соревнуясь друг с другом,
вскоре управились с маленькой крышей, и в ряду
старых серых мельниц на берегу реки появилась одна в
белой двускатной шапочке. Первым сошел-с крыши
Зура, за ним Басил со своей привычной похвальбой:
— Тода, клянусь твоим покойным отцом, такой
крыши на берегу этой реки еще не бывало — поливай хоть
из шланга, ни капли не пропустит.
— Знаешь, Цамелов сын, старый солдат, который
меня петь учил, знал одну хорошую русскую
пословицу. ..— Тода настроился ответить Басилу, но Урузмаг
кликнул их:
— Старые болтуны, помогите мне втащить колесо
под мельницу!
Втащили колесо и установили с трудом — в тесном
подполье негде было повернуться. Железный кованый
пест на одном конце колесной оси тыкался в пол, никак
не могли его продеть во втулку нижнего жернова, чтобы
потом насадить на конец песта верхний жернов.
Наконец это удалось, теперь оставалось самое трудное —
установить ось колеса без малейшего перекоса, так, что-
92
бы верхний жернов плотно прилегал к подовому
жернову, а пятка колеса вошла в упор. Мельничным мастером
среди них был один Урузмаг, и получись что не так,
осрамился бы именно он. И Урузмаг возился долго,
чуть-чуть подвигая пятку колеса с пластинкой
железного упора. И наконец приказал закрепить опорную доску
и подъемник.
— Все! Перекур! — разрешил Урузмаг, и все
вылезли из-под мельницы.
Тода на радостях хотел еще раз угостить своих
друзей, но до села было далеко, а из дому никто не
приходил. Он нетерпеливо поглядывал на дорогу, но не видно
было никого, и пришлось признаться:
— Плохо мое дело, ничего у меня нет такого, что бы
вам на язык или на ладонь положить. Нет, кажется,
вру,— вдруг просиял Тода,— ьон поспешает сюда моя
хозяйка, не думаю, чтобы с пустыми руками!
Жена Тоды и вправду принесла завтрак своим
гостям. И Тода щедро потчевал их, поздравляя с
оживлением мельницы. Старики выпили, закусили и
разошлись, обещая к вечеру прийти и послушать ожившую
мельницу. Урузмаг сел на коня и поехал к Пастушьей
чинаре.
Едет Урузмаг по тропинке берегом речки к старому
селищу. Зеленое ущелье, лес по обоим берегам. Летний
ветер курчавит листву. С правой стороны прокричала
сойка, взлетела над лесом и тут же нырнула в листву.
Поют птахи, весело им, тепло, привольно, в эту пору лес
ласков с ними. А с радости и пошуметь не грех. Видимо,
охота поделиться радостью, веселись, мол, все живое!..
Бывало, и я вот так пел в детстве бог весть с какой
малости — увижу кудрявого ягненка на костлявых
ножках и пою; увижу на опушке букового леса кустик
алычи в цвету и пою; найду на прогалине в лесу несколько
ягодок земляники — опять пою...
Урузмагу стало грустно — не хотелось еще раз
видеть развалины старого села. За версту от деревни он
свернул на еле заметную тропинку и вышел на
заросшую травой дорогу пастухов — по ней гнали скот на
дальние пастбища. Она привела его к широкому
ровному уступу. До сих пор дорога шла зигзагами вверх по
склону, огибая скалы. Здесь кончался подъем, и по той
тропе можно было пройти пешком поперек склона к
93
Пастушьей скале, а там рукой подать и до Пастушьей
чинары, одиноко вросшей в известковую макушку скалы.
Урузмаг слез с коня — тропа идет прямо, идти легко,
8ачем коня мучить. И вскоре дошел до Пастушьей
скалы. Он не знал, откуда такое название, но в жаркий
летний день пастухи липли к этой скале, как зимой
воробьи к мякиннику. Отсюда хорошо наблюдать за
разбредающимся стадом, и мух нет, и ветер приятно
холодит под рубашкой...
Сколько раз сидел на этой скале! Бывало, ноги гудят
от беготни, дышишь, как ящерка, а доберешься сюда,
ветер приласкает, как материнская ладонь, и запоешь
или кричишь бог весть кому какие-то глупые слова,
вроде:
О-ой, на вершине горы два облачка,
Два облачка что две гусыни!..
От этой скалы до Пастушьей чинары было совсем
недалеко, и Урузмаг отпустил Белолобого пастись, сам
взобрался на скалу и присел на своем давно
облюбованном месте на ровной плеши скалы.
Полулежа отдыхал Урузмаг, и думалось ему о
далеком детстве. Живи вечно, моя скала!.. Но не скучно ли
тебе без нашей ребячьей возни, баловства, песен,
плясок, обезьяньих ужимок? Не одиноко тебе, скала? Никто
уж не ходит к тебе, и не вернутся сюда деревенские
ребятишки, но ничем не могу тебе помочь, утешить.
Терпи. Все же ты счастливей меня — солнце будет греть,
дождь омывать, по ночам звезды над головой. Орлы
будут опускаться на твой гребень отдохнуть да клюв
поточить — вот и вся твоя радость, но терпи. В
последний раз пришел я к тебе, и прощай, мне пора...
Оттолкнулся Урузмаг двумя руками от скального
сиденья и быстро, широко шагая, пошел к своей чинаре.
Полы расстегнутой черкески мешали ему, и он заткнул
их за пояс. Шел недолго, но запыхался. Под самым
деревом он остановился и снял шляпу, стер со лба пот
тыльной стороной ладони и лишь тогда поднял глаза на
Пастушью чинару.
Здравствуй, пастушье дерево, дух-покровитель наш!
Мы так всегда величали тебя за трапезой. Молитвы
тебе возносили. А как же иначе! В дождь ты спасала нас,
прикрывая своими ладонями, в жару под твою тень пря-
94
тались и мы и наши козы. Как же было не молиться на
тебя?.. I
А крепка ты по-прежнему! Голову держишь высоко,
руки развесила широко, и ни одной засохшей ветки, а
корневища — что бревна. Й не страшна тебе буря,
только бог упаси от молнии! Нет, не спасет тебя бог, но
корни удержат, крепко вцепились в землю, не боюсь за
тебя. Пребывай вовеки!
Урузмаг скинул черкеску, расстелил ее на траве в
тени чинары и лег навзничь, подложив под голову свои
исхудалые, но по-прежнему большие руки. Он
потянулся глазами к сумятице ветвей над головой, и за шатром
чинары бездонная синь неба хлынула в глаза. И Уруз-
магу.казалось, что вот-вот захлебнется он в этой густой
сини и опустится на неведомое песчаное дно, как малек
форели в омуте.
В самой глубине неба плывут белые облачка, словно
прястени — горсточки кудели из козьего пуха. Такими
они мне и приснились... Плывут, не спешат, видать,
некуда торопиться... Это хорошие облака, пастуху
вреда от них нет, но набросятся на горы целыми стадами
черные тучи, вот тогда берегись — градом побьет или
молнией поразит. Бедному человеку и на небо мало
надежды. ..
Вот беда-то, куда орлы подевались? Бывало, парят
в небесах, друг друга по-разбойничьи окликают, а
гляди-ка, ни одного. А может статься, что и они из-за нас
ушли, что же им без людей делать? И перепела давно
не прилетают. Им, правда, житья не стало, как бросили
мы пахать да сеять в горах. Они, птицы, с человеческой
ладони свой корм клюют, как им на пустую ладонь
садиться? Нет, землю мы зря обидели, сиротой оставили,
вот и птицам невмоготу стало жить на ней. Да и трава
не растет там, где корова не пройдет или ребенок не
пробежит. Видно, не только земля человеку нужна, но
и земле ласка человеческой руки в радость...
На луговых склонах, правда, в этом году, сказывают,
травы невпроворот, сена будет вдоволь, и людям и
скотине хорошо. Жаль, мне уже не подняться туда косой
помахать. Ржа заест мою косу под застрехой. Что ж, не
моя вина, но я за свой век немало погулял по нашим
склонам с косой, не будут они в обиде на меня. Свои
луга в чистоте да холе содержал, каждый год от скатив-
95
шихся с горы камней очищал, будто круп коня
скребницей. А теперь у меня ни сил, ни времени, только
проститься и осталось...
И ты, Пастушья чинара, прощай. Много от тебя
добра помню, спасибо тебе. Не можешь мне в моей
последней беде помочь, но в том твоей вины нет, прощай.
Мы не свидимся больше, но пусть доброе солнце будет
над 'тобой вовеки! Может, даже не приснишься мне
больше. Как возьмется меня грызть кровавый пес, так
не до сна будет, но я буду помнить тебя до смертного
часа, а там уйду...
Урузмаг вспомнил, что ему в самом деле пора в
обратный путь — дома хватятся, куда пропал, тревогу
поднимут. Он постоял еще немного, молча глядя на
Пастушью чинару, потом прилепил к голове шляпу,
накинул свою черкеску на плечи и позвал коня. Подошел
Белолобый, Урузмаг взял его за повод и повел вниз.
Идут друг за другом Урузмаг и Белолобый повесив
головы, словно на тропинке строчки муравьиных следов
выслеживают.
7
Гассион и в голову не приходило, что кто-то
возьмется ее хлев чинить, менять сгнившие балки, крышу
перекрывать. Долгое это дело и хлопотное, а у людей и
своих забот по горло. Но когда подвезли новые балки со
двора Урузмага и Басила, поняла она, что все же
нашлись такие люди, которым есть дело до ее вдовьих
забот, и стало ей приятно и грустно. Приятно, что не
•забыли, вспомнили о ней; грустно, что она вдова, что
нет Харито и не может она сама с хозяйством
управиться и что эти люди делают ей добро просто так, по зову
своей совести, но она не может их отблагодарить как
следует. Она понимала, что перестройка хлева не так
накладно бы ей обошлась, за три овцы взялись бы за
эту работу и чужие люди, но ей особенно дорого было,
что за это взялись старики, родичи Харито, которых она
знает со дня своей свадьбы, но с которыми никогда не
говорила, так велит обычай — она невестка, сноха для
всего рода Харито. И особенно приятно, что старики
вспомнили о ней еще и потому, что она чем-то заслужи-
96
ла их разборчивое уважение, видно правильно жила и
при муже и, что для стариков важнее, после его смерти,
во вдовьей своей доле.
Басил, видя, что Гассион смущена, пошутил, чтобы
приободрить ее:
— Видишь ли, Гассион, твои старые девери
вспомнили, что арака у тебя злющая получается, а они такую
давно не пили, вот и решили задобрить тебя, авось
расщедрится Гассион и угостит. Сегодня подвезем все
балки-малки, а завтра будем рушить и заново сшивать, так
что твоим курам несдобровать, надо же будет старикам
араку чем-то закусывать? .. Только варить их придется
до полного развара, зубов у твоих стариков как у
овцы — по четыре штуки за нижней губой. Но ты нас не
особенно ругай, что раньше не додумались, все же мы
старики, но старый деверь — тоже деверь, от своей вины
не отказываемся, только прощенья просим...
Басил знал, что Гассион все равно отвечать ему не
будет, только жестами, улыбками, глазами будет
благодарить, потому разом высказал все, что было на душе,
и больше к разговору не возвращался, крикнул на
быков и пошел еще что-то подвезти.
В субботнее утро старики взялись стучать
топорами — тесали балки основы. И как только застучали
топоры, к старикам начали стекаться со всех сторон
молодые и пожилые мужчины. Двор Гассион в самой
середине деревни, и стук топоров все слышали, не прийти
на подмогу старикам было неловко, неудобно, стыдно.
И набралось столько помощников, что Басилу и Зуре
пришлось бросить топоры и только присматривать за
работой молодых и расторопных парней. Они были
слишком старательны, и Басил опасался, что без
присмотра могут наломать дров. Разбирать старые стены
надо было осторожно, листы дранки укладывать в шта-
бельки, чтобы не мешали работать и чтобы не
покрошили их ненароком, бросая тяжелые балки с крыши.
Ждать такой аккуратности от молодых помощников не
приходилось, и Басил и Зура отдали топоры другим,
взялись распоряжаться. Крышу разобрали быстро.
Прежде чем разобрать стены, Басил и Зура сделали
зарубки на досках, чтобы не перепутать их, когда будут снова
складывать стены.
Хлев разобрали неожиданно для стариков бережно.
97
Теперь дело было за Урузмагом и Зурой — скрепить
балки основы, стены взялся возвести сам То да с
командой парней.
Он самочинно объявил себя командиром и теперь
распоряжается с шутками-прибаутками, там поправит,
тут накричит на ребят. Он особенно не церемонится со
своими подопечными, но и сам старается как может, то
журавлем стоит на своей деревянной ноге, то
подпрыгивает, высоко вскидывая левую р»уку, то всаживает в
какую-нибудь ямку свою деревяшку с круглой подковкой
и удивительно проворно поворачивается вокруг своей
оси, все видит и все замечает. Тода знает, что молодая
его команда, большей частью
школьники-старшеклассники, смеется в кулак над его безбожно перевранной
русской речью, но, чтобы угодить ребятам, он щедро
расходует скудный запас своих русских слов из
армейского обихода. Расчет у него простой: парни любят
посмеяться, они крайне обидчивы, когда задеваешь их
самих, но рады посмеяться над другими. И пусть
забавляются, человеку весело — работа спорится! И удалась
хитрость Тоды — задолго до захода солнца не только
стены, но и весь каркас крыши был на месте.
Теперь Тода свободен, да и команде его ничего не
оставалось делать, на крыше хозяйничали Басил, Зура
и еще четверо охотников из их стариковской команды —
они пришивали дранку. Ребята Тоды присели отдохнуть
на старых подгнивших балках. Тода покрутился еще
немного и отозвал несколько человек из своей команды
в сторону.
— Знаете что, молодцы, мы свое дело закончили*
И прошу вас теперь всем идти со мной, к моему столу.
Я, когда сбегал домой, поросенка прирезал и угощу вас,
в обиде не будете. Понимаете, Гассион такую ораву
угостить не может, а вы моя команда, стало быть, я
командир и своих ребят накормить обязан.
Складно все объяснил Тода, но на уме у него было и
другое: хотел он помириться с парнем, которого
ударил палкой. Тот работал в команде Тоды, молча и- ста*
рательно выполнял его распоряжения, и оттого Тоде бы«
ло особенно стыдно. Он знал, что Урузмаг, конечно,
уладит дело с его отцом, но как было бы хорошо, если
бы к тому времени самому успеть помириться с парнем*
98
Потому так щедр и словоохотлив был Тода в тот вечер.
И когда согласились ребята пойти домой к Тоде, он
одному из них как бы невзначай бросил:
; — Возьми с собой и этого,— глазами указал на
Тамби, обиженного им парня, — не век же будем в ссо*
ре... Ну, ошибся я, но можно же простить старого
человека. . .
Парень взялся посредничать, и Тамби как будто
согласился, но посредник вернулся к Тоде с другим
словом:
— Хорошо бы, командир, тебе самому его пригласить.
Все же ты обидел его, ты и должен попросить прощения.
Тода задумался, как быть: помириться надо, но как
повиниться перед пареньком? Ничего не приходило на
ум, и он стоял опустив голову.
Товарищи Тамби наконец поняли, как трудно
старому солдату просить прощения у юнца, и окружили
Тамби, уговаривали: брось ты обижаться на старика,
инвалид же он! Оттяпали бы тебе ногу, так волком на людей
кидался бы! Тамби давно согласился с ними, но не
хватало мужества перешагнуть через свою обиду, он
выжидал.
Тода, прихрамывая тяжело, держа на весу палку,
подошел к своей сгрудившейся команде.
— Пойдем ко мне домой, ребята. И как бы
сказать. .. Тамби, не поленись и ты, пойдем вместе. И ты
ведь виноват? .. Я, конечно, совсем виноват, но,
понимаешь. .. Ладно, если старость мою не можешь уважить,
так вот тебе палка,— протянул он Тамби свою палку,—
и ударь меня разок. Баш на баш пусть будет, и на этом
помиримся. Бей, не жалей, я старый солдат и не такое
могу стерпеть. И помиримся, не век же дуться друг на
друга, я же старый человек, мне не до драки, о смерти
пора думать, о тех, кто хоронить меня будет...
Тода в самом деле расстроился, бросил палку и
побрел в сторону своего двора. Тамби кинулся за ним и
крикнул вдогонку:
— Подожди, командир, иду, согласен, только с
уговором — как купишь другого коня, буду на нем кататься
без разрешения! Бери палку, подожди!
Тода остановился и молча обнял одной рукой
подошедшего Тамби. Остальная команда тоже подошла, и
Тода сказал с достоинством:
99
— При всех разрешаю Тамби: впредь может ездить
не только на моей лошади, но и на моих козах!
Ребята рассмеялись, и польщенный Тода добавил по-
русски:
— Хватит разговор. Слушай мая каманд — марш
мая хата! Пирод, бырказ выполняйт! — и указал палкой
в сторону своего дома.
Парни охотно пошли с Тодой, знали, что, останься
они здесь, Гассион их обязательно затащит домой, а
там за одним столом со стариками они будут
чувствовать себя неловко. С Тодой же они на короткой ноге, он
их командир и позволит им пошутить и побаловаться,
выпить пива и накормит, как заботливая мать, такое за
ним водилось.
8
Подвыпивший Урузмаг спал хорошо и проснулся в
обычное время, хотя лег поздно. И не хотелось вставать
сразу, стал вспоминать вчерашнее.
У Гассион посидели складно. Одни старики,
спокойно поговорили о житье-бытье, повспоминали свою
молодость, что им еще остается. С Габилой тоже поговорил,
согласен мириться. Верно он сказал: мы никогда и не
ссорились, но, если Тода решил свой грех замолить,
придется нам с тобой посидеть за его столом. Виноват,
сказал, мой паренек, но ему, старому человеку, не
стоило связываться с мальчишкой, это правда. Но что
поделаешь, инвалид он все же, еготоже можно понять...
Неплохо мы придумали — хлев Гассион латать. Кто
ждал, что столько народу соберется помогать! Хорошие
парни в нашей деревне живут, растут совестливые.
Видно, Тода их тоже пристыдил, до самого вечера не
отходили от него, будто он им и вправду командир. Теперь
будут помнить, что за деревню им отвечать, мы,
старики, сами в помощи нуждаемся, они опора, а мы разве
что словами да попреками богаты. А парни они
хорошие, только дело любят делать, а не стариковские
наставления выслушивать. Вожак им нужен веселый да
с норовом. Тода уже стар и хром, ему не сладить с
ними. Они и разговаривают как-то по-другому. Одной
крови люди, а выходит, совсем разные. Но совесть у
100
них вроде наша, наследственная, дедовская! Сыновья,
они, конечно, %не похожи на нас, разве мой мальчик в
большом городе выучится и такой же будет, как я в
этой деревушке? А может, совесть, она как кровь и не
бывает ни городской, ни деревенской? Разве можно
поделить: вот ученая совесть, а вот эта неграмотная',
неученая? Она у всех одна — есть, так при тебе она; нет,
так в долг у соседа не возьмешь, как спички, утром
в очаге огонь разжечь...
Хорошую сказку деды придумали: по дороге
повстречались путники — огонь, вода и совесть. Долго ходили
вместе, а потом разошлись их пути, но охота еще раз
встретиться, вот и спрашивают друг друга; кто где
живет, как искать? Вода сказала: где зелено, лес да трава
растет, там найдете меня. Огонь сказал: где дым над
землей, там ищите меня. Совесть сказала: меня искать
не надо, главное — не терять, при себе держать,
потеряешь, уже не сыщешь...
Не-ет, парни у нас хорошие, зря мы напраслину
возводим, мол, испортились. И кровь и совесть у них наша,
а если в чем изъян, так это наша вина, зачем на
мальчишек взваливать? Мой мальчик на днях приедет.
Хорош, ничего не скажешь, в мать лицом, а стать моя,
только ростом выше меня. Мать красивая была в
молодые годы, а все же за меня, коротышку, вышла, хоть
многие сватались...
Что-то она зачастила ко мне, третью ночь снится,
к чему бы это? Глядит грустная, молчит, вроде с укором
каким или обижена чем? Поглядит так и в тень уходит,
пи словом не обмолвится. Может, и обижена, с тех пор
как по больницам хожу, ни разу не поминал, в палате
же не станешь поминать своих покойников... А может,
к себе хочет позвать, мол, пора, старик, и честь знать,
долго задержался, одиноко мне здесь. В таком разе не
долго ей ждать...
Снохе надо сказать, пусть два пирога да бутылочку
араки в хурджин положит. Пойду на кладбище, себе
место присмотрю да.покойницу помяну, пусть не
тревожит меня эти два месяца, а там прибуду и сочтемся
обидами, не долго ждать... А тебе, старый выпивоха,
встать пора! ..
Урузмаг торопливо стал одеваться в свое привычное,
рабочее. С тех пор как вернулся из города, он не рас-
101
ставался с черкеской. Было жарко, не время носить
башлык, но Урузмаг неизменно стягивал им свой
сатиновый бешмет поверх пояса — когда же ему носить
башлык, времени самая малость осталась!
Урузмаг плеснул.две-три пригоршни теплой водицы
из рукомойника на лицо, обмахнул его полой черкески
и пошел к двору Гассион. Оттуда слышно было
одинокое постукивание топором, и он хотел узнать, кто такой
старательный. К приходу Урузмага там уже было много
народу. Четверо парней клиньями и деревянными
кувалдами раскалывали на две половинки только что сруб*
ленные в лесу буковые кругляки, а Тода тесал-ровнял
эти полукругляки в расщепе. Они пойдут на настил в
хлеву, и надо их так стесать, чтобы удобно было
подметать навоз. Басил уже укладывал выбранные из старого
настила, пригодные еще доски.
Урузмаг издали заметил, что к Тоде подошел один
из парней и о чем-то советуется. Когда парень отошел
к дружкам, Урузмаг признал в нем Тамби. Видно, этот
хромой солдат не так прост, помирился с Тамби, не зря
вчера до поздней ночи горланили песни, он уже лег,
а они все еще не унимались во дворе Тоды. Ай да
солдат!
— С добрым утром вас, люди! — приветствовал их
Урузмаг, улыбаясь.— Не злится ли наш командир, что я
поздно на работу вышел? Да простит он меня, старого
человека. Подвыпивший старик что малое дитя, спать
любит.
— Ой нет, Нартов Урузмаг, так не пойдет! — строго
сказал Тода.— Когда ты у нас сардаром —
председателем был, затемно на работу выгонял, с постели
поднимал, а теперь, когда я командир, один маршал на всю
деревню, так ты и сам на работу не выходишь? Это как
же называется? Дисциплин нарушайт? За это
тюрьма — губахт полагается человеку. И ты пойдешь на гу-
бахт. Я, командир, освобождаю тебя от работы, сами
справимся. Ты свободен, только не забудь наш уговор
насчет вечерней посиделки у меня,— выговорился Тода,
и увидел Урузмаг: сияет лицо немолодого солдата*
И рад Урузмаг за него: трудно человеку ходить
виноватым среди людей, но как ему легко, когда чувствует, что
его простили и нет на нем вины перед человеком, пусть
даже перед мальчишкой.
102
¦— Спасибо, Тода, сын мудрого Илыка, спасибо, что
освободил и всю работу на себя взял. Но кто там в
хлеву доски ворошит?
— Да это твой вечный напарник Басилико, я его
тоже отпустил, но ты знаешь его, придира и бахвал,
боится, как бы мы чего недоглядели. Говорит, вам шуточки,
а нам, старым деверям, стыд и срам будет. Уведи его,
ради бога,— попросил Тода.
— Так мне идти, что ли? — спросил Урузмаг
командира.
— Пирод, по своим делам! — скомандовал Тода, но
Урузмаг уже не слушал, он вошел в хлев к Басилу.
— День добрый, старый деверь!
— Добрый день, сонливый подпасок! — пошутил
Басил, а сам внимательно оглядывал друга — не заболел
ли опять, он ведь умирать будет, а ни слова не
скажет. .. Басил угадал, что с его другом творится что-то
неладное: шутит по-прежнему, но глаза другие, какая-
то тоска осела в них, как ночной туман в лощине. Но
что у него на сердце? Спрашивать не стоит, отшутится,
и все, надо самому разгадать...
— Нас же Илыка добрый сын освободил, что ты еще
стучишь да людей смущаешь? Оставь их, пусть сами
справляются, невелика мудрость — в хлеву настил
уложить. Они ведь уже мужчины, а не лыко, дранное с
вишни. Думаешь, век мы будем с ними или они нас из
страны мертвых вызывать будут? Не докличутся...
Оставь их, дай им себя показать...
— Да я уже и сам собрался уходить, надо мне с
отцом моей невестки поговорить, может, все же
согласится с нами,— ответил Басил, а сам подумал:
«Посмотрим, что скажет хитрый лис Урузмаг. Может, откроется,
узнаю, что его торопит». Но Урузмаг и виду не подал,
что его заботит свадьба, начал разглядывать стены
хлева.
— Ладно их смастерил хромой солдат, вчера в
темноте не разглядел толком... А это хорошо, что идешь по
делу, но возвращайся к сроку, нам же вечером к Тоде
придется сходить. С парнем он, кажется, помирился
сам, но и с отцом надо уладить...
«Не проведешь ты меня, Цамелов сын,— подумал
Басил,— и не то у тебя на сердце... И что тебе
приспичило мирить Тоду с Габилой, это ведь не бог весть как
103
срочно! Ну что ж, посмотрим, но глаз с тебя не спущу,
пока не выясню».
— Ладно, вернусь. к вечеру, что мне там делать.
Спрошу, постараюсь уговорить и уйду...— недовольно
ответил Басил.
— Ну, так пойдем, у меня тоже есть кое-какие дела,
да и Белолобого пора попоить,— сказал Урузмаг и
вышел вслед за Басилом, увел его, как просил Тода.
Урузмаг пошел к Белолобому, отвязал его, хватит,
мол, есть, теперь и походить невелик труд, гляди,
разленишься при старом хозяине, а новый тебе спуску не
даст. Повел коня к ручью, напоил и не спеша оседлал.
Это заняло не так много времени, но все же вполне
было достаточно, чтобы сноха успела спечь два пирога
и можно было пуститься в путь.
Урузмаг нехотя перекусил у сына. От еды он решил
не отказываться, чтобы зря его не тревожить. Он ведь
знает, в чем дело, и отказ отца поймет так, что уже
совсем плохо...
Хурджин Урузмаг приторочил к седлу, влез на коня
и шагом пустил его по той же дороге — берегом реки.
И все было по-прежнему — тот же утомленный зноем
лес, тот же птичий грай, детский лепет струистой, но
мелководной речки, те же ольховые кусты с
темно-зеленой листвой.
Вот и мельница Тоды, крутится колесо, и его
однообразный шум для Урузмага звучит, как старинная
величальная песня мужчин — песня Уастырджи. «Вот это
да,— подумал про себя Урузмаг,— все ущелье
проснулось, ожило, ай да мельница!.. Теперь будет у Тоды
пиво, будет и песня Уастырджи, жизнь будет!..
Человек, он все может оживить, без него нет жизни ни у
реки, ни у дерева...»
Светло стало на душе Урузмага, слез он с коня и
присел в тени на каменной скамье," на той самой, что
Басил и Зура смастерили. Посидел, послушал Урузмаг
пение мельничного колеса. Ему важно было и другое, он
хотел по звуку определить, верно ли поставлено колесо,
не перекошена ли ось. Нет, все было хорошо, и ось' не
сдвинута, и песня Уастырджи поется верно. Довольный
отправился Урузмаг вверх по реке к старому селищу.
Вот и околица села, сюда, бывало, собаки выбегали
навстречу путнику: свой ли, чужой, все равно надо по-
104
лаять, постращать. А нет уже никого, ничего, только
мертвые развалины да стоит наша старая груша, мать
рассказывала, отец посадил, из лесу принес небольшое
дедевцо, и оно принялось. Я подрос немного, на нем уже
росли груши, и сейчас все покрыто зелеными горькими
шариками. К осени в них косточки почернеют, значит,
поспели и осыпаться станут, да некому подбирать. Дети
не придут, поросята не прибегут,, визжа от радости...
Доехал Урузмаг до опушки леса, где на небольшой
поляне расположилось поселение мертвых, жилище
людей, в свой смертный час покинувших старую деревню.
Здесь найдет свое последнее жилище и Урузмаг. И
больше здесь никого не похоронят. Умерла старая деревня,
позабудется старое кладбище; тропинки, по которым
несли сюда покойников, зарастут травой...
Урузмаг сошел с коня, снял хурджин с седла и
отпустил Белолобого. У крайней могилы остановился,
снял шляпу и постоял молча. Это могила жены. Рядом
похоронена мать, чуть дальше отец.
Мир праху вашему, да пребудете вы в светлом
раю... На могиле своей матери мой сын железную
ограду поставил, но мои похоронены как все, жившие до
них,— могильный холмик и на нем каменная плита, ни
надписи, ни ограды...
Положил Урузмаг хурджин на землю у могильной
ограды, достал пироги, развязал их, они были
завернуты снохой в марлевый лоскуток. Налил в рог араки и
сказал обычные в таком случае молитвенные слова,
обращаясь к жене:
— Будь доброй к своим детям, к родичам, не требуй
от них ничего, кроме хлеба насущного. И чем тебя
помянут на этом свете, да не минует тебя на том. Пусть не
доведется тебе делиться хлебом с чужаком не по своей
воле. А меня прости, не смог тебя помянуть долгое
время. Не моя вина, пришлось вот с этой болезнью
мыкаться,— Урузмаг хотел сказать «собачьей болезнью», но
спохватился вовремя, нельзя на кладбище дурные слова
в речь вплетать. Он уронил несколько капель араки на
могильную траву, потом отхлебнул из рога глоток,
остальное плеснул на могильный холмик.
Снова наполнил Урузмаг рог и помянул отца и мать:
— Да пребудете и вы в светлом раю, и вас давно не
поминал... В глазах живых и мертвые стареют, а старых
105
покойников редко поминают... Так водится у людей...
Желайте добра своему потомству, не осрамили они вас
ничем, честь вашу не уронили...— и он вылил араку на
могилу отца.— Живого тебя не удалось мне
по-сыновнему попотчевать, так хоть мертвый прими из моих рук...
Что ж, так сложилась жизнь, такова судьба...
Урузмаг присел на траву, отломил кусочек пирога
и нехотя съел — поминального пирога надо отведать,
так положено исстари. Все остальное Урузмаг завернул
в тот же марлевый лоскут, втолкнул в горловину
бутылки затычку и все сложил в хурджин. Сам прилег на
левый бок, подпер голову ладонью и оглядел тесную
площадку кладбища. Пусть вот здесь похоронят... Сын,
может, не захочет, но Басила попрошу, он сдержит
слово, не обманет... Скажу, когда время придет, пока
рано, жалко Басила...
Ладно уж, пойду, помянул чем мог, не должны
обидеться. Живых не обижал, как же мертвых не
уважить. .. Не только мать, но и жену сердитым словом ни
разу не обидел. Может, попенял когда, а так нет вины
за мной... Как первый раз ее увидел — за прялкой
сидела,— так и сказал себе: если жениться, так только на
ней! И, бог свидетель, ни обиды, ни даже малой
размолвки не было между нами. Берег сколько мог, но, видно,
такова судьба — раньше меня ушла...
Почти всех знаю, кто здесь покоится, одних
понаслышке, других сам хоронил, но ни с кем, сколько
помню, в ссоре не был... Вот Казбека, правда, обидел, но
моя ли в том вина, что он скосил мой луг? Я подростком
еще был, и, видно, он думал, я смолчу. А я спросил, мол,
зачем чужое прибрал к рукам, или по пословице: чтобы
плетень перейти, выбирай где пониже? Он решил
попугать меня: молчи, не то ухо кинжалом отхвачу! Обидно
мне стало такое слышать, подошел к нему молча,
сорвал с него кинжал и закинул его в бурьян, сам пошел
от греха подальше. Толкнул его, правда; повалился он,
может и ударился, но в драку не полез, выругался и
ушел своей дорогой. С тех пор стал со мной вежлив да
ласков, стычки будто и не было. Я тоже молчал, «никто,
кроме нас, об этом до сего времени не знает... Может,
и не стоило руки распускать, но ума не хватило, мал да
глуп был... Но Казбек простил меня при жизни, не
должен помнить зла и на том свете, а помнит, пусть
106
простит, старше моего отца был, должен простить. А не
пожелает, так скоро сам явлюсь перед Барастыром, и
пусть он рассудит нас. Мир праху твоему, Казбек,
прими мою шутку как друг, мы с тобой уже одних лет, я
такой же старик, как ты тогда, поздно счеты сводить...
Урузмаг встал, взял хурджин в руки и пошел вниз
по тропе. Белолобый ждал его на аробной дороге,
Урузмаг приторочил хурджин к седлу и повел коня в поводу.
Идут шаг в шаг конь и хозяин медленно, будто
нехотя. Урузмаг останавливается, когда видит на дороге
крупный булыжник, и откатывает его к краю — дрова
будут возить по этой дороге, под колеса угодит. Да и
меня по этой дороге повезут... Ногами вперед, голова
будет мотаться на ухабах... Торопиться надо, долги
заплатить, сестре овцу отдать... Сын скоро приедет,
сказать придется, кому что оставляю, чтобы у них с братом
размолвки какой не получилось.
Да, старик, много дорог исходил, но все твои
тропинки к могиле сошлись... Будто всю жизнь к ней шагал.
Неужели ничего другого не достоин человек?
9
Урузмагу в своей деревне делать было уже нечего,
косить сено он не собирался и не мог, силы нет, а так он
готов к косовице, косы висят под застрехой, вилы и
грабли новые, все зубья целы — все на чердаке. Но нет
косарей и не будет, нет их в доме Урузмага. Других
забот по хозяйству тоже не было, и оставалось
слоняться по деревне, приставать, как приблудный ягненок, то
к одному, то к другому из своих сверстников-стариков.
Урузмаг не любил такое бесцельное хождение по
деревне и решил обойти родственников, повидаться со всеми,
в первую очередь с дочерьми. Хотелось ему не только
повидать их, но, может статься, и помощь какую
оказать, добрым ли словом, советом ли — не суть важно.
Но, во всяком случае, думал Урузмаг, после его смерти
не будут жалеть, что вовремя не поговорили с ним, не
поделились своими заботами.
Жили все они невдалеке от родной деревни. Урузмаг
обычно отправлялся на своем Белолобом утром и через
два-три часа уже стоял у порога хозяина. Обедал у сво-
107
их хозяев, к вечеру успевал надоесть им своими
расспросами, советами, шутками и к ужину возвращался
домой.
Повидал Урузмаг всех своих дочерей, зятьев, внуков
и внучек, настала очередь сестры, но к ней он хотел
поехать со своим младшим сыном. И в этом был свой
умысел. Надо было сестре отвести овцу, а возиться с
овцой, обычно кроткой, но в иных случаях упрямой
донельзя, Урузмагу было не с руки, пусть парень и
погонит овцу. Но это было чисто внешней причиной, явной.
Втайне же Урузмаг считал, что младшего сына надо
незаметно и негласно поручить заботам сестры. Она
ведь единственная его сестра, да и он последний ее
брат. Уйдет он, и она останется одна, без братьев и
сестер. Вот и будет ей о ком заботиться — о его
младшем сыне, думал Урузмаг.
Он купил сестре дорогой подарок — отрез хорошего
сукна на костюм — и объяснил свою щедрость просто.
«Это мой последний подарок сестре, единственной
сестре. Дочери в моих подарках не нуждаются,— он
приносил им только конфеты,— у них есть и братья, и дети, да
еще молодость, а кто позаботится о моей старой и
теперь одинокой сестре?..» Урузмаг не поскупился бы
также на подарки дочерям, но он берег свои деньги для
младшего — это единственный из его детей, кто еще
нуждается в его помощи.
И наконец он дождался — сын приехал. Поздно
вечером Урузмаг возвращался домой после беседы с
Белолобым. Под вечер он отводил Белолобого подальше
от деревни и привязывал на длинной веревке к
колышку, чтобы утром не приходилось разыскивать. И там
сиживал подолгу, разговаривая со своим безответным,
всепонимающим другом.
Грустный возвращался домой Урузмаг и ложился
один со своей бедой, не зажигая света — так лучше,
ненароком мимо пройдет кто из старых друзей, завернет
к нему, и пойдут расспросы, как да что, а в таких
случаях легко проговориться, себя пожалеть. Нет, зажигать
свет ни к чему, думал Урузмаг, но теперь кто-то без его
ведома зажег свет, и Урузмаг догадался — это сын! Его
младший, так похожий лицом на мать!. Приехал,
довелось свидеться. Ведь мог он улететь куда-нибудь со сво«
108
ими дружками-студентами, и ищи ветра в поле, так бы
и ушел отец, не повидавшись.
Урузмаг постоял у крыльца, чтобы успокоиться,
потом покашлял громко ц поднялся на балкон. Сыновья
сидели в комнате за столом и ужинали. Младший,
видно, пожелал с отцом посидеть за столом, вот и
перенесли сюда свой ужин, но не дождались, видно,— старший
торопится, ему на работу рано выходить.
— Добрый вечер, люди! — приветствовал сыновей
Урузмаг. Они встали и ждали, когда он им руку подаст.
Урузмаг не торопился, глядел на младшего изучающе.—
Большой ты, однако, вырос! Не пустой ли колос, а? —
спросил отец и подал руку.
— Большой, пожалуй, вырос, а пустой — нет! —
уверенно ответил сын. Отец его баловал, и в отличие от
старшего брата он говорил с отцом смело, как с равным.
— Ладно. Это мы еще посмотрим, а теперь садитесь,
стоять у тестя полагается. Я руки помою и приду.
Урузмаг вышел на балкон, к рукомойнику Парень
как будто еще больше стал похож на свою мать, а ее
уже нет, кто может его приласкать, горевал отец.
«Даже я не могу заменить ему мать, а скоро и меня не
будет, и тогда, видно, совсем забудет сюда дорогу...»
Поужинал Урузмаг со своими сыновьями. Давно так
не сидели, одни, без посторонних, и Урузмаг чувствовал
себя счастливым. Правда, младший огорчил его, сказал,
что побудет здесь дня два, а там должен вернуться в
город, дела есть, насилу отпросился у начальства.
— Что ж,— погрустнел Урузмаг,— раз такое дело,
возвращайся, доброго тебе пути. А обо мне не
беспокойся, я почти выздоровел, вот побуду здесь, а осенью
вернусь опять к своему профессору. А ты учись, вот и вся
твоя забота... Вот так, длинношеий! — попытался
улыбнуться Урузмаг, но не вышло.
Младшему сыну хотелось остаться ночевать г Уруз-
магом, но отец не разрешил. Иди мол, с братом не
стоит оттуда перетаскивать постель. Урузмаг хотел
остаться один. Ему казалось что по ноча;л он стонет
и может напугать или встревожить мальчика. Поэтому
он ни разу не оставался ночевать и у своил" дочерей.
Правда, ему хотелось потолковать с младшим наедине,
но он это сделает завтра, когда пойдут вместе к сестре,
наговорятся дорогой...
109
И наутро Урузмаг попросил у Тоды овцу, ту, что он
выменял на Белолобого, и вместе с сыном отправился
прощаться с сестрой,. а соседнюю деревню. Дорогой он
долго расспрашивал сына, как учится, что думает
делать потом, не собирается ли жениться, вернется ли
домой или останется в городе... Многое хотелось узнать
Урузмагу о сыне, но из его ответов он вроде ничего
нового не узнал. Да и не рассчитывал на это, ему нужен
был этот разговор, чтобы заранее примирить сына с
тем, что придется ему расстаться с отцом, но в то же
время не сказать ничего такого, что напугало бы его.
И Урузмаг начал издалека:
— Понимаешь, парень, в чем дело? Я, что и
говорить, здорово подлечился в больнице у профессора, но
он сказал, что осенью я должен вернуться туда, чтобы
начисто вырезать у меня эту собачью болезнь... И все
будет хорошо, но о тебе беспокоюсь...
— Отец, обо мне ты не беспокойся. Я же не
маленький, закончу институт и начну работать,— беззаботно
отвечал сын.
— Не маленький, конечно, и работу найдешь, но как
раз тогда-то и начнется твоя жизнь, а в кармане у тебя
ничего не окажется. Вот я и беспокоюсь, как бы меня
с матерью винить не стал, мол, в наследство медного
гроша не оставили. Верно, так и есть, но что нам было
делать? Вас было много, накормить еле сил хватало, где
уж о наследстве думать. И все же кое-что есть у нас,
и ты должен об этом знать...
Сын призадумался и не отвечал на слова отца.
Урузмаг продолжал:
— Знаешь, не зря говорят, человека, который дом
себе строит, даже гадюка боится: вдруг меня за
веревочку примет и в карман сунет? Начнешь жить, так тебе
все пригодится — вот к чему мой сказ.. * Наш с
матерью дом — твой. Брату твоему старшему тоже своими
руками построил, а этот твой. Ну, коров у нас только
две. Одну оставь брату, овец тоже отдай ему, -у него
дети, а ты бог знает когда еще обзаведешься. Вот и все,
что останется тебе от отца и матери... Да и то
сказать,— решил ободрить сына Урузмаг,— правду
пословица говорит: дурному сыну не оставляй наследство...
Но ты, надеюсь, не из дурных, как ты считаешь, сын?
— Я, может, и не совсем дурной, а вот не пойму,
ПО
к чему это ты все мне говоришь, будто на днях не то
переселиться, не то удрать собираешься отсюда?
— Удирать, сынок, вы мастера, а мне отсюда некуда
удирать. Мне эту землю отцы завещали, в наследство
оставили. Вот так! — Урузмаг вспыхнул, словно ему на
мозоль наступили, не любил он перебежчиков в другие
места или в город, хотя и признавал за ними это право,
мол, каждый ищет, где ему лучше...— А говорю я к
тому, что даже обычное слово, вовремя сказанное,
лучше, чем запоздалая мудрость... Обижаться на мои
слова не стоит. Мне, что и говорить, не нравится, что вы
все, ученые и неученые, свои очаги оставляете, как ты
говоришь, удираете, но я никому поперек пути не
становлюсь. Вы молодые, вам жить, и живите своим умом,
я вам не указ, но и вы не кичитесь передо мной и не
глумитесь над моим очагом, над моей душой, она у меня
здесь, на этой земле...
Урузмаг подумал, что зря разгорячился, и хотел
было смягчить свою запальчивость иным разговором, но
решил — нет, не надо, пусть сын думает об этих его
словах и забудет о своем вопросе. Не хотелось Урузмагу,
чтобы сын догадался, почему отец заговорил о
наследстве.
У сестры Урузмаг гостил недолго. Он не мог
отделаться от мысли, что скоро она, самая младшая в их
семье, будет рыдать над ним и нечем ей будет утешить
душу до самой смерти; что умереть позже всех своих
братьев и друзей — самая горькая доля; что ее никто
уже так искренно не оплачет, всех своих братьев и
сестер она уже похоронила. А еще мучило Урузмага
сознание неоплаченного долга: ему казалось, что он
обязан был всю жизнь брать на себя обиды и заботы
сестры, а он этого не смог делать, хотя и хотел. Он знал, что
не так уж сильно виноват, все это он знал, но от этого
ему было не легче. Он думал: «Может, в трудную
минуту, когда я не приходил на помощь сестре, она
вспоминала, что получается по пословице: сестрино сердце к
брату стремится, а братнино — в лес норовит... А ведь
не, было этого, была моя бедность, желал делиться с ней
своим добром, но не было никакого добра...»
А сестра и не думала обижаться, она считала своего
брата, по наивной вере всех любящих сестер, самым
добрым, самым лучшим человеком на свете, и как она
Ш
была рада, что он вышел из больницы, что профессор
вылечил его, что он пришел к ней повидаться. Ей давно
самой хотелось навестить его в больнице, но нет конца
деревенским ежедневным заботам, да и до города ей
одной не доехать, а кого-то просить, чтобы ее водили по
городу, как слепую, стыдно, да и кого просить...
Сестра смотрела на брата, и в этом кротком и ясном
взгляде было столько любви, обращенной ца него
одного, что Урузмагу становилось трудно сдерживать слезы.
Урузмаг боялся, что сестра догадается о его тоске,
женское сердце догадливо, и раньше времени будет
опечалена душа, которая после его смерти обречена на
вечный траур. Этого он не мог допустить и заторопился
уходить, укоротил свои тосты. И все же успел сказать
о том, что сына он поручает ей, своей сестре:
— Знаешь же, сестра, что матери у него нет и
некому о нем позаботиться. Еще один год, и окончит свой
институт, надо будет женить его, и тебе надо
присмотреть хорошую невестку, да и парня пристроить так,
чтобы на нас в обиде не был. Я уже старик, а в делах
молодых только женщины могут разобраться и помочь,
вот и отдаю тебе эти заботы, сестра. У меня ты
единственная.
Да пошлет вам бог много добра и здоровья, да
благословит вас Уастырджи!.. Лучшей овцы не нашел, у
Тоды выбрал из десяти, лучшей не было, и не
обижайтесь, что раньше не вернул вам долг — в городе гостил,
у профессора... Так что спасибо за стол и ласку, нам
пора идти, этот парень еще ни одного из родственников
не навестил, вы первые, а послезавтра ему уезжать, вот
и торопимся. Не обижайтесь, всего хорошего, до
свидания! ..
Урузмаг говорил не переводя дыхания, пока не взял
в руки поводья и не вышел с Белолобым за ворота. Сын
чуть не бежал за ним, но, только удалившись от двора
сестры, Урузмаг сбавил шаг и дал нагнать себя сыну.
Урузмаг шел молча, чтобы случайно не высказать
свою тоску, а сын шутил, хотелось ему рассмешить отца
всякими городскими небылицами. Урузмаг вскоре устал,
но не садился на коня — идти рядом с сыном, слушать
его болтовню было приятно, не хотелось прерывать его,
отдалять от себя. Но когда дорога углубилась в лес,
Урузмаг выбрал небольшую полянку и предложил от-
112
дохнуть в тени дикой вишни. Он пустил Белолобого
пастись или постоять в тени, сам разостлал свою
черкеску, скинул сапоги и прилег, положив под голову
сложенный вчетверо башлык. . .
Сын примостился рядом и стал настраивать свой
транзистор. Он быстро перескакивал с волны на волну,
перебирал передачи разных стран и станций, и Урузма-
гу показалось, что из этой коробки можно услышать
только визжание, улюлюканье, свист и топот. Это ему
не понравилось, а для сына было возвращением в
привычный городской шум. Урузмаг чуть было не
прикрикнул на сына, мол, заглуши свою трещотку, но пожалел
его и промолчал: может, в городе так принято, такие
> них песни...
Но вот смолк неприятный шум и запел одинокий
женский голос. Запел очень мягко, и Урузмаг,
решивший было вздремнуть, прислушался невольно, потом
забыл о своей усталости и приподнялся, подперев голову
рукой. Песня набрала силу и лилась, как казалось
Урузмагу, прямо в душу, нежно теснила сердце каким-
то знакомым, щемящим чувством.
Урузмаг с детства любил поющий человеческий
голос. Он знал множество песен, сам хорошо пел и охотно
слушал по радио осетинские народные песни, городское
пение, как он говорил. И каждый раз в душе он
соревновался с далекими невидимыми певцами, то
восхищался и цокал языком в знак одобрения, то хмурился и
говорил: кричит, не поет!.. Но тут было другое. Он
понимал, что поет женщина, поет русскую песню, ему не
знакомую, но хорошую, как ему казалось. Ведь так
может петь человек, у которого большое горе, одинокое
горе, как у него, и никому в мире нельзя его поведать,
можно только вот так выпевать-выдыхать свою тоску
с высокой вершины земле и небесам, в бескрайний
равнодушный простор, зная, что никому дела нет до твоего
горя, что никто тебя не услышит, но надо петь-рыдать
в голос — излить свою тоску, чтобы не разорвалось
сердце.
Урузмага покорила простая и ясная- печаль песни,
и он притих. Но вот послышалось другое пение, и
Урузмаг спросил:
— Кто это пел, сынок?
— Зыкина,— невразумительно.ответил сын, и Уруз-
5 ц. Ди:усойты
ИЗ
магу послышалось что-то похожее на осетинское слово.
Зыкына-гыкына, перебирал в памяти Урузмаг. Гыкы-
на — маленькая девочка, платьице, наброшенное на
палочку. ..
— Вот так Зыкына-гыкына,— тихо вслух произнес
Урузмаг,— девочка, а как хорошо поет!..
— Не девочка вовсе, отец, да и получше поют,— с
усмешкой поправил студент, но отцу не понравилось его
пренебрежительное, как ему показалось* суждение о
песне. Песню он любил и не мог понять, что его сын
может так легкомысленно судить о песне, пусть чужой,
но хорошей. Ему подумалось, что сын хочет его позлить,
зная его пристрастие к песне. Или совсем не понимает,
какая это важная и прекрасная штука — песня, может,
петь вовсе не умеет? Эта внезапная догадка огорчила
его, как это сын, его сын, не умеет петь, не понимает,
что песня — это очень важно, что лучше ничего нет для
души человека? ..
— Сынок, а скажи, как это лучше поют,
расскажи,— попросил Урузмаг.
— Папа, как тебе объяснить, это надо слушать, вот
погоди, может быть, попадется такая песня.— И сын
стал крутить какие-то кружочки на своей машине.
— Да ты не крути эти колеса,— недовольно сказал
отец,— ты мне покажи голосом, спой тихо, я услышу, не
глухой же.
— Чудной ты, отец. Как это можно — спой тихо.
Я же не певец, не оркестр! — улыбнулся сын с
сознанием своего превосходства.
Урузмаг не понял, почему нельзя любую песню спеть
тихо.
— Сын, а может, ты совсем петь не умеешь? И меня,
старика, хочешь обмануть, а? — лукаво посмотрел на
сына Урузмаг.
— А зачем мне петь? — нисколько не смутился
парень.
— Как это зачем? — не мог принять такое заявление
Урузмаг.
— Отец, как ты не понимаешь, поют артисты, а я
математик. Разные вещи! И каждый знает и делает
свое дело. Если все будут петь да плясать, кто работать
будет?
Урузмаг задумался. Он считал, что сын, конечно,
114
прав, у каждого своя работа, и потому один — артист,
другой — милиционер, начальник, колхозник, сардар.
Но петь — это же не работа! А если работа, то это
совсем другое... А он говорил о простой, хорошей песне,
которую человек сам должен петь, а не слушать, как
артист поет. И получилось у отца, что сын прав и в то
же время не прав, а как сказать ему об этом, Урузмаг
не знал. Но ему хотелось как-то объяснить сыну свою
правоту, и он спросил еще раз:
— Сын, твоя правда, каждому надо свое дело по-
людски делать. Но когда мне хорошо, когда, скажем,
мой сын окончил свое учение и приехал, а я об этом
узнал и мне хочется от этой радости петь, что я должен
делать? Позвать из города артистов, чтобы они про мою
радость спели, а я слушал?
— Когда к отцу сын приезжает, он приглашает
своих друзей и друзей своего сына, и они веселятся, пьют,
едят, музыку слушают... Конечно, можно и артистов
пригласить, хороших певцов. Но не на каждое
приглашение пойдет хороший певец, не хватит его на всех. А,
собственно, зачем приглашать, песни хороших певцов
записаны, можно и так послушать, есть пластинки,
транзистор...
Урузмаг в душе не согласился с сыном, но в то же
время сомневался, а может быть, то, что он считает
правильным, как раз и неправильно. И свое сомнение он
выразил опять вопросом:
— В таком случае мне надо купить вот такую же
коробку, и когда мне будет весело или грустно, в пути
или на косовице, то покрутить колесики и слушать, как
другие поют мою песню, так, что ли?
Сын сказал, что, конечно, не мешает в деревне иметь
транзистор и время от времени слушать музыку, песни,
передачи; что он потому и взял с собой этот маленький
транзистор, чтобы слушать Москву в этой глуши. Это
удобно и хорошо.
Урузмагу трудно было что-либо возразить, но он все
же чувствовал, что есть какая-то неправда в этих
объяснениях. А сыну пришло в голову обрадовать отца, мол,
запишет для него хорошие осетинские песни на
магнитофонной ленте, чтобы он мог слушать их, когда захочет.
— Отец, ты мне дай немного денег, и я куплю тебе
такую машинку, которая всегда будет петь твои люби-
*
115
мые песни. Я запишу и ваши с Басилом песни, и будете
себя слушать, если захотите.
Урузмаг долго собирался с ответом.
— Сынок, эту машинку я видел у нашего зятя. Он
мне тоже предлагал записать мои песни, но это все
шутки, игра. Ну, вот как ты думаешь, если бы записали
и заперли песни соловья в этой коробке, а его самого,
уже безголосого, заставили слушать? Радовался бы
он? — Урузмаг помолчал немного, потом сам ответил: —
Нет, сынок, я думаю, соловей плакал бы, и не было бы
ему утешения. Как же соловью жить, если петь не
может, только слушает, как он пел или как другие поют?
Непоющий соловей... Это же как холощеный козел,
только и умеет «ме-ке-ке» да «ме-ке ке»...
Сын Урузмага не умел петь. На безусом открытом
лице полыхнула обида, потом перешла в усмешку, и
Урузмаг подумал: «Разозлился. Но как молния без
грома. .. Как зарница... Загреметь не смеет — отец я все-
таки. .. А может, жалеет, мол, темный старик, что с
него взять, всю жизнь с козами возился, вот их и
поминает.. .» — а вслух сказал:
— Ты зря обижаешься, сынок, я не о тебе говорю,
да и мое слово стариковское, темное... Но ты ведь
немного умеешь петь? Засмеют тебя здешние парни:
сын Урузмага петь не умеет, видно, немой уродился!
— Отец, я же объяснил тебе, что я не артист. Ты,
конечно, можешь здесь кричать и петь во весь голос
хоть дома, хоть на берегу нашей речки, никому ты не
мешаешь, и никто слова не скажет — пой, если охота!
Но ты подумай, если в большом городе выйдут все на
улицу и запоют, что получится? — Парень глянул на
отца и, заметив, что это произвело на него впечатление,
продолжал: — Так вот, отец, я петь не умею, но мне это
нисколько не мешает жить. Поют артисты, а я слушаю,
если есть охота и если хорошо поют. У меня другая
работа, может быть поважнее пения.- Я, конечно* не
ставлю себя выше — у каждого свое дело, и довольно
с человека, если хорошо делает его. А теперь ты
можешь петь, — улыбаясь, позволил сын отцу, — а я
послушаю. .. А что до деревенских парней, так они мне не
указ, и мы еще посмотрим, кто кого засмеет. Я же сын
Урузмага, а над моим отцом еще никто не смеялся!
Урузмаг не узнавал своего сына. «Заносчив ты,
116
однако, вот и о своих сверстниках говоришь так, будто
ты на вершине горы, они — в темной долине. И не
понимаешь, о чем тебе отец толкует, и, видно, так никогда
и не поймешь, а мне некогда уже вразумить тебя по-
отцовски».
И все же он попытался еще раз объяснить свою
правду, если нельзя разуверить сына в его неправоте:
— Ты прав, сынок, человек свое дело должен
хорошо знать, иначе какой он человек? Конь, что на каждом
шагу спотыкается. Верно говоришь, хорошую песню
приятно послушать. Вот эта женщина как хорошо спела;
мне бы твои годы, я бы сегодня же выучил и сам пел
эту большую песню. И ты зря думаешь, что я пел
оттого, что один был и не мешал людям своим криком.
Я пел, потому что думал. Петь — это как думать. Я пою,
когда думаю... Вот она пела и думала, я слушал и
тоже думал. Может быть, я думал, как и она, или
каждый о своем, но думали... Как же можно, чтобы один
думал, а другой только слушал и свое дело делал?
Дело? .. Я, сынок, всю жизнь работал, ночами не спал,
работал, но я думал и пел. А ты хочешь работать и не
петь, не думать?
— Это почему же, я этого не говорил, в моей работе
прежде всего мозгами надо шевелить. Математика —
это тебе, отец, не косой махать и не быков погонять! —
уверенно возразил сын.
— Я не о том, сынок, говорю. Мозгами шевелить —
это в любом деле нужно. И быков с умом надо
погонять. Как свою работу сделать быстрее да лучше, о том
каждый думает, если он не дурак. Был у нас один
такой, рассказывал мне, что все время думает, вот бы бог
ему такую косу дал — раз махнул и весь луг скосил,
а если не бог, то кто другой...
А я пою и думаю, как мне среди людей жить в этом
большом мире. Я, сынок, пою, когда мне трудно... Сын
мой учится в большом городе, а до его возвращения
старая мать уходит... Я думаю тогда, что сыну моему
плохо, что мать очень хотела повидать своего сына,
перед . смертью молилась богу дать ей такое счастье.
Я знаю, матери было горько и обидно, что не
дождалась. Вот и пою... А кто еще споет? Никто, у каждого
своя дума, свои песни, и мою думу я только додумаю, я
спою... Вот о чем говорю, сын... Работа, дело — это
117
как хлеб есть, воду пить. Без этого жить нельзя, по-
людски жить. Быки больше людей работают, они
сильнее, но они не люди — думы у них нет, песни нет...
И будь я большой падишах, я бы в своем царстве-
государстве так повелел: все люди должны не только
свое дело разуметь. Кто думать не умеет, петь не умеет,
только знай себе работает да слушает, такой мне совсем
не нужен. Пусть научится песни петь, думу думать или
уйдет к другому падишаху...
Вот о чем я, сын мой. Но ты видишь, какой я старый
человек, и мысли мои старые. Падишаха давно нет, я
это знаю, а слово все держится в голове. И ты не
обижайся, если твой старый отец не понимает чего. Ты
состаришься, и тебе, может быть, тоже все не так просто
будет понять. Так что не обижайся, заведи свою
коробку, а мне помоги встать.— Урузмаг подал свою руку
сыну, видимо, с тем, чтобы тот понял, что отец его в самом
деле состарился.
Встал Урузмаг, поднял свою черкеску и башлык,
встряхнул их, оделся. Сын к тому времени включил
опять свой транзистор, и потянулась бисерная ниточка
медлительной восточной мелодии, но Урузмаг не слу*
шал. Он позвал Белолобого и повел его за собой.
*- Пойдем, сынок, уже вечереет, домой пора.
Шел Урузмаг степенно, молча, думая о чем-то своем*
Сын шагал себе позади с невыключенным транзистором.
А между ними Белолобый лениво помахивал хвостом,
отгонял мелкую вечернюю мошку. Урузмаг/ было
грустно.
Почему он так и не понял меня, не пожелал понять?
Видно, все люди так — не хотят слушать друг друга,
только свою песню признают, а все остальные, мол, так
себе... Ячменные лепешки к пирогу...
И пусть так, пусть я стар, не понимаю, что к чему
в этом мире, но этот мальчик — мой сын, моя кровь,
а вот же не понимает стариковской печали, хоть и
ученый! Видно, мне в самом деле пора уходить... Хотелось
еще вот ему помочь, но, оказывается, я ему не нужен,
только мешаю...
Вечерние сумерки залили низины, опушку леса,
околицу деревни, когда Урузмаг и его сын пришли домой.
Урузмаг решил, что нет смысла входить во двор, надо
118
отвести Белолобого к новому хозяину — Тоде. Он
остановился у своей калитки и позвал сына.
— Ты зажги свет, хочешь, сходи к брату, а я коня
привяжу на ночь. Да, чуть не забыл. Возьми вот на
дорогу, может, на билет хватит.— Урузмаг вложил в
руку сына все, что осталось у него после расплаты с
долгами,—десять туманов, сто рублей. Сын, не считая,
сунул их в карман и вошел во двор, а Урузмаг повел
Белолобого на край деревни, где жил Тода.
Урузмаг привязал коня к плетню во дворе Тоды и
крикнул:
— Хозяева, гость пришел, выходите навстречу!
— Эй, кто там пришел, сам Нартов Урузмаг? —
послышался голос Тоды.
Урузмаг не ответил. Он стоял, обнимая голову коня,
и молчал, слезы мешали ему говорить. «Вот и все,
Белолобый, съел тебя старый волк Урузмаг, променял на
копейки. Ты прости меня, нельзя по-другому, я о тебе
печалюсь... У меня такое дело, Белолобый, мне со
всеми друзьями разлука предстоит. А что ты первый, с кем
расстаюсь, так это чтобы пристроить тебя. Остальные
и без моих забот обойдутся, а ты на моей совести... Вот
так, Белолобый, и прощай. Живи...»
Тода был в хорошем настроении, хотел затащить
Урузмага домой, но тот наотрез отказался — сын ждет,
завтра уезжает, надо поговорить. Передал ему из рук
в руки коня, ткнул пальцем в седло, уздечку — мол, все
тебе отдаю, смотри — и ушел, оставив Тоду в
недоумении. Серьезный и печальный вышел Урузмаг за ворота,
свернул с дороги и направился к одинокой груше, к
стволу которой часто привязывал Белолобого.
Урузмаг посидел здесь — он не мог сдержать слезы,
а в таком виде не хотелось показываться сыну. «Вот
и отвязался я от всех, отломился, что высохшая ветка от
дерева. Дети, сестра, друзья, конь, дом — со всеми
попрощался, всех устроил, пора уходить. И не могу,
утопаю, а все же за соломинку хватаюсь. И нет силы
пошутить, посмеяться над этой последней бедой, а надо бы,
да сил не стало. Слаб же ты, человек! Печальна же ты,
моя последняя песня, тебя в ночи и в лесу только петь,
вот здесь, под одинокой грушей...»
Урузмаг вытер слезы, встал и побрел домой, осве-
119
жив лицо из родника вблизи деревни. Сын зажег свет,
но, видимо, пошел к старшему брату поужинать или
поболтать. Урузмаг, чтобы сегодня не встречаться с ними,
с сыновьями, лег спать.
10
И остался Урузмаг один — младшего сына проводил,
коня отдал, всех родственников навестил, с долгами
рассчитался. В деревне привыкли к нему: вернулся,
здоров, наш опять, пусть занимается своими домашними
заботами, как все. И никто не донимал его расспросами
о болезни — зачем спрашивать, раз уже здоров? Ни
новых встреч, ни новых забот уже не было, и он не знал,
куда деть себя, как скоротать день. Побродит вокруг
деревни, посидит под одним деревом, перейдет в тень
другого, потом войдет в лес, осмотоит кусты голубики,
уродилась ли, но этим можно занять себя день-другой, а на
третий все уже знакомо и нет охоты ходить по лесу.
Вечерами ему было легче. Сын возвращался с
работы, Урузмаг шел к нему домой, играл там с внуками,
рассказывал им сказки, узнавал от сына новости. И так
каждый вечер, пока не наставало время сна и он не
отправлялся к себе на балкон. Тут он снова был один на
один со своей бедой и мучился, пока не засыпал,
утомившись вконец. Так он кружился, словно конь на
привязи, на узком пятачке своей деревни. Ночью ждал
рассвета, днем — вечерних сумерек.
Косовица была в разгаре, в деревне днем оставались
одни дети, изредка женщины, когда нельзя было
сгребать сено и складывать в копны. Косили сначала на
высоких склонах, Урузмагу подниматься туда было
трудно, не просить же у Тоды Белолобого. И Урузмагу
оставалось одно — бродить в одиночестве за околицей.
Правда, вскоре старики начали косить на лугак'
поближе к деревне, и Урузмаг навещал то одного, то
другого. Отведет душу в разговорах, пройдет с косой один-
два коротких прокоса, и забудется на время горе. Чаще
всего приходил он к Зуре, с ним чувствовал себя
спокойней и забывал свою беду как-то незаметно и надолгб.
Бесхитростный старик ничего не подозревал, наивно
верил объяснениям Урузмага. С Басилом Урузмаг
избегал встречаться, чтобы тот не разгадал его тайны.
120
Оставалось ровно две недели до исхода тех двух
месяцев, что ему отпустил профессор, когда Басил пришел
под вечер на небольшую прогалину в лесу, где косил
Зура, а Урузмаг помогал ему — то косу отбивал, то
подменял его на один прокос. Пришел Басил с доброй
вестью: вечером свадьба, прошу распоряжаться в
нашем доме, встретить гостей, все сделать по обычаю.
С этим Басил ушел — надо и других стариков
пригласить, молодые сами придут.
От Зуры и Урузмага на свадьбе зависело многое.
А раз так, то время бросать косы и уходить домой.
Надо умыться, переодеться, а может, и соснуть часок —
обмануть глаза, как сказал Зура.
Урузмаг умылся и лег, но уснуть не смог. Правда,
усталость прошла, и он встал, пора было одеваться и
идти на свадьбу — надо же самому проверить, нет. ли
каких упущений, раз торопил людей со свадьбой и
взялся быть главой всего застолья.
Он натянул на ноги свои новые сапоги — сын купил
их, офицерские, хказал, сапоги. Может, и офицерские,
кто знает, но старику сгодятся, не в кирзовых же идти
на свадьбу. Надел свой новый, неношеный бешмет из
сатина — ничего, сойдет за шелковый. Черкеска у него
была старая, но что делать? Нет, он знал, как обновить
старую черкеску. Обычно он носил ее без газырей, но на
свадьбу в таком виде нельзя. Газыри, слоновой кости
газыри — вот обновка! К газырям пришлось добавить
кинжал — черные ножны, рукоятка тоже из слоновой
кости. Но кинжал без папахи что конь без всадника.
И надел Урузмаг свою давнюю, но хорошего каракуля
черную папаху.
Засмеют меня молодые, подумал Урузмаг. Нет, не
посмеют, старику полагается в такой одежде быть на
свадьбе... Может, они тоже не прочь вот так одеваться
по праздникам, но стесняются. Нынче черкеска не в
моде, она, как узда, в строгости держит человека,
вразвалку ходить и сгибаться в три погибели не разрешит...
Пора идти, Басилу приятно будет, что сам к нему
явился, второй раз напоминать не пришлось. Гармонь
уже давно зовет всех на свадьбу, видно, гости
прибыли. ..
Вошел Урузмаг во двор Басила, и первое, что
увидел,— стадо легковых машин. Многовато гостей, из рода
121
невесты в наше время больше пяти не полагалось,
сказали бы, охотников на дармовщину развелось. А это
что, голого мальчика к машине привязали? Тьфу, да это
же кукла! Мол, детей пусть кучу народят... Что ж,
хорошо, дай-то бог! '
Началась свадьба. Урузмаг сидит во главе застолья,
и один тост сменяет другой. Третий тост за
молодоженов: привели к Урузмагу жениха и невесту в
сопровождении шафера. И тут он обласкал их дедовским
красноречием, старинными горскими пожеланиями: детей чтоб
как у клуши цыплят, жизнь — слаще меда, в любви да
в ладу; сыновья чтоб как туренки, дочки что голубицы;
в очаге пусть огонь не переводится, в доме —
благополучие! ..
И вот, когда казалось, что этим пожеланиям конца
не будет, Урузмаг чистым, высоким голосом завел
старинную величальную песню Уастырджи. Грянул хор
подголосков, и песне стало тесно в просторном доме
Басила. Она раздвинула стены и, могучая, прекрасная,
разлилась по всей округе. Сидевшие за столом один за
другим запевали песню, и она росла и шла волна за
волной, строго и торжественно.
Урузмаг подпевал с радостью и с особым старанием
тем молодым пёвЦам, которых он никогда раньше не
слушал. И на душе у него было так хорошо, словно эту
песню сложил он сам. «Нет,— думал он,— не забудется
эта дедовская песня! Враки все это, что у молодых
голова что решето,— все помнят! И добрые обычаи и ладные
песни не забудутся, нет! Разве люди откажутся когда от
добра и красоты, им же это нужно, самим нужно,
потому и не забудут, а не из-за того, что нас, стариков, надо
уважить!»
Песню подхватил один из гостей, ровесник жениха,
сидевший справа, с краю. Он был последний, кому
полагалось запевать эту песню, и Урузмаг прислушался: а
ну-ка, гость наш дорогой, как в вашем селе поют,
покажи! И гость запел высоко и раздольно, затмив своих
молодых соперников из деревни Урузмага. Старый
певец просиял. «Как хорошо поет!» Но потом задумался:
«Гость, видно, решил нас обскакать! Так не получится,
браток, чтобы нас в нашей же деревне на лопатки
положили, в нашем роду такого не бывало. Что скажет
старый Дзадже, когда услышит на том свете, что Урузмаг
122
дал нашему роду осрамиться? .. Стар я, но на песню
меня хватит... Я начал песню, я и завяжу узелком...»
Урузмаг решился: самую древнюю мелодию песни
Уастырджи — вот что надо спеть, она сложней, мало кто
ее знает, молодые, видно, не слышали, но старики
подпоют, получится. Смелей, старик!
Уо-ой, взгляни, благослови
Это племя молодых,
Добрый Уастырджи наших гор! —
запел Урузмаг. Он пел, он молился божеству, он
благословлял молодое поколение горцев. Ему думалось, что
это последнее, что он может сказать вот этим хорошим
поющим людям, молодым и красивым, взявшим на себя
тяжкий долг — быть в ответе за все, что было, есть и еще
будет в горах. И ему хотелось высказать в песне всю
свою душу, свою радость и свою беду, свою веру в этих
людей. Он пел и думал, он пел свою думу...
И песня, словно орел, сорвавшийся со скалы,
расправила крылья, набрала высоту и где-то в вышине парит,
потом широкими кругами плавно спускается, ныряет в
густую листву — утопает в ладном хоре подголосков и
завершается восхищенным возгласом гостя-соперника
«о-ой!».
Люди зашумели, захлопали, а Урузмаг опрокинул
рог — может, последний раз пью и пою! — и кинул его
младшим в конец стола. Кто-то ловко схватил рог на
лету — так положено, это испытание для молодых,— а
Зура, сидевший по правую руку от Урузмага, довольный
и помолодевший, шевелил губами: «Вот так мы,
старики, умеем!.. Пусть вовеки не отзвучит твой голос!..
Рано еще молодым побивать стариков!..»
Невесту и жениха увели в соседнюю комнату, где
они пировали со своими ровесниками. Теперь
началось — не было уже конца тостам, шуткам, веселью.
Было так шумно, что казалось, нет силы, способной
успокоить разошедшихся людей, но Урузмаг
поднимался тяжело, чтобы сказать очередной тост, и не успевал
он выпрямиться, как стихал этот шум, обычай вмиг
усмирял людей.
Урузмаг потерял счет тостам. Всех вспомнил добрым
словом, всех благословил, оставалось выпить за
изобилие в этом доме и на всей земле. Урузмаг уже собирал-
123
ся взяться за рог и поблагодарить хозяев, как вошли
к старшим несколько юношей, молодых гостей, и
девушка-гармонистка. Она растянула гармошку во весь
разворот правой руки и, пританцовывая, подошла к столу
стариков. Урузмаг подумал, что молодые гости хотят,
чтобы он благословил их еще раз, и приготовился было
сказать тост, но один из них опередил его:
— Простите нас, но мы, молодые, хотели бы, если
это не нарушит обычай, увидеть, как танцуют
старшие.... Басил сегодня счастливый человек, женил своего
единственного сына, и почему бы ему не станцевать? ..
Урузмаг подумал, что в самом деле этот день —
самый большой.праздник для Басила. Детей у него было
много, но все девочки, а он хотел иметь
сына-наследника и дождался его в тот год, когда уже не надеялся, что
придет время ласкать и бранить своего мальчика.
Почему бы ему не станцевать? ..
Заставили Басила выйти в круг, и, как ни упирался,
пришлось ему засеменить за гармонисткой. Сделав
несколько кругов, он остановился и громко сказал:
— Чего все пристали ко мне? Если танец стариков,
так дайте мне с Урузмагом подурачиться. Я покажу
ему, как друзей отдавать молодым на растерзание!-Мы
же с ним по пасхальным вечерам ряжеными ходили,
кривлялись да яйца клянчили. Пусть выйдет и
кривляется вместе со мной, незачем из меня, старика, шута
делать! — Басил хотел развеселить друга, а люди поняли
это как вызов и зашумели, захлопали в ладоши. Кто-то
затянул песню, под которую обычно танцуют ряженые,
и Урузмагу пришлось покориться. Он вышел, полы
черкески заткнул за пояс и вскинул руки, как крылья.
Поют вокруг, подбадривают шутками,
подковырками, а два старика танцуют, как в детстве,
передразнивают друг друга, подражают медведю и лисе, а потом
переходят на круговой танец.
— Аре, тох! — вскрикивают вокруг, и тогда старики
делают вид, что входят в раж, танцуют все быстрей и
быстрей. Наконец Урузмаг высоко вскинул руки и встал
на носках, Басил закружился вокруг, прикрывая лицо
рукавом — девичья стыдливость!.. Но, исподтишка гЛя-
нув на Урузмага, Басил заметил, что друг его устал,
побледнел. Тогда он кинулся к нему обниматься,
незаметно для других пощекотал его за ухом.
124
Урузмага опечалило это: зря ты ласкаешься к
старому Другу, считай, что его уже нет, мои два месяца на
исходе... Не хотелось мне лишать тебя этой радости,
вот и танцую... Для радости так мало у нас причин,
а для горя повод всегда находится, как же было отнять
у тебя эту долгожданную радость? ..
Посидели еще, спели песни, выпили за тех, кого не
вспомнили, а напоследок, как водилось исстари, за
доброе время и щедрость земли. И Урузмаг сказал: нам,
старикам, пора и честь знать, а молодые люди пусть
веселятся.
На другое утро свадьба продолжалась, но Урузмаг
оделся наспех и ушел бродить в лес. Долго ходил по
чащобе, потом вышел на опушку и, увидев пасущегося
Белолобого, обрадовался.
— Здравствуй, Белолобый! Как твре новое житье, не
обижает тебя наш маршал? — Урузмаг похлопал коня
по шее.— Видно, что нет, ухожен, сыт, только вот,
может, воды захотел? Пойдем-ка к роднику Дзацци, дам
тебе еще раз людской воды испить...
Урузмаг отвязал Белолобого и повел к роднику.
Напоил и вернул его на старое место. Он хотел было уйти,
но окликнул его Тода, выглянувший из кустов
орешника.
— Что за абрек там? С конокрадом у меня разговор
короткий!
— Здравствуй, маршал! — приветствовал Урузмаг.
Тода тяжело дышал, он тащил за собой только что
срубленный шест для копны и запыхался.
— Эх, Урузмаг, темный ты человек, плохо воинское
дело знаешь. Разве маршал с топором да шестом
ходит? — укоризненно смотрел на Урузмага Тода.— Будь
я маршал, ты бы давно подбежал ко мне, вытянулся бы,
как вот этот шест. Но ты знаешь, что я не маршал,
и даже подойти и поздороваться не хочешь,— Тода
опустился на землю там, где стоял,— а у меня культя
болит. Неудобно ходить по лесу на одной ноге,
деревяшка в корнях застревает, вытаскиваешь ее, как клин из
расщепа...
&есь этот день Тода и Урузмаг были вместе. Они
вытаскивали из лесу. срубленные Тодой тонкие стволы,
потом очищали их от веток, снимали кору, стесывали на
клин комлевый конец щеста, а на другом делали глубо-
125
кий надрез, чтобы к верхушке копны шляпу-дождеотвод
можно было привязать. Возились до темноты, обедали
тоже вместе, вкусно накормила их жена Тоды. Она
пригласила Урузмагэ.и на ужин, но он отказался.
Возвращались втроем, с Белолобым. Урузмаг на
развилке потрепал Белолобого за челку, а Тоде сказал:
— Знаешь, сын Илыка, я забыл тебя предупредить:
конь у меня сахар любит. Ну, кусочка два в день. Это
недорого обходится, купишь кило, и хватит на целый
месяц, а ты пенсию получаешь, да побольше меня. Не
обижай его, побалуй иногда,— попросил Урузмаг.
— Эх, Белолобый,— сказал Тода,— зря ты, друг,
жаловаться пошел к прежнему хозяину!.. Вот куплю
сахару, и не два кусочка, три буду давать. Даю
маршальское слово, все будет сделано! — козырнул Тода и
повел Белолобого за собой.
Урузмаг шел «к себе домой, не хотелось идти к сыну,
не хотелось даже с внуками играть. Не зажигая света,
скинул верхнюю одежду, подошел к своей кровати и лег
на спину, подложив ладони под голову, как любил
лежать под Пастушьей чинарой в далекие годы.
11
Осталась одна неделя, последняя неделя его срока.
Появляться на людях с таким осунувшимся лицом,
какое он видел в осколочке зеркала на подоконнике у
старшего сына, Урузмаг не считал себя вправе —
стыдно, зачем людей пугать? .. Надоело слоняться по округе
без цели, а дома сидеть было тоже невмоготу. Он искал
чем бы заняться и случайно набрел недалеко от деревни
на сухое кленовое бревно, брошенное кем-то. Теперь
Урузмаг знал, что делать. Давно, еще в доколхозное
время, когда он был молод и силен, детей было много,
а земли мало, нужда заставила его* в зимние досужие
дни вырезать из кленовых плашек столовые миски,
пивные чашки, подносы, ложки — всю нехитрую
крестьянскую утварь. Он менял свои изделия на зерно в
равнинных селах, богатых хлебом. И немало перепадало евф
кукурузы, ячменя, фасоли, в которых так нуждались
горцы в зимнее время, в долгом снежном плену.
Увидев кленовое бревно, Урузмаг вспомнил свое дав-
126
нее ремесло и обрадовался, что нашел себе занятие.
В молодые годы ом запросто мог взвалить такое бревно
на плечи и принести к себе во двор, но теперь это было
ему не под силу, и он думал: может, распилить его
здесь на поленья и по одному отнести их домой? ..
Не пришлось ему тащить сюда пилу и звать кого-то
на помощь. Зура вечером встретился ему с арбой,
запряженной волами. Жена вздумала завтра араку гнать,
а дров осталось маловато, вот и поехал за валежником,
объяснил он. Урузмаг отправился с ним, помог, а
дорогой прихватил и свое бревно. Зура удивился: «Зачем это
тебе, во дворе же полно поленьев?» Урузмаг поднял
брови.
— Ты, брат мой Зура, от жизни отстал. Теперь
ученые люди в большом городе, где я в больнице лежал,
железную ложку в рот не берут. Вред от нее,
оказывается, для желудка. Это мы с тобой всю жизнь землю
пахали да косой махали, оттого у нас желудок, что у
курицы, железный, камни ешь, все в пользу идет. А
желудку ученого человека подавай кленовую ложку! А где
ее взять, в магазине не продают. Вот я и решил своему
доктору осенью подарок сделать — целый хурджин
ложек привезти. Понял, для чего мне бревно?
Зура сделал вид, что понял, хотя не очень ему
поверил. Привезли бревно, Зура помог распилить его на
короткие полешки, и Урузмаг стал раскалывать их на
плашки для ложек.
— Тут, брат мой Зура, сто ложек лежит, только
вынуть их из бревна осталось.
— Дай-то бог! — сказал Зура, поверив, что Урузмаг
вспомнил свое ремесло и будет ложки вырезать. Умение
Урузмага ему было известно, только к чему он вдруг
взялся за старое, этого Зура так и не понял, но не
решился докучать расспросами, пошел домой.
Урузмаг занял свои руки, но не свою душу. Она по-
прежнему томилась в ожидании. Но, как ни
прислушивался Урузмаг к своей собачьей болезни, молчал пес, не
трогал его, и невольно возникала надежда: профессор
мог ошибиться, ведь говорили же ему, что бывают
случаи, правда, редко, но бывают, болезнь проходит сама
по себе, особенно после лечения... Надежда была
крохотная, но все же и она поддерживала Урузмага. Эта
надежда чуть не перешла в уверенность, когда к двум
127
месяцам прибавилась еще неделя, а Урузмаг чувствовал
себя по-прежнему сносно, никаких особых болей, только
тоска не покидает. Урузмаг вроде повеселел. Сын по
вечерам стал приходить пораньше и разговаривал с
отцом без прежнего смущения,— видно, и он цеплялся за
ту же надежду.
Свои ложки Урузмаг раздавал деревенским
ребятишкам — пусть хоть это останется у них на память.
Осталась одна, он весь день возился с ней, и было уже
поздно, дети уснули, отдать некому. Он бросил ее на
стул рядом со своей кроватью — по утрам, когда не
хотелось вставать, он, лежа в постели, брался за свои
ложки. Но в эту ночь надежда его растаяла, как
облачко на заре.
После вторых петухов, когда до рассвета оставалось
часа два, Урузмаг проснулся от собственного стона, вся
брюшина была одна сплошная боль.
Нашла меня все же эта собака, этот кровавый пес,
и во сне такой не приснится... Правда, была такая сука
у отца Басила, злющая, всю жизнь, сколько помню, на
цепи была под балконом. Бросят ей кость, так у нее
глаза кровью наливаются, рычит, а морду сморщит так,
что глядеть страшно. А у меня пес еще пострашней! ..
Профессор, видно, напугал его, вот и молчал до тех пор,
а теперь вгрызается изо всех сил. И насколько же меня
хватит? .. Ладно, видно будет. Если к утру не уймется,
надо будет сыну сказать, пусть готовится, люди придут
на похороны. А пока пусть пойдет к нашему доктору,
может, у него лекарство какое есть, боль унять, чтобы я
не кричал, не визжал, как поросенок под ножом. Люди
проведать придут, а я визжать буду, стыдно...
И мучился Урузмаг, стонал, скрипел зубами, но
подавить свою боль не мог. Только на рассвете отступила
боль, и он впал в зыбкую дремоту. И вдруг слышит,
будто кто-то зовет его. Очнулся и. видит, солнце»* уже
взошло, хорошее утро, но кто же звал? Было тихо
вокруг, и ему показалось, что голос приснился, но тут
опять послышался зов:
— Эй, хозяин, выгляни, сжалься над гостями,-или
нет тебя дома?
И тут Урузмаг узнал голос Басила. «В такую рань
какая забота привела его к моему порогу? Хотя уже
солнце пригрело, какая там рань. Может, слышал, как я
128
стонал, проведать пришел? .. Вот беда, встать нет сил,
как же быть? .. Еще хорошо, боль улеглась, хоть
говорить могу по-людски...»
— Сам войди, если ты хороший гость, дверь не
заперта.
— День добрый, хозяин, что это с тобой, ведь ты
всегда говорил: кто рано встает, добро находит...— в
комнату вошел Басил, а следом за ним коренастый
молодой человек.
— С добрым утром! Только нехорошо получилось,
вчера засиделся у сына и вот... Ты свой, не осудишь, но
перед гостем неудобно... Вы подождите меня там, во
дворе, я сейчас встану,— не подал виду Урузмаг, что
ему трудно встать. «Встану, если даже мой смертный
час пришел...»
Он заставил себя встать, одеться и вдруг заметил,
что на стуле лежит ложка, вырезанная им вчера. «А
что, если подарить гостю? Угостить нечем, так хоть
ложкой да шуткой привечу. Видно, городской человек, но
зачем ко мне пожаловал? .. Ну ладно, посмотрим,
послушаем. ..»
Басил с гостем сидели на скамейке и о чем-то мирно
беседовали. Урузмаг медленно спустился во двор,
поздоровался с гостем, подал ему руку и спросил у своего
Друга:
— Басил, как зовут этого хорошего человека, чей он
будет?
— Из города приехал вчера вечером. Сказки
записывает. Кто-то указал ему на меня, а какой я
сказочник? Ночевал у нас, и я привел его к тебе, ты же много
сказок, помню, рассказывал, когда в пастухах ходили...
Родом из Дзадзоевых, зовут Инал.
— Спасибо ему, что стариков вспомнил, проведал,
но какие сказки у меня, все забыл с этой болезнью. Вот
вылечусь, добрый ты мой гость, тогда приходи и сказок
хоть целую книгу пиши. А сейчас, по правде сказать,
душа не на месте, скоро мне к профессору ехать, в
больницу, может, резать будет. Так голова только этим
занята, ничего на память не приходит,— откровенно
пожаловался Урузмаг.
— Одну хоть сказку расскажи, в такую даль
человек ехал,— упрашивал Басил.
-- Нет, я не смогу сейчас, но в селе Большая Башня
123
есть хороший сказочник, Кудза его зовут, он моложе
меня, здоровый, слава богу, рассказывает так, что
заслушаешься. А меня гость пусть не осудит, мне трудно
рассказывать. Вот разве самую маленькую сказку, от
Басилова отца Мате слышал. Он любил ее при случае
как пословицу приводить...
Как-то ночью вор пошел в соседнее село яловую
корову украсть. Да не повезло ему, дорогой встретил
такого же, как. он сам, ночного бродягу, и оказалось, что
собрались они навестить одну и ту же семью. И тут
второй вор открылся: я, говорит, Смерть и пришла по
душу самого младшего в семье, мальчика в колыбели.
Заставлю его трижды чихнуть, и если никто ему не
скажет «Будь здоров!», то выну душу, и прощай. Если кто
ответит на ребячий чих, мальчик останется жить!
Пришли оба вора к тому дому, и коровий вор вошел
в хлев, накинул на рога корове веревку и вывел ее во
двор. И тут слышит, мальчик чихнул раз, чихнул два, но
никто не отзывается — ночь, люди спят...
Жалко стало вору этого мальчишку, и, когда дитя
чихнуло в третий раз, вор громко благословил: «Будь
здоров, малыш!» Разозлилась Смерть и заголосила на
всю деревню: «Люди добрые! Проснитесь, корову
увели!»
На крик повскакивали люди, все село всполошилось,
и схватили коровьего вора с поличным. Так избили,
хуже не бывает. Потом начали друг друга расспрашивать:
кто же кричал, кто первый узнал, что из хлева корову
увели? И никто, оказалось, не кричал...
Тут вор и рассказал им, как это все получилось.
Люди кинулись к мальчику — жив, здоров! И тогда
попросили прощения у коровьего вора за тумаки, угостили его
на славу, яловую корову отдали да еще коня подарили
на радостях...
Это, видно, к тому предки рассказывали, что на
свете ничего дороже жизни нет. И если можешь спасти
жизнь человеку, спасай, не оглядывайся... В старое
время осетин позора боялся больше смерти. Но вор
принял этот позор, принял побои, самой Смерти не
испугался, а малышу жизнь спас... Так-то, гость мой,
человеческая жизнь — ей цены нет, да мы поздно об этом
узнаем...
И на этот раз прости меня, не могу долго рассказы-
130
вать, но если мой профессор, как тот вор, прогонит мою
смерть, то приходи, я твой должник...
Басил и гость поблагодарили Урузмага и собрались
уходить, но тут хозяин спохватился:
— Гость дорогой, из этого дома не принято
отпускать людей без угощения, но... Один я остался, а
мужчина без хозяйки как дом без крыши, пословица
такая есть. Вот и прости, но, если не побрезгуешь,
возьми эту ложку на память о старике. Сам делал и вижу,
понравилась тебе, пока я рассказывал, ты то записывал,
то на ложку поглядывал,— улыбнулся Урузмаг и подал
ложку гостю.
Они ушли, и Урузмаг вернулся к своей постели. Лег
и ждал, когда пес опять примется за него. Но пес
молчал, и Урузмаг решил прибрать в доме, люди ведь будут
приходить. Инструменты надо спрятать, чтоб не
растащили соседские дети. Может, кому пригодятся. И
сложил он все свои рабочие вещи, как он их называл, в
один ящик из-под спичечных коробков, когда-то у
продавца в магазине выпросил. Сверху положил свои
ножи— ложечные ножи. Он любил возиться с древесиной,
а в этом деле острый нож, послушный руке, первое
дело. И сейчас на прощание он ласково водил ими по
своей шершавой ладони, а потом укладывал... «Скажу
сыну, пусть к себе их перенесет. А косы, грабли, топоры,
колуны пусть лежат, их никто не возьмет. Не забыть бы
только снохе сказать, постель надо сменить, люди
придут, у людей зоркий глаз, все примечает, о ней судачить
будут, нехорошо получится...»
"* Весь день ждал Урузмаг, но приступ не повторился.
Ныло все внутри, но такое он мог терпеть, с такой
болью, он считал, жить можно. Урузмаг после полудня
пошел в дом сына, сказал снохе про постель. За ужином
выпил чашку молода, но хлеба есть не стал. И вернулся
к'своей постели в надежде, что, может быть, в эту ночь
не будет мучений прошлой ночи.
Спать ему не хотелось. Он лежал и ждал. Боль не
усиливалась, и Урузмаг думал. Думал о себе и о своих
детях, о том, как придется ему жить в самые последние
дйи... Чистое темно-синее небо было утыкано звездами.
Светила полная луна, как и в ту первую ночь, когда он
вернулся из больницы.
Что ж.,, Мне здесь, кажется, нет уже дела. Свой
131
долг выполнил и перед детьми и перед матерью. Детей
устроил, живут себе, своих детей имеют, я им к чему? ..
Дочери, пока сам их не навестил, даже не справлялись,
жив ли еще старый отец... Теперь, видно, прибегут: как
же, отец умирает, срам перед людьми, если не поспеют
прибыть вовремя... Поплачут, покудахчут на похоронах
и успокоятся: к чему мертвого отца долго помнить,
когда им и живой не нужен... И могилу мою позабудут.
Да мне это и ни к чему... Прах и есть прах, горсть
земли...
Кажется, на людей злиться стал... Хиуа, что ли, во
мне заговорил? А может, и он не со зла — от обиды? ..
Какая обида? Пусть живут, я свое пожил, мое солнце
на закате, вот-вот закатится за гору, и все...
И все? Что же говорят люди о каком-то «фарне
души»? Враки все это! Люди придумали, надо же им себе
цену набить, мол, мы чего-то да стоим, у нас фарн,
благодать души!.. Это чтобы не стыдно им было жить на
земле.
Нет, видно, я тоже немного Хиуа, вот и обидно мне:
как же так, люди, я же вашего рода, любил, как и вы,
эту жизнь, старался по-людски жить, добро делать,
землю ради этого ковырял. И думал, вы меня тоже
любите, а вот пришла моя смерть, с кровью меня отрывает
от жизни, а вы ничем не хотите помочь, чтобы остался
еще хоть немного среди вас... Видно, всем вот так
обидно в смертный час, сколько бы ни прожил человек,
все жить охота... Нет, так нельзя, человек в обиде
плохо, нехорошо думает... Нет, видно, все же есть фарн.
Только, может быть, одному этого фарна и на себя не
хватает, а другой всем людям щедро на ладони
подносит его, а все, глядишь, остается с фарном и в жизни
и в смерти Но живут оба, и никто не отказывается от
своей доли жизни... И до чего же дорога каждому его
жизнь, если даже в пословице говорится: боже, сунь
меня хоть в ухо осла, но дай мне 'видеть землю и
небо!.. Вот и я знаю, что пришла моя смерть и нет
толку упираться, а все жить хочу и мучаюсь, что
умирать приходится.
Нет, жить — это так хорошо, и нет в мире ничего
лучшего, когда у человека фарн души есть, но где его
взять? .. Мы ведь как живем? Вроде ты комок земли,
из которого человека сделали, как из теста под Новый
132
год делают для малышей игрушечных человечков... Вот
и снова в горстку земли превращаемся. А фарн души,
видно, в сердце хранится, и он вроде семян в горсти
сеятеля. Посеешь, так, может, что и путное взойдет, и
земле в украшение, и небесам в радость. И после смерти
твоей, может, что останется. Но нам не до этого, ни
времени, ни сил нет. Мы все в землю смотрим. Упремся
в землю глазами и так живем, а смерть придет,
повернет тебя брюхом к небесам, как мертвая форель
всплывает, вот тогда и видим небеса. ..Аз такой жизни какой
может быть фарн? ...
Проклятый пес! Сосет и сосет, как сонный поросенок
матку, и сосок изо рта не выпускает... Хорошо еще, что
не грызет, как прошлой ночью...
Мы на земле рождаемся, землей кормимся, оттого,
видно, она нам дороже небес, но не будь вот этого
синего неба, как бы мы жили? .. Что, если палит солнце, но
нет ни облачка, ни капельки дождя? Земля ссохлась
и потрескалась, трава повыгорела, реки высохли,
деревья голые как скелеты. Люди, скот, звери плачут,
ревут, слезы слизывают на глазах друг у друга — хоть
этим утолить жажду... Нет, не дай бог!..
Урузмаг зубами прикусил собственный стон. Лицо
покрылось крупными каплями пота, словно волдырями
от ожога.
— Не дай бог!..— простонал он. Хотел стереть пот,
но рука не могла дотянуться до лица. Пытался
взглянуть на небо, но веки отяжелели так, что едва смог их
приоткрыть. И все же ласковый лунный свет пробился
сквозь эту щелочку в сознание Урузмага. Но свет
тотчас потух, невыносимая боль навалилась на него. Он
слышал еще свой приглушенный стон, и в голове
мелькнула мысль: надо было сказать сыну, умру здесь в
одиночестве, и злые люди ославят его. Кто поверит, что я
скрыл свою болезнь, скажут, бросил больного старика.,
он й' подох в одиночестве, глаз некому было закрыть...
Урузмаг не помнил, как прошла ночь, как рассвело,
но наконец глаза сами открылись, увидели дневной свет,
и он понял, что боль еще раз отступила, дала ему
увидеть солнечный свет и фанерные листы потолка над
головой. Прошло еще какое-то время, и ему стало легче.
Попробовал повернуться на левый бок, но не смог.
Тогда решил заговорить, не отнялся же язык, подумал он
133
и услышал чужой голос, тихий и писклявый, откуда-то
издалека. И все же слова выговаривались ясно. Это
обрадовало Урузмага: сумеет сказать сыну последнее
наставление. Должно быть, придет он сегодня или
заглянет перед уходом на работу...
Урузмаг не успел досказать свою мысль, как дверь
на балкон открылась и в проеме выросла крупная
фигура Басила.
— Эй, Нартов старый Урузмаг, не думаешь ли ты,
что зря меня, ласкового ягненка, кормил хлебом с руки,
что оставил тебя одного в трудную минуту? ..
Урузмаг молчал, выигрывал время, чтобы собраться
с силами, а сам думал: «Какой из меня нарт, я уже
утонул, только нос торчит из воды...»
— Заходи,— сказал наконец Урузмаг.— Только
подумал, пришел бы кто проведать, а ты тут как тут...
Спасибо...
Урузмаг говорил таким жалким, не своим голосом,
лицо так осунулось за одни сутки, что Басил испуганно
смотрел на друга и не мог сообразить, что же с ним
такое приключилось... Урузмаг понял, что творилось с
Басилом, и сказал спокойно и мягко:
— Не пугайся ты, человече, сядь рядом, возьми стул,
и я расскажу тебе про свою беду, видно, уже не
скроешь. ..
Басил присел нехотя. Глаза Урузмага, когда-то
медового цвета, сузились и потемнели, жалобно глядели
откуда-то издалека. И Басилу стало не по себе, он
думал с упавшим сердцем: «Боже, а мы-то считали, что
выздоровел. Он же умирать вернулся, как же я, глупец,
не заметил, не понял!..» Басил совсем растерялся,
молчал и беспомощно глядел на друга. Урузмаг
пожалел его:
— Басил, ты не пугайся. Вылечить меня было
нельзя. Это профессор придумал— пожалел меня. Он
сказал моему сыну, что я буду жить еще два месяца,
совсем как здоровый, а потом уйду. И прошли мои два
месяца, вот и лишние дни к ним прибавились. Может,
протяну еще несколько дней, но все равно до могилы
рукой подать. А ты держись и похорони меня по обычаю,
там, на старом кладбище, рядом с женой... Басил, мне
трудно говорить, ты позови сына, скажу ему при тебе,
что и как сделать. Боюсь, как бы не впал в беспамятст-
134
во, тогда и сказать ничего не смогу... Иди и не горюй,
ничем ты мне уже не поможешь, это уже все, конец, ты
лучше держись, возьми себя в руки... Иди...
Басил выскочил за дверь и зарыдал беззвучно,
трясясь всем своим крупным телом. Он свернул с дороги,
вошел в лес, чтобы хоть немного успокоиться.
Покружился вокруг деревни, словно искал не вернувшихся с
вечера телят. Выплакав свои первые слезы, он пошел
к сыну Урузмага и привел его к отцу. Сын давно знал
о своей беде и не заплакал, не запричитал, молча пошел
к отцу.
Урузмаг рад был, что Басил вернулся с его сыном,
так ему было удобней открыться.
— Сынок, ты все знаешь. Теперь уже не время
играть в прятки. Сбылись слова доктора, готовься...
Людей будет много, и нельзя осрамиться. У меня ничего
нет, ты знаешь... Две коровы, одну отдай младшему,
может, вернется, пригодится ему. И этот дом отдай ему.
У тебя есть свой дом, а он будет один, нельзя оставить
его без крыши над головой... Инструменты вот
прибрал, возьми их к себе, чтобы не растащили, моим
друзьям раздашь, может, вспомнят когда... Тоде
скажи, пусть посвятит мне моего коня и не обижается, что
об этом прошу... Сестрам своим дай знать, а то
обидятся: отец умирал, а мы ничего не знали!.. Младшему не
надо телеграмму давать, пусть учится себе спокойно.
Мы повидались, и этого достаточно... Похорони меня
рядом с твоей матерью... И все... Да, там в шкафу
моя книжка пенсионная, возьми ее, может, пригодится...
И не надо шум поднимать — умру, так узнают, а пока
жив, не надо людей тревожить. Только сестре моей
скажите, пускай придет, посидит со мной, пока жив... Вот
и все, Басил... Идите, займитесь своими делами, только
сестру предупредите теперь же. Идите...
Сын ушел. Басил посидел еще — хоть чем-то утешить
друга, но так ничего и не пришло в голову, сидел молча,
закрыв лицо своими большими ладонями. Урузмагу
хотелось успокоить друга хоть шуткой, но боль сминала
его, даже открыть глаза было больно, и все же он
проговорил:
— Брось ты, Басил, плакать при мне, я еще
живой. .. Ты лучше хабары новые расскажи, нет, так
песню спой. Тихо, чтобы только мы с тобой слышали...
135
Басил не ответил, а Урузмаг лежал с закрытыми
глазами и думал. «Что же он делает, не плачет ли в
самом деле? .. Это хорошо, что Зуры здесь нет, он бы
давно рыдал во весь голос... Может, самому спеть,
пристыдить этого плаксу.... Не до песни мне, конечно, но
неужели зтому проклятому псу так просто должен
покориться, даже голос отдать? .. Нет же!..»
Постели мне бурку, мать,
Бурку черную скорей —
Смертный час меня настиг...
И не плачь по сыну, мать,
Мне не стыдно умирать —
За себя я отомстил... —
запел-заговорил каким-то вроде застуженным, слабым
голосом Урузмаг. Басил молчал, слезы текли по щекам,
и его хватало лишь на то, чтобы не зарыдать. А
Урузмаг слышал свой голос, но не узназал его и думал, что
в самом деле пришел его смертный час, что тот, о ком
поется в песне, и вправду был храбрый человек: перебил
своих врагов и, смертельно раненный, пришел к матери,
гордый тем, что хоть на час пережил своих недругов...
А он простой горец, пахал землю, пас скотину, никаких
подвигов не совершал, и песню о нем никто не споет, и
в смертный час позвать некого... Да и отзовись мать,
что бы ей мог сказать? Что состарился и умирает от
собачьей болезни? ..
— Басил, будь другом, иди и скажи нашему
доктору, пусть придет и вырежет у меня эту собачью
болезнь. .. Знаю, это не спасет, но стыдно к нашим
покойникам с такой болезнью явиться... Лучше пусть
вырежет ее и набьет мне брюхо соломой, как коню нарта
Сослана... Иди, не бойся, не пожелает, так оставь его
в покое...— Урузмаг говорил как бы в шутку, а на
самом деле думал, что, может, операция все же поможет
ему выкарабкаться, хотя... Нет, не возьмутся они резать
полумертвого старика, но хоть лекарство дадут боль
смягчить.— Иди, не сиди так, не бойся за меня, пришли
пока Тоду, он посидит со мной. Солдат он все же,
маршал, не такой трус, как ты... Только Зуре не говори ни
слова, реву не оберешься... Иди.
Басил ушел... Сменил его Хода. К полудню пришла
сестра, явился и доктор, помочь ничем не мог, хотя не
скупился на лекарства и утешения. К вечеру собралось
136
много народу, прибежал и Зура, но, увидев умирающего
Урузмага, зарыдал и тут же выбежал во двор.
Три дня еще мучился Урузмаг, изредка открывал
глаза, узнавал людей и произносил несколько
невнятных слов. На четвертый день собрались и дочери.
Урузмаг открыл глаза, узнал их, но ничего не сказал, только
подумал: «Раз и они сдвинулись с места, значит, плохо
мое дело, пора уходить... А заголосят, закудахчут —
знай, что тебя уже нет...»
В тот день до полуночи Урузмаг еще узнавал людей,
порой чуть приоткрывал глаза. Но после ему стало
хуже, и он понял, что уходит, что осталось недолго
мучиться. Так тянулось до рассвета, когда ему в последний
раз удалось чуть-чуть приоткрыть веки и почувствовать
солнечный свет. И в последний миг ему померещилось,
будто сверкнула молния, ослепила его, ударил гром и
стала валиться на него Пастушья чинара. Падает
огромное черное дерево, а он, пастушок, лежит на траве
навзничь, ничего уже не видит в темноте, но не может
вскочить и убежать. И тогда Урузмаг закричал в
ужасе: «Где вы, люди! Света-а!..»
Урузмаг кричал изо всех сил, но сидевшие рядом
друзья ничего не слышали. Им показалось только, что
больной о чем-то шепчет, склонились над ним, и одна из
дочерей Урузмага вскрикнула:
— Черный день мой настал!..
Это было последнее, что слышал Урузмаг, и где-то
на краю сознания сверкнуло: «Закудахтали...».
И погасла еле мерцавшая звездочка памяти.
Урузмаг ушел.
12
Ушел Урузмаг... Но мне кажется, что он живет и
поныне. И я встречу его в горах Ирыстона, когда пойду
летом бродить по горным деревням, и буду с ним вместе
на зеленых склонах махать косой, сидеть за скудной
трапезой и петь старинные осетинские песни.
Ушел Урузмаг, но мне кажется, он будет всегда.
Я знаю, будет всегда. Знаю, он был до нас и будет
после нас. Помню его с тех изначальных времен, когда
впервые из хаоса неясных и зыбких видений мои зрачки
137
выхватили и запомнили одно материнское лицо,
человеческое лицо. Я помню, когда, связанный по рукам и
ногам, спеленатый в горской колыбели о двух полудужьях,
я просыпался по ночам-и не мог даже повернуть головы
и начинал плакать от обиды, он развязывал пеленки,
брал меня на руки и баюкал, пел мне песню о жучке-
хромоножке, и я засыпал, благодарный ему за
освобождение и песню.
Весной он брал меня с собой на пахоту и склонялся
над плугом, ступая босыми ногами по влажной,
дышащей земле, а я отыскивал в борозде сладкие, вкусные
коренья кервеля. Летом косари встают затемно, и он
щадил мой детский сон, не будил, но я приносил ему
завтрак, и. для меня было счастьем, если он разрешал
взять в руки его большую тяжелую косу и раз-другой
пощекотать, как он говорил, траву. Осенью на току он
учил меня ловко держаться на молотильной доске и
погонять быков по кругу. А когда кончалась осенняя
страда, Праздник вил оставался позади и наступала Неделя
Уастырджи, неделя свадеб в горах, я слышал, как он
поет, его чистый, высокий, добрый голос и поныне
звенит в моем сердце. Зимой для нас, деревенских
мальчишек, самой большой радостью были его сказки. Страх
за жизнь человека, отчаянно дравшегося с кривдой,
теснил наши сердца, но вдруг свет разливался в мире
сказки— добро победило, зло захлебнулось в собственном
яде. Нет уже слез, нет страха, есть радость и мольба:
еще сказку, хоть одну!..
Я знал его с детских дней, но не знаю, чей он брат,
отец, дед. Твой, мой или не родившегося еще горца? Мы,
мальчишки из горской деревни, считали, что он
принадлежит всем и никто особых прав на него не имеет. И он
говорил, что так справедливо: человек своим добром
обязан поделиться со всеми людьми (мы, деревенские
мальчишки, тоже были люди!), поделить все поровну —
хлеб и сказку, песню и горсть черники. И мы знали, что
это справедливо. И мы любили его, но он все же
ушел...
Я верю, знаю, что он есть и будет, но в моем сердце
кружится и вьюжит метельная тоска, тоска, которую не
мог побороть Урузмаг ни силой воли, ни силой ума;
тоска уходящих от нас по жизни. И я не знаю, чем
и как победить ее, чем утешить тоскующих...
138
Мне кажется, под каждой могильной плитой
схоронена эта тоска по жизни, по бессмертию. Многие
пытались ее победить, но даже мудрецы нашли только
утешение. Я прислушиваюсь к их голосам, но и в их
мудрости только утешение. А этим тоску не одолеешь.
И остается человеку одно — мужество жить без
утешения, жить до самого смертного часа. И, что бы ни
случилось, жить по-людски.
1974
ОБИДА СТАРОГО
ОХОТНИКА
1
Иман, что и говорить, уже
старик. Семидесятый
перевал перешел, в семье он
самый старший. Отец, мать,
братья и сестры —все уже
ушли в страну вечной
жизни, а его собственные дети
улетели из отцовского
гнезда и не вернулись. Вот и
остался Иман один-одинешенек у отцовского очага.
Он родился здесь и не желает никуда уходить, свой
смертный час он должен встретить на этой земле, чтобы
похоронили близ отца и матери, рядом с могилой
жены,— мир праху ее! — старушки Базиан. Если вспомнят
дети — найдут его могилу, нетрудно разыскать. Хотя к
чему живым мертвых вспоминать? .. Все, что мог, он
сделал для них при жизни, а мертвый живым не
подмога. Пусть живут себе на доброе здоровье, Иман не в
обиде на них и ничего от них не ждет. Свои последние
годы он подберет, будто полы бурки в дождь, и уйдет
своей дорогой...
Но когда еще это будет, кто знает? Так что и думать
об этом нет смысла. Жить надо. Огонь в очаге держать,
гость придет, так принять его по-людски. Жить, как
положено горцу, а не побираться и милости ждать от
родичей, своих детей или государства. Не согласен на
такое Иман — он еще жив, руки сами к работе просятся,
на глаза грех жаловаться, и, сла&а богу, за долгую
жизнь ни разу не болел. Старики, правда, что-то
переменились, страсть как любят пожаловаться на свои
болезни всякие — у кого в мочевом пузыре песку
пригоршни, у кого лишняя кровь объявилась, у другого сердце,
что у быка, раздулось!.. Стыда у людей не стало, будто
пожалуешься, так и болезни пройдут... Разве к лицу
старику такое? .. Будто, как помрет такой старик, весь
140
мир опечалится или горы в прах рассыплются... Не
старики, а сущие дети плаксивые...
Нет, Иман такого позора на свою старую голову не
примет... Что скрывать, в руках прежней силы нет.
Бывало, устанет слабожильный вол, не может вытянуть воз
на малый пригорок, так Иман и не думает злиться на
него. Упрется грудью в конец ярма и сам вытянет воз.
А теперь его сильные руки высохли, будто черенок
старой плетки стали. Возьмется поднять что-нибудь
тяжелое — дрожат, что ольховая ветка на ветру. И ноги стали
подводить. Бывало, на Щербатую гору без передыху
всходил, а теперь и на малую горку подняться тяжело,
сердце стучит, в ушах такой шум, ничего другого не слышит.
Но не будет же Иман жаловаться да слезой
обливаться. Живи, пока живешь, пока смерть по твою душу не
придет, и не хнычь. Жаловаться да пенять на судьбу —
какой толк? Состарился, так в этом никто не виноват.
Вот и терпи, не плачься на людях, не до твоей болячки
им, каждый сам по уши в заботах.
Иману жаловаться на судьбу не приходится. Все у
него было как у людей. Похвастаться, правда, нечем, но
и стыдиться не приходится. Жил, работал, детей
вырастил, своим горбом кусок хлеба зарабатывал. И не
заметил, как свой семидесятый перевал отмахал... На
одну жизнь и этих лет во как достаточно!. И жизнь
прожита не зря. Все в ней было, что человеку
положено. В семнадцать лет на германскую войну послали
вместо какого-то призывника побогаче. Всю войну был
рядовым, простым солдатом, но считали его храбрецом,
две медали и три «Георгия» получил. Вернулся с войны
И опять на войну, в партизаны ушел, но, видно, добрый
Уастырджи берег его. Во многих переплетах бывал, но
каждый раз все обходилось,— вот я, жив, здоров, рад
стараться, как солдату полагается! .. Пять раз
подкрадывалась к нему смерть, пять раз пуля стукалась своей
тупой головой в бок, в руку, в ногу солдату, но оторвет
кусочек мяса — и все. Рана заживала, как собачий
укус. Ни тиф, ни холера, ни голодные годы не сломили
солдата, все прошел и остался жить.
-Ни радостью, ни горем жизнь его не обошла.
В семье он был младший, вот и пришлось ему хоронить
всех близких — отца, мать, братьев, сестер. Один
остался. Этой весной похоронил и жену. Неожиданно слегла
141
старушка, будто ничего и не болело, а ушла через две
недели. Пока дохтуры судили да рядили, щупали да
спрашивали, где да как болит, ушла старушка.
Похоронил он ее рядом со своим отцом и матерью, один
остался.
Один-то не один, а все же без старушки одиноко
старику. Не зря сказано: не приведи бог в дальнем пути
коня потерять, на старости лет— жену. Дети, они своей
жизнью живут, не до стариков им. Дочери давно
замужем, далеко им за отцовским домом присматривать, а
сыновья... Старший сын, вся надежда отца, погиб на
войне, с тем же проклятым германцем воевал Кто
знает, где похоронен, бескрайни российские поля, не
оглядеть, не обойти... Может, и мать ушла с горя, никак
забыть его не могла, первенец все же... А младший что
же, не дурак, конечно, и не сукин сын, но не по сердцу
он Иману, хотя и своя кровь. Хотелось отцу, чтобы за
ум взялся, выучился и человеком стал, но не
послушался. . . В районе служит, в милиции. Я, говорит, офицер,
лейтенант старший!.. Какой там офицер и над кем он
старший? Бегает за всякими драчунами да за ворами.
Разукрасят пьяницы друг другу морды, а ты разнимай
их да в суд тащи. Офицерское это, что ли дело? .. Учил
уму-разуму, да не послушался... Что ж, пусть живет
как умеет. Там, в районе, он и женился, отца не
спросивши. Детей уже трое. Не до старого отца ему. Мать
была жиза, и то редко когда навещал. Забежит на час-
другой и, глядишь, назад уже смотрит, будто его блохи
кусают в отцовском доме...
Вот так и прошла жизнь. В трудах и заботах, как
овца в шерсти. Поднять голову и оглянуться времени не
было. Колхозом начали жить, опять то же самое,
впрягся в ярмо с первого же дня. И тянул бы по сей день, но
уже сил нет. Правда, оказали почет, пенсию дали
двадцать рублей. Старушке тоже, вот и жили безбедно.
Две коровы держали, картошку сажали на участке, а
муку на деньги покупали, на пенсионные рубли.
Хватало, недорого нынче мука стоит. Но старушки уже нет,
и как теперь жить, одному богу известно.
С весны, как жена умерла, дочери не оставляют.его
без призора, то одна забежит, то другая, приберут,
постирают, хлеба напекут, успокоят добрыми словами.
Но не могут же они свои семьи из-за старого отца оста-
142
вить? Летом им прибежать на день-два не так уж
хлопотно, а зимой как жить Иману? .. Не оставят его,
конечно, племянники, сыновья братьев, их жены, тут их
полдеревни, но доить его коров каждый день, возиться
с молоком, тесто месить — Кто это будет делать? Можно
попросить раз, два, а дальше как? Дочери пристают:
живи с нами. От сердца говорят, но того не понимают,
что стыдно старому человеку нахлебником у чужих
людей стать. Зять, он какой ни на есть хороший
родственник, не родной сын, другого роду.
А родной сын пока отмалчивается, не зовет к себе,
зсе ему некогда — служба! Не сообразит своим
офицерским умом, что старику и вовсе некогда, времени самая
малость осталась, помирать скоро... Звать он, что и
говорить, позовет, хотя бы совести ради, чтобы не мучила.
Но он знает, что никуда Иман не пойдет, не оставит
родной очаг.
Здесь всю жизнь промучился и доживу остаток дней.
Помру, так пусть рядом со старушкой похоронят... Он,
знаю, посмеется над стариком,— не все ли равно
мертвому, где его землицей прикроют? .. И думает, что
мудрее на свете мысли не было. А что проще может быть:
мертвому, спору нет, все равно, но я же пока живой,
и мне, живому, не все равно. Если жить не удавалось по
своему уму-разуму, так хоть похоронену быть, как
моему сердцу желанно...
Трудно будет одному, что скрывать, но уж лучше
у своего очага сидеть и руки греть у огня, чем в чужом
доме нахлебником быть. С голоду не помру, не оставят
родичи, соседи, невестки, а остальные заботы — не
впервой, справлюсь. Вот только одному как жить? Словом
перекинуться не с кем. Хоть бы мой офицер старшего
мальчика отдал мне, Тарасика. Вчера приехал ко мне —
навестить, и вижу, рад мальчик быть со мной, но кто его
отдаст мне, деревенскому старику? Там, в районе, у них
городская школа, и говорят, что ей наша деревенская не
чета. А как мне знать, чета или не чета, вроде учителей
в одних и тех же высших школах наставляют,
государство им деньги одинаковые платит, а с чего же школы
равные, кто знает...
Тарас мальчик хороший, десять лет, а умница, все
понимает... Отец и мать, дурни, такого мальчика
собачьим именем звали — Тарзан да Тарзан!.. Старуш-
143
ка-покойница их обругала и назвала его Тарасом, с тех
пор и прилипло к мальчику это имя, доброму человеку
к лицу. И теперь его все Тарасиком зовут. От бабушки
пошло, она его ласково «мой Тарасико» звала. Бедная,
души в нем не чаяла, каждый раз, когда Тарасик у нас
гостил, она вся светилась, что свечка из чистого воску,
будто к ней первенец с войны возвращался...
Не отдадут мне мальчика, зря о том мыслю... Мать
у него крутого нрава, отец ей перечить не станет, а я
и подавно, что могу сказать? Она — мать, за родное
дитя сердцем болеет, и каким словом ее уговоришь?
Видно, судьба: придется в одиночестве дожить свои
последние дни. Что ж, потерплю малость, не долго же. Нельзя,
чтобы при живом хозяине огонь в очаге погас, не
приведи бог радовать злых да поганых людей.,. «Нет, так
нельзя!» — сказал про себя старик по-русски, по старой
солдатской привычке.
А день выпал хороший, теплый, ясный летний день.
Надо бы с ружьем побродить да Тарасика взять с
собой, побаловать. Дома ему мать покоя не дает, на улицу
выпустит и тут же обратно, как жертвенного ягненка,
под навес гонит. Пусть хоть здесь на свободе побудет.
Иман с детских лет полюбил охоту. Нравилось ему
ходить по горам с дедовским ружьем, добудет
что-нибудь или с пустыми руками вернется — было все равно,
но каждое воскресенье с утренней рани до полуночи
пропадал в горах. А зимой почти каждый день ходил
в лес. Вставал до рассвета, набивал свои сыромятные
арчита — чувяки мягким и теплым мятликом —
травой — и уходил на охоту, бить волков, лисиц, зайцев.
Медведя убил только раз, но снял с него шкуру, и ему
показалось, что теплая еще туша походит на мертвого
человека. Ужаснулсй Иман такому своему «открытию»
и зарекся ходить на медведя: «Прямо человек, только
в медвежьей шкуре, и не зря, видно, бог создал его
таким...»
На старости лет Иман бросил свой охотничий
промысел. Зверье он любил, особенно жалел серн. Зимой,
когда в горах сильные снегопады, стужа невыносимая,
серны спускаются в ущелья — в лесу все же можно чем-то
поживиться, а на вершинах одни голые камни, и то под
толстым слоем снега. Правда, и в ущельях трудно
приходится им, снег глубок, не разгребешь маленькими ко-
144
пытцами на тонких, что сухая хворостинка, ножках.
Иман знал это и жалел безобидных и пугливых
животных. Знал он также зимние стоянки серн. И каждое
лето в конце косовицы он неизменно уходил в глубину
ущелья, скашивал несколько копен сена и оставлял их
там, для серн. Подтрунивали над ним односельчане, но
он не обращал внимания на зубоскальство соседей, все
равно выручал своих любимцев с горных высей.
Иман давний активист союза охотников, много раз
и премии получал, волков много перебил, но теперь
старый охотник вроде как на пенсию ушел, хотя и числился
в союзе. И все же поручили ему наблюдать за рекой
ущелья, беречь от браконьеров рыбу, форель. Травили
ее всякие проходимцы гашеной известью и хлором, вот
и пришлось Иману на старости лет беречь эту самую
рыбу, которую он не любил и не ел. В детстве он как-то
пошел с младшим братом ловить в осенней студеной
воде форель. Мальчик, видно, простудился, слег и
вскоре умер. С тех пор Иман невзлюбил эту рыбу, глядеть
на нее не мог, не то что есть. А приходилось за нее
заступаться, от бродяг, как он называл браконьеров,
охранять. А еще вменили ему в обязанность— это его
лесник просил, сосед Илико,— присматривать за
деревьями в священной роще Духа ущелья. Эта небольшая
роща из вековых карагачей была местом сборищ всех
жителей ущелья в языческий праздник Духа —
покровителя ущелья. Раньше никому в голову не пришло бы
хоть сучок один вынести из этой рощи — она была
священна. Но теперь в Оленьем ущелье в
Духа-покровителя давно уже никто не верит. Правда, в рощу еще
приходят на праздники, но пировать, веселиться, а не Духа
ублажать. Разжалован, что ли? .. Видел Иман, как с
одного пьяницы офицера погоны сняли — разжаловали.
Старшиной, мол, теперь будет, а это все равно что
солдат, хотя в солдатском строю он вроде утенка в
курином выводке. Но уже не офицер... Вот и к Духу
почтения никакого. А не страшен он, так и деревья в
священной роще рубить можно — так считают жадные да
ловкие домостроители в городе... Теперь все помешались
на этом, все стараются соседа переплюнуть, повыше его
дом построить. Вот и валят лес, где попадется, лишь бы
подешевле да получше была древесина. Добрались и до
" II. Джусойтм
145
священной рощи Духа ущелья. Не зря, видно, сказано
в пословице: человек строит дом, так его и змея остерега*
ется, а то возьмет да вместо бечевки к делу
приспособит, и высохнешь на солнце, привязанная. Мало ли что
ты змея,— будь бечевкой!
Таковы и наши домостроители, ничего им не жалко.
Увидят где стройный карагач или дуб, срубят начисто,
под самый корень. Днем несподручно, так ночью. Увозят
на машине в город, там пилят и делают себе шкафы,
потолки, столы разные. Наплевать им на Духа ущелья,
на священную рощу, что они им, когда у них ничего
святого нет...
Иман любит эту рощу, единственная она на все
ущелье, нигде такой красоты нет. Войдешь в рощу,
будто в божий дом входишь — чисто, свежо, дышится
легко, на сердце — покой и прощенье, всякие мелкие обиды
и нехорошие думы забываешь. Зачем такую красоту
изводить? Предки темные были люди, но берегли. А мы
что? Все должны срубить, сжечь, съесть? Не чужое же
это добро, наше. Зачем зря переводить его? Не может
этого понять Иман, не признает он домостроителей и
близко их к роще не подпускает. Но как уследить
старому человеку за всеми? Одни рубят деревья, другие рыбу
травят. Лови руками, крючком, если приспичило, но
зачем известью реку портить? Там же от извести ничего
живого не остается, и рыба уходит насовсем, кормиться
ей нечем.
Старается Иман защитить свой лес и свою реку от
бродяг, но не удается за всеми уследить. Иногда его
ругают: тебе-то зачем этот лес, старый хрыч, помирать
пора, лучше о смерти подумай, помрешь, так все равно
нам достанется! Нет, врешь, сукин сын, не выйдет по-
твоему. Пока я жив, это все мое и не дам растащить!
Не ты эти деревья сажал и не тебе их рубить! От пред*
ков мне достались, я здесь хозяин, я буду держать
ответ в стране мертвых, а не ты, бродяга на земле!
«Бродяга» — это самое дурное слово, по разумению
Имана. Бродяга — это будто и не человек, и не зверь, не
животное, а какое-то гнусное существо, никому не
нужное, но всем во вред созданное. И ненавидит этих бродяг
Иман. Вот и ныне он собирается на «охоту» — осмотреть
свою землю, деревья, пастбища рыб, как он говорит, реч*
146
ку ущелья. Воскресный день —праздник для бродяг, в
такой день все бросаются на рыбу, и надо осмотреть свою
эемлю, хоть постращать этих беспутных. И Тарасика
развлечь...
Иман сверх ремня подпоясался патронташем,
забросил за плечо двустволку и позвал Тараса:
— Идем со мной, сынок, землю нашу покажу тебе.
Правда, если боишься, что устанешь, за дедушкой не
будешь поспевать, то можешь остаться дома...
Тарас сидел во дворе на чурбаке для колки дров,
стругал себе палку из сухой ветки орешника. Он
аккуратно обрубил концы палки, подержал ее в левой руке,
мол, вполне пригодна для путешествия, потом всадил
топор в чурбак и, приставив правую руку к виску,
подошел к дедушке строевым шагом, придерживая левой
рукой палку, как саблю:
— Я готов идти за вами, имам Шамиль!
Тарас окончил четвертый класс. Он видел в учебнике
истории портрет имама Шамиля, и ему кажется, что его
дедушка похож на этого знаменитого кавказца,
особенно с тех пор, как Иман отпустил бороду после смерти
бабушки. Иман ничего не знает о Шамиле, не может
разгадать скрытый смысл обращения внука, но
чувствует, что мальчик ведет с ним какую-то игру, и решает
помочь ему, не ломать «игру», вот и отвечает он по-
военному, стукнув каблуками кирзовых сапог и
приподняв свою невыпрямляющуюся ладонь к виску:
— Вольно, рядовой Тарас! Слушай мой команда!
Прямо на дорога — арш! Шашка держать крепко,
голова выше!
Иман не забыл еще свои солдатские замашки, да
и русский язык знает, говорит по-русски охотно при
случае — когда у него на душе хорошо и хочется ему
показать, что он в свое время мир повидал и себя не уронил
в глазах людей. А сегодня ему хорошо — одна из
дочерей хозяйничает дома, внук приехал из районного
города, день ясный — чего не поговорить с ученым внуком
по-русски!
Идут дед и внук не спеша, рядом, по параллельным
тропинкам, и молчат. Иман сутулится, и внук впервые
ясно видит, что дедушка его стар и горбат, голова его
опущена и ходит он так, будто на тропинке серебряные
*
147
монеты ищет, боится не заметить их в пыли и
внимательно глядит на дорогу. Тарас следит за дедушкой и
запоминает его походку. Старые кирзовые сапоги
тяжело опускаются в пыль. В голенища заправлены
поношенные брюки, суконная рубаха застегнута на все
пуговицы, хотя и жарко уже. На голове прилажена серая
войлочная шляпа. Это, наверно, бабушка сваляла,
потому дед не расстается с ней, память о бабушке...
Раньше у деда были только усы. Когда спрашивал
его Тарасик, почему он не сбривает усы, он же еще не
стар, дед неизменно отвечал, мол, нельзя, бритоусый
человек все равно что бессовестный, не имеющий чести.
Тарасик в ответ смеялся, мол, у него кот есть — такой
усач, а совести никакой. Забудешь на столе кусочек
колбасы, тут же стащит, проглотит и даже не облизнется...
Дед не сдавался. «Кот на то и хитрец, чтобы таких, как
ты, объедать, ему усы не для чести даны, а чтобы
мышей пугать. А человеку честь надо соблюдать. Сбреет
человек усы,— значит, он что твой кот-воришка, ни
чести, ни совести не признает»... А теперь, как бабушка
умерла, дед и бороду отпустил, круглую, густую, совсем
белую. И оттого у него лицо кажется чернее, коричневее,
особенно в тени от полей шляпы. Брови у него тоже
густые и нависли над глазами, а глаза пристально
смотрят на пыльную тропу, и почти не видно их. Какая-то
в них печаль притаилась, как перепел в гнезде,
заслышавший шаги человека. Но Тарасик о ней ничего не
знает. Ему хорошо оттого, что дед его походит на имама
Шамиля. Он в душе гордится этим. А может, думает
Тарасик, его дед храбрее, чем Шамиль. Он же солдатом
был, на войне кресты и медали получил, это же за
геройство дают!
А Иману не до геройства, он думает о своем
одиночестве. Вот если бы мальчика ему оставили, если бы он
с ним тут зимовал, как бы хорошо было! Жили бы себе:
он учится, а старик своими заботами занят. А когда он
уроки выучит, дед скотину накормит, будет с кем
поговорить, кого приласкать... Козу бы под Новый год
зарезал, потом поросенка, все бы у них было, но... Не
отпустит его мать. «Сильно злой женщин!» —
пробормотал вслух Иман на своем русском языке. Тарасик
слышал, но не понял, о чем это дедушка говорит.
— Что ты сказал, деду?
148
— Ничего, сынок, просто подумал, а не подняться ли
нам на кладбище? Ты бы могилу бабушки проведал.
Она обидеться может: приехал внук в деревню, а
бабушку не навестил, видно, забыл ее Тарасик. А не будь
ее, так ты остался бы со своим собачьим прозвищем:
«Ушт, ушт, Тарзан, кусай, кусай!..» — грустно
улыбнулся дед, и внук понял, что дед хочет скрыть от него
свою печаль. Ему стало жалко деда, и он ответил одно-
.сложно:
— Идем.
Тарасик с малых лет был привязан к бабушке. Она
как-то особенно ласкова была с ним, грустно ласкова.
Почему — этого Тарасик не знал, но понимал, что это
что-то очень хорошее, ни от кого другого такой ласки не
,будет и не следует ожидать. А старушка всю свою
печальную любовь к сыну-первенцу перенесла на
мальчика, он заменил ей погибшего сына. Видеть, ласкать,
баловать внука для. нее было самой большой радостью,
утешением....
Иман и Тарасик поднялись на пригорок у речки. Там
среди редких деревьев бука и дикой вишни виднелись
едва заметные холмики старых могил. А на холмиках,
примяв траву, лежали продолговатые каменные плиты,
У изголовья могил торчали такие же неотесанные плиты
или деревянные крести из карагача и дуба. Одна
бабушкина могила была огорожена железной решеткой.
Тарасику показалось, что эта железная клетка походит
на детскую кровать, но такое сравнение его смутило,
как что-то неприличное, непозволительное у могилы
бабушки, и он молчал.
Иман провел ладонью по прутьям решетки, смахнув
с них, как струпья, отлупившиеся корочки краски.
Потом присел на корточки, разровнял землю вокруг
посаженных на могильном холмике цветов, вырвал два
стебля крапивы и отбросил их прочь. Встал, отер руки о
штанины и серьезно предложил внуку:
— ^Сынок, прикоснись рукой к могильному холмику,
не бойся, так положено. У бабушки же руки на грудь
сложены, ты прикоснешься к земле, и она почувствует,
что это твоя рука.. Обрадуется: значит, внук помнит ее,
не забыл проведать, раз в деревню приехал.
Иман говорил глуховатым голосом и убедил
мальчика. Тарасик притронулся ладонью к теплой земле и тот-
149
час встал, пошел догонять деда. Тот молчал по-прежне*
му, только мальчику показалось, что он сгорбился еще
больше и голова у него свесилась ниже. Тарасик
поглядывал искоса на деда и заметил, что на краешке глаза
у него засветилась капелька. Он подумал, что, видимо,
у деда нехорошо на душе и не надо на него смотреть,
раз он не хочет, чтобы внук знал об этом. Мальчик
отвернулся, чуть приотстал и начал размахивать палкой,
как саблей, рубя беловерхие стебли пахучего кервеля.
Спустились на дорогу вдоль речки ущелья. Река
была совсем близко, весело шумела, но Иман не обращал
на это внимания, его занимала священная роща, уже
видневшаяся из-за поворота. Тарасика удивило, что
могучие карагачи в роще все были как на подбор —
высокие и стройные. Глядишь снизу — верхушек не видать,
будто они соревновались втайне, кому быстрее до
самого солнца вымахнуть. Верхушки покачивались где-то на
недоступной вышине и тихо шумели. В середине рощи
стояли в ряд три карагача, и они особенно восхитили
мальчика. Под ними кто-то расставил два ряда валунов,
а между ними протянул длинную доску на трёх
поперечных шестах из ольхи. «Видно, здесь кто-то пировал»,—*
подумал Тарасик, но Иман объяснил ему:
— Вот это — карагачи, брат. Под ними все наши
предки и мы сами по праздникам пировали, Духу
ущелья песни пели. Как затянут, бывало: «Уастырджи,
своей благодатью не обнеси!» — так на все ущелье
гремела песня. Нет, теперь так уже не умеют. Тогда, видно,
сам Уастырджи им подпевал, от души подпевал. Теперь
так никто уже не умеет...
Тарасик не знал этих песен, не знал и самого
Уастырджи, ему оставалось молча соглашаться с дедом,
и он ни слова не произнес, во все глаза смотрел на
вековые деревья необычной красоты и мощи. Священная
роща.его чуть-чуть напугала, внушила невольное
уважение своим величием, таинственным шумом и ровной
прохладой. Ему казалось, что здесь нельзя говорить
обычные слова, суетиться и шуметь, надо только слушать
о том, как предки пели в честь Уастырджи, а он им
подпевал своим особенным голосом...
Иман постоял еще немного, поправил доску на
шестах и направился к опушке рощи. На самом краю
рощицы он вдруг резко повернулся направо и присел
150
у одной чуть заметной кочки. Он стал разгребать
руками землю, и подошедший Тарасик увидел: из-под слоя
земли, насыпанной, видно, совсем недавно, показался
круг ствола, начисто срезанного пилой вровень с
землей. Иман застонал, будто ему руку отсекли, и
выругался по-русски. Тарас впервые слышал от дедушки такую
брань, и ему стало неловко за дедушку, он считал, что
его дед вообще не умеет произносить поганые слова, но
нашел ему оправдание. Если дедушку довели до такого
непотребства, значит, совершили против него что-то
нестерпимо скверное, вот и ругается дед.
— Подождите, сволочи! Узнаю вас все равно, если
только не бродяги городские это сделали... Каких
только собак и закинских ишаков не встретишь на этой
земле! .. Повадились в горы ходить, бродят, что волчьи
стаи, поедают все, что им ни попадется, дерьмо и. то не
стыдятся глотать! Подождите, клянусь самим Уастырд-
жи, узнаю, кто спилил мое дерево, так кишки ему
выверну!
Йман, злой и хмурый, встал и вышел на дорогу.
Тарасу казалось, что дед согнулся пуще прежнего. Он
растерянно семенил за ним, а дед гневно и твердо давил
сапогами землю, будто она была в чем виновата перед
ним. Иман торопился дойти до своей границы — узнать,
не случилось ли еще что на его земле. Он забыл, что
с ним идет мальчик. Тарас утомился, громко и часто
дышал, то догоняя деда, то опять приотставая. Иман
заметил наконец, что мальчику трудно, и замедлил шаг.
Потом пожалел, что ругался при мальчике, и начал
оправдываться:
— Ты понимаешь, Тарас, нельзя трогать деревья в
священной роще. Ты этого можешь не знать, еще
маленький, в городе вырос, а они знают. Все знают, что
предки ни сучка завалящего оттуда не взяли бы. Будь
эта роща последним спасением от стужи, все равно не
взяли бы. А эти бродяги все норовят срубить, сжечь,
съесть, чисто волки зимой, когда с голоду дохнут. А чего
им не хватает? Разжирели, как откормленные боровы,
но все им мало. Государство такую красоту рушить и
изводить не позволяет, но что им государство!
Священный лес готовы срубить и запихнуть в собственную
нору! Лишь бы им хорошо было, а там хоть трава на
земле не расти! А своей глупой башкой, ишаки закин-
151
ские, сообразить не могут, что священная роща — общее
добро. Раньше на что темные были люди, и то
понимали, берегли, нам оставили, чтобы мы тоже сберегли.
А они? Срубили священное дерево и увезли до
последнего сучка. Это чтобы я не узнал. Срубили у самого
корня и землей присыпали. Будто меня самого там
похоронили заживо. Я же все деревья в лицо знаю, с малых
лет знаю, как я могу не заметить? Разве не заметишь,
если тебе палец топором отхватят? Застал бы такого
негодяя, пристрелил бы как собаку, не пожалел бы
нисколько, они хуже чумы самой...
Выговорился Иман и опять замолк, но зорко
поглядывал по сторонам: может, еще что случилось? ..
Никакой другой пропажи он не заметил, но стал думать, как
бы оградить священную рощу от бродяг? В Оленье
ущелье автомобильной дороги не было, но грузовые
машины повадились туда за дровами. На одной из таких
машин увезли и недавно срубленное дерево. Иман
заметил у дороги на круче огромный валун. Скатить бы его
на дорогу, так загородил бы проезд бродягам, а на
быках воры не осмелятся возить краденое добро, не
скроешься. Дерево городские бродяги увезли, не иначе.
Казенной пилой срезали, здесь в округе ни у кого такой
нет... Чтоб сам Уастырджи их распилил да разрубил
на мелкие куски!.. Надо будет скатить этот валун,
завтра же.
В устье долины, там, где речка Оленьего ущелья
сливалась с другой безымянной речкой, кончалась земля
Имана. Он дошел до развилки речек, но других следов
«бродяг» не приметил. Постоял здесь под одинокой
дикой грушей — она была для Имана пограничным
знаком,— огляделся и успокоился: не ступала здесь нога
бродяги.
— Может, пить захотелось, сынок, а? — спросил
Иман и пожалел, что в гневе прошел мимо родничка,
который посвятил бабушке. «Надо было показать Тара-
сику, меня не будет, так, может, он приглядит за ним,
не даст одичать, превратиться в лужицу... Хотя что ему
здесь делать, когда меня не станет? Привязи другой у
него не останется...»
На обратном пути Иман показал Тарасику родничок
бабушки. Посидели под драночным навесом,
поставленным дедушкой над родничком, отпили по глотку холод*
152
ной струи, сбегавшей по ольховому желобу, и пошли
домой вдоль речки, пробираясь через заросли
ольховника. В сырой тени ольхи мошкара гудела и
набрасывалась на человека. Иман выбрался из кустов и пошел по
прибрежным булыжникам, мошкара отстала.
Теперь Иман как-то выпрямился, голову держал
прямо и спокойно глядел на тихую речку, на лесистые
склоны ущелья. У речки было прохладно даже в эту
жару, и на душе стало хорошо, от недавнего гнева и
следа не осталось. Иман чувствовал себя хозяином,
наставником своего ученого внука и показывал ему свои
деревья — как отличить карагач от дуба, бук от вяза,
клен от ясеня, иву от осины, ольху от орешника.
Деревья ведь как люди, одни любят в городах жить,
другим милее деревня. Вот, к слову, ольха, она любит
поближе к речке держаться, а береза на гору лезть
большая охотница. Каждому свое...
Тарасик почувствовал, что дед пришел в прежнее
доброе настроение и под его рыжими усами то
вспыхивает, то угасает мгновенная улыбка, бог весть кому и чему
назначенная. И Тарасик рад, что прошло огорчение
дедушки, теперь можно с ним говорить о чем угодно,
шутить и дурачиться. Он впервые заметил, что у деда
борода белая, усы рыжие и в них ни одного седого волоса.
А там, где рыжая полоска левого уса ложится на белую
шерсть бороды, запутался шмель.
— Здесь, сынок, в мое время большие рыбины
водились, величиной с локоть, в черных и красных
крапинках. Ловили мы руками, удочек и сетей никаких не
признавали. Сети и разные другие хитрости — это еще
ничего, пусть, но бродяги известью да динамитом глушат
рыбу будто чуму какую, изничтожить ее хотят... Лови, да
зачем вчистую изводить, речку поганить? ..— злился
опять Иман.
Он помолчал немного, чтобы успокоиться, но вдруг
вскинулся, усы и брови зашевелились, рука сорвала с
плеча ,ружье. Он подошел вплотную к речке, и голова
его свесилась почти до самой воды. Каким-то глухим
голосом пробормотал скороговоркой: «Вот обнаглели!
Середь бела дня, у меня под носом грабят, собачьи
выкидыши! ..» Придирчиво осмотрел патронташ, вырвал
два заряда и резко втолкнул их в патронники, потом
споро зашагал вдоль берега. Тарасик не понимал, чего
153
это разгневался дед, он глядел на речку и видел:
мертвая рыбина плыла к бережку, белое брюхо было
повернуто к небу. Рыбина лежала, будто мертвый человек...
Понял Тарас, что. это «бродяги» изничтожают рыбье
стадо его деда имама Шамиля, и стало ему обидно — у
самой деревни имама крадут его добро, наглецы
какие! .. Тарас поймал себя на том, что говорит чуть ли не
словами деда. «Видно, похож я на деда,— подумал
он.— Хотя кто может походить на имама Шамиля? Наш
дед совсем особенный человек...»
Тарасик задержался у речки, глядя на мертвую
форель. К тому времени дед скрылся за большой ольхой,
и мальчик заторопился. Выйдя из кустов, он увидел, что
Иман стоит у берега и наводит ружье на человека,
стоявшего в речке в одних трусах.
— Вылезай сейчас же! — приказал дед.— Идем со
мной в сельсовет!
Водяной человек — так окрестил его Тарасик —
стоял грузно, словно врос в речные камни, враскорячку, по-
обезьяньи опустив длинные волосатые руки. Жирное
брюхо свисало тремя наплывами, в них где-то утопала
кромка длинных и широких трусов. Он уставился
выпученными глазами на старика, и от изумления или гнева
нижняя челюсть у него отвисла. Иман второй раз
скомандовал: «Вылезай!» — и тогда водяной человек
опомнился и заревел:
— Убирайся отсюда, старый ишак! Не то я так тебя
разделаю, что и родная мать не узнает. Убирайся с глаз
долой, говорю! ..
Кричал он с таким неистовством, что Тарасик
заметил, как смешно взбрыкивают на брюхе жировые валки,
и страх за деда прошел. Он боялся вначале, справится
ли дед, хоть он и имам Шамиль, с этим медведем. Вдруг
он запустит в дедушку огромным камнем?.. Но Иман
и не думал пугаться, от гнева голос у него осип, и он
тихо повторил:
— Вылезай, а то застрелю, как шелудивого пса!
Водяной человек понял, что старика криком не
возьмешь, но не мог сообразить, как утихомирить его.
Заговорить со стариком иным языком ему казалось
позорным отступлением перед этой старой развалиной. И он
повернулся к старику спиной, стащил свои трусы одним
рывком и заорал:
154
— На, стреляй, старый ишак!
Такого унижения за всю долгую жизнь не
доводилось испытать Иману. Точно его в дерьмо по самые узаи
окунули. Не знал, что ответить обидчику, вскинул
ружье, раздался выстрел.
— Уби-и-л! — взвизгнул водяной человек и
повалился в речку, но тут же вскочил и бросился бежать вверх
по речке.
Иман следил за ним и догадался: видно, где-то там
спрятана его одежда. «А вдруг при оружии он? Нельзя
его отпускать. Хорошо я тебя напугал, боров
вонючий!» — подумал он, и гнев отхлынул от сердца, голос
зазвучал с обычной силой:
— Стой, не бежать! Застрелю, собака!
Раздался второй выстрел, и неуклюже шлепавший
по воде человек резко развернулся лицом к Иману.
— Не стреляй! Ты что, с ума сошел, что ли?
«Смирился, ишак закинский, а думал старика
запугать, не вышло! Будешь знать, как стариков ишаками
обзывать! Я покажу тебе, как старики с такими
наглецами расправляются».
— Брось шуметь, вылезай! А там видно будет, кто
из нас сумасшедший,— спокойно ответил Иман, но в это
время за излучиной речки в ольховнике послышался
пистолетный выстрел, и Иман увидел: бежит к ним
какой-то другой наглец, тоже в трусах, в руках пистолет,
а из него тянется хвостик дыма. Старый охотник все
приметил с одного взгляда и подумал, чт<3 придется
драться не на шутку. Кинулся непроизвольно к дереву
и опустился на одно колено за большим речным
валуном. Не шутят, как видно. Мальчика могут поранить,
сволочи...
— Тарас, ложись! — крикнул Иман по-русски, а сам
не спеша вынул из левого края патронташа два патрона
с крупной дробью и перезарядил ружье. Направил
стволы на бегущего с пистолетом и громко предупредил:
— Стой, стрелять буду! Стой!..
Человек с пистолетом остановился, и в этот миг
испуганно закричал Тарасик:
— Не стреляй, деду! Не стреляй, это папа!..
Руки Имана мелко и противно задрожали и
опустили ружье на камень. «Видно, в самом деле с ума
сошел...»— подумал старик и тяжело опустился на зем«
155
лю. Посидел так, растирая лицо ладонями; потом, уняв
дрожь в руках, поднялся, опираясь на ружье, как на
палку; по-стариковски попенял рыболовам:
— Будьте вы неладны, дурни безмозглые... Сказали
бы мне, если так приспичило, сам бы наловил вам...
А ты чего бродишь? — обратился он к сыну.— Голова
у тебя — впору ишаку носить. Трудно, что ли, понять,
нельзя речку известью портить? .. Милиция!.. И кто
тебя только на это место поставил, такого дурака! Хорош
милицион! ..
Иман забросил за плечо ружье и пошел было домой,
даже не оглянулся на Тарасика, не хотел с ним
разговаривать при его отце, Гари, а в душе было ему стыдно,
что так неловко кончился его «бой» с бродягами. Он
думал, что «бой» на этом и завершился, но его остановил
окрик «раненого» рыболова:
— Нет, старый абрек, так не уйдешь! Гаврил,
отними у него ружье и гони его прямо в тюрьму! Я покажу
ему, как стрелять! — грозился водяной человек,
натягивая брюки. Теперь он знал, что в него пульнули солью,
крупно молотой солью, а не дробью, как он подумал
в испуге, но от этого ему было не легче. Натягивая
сапоги, он повторил свой приказ: — Ружье отнять и гнать
в тюрьму! Это же настоящий абрек.
— Что ты сказал? — повернулся Иман, обида снова
схватила его за сердце.— Отнять мое ружье? .. Видно,
ты не матерью рожден. Ишь какой храбрец! — сказал
негромко Иман, скинул с плеча ружье и взял его в обе
руки. Шагнул к обидчику и повторил: — Подойди,
отними ружье, если ты мужчина. А ты ступай прочь, чтобы
глаза мои не видели тебя! — крикнул он зло на сына,
Гари, старшего лейтенанта милиции, и тот
действительно повернулся и пошел одеваться.
«Убить мало этого пса, обозвал меня старым
ишаком, а теперь ружье отнять грозится... Ах ты сукин
сын! У меня на германской войне никто ружья отнять не
смог. Унтер меня по матери обругал, так и ему не
простил, морду разукрасил. Одного «Георгия» меня лишили
за это. А этот боров ружье хочет у меня отнять, точно
палку у мальчишки... Да мне легче помереть, чем такой
позор принять. Мои годы и так на исходе, жалеть не
о чем...»
156
Иман разобиделся не на шутку, взвел курок и
повторил:
— Подойди, говорю. Отними ружье, если ты
мужчина, а не боров!
Водяной человек промолчал; он натягивал на голову
рубашку и говорить не мог, а когда высунул голову из
ворота рубахи, то услышал другой голос:
— Чего это вы расшумелись, добрые люди? Да это
же Иман! Здравствуй, великий охотник гор! Кто же
гостей от дому ружьем отгоняет?
Этот гость, подумал Иман, видно, тоже из
рыболовов, но одет с иголочки, вряд ли в руки брал даже
удочку, видно гуляет в свое удовольствие. Если даже из
милиции — Иман не мог разобрать по одежде, кто же
его третий гость,— все равно не был заодно с этими
бродягами. Иману стало не по себе: а вдруг в самом
деле его сын пригласил в гости своих сослуживцев на
воскресный день, мол, у отца попируем, а он, хозяин,
руку на них поднял. Позор какой, ославят его на все
ущелье, на весь район.. % Но как же они могли так
поганить реку, разве гостю такое подобает? Надо же
соображенье иметь!
На вопрос гостя надо было отвечать, и старик, взяв
ружье в левую руку, как обычную палку, пожаловался
добродушному гостю:
— Гость у нас за божьего посланника считался, это
верно, но издеваться над людьми — это не позволено и
самому Уастырджи. Захотел кто форели поесть, пусть
скажет по-людски, и мы сами ему наловим. А поганить
речку известью — этого никому не дадим, нет таких
прав ни у кого... Вы же ученый народ, как же
допускаете такое? Мой сын никогда умом не отличался, но как
же ты, такой видный человек, не сказал своим
товарищам, что нельзя такое беззаконие допускать?.. Будь ты
судьей, что бы ты на моем месте сделал? ..
Ученый гость, видно, решил обернуть все дело в
шутку. Он весело ответил Иману:
— Будь я на твоем месте, пошел бы домой и сказал
хозяйке: гости у наших ворот, пеки пироги повкуснее,
режь куриц пожирнее, самой злой аракой наполни
кувшины! По мне, так лучше...
Иман, может быть, принял бы это предложение,
157
гостеприимство обязывало, но все испортил «раненый»
рыболов.
— Никаких гостей! Пусть идет сейчас же в тюрьму!
Чтобы в меня стреляли, а я еще извинения просил, не
будет этого! Я пока в районе начальник милиции! А не
буду начальником, все равно никому не позволю в себя
из ружья палить! — непримиримо шумел строптивый
начальник, и Иман понял: мира не будет с этим
боровом, придется с ним потягаться.
— Знаешь что, великий начальник милиции,—
бросил Иман вызов «раненому» рыболову.— Мне уже за
семьдесят, и видел я таких начальников много, очень
много. Однако не слышал, чтобы о таких, как ты, люди
хорошо говорили, чтобы народ их жаловал... И если
так тебе захотелось, то я завтра же выясню, положено
или нет начальникам милиции законы государства
нарушать. Я пойду к секретарю обкома, расскажу все, и
пусть он рассудит нас: кто прав, а кто виноват. Один из
нас должен ответить за все. Окажусь виновен, так не
спрячусь за чужой спиной.., Иди и делай что хочешь,
но если увижу еще раз с известью у этой .речки, пеняй
на себя. Если даже руки мои отсохнут, зубами горло
перегрызу, есть у меня еще четыре клыка, как у старого
волка, не обеззубел совсем. Все! Иди, чтобы духу твоего
здесь больше не было! — повернулся Иман спиной к
рыболовам и скрылся в зарослях ольхи.
Тарасик услышал команду дедушки «Ложись!», но,
узнав отца, успокоился, испуг от выстрелов и брани
Имана с водяным человеком прошел. Раз отец здесь,
ничего страшного не случится. Но, увидев, что
«бродяги» оказались работниками милиции, Тарас
забеспокоился. Стоя за ольхой, рядом с которой Иман выбрал
себе, как он потом объяснил внуку, «позицию», мальчик
наблюдал за перебранкой мужчин. Понимал, что
правда на стороне деда, но тем не менее боялся: могут
арестовать деда, посадить в тюрьму, и кто знает, когда
отпустят? И чем ему поможет он, Тарасик, когда и папа
против деда? Жалко ему стало деда и самого себя,
беспомощного, чуть было не заплакал, но сдержался,
проглотил слезы. Потом, когда Иман не испугался угроз
водяного человека и не отдал им ружья, Тарас
приободрился: «Нет, мой дед храбрый, настоящий имам Ша-
158
миль!» И пошел вслед за ним домой. Подойти к отцу
хотелось, но раздумал. Ему казалось, что отец против
дедушки, и если он подойдет к нему, то тем самым как
бы предаст деда, а этого он допустить не мог.
Рыболовы постояли еще немного, посоветовались и
решили: пусть Гаврил идет к отцу и скажет ему, что
назавтра его вызывают в милицию, в район, пусть сдает
ружье. А там видно будет, как его наказать за выстрел
в начальника милиции.
— Там видно будет,— сказал с угрозой начальник,
но третий рыболов отвел эту угрозу:
— Какое там еще «видно будет»? Сами виноваты,
надо попросить прощения у старика, вот и все дела.
Надо спасибо ему сказать, что бережет то, что нам
беречь положено. Так я считаю, запомни, и скажу об
этом, где придется. А будешь настаивать на своем, так
попомни мое слово: этот старик до Цека дойдет, но
своей правды не даст никому оскорбить, и прощай тогда
твое звание начальника. Меня тоже по головке не
погладят, что не остановил тебя, присутствовал при твоем
подвиге, но погоришь ты, запомни, а там уж как
знаешь. ..
Начальник милиции, строптивый майор, принял к
сведению предупреждение товарища, но не расстался
пока с мыслью о мести старому охотнику. Молчал.
Осторожно провел рукой по раненому заду, потом
отправился к машине, поставленной в тени высокой ольхи.
Рыбины, нанизанные на веточку орешника, показались
ему живым свидетельством его преступления, он со зла
кинул их с размаху в речку и стал заводить машину.
Гари проводил товарищей и вернулся домой
озабоченный. Он думал этой рыбалкой услужить своему
начальнику, задобрить его, расположить к себе, но старик
все испортил... Гари не знал, что ему делать:
арестовать отца стыдно, но и не выполнить приказ
начальника —. попробуй!.. Нет, надо будет уговорить отца,
чтобы он сам пошел в районный городок и предстал перед
начальником милиции, а там видно будет. Может, обой*
дется, и вертел не сгорит и шашлык не обуглится... Так
решил свою трудную задачу, неожиданную и неприят*
ную, Гаврил и направился в отцовский дом.
159
2
Злые и печальные вернулись домой дедушка Иман,
вслед за ним его внук Тарасик и, наконец, сын его Гари.
Дома была дочь Имана со своими двумя сыновьями.
Хотела было узнать, что случилось, но Тарасик
отмалчивался, мол, пусть дед сам расскажет. Расспрашивать
отца в таком настроении она не осмеливалась, на такое
только мать имела право, а её уже нет...
Иман ходил по двору чернее ливневой тучи и
размышлял, не обращая внимания на дочь и внуков. Его
мучила обида — постарел, вот и могут все над ним
издеваться, оскорблять его безнаказанно. Сам он уже не
может постоять за себя, старый что малый, угрожать да
кричать только и может. Некому за него заступиться.
Был бы жив его старший сын, разве посмел бы этот
боров обзывать его старым ишаком и ружье отнимать?
А Гари? Как послушный пес, кидается на всякого,
только укажи ему пальцем и крикни: «Кусай!» Разве это
сын и разве не пустое дело — держать в душе надежду,
что в трудный час можно опереться на его молодость
и силу? «Нет у меня сына, был один, но его германцы
убили, а этот... Размазня, обычный нетопырь, не мышь
и не голубь...»
Иман знал, что угрозы начальника милиции —
зряшные слова. Не арестует, не имеет права, не посмеет
даже рассказать кому-нибудь, что травил форель в речке
известью и старый охотник в него заряд соли
выпустил,— засмеют. А расскажи он такое перед судом,
так против него же и обернется все дело. И начальник
не дурак, знает, конечно, об этом. Знает также, что
Иман старый охотник и ружье ему положено носить по
закону. Грозится он для острастки, как мальчишки в
драке, размахивая кулаками в воздухе: я тебе покажу,
я тебе сопливый нос расквашу!..
И не эти угрозы обижают старика, а то, что его,
старого человека с ружьем, обозвали ишаком. Будто не
человек он, а так... навозный жук или комар из
ольховника, не посмеет укусить, а посмеет, так его и
прихлопнуть можно... И было бы не обидно, если бы этот боров
думал так по дурости, считая себя сильнее и храбрее
всех. Такому дураку можно было бы простить.
Достаточно заряда соли в зад, чтобы внушить ему: нельзя
160
оскорблять человека, если даже он стар и нет такой
силы в руках, как у тебя.
Но этот боров — не просто болван. Он ведь не на
силу надеется, а на свою власть. Не смей меня трогать,
что бы я ни делал, я — власть!.. Вот и поговори с
ним... А как ему скажешь, что он вовсе не власть, а
простой нахал и грубиян? А если даже скажешь, то
разве поймет, что не власть к нему приставлена, чтобы
защищать его свинство, а он приставлен к власти, чтобы
защищать порядок и справедливость. Ни черта не
поймет! Верно, думает, что он, человек власти, может
безнаказанно творить поганые и несправедливые дела.
И обидно Иману, что его оскорбили именем власти,
которую он привык не только почитать, но и защищать,
когда нужно, с которой у него нет никаких споров и
несогласий. Обидно, что этот нахал, вместо того чтобы
сцепиться один на один с ним, стариком, у которого нет
прежней силы драться за свое д'остоинство, хочет его
одолеть силой и именем власти. Так только подлые
мальчишки делали — подерется с тобой и не может тебя
побить один на один, так зовет своих дружков и
нападают на тебя из засады, будто это честно и
справедливо, когда псы со всей деревни на одного чужака скопом
наваливаются и грызут со всех сторон...
Тарасик, вернувшись во двор дедушки, увидел своего
имама расстроенным и озабоченным, и стало ему тоже
грустно. Помочь не мог, утешить деда тоже не знал чем.
Обида и недоумение теснили ему сердце. Присел на
чурбак, взял было в руки топорик, чтобы занять себя чем-
то, но ему показалось, что стучать топором, когда дед
зол и расстроен, неприлично, и положил топорик на
землю, задумался.
Он думал, что дед был прав, вел себя храбро, как
положено имаму Шамилю, но совсем непонятно, почему
его оскорбили начальники? «Они должны были, если по-
справедливому, поблагодарить его, что он, старый
охотник, бережет от бродяг рыбу и деревья. А его ругали
всякими плохими словами да еще ружье хотели отнять.
Но дед храбрый, ничуть их не испугался и ружье им не
отдал... Зачем надо было его обижать, это же
несправедливо! Я же в газетах читал: те, кто всяким бродягам,
браконьерам зверей бить не позволяют, рыбу ловить,
где не положено, лес рубить,— храбрые и хорошие лю-
1.61
ди, а имама обидели и грозили арестовать, как же это
так? Это неправильно!» — доказывал Тарасик
неизвестно кому. Он знал, что дед прав, зря его обижают, но не
знал, как оградить его от этой несправедливости. От
жалости и бессилия слезы наворачивались на глаза.
Тарасик их глотал... «Нельзя плакать, увидит дед и
скажет, что я напугался выстрелов, вот и плачу, как
маленький».
Не понимал Тарасик отца. Не понимал, почему он
травил рыбу известью и почему он был на стороне этого
грубияна и сквернослова, не сказал ему ни слова в
защиту деда. Знал же он, что прав дедушка, а не тот
начальник!.. А Тарасику он всегда говорил, что он
человек справедливый. Один мальчик подрался с Тарасиком
и оскорбил его, ты, мол, сын милициона, а милиционы
берут взятки. Заарестуют виновного человека и
выпускают как невиновного, если им деньги даст, а
невиновного вместо него сажают. Тарасику было обидно это
слушать, но он не знал, как защитить своего отца,
милициона, и спросил его напрямик: правду ли мальчик
сказал? Отец рассердился и ответил ему, что все это враки,
что это плохие люди выдумывают, люди, которых
милиция за руку хватает, когда они всякие темные дела
обделывают; что милиция хороших людей от плохих
оберегает, а плохие злятся и врут. Сами чести не имеют
и других бесчестными хотят сделать... Тарасик
поверил. Он и сам так думал, но сейчас не мог понять,
почему же отец не защитил деда. Дедушка же прав был*
Раз отец за него не заступился, как же он другого
защитит? ..
Хотелось Тарасику найти отцу оправдание. Он его
любил и считал хорошим человеком, но сегодня отец
был несправедлив. А почему так, Тарасик не мог понять,
и ему было обидно и грустно. Если отец обманул его,
если он в самом деле плохой человек, то, значит,
правильно его, Тараса, мальчишки дразнили? .. Нет, тогда
он уйдет из дому, не будет жить с отцом, не вернется
туда, будет жить с дедом. Дед прав, а отец и тот
начальник — нехорошие люди.
Тарасик никак толком не мог разрешить свои
сомнения. Тяжело у него было на душе, слезы
наворачивались на глаза, какая-то большая печаль не давала ему
свободно вздохнуть, давила на сердце, и он растерянно
У62
|лядел перед собой и своими тонкими пальцами
отламывал щепбчки от исколотого топором чурбака..,
Зол был и Гари. Он знал, что отец его строптивый
старик, гордый и своевольный, и просто так не
согласится пойти к начальнику милиции, не побежит с утра
в район — вот мое ружье, берите, пожалуйста... Может
и его самого послать ко всем чертям да обругать как
мальчишку. А то и еще хуже: если начальник пошлет
кого-нибудь арестовать старика, тот возьмется за ружье
и натворит бог знает что. Просто так он не сдастся,
а посланцу начальника приказ надо будет выполнить,
вот и наломать могут дров. Может быть, самому
остаться здесь ночью, а утром, когда он немного успокоится,
уговорить его пойти в район? .. Но удастся ли обмануть
его, заманить к начальнику? А если удастся и
начальник вздумает посадить его на несколько суток за
хулиганство? Что скажут люди? Загнал, мол, Гари
собственного отца в кутузку! Ославят совсем, да и старик не
простит ему, своему сыну, такого предательства...
А начальник — злопамятный человек, никогда не
забудет, что старик солью его начинил. Старику отомстить
не сможет, так на нем, Гари, отыграется, ходу давать не
будет, вот и служи.,, Черт знает что! И так плохо, и
этак нехорошо...
Увидев во дворе Имана, гневно шагавшего из угла
в угол, Гари подумал, что старик мается, как лев в
клетке зоопарка, но почему-то пожалел не его, а самого
себя. Это из-за его шалости и глупой гордыни он, Гари,
должен расстаться с мечтой о повышении по службе.
И он стал пенять отцу:
— Приспичило тебе палить из своей пушки! А того
не сообразил, что меня с работы могут погнать. Огонь
по милиции открыл, будто он на германской войне, а не
в Оленьем ущелье. И что выиграл? Погонят меня из
милиции, и вдвоем эту жалкую речушку будем
охранять, вот и заживем по-царски, так, что ли? ..
Иману смешно было слушать от сына такие
наставления, но когда сын разошелся не в меру, то Иман
разъярился и загремел:
— Убирайся отсюда вон! И ты такой же, как он!
Дармоеды и свиные утробы, больше никто! Погонят его
с работы, будто он Плиев-иналар, армией командует!
Какая у тебя работа? Оштрафовать какого-нибудь шо-
163
фера-бедолагу рубля на два, вот и вся твоя работа!
Тоже мне великий начальник нашелся, работа!.. Будь моя
воля, я бы тебе и черного поросенка пасти не поручил,
знаю, какой ты работник! Когда это было, чтобы ты
хоть воз дров в лесу нарубил или копну сена скосил?
Знаю, какой ты у меня работник! Когда это ты убийцу
обезоружил или вора с поличным взял? Никогда! Ишь,
работа! Государственная служба! Ты же жалованье
получаешь, на государственном харче живешь, а не
служишь, работничек! Тоже упрекать меня вздумал, будто
он мой дед Караман... Тоже мне начальник! Погляди
на себя в зеркало, какой ты есть,— точно крот слепой из
борозды вывалился и не знает, как бы обратно под
землю ход найти... Тоже мне мужчина! Ни чести, ни
достоинства! ..
— Ты, конечно, великий мужчина,— не стерпел и
Гари.— Как школьник, из рогатки пуляет и думает, что
это геройство. Посмотрим, какой ты будешь герой, когда
завтра в подвал тебя загонят, как бодливого быка!..
— Не пугайся, не пойду к тебе на поклон: вызволи
меня, бога ради, Гаврил Иванович!..— Иману давно не
нравилось, что сын свое имя и отчество переделал, его
это обижало. «Что это такое, мое имя в чесотке, что ли?
Зачем менять было, чем оно не угодило? ..» Но открыто
свою обиду высказал впервые.
— В таком случае, чтобы завтра же ты был в
районе со своей пушкой. Слышал, что я сказал? —
разошелся Гари.— Чтобы второй раз не пришлось мне сюда
ходить— самому тебя вести в тюрьму! — пригрозил Гари,
и это не на шутку разозлило Имана, однако он решил
не кричать на этого дурня. Лучше сказать ему, отчего
он такой храбрый вдруг стал.
— Ладно,— сказал спокойно Иман,— пойду в
милицию, а то ты уже брюки намочил от страха, как бы тебя
жалованья не лишили... А кого в тюрьму посадят, это
мы еще увидим. Не думайте, что сильнее кошки зверя
нет. Найду я на вас управу! Власть наша пока на своем
месте, и она никогда сторону кривды не держала. Ты
у власти нахлебник, а не я, старик. Я за нее под пули
лез и не боялся, как ты, всякого отъевшегося болвана.
Ступай к своим, тебе здесь нечего больше
околачиваться! Можешь сказать своему начальнику, что
заарестовал старика, завтра будет в районе. Все, иди!
164
Гари сообразил, что схватку с отцом он все же
выиграл. Уйдет, будто обиженный, отец его со двора гонит.
Но самое главное, старик — он такой: дал слово, так
сдержит — придет пешим ходом в милицию. И
получится, он, Гари, свое слово перед начальником сдержал.
Все уладилось неожиданно хорошо, и Гари в душе был
рад, но все же решил притвориться обиженным.
— Гонишь меня со двора? Я ухожу, но помни: это
приказ начальника, завтра чтобы ты в милицию явился!
— Уходи! Ты в этот дом никогда с охотой не шел,
и нечего тебе тут делать. Что тебя тут удержит? Ничего
такого нет у меня. Две паршивые коровы, так они на
мои поминки пойдут, какой тебе от них прок? — укорил
его отец, и сын не нашел что ответить, зло толкнул
калитку и вышел за ворота.
Тарасику было неловко присутствовать при ссоре
отца и деда, и, когда они стали шумно объясняться, он
вышел за ворота и стоял там, невольно прислушиваясь
к их пререканиям. Гари, увидев сына, сделал еще более
обиженный вид и сурово крикнул мальчику:
— Ступай со мной, нечего тебе околачиваться здесь!
Идем домой!
Иман вышел за ворота:
— Не трогай мальчика, а сам убирайся прочь! Не
тебе здесь командовать, пока я жив! Кому быть здесь, я
без тебя знаю и у тебя не буду спрашивать.— Иман
схватил мальчика в охапку, точно у него отнимали
внука, прижал его к себе и понес во двор.
Гари промолчал, хотя и обидно ему было, и
торопливо спустился к дороге вдоль речки. Он спешил
вернуться засветло в район, домой. .
3
Иман вспомнил о своем любимом внуке, и стало ему
стыдно за себя — забыл о мальчике, оскорбил при нем
его отца, а ведь как ему должно быть обидно за отца,
он же, наверно, любит его, и тяжело ему выслушивать
такое о нем дурное мнение... «Ну и дурак же ты,
старик,— разозлился, так ни о чем другом и помыслить не
можешь...» Он хотел как-то оправдаться перед внуком,
отвлечь его от обиды за отца и решил забыть о ссоре
165
с милицией, взять себя в руки и как-нибудь внушить
мальчику, что он, дед, поносил его отца зря, со злости,
а вообще Гари неплохой человек и он, дед, поступил
нехорошо, что обругал его. ¦.
— Ты, сынок, не злись на меня, отец твой, конечно,
прав, он службу свою сполняет, так надо... Отец я ему,
это верно, но нельзя же из-за отца службу забывать.
Если ты на службе, так справедливо надо все делать.
Нельзя своим родичам прощать, а с других спрашивать
по закону. Так нильза, сынок,— примирительно добавил
старик по-русски, и это значило, что он нашел самое
верное решение, что сказанное им по-русски есть
высшая правда и внук с этим должен согласиться, а
остальное забыть, как сказанное в запальчивости.
Тарасик обнял голову деда и прижался лицом к его
седой бороде. Старику это было приятно, это было
признанием его правоты и объяснением в любви к нему.
Однако дед почувствовал на своей щеке влажную
теплоту и сообразил — плачет внук. Все же нанес он ему
своей бранью обиду. Долго ли ранить сердце мальчика?
Вот старый дурак! Ребенка обидел! Но не надо виду
подавать, пусть выплачет свою обиду. А сейчас надо
что-нибудь такое сделать, чтобы он скорее отвлекся от
своей обиды...
— Знаешь что, сынок, пойдем-ка с тобой в Сухую
балку. Там на старом карагаче, на самой верхушке, есть
воронье гнездо... Мне туда уже не забраться, а ты
можешь залезть и посмотреть воронят. Ты, наверно,
никогда не видел, какие бывают птенцы у вороны? Очень
смешные и некрасивые, рожи у них как у чертей, ночью
встретятся, испугаешься.,. Пойдем, если хочешь...
Тарасику, конечно, хотелось. Дрожащим от слез
голосом тихо, почти на ухо старику он сказал «хорошо»
и сильнее прижался к деду. Дед все понял и сказал*
громко:
— Эй, кто там в доме? Дайте нам что-нибудь взять
с собой поесть, мы с Тарасиком в поход идем!
На крик вышла дочь, и старик объяснил ей, в чем
дело. Она молча вынесла им пирогов и бутылочку
араки. Иман взял еду и, так и не опустив внука на землю,
вышел за ворота.
Долго сидели они на круче Сухой балки. Поели, по«
говорили о том о сем, но всячески обходили случившее
166
еся на берегу речки и ссору во дворе. Потом дед помог
внуку взобраться на карагач и посмотреть воронят.
Спустился Тарасик с дерева, забыв начисто о своей
обиде, и все щебетал деду о том, какие эти воронята
интересные и нельзя ли хоть одного вороненка взять и
вскормить дома, чтобы ручным стал. Дед посоветовал
не делать этого. Не любит ворона человеческую еду, для
маленького самое вкусное — что мама в клюве
принесет, пусть это даже будет червячок, околевший на
тропинке и объеденный муравьями. Внук согласился с
дедом, и они в вечерних сумерках спустились к дому.
К их возвращению им уже постелили на дедовской
кровати на втором этаже. У Имана дом был на четыре
комнаты — две каменные внизу, две из буковых досок
наверху, и он всегда спал наверху. Когда приезжал
внук, то и его укладывал спать с собой.
Иман решил завтра все же пойти к начальнику
милиции, но ружья с собой не брать и не отдавать его. Но
он сообразил, что этот недобрый и самолюбивый
человек может в его отсутствие послать за ружьем сына,
Гари, поэтому надо спрятать свою пушку где-нибудь за
оградой дома, чтобы он не нашел его. Иман подумал,
что ружье надо им спрятать вместе с Тарасиком, чтобы
он убедился: дед ему верит как самому себе и нет у него
тайны от внука.
— Ты знаешь, Тарасик, мне завтра надо к
районному начальнику идти. Ружья ему я не отдам, пусть он
хоть лопнет, не отдам... Но он, видно, хитрый и злой
человек, вот и может, пока я у него буду сидеть, твоего
отца сюда на машине послать, чтобы мое ружье
забрать. А мы с тобой, Тарасик, тоже не дураки, на
плечах головы имеем, не огородные тыквы, правда? —
Иман глянул на внука и увидел, улыбается внук. На
сердце у старика посветлело, он усмехнулся, иол, нас
вокруг пальца не обведешь, сами с усами, и добавил: —
Давай спрячем с тобой наше ружье, но не в доме — тут
его Гари быстро найдет,— а в картофельной яме. Там
сейчас пусто, никому и в голову не придет искать там,
а мы его завернем в мешок и присыплем землицей
сверху, сам черт его не найдет... А?
— Хорошо ты придумал, деду. Только надо это
сделать тихо и без разговоров, чтобы никто не догадался,
ладно? — шепнул ему на ухо Тарасик.
167
— Ладно, будь по-твоему,—сказал в ответ Иман, и
они пошли прятать свое ружье.
Заговорщики вернулись, пора уже было спать. Дед
потушил свет и лег, кряхтя по-стариковски. Завтра ему
рано вставать, надо успеть в милиции побывать и
вернуться из районного городка.
Помолчали оба, будто спать собрались, но
неожиданно Тарасик сказал:
— Деду, а ты все равно храбрый.
Уговор спать был нарушен, и Иман спросил внука:
— А чего это я такой храбрый тебе показался?.,
Может, когда-то и был храбрый, а теперь старый
человек и никакой не храбрый. Старика, сынок, никто уже
ни во что не ставит, никто не боится ни его правды, ни
его храбрости...
— Нет, ты храбрый, деду. Не испугался этого
водяного человека, а он толстый какой, сильный, большой,
руки как у гориллы-обезьяны...
— Это верно, не испугался. Ружья бы у меня не
было, все равно не испугался бы. Почему мне пугаться? Он
поганит мою речку, пусть он и пугается, бродяга. А я
здесь вырос, моя эта речка, так чего пугаться? И не
надо храбрым быть, раз ты прав, а он, сукин сын, добро
портит, людей обижает...
— Но ты же не испугался, даже когда их трое было
и по тебе из пистолета стреляли, как же не храбрый! —
настаивал на своем Тарасик.
— Нет, испугался, сынок,— признался Иман.— За
тебя испугался. А самому чего пугаться! Позицию я
выбрал, как солдат, хорошую, за большим валуном,
патронов у меня много, тут и трусливый не испугается.
— Нет, деду, не так ты говоришь. Ты не испугался,
даже когда узнал, что этот водяной человек не бродяга,
а сам начальник милиции. Ты же ружья ему не отдал,
а он и подойти к тебе не посмел...
— Это верно, сынок, но тут иначе нельзя было.
Старику, хоть он и старик и помирать время, а хочется
честь уберечь. Это как же, чтобы у меня ружье, отняли,
как у драчуна-мальчишки палку? Нильза, Тарасик,
нильза. Будь ты храбрый или трусливый, все равно
отдавать ружье — значит честь потерять. А это хуже, чем
помереть...
168
Тарасик успокоился, как будто принял объяснения
деда, но помолчал немного и опять спросил:
— Деду, а деду, скажи мне, а что бы ты делал, если
бы сразу, как увидел, так и узнал, что этот водяной
человек — начальник милиции? Ты обругал бы его или не
стал бы с ним ссориться? ..
Теперь задумался Иман. Ему неприятен был этот
вопрос. В глубине души он где-то смутно чувствовал, что
не стал бы связываться с этим наглецом, но ему было
неприятно признаться в этом даже самому себе. Быть
может, после ссоры он злился больше всего из-за этой
догадки, потому- и ругался с сыном, чтобы заглушить
неприятное чувство. Теперь мальчик неожиданно
спросил его об этом, и нельзя было отмалчиваться. Хитрить
перед мальчиком, искать оправдания себе Иману не
хотелось, хотя ясного ответа у него у самого тоже пока не
было.
— Не знаю, сынок, что тебе сказать,— признался
Иман.— Знал бы заранее, что в речке сам начальник
стоит, быть может, сразу в атаку и не пошел бы. Все же
он начальник, народом поставленный человек, и нельзя
его так просто ругать, как обычного бродягу. Это верно,
но и то правда, если он начальник, а речку портит, как
последний бродяга, так он дважды бродяга и последний
человек. Нельзя ему прощать. Не знаю, как бы я с ним
разговоры вел... Скорее всего, ругал бы за такую
пакость, но, если правду сказать, не стал бы его под
ружьем в сельсовет водить. Он же сам начальник, что ему
председатель Совета может сделать? Одно только
скажу тебе, Тарасик, и это честно говорю, как перед
Уастырджи, если бы он меня ишаком обозвал и свой
голый зад показал, то все равно стрелял бы в него
соленым порохом. Это точно, сынок, можешь мне поверить.
От простого бродяги обидные слова можно принять, от.
него другого и не ждешь, но от начальника срам
принять— это хуже всего. Это никак нельза, сынок,—
перешел опять на свой русский язык Иман, и Тарасик понял,
что самые важные слова сказаны и больше нельзя ему
допрашивать старика, иначе подумает, что он не верит
ему, и обидится.
Тарасику теперь все было ясно, он поверил деду и
сказал:
169
— Я так и думал, деду, что ты храбрый, как сам
имам Шамиль.,.
Он разрешил все свои сомнения и обиды, сердце
успокоилось, и детский крепкий сон сморил его после
трудного и путаного дня. Но теперь лишился сна
дедушка Иман.
Он вспомнил, что раскаяние — не надо было
стрелять в начальника милиции! — пришло к нему сразу же
после того, как он отошел от этих рыболовов, будь они
неладны. И эта мысль казалась ему мучительно
унизительной, будто он что-то предавал, и вызывала
презрение к самому себе. Теперь же, после вопроса внука,
мысль о раскаянии вернулась к нему и совесть
укоряла его:
«А все же неправильный ты человек! Знал бы, что
речку поганит начальник милиции, ты бы ружья даже
с плеча не снял и не обругал бы его, как следовало. Но
ты думал, что это какой-то обыкновенный бродяга,
каких много, вот и расхрабрился, геройствовать вздумал.
Герой!..»
«Верно, справедливые слова,— думал Иман,— узнал
бы, что рыбу травит начальник, тем паче над моим
сыном начальник, не стал бы его пугать, как мальчишку.
Побранил бы, как старшему положено, но стрелять не
стал бы. Если, конечно, сам не обзывал бы да свой зад
не показывал...»
«Так что это, справедливо, по-твоему? Если дурное
дело совершает обычный бродяга, то можно его ругать
и поносить, а попадется за таким же пакостным делом
начальник, так прощать надо, да еще перед ним стойку
держать, как псу охотничьему? Признайся, когда узнал,
что этот боров — начальник над твоим сыном, ты готов
был помириться с ним по-свойски, угостить его дома с
товарищами. А не признал вначале, так ему горячей
солью зад обжег. Вот и вся твоя справедливость...»
Иман прислушивался к укорам совести и не знал,
как и чем оправдать себя. Он считал, что шщхда. за
всю свою долгую жизнь он не поступал так, чтобы с
совестью быть не в ладах. И теперь ему было стыдно,
что посгуййл он хотя и по чести, но вышло это случайно,
по незнанию. Знал бы, то, скорее всего, не сделал бы
этого. А еще больше угнетало его сознание, что
мальчику своему он верно сказал: если начальник поступает
170
как бродяга, то он дважды бродяга. А вот доведись
встретиться с этим дважды бродягой за пакостным
делом, так он, Иман, может быть, и не послушался бы
совести.
Иману тяжело было сознавать это. Он не ждал от
себя такой снисходительности к начальнику. Он
понимал, что власть и начальник не одно и то же. Власть,
она принадлежит всему народу, а начальник всего лишь
один человек, и ему народ поручил непростое дело —
блюсти закон, не позволять его нарушать никому, ни
одному человеку. Он понимал также, что власть, она
выше всех, одна на всех, и никто не имеет права
присвоить себе такое право — нарушать закон этой власти. Но,
видно, думал Иман, человек невольно начинает видеть
дело так, будто начальник, раз он приставлен к власти,
то он уже не такой, как все, перед властью и перед
законом. Вот и начинает каждый человек смущаться
перед любым, даже жалким, начальником, даже когда тот
сам нарушает закон и виноват перед властью...
Это — единственное, чем мог Иман оправдать тот
свой поступок, который он не совершил, но мог
совершить. Видимо, человек, даже самый справедливый,
склонен прощать самого себя и быть снисходительным
к самому себе. Вот и Иман незаметно перешел если не
к самооправданию, то к самоутешению. Он начал
размышлять о том, почему же не каждый начальник
бывает справедливым и перед людьми, которые его
приставили беречь доброе имя власти, и перед самой властью?
Это же легко начальнику. Другое дело ему, простому
крестьянину, старому охотнику, которому никто не
подчиняется и слушать которого не желает никто.
«Нехорошо ведь это, когда начальник сам нарушает
закон. Установили обычай для всех, так ты сам его
первый соблюдай, раз народ приставил тебя к власти да
еще деньги тебе платит, уважение тебе делает. Как же
иначе, кто же тогда обычай блюсти будет, если
приставленные к власти люди нарушать его будут? И кто тогда
защитит обычай, какой бы хороший он ни был? Не я же
со своим охотничьим ружьем? И не могу же я от
начальника закон защищать? Разве он хуже меня знает,
что обычай — один для всего государства, на всех
людей один, и все обязаны его блюсти — и начальник, и
крестьянин, и солдат, и иналар? Или он думает, обычай
171
только для таких темных людей, как я, нужен? Но так
может один только темный человек думать. Я всю
жизнь с землей один на один живу, с волами да с
деревьями, ни одной буковки не могу прочесть в книге,
а понимаю, что никто себя глупее другого не считает.
Разве закон для одних темных да неразумных
придумало государство? .. Каждый о себе думает, что он
самому богу в мудрости не уступит. Как же ты заставишь
его поверить, что обычай для него одного и нужен?
Ничего из этого путного не получится. Это же всегда так
было, что обычай первым делом самые умные да
справедливые люди знали и соблюдали. Для всех он был
общий, и никому нарушать его не позволяли. Как же
иначе?
Обычай у нас хороший, верно, но надо же его всем
блюсти, и в первую голову начальнику. Иначе это уже
не обычай, а насилие. Если каждый начальник вздумает
нарушать закон, мол, я начальник, у меня сила, власть,
так что же это получится? Ни чести, ни справедливости,
кто сильнее, тот и прав, что ли? Что в таком разе я-то
могу делать, какая у меня сила? Нет, так жить не могут
люди, так нельзя жить на земле!»
Иман считал, что закон государства — то же самое,
что старый народный обычай, для всех общий и
обязательный. Если нарушил его кто, так должен быть
наказан, кто бы он ни был — начальник или человек, не
имеющий отношения к власти, умный или глупый, ученый
или совсем темный. Он считал, что нарушителя обычая
надо судить по закону совести и справедливости, а
такой закон может быть снисходительным не к
начальнику, умному и образованному, а, скорее, к темному,
неразумному человеку, не к иналару, а к солдату.
Иман видел, что в жизни не всегда так получается,
не всегда судят людей, нарушителей обычая,
справедливым судом. Он думал, что и его снисходительность к
начальнику, который речку поганит, может быть
оправдана, но это его не устраивало, это не по совеет^.., Вот
и укорял себя: «Не надо кивать на чужую
несправедливость, ты сам будь справедлив. И не прощай нарушения
обычая никому, ни начальнику, ни простому бродяге.
Разве справедливо прикидывать: нельзя обижать
начальника, как бы он тебя при случае похлеще не
обидел? Ты, может, за себя и не испугался,— старик ты,
172
и жить тебе осталось пустяки, не больно на твой счет
успеет начальник обиды отсчитать, а вот за сына ты
испугался — как бы его начальник не прижал, дороги
ему не закрыл... Нет, это никакая не справедливость,
и сознайся, что так и есть!»
Иман сознавался, что так и есть, но это было
мучительно для него, тем более что не мог он понять, как
и когда с ним случилось такое, что начал он не по
совести судить и поступать; не различать, где святая
власть, народный обычай, а где жалкий начальник,
приставленный народом к власти, но нарушающий обычай,
позорящий доброе имя власти. Он не мог вспомнить
такого случая в своей долгой жизни, ни в мальчишеские
годы, ни в зрелые времена, когда у него была своя
семья, он был за нее в ответе и не имел права поступать
безоглядно. Нет, никогда он не прощал несправедливых
обид!
Подростком еще, лет в четырнадцать, избивал его
плетью один злой и вспыльчивый человек из их же
рода. На коне был, достать его рукой невозможно, и
лупил его сплеча почем зря, а у него и хворостинки не
было в руках. Теснил его конем к плетню, видимо, с тем,
чтобы парень не смог перескочить с разбегу плетень.
Иман заметил у плетня кол-подпорку, вырвал его и так
хватил коня по голове, что тот взбесился, взвился на
дыбы и кинулся в сторону. Всадник не удержался на
коне и шлепнулся о землю. Иман со зла изо всех сил
ударил его по спине, и обидчик растянулся, будто
убитый. Это его спасло — парень подумал, что человека
убил, перепугался и бросился бежать прочь. С тех пор
никто даже обругать его зря не смел, и он навсегда
запомнил одну истину: нельзя прощать унижения и
обиды никому — ни богу, ни человеку, а будешь прощать,
так заездят тебя, как послушного быка...
Не прощал Иман не только своим обидчикам, он
терпеть не мог, когда при нем мучили других, даже
животных. Как-то сосед нещадно истязал беднягу быка
здоровенной палкой. А вся вина усталого быка была в том,
что он не мог вытянуть тяжело нагруженный воз на
пригорок. Под ударами увесистой палки бык изгибайся,
напрягал все силы, но воз не трогался с места, и тогда
бык заревел так страшно, будто его резали. Иман не
выдержал, вырвал палку у хозяина быка и стал изби-
173
вать его самого. Сосед знал, что у Имана медвежья
сила в руках, станешь с ним связываться, так хуже
будет, и бросился бежать домой, как будто за оружием,
чтобы отомстить Иману. Но Иман внимания не обратил
на его угрозы. Он приласкал быка, погладил, успокоил
и сам налег на конец ярма, потянул воз вместе с быком
и вытащил воз на пригорок. А там кликнул сына соседа,
и'он довел быков до гумна. Сосед отвел .душу бранью
и пошел к своим быкам.
И с унтером на германской войне дрался — не
стерпел незаслуженных оскорблений. Нельзя потакать
обидчику. Председатель, его родич, решил отнять у него
участок земли под картофель. Небольшой был колхоз,
всего тридцать дворов. Разделили землю на тридцать
равных полосок и бросили жребий. Председателю
почему-то приглянулся участок Имана, и решил он его
отобрать: возьми, мол, ты мою долю, а свой участок оставь
мне. «Это почему же? Справедливо же делили, по
жребию».— «А потому, что я председатель и мне по душе
твой участок!» — «Тогда вспаши свой участок, о моем
даже не заикайся»,—отрезал Иман и провел первую
борозду на своем участке. Председатель обругал его
грязно и пригрозил, мол, уходи с участка, убирайся, не
то хуже будет... Иман не стал ругаться, подошел к
нему и спокойно спросил его, что он собирается ему
сделать. В ответ услышал: «Горло перережу!» Иман
ударил его кулаком в подбородок, и тот опрокинулся
навзничь, потом заорал благим матом: «Убил меня!»
Иман ждал, когда тот встанет,— драться, так
по-честному. Председатель выплюнул кровь, оказывается, кончик
языка прикусил, и кровь пошла. Тут подоспели
пахавшие рядом соседи и увели побитого. Иман вспахал свое
поле, и этим кончилось. Не посмел жаловаться
председатель, сам был виноват. Иман с ним и мириться не
стал: «Не хочу, не желаю с ним с одного стола хлеб
есть, раз он такой наглец! Знаю, может, иногда и не
стоит за грудки хватать обидчика, но не звать же ми-
лициона, мол, обижают меня! Если каждый раз, когда
блоха укусит, к милициону бегать...»
Нет уж, Иман не станет заступников звать, когда
обижают, сам, пока живой, рассчитается. Менять свой
нрав поздно, старик он, да и зачем менять? А если что
в нем изменилось, так, может, от доверчивости? Как же
174
йе верить, что человек, к власти приставленный,
справедлив и обычай государства не будет поганить? Как
же тогда жить? Из-за одного паршивца всем остальным
тоже не верить? Бывает же, что люди человека не за
того принимают, что он есть на самом деле. Всю жизнь
жили рядом с этим человеком — бывшим
председателем, на глазах у всех он вырос, а никто не знал, что он
наглец и хапуга. Спихнули его той же осенью.
Ошиблись в своем же родиче.. ¦ А в таком большом мире,
в государстве, где столько народу, трудно ли
ошибиться?*. Вот и оказывается, наглец к власти приставлен,
так нельзя же из-за него остальных тоже срамить? Нет,
нельзя спускать наглецу, раз обычай государства
нарушил, гнать его надо от власти, нельзя, чтобы поганили
то, что всему народу свято. «Пойду завтра и так и
скажу этому борову, а будет свой характер показывать,
в обком пойду... Пусть не думает, раз он к власти
приставлен, так он и есть вся власть и волен делать, что
захочет...»
Иман размышлял долго, и сон прошел, лежать
надоело, и он осторожно встал, сунул ноги в галоши и
дышел во двор в одних подштанниках. Он решил, что
к начальнику милиции пойдет завтра же, иначе тот
подумает, что он, Иман, испугался его угроз, и в самом
деле получится, что он — сама власть и у него сила. Эта
мысль успокоила Имана, хотя сомневался он в одном:
может, получится так, что своей дерзостью — ас
наглецом он будет вести себя дерзко, так он решил,—
испортит вконец службу сына, но что же делать? Пусть не
терпит над собой такого наглеца, а терпит, так одного
поля с ним ягода и нечего жаловаться..,
Иман оглядел свой двор. Коровы спали мирно. Пес
Бури нехотя встал и подошел к хозяину, лениво
помахал хвостом, понюхал резину галош, видно, запах ему
не понравился, и он вернулся к своему нагретому
пятачку земли. Деревня спала. Из ущелья доносился шум
речки, лесистые склоны темнели, точно буркой
прикрыты. А над вершинами растянулось густо-синее небо,
усеянное крупными, с кулак величиной, и рассыпчатыми,
точно печеная картошка, звездами... Нигде ни
облачка. ¦, Хорош день будет завтра, в самую пору работать,
а тут придется слоняться по районному городку. Что
же делать, придется....
175
4
Утром Иман разбудил мальчика и объяснил ему, что
хочет взять его с собой в район, если, конечно, он
желает с ним идти. Иман пойдет по пешей дороге, не хочет
на автобусе ехать, и ему, Тарасику, может, будет
тяжело, но, если желает с дедом в поход, пусть встает и
србирается.
Иман мальчика брал с умыслом.. Он считал, что его
мальчик характером в бабушку удался, все к сердцу
принимает, и если дед пойдет один, то мальчик
изведется в ожидании, все будет думать, что деда
арестовали. .. Мягкое у него сердце, и бог знает, как он будет
жить, люди что-то щедрые на оскорбительные слова
стали, а он с трудом выносит даже малые обиды...
Надо взять его, как бы сын тоже не подумал, что его
мальчонку тут хотят присвоить и домой не пускают...
Правда, трудно ему будет такую долгую дорогу одолеть, но,
раз в бабушку пошел, должен быть ходоком. Ноги у нее
были, что у волка, выносливые...
Вышел Иман с мальчиком из дому рано. Перекусили
хлебом с молоком, взяли на дорогу в хурджине хлеба
буханку, казенного хлеба, и полбутылки араки,— а
вдруг попадется такой же путник, думал Иман, надо
будет угостить... Дорога хоть и не ахти какая
длинная — всего двадцать верст, но для старого и малого все
же трудная.. .Бывало, встанет рано и к завтраку в
район поспеет. Люди на службу еще не выходили, а он уже
там. Теперь же придется до обеда ковылять по
пыльным, давно не хоженным проселкам.
Идут Иман и Тарасик. Иман идет как-то нехотя.
Решил, что к сыну не зайдет, не хочется его хлеб-соль
есть, не побирушка он, не дошел еще до жизни такой,
чтобы хлебом попрекали, и не будет этого... Хорошо,
что ружье спрятал, отберут, так не скоро получишь,
придется вновь за дедово браться, за «громовик», а
возиться с ним одно мученье... Хорошо, что казенный
хлеб прихватил, вчера в сельсовете дочь купила, там
пекарня есть, хлеба вдоволь... И станция автобусная
там, от их села до станции всего две версты, но Иман
пешком пошел в район. Не признался ни дочери, ни
внуку, что денег у него на билет не оказалось, а просить
у кого духу не хватило, стыдно все же. Лучше пешком,
176
не так уж это трудно... А Тарас и рад, он впервые по
этой дороге ходит, через лес, то в лощину сбегает
дорога, то на кручу подымается, и хорошо в лесной тени,
птички на разные лады голосят...
Часа через два Иман изрядно утомился и присел под
одним старым буком в тени.
— Садись, сынок, отдохнем, торопиться ни к чему.
Пусть милиционы нас подождут, не на пироги зовут и
пивом не попотчуют. Так не все ли равно, рано явимся
или припозднимся?...
Тарасик лег животом на травку и, опустив голову на
скрещенные руки, задумался, следя глазами за беготней
суетливого муравья. Дед отдыхал, привалившись спиной
к стволу дерева, и молчал, а^ Тарасик вдруг спросил:
— Имам Шамиль, а не боишься, что арестует тебя
начальник?
Тарасика это пугало со вчерашнего дня, но все не
решался спросить. Утром, когда разбудил его дед и
сказал, что берет его с собой, Тарасик обрадовался. Дед
подумал, что внук соскучился по своим друзьям и дому,
но у Тарасика на уме было другое. Он знал, где райком
комсомола, секретарь к ним в школу приходил и говорил,
что школьники должны беречь природу, не давать в обиду
животных и зверей. Его дед здорово защищает своих
рыб и деревья, самому начальнику запретил
показываться туда, где он хозяин. И если этот начальник деда
арестовать вздумает, так Тарасик не позволит ему,
пойдет в райком комсомола и деда вызволит...
Иман улыбнулся Тарасику и спросил:
— А кто это тебе сказал, что меня арестовать хотят?
Они мальчишки — меня арестовывать, сынок. Не
бойся,— заключил Иман, и Тарасик поверил, что дед не
боится начальника, раз его мальчишкой считает, и зря он
за него тревожится.
— Арестовывают, сынок мой, бродяг и злодеев
всяких, а я разве похожу на злодея? Они сопливые
мальчишки, вот что. И отец твой заодно с ними.— Иман
прикусил язык, не хотелось вновь перед мальчиком его отца
ругать, и перевел разговор на другое.— Они, сынок ты
мой хороший, старика хотят напугать, чтобы он язык за
зубами держал, не рассказал о том, как они реку
портили в Оленьем ущелье. Не дай бог, узнают начальники
постарше их, так им несдобровать. Вот в чем дело, сы-
* II. Джусойты
177
нок. Но как они могут напугать меня, когда я вижу их
насквозь. Напугать — не на того нарвались, но пригнать
старика в район могут, чтобы, значит, помучился он и
смирнее впредь был. А ты, сынок, сам когда-нибудь
начальником будешь, ученый будешь человек, вот и
запомни: кто обижает правильного человека, тот сам
никудышный—и сердце у него паскудное, и умишком он
злой. С таким нельзя дела иметь и в дорогу пускаться
опасно, предаст. А когда ты прав, сынок, ничего не
бойся, ни бога, ни большого начальника. А будешь бояться
да трястись, так грош тебе цена в базарный день и
твоей жизни — тоже.
Дед отвечал вначале уверенно, но к концу в его
словах Тарасик почувствовал горечь и обиду и подумал,
что этот злой начальник может и безвинного
арестовать, и снова закралась в сердце тревога. И не сможет
он избавиться от этого чувства, пока дед не выйдет из
здания милиции и вместе они не отправятся обратно
в Оленье ущелье.
Дед и внук, отдохнув за разговором, двинулись в
путь. Дед решил развлечь мальчика смешными
рассказами из своей солдатской жизни, вспомнил, как он
учился русскому языку. •. Однажды в окопе офицер
обругал его: «Нагни голову, дурак! Башку оторвут...» —
а он понял только, что ругает его, дураком обзывает,
а чего тот от него хочет, не мог сообразить. Тогда
офицер подошел ближе и нагнул ему голову ниже краешка
окопа. Вот что, оказывается, значило «Нагни голову,
дурак!». С тех пор дед и начал прислушиваться к
разговорам своих товарищей, чтобы всё понимать. И выучил
язык, через три месяца все уже понимал, чему учили.
«Язык знать надо, сынок, это такое добро, цены ему нет,
и всегда при тебе, никто не отберет и не украдет...» —•
заключил Иман.
Рассказал Иман и о своих «Георгиях», когда и за что
их получил. Об иналаре Брусилове помянул, о том, как
до самой Австрии, германской земли, дошел,
восьмизарядный наган оттуда привез, из окружения вышел один
из всей роты. Два солдата, он и Матвеев, не захотели
в плен попасть, оба кресты имели, в героях ходили — и
вдруг германцу сдаваться! Нет, этого не будет!..
Побежали они через картофельное поле, но германцы их из
пулемета обстреляли. Матвеев был ранен в живот, а он
178
в ногу, но не очень сильно. Выбрались из окружения,
пулемет их уже не мог достать, но Матвееву было
плохо. Дотащил его до своих, сестрам милосердия сдал на
руки, но помер он. Из всей роты один он, Иман,
остался. ..
Незаметно дед перешел на серьезный лад, и самому
грустно стало. Тогда он решил в утешение мальчишке
старый анекдот рассказать, но так, будто это с ним
самим случилось...
— Однажды офицер спрашивает, знает ли из нас
кто Спартака. Никто не знал, но я подумал, что это
у нашего кашевара Алеши мерин такой есть, белый да
крупный, подойдешь, так все губы протягивает, есть
просит. Хозяин его Спартаком кличет. Когда на нем
кухню-котел возит, покрикивает: «Но, Спартак!»
Думаю, офицер, видно, о нем и спрашивает. Все молчат,
так хоть я скажу, и вызвался. «Это мерин нашего
кашевара Алеши, ваше высокородие!» — сказал я.
«Дурак!»— расхохотался офицер, а я растерялся и брякнул
в ответ: «Так точно, ваше высокородие!» Тут грохнули
все мои солдаты-товарищи, и только тогда я понял, что
глупость какую-то сказал и смеются надо мной. И сам
начал смеяться, что же было делать? ..
Тарасик не посмел смеяться над дедом, но
усмехнулся и спросил:
— Деду, а потом ты узнал, кто такой Спартак?
— Откуда мне знать? Понял только, что это человек
такой, видно, был, а не мерин нашего кашевара,—
признался Иман.
— Да это герой был такой, герой! Вот если бы он
был начальником милиции! Он не любил людей, у
которых, как ты сказал, и сердце поганое и умишко злой. Он
такой, как ты, был человек,— радостно пояснил деду
Тарасик.
— Как я? .. Нет, сынок, видно, он молодой был,—
грустно заметил дед.— А я старый, вот и легко меня
гонять туда-сюда зазря... А молод был, так со мной не
смел никто шутить., * Старик, он ни для кого не
страшен, а уважить его только умный догадается...
Иман смекнул, что опять на жалобный разговор
перешел, и заторопился:
— Нам, сынок, спешить надо. Отсюда до самого
района дорога все вниз да под уклон идет, можно и шагу
*
179
прибавить. Опоздаем, начальника на месте не застанем,
так придется ночевать в районе, а мне совсем некогда,
да и охоты нет под одной крышей с милиционом
ночевать. ..
Как только доложили начальнику милиции, что
пришел старик Иман, охотник из Оленьего ущелья, он
позвал милиционера и бросил ему:
— Отведи его в камеру, там поговорю с ним.
Милиционер отвел Имана в небольшую комнату с
одним окошком в переплете из железных прутьев. Има-
ну не понравилась комната, что-то на пустой хлев
походит, ни стола, ни стульев, один только топчан
замусоленный. Но успокоился, когда вслед за ним вошел и
начальник и тут же поинтересовался, как подобает
дружелюбному хозяину:
— Что так поздно явился, Иман? Автобус давно из
вашего ущелья прибыл. Или здесь где ходил? —
Начальнику важно было узнать, не был ли старик у кого
из районного начальства, в райисполкоме или, еще
хуже, в райкоме партии. Если был у кого, то придется его
тут же отпустить...
— Ничего не поздно,— ответил Иман.— Я не привык
на машинах разъезжать, пешком шел, коня давно не
держу...
— Устал, наверно, в таком случае,— посочувствовал
начальник и усмехнулся.
— И устать не грех, двадцать верст отмахал,—
сказал Иман и бросил свой хурджин на топчан.— А это
в мои годы немалый путь,— взглянул Иман в глаза
начальнику, думая угадать по глазам, что же он намерен
с ним делать, чего завел в этот темный угол.
— Верно ты говоришь, и я думаю, ты отдохни пока,
а там поговорим о деле,— согласился начальник. У него
был вид победителя.
На этом он прекратил свое объяснение с Иманом,
указал милиционеру на дверь, и они вышли друг за
другом. Прикрыли дверь и повернули ключ в замке. Иман
это слышал и понял, что его заманили, как мальчишку.
Что ж, подумал он, делать нечего, не кричать же. Нр.
хватало еще, чтобы радовался этот боров, мол, напугал
старика... «Ладно, посмотрим, кто кого одолеет»,—
решил Иман и присел на топчан.
180
Призадумался он, что все это значит, но пока
утешил себя тем, что нет худа без добра. Начальник,
наверно, собирался с ним долго пререкаться, а к тому
времени автобус ушел бы, и ему невольно пришлось бы
ночевать у Гари, а этого он не хотел. Вот и хорошо, что
проведет ночь в этой комнате, а утром видно будет, что
делать следует. На этом успокоился Иман и решил
отдохнуть. Снял хурджин с топчана и прислонил к стене,
снял сапоги и положил рядом с хурджином. Провел
рукой по топчану и подумал: грязноват, но ничего, сойдет,
и дома не на шелковой постели спит, одну ночь в хлеву
можно вытерпеть, а тут приличная лежанка.
Прилег Иман, и чуть было не сморил его сон, но он
привстал и босой пошел к двери — проверить, заперта
ли. Это он делал по давней привычке перед сном —
проверял, закрыты ли двери, не забыл ли их запереть, а то
как бы собака не вошла, начнет шарить по углам...
Дверь была заперта, и Иман подумал: добрые хозяева
не забудут запереть дверь, зря, старик, беспокоишься...
Теперь он основательно расположился на топчане.
Вытянул усталые ноги, подложил под голову свою
войлочную шляпу, потом широкие жесткие ладони и
закрыл глаза — соснуть немного, чтобы усталость прошла,
тогда и говорить с начальником будет сподручнее.
Вначале не хотелось ни о чем думать, но невольно
вспомнил, что в деревне уже вечер, коров, наверно, уже
подоили, коз загнали во двор, дочь не могла их оставить
на ночь за оградой. Видно, и Тарасик уже дома и,
наверно, рассказал отцу, что дед здесь, в милиции. Лучше,
если бы ничего он им не говорил, но мальчик не
удержится. ..Ас этим начальником он, Иман, сам
справится, найдет на него управу, зря он считает, что он
власть... Обманом затащил его, старика, сюда. Силой
бы небось не посмели. Вот срам на старости лет.
Обида подступила к горлу, но Иман отмахнулся от
нее: ладно, быстрой речке все равно до моря далеко —
куда спешить. «Завтра видно будет, посмотрим, чья
возьмет»,— грозился Иман, но понимал, что все это
сейчас не имеет смысла и лучше всего заснуть, отдох-
нутй...
Иман почувствовал себя старым и одиноким, но и
это чувство отступило, усталость победила, и вскоре он
захрапел.
181
Где-то за полночь Иман проснулся в поту. Ему
приснилось, что пришли к нему домой милиционы с началь*
ником и пошла драка. Начальника он успел заколоть
ножом, а остальные навалились на него, Имана, и
скручивают ему руки. Он пытался разорвать путы,
освободить руки, но не мог. Тогда крикнул: «Е-ей, где вы,
люди!» — и проснулся от собственного крика.
Это затекли сцепленные под головой руки, и он не
мог их развести... Глупый какой сон, подумал Иман,
и стал растирать руки. Потом встал и поглядел в
окошко. Ничего не видно, тьма-тьмущая за окном. Видно,
уже далеко за полночь... Надо выйти во двор, придется
постучать...
Иману открыл дверь милиционер, который завел его
в эту комнату, и притворно весело спросил:
— Что, старик, не бежать ли вздумал?
— Нет, молодой милицион,— обиделся Иман.— Для
беготни я слишком стар. А вздумал бы, так ни ты, ни
твой храбрый начальник не удержали бы меня. Но я не
мальчик, чтобы в беге с вами спорить...
Милиционер понял, что зря обидел старика, и решил
исправиться, спросил серьезно:
•*— А все же, отец, в чем ты провинился, что на
старости лет к нам заявился самолично?
— А это ты у своего начальника спроси. Я же за
собой ничего дурного не приметил, разве что одному
борову на поганый зад соли посыпал...
Милиционер улыбнулся, но ничего не сказал в
ответ,— видно, знал, о чем старик речь вел, и считал
неприличным ввязываться в обсуждение своего
начальника с Иманом.
Иман вернулся в свою комнату и стал окончательно
устраиваться на ночь. Достал из хурджина свой
дождевик. Гари подарил ему этот милицейский плащ, и в
дорогу Иман всегда его брал с собой. Развернул плащ и
набросил на плечи. Лег спать по-солдатски — под собой
плащ и накрыт плащом. Потом прикрыл голову
капюшоном, вспомнил духа ночи: «Не обойди своей
благодатью!» — и уснул.
Тарасик вечером уже понял, что дед его сидит у
начальника в камере. Они договорились, когда дошли до
милицейских ворот, что внук пойдет домой, а дед приде*
182
следом, как только закончится его большой разговор с
начальником. И Тарасик не сомневался: раз не пришел
дед к ужину, значит, его не отпустили. Дед всегда
держал свое слово, не мог обмануть. Тарасик это знал и
пристал к отцу: сходи в милицию и приведи деда. Гари
В милицию идти не пожелал и объяснил отсутствие деда
тем, что он, видно, обиделся на него, потому не пришел
к ним, ночует у кого-то другого и завтра заявится сам,
и Тарасик опять поедет с ним в Оленье ущелье на все
лето... И нечего тревогу поднимать, не козленок он,
волк его не задерет...
Тарас поверил. Он сам видел, как дед ссорился с
сыном, и знал, что дед на Гари в обиде и мог не
пожелать ночевать с ним под одной крышей. С этой мыслью
Тарас лег спать. Надо подождать до утра...
Гари же знал, что раз Иман пришел к его
начальнику, так он его просто так не отпустит, придумает какую-
нибудь месть, не посчитается и с тем, что Иман отец его
подчиненного, чуть не заместителя. Обратиться же в
райком или райисполком — значит жаловаться на
своего начальника, а этого он остерегался. У начальника
характер мстительный, непременно узнает, что
пожаловался именно он, Гари, и придется с ним сцепиться.
Ссориться с начальником ему не хотелось — начальник
может ему это припомнить. Правда, был у него такой
порыв — позвонить начальнику по телефону и уговорить
его не связываться с его строптивым отцом, но,
поразмыслив трезво, он бросил трубку телефона на рычаги,
помахав ею в воздухе, так и не набрав номер
начальника. Он подумал, что ничего с Иманом не случится до
утра, а к утру сам начальник остынет и отпустит
старика, да и на него, на Гари, не обидится. Словом, и вертел
не сгорит и шашлык не обуглится. Одно не учитывал
Гари: его отец, Иман, вовсе не признавал себя
шашлыком, а начальника — вертелом.
Начальник отлично знал, что задерживать старика
он не имеет права, но уж очень ему хотелось отомстить
своевольному старику и показать, кто тут власть. Не
позволит он, чтобы всякий, кому вздумается, руку на
него поднимал, тем более не позволит этому старому
ишаку. А станет кто винить его, что он старого человека
в камеру посадил, так есть отговорка: он просто пожа-
183
лел старика и приютил его на ночь, вернее, дал ему
отдохнуть с дороги. А пока он спал, его, начальника,
вызвали в областную милицию, вот и не догадались
подчиненные отпустить старика вовремя... Неловко,
конечно, получилось, да что поделаешь? .. Ему хотелось
поговорить со стариком, ничего другого у него и в
мыслях не было... Он понимал, что такая ложь покажется
правдой, а он сделает свое: старику отомстит и силу
своей власти покажет, чтобы неповадно было впредь с
ним, начальником милиции, связываться. Поверит ли
этой «хитрости» Иман или нет, это не занимало
начальника.
Гари рано утром собрался идти на работу, решил
сказать все же начальнику, чтобы отпустил старика. Та-
расик тут же вскочил с постели и хотел идти с отцом, но
тот остановил его:
— Не ходи со мной, я пришлю деда, и поедете
вместе. Ты лучше вот что сделай: иди купи в магазине
конфет, в деревне угостишь ребят, своих двоюродных
братьев и сестер... Возьмешь с собой и удочку, с дедом
рыбу ловить.— Гари помрачнел: пропади она пропадом,
эта рыба! Из-за нее сыр-бор разгорелся!..
Тарасика и на этот раз обманули, он верил отцу.
Очень не хотелось Гари идти к начальнику из-за отца,
будто на казнь его вели, но другого выхода не было.
Спросил у одного из милиционеров, где начальник, и тот
сказал, что уехал по вызову в областной центр. Гари
обрадовался: не придется объясняться, но, с другой
стороны, это плохо — без распоряжения начальника
старика никто не отпустит. Придется Иману еще одну ночь
спать на топчане... Понял Гари, что все это подстроено
нарочно, начальник мстит старику... Ему было ясно
также, что, скажи он хоть слово прокурору, отца
отпустят тут же, но это опять-таки жалоба на своего
начальника. .. Прокурор и там, в Оленьем ущелье,
предупредил, что надо извиниться перед стариком, а не
угрожать ему... Но получается, что и так плохо, и этак
нехорошо,.. Гари решил пока повидаться с отцом,
поговорить и успокоить его.
С этим намерением Гари вошел к отцу, смущенный
и в то же время обрадованный: вот он, Иман, всегда"
коривший его, что нет у него мужества и человеческого
достоинства, сидит перед ним на жалком топчане. «Не
184
будет впредь похваляться своим достоинством, будет
знать нашу силу. Это мы защищаем народ от всяких
злодеев, мы все можем, хоть и не пуляли, как он, солью.
Пусть знает, что и я тоже представитель власти...»
А смущен он был тем, что арестован все же его отец
и он, родной сын, держит отца в камере. Товарищи
засмеют. .. Чувствовал Гари вину перед отцом: все же
старик не виноват, и в таком разе он, его сын, обязан
заступиться за отца. И знал он, что не хочет слово
замолвить за отца по соображениям чисто служебным, а
если по совести судить, то это стыдно. Ему неприятно
было думать об этом.
Услышав, что кто-то вошел в комнату, Иман
приподнял голову и взглянул на дверь. Увидев Гари, вновь
опустил косматую, давно не стриженную голову на
топчан.
— Ну что, старый охотник, прохлаждаешься
здесь? — шутливо спросил Гари, левой рукой потирая
пуговицы своего новенького мундира, а правой рукой
играя ключами, пытаясь скрыть свое смущение.
Иману не хотелось говорить с сыном, но раз пришел,
то нельзя было делать вид, что его здесь нет. Он встал,
натянул сапоги на ноги, подпоясался, убрал волосы под
шляпу и стал собираться домой, свернул плащ и сунул
его в хурджин. Он думал: видно, начальнику стало
неловко, что задержал старика, потому сам не пришел,
послал сына, мол, разберитесь сами по-семейному.
Иман взял свой хурджин в руки, теперь можно было
идти, и запоздало ответил сыну:
— Не прохлаждаюсь, на службе нахожусь. Сижу
вот и сторожу за семью дверями Звезду рассвета —
Бонварнон, благодать на землю посылающую. Боюсь, не
выдержит вашего духа и улетит, земля осиротеет...
— Неплохая служба!— улыбнулся сын, не отходя
от дверей.
Иман засомневался: «А не проведать ли пришел
сын?.. Чего бы иначе болтал со мной, будто на
косовице меня, сонного, в кустах застал?.. Знает же, что мне
уходить надо, а не прохлаждаться здесь... Они же
издеваться надо мной задумали, а я, старый дурень,
считал, что мужчины они, а не сварливые бабы... Смеется,
что ли, мой офицер? Вот осел, над отцом куражиться
вздумал...»
186
Злился Иман на себя. Вот старый дурень, не
сообразил узнать вначале, зачем пожаловал сын, а тогда уж
собирался бы домой. Надо же было так
опростоволоситься! ..
Иман положил свой хурджин на топчан, шляпу
рядом придавил, сложив ее вдвое, и опустился на краешек
топчана. Теперь он уверился, что сын не с добром
пожаловал, и ответил сдержанно:
— Я не просил тебя мою службу проверять. Есть
что сказать — говори, нет — так ступай и скажи парню,
воды пусть принесет в кружке, лицо ополоснуть. Или
у вас не принято умываться?
— Ты, отец, по всему видно, критиковать нас пришел
из деревни, но у нас положено раскаиваться в своих
грехах, судить нас никому не положено. Таких вещей
мой начальник не любит,— пытался Гари не сбиваться
с тона.
— Эх, сын мой единственный,— огорченно начал
Иман, и Гари решил, что отец будет жаловаться на
свою опрометчивость в ссоре с начальником, просить не
придавать этому слишком большого значения и
отпустить его домой. Он было обрадовался — окажет
добрую услугу отцу, но тот огорчил его неожиданно.—
Как же ты не понимаешь, что пустые вы люди, и ты
и твой начальник. .. Это даже внук мой Тарас знает,
можешь его спросить, а тебе не верится, и некому
вдолбить в твою башку эту простую правду.
— Опять ругаться пошел! — обиделся Гари.—
Думаешь, все тебе сойдет? Нет, отец, зря на это надеешься.
— Давно я ни на что не рассчитываю, сын мой. С тех
пор как твой старший брат на войне погиб, ты у меня
один остался, я всякую надежду оставил. Опоры нет,
и надеяться не приходится. Видно, так мне на роду
написано. .,
Имай опустил голову на руки, сгорбился и замолчал.
Гари впервые подумал о том, что отец состарился, нет
у него прежней прыти, силы покинули его, устал...
Пожалел он отца, но обида его все еще не прошла.
— Ничем бы тебе мой старший брат не помог. Не
простое это дело — на милицию руку поднимать. Это
преступление перед государством,— пытался Гари
оправдаться перед отцом и попугать его.
— Об этом и говорю, сын, что дурь у тебя в голове»
186
Не можешь понять, что никакое ты не государство, а
так — линялая шерстинка на спине у быка,— грустно
продолжал Иман.— А ты — «государство»!..
— Вот именно, отец, государство! Начальник
милиции целого района — это власть, а ты кто? Никто!
Обычный старик, Иман Пиранов, пенсионер из Оленьего
ущелья, и все! Как же не можешь понять, что воюешь
не с ровней? — вроде в шутку говорил, но на самом деле
Гари так и считал в душе.
— Нет, сынок,— понял Иман, что Гари хитрит,
чтобы, в случае чего, можно было сказать, мол, пошутил,
не всерьез же такое говорится.— Не я пенсионер, а ты
и твой начальник. Правда, старик я и пенсию получаю,
но я все еще работник, хотя и старый. Каждый год,
худо ли, хорошо ли, но не бывает, чтобы я хоть одну
козу и одного бычка государству нашему не сдал, хоть
на одну колхозную корову сена не накосил. А это какая
ни есть, хоть малая, а польза государству, а ты? ..
Люди тебя за хорошего человека приняли, к власти
приставили, кормят и одевают, вроде службу несешь, а ни
одного доброго дела пока не сделал. Вот и выходит, что
пенсионеры — это и ты и твой начальник, а не я, старик
из Оленьего ущелья. А придет к вам старость, так вы
и пенсию в десять раз больше моего получите... Вот
и считай, что ты у государства нахлебник, а не я, сын
мой...
— Конечно, конечно! — усмехнулся Гари.—
Государство пропало бы, если бы не Иман, Пирана сын.
— Вот и опять глупость сморозил, сын.— Иман
исподлобья взглянул на Гари.— Не можешь своим
глупым умом понять, что государство из людей да
работников состоит. И каждый обязан хоть малую пользу
приносить, а не думать, что бы у государства утащить в
свой дом. Обеднело бы наше государство, если бы все
были как ты... Да что с тобой толковать, ты за отца
слова не можешь сказать, так за государство, что ли,
заступишься? Черта с два! Тебе бы только свою глупую
башку в кустах спрятать. Вижу я тебя. За свое место
дрожишь, своему дурню начальнику сказать боишься,
за что, мол, старого человека обижаешь? Боишься, как
бы не взъелся на тебя. А этот старик — твой отец. Будь
же он чужой, ты бы сам над ним измывался, чтобы
187
начальнику услужить. Так оно и есть. Не притворяйся.
Как же на тебя государству-то положиться?
-¦*- Ты государство не трогай, не твоего ума это
дело,— решил прекратить неприятный ему разговор Гари,
но знал, что отца ему остановить не удастся, не такой
у него норов.
— Чего не трогать-то, мое оно, государство, и мне об
нем думать, не тебе же. На тебя надежды мало.
Государство, может, и не знает тебя, не раскусило пока, но я
зато хорошо тебя знаю. И не рассчитывал на тебя
никогда. .. Был у меня сын, большая надежда, а теперь
нет его, один я остался. Но пока жив, за себя постою.
Понял? — Иман замолчал, и Гари показалось, что
самое время старика осадить.
— Ты брось, отец, на меня сваливать вину. Привык
ты свой норов показывать, вот и нарвался на такого
человека, который спуску тебе не даст...
— Ничего ты не понял,— прервал его Иман,— и
никогда ничего не поймешь. Своего ума у тебя нет, а к
умным людям прислушиваться не научился. И я не смог
тебя научить. Видно, не расти волосам на яичной
скорлупе. Послушать тебя, так выходит, что все государство
против пенсионера Имана из Оленьего ущелья воевать
собралось, с пушками да еропланами. И старый дурень
не может сообразить, что он бессилен против
государства, одинокий да беспомощный старик... Болван ты, сын
мой, хоть и хитроумным сам себя считаешь.
Государство, оно за меня, хоть и пользы от меня мало. Твоя
муравьиная хитрость проста: что мне отец, чтобы из-за
него с начальством ссориться! Чин мой, что ли, повысит,
к ордену представит или жалованья прибавит? Верно
своим умишком прикинул. Старик ордена не раздает и
людей к власти не приставляет, но одно он в силах —
имя человека в грязь не ронять, свою работу честно
делать и громко сказать, когда при нем другого
несправедливо обижают: нельзя!.. Вот потому и государство
за этого старика, а не против. Чинолюбителей
государству долго искать не надо, сами к нему просятся в
услужение, но оно им цену знает.
Вижу, молчишь, нельзя же старого отца не слушать,
но про себя думаешь: разболтался старый пенсионер из
Оленьего ущелья! Пусть так, но попомни мое слово: с
твоим умишком не бывать тебе государственным челове-
188
ком, ни иналаром, ни большим начальником.
Государству не такие люди нужны. А если ошибаюсь, не сбудется
мое слово, то крикни мне над могилой: «Ложь твои
слова, отец, вот я, твой сын, иналар!» —и я прощенья
попрошу из страны мертвых. Но не будет этого, никогда!
Иман встал, одернул полы рубахи и поправил усы.
Это значило, что разговор кончен, сын может идти.
— Иди, не держу! Хватит мне тут с тобой зря слова
тратить. Некогда, сегодня вторник, люди на косовицу
вышли, а я у вас прохлаждаюсь. Иди скажи своему
начальнику, пусть зайдет, если есть что сказать. А нет,
так я уйду, и попробуйте меня задержать... Иди.
Иман отвернулся и стал глядеть в высокое окошко,
будто засмотрелся на плывущие по небу облачка. Гари
понял, что отец ни слова больше не скажет, и вышел.
Иман задумался: «Что же делать? Сидеть так,
сложа руки,— это бессмысленно. Начальник как раз
желает, чтобы я помучился тут, смирно и покорно ждал его
милости. Так не пойдет. Чтобы с меня шапку срывали
да в грязи топтали ногами — не позволю!»
Иман не надеялся на сына, не передаст он
начальнику его слов, надо другого милициона звать. Застучал он
кулаком по двери, вошел милиционер. Иман попросил
вызвать начальника к нему и пригрозил, что если
начальник не соизволит к нему зайти, то он самовольно
уйдет отсюда и пусть попробует остановить его
кто-нибудь. Милиционер вышел.
Иман присел на топчан. Что же делать дальше?
Прорываться силой, как из германского плена?
Придется драться с каким-нибудь молодым милиционом.
Стыдно с мальчишкой в драку лезть старику, засмеют люди.
Если драться, так с обидчиком. Милиционы ничем его
не обидели. Ну, мордастый, дай добраться до тебя!..
Жалел Иман, что пришел по доброй воле к этой
собаке. Обзывал себя старым дураком, но обида не
проходила, ничего бранью не изменишь. Доверился, как
мальчишка, свинье, вот и приходится сидеть в вонючей
конуре. Зовет начальника, будто придет он... Проклинай
его, грози ему всеми карами на земле — что ему твои
угрозы! Сидит себе, где ему приятней, и в ус не дует,
а ты леди и хоть тресни от злости!
189
Гнев захлестнул сердце Имана, но он понимал, что
срывать свою злость на невинных людях глупо.
Подпалить дом он, конечно, мог — по старой охотничьей
привычке он всегда с огнем. Раньше с кресалом не
расставался, а теперь пошли спички, и они всегда при нем,
в кармане. Но глупо же из-за одного подлеца такой дбм
рушить, не с ума же он, Иман, сошел на старости лет.. •
Милиционер вернулся и сказал ему, что начальника
нет, а без его ведома никто не имеет права отпустить
задержанного. Иман окончательно решил, что надо
расправиться с обидчиком, а там пусть убьют его, но позора на
свою голову он не примет от такой собаки. Решил
никого больше не пускать к себе, пока сам начальник не
придет, а придет, откроет дверь — надо хватить его по
голове бутылкой араки, ничего другого под рукой нет...
Так думал Иман в гневе, но все же ждал еще: быть
может, явится начальник и все обойдется без драки.
Когда ему в обед предложили поесть, он рассвирепел
и накричал на милиционера:
— Убирайся со своим обедом! Не ем я собачью
похлебку, уходи!
Милиционер опешил и не мог сразу сообразить,
какая муха укусила этого старика, чего на него-то
кричит?. . Но потом обиделся и сказал довольно грубо:
— Ты, старик, кажется, не понял еще, куда попал.
Здесь милиция, а не гостиница, и за ругань тут по
голове не погладят, запомни!
— Убирайся вон, говорю! — взревел Иман и с силой
оттолкнулся от топчана.
Милиционер с миской в руках попятился и исчез за
дверью, обругав Имана старым ослом. Иман поспешил
сам скорее закрыть дверь за ним. Дверь открывалась
внутрь камеры. Поставив топчан одним концом к двери,
Иман забаррикадировал вход. «Теперь без моего
ведома никто уже сюда не войдет»,— подумал он и
успокоился. Началась «война», так надо идти в атаку, а не
размышлять...
Иман по натуре не склонен был к ссорам и дракам,
но если решался драться, так примирения не знал.
Побьет обидчика или его самого одолеют — это не имело
значения. Дрался до конца. И теперь свою «войну» он
начал тем, что загородил дверь в камеру. Вынул из хур-
джина бутылку с аракой и, глубже вдавив затычку,
190
поставил ее рядом с топчаном. Оглядел комнату, нет ли
здесь иного «оружия», но ничего не приметил.
Попытался выдернуть одну доску из пола, но ухватиться за край
доски было невозможно — доски были новые и к стене
прилегали плотно. Пока возился с полом, гнев прошел,
Иман успокоился и присел на топчан. Потом решил
отдохнуть, выгнулся на топчане. Незаметно уснул.
Теперь он знал, что никто к нему не сможет войти без его
ведома, и спал спокойно.
Гари пообедал в столовой. Домой он не осмелился
идти. Пристанет опять пацан, почему деда не привел,
лучше подождать до вечера, пока он не уснет. После
обеда он хотел еще раз поговорить с отцом, чтобы не
вздумал бушевать, пока начальник не вернется из
поездки. Но двери оказались заперты изнутри. Гари забес*
покоился, особенно узнав о стычке отца с
милиционером. В таком гневе он может что-нибудь натворить,
надо его остановить вовремя...
Гари достал пожарную лестницу и полез к оконцу
в камеру, посмотреть, что там делает отец. Но, увидев,
что он спит на топчане, а по правую руку у него стоит
бутылка из-под араки, успокоился. Видно, подумал он,
отец напился со злости и уснул. Уснул, наверно, крепко
и не проснется до позднего вечера, а в темноте что он
может натворить? Проспит до утра, а ночью придется
все же позвонить начальнику. Отпустить надо старика,
а то хуже будет, не оставит он это дело так, дойдет до
обкома. ¦.
Гари поздно вечером вернулся домой, но, к его
огорчению, Тарас еще не ложился спать, ждал его
возвращения. Он сразу же кинулся к отцу: где дед, почему его
не отпустили домой, почему не сказал отец своему
начальнику, что деда нельзя держать в милиции? Отец
пытался было вразумить сынишку не вмешиваться в это
дело. Деда завтра отпустят, начальника ждут. Тарас
заплакал, потом вытер слезы и пригрозил отцу:
— Иди к своему начальнику, и пусть отправит домой
деда сейчас же, а не отпустит, уак я пойду в райком
и все расскажу, чтобы знали вае>** браконьеров! Тогда
увидим, кого в камеру посадят, увВДимг! •.
Отец испугался, знал, что Тарас вспыльчив и дер-
191
зок, когда его обижают, и может сделать так, как
сказал. Тогда попадет ему, а не начальнику, тот все свалит
на него, а сам выкрутится. И никто уже не будет
спрашивать, виноват ты или нет...
— Сиди и не тявкай, щенок! — прикрикнул на сына
отец для острастки.— Тоже мне заступник нашелся!..
В райкоме и без тебя знают об этом. И сами решат.
Надо, так отпустят, нет, так тебя.не спросят. Будешь
много болтать, так и тебя потащат куда следует.
Думаешь, из-за меня не тронут, не посмеют? Как еще
посмеют! Дед наш тоже считал: раз его сын в милиции
служит, так никто его пальцем не тронет. А видел, как
получилось? .. Головой надо думать, грамотей!..
— Ложь все это, ложь, ложь, ложь! Ни одному
твоему слову не верю! — зарыдал Тарасик неутешно и
выбежал за дверь.
Отец вышел вслед за ним во двор. Он испугался не
на шутку и решил никуда не выпускать мальчика.
— Иди домой, слышишь?
Тарасик слышал, но идти в дом не хотел. Он присел
на валявшееся во дворе буковое бревно, уткнулся лицом
в ладони и горько всхлипывал. Отцу жалко стало сына,
и он начал его утешать:
— Ну чего ты ревешь? Идем домой, стыдно
плакать. .. Ничего с твоим дедом не случилось. Вернется
ночью начальник и завтра отпустит его, поедете вдвоем
в Оленье ущелье, и все. А ты ревешь и кричишь: деду,
деду!.. Тебе он дед, а мне чужой, что ли..
Гари казалось, что он говорил убедительно, ш>
Тарасик не верил ему. Знал, что отец может обмануть, не
раз он его обманывал, но каждый раз находил какие-то
причины. Тарасик всегда чувствовал, когда отец водил
его за нос. Теперь казалось, что отец говорит правду, но
Тарасик не верил этой правде, чувствовал в его словах
что-то не то. «Почему же лжет отец? — думал он и
вдруг догадался: — Не любит он деда! Не любит! А то
бы заступился. Он его рыб травил, из пистолета в него
стрелял, а потом арестовал... Нет, не любит его, меня
тоже не любит, все обманывает...» .
— Никого ты не любишь! — всхлипывая, огрызнулся
Тарасик.— Ни деда, ни меня, никого! Вы все никого не
любите, и я не буду с вами жить! Поеду с дедушкой
192
жить, вы все обманщики!—заплакал навзрыд Тара-
сик и вскочил, пошел в сад за домом, чтобы не видеть
отца.
Гари задумался над словами сынишки, но не
поверил, что он в самом деле может уйти из дому и
переселиться к деду. «Ребенок, что с него взять, к утру
забудет все, назло мне так говорит,— думал он.— Как это я
не люблю его? Кого же мне еще любить? .. Ни ругани,
ни подзатыльников не знает, чего же еще? .. «Вы все
никого не любите!» Чего это он болтает? Мать, что ли,
обидела его когда? Тоже никогда его не- била, сколько
помню, и не жаловался он на мать никогда...»
Неприятно кольнули отца слова Тарасика, но он не привык
долго размышлять о чужой беде, а тем более о горе
маленького сына. «Какое у него может быть горе? Сыт,
одет — чего еще надо? Мальчишеская болтовня, вот и
все! Избаловали его! Все ему не так! И что это все на
меня обижаются, будто я в чем перед ними провинился?
Выходит, надо и перед мальчишкой ответ держать,
точно и он надо мной старший, начальник!.. Что я, слуга
своим детям, что ли? ..»
Гари оправдывал себя, не признавал своей вины
перед мальчиком, но на душе было неспокойно. Он
чувствовал, что перед отцом он и правда виноват. И может
быть, Тарасик это понимает, потому так обижен на
отца. «А возможно,— думал он,— мальчик любит дедушку
и потому считает, что его дед во всем и всегда прав,
а все люди, несогласные с ним, с дедом, виноваты...
Наверное, так и есть, но... Отпустили бы старика, уехал
бы домой, и все успокоилось бы, а то житья нет ни
дома, ни на службе...»
Гари решил не идти за Тарасиком в сад, боялся, что
обидчивый мальчик может убежать бог весть куда в эту
ночную темень, лучше сказать матери, чтобы
приласкала пацана и успокоила. Освободившись от этой заботы,
Гари лег спать и вскоре уснул, не стал слушать обычные
жалобы жены на свекра: «Не надо детей к нему
пускать, балует их, особенно Тарасика,— он уже никого
не слушает, кроме этого старика. Воспитывай сам
своего сына. Сил моих уже нет воевать с этим упрямым
стариком...»
193
Тарасик долго не мог уснуть, хотя матери он
послушался, вернулся из сада и лег спать. Думал он, конечно,
о дедушке. Ему казалось, что он мог помочь деду
выбраться из западни, что виноват перед ним... И злился
он на себя, на отца, на мать. «Они-то, наверное, могли
помочь, но так ничего и не сделали. Зря на них
надеялся, надо было самому что-то придумать. Они деда не
4 любят, мать давно на него зла, но и отец не любит
его — знает, что дед не виноват,.а не помог. Нет, они
никого не любят, не хочу я с ними жить! Поеду с дедом
и буду жить с ним. Есть там школа, буду учиться...
Они все врут и врут, никогда правды не говорят...
Мама все «денег нет, денег не хватает!» ладит, а дед
никогда о деньгах не говорит, а получает всего двадцать
рублей. Он нам всегда конфеты приносит, игрушки
покупает... Я знаю, он пешком шел из деревни, денег у него не
было, а ни слова никому об этом не сказал, хотя ему
трудно было на кручи взбираться. Он очень тяжело
дышал, я же видел... Нет, не останусь здесь больше ни
дня, уеду с дедом в деревню. Все, кончено!..»
Тарас незаметно для себя начал подражать речи
деда, вот и стал в решительные минуты говорить: «Все!
Кончено!» Когда все уснули, Тарасик встал и начал
готовиться к побегу. Собрал свои книги, штаны, рубашки,
носки, ботинки, сложил их в один небольшой чемодан,
а утром, когда мать ушла в магазин, отец на службу,
вышел из дому и по боковым улочкам выбрался на край
городка. Там в одном недостроенном доме спрятал
свой чемодан, сам направился к зданию райкома
партии. Он решил идти к самому главному секретарю.
Правда, на душе была одна тревога: что делать, если и
главный секретарь не поможет вызволить деда? Это
было бы крушением его надежд, и он не знал, что после
этого можно еще делать. Тревога не давала ему ни
минуты побыть наедине с надеждой, но все же отчаяния
пока не было в детской душе — Тарасик верил, что
секретарь поможет. В смятении он стоял перед зданием
райкома и ждал, когда секретарь придет на работу. Он
знал секретаря в лицо и решился прорваться к нему,
если даже не будут пускать его, мальчика, в кабад&т
занятого взрослыми делами человека.
Когда пришел секретарь, Тарасик еще раз осмотрел
свою одежду, все ли в порядке, поправил еще раз пио-
194
нерский галстук и робко пошел в приемную секретаря.
Молодая женщина спросила его:
— Что тебе надо, мальчик?
Тарасу показалось, что спросила она его не очень
ласковым голосом, и он решительно заявил:
— Я пионер. Моя фамилия Пиранов, имя — Тарас.
Я хочу поговорить с самым главным секретарем.
Видно, необычная серьезность заявления мальчика,
его озабоченное лицо произвели впечатление на
женщину. Она поверила мальчику, поняла, что он явился
неспроста. Она вошла в кабинет к секретарю. Что она
сказала ему, неизвестно, но, когда она предложила
мальчику пройти туда, сердце Тарасика переполнилось
чувством благодарности к этой женщине, но сказать ей
спасибо он постеснялся.
Войдя в кабинет секретаря, Тарас оробел, сказал
смущенно! «Доброе утро...» Секретарь усадил его и с
улыбкой спросил:
— Ну как твои дела, пионер Пиранов Тарас?
Такое начало обнадежило Тарасика. «Он поможет,
обязательно поможет,— подумал он,— только надо ему
все хорошо рассказать». Сидя рассказывать он
постеснялся, встал и начал говорить, точно отвечал урок.
Только от волнения мял в руках свою матерчатую кеп-
чонку.
— Мой дедушка не виноват, они сами браконьеры.
Мой дедушка правильный человек. Он не виноват, а они
держат его в камере... Он же только попугал их
холостыми патронами, солью попугал, не знал он, что они
начальники, не думал, что начальники сами реку будут
поганить... Они же хлором рыбу травили, это дед
думал, что известь, но я-то знаю, хлор это был, а не
известь. 4 * Скотину же могли отравить...
Секретарь слушал внимательно и думал про себя:
«Хороший, видно, мальчик, раз за правду решается
заступиться. .. А если пришел не ради своего дедушки, то
еще лучше...»
— Хорошо, Тарасик,— ласково пообещал
секретарь,— я скажу им, чтобы твоего деда отпустили. Раз
в&е было так, как ты рассказал, то дед не виновен и
обидели его зря... А если ты своего деда
выгораживаешь, тогда как? — экзаменовал секретарь Тараса,
улыбаясь.
195
— Товарищ секретарь, если бы он был не моим
дедушкой, то я давно пришел бы...
Тарасик запнулся, не знал, что еще сказать, как
убедить секретаря, что не заступничества ради пришел к
нему, а потому, что дед прав и зря его обижают. Вдруг
он вспомнил и запальчиво начал:
— Товарищ секретарь, Иман мой дед, но рыбу-то
травили начальник и мой папа, а разве я за папу хоть
"' слово сказал? Он тоже браконьер, я же не говорю, что
он прав, хотя он мой папа... Я не заступаться пришел,
мой дед не любит, когда несправедливо поступают.
Даже когда двое мальчишек против одного идут... Но он
там, в камере. Его не отпускают. Кому же он свою
правду скажет? Вот я и пришел, а так деду заступники не
нужны, он сам других всегда защищает, если они
правы. ..
— Ясно, Тарасик, вопросов у меня больше нет. Верю
тебе.— Мальчик понравился секретарю.— Позвоню
сейчас в милицию, и твоего деда отпустят. А тебе спасибо,
что пришел, что не испугался за правого человека слово
сказать. Плохой тот пионер, кто правду боится сказать.
Секретарь набрал номер телефона и стал говорить
по-русски. Тарасик понял, что говорит он с начальником
милиции.
— Доброе утро! Как дела у тебя? Все хорошо?
А как твоя рыбалка? Говорят, солью богат стал и, точно
жених в доме невесты, все стоишь, садиться
неловко? ..— Тарасик слушал и тревожился: что-то очень уж
по-дружески секретарь с начальником говорит. А вдруг
начальник не послушается его, раз он ему друг? —
Возможно, вполне возможно, что и я мог там оказаться. Но
я рыбачить люблю с удочкой, хлором наши речки не
разбавляю, чистую воду люблю пить, как форель, а
таких людей Иман Пиранов, насколько я знаю, не гонит
из Оленьего ущелья...— Это он уже хорошо говорит,
подумал Тарасик. Про деда правильно сказал.— Откуда
я знаю его? Знаю, раз говорю. Это же мой долг — знать
и понимать людей, моя работа такая... Верю, и ты их
обязан хорошо знать, но есть разница. Ты встречаешь
человека и, верно, думаешь: а не совершил ли он. что
незаконное? Я же стараюсь узнать, чем хорош этот
человек, на какие добрые дела способен... Разница
большая, как видишь. Впрочем, вот что, извинись перед ста-
196
риком и немедленно отправь его домой на своей
машине. Он тебе прямую помощь по службе оказывает, а ты
его задерживаешь и под замком держишь. Поговорить
его вызвал? Так что же ты три дня держишь его, а сам
спрятался? Старику мстишь, не стыдно тебе?
Хитришь — не нравится мне это, товарищ майор... Ладно,
отпусти старика, а сам вместе с его сыном, Пирановым,
твоим напарником, заходи ко мне. Все, жду вас.—
Секретарь положил трубку на рычаг и обратился к
мальчику: — Тарас, беги к своему деду, мой мальчик, и
езжайте домой в Оленье ущелье. Может, и я когда-нибудь в
гости к вам приеду, рыбачить будем с удочками,
хорошо?
— Спасибо, товарищ секретарь,— покраснел от
радости Тарасик.
— А еще у меня просьба к тебе, Тарасик. Будь моим
помощником, агитатором — деду скажи, пусть не
думает, что обижает его районная власть. Это же не
власть — всего один человек, и надо учить его, как с
людьми жить и работать следует по-нашему,
по-советски. Так ведь, Тарасик? Вот тебе мое поручение, как
пионеру, Тарасик, а намылить голову браконьерам —
это я беру на себя, ладно?
— Есть, товарищ секретарь. Я выполню это
поручение,— заверил его мальчик.
— Тогда вот тебе моя рука, и беги.
Секретарь пожал протянутую ему мальчиком руку.
Тарас выскочил за дверь. Выйдя на улицу, он побежал
вприпрыжку, напевая про себя: «Уой, уарайда, еду
домой с дедушкой, ой!»
На вторую ночь Иману стало невмоготу сидеть без
дела в этой тесной дыре. Особенно мучила его
неопределенность— сидеть вот так, зря, и неизвестно до каких
пор, ждать, пока соизволит прийти к тебе этот наглец!
«Свинья он, хитрая свинья! Обдурил меня, а сам
спрятался и насмехается, глядя со стороны...»
Спать Иману не хотелось, отоспался, есть тоже не
хотелось, да и боялся, что после еды пить захочет,
придется воды просить. Нет, лучше поголодать, чем у них
воды кружку просить.
До полуночи он то ложился на топчан, вздремнуть
немного, то опять вставал, боясь уснуть к приходу на-
197
чальника,— вдруг придет, а он тут спит. Сонный
старик — какой он солдат, ни сказать ничего, ни ударить
этого борова...
Ходил он из угла в угол и незаметно начал напевать
какую-то песню, старую песню, а слова приходили свои,
жалобные, стариковские:
Ой, беден ты, старик, беден и стар, —
Дырявая шкура, ломкие кости...
Света не видишь, глаза потухли,
И темень кругом, как на погосте...
.. .Чего это я распелся, всего-то четыре месяца, как
жену похоронил, еще траурную бороду не сбрил... А,
какой там траур!.. Пока жив человек, не обижай его,
а помрет, так ни к чему твои слезы и небритая
борода. .. Это уж напоказ людям свое горе выставляешь,'
себя будто хвалишь — вот какой я хороший, все знайте,
что горе у меня!.. Глупости... Но я не обижал ее,
видит бог. Больная стала, слабая, все на солнце
просилась, так я ее на руках выносил, во дворе ей ложе такое
устроил. Она, бедняга, сидит и на солнечный день
радуется, а я ей всякие новости рассказываю, а нет новостей,
небылицы выдумываю, не скучно ей чтобы жить было...
Чем я мог помочь, когда дохтуры сказали, не жилица
она на свете... Хорошо, что нет ее в живых, извелась
бы, что я сижу здесь два дня, в милиции... Мир праху
твоему!.. И не жалей меня, старика. Это же всегда так,
над стариком и дети рады подшутить. Где ниже
плетень, там люди и делают лаз... Будь я в прежней силе,
разве осмелился бы этот наглец меня здесь держать, но
что ему старик!..
Долго ждал в ту ночь Иман начальника, только
после первых петухов он решил, что не придет, можно
и спать лечь. Уснул перед самым рассветом, но вскоре
проснулся и спросонья • не мог сообразить, где же он
находится. Темно еще, только оконце начало сереть,
будто там не стекло, а бычий пузырь вставлен. ¦. Во сне
он был дома, уходил куда-то на охоту, а жена не
пускала, жалела его. «Стар ты уже, а думаешь, прежняя
сила у тебя? Побереги себя...»
Вот, бедняга, ушла в страну Барастыра, а все обо
мне печалится... Да что я, не такая же развалина,
чтобы не прожить тут два дня одному... А там отдохну, не
зря же вечный покой обещают. Или врут? Там тоже
198
работа ждет старика? Не страшно, привычный я... Не
дай бог только, чтобы у Барастыра были такие же
начальнички, как наш. Убегу я оттуда в таком разе...
Нет, зря старушка беспокоится, не груша-падалица
Иман, чтобы свинья его съела... Сижу себе и отдыхаю,
а начальник, верно, думает, что пропал Иман. Как бы
не так, не из робких старик Иман. А что обманом
заманил меня и обидел, так это не страшно. Не таких
обманывали да наказывали... Люди Христа распяли, а я
что — старик, охотник, солдат, всю жизнь за плугом
ходил, ни одной буковки не знаю, долго ли обмануть и
дверь за мной запереть? Ни ума, ни мужества тут не
надо.
Меня не то за сердце берет, что затащили сюда,
одолели. Обидно, что не по-мужски со мной поступили...
Мужчина — так скажи мне мою вину, мою неправду
положи предо мной, как дохлую кошку, и тогда накажи,
побей меня хоть палкой или кулаком. Будь я последним
псом, если бы в таком разе хоть слово против сказал,
даже перед богом признал бы, что виноват, потому
принял наказание. Но заманить старика хитростью в
западню, а потом улизнуть, глядеть со стороны, как
старик от злости задыхается,— это же паскудно. Ты же
народом к власти приставлен, не абрек же ты, оружие
тебе дали, как мужчине, так будь мужчиной, а не
хитрым лисом-куроедом... Так только дурные псы из
подворотен бросаются на прохожего... Вот это обидно.
А так разве это наказание? Сижу себе и отдыхаю, сплю
сколько влезет, и харч мой при мне... Куда это бутылку
подевал?..
Иман встал, взял в руки бутылку, на свет поглядел
на араку, чиста ли она, и решил помянуть
жену-старушку. Достал хлеб, сыра кусочки, разложил их на марлевой
тряпице и сказал покойнице: «Да будет эта еда перед
тобой в чистоте и свежести! Да минуют тебя все обиды на
том свете, сама ты при жизни и муравья не обидела...
И да не будет тебе одиноко... Мне тоже недолго ждать,
место своему старику приготовь...»
Иману стало грустно, и он отмахнулся от этих
мыслей: «Ладно, мир праху твоему, старушка, гёе обессудь,
что так получилось...»
Иман капнул аракой на хлеб, сделал два глотка из
бутылки, потом закрыл ее затычкой. Бросил в рот кусо-
199
чек мякиша и пожевал нехотя — не хотелось ни есть, ни
пить. К тому времени рассвело, и в любую минуту мог
заявиться начальник. Иман оделся, провел ладонями по
лицу, будто умывался, и еще раз подтянул ремень,
поправил шляпу на голове, стал ждать. Придет
начальник, так надо будет драться, насмерть драться, чтобы
люди про это узнали и спросили: за что? ..
Долго ждать не пришлось. Когда постучали в дверь,
Иман взял в руки бутылку и крепко сжал горлышко,
как бы не выскользнуло из руки после первого удара.
Но услышал он голос молодого милиционера:
— Е-ей, добрый старик, открывай двери, собирайся
домой!
Милиционер пришел с благой вестью и радовался от
души. Иман это понял сразу, но ему хотелось
встретиться с начальником, нельзя его так оставить, нельзя ему
простить такую обиду.
— Парень, я же сказал, мне с тобой не о чем
говорить, пришли начальника!
В ответ раздался звонкий голос Тарасика:
— Деду, открой дверь, это я! Домой надо уезжать!
Иман растерялся, на сердце сразу стало светло, и
мысли о мщении за обиду будто ветром сдуло. Схватил
топчан и поставил его на прежнее место, бутылку
прикрыл хурджином и открыл дверь. Тарасик вбежал и
бросился к деду. Иман не сумел скрыть своей радости
и схватил в охапку мальчика, а тот продолжал
выкрикивать:
— Идем, деду, домой, здесь нам нечего больше
делать! И никто нас не может удерживать — сам главный
секретарь так сказал!
Иман собрался быстро, но потом приуныл: «Это как
же получается? .. Продержали меня, как пса, в конуре
два дня, и теперь я должен радоваться? Почему никто
не спросит с той свиньи: за какие грехи старика мучил
все эти дни? .. Это что за справедливость, что за
обычай такой? .. Бог с ним, с мужеством, но как можно
такое прощать свинье? Она же, пока ее палкой по
пятачку не стукнешь, понимать ничего не хочет...»
Горько стало на душе у старика, но с кем было
спорить? Вышел он с Тарасиком сердитый. Ни слова
никому не сказал, шел молча, словно на казнь, сгорбившись,
глядя в землю. Вокруг стояло несколько милиционеров,
200
но он не замечал их, хотя чувствовал, что они смотрят
на него с любопытством. Они тоже молчали, и это
понравилось Иману, боялся, что мог сорваться и
нагрубить этим людям, непричастным к его обиде. Только
исподлобья, не поворачивая головы, наблюдал, не стоит
ли где его обидчик, но его не видно было.
Иман запомнил, что его привели к начальнику на
второй этаж. Около лестницы, ведущей на этот этаж, он
остановился и сказал Тарасу:
— Ты подожди меня здесь, сынок, у меня здесь
небольшое дело есть, я быстро вернусь.
Тарасик не знал, какое еще «небольшое дело» у
деда, но не хотелось ему отпускать его. А вдруг опять
влипнут в какую-нибудь неприятность, надо уходить
скорее! Он вцепился в рукав дедовой рубахи и
попросил:
— Никуда тебя не отпущу, деду. Идем домой. Нам
здесь нечего делать. Идем!..
Дед глянул на внука и пожалел его,—видно,
напугался он, за него боится, как бы опять в камеру не
потащили... И он согласился. Идти к начальнику не
стоило, в драку он, Иман, уже не полезет, остыл, а
обругать свинью — все одно что свои усы грязью
залепить. .. Правда, было у него все же одно желание —
молча плюнуть начальнику в лицо, потому не спешил
Иман следовать за внуком. Но вдруг он услышал, что
кто-то подошел к ним сзади и пригрозил: .
— Погоди, щенок, я тебе язык вырву, недолго до
вечера ждать!..
Имана словно по голове палкой хватили. Он резко
повернулся к подошедшему. Что это за угрозы?
— Что ты сказал?!—увидев Гари, Иман еще пуще
рассвирепел, от него-то он такого не ожидал.— Покажи-
ка, как ты язык ему будешь вырывать?.. Убирайся
отсюда, червяк ты несчастный! Иди, пока тебя сапогом не
придавили, слизняк!
Гари было протянул руку к мальчику, но, видя, что
Иман в гневе, раздумал и отошел в сторону,
поругиваясь: негромко:
— Что старый, что малый, все с ума посходили,
огрызаются как бешеные собаки, вот и поговори с
дураками, сам дураком станешь...
201
— Деду, знаешь, почему он на меня ругается? —
потянул Тарасик деда за рукав, чтобы оттащить его от
отца.— Секретарь райкома им головы намылил! Это
пострашнее, чем твоя соль! Вот они и бодливые стали.
Начальника он, наверно, пока не отпустил, его же надо
дольше мыть, голова у него как у буйвола... Но пусть
бесятся, взбрыкивают, подскакивают, как кукурузные
хлопья на сковороде! Так им и надо!.. Знаешь, как
сказал секретарь? А он здесь самый главный! Ты, говорит,
пионер, и скажи своему дедушке, пусть не думает, что
районная власть против него. Начальник — он не
власть, а просто один человек, который по-нашему, по-
советски работать не умеет... Так и сказал!..
Иман улыбнулся и весело глянул на внука.
— Хорошо сказал, правильный человек твой
секретарь! — ответил он Тарасику по-русски, и внук понял:
раз дед заговорил своим солдатским языком, он уже не
сердится, он уже прежний. А это для Тарасика было
важнее всего, чтобы дед стал прежним имамом
Шамилем.
А Иман думал, что ему повезло. Хорошо, что не
пришел к нему начальник в камеру, иначе не миновать
было большой драки, и бог весть чем бы все это кончилось.
Теперь ему казалось, что его намерение драться с
начальником бутылкой было неумно, было
мальчишеством. На душе у него стало хорошо, и хотелось, чтобы
и Тарасик это понял, а чтобы дать ему знать, надо с
ним по-русски говорить. Тарасик любил, когда дед с
ним говорил таким манером, мешая русские и
осетинские слова; тогда он как бы становился с дедом на
равной ноге, русский язык внук знал лучше деда. И дед
позволял ему быть с ним на равных — только в тех
случаях, когда бывал в хорошем расположении духа.
Теперь Иману было хорошо, и он спросил внука:
— Ты знаешь, Тарасико, осетинский пословиц?
— Это какую пословицу смотря! — подыгрывал внук
деду.
— Очинь хороший, очинь верний пословиц: кто
собака бить станет, сам собака будит! Вот так! — Он взял
Тарасика за руку и зашагал в сторону автобусной
станции.— Идем, сынок, нам и правда здесь уже нечего
делать, поехали домой!
202
5
Тарасик и его дед до сельсовета доехали на
автобусе. Тарасик показал деду свои три рубля, собранные на
покупку футбольного мяча, и он согласился ехать
автобусом. Понимал он также, что им с мальчиком трудно
будет тащить чемодан двадцать верст. Иману, правда,
не понравилось, что мальчик с чемоданом, но
расспрашивать его не хотел, пусть он сам расскажет, а там
видно будет. Но обещал внуку, что, как только получит
свою пенсию, купит ему мяч обязательно.
Тратить Тарасику свои три рубля не пришлось.
Шофер автобуса не взял денег у Имана — мол, я в вашем
доме много раз хлеб-соль ел и не могу теперь от вас
копейки брать. Иман не узнал этого молодого человека,
но поверил ему. Покойница жена хлебосольная была,
и возможно, что угостила когда молодых парней, охочих
до араки и пирогов старушечьих. Что ж, да пребудет
она в Христовом раю, недаром люди придумали: если
у тебя хорошая жена, так в дорогу харч с собой брать не
надо, твой харч впереди тебя идет... «Так и есть, ее
уже нет, а мой харч все еще впереди меня идет... Мир
праху твоему!..»
Иман шел молча почти до самой рощи карагачей,
остановился только у родника, который бабушке
посвятил. Здесь он снял с плеча чемодан внука и признался:
— Если не врать, сынок, то я все эти дни голодный
был. Свой дорожный харч я так и не тронул. Давай
съедим его, нельзя показывать дома такое дело, что мы
ничего за эти дни не кушали. Ахи-охи и всякие
расспросы пойдут, а нам это ни к чему, сынок. Вот мы с тобой
и пообедаем, бабушку вспомним добрым словом и ара-
кой ее попотчуем, бутылка почти целая у меня в хур-
джине. А бабушку тебе всегда надо вспоминать, это она
тебя в Тарасы произвела, а так бы остался со своим
собачьим прозвищем! Вот так, сынок мой, Тарасико!..
Обедают дед и внук у родника. Тарасик ест за обе
щеки, хлеб ему не кажется черствым, но Иман давно
беззуб, он подставляет кусочек хлеба под струю с
желоба и потом жует не спеша, изредка бросает в рот и
кусочки сыра. Едят молча, но старик думает, как
сказать этому мальчику, что его дед вовсе не драчун, если
его оставляют в покое, не вызывают на ссору своей
203
несправедливостью? .. И когда мальчик наелся,
отряхнул руки, как взрослые это делают, то Иман спросил:
— Тарасик, а не приходит ли тебе в голову, что твой
дед старый дурень, любит подраться и пострелять? Не
думаешь так? Ну, спасибо тебе, сынок, если только
верно мне сказал, а не пожалел старика. Но я тебе говорю
честно: не люблю драчливых людей, не люблю и
ругателей. Они все равно что деревенские псы, полаять
охотники. Сам я за всю жизнь дрался не больше десяти раз.
И то нехорошо, но что делать, когда не дают тебе мирно
жить? Собака бросится, так ее криком отгонишь или
палкой замахнешься, она и убежит, но как быть, когда
человек к тебе пристает, обижает и ругает тебя зазря?
Бывает и так, что поссоришься с достойным человеком
и помиришься с ним, рассудишь с ним дело
справедливо. Но что делать, когда твой обидчик на блоху похож?
— Это на какую блоху, дед? — спросил Тарасик.
— А на ту блоху, которая в сказке. Не знаешь, что
ли, эту сказку? Нет? Так слушай.
Однажды медведю блоха и говорит: «Давай
бороться, медведь, силой померяемся, если ты силач в самом
деле, как люди говорят». Медведь подумал и отвечает:
«Рад бы с тобой, блоха, побороться, чтобы однажды
прихлопнуть тебя и навек избавиться от твоих укусов,
но как мне с тобой бороться? Как только возьмусь за
тебя, так ты прыг и за версту от меня шлепнешься, как
же бороться-то? А не удастся тебе отскочить, так в моей
же шерсти прячешься! И кусаешься, как злая собака.
И не спалить же мне собственную шерсть, чтобы найти
и придавить тебя, паскудную блошку! Нет, не буду я
с тобой бороться, но попадешь в лапы, шкуру спущу!
Вот так!»
Блоха, услышав такое, действительно отскочила на
версту, от греха подальше, а медведь пошел своей
дорогой, мол, некогда мне со всякими блошками паскудными
разговоры говорить...
Вот так и со мной случалось, Тарасик... Бывало, что
оказывалось у меня ума не меньше, чем у глупого
медведя, и не связывался с блошками, но случалось, что
поступал как неразумный человек и связывался с блб-
хами... Что же делать, Тарасик, жизнь — это такая
штука, не по сказке получается.
Иман замолчал, но Тарасик понял, к чему дед речь
204
вел, и ему понравилось, что дед с ним, как со взрослым,
поделился своей обидой. А раз так, то и ему, Тарасику,
можно ничего от деда не таить.
— Деду, знаешь, хочу тебе один секрет открыть...
— Что ж, открывай, Тарас Волосатое Ухо — был у
нас в Оленьем ущелье один такой мужчина — твой
тезка. .. Говори, раз у тебя завелись большие секреты! —
улыбнулся дед, но на Тарасика даже не взглянул, чтобы
не смущать его. Стал оглядывать священную рощу
карагачей, не срубил ли кто дерево в его отсутствие...
— Секрет у меня небольшой, но... Знаешь, я
сегодня из дому удрал... Я хочу с тобой жить, если ты
разрешишь. Мешать тебе не буду,— долго рассказывать
Тарас не осмелился и выпалил на одном дыхании свой
«секрет».
Иман повернулся к мальчику и заглянул ему в
глаза, потом опять отвернулся и тихо сказал:
— Это как же, Тарасико, разве хорошо убегать из
дому? Искать же тебя будут, если не знают, куда ты
уехал... Да и мать твоя разве согласится, чтобы ты со
мной жил? Не разрешит... А мне что же делать? Опять
за ружье-громовик браться и на этот раз собственной
невестке войну объявлять? Она у тебя что военный
человек, настоящий иналар, ружья не испугается. Ну что
и говорить, дойдет дело до войны, так я не дам тебя
силой увезти, буду драться до последнего патрона, ты
же мой заступник, из тюрьмы вызволил, а за добро
добром платить полагается. Только, Тарасико ты
Волосатое Ухо, хорошо ли получится? Я одинокий старик,
живу по волчьему обычаю.-*— то сыт, то голоден, а ты со
мной как же сможешь такое терпеть? Да и в школу
тебе ходить, а у нас школа деревенская, не городская.
Нет, Тарасико, тут надо подумать, непростой у тебя
секрет... Ты, может, за меня боишься, мол, старик
помрет один без присмотра, и нехорошо получится... Что
ж, верно, о старике думать — это тоже дело, но я пока
не такая развалина, чтобы из-за меня школу бросать
моему внуку,— этого я не хочу и не позволю... Вот если
бы у нас тебе можно было учиться!..— выдал себя с
головой Иман. И Тарасик понял, что дед хочет оставить
его у себя, но боится, как бы невестка не разругала его
и внук от учения не отстал. ¦.
— Это ничего, дед, не страшно, программы у нас по-
205
чти одни и те же. Я буду хорошо учиться. Но если
мешать тебе буду, если...
Тарасик не договорил — дед притянул его к себе:
— Эх ты, Тарас Волосатое Ухо, как же ты не
понимаешь, разве подпорка копне во вред идет? Она же ей
падать не дает, как же ты мне можешь помешать? Я все
дни думаю, как же один-то жить буду, даже поговорить
не с кем, а ты — «мешать буду»!.. Но понимаешь ты,
Тарасико, что матери отпустить родное дитя в чужие
руки очень трудно... Вот я и боюсь, отдаст ли тебя
мать, отпустит ли ко мне?.. Был бы ты со мной, так я
лучше самого царя жил бы!.. Но твой отец и твоя мать,
поймут ли они, что самое большое счастье для меня
теперь — внука под боком иметь, копне подпорку,
понимаешь, Тарасик?..
— Это я понимаю, деду, но только ты меня не
прогоняй, разреши мне с тобой жить и посмотришь, я всегда
буду слушаться, все делать буду, как ты скажешь...
Разве я когда обманул тебя или не слушался? Тогда
скажи мне, деду., ¦
Иман слушал внука, и жалко ему стало ребенка.
Видно, обидели его чем-то или не понимают, что он
тоже человек, хоть и маленький. А у него характер
бабушки, вранья не терпит, доверчивый, ио обманул его, так
и веру в нем убил. Разве можно так обижать ребенка!
Вот два дурака, а бог им такого парня дал... Он же все
понимает, умнее своей матери и отца, офицера!..
Ребенка враньем хотят привязать, а разве это привязь?..
И как их теперь примирить? . ¦ Не приму его я, так
ребенок в обиде и в другое место может удрать и будет по
свету скитаться, как беспризорный какой... Разве
можно? .. Нет, я его не отпущу никуда, если даже всю
милицию приведут. За такого мальчика не грех подраться
даже на старости лет...
— Тарасико, ты, видно, все же не тезка нашему
Волосатому Уху, и даю тебе слово, что никто тебя силой
отсюда не уведет, только и ты дай мне обещанье: будет
тебе скучно, так скажешь мне прямо: деду, я хочу
домой. И попомни, ничего в этом стыдного нет, у нас:т<руд-
но жить в зимнюю стужу, одиноко и скучно. Запомни,
ничего стыдного, и скажешь мне просто, как вроде: есть
хочу... Даешь такое слово?
206
— Даю, деду, хотя знаю, что скучно мне не будет,
но, если такое случится, скажу. Даю честное слово.
— В таком разе, сынок, твой секрет уже не секрет:
от сего дня мы с тобой живем вместе и все
принадлежит нам: Оленье ущелье и все рыбы нашей речки, горы,
леса, травы и звери. Все, кончено!..
— Есть, товарищ командир! — вскочил Тарасик и,
вытянувшись в свой мальчишеский рост, поднес руку к
виску. Потом подумал и улыбнулся: — Деду, а может
быть, лучше сказать: «Аммен, Уастырджи!»?
Иман не ответил на вопрос, грузно поднялся,
подтянулся и, шаркнув пыльными сапогами, поднял трудно
разгибавшуюся кисть к виску:
— Смирно! Разговор отставить! Солдат Тарас, от
сегодня ты будишь хозяин здесь. Гора — твой, земля —
твой, рыба-звери — тоже твой! За все — ты отвечайт!
Я — старик человек, командовайт может, говорит
может, ходит не может — нога болит, кушит не может—*
зуба нету, драка не может — сила нету. Понимай надо!
Ты хозяин, ты отвечайт должен! Все, кончено!
Вольно! ..
Иман замолчал, но стоял по-прежнему «смирно»,
улыбался и смотрел на Тарасика. Мальчик догадался!
— Есть отвечать! Слушаюсь, товарищ командир! Все
мое — земля, гора, рыба, звери! Есть за все отвечать!
— Вот так, сынок мой,— Иман опустил руку.— Ты
думаешь, дедушка командовать разучился? Нет, но сил
у него не стало, языком он еще болтает, но сам уже вот-
вот повалится, подпорка ему нужна, сынок. А раз ты
решился не дать дедушке повалиться, как старой копне,
так держись. Вот так, сынок.. . А теперь подай мне хур-
джин, и домой—арш!
Иман знал, что дочь и племянники, наверно, глаза
проглядели, ожидая, когда же он наконец вернется.
И торопливо зашагал домой. У рощи карагачей Тарасик
обратил внимание на следы от шин грузовой машины
и забеспокоился:
— Деду, а не украли дерево, как ты думаешь?
Иману будто в темную ночь лучиной посветили —
заулыбался. «Вот и нашел я хозяина для моих деревьев,
для земли нашей...» Но не хотелось задерживаться.
Подумал немного и сказал:
— Ладно, сынок, пойдем пока, отдохнем, а вечером
207
проверим, может быть, из деревни кто-нибудь себе
разную хурду-мурду провез...
Тарасик подумал и решил, что, пожалуй, дед прав.
И зашагал за дедом по-хозяйски, широко, но
степенно...
После возвращения из района Иман вроде забыл о
своей обиде, Тарасик, бывало, вспомнит к слову о
рыболовах, о водяном человеке, но Иман не отвечал на такие
его напоминания, и мальчик тоже замолкал. Дед
держался обычно, занимался своими домашними делами,
торопился закончить, управиться с косовицей, запастить
сеном для своих двух коров и коз. На высокие склоны
забираться он уже не отваживался, трудно оттуда
возить копны, ему уже не справиться, а просить других не
хотелось. Косил он на прогалинах в лесу, в балках, куда
скотина не заходила и трава сохранилась. Скосит на
копну или полкопны и доволен. Тарасик тоже ходил
косить. Дед смастерил для него маленькую косу, и он
махал ею, пока не надоедало, а там дед посылал его то за
водой к роднику, то срезать веточки, чтобы положить их
под игрушечные копешки. И день уходил незаметно...
И если Тарасик рядом, то Иман забавлялся с ним,
учил косить, точить и отбивать косу, а мальчику было
любопытно, пробовал сам все делать, и если у него не
получалось, то он огорчался, но дед не ругал, напротив,
хвалил и терпеливо показывал, как надо косить. И рад
был Тарасик, что он подпорка деду...
Пошлет дед мальчика своего за водой или
покупаться в речке, останется один,, станет ему грустно и
напевает тихо, под нос, про свои стариковские жалобы: .
Ой, далеко вы, горы Карпаты!..
Ой, бедный старик!..
Ой, давно ты — согбенный, горбатый,
Ой, бедный старик!..
Это он свои солдатские годы, видно, вспоминал и
вплетал в песню Карпатские горы, где не один месяц
провес ъ окопах...
Ой, коса, ты отзвенькала,
И со старым ты маешься...
Ой, не гляди, старик, в зеркало, —
Сам себя испугаешься...
208
Понимал Иман, что теперь ему не потягаться с
косарями на склонах, как бывало в молодости, когда не
знал, куда силу девать. Тогда он и с деревянной косой
мог проложить прокос, а теперь? Что там! Старик,
горбатый образина, детей можно пугать... Как-то его в
мальчишеские годы старшие послали пригласить на
общий пир старика соседа. В роду он самый старший был.
Отказался он наотрез идти на пир. Послали его,
мальчика, во второй и в третий раз. И тогда старик сказал
ему: «Знаешь, брат мой молодой, я уже древний старик,
бог обезобразил меня, и не хочу с моим верблюжьим
горбом да с лицом, похожим на печеное яблоко, людям
на глаза показываться. Стыдно людей пугать. Запомни,
брат, когда-нибудь пригодится и тебе мое слово...» Вот
и пригодилось...
Верно сказал, но я слишком поздно догадался, что
прав был старик. Видно, отзвенела твоя коса, старик,
ушло твое время бог весть куда, огородным пугалом
выглядишь, смерть тенью ходит по пятам, так не надо
людей смешить, свое место знать положено...
Ой, время-конь уже отцокало...
Пеший, как за ним отправишься?.
Ходит смерть твоя около,
Как же с ней, старик, справишься? ..
А что с ней-то церемониться, со смертью? Пока за
горло не схватила, можно ее и осадить. Прыти много,
так пусть садится со мной за один стол и потягается,
погляжу, как она меня одолеет, какая собой, когда
араки упьется... А мне спешить некуда, подожду еще, на
божий мир глядеть не надоело. Да и дела у меня тут —
за внуком присмотреть надо, ему учиться да жить, за
деревьями уследить, за речкой. Не оставить же их
всяким бродягам на расхищение!..
Иман невольно возвращался к своей обиде...
Как же это он обдурил меня, боров этакий, заманил
старого дурня в конуру и засадил, как мальчишку!..
Хоть бы по-мужски поговорил со мной, а то спрятался
как трусливый пес!..
А что мне? Больше всех надо? Ради себя, что ли,
в драку лезу со всякими бродягами? Что мне теперь
надо? Яму для могилы. На большее я не замахиваюсь.
Хватит с меня.
Н. Джусойты
209
Постой, постой, как это хватит? Обидел меня какой-
то боров, так сразу и махнуть на все рукой? .. Так, что
ли? А деревья, а рыбы, в чем они провинились?
Бродягам их оставить на харч? .. Да и что люди скажут?
Испугался Иман начальника, закинул свое ружье на
чердак и сидит себе дома — не трогайте меня, и я
никого не трону, слова больше не скажу против! Силы
бродяжьей испугался! Трусливым никогда не был, а на
старости лет трусом стал.
Нет, так не пойдет. Пока жив, силой у меня ничего
не возьмут! Рощу карагачей и речку ущелья я не отдам
на разграбление бродягам. Они мои, я за них в ответе
и не предам их. Хотите рыбки поесть, ловите удочками,
но поганить речку не дам. Не верите в Духа нашего
ущелья, не ходите в священную рощу, воля ваша,— но
загубить ее — нет, не дам! Так вы захотите и кладбище
разграбить, там и деревья и камни есть, чего же не
свалить их, не растащить, на что камни и деревья
мертвецам! .. Бродяга потому и бродяга, что у него ничего
святого нет. Нет, так не пойдет!.. Бродяга, он не только
деревья и камни, зверей и рыб хочет изничтожить, но
и людскую справедливость. Чтобы никто ему не мешал,
не перечил, на дороге не становился. Он душу людей
хочет разграбить, а как же, иначе ему несдобровать.
Нет, этого не будет!..
Иман вспомнил, что уже месяц, как он не брал
ружья в руки, не прошелся по речке ущелья, не
заглядывал в священную рощу карагачей, и ему стало
совестно. ..
Как же это получается? Обидел меня какой-то
придурковатый начальник, а я и руки умыл? Вроде
согласился с ним, так и надо! Делайте как хотите, ая-—*
молчок, мне какое до вас дело! Мне что! Одним глазом
в могилу смотрю, много ли мне нужно? Вот подлинно
старый ишак! Как же это — мне не нужно, а им,
бродягам, нужно! Что же, они всё будут тащить да грабить,
а я буду смотреть и молчать? Нет!
Ладно, я старик, мне ничего не нужно. А что скажет
мой внук Тарас? Хорошо, я помру, а он, Тарасико,
вырастет и спросит: куда же это, деду, мою землю, -мои
деревья и речки девались? Мне же жить надо. Как же
ты их не уберег?.. Что же я отвечу ему, много ли из
страны мертвых в свое оправдание скажешь, когда рот
210
землей набит? ,, Нет, так не будет!.. Пока я живой, не
помер!..
Вот скажу Тарасико, что к чему, он поймет меня
и покажет им, бродягам, кому все принадлежит на этой
земле. А пока я жив и стою на этой земле, не дам
разграбить ее, не дам душу моего мальчика испоганить
их свинячьей мыслью — тащи да поедай все, что под
руки попадется, а там хоть трава не расти! Нет, так не
пойдет!..
Иман в этот день бросил косить раньше обычного.
Прилег на скошенную траву и ждал, когда Тарасик
вернется из недалекой лощины, где он купался под струей
из желоба, поставленного Иманом для внука. До речки
далеко было отсюда ходить.
Вернулся Тарасик, и дед объявил ему, что сегодня
больше косить не будут. Надо вернуться домой и
отдохнуть, потом побродить вместе по речке Оленьего
ущелья, может, опять зашли к ним бродяги, так
попугать их следует. Тарасик обрадовался, и вернулись
косари домой, хотя до вечерних сумерек было еще далеко.
Иман полежал дома на лавке, отдохнул немного,
потом почистил ружье, подпоясался патронташем, и они
с Тарасиком вышли на дорогу вдоль речки ущелья.
Соляных зарядов он всегда брал только два. Он считал,
что надо давать два выстрела вхолостую, для острастки,
а там, если придется, драться — один на один, честно,
по-настоящему. Глянув на свои патроны, Иман остался
доволен. Все в порядке, он опять на охоте, надо только
рощу карагачей осмотреть, а там берегом речки дойти
до одинокой груши, до своей границы.
Правда, у Имана была и другая цель. Там, близ
священной рощи, расположен его участок земли,
картофельное поле. Место хорошее, ровное, пахать удобно, да
и земля урожайная. Одно плохо — ограда старая, из
камней, свиньи к осени сваливают камни ограды,
делают лаз и, если недоглядеть, всю картошку начисто
съедят на корню. Вот и посмотрит Иман, не развалилась ли
где ограда, тогда поправить придется. Участок большой,
надо бы железной сеткой обнести, да некому купить и
привезти из города, а так недорого стоит. Может,
весной этой удастся сделать, тогда не придется каждый
211
раз чинить ограду, с камнями возиться да с соседями
ругаться из-за свиней...
Густая, темно-зеленая картофельная ботва высоко
вымахнула, надо будет окучивать еще раз, обрадовался
Иман. И ограда пока цела.
— Видишь, Тарас Волосатое Ухо, какая у нас
картошка, на всю зиму хватит, да еще твоих можем одарить.
В районе-то у них картошка не водится, в саду у них
одни яблони да груши, а картошка на деревьях не
растет,— пошутил дед.— Поможем им, как ты считаешь,
Тарасико?
— Помочь надо, имам Шамиль, а как же! Мы же
добрые люди, не скупцы, как некоторые,— согласился
Тарасик. Дед не поддержал намека внука на скупость
своих родителей. Он предложил:
— Идем в рощу, с деревьями поздороваемся.
Походили дед и внук по роще карагачей, но ничего
подозрительного не обнаружили. Иман считал, что так
оно и должно быть. Бродяги узнали, конечно, что Иман
стрелял в самого начальника, стало быть, щадить
всяких бродяг не будет, и, должно быть, притаились на
время. Но надолго ли? Они могут и по-другому решить:
начальник наказал старика и теперь он в обиде, махнул,
наверно, рукой на все — грабьте сколько хотите, пусть
начальник сам за вами бегает, не мое это дело.
Однако роща была цела, и старик обрадовался.
Хорошо, что до сих пор не вырубили деревья, теперь уж он
не даст их в обиду, защитит. Он уже собрался
выбраться из рощи и пойти берегом речки, но позвал его
Тарасик, сидевший на корточках под одним деревом на
опушке рощи.
— Имам Шамиль, смотри вот сюда. Не кажется ли
тебе, что дерево подрезали пилой? Мне сдается, кто-то
подрезал. Мол, засохнет дерево, а там и свалить его
можно, не станет же имам Шамиль ругаться из-за
высохшего дерева? Как ты думаешь, имам? — спросил
Тарасик, убежденный, что угадал правду сам, без
подсказки деда.
Имам встал на колени перед деревом и расковырял
сучком надрез пилой, залепленный землей. Дерево было
спилено почти наполовину. Иман расстроился, но
подумал, что дерево еще не пропало, выживет, рана затянет-
212
ся, и это смягчило его гнев. Он встал, отряхнул руки
и сказал:
— Нет, Тарасик, они, видно, хотели срубить дерево,
но что-то им помешало. Если бы думали убить дерево
на месте, они бы сделали круговой надрез, и не такой
глубокий, и не стали бы замазывать надрез, зачем?
Скорее, кто-то помешал им, они и бросили работу,
замазали, чтобы я не заметил и не подстерег их. Видно,
собирались вернуться за своей добычей. Попомни мое
слово, Тарасико, вор вернется сюда!.. Может, даже этой
ночью вернется...
— Неужели так? ..— задумался Тарасик, как
заядлый следопыт.
— Думаю я, что так и было. Вот только не пойму,
что им помешало? Позавчера к ночи сильный дождь
пошел. Может, дождя испугались?
— А что им дождя было пугаться? В дождь пилить
еще легче, да и не помешает никто, каждый дома сидит.
Не будет ходить по лесу в ливень даже имам Шамиль.
Валить и рубить деревья — самое время,— возразил
деду Тарасик.
— Может, ты прав, мой мальчик, но ясно одно: кто-
то помешал им срубить дерево. Но кто или что? Вот это
надо выяснить, сынок. Пойдем по дороге, может, следы
какие еще попадутся...
Пошли Иман и Тарасик по дороге и недалеко от
рощи, там, где в речку ущелья впадала мелкая речушка
из лесистой балки, увидели парня, поправлявшего спуск
к речке лопатой и киркой. В дождь речка разлилась
и подмыла бережок, машине было уже не проехать, и
парень делал проход. Иману это показалось
подозрительным. Что это он старается? Зачем ему? Надо бы
порасспросить его осторожно, будто из любопытства.
— День добрый, парень!
— Будь благословен, Иман,— разогнул спину
парень и, устало опершись на кирку, спросил старика: —
Куда это ты собрался со своей пушкой? — Видно, парню
охота было поболтать со знакомым человеком.
— Охотничья привычка, сам знаешь, она человека
и в старости не покидает. Вот и брожу по дороге, в горы
уже сил нет идти,— пожаловался Иман.— Но ты-то что
делаешь здесь, косить же самое время?
213
— Дорогу вот поправить решил, машинам чтоб
пройти можно было...
— Это хорошо, сынок, ты делаешь, дорога всем
нужна. .. Долгой тебе жизни, по-мужски поступаешь, а то
иным в голову не приходит людям помочь, все только
о своих делах да заботах пекутся,— похвалил Иман.
— Честно сказать, Иман, так у меня тоже свой
интерес тут. Вчера попросил меня один учитель: поправь
дорогу в балке, туман тебе дам.- Мне, говорит, очень
нужно вывезти из ущелья какие-то вещи, а из балки не
выбраться... Что ж, думаю, один туман на дороге не
валяется, а возни тут всего часа на два.
— Ну так спасибо и этому учителю: ему-то раз
проехать, а нам по этой дороге всегда есть что
провезти. ..— Иман решил больше ни о чем не спрашивать
парня, как бы не передал его слова этому гяуру.—Что
ж, исполать тебе, парень! Идем, Тарас, пора и нам в
дорогу...
Тарасик внимательно слушал разговор деда с этим
парнем. И когда отошли от балки довольно далеко, он
открыл деду:
— Я думаю, имам Шамиль, что нашего вора
напугал, как ты говоришь, не кто-то, а именно балка. Он,
видно, сообразил, что разольется балка в ливень быстро
и ему тогда не выбраться, попадется в ловушку и не
сможет никак оправдаться. Вот он и удрал. Что, опять я
не прав, дед?
— И я так думаю, Тарасико. Но раз так, то надо
вора схватить за гриву и прижать к земле. Кто это
может быть? Вот в чем дело. Наших учителей я всех
знаю, они не стали бы рубить священную рощу, так
кто же?
— Не все ли равно, деду? Вор есть вор, и надо его
поймать, а там видно будет, кто он есть, этот бродяга.—*
Тарасик обозвал вора дедовским прозвищем.
Походили дед и внук по берегам своей речки, но
никаких следов бродяг больше не нашли. Иман сам
попробовал ловить рыбу руками, под речными валунами,
поймал две рыбешки и отдал их Тарасику:
— Тебе хватит, а я ее не ем. Зачем ее зря"
переводить, пусть гуляет... Пойдем лучше домой засветло.
Иман думал о другом.: вернуться домой, в село, и
уговорить лесника, усача Илико, вместе с ним пойти
214
ночью в лес и поймать бродяг, акт составить, по закону
их прижать. Пугать их солью — не дело. Испуг
проходит, и они опять за свое берутся. Это же волки,
холостыми патронами их не образумишь.
Иман договорился с лесником: как стемнеет, на
опушке рощи спрятаться и выследить воров. Полуночи
воры ждать не будут. Как стемнеет, заявятся, и нельзя
их проворонить... Он думал один идти на «охоту», но
Тарасик увязался за ним:
— Как же это, имам Шамиль, ты без меня идешь?
Я буду спать, а ты с бродягами драться? А сам
говоришь: «Я — старик, ходить не могу — нога болит,
драться не могу — силы нету, ты хозяин здесь, земля — твоя,
лес — твой, горы — твои!» А какой же я хозяин, если
сплю, а ты в это время лес от бродяг будешь защищать?
Нет, деду, это несправедливо, я обязан свой лес сам
стеречь, своих воров в лицо видеть. Я хозяин и не
назначал тебя лесным стражем. Как мы тогда
договорились? Ты — командовать будешь, а я — сторожить. Дай
ружье, я один пойду в лес,— расхрабрился Тарасик.
— Раз такое дело,—согласился дед,—возьми
ружье, командуй, будь хозяином, я согласный.— Дед дал
подержать ружье Тарасику, но тот вернул ему.
— Деду, я лучше возьму фонарик, отец мне подарил,
хорошо светит. Пригодится нам в лесу, воров в лицо
увидеть.
— Хорошо придумал, сынок. Вижу, неплохой из
тебя хозяин получится, но идем, как бы не опоздать...
Долго ждать им не пришлось. Машина с
притушенными фарами подкатила к роще вплотную и
остановилась. Из кабины вышли двое, потом из кузова
спрыгнули еще два человека и сразу вошли в лес, к тому
самому дереву, подрезанному, заметил Иман. Зашумела
пила, и дед предложил захватить пока машину. Положить
под колеса большие камни, а то могут удрать. Не
будешь, в самом деле, стрелять по ним...
«Захватив» машину, Иман выстрелил в воздух и
скомандовал громко:
— Выходите! Все четверо! Живо!
Ворам пришлось подчиниться. Вначале подошел
было к ним шофер, но Иман остановил его:
215
— Ты подожди, с тобой у меня особый разговор.
Подойди, кто старше в команде!
Воры посоветовались между собой, и один из них
отделился, подошел к Илико:
— В чем дело, кто вы такие? Ограбить нас
задумали? Так скажите прямо и берите наши пиджаки, на!
— Не шуми ты, бродяга! Это ты бандит с большой
дороги! — рассердился Иман.— Освети ему черное лицо,
. сынок, погляжу на его волчью морду..
Тарасик осветил лицо подошедшего вора, и тот
прикрылся ладонями.
— Что ж это лицо-то прячешь, если честный
человек, а не бандит? — спросил Иман, и тот опустил руки.
— Я ничего не прячу, но кто вы такие, что вам надо?
— Это я буду спрашивать,— загремел Илико,
поводя густыми длинными усами.— Зачем в заповедном лесу
деревья рубите? И кто это тебе разрешил спиливать
номерные деревья? Они же у государства на счету! Где
твой билет? И почему ночью рубишь, если не бандит
и не вор?
— Какой тебе еще билет! Это же старые деревья, не
сегодня, так завтра сами свалятся, и на дрова их никто
уже не возьмет. Какой же билет! Жалко, что ли, если
люди попользуются? Да мне одно только дерево нужно,
зачем билет-то брать?
— Ты брось мне свою агитацию! Безбилетный,—
значит, вор, вот кто ты такой,— настаивал Илико.— А
теперь скажи свою фамилию, имя, отчество. Говори, акт
надо составить, а там видно будет, нужен билет или
нет.— Илико достал свой блокнот, повернувшись к свету
от фонаря Тарасика.
— А что спрашиваешь? Я Хусина Карсанов, в райзо
работаю. И зря ты эти бумажки пишешь. Начальник
милиции — мой дядя по матери, твоя бумага к нему
пойдет, так что зря стараешься. А меня задерживаешь.
Я же этим париям деньги плачу, некогда мне с тобой
разговоры вести,— осмелел лесной вор.
Иман так и вскинулся: что, и здесь начальник
милиции замешан? Хотел было накричать на вора, но
подумал: а вдруг он врет, напрасно имя начальника
приплел?
— Твой дядя меня мало интересует,— ответил
Илико,— пусть он даже министр милицейский, какое мне
216
дело. Я вот составлю акт, а там посмотрим, чей ты
племянник окажешься...
Шофер, еще совсем молодой парень, подошел близко
к Илико и попросил умоляющим голосом:
— Илико, прошу тебя, не впутывай меня в это дело.
Меня попросили подвезти дрова. Откуда я знал, что лес
воруют? .. Если наш председатель колхоза узнает, что я
ездил сюда деревья из священной рощи веровать,
машину тут же отберет. Я же только из армии пришел,
вторую неделю работаю... Не впутывайте меня в это дело,
прошу вас... Я же вас знаю, Илико и Иман, я сын
Сандро Дахциева.
Илико и Иман переглянулись. Сандро они
действительно знали близко, и было бы нехорошо его сьша в
таком деле уличить, но пока надо все выяснить. Есть
вещи, которые нельзя прощать даже сыну Сандро.
— Ты лучше вот что скажи,— хмуро спросил
Илико,— этот вор в самом деле Карсанов, ты знаешь его?
— Откуда я его знаю? Впервые увидел,— ответил
шофер, пристыженный своим поступком.
— Не стыдно вам не верить мне? — заговорил вор.—
Я же государственный человек, служащий райзо! Я из
районного актива, поймите!
— Ты активный вор, вот кто ты есть! — поправил его
Илико и снова обратился к шоферу: — А эти парни
откуда, не знаешь их?
— Они тоже из нашей деревни, он им деньги обещал
заплатить, вот и поехали с ним. Откуда они могут его
знать?
— Деньги, деньги! — вспылил Илико.— Что ж
получается? Пообещай только вам деньги, так вы и
покойников продать готовы? Не знаете, что все наши предки
ходили под эти деревья богу молиться, веками эти
деревья берегли, а вы их за один туман продали, и не
стыдно вам? Подойдите! Что вы там в тени прячетесь?
Раз знаете меня...
— Да не прячемся мы.— Парни подошли
поближе.— Ничего мы не знали. О священной роще он нам ни
слова не сказал...
— Ты, Дзамбол,— Илико узнал говорившего,— не
постыдился с вором ночью ехать? Ладно шофер, еще
молодой парень, его нетрудно обдурить. Но ты не мог
понять, что за дровами ночью не ездят? .. Хорошо, не
217
подумал, не сообразил, но хоть должен же знать, с кем
ночью на воровство идешь? ..
— Я поверил ему. Он сказал, будто директор он
школьный и купил древесину, ремонт делает. Вот и
поверил. . * Куплены,, сказал, карагачи, надо их только
погрузить на машину. Как было не поверить? А теперь
оказывается, что в райзо служит, вот и пойми, кто он...
— Так кто же ты в самом деле? — Илико
разозлился не на шутку.— Учитель, директор или
«государственный человек»?
— И чего вы ругаетесь,— пытался перевести
разговор на мирный лад попавшийся вор,— не пойму. Если
Духу вашего ущелья убыток причинил, так скажите, я
уплачу вам.— Вор провел рукой по своим усам с легкой
проседью.— А ругаться не дело. В конце концов,
ругаться я тоже умею, я тоже осетин и могу крепко
рассердиться.
— Ишак ты холощеный, а не осетин! —
рассвирепел Иман и вставил в стволы настоящие патроны.—
Документы покажи, сукин ты сын!
— Да что вы ругаетесь, обзываете, в самом деле! —
вскричал вор.— Вы кто — лесники или убийцы? Если
лесники, так скажите, сколько я вам должен за
порченное дерево. Не спилил же я его, заплачу вам. Чего
пристали, кто я да где работаю?
— А я его знаю,— сказал вдруг Тарасик и ближе
поднес к лицу вора фонарик.— Разве в прошлом году не
вы работали в районном интернате учителем географии?
Разве вы не Манкиев Борис Дудаевич? Не стыдно вам
людей обманывать, а еще учитель!
— Это тебе должно быть стыдно: ученик, а в бога
веруешь, священные рощи защищаешь, будто старик
богомольный! — ничего другого не придумал
растерявшийся от неожиданного разоблачения вор.
Иман слова «старик богомольный» принял на свой
счет и взорвался:
— Ты моей веры не трогай, сукин сын! Знаю я
таких, как ты. Я хоть живому дереву молюсь, а ты своему
барахлу, шкафам да коврам разным втихую молишься,
вот и вся твоя вера воровская!
— Я вижу, что с вами нельзя нормальным языком
говорить. Нечего мне с вами время терять, далеко ехать.
218
Спокойной ночи! —небрежно, бросил вор и шагнул в
темноту.
Иман выстрелил в воздух и крикнул:
— Стой, сукин сын! Ни шагу с места!
— Ну что вы делаете, бандиты! Убить решили? —
Вор явно струсил и вернулся на прежнее место.
— Стой вот так и не визжи! — сказал
успокоившийся Иман.— Отсюда так не уйдешь. Прежде заплати
нанятым парням. Мало того, что опозорил их, еще и
платить не желаешь? Расплачивайся, быстро!
Вор достал из кармана большую пачку
десятирублевок, отделил из нее три бумажки и подал шоферу:
— Вот вам обещанное. А теперь скажите, сколько
с меня за дерево?
— Ты же сказал, что мы этим деревьям молимся...
Так вот, мы божьи деревья не продаем, им цены нет. Но
ты заплатишь штраф десять туманов. Передай их вон
шоферу. И чтоб духу твоего здесь не было, сию же
минуту!—взял на себя права судьи Иман.
— А еще говорят, что не грабители,— отсчитывал
вор деньги, но все же бурчал.— Кто же за одно дерево
целых сто рублей берет, если не грабители?..
Отсчитав деньги, вор осмелел:
— Ну вот, ограбили меня, рассчитались, и хватит
орать. Но не думайте, что это вам так пройдет. Найду я
на вас управу, милиция пока на своем месте и
грабителей умеет укрощать.
— Иди, иди своей дорогой! А дойдет до милиции, так
легко не отделаешься,— бросил ему вслед Иман.
— Деду,— нарочно громко сказал Тарасик,— я
завтра же в газету напишу, чтобы все его знали, какой
учитель есть у нас в районе.
Вор услышал голос мальчика и тут же вернулся к
лесникам:
— В какую еще газету? Не стыдно тебе, ученику,
учителя позорить из-за какого-то дерева? Или совести
у тебя нет?
— А у вас есть совесть? — спросил Тарасик, глядя
на него в упор.
— Илико, Иман! — повернулся вор к старшим.—
Скажите этому мальчику, чтобы в дела старших носу не
совал, он все может испортить...
— Ступай, ступай, ничего с тобой не случится, если
219
люди знать будут, что ты за птица и чему детей можешь
научить. Иди!
Вор скрылся в темноте. Его спутники не знали, что
делать. Идти ли им вслед за ним? Так получалось, что
они тоже воры, одного с ним поля ягоды. Оставаться
с Илико и Иманом тоже было неловко, ведь они же
пришли рубить деревья священной рощи. Выручил их
,Иман:
— Ребята, идите по домам, но. запомните: за
испорченное дерево штраф платить надо... Ты вот что,
парень, сын Сандро, на те десять туманов, что вор тебе
передал, купишь мне саженцев яблоней мичуринских.
Они в горах хорошо растут. А еще железную сетку —
оградить их, чтобы козы не ободрали саженцы. А вы,
молодцы, поможете мне сад посадить и сетку вокруг
натянуть. Ну как, договорились? Или сказать мне о
вашем геройстве отцам вашим?
— Будь по-твоему, Иман, поможем. Пусть сын
Сандро саженцы и сетку купит. Посадить их и оградить —
это мы сделаем,— согласились парни.
— Иман, не говори ты моему отцу ничего,—
попросил шофер.— А если в октябре месяце не привезу тебе
саженцы и сетку для ограды, тогда можешь прийти к
нам домой и все выложить отцу, а мне плюнуть в лицо.
Договорились?
— Договорились, сынок, верю тебе. Сандро мой
давний друг, не может его сын быть вором и обманщиком
сразу,— улыбнулся Иман, и парни поняли, что старик
их простил. Двое парней вскочили в кузов, шофер влез
в кабину, и Иман подошел к нему, придержав рукой
Дверцу:
— Как зовут-то тебя, сынок?
— Хасан меня зовут.
— А солдатом в каких краях служил?
— Далеко, Иман, отсюда не видать. Там Карпатские
горы недалеко. Слыхал такое — Карпатские горы?
— Слыхал ли? Я, сынок, там воевал в германскую
войну, а службу начинал в Перемышле-городе, слыхал,
может?
— Знаю, как не знать! Значит, мы с тобой по одной
солдатской дороге шагали? — обрадовался Хасан.
— И выходит, что мы, солдаты, верить друг другу
должны, а? — Иман хотел напомнить об их уговоре.
220
— Все исполню, Иман, как договорились, не
беспокойся. Честное солдатское! — крикнул Хасан и запустил
мотор.
— Ну так с богом, сынок! — крикнул Иман
по-русски вслед парням, сидевшим в кузове.— Не подбирайте
только этого ворюгу, пусть пешком чешет до автобусной
станции!
6
Лето было на исходе. Сенокос завершился, всюду на
склонах стояли пузатые копны. Иман и Тарасик тоже
управились с косовицей, на своих коров и коз
наготовили сена. Иман неделю косил и с колхозниками на
склоне горы. Оставалось скосить несколько копешек для коз
Афсати — бога туров, серн, оленей. Это давние зимние
гости Имана — серны с высоких вершин. И как-то утром
пошли Иман с Тарасиком косить на опушке леса в
горловине Оленьего ущелья, а через день они собрали сено
и скучили. Потом обнесли копешки кое-как оградой,
вроде наспех сделанного плетня, чтобы осенью случайно
забредшие коровы не сжевали сено, заготовленное для
голодных серн.
Тарасик старался особенно. Он уже видел, как
придут серны, целое стадо, по глубокому снегу, обрадуются
находке и будут пировать. И потом будут лежать здесь
же, а однажды утром придет он с дедом поглядеть на
этих серн. Он еще не знал, что добраться сюда зимой —
дело трудное...
Наступила осень. Тарасик пошел в школу, но не в
районную, а в сельскую. Правда, за ним приезжал отец,
даже забрал его с собой, но через два дня привез
обратно на «виллисе». На этот раз Тарасик привез с собой
нужные документы, книги, постель, зубную щетку,
мыло, транзистор — много чего привез, и дед убедился, что
внук не оставит его одного, будет зимовать вместе
с ним.
Иман думал про себя, что, видимо, в Гари совесть
заговорила. Невнимателен был к отцу и матери и теперь
отдает ему своего старшего сына: мол, не могу же я
сам караулить тебя, служить мне надо, вот и оставляю
тебе своего первенца, чего тебе еще? .. «Хорошо, если
221
дошло до его ума и сердца, что мне тут одному трудно
и горестно жить...» — примирился с сыном Иман, но
ему не сказал ни слова. Только деньги от него принять
отказался. «Не надо мне денег, муку мне дочери купили,
целых четыре мешка, картошка есть, сыр — тоже. Двух
коз продал, есть и деньги, да еще пенсию получаю...
Все у нас есть... Зачем мне лишние деньги? Самому
тебе пригодятся...»
Гари было обидно, мол, не в нахлебники отдаю
своего ребенка, сам могу его содержать, но упрямство Има-
иа ему было известно, возражать не было смысла, к
тому же он был прав: зачем ему деньги? Все, что нужно
было на зиму, он припас: копны свезены соседями,
дрова — тоже, хлев и дом пока в порядке, долгов нет, ни
к чему Иману деньги, не возьмет он их. Знал Гари и
о том, что для Имана взять деньги у сына равносильно
признанию, что он сам содержать себя уже не может.
А этому Иман предпочел бы скорую смерть... Гари это
знал и не настаивал. «Пусть делает как хочет. Мое дело
предложить, а не берет, так силой навязывать свои
копейки не буду... Не желает сын с нами жить,
предпочел дедушку — пускай, не буду я бегать за собственным
мальчиком: живи, ради бога, со мной! Не хочет, так я
силой не заставляю, пускай живет!..»
Так думал Гари. И все бы обошлось без лишних
слов, обид и ссор, но жена Гари была иного мнения.
Она в то время была в отпуску, уехала по санаторной
путевке в Сочи, и Гари одному легко было решить сей
вопрос. Но как только она вернулась и не нашла дома
своего сына, началась война — вначале в масштабе
районного городка, а там перекинулась и в Оленье ущелье.
На третий день по возвращении мать Тарасика
подкатила на машине к воротам Иманова дома. Тарасик
только недавно вернулся с занятий и во дворе играл
с соседским псом, свой был стар и не любил игры. Мать
тут же с ходу напустилась на Тарасика:
— Собирайся сейчас же и ступай домой! Тоже мне,
из отцовского дома убегать вздумал! Хулиганство какое!
На крик снохи вышел во двор Иман. Досталось
и ему.
— Тебе тоже не следует мальчика с пути сбивать.
Или хочешь, чтобы и внук твой остался таким же
неучем, как ты?
222
Иман терпеливо слушал, не хотелось вступать в спор
с невесткой, знал он, что она груба и. не воздержится от
оскорбительных слов, потому избегал ее всячески. Хотел
и в этот день уйти от неприятного объяснения с ней, но
она устроила старику такой разнос, что он не выдержал
и попросил:
— Ради бога, невестка, уймись, не ругайся. Тут
соседи кругом, и неудобно кричать на все село. Да и о чем
такой шум поднимать? Мальчик уже большой, все
понимает и пусть сам выбирает, где ему жить. Здесь он не
у чужих, в своем собственном доме живет. Никакого
бегства, отец его сам привез на машине. И если захочет
уйти отсюда — ни слова не скажу, воля его. Уезжайте
вместе. Но если не хочет уходить, то силой его никто не
заставит, а будет заставлять, я не позволю. Не было
еще такого, чтобы при мне насильничали, а я молчал.
Нет, не позволю, чтобы моего мальчика из-под палки
жить там заставляли. Нет. И не говори, что твой
ребенок. Твой-то твой, но он мой внук, и не дам его никому
в обиду, пока я жив. Вот он сам, спроси его, поговори
с ним, и решайте без всякой ругани.— Иман твердо
решил принять этот бой за внука.
— Тарзанчик, милый, собери свои вещицы, и поехали,
мне некогда,— приказала мать и оглядела дом.—
Быстрей, «виллис» нас ждет... А где твои вещи-то,
попрятали их, что ли? ..
— И собачьим прозвищем не зовите сына, имя у
него есть, в бумагах записанное,— обиделся Иман за
внука и собрался было выйти за порог, мол, пусть
поговорят мать и сын наедине, но не тут-то было.
— Мой сын он, и как его называть, я сама знаю,
тебя не спрошу! И знай: не позволю! Не позволю, чтобы
мой сын здесь одичал! Чему от тебя может он
научиться? Волчьи повадки перенять, в людей стрелять из
винтовки? Нет, не позволю! Не такое ему нужно
воспитание! Нюхать коровье дерьмо — это не воспитание!
— Мама, пожалуйста, не ругайся, послушай меня,—
сказал Тарасик.— Никуда я уходить отсюда не
собираюсь. И не сам я приехал сюда, папа меня привез.
Договорились, буду учиться здесь, и все. Зря не
расстраивайся и не мучай нас тоже. Езжай одна, если некогда тебе.
А не оставишь меня в покое, так я в самом деле убегу
от тебя куда глаза глядят, и все, и не найдешь никог-
223
да,— высказался Тарасик спокойно, как только мог.
Стыдно ему было за мать перед дедушкой. Боялся, что
если не убедит мать, то все начнется снова.
Мать поняла одно: сын с ней не поедет, а виноват
в этом Иман. Она и напустилась на него со всей
ненавистью, на какую была способна.
— Это мой мальчик с твоих слов все говорит, но
попомни: не будет по-твоему, нет! Ты думаешь, что из-
за ребенка и тебя будем кормить, всякого добра тебе
навезем? Не выйдет, не будет этого, слышишь?
— Мама! — вскрикнул Тарасик.— Что ты говоришь,
как тебе не стыдно? — не выдержал мальчик и
расплакался, уткнув лицо в ладони.
Иману жалко стало Тарасика, резкие слова готовы
были сорваться с языка, но сдержался, тихо, но сурово
попросил:
— Невестка, прошу тебя об одном одолжении:
отныне забудь дорогу к моему дому. Если когда увидишь
меня даже вблизи своего дома, то гони взашей. И на
этом давай закончим наш разговор.
— Ясно! Зачем тебе ходить в мой дом? Сама буду
носить в твою берлогу мясо да мед. Вот чего ты хочешь!
— Вот что тебе скажу, добрая женщина,— от обиды
голос Имана упал, слова застревали в горле, и он
выталкивал их с силой, будто камни отрывал от скалы.—
Иман никогда ничьим нахлебником не был и не будет.
Я не помню, чтобы в твоем доме хоть раз обедал, так
что не попрекай меня хлебом, который я у тебя не едал.
А если когда мне придется у таких, как ты, хлеб
просить, то вот оно, лекарство от такой беды,— Иман
сорвал со стены ружье.— В бродяг всяких стреляю, так
сумею и в себя выстрелить. Заруби себе на носу!
Увидев ружье в руках разгневанного старика, мать
Тарасика испугалась и вышла за порог, но и оттуда
укусила Имана:
— Подожди, я не я, если под суд тебя не отдам,
чтобы тебя посадили! Погоди, я покажу тебе, как у
меня дитя отнимать, старая развалина, ишак безмозглый!
Невестка побежала к машине. Иман хотел сказать
ей вслед резкие слова, но пожалел Тарасика и
промолчал. Только вышел за ней во двор, но, убедившись, что
она уехала, вернулся в дом, повесил ружье и присел на
лавку. Тарасик прислонился к стене и плакал. Иман по-
224
дошел к Тарасику, присел рядом, повернул его к себе
лицом и прижал к груди:
— Плакать не надо, сынок. Ты уже мужчина, и
нельзя тебе плакать, не к лицу. Ты в самом деле уже
мужчина. Не в том же дело, чтобы человеку много было
лет. А раз мужчина, нельзя плакать. И на мать не
обижайся: мать, она свое дитя сильно любит, вот и лишнее
может сказать, а как ты хочешь? А что она о копейках
говорила, это ничего, это она нарочно, меня хотела
разозлить. Она ведь как соображала? Скажу, мол, Иману
все обидные, самые обидные слова, он рассвирепеет и
выгонит всех: убирайтесь, мол, отсюда все — и внук, и
невестка, и сын! Но не вышло ничего из ее хитрости.
Может, вышло бы, но мы же с тобой договорились.
Помнишь, по-мужски договорились? Как же я мог тебя
отдать, слово свое не сдержать? Вот и не удалась ее
хитрость! Вот так!.. Так что, Тарасик, мы с тобой все
же мужчины, и плакать нам не пристало. Мы с тобой,
как солдаты на войне, свою позицию не отдали,
германскую атаку отбили, понимаешь, сынок?
А раз так, то надо не плакать, а радоваться по
такому случаю и отметить это дело как-нибудь. Солдат, если
он позицию удержал, стопку водки получает, но нам это
ни к чему. Может, пойдем с тобой к истоку Оленьего
ущелья? Там орешков нарвем, я знаю, они уже поспели
и никто туда не ходил еще из деревенских ребят.
И посмотрим, как там наше сено для коз Афсати? Не
слизнули его коровы случайно? Плохо тогда придется
нашим сернам зимой.
Тарас перестал плакать, успокоился, вытер лицо и
поправил одежду — дал понять деду, что он готов
отправиться в дорогу. Иман встал и приказал:
— Тарасик, ты возьми ружье, а я заберу бинокль,
и пошли, пора...
Долго шли дед и внук молча, делали вид, будто
ничего не случилось, или не хотели говорить о том, что
произошло. Наконец Тарасик все же сказал:
— Деду, я больше никогда не буду плакать, обещаю
тебе. Плакал я из-за тебя. Обругали тебя, вот и не мог
слезы удержать.
— А ты не бойся за меня, сынок. Обругали, так что
же — не перебили же мне хребет, выдержал. Старик, он
же крепкий, как высохшее дерево, даже топор не бе-
225
рет... Да и то разумей: старик прощать должен уметь,
а как же иначе? И крепко на ногах стоять. Это ничего,
Тарасик, что обидели. Все пройдет и забудется. Знаешь
русскую пословицу: бог помогай, свинья ни скушайт!
Вот так.
7
Живут себе Иман и Тарасик. Не легко им, но живут.
Тарасик учится до полудня, потом возвращается из
школы и помогает Иману по хозяйству, играет со
своими сверстниками, готовит уроки, а вечерами то слушают
с дедом транзистор, то читает деду газеты. Любит дед
расспрашивать о мировых делах, особенно о том, нет ли
где войны. Не любит он войну и говорит внуку, что
война — это очень плохо для всех людей. А Тарасик верит
ему, дед же сам четыре года воевал, храбрым солдатом
был, кому же знать, как не ему, что война — это плохо
для всех людей...
Иман боялся, что мальчик скучает по дому, да
неловко ему признаться. И однажды в субботний вечер
пошел вместе с ним на автобусную станцию, отправил
Тарасика домой на побывку:
— Езжай, сынок, мать и отца повидай, сестру и
братика, они, наверно, каждую субботу ждут тебя. Если не
будешь их навещать, то скажут, что ты их не любишь.
А это нехорошо, чтобы так о тебе думали. Побудешь
дома, а там вернешься и опять за свое учение
возьмешься. ,,
Тарасик в тот, первый раз неохотно шел домой,
боялся, что опять с матерью придется ругаться, слушать
нудные и жалобные упреки, обидные для дедушки слова
терпеть. Но мать, видно, смирилась с бегством сына,
была с ним ласкова, не ругала деда, если не считать
обидных прозвищ, вроде «медведь из берлоги», «старый
абрек», «домашний охотник». И Тарасик привык к
своему новому положению гостя в родном доме. Теперь он
охотно приезжал к своим каждый субботний вечер, но
в воскресенье неизменно торопцлся обратно в Оленье
ущелье, к дедушке, хотя мог поспеть к занятиям, если
бы даже выезжал в понедельник утром.
Субботний вечер для Имана стал самым грустным
226
временем. Днем он бывал занят всякими домашними
заботами. Коровы и козы в осенние дни уходили далеко от
села в поисках корма, за ними нужен был глаз да глаз.
А вот вечером скучно было Иману сидеть одному в
просторном доме у натопленной печки. Спать ложиться еще
рано, заходить к соседям посидеть и поболтать было
неудобно; он уже старик, а когда заходит в дом
бородатый старик, его угостить надо. Нельзя без нужды
беспокоить людей, никакого угощения Иману не надо, вот
только в одиночестве сидеть грустно. Это ведь и волку
одному тяжко бывает, оттого и воет по ночам, другого
волка кличет, чтобы услышал и прибежал к нему, а
человеку как быть, не станешь же выть по-волчьи?
Нет, старому человеку нельзя жить одному. Что бы я
делал, не будь этого мальчика со мной? Подох бы с
тоски. Людей бы замучил и сам бы околел. В таком
разе лучше взять со стены ружье и покончить с таким
житьем. Все равно от жизни нечего уже ждать. Одни
обиды и мученья, на самого себя тошно смотреть, людей
собой обременяешь — это же сущая беда, а не жизнь.
Все равно умирать придется, так лучше вовремя, пока
на человека похож, людям не надоел. А так что же
получается? Вроде бы еще человек, а ни на что не годен,
один язык болтливый и остался от тебя прежнего,
болтаешь, как вот этот говорящий ящик...
«Говорящим ящиком» Иман называл транзистор Та-
расика. Настраивать транзистор Иман не умел и
никогда не выключал его, когда внук уезжал домой в
районный городок. И болтал говорящий ящик до полуночи,
потом замолкал и снова начинал говорить, играть на
фандыре, петь с рассвета раннего.
А не годен ни на что другое, так и уходить следует
в истинный мир. Да какая там истина! Ничего-то там
нет, ни лжи, ни истины. Пустота там, вот и боятся все
люди испокон веков этого самого истинного мира, и ник-
кто туда не спешит, дрожат перед этой пустотой, вот и
весь сказ. Истинный мир!..
Если бы сын мой старший рядом был да покойница
жена не ушла, так что мне старость, поминать бы о ней
не стал, а одинокий остался, вот и нет мне житья. И
никому от меня проку не*г, сам мучаюсь и другим жить не
даю. Может, по глупости своей мальчику тоже мешаю
сладко да покойно жить, а я думаю, что ему так лучше.
227
Раз мне с ним жить еще можно, так сдуру считаю, что
и ему со стариком хорошо, а на что ему, мальчишке,
старик?
— Да... Рано ты, старушка, ушла и оставила меня
одного за двоих мучиться. А чего тебе было торопиться,
не обижал вроде? Сама с лаской и добром к людям
шла. Как было обижать? Накричать и то было неловко.
Если бы хоть раз, как вот невестка наша, дурное слово
сказала, сбежал бы я из дому темной ночью, чтобы
следов моих никто не приметил. Но с ней как можно было
ругаться? Придешь, бывало, злой да сердитый, увидишь
ее, а она смотрит на тебя с укором, будто серна на
ружье, и забываешь все бранные слова и самому
стыдно за себя.
Эх, лучше бы мне с моей дурной головой вместо тебя
быть в этой самой истинной стране! Но что уж говорить.
Когда нельзя так...
Тут Иман не выдерживал, вставал и приносил на
стол все, что у него было,— хлеб, сыр, араки кувшин,
воды кружку — и поминал свою жену. А помянув
старушку, вспоминал старшего сына, погибшего на войне.
И говорил с ним: мол, несправедливо, что он, сын,
похоронен где-то в России, а его старый отец все еще жив,
хотя едва держится на земле, качается, что одинокое
дерево на пригорке в зимнюю метель. И это оттого, что
нет справедливости у бога, нет и у людей. И каждый все
о себе да о себе дум'ает, до других ему дела нет. А он,
Иман, состарился и уже не может думать ни о себе, ни
о других. А поднять на себя руку тоже нелегко, не
получается, все же люди к жизни привязаны и никто сам не
желает уходить в истинную страну...
Иман успевает за разговором выпить три-четыре
рога араки, заметно хмелеет, и суровый его нрав мягчает.
Люди привыкли считать, что у него сердце кремневой
крепости, но Иман состарился и кремень его
искрошился. Выпьет и начинает за одиноким разговором жалеть
себя, а вспомнит сына, так всегда слеза на ресницы
набегает. Иман чувствует, что увлажнились глаза, и
стыдится, не нравится ему этот его, как он упрекает .себя
в такие минуты, мокрый разговор. И тогда он утирает
глаза тыльной стороной ладони, расправляет усы и
резко меняет ход своей мысли, словно заворачивает своих
228
быков на пашне, в конце борозды. И уже говорит на
своем солдатском наречии:
— Не-ет! Так нильза! Радовать своих недругов и
недоброжелателей никак нильза! Держится надо,
старик. Вот приедет внук, и снова жить будем. Умирать
успеим, далеко ходить не надо, земля мертвых близко,
за селом — один шаг, успеим!
Он еще наливает себе рог араки и обращается к
духу ночи:
— Благослови мой очаг, помоги старому человеку
своей благодатью!
Выпивает Иман последний рог и бодро командует:
— А теперь, старик человек, погляди на свою
скотину и ложис надо. Много говорить плохо, ложис надо!..
Так завершаются одинокие ночи Имана. И хорошо,
что такая ночь одна за всю неделю, а то извелось бы
кремневое сердце старика.
В конце поздней осени, когда до зимы оставалось не
больше одной пяди пути, Иман посадил первый сад в
Оленьем ущелье. Шофер Хасан привез ему пятьдесят
штук яблоневых саженцев. Привез он с собой и
несколько рулонов железной сетки для ограды. А в кузове с
лопатами стояли и весело окликнули Имана двое
парней, которых он вначале не признал, а потом догадался,
что это те самые «воры», которые приехали вместе с
бродягой-учителем.
Иману будто царство подарили, не знал, как
благодарить этих парней от радости. И не в саженцах было
дело, он даже не знал толком, как за ними ухаживать.
Имана обрадовало особенно, что не обманули его, что
не пришлось им напоминать, что эти лочти незнакомые
парни.— хорошие люди, слово держат, как предки,
безобманно. Такой радости у него давно не было.
Иман не знал, где ему сад разбить. Посоветовался
с ребятами, и они в один голос сказали: нет лучшего
места, чем участок самого Имана; деревца надо
посадить на том конце участка, что ближе к священной
роще. Там и земля лучше, и теплее, не так ветрено, и
влаги достаточно. Иман согласился, хотя не хотелось
ему отрезать край своего участка. Однако подумал, что
все хорошие места заняты под участки и никто не даст
229
своей, земли. А на бросовой земле разбить сад нет
смысла, одичают деревья, погибнут. Уж лучше уступить под
сад часть своей земли. «Мне недолго жить, хватит и
оставшейся доли. А если Тарасик вздумает когда-
нибудь жить в дедовском доме, то дадут ему участок.
Пусть растут яблони на воле, на хорошей земле!..»
Правда, Иман боялся также людских пересудов: не
скажут ли, что Иман ограбил бедолагу учителя и себе сад
разбил на его деньги? Но неужели не поймут, что ему,
старику, сад ни к чему, что все достанется им, их
детям? .. А, пусть говорят что хотят.
Будет сад, остальное все — разговоры...
Ребята быстро выкопали ямки и посадили саженцы.
Труднее было с оградой. Нужны были колья, чтобы
натянуть сетку. Иман решил не скупиться, завершить так
удачно начавшееся дело. Он позвал ребят к себе и
предложил им козу — осеннюю, жирную. Возьмите, мол,
попируйте с друзьями, но ограду сделайте не сегодня, так
завтра, чтобы и ваши труды не пропали, и меня,
старика, на смех не подняли в деревне — купил деревца на
прокорм своим козам!..
Парни посоветовались и согласились, пообещали
сверх этого и всю ограду участка поправить, камней с
берега речки подвезти и обновить старую ограду. На
второй день они приехали целой ватагой и все сделали,
что обещали. И теперь Иман спокойно ожидал прихода
зимы. Она укроет саженцы снегом, до весны
приживутся — и, если весной выбросят листочки, сад будет! Это
было почти сбывшейся мечтой старого Имана. Первый
сад в Оленьем ущелье — это нравилось Иману,
тешило его сердце, будто геройство какое совершил.
Зима пришла в свое время. Выпал довольно большой
снег. Всюду было белым-бело, только пятачки деревень
и буковые рощи виднелись, как черные заплаты на
белом покрывале. Не держался снег также на отвесных
скалах вершин, и эти скальные стены синели между
снежными лощинами. Все мелкие речушки завалило
снегом, только река ущелья тянулась между белыми
бережками, точно стежка черных нитей по белому ситцу.
В Оленье ущелье теперь шла одна пешая тропа: Иман
за свои деревья мог быть спокоен. Бродяги-рыбаки
тоже отступили перед зимой. И старый охотник забросил
свое ружье.
230
Правда, перед Новым годом выпал большой снег, с
горных вершин подули лютые в эту пору ветры. Иман
забеспокоился, как там его серны? Спустились в
ущелье, нашли корм или погибли где? .. Тарасик давно
ему задавал один и тот же вопрос: когда же спустятся
серны сена пожевать? Но Иман отмалчивался. Он знал:
если скажет, что серны уже в ущелье, так надо будет
мальчика повести за собой в глубь ущелья, а по такому
снегу трудно будет мальчишке дойти, даже с горскими
снегоступами. Они проваливаться в снегу не дают, но
утопает нога все же глубоко, трудно ходить...
Но однажды Иман решился идти в ущелье, к сернам.
В воскресное утро он заметил, что кто-то прошел в
ущелье, по речке вверх. Следы двух пар сапог отчетливо
были видны на снегу. Прошли, видно, затемно, но за
какой малостью и кто мог в эту пору идти туда? .. Иман
ждал до вечерних сумерек,— может, вернутся назад и
узнает их, кто они и зачем пожаловали? Но так и не
дождался их, а ночью выпал свежий снег и прикрыл
следы чужаков.
Иман стал беспокоиться: в близлежащих селах он
знал всех охотников-любителей, но из них не было
такого, кто в это время решился бы идти в горы; это могли
быть только городские охотники, но им неизвестна
тайна Имана — стойбище его серн... Кто же еще мог
быть? .. Ничего не мог ответить Иман на этот вопрос
и решил сам проведать стойбище серн. А когда в
очередной субботний вечер Тарасик не поехал в район,
мол, в следующую субботу их отпускают на каникулы
и он поедет домой на целую неделю, то Иман решил
повести мальчика в ущелье в воскресное утро. Пусть
поглядит на коз Афсати хотя бы в бинокль, то-то будет
для него радость...
С вечера приготовился Иман — достал снегоступы,
поправил на них ремни, сыромятные арчита были у него
свои, а для Тарасика попросил у соседского мальчика,
дал Тарасу свои старые ноговицы, себе достал новые из
сундука, хотя было ему жалко их надевать, жена их
сшила, и в память о ней Иман хранил их.
«Ненадеванные пусть лежат, покаане помру...»
С утра Иман задал коровам корм, перекусили с Та*
расиком всухомятку и отправились в дорогу. Вышли за
село, и старик увидел следы тех же двух пар сапог.
231
Следы были свежие,— видно, прошли эти люди недавно.
Тарасик спросил деда, мол, чьи следы, кто в ущелье мог
пройти, но Иман ничего определенного сказать не мог.
Сослался на неизвестных бродяг...
Снег был пушистый, рассыпчатый. Тарасику
захотелось поваляться в снегу, но было неудобно в
снегоступах, к тому же боялся отстать от деда. Ему и так
трудно было поспевать за дедом, хоть он стар и горбат, а все
же по снегу ходит легко, будто и весу в нем никакого.
Шел Тарасик, поглядывая по сторонам. Все горки и
увалы замело снегом, и они округлились, будто ребячьи
пухлые щеки. Всюду снежная вата прикрыла и
сровняла кусты, камни, выбоины. Тарасику казалось: покатись
с самой вершины, так ни за что не зацепишься, кубарем
слетишь к речке ущелья. Лес стоял хмуро, голый и
отчего-то печальный. Деревья вытянулись, будто по
команде «смирно!», и замерли. Но подует ветер, и лес
зашумит, заскрипит, голые, замерзшие прутья засвистят...
Солнца пока не видно, но, кажется, потеплело — пар над
речкой заметно редеет и куда-то уплывает, а может,
снег засасывает его? ..
Иман идет неспешно, торопиться некуда, а мальчик
может устать, так радости никакой не будет... Одно
удивительно: кто прошел все-таки в сторону стойбища
серн? .. Иман ступает след в след незнакомцам и
думает: «Если они охотники, то застанут бедных животных
у моих копешек. Спят, наверно, серны, долго ли
перебить их, сытых да сонных... Правда, если эти люди
настоящие охотники, они не будут их бить, нельзя, скоро
серны ягниться должны. Их совсем мало осталось.
А туров — единицы. Как можно истреблять? Мяса и так
вдоволь в городе, а бьют их зазря, чтобы похвалиться
перед другими: серну подстрелил! Да побьет вас
Уастырджи, как вы этих несчастных побили!»
Проклиная про себя неизвестных охотников, Иман
дошел до поворота, откуда можно было ясно различить
в бинокль свои копешки и серн, если они уже
спустились в долину. Иман только сейчас заметил, что
торопился, ни разу не дал отдохнуть мальчику, и пожалел,
что забыл о внуке. Он остановился, примял снег вокруг
и сел.
— Тарасико, садись рядом и отдохни, хоть ты и
охотник и ходить горазд, но в таком снегу долго не
232
походишь, я привык лазить по этим сугробам, но все же
устал. Руки не замерзли? Нет! В таком разе давай-ка
поглядим в бинокль, может, наши козы спустились сена
пожевать. А если их нет там, то зачем идти попусту еще
полверсты? Разве что козьи какашки смотреть тебе
охота?
Иман посмотрел на копешки из-под ладони, но
ничего не разглядел,— видимо, серны не спустились в
долину. Навел бинокль на то же место и заметил: между
двумя копнами лежат серны, две или три, небось от
ветра прячутся. Передал бинокль Тарасику:
— Погляди, Волосатое Ухо, они там! Ждут тебя со
вчерашнего дня. Только покрути бинокль, чтобы видно
тебе было, ты же у меня глазастый — не старик!
Тарасик взял бинокль, покрутил окуляры и, поймав
одним глазом черневшие на снегу кружочки копен,
другой глаз закрыл и стал наблюдать. Лежат две серны —
какие серны, это же козы! — на снегу, а третья —
маленькая и суетливая — то вскакивает, то ложится
промеж других, что постарше и степенней. Холодно ей, что
ли? А это что еще там движется? Будто к сернам
крадется. А может, это волк? В книге он читал, что волк на
брюхе подползает к своей жертве, чтобы не удрала...
Да не один волк, целых два! Надо деду сказать, может,
в самом деле это волки? .. Он узнает сразу, напугает
выстрелом, а то они уже близко подползли...
Тарасик встревожился и опустил бинокль:
— Имам Шамиль, мне кажется, что там недалеко от
копешек вижу две черные точки, к сернам
подкрадываются. Вот погляди... А что, деду, волки и днем тоже
нападают или только ночью?
— Какие там волки, ты что говоришь? .. В Оленьем
ущелье давно не видно волков, сынок, не бойся,—
успокаивал его Иман, а сам думает: если эти охотники сдуру
выстрелят по сернам, они себя погубят. В такое время
рыхлый снег от выстрела сорвется, рядом же голый
склон, и лавина может прихватить и серн и
охотников. ..
Иман долго не мог их отыскать, но наконец увидел
и сразу понял, что это охотники, накрылись белыми
халатами, чтобы обмануть животных, на выстрел
подползти. Серны пока их не заметили и лежат спокойно...
233
Видно, бродяги и стрелять намерены... Погибнуть
могут, ишаки безмозглые! Нельзя стрелять!..
— Е-е-ей! Не стреляйте! Лавина!.. Не стреляйте!
Не послушались. Вослед предупреждению Имана
раздались выстрелы, и в ту же секунду сорвалась с
крутого склона снежная лавина, все заглушил громовой
гул. И всю долину затуманила снежная пыль...
Тарасик перепугался и присел на месте, с надеждой
глядя на деда. А дед закричал страшно: «Погибли!
Погубили себя!..»
Вскоре снежная пыль осела, стало ясно, и Тарасик
увидел: стоит дед, потрясенный каким-то ужасом, еще
больше сгорбился, чуть не плачет... Тарасик не знает,
что это такое — лавина, но видит, что там, где были
копешки, серны, волки, ничего уже не видно, ни одной
черной точки — белая снежная равнина, будто метлой
провели по снегу и замели все...
Иман опомнился и повернулся к Тарасику:
— Сынок, ты сиди здесь и не пугайся. Я пройду
туда, узнаю, в чем дело, и скоро вернусь... Смотри в
бинокль, но не ходи за мной, нельзя...
Иман торопливо зашагал к стойбищу серн, к месту,
занесенному лавиной. Торопился он, но трудно
пробираться по глубокому снегу,— он сбился с охотничьей
тропы, шел напрямик. Тарасик наблюдал за ним, но не
понимал пока, что случилось, чем расстроен дед? Куда
так торопится в этом снежном море? Будто кого спасать
собрался...
Добрался Иман до границы лавинного снега.
Снежная крутоверть только краем захватила место стоянки
серн и подступы к ней, охотники могли спастись, далеко
их не могла унести лавина, и если повезло кому, то под
небольшим слоем снега можно и не задохнуться.
Осмотрел Иман небольшую полоску с краю лавины, будто
поле проигранной битвы, где полегли его однополчане,
глядел в надежде: а может, кто жив окажется...
Долго разглядывал и ходил Иман, и, уже
отчаявшись обнаружить хоть следы какие-то, он услышал из-
под снега человеческий стон. Подбежал, прислушался —
стонет человек. Иман стал разгребать снег руками,
показалась голова лежавшего на правом боку человека.
Иман шире разгреб снег вокруг головы и увидел...
побелевшее лицо Гари! Глаза закрыты, волосы растрепа-
234
ны. Иман зарыдал, закричал не своим голосом: «Сын!
Обрушился мой дом!..»
Иман как стоял на коленях, разгребая снег, так и
застыл. Глаза застили слезы, и он не видел, что Гари
открыл глаза на его крик, но, когда он застонал снова,
отец глянул в лицо сыну. Увидев, что сын открыл глаза,
Иман пришел в себя, поправил волосы на голове Гари
и поверил, что он жив, что дом его еще не обрушился...
— Крепись, сынок, не бойся! — крикнул Иман и
начал с новой силой разгребать снег, чтобы вырвать сына
из снежного плена.
— Я не боюсь, но где я? — еле слышно проговорил
Гари слабым голосом.
Слов сына Иман не расслышал. Раз стонет, значит,
пока жив. И он взмолился: «Уастырджи, не погуби
меня!» Потом подумал: выживет, если переломов нет, надо
скорее вытащить его. Неожиданно быстро разворошил
Иман снег вокруг тела Гари и потом одним сильным
рывком на себя вырвал его из осевшего снега. Иман
скинул с плеч плащ и положил на него сына.
Гари некоторое время лежал недвижно, пластом, и
отец успел ощупать его со всех сторон. Переломов не
было. Это обнадежило Имана, а к тому времени Гари
очухался от испуга и задвигался. Он хотел убедиться,
целы ли руки и ноги. Вроде ничего не болело и все было
цело. Невыразимая радость разлилась в груди теплой
волной, и Гари улыбнулся: жив, жив, жив!
Уверившись, что он жив и это сущая правда, Гари вспомнил
и о своем товарище.
— А где он? — теперь уже ясно спросил Гари.
Иман не понял, о чем спрашивает сын, но сын
говорит,— значит, жив и будет жить, а это было счастьем,
самым большим на его веку счастьем. Ему казалось, что
это не сын, а сам Уастырджи говорит с ним человечьим
языком. Но что же он сказал? Иман снова опустился на
колени перед сыном и спросил:
— Ты о чем, сын? ..
— Где он? О начальнике говорю.. ¦ Поищи,
отец...— еще нетвердым голосом, но ясно произнес
Гари.
— Сейчас поищу, ты спокойно лежи,— посоветовал
Иман, встал и подумал: нехорошо получилось, забыл
233
о другом охотнике... И он, должно быть, недалеко от
него лежит... Может быть, жив еще... Искать надо...
Внимательно оглядел Иман вокруг снежное поле, и
один не очень заметный бугорок показался ему
подозрительным. Он подошел и разворошил его ногой, но
тут же провалился в пустоту. Оказалось, что
успокоившаяся уже лавина пригнула одинокий куст орешины, но
сломать не смогла, а потом сверху на вспучине осела
снежная пыль. Иман ногой тоданул верхушку орешины,
она выпрямилась, а старик провалился в
образовавшуюся под орешиной пустоту.
Иман выругался от обиды. «Как это подвел меня
глаз, охотник же!..» С трудом вылез из снежной ямы
и пошел к другому бугорку. .Отгреб опять снег ногой,
и показалась верхушка дерева. Иман освободил его из-
под снега локтя на два, потом с силой потянул в
сторону. Дерево поддалось несколько и выпрямилось, но
сдвинуть его значительно Иман не смог. Однако из-под
сучьев показался край форменного кителя. Иман
догадался, что начальник здесь, но жив ли? Мог
задохнуться, а если задело его стволом дерева, то уже не
поднимется на ноги...
Иман встал на колени и начал разгребать снег,
уцепившись за край кителя. И вскоре добрался до
нательной рубахи. Жив или нет, было пока неясно. Руки Има-
на окоченели, пальцы уже не гнулись, но надо было
спасти человека, если еще не поздно. Он рыл снег
негнущимися кистями, как лопатами. Вот и голова.
Начальник лежал ничком, уперся в какой-то кустик лицом, и
кустик поцарапал его, но, кажется, и спас, дышать
можно было какое-то время... Иман поднял ему голову.
Бледное, оцарапанное лицо, в теплой крови... Должно
быть, еще жив... Иман с трудом поднял начальника за
плечи, оторвал до пояса от снега, но вытянуть не смог.
Видно, ноги придавлены стволом дерева, и непросто
будет вытянуть его, подумал Иман и опустил тело
начальника на прежнее место. Показалось ему, что тот
дышит. .. «Надо повернуть ему голову набок, иначе
задохнется. .. Шапку, что ли, положить ему под щеку?
Пускай дышит, если еще может...»
Иман еще раз попытался вытащить его из этой ямы.
Продел одеревенелые руки под мышки грузного
начальника и потянул изо всех сил. Вытянуть его опять не
236
удалось, но человек застонал. Это Иман расслышал
ясно. «Жив, слава богу!» — вздохнул Иман и снова
опустил его на снег. Снял с головы ушанку и подложил
ее под голову начальнику — пускай дышит, а то
задохнется. .. Если выживет, то пусть благодарят Уастырд-
жи, что отделались так дешево!..
Теперь надо было отрыть из-под снега вторую
половину тела. Но руки Имана оледенели вконец. Иман стал
их остервенело тереть о голову, о бороду, о свою
шерстяную рубашку. Пальцы заныли, потом отозвались
острой болью, будто их кололи тысячью иголок. Иман
снова принялся разгребать снег. Освободил тело
начальника почти до колен и еще раз попытался вырвать
его из снежного пласта. Но человек тяжело застонал,
когда Иман потянул его правую ногу, стараясь по одной
выдрать ноги из снега. Он подумал, а не переломана ли
нога ниже колена? В таком случае надо оттянуть в
сторону ствол дерева, иначе ничего не выйдет. Надо еще
раз разогреть руки, опять замерзли.
Иман с новой силой принялся тереть пальцы о
голову, но в это время услышал голос Гари:
— Жив, нет?
Иман обрадовался: сын на ноги встал, все, значит,
обошлось, не погубил Уастырджи!
— Жив,— ответил Иман,— но вытащить его из этой
ямы не могу.
Иман взялся снова разгребать снег, теперь вокруг
ствола дерева, придавившего ногу начальника. В конце
концов Иману удалось с помощью Гари оттянуть в
сторону ствол дерева и освободить разбитую ногу
начальника. Иман и Гари вытащили его из ямы. Гари принес
плащ Имана и положили на нем тяжело дышавшего
и стонавшего охотника. Вскоре он очнулся, стал
приходить в себя. И первое, что он сказал:
— Нога у меня... Будто нет ее... Не болит, но
будто нет ее...
Иман понял, что все прошло, будет жить и этот...
начальник! Он не стал слушать, о чем еще говорят
незадачливые охотники. Отошел от них и присел на снег.
Все тело болело, будто его истолкли в ступе. Хотелось
лечь и не вставать до самого вечера. Он повалился на
спину и ждал, когда успокоится сердце, колотившееся
в груди, когда сможет нормально вздохнуть, частые и
237
короткие вдохи не приносили облегчения. Со временем
дыхание установилось, угомонилось и сердце, только го*
рело тело и не хотелось даже пальцем шевельнуть.
«Нельзя так долго лежать,— подумал Иман,— надо
бы встать и пойти домой, наверно, и Тарасик
беспокоится, чего деду так долго задерживается... А этот —
пусть валяется до прихода спасателей... Оттяпают ему
ногу, ничего, заслужил... И так повезло им,— видно,
Уастырджи помог, послал меня с Тарасиком вслед за
ними. Бродяги несчастные! .. Может, теперь хоть
уразумеют, что к чему... А так — что им мои слова,
наставления, все равно что волку из бараньего сала сапоги
сшить!.. Что с них взять, как были бродяги, так и
остались, вот и доигрались...»
Иман хотел встать и уйти, но не мог оторвать спину
от снега, а повернуться на бок и встать на четвереньки
не хотелось на глазах этих бродяг. «Куда шапка-то
делась, что-то холодно голове? — подумал Иман и
вспомнил, что шапка в яме, под голову начальнику сунул
ее.— Ишачок безмозглый! Он меня в камере держал
два дня... Ладно уж, что говорить с полумертвым? ..
Надо идти, в деревне парням придется сказать, пусть
выручают их, на носилках тащат начальника. Дерьмо,
а не охотник он!..»
Пришлось Иману повернуться на бок, встать с
помощью рук на колени, а там подняться на ноги. Нельзя
было задерживаться дольше, а просто встать не было
сил. Достал из ямы свою ушанку, надел на голову и
пошел своей дорогой, к Тарасику. Но услышал, что
начальник о чем-то спросил Гари. «Что еще им
нужно? ..» — подумал Иман, повернулся к сыну и услышал
начальничий голос:
— Боже мой, какой «симпсон», какой «симпсон»!
Две сотни за него отдал наличными, жалко такое ружье
терять. Может, поищешь, вдруг да найдется?
— Чего еще там ищете? — спросил Иман громко. Он
не знал, что такое «симпсон», но понял, что надо еще
что-то искать.
— Да ничего, вот он о своем ружье говорит...
— Что? — нахмурился Иман.— Ружье? ..— Иман
готов был взорваться, но сдержался, только бросил на
ходу: — Ружье пусть сам поищет!..
Иман глубже натянул ушанку на голову и пошел
238
к Тарасику. На самом краю снежного завала он
приметил какую-то небольшую дыру. Она темнела, и будто
парок вился над ней. Иман подошел и глянул в дыру,
оттуда действительно текла струйка пара. «Видно, серна
дышит или зверек какой попался на пути лавины...» —
подумал Иман и осторожно расширил дыру.
Показалась влажная и холодная мордочка серны.
Перепуганные глаза смотрели умоляюще. «Загубили их, ишаки
закинские!..» — выругался Иман и начал откапывать
серну. Это же маленькая суягна,— видно, поздний
детеныш. .. Вытащил ее Иман и поставил на ноги. Левая
передняя нога повисла как отрезанная. Серна едва
стояла на ногах, дрожала всем телом, и Иман скинул
пиджак, завернул в него серну, взял на руки. Как ни устал
Иман, серну нельзя было оставлять здесь. «Прирежут
спасатели, домой придется нести»,— решил Иман и
двинулся дальше.
«Нога сломана у тебя,— начал успокаивать серну
Иман,— так это ничего. Перевяжу тебе ногу, с
дощечками перевяжу, и срастется твоя ножка, даже хромать не
будешь. Всего тебе две недели придется на трех ногах
вприпрыжку походить, а там пойдешь всеми четырьми
ножками. Отпущу тебя весной, если хочешь, и гуляй
себе по горам! Чего дрожишь-то, дурья голова? Даже,
может, повезло тебе! У меня тебе голодать и холодать
не придется, -и волки тебе не страшны до самой весны,
пока к своим вершинам не удерешь, а там уж сама не
плошай, Иман тебе там не защитник... Ну так
перестанешь дрожать или напугалась очень? Что же, понимаю,
жить каждому охота, смерти все боятся... Пройдет, не
тужи... Понимаю, что матка твоя мертвая под снегом
лежит, жаль, да что поделаешь? Тут ничем помочь
нельзя. Одно тебе обещать могу: мой внук Тарасико
такой парень, что лучшего друга не найдешь, а как тебя
будет любить! И мамку свою забудешь, такой он
ласковый!»
За разговором Иман не заметил, как дошел до Тара-
сика. Мальчику он рассказал, что охотники чуть не
погибли под обвалом, но удалось вытащить их живыми.
Все обошлось. ~А серны погибли, только вот эта суягна
и спаслась, со сломанной ногой... «Так мы ее с тобой
выходим и ногу ей вылечим, правда, Тарасико, а? ..»
— Дай, я понесу, ее, деду,— предложил Тарасик.
239
Ему жалко было погибших серн, но живая суягна
захватила все его мысли, и об остальном он забыл.
— Нет, сынок, у нее нога сломана, ты можешь
поскользнуться и совсем испортить ей ногу. Придем в
село, так отдам тебе ее насовсем, только вылечить ногу
беру на себя, а так ты хозяин, корми ее как знаешь...
А теперь, Тарасико, идем домой. Надо, чтобы наши
парни пришли и раненого охотника на носилках притащили,
иначе может замерзнуть на снегу, .видишь, дело уже
к вечеру идет...
Идут домой дед и внук, тяжело нагруженные: дед
несет серну-суягну, ружье, Тарасик снегоступы — деда
и свои — и бинокль. Тяжело им идти, проголодались,
устали, но на душе хорошо: деду оттого, что людей спас;
хоть они бродяги и глупцы, а все же люди; а внуку
тоже хорошо, он выходит маленькую серну, ногу ей они
с дедом вылечат, а весной отпустят ее к своим, на
вершины, гулять на воле.
8
Вот и прожил свою первую одинокую зиму Иман.
Правда, одиноким он бывал лишь в субботние вечера
и ночи. Тарасик вошел в его жизнь незакатным солнцем
и.спасал его от одиночества и стариковской неизбывной
печали. Как будет жить в следующую зиму, Иман не
знал, хотя в душе верил, что и на этот раз выручит его
внук Тарасико Волосатое Ухо. Но это была надежда,
которая могла и обмануть. Что же об этом думать и
печалиться загодя? Пришла весна, и надо было жить
по-весеннему. А весной Иман всегда бывал на людях
и не чувствовал себя одиноким.
Люди приступили к своим весенним, стародавним
делам: готовили плуги, упряжь, быков подковывали,
правда, их оставалось немного, а все же держали —
вспахать приусадебные участки, возить дрова, сено. Иман
разбросал навоз на своем участке, очищал землю от
мелких камней, из года в год вылезавших бог весть
откуда. Правда, участок его стал на одну четверть
меньше — разбил осенью сад на одном краю своей земли,—
но это не беда, хватит ему и оставшейся части. Посадит
на ней картофель, а больше ничего ему и не нужно.
240
А саженцы принялись все, выбросили листочки и
уже собираются зацвесть. И это — большая радость для
старика. Он думает, может, никаких яблок не вырастет
на этих деревцах; вырастет, так бог весть когда. Но
будут живые деревья — пятьдесят живых деревьев! И
будут жить при нем, после него, а может быть, что и после
всех ныне живых людей, и даже дарить какие ни есть,
но яблоки. В горах же нет яблонь, даже завалящего
дичка нигде не найдешь, так будут они расти на участке
Имана, для всех людей Оленьего ущелья.
С утра, когда Тарасик ушел в школу, Иман попросил
у соседа колхозных быков участок вспахать. Плуг и
ярмо у него были свои. Теперь до обеда оставалось ждать
Тарасика. Вернется он из школы и поведет быков за
налыгач, а дед будет за плугом ходить. Земля у него
хорошая, рассыпчатая, нетрудно пахать. Но помощник
нужен; чтобы быки борозду не портили, водить их надо
кому-то за собой. Вот и будет Тарасик воловьим
поводырем. Деду помощник, себе тоже не враг, уменье
всегда пригодится в жизни. А быков понимать, уметь с
ними ладить — тоже не последнее дело.
До возвращения Тарасика оставалось несколько
часов, и дед не знал, что ему делать. Дома все было
убрано, участок расчищен, ограда стоит, ни один камень не
сдвинут с места. Что еще делать? Может, пройтись
вдоль речки ущелья, прогуляться, пока сынок вернется?
Быки привязаны в хлеву, жуют себе сено, чего их
караулить? «Ладно, пройду по берегу, карагачи повидаю,
давно не был там... Вот и Хромоножку с собой
возьму. ..»
Хромоножкой Тарасик и Иман прозвали серну. Она
привыкла к ним и каждый раз увязывалась за ними,
будто щенок ручной, куда бы они ни шли. Приходилось
ее привязывать или запирать за ней дверь в хлеву.
С козами она что-то не поладила, не хотела с ними
ходить, вот и пришлось возиться с ней, как с ребенком.
Иман отвязал ее от лавки и позвал с собой.
Хромоножка в самом деле слегка прихрамывала, и старик
пожалел ее: далеко ходить, устанет, да и Тарасик будет
тревожиться, если раньше их вернется и не застанет ее
дома. «Оставайся, Хромоножка, дома, играй вот здесь
во дворе со старым псом»,— наказал Иман, а сам
выбрался за ворота, закрыв за собой дверь калитки на
Н. Джусойты
241
внутренний засов, как бы мальчишки не открыли и не
выпустили серну.
Идет старый охотник по берегу речки с ружьем и
радуется по-мальчишески: ольха уже зацветает, вон в
укромных местах, где потеплее, ивы уже зацвели,
хорошо! Будто утята на ветках повисли. Желтые да
пушистые цветы... Но что это?
У одного небольшого омута сидят два человека; си-
'Дят, будто старые псы на лохматых задах,— забросили
удочки в речку и ждут... Видать, опять рыболовы, хотя
в это время никто и не ловит обычно... Вот привычка!
И откуда только время у них находится!.. И ничего не
можешь им сказать — удочки!.. Да и понять их
можно — посидеть на берегу реки, может, большая для них
радость... Сам был молод, так зимой целыми днями
в лесу пропадал, хоть и ни разу за день к ружью не
притрагивался. Может, и они так?
Подойдя поближе, Иман признал в рыбаках своего
сына Гари и его начальника. Иману стало неприятно,
хотел было вернуться, чтобы не встречаться с ними, но
подумал: «А чего их, собственно, обходить, будто не они,
а я перед ними виноват? ..» И подошел к ним. Слышал
Иман, что его обидчик уже не начальник милиции, ногу
ему отрезали и ушел на пенсию, мол, во время
исполнения службы увечье получил, вроде как на войне...
«Вот тебе и государственный человек! Как деньги от
казны получать, так что-то много государственных
людей получается. А ты, государство,— корми, будь
ласково! Меня тоже сын подбивал: за государство ранения
получил, в партизанах ходил, подай на единоличную
пенсию бумаги свои, обязательно получишь восемь
туманов! А за что их получать-то? Ранения получил, так
что же? Руки, ноги целы, мои раны работать мне не
мешали, так за что? Не за деньги же воевал, не
нанимали же в партизаны. За власть же война была, не за
большую пенсию. Всю жизнь колхозник был, вот и
получаю как все — колхозную пенсию. Чего единоличную
просить?.. А если полагается, так видит же
государство, кому что положено, зачем мне-то в просителях
ходить? Или у государства лишние деньги завелись? Как
бы не так! Государство же не тот чудной осел — стукни
его палкой, так из-под хвоста золотые монеты посып-
242
лютея... Дурак он, вот и мне дурацкие мысли хотел
одолжить...
Напугать их, что ли? В сапогах к ним притопал, а не
заметили! Вот бы на службе так же с душой все
делали, то-то бы государство разбогатело и никакой
несправедливости на земле не осталось бы, а так — одно
баловство их занимает...»
Раздался выстрел, и начальник круто повернулся к
Иману. Узнал его, улыбнулся и крикнул:
— Стрелять не надо, великий охотник! Удочки у нас,
удочки!
А сын разозлился:
— И чего ты шум поднимаешь каждый раз! Такая
рыба ушла! Откусила, зараза, целого червя и удрала,
будто бритвой отхватила! — бурчал сердито Гари. Он
быстро подобрал свою удочку и достал из консервной
банки нового червяка.
Иман усмехнулся и крикнул им по-русски:
— Молодца, рибята!.. Служба идет, контора
пишет! ..
На языке Имана это означало: ничего не делаете,
а деньги получаете. Дошли его слова до Гари и его
начальника или нет, Имана не интересовало. Он пошел
дальше, вверх по реке, в сторону своей деревни.
Иман ожидал, что Гари зайдет, навестит их, а
узнает, что собрались пахать свой участок, не оставит их
одних, походит за плугом вместо старого отца, но Гари
не приходил. Тарасик давно уже вернулся из школы,
успел пообедать, с Хромоножкой поиграть, а Гари все
не было, и тогда решили: не ждать, сами вспашем!
Нетрудно было Иману привычно налегать на ручки
плуга, вести борозду, но обидно, что сын не зашел в
родной дом, не спросил хотя бы, как да чем живут. Не
чужой же он, хоть бы сына повидал, раз старого отца
не признает... Иман не разогнул спины, пока не
вспахал почти половину участка, пока обида не выветрилась
из сердца. Лишь потом вспомнил, что Тарасик мог
притомиться с непривычки, да и быкам пора дать
передохнуть. «Что же это я делаю! Как обижусь, так обо всем
забываю, будто маленький да неразумный мальчишка.
Тьфу ты, старость паскудная!»
*
243
— Тарасик, не знаю, как ты, а я устал, и давай
отдохнем немного. Принеси в плетенке сена, дай быкам,
пусть побалуются. И Хромоножке дай, не обидится, а я
немножко вздремну, глаза обману, пусть думают, что
старик поспал, раз подержал их закрытыми...
Иман в самом деле прилег на правом боку
подремать. Тарасик сидел, опустил босые ноги в борозду и
баловался с Хромоножкой, палец ей дал пососать.
А 'быки жевали степенно, посапывая. У одного тонкая
струйка слюны повисла на губе и светилась на солнце,
будто паутина. А дед спал, свернувшись, будто
маленький, одна ладонь под щекой, другую на бедро положил.
Дело уже к вечеру шло, тени от горы дотянулись до
вспаханной полосы, надо бы разбудить деда...
Тарасик дотронулся до свободной кисти деда. А
тяжелая какая рука! Жилы вздулись, черные, точно
тушью нарисованы... Нет, пора будить, надо сегодня
вспахать, немного осталось, чтобы второй раз быков не
просить.,.
— Имам Шамиль! А имам Шамиль! — шутил
Тарасик.— Вам вставать пора! Зовут на поле боя! Пора
пахать! — улыбался Тарасик и дразнил Хромоножку, то
даст ей палец, то отнимет.
Иман вскинул голову:
— Что ты говоришь, Тарасико? ..
— Да ничего нового. Пора пахать, быки застоялись!
— А я-то думал, случилось что... Тарас ты
Волосатое Ухо, вот ты кто. Такой важный сои был, а ты
разбудил.
— Какой такой сон, имам Шамиль? —
полюбопытствовал Тарасик.
— А такой, что твой дед, старый драчун, самого Ба-
растыра за грудки взял и трясет. Оставь, говорю, сукин
ты сын, меня в покое. Мне жить надо еще несколько
лет, пока вот своего внука Тараса Волосатое Ухо не
женю, а там приду сам: вот я, старик челавек, ваш рас-
паражени пришол! А он никак не хочет согласиться. Ты,
говорит, старик, понимать должен: тебе много говорит
нильза, хади на свой места!
— Раз такое у тебя условие с Барастыром, имам_
Шамиль, то все в порядке: я не женюсь и ты будешь
жить да жить!
— Это ты плохо советуешь, Волосатое Ухо, так
244
нильза. Да и удерешь ты в свой город, а мне и скажет
Барастыр: хади на свой места, старик!
— Пошел бы в город, да нельзя мне, деду, ты же
сказал, что гора моя, земля моя, куда же мне от них
уйти?
— Это ты меня успокоить хочешь, Волосатое ты Ухо,
а так все равно удерешь... Тебе учиться надо... И
хорошо учиться, старика радовать, а с Барастыром я сам
поговорю, старик свой дело знаит!
— Это верно,— подтвердил Тарасик,— мой дед
крепкий старик!
— Крепкий, а как же, полежал на земле, а встать не
может.— Иман в самом деле с трудом встал, подошел
к волам, поправил упряжь и снова взялся за плуг.—
Благослови наше дело, Уастырджи! А ты гони быков,
Тарасико, и терпи, не уставай! А как ты хочешь, раз
и земле и горе ты хозяин? Не убегать же? Не имеишь
прав, нильза!..
— Есть не бежать! — улыбнулся Тарасик и потянул
быков за собой.
— Вперед, вперед, круторогие! — прикрикнул на
быков Иман и повел борозду.
— Вперед, круторогие! — повторил за ним Тарасик,
и быки пошли дружно.
Железный плуг натужно поскрипывает, отгрызает от
поля ровную полоску и поворачивает пласт влажной
мякотью на солнце...
Пашут свою землю дед Иман и его внук Тарасик,
Тарасико, Тарас Волосатое Ухо.
1976
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ СНЕГ
1
Село?.. Да разве это
село? .. У подножия горы —
несколько сугробов. Если
на рассвете глянуть с
ближайшего перевала, так ни
за что не поверишь, что это
жилища людей — в
непогодь намело сугробы
белого-белого снега, и только.
Но повремени немного и
увидишь: в рассветной
тишине из этих сугробов выглянут росточки какого-то
бледного дыма. Вначале несмело, словно нехотя, будто
кто трубкой попыхивает, а там глядишь — пошло: из
пяти сугробов упрямо вырастают плотные сизые стебли
дыма.
Перед большой войной, лет тридцать тому назад,
село еще по нашему горскому счету было большим —
двадцать дворов. А ныне осталось пять дымов. Вот эти
пять дворов и выжили в войну, остальные опустели.
К одним не вернулись с войны, другие были покинуты
хозяевами поневоле — трудно было в горах после
войны, и люди ушли, переселились. Вот и остались мы
одни. На правом берегу ручья два двора, на левом
берегу — три.
Это так считается — пять дворов, но людей в них на
одну прежнюю семью не станет. В четырех домах — три
старика и четыре старухи. Четвертая — это я, Дочь
Вату, так меня зовут с тех пор, как здесь живу. И только
в одном доме живут муж, жена да трое детишек.
Да и что за дворы, что за село! .. Так, с виду
только. .. Но пока дымят сугробы, село так и будет
называться прежним громким именем — Пристанище
Орлов!., Какие там орлы — одни старики и старухи!..
Да, состарились мы, жители Пристанища Орлов, все
состарились. Один Сандыр, одноногий инвалид, в
молодых ходит, да и ему без году шестьдесят лет. Правда,
жена у него молодая — после войны надумал он же-
24С
ниться,— но она всего несколько лет живет здесь и все
еще будто гостья из чужого села, не нашего роду.
Да, старики мы все, как ни крути — старики.
Правда, я всех старше, говорят, мне уже за седьмой десяток
пошло, но и другие ненамного отстали.
Мужчины родились и выросли здесь, Пристанище
Орлов для них — родной дом, но и старушки не чужие
здесь люди. С тех пор как помнят себя, тут коротали
свои дни. Уже позабыли, что сопливыми девчонками
привели их сюда из других деревень. Нынче мы все,
считай, коренные тут. Правда, старые, и жить нам
недолго осталось, пора и честь знать, уходить время...
Знаем, всё это мы знаем, но сердцем никто не верит, что
пришло и его время, уходить пора. Разве что иногда
задумаешься, и вдруг становится страшно за порог
переступить, будто того и гляди в ледяной омут
провалишься. ..
Что скрывать, бывает и такое: находит страх,
схватит за сердце, дышать не дает, вот-вот задохнешься, но
отпустит, и забудешь о нем. Не до него, других забот по
горло. Да и то сказать, как не забояться старому да
одинокому человеку? .. А я одна живу с начала
большой войны, считай, почти тридцать лет. Легко сказать,
а прожить так из года в год, все одна да одна, и весь
дом на тебе держится, как плетень об одном колышке,—
не дай бог никому. Но что же делать, не ревмя же
реветь, слезами беду не отвадишь... Вот и терплю,
доброе имя семьи, как умею, берегу. А семья у нас
большая была, не в большом достатке, но по чести жили...
Война пришла, и ничего не осталось... Одна старушка
да дедовский дом.
Мужа схоронила давным-давно. Детей к тому
времени народила кучу, сама их вырастила, в колхозе самой
работящей слыла, молока надоила что воды в нашей
речке... Всех поставила на ноги, но разве их удержишь
в отцовском доме? .. Это пока- малы да в материнской
ласке нужда, за подол матери держатся, а там
состарился человек, и никого не докличешься... Дочери
замуж повыходили, своими семьями обзавелись, сами в
заботах по горло. До матери им дела нет. Правду
говорят: глаз не видит, так и сердце не помнит. Может,
когда и вспоминают, да что толку? ..
Мальчики все в солдаты ушли. Двух призвали, трое
247
сами побежали к военному начальнику: пошли нас
воевать, братьям помогать надо, не время тут
отсиживаться! .. Один только вернулся живой, самый младший. Не
усидел в родительском доме, учиться ушел и не
вернулся, далеко где-то на Севере в шахте работает. Жена
и дети у него. И вижу, не дождусь я сына, не вернется
он в Пристанище Орлов...
В три года раз приезжает, побудет с неделю в
отцовском доме, и опять жди, когда ему вздумается мать
навестить. Упрекнула его как-то: «Нехорошо, сынок,
дорогу к отчему дому забывать...» — но материнский
упрек что ласка, разве проймет? «Поехали со мной,
будешь у меня жить, с детишками забавляться. Не
понимаю, чего ты держишься за эти развалины? Помрешь
тут одна...» Сказал, будто все верно, а мне не по душе
пришлись его советы. Не послушалась его, осталась в
своих развалинах. Стара я скитаться по свету, да и к
чужому хлебу не привыкла.
Уведешь меня, сынок, так дом твоего отца совсем
опустеет, стыдно перед людьми. Да и не с руки мне,
старухе, перед смертью за хорошей жизнью гоняться,
привередничать да выбирать где получше.
Нет, сынок, живи своим умом, а меня поздно учить
уму-разуму. Доживу свои дни по старушечьему
разумению. Может, что не так говорю, так ты не слушай, а
меня не пугай этими развалинами да не кори моим
старым умом... Живи по-своему да по-новому, а мать
оставь...
Правда, смерть за старым человеком след в след
ходит, но что с того? Слышу иногда краем уха, как твои
дружки из соседних сел при встрече шутят между
собой: «От Дочери Бату поминальным барашком
пахнет. .. Да и пора ей на покой...»
Верно, пора... А что старому человеку слышать
такое— смертная обида, это им и в голову не приходит.
Что ж, поймут, когда сами состарятся и над ними тоже
будут потешаться.
Но говорят правду, это верно. Вот и готовься.
Случится такое, так тебе, сынок, дадут знать. Приезжай,
схорони меня по чести и тогда свободен.
И не бойся, в большие расходы тебя не введу. Есть
у меня две коровы, их с лихвой хватит на поминки, ара-
кой давно запаслась на такой случай. Есть у меня еще
248
восемь коз, продай их, продай и отцовский дом, не
поскупись на поминки, а там езжай — ты свободен.
А пока я жива и помирать не собираюсь, так что не
откажи мне в одной просьбе: привези мне старшего
своего мальчика, пусть у меня побудет, пока в школу не
пойдет, дай старухе с малышом понянчиться. Скажи
жене, пусть не беспокоится за него: семерых вас
выходила, и ничего-то с вами не случилось, хоть и стара, но
с одним мальчишкой еще справлюсь, глаз с него не
спущу. .. Может, ничему особенному не выучу, но хоть
языком нашим говорить научу. Вы же там среди разных
людей живете, между собой и то вам неудобно на своем
языке говорить, и ребенок так нашему языку и не на:-
учится, нельзя же так...
Сделай такое одолжение матери, отдай мне внука,
чтобы одной не горевать в этих развалинах. Мне это
будет в радость и вам не в убыток. А так никуда я
отсюда не уйду, и не уговаривай... От смерти все равно
нигде не спрячешься, а жить уже времени не остается,
за каким же добром бегать туда-сюда? Придет час, и
похоронишь меня рядом с отцом. В чужой земле не хочу
лежать...
Все ему сказала, не утаила ничего, и свою обиду
и последнее желание. И понял он слово своей упрямой
матери, перечить не стал, привез мальчишку. Как тот
подрос, в школу пора идти, так второго привез, а там
третьего. Вот я и вожусь с того дня со своими внуками.
Не внуки, радость вошла в мой дом, в мое старое
сердце. Не перевелся наш род, жив наш дом, дымит, и
мужчины в нем хозяйничают. Вот так!
А кормить мальчишку — что воробышка. Отец как-то
намекнул, может, мол, денег тебе дать. Так я ему сразу
отрезала: «Никаких твоих денег мне не нужно, купи
нам только четыре мешка муки, и все. Одеть и
накормить мальчика сама сумею, как-никак колхозную
пенсию двадцать рублей получаю».
И в самом деле, зачем мне, старухе, деньги? Даже
за свет не плачу. Парень из соседнего села, что деньги
за свет собирает, с меня не берет ничего. Я, говорит, за
свет в ответе, а с тебя ни копейки не возьму. Ты,
говорит, шестьдесят лет на этой земле ни минуты отдыха не
знала, для людей души своей не жалела, столько солдат
249
вырастила, так как же я с ^тебя деньги буду брать,
совесть куда дену? .. *3
Хороших ребят немало в селах, вот только наше село
опустело, и старикам приходится ребят из других сел
просить помочь. Мне, правда, и так помогают: то
дровишек подбросят, то сена для коров накосят, а чем я могу
их отдарить? Разве что ласковым словом да иногда
араки выпить зазову домой.., Ничего другого у меня
нет.
Вот так и живем с моим мальчиком, с Черноногим,
с Саукахом. Отец привез его и, слышу, Сашкой кличет.
Мальчик, как только вошел во двор, увидел, что волен
идти куда хочет, скинул свои ботинки, босиком
зашлепал по теплым лужицам и не отзывается на свое имя.
Сашкой, думаю, впору рогатого барашка называть, что
за имя! Моего внука надо называть Сауках, Черноно-
гий. Такой он и есть. Я и окликни его: «Сауках!» —
«Что, бабушка?» — кричит мне радостно, и так пристало
к нему это имя, будто капля меду. Сладкий у меня
мальчик и, словно краешек солнца, светлый!..
Вот и живем с ним вместе. Не будь его, давно бы
Дочь Бату померла от тоски да одиночества. Но ходит
он по двору, верещит день-деньской, и на сердце у меня
такая радость, будто я всему миру хозяйка!.. Но
бедняка и солнце недолго греет — не зря старые люди так
говорили. Весной ему исполнится семь лет, заберет его
отец в школу, и тогда как мне жить одной? .. Меньше
Черноногого у сына детей нет, и никто в мои развалины
больше не явится, никому я больше не нужна.
Боже, не дай мне дожить до другой зимы!. ¦ Не
выдержит мое сердце одиночества долгих зимних ночей.
Не мучай меня!.. Хватит мне тех лет, что прожила. Не
в радость мне такое житье, отпусти меня к своему
старику, отпусти... Пора уже, не мучай старуху!.,
2
Что за напасть, петухи полночь пропели, а мне все не
спится. Тишина кругом, собаки и то молчат, обычно же
в эту пору перекличку через речку устраивают.-Вот
только стенные часы тикают, но им не привыкать, всю
жизнь одно и то же долдонят: тик-так да тик-так.. ¦
250
Перед большой войной ,рс купил мой старшой. Два
железных кулака на конщйс одной цепочки: одному —
вверх, другому вниз ползти. Приблизится один к зубьям
колеса, потянешь его на прежнее место, и все
начинается сначала: одному — вниз ползти, другому вверх
карабкаться. .. Всем они одинаковы и вес у них один, и
похожи, будто птенцы из-под одной наседки, а пути у
них совсем разные. Так и людские дороги в жизни
разные, кому что достанется. Видно, от веку так заведено
и у людей, и у бога... Вот и несчастный этот кружочек
на железном гвоздике — всю жизнь из стороны в
сторону покачивается, будто старушка мать у гроба сыночка
безутешно одно и то же осипшим голосом повторяет:
«На кого ты меня, сынок, оставил? .. На кого
покинул? ..» Тик-так, тик-так... Тридцать лет одно и то же,
вот и я так живу... Все одно и то же... И почему все
так устроено, кто его разберет... Тут и пахумпару —
пророку трудно ответ держать, а мне, старухе, и подавно
ничего не понять. Видно, с годами человек и умом
старится. .. Да и в молодые годы не в умницах ходила...
Чего там скрывать...
Ничего не видела, ничего не знала, кроме домашних
забот. И на это едва меня хватало... Да и грамоты
никакой не ведала. Давно это было, две недели в ликбез
ходила, буковки разбирать наловчилась да свое имя
писать, вот и вся моя грамота. Но и буквы позабыла
вскоре, до книги ли было м«е с такой оравой детей! Вот
и забыла все за суетой да заботами...
На часы глядеть было мне некогда, да и не
разбиралась я в них. Но вначале жалко было их выбросить —
какое ни есть, а добро, сын за них деньги платил. А там
одна осталась, черные бумаги о сыновьях одна за
другой посыпались. Часы хранила как память, привыкла
к ним. Эти железные кулачки вверх-вниз тянула, как
сын показывал, а с черным кружочком, как с
подружкой, горем делилась. Покачивай головой, бедняга,
плачь, причитай со мной в один голос... Одинокие мы
с тобой... Одна на белом свете осталась... Как птенцов
в подоле передника, таскала их всюду, выходила, и вот
никого не осталось, пусто вокруг... Хоть бы поглядеть
на 'могилы сыновей, и то бы утешение было, но не
судьба, не ведаю, где похоронены, не дойти мне до родных
могил.
251
Нет у бога правды... Справедливо разве, сыновей
погубить, а старушку мать оставить одну, между
жизнью и смертью век вековать?.. И что мне, несчастной,
делать?.. Руки на себя наложить — перед людьми
стыдно. Да и в душе какая-то надежда живет: а вдруг
кто из сыновей вернется? .. Как же не ждать до конца
этой проклятой войны, кончится же когда-нибудь, не век
же ей длиться? ..
Сижу, бывало, одна и жалуюсь на свою судьбу,
слезами обливаюсь, и вроде легче на душе. А часы свое
тик-так да тик-так, и я к своим недоеным коровам
спешу. Горю час, а работе время, она не любит ждать.
Вот так и привыкла к часам, беда и одиночество
свели нас, и не хочется с ними расставаться. И ни разу не
забыла вовремя потянуть верхний кулачок вниз. Пусть,
думаю, тикают, будто живая душа в доме есть, с кем
и поговорить можно. Что там показывают, неважно,
лишь бы тикали да покачивались. Какое время на
дворе, сама знаю. По мне, лишь бы тикали. Говорили, кто-
то любил ослиный рев слушать и купил себе осла, чтобы
на дню три раза душу тешить. И мои часы вроде того
осла, тикают, и ладно, ничего другого мне от них не
надо.
Идут часы, сопит рядом на подушке мой сыночек,
мой Черноногий, и ничего другого не надо мне.
Свернулось мое солнышко, лежит на правом боку, как щенок
на снегу, и посапывает, будто усталый косарь...
Всем хорош, добрым молодцом вырастет — нетрудно
в теленке вола угадать. И кровь моя, и характер мой,
и дом свой любит, и к земле привязался. Все меня
утешает: «Никуда от тебя, Адзи, я не уеду. В школу пойду,
в соседнее село, и буду каждый день к тебе
возвращаться. И всегда с тобой на одной подушке буду спать!..»
Скажет же такое, и смешно и жалко мальчишку.
Нет, сыночек, вот вырастешь, войдешь в мужские
года, и тогда другие заботы будут у тебя. Уведет тебя
девичий зов от родного порога, и кто знает, вспомнишь
ли о старом доме, не забудешь ли свою Адзи? .. Да и не
будет меня тогда... Так водится у людей, сыночек,-и ты
не изменишь людские порядки. Да и не надо ничего
менять ради меня, я уйду своей дорогой, вам бы только
хорошо жилось... Жаль, правда, если отцовский дом
252
-совсем развалится, но что я могу поделать, не могу же
тебе, будто норовистому жеребенку, ноги спутать...
Не хочется вставать, а хорошо бы в хлев сходить, на
коз посмотреть. Может, Однорогая козочек принесла?
Тесно там, копытами побьют малых да беспомощных.
Сходить бы надо...
И как же трудно стало тебе, Дочь Бату, с постели
слезать!.. Встанешь или сначала будешь себя
уговаривать? .. Когда-то как на пружинах вскакивала. С
кровати, как птичка с ветки, кидалась, да так бесшумно,
что и муж не слышал, хотя под боком лежал... Что же
с тобой стало? Старые кости что немазаные тележные
оси — ни повернуться, ни встать не дают. Вот и кряхчу,
злюсь на себя, но от этого ноги резвей не ходят... Как
старых быков, себя погоняю, а так бы с места не
сдвинулась. .. И днем не вставала бы, да никак нельзя —
дом все же. Дым над крышей,— значит, живы. И жить
надо...
А на дворе светло что-то, верно, снег выпал...
Хорошо бы. Теплее бы стало и людям легче. Вставай же,
вставай, Дочь Бату, погляди на свою скотину.
Однорогая с вечеру что-то тихая, жалостная была, не
объягнилась ли, поглядеть надо.
Зажечь бы керосиновую лампу, с ней и глазу
привычней, и сердце к ласковому свету больше лежит, да
долго в темноте искать. Потолочный-то свет наш все
время под рукой, тронь кнопочку пальцем, и светит
вовсю. Вот только норов у него как у сварливой да
прижимистой свекрови, так и глядит за каждым твоим
шагом. А прежний свет и ласковый, и уютный, и
доверчивый. ..
Спасибо той умнице, что первой солдатские сапоги
носить надумала. И натянуть их на ноги — пустяк, да
и ногам тепло по самые колена. Вот закутаюсь в свою
теплую шаль, сынок мой средненький купил мне ее,
когда в солдаты уходил и у своего военного начальника
попрощаться с матерью отпросился... Глупые эти
слезы, как незваные гости, легки на помине... Плакать и
не думаешь, а они сыплются, как горошины из дырявого
мешка...
и А снегу-то навалило! Белый-белый снег.
Рассыпчатый, как кукурузная мука. Между пальцами так и
струится. .. Придется к коровкам тропинку очистить, лопату
253
в руки брать, не то утром придется не на шутку
повозиться. .. Снег-то все идет и идет...
А-а, старушка Однорогая, ты и в самом деле
ягниться надумала, вижу, глаза у тебя как у роженицы и
вздыхаешь тяжко, будто тебе впервой. Зря ты, старая,
боишься, возьму тебя к себе, у печки теплее, да постелю
тебе сенца мягкого, к лавке привяжу, и, будь добра,
к утру Черноногому подарки приготовь — двух
беленьких козочек, как снег белых... Вот обрадуется-то мой
Черноногий!
Да не ему одному. У Сандыра такой же маленький
мальчуган, Цамел, всего на год старше Саукаха. У них
козы не водятся, вот и подарю одну козочку ему. Он это
долго будет помнить. Не зря же говорят: дитя и щенок
доброе сердце издали угадывают. Я это знаю...
Да пребудет в светлом раю соседка наша Ханы-
кон!.. Как-то утром рано забежала я к ним, сопливой
еще девчонкой была. А у нее две дочки, мои ровесницы.
В очажной золе испекли они две картофелины,
поделили. «Одна тебе, другая мне». Обо мне и не вспомнили.
Я обиделась и собралась идти домой, но Ханыкон
удержала меня. Взяла у дочек обе картофелины, одну
отдала мне, другую поделила между своими. «Теперь ешьте,
и молчок!» — прикрикнула на них, а меня по плечу
погладила. .. Давно их всех в живых нет, а я все помню...
Может быть, это только дети так памятливы на
добро? .. Нет, неправда, и зря люди придумали, видно, от
злого человека это пошло, мол, лучше поросенка
откормить, чем сироту приютить. Это злой язык только мог
такое соврать. Я же помню Ханыкон, да удостоится она
лучшего места в Христовом раю!
Ступай, ступай, Однорогая, у печки-то лучше
рожать. Сама знаю. И оставь свою песню — «ме-ке-ке» да
«ме-ке-ке», честь тебе оказывают, понимать надо...
3
Сауках давно уже проснулся, но по привычке все
еще нежится в постели, вставать и не думает. Хитрит,
как всегда, притворяется, будто все еще спит, а про себя
думает: «Уберет Адзи хлев, даст сена скотине и
разведет огонь в печурке, тогда и встать можно», Сауках не
254
ленивый мальчик, нет, но он очень боится выбраться из
теплой постели и босыми ногами ступить на холодный
земляной пол. Если в печке горит уже спорый огонь, то
не страшно — добежишь от кровати до печки и одевайся
там в тепле. Но как встать, когда Адзи все еще со
своими коровами не наговорилась и печка нетопленая?..
Тут и взрослый не сразу ноги выпростает из-под
одеяла, а Сауках маленький, хоть и единственный мужчина
в доме. Он и притворяется, что спит, глаза не
открывает, но прислушивается. Если Адзи дома, то, верно, уже
возится с печкой, ведрами, кастрюльками. Это сразу
услышишь. Горит огонь в печурке, так дрова трещат,
а пламя злится, тесно ему в печке, вот оно и шумит, то
из трубы норовит выскочить, то в дверцу язык
просовывает. Молчит Адзи,— значит, свернулось в кадушке
молоко и она руками сыр собирает. Тут нельзя мешкать,
вставай проворней, как бы свежий сыр из рук не уплыл.
Прислушивается Сауках, но никак не может угадать,
что же происходит у них в доме. Открыть, что ли,
глаза? Нет, не надо, лучше высунуть ногу из-под одеяла
¦и узнать, тепло ли, развела огонь Адзи или нет. В
комнате было тепло, видно, дровишки разгорелись давно
и огонь уже притих.
«Вставать пора!» — решил Сауках, но неожиданно
услышал, как коза коротко и приглушенно мекнула и
в ответ заблеяли тонкими голосами козлята.
Удивительно, с каких пор у них в доме козы завелись, что за
меканье такое? Сауках вскинул голову на козий крик,
и губы растянулись в улыбке до самых ушей:
«Козочки! .. Однорогая козлят принесла! Целых два
козленка!» Сауках позабыл натянуть штаны, соскочил с
кровати и бросился к потомству Однорогой. Присел на
корточки, положил к себе на колени передние ножки
козлят, обнял их и стал целовать в мордочки. Ладошками
гладил их по мягким спинкам, чувствуя влажные
полоски, следы от материнского языка. Однорогая
бросила жевать сено и спокойно глядела на малышей.
Дочь Бату резко открыла дверь и тотчас же
прикрыла ее за собой, отряхнула снег с шали, несколько раз
топнула сапогами о земляной пол, поставила ведро с
молоком на лавку и подошла к печке погреть озябшие
руки.
— Черноногий жених, ты что, собираешься вот так
255
нагишом по дому шастать? Влезай-ка лучше в свою
одежку и принеси Однорогой сенца охапку. Только
гляди не рассыпь по дороге сено, чужие козы за тобой
увяжутся. Мне за тобой бегать, сор подбирать некогда.
— Адзи, моргнуть не успеешь, как я буду здесь с
охапкой сена. Однорогую угощу досыта, хорошеньких
козлят она нам принесла, стоит ее подкормить. К весне
все наши козы двойняшек принесут, у меня будет целое
стадо, а я в подпаски пойду. Ладно, Адзи?
— Ладно-то ладно, сьшок, вот только умыться не
забудь. Хоть по-кошачьему слюной умойся, хоть горсточку
водицы плесни на свои усы, но за дверь надо выходить
умытым. Неумытого молодца черти за своего
принимают,— сказала Дочь Бату и приподняла крышку чугунка
на печке.
Сауках уловил запах вареной картошки и подумал:
«Будут пироги с картошкой!» Он обрадовался, подтянул
ремень, одернул полы рубашки за спину и провел рукой
по вороту,— все ли пуговки застегнуты.
— Адзи, я иду, умоюсь потом, с чертями и неумытый
справлюсь, не маленький, а вот к картофельной начинке
побольше сыра и немного козьего сала добавить не
забудь. Так у тебя пироги вкуснее получаются.
— Какие еще пироги! — заворчала Дочь Бату.—
Картошку — это я для поросенка сварила. Или ты
забыл, что к новому году мы откормить поросенка
договорились с тобой? Забыл пословицу: постное мясо что к
соли приправа...
— Нет, Адзи, все я пом«ю, но ты сама говорила, что
мне наш поросенок в родные братья годится. Вот и
подели между нами картошку, но в мою долю не забудь
сыра и козьего сала добавить да еще в тесто
завернуть,— хитро улыбнулся Сауках. Он рад, что придумал
такой простой выход.
— Ладно, будь по-твоему, только ты не поросенку,
а лисенку старший брат, и хватит языком молоть,
ступай по делу, да не забудь за собой дверь закрыть, когда
из хлева выйдешь.
— Не забуду,— выскочил за дверь Сауках.
Зимой в наших горах дни ползут однообразно и
скучно, как в волчьем логове... Никуда не отлучишься,
а работа — все одно и то же, снуешь от очага к хлеву,
256
вот и вся твоя работа. В селах людей осталось мало, все
время одни и те же лица видишь, с малых лет знаешь
всех, порой и видеть никого не хочешь, надоели...
Молодым и легким на подъем людям, конечно, есть
о чем посудачить, и причин для встречи не надо искать,
но кому охота со старухой говорить? Да и о чем с ней
толковать? Кому интересно слушать старческие
жалобы? Тут болит, там болит, одного нет, другого не
стало! .. Тьфу, провалиться бы тому в самую преисподню,
кто старость людям в наказание выдумал!..
А в нашей деревне и еще скучней. Семь стариков
и старух, всем уже на тот свет пора. Долго жили, а
говорить не о чем... Всё знаем друг о дружке, старое
начинаем вспоминать, и то заранее знаешь, кто о чем
будет печалиться... А молодым до нас и дела нет. Что
им Дочь Бату? «Поминальным барашком пахнет...»
Правда, в летнее время детей бывает у нас много.
Люблю малышей, и они ко мне ластятся, с утра уже
бегут, будто цыплята к наседке. А как их не любить и не
ласкать? Старый да малый как два слуги у одного
хозяина. Один отработал свое — другого нанимают. Один
уходит, другой его место заступает. Есть о чем и
поговорить, и порасспросить друг друга. Делить им нечего
и дуться друг на друга повода нет. Вот и любят
старые малых, а малым стариковская ласка что закатное
солнце — не жарко греет, зато ласково, прощальный
свет...
А все одно скучно. И детей нет. Черноногий да Ца-
мел — остальных по осени не увидишь, в город улетают,
будто перелетные птицы. Надо бы женщин собрать,
давно не сидели вместе, каждая у своего корыта копошится
да у печки. Разве позвать их прясть? На помочь?..
Шерсть, мол, давно готова, и постирана, и просушена,
прочесана, ждет, когда пряхи с веретенами да с
пряслами придут. По-другому их не заманишь. Сама бы за
неделю всю кудель тонкой ниткой вытянула, только
скучно одной сидеть, да и другим старушкам не легче.
Старушечьи посиделки. Что же делать! Молодки
удрали в город, одна жена Сандыра осталась, позову и ее.
И внучек Карамана, и жену его Цахилон, и Быценон,
жену Сандыра,— всех позову, всем вместе веселей
будет.
257
У Карамана трое сыновей в городе живут. А внучки,
дочери старшего сына, рослые такие, скоро замуж
выходить. Младший сын только сейчас надумал жениться.
Стариков позвали на свадьбу, а они заартачились —
никуда, мол, мы не поедем, если помните отца и мать, так
приезжайте в родной дом и свадьбу в нем справляйте,
и поесть и выпить тут найдется.
Обещали приехать, невестку отцу и матери показать,
односельчан угостить, как же иначе, свадьба! Надумали
в воскресенье приехать, а девочек послали в доме
прибрать, бабушке помочь приготовиться к свадьбе.
Должно быть, и девочки явятся на посиделки. Вот и
скоротаем вместе время. «Всем пряхам — на помочь!» —
пусть так и объявит им Черноногий.
Вот и собрались мои старушки на помочь!.. По
всему видно, соскучились, иначе так рано не собрались бы.
Удивительные мы люди, суетимся, ссоримся, друг другу
насолить чем можем готовы, а всем нам несладко в
одиночку жить... Вот и Быценон с Цамелом пожаловали.
Стесняется, бедняжка, на сносях уже и стыдится живот
свой старухам напоказ выставлять. Хорошо, что в доме
старше Черноногого мужчины нет, а то бы ни за что не
пришла. А чего бы ей меня-то стесняться? Соседи! Она
мне как родная невестка, услужить рада, ласковое
сердце у нее. Глаза у нее большие, синие и смотрят покорно,
будто спрашивают, чем бы тебе помочь. Удивительно,
как это она за хромого Сандыра пошла. И молода для
него. Видно, есть в нем что-то такое, за что можно его
любить, а мы и не замечаем, только она одна угадала.
— Заходи, заходи, Быценон! Чего прячешься-то? Не
молодка! Цамел твой в женихи скоро выйдет. Садись
вот у печки, а ты, Цамел, хороший ты мой мальчик,
сбегай в хлев и погляди на двух беленьких козочек.
Выбери себе, какая приглянется,— это подарок тебе от
Дочери Бату. Сауках, солнышко, идите вместе и поделите
их по-братски. Право выбора за ним, слышишь?
Правда, обе одинаковы, отличить их трудно, и все же
выбери сам, сыночек. Идите.
Цамелу не верится, что так нежданно-негаданно
можно получить козочку. И мнется он нерешительно, но
Сауках знает свою бабушку — сказала, как отрезала.
258
не передумает. И тянет он Цамела за рукав, пошли,
мол, скорее, что нам здесь со старухами водиться!..
Быценон благодарит Адзи, зачем, мол, такой подарок,
не гость же в твоем доме Цамел, целыми днями здесь
пропадает, домой только ночевать приходит, но Адзи
машет руками:
— Сама знаю, Быценон, кто у меня гость, а кто
чужой. К тому же не забывай, что я старая ворона,
вещунья, обо всем загодя знаю... Вот и гляжу через
темень дней и вижу: скоро у Быценон родится второй
мальчик, и будет у нее два мальчика -и две девочки,
у каждой девочки по братику. И кто эту сладкую
весточку, думаешь, принесет мне? Да первым в дом прибежит
Цамел. И зимой и летом первым в мой дом спешит по
утрам один-единственный человек, и это — Цамел. Чем
же, по-твоему, мне одарить его? Деньги у меня не
водятся, да и были бы, все равно за сластями в магазин мои
старые ноги шесть верст не пробегут, да еще в эту
зимнюю пору. Вот и выручила меня наша Однорогая, Ца-
мелу подарочек принесла...
— Э-э, Быценон, клянусь своими покойниками,
правду Дочь Бату говорит. Мальчик родится, пир на все
ущелье придется устроить. А что родится мальчик, это
как пить дать. Раз говорит Дочь Бату, так не мешкай,
готовь бычка на пир да мальчику колыбельку снимай
с чердака,— с усмешкой, воркующим голосом говорит
жена Карамана Цахилон и привычно тянет нитку
пряжи во весь разворот левой руки. Вытянутая рука
замирает, и тут на помощь ей приходит правая. Она пустила
кружиться веретено с пряслицем по донцу деревянной
чаши, а сама котенком бросилась на вытянутую нитку
и скользит по ней сверху вниз, разглаживая
утолщенные места,— у хорошей пряхи нить должна быть ровной
и тугой, «как фабричная проволока».
Эти слова пошли от Дочери Бату, и теперь все
старушки Пристанища Орлов, поучая молодых прях,
неизменно поминают эту самую фабричную проволоку.
— Что и говорить, радостно, когда в роду
прибавляется мальчик,— грустно вторит Цахилон, жена Цолы
Коцон. На ее худом морщинистом лице застыло какое-
то холодное равнодушие, а глаза печально следят за
нитью пряхи.— Старой кобыле и чужого жеребенка лиз-
259
нуть — радость. Но в наше время и от сыновей много ли
проку?
Дочь Бату как бы невзначай глянула на Коцон и
подумала: верно, по своим судит. Сыновья у них в город
переселились, стариков тоже туда звали, но они не
захотели покинуть Пристанище Орлов. Пока были в силе,
не жаловались, а как не под силу им стало жить в
одиночку — в горах без крепких мужских рук
обходиться — все равно что без топора деревья валить,— так
затужили. А чего им жаловаться, когда другим
потяжелей? .
— Грех так говорить, Коцон. Зачем грешить перед
богом и людьми? У тебя вон сколько народу в городе,
на целое село хватит... У нас вот ни птенца не осталось,
вся надежда на твоих молодцов, может, похоронят по
чести, и то не жалуемся,— тихо и печально укоряет
Кайсынон.
Ей в самом деле тяжко жить на свете. Не везло им
в жизни с Мисиром. Семерых детей похоронили. Только
один мальчик и выжил у них. Правда, хорош был
мальчик. Книжки любил, не оторвать было. Самую высокую
школу кончал, но война помешала, бросил учиться, в
солдаты пошел и погиб. Как получили черную бумажку,
с тех пор Кайсынон в трауре ходит, и на лице и в
сердце — одна печаль. Тихо живут они с Мисиром, не
плачутся, не жалуются. Но какая там жизнь, как будто
смерти своей ждут...
— Правду говоришь, Кайсынон, добрая ты душа. Но
и то пойми, как горько нам столько детей иметь и жить
одним, без их присмотра на старости лет. Нет никого,
так терпишь, и жаловаться не на кого. А тут столько
народу вырастила, а будешь при смерти, водицы никто
не подаст. Как тогда? .. Добра мне не нужно, не о том
печалюсь, на чай и хлеб хватит нашей пенции, но вот не
спится ночью, и думаешь: неужто так трудно детям
стариков проведать? .. До нас всего один день езды, за
один туман в оба конца обернешься. А что мужчине
один туман? Зашел с другом в казенную столовую и
пропил два-три тумана. Так можно же на эти туманы
своих стариков проведать. Ничего им это не стоит, а
в голову не приходит, вот что... О том и сердце,
болит,— оправдалась Коцон, и Кайсынон поняла, что и у
многодетных Коцон и Цолы свои беды и печали.
260
— Правильно, Коцон,—заворковала опять Цахи-
лон,— но я своей глупой башкой так соображаю: во
всем детей винить — еще не вся правда. Мы, старики,
может, сами больше виноваты... Не приучили детей
любить эту землю, не научили, как по-людски жить
надо, а теперь жалуемся: не любят нас наши дети,
оставили отцовские могилы без присмотра, никто в отчем доме
жить не хочет!.. На себя бы пенять, а мы все других
виним...
— Э-э, Цахилон, ты, вижу, не только прясть, но и
говорить мастерица, а вот и ты не всю правду
сказала.— Дочь Бату решила осадить Цахилон,— Если ты
такая умница, чего же ты своих-то не научила любить эту
землю и жить на ней по-людски?
— Дочь Бату любит других кусать, но и то правда,
что дальше всех от этой земли все же твой сын
убежал,— улыбаясь, ответила Цахилон.
— Верно, я признаю, виновата, не научила никого
ни землю любить, ни по-людски жить. Не научила и
сама не знаю, как учить и чему. Вот приросла к этой
земле, и все, будто на ней не босыми ногами стою, а
корни пустила. Но как этому научить другого? Не знаю.
— Ты не знаешь, я не знаю, никто не знает, так чего
же жаловаться?
— Э-эх, Цахилон, легко у тебя на сердце, и слова
у тебя, как нить из пряжи, тянутся. «Никто не знает»!..
Может, кто и знал, но их уже нет, тех, кто знал... Как-
то отец Карамана, Матэ, у нас за столом рассказывал.
Заспорили три мудреца, как человеку жить надо. Один
сказал: «Надо жить, как вода в реке. Где вода, там
и зелень, там все растет — трава, пшеница, дерево. Вода
всем нужна, и человек всем должен быть нужен, как
вода. Только так и надо жить человеку».
Другой мудрец ему ответил: «Это хорошо. Человек,
если он никому не нужен, плохой человек и живет он
нехорошо. Вот только не надо человеку быть водой, течь
всю жизнь куда-то, искать место, где пониже, и не
помнить, кто ты есть и откуда вышел. Вода, она ведь к
истокам никогда не возвращается. Памяти у ней нет.
А человек без памяти что вода в луже. В ней черви да
лягушата водятся. Нет, человек должен жить, как
дерево, дуб. Он никогда свою землю не покидает, никуда от
нее не уходит. Корни глубоко пускает и крепко держит-
261
ся. Так откуда у него силы берутся? Он корнями, как
медвежьей лапой, за все, что под землей, хватко
держится. А там не только камни и земля, но и кости
предков. Когда дерево умирает, оно, как человек, уходит в
землю, чтобы молодым корням было чем кормиться. Вот
так человек должен жить!»
Так закончил свой рассказ второй мудрец, но третий
с ним не согласился. Он сказал: «Человек должен жить,
как солнце. Всем светить и все живоегреть— и дерево,
и зверя, и человека. И по одйому пути ходить, а не
выбирать где полегче, как вода. Дерево хорошо живет,
оно только вверх, к небу тянется. Одно плохо — на
много ли его хватает? Разве что на один костер. И никому
на помощь оно не придет, ногами-корнями в землю
ушло и сдвинуться с места не может. А солнце весь
божий мир обходит и всем дарит свет и тепло. Оно
никого в беде не оставит, найдет каждого, если только его
в землю не схоронят. А тем, кто в земле, солнце уже не
нужно, и ничто другое им тоже не в радость».
«Хорошо сказали мудрецы,— говорил Матэ,— но
человек живет как может. И не дано ему быть ни речкой-
водой, ни деревом, ни солнцем. Все ему нужно — и
корни, и память, и свет, и тепло, и другим добро делать,
а хватает его на самую малую малость. А бывает так,
что и никому-то он не нужен — живет, небо коптит, и
богу в тягость и людям не в радость...»
Вот мы жалуемся на своих сыновей, а может быть,
правы они, а не мы, а послушай нас, так во всем их
вина. Судить их не долго, а может, понять надо и
простить? Верно, трудно нам одним, старым да бессильным,
жить в горах, но не возвращаться же им сюда, к нашим
заботам, не побросать же свои дела ради старых отцов
•и матерей, если даже они нас и любят? И не такая уж
у нас большая беда. Ведь наши дети в люди вышли
и живут по-людски. Было бы им хорошо, а мы стерпим,
да и долго ли нам тут в одиночестве-то томиться?
Обмолотит нас жизнь вконец, последнее зернышко вытрясет,
и отправимся на вечное поселение. Похоронят нас, вот
и избавимся мы от своих печалей, а они — от наших
жалоб....
Да и пустое это дело — жаловаться. Уж на что я
одинока, и то не опустила рук, вот и вас в свой дом
приманила, сыну варежки связать надумала, Может, на
262
своем Севере, когда их на руки натянет, старую мать
добром помянет. Что я еще могу для него сделать?
Ничего-то у меня нет, ни ума, ни добра.
А что редко к нам ездят, это понятно — беготни
разной там много у них. Не такие же они бездельники, как
мы. Может, и любят нас, да некогда приезжать да
утешать нас.
— Любили бы, так нашли бы время,— по-прежнему
печально и покорно сказала, будто самой себе, Коцон,
но тут почему-то обиделись внучки Цахилон.
Старшая, Аделина, осмелилась:
— И что вы нас все ругаете, будто мы вам чужие!
Не понимаю, чем вас обидели? Или думаете, что в
городе люди ничего не делают, сидят да пироги едят? А что,
если там больше забот, чем здесь, в деревне? .. Вы вот
живете как хотите, а там у всех забот по горло, и на все
время нужно. И не поедешь по своей воле, когда
захотел и куда вздумалось. Вы думаете, легко в городе
жить? . •
Никто этого не думал, и все притихли. Возражение
Аделины особенно огорчило Дочь Бату. «Вот и
разобидели гостей,— думалось ей,— а я, старая дура, и не
сообразила, что наши старушечьи разговоры могут этих
девочек обидеть. Утешала старух, как будто
выгораживала сыновей, но было ясно, что и я согласна с ними,
хотя на словах выходило, что и сторону молодых могу
принять... Да и не трудно было понять, старушки все
же правы, хотя есть, видно, и у сыновей своя правда.
Наши девочки поначалу молчали, хотя не нравились им
такие разговоры, а Быценон молчала тоже с умыслом.
Она еще не может и во сне увидеть себя такой же
старухой, как Коцон или я. И непонятны ей наши печали
и жалобы. Верно, думает, что такое с ней никогда не
случится, чтобы они одни с хромым стариком
остались. ..»
— Да никто и не думает вас ругать, доченька. Мы,
старушки, всегда большие охотницы до всяких
пересудов. Помоложе были, так друг другу кости перемывали,
а состарились, ничего уже не можем о своих грехах
нового сказать, принялись за родню, а роднее сыновей
никого у нас нет. Вот и жалуемся на них... Но вы-то
чего обиделись, о вас и подумать худо грешно. Вы,
девочки, нас ни зимой, ни летом не забываете. Вот и
263
свадьбу в нашу дыру привезли, чего еще?.. Я уже и
забыла, когда в последний раз в Пристанище Орлов
свадьбу играли... Зря на себя чужую вину берешь,
Ади.— Дочь Бату мельком глянула на девочек: не
обиделись ли, что она их по-деревенски называет, Ади и
Еза, в городе их Аделиной и Евелиной зовут.— Да и
старушки не очень виноваты. Вот когда сама станешь
матерью, состаришься, а твои дети по свету разлетятся,
и затоскуешь по ним, оставшись одйа-одинешенька,
тогда, может, и нас вспомнишь, не будешь так строго
судить. .. А что замуж скоро выскочишь, это я вижу.
Улыбаешься. .. По глазам угадываю, не долго в девках
засидишься. Что, не права я, Цахилон?
— Истинную правду сказала, Дочь Бату. Не долго
им оставаться под полой у матери... Но я думаю, что
дети их своих матерей знать не захотят. Ведь с пеленок
на чужих руках растут, даже грудью их не кормят,
молоком матери поклясться им будет все равно что
соврать. .. Ждет их родителей такое одиночество, какое
нам и не снилось,— все так же уверенно судила
Цахилон.
— Зря говоришь, Цахилон,— возразила спокойно
Коцон и взяла из кудели новый прястень,— в городе вон
сколько людей, какое там одиночное житье, все люди
рядом. Это мы, старые да одинокие, застряли в
снежных сугробах, и позвать на помощь некого...
— А что, после нас в горах и жить никто не захочет,
по-твоему? — с любопытством на усталом лице спросила
Кайсынон и левой рукой заправила за черный
поношенный платок седую прядь.
— А кто их знает, может, и не захотят. Я так
думаю, пахать и сеять, коров держать, коз пасти не будут.
Зачем им эта возня? .. Летом, как на кулорт, завезут
свои палатки-малатки, а чуть наскучило — назад в
город. Чем не житье? — улыбнулась Цахилон.
— Плохое житье,— Коцон не понравились
полушутливые-полусерьезные слова Цахилон.— Какие же тогда
они горцы? И могилы наши позабудут, а надмогильные
камни чужая скотина в землю затопчет.— Грустао ей
стало от этой мысли, но она говорила без горечи, видно,
давно смирилась с этой неизбежностью, хотя и считала
ее жестокой.
204
Дочери Бату не понравилась эта печаль, и решила
она оборвать разговор — печали в их жизни и так
невпроворот, не на поминки их звала...
— Вот что, старые пряхи, кончайте свои раны на
люди выставлять, нехорошо это. А я, дура, забыла, что
хозяйке о живых думать положено. Забыла, что
хозяйке положено щедрой да приветливой быть, когда гости
в доме.
— Какие мы гости, Дочь Бату, какие гости!
Затупились наши языки от долгого молчания, вот и острим их
как можем... А таким гостям первая честь — пораньше
их выпроводить,— завела, как песню, Цахилон. Видно,
легко у ней на душе, и шутить охота.
— А все же, думаю, Цахилон от одного рога доброй
араки не откажется, или не так говорю?
— Знаю я тебя, старушка, любишь рог пригубить,
уговаривать долго никогда тебя не приходилось.—
Правда, однажды она от этой араки так захмелела, что
муж крепко разругал ее, и с тех пор она зарок дала:
больше трех рогов араки не выпивать.
— А что отказываться-то? Или мне губы зашить?
Зарок, правда, я дала, но ясно сказала: три рога — в
рот, остальным — поворот! — Цахилон не смущается, не
в ее это характере.— Так что, Дочь Бату, если водится
у тебя злюка-арака, не жалей. К араке у тебя закуска
какая-нибудь да найдется. А пряха чем старей, тем
старательней. Всю твою шерсть мигом в пряжу обратим,
только не скупись.
— Чего скупиться, не тебе ж чета, гостей на
черством хлебе не держу. Ждала, пока тесто взойдет,—
добродушно ущипнула Дочь Бату соседку, но она не
думала обижаться.
Увидев, как хозяйка сует в печку пирог с картошкой,
она уверилась, что будет хорошее угощенье, и
развеселилась, а в таком настроении бывала щедрой.
— Вот теперь я' вижу, что ты и вправду щедрей
меня, Дочь Бату. И спасибо тебе, старой вороне, что
собрала нас. А я, грешница, вот что думаю, а не начать ли
нам свадьбу загодя, чего горожан-то ждать? Ади,
доченька, сбегай не поленись и притащи ведро пива. За
молодых помолиться богу никогда не рано. А то гости
заявятся и все вылакают. Знаю я горожан, до нашего
пива большие охотники. Да и жалко им отказывать, у
265
них ведь что за пиво фабричное? Сущая моча коровья.
Иди, дочка, иди. А то свадьба начнется, так нам ничего
не достанется, горло промочить после них нечем будет.
Спеши, доченька, а то опоздаешь к столу. Дочь Бату
быстрей огня, когда стол готовит.
¦— Э, нет, пока всю шерсть не напряли, стола не
ждите. Пьяных прях не признаю, после араки кудель
испортите.
. ' — Это само собой, Дочь Бату. Прясть—так до
последней шерстиночки. Только ничего не жалей, все на
стол выставляй. Таких старух тебе сам господь бог
нигде не сыщет. Не пряхи, а сто процент, как моя ученая
внучка Ева говорит. Или неправильно я это слово
запомнила, а, дочка?
— Верно, верно, гыцци! — подтвердила Евелина, и
старушки заулыбались. Завертелись, заверещали
веретена резвей прежнего — подгоняло предвкушение
застолья. ..
Ади и Ева принесли не только ведро пива, но и кулек
городских конфет и гармошку. За столом старушки
развеселились, как показалось Дочери Бату. Заговорили
свободнее и без прежней печали. Выпили немного, и
давнее горе как бы свернулось где-то на донышке
сердца и не тревожило до поры до времени. Все женщины
Пристанища Орлов сидели рядком да ладком, чего им
еще?' Вроде и не было больше тоскливого одиночества,
томительного ожидания вестей от детей, ставших вдруг
горожанами и в долгие зимние месяцы почти никогда не
навещавших старых родителей. Сегодня женщины все
вместе, им хорошо у Дочери Бату, высказали свои
печали и жалобы, беды и обиды, отвели душу, и теперь
хотелось шутить, вспоминать из своей жизни смешные
случаи. А их было немало, и все их знали, но позабыли они
их за суетой и печалями, и радостно им было
вспоминать вот так, сидя вместе, когда подробности, забытые
одной, всплывали в памяти другой. И старость вроде
уже не тревожила их, и печаль по детям, покинувшим
отцовскую землю. Дочь Бату видела, как малая
радость, словно мальчишка, обогнавший усталого отца,
оттеснила их общую печаль, и хорошо стало у нее на
сердце, хотелось уверить ей этих старых и одиноких людей,
что не так уж им плохо живется, а на будущее, которое
266
они не могут угадать, надо глядеть веселее. И решила
ока сказать тост, как заядлый тамада.
— Великий бог, под твоими небесами выросли, под
твоим золотым крылом состарились, и не дай нам
пережить своих детей, огради нас от такого несчастья! —
Молиться, так по-стариковски: вначале за всех детей,
потом за новобрачных, за младшего сына Карамана и
Цахилон и за их молодую невестку.— Много испытаний
выпало на нашу долю, но самое страшное, когда отец
и мать переживают своих детей и остаются без
кормильца. Пришлось перетерпеть и эту страшную муку,
впредь избавь нас, господи, от такой напасти. Как
снежная лавина по лесистому склону, прошла война по
нашей земле. Как отдельные деревья после лавины, кое-
кто уцелел из наших детей, так дай им пожить теперь
счастливо, чтобы не привелось им посылать на войну
своих мальчиков, потом всю жизнь в слезах ждать их
возвращенья, ждать и тогда, когда умом понимаешь,
что никто к тебе не вернется, а сердце все еще надеется
на чудо.
— Аммен! — произнесли все, но первой тихо
прошептала это слово Кайсынон. Ей не о ком было
молиться богу, не за что благодарить его, но она от всего
сердца желала другим не знать такой муки, которой нет
конца до смертного часа. Слезы ползли у нее по щекам,
и украдкой вытирала она их концом платка.
— За такой тост бы песню Уастырджи не грех
затянуть, старая невестка,— добродушно предложила
Цахилон.
«Не могла сообразить, что нехорошо так говорить,
когда за столом сидит Кайсынон... Что ж, видно, чужое
горе недолго помнится,— думала Дочь Бату.— Но я
четырех солдат не дождалась с войны. Разве это можно
забыть? ..»
— Нет, Цахилон, петь мы будем, когда твоей араки
отведаем. Завтра вечером, если понравится мне твоя
невестка и твоя арака за столом, тогда попробую спеть.
А так пока не с чего петь. Скажут мужчины, мол,
напились старухи и горло дерут, а нас и позвать забыли.
Если не обидятся по такому случаю, то могут и
нагрянут^ и выпить всю араку, тогда нам ничего не
достанется, кувшин у меня не бурдюк, из него и капли лишней
не выжмешь,
267
А ты чего приуныла, Кайсынон? В такой день надо
пить, а не горевать. Вот соберусь в дорогу на тот свет,
тогда и плачь, причитать ты умеешь и уважь меня в тот
день, на том свете всем хвастать буду: «Кайсынон меня
как родную сестру оплакала». Ева, почему рог у
Кайсынон пустует? Наполни до краев!
— Да не печалюсь я, Дочь Бату. Это от выпитого.
Водица на ресницах...— не призналась Кайсынон и
старалась проглотить слезы.— Мы уже старые люди, кусок
хлеба и то врозь не можем есть, а Детей как поделишь?
Общие они у нас. У меня на них вся надежда, не
одинока я, пока есть в нашем роду кому нас похоронить. Мне
от жизни ничего уже не надо, вот только после нас
пусть все в мире да в радости живут. И чтобы землю
отцов тоже помнили. Это же страшное проклятие всегда
было: да опустеет земля твоих отцов! Мне у бога нечего
уже просить, все, что у меня было, отнял он. И все же
одна мольба у меня осталась: пусть будут счастливы
дети всех людей на земле! Я так разумею, нет
несчастней человека, если он один счастливый на земле. Одного
несчастного люди всем одарят и душу ему согреют, но
что может один счастливец людям дать? .. Нет, пусть
будут счастливы дети всех людей на земле! Это мое
единственное слово к богу, если есть он на небе,—
грустно повторила Кайсынон.
Евелина заиграла на гармошке старинную
застольную песню «Возьми, выпей, опрокинь!», и старушки
повернулись к ней. Поняли, для них она играет. Хватит
вокруг своих болячек кружиться, как конь на привязи.
Пить надо веселее.
И вот мы, четыре старухи, тянем из рогов араку, не
спеша, будто холодную родниковую воду стебельком
лопуха, хотим как можно более продлить удовольствие
слушать почти забытый голос гармошки и этих
городских девочек, смущенно и тихо подпевающих гармони.
Какой ласкающий голос у Быценон — она тоже
присоединилась к Еве и Ади. Стесняется, но, видно, любила
петь, когда девчонкой была.
Пьем, делаем вид, будто этим заняты, девочек
слушаем, а каждая все-таки о своем думает... Кайсынон
все сказала, но вижу, она и во сне с богом воюет, в
несправедливости винит, а что ей осталось еще? .. Цахи-
268
лон всем довольна, вот только редко к ней дети в гости
заявляются. Ей от бога только и нужно, чтобы хоть
одного из сыновей вразумил, чтобы жить рядом с отцом
и матерью. Но кто у бога ума просит? * Каждый своим
умом живет, и не жалуется никто, что ему ума не
хватает. На бога пенять нечего... А Коцон, видно, завидует
Цахилон и Караману,— к ним все же изредка
наведываются, то один сын заскочит, то другой гостинцев
привезет, а Коцон и Цола будто вовсе бездетные — никак
сыновей не дождутся и сами к ним не ездят, хоть и не
так далеко ехать, упрямую обиду держат на детей.
Ну и я той же коровы теленок. Жалуюсь на сына, на
невестку, а что толку? Да и не так уж они виноваты. Не
сумели мы их удержать, не дали им чего-то, без чего
они не могут здесь жить, а теперь виним. По-дедовски
жить они не могут, не хотят, а по-другому здесь никто
не живет... Ругаю про себя свою невестку — хоть бы
она надоумила мужа вместе мать навестить, должна же
она хоть раз увидеть старуху, которая для нее такого
молодца вырастила? Но опять без толку я ругаюсь. Что
ей до какой-то незнакомой старухи? ..
А все же как нам не жаловаться и не горевать? ..
Было бы в нашем селе хоть десяток молодых ребят и
девчушек, вроде Ади и Евы, и никому бы из нас в
голову не пришло, что мы одинокие старухи... Что земля
без деревень и что деревня без людей? .. А у нас никого
нет. Старики уйдут — и умерло село, нет его, хоть плачь,
не вернешь...
Спасибо, пока вот эти два солнышка, два
несмышленыша, Цамел и Черноногий, светят нашим старым
сердцам, но это ненадолго. Сауках летом улетит с отцом,
Цамела в городскую школу хотят определить. И что мы
тогда будем делать? Й приласкать некого, и попенять
некому...
-*¦ Адзи, уже вечер, скотине корм пора задать.
Другие уже накормили своих коров, а наши губы жуют.
Что, если мы с Цамелом им сенца подбросим,
можно?— с порога громко говорит Сауках и улыбается,
радуясь собственной смелости, тому, что так вольно
обращаемся к самой Дочери Бату при гостях.
— Хорошо, сыночек мой, что о скотине заботишься,
но подойдите ближе к столу. Цамел, сынок, иди сюда,
269
не стесняйся. У мальчика ведь если рот полон, так ворот
рубашки есть просит. Поедите сами, а там и коровам
корм зададите. А на старушек не глядите, они уже и
выпить успели.
Пораньше бы завалиться в постель, намаялась за
день, а завтра забот невпроворот будет, гости приедут.
Цахилон болтать языком мастерица, а' гостей принимать
не очень. Помочь придется, за всем самой присмотреть.
Пусть горожане не думают: раз в селе одни старики да
старухи остались, так и фарн —• благодать покинула
Пристанище Орлов.
Сауках тоже набегался за день с Цамелом и
вечером уснул на тахте. Его-то уложила в постель, а чего
самой-то засиживаться до вторых петухов? И верно, от
араки ко сну тянет, но надо бы скотину поглядеть перед
сном...
Коровки мои, что и говорить, упитанны. Шерсть так
и лоснится. Спины мелкой скребницей причесаны,
лоскутком от старой бурки отутюжены... Э, подвинься,
Белоногая, чуточку, дай на козочек поглядеть. Вот
умницы, уже сенцо щипать учатся!..
Сена на зиму хватит. Сеновал у меня полон до
самого потолка, на три месяца его хватит вполне. Еще три
копешки стоят у сеновала да пять — на склоне
Муравьиных куч. До весны дотянем, голодать не будете, будьте
спокойны, мои коровушки, и спокойной ночи, я пошла,
пора старушке на покой.
— Э-э, Мураш, ты хоть и моложе меня, но старик.
Правда, хороший ты пес, и хозяин твой неплох, а
называют тебя, как щенка неразумного, Мурик... А какой
ты Мурик, ты — Мураш! Крупный да лохматый... Зря
ты хвостом виляешь, не до тебя мне, устала я, Мураш,
и за угощеньем лучше приходи утром, к завтраку.
Полведра сыворотки обещаю тебе. А теперь ступай домой,
спи, стеречь тут вроде нечего...
Сегодня снега почти не выпало. Но вчерашний все
такой же белый-белый, будто покрывало на
покойнике. .. Тьфу, чего только не взболтнет старческий
неразумный язык!.. Спать, старуха, спать! Заговариваться
стала!..
270
4
Сегодня наше Пристанище Орлов на село стало
походить. Старики к полудню собрались у Карамана,
обсудили, как и что надо к свадьбе сделать, овцу и козу
прирезали, пиво и араку на вкус и крепость
испробовали. «Пить можно»,— сказали и принялись молодых
загодя благословлять. Потом разошлись, ждать надо,
нельзя же напиваться, пока гости не приехали, жениха
и невесты нет. Правда, женихом и невестой их уже
нельзя называть, месяц, как поженились, но приедут
молодые с шафером и друзьями. Семья вся будет в
сборе. Решили, видно, стариков порадовать, Карамана и
Цахилон.
Стемнело, когда подъехали. У околицы застряли их
юркие машины, и пришлось спешиться. Мы к тому
времени управились со своими домашними заботами,
скотину накормили, в домах прибрали. Вдруг зайти
надумают? Это же наши обшие гости. Приоделись мы как
могли и собрались у Карамана.
Жениха встречать побежали Цамел и Сауках,
других детей в селе нет. Дочери Сандыра в районной школе
учатся, у бабушки и дедушки живут, у них там все как
в городе. Все жениховы подарки — конфеты и
пряники — достались нашим двоим мальчишкам.
Все столпились во дворе, а я стояла в стороне. Не
идет старухе людей расталкивать. Глядела я, и глаза
мои радовались, в кои-то веки жениха и невесту
привелось видеть в нашем селе. Смотрела и радовалась, так
было хорошо, будто по сердцу ангелы босиком бегали.
Но вижу, Цахилон свою невестку обнимает, будто
подружка она ей, обычаи наши забыла, старая. Вмешалась
тут я, с гостями поздоровалась, а на Цахилон
накричала:
— Свекруха, хватит тебе с невесткой обниматься,
делай, что обычай велит! Где твоя чаша с медом? Почему
карманы передника пусты, ни зернышка в них нет?
— Боже мой, все перезабыла от радости, Дочь Бату!
Как &е быть-то? — растерялась Цахилон. Видно было,
что правду говорит, и пожалела я ее.
•*г Ладно, ладно, беги, и чтобы вмиг обернулась, а
невестку заместо тебя я привечу.— И я обняла
тоненькую девчушку, всю в белом.
271
И чего я такая уродилась, высокая да неуклюжая,
как тощая медведица из весенней берлоги. Бедная
невеста, как воробышек под застрехой, у меня под
мышкой упряталась. Жалость меня взяла. Как могла,
пригрела я ее, к себе тесней прижала. А тут и Цахилон
подоспела, в новом переднике, карманы оттопырены,
пшеницей полны, в одной руке блюдце с медом, в другой
чаша с пивом.
— Солтан,— позвала я жениха,— подойдите с
невестой к матери, пусть она благословит вас. Так
положено, сынок.
— Ваша настоящая жизнь только теперь
начинается, сынок мой, дочка моя. И пусть она будет длиться
долго, радостно и красиво! — начала Цахилон. Говорить
она может, особенно если пригубит араки.
Гости, молодые да нарядные, столпились вокруг и.
слушали охотно старую мать. Видно, впервой им это и
чудно. Цахилон обрадовалась: столько городских людей
слушают ее, как школьники, и слова сами приходили на
ум, будто вечерние бабочки слетались к сосновой
лучине.
— Фарн-благодать не в долгой молитве, а в долгой
жизни, когда в ней мир да лад. Живите, корни моего
сердца, в согласии, сладко, как мед, ладно, как два
ядрышка в одной скорлупке!
— Аммен, аммен! — кричали мальчики.
Польщенная Цахилон поднесла к устам молодых по
очереди ложку меду, а сама как по книге читала:
— Да живется вам сладко и медово — и друг с
другом, и со всеми людьми, и в селе, и в городе, и на всем
свете!
— Аммен, аммен!
— Не знаю, как там на небе живут-поживают, но
земным людям без хлеба никак нельзя. Да будет у вас
добра впрок, детей — что цыплят у наседки. Сыновья —
чтобы, как туры на скалах, крутолобые да гордые, а
дочки, что лилии на лугах в пору цветения, нежные да
стройные!
— Аммен, аммен! — кричали опять, но кто-то
затянул: «Возьми, выпей, опрокинь!», и я перепугалась.
Цахилон может ведь и выпить, не долго думая, а это
стыдно.
272
— нить нельзя, свекруха. Передай рог младшим! —
опять вмешалась я.
Рог она отдала, но тут же взяла невестку за руку
и хотела в дом ввести.
— Ты что, Цахилон, шафером стать захотела? Дай
людям невесту в дом жениха ввести, не твое это дело.
— Твоя правда, Дочь Бату. Но где же шафер-то?
— Нет его, в командировку уехал на целый месяц,—
сказал Солтан.
— А как же быть? Не пустит вас Дочь Бату в дом
без песни. Двадцать лет в нашем селе свадьбы не было,
и как это без песни в дом входить? Радость входит в
дом с песней. Хватит нам печалей! — сыпала словами
Цахилон.
— Дрис! — говорю я младшему сыну Коцон, на этот
раз и он не поленился приехать.— Возьми-ка на себя
это дело, сынок. Шафером как раз тебе полагалось быть
по обычаю.
— Что ж, меня это не пугает, Дочь Бату,— отвечает
Дрис.— В нашем Пристанище Орлов петь и тосты
говорить даже телята умеют, а я ведь здесь вырос. Или,
думаешь, забыл все? Как бы не так! Ади, принеси-ка
мне саблю Карамана, она всегда на стене висела.
Быстрей! Невеста озябла, пока Цахилон свою заговорную
книгу читала. Надо ее в дом вести.— Он подошел и
встал по правую сторону от невесты.
Порадовал он мою душу. Оказывается, все помнят,
все знают старые обычаи, разве что цены настоящей им
не ведают. А сами-то, считай, ничего лучшего и не
придумали. Будто свадьба для еды и питья делается.
Дрис нацепил саблю, взял невесту за руку, приказал
своим друзьям: «Подпевайте дружней!» — и повел
невесту в дом. Перед входом выхватил саблю, запел
песню «Уастырджи» и, оставив на косяке двери
зарубку, переступил порог, обвел невесту и жениха вокруг
очага и благословил их в правом углу дома, на
«женской стороне», под покровителем очага. Все сделал как
положено. Правда, песня не очень получилась, но сам
он пел ее по-нашему, красиво пел, сукин сын, а
приезжать к своим старикам да ободрить их хоть словом да
лаской ума не хватает. Вот и пойми их...
Когда и старики благословили жениха и невесту,
Дрис повернулся ко всем и отрезал:
Юн. Джусойты
273
— Обычай обычаем, а согреться не мешает. Чего
долго тянуть? Пора за стол садиться. Что скажет наш
хозяин?
— Клянусь прахом отца и матери, верно говорит
благородный сын Цолы! — принял вызов Караман.—
Обычаю свое, людям свое. Все за стол! Все! И гости
и хозяева, и жених и невеста, и старые и малые. Как
говорилось в старину: кто стоит, пусть сядет, кто
сидит—? чуть подвинется. Вот так. Наши горожане любят
шутить над нами, мол, отсталый народ, чего с них
спрашивать. Но сегодня мы будем впереди горожан. У них
так водится: кто из мужчин самый крикливый да самый
болтливый, тот за хорошего тамаду сходит. Какой-
нибудь молодой да ранний. А его во главе стола сажают.
Стариков же к самому краю теснят. Так у нас не
пойдет. Еще в песне, помню, до войны пели, мол,
старикам — уважение, а молодым дорогу уступай. Оно верно,
старику дорога ни к чему, он к очагу поближе держится
н до порога о трех ногах ходит, а вот уважение — дело
другое. Да что-то забывают о нем горожане. А у нас
сегодня будет, как в старину водилось: кто старше, тот
первым за стол садится. В Пристанище Орлов старше
Дочери Бату никого нет, и сегодня она будет тамадой на
свадьбе. И не отнекивайся, Дочь Бату, не говори, что
женщине не положено верховодить мужчинами. Еще
как положено, если она умна и дело знает. К тому же
мы — старики, и кто знает, когда нас Барастыр к себе
позовет. Может, в последний раз пируем. Уважь нас,
Дочь Бату, посиди с нами и порадуй хорошим словом да
добрым обычаем.
— Ладно, пусть будет по-твоему, Караман,—
согласилась я. Все равно усадят тамадой, раз это желание
самого хозяина. К чему лишние разговоры? ..
Посадила я всех за один стол. Людей и так мало,
чего их делить на мужчин и женщин. Рядом со мной
сели старики, дальше жених и невеста в окружении
своих друзей и Карамановы внучки, а там — старухи и
дети. Как будто одна семья, да и то, по прежним
временам, не очень большая.
Тосты говорить — невелик труд, с малых лет их
слышала, знаю, что сказать и как сказать. Когда младший
274
домой с войны вернулся, пировать пришлось. Хоть и
четверых не дождалась, но не век же плакать на людях.
Вот тогда меня и уговорили впервые тамадой быть —
права, мол, у нас одни, а по годам ты старше всех. Что ж,
старше так старше, куда свои годы запрячешь...
С тех пор и пошло: старше да старше! Ладно, на пиру
да на свадьбе тамадой быть не тягость. Всем радостно,
потому и говоришь складно. И выпить не грех, не
осудят. Вот и беру на себя эту обузу — верховодить...
Да и правду Караман сказал, может, это в
последний раз. Мог бы, конечно, старухе такое и не говорить,
что, мол, помирать тебе пора, да уж тут ничего не
поделаешь. Он и сам не из молодых. А что своим дурным
словом, будто пальцем в рану, ткнул мне в сердце, ему
и в голову не приходит. Ладно уж, бог с ним. Может,
так лучше — не разойдусь на радостях, меньше буду
говорить, поскорее домой уберусь... А что на душе
печально — не беда: без печали и слово весу не имеет...
— Не ругайте меня сегодня, все мои слова вокруг
невесты и жениха будут кружиться, как ласточки
вокруг своего гнезда. Помяну и бога и Уастырджи, но
и слова и душа моя обращены к молодым. В старину
осетины, когда невеста входила в дом жениха, всегда
пели одни и те же слова: фарн входит в счастливый
дом! Невесту приравнивали к фарну — благодати. Не
глупые люди жили до нас, знали, что это их молитва, их
желание, и редко оно сбывается, а все-таки пели по-
прежнему — очень, видно, хотели, чтобы невеста всегда
входила в дом, как фарн, как мир и благодать, добро
и честь. И мне, старухе, тоже хочется, чтобы в наш дом
невеста вошла как фарн и пребывала в нем всегда. Да
сохранит она в этом доме прежний фарн, оставшийся от
предков, и прибавит к нему свой собственный фарн,
чтобы больше стало у нас добра, блага, любви и чести. Да
будет она столь счастлива, чтобы к ней в этот дом
вошли невесты ее собственных сыновей, как она сегодня
вошла к Цахилок и Караману. Пусть она будет
счастливее нас! Чтобы на свадьбы ее сыновей в этом селе было
кому собраться, чтобы и во дворе не умещались веселые
и добрые люди!
Нельзя мне сегодня ничего забывать, все добрые
слова и пожелания надо сказать. Может случиться
действительно, что это. последняя свадьба, на которой дове-
*
275
лось мне сидеть. Так когда же и сказать самые добрые
слова, как не сейчас? Сегодня мне и пить заказано. На
последней свадьбе надо сидеть как на исповеди...
Мужчины, правда, уже перебрали: лица у одних красные,
у других бледные, но глаза блестят у всех, а языки
у них — как телята без привязи. Иной спохватится,
поймет, что лишнее сказал, да разве разыгравшегося телка
за хвост удержишь? .. Пусть, не большой грех. Не
старики же, им до последней свадьбы, еще "далеко. А что за
свадьба, если нет за столом подвыпивших и веселых
людей.
На радостях и выпить не грех... Может, гостей
помоложе и надо бы пожурить по-матерински, да не
стоит. .. Поучать нынче много охотников развелось, и
надоело людям выслушивать всякую такую болтовню...
Хватит им без меня наставников да учителей разных...
А вот отвлечь их от араки стоило бы. Пусть потанцуют,
отдохнут от питья и еды...
Хорошие мои, не мешало бы молодежи дать
потанцевать. Не все же пить да попивать. Да и у Цахилон,
наверное, не так уж много араки, или не так, Цахилон?
Ну, если даже не так, мне хочется поглядеть, своими
глазами проверить, не хромоножка ли наша невеста? ..
Пусть станцует со своим царевичем, а мы на них
порадуемся. Ади, гармошку расправь! Ишь, лентяйка, чтоб я
до твоей свадьбы не дожила! Дай и твоей бабушке
старушечьей иноходью по кругу пройтись. А не то ускачет
в страну Барастыра, а там плясать да танцевать не
положено. ..
— Рано, рано еще, Дочь Бату! Я туда не спешу! —
весело отозвалась Цахилон.
Ади уже пристроила на коленях гармошку и игриво
растянула мехи... Начался танец. Теперь можно и
удрать.
— Караман, я пойду домой, мальчика спать надо
уложить,— шепнула я на ухо хозяину дома.— Если
опоздаю, не жди, сам веди застолье. Не обессудь,
устала я, старые кости ноют... Ты помоложе меня, да и
покрепче...
Я поискала глазами Саукаха и дала ему знать: пора
домой.
Все столпились вокруг танцующих, и никто не
заметил нашего ухода.
276
Сауках сразу же полез в постель и уснул, как только
голову на подушку положил. Проведала я своих
коровушек и вот притулилась к сыночку...
А в голове что-то зудит, нудит и спать не дает.
Видно, пить не надо было, но... А если и в самом деле это
последняя свадьба? ..
А ребята хорошие какие! .. Зря мы все жалуемся:
что за молодежь, ни обычая, ни приличия не знают!..
Зря. Очень хорошо держались. И обычай соблюли,
и старших слушаются, и говорить умеют, дай бог иному
старику тамаде так складно речь сказать... В их годы
сами-то мы многое ли умели? И многому ли мы их
научили? .. А жаловаться все мастера. Верно, чего-то им
недостает, как в ином пироге. Вроде и начинка из
хорошего сыра и густо положена, да и тесто из самой
лучшей пшеничной муки, а вкус все же не тот. Отчего бы
это, никто не знает...
А может, все дело в корнях, в тех самых корнях, что
мудрец считал самым главным?.. Может, неглубоко
корни пущены, вот и торчат они, только для виду
прикрытые землицей, как у нерадивой хозяйки в огороде
клубни картошки... Такая картошка всегда горчит,
солнце ее опалило... Вот и у них так: слушаешь порой,
вроде складно говорят и правильно, а не вкусно...
Но как это сделать: пустить корни глубоко и обнять
ими прах своих предков под землей, напитать свое
сердце их добром, стыдиться их зла, мучиться их болью,
беречь их и свою честь-достоинство? .. Мудрецу хорошо
было говорить, а как это сделать, как научить их этому
нам?.. Не знаю, а спросить не у кого... И ничего
путного наши старики тоже не ответят мне... Одно я
видела раньше и теперь вижу: фарн предков многие
понимали просто, это, мол, те вещи и то добро, что
остается от ушедших по их смерти... А какой это фарн? ..
Много добра для тебя нажили, так хвали их; нет — так
можешь поносить... Как-то брата Карамана ругали
старики: почему он прахом своего отца клянется, когда
врет? Он ответил не задухмываясь: а на что, мол, мне
прах моего отца, если в беде не выручит?
Нет, честь предков, их фарн надо беречь и в трудный
час, и в безбедное время... И корнями держаться за их
прах под землей. А нет этого, так что может удержать
человека на родной земле, если ему на ней трудно жи-
277
вется? И на что ему в таком случае и свычаи-обычаи?
И как он будет отличать доброе дело от паскудного и
подлого? .. Нет, видно, правду все же говорили предки:
дерево корнями держится, человек — фарном
предков. .. А не знает или забыл человек этот фарн — не на
чем ему держаться, и винить его нет никакого толку...
А может быть, мы, старики, просто завидуем
молодым и потому напраслину возводим на них: и то и это
у них не так! О себе точно скажу — завидую им. И как
им не завидовать, в их годы мы и досыта никогда не
наедались... И ничего не видели и не знали. До седых
волос дожила, за околицу родного села и Пристанища
Орлов не выходила ни разу. Детей вырастила, дочерей
замуж выдала, и только тогда сыновья свозили в город.
А вот мой маленький внук, что ни месяц, бывает там..,
Я вот самый старый человек в селе. Невесту с
женихом рядом с тамадой посадили — так пожелали и ее
свекровь, и свекор. А в наше время как тяжело было
невестке — во всем ее винили, если кому не угодит.
А меня так и по имени никто никогда не называл..,
А как меня звали-то в самом деле?.. Да, Кудина..,
В Пристанище Орлов никто, наверное, и не знает
моего имени. Муж меня по имени отца называл, все так
и привыкли окликать меня — Дочь Бату. Вот и
потерялось мое девичье имя... Ну и пусть. Чем плохо — Дочь
Бату?..
Как нам не завидовать им? Выбрать себе мужа по
сердцу, разве это не счастье для девушки?.. И чтобы
знала его по достоинству, по уму, а не только по
папахе... Я своего один раз только видела, да и то издали,
одну серую папаху и заметила... Я в дочери ему
годилась, но кто моего согласия спрашивал? ..
Да пребудет он в светлом раю! Ничего худого не
могу о нем сказать. Не бил меня, не ругал. Только жили
мы как-то врозь, каждый сам по себе... Даже спали
врозь, вспомнит, что у него жена есть, так придет в
постель, а так не тревожь... И детей, видно, не очень
любил. Без хлеба не оставлял никогда и голоса на них
не повышал, но и ласков с ними не был Может, нрав
у него был такой, кто его знает...
Лет двадцать промытарились вместе, но и двадцати
ласковых слов не слышала от него. Правда, и грубого,
278
оскорбительного слова никогда не сказал, врать не
буду, грешно о мертвом неправду говорить, самой скоро
туда дорога...
Выдали меня, даже на ум никому не пришло
спрашивать девчонку, а хочет ли она замуж выходить? Да
и спросили бы, что могла я сказать? .. Всем был видный
мужчина, и статью, и ростом, и лицом. Умен ли, добрый
ли человек или злой, откуда я могла знать, да и у самой
мозгов не больше, чем у цыпленка было. А какого
нрава, из какой семьи — обо всем этом знали старшие, это
их забота. Держать же меня дома — лишний рот добра
не прибавляет. Вот и поступили как знали...
А вот Ади и Еве чего мать с отцом спрашивать! Год
им еще учиться, а там на работу пойдут, семью кормить
смогут. Зачем им спрашивать кого-то? Сами разберутся
и в жизни и в женихах. А и будут совет держать с
отцом и матерью, так это ради приличия только. Редко
какой отец нынче образованней своих детей, а умней
ли — как знать? Вот и живут дети своим умом и не
хотят, чтобы старшие в их дела мешались. С какой
стати? .. Больше видят, больше знают, дороги открыты
всюду — выбирай себе край и город, где тебе по душе
пришлось. И живи, никто тебе ничего не скажет.
Страна-то у нас, сказывают, очень уж большая, из конца
в конец год иди, не дойдешь...
Вот никто и не хочет старших слушать. Да и к земле
у них привязи нет, как к старшим — почтенья. Мы, как
спутанные, все вокруг очага скок да поскок, они же с
молодых лет уходят из отцовского дома и ничем с
очагом и с отцовской землей не связаны... Вот и никакой
цены в их глазах она не имеет. С чего они по ней
убиваться будут? .. И нехорошо это, по моему глупому
разумению, но что делать и в чем их вина? ..
Нет, видно, время другое пришло и люди какие-то
другие, не прежние. Будь умней и образованней других,
тогда, может, и будут тебя ценить и слушать. А много
ли у тебя добра, долго ли жил на свете, так кому до
этого дело? Добро все равно им достанется, а ты чем
раньше уберешься, тем лучше... Разные мы очень
люди, вот и весь сказ, Обижаемся мы на них, а они понять
нас не могут, совсем другие у них мозги, не нашим чета,
вот в чем все дело...
Вот я, неграмотная совсем старуха, а мой сын — уче«
279
ный, инжилер. О чем ему со мной толковать? И слова
другие, и мозги разные. Хорошо бы в ладу жить, без
обид и упреков, но как? Жизнь по-разному судим, честь
и достоинство тоже. А измениться ни он, ни я не можем.
Зачем и как мне меняться перед смертью? Да и не
думаю, что он мозгами богаче, хоть и ученый. Ему же, это
как пить дать, мои мозги кажутся куриными. Да я бы
и сама так думала на его месте, чего скрывать... Вот
и суди да ряди, как нам друг друга понять?
Ладно, не страшно, пусть не понимают. Если вся
правда на их стороне, то все обойдется, не долго ждать.
Помрут старики, а с ними уйдет под землю все, чем они
жили,— и мудрость и глупость их, и обычаи и тяга к
земле, их разумение правды и чести. Останутся одни
молодые, и никаких обид и жалоб не будет на земле. Все
устроится, долго ли старики протянут? Но как быть,
если и за стариками правда водится? Что, если со
смертью стариков уйдет под землю что-то хорошее и нужное
им же, молодым да образованным, нужное, чтобы житье
их краше было? ..
Кто тогда заступится за мою правду и кто ее из-под
земли вернет? А если и вернет, нынче ученые люди и
мертвых оживляют, то как умершую правду оживить
можно? Нет возвратной дороги из страны мертвых и
никогда не будет... Так что же нас-то, стариков, винить,
мол, жалуются и обижаются? Когда твоя правда с
тобой в один гроб укладывается, так впору в голос реветь,
а тут и обижаться не смей!..
Что с того, что мы старые да давние? К тому, кто
будет жить после нас, никакие наши обиды не дойдут...
За свою правду мы тогда уже не сможем и полслова
сказать, мертвые — народ молчаливый. Может статься,
что тот, кто нынче на нашу правду свысока смотрит,
спохватится когда-нибудь, захочет ее воскресить, да
поздно уже будет. Вот в чем беда, а жалобы да обиды —
пустое, можно их стерпеть, да и не слушать их тоже
можно... Не слушает же мой сын... Такая даль, что не
докричишься...
Вот бы услышал он, как старуха ему и его
сверстникам да их женам кости перемывает, посмеялся ~бы
вдосталь. .. Сказал бы, учить нас старушка собралась. Ну
и старушка! Слепой зрячему дорогу показывать
надумал: оступишься, мол!.,
280
А ведь может быть и такое, что молодой да ученый
тоже ошибается... Верно, с детства от всего их
оберегают. Отцовский глаз да материнская ласка, еды вдоволь,
одеты как следует, игрушек разных не счесть. А мы,
бывало, на палочки разных тряпиц намотаем, вот тебе
и игрушки.
А чуть подрастут, так им школы разные, самые
образованные люди к ним приставлены да нянчатся
с ними похлеще отцов и матерей. А выучишься, живи
по своему доброму желанию, по мечте своей!.. Нам
такое и в сладких снах не снилось...
Ругают их: неуживчивы стали, в воскресный день
у них свадьба, в понедельник развод!.. А что тут
позорного нашли, не пойму. Это в наше время считалось
постыдным уйти от опостылевшего мужа, редко какая
женщина осмеливалась покинуть мужнин дом. И что
.хорошего? Многие как на каторге жили, а уйти не смей.
Да и куда было уходить? К отцовскому очагу? А кто
тебя там ждал, кому ты там нужна была со своим
позором? Упреки, обиды, оскорбления... Как приблудная
овца в стаде ты в отчем доме... Из огня да в
полымя— вот и все, чего ты могла добиться своим
разрывом с мужниным домом...
У них же куда проще. Не получилась жизнь, уходи.
И живи своим домом, никто тебя куском хлеба
попрекать не будет, сама его зарабатываешь. И никакого
несчастья я не вижу в этом. Спроси меня, так это же
счастье — хоть неделю, хоть месяц, хоть год пожить с
человеком, который тебе по сердцу и кого ты сама
выбрала. Может, большего счастья и нет в жизни. А мы
свое: почему, мол, на всю нашу жизнь не хватило этого
счастья? .. Будто лучше прожить долгую жизнь и так
и не узнать, что же это такое счастье...
Я вот сколько на свете живу и всегда будто молодой
была. Не будь этой треклятой войны, не сожрала бы
моих детей, так мне износу вовек бы не было. А как
получила эти черные бумаги, одну за другой, четыре,
так все у меня внутри будто оборвалось, и сил не стало
и душа состарилась... Долго тянулись мои молодые
годы, а в памяти один только день и остался. И ничего
Другого не припомню. Если даже бог скажет, сосчитай
свои светлые дни, другого не смогу назвать. И хранится
281
этот день в самой глубине моего сердца, и никто о нем
не знает, только я да он...
Горе мне, чего так голова разболелась, не пойму.
Дотронуться нельзя, будто не голова, а волдырь от ожога.
Обычная стукотня часов и то отдается в голове, точно
кувалдой кто по ней бьет... А может, и правда, это
у меня лишняя кровь и в мозгу кровяные жилы от крови
надулись, как сосцы у козы недоеной? ..
Придумают же люди такую глупость! Какая у меня
лишняя кровь, у высохшей, как шкура на солнце,
старухи, .. Пришло время умирать, вот и все, а они
болтают — лишняя кровь!.. Жилы от нее разбухли, пиявки
могут кровь отсосать!.. Дайте старому человеку
помереть спокойно, чего на съеденье пиявкам отдавать его...
А осень была такая хорошая, тепло, нежарко, ходить
легко и отчего-то грустно на сердце... У меня уже
дочка на руках была, а и сама будто девчонка. И мальчик
этот мне нравился, тихий да добрый такой... Я знала,
что рад и он видеть меня, хоть и слова никогда лишнего
не сказал. Глаза стыдился на меня поднять, опустит
голову и мимо спешит...
Воскресный был день. Я на мельницу отнесла
немного пшеницы смолоть и оттуда пошла в Ореховую балку.
Орехи переспели и сыпались. Соберу, думаю, время
есть, дочка спит и не скоро проснется. Тихо было в
орешнике, иногда ветер набежит, потрясет кусты, и
слышно, как орешки на землю падают, мягко
постукивают по опавшей листве. Грустно мне стало и жалко
себя.,, Три года, как взяли меня из дому, и с тех пор
никого из родных не видела, и здесь для всех чужая.
И обидно за себя, тоска душу томит. Никому я не
нужна. . ¦ Села под высоким кустом и плачу.., Сыплется
желтый лист с орешин и засыпает меня, как мертвую.
Думаю, вот и буду так сидеть, засыплет меня листвой,
и никто меня мертвую не найдет, будто и не было меня
совсем на свете, и глупые слезы сами льются.,,
Плачу по своей гиблой жизни и вдруг слышу: «О
чем плачешь, невестка? Или кто обидел? ..» Это был он.
Я вскочила, хотела было убежать, но ноги не шли.
Опустила голову и концом платка глаза прикрыла,
слезы хочу скрыть, утереть. Слова не могу сказать, язык не
поворачивается, а он утешает: не бойся, мол, пока я
жив, никто тебя обидеть не посмеет.,, И никто не тро-
•282
нет.,. Ничего я не сказала, но потом догадалась, что
хотелось мне, чтобы он приласкал меня, обнял и
хорошие слова говорил... Это я потом поняла, а тогда,
сделай он шаг еще в мою сторону, убежала бы. Но он
стоял, точно камень у изголовья могилы... Потом
говорит: «Хотел бы еще с тобой постоять, да некогда. Мне
со старшиной в уезд надо, в солдаты меня забирают...
Когда вернусь, не знаю, но буду тебя вспоминать...»
Как сказал, так я и заревела как дура. Не плачь,
говорит, я ухожу, прощай!.. Сказал и ушел и не
вернулся с той первой войны... Кто знает, вспоминал ли он
меня, но я его всю жизнь помню... Своих детей в
солдаты отправила, их тоже не дождалась, а все равно он
из памяти не уходит... И ничего-то не было, только
перед тем, как совсем уйти, две горстки орехов в мой ме-.
шочек ссыпал. Ничего, говорит, у меня нет, что бы на
память оставить...
И ничего-то не было между нами, а памяти хватило
на всю жизнь. И лучше той прощальной минуты не
было во всей моей долгой жизни...
А мы ругаемся: наши дети женятся да расходятся!..
«Любовь, любовь!» — кричат, а глядишь, этой самой
любви всего на одну-другую неделю и хватило!.. Ну
и что с того? Бранить дурное и не видеть то, чем
человеческая душа во все свои дни, как солнцем, греется,— это
же все одно что сослепу белого барашка черной свиньей
обозвать. Стыдно и глупо так о чужой жизни судить...
А я так скажу: не то жалко, что расходятся, а
нехорошо и обидно, если цены не знают своей любви, не
понимают, какое это им счастье выпало, вот и пинают
его ногами, дурни... Иные наши городские спесивцы,
видно, у них глаза жиром заплыли, не замечают, что
дети белым хлебом швыряются... А мы этот самый
пшеничный хлеб христовым хлебом называли, только по
праздникам едали... Может, вот так и свое счастье
люди ценить разучились. Кто знает. Но в таком разе да
стыдно им будет...
Ладно, понимаю, что мы — как бы другой народ...
Жили в горах, хлеба мало было, вот и дорожили им, ни
купить, ни взаймы не у кого взять. Нынче хлеба много,
и купить нетрудно, есть на что купить. Страна большая,
в одном месте хлеб не уродится — в другом урожай.
Голодать все одно не придется. Вот и не в цене теперь у
283
людей хлеб... А это большой грех. Ну а счастье где
купишь, у кого его в долг возьмешь?.. Оно и в наше
время было — ищи не сыщешь, и нынче не всякому
выпадает. .. А не ценят, так самим это во зло. Так им
и надо, не мне же учить их...
Никак не уймется эта дурацкая боль, голова
раскалывается! .. А может, мокрой тряпкой перевязать? Полег-
гЧает?
И чего мне вспомнился этот бедный мальчик?
Помянуть бы надо и его и моих мальчиков... Все в солдатах
погибли... Может, и похоронены где-нибудь в одной
земле, кто знает.... Да пребудут они в светлом раю!..
Много слез высохло на моем лице, высохнут и эти.
А свет бы надо зажечь. Где-то было у меня еще
несколько восковых свеч, достать да на стол хоть хлеба
кусочек положить...
— Да будет вам земля пухом, бедные мои, так и не
пожившие на свете сыночки мои! .. Мир и тебе,
несчастный мальчик, давно всеми забытый. Люди каждый год
поминают своих покойников, а тебя некому помянуть...
Твои братья и сестры — все старше тебя были, давно на
том свете. Кому еще по тебе плакать?.. Мир праху
твоему! ..
Свечки сами догорят, нет, подожду еще, не долго им
гореть... От холодной тряпицы будто полегчало, не так
больно стучит... Сгорели, как свечки, мои сыночки, мне
и могилы, их не осталось...
Боже, да уйми эту боль, дай мне хоть чуть
подремать, не могу же я вот так сидеть до утра в этом
холоде? А печку растопить сил моих нет... Надо все же
в постель влезать. Богу, видно, нет никакого дела до
больной головы какой-то полуживой старухи...
Помогла эта мокрая тряпица. И тепло как стало,
согрелись мои старые косточки, будто у горячей печки
сижу. .. Да это же Сауках такой горячий... Кормилец
мой маленький...
А осень какая... И день — райский прямо... Тихо
как и легко, ничего не давит, тепло и не жарко.
И грустно и жалко себя. И падают желтые листья,
неспешно опускаются, ложатся один к одному, золотым
покрывалом облегают меня, будто мертвую... И никто
меня больше не найдет и не увидит, никогда... Будто
и не было меня на свете...
261
5
Сегодня к полудню из села Каменистое пришел
вестник печали и рассказал: вчера вечером скончалась Кари-
он Сабе. Старая была уже, ровесница моя, в одном селе
родились, вместе выросли. Сказал: уронила на пол
веретено, хотела поднять, нагнулась и упала. В сознание
больше не пришла, отдала богу душу. Послезавтра
похороны, сказал еще вестник и ушел.
Пришел вестник в село, не к одной Дочери Бату, но
разве трудно понять, что свою печальную весть он моей
горькой душе поверял. Мы же с Карион всю жизнь
душа в душу прожили. Теперь я совсем одинока. И не
утешает меня, что долго она жила. Перед смертью,
видно, все мы одних лет. Старели мы обе, но все свои
печали, как и в молодые годы, только ей я могла
выговорить. Старели мы, а любила я ее так же, как и в
то время, когда еще молоденькими девчонками были.
Давно никого уже нет у меня из родни. Все, кто
были в родном селе, или умерли, или переселились за
горы и потерялись для меня. Карион Сабе — последний
человек, с кем о своем давнем житье-бытье вспоминала
при встрече. Она тоже ушла, вот и мой черед настал.
Видно, пора, и жалеть не о чем.
Не долго ходить до Каменистого. Раньше говорили,
две версты всего, но по зимнему времени для такой
старухи все же дальняя дорога. Дойду как-нибудь,
дотащусь, к вечеру и вернуться успею. Нельзя моего
мальчика оставлять одного, а скотину некормленой. Успею,
день погожий, и наст крепкий, идти по такой тропе в
снегу не так уж и трудно...
Что-то мои глаза шалят, слезы текут и текут. Или
так холодно, а я второпях не замечаю?,.. Хорошо, что
захватила свою палку, а то никуда бы не добралась,—
как польется водица из глаз, ничего не вижу.
И чего ты поспешила, сестра моя, в такую пору?
Тебе еще жить да жить, детей вокруг — целое село, все
ласково с тобой обходились... Хорошо еще, в погожий
день в путь собралась, твоя последняя дорога солнцем
освещена... Снег так и переливается на солнце, глаза
приходится жмурить... Белый, как саван, снег... Что
это я — саван да саван. Придержать бы язык...
Привыкла в своей каменной берлоге день-деньской в темно-
285
те возиться, как летучая мышь, вот и кажется — белый-
белый снег. Молчи лучше, старая.
Вот на тот дальний склон с бедняжкой в молодые
годы часто с граблями ходили в сенокос... Замуж она
на год позже меня вышла и каждый раз говорила: ни
за что бы не вышла сюда замуж, если бы не сказали
мне, что рядом, в соседних селах, будем жить. Кому бы
я тут свою печаль выплакала, если бы не было тебя? ..
А кому мне теперь свои обиды и жалобы рассказать? ..
И кто меня оплачет без тебя? ..
Вон под той горой, что Седловиной зовут, каждую
осень орехи собирали, а на откосе Дондих на одной
вырубке голубику собирали... А та*м у святилища
Большие камни сколько раз в годы войны в ночь Уастырджи
костер разводили!.. Обычно туда мужчины ходили с
мальчишками, но не было мужчин в войну, вот мы и
ходили с детьми, солдатские матери. Тогда мы еще не были
старухами.
Летом хорош наш горный край, всем хорош, душу
радует, а зимой... Нынче еще терпеть можно, снегу что-
то мало выпадает последние годы. А до войны, бывало,
дома по самые застрехи в снегу утопали. Все
переменилось, и люди, и время, даже зима другой стала. И
дорогу большую сделали, машины так и шастают туда-
сюда, то в город, то обратно. Людей много будет на
поминках... А на людях и горе не страшно, много
людей помянет добрым словом бедную Сабе, и сыновьям
на сердце легче станет — хорошие люди уважили
старушку.
И мне не дожить, видно, до лета. Не увидеть
зеленые склоны и лес весенний. Зеленя в рост пойдут, а
меня уже не будет... Ладно, не мало их повидала,
хватит с меня, и горевать не о чем. Людям надоела, и
самой жить уже не мило, хватит. Конечно, и старой жить
охота, но сил уже нет, так что в самый раз уходить.
Смерть не проведешь, она и не таких ум«ых увела под
землю, так нечего время тянуть, себя обманывать... Вот
только бы до лета доскрипеть, Черноногого отцу с рук
на руки передать, а там и помирать не жалко. Пожила,
намучилась и нагоревалась досыта, больше не хочу...
Вот и приплелась к тебе, сестра, пришла на
последнее свидание. И что мне делать, как мне оплакать
тебя? .. Голосить мне, старой, перед людьми неловко, а
226
душа плачет-причитает, хоть и голос осип, ноги не дер-»
жат... И как мне сказать людям, что я одной надеждой
тешила себя — оплачешь, как помру... Но у смерти
свои тайные сроки, и ни угадать их живым, ни отменить
нельзя.. • И плачу я не только по тебе. По себе,
одинокой и несчастной, плачу... И как же трудно было тебе!
Язык онемел, детей благословить не смогла!.. По этому
снегу в дальнюю дорогу идти решилась, весны не
дождалась!
На этом свете, сестра, мы неразлучно с тобой жили.
Позови меня за собой, нет силы разлуку терпеть..«
Услышишь ли ты мой плач? Добрая душа у тебя была,
так из своей новой обители людям добра пожелай...
Ладно, ладно, сестра, не буду я ничего говорить.
Сижу вот у твоего гроба, ладонью твои морщины на лбу
глажу. Обнять тебя не могу, так хоть этим дам знать,
как я осиротела после тебя. А что слезы не могу
проглотить, не моя вина,— одинока я, как ворона лесная... Ни
мои слезы, ни я сама больше никому не нужны... Кто
меня будет оплакивать? Дочери поплачут, верно, но на
второй день успокоятся. Разве только Кайсынон
безутешно будет плакать, этому верю, она такая же
одинокая. Будут горевать и другие старухи, привыкли
они ко мне за столько лет, и горем и радостью
делились. ..
Домой мне пора идти, сестра. Прощай, помянуть
тебя я и дома смогу. Дотемна добраться до Пристанища
Орлов, в темени какой я ходок. Остаться же нельзя мне,
на мальчишку дом оставила, скотина без присмотра,
некормленая в хлеву ревет...
— Что, сынок мой, кормилиц ты мой черноногий, дом
на месте и козы живы, коровы не подохли?
— Нет, Адзи, дом убежал на вершину Черной горы,
коровы побежали пастись к самой горловине Злачной
долины, а козы на скалы Белой горы забрались... Вот
какая беда стряслась, когда я в полдень на водопой их
погнал... Бегал я за ними, то на одну гору, то на
другую лазил, но собрать >их не мог... Расплакался с горя,
и тут ко мне подошел сам Уастырджи и говорит:
«Хороший ты мальчик, Черноногий, но плакса. Не люблю я
плаксивых да черноногих, но так и быть, помогу тебе
287
ради бабушки твоей. Хорошая она у тебя. Рог ли араки
возьмет или чашу пива в руки, каждый раз мое имя
поминает. Как же не помочь ее черноногому мальчику.
Вот тебе свирель нарта Ацамаза, заиграй на ней «Ой,
уарайда!» и ступай домой...» Я так и сделал, запел,
потом свирель отдал хозяину и вернулся. Вижу, и дом
на месте, и коровы сытые вернулись, и козы лежат в
загоне и жвачку жуют.
Дочь Бату сделала вид, чт.о всему верит, слушала
испуганная. А когда кончил Сауках свою сказку,
сказала:
— Ну и хитрющий же ты у меня, Черноногий!.. Так
что же мне осталось делать? Идти спать ложиться, раз
и коровы сыты и козы от усталости спать полегли,
набегавшись за день на скалах Белой горы?
— Нет, Адзи, кое-что еще осталось и на твою долю.
Уастырджи сказал, когда я ему свирель вернул:
«Теперь иди и в хлеву прибери, навоз вынеси, из яслей
коровьи объедки выкинь, скребницей коровам бока
пощекотать тоже не мешает. А вернется Дочь Бату, скажи
ей, пусть внука накормит по-нартски. Он же такой
старательный. ..»
— Так и сказал? — серьезно спросила Дочь Бату.
— Клянусь вот этой дедушкиной палкой, так и
сказал. Потом, правда, предупредил: скотину, мол, вечером
все же не забудьте накормить, из этой долины до
вашего хлева долго идти, она проголодается...
— Что ж, раз сам Уастырджи предупредил,
придется накормить. Только не знаю, тебя мне кормить
вначале или коровам сена дать?
— А чего тут знать! Уастырджи первым назвал
меня, а коровы потом пришли ему на ум,— разрешил
сомнения бабушки Сауках.
— Раз так, идем домой, буду тебя кормить, может,
и мне самой что-нибудь перепадет,— согласилась Дочь
Бату.— Вот только ума не приложу, как ты
догадался, что это Уастырджи с тобой говорил?
— Нет, Адзи, этого я не могу тебе сказать.
Уастырджи не велел. Секрет. Он — покровитель мужчин и мне
помог. Нельзя его выдавать.
— Нельзя так нельзя. На твоем месте я бы тоже не
выдала покровителя. Но я бы его спросила: можно
бабушке врать или лучше ей правду говорить?
288
Нравится Адзи болтать с внуком, и не хочется ей
переводить разговор на обычный лад. Она ставит на стол
хлеб, сыр; чайник — на печку. Сауках не дал огню
погаснуть, не долго и чай вскипятить.
— Я тоже не забыл его спросить, Адзи. И знаешь,
что он ответил? Долго он размышлял, а потом решшГ:
врать можно, только складно, так, чтобы и правду не
скрыть. А бабушка поймет, она у тебя умная, сказал он,
очень понимающая бабушка,— хитро улыбнулся
Сауках.
— Ну и лиса же ты у меня, Черноногий,—
засмеялась Дочь Бату.—А не сказал Уастырджи, что, мол,
бабушке, раз она такая умная и понимающая, вели
пироги испечь сегодня же вечером?
— Э-э, Адзи, не стыдно подслушивать мужской
разговор? Сказал! Правда, сказал! Только я не хотел тебе
передавать. Вдруг подумаешь, что это я сам выдумал.
Захотел пирога и выдумал,— смутился Сауках.
— Зря ты скрывал, сынок. Я бы так никогда не
подумала. Мой внук пирога ради будет врать? Я знаю, что
Уастырджи о пироге забыть никак не мог. Ведь если
будет пирог, так и его помянут добрым словом, не
обойдут. Вот я и догадалась о вашем мужском разговоре...
— Хорошо, что ты догадалась, Адзи. А будет пирог,
так давай позовем и Цамела. Он мне весь день помогал,
вместе дом сторожили,— попросил Сауках.
— Зови. Свои пироги за закрытыми дверями только
воры да скупердяи едят,— согласилась Дочь Бату, а про
себя подумала: придется тесто замесить, хоть и на ногах
едва держусь. Но как же мальчишку обмануть? .. Уедет
летом с отцом, и, может, не увижу его никогда. Помру
прежде, чем он вернется... А детское сердце памятливо,
вкус бабушкиного пирога, может, на всю жизнь
запомнит, как самую добрую ласку.
— Дочь Бату, скажи-расскажи, как наши дети
живут. Не ругают ли отца, что оставил их так рано, а добра
им никакого не нажил, на одну мать их покинул?
Ишь какой заботливый, о детях тревожится.
Отвечать придется спокойно, вон сколько мужчин, и все из
нашего рода. Неприлично мне, невестке, при старших
мужчинах голос повышать, но правду сказать надо,
289
пусть знает, как мне легко было одной такую ораву
детей кормить да растить...
— Выросли наши дети, голодали, но выросли,
хорошие люди выросли. Но четыре наших сына с большой
войны не вернулись... Младший большим человеком
стал, инжилер... Три внука у нас, хорошие мальчики...
И дочери наши замуж повыходили, своими семьями
живут. ..
Не понравилось ему, что ли? Молчит и в тень уходит.
И чего о сыновьях спрашивает", разве они не в этой же
стране? Или мертвые тоже врозь живут, как живые,
и друг друга вовек могут не увидеть?..
А вот и Матэ, Карамана отец. Он самым мудрым
человеком в нашем роду слыл.
— Скажи, невестка, а в нашем Пристанище Орлов
мир да лад, по чести и совести люди живут или ссоры
и грызня, драки и примиренья? — печально так
спрашивает. В жизни больше всего мир и тишину любил, вот
и тут о том же печалится...
— Некому уже драться да ссориться в Пристанище
Орлов. Одни старики да старухи там живут. Остальные
через перевал ушли, на равнину переселились или в
городе к делу пристроились... Не до этого нам, до
кладбища бы с достоинством добрести, вот что у нас на уме.
Делить нам нечего, одинокие мы люди, друг к другу
прислониться стараемся, чтобы средь дороги не
упасть...
Матэ закрыл лицо руками и, сгорбившись, тяжело
пошел в темень... Горе у него какое или обиделся на
мои слова? Кто их поймет, этих людей из страны
мертвых? .. Обидно им слышать мои слова. И чего они
пристали с расспросами?
А вот и старший сын Карамана. Молодой какой. Не
стареют здесь, что ли? .. Он же моей старшей дочери
ровесник, а она уже старухой выглядит...
— Скажи, Дочь Бату, все еще меня врагом народа
считают? .. Живы ли мои родные и знакомые? —
спрашивает.
— Разве не известно у вас тут, что тебя, Караманов
сын, невинным признали? Всех таких, как ты,
освободили. .. Вины за ними никакой нет1. Радуйся и передай
другим.
Лицо молодого человека просияло, как будто сын у
290
него родился... Сделал он шаг ко мне, а потом
повернулся и ушел вслед за другими в темь...
.. .Что за сон такой? К чему — не пойму. Голова все
еще болит. Наверно, уже за полночь перевалило.
Сдается, петухи кричали во второй раз. А ходики мои все так
же тикают, качаются, и дела им до времени нет. Ночь
или день, у них одна забота — головой трясти, как на
поминках... И что это я на тот свет отправилась, хоть
и во сне? К чему бы это? Может, умершие к себе зовут,
напоминают, что время собираться в дорогу? .. Или
помянуть их следует? .. Нет, не буду я вставать сейчас,
сил моих нет. Пусть снятся. Если каждый раз мне
вставать да своих покойников поминать, житья не будет, а
у меня целый дом на руках. Нет уж..,
6
— Адзи, сказали, что сегодня новогодняя ночь
будет. Правду говорят или шутят?
— Корень моего сердца, я тебе этого не говорила
разве? Нет? Как же я забыла? Голова у меня дырявая
стала, все забываю. Это от старости, сынок. Да будь он
неладен, этот бог, что старость людям дал. Живешь,
вроде на человека похож и статью, и умом, и вдруг
будто обезьяной становишься. Сподобил жить, так дай
человеком пожить! А недостойна, душу мою прими.
Зачем же такое наказание?
Да не слушай ты меня, сынок. Старуха совсем с ума
сошла, чушь несет. Правду тебе сказали, сынок. Ново*
годняя ночь приходит, и надо ее встретить как
полагается. А что положено добрым людям в такой вечер делать,
все расскажу. Это я еще не забыла.
Первым делом, уходить из дома никуда нельзя.
В эту ночь каждый, и малый и старый, дома, у своего
очага, должен сидеть и праздновать — старый год
провожать, а утром Новому году «С добром приходи!»
сказать. Так водится, сынок, в нашем краю. Так мы с тобой
и сделаем. Скотину накормим, печку истопим пожарче.
Будем с тобой пироги печь да печенье разное...
Пока Адзи жива, Новый год весело будем встречать.
А там без Адзи будешь его праздновать. Ты уже не
маленький, вон с Уастырджи разговоры какие не
боишься разводить.
291
Возни с коровами да с козами у нас сегодня будет
немного. Все у меня, уже готово. Сенца в плетенку
набила сколько надо. Мы вдвоем дотащим его до яслей.
Хватит им одной плетенки, зима еще впереди, а сена у нас
в обрез. Для поросенка я картошки чугунок сварила,
отрубей примешала да хлебных объедков. Почти полное
ведро. Отнесем ему гостинец, и пусть лопает. Козам в
клетушку я бросила охапку сена, будет с них. Козлятам
отборного сена положила. Они и. молока пососут, и к
сену пусть привыкают.
А потом начнем стряпать да печь. Ты мне дровишек
нарубишь, печку подгонять будешь, а я с тестом
управлюсь. Отец Карамана, будь он к добру помянут, как-то
похвалил меня. У хозяйки настоящей, сказал он, все
должно быть как у Дочери Бату — руки вымыты,
рукава закатаны и дрожжи наготове, осталось тесто
замесить. И мы с тобой такой новогодний пирог — артхурон
разрумяним в нашей печке, какого в Пристанище Орлов
сроду не видали!..
Идем, сынок, за скотину примемся для начала.
Старательный у меня сынок, все умеет, и
соображенье у него как у настоящего хозяина. Правда,
силенок еще маловато, но, за что ни возьмется, не отстанет,
пока не осилит, хватка у него как у волчонка. И сейчас
норовит меня поберечь, самое тяжелое все сделать.
Перед Новым годом, говорит, все надо доделать, Новый
год в дом новый фарн принесет, так надо же место ему
расчистить. Это, говорит, Кайсынон сегодня сказала.
Вот он и старается.
А хлев у нас теплый. Зря люди коз чертовым
отродьем ругают. Чистое, брезгливое животное, катышки за
ними хоть в подол руками собирай. И в еде разборчивы.
Не всякую травинку коза в рот берет... А козлята
смешные какие! Их теперь восемь. Цамелова козочка
тоже покуда здесь, пусть матку пососет, подрастет.
И все белые-белые, будто кто их в сметану окунул и за
рожки вытащил. Оторвутся от еды, поблеют для пущей
важности, поводят глазищами вокруг и опять
мордочками в сено тыкаются. Хитрющие, черти.
— Черноногий молодец, закрой дверь на задвижку,
рука последнего дело венчает. Может, ты счастливей ба-
292
бушки, Новый год тебя особым фарном отметит.
Глядишь, утром прибавка будет. Посмотри на козу с
сережками. Жует, и две серьги у подбородка болтаются, как
колокольчики серебряные позванивают. Гляделками
поводит, а ведь небось слышит, чертовка, что две козочки
в утробе блеют, на свет божий просятся... Вот если
Новый год тебя фарном одарит, заутро обе козочки у
тебя над ухом замемекают. Разбудят лежебоку. Только
дверь тебе запирать, тогда видно будет, какой такой у
тебя фарн.
.. .Жарища в доме, размышлял Сауках. А ведь Адзи
и не думает за стол садиться. Тыщу пирогов напекла,
и все ей мало, что ли? .. Поросенка, говорит, на какой-
то другой праздник прирежем. А зачем его резать?
Лучше бы совсем не резать. Хороший такой» Накормишь
его, так весело по двору бегает, а хвостик у него
крученый. ..
Пирогов полон стол, а Адзи еще какие-то хлебцы
начала лепить. Что за удивительный человек! Вечно
возится, а ужинать когда? А теперь, видно, какой-то
большой пирог вздумала печь, тесто на все корыто
размазала. ..
— Сауках, подойди, сынок, посмотри, что это
такое — артхурон. Это всем пирогам пирог, такого ты у
матери не увидишь, погляди на бабушкино корыто.
Большущий пирог, а начинка из кусочков соленого
сыра. А еще упрячем в брюхо ему денежки. Вот две
серебряные монетки, а это золотой рубль. Твой дедушка мне
дал давно-давно, уже и позабыла когда. Но для тебя
берегла, тратить было жалко. Отдала бы тебе и сейчас,
да боюсь, посеешь где-нибудь и не найти будет. Вот
отец приедет за тобой летом, тогда и забирай с собой.
А пока положим вот эти серебряные монетки для твоих
братцев, а золотую для моего единственного сына, это я
о твоем отце говорю. Его же здесь нет, вот для него
и положим в артхурон. А утром поделим артхурон на
всех поровну. Кому достанется золотой рубль, тот
счастливей всех. ч
— Адзи, подожди, я пальцем отмечу, куда ты
золотой рубль прячешь,— сообразил Сауках.
— Нет, сынок, нет, мой Черноногий, так нельзя.
293
Это — харам называется, хитрость и коварство. Этого
Адзи не любит. Надо все по-честному делать. А там
кому повезет, кому что выпадет.
— А если на твою долю выпадет, ты отдашь мне
этот золотой, Адзи?
— Может, и выпадет. Но я хочу, чтобы все
досталось моим мальчикам. Они опора моей души, они для
моего сердца что обручи. Без них оно, старое, давно бы
треснуло, барашек мой беленький!'
— Значит, Адзи, и я твой обруч? Или я не в счет? —
то ли в шутку спрашивает, то ли выпытать что-то хочет
у бабушки Сауках.
— ¦И ты, мой хитренький, мой ласковый щеночек,
потявкать охочий. Кому же еще быть опорой моим старым
костям, обручем моему усталому сердцу? Вся моя
надежда на тебя, сыночек. Ты же у меня за главного. Где
остальные? Нет их... Кто сидит у очага отцов и к огню
дровишки подкладывает, чтобы, не дай бог, не погас
огонь в очаге? Сауках, мой самый хороший сыночек!
А кто, как великан, поддерживает эти старые стены,
упасть им не дает? Черноногий Сауках! А кто не
оставит землю отцов, не даст ей, как старой матери, в тоске
да в слезах ослепнуть и оглохнуть? Все тот же Сауках.
А кто похоронит Адзи и посадит в ногах и у изголовья
орешины маленькие? Да мой сыночек Сауках! Или я не
так говорю и зря себе сердце тешу? ..
Сауках подумал было, что шутит бабушка и можно
шуткой же отделаться, но Дочь Бату выпрямилась и
посмотрела ему в глаза. Сауках не смутился, но осекся.
Шутка сразу выскочила из головы. Он понял, что Дочь
Бату спрашивает серьезно, большие грустные глаза
смотрели в упор, печально, ласково и выжидающе.
Сауках впервые заметил, что у бабушки такие же синие
глаза, как и у него. «Значит, это у меня не от матери,
а от бабушки такие глаза»,— подумал он и хотел было
порадоваться своему открытию и сказать об этом
бабушке, но ему показалось, что стыдно сейчас ей
говорить такое. Он совсем растерялся, покраснел и сказал:
— Адзи, ты верно все говоришь. Я все сделаю, как
ты говоришь. Только умирать не радо, хорошо? И тогда
пусть погаснет мое солнце, если я все не сделаю, как ты
сказала!
Вы поглядите на этого весеннего жучка в красных
294
крапинках, что людям счастье приносит, до чего по-
взрослому все принимает к сердцу, а я-то думала,
мальчишка мальчишкой, что с него взять. И клятвы какие
уже знает! А я, старая дура, и не подумала, что такой
шуткой мальчику душу можно смутить... А глаза у
него мои, у этого ласкового и умного щенка! ..
— Знаешь ты, щенок мой, что в твои годы так
нельзя клясться? Да погаснет солнце у твоих и моих
врагов, ягодка души старой Адзи! Разве я не верю тебе
без этих клятв? Или я когда обманывала тебя? Нет,
сынок, когда люди без клятвы не верят правде своих
обещаний, значит, врут они, ложь их слова...
— Тогда я без клятвы, но все равно сделаю все, как
ты сказала...
— Ладно уж, сыночек, будет тебе. Я всегда тебе
верю. .. Лучше вот что — давай-ка слепим с тобой из
теста мальчишек и девчонок. Тогда в нашем
Пристанище Орлов много их разведется и будет тебе с кем играть
и баловаться.
— А давай на спор, кто лучше слепит,—
обрадовался Сауках и забыл о своем смущении и клятве.— Меня
мама учила из ^жирной глины, пластилин называется,
зверушек всяких лепить.— Сауках уверен, что бабушке
с ним не потягаться.
Лепят молча, каждый свое, и Сауках удивляется: до
чего же хорошо бабушка лепит своими искривленными
пальцами! Одни костяшки, а тесто к ним не прилипает,
а у него липнет к рукам и ничего не получается... Она
настоящих мальчишек и девчонок лепит, девчонки даже
с косичками!
— Ты, сынок, руки мукой посыпь, тесто не будет
прилипать, и давай теперь барашков да козликов
лепить, чтобы в нашем Пристанище Орлов всякой скотины
не сосчитать было...
«Адзи всю духовку заполнила этими хлебными
мальчиками и барашками. Зачем столько? Артхурон уже
готов, но Адзи говорит, сегодня трогать его нельзя, из
дому фарн убежит, обидится... Огонь притушила,
видно, не хочет, чтобы у барашков шерсть подпалилась...»
— Иди, сынок, пора и за стол садиться, богу
помолиться. В ночь на Новый год хорошо с богом говорить
надо, все ему выложить, и свои беды, и свои желанья.
Пусть знает, что земному человеку в жизни надо. И раз
295
он бог, то пусть все делает по справедливости... А нет,
так и упоминать его никто больше не станет, на земле
всякой кривды прорва, зачем нам еще и его
несправедливость... Поедим с тобой, сынок,— и в постель.
Добрый человек в ночь иод Новый год рано спать ложится,
тогда хорошие сны ему снятся.
«Хитрая все же Адзи. Долго с богом говорила, всех
упомянула — дочерей, сыновей, внуков, внучек,
односельчан, всех хороших людей на земле. Никого не
забыла, с Уастырджи тоже говорила, всяких благ у него
просила для земных людей. И всего-то несколько
глотков араки она выпила, а мне только пригубить дала.
Есть я, что ли, разучился? Сыт уже, а всего
несколько кусочков пирога съел... И зовет кто-то, тихо на ухо
шепчет: спать,- спать, спать... Поглядел бы, но глаза
совсем слипаются, веки тяжелые, поднять их не могу,
а руку поднести к глазам сил нет... А, это Адзи, видно,
гладит по голове, ее голос: «Сон одолел тебя, сыночек,
хоть и долго ты хорохорился! ..»
Устал, мой барашек, за день, весь вечер мне
помогал, скотину накормил, дровишек мне наколол, огонь в
печке поддерживал, с тестом возился... Уморился,
бедняга, вот и заснул за столом. Сейчас уложу тебя, сынок,
в постель, да и самой пора приклонить голову. Вот
только приберу за столом... Может, во сне еще раз
поговорю с ушедшими, живые и так надоели, каждый день
с ними вижусь, наговорились...
Перед сном надо во двор выйти, на людей поглядеть,
как они свой Новый год встречают, как им живется-
можется... Уходит старый год... Все старое должно
уходить. Видно, ничего тут не поделаешь, и горевать не
стоит. Вот и ступай, старик, прошло твое время. Как
•и мое... Здравствуй, Новый год! Наверно, ты последний
мой год, провожать тебя мне уже не придется, да
ничего. Придет день, сам скажешь мне: ступай, старуха,
твое время прошло!
Не спят еще в Пристанище Орлов. Свет горит во
всех домах. Боже, не дай на нашей земле погаснуть
свету и огню!.. Бедны мы, горцы, добром, но пожалей
землю, не дай людям покинуть ее, дай им здесь то, чего
они ищут на стороне, тогда не осиротеет наш край, не
будут уходить люди. От добра добра не ищут... Сто-
296
лько лёт тебе молилась, так хоть раз выполни просьбу
старухи!..
Нет, не опустело еще наше село, есть еще люди в
Пристанище Орлов. И в окошке Кайсынон свет горит,
они, одинокие старики, от Нового года чего-то хорошего
ждут... Караману и Цахилон праздновать самое время.
Гости ушли, а Ади и Ева со стариками остались на
Новый год. А у Сандыра все еще впереди, чего не
праздновать.
Нет, не буду тушить свет, пусть и у меня горит.
Выглянет кто из дому, увидит свет и обрадуется: жива еще
старушка, жив дом, фарн не обойдет его, жизнь не
покинет!
К коровушкам не пойду. Сауках прикрыл дверь и
пусть думает, что коза с сережками двух козочек
принесет. У него счастливая рука, фарн у него есть. Пусть
верит, что он счастливым на свет рожден и фарн
никогда не покинет его. Так ему и жить в охоту будет. И все
беды, тяготы, обиды не одолеют его. Пусть верит!
Снег идет себе, будто Новому году дорогу помягче
стелет. Белый да рассыпчатый... Бедняжка Сабе!..
Первый снег прикрыл ее могилу, ее дом в стране Ба-
растыра... Белым саваном прикрыл... Закутайся
потеплее, сестра моя, ничего другого не осталось тебе на этом
свете... И не жди ничего другого...
7
Первое утро нового года любит, чтобы люди друг
другу добра желали — много добра и сто лет жизни!
Все ждут, что доброе пожелание от чистого сердца не
минует тебя, сбудется. И верно думают, клянусь своими
покойниками. Правильно соседи делают, что в
новогоднее утро друг к другу своих детей посылают — нет чище
и добрее ребячьего сердца!
А ведь пора тебе, старая, вставать. Огонь в очаге
разведи, где тепло, там и фарн держится. Да и Черно-
ногого время будить...
— Вставай, черноногий друг Уастырджи, Новый год
давно уже пришел, а ты все спишь, хоть поздоровайся
с ним. Да и к нашим козочкам заглянуть пора.
Посмотрим, что у тебя за фарн, не обходит ли тебя счастье...
297
Мальчишке, видно, спать охота, а я старая ворона,
сама чуть свет на ногах и другим спать не даю. А что
делать, в горах рано не встанешь, день проворонишь.
Пусть учится с малых лет горской жизни, знает, как это
трудно, а испугается,— значит, не судьба ему в горах
жить... Тут и привычные ко всему сбегают, как же он
выдержит? ..
«Чего это Адзи меня затемно с кровати гонит, вроде
бы торопиться незачем?.. А-а, вспомнил! Вчера, когда
еще старый год был, я в хлеву дверь запирал, а в новом
году я же должен ее открыть... Адзи, видно, не
терпится козочек поглядеть, а дверь ей открывать нельзя.
Придется вставать. А куда я свои брюки сложил, не помню.
А-а, какие они теплые! Адзи их нагрела у печки.
Хорошая у меня Адзи!..»
— Доброе у тебя сердце, сынок, счастливый ты,
ослик! Я так и думала, но не ждала, что такой фарн
у тебя. Ты только погляди, каких козлят подарила тебе
эта сергастая! Не козлята, а прямо туры-двухлетки!
И это еще не все, сынок, суягна-замухрышка и та
козочку белую с черными чулками принесла. Вот какой ты
у меня, черноногий да счастливый ослик!..
— Адзи, это же знаешь отчего так получилось? Ты
же сама говоришь, кто добро делает, к тому добро само
пристает. Подарили Цамелу козочку, вот и суягна нам
взамен дала другую. А правда, почему бы мне
удачливым не быть? Потому, может, что я черноногий?
— Вижу, как ты радуешься. Лицо у тебя светится,
как золотой рубль в артхуроне.
— Мне, Адзи, и вправду радостно. Пойду ко всем
соседям — поздравлять с Новым годом. После этого и
им тоже удача будет во всем. Ты же научила меня
говорить: «Да будут все ваши дни в новом году счастливы
и радостны! Да будет у вас столько удач, сколько волос
у меня на голове!» Что, не так разве?
— Все правильно, сынок, а теперь скорее, бегом — в
хлев,— сказала Дочь Бату и взяла в руки подойник и
вышла из дома. Сауках — за ней.
— Адзи, пока ты коров будешь доить да подметать,
я к сеновалу тропинку пробью, снегу навалило —г
выше гор!
— Так уж и выше? Убавь немного, сынок,—
улыбнулась Дочь Бату, поглаживая вымя коровы.
298
— Ну, убавлю, а меньше не станет. Ты же мне
говорила, что у нас в горах снег такой большой бывает, что
если воробышек кверху лапками ляжет, так до самого
неба дотянется... Вот такой снег и выпал и к сеновалу
тропку завалил,— сказал Сауках.
У Саукаха уже деревянная лопата в правой руке.
Бабушка ей ручку обрубила, и мальчику удобно снег
отбрасывать.
— Ладно, раз такое дело, очищай тропинку, в
плетенку сена набросай.
Хорошее утро выпало на наше счастье. Первое утро
нового года. Вот мальчишку накормлю, и пусть бежит
к соседям, обходит их и поздравляет.
— Адзи, будем артхурон делить или рало еще?
— А чего торопиться, сынок? Молока кружку выпей,
пирога кусок съешь. Артхурон никуда не убежит,
безногий он получился.
— Молока не хочу, я уже не маленький барашек.
Пирога поесть могу, молочную болтушку тоже можно.
А к обеду давай артхурон разрежем, чего ждать да
медлить? Не коза же он, двойню не принесет, правда?
— Будь по-твоему, сынок, только садись за стол и
кушай. А потом — к Цамелу. Добра им пожелай,
знаешь же, что сказать надо.
— Знаю, знаю! Сколько на моей голове волос...—
басовито начал свои пожелания Сауках.
— Правильно. А если еще что добавишь, тоже
неплохо. Картофельный пирог не помаслишь, так в горло
не протолкнешь...
— Э-эй, хозяева! Гостя примете или мне
возвращаться домой? — звонко закричал у двери Цамел.
— Заходи, заходи, Цамел, сынок мой! — Дочь Бату
заулыбалась взрослой речи мальчика. Видать, отец
научил.— Заходи! Ратаний гость фарн приносит в дом!
И чего это слезы у меня на глазах? Или от радости
тоже плачут? Видно, так, много ли старому сердцу
нужно. Вот зашел мальчик в новогоднее утро — и будто
солнышко в мой дом заглянуло. Давно этого не было в
нашем селе. Как же не радоваться-то? ..
Складно говорит Цамел свои пожелания, в одной
руке шапку держит, в другой — пучок сена. Упомянул не
только свои волосы, а еще пожелал столько удач,
сколько в пучке сена травинок. «А если есть пожелания луч-
239
ше моих, пусть и они сбудутся на радость и счастье
этому дому!»
— Спасибо, сынок, большое спасибо. Шапку и сено
положи на тахту, к столу садись, как со всеми за руку
поздороваешься. Садись и говори, вижу, что-то еще
хочешь» мне сказать, сынок.
— Цамел-министр, скажи, все .эти пожелания ты
сам придумал или, может, кто тебе помогал? — с
усмешкой спрашивает Сауках. Обидно ему, Цамел
опередил. Можно подумать,' что он, Сауках, таких слов не
знает или не умеет так же складно их в чужом доме
сказать.
— Все сам придумал, а что отец немного помог, это
не считается,— улыбается Цамел и жмет руку своему
Другу, будто взрослый.
— Молодец ты, Цамел, большой молодец! А теперь
за еду пора. Не стесняйтесь. А там на весь день
свободны, гуляйте, где вам хочется.
— Мне нельзя, Дочь Бату,—• серьезно и грустно
говорит Цамел.— Отец наказывал: дома сиди, с матерью
побудь, а я к дохтуру поеду... Вот я и пришел просить:
отпусти со мной Саукаха, вместе побудем. Как я весь
день один усижу с матерью? ..
— А мать что, заболела, что ли?
И чего я, глупая, мальчика спрашиваю! Видно, Быце-
нон рожать пора, вот и уехал Сандыр за дохтуром.
— А как же не больная, ночью она родила!
— Ослик ты лопоухий, а чего же ты до сих пор
молчал? Растянул свои благопожелания на целую версту,
будто Цола тебя тост говорить учил, а самое важное
и не сказал, пока сама не пристала.
Мальчику весело, что разозлил самую главную
бабушку в селе.
— А я и еще могу сказать, только ты меня не
слушаешь.
— Говори, как это не слушаю?
— Так вот, слушай: родился мальчик и еще один
мальчик.
¦— Как это — еще?
— А так, мальчик и еще один мальчик! .
— Двойняшки, что ли?
— Этого я не знаю. Только говорили дохтуры, что
два мальчика родились.
300
— Вот ты какой вестник! Воистину вестник добра
и радости, ослик лопоухий! Дочь Бату за такую весть
дает тебе козу с серьгами и двух козликов. Она тоже
двойняшек принесла, и быть ей в вашем доме! Твоим
братикам — молока бутылка, а тебе — два козленка,
мой хороший ослик!
«Обнимает и целует Адзи Цамела-министра, будто
он этих мальчиков народил! Тогда и меня обнимать
следует, что коза наша двух козлят принесла. Я козам сена
давал, на водопой их гонял, а что Цамел сделал? ..
Адзи длинные тосты говорит о братиках Цамела, всякого
добра им насулила. Нас по глоточку араки отпить
просит. .. Вчера за Новый год только глоток сделала, а тут
весь рог выпила... Развеселилась что-то моя
бабушка! ..»
— Цамел, а Цамел, как зовут-то твоих братиков?
— Не знаю, Дочь Бату, но дохтурша говорила, что
эти мальчики из рода нартских молодцов и надо их
звать Ахсар и Ахсартаг.
— А что, они и в самом деле нартские молодцы?
Чего это я мальчика разыгрываю, выпила, вот и
разболталась.
— А кто их знает? В тряпочки завернуты, лежат и
визжат, как слепые щенята. Когда наша Длинноухая
ощенилась, ее щенки так же визжали, когда она из-под
балкона сыворотки полакать вылезала...
— Вот тебе моя рука, Цамел, твои братья точно из
рода нартов. Раз дохтурша так определила, пусть будут
Ахсар и Ахсартаг. И спасибо ей, что такие хорошие
имена им дала!
А теперь вот что, молодцы нартские, вы ешьте, а я
молока вскипячу. Для роженицы это неплохо, а еще
лучше солодовая похлебка. Но солодовой муки у меня
нет под руками, а молоко есть. Чем ты богат, спросили
человека. И он ответил: тем и богат, что у меня на
руках имеется. Вот так и мы, Цамел, сынок мой. Я-то
знаю, чем роженицу кормить следует. Ничего, не
последний день живем, успеем еще угодить твоей матери.
Когда в селе рождаются мальчики, то и старики дольше
живут. Два дня, как бога просила: отпусти меня к
моему старику, а теперь не хочу, нет! Мне еще с Ахсаром
и Ахсартагом поговорить и поиграть надо. Вот так,
молодцы!
301
Удивительный человек этот Цамел-министр... Как
родились у него братья, так заносчивый стал. А до того
всегда меня слушался, в рот глядел, что скажу. А
теперь и с Адзи говорит, как будто он ей ровесник. Ты
только погляди на него! ..
— Мы теперь в другой дом переселились, я и отец.
Прежний дом оставили матери и моим новым братьям.
Отец говорит, что туда нельзя входить. Женщинам
можно, говорит, а мужчинам нельзя.
— Ас матерью у вас раздел, что ли? — шутит
бабушка, а Цамел все всерьез принимает, вот глупыш...
— Не раздел, но отец говорит, что они из рода Бы-
ценовых...
— Это, сынок мой, как сказать. Твой отец что-то
поглупел, раз такое говорит. Видно, от радости...
А мальчики наши, хотя почему наши? .. Хорошие люди
вырастут, так всем будут как сыновья, а дурной
человек — он и самому себе во зло все делает, и не только
чужие, свои его за версту обходят... Так что, сынок,—
Адзи со своих сапог снег отряхнула и нас остановила,—
вам, мужчинам,— в новый дом, а я, старая старуха,
пойду в старый. Там теплее моим старым костям.
— Адзи, а может, и нам с тобой идти, а? Мы мешать
не будем. Погреемся у печки...
— И то правда. Идемте со мной. Вам можно. Это
старым мужчинам нельзя, а вы еще молодые нарты,—
согласилась Адзи, и мы за ней, как козлята за маткой,
увязались. С ней не страшно.
Ади и Ева раньше нас пришли. Сидят у кровати
больной и о чем-то говорят, а может, гостинцев каких
принесли... Быценон говорит, что Сандыр за дохтуром
поехал да за лекарствами. А теперь Адзи села поближе
к Быценон, она здесь самая главная, а не Ади и Ева...
О чем говорят, мне не слышно, но, видно, о
мальчиках. .. Адзи копается в одеяльцах мальчиков и смотрит
на них... Нам, наверно, нельзя. Адзи бы показала, если
бы было можно. «Дурной глаз да обходит вас, мои
мальчики...» Это что, новогоднее пожелание
маленьким? . .Чего только не придумает Адзи! Дурной глаз!..
А почему он дурной? Плохо видит или криво смотрит?
Такого глаза нет ни у кого в нашем селе. Все она
вокруг Быценон вертится, горячим молоком с ложки поит.
302
Лучше бы у печки погрелась, с утра на холоде, а Быце-
нон в теплой постели лежит...
— Ади, моя красавица, у тебя нет еще на примете
женишка, хоть самого разникудышного?.. А у тебя,
Ева?.. Время уже, доченьки, время. В ваши годы Цахи-
лон имела уже троих мальчиков, вашему отцу пять лет
было...— Адзи опять за свои расспросы взялась, любит
спрашивать да выпытывать, потому ее Сандыр, видно,
прокурором зовет...
— А мы, Дочь Бату, замуж и не собираемся,— тихо
говорит Ади. Глаза опустила, видно, что притворяется.
Будто Адзи не поймет... Она у меня такая — в глаза
тебе глядит, а видит, что у тебя за спиной в кулаке
спрятано. Как может Ади обмануть мою Адзи? — Вот
моя сестра в монахини собирается, а как я ее одну
отпущу? Мы и родились вместе, в материнской утробе бок
о бок лежали...
— Не по нраву мне такие шуточки, дочка,—
насупила брови Адзи.— А кто будет детей рожать? В нашем
роду ни монахинь, ни яловых женщин не бывало.
Выходи замуж и кучу детишек чтоб народила! Понятно, моя
языкастая стрекоза? Во всем ты виновата. Не будь ты
такой норовистой козой, Ева бы давно замуж вышла,
она у нас тихая и послушная...
Ади, видно, сдалась, подбежала к Адзи и обняла ее.
Знает стрекоза, что у Адзи добрая душа и ругает-то она
просто так...
— Согласна, слушаюсь, Дочь Бату! Весной кончу
институт и выйду замуж, но вот мое условие: ты, Дочь
Бату, должна быть на моей свадьбе самым главным
тамадой. Приедешь с Кара и Цахилон и будешь
командовать парадом — вот так! А не приедешь, так никакой
свадьбы и не будет. Я хочу сказать: муж-то у меня
будет, а детей — ни одного! — смеется Ади и обнимает
Адзи, будто она не моя, а ее бабушка.
— Ах ты, чертовка из тихого болота! Конечно,
трудно ли ученой женщине детей не рожать? Мало, что ли,
таких в городах! И ты так хочешь? Придется, видно,
тебе мягкие места крапивой погладить!—Адзи
похлопала ее по спине...— Только ничего у тебя не выйдет,
круп у тебя как у кобылицы-трехлетки! .. Так что
выбирай себе жениха покрепче, молодец чтобы собой был,
а нет, так у него дело не выгорит...
303
— Ай, Дочь Бату, не стыдно такие слова
говорить? — застеснялась Ева.
А что, правду Адзи говорит, здоровые да гладкие
внучки у Карамаиа.
— Чего стыдиться-то, дочка, хорошие слова говорю.
Не люблю яловых ни женщин, ни коров, ни кобылиц.
Положено тебе рожать, так не крути хвостом, рожай.
Сопливых мужчин тоже не люблю. Сподобил тебя бог
мужчиной быть, так будь настоящим мужчиной. Не
бойся и с Уастырджи в деле потягаться. А женщиной
уродилась, так рожай не меньше пяти ребят. В институтах
любите пятерки получать. Отличники! Рожай побольше
ребят, вот тогда ты и будешь отличница, а так, чтобы на
бумажке было написано, что Ади — отличница, это ни
к чему!..
— На все согласна, Дочь Бату. И бумажка у меня
будет, и муж молодец. А на свадьбе моей быть тебе
тамадой, хорошо?
— А я-то старалась, думаю, отвлеку, забудет. А ты
хитрее меня оказалась... Ладно, приеду на свадьбу и
тамадой согласна быть. Вот только одно условие...
Дотяну ли я до твоей свадьбы, дочка?.. Что ж, не дотяну,
так ты приходи проводить старушку в дальний путь и не
забудь помянуть аракой. Как-никак, а я тебя нянчила,
когда ты еще под себя мочилась, козявка...
— Это ты брось, Адзи! Тебе еще рановато туда, а
придет время, держать не будем, нарядим тебя, и езжай
на самом лучшем коне. Но это, когда надоест нам
видеть и слушать тебя, Дочь Бату. Когда на ногах не
будешь стоять, тост не сможешь сказать... А раньше мы
тебя туда не отпустим.
— В таком разе мне спешить некуда, дочка,
остаюсь. Но в случае чего — приезжайте и похороните по-
людски. По чести надо не только жить, доченька, но
и умирать, и своих покойников хоронить...
— Не думай, Адзи, что мы из другого теста, что ни
чести, ни обычаев не знаем.
«Адзи замолчала. Думает о чем-то. И кто знает, о
чем она думает. Видно, не хочет никому об этом
говорить. Мы-то знаем, что Адзи молчать не любит...
Спросить бы ее, но все равно не скажет...» —
размышляла Ади.
.. .Да ничего я о вас дурного не думаю, дочка. С чего
304
бы вам быть недостойными? Вы живете так, как нам
и не снилось... Все у вас наготове, а мы из-за каждого
куска хлеба надрывались... К роженице вот два дохту-
ра пришли на помощь, одна из них каждый день за ней
будет ходить, пока на ноги не встанет...
Я своего второго мальчика на жатве родила...
Полоску ячменя жала, и приспичило рожать. Идти никуда
не могу, и крикнуть некому. Цахйлон со свекрухой
недалеко от меня жали, но кричать было стыдно, между
нами отец Карамана шесты для крестцов обтачивал, а
мне по обычаю нельзя было с ним разговаривать... Вот
и молчала и корчилась в муках... Хорошо, умный был
старик и, видно, догадался, что со мной что-то неладное
творится, жену и сноху ко мне послал, помогли...
А Быценон родила в теплой постели, дохтуры роды
принимали. .. Чего еще надо? .. И рожать легче, и детей в
люди выводить. А нам каждый ребенок в горе и муках
доставался... Может, оттого нам так горько без них
жить на старости лет... Глупый мы народ, видно.
Думаем, и они нас любят по-прежнему, а время уже другое,
и, видно, любят по-другому, а мы не понимаем...
Наверно, так и есть, но как сердцу прикажешь это
понять? .. Вот мой сын, пришлет в кой-то раз письмецо,
дам прочитать кому грамотному и слышу: все о своем
мальчике спрашивает, как да что, обо мне если и
вспомнит, так под самый конец, неудобно же о матери совсем
забыть!.. А по чести, так спрашивать надо старушку,
она, что ни день, к смерти ближе, в могилу смотрит во
все глаза... Нет, не догадается хоть словом сердце мне
успокоить... А не было его детей со мной, так и вовсе
не писал, приезжал только и.ное лето. А я людям
правды не говорила, стыдно же свое дитя на людях
поносить. Скрывала, говорила, мол, и пишет, и денег кучу
присылает, девать некуда.
Как первый мальчик у него родился, так я от
радости плакала, на свете счастливей меня никого не
было. Тряпочек всяких накупила для малыша, пеленочек,
распашоночек всяких нашила, а приехал сын и высмеял,
старую мать, кто, мол, в такую пестроту нынче ребенка
своего одевает? .. Глиняную трубочку, мальчику писать
чтобы было куда, вычистила, вымыла, а сын говорит,
это, мол, что за чубук дедовский, мой мальчик курить
еще не научился!.. Хохочет, будто я глупая совсем.
*1 Н. Джусойты
305
А может, так и надо. Чего с детьми носиться да
бояться за каждый их шаг по этой большой земле? .. Не
хватит человека на все... Но я же так не могу, не
привыкла, не умею... Бог им судья, а мне уже поздно по-
•ихнему думать и жить, другое у меня сердце, и как его
переделаешь... Рождаются дети, и ладно, а как там
своих отцов и матерей любить будут, им самим решать.
Мне же ничего не надо, лишь бы по родной земле дети
босиком бегали, как у меня по сердцу, и я довольна
жизнью, много ли ее осталось. '..
8
Опять снег пошел... Небо, что ли, прохудилось,
снегопад за снегопадом... Такого снега со времен большой
войны не было... Не к беде ли? Лавины снежные
пойдут, людей погубить могут... И уж такой чистый-
чистый, а может, это мне так кажется? Глаза подводить
стали. В ранние годы и в темноте, что кошка, все
видела. Что-то онег мне кажется необычно белым...
И не только глаза, вроде все у меня не так...
Раньше худо ли, хорошо ли жилось, а спала как убитая.
А теперь сны одолели... Что ни ночь, покойники снятся,
просыпаюсь в поту, и до утра глаз не сомкнуть. А
раньше, если что и снилось, к утру начисто забывала. Нынче
бояться их стала, этих снов... Старый человек что
малое дитя, всего боится. Дурацких снов боюсь...
Сердце трусливо стало, вот что, и голова никуда не
годная. Раз кости каждый день ноют да болят, какое
у человека житье?.. Оиди теперь до утреннего света
одна, что ворона на шесте копны, да слушай, как у тебя
там болит, тут ноет!.. Тьфу!..
И чего эти покойники каждую ночь ко мне
повадились, ума не приложу. Зовут к себе, так бери, долго ли
старуху одолеть. А так — что дурные гости, домой пора,
домой пора, твердят, а не уйдут, пока им последнюю
щепоть муки на пироги не замесишь. И к себе не берут,
и жить не дают, мучают.меня. Видно, хотят, чтобы
напоследок жизнь мне опротивела... Нет, видно, на свете
никакого бога, хоть и всю жизнь ему молилась. Будь он
на свете, на земле бы не было несправедливости, злого
умысла, грешного дела. Какой он бог, раз правды от
кривды отличить не может...
306
Хорошо, что Черноногого с Цамелом оставила у Сан-
дыра ночевать. И он бы проснулся и мучился со мной
заодно. Уже два раза промаялся со мной с полуночи до
света. Видно, боится, что помру, и оттого плохо спать
стал. Ребенок еще, а слаще сна для ребячьей души нет
ничего, жалко его.
Встать придется все же, не смогу до утра вот так
в потолок глядеть да дурные мысли перебирать.
Придется повернуться на левый бок, на правую руку налечь,
иначе не встать. На мне будто живого места не
осталось, все болит, рукой пошевелить и то охоты нет. Что
делать? Эх, старуха, распустилась ты что-то. А я к тебе
в няньки не нанималась, слушай меня, раз живая и в
своем уме...
Это что еще такое? .. В глазах потемнело, сердце
захолонуло... Зря, видно, с постели вылезла, что-то я
сама не своя. Нет, для жизни непригодная стала,
помирать пора, пока обузой для детей не обернулась моя
жизнь. И без меня небось им не сладко и не гладко
живется, а тут еще со мной, со старой развалиной,
возиться. Нет, не хочу такой жизни...
Нам-то, может, легче и слаще жилось. У нас одна
печаль была — детей чем накормить. А сыты дети, хлеб
насущный у бога не приходится просить, так и счастлив
человек.
А нынче о хлебе и не думает никто, но, видно, не
одним хлебом жив человек. Для горя и печали у них,
может, больше нашего причины есть, кто знает? Будь не
так, чего бы нынче люди больно рамо стареть стали?
Хлеба и одежи у них сколько хочешь, но, видно, всякие
другие печали им сердце теснят, покоя не дают, а что
и почему, не понять старым людям... Глядишь, молодой
еще человек, а волос на темени — что на курином яйце,
а остались на краешке, так все седые. Разве в
жениховские-то годы спроста так бывает? Без горя и муки
сердечной? Ни за что не поверю.
И болезни какие-то новые на свете развелись, в
наше время и слыхом не слыхать было о таких... Нет,
покойники мои милые, вы о них не знали. Болезни, что
вас сводили в могилу, в наше время любой дохтур
вылечит. А что, как сердце разрывается? Или лишней
кровью мозг в голове зальет? Или рак человека поедом
307
ест, что тогда делать? Тут и самый лучший дохтур,
самый что ни на есть профисор, и то не может помочь...
Э-э, куда меня занесло, с покойниками речь завела.
Худо дело, моих покойников словами не выпроводишь,
угостить придется... Ладно уж, чем богаты, тем и
попотчуем, не обессудят. Картофельный пирог есть еще,
сыра кусочки, арака в длинношеем кувшине,
свежепеченые хлебцы, масло топленое в миске осталось. Чего им
еще? Ничего не припрятала,, обижаться им нечего...
— Мир вам всем, кто знает меня в той стране!
Пребудьте в светлом раю!.. Отец и мать, сестры и братья
мои, отец моих детей и вы — веточки моего сердца, мои
ненаглядные солдаты, мои солнца незакатные, женихи
неженатые, ничего м«е не жаль для вас, но ничего
другого нет, не обессудьте старую мать. Горе ей, что
раньше вас не смогла умереть... Все, что у меня на столе,
пусть перед вами вечно пребудет... Для вас и сердце не
жаль отдать, да на стол его не выложишь... Не
обессудьте, сыночки мои...
Подойди, козленочек мой, подойди, вот хлеба кус
для твоих белых жевалок. Вечером, когда из хлева тебя
к печке погреться принесла, так к подолу привязался,
а теперь не признаешь? Будешь такой привередливый,
так прирежу тебя, когда сынок мой из Сибири приедет.
Он козлятину любит... Надо бы телеграмму дать ему,
чтобы приехал, что-то неладно со мной, то к мертвым
податься собираюсь, то к живым норовлю вернуться.
Боюсь, не дотяну до лета, сыночка не увижу перед
смертью. Но жалко его от работы, да в такое лютое время,
отрывать...
Удивительные люди пошли. Сын мой может у себя
дома утром чай выпить, а вечером быть здесь, у меня
поужинать. А вот выбрать в году два-три дня и мать
проведать времени нет. А хвастаются! Мы на волах
ездили, а они самолетом летают, во всем обогнали нас,
аробщиков да быков погонщиков. На луну слетать есть
время, а мать повидать некогда. Вот и поговори с ними,
мудрецами!..
Прости меня, Сабе, тебя не вспомнила. Да не
обойдет тебя ни одно благо на том свете!.. И не руга-й меня,
скоро и я там буду. На твоих поминках слышала, как
парни шутили: «Дочь Бату так жалобно плачет, будто
им уже вовек не свидеться, а сама и сорокового поми-
308
нального дня не дождется, побежит к ней на
свидание. ..» Так, видно, и будет, Сабе.
И хорошо, что так, здесь мне нечего больше делать,
никому я больше не в помощь. Вот разве Сауках еще
в моем присмотре да ласке нуждается, остальные давно
позабыли старую Дочь Бату...
Жалко его, горевать будет по своей бабушке, да
ничего, детская печаль быстро забывается. Мать
приласкает, так обо мне и не вспомнит. А вспомнит, так для
него же лучше,— значит, сердце ласковое да
памятливое. .. Хороший он у меня мальчик!..
Поглядеть, что ли, на свет божий? Снег что-то все
•идет и идет, как бы по самые крыши не завалил нас.
Вот тогда и вправду воробей лапками до неба
достанет. .. А тишина какая!.. Наверно, в стране Барастыра
вот так же тихо, собака не залает и человек не
крикнет. .. Как бы хорошо, если бы и на сердце, хоть два-три
дня в году, такая же была тишина, без тревог и забот,
без обид и печали... Но где там, в суете и заботах, как
овца в шерсти, вся наша жизнь... А тишина прямо
удивительная. Крикнешь, так, наверно, до Христовой
вершины слышно будет.
А сын меня в город звал, будто я смогу этот их
железный рев, этот шум день-деньской слышать. Они,
наверно, привыкли. Как в омут, с головой окунулись.
А мне не вынести. Может, им без этого рева и жить
скучно. Видела я там, как молодые косматые парни с
поющими коробками — трудное какое-то название у
них, не запомнила — по улицам бродят, а коробки орут
на всю округу. Видно, им это в забаву. А я разве
привыкну? У меня душа от этого шума болит, а они с собой
его носят, как еду в хурджине на дорогу... Захотят
песню послушать — себя не утруждают, заведут свои
коробки, и поют им со всех концов земли.
Может, прежние люди потому и любили петь, что им
от тишины страшно было. Надоедает ведь человеку и
тишина, вот он и поет, себя тешит. Правда, пели,
бывало,— заслушаешься. Иной беззубый старик так затянет
«Уастырджи», будто у него в горле дюжина свирелей
спрятана. А как пели в сенокос!.. Усталые,
намаявшиеся за долгий летний день косари запоют на откосе, и
ущелье им подпевает, а на душе так хорошо, что всю
усталость забываешь. Нет, такого уже не будет никогда.
309
Это вместе с нами уйдет в страну мертвых. Видно, так
тому быть...
Залаял пес Сандыра, и нет уже тишины... Пойду,
может, полежу, и голове полегчает. Или печку растоплю
и до утра свяжу сыну теплую рубашку. Там, в его
Сибири, говорят, очень уж морозно, а вязать осталось не так
уж много... Козленок что-то не спит, может, и ему хо-
лодно, печь растопить надо.
Вот и настал мой черный день!.. Нагибаться не надо
было, чертова печка подвела..'. Совсем ослепла, темно
как в могиле, видно, дорогой Сабе пошла. Хоть бы до
постели добраться; если бы смогла встать, по стене бы
до кровати добрела... Встань, встань, Дочь Бату!.,
Хоть на четвереньках, но до постели надо дотянуть!.,
Позор какой, вот так помереть... А земляной пол
холодный и к себе тянет. Может, лучше, что на пол упала,
может, успокоит больную голову, к утру встать смогу...
Нет, видно, вот так помру у печки. Зря мальчика
у Сандыра оставила, позвал бы кого, может, помогли
бы. Крикнуть нет сил, да и кто услышит меня?.. Хоть
бы до утра дожить, в город бы повезли, а там и
помереть можно, а так детей моих всю жизнь стыдить будут,
что у них мать без призора померла... Злой язык чем
только не попрекнет...
Трудно будет сыну из далекой Сибири добраться, да
и здесь в горах все дороги снегом завалило, и рубашку
теплую не успела связать. А я думала, дотяну до осени,
сына повидаю, дом ему передам... Вот так всегда
получается. .. Слаб человек, все живет да примеривает: это
основа, это уток, а получается сущая паутина, налетит
ветер и все разбросает... Для сы-на старалась, хоть чем-
то да помочь, будто он в моем нуждается.
Вот и отжила я свое, теперь я свободна, срам
живущих мертвых не позорит... Жаль, на свадьбе у Ади не
побуду. Быценон я хотела кое-что оставить. Может,
когда покойницу добром помянет, да не успела... Корыто
у меня хорошее, сито мелкое, у нее такого нет,
чесалку... А теперь, как приедут дочери, ничего ей не дадут,
не такие они, чтобы добром своим людей зазря
одаривать. .. А меня одна Быценон и поддерживала,
-услужливая она, добрая. И первая придет оплакивать
старуху. Но что я могу сделать?
Сына жалею больше всех, очень уж далеко ему
ЗЮ
ехать, а без него не станут меня хоронить. Да и сам он
не оставит меня, все же мать одна у него. Да и
мальчика забирать надо будет. Дорога дальняя. А у меня всего
наготовлено, и арака и мука на хлебы, есть и что на
поминки зарезать... Не думала, что вот так помру, хоть
и готовилась, не век же мне жить. А пришла смерть, так
•и жалко помирать... И чего не идут мои покойники,
самое время повести старуху к себе, но не видно что-то
их, а живая была, покою не давали. Теперь одну
оставили. Всем помирать в одиночку приходится. Это пока
живы люди, один другому в помощь, друг к другу
ластятся, как деревья на одном бугорке растут, а со смертью,
видно, всем один на один счеты сводить... Хоть бы
детей напоследок повидать, но где уж, отстучали мои
ходики. И Сауках не спас; наверно, спит мое солнышко
и не думает, что Адзи ушла от него. Ничего, мой черно-
ногий сыночек, не плачь, пройдет твоя печаль, как снег
по весне растает, и живи, веточка моего сердца, живи!
Так надо!..
Всю ночь шел снег. А к утру снегопад кончился,
солнце взошло, как обычно, и холодные рассветные лучи
затрепетали на снегу. Горы однообразно красивы, но
какие-то неживые, беззвучные. В Пристанище Орлов
из-под снега выбились четыре дыма и потянулись к
ясному небу, будто из белой шерстяной кудели кто-то
потянул серые ниточки.
Сауках и Цамел протоптали тропинку во двор
Дочери Бату и удивились, что никто не выходил из дома,
хотя уже было позднее утро, люди уже покорм-или
скотину и готовились сами завтракать. Сауках
встревожился, не заболела ли Адзи? Но вчера она была здоровая
и веселая. Знал бы, ни за что бы не остался ночевать
у Сандыра...
Сауках подошел к двери и постучался. Позвать Адзи
не осмелился — а вдруг никто не ответит, что тогда
делать? Но пришлось все же позвать:
— Адзи, это я, открой дверь, пора скотину
кормить! ..
Никто не отозвался, и Сауках поежился, ему стало
холодно и как-то не по себе. Поднял, что случилось что-
то страшное, но не.хотелось верить, ему казалось, что
ЗЦ
есть еще какая-то надежда и не может быть, чтобы так
просто случилось то страпиное, о чем так часто и по
всякому поводу говорила Адзи. Он стоял, не зная, что
делать дальше, оглянуться на Цамела не смел — а
вдруг он подтвердит его догадку и никакой надежды не
останется. А Цамел, видно, тоже догадался, о чем
думает его друг, и растерянно стоял в снегу по колено, боясь
даже вытащить из снега неудобно поставленную ногу.
Сауках решил подкатить к окну большой буковый
чурбак, на котором он колол дрова, и поглядеть в окно:
может, Адзи спит и не слышит его? И если бы Адзи
лежала в постели, он так бы и подумал, и прошел бы
его страх, и оставалась бы надежда, хотя бы на то
время, пока он не уверился, что Адзи встать и открыть
дверь своему Черноногому уже не может.
Сауках молча, один, так и не оглянувшись на
Цамела, подкатил к окну толстый круглый чурбак, ке*м-то
отпиленный от бревна, чтобы старушке можно было
сидеть на нем и греться на солнце. Он взобрался на него,
заглянул в окно и увидел: у печки на земляном полу
ничком лежит Адзи, руки вытянуты к постели, правой
щекой прижалась она к холодной земле. Виден был ему
открытый глаз Адзи, но какой-то неживой, застылый.
— Адзи! — закричал Сауках то ли от страха, то ли
в надежде, что откликнется Адзи, хоть глазом моргнет,
но Адзи лежала все так же, и глаз ее смотрел куда-то;
зачем и куда, Саукаху было не понять. Белый козленок
вскочил с лайки на широкий подоконник и жалобно
заблеял, глядя на мальчика, который любил с ним играть,
а теперь почему-то не обращал на него внимания. Голос
козленка стих, и Сауках услышал — или это ему
показалось,— как нестерпимо громко тикают ходики на
стене...
И Сауках понял, что глупо еще на что-то надеяться.
Слезы душили его, но не 'хотелось ему плакать в голос
при Цамеле. Тяжело спрыгнул он с чурбака. Так и не
повернувшись лицом к Цамелу, попросил его плачущим
голосом:
— Цамел, скажи Сандыру, пусть идет сюда. Что-то
случилось с Дочерью Бату...
Сауках еще держался, пока Цамел не вышел за
ворота, а потом заплакал навзрыд. Пока он был один на
один со своим горем, он плакал по-мальчишески вза-
312
хлеб, неутешно, уткнувшись лицом в холодные ладошки.
Прибегут люди, ему уже нельзя будет плакать — он
единственный мужчина в доме Дочери Бату. Он всегда
помнил, что дал обещание Адзи не покидать отчий дом,
не дать погаснуть огню в очаге. Он не думал о том, для
чего это нужно было Адзи и трудно ли выполнимо такое
обещание, но помнил о нем, а скоро ли забудет, кто
знает. Одно он понимал: он, Сауках, единственный
мужчина в доме, и, пока отец не приедет, он обязан
держаться как мужчина и не хныкать.
Прибежали люди Пристанища Орлов. Стали плакать
и выть в голос старухи. Сауках молча и горестно стоял
у ворот. Свое заплаканное лицо он растер снегом, потом
рукавом досуха вытер его, и никто не мог догадаться,
что еще и часу не прошло, как он плакал горько и
неутешно. Теперь он молча подавал руку приходящим
и по-мужски выслушивал соболезнования. Только в
ответ не говорил ни слова, понимая, что это неприлично
ему, мальчику в глазах старших, хоть он и
единственный мужчина в доме Дочери Бату.
К вечеру старушки села обмыли Дочь Бату, одели во
все новое, уложили на тахту и сели вокруг. Причитанья
Кайсынон были такие жалобные и сердечные, что
Сауках не в силах был удержать слез и часто выходил за
порог выплакаться и вытереть лицо. Но его неудержимо
тянуло взглянуть опять на лицо Адзи. Возвращался,
садился в конце лавки, у самых дверей, чтобы никто его
не замечал и не жалел. Он скорбно глядел на спокойное
лицо Адзи и глотал слезы, пока хватало сил не
зарыдать, а потом опять выходил во двор — там пока никого
не было и никто не мог видеть его слезы.
А ночью опять пошел снег, рассыпчатый, будто
кукурузная мука. А может быть, это белая душа Дочери
Бату стремилась к земле? К земле, которую она так
любила, на которой все свои долгие годы жила верой:
нет милее той стороны, где пупок резан.
1969
ПЕСНЬ В ДВА ГОЛОСА
Разве у тебя никогда не
бывает такого ощущения,
будто ты не один, в тебе,
в твоей одной-единственной
шкуре живут два человека,
как матрешка в матрешке?
Один — ты сам, какой ты
есть в свои седые годы,
другой — маленький человечек,
каким ты помнишь себя в
детстве. Он похож на тебя,
но ты знаешь, он совсем другой человек. Таким тебе
уже не быть никогда. Но он живет в тебе, как мелодия
простой и короткой, на один выдох, песенки, давно
забытой и все еще звучащей там, в глубине души, на
донышке сердца.
Ты не можешь ее вспомнить и выразить, но
слышишь всегда, даже в той разноголосице чувств,
желаний, дум, стремлений, которая не дает покоя тебе,
повидавшему жизнь человеку. Слышишь, как голос самого
робкого и неопытного певца в хоре, в котором ты
запевала. Слышишь, когда хор гремит, а этот певец —
несмелый и будто сторонний — не поет, только
мучительно шезелит губами. Слышишь и в те часы, когда
молчит весь хор и ты остаешься с этим певцом один на
один — петь в два голоса. И ты знаешь, этого
подголоска не забыть тебе до смертного часа. И если он
молчит, тебе кажется, что ты фальшивишь, что надо
замолчать, не петь, пока вновь не наберет силы этот
негромкий, едва уловимый голос.
А разве не выпадает в твоей жизни такой час, когда
неясная тоска, беспричинная печаль теснят твое сердце?
Не находишь себе места, ничего тебе не мило, ни о
чем — ни о пустяковом, ни о важном — не можешь
думать. Но вдруг находит на тебя ясность—мысль,
взмахнув крылами, стремительной ласточкой,
застигнутой дождем, летит в свое гнездо — в край детства, к
тому маленькому человечку, которого ты покинул там
314
в далекие годы. Разве не приходит такой день, когда ты,
решительно махнув на все рукой — и на важные дела,
и на срочную писанину, и на встречи с друзьями, и на
книги, пусть самые распрекрасные,— едешь, летишь,
идешь в край детства, на встречу с самим собой?
В сущности, ты знаешь, что не застанешь там
оставленного тобой маленького человечка. Знаешь, что
встреча с ним не принесет тебе облегчения. Ты знаешь о нем
все, а он не знает и уже не поймет тебя. Очарование
•и горечь, отрада и печаль, минутное забвение и едкий
непокой души — не жди ничего другого. Знаешь, что
край детства давно уже не прежний. И ты не увидишь
той красы, которой дышала очарованная душа
маленького человечка. Не увидишь, если только не случится
чудо — не встретятся ибсеновские тролли и не
поскоблят роговицу твоих глаз. Знаешь также, что мир
детства давно развеян добрыми и злыми ветрами времени.
Это твоя затонувшая Атлантида, которой не дано
всплыть. И не войти тебе вновь в этот мир. Можешь
только вспомнить простые песни того давнего мира,
которые еще не отзвучали в твоей душе. И все же разве
не бывает в твоей жизни час, когда ты бросаешь все
и едешь, летишь, идешь? Идешь прежде всего — в краю
детства люди ходят по земле босыми ступнями, как по
святой 'земле.
Песнь о старом доме и мальчике
«Мама, мать, гыцци!..
Дай мне еще немного полежать, глаза обмануть, как
отец говорит, а там вскочу и все, что ни скажешь,
сделаю. Козлят погнать на пустошь — это же пустяки. За
нашей речкой на Красных оползнях они любят греться
на солнцепеке. Я их так хлестану хворостиной, что
моргнуть не успеешь, как они будут там. И в хлеву подмету,
сухие катышки, как зернышки, подберу. Отцу на
сенокос завтрак отнести? Это легче легкого. Правда,
затвердевшая стерня колет голые ступни, но ты же обещала
сшить мне чабуры к осени, когда я в школу пойду...
Дай только еще полежать... Все сделаю... И
слушаться. ..»
«Встань, сыночек, поздно уже. Вон и лысину Созуро*
315
ва пригорка солнце пригрело. Твои дружки на самом
гребне Красных оползней сидят и поют во все горло,
а ты спишь, стыдно же... Встань; накормлю тебя
кукурузной лепешкой и парным молоком... Встань, будь
мужчиной! ..»
«Мама, гыцци!.. Не буди меня в такую рань,
усталый я... От работы? Нет, есть и другие заботы и
печали. От них не убежишь, они всюду с тобой. Помнишь,
ты сама говорила: велика ли цена города- Калак?
Велика, но меньше цены одной человеческой п<ечали. Теперь
я знаю, ты говорила правду. От забот и печалей голова
тяжелеет. И ходишь с опущенной головой, как наш
старый буйвол. Помнишь, когда-то ты дразнила меня, что
голова у меня пустая -и легкая, как прястень козьего
пуха? .. Нынче она мне кажется тяжелой, руками
подопру, но удержать не могу. Правда, пустая по-прежнему,
вот и поселились в ней печальные думы, будто зимние
вороны в пустом мякиинике...
Дай еще немного полежать, мама...»
«Встань, сынок, встань — друзья твои пришли.
Вместе же пасли козлят над кручей Красных
оползней. .. Ждут тебя, араки в рот не берут без тебя...
Встань, пойди посиди, поброди вместе с ними по горам,
забудешь свои заботы и обиды...»
Странно, я явственно слышал тихий голос матери.
Уснул я, что ли, у развалин старого каменного дома?
Давно же нет ни матери, ни этого дома,.. Жили в нем
мои родичи из поколения в поколение, никто не знает,
кто его построил, когда эти камни, сложенные в стены,
стали человеческим жильем. Не могу вспомнить, кто в
нем жил в те годы, когда я впервые увидел его и он еще
считался приличным, по горскому счету, домом. Был он
большой, в два этажа — второй этаж из плотных,
краснеющих на солнце досок карагача. Крыт дранкой, как
все горские дома в нашем крае. Мы, дети, неохотно
ходили в этот дом. У очага сидела, когда бы я туда ни
пришел, в самодельном кресле с резными
подлокотниками древняя старуха. Всегда в одной и той же строгой
позе, одета во все черное, только из-под свободно
наброшенной на голову большой шали тускло светилась
кромка нижнего батистового платка. Старуха всегда
молчала и глядела на огонь в очаге, словно была приставлена
сторожить, чтобы огонь не погас. И если пламя в очаге
316
стихало, жаркие угли начинали покрываться белесым
пеплом, она тихо шептала, будто самой себе или всем
живущим на земле людям:
— Глаз огня засыпает... Откройте пасть огню...
Это были обычные слова, обычная просьба старого
человека: огонь гаснет, подбросьте в очаг дровишек. Но
в моем ребячьем воображении старуха была каким-то
нездешним, таинственным существом и слова
воспринимались в их древнем образном обличье, не могла же
она говорить простым житейским языком!..
«Глаз огня засыпает» — это я мог еще понять: видел,
как наседка в ненастный день, подобрав под свои
крылья цыплят, начинает засыпать и прикрываются ее
глаза белесой пленкой, будто уголья пеплом. Но слова
«пасть огня» пугали, и мы убегали к своим детским
играм.
Нет давно ни старушки, ни очага, ушло вместе с
ними все таинственное. Остались одни камни стен,
разбросанные, раскатившиеся в разные стороны, будто слова
одного гнезда в словаре. Согретые и сведенные вместе
чьими-то заботливыми руками, они по доброй воле и
обдуманному умыслу человека стали стенами его
жилья. Теперь они только камни, чужие друг другу,
каждый сам по себе, без смысла и памяти. А если они
что и помнят, то только одно — тепло рук безымянного
каменщика, ничем другим они не были связаны — ни
цементным, ни известковым раствором. Это камни
мастера сухой кладки стен.
В горах такие мастера встречались нередко, не
простые каменщики, а мастера. Это они сложили
поговорку: у камня семь различных граней, но лишь одной из
них он сходится с другим камнем. Они умели "точно
определить эту грань и, казалось, навечно сцепить,
соединить до той поры чуждые друг другу камни. Но,
видно, нет ничего вечного на земле, разве что само время,
У которого нет ни начала, ни конца и ничего святого.
Жил в нашем селе один такой мастер, хромой и
неказистый собой. Вечный труженик. Казалось, он
знать не знал, что такое усталость. Все свободное от
Деревенских забот время он отдавал камню. Собирал их
зимой и летом, собирал там, где только находил, даже
пригодный только для ограды камень. Он выкатывал их
из русла реки на берег, отламывал от скал и потом по
317
первому снегу свозил на санях. За глаза шутники
называли его камнеедом, а он просто любил и знал камень,
послушный его руке. Наметанным глазом он выбирал из
кучи нужный ему камень, ласково поворачивал и
ощупывал его, а потом укладывал на одно-единственное
место, где камень словно прирастал к не возведенной
еще стене — ни сдвинуть его, ни раскачать.
Он любовью и знанием, приручил-приворожил
камень. И мастерил из него, не только стены домов, но
и лохани, ступы, песты и надгробные плиты. Под одной
из них он и лежит давным-давно на старом кладбище
нашего села.
Я много раз видел его за работой. Сводить, сцеплять
камни — это было для него не работой, а радостью,
любимым делом, а может быть, призванием. И кто знает,
•не сродни ли его простая работа сложному и трудному
искусству сцеплять слова. Ведь и в нем все держится на
силе ума, неоглядной любви, знания и воображения
мастера.
Грустно видеть развалины человеческого жилья.
Знаешь, что нет твоей личной вины в этом разрушении.
И все же не покидает тебя невольное чувство вины,
будто стоишь перед разбросанными костями дорогих
твоему сердцу покойников, которых ты не сумел похоронить
в свое время. И нет тебе оправдания, и нет наказания.
И тут бессмысленно кого-то винить или о чем-то
говорить.
Нет, надо уходить, и чем скорее, тем лучше, к своим
пастушьим тропинкам, к лугам на склонах гор или в
лес. Я оттолкнулся от камня, на котором сидел, и
почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Не успел
оглянуться, как услышал мальчишечий голос:
— Доброе утро, гость!
В трех шагах от меня стоял мальчик лет десяти,
босой и простоволосый, и разглядывал меня. Я не узнал
его, но спрашивать, чей он сын, было неудобно —
мальчик подумает, уехал в город и своих уже не узнает.
— Здравствуй, брат мой! — бодро ответил я, и это,
кажется, ему понравилось. Это не было
снисходительным панибратством — здесь живут мои родичи,
однофамильцы, и по горскому счету родства мы все братья.
Мальчик это знал, конечно, и принял мое напоминание
о братстве как признание моего с ним родства, и про-
318
шло его смущение, он стал свободнее смотреть на меня.
Теперь он не опускал глаза, и можно было разглядеть
его лицо.
Худощавый, в коротких штанишках и белой
безрукавке. На смуглом лице большие карие глаза светились
и улыбались чему-то своему. Руки отведены за спину,
и мне их было не разглядеть.
Мне подумалось, что он чертовски похож на того
маленького человечка, которым был я в его годы. Но
память отметила: нет, он совсем другой... И вырос в
другое время, в свои малые годы уже знаком с такими
вещами, которые тебе и твоим сверстникам не могли
и присниться. Ваш мир заканчивался на вершине
ближайшей горы и у околицы соседнего села. В родном
селе вы были как птенцы одного гнезда. Всех ожидала
одна судьба, и вы были готовы к ней — стать пахарями
и косарями, как ваши отцы и деды. Ни о чем другом вы
и не думали, другой судьбы не искали и о назначенной
вам не жалели...
Верно, но я знаю, что и этот мальчик пока ходит по
тем же тропинкам, что мы протоптали своими босыми
ногами. Правда, готовится он к иной судьбе и не быть
ему ни пахарем, ни косарем. И все же мне почему-то
верится, что он чем-то похож на меня маленького и с
ним можно повторить песни детства в два голоса. Ведь
и мы многие свои песни вынесли оттуда, из страны
детства, в которой и он живет пока. И если я,
постаревший, пою их иначе, это еще не значит, что он их не
поймет или не знает...
— Я увидел, ты один сидишь, вот и подумал,
нехорошо гостя одного оставлять, а из старших мужчин никого
дома нет,— сказал мальчик, будто я гость в родном селе.
— Вижу, и ты один, брат мой? Где же твои друзья?
— Мало у нас мальчишек в селе. Трое уехали в
пионерский лагерь, другие у бабушек в гостях, вот я и
остался один, не с девчонками же мне водиться. ..А в
лагерь мать не отпустила. Говорит, все время в
интернате пропадаешь, не вижу тебя целый год, хоть на
каникулах дома побудь... Пожалел мать и не поехал,—
оправдывается мальчик, будто в чем-то виноват в моих
глазах.
— А ты не печалься, вместе будем бродить по нашей
319
земле, если, конечно, охота тебе водиться со стариками
и время у тебя есть.
— Когда много гостей, веселее. Разве у тебя нет
друзей? ..— Мальчик давал мне понять, что они моих
друзей приняли бы радушно.
— А у вас есть ягнята? — спросил я вместо ответа.
— Есть, а что? — смутился мальчик, видно, мои
слова он принял за намек, мол, гостям надо бы ягненка
зарезать.
— Да ничего, просто вспомнил, что ягнята, куда бы
ни шли, пасутся ли, воду ли пьют, друг от друга не
отстают.
— Верно,— улыбается мальчик,— друг у друга из-
под носа траъинки урвать норовят.
— А вот старые волы пасутся в одиночку или
попарно, только к ночи собираются в круг... Днем старый
вол любит один быть или с напарником, с кем под
одним ярмом ходит.
— Вот и взял бы с собой своего напарника-вола,—
обрадовался мальчик, подхватил мои слова.
— Хотел я взять его, брат мой, да он не пошел со
мной, в свое село решил идти. Видишь ли, сказал мне
друг в поучение, родной очаг отпускает молодого
человека мир повидать и себя показать, но с тем, чтобы он
вовремя домой вернулся... Мы не вернулись. Надо хоть
иногда навещать родной очаг, не отступники же мы...
А я старый человек, надышался уже пылью дальних
странствий, домой потянуло. И не отговаривай, ходить
по твоим тропинкам у меня нет уже времени, успеть бы
по своим побродить... Вот я и приехал один.
— Но ты же не старый,— простил мне мальчик мою
старость.
— Нет, брат мой, я давно уже немолодой. Если
сложить мои сытые и голодные годы, то получится много,
но все они мои. И если не врать, то трудные и голодные
дни моей душе чем-то дороже и милее... И провел я их
здесь. Куда я их проводил, бог весть, но они не
вернулись, у них дурная привычка — не возвращаться. То ли
к другому пристали, то ли за горами пропали, но не
вернулись... В твои годы и я бегал по этим пригоркам.
Был подпаском, пастухом, школьником, пахал, косил,
играл, пел, плакал, бывало, дрался и мирился с
друзьями. .. А в мои годы горские мальчики жили на волчий
320
манер: то сыты, то голодны, но всегда были веселы, ведь
у них все впереди! ..
— Разве голодным мальчикам весело? — не поверил
мой собеседник.
— Отчего же нет? Найдем по пригоршне земляники
и радуемся. Наши козлята мирно спят на камнях
Красных оползней, нам и весело, поем песни. К вечеру наших
козлят посчитаем, нет пропажи — и опять рады. Чего
же не петь? Это ведь стыдно, когда мальчик с утра до
вечера к жалобам живота прислушивается. Голос
желудка мы заглушали своим пением.
Похвастался я, так, видно, думал мальчик, но я знал,
что говорю правду.
— А какие песни вы пели? Может, и мы их зна«
ем? — спросил мальчик, но я понял, что он хочет меня
раскусить, умею ли в самом деле петь деревенские песни
или просто хвастаюсь.
— Самые обычные.
— А по радио их не передают? Если поют их по
радио, так я их хорошо знаю, на магнитофон записал.
— Не слышно, чтобы по радио их передавали.
Правда, я редко слушаю такие передачи, у меня работа в
это время.
— Спой одну песню хотя бы. Может, я тоже ее
знаю,— серьезно попросил мальчик, забыл, что я гость
и давно не подпасок.
— Брат мой, эти песни в два голоса пели, как же я
один их спою? Вот если бы ты спел, я бы вторым
голосом тебе помог, может, и получилось бы,— предложил
я, и мальчик смутился.
— Нет, я так не могу.
— А ты забыл, что я гость, а гостю петь положено
после хозяина? — напомнил я обычай.
— Но ты же наш брат, а не гость.
— Если кто неделю не переступал порог брата,
значит, он уже гость. И первые три дня будет на правах
гостя, а там уже работником, тогда можно и петь, коли
охота есть.
— Давай будем считать, что три дня уже прошли,—
улыбнулся мой хозяин.— А может, ты уже забыл свои
песни и потому отказываешься? — Он явно хотел
спровоцировать меня, этот маленький хитрец.
32!
— Нет, брат, кое-что я еще помню, а остальное
надеюсь вспомнить, если, конечно, ты споешь со мной.
— Я не хотел тебя обидеть. Я просто думал, в
городе же не будешь на улицах петь или в общем доме. Да
и кого из нашего села найдешь в городе. Они же в
разных местах живут, твои друзья, с которыми вы
вместе пели.— Мальчик подбирал для меня оправдание.
— Да не обиделся я, правду говорю, помню наши
«песни. И петь в городе можно. Правда, редко мы поем,
но соберемся случайно или по ' праздникам, выпьем
немного и поем. Вспоминаем наши песни.
— А трезвые люди разве не поют?
— Поют, брат, почему не петь, но у человека в мои
годы много других забот. Старый человек богат
печалями, воспоминаниями, и работы у него невпроворот, не
успевает, сил не хватает, а времени с каждым днем
остается все меньше. Вот он и печалится, и не до песен
ему. А выпьет немного, вроде и на сердце легче и петь
не зазорно...
Человек в мои годы похож на дерево, на немое и
грустное дерево. Правда, одно его спасает: выговорит
свои заботы и печали, и словно их ветром сдуло. А
дерево, бедняга, что может сделать? То солнце его сушит,
то дождь мочит, то град да мороз побивают. Муравей
и тот без спросу гуляет у него по спине, а о'но молчит,
ни слова никому сказать не может. Но набежит в
сумерках теплый ветерок, зашумит в листве, и тогда
дерево бьет в ладоши, приподымает руки-ветви, радуется,
пустилось бы в пляс, да на одной ноге стоит, и та в
земле завязла. Но петь можно, и оно начинает свою
тихую песню, простую песню, одну на всю жизнь. Кто
знает, о чем эта песня? Но, видно, она ему дорога и
памятна на всю жизнь. Вот и старый человек так поет
свои давние песни. Они ему даны на всю жизнь, если,
конечно, он не забывает их в суете и заботах. Но редко
бывает, чтобы память отшибло, чтобы ни одной своей
песни не помнил человек...
— А ты все свои песни помнишь?
— Не все; думаю, забыл какие-то, но вспомню,
когда ты запоешь, обязательно вспомню.
— Нет, брат,— улыбнулся мой мальчик, — наши
песни поют в два голоса, как же я один спою? — Теперь я
322
для него уже не гость, а брат, и он может меня
дразнить.— Петь, так вдвоем, один я не буду.
— Ладно, хитрец, согласен, но мое условие такое.
Пойдем к гребешку Красных оползней и там споем, мы
свои песни обычно там горланили.
— Вот и хорошо, м'не как раз туда идти. Я своих
козлят утром в ту сторону погнал, и пора поглядеть, все
ли они там,— обрадовался мальчик и потянул меня за
руку в сторону Красных оползней.
Песнь о простых песенках
Сидим мы с моим братом. Я знаю, что мальчика
зовут Альберт, но мне как-то больше по душе называть
его братом или Бердом, старым осетинским именем.
Сидим на гребне Красных оползней. Это в самом деле
оползни. Видимо, когда-то после бурного летнего ливня
земля на склоне пригорка, словно мясо от костей,
отделилась от скальной основы и сползла к реке, остались одни
голые ребра каменного скелета. И теперь козлята в
жару ложатся на плитняковые выступы, бережно подогнув
под себя сухопарые ножки. Лежат неподвижно, лишь
на укусы вездесущих мух отвечают то жалобными
всхлипами, то быстрыми взмахами коротких хвостиков.
Более нетерпеливые вскочат, постучат по камню
копытцами и снова ложатся. Но все непрерывно и
однообразно жуют, будто во рту у них резиновая жвачка.
Мы с Бердом шли сюда петь пастушьи песни, но
никто из нас не осмеливался запеть, и я отвлекал его раз*
говорами.
— А в интернате вы с друзьями поете наши
песни? — спрашиваю, а сам гляжу на буковую рощу на
противоположном склоне. Там в кустарнике лесной
опушки в летнюю жару прятались мои ягнята, уткнув
мордочки в тень и тяжело дыша.
— Поем, после занятий. Правда, мы поем просто
так, араки у нас никто в рот не берет, даже
старшеклассники.
— Вот как, а я думал, вначале бурдюк араки
выпиваете, а потом уже поете,— теперь смеюсь я, и мальчик
смущается.
— Да я не о том, что вы пьете за столом и потом
поете,
323
— А я как раз о том, брат мой. Ты зря думаешь, что
мы свои песни вспоминаем за обильным столом. Нет,
Берд, я пою, когда на душе хорошо или когда грустно,
про себя пою, конечно. Да и не я пою, а кто-то другой,
а я только слушаю. Тихо затягивает он песню чистым,
ясным голосом, не моим дребезжащим да кашляющим,
и мне до слез грустно и отрадно — поют для меня
одного и в моем сердце...
Я не знаю, как угадывает человек свой смертный
час, но свой час мне нетрудно будет узнать: когда в
моем сердце отзвучит простая горская песенка, это
будет самой верной приметой. Но я пока спокоен. Иду по
улице ранним утром, ничего особенного не случается со
мной. И солнце греет обычно, и птички чирикают в
ветвях придорожных лип, и люди спешат по своим делам,
как всегда, но я чувствую, что кто-то из моих давних
друзей запел в моем сердце на своей самодельной
свирели из веточки шиповника, затянул какую-то
простенькую мелодию, что-то вроде воробьиного «циу-ци-циу».
И мне представляется, что я иду-спешу к своему
дружку, сердце стучит веселей, ноги сами ускоряют шаг,
осталось только добежать до свирельного голоса, и весь
мир запоет...
А бывает и так, сидишь один за работой, спешишь,
пробираешься своей незримой тропинкой к какой-то
одному тебе ведомой вершине и вдруг упираешься в
отвесную скалу, на которую тебе не взойти, а взлететь нет
крыльев. Дымишь сигаретой в отчаянии, но этим разве
поможешь? .. И тут, словно друг-спаситель в давние
годы, в часы пастушеского томительного одиночества,
приходит к тебе простая песенка, в которой столько
надежды и утешения!
О-ой, слышишь ли меня, пастух Белой горы?
Поет-зовет пастух Черной горы...
Бормочешь про себя эти бесхитростные слова, а кто-то
ведет мелодию, да с такой сердечной силой, что пастух
Белой горы не может не услышать. И нет уже ни
оборвавшейся тропинки, ни отвесной скалы. Отчаяние
уходит, словно сдуло с горы дождевое облачко
набежавшим ветром...
— Я знаю эту песню,— серьезно говорит мальчик.—
И мне всегда жалко пастуха Белой горы. Я всегда бо-
324
юсь, а вдруг он не услышит, как зовет его пастух
Черной горы, или не поймет его слов... Долго ли до беды...
Ненавижу этих гяуров. Их двенадцать против одного
пастуха. Он им ничего плохого не сделал, а они убьют
его и угонят его стада...
— И я так думал в твои годы... И пел чистым и
ясным голосом... Мне представлялось, сидит пастух
Белой горы на скальном выступе. Белая войлочная шляпа
нахлобучена на голову. Сидит на своей облысевшей
бурке, в домотканой шерстяной рубахе, через плечо сума из
карагачевого луба, а- в ней ячменные лепешки и кусок
сыра да свирель с тремя лунками... Мирно пасутся
овцы на склоне, и он не ждет ни от кого зла и
насилия. ..
Но зорче глаз у пастуха Черной горы. Он видит, как
приближаются к его другу двенадцать всадников. Не
с добром они идут к одинокому пастуху. Убьют его и
угонят стада. Убьют, и вороны выклюют его глаза...
Надо помочь, надо спасти! Кричать на весь мир? Нет,
никто не услышит, а ему самому не добежать до
пастуха Белой горы. Да и что они вдвоем могут сделать
против такой оравы убийц? .. Нет, надо предупредить
друга. .. Песню, песню спеть!
Ты не бойся убийц, пастух Белой горы,
Выйди встречать их, как добрых гостей.
Ты зарежь им валуха бурой масти,
Мясо для них отрава, отвар — лекарство.
Мяса дай им щедро, отвар разлей,
Пусть подохнут они, как волчья стая!.. —
поет пастух Черной горы сильным голосом, и спасает
песня его друга, побратима. Он знает, будь на его месте
пастух Белой горы, о« бы так же пришел ему на
помощь. .. Когда запевал я в твои годы песню пастуха
Черной горы, мне слезы застилали глаза, но теперь я
постарел и плакать стыжусь; я думаю, умный человек
придумал эту песню. Верно же, зло не глупо, а хитро
и бросается на самых добрых и невинных людей.
И справедливо, что эта песня о добрых людях и добром
деле. Кто может пеоню и славу гяурам и убийцам
петь?.. И чего скрывать, я завидую в душе пастуху
Черной горы. Это же счастье — хоть раз указать людям
смелой рукой или доброй песней на убийц и злодеев, их
ведь всегда немало бродит по земле...
325
Вот ведь как получается, брат. Песня — она на
людской доброте замешена, и нельзя без песни человеку
жить, душа одичает... Или вот как наши Красные
оползни станет: землю дождем унесло, одни камни остались,
«и травинки на них не растет. Или радость покинет ее,
одна печаль останется. Печаль — она же прилипчива как
репей. А в жизни есть и чему радоваться и горевать от
чего. Явится к тебе в такой час простая песенка о Цоле,
неунывающем бедняке, и словно солнце, тебя пригреет
в морозное утро, выглянув из-за горы. На душе яснеет,
невольно начинаешь хлопать в ладоши и петь про себя:
Ой, Цола, чего такой ты тощий?
И ничего-то в этой песенке нет, простые деревенские
шутки, вопросы и ответы в шутливом тоне, вот и все,
а заставит улыбнуться, да и посмеяться над самим
собой. Нельзя же на каждую свою беду," как на большую
гору на твоем пути, смотреть. Кто придумал песню, тот,
видать, знал, что даже в беде есть что-то смешное, а
человеку порой одной улыбки достаточно, чтобы страх
одолеть.
Что Цоле бедность? Заложил полы своей
поношенной черкески за ремень без единой серебряной бляшки
и танцует напропалую с родичами своей жены. Дома —
никакого добра, зато в сердце много доброты. Это его
единственное богатство. Спеть и станцевать —
уговаривать его не надо, это он умеет. Голос у него такой, как
будто в горле серебряные колокольчики позванивают.
Ноги — как у зимнего тура, сухие да крепкие.
Пусть смеются люди, что он бедный, что он тощий.
Они и сами не богаче, над своей бедностью
подтрунивают. А это от доброты и здоровья души. Вышучивают
свою бедность,— значит, им уже не страшно, и они не
пропадут никогда. И самому Цоле смешно и радостно,
что он людей может посмешить. Спрашивают, отчего он
такой тощий,— он за словом в карман не лезет:
Гостил месяц у тещи, ой!
На шутку отвечает шуткой, и так слово за словом
складывается песня, будто ласточка гнездо вьет, жеваный
кус один к другому лепит...
— Нам она очень нравится,— сказал Берд.— Запо-
326
ешь, и ноги сами начинают ходуном ходить, как
кукурузные зерна на горячей плите, и дурачиться охота.
— В том-то и дело, брат. А как мне, седому,
дурачиться? Вроде неприлично в мои годы, а честно сказать,
просто не смею. Вот и надо немного выпить, для
храбрости, что ли. Тогда смущение проходит, сердцем
чувствуешь, что ты на вершине Белой горы и можно дерзко
оглашать своей немудреной песней разложья долин...
Мальчик не ответил. Он о чем-то задумался и
улыбнулся каким-то своим мыслям и видениям. Свет и тень
ежеминутно сменялись на его лице. Мне показалось, что
он в эту минуту пел про себя, и я не стал ему мешать,
пусть поет.
Пой, брат, пой, не жалей сердца, ничего с ним не
станется!
Песнь о тишине
Мы долго молчали, и, видно, надоело мальчику
сидеть со мной, ушел домой, мол, мать будет тревожиться,
где он пропал. Я сидел один, и воспоминания давних
дней окружили меня, словно хоровод голопузых
деревенских детишек, схватили меня за руки и повели в свой
далекий и блаженный край. Я и не заметил, как уснул.
Проснувшись, долго не мог сообразить, где я
нахожусь, но вспомнил: лежу на гребне Красных оползней,
в тени вытянувшихся к солнцу орешин, на ворохе
пожухлой прошлогодней листвы. Зелень молодых листьев
ласкает глаз и покоит душу. Сухая, но прохладная
земля в эту жару тянет к себе, не отпускает.
Муравей-замухрышка ползет по руке, я стряхнул его в траву. Пусть
бежит в свой муравейник.
Берд уже вернулся и возился с транзистором. Одно
неосторожное движение, и тишину взорвали тысячи
беспорядочных звуков. .
— Тише, чертов брат! — невольно вскрикнул я.
Мальчик выключил транзистор и смущенно поглядел
на меня.
— Это я для тебя старался. Думаю, скучно ему тут
в деревне, может, послушает новости, музыку. У нас
только собачий лай можно слышать, да и то по ночам,—
оправдывался Берд.
327
Мне стало стыдно за свой окрик. Не отвык еще от
городского шума, а к деревенской тишине пока не
привык, вот и обидел мальчика, а он старался меня
развлечь.
— Ты прости меня, брат, что рявкнул на тебя. Так
старый пес пугает назойливых мух. Гавкнет грозно и
хвать за укушенное место.— Я показал, как это делает
собака, и мальчик улыбнулся.
— Точно, но мухи успевают отлететь в сторону. Он
же спросонья даже глаза не открывает, ленится, и
наугад кусает.
Видно, простил мне мальчик обиду, принял мой
шутливый тон, и я позавидовал ему. Всем бы такую
отходчивость до седых волос сохранить, жить бы легче было
на свете.
— Заведи свой фандыр, только не очень шумно, а то
мне показалось, будто тысячи ягнят хором заблеяли.—
Мне хотелось закрепить наше примирение, но Берд не
спешил настраивать свой транзистор.
— Оставим его пока в покое. Надоест тебе наша
тишина, тогда и включим. Не убежит, он у меня
послушный.— Берд похвалялся им, будто конем.
— Тишина мне не надоест, я от шума устал. А
приелись пироги, так ячменной корке рад...
— Ячменной корки не ел никогда, а пироги печь моя
мать мастерица. Хочешь, попрошу ее?
— Да нет, брат, я не о том... В твои годы и мне
надоела деревенская тишина, а теперь вот тоскую по
ней...
— Что в ней хорошего? Бывает так тихо, что
думаешь, хоть бы собака где залаяла...
— Вот и я так думал. Сидишь, бывало, где-нибудь
на опушке леса, под деревом. Ягнята прилепились к
соседнему кусту — мухи их одолели. А ты сидишь, и слова
некому сказать — пес остался дома в ожидании
сыворотки: авось чего-нибудь перепадет, от поросят
останется в лохани. А друзья вот так же сидят где-то в других
кустах, и ты не знаешь, куда деваться от этого
одиночества и вселенской тишины.
Не слышно тихого журчания ручейка из оврага,,
молчат кузнечики. Отбили свои косы и молчат. Лишь
изредка доносится из дальней рощи печальный голос
кукушки; видно, тяжкое это занятие — отсчитывать людям
328
непрожитые годы... Во всем ущелье жуткая тишина,
будто залило его мутной дождевой водой, но муть
осела, а ты как песчинка на дне этой тишины, вязкой, как
болотная жижа...
И невольно мечтаешь, вот бы собрать всех ребят
земли в наше ущелье, чтобы не было одиночества, все
бы вместе играли и дурачились. Но это как бедняцкая
радость — одни добрые сны. И тебе одному приходится
пасти своих ягнят, и никто не придет к тебе. И слышно,
как постукивает твое сердце, часто-часто, как у
пойманного воробья, и дышать нечем, тянешь воздух, будто
соломиной теплую водицу... И тогда приходит
спасение— запоет с гребня скалы пастух, покатится отзвук
по оврагам и лощинам, что камень, сорвавшийся с горы,
и дышишь уже свободно — ты уже не пленник омута
тишины, выплыл и схватил рукой прибрежный
камень. ..
Знаю, как тяжко выносить это вселенское молчание,
когда чувствуешь себя покинутым и одиноким. Это так,
брат, но когда изо дня в день слышишь шум и грохот,
всеобщее бесконечное говорение, в глазах рябит от
людской суеты и мельтешения; когда все время на тебя
обрушивается лавина шума, крика, визга, поющих и
говорящих голосов, льются на твою душу потоки слов
правды, полуправды и явной лжи, слов, полных обмана и
притворства, угрозы и подобострастия,— то волей или
неволей затоскуешь по тишине, которая, быть может,
еще жива в краю твоего детства, где она, бывало,
надоедала тебе. Начинаешь мечтать об островках тишины.
Должны же они быть еще где-то на земле, чтобы
можно было остаться наедине со своей совестью,
разобраться в своих мыслях, понять, отчего ропщет сердце.
Зарываем же мы зерно в землю, пусть ему одиноко и
неуютно там. Но оставь его под солнцем и дождем, на потеху
ветрам, ничего из него не взойдет, не родится
новый колос — дитя одиночества и тишины. А разве
человеческой мысли и чувству легко родиться и созреть
в этом вселенском шуме и словоизвержении? Нет, брат,
деревенская тишина не такая уж плохая штука... Да
и не одиноко человеку ни в деревенской глуши, ни в
.дебрях гор. Вот в этой коробке, как джин в бутылке,
упрятан вселенский шум. Поверни ручку — придавит он
тебя, этот всемирный обвал.
329
Мальчик приуныл. То ли думал о чем-то своем, то ли
я заморочил ему голову своими словами... Нет на
земле ни тишины, ни покоя.
И вечный бой!.. Покой нам только снится...
Но зачем об этом говорить мальчику? Разве от этого
знания ему будет легче жить среди людей? ..
— А почему так много говорят и шумят люди?
Может, слишком много их собралось в городах? —
полюбопытствовал мальчик.
Что ему ответить? Я и сам не знаю почему. Много их
собралось в городах? Может быть. Много свободного
времени. Безделье утешает себя говорением, мол, слово
тоже дело. Но разве всякое слово — дело? Тогда
болтуны самые деловые люди? А может быть, люди хотят
обратить друг друга в свою веру? И потому говорят,
говорят, говорят. И никого уже не интересует, истинна
ли, достойна ли человека, достаточно ли добра и
справедлива твоя вера, важно лишь одно — переговорить
другого, переспорить его, всеми правдами и неправдами
охаять его веру. И такой спор рождает не мысли, а
слова, слова, слова... Пересуды и кривотолки, ложь и
обман рождаются из всего этого, но прячут свои кривые
и жестокие рожи под личиной правды и
справедливости. ..
Видно, есть и другие причины, но я их не знаю. Не
уверен и в правоте своих предположений. Да и не
понять все это мальчику. Но есть еще, я думаю, одна
верная примета крикливости — это страх и неуверенность в
себе. И это мальчик поймет. У всех мальчиков есть свои
страхи, чувство страха им хорошо знакомо. Он поймет.
— Берд, брат, скажи-ка, ходил ты когда по ночному
лесу? И не было тебе страшно? Только говори правду.
— А разве это стыдно? — смутился мальчик. Видно,
он бывал в лесу ночью и было ему страшно.
— Нет, конечно, но я хочу знать другое...
Однажды — было мне тогда лет десять — я недосчитался
вечером четырех ягнят. Пришлось их искать ночью вон в
том буковом лесу.
Долго я ходил по опушке леса, думал, как спадет
жара, так и вылезут из кустов мои ягнята травки
пощипать. Но оказалось, что за день они успели наполнить
все свои семью семь желудков и так и не показались из
лесу. Пришлось мне ходить по лесу ночью.
330
Стемнело. Тропинки в лесу днем хорошо видны, буд«
то зарубки, сделанные великаньим топором. Но тьма их
заровняла, и казалось, лес сплошной стеной стоит
передо мной. Куда идти? Страх, хотя и не хотелось
признаваться себе в этом, заставлял сильнее биться сердце.
Каждое дерево казалось мне невиданным зверем,
оборотнем, и ноги стали тяжелыми и непослушными.
Вначале я стучал палкой по кустам и этим отгонял страх,
но, когда углубился в лес, оглянулся назад и
почувствовал себя одиноким и затерянным в лесной чащобе, мне
стало не по себе. Вперед шагнуть не хватало мужества,
а назад бежать стыдно. Да и знал я, что это еще
опаснее. На испуганного и бегущего даже жалкие щенки
смело бросаются... Стоял затравленно и озирался. Вдруг
захотелось закричать, и я запел во всю мочь песню
пастуха Черной горы. И вижу, деревья опять стали
похожи на деревья, а кусты прижались к ним, как ягнята
к маткам.
Я прошел весь лес, и на одной поляне нашлись мои
ягнята. Правда, вначале я молился про себя: «Боже, дай
мне найти моих ягнят! Как я без них домой пойду?
Столько ищу и не нашел...» И все-таки это я сам их
нашел. И тогда я подумал: все же я храбрый парень, не
испугался в лесу ночью!.. И стало мне радостно за себя.
Ласково погонял я ягнят по дороге домой и пел стихи
Коста: «Хороший пастух и в темном лесу находит следы
своих овец!..» Это были стихи обо мне, так я считал
в ту ночь., #
Страх я отогнал криком, песней, даже словами
молитвы. И думаю, может, вот так и люди на земле хотят
прогнать глупое, мерзкое, но привязчивое и унизительное
чувство страха криком, шумом, молитвой, словно малые
дети в ночном лесу... Бесконечным говорением
заглушить свой страх и неуверенность... Кто знает, так ли
это, но думаю, что это если и не вся, но все-таки правда.
Человеку есть чего страшиться, брат, в этом мире. И не
мудрено кричать, когда тебе страшно, даже если ты
большой и давно уже не боишься ночного молчания в
темном лесу.
Страх — подлая сила, она раздавливает человека.
Знаю, тишина не даст человеку силы одолеть страх. Но
в тишине человек как бы собирает самого себя. Ты
видел, как умный зверек еж лезет через узкую щель?
331
В лепешку расплющится, вылезет — и вновь соберет
себя в круглый шар, истыканный щетиной. Тишина дает
успокоиться и подумать, посмотреть в глаза страху и
сообразить, как его за горло ухватить и задушить,
затолкав ему в пасть хотя бы собственный кулак...
Так что, брат, не простая это штука, тишина.
Песнь о сказке
Отец Берда вернулся из поездки. Я переселился к
ним, и Берд сиял: теперь я его гость, он за меня в
ответе. Все дни теперь мы будем вместе — ходить,
бродить, купаться в речке, ловить форель руками под
большими валунами у берегов.
На третье утро мы шли в свой первый поход — на
плешину Созурова пригорка. Это не бог весть какая
высокая гора, но подъем крут, и мальчику нелегко было
поспевать за мной. Вначале он шагал бодро и старался
развлекать меня — то найдет спелую земляничку и
бежит сорвать ее для меня, то рассказывает смешные
случаи, приключившиеся с подпасками в этих местах. Но
потом стал молчалив. Вижу, притомился он, а
признаться ему неловко. Пришлось мне отвлечь его.
— А ты знаешь, как охотники на большие горы
взбираются?
— А что тут знать, идут и добираются,— ответил
Берд.
— Не-ет, брат. Они сказки друг другу
рассказывают, вот и не устают. И чем круче гора, тем интереснее
должна быть сказка. Вот как...
Давно-давно один старик женил своего
единственного сына, но решил испытать невестку: умна ли она,
проживут ли они без него? Ведь сын жену не по уму
выбирал, а по красоте лица.
И пошли отец с сыном на охоту. В дороге отец
говорит:
«Вот бы, сынок, теперь с немым путником пройтись
немного, ах как хорошо было бы!»
Сын думает: «Надоело, видно, старику мою
болтовню слушать, вот и предлагает помолчать, да так, чтобы
меня не обидеть. Ну и помолчу».
Сын долго молчал, но старику что-то не понравилось,
и он сказал:
332
«Как хорошо было бы, сынок, теперь в безводном
котле немного оленьей мякоти сварить!.. »
Сын думает: «Наверно, мой старик с ума спятил».
И загрустил, совсем сник, плетется за своим отцом и
ждет, что он еще, сумасшедший, выкинет. Отец же
присел под буковым деревцем, подумал немного и сказал:
«Ах, хорошо бы теперь поспать немного на пуховой
подушке!..»
Сын совсем оробел. Старик, думает, действительно
спятил, и надо возвращаться. Но отцу ничего не сказал.
Долго ли шли, коротко ли, но очутились перед
большой горой. Надо было подниматься по крутому склону.
Отец вновь заговорил. Теперь он предложил сыну
совсем сумасбродное:
«Сынок, взвали меня на спину и тащи до самой
вершины или же завтра разведись с женой».
Сын рассердился и тут же повернул домой.
Пришлось ему расстаться с молодой да красивой
женой, хотя он очень этого не хотел. Мать на отца
напустил, скажи, мол, отцу, пусть выкинет дурь из головы.
Но отец сказал:
«Знаешь, женщина, не заступайся за глупого сына.
Не знаю, кто из нас виноват, что он такой глупец вырос,
но, когда мы умрем, он без умной жены пропадет. Эта[
жена у него глупая, как и он сам. Пусть женится на
другой».
Другая жена оказалась не умнее первой. Она
спросила мужа, почему он разошелся с первой женой, и на
ответ мужа рассмеялась:
«Да, видно, что отец у тебя придурковатый, но надо
молить бога, чтобы недолго он протянул и дал нам
пожить без этих глупостей».
Отец и не думал забывать свои «глупости», и
пришлось сыну искать жену в третий раз. Теперь за него
красавиц уже не давали, и взял он жену простую,
некрасивую, но ладную собой. Она тоже спросила
мужа, почему он с первыми двумя женами разошелся, и
он, печально вздыхая, рассказал ей о загадках своего
безумного отца.
Жена долго думала, потом-сказала:
«Нет, отец твой, видно, человек умный...»
«Может, и был умный, да свихнулся...»
«Вот что, муж мой. Отец тебя, видно, опять на охоту
ззз
позовет. Это он испытывает тебя и меня, можем ли мы
своим умом прожить. И прошу тебя, слушай меня
внимательно. Когда отец скажет, что ему хотелось бы с
немым спутником пройтись, ты сруби палку в лесу и
отдай отцу в руки. Вот он и будет ходить с немым
спутником. А скажет, хорошо бы в безводном котле оленьего
мяса сварить, ты набей ему трубку табаком и подай,
пусть покурит. Это и будет для него оленьей мякотью
в котле без воды... Скажет, подложить бы под голову
пуховую подушку, ты сложи свою черкеску, положи ему
под голову, а под щеку подложи его ладонь. Ты же
знаешь, что в мире нет ничего мягче собственной ладони
под щекой... А попросит понести его до самой вершины,
ты рассказывай ему сказки разные, знаешь же ты
какие-нибудь сказки. Вот и все дело. Он будет слушать
и сам дойдет до вершины, даже не заметит, если ты
сумеешь развлечь его. Сделаешь, как я сказала, и тебе
не придется искать четвертую жену. Попомни мои
слова, а забудешь, так за тебя и ослицу никто замуж не
выдаст...»
Жена сказала и уснула спокойно, а муж всю ночь
повторял советы жены и всякие сказки вспоминал,
чтобы было что отцу рассказать.
Наутро отец вновь позвал сына на охоту. Дорогой
отец повторил свои загадки, и сын сделал все, как жена
его научила. Взобрались на вершину горы, и отец
спрашивает:
«Скажи-ка, сынок, кто тебя надоумил мои загадки
отгадать?»
Сын признался, что это его жена научила. И тогда
отец улыбнулся и говорит:
«Вот теперь, сынок, у тебя настоящая жена. Ты у
меня всем хорош, да ума у тебя не больше, чем у глупой
овцы. А за умной женой тебе не пропасть, вытащит из
любой беды, из любой напасти выход найдет. Теперь,
сынок, мы можем охотиться и в царском лесу, бояться
нам нечего, придется ответ держать, так невестка
выручит, и я не оплошаю...»
— Вот и мы тоже дошли до лысины Созурова
пригорка! — радостно заявил Берд и, хитро поглядев на
меня, добавил: — Это ты для меня, что ли, сказку
рассказывал? Я, что ли, старик?
— Нет, мой брат, я хитрее, чем ты думаешь. Я себя
334
хотел обхитрить, чтобы незаметно на гору подняться.
Ты каждый день здесь бегаешь, а я уже отвык, и мне
труднее.
— Пусть так, но мне больше нравятся сказки, где
умный глупую силу побеждает. Помнишь сказку про
свинью и волка? Мне отец рассказал. Попалась свинья
волку в зубы и говорит: «Не надо меня трогать. Я вся
тощая да костистая, гляди еще подавишься, а зад у
меня ужасно вонючий, ты меня такую и есть не станешь.
Отпусти меня лучше и приходи ночью. У меня есть три
поросенка. Не поросята, а чистое мясо, в жир
завернутое. Придешь, и отдам тебе любого, какой понравится».
Волк подумал: а в самом деле, лучше полакомиться
поросятиной, чем эту дохлятину жевать. И согласился,
только спросил:
«Как твоих сыночков-то зовут?»
Свинья подумала и говорит:
«А зовут их так: старшего — Крепко-накрепко,
средненького— Не время, а. младшего — Вой-повой. Позот
вешь, они и выйдут к тебе».
Приходит волк в полночь и кричит, а свинья с
поросятами за крепкими дверями спят. Кричит волк,- зовет
старшего поросенка, а он ему в ответ:
«Ступай домой, серый волк, пока цел, у меня двери
заперты крепко-накрепко!»
Зовет волк среднего поросенка, а тот ему говорит:
«Я сплю, меня зовут Не время, и выходить мне
сейчас не время!»
Зовет волк младшего, мол, Вой-повой, выходи,
повидаемся, а тот ему и говорит:
«Вот и повой, а я послушаю...»
Волк злится и зовет матку, а та хрюкнула и говорит:
«Волк ты, волк, дурья голова, твоим языком да
вороне зад лизать!»
Тут волк совсем разозлился и со злости завыл в
голос. Набросились на него собаки со всей деревни и
растерзали его...
Нравится мне, как свинья волка обдурила...
— Мне тоже нравилась эта сказка. Мне ее бабушка
сказывала, когда я совсем маленький был и она спать
меня с собой укладывала. Но потом, когда постарше
стал, начал соображать: а что, если бы волк поумнее
попался или свинья поглупее? Несдобровать бы свинье,
335
быть в волчьей пасти. Все-таки плоха надежда на
волчью глупость... Вот если бы он по доброте своей ее
отпустил, мол, жалко поросят, они же матушки своей
ждут не дождутся,— другое дело...
Одну такую сказку мне мать рассказала.
Напевала и рассказывала.
Зайчиха зимой дрова возила, и сломался полоз у
саней... Плачет зайчиха, не знает, что ей делать. Не
возвращаться же без дровишек. Дома детишки от
холода по углам бегают. И вдруг приходит медведь и
спрашивает зайчиху:
«Чего так горько плачешь, старая?»
«А как мне не плакать, полоз сломался, а дома
детишки мерзнут».
«Не велика беда»,— сказал медведь. Взял он в
охапку сани с дровами да еще зайчиху на дрова посадил
и понес их в заячий дом. Огонь развели, вокруг костра
зайчата пляски затеяли с медведем заодно... И мне с
тех пор медведь самым большим добряком на земле
кажется.
— Да это же сказка! Какой же медведь добряк! Он
никогда зайца жалеть не станет, лапой придавит да
себе на закуску, вот тебе и добряк,— засмеялся Берд.
— Верно, сказка. Но я верил и сейчас верю. Хотя
знаю, что это сказка, что в жизни так не бывает.
Медведь может шлепнуть зайца — это бывает, и очень даже
часто. А чтобы медведь зайчихе слезы утирал, этого не
бывает. И я такого не видал. Но как ты думаешь, моя
мать этого не знала? Или не знали этого те, кто сложил
сказку и кто напевал ее своим детям? Знали, лучше нас
знали. Но я так думаю, что они верили в доброту
больше, чем в силу зла. Они знали, что нет ничего важнее
человеческой доброты, и хотели, верили, что доброта
в конце концов покорит даже злые сердца... Они
верили в доброту от чистого сердца, без корыстного
умысла.
Если бы зайчиха угостила медведя последним
огрызком моркови, я бы этому верил, но не считал бы это
добрым поступком. Зайчиха боится и подхалимничает,
решил бы я. Но медведю наплевать на зайчиху. Что она
ему, медведю? Он помог зайчихе по своей" доброте,
пожалел ее и детишек. Вот он мне и нравится, и в моих
глазах он добряк..»
836
А что с того, что не бывает такого медведя? Тому,
кто выдумал сказку, тем, кто ее слушал и ныне слушает,
хочется, чтобы был. Этого хотим мы с тобой. И есть
такой медведь, если не в лесу, то хотя бы в сказке или
в умах людей.
Ты этому не веришь потому, думаю, что свои сказки
в книжках читаешь, одними глазами. А мне эту сказку
напевала мать. Тихо пела, обняв и прижав меня к себе,
покачивалась вместе со мной и пела:
Зайчиха зимой дрова возила,
Ой, бедняжка зайчиха!..
Полоз саней у зайчихи сломался,
Ой, бедняжка зайчиха!..
И такая жалость в ее голосе была к
вдовице-зайчихе, что я молча глотал слезы, а потом поверил в доброту
медведя и верю до сих пор. И ты бы поверил, если бы
знал, что значит для вдовы-горянки привезти в зимнюю
стужу дровишки из лесу, что это за беда, если в пути
сломается полоз саней, и какое доброе сердце надо
иметь, чтобы в такую пору прийти на помощь бедной
матери, которую ждут голодные и замерзающие
детишки. Поверил бы, брат, на всю жизнь поверил бы.
А может, и не поверил бы. Это надо чувствовать не
только сердцем, но всей кожей своей. Тебя, брат,
сказкой не удивишь. Ты в любую минуту можешь включить
транзистор и слушать весь мир, не сказки, а то, что
в мире творится на самом деле. А для меня и для моих
сверстников сказка была целым миром — огромным,
удивительным, полным чудес. И чего только там не
было: правда и кривда, добро и зло, красота и уродство,
справедливость и коварство, мудрость и глупость,
мужество и трусость. Были там веселые плуты и добрые
герои, не боявшиеся смерти, умиравшие и вновь
оживавшие. Это был чудесный мир. В нем не было ни
минуты покоя — вечное противоборство, и трудно сказать,
кому в этом мире больше достанется, добру или злу, но
в конце концов в сказке все же жили и остаются жить
добро и справедливость...
Нет, брат, сказка, она и есть сказка, но для меня она
еще и песня из страны детства. Я верю ей и не забываю
ее, как материнскую ласку.
*2 н. Джусойты
337
Песнь о горской деревне
Мне пришло в голову спросить мальчика, а не хочет
ли он уехать в город учиться. Заранее знал, что мальчик
ответит — хочу! И все же спросил, а вдруг скажет, что
ему хочется жить в родной деревне. Нет, не может этого
быть. Знаю, что в городе, даже в маленьком, есть что-
то привлекательное для неопытной души деревенского
мальчика, по себе знаю. Иная жизнь, множество
незнакомых людей, книг, зрелищ,, мало ли что может
привлечь мальчишечье любопытство. А там привыкнешь,
пустишь корни в городскую почву и вернуться в деревню
не сможешь, если даже будешь тосковать по ней. Это
как в притче...
Один бравый охотник залез в берлогу к медведю, я,
мол, его за уши вытащу. Долго он не вылезал, и тогда
товарищ крикнул ему:
— Пора домой возвращаться, вылезай!
— Вылез бы, да медведь не пускает..,
— Тащи медведя за уши!
— Тащу, да не могу!
Так и со мной получилось. Вернуться бы в родную
деревню, перетащить бы туда все, что мне мило в
городе, но это невозможно. Город просто так не отпускает.
У него великая сила притяжения. И эту силу одной
любовью к деревне не одолеть... Уедет этот мальчик в
город и не вернется. Мальчик это знал и отвечал на мой
вопрос:
— Окончу десятый класс и поеду учиться в Москву
или Ленинград.
«— А потом?
— Потом буду работать, как все.
— А домой не вернешься?
— Сюда, в наше село? ..
Мальчик задумался. Видно, понимал, что вернуться
будет невозможно. Что ему делать здесь с его
дипломом? Да и привыкнет к городской жизни, к ее
удобствам, к новым друзьям, к иному общению с людьми. Не
отпустит его город. И в нашем селе станет на одну
семью меньше. В нем и сейчас половина домов пустует.
Опустеет еще один дом. Может, так и надо,- но мне
грустно видеть пустые дома и развалины давно
покинутых жилищ. Уходит человек с насиженного места, и без
338
него все живое немеет и дичает — и земля, и камень,
и дерево, а тропинки зарастают травой.
Родная деревня! Маленькие горские села!
Что могу им сказать? Что люблю их? Но здесь
любят молча. Молча. В деревне я вырос, деревня качала
мою колыбель, с рук кормила, как птенца. Как же не
любить ее? Это было бы черной неблагодарностью
человека без памяти. А в моей душе деревня живет, как
суровая и в то же время ласковая мать. Бедность
заставляла быть суровой, материнская любовь —
ласковой. Как и многие мои ровесники, я ушел из деревни, но
сны мне снятся деревенские.
Я в неоплатном долгу перед нашей горской деревней.
Всем, что есть во мне достойного имени человека, я
обязан ей. Но я люблю ее не только как дитя родную мать.
Горская деревня эту любовь выстрадала. Все люди,
которыми гордится историческая память Осетии —
Ирыстона,— дети горской деревни, вскормлены и
взлелеяны руками горских матерей, родниковой водой и
черствым ячменным хлебом гор. Она — наша первая
любовь и останется в нашей памяти на всю жизнь.
Знаю все беды и обиды твои, родная деревня, твою
трудную жизнь, нерадостные будни и скромные
праздники. Но не знаю, как унять твою печаль: твои дети
покидают тебя и уходят в города. Понимаю, как тебе
горько, когда видишь опустелые дома, немые улочки, не
знающие прикосновения босых ступней детворы, их
птичьего грая. Знаю, радостно тебе, что там, в городах,
они ищут и находят иную жизнь, более устроенную и
современную. И все же вижу на твоих ресницах слезы.
Так плачет старая мать, когда ее дети покидают отчий
дом и не возвращаются к родному очагу. Знает, детям
там, в ином краю, лучше живется, но для сердца матери
это большое ли утешение? Нет-нет да приходит в голову
сомнение: так ли уж трудно детям благоустроить отчий
дом, украсить его трудом и любовью своей? Как же
это — не иметь силы или желания устроить свой
собственный очаг?..
Прими мою любовь и благодарность, горская ничем
не примечательная деревня!
Ты отдала нам все, что у тебя было, отдала по-мате*
рински щедро. Свой звучный и многоструйный язык,
свои обычаи и свычаи, свое красное слово для торжеств
339
и молитв, свое смешливое слово, дающее силу утиши^
тоску в трудный час, пошутить над бедой и отвести ее от
сердца. Ты дала нам чудо сказки и неизбывную печаль
своих древних песен, свою доброту и мужество, чувство
достоинства, которое пуще глаза надо беречь в трудный
час, свою гордость и скромность, звуки фандыра с
двенадцатью белыми и черными струнами и нартскую
пляску —симд, громовой голос песни Уастырджи и
нежные переливы колыбельной. Ты дала нам радость
видеть свечение росинок на ладонях клеверных
лепестков и сияние звезд ночного неба, нависшего над горами.
Дала нам свои пашни и луга, свои деревья и травы,
родники и речушки. Учила сызмальства и косой махать,
и за плугом ходить. Учила с рогом араки в руке
говорить с богами как равный с равными, требуя, а не
вымаливая справедливости на земле. Учила слушать сердцем
самые горестные песни на земле — плач матерей по
умершим сыновьям.
Спасибо за все! И прости нас, если недостойны твоей
суровой щедрости и ласковых рук.
В морщинах старых осетинских гор разбросаны вы,
маленькие горские деревни, словно пчелиные соты,
затерянные в луговой траве. Все вы похожи на мое родное
село. Знаю, родной очаг ни с чем не сравним, и все же,
когда брожу "по нашим горам и вдруг замечаю за
каким-нибудь выступом безымянной скалы дымок из
невидимой еще сакли, сердце начинает трепыхаться, будто
отогревшийся за пазухой воробышек. Я не выделяю из
вас ни одной деревни, вот только Нар стоит в душе
каждого осетина особняком. Нар неотделима от имени
Коста, поэта, вождя, героя. Нар — единственна, как
светлре солнечное око на небесах. Это о ней сказал
поэт: «На великие столицы я Нар променять не могу —
там в благословенный день Коста родился на кизяковом
настиле!» А все другие горские селения равно дороги
моей душе.
Спасибо тебе, наша горская деревня!
И пребудь под этими ясными небесами во веки
веков!
Пусть меняется обличье твоих жилищ, пусть не
обойдет тебя стороной то, чем богат и притягателен город,
но сохрани душу живу. Мужеству, доброте и
дружелюбию нет в мире замены, а человеческое достоинство еди-
340
но всюду — в горской сакле и в жилище богов, в дере-
вуйкё, куда добираются по пешей тропинке, и в
многомиллионном городе с высотными домами и скоростными
лифтами.
Родной очаг! Не о том мое слово, люблю ли тебя или
привык к городу. Полюбил я и наши города. В Ирысто-
не их на пальцах можно пересчитать, да и большими их
не назовешь. Знаю, что вся жизнь, будущее нашего
народа, его языка и культуры, достоинство поколений,
которым жить и цвести на этой земле,— все связано с
городом. Не я прирос душой к городу, он сам вошел
в мое сердце, вошел на всю жизнь. И это не
оправдание, а сама правда — Коста родился в деревне, в Наре,
но похоронен он в городе. «Ирон фаидыр» Коста
написана, набрана и издана в Дзауджикау, а не в Наре. Как
же, какой межой отделить Нар от Дзауджикау в сердце
осетина?
В моем сердце они как два ядрышка в одной
скорлупе. Только з часы уныния и раздумий тихо шепчу
городу: «Дай нам, город, поэтов!» Наш город не рождает
пока поэтов. Наши поэты по рождению все — дети
деревни, но живут и умирают в городе. А я мечтаю о тОхМ
времени, когда наш родной язык станет в городе не
праздничной одеждой, а обыденным языком дружеской
беседы, деловых соображений, житейских забот, тогда
на нем скажется и пророческая мысль мудреца и
божественная молитва поэта. И город станет родиной по-
этоз.
Здравствуй, город!
Я сын деревни, но все свои дни, труды и заботы
связал с тобой, и не считай меня приемышем, я и твой сын.
Будь самим собой, храни свой фарн, созидай самого
себя, прекрасного и не похожего ни на кого другого ни
лицом, ни статью. Предки оставили нам доброе
наследство — на редкость звучный и выразительный язык. Да
будет он твоим высоким знаменем, под которым жить
и творить тебе, чтобы не осрамить ни живших до нас, ни
наследников своих. На этом языке можно с
достоинством говорить и с людьми и с богами о правде и
мужестве, о красоте и добре. Будь достоин его и храни, как
огонь в очаге, как свое доброе имя, фарн своей земли.
Здравствуй, город, и ныне и всегда! Прости меня, я
не твой певец, всего лишь твой труженик. Но верю, вы-
341
растут твои поэты; может, над их колыбелями
склонились уже материнские лица и тихо напевают им твои
песни. Я услышу, приму и привечу их песню. Верно, мне
не петь эту песню, но не жалею и не завидую, каждому
свое, только бы не оскудевала на земле песня добра
и красоты, мужества и справедливости. И пели бы ее
сильные и добрые люди.
Песнь о горах и степях
Сегодня мой черед звать мальчика с собой на
высокую гору. Оттуда хорошо видна вся долина и села
окрест видны. В его годы мы с дружками каждой
осенью по утрам торопились туда собирать ягоды —
смородину и чернику в низкорослых кустах
рододендрона. Но Берда одного туда, за перевал, не отпускают.
Ему остается с тоской глядеть на вершину и ждать
случайного попутчика, вроде меня, заезжего горожанина.
Вот и радуется мальчик, только просит подождать его,
пока он сбегает домой и предупредит мать.
— Я уже сказал ей, и она отпустила тебя со мной.
Отец твой нам коня предлагал, но я отказался, мол, мы
на своих двоих доберемся до Безымянного перевала.
— Так чего мы ждем? Пора в путь! — Мальчик рад,
что ему повезло.
— Беги домой, возьми хурджин с едой и
фотоаппарат не забудь прихватить, на стене висит.
— Сию минуту буду здесь, а там — как махнем! —
Мальчик -широким жестом показал, как мы взлетим на
гору.
Сидим на округлой плешине Безымянного перевала,
как на крупе коня. Травинка к травинке как волос к
волосу, словно причесаны невидимой рукой — то ли
гребешком, то ли мелкозубой скребницей. Сидим, вытянув
набрякшие ноги, опершись на локти. Устали оба, но
стыдимся признаться друг другу. Молча глядим на зеленую
котловину и не можем наглядеться...
Когда ходишь по проселкам внизу, в долине,
чувствуешь себя в большой яме и видишь все иначе. Да и
видишь всего лишь пыльную ленточку дороги до
ближайшего поворота, вьющейся вдоль речушки, у которой
даже имени нет,—просто, скажут, речка ущелья. Ви-
342
дишь над собой лоскуток синего неба, вдоль бережков
речки кусты* орешника или ольховника, а чуть выше
кудрявую листву буковых деревьев. Отсюда же перед
тобой раскинулась широкая долина, множество
спускающихся на дно долины лощин, сухих оврагов и мелких
ущелий-боковушек, с неизменной серебристой ниточкой
шумливой речушки, в которой воды на один глоток
усталому волу. Один выше другого толпятся зеленые
пригорки, покрытые лесом, а там выше, куда не взобраться
даже горской березе, любящей, как гордые туры,
глядеть на божий мир сверху вниз, покато стелются ровные
склоны с невысокой, но густой травой. Это наши луга,
издавна оберегаемые от потравы.
Ничего особенного нет в краю моего детства, и всего-
то он с ладонь натруженной крестьянской руки, а вот
и во сне и наяву мне грезится этот краешек земли,
сердце приросло к нему, и не оторвать. И нет для меня
красивее и роднее земли на всем белом свете. Знаю,
куда бы меня ни забросила судьба, днем буду по ней
тосковать, ночами будут мне сниться этот клочок земли,
вот эти зеленые нагорья. И видно, в свой закатный час
буду вспоминать слова поэта:
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.
Сидим на Безымянном перевале, жуем черствый
хлеб с кусочками сыра. Есть у нас й бутылочка араки,
есть и рог, но не хочется пить, устал. Однако- пришлось
наполнить рог, надо же поблагодарить духов гор —
сделать несколько глотков и выплеснуть оставшуюся в роге
араку на траву. .
Гляжу искоса на Берда. Он жует неохотно, но во все
глаза смотрит на долину, на маленькие села,
разбросанные там и сям вдоль речушек. ОтСбда хорошо видны
большие горы. Там, где кончается зеленая гёоЛйса лесов
и высокогорных пастбищ, берет начало черная
скалистая громада гор, а над ней возвышаются вечно
белые вершины. Верно сказал о них старый наш поэт:
«Чернолицы и белоголовы наши горы!»
Показываю Берду села нашей котловины,
рассказываю, какой род под какой вершиной живет-ютится. На-
343
зываю все нагорья и пригорки, перевалы и пастбища ж>
именам. Берд слушает и запоминает. Пусть невелико
богатство, но он должен знать то, что ему принадлежит по
праву наследника. Пусть гордится и красотой этой
долины, и величием этих гор. А придет время, когда он
почувствует,— а может, и откроется это перед ним как
истина,— что он еще и ответствен перед этой землей.
И нет ничего выше этой ответственности. Она безмерна,
как красота земли, как величие этих гор, яростно
вздыбленных в небо, будто горячая планета хотела
доплеснуть огненной волной до небес, но неба не достигла,
а волна застыла в дерзком броске, и не дано ей
вернуться в объятия родной стихии. Горы остались
вечными ступенями на небеса, суровым воинством, стражем
матери-земли.
Страшно носить звание сына гор, но не страшись,
брат, если можешь жить с достоинством до седых волос,
если чувство чести неугасимо в твоем сердце. Но не
приведи бог, если когда-нибудь хоть пылинке позора дашь
осесть на свое доброе имя. Отвернутся от тебя горы,
и не будет прощения ни тебе, ни твоим детям. Позорное
клеймо отступника не сойдет с твоего лица и после
смерти.
— Вот это и есть наша отчая земля? — тихо
произносит Берд, и непонятно, спрашивает ли он самого себя
или кого другого. Но мне кажется, что он говорит это
разочарованно, будто я его обманул... А может, и в
самом деле он считает, что нельзя называть отчим
пределом вот эту небольшую котловину, эти безымянные
речушки, эти вот горы, равнодушные ко всему,
устремленные в небеса, будто навеки отвернулись они от всего
земного?..
Может быть, но мне не хочется ни спрашивать, ни
спорить с мальчиком. Пусть он думает по-своему и сам
находит свой отчий край. Эту землю предки оставляют
тебе в наследство, но станет ли для тебя она воистину
отчим краем или так и будет обычной землей, это
зависит от тебя, от твоего сердца и разума...
Я знаю одно: все горцы-осетины, жившие до меня,
и все мои ровесники считали эти горы своими,-хотя горы
принадлежат всем и никому в отдельности. Горы —
вольные птицы, навеки завороженные небом, и нет над
ними ничьей власти, ни людской, ни божеской. Они сво-
344
бодны^ всеобщи, как небо и звезды,—всем даио
глядеть на них радостными или печальными глазами; как
песня и язык,— всем дано петь, если сердце открыто
человеческой боли и грусти, дано говорить, если
чувствуешь вкус и запах слова, его тепло и свечение. Для всех
людей, живших на этой земле до нас, горы были
священны. Богом клялись и всуе, горами только в
исключительных случаях, когда утверждали истину слов,
мыслей и чувств. «Горы родимые» — это говорилось так же,
как «родимая мать», «родной очаг», «родная земля».
И, видать, потому горы всюду — в песнях, легендах,
пословицах. Когда приходилось горцам расставаться с
этой землей, они в своей песне вопрошали: «О горы!
О родимый край! Как жить нам без вас?» А ведь в этих
горах жилось им несладко. Тяжкий, безмерный труд с
мальчишеских лет до смертного часа, отнимавший все
силы и время. От него не только руки были в мозолях,
но и на душе — кровавые волдыри. Не успеешь
моргнуть, а красное лето умчалось за горы, на смену
спешит лютая зима. И в сердце бедняка рождаются
горестные слова: «Зима щедра в наших горах —в рост
человека выпадает снег...» И куда ни повернешься —
всюду ждет-поджидает смерть под снежным обвалом.
Не зря такой тоской и болью звучат стихи Коста:
Грозят нашим саклям
Обвалы с вершин.
Как предки, мы гибнем ^
От грозных лавин...
Но голодных детей надо кормить. И горец, в отчаянии,
очертя голову идет навстречу гибели, взбирается на
неприступные в эту пору вершины — добыть хоть тура,
хоть косулю. И он же сам сложил пословицу: охотник
ближе к мертвым, чем к живым, а на кладбище
погребен не бывает. «Наше лето — рай, наши зимы — ад!» —
твердили предки. И все же любили свои горы и
потомкам завещали:
Как помру — не вздумай в горе
Ты покинуть наши горы,
Ты люби свой край.
«Не уставай!» «Не покидай!» «Не забывай!» — эти
повеления звучат в моем сердце всюду, где бы я ни был.
349
Не уставать в горах, где кусок хлеба достается тШким
трудом, невозможно. Приходится и покидать родные
горы, но забыть их не дано человеку — слишком высоки,
отовсюду видны... Уедешь за тридевять земель, на край
земли, но и там видны горы Кавказские, но и там
сияние вершин ласкает душу. И не забудешь их, не
одолеешь их притяжения.
С малых лет каждое утро, проснувшись, я видел эти
вершины. Когда по вечерам, угомонившись, засыпал,
последним смутным видением были те же вершины.
И когда впервые дали мне поглядеть на ломаную линию
сердцебиения — кардиограмму, на ней я видел
изображение той же цепи вершин с ровными провалами
между ними. Как же их забыть?
Горец рождается у подножия горы. Малыш, он
делает свои первые шаги по тропинкам, оставляя следы
босых пяток в мягкой пыли проселков. Набегавшись,
ложится спать там, где сморил его сон. И сладко ему
спать на теплой земле, на траве, обласканной солнцем,
словно кладет он голову не на кочку, а на материнскую
ладонь. И спит беззаботно — над ним склонились
родные горы.
Вся жизнь его проходит в родных горах. Здесь он
родится, вырастает, трудится, переживает своих
родителей, сам становится отцом. Все его радости и горести
проходят на виду у гор. И нет у него печали, которой бы
он не поделился с горами. И нет праздника, на который
бы не были приглашены горы. Всех своих покровителей-
духов, все добрые божества расселил он по вершинам.
И смерть застает его здесь. Он уходит из жизни на
глазах гор, опечаленных в закатный день их сына. И его
хоронят горы, скорбно прикрывают каменистой землей,
точно буркой в непогоду.
Видно, оттого все наши песни и легенды неизменно
кружатся, как орлы, вокруг белых вершин. Так есть, так
было всегда. Это как обычай, освященный веками.
Я принимаю его, но мне не по душе, что в этой нашей
песне нет ни слова о равнине, о предгорных степях.
А ведь горячим дыханием бескрайних степей опалены
героические сказания о нартах...
У песни, видать, короткая память, она забыла степь.
Не помнит степь-кормилицу, а о ней всегда мечтали
горцы-землепашцы. Видеть, как волнуется пшеничное поле
346
без конца и края,— нет прекраснее мгновения. Я помню,
как мой отец, состарившийся в горах, завороженно
стоял у края неоглядного поля, поводил по шелковой ости
пшеничных колосьев ладонью, словно по ребячьей
головке, и в немом восхищении, в каком-то невыразимом
блаженстве цокал языком: нц-нц-нц!..
Нет, степи достойны песни не менее гор! В устах
горца не было горшего упрека, чем — неблагодарный!..
Певцу нельзя быть неблагодарным. Наши песни в
долгу перед степью-кормилицей...
Здравствуй, наше древнее поле, прародительница
нашего племени!
Здравствуй и войди в наши песни, древняя мать
наша!
Песнь об очаге и большом мире
Долго бродили мы с Бердом по Безымянному
перевалу. Осмотрели все кусты смородины и черники,
уродились ли ягоды, или зря придется подниматься сюда
осенью. Берд увидел в зарослях рододендрона горную
индейку и, узнав от меня, что это за птица, увлек меня
заманчивой игрой — поймать индейку. Знал я по давнему
мальчишескому опыту, что это безнадежное дело, но
пришлось покориться желанию Берда. Долго мы
гонялись за индейкой, но ничего у нас не получилось.
Выглянет из сплошного навеса кустов, уставится на нас, но,
как только заметит, что мы двинулись к ней, прячет
свою голову. Подкрадываемся к тому месту, где только
что стояла индейка, но ее и след простыл — под кровом
плотной листвы тысячи переходов, и она успевает
удрать в безопасное место. Пришлось отказаться от
этой затеи. В сумерках мы спускались в село.
Буковое мелколесье подкрадывалось почти к самому
дому Берда. Я с детства знаю, что там, на опушке, к
полуночи засыпают светляки на клеверных лепестках.
И мне захотелось хоть одну ночь скоротать рядом с
ними. Когда уснула вся семья Берда, я взял свой
спальный мешок и тихо вышел за ворота. На опушке леса
Давно приметил целый ворох ветвей, видимо, кто-то
срубил дерево и здесь очистил ствол от веток. Сложил я
из них ложе и залез в свой мешок. Теперь можно
спокойно глядеть на небо и слушать ночь.
347
Отсюда хорошо виден и Безымянный перевал. Горы,
валитые лунным светом, были какие-то нежив&ё;
невсамделишные, но я знал каждую скалу, каждую
лощину, каждый пригорок. Пусть полумрак закутал их и
преобразил, в моей памяти они вставали в их реальном
земном обличье. Я вновь перебрал наши дневные
скитания по горам, и в памяти всплыл тихий разочарованный
голос Берда: «Вот это и есть наша отчая земля?..»
Теперь я сообразил, что смутил меня и обидел не
мальчик, не его слова, может быть сказанные просто,
без умысла. Я слышал не раз от осетин, взрослых и
образованных людей: «родной край», «отчая земля»,
«Ирыстон» — пустые слова. Пядь земли и горстка
народу — всего-то, а именуем их высокими словами...
Не скрою, считаю таких пустыми людьми. Но стоит
объясниться. Не столько с ними, сколько с Бердом, с его
ровесниками. Быть может, им тоже придется решать
спор об этой пяди земли и родине, о горстке народа
и национальной гордости. Решать для себя, для своей
жизни. Это же спор о том, как чувствовать и мыслить,
как ощущать себя в этом огромном мире, где тебе
посчастливилось жить хоть малый срок, но жить
человеком. И мне хотелось бы, чтобы и мой голос был на чьей-
то стороне. Ведь я их соплеменник, и мне не все равно,
как нынешние мальчишки будут решать этот спор...
И я хочу, чтобы мой голос был живым и искренним,
а еще — услышанным.
Да, горстка народу и пядь земли. Но разве этого
мало, если ты в ответе за эту пядь земли и горсточку
людей, если это твоя родина, отчий край, страна отцов,
если это народ, к судьбе которого ты причастен с
рожденья, и нет у тебя иной судьбы? Пусть он малочислен,
но ты принадлежишь ему, как и он тебе. Каждый твой
соплеменник — твой брат по крови, по судьбе, языку и
культуре.
Слышу иронизирующий голос: а если твой
соплеменник совершит преступление, то все же останется твоим
братом? .. Да, останется, как ни печально, останется.
Когда мой соплеменник совершает подвиг, то никто не
задается этим странным вопросом: имею ли я право
гордиться им, как братом? В таком случае это
разумеется само собой. И я горжусь им, отличившимся братом,
по праву родства. Но разве не малодушно и не фаль-
348
шиво ртказываться от соплеменника, когда он
совершает что-то позорящее человеческое достоинство? Нет, мне
горько сознавать, что он мой соплеменник и мой
современник. И я чувствую какую-то невольную вину, словно
причастен если не к его преступлению, то к его
позору. ..
Никто не волен называть себя русским или
украинцем, грузином или осетином по собственному желанию
или разумению. Им надо родиться, им надо стать.
Получить это «звание» как бесценное наследство. И оно, это
«звание», не дает привилегий. Оно каждого обязывает,
и обязывает безмерно и пожизненно. Я знаю, среди
моих современников — осетин, грузин, русских, украинцев,
армян, чеченцев, аварцев и многих других — есть люди,
которые при случае охотно перечисляют исторические
заслуги, ратные подвиги и духовные деяния, добрые и
прекрасные обычаи своих дальних и близких предков
с одним-единственным умыслом — самим покрасоваться
в сиянии этих подвигов и деяний. Перечисление идет
каждый раз с таким самодовольством, будто эти
подвиги свершались не без их личного участия, а добрые
обычаи пошли от их личной мудрости и величия духа...
Не люблю я таких людей, мой мальчик, мой брат.
Знаю, каждый имеет право гордиться своим народом,
его заслугами, подвигами и созданной им культурой. Но
я думаю, что народ трудился и отстаивал свое
достоинство веками, тысячелетиями. И то, что ему удалось
создать и сохранить,— не просто твое достояние, нельзя
о нем упоминать всуе, за каждым пиршественным
столом, в приятельской болтовне. Славу и честь народа
нельзя навешивать, подобно медалям, на грудь
каждому спесивцу и честолюбцу. Нельзя приспосабливать к
ним свое личное карликовое тщеславие...
И если уж берешь на себя смелость называться
наследником предков, их чести и славы, то прибавь сам
к этой славе хоть песчинку своего добра, малую
песчинку. «Мир праху твоих предков, но и сам будь
молодцом!» — эту заповедь предков не худо бы помнить
каждому. А если сам на каждом шагу забываешь о своем
человеческом достоинстве, так вправе ли ты гордиться
славой и честью предков? Не хитришь ли в таком
случае и с предками и с современниками? Не есть ли это
349
желание прикрыть свою наготу костюмом с чуж>го
плеча?
Вспоминается сказка о Чертым-хане. Сам гол как
сокол, но сватается к царевне. Нарвал разных цветов
и сплел из них накидку, чтобы издали приняли его за
королевича в блестящем наряде... С глупыми царями
можно хитрить и плутовать хотя бы в сказке, но со
славой и достоинством предков такая игра — позорное
кощунство.
По мне, слава предков для потомка — незримая
опора души. Она не дает человеку оступиться на трудном
пути жизни и каждый раз как бы хзатает за рукав
и отводит от бесчестия и несправедливости в мыслях
и поступках. Она ревниво следит за делами потомков,
стыдится их недобрых поступков и радуется их красоте,
мудрости и мужеству.
Достоинство предков придает мне силы, когда в
трудные дни своей судьбы порой малодушно мыслю:
смирись, выше головы не прыгнешь, ты всего лишь
бессильный муравей, вот и остается тебе ползать
вровень с землей, жить в ежедневных заботах о хлебе
насущном,— такова твоя доля!.. В такие дни мне светит
доброе имя предков, будит в сердце мужество своим
укором: не бывает так, чтобы у львицы рождались
зайчата, а у предков, славных умом и мужеством, потомки
выродились в ползучих муравьев. Собери всю силу
души в кулак и живи этой правдой или умри с ней.
Смирение оставь нам, отжившим и умолкшим оно к липу.
Слава предков мне нужна еще и для того, чтобы
верно судить о свершениях своих современников, моих
сверстников. Слава предков, их свершения и
творчество — та мера, перед которой наши деяния, наше
достоинство предстают в своей истинной сути. Эта мера
справедлива, как детское неведенье фальши, неумолима и
неподкупна.
Знаю, гордиться славой предков каждый вправе.
Знаю, что гордиться можно, но жить только славой
предков нельзя. Такой наследник быстро промотает и
честь и славу предков. Не зря сложили пословицу:
хорошему сыну казну не собирай, а дурному -*¦ не
оставляй. Знаю, что предки — это наше прошлое или мы в
прошлом. Но неужели прошлым можно только
гордиться? Разве наше живое нравственное чувство не должно
350
стыдиться всего дурного в духовном опыте прошлого?
Можно, конечно, спрятаться за фразой: я не судья
прошлому, у давно отшумевших времен были иные
представления о добре и зле, нельзя их судить по законам
современного нравственного чувства!..
Неправда, если наши предки — это мы в прошлом, то
мы вправе судить и о прошлом и о современности,
судить о том, как жили и живут люди, чем жива была
человеческая душа в прошлом, чем она возвысилась в
наше время и как она сможет коснуться крылом той
вершины, которая так ярко видится нашему
воображению в часы размышлений о будущем. Нет, мы судьи
и самим себе и прошлым поколениям. И нас будут су?
дить вслед идущие. Человек не только творит, но и
судит.
Отними у человека это право, и уже никто не
поймет, кто же виноват в тех страшных злодеяниях,
кровопролитиях, угнетении, издевательстве и принижении
человеческого достоинства, человеческой мечты о
справедливости, которыми полно прошлое всех народов. Добро
и зло, правда и кривда, справедливоть и насилие
усядутся за одним столом, в одном ряду, будто они равного
достоинства и нет никакого между ними различия.. ¦
Я другого мнения о своих предках, мой мальчик, мой
брат!
Я думаю, они были живыми людьми, жили, как
могли и умели, то по велению высокого ума, то сообразуясь
с подсказкой предрассудка, далекого от мудрости. Они
и созидали и разрушали, порой отстаивали свое
достоинство с поразительным мужеством, а бывало, что
силой унижали чужое, но не .считали это
несправедливостью. Со многими народами жили в мире, со многими
враждовали. И в этой их пестрой и неуемной жизни
было всякое — и то, что достойно славы, и то, что
нельзя назвать иначе как позором. И если мы истинные
потомки их, то не надо страшиться позора, достаточно
быть достойными их славы. Надо принять все наследие,
и если мы действительно мудрые люди, то наше
нравственное чувство разберется в нем и откажется от всего
дурного, безобразного и несправедливого. И мы найдем
в себе мужество одолеть это все, хотя бы для того,
чтобы не дать повториться прошлому в собственном опыте
исторического творчества.
351
Я знаю наследие своих предков. Нельзя считатжсво-
им то, чего не знаешь, не чувствуешь сердцем. И я
старался всю жизнь узнать его и понять. Но мне дороже
всего в этом наследстве то, что я воспринял еще в
детстве, не обсуждая и не осуждая, что вошло в плоть
и кровь мою с материнским молоком. И пусть я не все
змаю и ведаю, даже дожив до седых волос, но моя душа
прилепилась к этому наследию с той далекой детской
поры, которая всегда со мной, ходит надо мной как
незакатное солнце, светит и вб тьме кромешной, греет
в аюбую житейскую стужу.
Это язык предков, песня предков, в которой душа их
сказалась в очищенной красоте, земля предков — мой
очаг, Ирыстон.
Ирыстон, мой очаг,— очаг всех потомков, и мой, и
твой, и тех, кому жить после нас. Ирыстон — наша
старая мать, беречь и лелеять ее — право и долг всех
сыновей.
В один дождливый осенний день я прибежал с ули-
ць| погреть озябшие руки у очага в отцовском доме,
и мне, мальчишке, казалось, что нет светлее и теплее
очага на свете. Мне думалось, все люди знают о нем
и потому приходят к нам в гости. С пригорка над нашим
жильем можно оглядеть весь мир. А самая высокая
гора между землей и небом — вон та зеленая вершина, на
которую пастухи каждый день восходят...
Знаю ныне, что в огромном мире много земель
краше и лучше моего очага, Ирыстона. Земля моих предков
в большом мире — всего лишь клочок, на котором
можно расположить два очажных камня и раздуть веселый
огонь. Но она для меня священна, как надочажная цепь
для горца давних времен. Она для моего сердца —
самая большая и самая прекрасная земля. Верно, есть
земли краше и лучше, но для меня она самая любимая.
И это не достоинство мое, равно как и не порск, всего
лишь моя прирожденная мета, как акцент говорящего
на неродном языке. Разве знание о том, что в мире есть
тысячи матерей красивее и лучше твоей, меняет
что-либо в твоем чувстве к родной матери? Разве она не
остается все равно самой любимой, единственно родимой?
Да если бы на земле Ирыстона было всего лишь одно
дерево и два камня, все равно я приходил бы к ним
в праздничный день с тремя жертвенными пирогами и
352
кувшином араки не молиться, а говорить по душам с
богами, как мой предок, язычник из дали веков.
Любить землю отцов — это и есть, может быть, тот
корень, из которого вырастает человеческая душа, как
сила творящая, созидающая, чувствующая и мыслящая.
Нет этого корня — и нет единого дерева, распадается
человеческая душа подобно растению, которое осетины
называют покати-буря. Даже слабое дыхание ветра
вырывает его из земли вместе с немощными корешками
и катит бог весть куда, пока оно не рассыплется в прах,
чужое и ненужное на этой земле.
Нет уж, родился на отчей земле, любишь ее, так
живи на ней, трудись, созидай, не будь чужаком,
посторонним, покати-буря. Украшай* землю светом ума,
сердечным словом, доброй силой своих рук. Не можешь
украсить, так хоть не разрушай, береги то, что тебе
оставлено в наследство, и передай другим.
Знаю, большой мир не зря называется неоглядным.
Но вековечный лес не состоит из одного дерева, а на
небесах звездам числа нет. Но мой предок-язычник
выбирал из тысячи деревьев одно и вел под ним до
смертного часа бесконечные трудные переговоры с богами о
правде и справедливости на земле, чтобы было чем
жить к дышать в этом мире. Далеко до звезд, да и
считать он умел до тысячи, а их было куда больше, но
он выбирал одну звезду и с ней связывал свою судьбу,
свой восход и закат. Знаю, погаснет на небе одна
звезда, может, на земле никто этого и не заметит. Сожжет
молния одно дерево, пусть даже самое высокое, лес не
поредеет. Но небо и земля будут чувствовать это как
свежие раны.
Знаю, на бесконечных просторах мира мой очаг
Ирыстон — всего лишь очаг о двух камнях, огойек, на
котором можно разве что чай вскипятить да руки
погреть в непогожий день. Но это мой очаг, земля моих
отцов. И я прошу у всех людей большого мира — не
говорить о ней высокомерно и не судить снисходительно.
Знаю, мала моя земля, и не прошу называть ее большой
или прекрасной, но пусть она будет в ваших глазах
такой, какая она есть, не больше и не меньше. Судите
о ней, пользуясь общей для всех мерой добра, мудрости
и мужества. И пусть каждый знает, что малую землю
отцов любят не меньше, чем большую. Есть ст&рая осе-
363
тинская пословица: невесту маленького роста так .же,
любят, как и высокую.
И еще прошу, внушите всем: любить свой очаг — это
долг каждого человека перед всем человечеством. Я
хочу всю жизнь поддерживать огонь в очаге, оставленном
мне предками. И не ради только своего благополучия.
Мое самое большое желание, чтобы у моего очага
каждый добрый человек мог посидеть, отдохнуть и
согреться, а я мог разделить с ним хлеб и соль по-дружески,
по-братски.
Знаю, что земля моих отцов — клочок земли людей,
земли человечества. И если я ее люблю чуть ласковее,
как родную мать, то это не надо мне ставить в вину.
Это, считайте, мой долг и перед моими предками и
перед вами, моими современниками. Знаю, это —
неоплатный долг, и не корите меня тем, что не сумею сделать,
но если буду нерадив, неискренен, своекорыстен в своей
любви, в исполнении своего долга перед вами, да не
минует меня ваше презрение, да постигнет меня самая
страшная кара, какая была у моих предков,— стану
вечным изгоем, неприкаянным и у собственного очага и
на земле всех людей!
Знаю, не перевелись на свете люди, считающие себя
детьми вселенной. Но я в такую вселенскую любовь не
верю. Не потому, что она плоха или слишком хороша.
Она беамерна в своем величии, на такую любовь не
хватает одного человеческого сердца, одной жизни. Всю
землю осветить и согреть разом не может и солнце;
пока светит одним, другие пребывают во тьме и стуже.
И мне кажется, тот, кто замахивается на вселенскую
любовь, просто хитрит. Он знает, что такая любовь
необъятна, она ни к чему не обязывает: ты будто в долгу
перед всеми, но свободен от всех тех, с кем надо делить
труды и заботы. Условная любовь и условный долг, в
тени которых прячется изворотливое себялюбие
хитреца.
Нет, я кочу зот здесь, на ред&ьрой земле отцов, и
жить и рцтъ я&лрвеком. Й,если мне отдастся хоть чем-то
украсить эту 1|ёйлю, хоть Щкд>& простой песенкой, хоть
крупицей добра, то подёШ$> им со всеми людьми
большого мира. Это же давно известно: «Что отдашь —
твое, что скроешь, то потеряно навеки».
Я знаю, что земля моих отцов, мой очаг Ирыстон —
354
ч&ётица большого мира. Но хочу, чтобы и большой мир
знал об этом и радовался, что горит огонь в моем очаге
и оттого чуть больше света и тепла на земле.
Песнь о пастушьей тропинке
Вчера коровы Берда не вернулись домой. Мало
стало в селе жителей — пастуха уже не держат.
Выпроводят утром скотину на выгон, и пусть пасется на вольной
воле. Вечером сама вернется во двор к хозяевам или
дети пригонят ее, деловито покрикивая и потчуя ее
хворостиной. Вчера мы с Бердом ходили в ущелье Выдр.
Так оно называется, хотя там давно никаких выдр и
в помине нет. Речушка заросла ольхой и орешиной, вот
и хотели мы проведать, поспевают ли орехи и можно ли
будет поживиться ими осенью. Вернулись поздно, и
никто не заметил отсутствия яловой коровы и
телки-двухлетки. Сегодня весь день искали их и нашли у самого
Безымянного перевала. Дали им попастись до вечера
и погнали вниз по старой пастушьей тропе.
Коровы идут, медлительно двигаясь по заросшей
тропе, осторожно ставят копыта в давние засохшие
следы — так надежнее. А мы плетемся за ними молча.
Беод, видно, устал или наговорился за день, а мне
грустно и отрадно ходить по знакомой тропе,
вспоминать, вновь оказаться хоть на час в стране детства...
Здравствуй, пастушья тропа! Помнишь или успела
позабыть, сколько раз мои босые ноги поднимались по
тебе на утренней заре к пастбищу у Безымянного
перевала и спускались в вечерних сумерках? .. И сколько
раз проклинал я тебя, когда спотыкался о не
замеченный в торопливом беге камень и разбивал пальцы в
кровь. Едва сдерживая слезы, подскакивая на одной
ноге, ругался: «Да подохнет на этой тропе собака!»
Прости меня. Пастушок бранится, обиду отводит от души
и тут же свою беду забывает. В трудную минуту богов
наравне с коровами поносит. Стоит ли на него обиду
держать?
Здравствуй, наше родовое пастбище! Десять долгих
лет, самых сладких мальчишеских лет носился я по
твоей зеленой мураве. Когда коровы в полдень
ложились отдыхать, дожевывать наспех съеденную траву, я
с откоса глядел вниз, на деревенские улочки, на берег
355
нашей речушки, где играли мои друзья-сверстники. Кд#
я им завидовал, как хотелось пуститься вприпрыжку
вниз, в ущелье, на бережок речки, окунуться в ее
прозрачной, к полудню теплой и ласковой воде, но было
нельзя..
Я забывал обиду и засыпал в густой траве,
убаюканный шепотом духовитого ветерка. Правда, у
пастушка заячий сон: один глаз спит, другой настороже. Своих
подопечных коров он и спиной чувствует. Покинула
корова стойбище раньше времени и норовит улизнуть
пастись на ближний луг, пастух видит ее во сне,
вскакивает, и тотчас догоняет корову злой окрик: «Вернись,
чтоб тебя волки задрали! Чтоб тебя на поминки
зарезали! ..»
Тяжело и нудно изо дня в день брести за скотиной,
нелегкое это занятие — пастушество, а вот вспоминается
теперь как что-то прекрасное. И нередко в мои
городские бессонные ночи мечтаю: удрать бы как-нибудь
летним днем на это пастбище, зарыться с головой в траву
и забыться крепким сном, оставив свои заботы на
гребне Безымянного перевала, как сытых коров, занятых
полуденной жвачкой. Надышаться вдосталь духом
разнотравья. Но нельзя вернуться, а если даже сможешь
удрать, не уснешь прежним сном, ты уже не пастушок
и твои заботы — не медлительные коровы, разомлевшие
в жару. Грустно и радостно глядеть на эту пастушескую
землю, я был на ней работник, но — увы! — золотые
сны детства дважды не снятся...
Здравствуй, вечерний теплый покой!.. Тихо бредут
по тропе отяжелевшие за долгий летний день коровы,
шаркая копытами по каменистой тропе. И каждая сте-.
пенно несет свое полное вымя, будто боится расплескать
молоко. Осторожно ступают, но на узкой тропе широко
не расставишь ноги. А как только чуть придавил вымя,
так белая струйка парного молока успевает оставить
вихлявый след на белой пыли тропинки. Идешь за
стадом и дышишь смешанным запахом потревоженной
пыли и теплого молока. И никогда уже не забудешь этот
необычный запах.
Здравствуйте, мои пастушеские дни! Забыл уже все
свои детские обиды и беды. Вспоминаю свои давние
молитвы-уговоры.
Горные духи! Сделайте так, чтобы камни и колючки
356
становились мягче ваты, когда прикасается к ним босая
ступня пастуха. Не заставляйте меня десятки раз на
дню ругаться и чертыхаться, хромать и скакать на
одной ноге, держа ушибленную на весу, слюнявя
окровавленный палец...
Фалвара, дух-покровитель всякой скотины! Сделай
так, чтобы козы так стремглав не бегали на вершины,
к скальным осыпям и выступам. Свиньи чтоб в жару не
удирали вываляться в грязи, а коровы не норовили
незаметно забрести на луга или пашни. Ты же знаешь,
что за все это мне приходится отдуваться, бегать день-
деньской, хоть разрывайся, еще получать тумаки или
выслушивать грубую брань.
Дух дождя и непогоды! Знаю, земле и траве, дереву
и ячменю нужны и солнечные и дождливые дни. Но
разве нельзя, сделать так, чтобы дожди шли ночью, а
днем всегда было солнечно? Тебе какая разница, днем
ли поливать землю или ночью — у тебя же иной работы
нет, всегда можешь завалиться спать, ты же не
пастух... А мне, пастуху, как было бы хорошо — лежать
в постели и слушать шум ливня или стукотню града по
дранке нашей крыши!.. Когда эти градины стучат по
моей башке и я ругаю тебя последними словами, ты,
верно, обижаешься. А чего обижаться, побудь один раз
рядом со мной, во какие шишки вырастут у тебя на
темени, целый месяц "будешь ощупывать... Замерзнут
пальцы в дождь, так будешь их растирать о свою
бороду, слезы от обиды не удержишь — пальцы при тебе,
а палку в кулаке не можешь зажать... Вот и заругаешь
самого себя самыми паскудными словами, какими и
пастух редко ругается, а ты же дух, повелитель
дождя. .. Сделай же, как я прошу,— пусть дождь и град
идут ночью, когда пастух дома, под крышей...
Колхоза председатель! Знаю, ты не горный дух и не
Фалвара, но ты же всегда ласковый со мной и хорошим
мальчиком иногда зовешь. Разве ты не был мальчиком
и не хотелось тебе играть со своими сверстниками?
У меня же все дни одинаковы, и в праздники и в будни
за скотиной бреду по склонам и крутым тропинкам. И в
дождь и в вёдро за коровий хвост держусь. Думаешь,
это легко и мне не надоело? Как же ты не догадаешься
хоть в неделю раз поручить стадо другому мальчику,
а я бы в тот. день поиграл и в речке искупался?
357
Сколько раз повторял свои молитвы-просьбы, но ни*,
чего не менялось в моей пастушьей судьбе. Видно,
молитвы мальчишек так же не сбываются, как и молитвы
взрослых..,
Четыре воспоминания
вместо одной песни
Летнее сейчас время в горах, скоро начнется
косовица. Тяжкий труд, но сколько в нем радости! Если уж
стал косарем, где бы ты ни был, каждое лето будешь
слышать зов косы: зуд в плечах, учащенное биение
сердца. Верно, изменилась жизнь в горах, но времена года
все те же и той же чередой идут друг за другом. Как
и прежде, ранней весной журавли летят высоко над
горами, с юга на север. Прилетают трясогузки, и люди
выходят пахать и сеять. Прилетают ласточки и по
старинке вьют гнезда под застрехами. Иные из них
осмеливаются залетать в дома и устраивать свои жилища над
очагом. Горцы считают, что это признак особого
отличия,— ласточка приносит счастье своим доверием к
человеку. По-прежнему ранней весной набухают почки на
буковых ветвях и в теплые ночи бледно-зеленые язычки
новорожденных листочков выходят из жестких пеленок
глядеть на мир. Все это приметы весны, рождения
жизни сызнова, но для меня весна начиналась иначе.
Нет, весна все же начинается с капели. Когда
коровы в солнечный зимний день неохотно возвращаются с
водопоя в хлев, норовят подольше постоять у берега
речушки, хотя уже неохотно пьют воду — портится вкус
воды с началом весны. Когда козы начинают
отказываться жевать солому — смущает и манит их запах
набухающих почек в близкой буковой роще. Но самая
явная примета — капель. Весело бросаются вниз головой
крупные капли с бахромы сосулек и стучат по снегу,
дырявят его до самой земли. Талая вода пробивает себе
руслица в снегу. А ночью мороз вновь прихватывает
снежный покров, и утром детвора бежит с санками, с
дощечками, если нет саней, на макушку ближайшего
пригорка и оттуда по крепкому насту катится вниз до
самой речки ущелья.
Надоел снежный плен не только детям. Седой косма-
358
тый1 дед Гаггуз берет длинный трехногий стол, зовет с
собой нас, мальчишек, и мы гурьбой трусим за ним по
склону. С гребешка пригорка мы катимся с бешеной,
как нам кажется, скоростью вниз. Он впереди держится
за ножки стола и управляет поездом. У самой речки он
тормозит ногами, встает и поворачивается к нам — су-«
щий Дед Мороз, борода, усы и брови густо покрыты
снежной пылью, а сам он улыбается и дразнит нас:
— Что, козьи кругляшки, перетрусили? Хорошо вожу
я автамбил, нет? ..
Добрый был старик. Давно его нет, но, когда думаю
порой, что же это такое — человеческая доброта, мне
вспоминается Гаггуз, как он катал нас, деревенских
детей, на своем «автамбиле».
Однажды осенью мы, шестеро мальчишек, ученики
четвертого класса, после занятий сложили в кучу все
свои книжки и тетради и увлеклись игрой, которую мы
называли укрощением необъезженного коня.
Победитель садился верхом на побежденного и «ездил» на нем
до черты, куда он мог забросить палку. В разгаре игры
появилась старушка Зассион и попросила сбегать к
одинокой копне ячменя, отогнать сгрудившихся вокруг
копны свиней. Никому не хотелось бросать игру, но и
отказать старушке было неловко. Она никого по имени не
назвала, поэтому все молчали, опустив головы. Выручил
нас победитель, резвый мальчишка Тода. Он кинулся
бежать и вскоре пригнал свиней Зассион.
Пока он возвращался, мы смущенно стояли перед
Зассион, не зная, как искупить свою вину. Старушка,
видно, пожалела нас и успокаивала:
— А вы не смущайтесь, играйте... Старушке
пособить бежит не самый лучший мальчик, а самый
догадливый. .: А Тода догадлив, это у него в сердце звоночек
такой есть, серебряный. Как зазвонит, так и бежит он,
куда звоночек укажет... Знаю, вы все хорошие, добрые
мальчики. А Тода что ж, раз у него звоночек такой
в сердце, он и побежал первый... Играйте, я пойду, не
буду вам мешать...
Видно, позавидовал я тогда Тоде и с тех пор
называл его ехидно — мальчик с серебряным звоночком. Но
он только улыбался в ответ, и я оставил его в покое.
В свои семнадцать лет он ушел добровольцем на войну
359
и погиб в сорок втором в Крыму Как знать, может, ичйа
войну его серебряный звоночек позвал? ..
Позднее я понял, что и у Гаггуза в сердце был такой
же серебряный звоночек.
Много примет у весны в горах. Когда солнце входит
в силу, снег убавляется на глазах. Пашни южных
склонов быстро обнажаются, и кучи навоза, свезенного
зимой на санях в плетенках, еще не разбросанные, лежат
на бурой земле. Теперь по вечерам мужчины подолгу
засиживаются на ныхасе — месте беседы и отдыха; все
разговоры кружатся вокруг весны, пахоты, семян, волов
и плугов, но самый важный разговор о празднике
весны, с него начинается весенняя страда. Нам,
мальчишкам, радостно слышать и знать, где и как будет
готовиться праздник, кто будет варить в больших котлах
пиво, кто будет старейшиной на пиру. Это праздник
всего села, он тянется целую неделю, пируют все, кто
только может ходить и сидеть за столом. Праздник не
сводится к застолью; в играх, песнях, танцах все должны
показать свое умение, удаль, силу, ловкость, восхитить
своим искусством или посмешить неловкостью.
Смешную неловкость принимают даже с большей радостью,
чем умение искусных в танцах и пении людей.
Все это означало близкий приход весны, но мне
больше запомнилась другая примета — самый ранний
съедобный стебелек по имени кацциу. В маленьких
горских селениях трудно собрать детей не только на целую
школу, но и на один класс. И приходилось в школу
ходить в дальнее село. С занятий возвращались голодные,
и было большой радостью найти где-нибудь у края
оползня или под скалой на солнцепеке нежный стебелек
кацциу. Первый дар весны горским детям. Самая
памятная примета прихода весны в горные ущелья Кавказа.
Летняя пора в горах подлинно красна. Только
горцам бывает недосуг замечать эту красоту. Все силы
отнимает тяжелый труд. В горах шутят: столько работы,
что на все дела пальцев на руках не хватает.
И главная примета горского лета — неуемная ярость.
Взошло солнце — и сразу же палит немилосердно. Идут
здесь летом не дожди, а ливни, обрушиваются на землю
дождевые капли величиной с горошину. И трава прет из
земли яростно, листом обычного лопуха пастухи в
дождь прикрываются, как прорезиненной накидкой.
360
И работают люди так же яростно. Вышел на сенокос —*
маши косой от зари до зари. Сгребают сено, так и
ночью не возвращаются домой — ночью прохладно и
работается споро, да и увлажненные ночью сухие
травинки не так ломки, не превращаются в труху, как днем на
солнечной сушилке.
На косовице в ярости с косарями соревнуются
стрекозы и кузнечики. Не уставая стучат своими
молоточками, будто косы отбивают на незримой наковальне. Одни
только пастухи в эту пору сохраняют спокойствие и
грустят в одиночестве, стоя где-нибудь на гребне
невысокого пригорка, опершись подбородком на зажатый в
руках посох. Если пастух и запоет, то все равно
грустную песенку о любви или застольную... Редко
приходится ему сидеть за столом, и невольно он запевает:
«Возьми, выпей, опрокинь!..»
В начале лета, когда уже давно отсеялись, но до
косовицы и жатвы осталось еще несколько недель,
горцы идут в лес, рубят старые буковые деревья на дрова.
Мальчишки увязываются за отцами и целый день
проводят в лесу в тиши и прохладе.
Сквозь густую листву едва видно ясное око солнца.
Под большими деревьями на голой земле тени от ветвей
и листьев. Набежит ветерок — и тени елозят по земле,
стихнет он — и тени опять лежат на земле, как единый
узор-трафарет. К полудню в лесу становится душно,
умолкают вездесущие, неугомонные птахи, лишь
изредка закукует гулко и коротко кукушка, но, не досчитав
и до десяти, умолкает. И только не утихают удары
топора. Жалеешь в душе отца, но помочь не можешь, не
мальчишечье это дело — валить вековые деревья...
Неприметен переход от лета к осени. Но это самое
трудное время: сенокос еще не кончается, а уже пора
жатвы настала; не успеешь покончить с молотьбой, а
уже пришел час свозить сено с дальних лугов. Правда,
теперь уже замечаешь, что нет прежней ярости ни в
чем. Устало все: солнце, земля, травы, люди. Усатые
пшеничные колосья еле держатся на хрупких изогнутых
шеях. В лесу полно ягод — ежевики, голубики, черники,
смородины, медвежьего меда — так называют на
редкость сладкие ягодки, похожие на костянику. Каждый
кустик, каждый стебелек выставляет свое добро
напоказ и манит к себе, зазывает. Один лишь бук молчит, не
361
зовет, но внезапно встряхнется, что овца послендавия,
и сыплются пригоршнями на землю золотистого цвета
трехгранные литые орешки.
Осень в горах многозвучна и разномастна, но мне
она почему-то запомнилась как грустная пора. Какое-то
беспричинное томление разлито повсюду. Легкое, но
вкрадчивое и неотступное чувство. Чем-то напоминает
пушинку одуванчика, которая невесомо и бесцельно
плывет по разреженному воздуху, и нет ей
пристанища.
Лес осенний сродни труженику. Отпраздновал свое
и теперь снимает пестрые, яркие одежки, словно ему
утром на работу идти. Речушки приуныли, обмелели, но
чисты-чисты, даже осенний мелкий дождь не может их
замутить.
Присмирели и стада. Их пустили пастись на стерню.
Не надо уже брести на заре к Безымянному перевалу.
Кормись всюду, запреты сняты, луга и пашни
разгорожены. И легко теперь пастухам, им осталось только
издали приглядывать за стадом. С высокой скалы далеко
видно, легко заметить, если какая-нибудь
привередливая корова вздумала заночевать в лесу или на дальнем
выгоне, и окриком вернуть ее назад — иначе не
миновать ей встречи с волком.
Легко на сердце у пастуха, почему бы ему и не петь.
Как умеет, развлекает он сам себя незамысловатыми
песенками. Достает из кармана самодельную свирель,
сам вырезал ее из веточки шиповника. Подносит к губам
и, перебирая лунки пальцами, выдувает из них
дрожащие звуки тихой светлой грусти. Видно, не особенно
верит он этим звукам, их поэтической силе, и добавляет
к ним слова старинной песенки о несмелой юношеской
любви:
На бережку белой речки
Черные бусы...
Снятся мне твои белые руки,
Черные глаза...
Эту песенку он не раз пел и летом, но тогда в ней
было озорство юноши, еще не жениха и уже-не
подростка. Теперь в ней звучит осенняя грусть. 1лЛожет быть,
пастух и вправду грустит о том, что скоро наступит
неделя Уастырджи, неделя свадеб, и черноглазая, при-
362
глянувшаяся ему, станет чужой женой, а он и будущей
осенью будет петь эту же грустную песню. А может
быть, теснит ему сердце журавлиный крик с поднебесья,
как знать? Или жалко ему расставаться на целую зиму
С дальними выгонами, с Безымянным перевалом, с
подопечным стадом? Как ни тяжело было от зари до зари
брести за стадом, не знать ни часа покоя, а
расставаться жалко, будто у него и места другого на земле уже
нет и он больше никому не нужен...
Осень — пора расставания, грустное время, и как не
тосковать пастушьей жалейке из веточки шиповника?..
Настает время долгих осенних дождей, когда
однообразно и надоедливо опадает на землю сеево мелких
холодных капель из ленивых туч. Летом и облака в
ярости — носятся по синему небу или в тесном строю
напористо маршируют по гребням гор. Осенние тучи
неподвижны и мрачны, будто покойника оплакивают.
Бывает, что до прихода зимы стоят ясные, погожие
дни, но каждый горец знает, что это обманчиво, надо
торопиться, успеть завершить все труды, начатые
весной. Зима может наступить в любую ночь. Заснул еще
осенью, а проснулся зимой. В такое время за ночь
стерня покрывается инеем, и усталое солнце уже не может
его осилить. В инее сокрыта самая лютая стужа, но
прячется до времени, которого не долго ждать. И однажды
в вечерних сумерках незаметно начинается нашествие
веселых белых бабочек. Они садятся на мокрую землю,
как в летнюю жару на навозную жижу, но уже никогда
не поднимутся, так и заснут. А утром выглянешь в
окно — вся земля покрыта снегом. Пришла долгая
горская зима.
И наденешь сыромятные арчита, набив их теплым
мягким мятликом. Будешь бегать в школу, валяться в
снегу, играть в снежки, мерзнуть в метельные дни,
отыскивая тропу, занесенную вьюгой. Ночью слушать
завывание бури, глухой, мучительный ропот ближнего
оголенного леса, терзаемого бурей. А в тихие ночи
снегопада заснешь с жутким детским опасением — а вдруг
больше никогда не наступит рассвет? .. Но уйдет
тягучая ночь, ты выбежишь на улицу и увидишь белый
радостный день, игривый снег укутал дома, пашни,
пригорки. И всюду заячьи следы, ночью лапки всего
заячьего рода аккуратно прострочили эти стежки по снежному
363
ситцу. А лес на горе — словно мерлушковая папаха,
темная сквозная синева с белыми курчавинкамйг снега
на ветвях.
Снегопады сменяются метелями. С крутых склонов
с грохотом срываются лавины и сокрушают все на своем
пути — скалы, деревья, зверей, людей, и нет спасения от
них. Лавины — вечное горе жителей гор. Лавину нельзя
ни предусмотреть, ни удержать. Даже могучие стволы
буков бессильны перед ней. Она вырывает их с корнями,
как картофельную ботву. Пройдет по лесу лавина — и
не остается ни одного кустика, будто здесь росли не
деревья, а травинки и корова их языком слизнула...
Страшна в горах зима, но не зря горцы говорят:
злой человек и злое время недолговечны. Где-то в
середине февраля, как говорит старая притча, лиса чует
первое дыхание весны. И уже не позволяет лисятам ходить
по речному льду — крепко замостила зима реки, но
мосты не надежны. Весна уже торит тропинку по
снежным сугробам.
Песнь о матери и солнце
После дневной жары душно спать в деревянном
домике. С отцом Берда, моим троюродным братом, мы в
ущелье Выдр рубили лес — дрова на зиму. С
непривычки я утомился сверх меры. Ноет спина, натруженные
руки неестественно горячи и, как их ни клади, все будто
мешают. Поворочался до полуночи, но так и не уснул.
Встал, вышел на берег речки, опустил руки в воду, и"
стало так хорошо, будто озябшие пальцы сунул под
лопатку вола.
Возвращаться под крышу не хочется. Ночная
ласковая теплынь. Коровы привычно спят во дворах, а золы
лежат на берегу и изредка тяжело вздыхают. Высоко
над Созуровым пригорком полный месяц одиноко
дремлет и льет призрачный свет на всю округу. Такая вязкая
тишина всюду, что чувствуешь себя скованно, точно
опустили тебя в густой липкий мед, не можешь ни
шагнуть, ни рукой махнуть, осталось стоя погрузиться в
непробудный сон. Надо перемахнуть порог тишины, как
звуковой барьер, а то так и уснешь завороженный и
будешь стоять чучело чучелом... Зачерпнул воды в
речке, плеснул на лицо, и дрема отхлынула.
364
Идти! некуда, все живое спит, тревожить нельзя,
остается мир умерших, наше недавнее родовое
кладбище. Я мало кого там знаю. Но там моя мать, самый для
меня дорогой человек, самая добрая душа, какой я
больше никогда не встречал. Там простая железная
ограда, деревянный крест у изголовья, могильный
холмик порос травой.
Постою рядом и помолчу. Ласковых слов я и при
жизни никогда ей не говорил. Это стыдно, по горскому
мнению. На ласковые слова только мать имеет право.
Знаю, будь она жива, нашла бы для меня слова, чтобы
унять и боль, и усталость, и душевную тоску. Но ее нет,
а я не знаю, что сказать. И молчу.
Стоит вблизи, точно кладбищенский сторож, старая
дикая вишня. Тень по земле едва заметно движется по
кругу, словно мать укачивает ребенка. Дерево молчит,
но мне слышатся из далекого края детства слова
материнской песни:
Спи, усни, сынок,
Плаксивых мальчишек
Волк за оградой ждет...
Спи, я песню тебе спою
Про жучка-хромоножку,
Про зайчонка в лесу...
Молчит дерево, но я слышу материнский голос: «Не
плачь, сынок, ты уже большой мальчик, стыдно плакать
мужчине. Когда бог делил между людьми добро, то
слезы на женскую долю достались, пусть девчонки плачут,
если охота, тебе нельзя...» И я молчу. Знаю, что
никакими словами не сумею высказать матери то, что у меня
на сердце. И песни мои ей не нужны. Если пела она, то
у детской колыбели или с ребенком на руках — песни
утешения. Знала она еще одну песню, но это плач по
умершим. Что ей мои песни, запоздалые признания,
слова самоутешения? ..
Верно сказали древние горцы: сварить яйцо на
ладони — сможешь, оплатить заботы матери — никогда.
Да и чем оплатить добро и ласку матерей?.. В
старых осетинских песнях о матери говорил умирающий
герой: «Кто мать мне позовет в смертный час?..» И
верил, что, если мать придет на зов, отведет, уговорит
смерть обождать до другого часа. Но нет такой песни,
365
в которой бы сын отдалил закатный час матери. Этого
не было, этому не верили.
Край умерших наши предки назвали страной заката.
Есть в этой вере в человеческий закат вековечное
убеждение: человек подобен солнцу, а может быть, и равен
ему. Невольно закрадывается в душу сомнение: верно
ли такое сравнение, справедливо ли? Но приходит на ум
образ матери, человеческой матери, и соглашаешься: да,
Мать по величию и вправду равна Солнцу. Нет, Мать
превзошла Солнце в одном: она не равнодушна к добру
и злу, подобно солнцу, ее доброта неразлучна со
справедливостью. Видно, потому светило материнской души
угасает навеки, а солнце незакатно. И все же Мать-
солнце неразлучный образ детского воображения.
Будит ли тебя мать на заре ласковыми прикосновениями
ладоней к лицу, тебе кажется, что это солнце поводит
по твоим щекам мягкими теплыми лучами. Продрог
после долгого плескания в речке и голым пузом ложишься
на нагретый прибрежный валун, а ощущение такое,
точно мать приложила свои руки к твоему худому
животу. .. Всюду ходит Мать-светило над твоей детской
головой.
Предание говорит: умерло дитя у солнца. Плачет
солнце неутешно и землю залило слезами, от вселенского
холода гибнет все живое на земле... И тогда
мать-женщина и мать-лягушка упрашивают солнце: «Мы такие
же матери-сироты, своих детей похоронили недавно.
Знаем, как болит твое сердце, но будь великодушным,
пожалей живых, ждущих от тебя ласки, света и
тепла. ..» И приняло солнце к сердцу слово скорбных
матерей, смахнуло с лица облако печали, уняло слезы и
глянуло на землю прежним ясным оком...
В представлениях предков-язычников солнце!—
живое существо, мать. Плачет по умершим сыновьям,
женит их на земных красавицах, выдает замуж своих
дочерей. Мои предки позднее назвали самих себя детьми
солнца, великой матери, и молились ей, прося отвести
неодолимую беду. И клялись Солнцем, Матерью и
Землей наравне. А может, они были правы, и если уж
молиться, так только Матери, Солнцу и Земле. Это, может,
единственная молитва, которая не унижает человеческое
достоинство...
Прости мне, мать, и мое молчание и мои слова*
366
Я иду, не хочу тревожить тебя. Да и месяц зашел за
Созуров пригорок и тень горы легла на твою могилу.
В ночной темени уже поблескивают редкие рассветные
лучи. Мир вашей ночи, ушедшие!,,
Воспоминания о позабытом очаге
С утра мы с Бердом пошли косить недалеко от села.
В лесу на прогалине росла хорошая трава, ничейная.
Хватило бы для одной коровы. Мы с Бердом решили
там помахать косой, не велик труд, а в хозяйстве сено
пригодится. Нам не повезло, к полудню пошел дождь,
и мы вынуждены были вернуться домой. Шли через
двор опустевшего дома моего отца, и меня потянуло
завернуть к родному очагу. Открыть дверь нетрудно.
В скобу дверной ручки продета палка-засов, вытащить
ее ничего не стоит.
Вот и мой очаг. Пахнет сыростью. Все запущено,
давно не прикасалась к этим стенам человеческая рука.
По углам паутина, словно развешана с умыслом скрыть
что-то от постороннего взгляда. Но вижу, пауки тоже
покинули дом и свои искусно расставленные сети.
Уходит человек из своего жилища, вслед за ним покидает
его все живое. Немота поселилась в этом доме, и
хочется хоть на час вернуть ему голос. Жестяная печка,
видавшая виды, знакомая с языком огня, грустно и
одичало ждет растопки, дверца открыта, но некому развести
огонь. Правда, в углу сложены расколотые дрова.
Видно, отец намеревался вернуться в деревню, не собирался
становиться городским жителем, да так и не вернулся.
Человек полагает, но не располагает.
Спички у меня есть — я давний табакур/ Вывернул
карманы и набрал ворох всяких бумажек, на растопку
хватит. С Бердом мы развели огонь, в доме потеплело
и посветлело. Мальчик нашел в углу метлу и немного
прибрал. Протер стулья своим носовым платком, и мы
уселись у очага. Берд стал листать позабытую кем-то
истрепанную книгу. Глянул я мельком: «Хаджи-Мурат»
в давнем, но хорошем переводе старого учителя
словесности Бабу Зангиева. Его уже нет, но мне с детства
памятен необъяснимо простой и сердечный язык
повествования. Думаю, и этот мальчик почувствует, что это
367
такое — искусство рассказа, властно уводящего тебя в
иной мир, к незнакомым людям, которых по непонятным
причинам начинаешь любить или ненавидеть всей душой
и помнишь потом всю жизнь.
Берд, всегда предупредительный, оберегающий меня
от скуки и одиночества, видно, так увлечен книгой, что
забыл обо мне. А я вовсе не одинок. Для меня вокруг
очага по-прежнему, по-давнему сидят отец и мать,
братья и сестры. Я вижу их и невольно размышляю...
Одних уже нет, других разбросала жизнь, они стали
другими, и нет к прежнему возврата. Они менялись,
теряли, обретали. И ловлю себя на мысли: что-то доброе,
незаменимое, необходимое человеку мы все-таки
потеряли, а жаль. То ли по беспечности душевной не сумели
сохранить, то ли просто по мере старения оскудевает
сердце, а здравый рассудок, привычный считаться
только с бытовой, вещной реальностью, одолевает...
Мне кажется, сидит отец, сложив тяжелые ручищи
на коленях, время от времени приоткрывает дверцу
печки и переставляет, перемешивает поленья,
подзадоривает огонь и напевает свою песню о солдате, который Амер-
знет в окопе... Эти солдатские песни он привез с
мировой войны вместе с георгиевскими крестами и ранами
и поет их только для себя. Это его песни, его судьба,
которую он делил с другими людьми. Родная деревня
к ним не причастна, здесь и не понимают этих песен.
О солдатской судьбе можно только рассказывать, петь
о ней надо с солдатами, однополчанами, а их нет здесь.
И он иногда, придя от соседей навеселе, охотно
рассказывает нам, детям, фронтовые были, поминает своего
полкового командира, вручившего ему первый крест,
когда он единственный вышел из вражеского
окружения. .. Поет же он свои солдатские песни в часы особей
озабоченности, когда ему надо думать, а мы мешаем,
и он отгораживается от нашей болтовни своими
песнями. Зная его норов, мы в такое время не пристаем к
нему, боясь его резкого слова и грозного взгляда...
В песнях мать — первый человек для сыновей, но у
очага самое властное лицо — отец. Не зря, видно, мы
свою землю называем отчей. Правда, в песенном обычае
она родина-мать, но в набатное время ее самое высокое
звание — отечество. И в краю детства это различие если
и не осознается, то чувствуется...
368
Что мальчику материнские подзатыльники и шлепки!
Мать бранит — все одно что ласкает. И не сознаешь
свою вину, знаешь, уверен, все тебе сойдет, мать
простит и снова приласкает. Только не приведи бог вызвать
своими шалостями и непослушанием слезы в голосе
матери. .. Это пугает тебя, и в таких горьких случаях с
повинной головой идешь к матери и просишь: «Не плачь,
гыцци, я все сделаю по-твоему. Лучше побей меня
березовым веником, только не плачь. Я не хотел тебя злить,
но весело, когда меня ругаешь... Ты же сама сказала,
что я маленький абрек, разбойник, но я не хочу, чтобы
ты плакала... Скажи, что надо, я все сделаю...»
И прощает мать, все прощает, и ты послушен и уже
не абрек до следующей вольной или невольной шалости,
соблюдаешь условия перемирия, пока не увлечешься
игрой с дружками, не забудешь какой-нибудь
материнский наказ...
Забывать, ты считаешь, допустимо... Мать всегда
рядом. Балует, кормит, одевает, наставляет, бранит,
корит, сон твой бережет. И ты привыкаешь к ней,
угадываешь любой оттенок в ее настроении, в ее
расположении к тебе. И кажется тебе, что нет в ней тайны для
тебя, вся она твоя. Так и думаешь в своем детском
неведении.
Ее наказ можно и забыть. Отец же совсем другой
человек. Он далек и недоступен, как горная вершина. Ее
только орлы досягают, да облака ходят рядом, да лучи
зари к ней прикасаются. Отцовский наказ забыть
невозможно. Он — высоко, твои покаянные слова до него не
дойдут, кара не минует, примирение не состоится...
Хорошо идти с матерью к роднику за питьевой
водой. У тебя в руках маленькая бадейка, по делу идешь,
а не прогулки ради. И шествуешь впереди матери по
лесной тропинке с важностью знаменосца. То, что
щенок опередил тебя, не в счет. И ничего не боишься,
затылком чувствуешь материнский взгляд, мать
настороже. Одно плохо, там, у родника, собираются взрослые
девицы и молодые невестки, пристают к тебе, тискают,
слюнявят лицо своими поцелуями, точно коровы теленка
облизывают... Тебе это не нравится, и жалуешься
матери на обратном пути, а она смеется и объясняет: «У них
же, глупый ты щенок, своих мальчишек пока нет, вот
13 н. Джусойты
369
тебя и ласкают, дурачок, а ты...» Но тебе от этого не
легче, и ты мечтаешь поехать с отцом сено возить.
С ленцой шагают волы, полозья саней скрипят на
поворотах, ты сидишь рядом с отцом, сам черт, тебе не
брат, покрикиваешь на быков по-хозяйски: «Цобе, цобе,
Кобор, недалеко уже до копешек, там сеном накормлю!
Ступай!» Расхрабрился под крылышком отца, который
не даст тебе свалиться, а потом покажет, где растут
ягоды медвежьего меда, и научит, как их отличать от
волчьих ягод. Отцовское поучение долго помнится.
Вырастешь, станешь своим умом жить, все равно за
отцом остается право судить тебя, одобрять твои
поступки или не принимать их. Я знаю, в этом суде не
раз бывал неоспоримо виновен, но поздно переделывать
себя, иным уже не стану, не могу обещать и старому
отцу про себя говорю слова старинного утешения:
«Крепись, старый солдат; гордиться мной, может, и не
придется тебе, но стыдиться за меня не будешь. Это
обещаю. И не суди меня строго, если буду на трудные дела
отваживаться и не одолею их. И верь, пока ты в силах
сидеть за дружеским застольем, петь величальную
Уастырджи, я смогу услужить тебе и твоим друзьям,
состарившимся горцам. Не страшись, старик, заката
после долгого дня...»
Братья и сестры — они из одного с тобой клубня,
с ними считаешься меньше, особенно с сестрами. Ты —
брат, и уже по одному этому сестры ниже тебя рангом,
побить тебя могут при случае, но оспаривать
старшинство — никогда. И об этой своей обиде любящие сестры
сочинили горестную пословицу: сестрино сердце глядит
на брата, братнино — в лес.. • Любовь братьев была
опорой и защитой в мире, где мало считались с
достоинством, волей и желанием их сестер. Им навязывали
свою волю, выдавали замуж по своему усмотрению —
это было привилегией отца и братьев, данная им
обычаем. Но тот же обычай обязывал за пределами этого
горького унижения беречь достоинство сестры пуще
глаза. Сами унижали, но от чужих защищали. Так велели
право и долг.
И в горах Кавказа немало девичьих песен, полных
тоски по братской любви. Нет брата, и ты беззащитна
в суровом мире, где кровное родство было единственной
доброй силой, оберегавшей тебя от насилия за порогом
370
отцовского очага. Невольно станешь пенять на судьбу,
если она не дала тебе братьев, оставила беззащитной*
Невольно заплачешь, потеряв такую опору. И плакали,
причитали, пели...
Братья о своей любви к сестрам не оставили ни
песен, ни сказок. Но в предсмертных песнях после имени
матери неизменно вспоминаются сестры: «Кто на заре
явится вестником печали к моим сестрам?;.» Быть
может, странное, на наш взгляд, предсмертное желание
быть оплаканным сестрами, но оно хранится старой
песней и говорит о силе сокрытой от людей, сдержанной
братской любви. И она не уходила с песней, жила и
пребывала в сердцах горцев, берегла их от
разочарования в человеческой доброте в мире насилия.
И приходит сомнение, неужели она стала ненужной
в наш век? Или мы о ней забыли в повседневной суете?
Или она прилична только наивным, как дети, людям, а
мы повзрослели, набрались житейской мудрости,
сообразуясь с коей не нашли в сердце места для простого
чувства любви к детям наших матерей? .. Или, быть
может, снятие трагизма женской доли разрушает самую
почву этого чувства — братской любви? .. Не верю,
любовь братьев к сестрам не имела такой основы. Это
чувство было глубоко бескорыстно, и его отсутствие
понимали как нравственную неполноценность человеческой
личности. Оно, это чувство, было нравственной опорой
людей и в час беды и в безбедное время. А в такой
опоре человек нуждается в любом обществе и на любом
уровне благополучия.
В легенде о силе братской любви рассказывается о
братьях-врагах. Один из них, узнав, что его брат, с
которым давно развела его вражда, бьется насмерть с
недругами и истекает кровью в неравном бою, бросается
к коню и скачет на помощь брату. Но дорогой он
встречает брата невредимого — тревога оказалась ложной.
Он рад такому исходу дела, но ничем не выдает себя,
в грозном молчании проезжает мимо брата-врага, точно
он и не думал приходить ему на помощь.
Наставление легенды просто и ясно: за чертой
родовой общины у человека нет большей защиты, чем
единоутробный брат, если даже он во вражде с тобой; И хотя
это назидание далеких предков долго и устойчиво
передавалось из поколения в поколение, оно так старо, так
371
несправедливо за пределами мира всеобщего насилия,
где не было иной защиты, кроме кровнородственного
заступничества, что от него веет холодом жестокости, а не
сердечным теплом человеческой доброты. Нет, не
заслуживает такое чувство братской любви даже полслова
в песенной памяти людей.
Быть может, песни удостоится лишь такое чувство
братства, которое неотделимо от сознания
справедливости. Это чувство первым восстает, против лжи,
фальши, зла в поступках, мыслях и намерениях брата, судит
строго и справедливо. Оно придирчиво прежде всего к
брату. Но это же чувство требует смело заступиться за
брата, если он осуждаем несправедливо, из вражды или
мщения. Заступничество, быть может, только в этом
случае совместимо с нашим нравственным чувством.
Любое иное заступничество безнравственно,
несправедливо, сеет вражду, а не любовь на земле.
И все же само разрушение, выветривание, забвение
чувства любви между детьми одной матери не способно
сделать людей нравственно богаче и краше. Мне
кажется, от такого забвения человеческое сердце только
черствеет, заполняется равнодушием, мысль становится
суше, самолюбивей, мир сходится клином на собственной,
отъединившейся от всех людей особе. И человеку нет
уже дела до справедливости на земле, ему не до любви
к людям. И разве в таком случае не уходит из сердца
мужество, которое делает человека героем, мужество
заступника правды, добра и справедливости? ..
Думаю о своих братьях и сестрах у покинутого ими
отцовского очага и твержу про себя как молитву: да
пребудет на земле чувство братства среди детей каждой
матери, да будет оно неразлучно с высоким сознанием
справедливости, да не покинет человека мужество
заступника добра и правды на земле...
Песнь о друзьях
Деревни в наших горах — это маленькие родовые
поселения, за редкими исключениями. Мальчик
дошкольных лет растет, встречается только со своими братьями,
все дети одной деревни — братья и сестры. Но одним
осенним днем мальчику, этому «корню мужчины», пред-
372
стоит встреча с незнакомыми сверстниками. Они ему не
родня, приходят в школу из разных сел, каждый из них
впервые переходит черту кровного родства, вступает в
мир, где надо искать и находить братьев и сестер по
свойствам характера, души и сердца. Отныне вся жизнь
его будет зависеть от дружества или неприязни этих
незнакомых людей. Каждый день он будет встречаться
с ними, вырастет с ними и будет делить свои будни и
праздники, печали и радости, труды и заботы со
множеством людей старше и моложе его — это неминуемо.
И для всех он должен стать близким, дорогим
человеком, братом.
Этот памятный осенний день станет днем открытия
большого мира. Пусть в первый день мальчик робко
знакомится только с соседом по парте, ему предстоит,
может быть, вот так же искать братства с ровесником
где-нибудь на краю земли, о котором он пока
представления не имеет. Но с этого дня исподволь входит в его
созревающее нравственное сознание, что кровное
братство — этого слишком мало даже для мальчика горской
деревни, человеку нужно братство всего большого мира.
Верно, братство начинается с детей, рожденных одной
матерью, как речка с родничка, выбегающего из
песчаника в горловине ущелья. Подрастешь, поймешь, что
чувство братства связало тебя со всеми людьми,
говорящими на одном с тобой языке, но и в этом тесном кругу
однажды почувствуешь себя как конь на привязи,
станешь всей силой души растягивать «привязь», искать
себе новых братьев во всем безбрежье большого мира.
Искать людей, родных тебе по странствиям ума и
кружению сердца, как говорили в старину осетины. По их
представлениям, человеческий ум — странник, вечный
искатель нового, невиданного и неизведанного, обходит-
объезжает необозримые пространства, и чем сильней
он, тем шире круг его странствий, «зонды хатан». По их
представлениям, человеческое сердце подобно мельнице
и кружится от тока крови, как мельничный жернов.
И ты будешь искать людей, чьи сердца с таким же
током крови, что и у тебя. И станет у тебя, как в сказке,
сто или тысяча братьев. Чем шире круг странствий
твоего ума, благороднее кружение твоего сердца, тем
больше братьев. Но сколько бы их ни было, достоинством
373
братства вашего останется мера правды и добра, мера
справедливости.
И не верь, что правда не одна в мире, что и
справедливость бывает разная. Правда одна, и справедливость
одна на земле, как солнце на небе. Верно, есть еще
ложное солнце — призрачное светило, подобное миражу
в степном мареве. Недаром его называют в горах
солнцем мертвых.
И вовсе не так трудно узнать человека правды и
справедливости, как это говорят иные маловеры. Если
человек желает всем людям столько же добра, сколько
самому себе, то можно ему верить. Если же он всем
народам, и большим и малым, желает добра, счастья
и бессмертия наравне с родным ему народом, то его
можно считать справедливым, а странствия его ума и
кружение его сердца воистину человечны.
Старая притча учит сторониться несправедливых
людей. Иди в дальний путь с человеком и, когда на двоих
у вас останется один-единственный чурек, дай его
разделить своему спутнику. И если он оставит себе большую
долю, знай, он недобрый и несправедливый человек —
оставь его в пути, не друг и не брат он тебе.
И верно, такой человек одного себя любит. Луковица
собственной обритой головы ему дороже земного шара.
Пусть он умен и красноречив — не верь ему, весь его
разум и сердце с муравьиный кулачок, он себялюбец.
И я не знаю худшего зла в мире людей, чем это
себялюбие, все равно — себялюбие одного твоего спутника или
целого народа или государства. Оно и как чувство и как
нравственное сознание противостоит человеческому
братству, правде и справедливости, разрушает и
предает веру в людей. Наши предки предателей сбрасывали
с Собачьей скалы. И это не жестокость, а самозащита
людей от скверны, отравляющей и обезображивающей
ум и сердце человека. Я верю, что человечество стало
бы счастливее, если бы сумело вытравить в сознании
это себялюбие, как бы столкнуть его с вселенской
Собачьей скалы. А если это невозможно, то нет более
сильного средства против него, чем чувства братства и
дружества. И они, верю, одолеют его.
Что с того, что себялюбцев немало на земле? Пусть
их даже больше, они %бессильны "перед людским
братством и дружеством. У людей хорошая память на добро,
374
и нет в ряду великих имен, памятных человечеству, ни
одного себялюбца. Себялюбие бесплодно, как зло, как
смерть. Человеческое сердце способно предать забвению
даже чудовищное злодеяние — не по слабости памяти,
а потому, что зло противоестественно и память о нем
тяжко хранить. И если все-таки помнят о нем, то потому
лишь, чтобы идущим вслед легче было видеть его
родовые приметы, когда они еще неявны.
Мне и сейчас, у отцовского очага, один на один со
.своей совестью, тяжело размышлять об этом, и, отгоняя
от себя недобрый образ себялюбия, шепчу как заклятие:
здравствуй, дружество, здравствуй, братство, опора
добра и справедливости на земле!
Я знаю, нет ничего дороже истинных друзей и
настоящего дружества. И нет более надежной опоры в
трудной жизни, чем истинный друг. Беречь это чувство
братства, стараться быть достойным его должно быть одним
из самых высоких стремлений каждого человека и всех
людей. Верю, что мальчик, листающий у отцовского
очага повесть о Хаджи-Мурате, человеке доброго и
геройского сердца, найдет в большом мире немало друзей
и будет дорожить их братством, гордиться им как
самым дорогим достоянием.
Я знаю, что друзьям и их братству нет цены. Это
узнаешь, когда их теряешь и сиротеет твоя душа. Мои
друзья!.. Многие не вернулись с войны. Давно уже
затеряны и запаханы их могилы. Иные ушли, угасли, как
догоревшие лучины в старой горской сакле. Но поныне,
и в мои радостные часы и в мои печальные дни, они
рядом со мной. В их дружеском взгляде читаю то слова
укоризны, то одобрения. Они — моя опора, мой суд
совести, мой свет в ночи. Будь благословен час встречи
с вами, друзья!.. Кем бы я был без вас и как бы жил,
если бы миновали меня ваши печали и радости, ваше
братство и справедливость? И стоило бы жить в таком
одиночестве, единственной травинкой на вмятине
скалы? ..
Не знаю, что нас свело — счастливый случай, судьба
или простое везение. Но мыслю про себя: находить
братьев среди людей — это, может быть, призвание, а
если нет, так какая-то особенная сила души, характера,
ума. Чем же иначе объяснить, что одних одарила судьба
375
счастьем братства, а других обошла, хотя они хотели бы
иметь друзей, братьев среди людей? И если это талант,
так пусть выпадет он, как теплый весенний дождь, на
всей земле и взойдет в каждом сердце зеленым
росточком! ..
Огонь в печке приуныл. Я открыл дверцу и
подбросил несколько поленьев, гляжу на вспышки-угасания
язычкрв пламени, и мне кажется, сошлись все мои
живые братья-друзья, сидят у моего очага и греют руки
в ненастье.
Здесь грузины и абхазцы, русские и украинцы,
белорусы и молдаване, чеченцы и кабардинцы, ингуши и
аварцы, литовцы и эстонцы, кумыки и лакцы, таджики
и туркмены, казахи и киргизы, балкарцы и адыгейцы,
латыши и евреи, калмыки и башкирцы, татары и
чуваши, армяне и азербайджанцы, алтайцы и осетины...
Редко кто из них знает язык, на котором всегда
говорили у этого очага, мой родной язык, но все говорят на
одном прекрасном языке — языке дружества и
братства. Нет между нами кровного родства, но связало нас
нечто более высокое. И я знаю, мой очаг рад моим
друзьям-братьям. У этого очага всегда считали, что
хорош друг, с которым можно поговорить по душам, но
еще лучше друг, с которым можно помолчать по душам.
Люди с богом о правде и справедливости всегда говорят
на родном языке, но никто не смущается, даже не
думает о том, что бог может и не знать твоего языка.
Мой очаг рад этим людям, моим кровным братьям,
и все они желают ему добра, как я желаю их очагам.
Я уверен, что их любовь и братство не даст погаснуть
огню в моем отцовском очаге во веки веков. И пока я
буду достоин их дружества, не минует мой очаг добро,
не осмелится протянуть к нему свою ледяную лапищу
вездесущее зло.
Гляжу на своих братьев, и мне слышатся слова
старинного благословения, звучавшего у этого очага не
раз: «Здравствуйте, друзья, мои единосердечные братья!
Здравствуйте всегда и всюду, во всех странствиях
вашего ума и в вечном кружении вашего сердца! Да
пребудет на земле ваша любовь, ваша правда, ваша
справедливость на веки вечные!»
376
Песнь о земле, косе и плуге
Ясные солнечные дни вошли в силу. На небе ни
облачка. Горцы спешат, надо скосить и убрать сено, пока
дожди за горами. Зачастят дождливые дни, так
пропадет и скошенное сено, сгниет. Один летний день десять
зимних кормит, говорят в горах. Вот и торопятся люди.
Чуть посветлеет ночная темень — и косари уже спешат
на луга. Отец Берда тоже не может усиде*ть дома. На
рассвете встает, одевается осторожно, боится разбудить
детей и меня. Берет косу и оселок, молоток и маленькую
наковальню — косу отбивать — и скорее выбирается со
двора. Я успеваю одеться к тому времени, зову его,
чтобы подождал, беру свободную косу из-под застрехи
дома, и вдвоем идем косить на приусадебном участке.
Пахотная земля. Но хозяин решил в этом году оставить ее
в покое, пусть отдыхает, вырастет на ней трава — для
коров корм, а в будущем картофель уродится лучше.
В селе мало осталось людей, вот и можно позволить
себе такую роскошь — косить на пашне. До войны это
было невозможно. Здесь всегда сеяли пшеницу. По
горскому счету — хорошая земля. Правда, и трава выросла
отменная — густо и высоко взошла, тяжело косить, но
мы не спеша прокладываем узкие прокосы, шире взять
нет сил, не размахнешься. Косим молча, каждый думает
о своем. Меня память уносит в страну детства...
Бог весть отчего прикипает душа к земле детства,
и оторваться от нее нет у человека ни сил, ни желания.
Ты пока и не думаешь об этом — ходишь каждый день
босыми ногами по этой земле, по-детски глядишь во все
глаза на ее красу, трогаешь ее ребячьими ладошками,
держишься за нее, как за материнский подол. Песни
о родном крае тебя не занимают, ты пока не понимаешь
эти признания в любви твоих предков к этой земле.
А дорастешь до песен, будешь по-своему петь, тоже
захочешь признаться в любви, считая ее самой большой
и ни на чью не похожей...
А может быть, так и есть... Кто может знать ге
ласковые слова, которые шептала тебе земля, когда,
валясь от усталости, ты приникал к ней лицом? И кто
знает, почему тебе желанно в твои седые годы ходить
по ней босыми ступнями?
Засыпает земля ранней зимой, под белой буркой сне-
377
га. Долог и тяжел ее сон, но приходит весна, она просьь
пается и "обливается слезами радости. И приходит
человек— щекотать ее плугом.
Что с того, что немеют пальцы на ручках плуга в
мертвой хватке, что мотает тебя тяжелый плуг, если
даже ты силен и умел; что ноет спина от напряжения, что
соленый пот заливает тебе глаза, а не смахнуть его,
пока не дойдешь до конца борозды,— руки заняты.
Знаешь, как "Тяжело и быкам, жалеешь их, но понукаешь,
ласковыми словами просишь потерпеть до вечера,
обещаешь накормить пряно пахнущим сеном с южных
склонов. «> И радостно тебе наступать босой ногой на
парной отгЁал земли — это она улыбается тебе
вывернутой влажной губой.,. А мальчишка ходит за тобой что
суетливый грачонок, собирает вкусные клубни кервеля,
выковыривая их из отвального пласта.,. Еще совсем
недавно эта радость выпадала тебе, теперь черед других
мальчишек...
Много исходишь дорог, будешь ступать по земле и
босой, и в солдатских сапогах, и в модных ботинках, но
никогда не забудешь эту пашню, влажное лицо
весенней земли, прозрачный пар ее жадного дыхания после
зимней спячки... И родная земля будет вспоминаться
неизменно в этом своем весеннем блаженстве. И будет
она тебе сладка, хоть и тяжко было ходить за плугом.
Верно, что земля — кормилица людей. Но разве
только потому любят свою землю люди? Пашут землю,
чтобы засеять, собрать зерно, прокормить детей,—это
правда. Но если человек трудился на этой земле всего
лишь ради куска хлеба, то чем же была жива душа его
долгие века? Может быть, земля не только кормила,
заставляя в поте лица трудиться, но и очаровывала
душу вечным сиянием своей красы и неизменным добром.
Шел пахарь по вспаханной земле, доставал
пригоршню зерен из кожаной торбы и щедро бросал их в лоно
земли, бережно прикрывая слоем почвы от солнечного
ока, а сам уже видел зеленые всходы, желтоусые
колосья пшеницы. Он своим трудом творил жизнь, душой
и руками прикасался к тайне рождения жизни на
земле. И это было его счастьем, радостью, предназначение
ем. Тяжкий труд превращался в благородное деяние. Не
будь этого, не прикипало бы сердце к земле гор и не
было бы у ней медового вкуса, как признаются недавние
378
переселенцы с гор на равнину или в город. Сны им по-
прежнему снятся горские, а самой сладкой мечтой
остается походить за плугом в горах весной, помахать косой
на склонах гор, на дедовских лугах...
А мы косим на пашне, хотя и жалеем, что луга на
склонах остались без призора, пасутся там овцы и
портят их... Гляжу перед собой, как бы не нашла коса на
скрытый травой камень, а вижу прежний строй косарей
на лугу Голубиного склона — косарей нашего колхоза.
Будто и сейчас слышу посвист кос, хруст
подкашиваемой травы, резкий выдох косарей. Косят они молча и
старательно, им не до шуток и переговоров, но кто-то
затянул песню «Ой-ра, косарь, ой», она помогает войти
в ритм и размеренно дышать и взмахивать косой.
Уставшие выходят из общего ряда и принимаются отбивать
косу под низкорослыми кустиками орешника. Довел
прокос до конца, отойди в сторону и обточи косу,
можешь и побалагурить. И все начинается сызнова...
Звякают косы, жик-жик, жик-жик, слышно трудное
дыхание людей. Белые ситцевые рубахи начинают
темнеть от пота, прилипают к вспотевшей спине, будто
папиросная бумага. Мы, мальчишки, завидуем взрослым,
но нам дают помахать косой только в обед, когда коса-*
ри отдыхают. До той минуты можешь собирать цветы,
съедобные травы, искать в стерне гнезда диких пчел.
Повезет, так набредешь на соты, полные меда. Не
спеши брать в руки косу. В горах на мальчишество отводят
считанные годы. В двенадцать лет ты уже «корень
мужчины». Дадут тебе в руки короткую косу с недлинным
косовищем, и так устанешь за долгий летний день, что
рад бы еще в мальчиках походить, но уже нельзя, ты —
работник.
Год, другой будет тебе трудно, а там войдешь в силу
и привыкнешь, время сенокоса станет для тебя
праздником удали, умения, состязания с дружками в
неутомимости, ловкости, в искусстве сбривать шерсть с лугов,.
И так втянешься в удалое занятие, что вечерами не
захочешь возвращаться на короткую летнюю ночь в
деревню, останешься спать в накошенной траве, чтобы
засветло приняться вновь за работу. Стемнеет, так прикроешь-*
ся ворохом травы, наговоришься всласть с дружками -^
кто в такие годы умел скрывать свои мечты о героит
379
ческих подвигах! — и засыпаешь незаметно, точно
укачал тебя в колыбели прохладный ветерок с вершины.
Утром, как только высветлит солнце днище
небесного котла, ты уже спешишь размять плечи. И коса тебе
кажется легче пастушьей палки. Она послушна рукам,
и руки сами тянутся к ней. И так хорошо и легко на
сердце, будто нет счастливее тебя человека на земле,
а труда слаще и приятней...
Приходит на память старый горец в городской
больнице. Он серьезно просил нас, навестивших его
городских односельчан: «Не надо мне ваших лекарств.
Принесите мне кувшин родниковой воды, а вместо
винограда положите на этот маленький столик пучок сена с
южных склонов, и я встану на ноги завтра же...» Мы
не поверили ему, но боюсь, что сам об этом же буду
просить в свой трудный час... А до той поры мне
хочется каждое лето ходить в горы с косой. Пусть это
никому, кроме меня, не нужно, ходят же заядлые охотники
в лес с фотоаппаратом — на лес наглядеться и зверей
повидать.
Три молитвы Матэ Большой Головы
Удалось мне уговорить отца Берда пойти косить на
Голубином склоне, хотя привозить сено одному оттуда
невозможно, а брать в напарники ему было некого.
Я обещал приехать дня на два и помочь. Не поверил он
моему обещанию, но согласился — не огорчать же гостя,
да и лишняя копна сена не помешает в хозяйстве. По
окрепшему насту и одному не так уж тяжело стащить
ее волоком в ущелье, а там на санях довезти до
сеновала — рукой подать.
Косили до захода солнца. Дотемна отец Берда не
захотел остаться, видно опасался, как бы я не подумал,
что жадничает он, нашел дарового работника и
передышки ему не дает. Спускаясь в долину, незаметно
набрели на наше давно оставленное родовое кладбище.
В пору нашего мальчишества там еще хоронили
умерших, но ходить туда было далеко, особенно в зимнее
время, и решили открыть новое кладбище поближе к
селу. Старое закрылось навсегда и заросло буковым
кустарником. Небольшая редкая буковая роща была
380
здесь и раньше, но кусты срезали каждой весной в
поминальный день. Большие деревья оставались скорбно
стоять поодаль друг от друга...
Стали вспоминать, кто где захоронен, под какой
надгробной плитой покоится тот или иной наш родич.
Одних хоронили при нас — этих мы знали сами, других
не знали, но могилы их помнили, показывали нам
старшие в поминальные дни. Отец Берда старше меня на
несколько лет, он помнил их лучше. Да он и не покидал
село, весной каждый раз в день Утешения сердца — так
у нас зовется день поминовения усопших — он приходит
сюда «угощать» мертвых родичей. И не делит их на
близких и дальних, все свои, больше некому приходить к
нашим предкам, к их последнему жилищу.
— Помнишь Матэ Большую Голову? — помог он мне
вспомнить одного хорошего человека, добавив к имени
прозвище. У него, Матэ, в самом деле была большая
голова. Но кличка Большая Голова была двусмысленна.
В одних случаях ее произносили одобрительно, мол, что
и говорить, Матэ — голова, умница, башковит. В
других— скрывали добродушную усмешку, мол, у нашего
Матэ голова что огородная тыква, впору ее свиньям
скормить...
На всех наших родовых пиршествах одним из трех
старейшин, неизменно возглавлявших застолье,
оказывался он и своими шутками-прибаутками создавал
настроение всеобщего доброго расположения друг к другу.
Он знал, что за глаза его величают Большой Головой.
— А помнишь его три молитвы? — грустно
улыбнулся отец Берда.
Как не помнить, он произносил их всегда, на всех
родовых пиршествах, свадьбах, когда младшие
преподносили старшим так называемую почетную чашу. В
таких случаях он брал в руки три рога араки и
торжественно произносил три тоста, три молитвы. Осетинское
«кувд» — это и молитва, и пир, и тост, и красное слово.
Произведение народного красноречия, оно обращено и
к людям и к богу. Это наставление, благопожелание,
проклятие недругу, одобрение благородства, поношение
зла... Матэ не проклинал, он наставлял и
благословлял.
— Добрые люди, как вы думаете, что является
самой высшей похвалой для человека и бога? — начинал
381
он свое слово вопросом и сам же отвечал, чуть
задумавшись, заглянув в бычий рог с аракой, словно там искал
ответа.— Справедливый!.. Вот самая большая похвала.
Все хотят считаться справедливыми, и люди и боги, но
мало таких и среди людей и среди богов.>. Родился
у одного бедняка сын. И решил он найти ему крестного
отца — справедливого человека. Долго искал, но не
находил. Так он и ходил из села в село. И однажды
встретились ему в пути Бог, Уастырджи и Смерть.
Поздоровались, как же иначе, поговорили.
Рассказал им бедняк о своих скитаниях с ребенком на руках,
и тогда Бог рассмеялся и говорит ему:
— Зачем было далеко ходить, вот я пред тобой —
бог. Не найдешь справедливее меня.
Бедняк покачал головой и ответил:
— Нет, ты не справедлив, хоть и бог.., Одним дал
богатство, пшеничный хлеб медом запивают, бараний
шашлык и хмельное пиво и в будни у них не
переводятся, а другие с голоду воют.. ¦ Ты знаешь это, слышишь
об этом, но ни разу бедняку не помог, где же твоя
справедливость? .. Когда спрашивают тебя, почему бедняку
не даешь разбогатеть, ты свою вину на бедняка же
сваливаешь: нельзя ему давать богатства — зазнается,
заболеет гордыней!, ¦ Будто богачи не гордецы и не
спесивцы, не презирают бедняков! ,¦ Однако ты их не
трогаешь, не отнимаешь у них богатства., ¦ Нет, ты не спра**
ведлив, а я для своего мальчика ищу справедливого!..
Пошел было дальше бедняк, но остановил его
Уастырджи:
** Постой, бедняк, может, меня признаешь справед-*
ливым, я ф» Уастырджи, покровитель путников.
Бедняй призадумался и ответил:
— Нет, и ты не справедлив. Кто зарежет тебе валу-*
ха Пожирнее, тому и добрый путь сулишь. Разве это
; справедливость?..
Тогда осмелилась Смерть и себя назвала
справедливой.
Согласился бедняк:
— Верно, у тебя есть справедливость. Ни царя, ни
богача, ни бедняка не щадишь. Придет смертный час,
так всех за горло берешь, и никаким богатством и
знатностью отступить тебя не заставишь.
Так заканчивал Матэ свою притчу и добавлял:
382
— Этот рог я пью за справедливого человека.
Смерти легко быть справедливой. Я пью за справедливость
в жизни, за человека, который судит богов и людей по
одной справедливости. Каждый любит своих
единокровных братьев, но нельзя любить их за счет
справедливости. Каждый хочет взять верх во вражде и тяжбе,
потому и богов и судей покупает шашлыком и молитвой,
сладкими словами и щедрыми обещаниями, но
справедливость неподкупна.
И вот моя первая молитва.
Да пребудет на земле справедливость, в сердцах
людей и богов! Не справедливость смерти, а
справедливость жизни, живого человека! Трудно жить в бедности,
но бедняк все же искал не богатого, а справедливого
человека. Душа человека выше его утробы, она желает
справедливости больше, чем богатства, не будь ее, она
обнищает... Да пребудет справедливость в сердцах
земных людей, а до богов мне дела нет! — громко повторил
Матэ Большая Голова и кинул выпитый до дна рог
младшим, слушавшим его стоя.
— Спрашиваю, добрые люди: что это за богатство
такое есть на земле, которому цены нет? Скажу вам, это
добро, которое сделаешь другим людям... Был бедняк
в горах, жил в огорожке из камней, ночью и в дождь
буркой ее прикрывал, добра у него было —одна коза,
и та в углу бечевкой из козьей же шерсти привязана...
Но однажды выглянул он ночью во двор, видит: дождь
хлещет, а по дороге одинокий путник бредет. Окликнул
его, к себе затащил, хотя тот упирался: тебе, мол, и
самому негде прилечь и поесть ничего нет.
Бедняк развел костер, зарезал свою козу, сварил
мяса, накормил гостя и уложил спать на травяную
подстилку. К утру его самого сон сморил, присел на
корточки и заснул и не услышал, как гость покинул его дом.
Но открыл глаза и видит: перед его огорожей
привязаны быки и коровы, а овцам и козам числа нет. Понял
бедняк, что гостем у него был сам Уастырджи и щедро
одарил его за добро, сделанное бедному путнику...
Врет, кто сочинил пословицу, мол, за добро добра не
дождешься... А ты и не жди. Добро делают — не
взаймы дают, чего платы ждать? И что с того, что
дерущихся разнимать — тумаки нажить? На то добрый человек
и живет, чтобы тумаков не бояться. Иначе это и не до-
383
бро делаешь, а так — лишний кус хлеба собаке
бросаешь. Нет, братья мои, самое большое богатство на
земле — добро, которое другим людям сделаешь.
И вот моя вторая молитва.
Да не переводится навеки в сердцах людей желание
делать добро другим людям, всему живому — скотине,
зверю, траве и дереву! Да так, чтобы проходящий мимо
твоего очага в дождливую ночь путник был для тебя все
одно что родной брат, а радость сделать человеку хоть
малость добра почиталась большим счастьем. Хватайте,
молодцы, на лету! — бросал Матэ Большая Голова
второй рог.
— А теперь спрашиваю, что нужно человеку, чтобы
он был справедлив и мог делать добро людям? .. Вы
скажете, богатство, сила, храбрость? Нет, добрые люди.
Богатства на всех все равно не хватит, да и не для того
богачи наживают его, чтобы прохожим раздавать.
Сила? Долго ли она у человека держится? Помучаешься
в горах лет десять, глядишь, ушла молодость и силу
с собой увела, как иголка нитку... Нет, человеку самое
главное, что нужно,— это мужество. Храбрость — она у
всякого есть, когда чужая сила на тебя прет, деваться
некуда, а жить охота. Тогда и курица на орла кидается.
Мужество, вот оно — главное в человеке. Оно всегда
при тебе, и в молодости и в старости, если оно есть,
а нет, так у другого в долг не возьмешь... Помните,
старики, был в нашем роду один неказистый мужчина,
ни ростом, ни силой не вышел, единственным
украшением его был длинный нос? Так и звали его — Хута
Длинный Нос, вроде меня — Матэ Большая Голова.
Мы, старики, все это видели сами, правда, детьми
тогда были... Пришел в наше село казенный старшина
с одним милиционом, царский налог собирать. Стал
силой скотину отбирать, раз денег ни у кого не было.
У наших соседей плетенку с семенным ячменем
опрокинул, своего коня кормить захотел... И никто не смел
ему в лицо наплевать как последнему псу. Скверное
было время, казаки по дорогам шастали, поймают, так в
такую даль забросят — дальше Сибири... Но Хута
Длинный Нос не испугался. Поздняя осень была. Он из
дальнего леса дрова возил. Рано погнал своих быков
в лес и не знал о приходе старшины. Узнав, в чем дело,
он схватил суковатый дрючок и подошел к старшине.
384
«Что тебе здесь надо, царский человек?» —
спрашивает, а у самого лицо гневом искажено — не узнать, а
нос будто кинжал в руках, в грудь старшине уперся.
Старшина, видно, струсил, но грозно крикнул:
«А ты что свой свиной нос суешь? Не видишь,
царский налог собираю!..»
Хута сделал вид, что не слышал, как его свиным
носом обозвали, еще раз спросил:
«А ты кем царю доводишься, брат родной или
племянничек, что так стараешься?»
«Я царский старшина!»
«Так, значит, никем ты царю не доводишься, собачий
харч за службу получаешь...»
«Что ты сказал?»
«А вот что, собачий выкидыш!» — Хута хрястнул его
по башке дрючком, и старшина свалился, обливаясь
кровью.
Сослали нашего Длинного Носа в Сибирь на всю
жизнь, там, мол, и подыхай, но советская власть
пришла, вызволила, вернулся он старым стариком. Как-то
мы спрашивали его, не каялся ли, что старшину ударил,
в Сибирь попал за это. И что, думаете, он ответил?
Жалел, что не хватило у него сил убить эту собаку
одним ударом, жив остался... Но всю жизнь каялся бы,
если бы не ударил, струсил, Сибири бы испугался...
Попался бы, говорит, он мне второй раз, я бы ему за
«свиной нос» отплатил, да что поделаешь, нашлись другие
молодцы, расправились с ним без меня...
И вот моя третья молитва, люди!
Да не покинет мужество человеческое сердце!
Мужество, которое дает силу драться за справедливость,
делать добрые дела; силу не опускать голову покорно
даже.перед богом и смертью. Наши предки нарочно
делали высокие косяки, как бы бог не подумал, что,
проходя в дверь, люди кланяются ему...
Тут он запевал песню Уастырджи.
— Мир праху твоему, Матэ Большая Голова,—
сказал отец Берда, и мы стали продираться через кусты
домой.
Иду за отцом Берда. В памяти звучат еще слова,
особенно песня Матэ Большой Головы... Кто из нас,
мальчишек, тогда думал о том, правду ли он говорят
в своих молитвах? Детская память сохранила его при-
385
тчи, наставления же нас мало трогали. Думали, так
положено говорить старикам, пусть он говорит свои
«молитвы», мы послушаем, почему и нет. Поет он хорошо,
и мы рады его слушать.
Теперь вспоминаю его слова и перебираю в уме
разные происшествия, случаи, разговоры...
В неполную среднюю школу мои ровесники ходили
из дальних сел. Встаешь рано утром, перехватив кусок
хлеба, бежишь, как бы не опоздать,— до школы два
часа спорой ходьбы. На возвратном пути рад, если
попадется хоть какая-нибудь ягода в придорожных кустах,
а найдешь зеленое яблочко на давно уже ограбленной
дикой яблоне — счастлив...
Дорога шла наискосок по склону. У обочины дороги
рос пышный куст шиповника, весь усеянный мясистыми,
красными, крутобокими «кувшинами вина». Часто мы
кружились вокруг этого кустика, но не могли достать —
видит око, да зуб неймет. Однажды я еще раз попытал
счастья, но ничего не получалось. За этим застал меня
какой-то прохожий в сапогах и овчинной шубе. Он
скинул шубу, набросил на куст и пригнул несколько веток
к земле сапогом.
— Собирай, не стесняйся, я подожду,— сказал он и
так хорошо улыбнулся, что я поверил: он сделал это
ради меня. Набрал я шиповника полные карманы, от
смущения не успел даже поблагодарить этого человека,
ушел он своей дорогой. Этот пожилой человек стоял в
одной рубахе на проезжей дороге полчаса ради какого-
то незнакомого мальчишки...
Не велика услуга, а помнится всю жизнь.
Мы купались в мутной воде небольшого рукава
Терека. Одного из мальчишек унесло в главное русло. Много
было на берегу взрослых купальщиков, отличных
пловцов, но лишь один кинулся к мальчишке. И спас .его,
хотящему самому перебило корягой ногу и он долго
потом лежал в больнице. Мы приходили к нему всем клас«
сом, благодарили его, а он ковылял на костылях,
передвигая свою толстенную гипсовую ногу, смущался,
обзывал нас лягушатами и обещал научить плавать, как
только поправится... И научил. А был он колхозный
конюх, любил лошадей и быструю езду на бричке.
Когда возился с лошадьми, всегда пел. Таким он мне и
помнится до сих пор. г,
386
В кругу друзей пожилой человек, пенсионер, каялся,
что никогда себе этого не простит... Судили его друга
детства, он знал, что тот невиновен, но, когда поставили
на голосование — исключить его из партии или нет, он
проголосовал за исключение... Погиб его друг,
посмертно реабилитировали, но воскресить не могли. Теперь
человек каялся: «Лучше бы отсохла моя правая рука,
чтобы я поднять ее не смог!..» Врет он, думал я про
себя, проголосовал бы и ныне, если бы ему было
выгодно. Отсохла бы правая, так он проголосовал бы левой
рукой.
Видно, прав Матэ Большая Голова. Мужество
делать добро, быть справедливым — вот что нужно чело-'
веку. Тогда не придется ни каяться, ни оправдываться.
Благое желание труса хуже гнусной воли злодея, от
которого ничего другого и не ждешь, а трус своим
согласием потакает злу, но хочет в то же время
слезливым раскаянием задобрить людей, прикинуться жертвой
обстоятельств, праведным мучеником...
Все это — ложь и притворство. Есть мужество, так
ты поступаешь по совести, не думая о выгоде и
последствиях, а нет — молчи и не оправдывайся. Быть может,
мужество — особый человеческий талант, к тому же
редкий, не каждому дается...
Прав ты, Матэ Большая Голова, мир праху
твоему! ..
Песнь о горской ночи
Ночь в горах! Если когда-нибудь ты бодрствовал
летней ночью в горах, то, верно, не забудешь ее всю
жизнь.
Еще не взошла луна. Горы, словно пьяные великаны
за столом, спят сидя, понурив головы. В ущельях
загустела ночная мгла, будто все провалы залиты черным
молоком. Молчалива темень, лишь какие-то невидимые
ночные существа о чем-то неслышно шепчутся.
Детскому воображению чудится за этим шепотом что-то
непонятное, страшное и злое, но это всего лишь ночные
страхи. Это — темный лик ночи. Это о нем сказано в
поговорке: о чем мечтает вор — о темной ночи!
Но в теплой и влажной мгле вымахивают травы на
лугах, ячменные всходы на пашне — на целую пядь
387
каждой ночью. Идут в рост деревца, родившиеся весной,
ветви на деревьях, листья на ветвях. Ночью отдыхают
все: солнце — за горами, люди — в домах, звери — в
лесу, птицы — в гнездах. И тихо растут в человеческом
сердце новые желания и мечты. И если у горца день —
яростный труд, то ночь — тихое раздумье о жизни..
Восходит луна. Горы — как степенные старцы,
непокрытые головы светятся сединой. Неяркий лунный свет
скрадывает резкие очертания скал. Тишина становится
осязаемо плотной, теперь и полусонное тявканье
овчарки, тихий струистый шум мелкой речушки кажутся
громкими голосами ночи. Но ты осторожно ступаешь по
тропе, приминая мягкую мучнистую пыль, и на душе
невыразимая отрада. Все это — твой отчий край, и
ночная мгла, и белый лунный свет, и тишина спящей земли.
И этот ночной лес. Нет уже отдельных деревьев, лес
спит, точно большое живое существо со своей
таинственной жизнью. И он кажется вечным, как горы, как
луна на небе.
Осенние ночи в горах нередко большое подспорье в
тяжких трудах. Ночью свозят ячменные снопы на ток.
Тянут усталые волы сани, а в них заботливо уложены
снопы. Мальчики ведут быков за налыгач, а отцы
голосом подбадривают их. В темноте быки особенно
медлительны, ступают осторожно, лишнего шага не сделают,
скорее палку обломаешь на их потных спинах. Отцы это
знают и лишь изредка повышают голос, дать быкам
понять, что недовольны ими. К утру осенние ночи
становятся холодными, пальцы мерзнут на отсыревшем
налыгаче, но ты крепишься, пока не остановишь волов на
току. Теперь отец разгружает плетенку и ловко
складывает снопы в горский стог, вениками колосьев внутрь,
а ты греешь озябшие пальцы, суешь их за лопатку
быка, точно в нагретую варежку. И благодаришь и эту
ночь и терпеливых волов...
Хорошо идти по снегу ясной зимней ночью. Глухо
хрустит под ногами недавно выпавший снег, не
успевший затвердеть. Искрятся снежные хрусталики под
лунным светом. Спит земля под снежным покрывалом, и
снег всюду — до самых озябших звезд. Только голый
лес темнеет, будто черная заплата. Ни звука в лесу.
Видно, и волки запрятались в свои логова и спят. В
такие морозные, безветренные ночи, говорят горцы, все
388
звери мирятся и ложатся вместе спать, друг друга
согревать, все — медведи, волки, лисицы и зайцы, только
на заре разбегаются в разные стороны...
Мороз крепчает, хватает за мочки ушей, за кончик
носа, трешь их варежкой, но на душе радостно, уже
слышен запах дыма, и знаешь, за поворотом — твоя
деревня. Выбежит навстречу твой корноухий пес, и ты
переступишь родной порог в клубах пара — дыхания
морозной ясной ночи...
Спасибо тебе, горская ночь, за труды и радости твои!
Спасибо и вам, осенние и вьюжные зимние ночи, за
волшебство сказок, за их воображаемые печали и
радости, ложившиеся на детскую душу мягкими листьями
азы — дерева, дарующего жизнь.
Песнь о черном лесе и черном роднике
Берд ушел в далекое село к бабушке и дедушке по
матери, повидать их надо, мать велела. И вижу, рад
был, надоело, видно, мальчику бродить со мной, то
молчаливым, то разговорчивым дядькой, все куда-то
спешащим. А мне тоскливо без него, и я пропадаю в лесу.
Нет уже здесь моих былых следов, лес быстро
стирает чужие следы, заносит их осенним палым листом, а на
опушках засевает кустарником. Трудно мне узнавать
выросшие без меня деревья, но здесь еще много моих
старых знакомцев — кряжистых буков, стройных
карагачей, женственных рябин. Их мало в нашем лесу, и
никто их не трогал топором, берегли. Но мое самое
любимое дерево с мальчишеских лет — простой бук,
идущий на дрова. Есть и стройный, высокий бук, но не о
нем я вспоминаю вдалеке от края детства. Я любил
простые буковые деревья, под которыми прятались в жару
коровы и козы, под сенью которых я пережидал летние
торопливые дожди в пастушеские годы; эти деревья
щедро кормили нас, горских детей, вкусными и сытными
орешками в осенние дни.
Они — буковые деревья — из поколения в поколение
согревали нас в осенние и зимние холода. Быть может,
больно дереву, когда рубят его топором, но оно
выносило все, видать, знало, что не просто так его рубят —
детей надо согреть, и с веселой песенкой горело в очаге
в тесном кругу то голодной, то сытой детворы. И дети
389
забывали голод, когда горел огонь в очаге, когда дерево
своим теплом, точно ватной затычкой, закупоривало
горловину эрдо.— надочажного дымохода старинной
горской сакли, отводило морозную лапу дерзкой зимы,
конопатило щели в стенах жарким своим дыханием. На
стены горских жилищ шли те же буковые кругляки,
потолки стелили теми же буковыми досками. Рождался
горец, его укачивали в буковой колыбели. Умирал —
хоронили его в гробу, сколоченном из буковых досок. Вся
недолгая жизнь моих предков была в кровном родстве
с этими непритязательными, мягкими и добрыми
деревьями.
Мои сверстники также жили в дружестве с буковым
лесом. Весной мы каждое утро бегали в лес,— может,
в теплых лесных впадинах ночью уже проклюнулись на
деревьях первые бледно-зеленые листочки, „влажные,
будто новорожденные телята, еще не облизанные
матками. И если выпадал счастливый денек, зеленые бабочки
уже висели на нижних веточках, что ближе к нагретой
за день земле, то это было нашей первой весенней
радостью — лес ожил! Лес уже не спит в своей зимней
берлоге, он уже наш!
Где пасет подпасок своих ягнят, козлят и телят? На
лесной опушке. Где он ищет их вечерами? На лесных
прогалинах. Лес их прячет, лес и возвращает их
отчаявшемуся мальчишке. И в дождь и в вёдро буковые
деревья ласковы к подпаскам. Над твоей головой
вытянуты ветви в густой листве, словно материнские руки в
зеленых рукавицах, и прикрывают тебя от дождя и
града, от солнечной ярости.
Войдешь в утренний лес, и он словно околдует тебя.
Стоишь, будто из земли вырос ночью и не можешь
вытянуть ноги-корни, слушаешь завороженно — поют не
только разноголосые суетливые пташки, кажется, что и
деревья вторят им и льется вселесная зеленая песня.
А придет ночь, лес упрячет за пазухой этих горластых
певцов, чтобы утром вновь выпустить их оглашать
своим пением лесное царство и небеса.
Ночью лес знает иную песню. Ночью каждое дерево
о чем-то таинственно шепчет, сказывает свою извечную
ночную повесть. И нет ей конца, как жизни на земле;
и ребячьей душе, чуткой, что лошадиное ухо в ночной
темени, желанна она. ¦,
390
Благодарю тебя, мой буковый лес! Спасибо тебе за
твои зеленые песни, за твою тень и материнское
покровительство, за дары твои и таинственную ночную по*
весть. Сколько раз я лежал в твоей тени на пожухлой
прошлогодней листве, глядел в прорези между листьями
на небо, а там плыли вечные странники облака в
неведомую даль и звали-манили за собой, роняя в детскую
душу тоску по странствиям... С той поры каждой
весной я слышу твою зоревую песню, твою ночную повесть.
И я б хотел, чтоб надо мной, мертвым, склонялся не
темный дуб, а зеленое дерево страны детства — простой
бук со своей утренней песней и вечерней повестью.
Я услышу их, но не смогу в ответ сказать ни слова,
потому прошу: прими мое слово любви и благодарности,
темный буковый лес, ныне и навеки.
Спасибо тебе, темный лес, и за черный родник, за
око воды. Знаю, что родник — дитя земли, но ты его
нянчишь и лелеешь, ты — не родившая его мать, ты —
его всемогущий оберег-талисман.
Сочится капля по капле из песчаника в затененной
впадине чистая холодная водица — родничок лесной.
Осенью, в листопад, родничок пропадает совсем под
плотным слоем желтого листа. Летом зарастает травой.
И кажется, что нет у него пути-дороги в мир, зря вы-
бился он из-под земли, мир повидать и себя показать
ему не дадут...
Но нечаянно забрел сюда усталый лесоруб. Он
жаждал напиться родниковой воды, но где ее сыскать в
лесной глуши? Буйный рост лопухов во впадине приметил
он сразу и догадался: родник! Разгреб натруженными
горячими руками палый лист, перегной трав, и
получилась небольшая лунка с песчаным дном... Наполнилась
лунка водой, муть осела, и глянуло на мир веселое
прозрачное око родника. Глянуло впервые за многие годы.
И увидело ласковые руки человека и большое дерево
над собой. Человеческие руки провели руслице от лунки
вниз, к ложбине. И потекла водица, как по желобу, и
услышало дерево первый лепет родничка, обрадовалось,
зашумело листвой. Дерево ликовало — в лесу
новорожденное дитя! Человек срезал лезвием топора стебелек
опуха и, как в камышинку, потянул осторожно родни-
овой воды. Напившись, крякнул от удовольствия:
391
«Будь благословен, родничок, течь тебе по моей груди
и в стране мертвых!»
Осмелел родник, поверил, что открыты ему отныне
пути-дороги, и побежал вниз, в Ложбину. А там потек
дальше, сзывая в пути к себе другие роднички, и уже не
хотел останавливаться, пробивал себе дороги, пока не
спустился в ущелье и не назвали его люди речкой
ущелья.
Тут пришли к нему люди, поставили мельницы у
речки, и стала речка крутить мельничные жернова, ячмень
и пшеницу в муку молоть, чтобы детей хлебом и
пирогами кормить... Никого не обошла добрая родниковая
вода, поила и птиц, и зверей, и травы, и деревья — и
жадную до воды ольху, и степенный благородный орешник.
Приплывают к ней форели из дальних рек икру метать,
а речка рада вскормить и вспоить мальков, пусть
резвятся, и людям кое-что перепадет, особенно
мальчишкам. Они мальков не трогают, но шарить руками под
речными валунами, ловить больших рыб любят...
Спасибо тебе, родничок, «черная вода», черный
родник! Не обошла тебя наша песня. В предсмертных
песнях герой вопрошает: «Кто прополощет мне кровью
залитое горло водой черного родника?» И это — самое
высокое слово, какое только могут сказать уста горца.
Пребудь, родник, в стране моего детства, пока не
стерлись в горах человеческие тропы, звериные следы и не
умолк птичий голос!..
Песнь об утренней заре
Ночная песнь, она обманчива. Мгла заравнивает
ущелья, ложбины, скалы и пригорки, деревья и рощи.
Все становится таинственным. Ночью горы видятся в
неестественном обличье, это романтическое виденье, и
нельзя долго глядеть на ночные горы. Видно, потому
невыносимы долгие ночи, что человеческое сердце любит
свет и тепло дня. И долгая ночь — это много печали
и неотвязной тоски по свету дня. На утренней заре сама
печаль становится светлее.
Во всяком случае, так мне кажется сейчас, перед
моим последним восходом на Безымянный перевал. Мне
завтра возвращаться в город. Ушел бы сегодня, но хо-
392
чется дождаться Берда — он вернется сегодня — и
попрощаться с ним. Не хочу быть неблагодарным в его
глазах. Я его гость, надо попрощаться с хозяином, хоть
он и мальчик еще. А пока он вернется, я свободен и
поднимусь еще раз по пастушьим тропинкам на
перевал, как в давние годы, на заре.
Уже светает, и мне кажется, будто я различаю, как
ночную мглу пронизали первые белые лучи. С черным
стадом ягнят смешались случайно забредшие сюда
белые ягнята. Но их становится все больше и больше, и
теперь я вижу, что это из-за гор гонит свое белое стадо
Солнце, веселый пастух. Бог весть куда девается черное
стадо, но не успел я подняться до нашего первого
привала у священной рощи, как солнечное стадо заняло все
долины и нагорья.
Кто знает, кому удалось в это утро первым увидеть
белых ягнят солнца... Может, вот этому пятипалому
листу явора или самому высокому ячменному колосу?
Может быть, что и перепел забулдыкал неспроста, хочет
оспорить первенство у яростно чирикающего воробья.
Но я больше верю только что выбившимся из-под земли
струйкам родника. Они еще не умеют хитрить, впервые
видят солнечный свет и оттого так восхищенно шумят.
Не исключено, что первым заметил их я. Мне же
известна хитрость лисы, выигравшей пари у наивного медведя.
Заспорили они: кто первым увидит солнце, тому пусть
достанется кувшин меда. Медведь все глаза
проглядел — смотрел на горы восхода, а лиса поспала
немного, потом глянула на горы заката и воскляхнула: «А вот
и солнце!»
«Чего ты расшумелась, старая врунья, какое еще
солнце увидела?» — недовольно буркнул медведь и
обернулся, а лиса лапой на западные горы указывает.
Посмотрел медведь на вершины, куда лиса морду
навострила, и обомлел: там в самом деле паслось белое стадо
солнца...
Не все ли равно, кто первым заметил, как солнце
высветило купол неба над горами заката, бросило
белый сноп лучей на вершины. Пока я добирался до
привала над пашнями, все живое пело, хороводило,
ликовало. Пело рассветную песню, величальную солнцу и
свету, двигалось, трепетало, тянулось в небеса. И не будет
конца ликованию жизни, пока все не утомятся и солнце
393
не погонит свое стадо за горы заката и не придет ночь
с черными ягнятами...
При дневном освещении горы выглядят не так
величаво, но знакомо, как материнское морщинистое лицо,
Скалы голы и уступчаты. На выжженных местах под
скалами торчат одинокие кусты татарника, ослиной
колючки, облезлого репейника. Наводят грусть развалины
опустевших сел, в лесу — плешины сплошных вырубок,
белесая высохшая шкура оползней, невспаханные по-*
лоски горской пашни, пустующие выгоны и потравлен*
ные луга. Но эту современную горскую печаль заслони*
ла память давних дней, зоревая песнь страны моего
детства. ..
Здравствуй, утро!
Помнишь, как неохотно покидал пастушок свою
лежанку на заре? Сколько ласковых слов и заманчивых
обещаний тратила мать, прежде чем просыпался нако*
нец мальчишка и успевал осознать: пора браться за
свое осточертевшее дело... Как он поносил тебя, утро,
за отсыревшие ночью травы, за увлажненные росой сты«
лые камни, за прилипавшую к голым ступням волглую
пыль тропинок! Но ты прощало и бранные слова, и
нытье, зная, что тяжело мальчику в эти часы, а дойдет
он до второго привала над пашнями и все забудет,
отогреет ноги в высохшей к тому времени дорожной пыли,
достанет свою свирель и засвищет, увлекшись утренней
песней трав и кузнечиков.
Помнишь, как бегал мальчишка в школу в осенние
дни на заре? Теперь не надо было его уговаривать дол-»
го. Разбудит его мать, и он торопится встать, одеться,
успеть. Недалек путь до соседнего села — две версты,
говорили старики, но когда тебе семь лет и надо перейти
две речки, пробираться через лес по тропинке, а потом
мимо деревенских собак в школьное здание, то это не
так уж мало. В лесу ведь каждый кустик к себе
зовет — поиграй со мной! Заверещит над головой
незнакомая пташка или взмахнет сойка своим переливчатым
крылом, и мальчику трудно решить: торопиться в школу
или погнаться за летучим крылом необычайной расцвет*
ки. А еще голубика дразнит прищуром черных овальных
глаз: иди полакомься, школа не птичка, не улетит...
Здравствуй, утро!
Помнишь, как застала меня осенняя ночь на далеком
394
перевале, как я я дал тебя, первых ягнят солнца на
вершинах гор закате, складывая из тяжелых плит стену
шалаша и разбирая ее вновь, чтобы не замерзнуть?
Я впервые понял тогда, что нет ничего прекраснее
утренней зари, твоего тепла и света. И поверил, что
человек все может вынести, если каждое утро над головой
восходит солнце и хоть единый луч света падает на его
душу.
Здравствуй, утро, всегда! И свети каждой
человеческой душе, каждому зеленому росточку, каждому
птенцу в гнезде — им всегда не хватает света и тепла.
Песнь о пути-дороге
Берд вернулся, как обещал, к вечеру. Узнав, что я
уезжаю завтра, опечалился. Это пройдет. Детская
печаль — до порога, а в мои годы порог переступить — чго
за гору перевалить.
И всегда про себя ругаешь предстоящий путь — он
уводит далеко от отчего порога, и благодаришь его — он
неизменно приводит тебя к родному порогу. Но
выступаешь в путь каждый раз с тяжелым сердцем, с
грустью оглядываясь назад — там оставляешь свай
очаг, и он благословляет тебя, странника.
Много раз я уходил и возвращался, но все
повторялось сызнова. Ко всему, быть может, привыкает
человек, но к тоске расставания нельзя привыкнуть, она
всегда впервые. И не уляжется в пути, а станет твоей
песенной памятью. Если, конечно, помнишь простые песни
страны своего детства. Я старался их не забывать.
Потому что желал не только возвращаться, но и вновь
пускаться в дальний путь. У моих предков был, как
рассказывают, ныне забытый, но, по моему разумению,
хороший обычай. Парня в двадцать лет впервые
отпускали из дома в дальнее село. Пусть побудет он там день
и ночь, а потом возвращается. И если он возвращался
с пустыми руками, не приносил новой песни или
неведомой родичам сказки, неслыханной пословицы или хогь
одного красного слова, его несколько лет никуда за
родной порог не выпускали. Ничего не запомнил, не
перенял,— значит, нет у тебя сердечного слуха — сиди дома,
не позорь свой род... Нет у тебя ни мудрости, ни ума,
ни сердечной доброты..,
395
Я помнил простые песни родной земли, не хотел
прослыть человеком глухонемой души. Верно, не все песни
помню, но их достаточно для одной любви —к родной
земле. Забуду их, так уйдет из сердца и любовь к
родному очагу, что уж толковать о человечестве... Чтобы
дорасти до такой любви, надо стать вровень с Казбеком.
А я стою у подножия и восхищенно гляжу на эту
вершину, только мечты мои парят наравне с ней... Но я
знаю и другое. Забывая родной очаг, страну детства
и ее простые песенки, человек становится ниже
собственного роста, ниже подстриженной травы на
газонах ...
Я не хочу стать травинкой на газоне. И, уходя от
родного порога, шепчу слова клятвы: ниже травы не
стану, буду помнить песни родной земли и помнить
о вершине, жить мечтой о ней, желанной и
недоступной!
Не удерживай меня, мать, не усидеть мне у родного
очага, манит большой мир и дальняя дорога зовет. Не
забыл, помню, когда мы, деревенские ребята, уходили
дорогой войны, ты вместе с другими матерями глядела
нам вслед сквозь слезы, утирала их по-деревенски
концом платка, но они вновь наплывали на ресницы...
Прости мне это, но не удерживай ныне. Дорога войны
всегда залита кровью и печалью, меня же зовет иная
даль. Там мои братья и друзья по крови, по сердцу, по
мечте. И не страшна мне среди них ни беда, ни обида.
Не бойся за меня, мать.
Прощай и ты, мой брат, мой мальчик, Берд! Придет
время, и ты пойдешь этой же дорогой, так помни
простые песни нашей земли. Забудешь — душа онемеет:
захочешь петь, но и всхлипнуть, как дитя спросонья, не
сумеешь; захочешь за правду постоять, но не отличишь
ее от кривды; захочешь сделать людям добро, но не
найдешь в душе мужества свершить. Да минует тебя
эта безмерная беда!
Прощай! Нет, до новой встречи! Встретимся, если мы
птенцы одного гнезда, если удержишь в сердечной
памяти наши простые песни. А забудешь, так встреча не
состоится, мы не узнаем друг друга...
— Брат мой, Берд, вот мы и дошли до перевала
Дзамарас, тут два шага до автострады. Возвращайся
396
домой, а я поголосую у дороги, подберет кто-нибудь...
Возвращайся, а будешь в городе, приходи ко мне в
гости, захочешь, так живи у меня. Дай руку, брат!
А придешь, покажу своих друзей, послушаешь, как мы
свои песни поем. Хорошо?
— Честное пионерское! — рапортует Берд и
улыбается.
— До свидания, Берд, брат мой, мальчик мой! До
свидания! — кричу я бодро, но самому так грустно, что
спешу скорее уйти подальше. Как бы мальчик не
заметил. ..
1971
СОДЕРЖАНИЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ УРУЗМАГА . > . ..¦..;,.. 3
ОБИДА СТАРОГО ОХОТНИКА ........,,.', 140
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ СНЕГ ,,.,,»••.*,*„.. 246
ПЕСНЬ В ДВА ГОЛОСА ,,«,.»•.,»,».» 314
Нафи Григорьевич Джусойты
РЕКИ ВСПЯТЬ НЕ ТЕКУТ
М., «Советский писатель», 1981, 400 стр,
План выпуска 1980 г. № 258
Редактор Л. С. Поволоцкая
Худож. редактор Д. С. Мухин
Техн. редактор В. Г. Комм
Корректор Л. И. Ж и р о и к и н а
ИБ № 2161
Сдано в набор 11.07.80. Подписано к
печати 25.02.81. Формат 84X108732. Бумага тип.
№ 2. Литературная гарнитура. Высокая
печать. Усл. печ, л. 21,0, Уч.-изд. л. 21,8.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1887. Цена
1 р. 50 к,
Издательство «Советский писатель».
121069, Москва, ул. Воровского, 11.
Ордена Трудового Красного Знамени Ле«
нинградская типография № 5 Союзполи-
графпрома при Государственном комитете
СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. 190000, Ленинград,
центр, Красная ул., 1/3.